СЭФФРОН А. КЕНТ БЕЗ ВЗАИМНОСТИ
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ СТАРЛЕТКА
ГЛАВА ПЕРВАЯ
Мое сердце — не просто орган.
Оно нечто большее. Оно животное. Хамелеон, если точнее. Вот только не меняющий цвет кожи, чтобы подстроиться под окружение, а наоборот. Чтобы стать трудным для понимания. Быть неразумным. Безрассудным.
У моего сердца множество граней. Оно беспокойное. Отчаянное. Эгоистичное. Одинокое.
Сегодня мое сердце тревожное — по крайней мере, оно будет таким в течение следующих пятидесяти семи минут. А потом возможно что угодно.
Я сижу в безупречном кабинете психолога-консультанта Кары Монтгомери, и мое сердце сходит с ума. Оно трепещет, глубоко ныряет, а потом почти появляется на поверхности грудной клетки, стучит о ребра. Ему не хочется быть здесь, потому что его тревожит необходимость находиться в обществе психолога-консультанта, название должности которого всего лишь эвфемизм слова «психотерапевт».
Нам не нужен психотерапевт. У нас все хорошо.
Типичные слова всех сошедших с ума, верно?
— Лейла, — говорит мисс Монтгомери, консультант со степенью в области психологии и одновременно с этим психотерапевт. — Как прошли каникулы?
Я отворачиваюсь от окна, в которое рассматривала заснеженную улицу, и сосредотачиваюсь на сидящей за столом улыбающейся мне женщине.
— Нормально.
— И чем ты занималась? — она крутит ручку между пальцами, и та падает на пол. После чего, усмехнувшись, наклоняется ее поднять.
Кара мало похожа на типичного психолога. Например, она неуклюжая и вечно на взводе — ноль спокойствия. С прической творится черт знает что; волосы торчат в разные стороны, и она постоянно проводит по ним рукой, чтобы пригладить. Под вельветовым пиджаком надета мятая блузка. Говорит быстро, и иногда сказанное ею совсем не похоже на то, что обычно можно услышать от психологов.
— Расскажешь? — интересуется она и внимательно на меня смотрит. Мне хочется сказать ей, что у нее очки перекошены, но я не буду; так она пугает меня меньше. Самой ее должностью мое сердце напугано более чем достаточно.
— М-м-м… В основном гуляла, — поерзав в мягком кресле, я убираю прядь распущенных волос за ухо. — Смотрела «Нетфликс». Ходила в спортзал.
Неправда. Все это неправда. Я сожрала все конфеты, которые мама прислала к Рождеству — вернее, ее ассистент, потому что мама не хочет, чтобы я приезжала домой на каникулы. Днями напролет я сидела на диване, смотрела порно и жевала Twizzlers, фоном включив Лану Дель Рей. У меня зависимость от этой женщины. Серьезно, она богиня. Каждое спетое ею слово — золото.
Кстати, ни от порно, ни от Twizzlers у меня никакой зависимости нет. Я обращаюсь к ним, лишь когда мне одиноко… Что бывает почти всегда, но это к делу не относится.
— Это замечательно. Я очень рада, — кивает Кара. — Значит, ты не чувствовала себя одинокой без своих друзей? Все хорошо?
А вот сейчас я не понимаю, что происходит. Почему она улыбается? Почему смотрит с таким интересом? Хочет узнать побольше? Докопаться до сути?
Под ее вопросам скрываются более важные. У тебя все хорошо, Лейла? Действительно хорошо? Или ты сделала что-нибудь безумное, например, позвонила ему посреди ночи? Потому что раньше, когда ощущала себя одинокой, ты поступала именно так. Так ты позвонила ему? Да?
Ответ на все эти вопросы — одно большое «нет». Я ему не звонила. Уже несколько месяцев. Счет пошел уже на месяцы. И все, что я делаю, — это таращусь на его фото у себя в телефоне, про которое никто не в курсе, поскольку если мама узнает, что я все еще тоскую по нему, то она отправит меня уже к настоящему психотерапевту. Который начнет расспрашивать меня уже не завуалированно, а напрямую.
Так вот. Нет, я ему не звонила. Лишь глазела на фото, как жалкая влюбленная. Довольны?
Усевшись поудобнее, я собираюсь ей ответить, как вдруг понимаю, что ни о чем таком Кара не спрашивала. Я лишь подумала об этом. Диалог велся в моей голове. Так что говорю своему встревоженному сердцу успокоиться. Расслабься, ладно? Мы по-прежнему в безопасности.
Сделав глубокий вдох, я отвечаю:
— Ага. Все было хорошо. Я постаралась занять себя делами.
— Отлично. Рада это слышать. Мне не нравится, когда студенты во время каникул вынуждены оставаться в кампусе. Я начинаю беспокоиться о них, — мисс Монтгомери смеется, от чего ее очки перекашивает еще сильнее. На этот раз она их поправляет, после чего складывает руки на столе. — Ты уже подумала над тем, какие факультативы выберешь себе в этом семестре?
— Конечно.
Конечно нет. Я не создана для образования. И учиться решила только потому, что оказалась перед выбором между колледжем в Коннектикуте и реабилитационным молодежным центром в Нью-Джерси. Ноги моей не будет в этом паршивом Нью-Джерси, как и в их центре.
— И… — Кара вопросительно приподнимает светлые брови.
Я облизываю губы, пытаясь что-нибудь придумать.
— Думаю, я буду придерживаться основных предметов. Колледж — это и так непросто. Не хочу много нового.
Кара улыбается — впрочем, она постоянно улыбается — и подается вперед.
— Послушай, Лейла, ты мне нравишься. На самом деле, я думаю, ты замечательная. У тебя большой потенциал, и, если откровенно, я не считаю, что тебе необходимы эти плохо замаскированные сеансы терапии.
Я сажусь ровнее.
— Правда? То есть мне больше не нужно сюда приходить?
— Нет, приходить все равно нужно. Мне не хочется потерять эту работу.
— Но я никому не скажу. Это будет наш с вами секрет, — настойчиво прошу я. Не люблю хранить секреты, но этот готова унести с собой в могилу.
— Заманчиво, конечно, но нет. Хочешь печенье? — усмехнувшись, она предлагает мне печенье с шоколадной крошкой, снова демонстрируя по отношению ко мне преувеличенное дружелюбие.
Удивленная, я хочу ее спросить: «Так вы собираетесь анализировать меня или нет?» Хотя анализировать тут нечего. Я самая обыкновенная. Терпеть не могу зиму, Коннектикут и колледж. Люблю фиолетовый цвет, Лану Дель Рей и его. Вот и все.
Протянув руку сначала за одним печеньем, я решаю взять три. От сладкого мне трудно отказаться.
Кара не сводит с меня внимательного взгляда, и, когда я уже готова ляпнуть какую-нибудь грубость, говорит:
— В общем, как уже сказала, я считаю, что в тебе есть потенциал, вот только стоит ставить перед собой цели и поработать над самоконтролем.
Она многозначительно смотрит на меня, в то время как я откусываю печенье.
— У тебя нет ни того, ни другого. Ну, или совсем чуть-чуть.
— Ха, — я снова откидываюсь на спинку кресла. — Про это я в курсе.
Кара сплетает пальцы.
— Замечательно. Что ж, начало положено: мы достигли взаимопонимания. Теперь нужно поработать над следующим шагом.
— И каков следующий шаг?
— Научиться контролю.
Я поднимаю палец.
— Тут я уже иду на опережение. И отлично научилась себя контролировать, — Кара скептически поднимает одну бровь, и я добавляю: — Посещаю все занятия, хотя предпочла бы бесцельно слоняться днями напролет, и у меня стабильные тройки по всем предметами, а ведь я ненавижу колледж. Не говоря о том, что убила бы за затяжку или полкапли водки, но не притронулась ни к тому, ни к другому. Даже на вечеринках не появляюсь, поскольку все знают, что там сплошная выпивка, травка и беспорядочный секс.
Ухмыльнувшись, я доедаю печенье. После такого ей нечего будет мне предъявить. И со мной все будет хорошо. Уж я-то постараюсь.
— Похвально. Я ценю твою сдержанность, но это ведь самый минимум. Тебе в любом случае не стоит пить и ходить на такие вечеринки, — Кара снова поправляет очки. — Сейчас начинается учеба, время понять саму себя, узнать, что нравится, а что нет. Для этого и существуют факультативные занятия. Поэтому спрашиваю снова, есть у тебя какие-либо мысли на этот счет?
Вздохнув, я отворачиваюсь и снова смотрю в окно. Там, снаружи, белая земля и голые деревья. Там безлюдно и печально, словно в постапокалиптическом мире, в котором факультативы внезапно стали обязательными.
— И что мне выбрать? — спрашиваю я.
Кара радостно улыбается и смахивает непослушную прядь со лба.
— У нас сильные писательские программы. Может, тебе стоит попробовать что-нибудь из курсов писательского мастерства?
— То есть там надо писать? — она кивает, а я мотаю головой. — Да я даже читать не люблю.
— Тебе есть смысл попробовать однажды найти себе какую-нибудь книгу. Кто знает, вдруг понравится?
— Да нет, вряд ли, — вздыхаю я. — Может, есть что-нибудь еще? Для писательства я точно не гожусь.
— На самом деле, я так не считаю. Скорее наоборот.
— Да неужели? — с усмешкой интересуюсь я. — И о чем же, по-вашему, мне писать?
На этот раз улыбка мисс Монтгомери добрая и грустная одновременно.
— О Нью-Йорке. Я знаю, ты по нему скучаешь. Или, может, о зиме.
— Терпеть не могу зиму, — я обхватываю себя руками и поплотнее кутаюсь в свою фиолетовую шубу. Вот что еще я люблю: мех. Мягкий и приятный на ощупь, он единственный способен меня согреть.
— Тогда почему ты постоянно смотришь на снег? — я пожимаю плечами, и в ответ на мое нежелание отвечать Кара опускает голову. — Может быть, тебе стоит написать о своих чувствах после отъезда Калеба? И том, что устроила.
Калеб.
От упоминания его имени я вздрагиваю. Внешне это незаметно; так бывает, когда в тихой квартире внезапно раздается громкий звук, и вроде бы понятно, что ничего такого тут нет, но все равно напрягаешься всем телом.
За последние полгода, что я здесь, вряд ли его имя произносилось хотя бы раз. Из уст Кары оно звучит довольно экзотично. Когда же его имя соскакивает с моего языка, то всегда кажется чересчур громким, резким и даже неправильным. Мне не стоит сейчас это говорить, но минуточку, у меня же нет самоконтроля, так что смолчать все равно не получится.
Кара подняла неприятную тему. И мне противно, что пусть и окольными путями, но идет она прямиком к цели.
— Ничего я не устраивала. Просто… напилась… и напиваюсь… время от времени, — я покашливаю, чтобы подавить нарастающую злость, и чувствую острое желание поскорей убраться отсюда.
— Я знаю. А потом время от времени ты воровала в магазинах, срывала мамины вечеринки и садилась за руль нетрезвой.
Разве психотерапевты должны быть настолько осуждающими? Что-то сомневаюсь. И, кстати, с чего это вдруг разговор свернул в это русло? Обычно мы придерживаемся нейтральных тем типа учебы или преподавателей, а когда касаемся личного, я увиливаю и отшучиваюсь.
Однажды, когда мисс Монтгомери перевела разговор на отъезд Калеба, я задрала кофту и продемонстрировала недавно сделанный пирсинг пупка и, скорее всего, нижнюю часть груди без белья.
— Но я ведь никого не убила, правильно? — возражаю я, ссылаясь на ее замечание про вождение в пьяном виде. — И потом, у меня забрали права. Так что теперь жители Коннектикута спасены от монстра в моем лице. Кстати, почему мы это обсуждаем?
— Потому что все свои эмоции ты можешь перенаправить на что-то хорошее и конструктивное. И в итоге тебе это может даже понравиться. Как и учеба в колледже, — Кара понижает голос. — Лейла, я знаю, ты ненавидишь колледж. Как и встречаться со мной каждую неделю. Тебе не нравится здесь находиться, но не отказывайся от потенциальных возможностей. Попробуй что-нибудь новое. Заведи друзей.
Я хочу сказать, что у меня есть друзья — просто невооруженным взглядом они не видны, — но молчу. Какой смысл врать, если она и так все знает?
— Ладно.
Кара смотрит на висящие на стене справа от нее часы.
— Пообещай мне, что подумаешь над этим. Всерьез подумаешь. Через пару дней начнется семестр, так что у тебя есть неделя на выбор факультатива, договорились?
Я вскакиваю с кресла и собираю свою зимнюю экипировку.
— Договорились.
— Хорошо.
Мне требуется какое-то время, чтобы подготовиться к выходу на холод. Я надеваю белые перчатки и белую шапку.
Зима — жестокая тварь. Чтобы тебя не обожгло морозным ветром, приходится кутаться. Но не важно, какую гору вещей я на себя надеваю, — мне все равно холодно, даже в отапливаемых помещениях. И да, у меня есть все: шапки, шарфы, перчатки, термобелье, гетры и сапоги на меху.
Я подхожу к двери и уже поворачиваю ручку, но что-то меня останавливает.
— Как думаете… у него все хорошо? Он скучает по мне? — не знаю, почему я спрашиваю об этом. Вопрос вырвался сам собой.
— Да, я думаю, он по тебе скучает. Ведь вы выросли вместе, да? Уверена, что ему не хватает вашей дружбы.
Тогда почему он не звонит?
— В Бостоне холодно, — ощущая, будто содрано горло, невпопад брякаю я. При мысли о тамошнем количестве снега по телу пробегает холодок.
— Но даже не сомневаюсь, что с ним все хорошо, — с улыбкой подбадривает меня Кара.
— Да, — шепотом соглашаюсь я. Думаю, в Гарварде как следуют заботятся о своих гениях.
— Знаешь, Лейла, влюбленность — это не плохо и не неправильно. И не тяжело. Это чувство довольно простое, даже когда оно безответно. Перестать любить — вот это по-настоящему трудно. И как бы ты ни убеждала себя в обратном, взаимность очень важна. Без взаимности любовь просто-напросто умирает, а потом все зависит от тебя. Похоронишь ее или так и будешь носиться с этим трупом? Решение непростое, но сделать его все равно придется.
Я понимаю, о чем она: двигайся дальше, забудь, перестань о нем думать. Но как можно взять и забыть любовь, что жила внутри тринадцать лет подряд? Как забыть о бесконечных ночах, проведенных в мечтах и желаниях? «Я люблю тебя». Это все, что я хотела услышать. Разве я могу это отпустить?
Резко кивнув, я выхожу из кабинета. Снаружи здания воздух холодный и сухой. Даже дышать больно. Мое сердце еще трепещет от беспокойства, когда я достаю телефон и открываю последнее имеющееся у меня его фото. Насыщенно-зеленые глаза улыбаются, а пухлые, зовущие к поцелуям губы сложены в широкую улыбку. Он невероятно красивый. Не думаю, что смогу когда-либо удалить это фото. По крайней мере, не в этой жизни.
Убрав телефон, я замечаю парочку. Обнявшись, они идут впереди меня по выложенной булыжником дорожке. Девушка замерзла, на ее щеках пылает румянец, а парень растирает ее ладони, чтобы согреть. Их глуповатые улыбки напоминают мне одну давнюю сценку.
Калеб нес кольца, а я цветы. Он замедлил свою по-мальчишески уверенную походку и взял мою маленькую ладонь в свою. Нахмурившись, я посмотрела на него. О, как же я тогда его ненавидела. Калеб одарил меня своей очаровательной улыбкой, и я ответила ему тем же — несмотря на по-прежнему хмурые брови, несмотря на незнакомую обстановку и несмотря на то, что моя мать выходила замуж за его отца. Я терпеть не могла мысль, что у меня появится брат. И с ненавистью переехала в новый дом, с открытым садом, в другом конце города.
На развилке парочка сворачивает направо; мне нужно налево, но туда я не хочу. Меня тянет пойти за ними, чтобы хоть немного погреться от их тепла. Хочу посмотреть на их отношения.
На что похожа взаимная любовь? Я хочу увидеть ее.
Сворачиваю направо и иду за ними.
***
Холодно, холодно, до чего же холодно. Еще и темно — очень темно, а фонари в викторианском стиле со своей задачей не справляются и светят тускло.
Но все это меня не отпугивает. Измученная, я иду по Альберт-стрит в сторону Брайтон-авеню, к входу в университетский парк. Мне не спится, особенно после того как Кара предложила написать о своей неразделенной любви.
Однажды шестилетний Калеб Уитмор улыбнулся пятилетней Лейле Робинсон. Тогда она этого еще не знала, но тот день стал началом ее любви. На протяжении долгих лет Лейла безуспешно пыталась привлечь внимание Калеба. И однажды ночью, отчаянно не желая, чтобы он уезжал в Гарвард, она вроде как… изнасиловала его немного. Лейла не совсем в этом уверена. В итоге Калеб уехал в колледж на целый месяц раньше запланированного, а Лейла начала вытворять черт знает что. Конец.
И вот два года спустя я здесь, гуляю по улицам, стыжусь собственной любви и того факта, что влюбилась в сводного брата, чем оттолкнула его от себя.
Кстати, Калеб Уитмор больше мне не сводный брат. Несколько лет назад моя мама развелась с его отцом, но некоторые табу никуда не денутся — например, нельзя спать с бывшим парнем своей лучшей подруги или с ее братом. Калеб всегда будет считаться моим сводным братом, потому что мы вместе росли.
У меня даже нет воспоминаний о временах до его появления. Не могу вспомнить дом, в котором я жила до него, кроме того, что там был крытый сад. Не могу вспомнить своих друзей, даже собственного отца до того момента, как в нашей жизни появился отец Калеба.
Самые ранние мои воспоминания, — это день, когда мама сказала, что мы переезжаем и что у меня будет брат. Мне тогда было пять лет. В следующие дни я плакала без остановки, потому что не хотела иметь брата.
А потом, будто луч света после дней тьмы, появился Калеб — худенький шестилетний мальчик, держащий бархатную подушечку с кольцами и стоящий рядом со мной. Я помню, что была выше него ростом, одета в нарядное платье, от которого чесалось все тело, и держала в руках цветы. Помню, как мне нравились его светлые волосы и зеленые глаза. И как они отличались от моих черных волос и странных фиолетовых глаз. Мы наблюдали за церемонией бракосочетания наших родителей и скривились, когда они поцеловали друг друга прямо в губы.
Свадьба была очень красивой — повсюду белые лилии и аромат торта.
Сейчас же я бреду в одиночестве. Спотыкаясь и поскальзываясь на прозрачной корке льда, я вхожу в парк. Холодный ветер охватывает мое тело, заставляя дрожать, но я продолжаю идти, пробираясь по снегу. Я ищу одно место, где не раз проводила ночи, когда не могла уснуть. А это случается довольно часто.
Безответная любовь и бессонница мои давние друзья. Наверное, они даже сестры — злобные и безразличные.
Расстроенно топнув ногой и тут же поскользнувшись, я падаю на ствол дерева с шершавой корой. Даже сквозь толстую шубу чувствую удар.
— Что за… — бормочу я, потирая руку. Глаза слезятся от боли — физической и эмоциональной. Ненавижу плакать. Терпеть это не могу. Заледеневшими пальцами вытираю слезы и пытаюсь успокоить прерывистое дыхание.
— Все хорошо. Хорошо, — шепотом говорю я себе. — Со мной все будет в порядке, — мои слова звучат сбивчиво, но я хотя бы больше не плачу.
И тут я слышу звук. Звук шагов по заледеневшей земле. А потом скрип деревянной скамьи. От страха я прижимаюсь к дереву, но любопытство заставляет меня выглянуть.
На скамье — на моей скамье и под моим раскидистым деревом — сидит высокий мужчина в черном: в черной толстовке и черных спортивных штанах.
«Это мое место, засранец», — хочу сказать я, но молчу. Я напугана. Кто он? И что делает здесь в такое время? Люди по ночам должны спать! Я исключение; у меня сердце разбито.
Мужчина сидит на самом краешке скамьи, опустив голову в капюшоне и глядя куда-то вниз. Потом медленно облокачивается на спинку и запрокидывает голову. Капюшон падает, и желтый свет фонаря освещает его черные густые волосы. Они длинные и вьющиеся, закрывают затылок и касаются плеч. Он смотрит в небо, и я делаю тоже самое. Мы разглядываем луну и тяжелые тучи. В воздухе чувствуется запах снега.
Решив, что для наблюдения небо не настолько интересно, я смотрю на мужчину.
Он тяжело дышит, грудь вздымается и опадает. По напряженной шее и заостренному адамову яблоку стекает крупная капля пота. Наверное, он бегал.
Не глядя вниз, темный мужчина что-то достает из заднего кармана — сигарету. Он слегка перемещается, опускает лицо, и мне становятся видны его черты. Его лицо — сплетение острых углов и четких линий. Высокие скулы переходят в сильную небритую челюсть. Капли пота на лбу он вытирает рукавом, от чего на груди плотно натягивается ткань толстовки.
Я все жду, когда он зажжет сигарету и затянется. И ловлю себя на мысли, что умираю как хочу посмотреть на него курящего. Увидеть, как тонкие завитки теплого дыма растворятся в морозном воздухе.
Но мужчина… этого не делает.
Он просто смотрит на сигарету. Зажатая между пальцами, она остается неподвижным объектом его интереса. Он хмурится и будто заворожен ею. Будто ненавидит ее и не может понять, почему эта дурацкая сигарета продолжает удерживать его внимание.
И тогда он выбрасывает ее.
Потом тянется назад и достает еще одну. Действия возобновляются. Он смотрит. Хмурится. Я с нетерпением жду, что же будет потом.
На этот раз мужчина глубоко и прерывисто вздыхает и достает из кармана зажигалку. Сунув сигарету в рот, зажигает ее одним ловким движением пальца. Затягивается и выдыхает дым. От этой первой затяжки он с восторгом закрывает глаза. Возможно, даже стонет. Я бы на его месте точно не сдержалась.
Наблюдать за тем, как он сражался с желанием закурить, было изнурительно. Я радуюсь и расстроена одновременно, что мужчина сдался. Интересно, что бы в подобной ситуации сделала я? В голове тут же всплывает лицо Кары и ее слова, что нужно учиться сдерживаться.
Я знаю, что в его сигарете нет ни капли марихуаны, но тоже ее хочу. Страшно хочу.
Внезапно мужчина начинает вставать со скамьи и убирает зажигалку в карман. Он довольно высокий — где-то около 1,90 м. Несмотря на расстояние между нами, мне приходится слегка запрокинуть голову, чтобы посмотреть на него. Вскочив на ноги, мужчина делает последнюю затяжку и бросает сигарету на землю. Потушив ее, надевает капюшон и возобновляет пробежку.
Отцепившись наконец от дерева, я бегу к скамье посмотреть, куда он побежал. Но кругом только темнота и морозный воздух.
Будто ребенок, придумавший себе воображаемого друга, чтобы не чувствовать себя одиноко, я воскрешаю в памяти его образ. Со вздохом сажусь туда, где он сидел. Место холодное, словно его тут и не было.
Усталость берет свое, и я закрываю глаза. Дышу остатками сигаретного дыма с примесью чего-то шоколадного. Сворачиваюсь калачиком на скамье и прижимаюсь щекой к холодному дереву. Я ненавижу зиму, но в своей теплой постели не могу заснуть. Это один из тех парадоксов, над которыми обычно все смеются.
Погружаясь в сон, я молюсь, чтобы глаза незнакомца не были зелеными.
ГЛАВА ВТОРАЯ
Я живу в башне.
Это самое высокое здание в районе университета Пенбрук, куда меня сослали на время учебы. Моя квартира с двумя спальнями расположена на последнем этаже, откуда открывается вид на университетский парк. На самом деле с балкона виден весь кампус — кроны деревьев, красные черепичные крыши приземистых домов и шпили учебных корпусов. Я люблю сидеть там и бросать на прохожих наполненные водой воздушные шары. Когда они возмущенно поднимают головы, прячусь за каменную балюстраду, но в течение этих пяти секунд чувствую себя раскрытой. Люди знают, что наверху кто-то есть. И мне это нравится.
Нижние этажи будут сданы в аренду через несколько месяцев, и пока я единственная, кто живет в этом роскошном, похожем на башню доме. Зданием владеет Генри Кокс, мой нынешний отчим, поэтому у меня и есть возможность поселиться здесь настолько заранее. Мама решила, что жизнь в общежитии подтолкнет меня к наркотикам и алкоголю. Можно подумать, я здесь напиваться не смогу. Было бы желание.
Поскольку сегодня мое сердце Одинокое, я решила пойти в магазин и купить книги для будущего семестра. Тем более что завтра уже начинаются занятия.
Надев спортивные штаны и большую толстовку, я кутаюсь в свою любимую фиолетовую шубу, повязываю шарф и надеваю шапку. Мои темные распущенные волосы служат дополнительной защитой от холода.
Спустя десять минут я стою в книжном магазине кампуса и открываю в телефоне список нужных книг. Постепенно собираю стопку учебников. Мне грустно, что дело заняло всего несколько минут, и теперь придется вернуться в свою башню.
И тогда на ум приходит идея. Я иду к отделу художественной литературы. Здесь несколько рядов деревянных стеллажей, на которых стоят книги с красиво написанными названиями на обложках. К здешнему запаху я до сих пор не могу привыкнуть — он насыщенный и теплый. Должно быть, рай пахнет точно так же.
В отличие от Калеба, я читаю мало. А он просто обожает книги и искусство.
С тихо напевающей в наушниках Dark Paradise Ланой я провожу пальцами по корешкам книг, пытаясь придумать, как их получше переставить. Мое одинокое сердце оживает. Оно трепещет в груди, давая понять, как сильно благодарно за мои старания заполнить хоть чем-нибудь эту гигантскую зияющую дыру.
Не за что.
Затем я принимаюсь за работу. Меняю местами книги с полок G и F. И про себя смеюсь, когда представляю, как запутаются люди. Это заслуживает тверка, и я кручу задницей — самую малость, что вы — в такт чувственному ритму песни.
Повернувшись, я цепенею. Рука с книгой замирает, а из головы улетучиваются все мысли.
Это он.
Он здесь.
Вчерашний ночной темный курильщик.
Высокий и пугающий, он стоит и держит в руках какую-то книгу. Как и ночью, хмуро смотрит на предмет в своих руках. Словно книга его бесит, возмущает самим своим существованием. Если бы не недовольный и свирепый взгляд, я бы ни за что не узнала его в ярком свете магазина.
На свету этот мужчина выглядит совсем иначе. Реальным. И рассерженным. Более опасным.
Его темные пряди поблескивают, словно мокрый черный шелк. Вчерашняя ночь приглушила красоту его волос, их мягкость. Кстати, насчет его лица я была права.
Оно соткано из плоскостей и впадин, строгое и суровое, но при этом царственно гордое. В нем нет ни капли мягкости, кроме губ, которые он сейчас поджал. Мысленно пририсовываю к его рту и пухлым губам сигарету.
Как и ночью, мужчина вздыхает, и нахмуренные брови немного расслабляются. Ему не нравится эта книга, но он ее хочет. Думаю, ему не нравится и то, как сильно он ее хочет.
Но почему? Если книга настолько желанна, почему бы ее просто не купить?
Позабыв о своем одиночестве, мое сердце обращает свое внимание на этого темного незнакомца. Я изучающе смотрю на него. На сгибе локтя висит кожаная куртка. А на нем белоснежная рубашка, синие джинсы и…
О боже! Он одет так же, как герой моей любимой песни Ланы Дель Рей Blue Jeans.
Сердце начинает биться быстрее. Быстрее. Еще быстрее. Мне нужно, чтобы он поднял голову. Нужно увидеть его глаза. Мысленно приказываю ему, но он словно не чувствует. Я уже собираюсь к нему подойти, как вдруг в поле моего зрения оказывается какая-то девушка.
И мужчина наконец поднимает голову. Хотя нет, на самом деле, он ее раздраженно вскидывает.
Его глаза голубые — пронзительно голубые, пылающе голубые. Как самая обжигающая часть пламени или как тушащая его вода.
— М-м… Привет, — произносит девушка, и ее собранные в хвост светлые волосы еще покачиваются от ходьбы.
Незнакомец не отвечает. Просто смотрит на нее из-под густых темных ресниц.
— Я тут подумала… не могли бы вы помочь мне достать оттуда книги? — девушка показывает на деревянный стеллаж в другом конце зала, высотой почти до потолка и рядом с которым стоят две другие девушки. Они хихикают между собой, когда мужчина смотрит в ту сторону.
Она серьезно, что ли? Клеить парня в книжном магазине таким образом — это так банально.
Ладно, мне ли судить? С Калебом я проделывала подобное бесчисленное количество раз, притворяясь девицей в беде, чтобы он пришел и спас меня.
Тем временем девушка ждет его ответа. Но молчание длится уже несколько секунд, и мне за нее становится неловко. Молчание — худший ответ того, чье внимание ты пытаешься привлечь.
Затем напряженная поза незнакомца немного расслабляется, и он пожимает плечами.
— Я бы с удовольствием тебе помог, вот только забыл свою лестницу дома.
Его голос низкий и гортанный. Почти рычание, заставляющее меня задрожать.
Он произносит эту фразу с такой невозмутимостью, что даже я озадачена. Разве в магазине нет лестницы? Но потом по притворно невинному выражению его лица понимаю, что он пошутил, и несмотря на дрожь по всему телу, тихо усмехаюсь.
— Но тут есть лестница. Смотрите, — говорит девушка и показывает на прислоненную к стеллажу темно-коричневую деревянную лестницу. Ее подруги продолжают таращиться на них обоих.
— Я вижу, — почесывая подбородок большим пальцем и постукивая остальными по бицепсу, бормочет в ответ мужчина.
Вокруг его глаз пролегли жесткие линии, которые, в зависимости от поворота головы, кажутся то чуть более, то чуть менее заметными. Он снова пытается себя контролировать. Он терпеть не может, когда его прерывают, и теперь решает, как быть. Все это, конечно, лишь догадки с моей стороны, но я права. Уверена в этом.
— Я ужасно боюсь забираться на нее на каблуках, — объясняет блондинка.
— И зря, — возражает незнакомец. — Я постоянно это делаю.
— Что делаете?
— Забираюсь на лестницы на своих каблуках, — невозмутимо отвечает он и что-то рассматривает, глядя вниз — наверное, ее туфли. — Ага, вижу, почему у тебя возникли проблемы. Шпильки. Ты боишься с них упасть. Опасные штуковины. Смертельно опасные.
На какое-то время наступает тишина.
— Вы ведь шутите, да?
— Нет, я никогда не шучу насчет каблуков, — он сжимает губы. — Как и насчет юбок, благодаря которым мои ноги выглядят стройнее. Никаких шуток.
— Что? — взвизгивает девушка.
Мужчина отступает на шаг, выглядя при этом оскорбленным.
— Ты не считаешь, что мои ноги в юбке выглядят стройнее? Думаешь, я толстый?
— Ч-что? Я не… Я бы никогда…
— Да, я съел коробку шоколадного мороженого и да, пообещал себе не увлекаться сладким, — тут следует глубокий драматичный вздох, — но все же сорвался. А раз ты симпатичная и при этом блондинка, то решила, будто можешь ставить под сомнение выбор мужского гардероба? — его голубые глаза смеются, а в уголках пляшут морщинки. Я поджимаю губы, чтобы не фыркнуть.
— Я… Я даже не понимаю, о чем вы. Просто подошла за помощью, — возмущается раздраженная девушка.
Веселые морщинки вокруг глаз незнакомца снова становятся резкими линиями.
— Тогда позволь я поделюсь с тобой одним маленьким секретом, — он понижает голос, и я инстинктивно подхожу поближе. — Я не из тех, кто помогает, — потом кивком показывает в сторону ее подруг. — Тебе стоит уйти и играть с людьми твоего возраста и уровня интеллекта.
После чего ставит книгу на полку, смотрит на часы и выходит из магазина, оставив нас обеих в недоумении.
Блондинка фыркает и идет к своим подругам.
Выходит, голубоглазый курильщик записной говнюк. Мне жаль девушку, пусть и не удается сдержать вырвавшийся смешок.
Если он такой, когда себя контролирует, то даже не представляю, что будет, если даст себе свободу. Подхожу к месту, где он стоял, и беру оставленную им книгу. Ролан Барт «Фрагменты речи влюбленного». Безобидная книга с неприметной черной обложкой. Интересно, чем она так его разозлила. А еще мне интересно, как мог выглядеть наш разговор, если бы состоялся. Я даже не знаю, что ему сказать, кроме как: «Привет, я Лейла, а ты напоминаешь мне одну песню».
Несколько часов спустя я уже дома. Устала и хочу спать. Меня даже не тянет посмотреть порно, что я обычно делаю под конфеты Twizzlers. Обычно я смотрю его не ради оргазма, нет. И даже не прикасаюсь к себе. Я смотрю ради хоть каких-нибудь ощущений и, быть может, чтобы прочувствовать близость. Вглядываюсь в два обнаженных извивающихся тела, в искаженное удовольствием выражение лица девушки и в сосредоточенное у парня. Слушаю стоны, которые они издают, пусть те и фальшивые.
Я пытаюсь понять механизм и динамику их взаимодействия. Все это для меня выглядит невероятно. Пытаюсь сравнить увиденное с тем единственным разом, когда я занималась сексом. Но не нахожу ничего схожего. Парень не смотрел на меня так, будто сейчас умрет, если не окажется в ней как можно скорее, а девушка — то есть я — хотела, чтобы он поскорей покинул ее тело, едва почувствовав его внутри.
Да, вот так и бывает, когда вы заставляете кого-нибудь переспать с вами.
***
Первый день весеннего семестра. Не понятно, почему его назвали весенним, — стоит январь и адски холодно. Белым кошмаром повсюду рассыпан снег, и его гоняет ледяной ветер, попутно шлепая по лицам прохожих.
Но несмотря на все это, в воздухе витает энтузиазм. Впереди новые занятия, новые преподаватели, новые истории любви.
Улица у подножия моей башни наводнена людьми, одетыми в разноцветные пуховики и несущими сумки с книгами. По дороге в «Кофе со сливками», мое любимое кафе, меня со всех сторон бомбардируют визги, хохот и болтовня.
Такое ощущение, будто вчера все неплохо провели вечер, потому что утром тут не протолкнуться. Я встаю в длинную очередь, которая тянется до самого дальнего угла кафе.
Очередь движется медленно, будто льющаяся патока, и, шагнув в очередной раз вперед, я вижу его. Снова он. Голубоглазый курильщик. Он стоит у стойки, и мне виден лишь его профиль — квадратная челюсть и взлохмаченные волосы. Сделав шаг из очереди, мой незнакомец достает кошелек и расплачивается за кофе.
Выйдя на улицу с зажатой в зубах сигаретой, он зажигает ее. На этот раз безо всяких раздумий. Он уже сдался в этой борьбе?
Двигаясь словно по своей воле, мои ноги несут меня вслед за ним. Даже порыв холодного ветра не достаточная причина, чтобы я отказалась от идеи преследовать темного незнакомца.
Стремительно идя по тротуару, он оставляет за собой шлейф сигаретного дыма. Не столько идет, сколько рвется вперед, и мне приходится почти бежать, чтобы не отстать далеко позади. Направляясь в сторону Маккинли-стрит и площади, незнакомец лавирует в людском потоке. Я же не настолько грациозна и без конца врезаюсь в прохожих.
Тем не менее мне удается не упускать из поля зрения его широкие плечи. Хотя их трудно не заметить. Этот мужчина выше большинства людей, его плечи шире, и готова поспорить, что под черной спортивной курткой его спина испещрена множеством резких штрихов и плавных впадин — как и его лицо.
Ледяной ветер треплет волосы незнакомца и растворяет дым сигареты. Я чувствую его ртом — этот пепельный дым и томное облегчение, которое появляется лишь от никотина. Из-за этого мужчины я хочу купить пачку сигарет и выкурить ее за день. Из-за него хочу достать свое фальшивое ID и напиться в хлам.
И тут же вспоминаю, что теперь я хорошая девочка.
Но тогда какого черта я творю? У меня сейчас начнутся занятия, и вместе со всеми я должна там появиться.
Но мы хотим идти за ним, — скулит мое сердце.
Ладно. Но только в этот раз.
И я продолжаю преследовать моего курильщика. Мы пересекаем площадь, и он поднимается по ступеням, ведущим к мосту, который делит кампус на две части. Здесь я почти не появлялась, поскольку все мои занятия проходят на южной стороне, где я и живу. Но сейчас, как понимаю, мы направляемся на северную.
В этой части кампуса гораздо тише. На вымощенных булыжником дорожках и лавочках почти никого нет. Поэтому идти следом тут проще. А ветер здесь сильнее — он треплет мои распущенные волосы и красную клетчатую юбку. В окружении часто посаженных голых деревьев создается впечатление, будто мы идем по лесу.
Наконец незнакомец останавливается у какого-то здания, а я держусь в нескольких шагах позади. Оно высокое, на красной кирпичной стене золотыми буквами написано «Здание Макартура», а чуть в стороне курсивом «Лабиринт» — что бы то ни значило.
Вхожу вслед за ним в здание, и на меня со всех сторон обрушиваются различные звуки: бормотание, смех и топот. Где-то звонит телефон. Где-то задвинули ящик. Резко захлопнули дверь. Вся эта бурная деятельность так сильно контрастирует с тишиной, царящей снаружи, что кажется, будто в этом старомодном здании собрались все обитатели кампуса.
Под ногами отполированные полы, стены сделаны из нешлифованного кирпича, что придает всему внутреннему пространству домашний уют. Мне хочется оглядеться и понять, что из себя представляет это здание, но оторвать взгляд от моего незнакомца я не могу. Он идет по коридору и входит в самую последнюю дверь.
Иду за ним, и едва только собираюсь тоже войти, это наконец происходит.
Он поворачивается и смотрит на меня.
Таинственный, даже потусторонний взгляд его голубых глаз превращает меня в паралитика. Я не могу двигаться. Не могу говорить. Его взгляд гипнотизирует и делает меня растерянной и неподвижной.
Он на что-то опирается… вроде как на стол. Окна позади него впускают солнечный свет, который растворяется, едва коснувшись тела, и заставляет его светиться. Сделав глоток кофе, мужчина смотрит на меня поверх поднесенного к губам стаканчика. Где-то по дороге сюда он выбросил сигарету; так странно, но я огорчена этой потерей.
— Привет, — еле слышно говорю я.
— Ты собираешься сесть?
Его глубокий зрелый голос скользит по моей коже, вызывая легкое жжение, будто выдержанный алкоголь.
— Что? — тупо спрашиваю я.
— Садись, — вздохнув, повторяет он.
— Я не…
Он встает.
— Са-дись, — по слогам говорит мне незнакомец, будто я слабоумная. — Или выматывайся из моего класса.
«Класс». Это слово иглой вонзается в окружающий меня пузырь и заставляет поморщиться. Отведя от него взгляд, я смотрю по сторонам. И правда, мы находимся в аудитории, где присутствуют еще человек двадцать, и все они уставились на меня.
Снова повернувшись к нему и нахмурившись, я всматриваюсь в его лицо. Лицо взрослого мужчины. Морщинки вокруг глаз и рта. Уверенный в себе. Производит пугающее впечатление, когда того хочет.
Мой незнакомец не выглядит студентом… потому что он и не студент.
Голубоглазый курильщик — преподаватель.
ГЛАВА ТРЕТЬЯ
— Вы… преподаватель, — озвучиваю свои мысли я. Не знаю, что еще сказать.
В ответ получаю сдержанную снисходительную улыбку.
— И как же ты догадалась?
Вообще-то, по множеству деталей. Уже открываю рот, чтобы ответить, но мое сердце шепчет: «Он шутит, глупая. Куда подевался твой детектор сарказма?»
А ведь правда. Я закрываю рот, но тут же открываю его снова:
— Я-я не догадывалась, пока шла следом за вами.
— Ты преследовала меня, — в меня впивается проницательный взгляд. Интересно, как я сейчас выгляжу в его глазах — надеюсь, не как та блондинка.
— Нет, — тут же выпаливаю я. Ты украла нижнее белье Калеба? Нет, мама. — Конечно же нет. В общем, я не это имела в виду. Просто… не думала, что мы придем в класс.
— Но именно туда и пришли, как видишь, — явно готовый закончить разговор, профессор ставит свой кофе на стол. — Так что или садись, или уходи.
— Хорошо, — киваю я. Я готова уйти и забыть обо всем произошедшем, но вместо того, чтобы двинуться в сторону выхода, мои ноги сами собой ведут меня вперед, мимо рядов красных пластиковых стульев. По неприятному покалыванию на коже затылка понимаю, что за мной наблюдают.
Сев на заднем ряду, я смотрю на него — на своего преподавателя — и вижу, как он расстегивает куртку. Снимает ее, и под ней в пару к черным джинсам на нем оказывается накрахмаленная серая рубашка. Плавным и ловким движением, будто льющаяся мелодия, он вешает ее на спинку стула. Я была права — он как песня.
От этой мысли мне становится жарко. Так жарко, как еще никогда не бывало зимой. Кожа ощущается обожженной, и становится трудно дышать. Это так странно. Вниз по позвоночнику скатывается капля пота.
Дрожащими руками я снимаю с себя свою белую шапку и встряхиваю волосами. Следом идет пушистый шарф, перчатки, фиолетовая шуба и черный кардиган, после чего я остаюсь в белой футболке с длинным рукавом и клетчатой красной юбке. Свалив все это в кучу на соседний стул, я делаю глубокий вдох.
Когда поднимаю голову, то встречаюсь взглядом с голубыми сгустками энергии. Профессор смотрит на меня, приподняв одну бровь и держа руки в карманах. Судя по всему, он — как и все присутствующие — пялился на меня все это время.
— Не дружу с холодной погодой, — бормочу я и резко пожимаю плечами.
Качнув головой, профессор переводит взгляд на остальных. Студенты сидят на краешках стульев, будто ждут, когда он заговорит. Я тоже подаюсь вперед. Что это за занятие, кстати?
— Итак… — начинает он, покачиваясь на пятках. — Я То…
— Мы знаем, кто вы, — перебивает его сидящая на первом ряду девушка, и все отвечают восторженным гулом.
Ага, но я-то нет. Как его зовут?
— Тогда ладно, — кажется, от их энтузиазма он немного опешил.
— Я обожаю ваш последний сборник, — радостно щебечет девушка. — То есть все мы. Мы даже организовали вечер, посвященный «Анестезии», после семестровых экзаменов. И прочитали абсолютно все. Я читала вступительное. Это лучшее стихотворение сборника.
Что-что? Он поэт?
Сидящий рядом с ней парень перебивает:
— Не согласен. Лично я лучшим считаю «Время ночи». В нем есть загадка. Начинается в одной манере, а потом — бам! — и полностью срывает крышу.
— Ну да. Но смотри, в чем дело. Я думаю, это обман читателя. А как читатель я терпеть не могу обманываться. Это такая дешевая тактика. Поэтому «Анестезия» и лучше. Там все просто, без прикрас и потому так убедительно.
— Вот именно — просто. А у «Времени ночи» есть… некая изюминка. Оно драматичней. И иногда драма просто необходима — знаешь, большой размах и все такое.
Они спорят еще какое-то время. Использую такие термины, как слог, ударный слог, поток, форма и ритм — ничего из этого я никогда не слышала. Тем временем профессор наблюдает за ними с нескрываемым удивлением. Это даже смешно. Устав наконец препираться, девушка обращается к нему:
— А вы что думаете, профессор?
Он качает головой, будто только что очнулся ото сна.
— О чем?
— Драма или простота. Как думаете, что лучше? — уточняет парень.
Профессор складывает руки на груди и прищуривается, будто обдумывает вопрос. Вспомнив вчерашний инцидент, я готова предположить, что он притворяется.
— Это сложный вопрос. Возможно, мне понадобится что-нибудь покрепче кофе, чтобы найти ответ. Но, к сожалению, идея выпивать во время занятий не будет встречена с одобрением. Почему бы нам тогда не начать с чего-нибудь попроще? Например, с имен, — кивком головы он показывает на девушку. — Не хочешь начать?
— Ну ладно, — девушка явно не ожидала такого поворота. — Я… Эмма. Эмма Уокер.
И вот так фокус внимания сместился с него на представляющихся студентов.
Профессор поправляет манжеты рубашки, теребя пуговицы крупными длинными пальцами. Я чувствую, как меня тянет к ним. Он поэт. Он много пишет — вот этими руками. Получается, их можно назвать маленькими богами. Они создают что-то новое: складывают слова в стихи. Для кого-то вроде меня это экстраординарная способность.
О поэзии я знаю ровным счетом ничего, но благодаря этому мужчине мне хочется открыть его книгу и прочитать. Ха! Никто и никогда не вдохновлял меня сделать что-нибудь настолько невинное, как чтение, при этом заставляя изнывать от желания напиться и кайфануть.
Кто этот мужчина?
Он как покрытый сладкой глазурью яд.
Я так глубоко погрузилась в собственные размышления, что не сразу заметила золотой блеск на его руке. На долю секунды он меня озадачил. А потом до меня дошло, что это обручальное кольцо.
Голубоглазый профессор женат.
На несколько секунд биение моего сердца замедляется, от чего я чувствую головокружение, а потом оно возобновляет свой бег. Громкий и стремительный. Мое сердце тревожится. Мне почти хочется поднести руку к груди и потереть то место, где оно суетно колотится. Так странно. Какое мне дело до того, что профессор женат?
Прикусив губу, я поднимаю голову и замечаю, что он смотрит на меня. Один из тех моментов, когда ты с кем-то случайно встречаешься взглядами. Это происходит не нарочно. И он смотрит не на то, как я разглядываю его руки. При этом мою кожу покалывает от электрического заряда, который оставил его взгляд, скользнувший по моему телу. Я ерзаю на стуле, скрещивая и разводя в стороны ноги.
Вскоре приходит мой черед говорить.
— Я Лейла. Лейла Робинсон.
Его внимательный взгляд задерживается на мне дольше, чем на остальных.
— Почему вы решили посещать Введение в поэзию, мисс Робинсон?
Просто потрясающе. Первый же его вопрос — про что я понятия не имею. Может, сказать, что мой психолог-консультант предложила мне попробовать что-нибудь новое? Но я не хочу, чтобы он считал меня сумасшедшей.
Мы не сумасшедшие, — вторит мое бесполезное сердце.
Сев ровнее, я покашливаю.
— Ну, потому что мне это интересно. Мне нравится поэзия.
— И что именно вам нравится?
Вдох формируется в грудной клетке, но до рта не поднимается. Я не могу ни вдохнуть, ни выдохнуть, пока обдумываю его вопрос. Терпеть не могу оказываться под чьим-то пристальным вниманием. Я чувствую, как меня все оценивают, как готовы обсудить. Это настолько похоже на происходящее дома, что мне хочется исчезнуть.
Но как и всегда, я вздергиваю подбородок и не отвожу взгляд. Его вопрос крутится у меня в голове, и внезапно нахожусь с ответом.
— Слова! — восклицаю я.
— Правда? — с сарказмом интересуется он, приподняв одну бровь. Мудак.
— Я люблю слова песен без музыки, — говорю я, когда меня осеняет. — В ритме музыки можно запросто потеряться, а на слова можно опереться. Они как бы держат мозг активным. На них обращаешь внимание, слушаешь и переслушиваешь, вникаешь в смысл, читаешь между строк, — я киваю, соглашаясь с собственным анализом. — Да. Вот за это я и люблю поэзию. За слова. Они служат мне опорой.
Стоит абсолютная тишина. Кажется, никто даже не дышит. Или же не дышу я одна. До сих пор я еще никогда так не думала о словах в песнях, но, кажется, все так и есть. Слова. Тексты песен. Поэзия. Разве они не схожи?
На лице профессора сейчас то же выражение, какое было, когда он смотрел на сигарету и на книгу. Его самоконтроль сейчас работает в полную силу, а я боюсь. И… взволнована. Очень странная реакция.
Затем он отводит от меня взгляд.
— Предлагаю обсудить содержание этого курса.
Я громко и с облегчением выдыхаю. Если не брать в расчет курение, у этого мужчины впечатляющее самообладание. У него стоит поучиться. Надо записаться к нему на занятия. Кара будет только рада.
Подойдя к столу, профессор достает из ящика стопку листов бумаги. Там расписан учебный план. Оставив себе один, он отдает Эмме остальные. Аудитория тут же наполняется шорохом бумаги и тихими звуками пишущих ручек.
Один лист бумаги приходит ко мне, и я наконец вижу это. Его имя. В правом верхнем углу, рядом с номером его кабинета, рабочими часами и телефонным номером.
Томас Абрамс.
Томас.
Профессор Абрамс.
Наклонившись к сумке, достаю ручку и подчеркиваю имя. Сначала один раз. Потом еще. И еще. Три раза фиолетовыми чернилами с блестками. Потом обвожу его имя в кружок. Я прошу свою руку остановиться, но та не подчиняется. В ответ на мои требования она еще яростнее нажимает ручкой на бумагу.
Как только учебные планы оказались у каждого, профессор Абрамс зачитывает самое важное. Его занятия — частично мастерская, частично теория. Это означает, что каждый из нас напишет свое стихотворение, которое потом проанализируем; одновременно с этим мы будем читать стихи известных поэтов. Признаться честно, половины имен я даже не знаю: Данн, Плат, Байрон, По, Уилмот.
Судя по голосу профессора Абрамса, его не особенно интересует содержание курса. В некоторых местах, где говорится о домашнем задании и системе оценок, он хмурится.
Несколько раз Эмма пытается вовлечь его в разговор, но он ловко уходит от темы. Даже с последнего ряда мне ощутимо ее разочарование. Либо Томасу Абрамсу плевать, либо он понятия не имеет, как вести преподавательскую деятельность. Думаю, тут есть немного и того, и другого.
Вскоре занятие окончилось, и мы получаем свое первое задание: написать эссе на одну-две страницы о том, почему выбрали именно этот факультатив и какие авторы нас вдохновляют. Этого задания более чем достаточно, чтобы я пулей захотела умчаться в другую часть кампуса, а сюда больше не возвращаться.
Уже собираясь уходить, я останавливаюсь в дверях и оглядываюсь. Профессор теребит манжету, и в солнечных лучах поблескивает его золотое обручальное кольцо. Потом надевает куртку и встряхивает руками. Его действия по-прежнему изящны. По-прежнему плавные, как мелодия. И по-прежнему впечатляющи до дрожи.
Не желая, чтобы он поймал меня на подглядывании, я выхожу и едва не сталкиваюсь с кем-то в коридоре. Этот парень сидел на первом ряду; его имени я не помню. У него всклокоченные волосы и очки в черной оправе. С перекошенным капюшоном он выглядит довольно милым ботаником.
— Привет, — он приветствует меня так, словно знаком со мной.
— Привет… — пытаясь понять, знаю ли я его, наклоняю голову набок.
— Ты Лейла. Лейла Робинсон.
— Верно.
Я что-то устроила ему?
— А я Дилан Андерсон. Мы вместе ходим на историю.
— Да ну?
— Ага. Помнишь, как профессор Аллен вечно ковыряется в носу, пока пишет на доске?
— Да-да! Боже, как я могла забыть об этом? — я содрогаюсь всем телом. — Фу. Хуже не бывает.
Дилан смеется. Его смех глуповатый и неловкий. Мне нравится. Он поворачивается к девушке, которая сидела рядом с ним.
— Это Эмма Уокер.
— Привет, — я делаю взмах рукой.
— Приятно познакомиться.
Не понятно, почему, она говорит с большой осторожностью.
— Ты тоже ходишь на историю с нами? — спрашиваю я.
— Нет. Я пришла сюда, потому что Дилан рассказал мне про профессора.
— Ага, как же, — он шутя пихает ее локтем в бок, и в ответ она нехотя улыбается. — Она ужасная трусишка, когда приходится рисковать. Мы договорились ходить на занятия вместе, но потом она меня бросила одного.
— Боже, сколько драматизма, — Эмма притворяется раздраженной, но я замечаю, что это напускное. Ей нравится ощущать внимание Дилана.
Какое-то время они продолжают спорить, и мне становится ясно. После долгих лет практики я стала мастером по определению людей с разбитыми сердцами и безответно влюбленных. Эмма влюблена в Дилана, но он об этом не знает. А ее настороженный взгляд в мою сторону говорит о том, что она ревнует ко мне. Ко мне, к отвергнутой. Мне хочется сказать, что бояться ей нечего. Что я не представляю никакой опасности — разве что для самой себя, но точно не для других.
Я внимательно смотрю на них. Дилан: взъерошенные темные волосы, карие глаза и мальчишеское очарование с легкой застенчивостью. Эмма: каштановые волосы и карие глаза, которые светятся умом и зрелостью.
Они идеально подходят друг другу. Мне кажется, влюбленный и объект его любви всегда идеально подходят друг другу. И я не верю в чушь типа «Ты еще встретишь кого-то более подходящего». Более подходящий мне не нужен. Я хочу того, в кого влюблена.
Тут подает голос мое Эгоистичное сердце. Оно грохочет в груди от гнева и разочарования. Почему Калеб нас не любит?
Наше с ребятами внимание привлекает звук шагов, н мы поворачиваемся в сторону аудитории. Не удостоив нас взглядом, в коридор выходит Томас, высокий и неприступный. Когда проходит мимо нас троих, я чувствую, как у меня по коже бегут мурашки. Быстро дойдя до лестницы, он поднимается по ней, перешагивая через одну ступеньку.
Дилан резко вздыхает.
— Этот парень… отличается от всех других.
— Мне кажется, или он скучный? Я надеялась, Томас Абрамс совсем другой, — хмурится Эмма и складывает руки на груди. — Думала, окажется более дружелюбным или хотя бы ответит на мои вопросы. Я была бы очень рада научиться у него чему-нибудь.
Дилан в шутку гладит ее по голове, но Эмма шлепает его по руке.
— Я же говорил тебе. У тебя слишком завышенные ожидания, Эмми. Он обычный парень, который пишет стихи.
— Обычный парень? — возмущенно восклицает Эмма. — Ты даже представить себе не можешь, насколько он талантлив. Он один из лучших поэтов современности. Знаешь, сколько у него наград? Он творит магию.
Дилан поворачивается ко мне.
— Ничего подобного. Просто она на него запала, вот и все.
— Нет!
Глаза Дилана сверкают при виде взбешенной Эммы, и я усмехаюсь. Парни зачастую такие недогадливые. Она ему нравится, просто об этом он тоже еще не знает.
Они снова начинают спорить, и мне кажется, что эти двое всегда так себя ведут. Это их священный ритуал, а я третья лишняя. Уже решив извиниться и уйти, я слышу топот на втором этаже и поднимаю голову.
— Это что такое? — поморщившись, спрашиваю я.
— Участники театрального кружка. На втором этаже есть конференц-зал, и они используют его для репетиций, когда все аудитории заняты, — отвечает Дилан.
— Ого, — я впечатлена. — Здесь есть театральный кружок?
Эмма смеется.
— Ага. Это же «Лабиринт». Тут полно странных людей и тех, кто притворяется, будто разбирается в искусстве.
***
После экскурсии по северной части кампуса я спешу вернуться в реальность. На своих занятиях я сижу в каком-то оцепенении: в одну секунду умом здесь, а в следующую уже нет. Мягко говоря, это странно.
Под конец дня я по-прежнему ощущаю себя попавшей в ловушку, вспоминая его обжигающий взгляд. Я словно смотрю на мир сквозь голубоватый туман.
Он творит магию.
Не знаю, почему, но эти слова действуют на меня очень сильно. После окончания занятий я снова прихожу в книжный. На этот раз не буду покупать книги или создавать путаницу. Хочу познакомиться с профессором Абрамсом посредством его же слов.
Его книга называется «Анестезия: сборник стихотворений». В Википедии написано, что это его первый полноценный сборник, который был выпущен почти год назад, с тех пор назван лучшей поэтической книгой года и получил кучу наград. Любопытный факт, что Томас Абрамс — самый молодой лауреат премии Маклауда, получил ее в свои двадцать девять лет. Он большой талант.
Я беру в руки тонкую книгу. У нее белоснежные страницы со словами, напечатанными черным жирным шрифтом. Листаю ее, в то время как в наушниках играет Лана и Blue Jeans. Пальцами провожу по витиеватым буквам на обложке.
Томас Абрамс.
Томас, темный курильщик и голубоглазый профессор.
В этой части магазина почти никого нет. Кто-то толпится в отделе научной фантастики — он чуть левее отсюда и спрятан за большой приставной лестницей и боковыми кирпичными колоннами.
Зная, что меня никто не заметит, я подношу книгу к носу и вдыхаю запах новых плотных страниц. Сделав вдох поглубже, внезапно ощущаю теплый аромат дыма. От музыкального ритма в ушах и от разлившегося по позвоночнику жара едва не теряю равновесие. Зарождающийся стон удивляет меня саму, и я резко открываю глаза.
Вот он, стоит, словно порожденный моим собственным воображением.
Взгляд, преследовавший меня сегодня повсюду, медленно опускается к книге в руках, которая закрывает нижнюю часть моего лица. В животе, где-то в районе пупка, рождается ощущение, будто кто-то потянул за мое серебряное колечко. Покашляв, я опускаю книгу и снимаю наушники.
— Я люблю запах книг.
Не похоже, что он мне верит. Под его задумчивым взглядом я острее ощущаю все слои одежды, что сейчас на мне. Слишком много одежды. И слишком жарко.
Дрожащей рукой отложив книгу в сторону, я пожимаю плечами.
— Можете это озвучить.
— Что озвучить? — словно анализируя меня, профессор наклоняет голову в сторону.
Кара обычно делает то же самое. Пытается меня раскусить, что я не выношу. Но сейчас свои чувства я описала бы совсем другими словами. Это что-то другое. Это чувство более смелое. Захватывающее. Неизвестное.
— О чем думаете. Я по лицу вижу — вы думаете, что я сумасшедшая. Что я идиотка, нюхающая книги.
Я жду, что профессор Абрамс согласится со мной, скажет «Угадала, прикинь!» Но, полагаю, выразится не буквально такими словами.
— Это… впечатляет, — кивает он, и на его губах появляется полуулыбка. — Ты читаешь меня, как книгу — хотя я бы предпочел, чтобы ты меня не нюхала.
Я с удивлением смеюсь.
— А вы забавный.
— Есть такое, да. Один из моих талантов.
— Ага. А какие у вас еще таланты? Нет-нет, дайте угадаю — преподавать, да?
— Да. Я был рожден, чтобы учить других, — невозмутимо отвечает профессор. Если не брать во внимание морщинки у глаз, его лицо словно высечено из гладкого камня.
— А. Несбыточные мечты. Понятно. Вы безумно талантлив.
Он с силой сжимает красиво очерченную челюсть.
— Вы сейчас подвергаете сомнению мои преподавательские таланты, мисс Робинсон?
Низкий голос профессора произносит мое имя так, словно оно течет густым шоколадным соусом. Ощущение, будто под действием его голоса сквозь меня проносится мощный будоражащий гул. Как так получается, что мне жарко и бросает в дрожь в одно и то же мгновение? Как он вообще может влиять на все это?
— Нет, профессор Абрамс. Я бы не посмела. Вы меня, в общем-то, пугаете.
Это правда. Абсолютная и непреложная. Он пугает, потому что оказывает на меня странное влияние, непонятное и небывалое.
— Все правильно. Я пугаю. Не забывай об этом, — одобряюще замечает он и, уже повернувшись уйти, в последний момент поворачивается ко мне. — А ты знаешь, что нельзя нарушать порядок расстановки книг?
Я не сразу поняла его слова. Он имеет в виду сделанное мной вчера?
— Я не…
Профессор бросает на меня недоверчивый взгляд.
— Это было глупо, не говоря уже о том, что неэффективно. Поменяла местами G и F? Да всем плевать. Если действительно хочешь кого-нибудь напугать, перепутай книги авторов с фамилиями на A с теми, у кого они начинаются на S. Чем шире разброс, тем больше будет паники.
Я сглатываю.
— Хорошо.
— И никому не говори, что это я тебе посоветовал.
— Хорошо, — снова говорю я.
Он наклоняет голову и улыбается.
— Я не знала, что вы меня видели. Вчера.
До этого момента мне и в голову не приходило, что я хотела быть им замеченной. И вслед за сегодняшним прозрением в классе ко мне внезапно приходит еще одно: я не хочу быть для него невидимой. Только не для него.
Но почему? Сама не понимаю. Что это за безумие?
— Я же говорил. У меня много талантов. И один из них — распознавать сумасшедших.
Я ахаю, а он усмехается. Он назвал меня сумасшедшей. Терпеть это не могу, но когда профессор Абрамс уходит, я чувствую не гнев.
Это что-то еще. Что-то волшебное.
ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ
Во всем, что касается искусства или литературы, я совершенно невежественная. И не понимаю, в чем привлекательность как первого, так и второго. Не понимаю, как какие-нибудь плавные линии на картине, бессмысленные слова в книге или осколок глиняной посуды могут вызывать у кого-то любовь и восторг.
Но я все равно не меньше сотни раз, начиная с понедельника, прочитала книгу стихов Томаса. На самом деле, она составляла мне компанию в бессонные ночи целую неделю. Напечатанные на бумаге слова словно проникли под кожу. Я чувствую их повсюду и все время, будто они мне давно знакомы. Они мои друзья. И я знаю, почему те слова именно такие.
Как будто я в курсе, о чем думал Томас, когда писал те строки.
Эмма была права — он действительно гений. Творит магию. До переезда в Бруклин он учился здесь и основал Лабиринт, онлайн-дневник, где выкладывал отрывки из стихотворений поэтов — как начинающих, так и известных, — а также прозу и сценарии.
Я сильно далека от него и его коллег, но все равно вернулась в «Лабиринт», в эти дебри искусства. Я снова прогуляла политологию — как и на прошлой неделе, — но мне плевать. Хочу опять оказаться внутри этого загадочного здания.
Едва войдя, чувствую, как внутрь тела просачивается тепло. Поскольку сейчас я никого не преследую, то решаю не спеша все осмотреть. Здесь пахнет походным костром — дымом и маршмеллоу — и по-прежнему шумно: все вокруг вибрирует энергией.
Каблуки моих сапог стучат по отполированному бетонному полу. Кирпичные стены в индустриальном стиле увешаны фотографиями и яркими флаерами. Я рассматриваю каждое лицо на фото; большинство снимков групповые и сделаны в каком-то баре. Флаеры приглашают на лекции — некоторые уже прошли, некоторые еще только состоятся, — прослушивания по вокалу, выступления групп, театральные постановки и так далее.
Свернув за угол, я чуть не врезаюсь в кого-то. Парень несет стопку каких-то бумаг и явно торопится. Тихо приношу ему свои извинения, но он не обращает на меня никакого внимания. Из ближайшей ко мне аудитории доносится хохот, и я улыбаюсь. Звук торопливых шагов наверху означает, что актеры так и не нашли себе другое помещение для репетиций.
Это место очень необычное. Все здание похоже на живое дышащее существо.
Я захожу в аудиторию. Как и в прошлый раз, сажусь на последний ряд. Спустя несколько минут приходит профессор Абрамс. Он снимает и вешает на спинку стула свою куртку, под которой на нем плотно сидящая на широкой груди и плечах черная рубашка. Вальяжности, которую он демонстрировал в книжном магазине, как не бывало. В этих стенах Томас напряжен и будто высечен из скалы, но по-прежнему очень красив.
Как и в прошлый раз, он поправляет манжеты рубашки. Я так понимаю, это своего рода ритуал, который помогает ему подготовиться к грядущим мучениям.
— Нужен круг, — удовлетворившись состоянием своих манжет, объявляет он. Все мы растерянно молчим и не двигаемся с места. Он оглядывает нас взглядом своих сверхъестественно красивых глаз. — Кто из вас уже присутствовал на мастерских?
Не дожидаясь ответа, профессор качает головой.
— Не важно. Мне плевать. Но на моих занятиях вы будете сидеть, образовав круг, и… — он складывает руки на груди, — будете зачитывать вслух свои работы. Мы возьмем паузу на размышления, а потом обсудим. Я хочу, чтобы каждый принимал активное участие, и повторяющиеся комментарии мне не нужны. Если кто-то другой озвучил ваши мысли, придумайте что-нибудь еще. Все ясно?
Никто и слова не произносит. Никто даже не дышит.
Профессор Абрамс резко вздыхает.
— Всем все ясно?
Выйдя из транса, мы киваем и вскакиваем со своих мест. Класс наполняется звуками, которые издают скрежещущие по полу ножки стульев. Пять минут спустя мы сидим полукругом, а профессор примостился на своем столе, опершись локтями на бедра и сцепив пальцы.
Я оказалась сидящей ровно напротив него — прямо на линии огня. К концу занятия мне не выйти отсюда живой и несожженной дотла.
Выпрямившись, профессор Абрамс берет со стола тонкую желтую папку и открывает ее.
— Тот, кого я назову, расскажет о своем эссе, о своем любимом авторе и как он вас вдохновляет на попытки писать, — он поднимает голову и морщится. — Я сам себе наскучил, пока это говорил, но того требует программа.
Эмма улыбается и садится ровнее. Она рада любому шансу пообщаться со своим любимым поэтом, похожим на рок-звезду. А вот я сижу ссутулившись, потому что напрочь забыла о домашнем задании.
Затаись. Спрячься.
Но эту мысль я тут же гоню прочь. Оказывается, мне хочется, чтобы он обратил на меня внимание. И не хочу, чтобы его взгляд едва заметно скользнул по мне, как по другим студентам. Я жажду, чтобы мой преподаватель увидел меня, даже если при этом тянет свернуться калачиком на стуле и стать невидимкой в аудитории, полной людей.
И в голове у меня опять возникает все тот же вопрос. Что это за безумие?
Профессор зачитывает имена из списка и перебивает студентов, едва те начинают говорить. Его взгляд потускнел. Я это вижу. Интересно, заметно ли это другим?
Я сижу беспокойно, то и дело поправляю юбку и одергиваю рукава, но все же успеваю слушать и восхищаюсь тому, как эти люди говорят о своих идеалах.
Я хочу быть похожим на Хемингуэя. Писать откровенно и безукоризненно.
А я люблю Шекспира. Если мне удастся написать хотя бы одно стихотворение, как он, я умру счастливым.
Меня завораживает страстью, пронизывающая их слова, и цели, которые они перед собой ставят: что-то сделать, кем-то стать. Я завидую такой любви. Любви, которая не делает тебя одинокой и не превращает в эгоистку. Любви, дающей цель.
Мильтон, Роберт Браунинг, Джеймс Джойс, Байрон, Эдгар Аллан По, Стивен Данн, Джойс Кэрол Оутс, Гиллиан Флинн, Дженнифер Иган, Нил Гейман, Сильвия Плат.
Эти имена мне не знакомы, но у меня появляется желание узнать о них. Беспокойство нарастает и усиливается. Дыхание учащается от витающей в воздухе возможности окунуться в этот мир — с кирпичными стенами и бетонными полами, с неприветливыми профессорами с глазами цвета раскаленного пламени и холодной воды.
Спрыгнув со стола и положив руки на пояс, профессор Абрамс прерывает мои размышления. Что случилось?
— Я не планировал что-то говорить, поскольку это меня не касается, но раз я ваш учитель, то, естественно, должен обращать внимание на такие вещи. Да и вряд ли смогу себя остановить, но это к делу не относится, — он шагает взад-вперед, а потом хмурым взглядом окидывает класс, ни на ком при этом не останавливаясь.
— Все только что озвученное говорит лишь о том, что вы восхищены каким-нибудь автором и что хотите писать, как он или она. Кажется, вы не понимаете, что такое вдохновение. Это не начать копировать Хемингуэя, Шекспира или Плат. Это и не про стремление быть на кого-то похожим. Стремлениям или амбициям тут вообще места нет. Вы просто делаете именно то, что действительно хотите, и учить мне вас тут нечему. К сожалению, мне нужна эта работа, поэтому… — вздохнув с досадой, профессор Абрамс запускает пальцы в волосы.
— Скажу только раз и больше повторяться не буду: есть большая разница между просто процессом сочинительства и созданием искусства. Сочинять стихи может каждый, а вот для создания чего-то стоящего вам нужно раскрыть свой талант. Читать — это хорошо. Читайте сколько хотите, но устанавливайте свои правила, а не просто следуйте чужим. Стремитесь воплотить в жизнь то, что этого воплощения жаждет. Стремитесь делать свое, а не переделывать написанное кем-то еще. Потому что, откровенно говоря, вы должны предпочесть умереть, нежели стать чьей-то копией.
Мой преподаватель тяжело дышит, вздымающаяся грудь натягивает ткань рубашки. Суровые черты его лица преобразились от накала эмоций. Вот он, тот поэт, про которого говорила Эмма. Полный страсти и неуемной энергии. Гениальный. Творящий магию.
У меня по коже рук бегут мурашки и бросает в жар. Пальцем я провожу вверх и вниз по корешку его книги. От ощущения гладкой текстуры под моими прикосновениями в груди наливается что-то тяжелое. От чего я прикусываю губу. Словно улавливая мои действия, в этот момент профессор Абрамс бросает на меня взгляд. Какое-то время мы смотрим друг на друга, после чего оба отворачиваемся. В это короткое мгновение я замечаю вспышку в его глазах, а голубой цвет стал настолько насыщенным, что у меня перехватило дыхание.
Пылкая речь профессора Абрамса вызывает всеобщий интерес. Эмма первой начинает задавать вопросы. А кто вдохновляет вас? Чьи стихи и прозу вы читали в детстве и юности? Вы всегда знали, что будете поэтом? Вы каждый день пишете? Он увиливает от каждого, не разглашая ни имен любимых авторов, ни деталей своего писательского ритуала — как назвала его Эмма — и постоянно задавая встречные вопросы.
Я смотрю на профессора во все глаза. Стараюсь замечать всякие мелочи, привычки. Например, он стискивает челюсть, когда ему кто-то докучает. И сдерживает резкий комментарий, когда кто-то, не обратив внимание на его раздражение, продолжает говорить. Всякий раз, когда мой преподаватель сдерживается от грубости, я чувствую уже ставшее привычным тянущее ощущение в районе пупка.
Когда занятие заканчивается, каждый оставляет свою домашнюю работу на столе, и это означает, что мне повезло. Не могу понять, рада ли я или расстроена. Собираю свои зимние вещи, чтобы уйти, как вдруг меня останавливает голос профессора, резкий, как удар хлыста.
— Мисс Робинсон, могу я попросить вас ненадолго задержаться? — он даже не смотрит на меня. Его взгляд направлен на эссе, которые он собирает в стопку.
Аудитория уже опустела, когда я подхожу к широкому деревянному столу, разделяющему нас теперь. Это странно, что я замечаю, как мой преподаватель отличается от самого же себя во время занятия, которое закончилось несколько минут назад? Он больше не суровый профессор. А просто… Томас.
Это возвращение парня из книжного магазина словно впрыскивает в меня порцию озорства и дерзости. Я чувствую себя безрассудной, проказливой и легкомысленной. Улыбнувшись, смотрю на него с самым невинным видом: широко распахнув глаза и слегка приподняв брови.
— Да, профессор?
Но поддаваться на мою уловку он явно не в настроении. Пробежавшись пальцем по стопке эссе, Томас смотрит при этом на меня, и я понимаю, что попалась. В любую секунду он спросит о моем домашнем задании. Сердце пускается вскачь.
— Что ты делаешь в моем классе? — интересуется он, стиснув челюсть. Да, я влипла.
— Что вы имеете в виду?
— Ты явно не поэт, — Томас изучает меня взглядом. — На самом деле, я даже сомневаюсь, любишь ли ты книги. Вот и напрашивается вопрос: что ты делаешь в моем классе?
— Я люблю книги! Я постоянно читаю, — меня бесит, что он видит меня насквозь и что знает: я здесь обманом.
Но разве мне не этого хотелось? Не того, чтобы он заметил меня? Бессмыслица какая-то. В моей реакции на него нет совершенно никакой логики.
— И какую последнюю книгу вы прочитали? — в его вопросе звучит вызов.
Твою. Но я не произношу это вслух.
— Она называлась… М-м-м, что-то вроде… Забыла название, но что-то про любовь. Э-э-э, влюбленные с детства женятся, и у них появляется куча детей.
— И кто твой любимый автор? Уверен, ты не могла не запомнить такую деталь.
А Томас упрям. Вот только он не в курсе, что я тоже.
— Их много, так сразу и не сосчитать.
Томас опирается ладонями на стол и всем своим крупным телом склоняется надо мной.
— Назови хотя бы одного.
Он теперь так близко, что я вдыхаю его запах. Пьянящее сочетание сигаретного дыма и шоколада превращает мой мозг в кашу. Я делаю шаг назад.
— Знаете, я опаздываю на пару, мне пора, тем более что нужно дойти до другой части кампуса, поэтому…
— Назови имя одного автора, которого любишь, и я тебя отпущу.
Я уже готова сдаться и сбежать отсюда. Но вместо этого выпаливаю:
— Ш-шекспир.
От сильной пульсации вена на шее Томаса кажется живой, будто может в любой момент броситься на меня и выплеснуть бурлящий внутри гнев.
Томас медленно качает головой.
— Попробуй еще раз.
— Мы так не договаривались. Я ведь назвала…
Он поднимает свой длинный указательный палец.
— Один. Всего один автор.
Боже. Я почти издаю стон, пока изучаю суставы его пальца. Палец выглядит так, будто часто держит ручку. Будто, да… творит магию, которая сочится из слов и стихов. Стихов, которые я не могу перестать перечитывать. Интересно, что будет, если Томас случайно ко мне прикоснется. Скорее всего, я умру на месте.
— Вы. Я вас люблю.
Минуточку… что?
Выпучив глаза, я резко зажимаю рот ладонью. Не может быть, чтобы слова вырвались наружу. Кроме Калеба, я это никому не говорила. Хотя тот недопонял подтекст — решил, будто это было сказано по дружбе.
Но сейчас мне нужно пояснить.
— То есть люблю ваши работы. Я…
Томас снова стискивает зубы, но на этот раз выглядит более опасным, потому что у него еще дергается правый глаз.
— Я знаю, что ты здесь лишняя, поскольку тебя нет в официальных списках, так что ты нарушаешь правила. И я хочу, чтобы немедленно прекратила. Больше сюда не приходи.
Меня тянет согласиться, но мысль больше не приходить ужасает гораздо сильнее, нежели регулярно оказываться принимающей стороной гнева Томаса.
— А то что? — интересуюсь я и хватаюсь обеими руками за край стола.
— Тебе не понравится.
— И что именно? Это аудитория, а я студентка. Почему я не могу быть здесь?
Пригвоздив меня взглядом, он еле заметно приподнимает уголок рта в насмешливой улыбке.
— Ты правда веришь, что это сработает?
— О чем вы?
Томас снова наклоняется, и мне невыносимо хочется толкнуть этот стол. Он ощущается скорее разделяющим нас океаном, нежели деревянной поверхностью в несколько десятков сантиметров шириной. От того, что Томас стоит совсем рядом, усиливается громкость всех окружающих нас звуков. Разговоров, смеха, топота чьих-то ног. Словно земля меняет угол наклона, покачиваясь из стороны в сторону, и единственный якорь, удерживающий все окружающее на местах, — это Томас. Как вам такое безумие?
— Ага, хочешь, чтобы я произнес это вслух, — его голос стал ниже на целую октаву. Стал низким и хриплым. А слова слились воедино. — Я знаю твой секрет, Лейла.
От того, что он произнес мое имя, в сердце что-то вспыхивает, а по коже проносятся обжигающие искры. Насколько я могу судить, мое имя самое обыкновенное, но голос Томаса и движения его языка у губ сделали его особенным. Я издаю невнятный писк, потому что внезапно разучилась говорить.
— Думаешь, я не знаю? Тебя выдают глаза, — он оглядывает все мое лицо и останавливается на глазах. Взгляды наших глаз встречаются — его голубые и мои фиолетовые. Оттенки не похожи, хотя принадлежат к одной части спектра.
— А что с моими глазами? — еле слышно спрашиваю я, стараясь собрать воедино мысли.
Уголки его губ приподнимаются, и моим холодным пальцам хочется к ним прикоснуться и почувствовать движения мышц.
— Они плохо скрывают эмоции, — кривоватая улыбка Томаса превращается в усмешку. Темную и дурманящую, как шоколад. Мы хотим попробовать. На этот раз я полностью согласна со своим сердцем.
— Какие эмоции? — словно робот, тупо переспрашиваю я. Пластмассовая кукла — вот кто я сейчас.
— Ты ко мне неравнодушна.
У меня уходит несколько секунд, чтобы уложить в голове только что сказанное.
— Ч-что?
Томас отодвигается и пожимает плечами.
— Это очевидно.
— Что? — снова хрипло восклицаю я. Мой пластмассовый мозг понемногу оживает. — Чушь какая! Я не… Это неправда, — он снова пожимает плечами. Так дерзко и самонадеянно, будто весь мир крутится вокруг него. Я сжимаю кулаки. — Да. Неправда. Я не запала ни на вас, ни на кого-либо еще, если уж на то пошло.
Томас кивает.
— Конечно.
— Да нет же, — обозленная от ощущения собственного бессилия, говорю я.
— Ну ладно.
Его небрежный ответ, его неверие, снисходительный взгляд красивых глаз, — от всего этого мне хочется ударить Томаса. А потом поведать о своих секретах. Эта мысль застает меня врасплох — ничего подобного меня раньше делать не тянуло. Я никогда не хотела, чтобы кто-нибудь рассмотрел черную дыру в моей душе. Я и сама не хочу ее видеть.
Это отвратительно, Лейла. Как ты можешь допускать подобные мысли по отношению к собственному брату?
Звучащий в голове голос моей матери злит меня еще больше. Ее голос, время от времени всплывающий в памяти, мучает меня и говорит, что мне необходима Кара, чтобы та вправила мне мозги.
Сделав глубокий вдох, я беру под контроль разбушевавшиеся эмоции. В этот момент я ненавижу Томаса Абрамса и хочу, чтобы он об этом знал. Мои тазовые кости вжимаются в край стола, когда я подаюсь вперед и спускаю гнев с поводка.
— Не хочу вас расстраивать, профессор Абрамс, но старики меня не привлекают. У них всегда этот сладковатый запах, который мне не нравится, и поправьте меня, если я ошибаюсь, но разве эта штуковина внизу с возрастом не сморщивается?
Я настолько разозлилась, что мне плевать на произнесенные слова, но злости при этом не удалось отвлечь меня от всплеска жара в животе и от собственных попыток не смотреть на… то, что сейчас было упомянуто, — небольшую выпуклость, спрятанную под молнией его джинсов. Представив, как он будет выглядеть, каким твердым окажется на ощупь, я чувствую, как все мое тело омывает теплом.
— Без понятия, мисс Робинсон, — мягкий вкрадчивый Томаса голос возвращает меня из транса. — Думаю, у меня еще осталось несколько несморщенных сантиметров, но спасибо за совет. Может пригодится, когда через несколько лет начну в панике измерять свой член.
Член. Он сказал слово «член». В присутствии меня, его студентки. Это совершенно недопустимо. От переизбытка энергии я ощущаю собственный пульс кожей всего тела. Она взмокла от пота. Ее покалывает.
Что происходит?
Он надевает куртку и одним ловким движением застегивается. Глядя на меня в упор, Томас говорит — вернее, приказывает:
— Больше сюда не приходи.
И выходит из аудитории.
***
Ночь бессонная и снежная. Я стою у балконной двери, прижавшись обнаженным телом к ледяному стеклу, и наблюдаю, как падает снег.
Мне жарко, очень жарко. Опустив голову, я замечаю, что внутренняя сторона бедер покрыта алыми брызгами, которые почти скрыли паутину голубых вен под светлой кожей. Из-за сочащейся из меня влаги бедра скользят друг об друга. Нарушив свое жесткое правило, я прикасаюсь к припухшим складкам между ног. В ответ на это прикосновение мышцы бедер вздрагивают. Ощущения незнакомые и невообразимо приятные. Кожа под пальцами кремово-влажная, гиперчувствительная, а каждая клетка словно умоляет о чем-то.
Ты ко мне неравнодушна.
Целый день я не могла думать ни о чем другом. Представив, как Томас еле слышно шепчет эти слова мне на ухо, я вздрагиваю.
Да, это правда.
Сама не понимаю, как так случилось, но я увлечена им. Знаю, что он женат. Знаю, что мудак. Грубый, наглый и вроде бы гениальный поэт — но, может, именно это меня в нем и притягивает. Я не хочу, чтобы он меня любил. И надежда на взаимность мне не нужна. Надежда убивает. Она мучительна. Того, что есть, мне более чем достаточно.
Поднимаясь из глубин, острейшая потребность в удовольствии проносится сквозь мое сердце, разум и все тело целиком. Между ног пульсирует и становится мокро, как и всякий раз, когда я смотрю порно. Я еще никогда не доводила себя до оргазма, потому что это ощущалось чем-то грязным, чем-то неправильным — посметь дать себе наслаждение. А после того, что сделала с Калебом, я не чувствовала себя заслуживающей наслаждения. Поэтому моим главным правилом было не трогать себя.
Но эту пульсацию игнорировать слишком тяжело. Она чересчур сильная. И чересчур убедительная. Живая. Словно моя вагина может дышать и имеет свою волю. Она заставляет меня прикоснуться к себе. Он заставляет меня прикоснуться к себе. Прикоснуться к клитору и истекающим влагой складкам. Сначала медленно. Я медленно и лениво рисую пальцами круги. Потом ускоряюсь — торопливые неистовые движения, от которых извиваюсь всем телом. Моя маленькая грудь сотрясается и дрожит, розовые соски стали твердыми, и я стискиваю их пальцами другой руки.
Это Томас заставляет меня играть с моим телом. Он мог бы положить сейчас свою смуглую руку поверх маленькой и светлой моей. Я марионетка, а он мой скрытый от глаз хозяин, держащий в руках нитки километровой длины.
— Томас, — шепчу я и в этот момент рассыпаюсь на куски. Я кончаю, думая о Томасе, о его горячности и о его стихах. Внутри тела все вибрирует, заставляя меня стонать, и, внезапно почувствовав чудовищную усталость, я прижимаюсь лбом к холодному стеклу.
Даже погрузившись в возбуждение, я понимаю, насколько все это неправильно, нездорово и неприемлемо. Но еще это освобождает. Этакий ритуал очищения, который хоронит мою прошлую страсть. Я двигаюсь дальше. Я — нормальная.
До этого существовала Лейла Робинсон, безумно влюбленная в сводного брата. А теперь я Лейла Робинсон, увлеченная своим профессором поэзии.
Я открываю балконную дверь. Ворвавшийся морозный ветер вздымает шторы. На разгоряченную кожу сыплются снежинки, охлаждая, потом замораживая и делая ее почти синей.
Раскинув руки в стороны, я смеюсь.
ГЛАВА ПЯТАЯ
— Я запала кое на кого, — с улыбкой говорю я Каре.
— Что-что?
— Запала. Ну, знаете, когда не перестаешь фантазировать о ком-нибудь.
— Да. Я знаю, что это такое, — улыбается она. — И кто этот парень?
— О, а вот сейчас будет самое идеальное во всем этом, внимание, — усмехаюсь я. — Он самый недосягаемый из всех.
Он мой преподаватель. Форменный мудак. Женатый. Это увлечение трижды обречено на провал.
Нахмурившись, Кара сплетает пальцы рук.
— Извини. Ты меня запутала.
— Как же вы не понимаете? — вскочив с кресла, я начинаю ходить по кабинету вперед-назад. — Это безнадежно, я это знаю, и у меня нет никакого желания ходить с ним на свидания. Вообще никакого. Я не жду, что он признается мне в любви, поскольку не хочу, чтобы он меня любил. Да он и не полюбит.
— Потому что недосягаемый? — уточняет Кара.
— Ага. Именно так, — со смехом я откидываюсь в кресле.
— Это… интересно. Похоже на отступление на несколько шагов назад, но интересно. А если все изменится? И если ты захочешь большего?
— Не захочу, потому что он как раковая опухоль, — от моей аналогии брови Кары приподнимаются. — И я знаю, чем закончатся наши с ним возможные отношения. Рак меня убьет, и мне больше не придется молить о спасении. Я просто… — вздохнув, пытаюсь облечь свои чувства в слова. — Он отвлекает меня от — ну, сами знаете, от Калеба. Благодаря ему я чувствую себя нормальной. И если могу фантазировать о ком-то еще, то это означает, что мысли о Калебе слабеют и постепенно исчезают, — я тяжело сглатываю, когда чувствую смесь грусти, страха и легкого восторга. — Именно этого я и хочу. Жить своей жизнью и не думать о Калебе днями напролет.
Остаток встречи проходит быстро. Кара рада, что я двигаюсь дальше, но в ее взгляде заметна настороженность. Хотя беспокоиться ей не о чем. Мое увлечение безобидно. Оно мне нужно, чтобы просто отвлечься.
После окончания я иду в «Кофе со сливками», чтобы получить очередную порцию кофеина, и там вижу Эмму. Она стоит возле стойки и расплачивается за большую кружку кофе, когда я подхожу к ней сзади.
— Привет, — она делает неуклюжий взмах рукой, и я отвечаю ей тем же. Эмма относится ко мне с прежней настороженностью, что мне совершенно не понятно, ведь опасаться ей нечего.
— Эмма, послушай, э-э-э… — из-за ее внимательного взгляда я начинаю запинаться. — Я не… знаю, как тебе это сказать, но — м-м-м, давай просто скажу, и все. В общем-то, я в курсе, что почему-то тебе не нравлюсь, но еще знаю, что тебе нравится Дилан, — округлив глаза, Эмма замирает и заметно краснеет. — Все хорошо, я не собираюсь осуждать или что-то в этом духе. Просто хочу поставить в известность, что тебе не стоит меня опасаться. Я даже в поле твоего зрения не должна была попасть.
Высказавшись, я шумно выдыхаю. В ответ на мою откровенность Эмма ошарашенно на меня смотрит, хочет что-то ответить, но меняет решение. Несколько секунд — и ей удается взять себя в руки.
— Я… не знаю, что и сказать. Даже не понимаю, о чем ты говоришь.
Отрицание. Этим я тоже раньше занималась.
— Все нормально. Не нужно ничего объяснять. Просто знай, что я неопасна.
В ответ она усмехается.
— Ну да.
— Так и есть.
— Ты богиня с фиолетовыми глазами.
— А?
Эмма грустно улыбается.
— Это Дилан так тебя называет. Он без ума от тебя. Вы ведь в прошлом семестре вместе ходили на историю? Так он рта не закрывал, вечно говорил, как ты ему нравишься.
— Что? — со смешком недоверчиво переспрашиваю я.
— Да ерунда. Ты не можешь нести ответственность за чужие чувства. Это я себя глупо веду.
— Но у него нет ко мне никаких чувств, — не похоже, что Эмма мне верит, поэтому я продолжаю: — Хочешь, я докажу?
— Что докажешь?
— Что я ему на самом деле не нравлюсь. Это просто невозможно. Ведь он меня не знает, а вот тебя — да. Поверь мне: Дилану нравишься именно ты.
Возможно, мои фиолетовые глаза и черные волосы Дилан считает привлекательными, но я ему не нравлюсь, нет — это слишком громко сказано. В Нью-Йорке я привыкла, что парней привлекает мое лицо — в конце концов, я похожа на свою мать, королеву красоты Верхнего Ист-Сайда, — но сама я им никогда не нравилась. Они видели лишь красивое лицо, и никогда — меня. Я всегда оставалась для них незамеченной.
Калеб был единственным, кто знал настоящую меня, но этого оказалось недостаточно.
В карих глазах Эммы вспыхивает надежда, и у меня сердце болит за нее. В своей безответной любви она — это я.
— Я так не думаю, — покачав головой, она отпивает кофе.
— Может, дашь хотя бы шанс доказать это тебе?
— Ну ладно. Давай.
— Договорились.
Слегка улыбнувшись друг другу, мы с ней начинаем что-то новое, как мне кажется. Между нами заключено шаткое перемирие. Я покупаю кофе, пока Эмма меня ждет, а потом вместе выходим на улицу. Она говорит, что хочет посмотреть одну квартиру в нескольких улицах отсюда, поскольку планирует съехать из общежития.
— Это было ужасно. Меньше комнаты у меня в жизни не было, даже когда ездила в Нью-Йорк, — с содроганием рассказывает она.
— А почему бы тебе не пожить у меня? — это настолько спонтанное решение, что даже я о нем не была в курсе, до тех пор пока слова не произнеслись сами собой.
— Что?
— Да, — киваю я. — Думаю, это отличная идея. Я живу недалеко отсюда, и у меня есть свободная комната, которую ты можешь занять.
— Я не… А ты уверена?
— Ага. Хочешь пойти посмотреть?
— Прямо сейчас? — резко остановившись, спрашивает Эмма. — Да! С удовольствием.
— Отлично, — широко улыбаюсь я.
Пять минут спустя я впускаю ее в свою башню. На первом этаже пахнет краской и новыми полами. При виде строительной техники Эмма приподнимает бровь, но ничего не говорит. Мы поднимаемся на лифте, а затем она входит за мной в квартиру.
Теперь, когда она здесь, я оглядываю пространство ее глазами, и мне становится стыдно. В квартире открытая планировка, и кухню с гостиной разделяет островок, сейчас заваленный коробками из-под пиццы и контейнерами из-под китайской еды. На укрытом пледом диване валяются пустые упаковки чипсов и моих любимых конфет Twizzlers. На журнальном столике стоит мой наполовину открытый ноутбук, а рядом стопка тетрадей.
Единственное, что тут есть хорошего, — это раздвижные двери на балкон на кухне.
Смущенно улыбнувшись, я веду Эмму в дополнительную спальню, расположенной слева от моей. В комнате совершенно пусто, и, если откровенно, это самое чистое место во всей квартире.
— Твоя будущая комната, — говорю я, почти съежившись от того, какие у Эммы могут быть мысли по поводу моих жилищных условий. Это такое странное чувство, сродни навязчивости и уязвимости, когда вы показываете кому-нибудь, как живете. Я уже начинаю сожалеть о своей идее.
Эмма заходит в комнату и обходит ее кругом, идет мимо шкафа и ванной и останавливается у окна с видом на Альберт-стрит и университетский парк. Я беспокойно топчусь на пороге. Убеждаю себя, что это не страшно, если она откажется, но с каких пор чей-то отказ мне внезапно стал не страшен?
— Мне очень нравится, — Эмма поворачивается ко мне и радостно улыбается.
— Правда?
— Да. Тут так просторно. И здание мне очень нравится. И расположение удобное, — тут она хмурится. — Но сколько стоит аренда этой квартиры? Не уверена, что смогу это себе позволить.
Я вхожу в комнату и небрежно машу рукой.
— Ой, об этом даже не беспокойся. Зданием владеет мой отчим.
— Ничего себе! Правда?
— Ага. Оно еще не подготовлено под сдачу в аренду, но для меня сделали исключение. Я называю его своей башней.
— Значит, поэтому дом выглядит так, будто стройка еще не завершена, — она понимающе кивает. — Ты богатая, да?
— Мои родители богатые. А мне, наверное, просто повезло, — я переминаюсь с ноги на ногу, чувствуя неловкость, когда Эмма ничего не отвечает. — А что насчет твоих родителей? Я имею в виду, у тебя с ними близкие отношения?
— Нет. Я не… Обычно я их не обсуждаю, — теперь ее черед смущаться, поэтому мне хочется успокоить Эмму и сказать, что мы не всегда ладим с людьми, которые произвели нас на свет, но она не дает мне это сделать: — Как бы то ни было, совсем ничего не платить я не могу. То есть бесплатно жить здесь я не стану.
Сделав глубокий вдох, я обдумываю варианты.
— Окей, а как тебе такая идея: ты можешь вносить вклад другим способом. Например, покупать продукты. Или готовить. На все это я не гожусь. Вечно забываю купить что-нибудь. К конфетам, правда, это не относится.
Прищурившись, Эмма размышляет.
— Ага, это я могу. Конечно, я не великий повар, но готовить мне нравится. Постоянно готовлю Дилану. Так что да, согласна.
— Значит, по рукам? Ты переедешь ко мне?
— Да, — смеется она и, удивив меня, крепко обнимает. — Спасибо-спасибо-спасибо! Поверить не могу, что наконец-то нашла нечто стоящее. Я сейчас так счастлива!
Стиснутая в объятиях, я сдавленно отвечаю:
— Это будет здорово.
— Да! — Эмма отодвигается, светясь радостью.
Потом еще раз обходит всю квартиру. И мы назначаем дату ее переезда: завтра.
— Я бы переехала и сегодня, но у нас вечер поэзии, так что вряд ли найду кого-нибудь помочь принести вещи.
— Вечер поэзии?
— Ах да, — Эмма качает головой. — Я и забыла, что ты новенькая. Каждую субботу мы встречаемся в баре «Алхимия», он недалеко от кампуса. Вечер неформальный. Читаем друг другу свои стихи. Иногда там проходят театральные постановки, но сегодня по расписанию поэзия, и я буду читать кое-что из своего. Приходи.
— Конечно.
***
Надев белую вязаную шапку, я кутаюсь в застегнутую до подбородка фиолетовую шубу. Под подошвами высоких сапог похрустывает гравий, когда я подхожу к «Алхимии» и открываю красную дверь.
Внутри — небольшое помещение с кирпичными стенами и сводчатыми, как в церкви, потолками. Под ними — деревянные балки, украшенные рождественскими гирляндами. Тут тепло и пахнет фруктами. И как и в «Лабиринте», все вибрирует энергией.
Я оглядываю висящие на стенах картины и макеты гитар, заключенные в рамки ноты и вырезки из газет, нарисованные силуэты танцующих людей и черно-белые фотографии писателей, о которых я узнала буквально неделю назад.
— Лейла! — среди всеобщего шума я слышу голос Эммы и, повернувшись, вижу, как она машет мне рукой рядом с баром. — Иди сюда!
— Привет! — я протискиваюсь к ней и улыбаюсь, увидев, что она осторожно держит в руках три стакана с напитками. Забираю у нее один, и мы лавируем между столиками.
— Народ, это Лейла, моя новая соседка по квартире, — когда мы подходим к столику, говорит Эмма. Здесь сидят два парня: один Дилан, а другого я не знаю.
— Привет, — помахав рукой, говорю я.
Оба машут мне в ответ, а парень представляется как Мэтт. Дилан встает и предлагает мне стул.
— Привет, Лейла. Очень рад, что ты пришла.
Теперь, когда Эмма призналась мне, что ей нравится Дилан, я начинаю особенно тщательно анализировать его поведение. Он и застенчивый, и болтливый одновременно. Очаровательно стеснительный. У него ко мне безобидное влечение, примерно такое же, как и у меня к Томасу — которое требует держать язык за зубами, развлекает ночными фантазиями и заставляет мое сумасшедшее сердце биться быстрее. Это чувство не похоже на легкость и комфорт. И оно не похоже на то, что он чувствует по отношению к Эмме.
Поняв, что сижу между двумя потенциальными влюбленными, тем не менее я не двигаюсь с места. Мне нужно доказать Эмме, что Дилан к ней неровно дышит.
Наклонившись к Дилану, я спрашиваю:
— Как вы, парни, умудрились заказать себе алкоголь? Вы ведь несовершеннолетние.
Дилан с усилием сглатывает, когда я кокетливо ему улыбаюсь. А Эмма напрягается всем телом. Надеюсь, она мне доверяет.
— Это, в общем-то, бутафория. Во время вечеров «Лабиринта» здесь не подают алкоголь.
— И что же ты в итоге пьешь? — схватив его стакан, я делаю глоток.
У Дилана от удивления едва челюсть не падает, но потом он закрывает рот и неловко покашливает.
— Это Хемингуэй… с безалкогольным мартини.
— Какая скукота, — я картинно хлопаю ресницами, и Дилан едва не захлебывается своим напитком. Сжалившись над ним, я поворачиваюсь к Эмме. Ей что-то говорит Мэтт, но я знаю, что она не слушает. Все внимание Эммы сосредоточено на происходящем между мной и любовью ее жизни.
Я пихаю подругу локтем.
— Давай прогуляемся к бару.
И, не дожидаясь ее согласия, встаю. Ни капли не сомневаюсь, что она пойдет за мной. Мы подходим к бару, и, выбрав из меню какой-то фиолетовый коктейль, я облокачиваюсь спиной на деревянную стойку.
— Слушай мой план, — говорю я ей. Эмма выглядит грустной. — И взбодрись немного. Я готова доказать, что ты неправа.
— Флиртуя с ним?
— Да, но не только.
— Знаешь, наверное, я лучше пойду…
— Ты можешь просто расслабиться? Я попросила тебя довериться, — когда я многозначительно смотрю на нее, Эмма кивает. — Хорошо. Мне нужно, чтобы ты пофлиртовала с Мэттом. Хотя бы просто поговори с ним. Я буду отвлекать Дилана и готова поспорить на что угодно: в итоге он станет ревновать, да еще и разозлится на меня.
— Я не… — она мотает головой.
— Ну давай. Это будет весело. Да и потом, ему будет полезно побывать хотя бы немного в твоей шкуре.
Сморщив нос, Эмма обдумывает мои слова. Мне подают коктейль, и я делаю глоток.
— Тебе не кажется, что это… похоже на месть?
— Кажется. Но если ты ничего не сделаешь, Дилан так никогда и не поймет, что ты ему нравишься и что ему тебя, великолепной, очень не хватает. Так что да, пусть будет месть, — Эмма смеется, и я веду ее к нашему столику. — Считай это одолжением ему, ладно?
— Ладно.
На середине пути мои ноги замирают. Я чувствую, как внутри меня словно оживает, разливается по груди, животу и с сильной пульсацией петлями оборачивается вокруг позвоночника. Бросаю взгляд на входную дверь и вижу его.
Томаса. Профессора Абрамса. Объекта моего увлечения.
Наверное, я деградировала и превратилась в одну из тех рано созревших школьниц, которые хихикают и сплетничают про своих симпатичных учителей. Но в те времена я не обращала внимания ни на никого, кроме Калеба. Мне и в голову не приходило посмотреть по сторонам или начать жить своей жизнью.
Сейчас же я к этому готова. И мне необходимо вернуть себе контроль. Я хочу жить нормальной жизнью. Забавно, что безответная любовь, которая однажды меня уничтожила, теперь будет держать боль под контролем.
Широкими шагами Томас идет в сторону противоположной части бара и останавливается рядом с каким-то мужчиной, ниже его ростом и одетым более формально.
Я торопливо возвращаюсь к столику и сажусь. Эмма осуждающе смотрит на меня, и я одними губами отвечаю ей: «Извини». После чего возвращаюсь к флирту с Диланом, в то время как она болтает с Мэттом.
Парочка из нас с Диланом получилась так себе. Разговаривая друг с другом, мы остаемся вниманием в другом месте. Он поглядывает в сторону Эммы, которая, словно повысив ставки, теперь смеется в ответ на все, что бы ни сказал Мэтт. Тактика, конечно, оригинальностью не отличающаяся, но я так сильно ею горжусь, что с трудом слежу за выражением своего лица.
Сама же вопреки желаниям краем глаза слежу за Томасом. Высокий и худощавый, он стоит прислонившись к дальней от столиков и толпы стене. Мой профессор снял куртку, и ткань черной футболки натягивается на выпуклых мышцах груди, когда он проводит рукой по волосам. Неспешными глотками пьет пиво из бутылки и еле заметно улыбается стоящему рядом с ним невысокому мужчине, пока тот о чем-то рассказывает.
Когда Эмма заливается громким смехом, Дилан наконец прекращает притворяться, будто разговаривает со мной.
— И что тут смешного? — ворчит он, а я не могу сдержать смешок.
Интуиция меня не подвела. Дилан такой кретин. Покачав головой, я украдкой смотрю на Томаса. На этот раз наши взгляды встречаются. Голубое пламя пронзает меня сквозь разделяющее нас пространство, и я замираю. Держу зубами соломинку, но не делаю ни глотка. Даже дышать перестаю.
Он нашел меня.
Эта мысль звучит в моей голове снова и снова, даже когда Томас отводит взгляд и поворачивается к сцене. Что-то подсказывает мне, что мой профессор обо мне думает; по движениям мышц его челюсти я понимаю, что он сжимает зубы.
Томас меня ненавидит.
У меня на губах расцветает улыбка. Мне нравится, что он меня ненавидит. Видишь, Безнадежное? Такая безнадежность меня еще никогда не привлекала.
Я поворачиваюсь на звук включенного микрофона и вижу, что на сцене стоит друг Томаса. Он объявляет о вечере поэзии и представляет нам Эмму.
Когда та встает и идет к сцене с листком бумаги в руке, я желаю ей удачи.
— Спасибо, профессор Мастерс, за приятные слова, — со смехом говорит взволнованная и покрасневшая Эмма. — И спасибо всем, кто пригласил меня сюда. Я хочу прочитать кое-что, написанное уже давно. Стихотворение называется «Ты». Надеюсь, вам понравится.
Бросив взгляд на лист бумаги, Эмма складывает его и убирает в карман. Потом смотрит на сидящего рядом со мной Дилана. Уверенным и чистым голосом она начинает читать наизусть. Слова ее стихотворения просты, но наполнены тоской.
В течение всего повествования Эмма не отводит взгляд от Дилана, давая ему понять, что эти слова — воплощение любви, которую она к нему испытывает. Это так прекрасно, что впервые в жизни я чувствую, будто сделала что-то правильное. Соединила их, сделала обоих звездами на этом представлении. Разве есть человек, не желающий быть звездой? Об этом все мечтают — оказаться в центре внимания.
До присутствующих начинает доходить, что именно происходит. Они смотрят на их лица: изумленное Дилана и раскрасневшееся Эммы. От созерцания этого момента, этой разворачивающейся прямо передо мной истории любви, у меня на глаза наворачиваются слезы.
Так вот, значит, как выглядит взаимная любовь.
Сверкающая улыбками. И со слезами на глазах.
Мы тоже так хотим.
Но ничего подобного у меня никогда не будет.
ГЛАВА ШЕСТАЯ
К окончанию стихотворения я замечаю, что Томас куда-то ушел. Смотрю по сторонам, но не нахожу его. Я подскакиваю со своего места, пока не стихли аплодисменты — посреди шумихи мой уход никто не заметит.
В коридоре у стен стоят люди — кто-то прижавшись к своей половинке, кто-то в ожидании очереди в туалет. Тусклый свет придает помещению интимности и подстрекает к недозволенным в другом месте прикосновениям и глубоким поцелуям.
Томас мог пойти в туалет или вовсе уйти, но тут мой взгляд натыкается на покрытую ржавчиной коричневую дверь с табличкой «Выход». Она приоткрыта, и оттуда тянет холодом. Толкнув дверь, я выхожу в темный холодный переулок. У противоположной стены стоят мусорные контейнеры.
Холодный колючий воздух щиплет мой лоб и нос, и я чихаю. А потом еще раз. Поскользнувшись на покрытом ледяной коркой асфальте, я пусть и с трудом, но умудряюсь устоять на ногах.
— Да блядь! — восклицаю я и поправляю свою шубу, шарф и шапку.
— Кажется, выражаться тебе еще по возрасту рановато.
Охнув, я узнаю этот низкий голос. Томас отходит на шаг от пожарной лестницы и выдыхает колечки дыма. В желтом свете фонарей его лицо почти мерцает. Мое опьяненное влечением сердце подпрыгивает в груди и начинает колотиться с бешеной скоростью.
Он не надел куртку, и закатанные до локтя рукава открывают его увитые венами и усеянные волосками предплечья. Почему я так реагирую на его руки? От них трудно взгляд отвести. Не могу перестать фантазировать о том, каким может быть прикосновение Томаса. Словно дождавшись вида его магических пальцев, моя похоть напоминает о той ночи в темной квартире — как я стояла у балконной двери, наблюдала за падающим снегом и играла с собой.
— Уже можешь перестать таращиться, — затянувшись, Томас выдыхает облачко дыма.
— Я не таращилась, — вру я.
— Ну конечно.
Прислонившись к влажной стене, Томас скрещивает руки на груди, осторожно держа горящий кончик сигареты подальше от тела. Будто фейерверки, пылающие оранжевые искорки падают на обледеневшую землю. Я почти жалею, что не увидела, как он боролся с желанием закурить. Как его гнев сменился поражением — увлекательное зрелище.
Сама того не осознавая, я подхожу ближе, улавливаю легкий аромат шоколада и выхватываю у него сигарету. Сделав затяжку, едва сдерживаю рвущийся наружу стон.
— Вы правы. Я таращилась, — сознаюсь я и выдыхаю дым. — Но только потому, что у вас есть вот это.
Действие никотина мгновенно — он превращает меня в жидкость. Раз за разом, затяжка за затяжкой, словно растворяет мой мозг. Я чувствую себя смелой и непобедимой. Или же это мое безнадежное влечение к Томасу заставляет чувствовать себя сегодня почти бессмертной.
— Воровство — это грех, — говорит он мне.
— А я и не ворую, — улыбаюсь я. — Просто взяла на время. И не волнуйтесь, я беру на время только то, от чего кайфую.
Томас качает головой и почесывает подбородок.
— Ты, наверное, прогуляла школу в тот день, когда говорили, что курение вызывает рак.
Я смеюсь. Его слова вызывают в памяти мою аналогию, которой я делилась на днях Каре. Снова смотрю на его мерцающее лицо. Он моя личная луна — недостижимый и позволяющий восхищаться собой издалека. И он моя раковая опухоль, медленно меня убивающая. Я и не возражаю.
— Я не боюсь умереть, — выбалтываю я ему свои мысли и снова затягиваюсь. Томас смотрит на меня с незнакомым блеском в глазах, который мне не понять, как бы я того ни хотела. Хорошо, пусть это останется тайной; тайна не сможет навредить. — И потом, скорее всего, я и вправду могла прогулять в тот день. Я не из тех, кто посещает занятия без пропусков.
— А на кого ты похожа?
— Не знаю. На кого-то плохого. Я бросала школу. Не делала домашние задания. Учителя считали меня сущим кошмаром.
— Ты считаешь, все это уместно рассказывать своему профессору?
Томас стоит засунув руки в карманы и скрестив ноги. На нем черные зимние ботинки с серой подошвой; их брутальный вид заставляет меня улыбнуться.
— Но ведь сейчас вы не мой профессор. А я не ваша студентка. Я просто нарушительница.
— На твоем месте я был бы поосторожнее. С нарушителями правил часто случается что-нибудь нехорошее, — говорит он таким голосом, от которого пропадает мой собственный.
На губах у Томаса появляется сдержанная улыбка, в то время как он окидывает взглядом мое лицо. Я краснею, а по коже бегут мурашки. Он стал единственной точкой моего внимания. Вобрал в себя все грани моего мира, и все, что я сейчас вижу, — это его растрепанные ветром волосы и точеные черты лица. Я так поглощена им, что не сразу заметила, как он забрал у меня сигарету.
— Как бы сильно меня ни раздражала, я все же не хочу, чтобы ты заработала себе рак от моей сигареты, — говорит Томас, после чего делает затяжку.
— Ну и ладно. Подумаешь, — ворчу я. — Кстати, что вы делаете здесь на холоде, да еще без куртки? Разве вы не пропустите стихотворения своих студентов?
Он искоса на меня смотрит.
— Одежды на тебе хватит на двоих, и, кстати, хочу задать тебе такой же вопрос.
— Захотелось подышать свежим воздухом.
Зажав сигарету в зубах, Томас бросает на меня многозначительный взгляд. Его глаза говорят сейчас то же, что и на прошлой неделе он произнес вслух: «Ты ко мне неравнодушна».
По примеру Томаса тоже отвечаю взглядом. Склонив голову набок, я прищуриваюсь: «А не много ли ты о себе возомнил?»
Его смешок легкий и тихий.
— Да, мне тоже. Но потом вышла ты и все испортила.
— Вы такой общительный и доброжелательный, — я качаю головой. — Зачем взялись за эту работу, если так ненавидите и ее, и студентов?
— Не только студентов. Я терпеть не могу всех людей, — отвечает Томас. — Но работать-то все равно нужно, правильно?
— Вообще-то, я так не думаю. Разве вы не выдающийся и всячески премированный поэт? Разве не должны сейчас работать над новой книгой? Пьяный, взаперти, с отросшей бородой, или что-то вроде того.
— Уверена, что описываешь поэта, а не свои жизненные цели?
— У меня не вырастет борода. Я девушка, если вы еще не заметили.
В его поведении что-то меняется. Не знаю, что именно, но Томас словно с большей остротой ощущает мое присутствие. Как будто я прикоснулась к нему, не тронув и пальцем. От этого в моем теле оживает каждое нервное окончание.
— Как раз заметил, — бормочет он.
Такое чувство, будто он так же, не касаясь на самом деле, прикоснулся и ко мне, поскольку по коже проносится горячий электрический разряд, вызывающий волны дрожи. Я плотнее кутаюсь в шубу и потираю предплечья в попытке прогнать это ощущение.
Когда Томас бросает выкуренную сигарету и тушит ее носком ботинка, зимний ветер еще больше запутывает его черные волосы.
— Наверное, тебе пора возвращаться. Бойфренд ждет.
— Какой еще бойфренд?
— У которого ты отпила из стакана.
Мне требуется целая секунда, чтобы понять, о чем он говорит.
— О, вы про Дилана? — хихикаю я. — Тоже попались? Я и не знала, что настолько талантлива. Просто пыталась кое-кому кое-что доказать.
— И что именно?
— Что любовь не всегда без взаимности.
— Что ты знаешь про любовь без взаимности?
— Больше, чем вам кажется.
— Да неужели? Тебя бросил парень перед выпускным? Или — дай я угадаю — не позвонил после свидания? Разве не так выглядят истории любви в старших классах?
Внутри меня закипает обжигающая ярость. Как так происходит, что за считанные минуты рядом с Томасом я испытываю такой широкий диапазон эмоций? Почему в его присутствии я чувствую множество всего — пока не появляется ощущение, что вот-вот взорвусь? И меня совершенно ничего не пугает: ни его грубость, ни едкие комментарии. Я хочу дать ему так же много, как и получаю.
— Я понимаю, вам кажется, будто вы во всем разобрались, но это не значит, что нужно быть мудаком. И что, разве люди не могут любить, учась в школе? Вы это мне хотите сказать? Что возраст как-то связан с любовью? — я качаю головой. — Господи, ну и ограниченность.
— Считаешь, я во всем разобрался?
— А что, нет? Просто взгляните на себя. Люди постоянно говорят о том, какой вы гений. Все в классе хотят с вами поговорить, но время вы им не выделяете. Вы женаты, и я предполагаю, по любви, тогда что в таком случае вы знаете о ее безответной версии?
Я ненавижу его. Очень сильно. Ненавижу, что у него есть все. Что он обесценивает мои чувства к Калебу, хотя не понимает этого. Я ненавижу, что он самый счастливый человек на свете.
Но если это так, почему Томас таким не кажется?
Почему линии вокруг его рта такие резкие и глубокие? Почему у него взгляд человека, разбитого горем? Томас постоянно сжимает кулаки, и все его тело словно сворачивается внутрь.
— И правда. Какого хрена я знаю о безответной любви? — невесело улыбнувшись, говорит он.
О боже, я сказала что-то не так? У него какие-то проблемы в браке?
Я не понаслышке знаю, что в семье не всегда бывает только чистая радость или только сплошное горе. Моя мама сейчас замужем в третий раз. За все эти годы я поняла, что ее браки были просто удобными. Без страсти и любви. И они были обречены на провал.
Но я отказываюсь допускать подобное о Томасе. Не могу себе представить, что этот страстный угрюмый поэт может не быть влюбленным в свою жену. А ведь любви должно быть достаточно, разве не так? Ведь если нет, то что еще священного останется в этом огромном и невеселом мире?
А потом я кое-что вспоминаю.
— Подождите, получается, вы заметили? Из другого конца бара заметили, как я отпила из стакана того парня? То есть вы…
— То есть я что? Следил я за тобой? — Томас пронзает меня своим взглядом насквозь — таким мощным и таким серьезным.
— Да? Следил? — я облизываю сухие потрескавшиеся губы. Мне показалось, или он подошел ближе?
Наклонив голову, Томас ловит мой растерянный взгляд, и момент становится еще более интимным.
— Да, — немного протяжно и с ленцой говорит он. — Следил. Вообще-то, я не могу перестать наблюдать за тобой.
Как мы дошли до такого? Как от взаимных оскорблений и моей ненависти перешли к этому… разговору. Мое тело погрузилось в странное состояние, паникуя и возбуждаясь одновременно. По спине течет струйка пота, а внизу живота становится горячо.
— Что… — слова будто высыхают на языке. Я не в состоянии уложить это в голове — что Томас наблюдает за мной и что это случилось уже дважды: сейчас и в книжном магазине. В груди бушует опасная смесь чувств. Все распознать я вряд ли смогу, но среди прочего отчетливо ощущаю страх.
Томас усмехается.
— Подростки. Терпеть не могу поганых подростков, — бормочет он себе под нос. — Видела бы ты свое лицо.
Взбешенная, я рычу. Да он издевается, мать его!
Я снова издаю рык. Мы его ненавидим, говорит мое рассерженное сердце. Еще как ненавидим, соглашаюсь с ним я.
Насмешливый взгляд Томаса бесит еще больше. Глубоко вздохнув и не прерывая зрительный контакт, я наступаю ему на ногу. Изо всех сил.
Но он даже не вздрагивает. Мудак.
— Как вам такое для подростка? — звук моего тяжелого дыхания эхом распространяется вокруг нас. Отчасти я понимаю, что не должна была так делать. Поэтому мама и отправила меня на терапию. Мой самоконтроль стремится к нулю.
— Я бы сказал, это больше похоже на начальную школу, но откуда мне знать, чем заняты дети в наши дни? — я все еще под впечатлением от сделанного, и Томас пользуется моментом, чтобы добавить: — Кстати, ты дерешься, как девчонка.
— Я и есть девчонка, — сквозь зубы отвечаю я. — И я не дралась. Я наступила на ногу.
— Это в любом случае можно расценивать как нападение на учителя, не меньше, — я чувствую, как гудит в его груди, когда он говорит, и тут же понимаю, насколько близко к нему стою.
Оно твердое, его тело, теплое и живое. Ничего подобного я раньше никогда не чувствовала, что не совсем правда, ведь я уже ощущала рядом с собой мужское тело — в ночь, когда мы с Калебом занимались сексом. Но почему сейчас все это ощущается совсем по-другому?
Нужно отойти на шаг. Я понимаю это, но сделать ничего не могу. Мой гнев медленно сочится из пор тела, а что-то незнакомое заполняет образовавшуюся пустоту. В то время как моя не желающая следовать правилам нога наощупь ищет его. А найдя, слегка пинает.
— Вы больше не мой учитель, помните?
Томас смотрит на наши ноги — заостренный носок моего сапога упирается в закругленный носок его ботинка. Это так по-детски и ровным счетом ничего не значит, но мне нравится, как наши ноги смотрятся на припорошенной снегом земле. Одновременно мы поднимаем голову и, тяжело сглотнув, оба приоткрываем рот, выдыхая облачка пара.
Прежде чем успеваю понять, что происходит, раздается громкий скрип двери, и я делаю шаг назад.
— Томас. Так и знала, что найду тебя здесь, — это какая-то женщина, стройная, невысокого роста, со светлыми волосами и со стрижкой боб.
— Сара. Хочешь к нам присоединиться?
Ее проницательный взгляд перемещается с Томаса на меня, и я чувствую беспокойство, будто меня застукали. Будто я сделала что-то недозволенное.
— Нет, спасибо. Я…
— Уверена? А то мы тут ведем просветительскую беседу о гендерных ролях. Действительно ли девушки дерутся, как девчонки, или же это всего лишь созданный современной литературой стереотип?
Я икаю, когда Томас так запросто упоминает о том, что я наступила ему на ногу. Стараюсь держать выражение лица нейтральным, но знаю, что покраснела. Надеюсь, тусклый свет это скроет.
— Уверена, что это очень увлекательно, — с подозрением в голосе отвечает она. — Но ты нужен внутри.
Томас улыбается, но я замечаю, что он не рад.
— И кому это я понадобился? Тебе? Я думал, этот день никогда не наступит.
Сара напряженно улыбается в ответ. Очевидно, что эти двое друг друга недолюбливают.
— Мне нравятся твои шутки, Томас, но сомневаюсь, что профессору Мастерсу приятно тебя ждать. Он хочет всем представить наше звездное пополнение в преподавательском составе.
— Хорошо, я сейчас приду.
Кивнув, Сара собирается уходить, но потом останавливается. Когда смотрит на меня, я, съежившись, плотней запахиваю шубу.
— Ты новенькая? Я тебя еще не видела на этих вечерах.
— Э-э, да. Новенькая. Я Лейла Робинсон.
Она кивает.
— А я Сара Тернер. Если тебе понадобится помощь с гендерными ролями в литературе, найди меня. Это одна из моих специализаций.
Она смотрит на Томаса, а потом опять на меня. Ее взгляд я никак истолковать не могу, но все же чувствую: здесь что-то не так. В последний раз взглянув на нас, Сара уходит, а я наконец снова могу дышать.
— Кто она?
Пожав плечами, Томас достает из кармана телефон.
— Никто, — он что-то быстро печатает. А закончив, идет по направлению к главной улице.
— Вы уходите? — спрашиваю я.
— Похоже на то, — не оборачиваясь, отвечает он.
— Но разве вам не нужно обратно в клуб?
— Наверное, но я не хочу.
Он продолжает идти, и я бегу вслед за ним.
— Но почему? — черт, я слишком настаиваю — сама не понимаю, почему.
Остановившись, Томас поворачивается ко мне. Ночь темная, а освещение просто ужасное, поэтому разглядеть выражение его лица я разглядеть не могу, но готова предположить, что Томасу не нравится, когда его донимают расспросами.
— Потому что уже почти полночь, и если я останусь, то превращусь в жабу, а мне слишком нравится мой наряд, чтобы рисковать.
Повернувшись было, чтобы уйти, он снова останавливается. Не поворачивая головы, Томас говорит:
— И не думайте, будто я забыл, мисс Робинсон — ко мне в класс больше не приходите.
ГЛАВА СЕДЬМАЯ
На следующий день ко мне переезжает Эмма, и с помощью Дилана и Мэтта все проходит гладко. Двое влюбленных постоянно обмениваются обжигающими взглядами, — большего счастья мне и не надо. Оказывается, что после моего вчерашнего ухода они обнимались, целовались и всю ночь провели в разговорах о своих чувствах.
На обед мы заказываем пиццу и обсуждаем поэзию. Я спрашиваю про Сару Тернер, и Эмма говорит, что та нацелилась на должность Томаса. И что уже была договоренность, как вдруг Джейк Мастерс, декан факультета литературного творчества, привел Томаса, чтобы заинтересовать побольше студентов, чем спровоцировал неприязнь Сары. Не говоря уже о том, что Джейк с Томасом знакомы с колледжа, и, естественно, Саре это не нравится.
День получился веселым, за исключением одного напряженного телефонного разговора Эммы с мамой. Чтобы поговорить, она ушла к себе в комнату, поэтому мне не было слышно, о чем они спорили. Но потом Дилан ее успокоил, и все снова стало в порядке.
Дилан, Эмма и Мэтт легко приняли меня в свой круг. За исключением нескольких неловких моментов, когда Дилан с Эммой поглядывают друг на друга, все было просто прекрасно — настолько прекрасно, что, кажется, Мэтт стал моим любимчиком, поскольку тоже любит Twizzlers. Слопав пачку на двоих, мы долго спорили о питательной ценности конфет в противовес дерьмовой еде, вроде яблок или зелени. В итоге я понимаю, что действительно хочу, чтобы нас связывали эти хрупкие узы дружбы. Одиночество больше не кажется подходящим вариантом. Все изменилось в день, когда я вошла в дверь «Лабиринта».
***
После ухода Дилана с Мэтта Эмма предлагает прогуляться и выпить кофе. Ни от первого предложения, ни от второго я отказаться не могу, поэтому надеваю на себя гору зимней одежды, и мы выходим в тихий воскресный день.
На улице слякотно, повсюду ледяная каша. Снег не шел с начала семестра, поэтому воздух ощущается пропитанным его ожиданием. Мы проходим мимо соседних зданий, меньших, чем тот, в котором живем. Сначала салон красоты, потом продуктовый магазин, после чего появляется «Кофе со сливками». Едва входим внутрь, как нас окутывают ароматы кофе и шоколада.
Но не только. Воздух заряжен чем-то еще, и я мгновенно понимаю причину. Томас. Вон он, стоит у стойки и расплачивается за кофе. Он такой высокий, что ему приходится наклоняться, чтобы разговаривать с бариста. Отсчитав купюры, Томас с рассеянной улыбкой протягивает их парню.
Вчера вечером я снова была его марионеткой и снова играла с собой. На этот раз делала это в темноте. От этого связующие нас нити стали еще сильнее натянутыми и начали казаться более реальными. А я стала смелой и распутной. Можно сказать, преступницей. На этот раз я погрузилась пальцами внутрь и скользнула глубоко. Я ощущала свое тело изнутри и снаружи. Оно было теплым на ощупь, мягким и бархатистым, сочащимся влагой и издающим звуки. Я слушала эти звуки, которые издавала моя вагина — жадная и похотливая. Никогда в жизни я не была так близко знакома с этой часть своего тела. Это ощущалось потрясающе и постыдно. Я нежилась в собственном возбуждении, до тех пор пока на фиолетовые простыни не пролились капли моего удовольствия. Хватая ртом воздух, я корчилась на кровати, не в силах контролировать поведение собственного тела. Было страшно и дико эротично.
— Эй, ты идешь? — зовет меня Эмма, вытащив меня из вызванного воспоминаниями транса.
В пустом кафе ее голос хорошо слышен, поэтому привлек внимание Томаса. Его расслабленная поза в мгновение ока меняется: сжав челюсть, он сразу стал настороже. Его реакция так предсказуема, а неприязнь настолько велика, что я прикусываю губу, чтобы не улыбнуться.
Но моя улыбка исчезает, когда замечаю, что Томас не один. В нескольких шагах позади него стоит женщина в белом свободном свитере и розовом пальто из мягкой ткани. У нее светлые и гладкие волосы, а на лоб падают неровные пряди челки. Женщина миниатюрная, ниже, чем я со своим ростом 1,67 м, и гораздо стройнее.
Хотя до этого ее ни разу не видела, я тут же понимаю, кто это. Она жена Томаса.
Такая красивая. Просто идеальная. И почти эфемерная. Будто мягкое перо или мыльная пена. У нее шелковистая кожа и естественно-розовые губы. Она выглядит абсолютной моей противоположностью. Застенчивая, тихая и хорошо воспитанная.
Тоже их увидев, Эмма направляется к ним.
— Добрый день, профессор Абрамс. Рада встрече.
— Да. Взаимно, — без особого энтузиазма отвечает он.
С вежливой улыбкой Эмма представляется его жене.
— М-м-м, здравствуйте. Я Эмма Уокер, а это Лейла Робинсон. Мы учимся у профессора Абрамса.
— Здравствуйте! Я Хэдли, — с легкой улыбкой отвечает она. Ее голос… Я даже не могу его описать. Тишайший из всех звуков и такой… мелодичный.
Не сомневаюсь, что Томас влюбился в нее с первого взгляда. Да разве можно устоять? Она вдохновляет на поклонение и преданность.
В груди что-то сжимается, будто сердце уменьшается в размере. Мне хочется узнать, что же нужно сделать, чтобы меня полюбили. Быть может, стать менее сумасшедшей или менее эгоистичной, или менее… поломанной.
Когда взгляд золотистых глаз Хэдли обращается ко мне, я с усилием сглатываю и пытаюсь улыбнуться. Мне стыдно. Подобное чувство я испытала и вчера, когда появилась Сара. Хочется спрятаться за спиной у Эммы. Мое безобидное увлечение перестало быть таковым.
Подойдя ближе к Хэдли, Томас с неохотой присоединяется к взаимным приветствиям.
— Да, это моя жена, а вот этот парень — Ники, Николас, наш сын.
Он только что сказал «сын»? Сын…
У него есть ребенок. Томас отец.
Все становится хуже с каждой минутой. Давай спрячемся, пищит мое ошалелое сердце. Я мастурбировала с мыслями о мужчине, у которого есть ребенок.
Ребенок, от которого я не могу глаз оторвать.
У малыша голубые глаза, темные волосы и розовые щечки. Сидя в коляске, он дергает ножкой и гулит, прижав ко рту пухлый кулачок. На нем черно-белая шапочка, шарф и дутый фиолетовый жилет. Он носит одежду моего любимого цвета!
— Боже мой, какой милый, — говорит Эмма и садится на корточки. — И такой маленький. Сколько ему?
— На следующей неделе будет шесть месяцев, — отвечает Томас.
Он с такой гордостью смотрит на Ники, с такой нежностью. Подобного выражения лица я у него никогда не видела. Оно смягчает черты и немного тушит его по обыкновению горящий взгляд. Томас выглядит таким молодым и счастливым. Он с нежностью проводит кончиками пальцев по голове Ники.
А вот Хэдли… Возможно, дело в игре ярких солнечных лучей, но, клянусь, когда она смотрит на Ники, я замечаю на ее лице… опаску. Уголки ее мягких розовых губ опускаются, а под глазами появляются мешки. Ее реакция мне непонятна. Хэдли резко отводит взгляд, будто больше не может смотреть на сына или мужа.
Отбросив глупую мысль в сторону, я поворачиваюсь к Эмме. Та играет с Ники — пытается сделать так, чтобы он схватил ее за палец, но малыш не хочет. Сев рядом с ней, я улыбаюсь ему, и он тут же смотрит на меня.
Его голубые глаза совсем как у его папы. Я машу ему пальцем.
— Привет, Ники. Я Лейла, — мальчик ерзает и пускает слюну. — Мне нравится твой жилет. Он фиолетовый, — я улыбаюсь, и в ответ он расплывается в беззубой улыбке. — А ты знаешь, что фиолетовый цвет — мой любимый? Я его обожаю. Смотри! — я показываю на свою шубу, и он послушно смотрит, по-прежнему пожевывая кулачок. — Я тоже надела фиолетовый, хоть и другого оттенка. Но знаешь, фиолетовый в любом случае самый красивый.
Ники хихикает, будто понимает. Усмехнувшись, я снова машу пальцем, на этот раз близко от его носика пуговкой. Малыш тут же хватает меня за палец своей мокрой ладошкой и сияет от восторга.
Я делаю губами «О», и он повторяет за мной, и ниточка слюны спускается ему на подбородок.
— Ты меня поймал!
— Почему он меня не схватил за палец? — шепотом спрашивает Эмма.
— Потому что я гораздо круче тебя.
Мы обе встаем, но я не спешу поднять взгляд и задерживаюсь им на ботинках Томаса. Такие же — черные с серой подошвой — были на нем и в тот вечер. Носками они повернуты сейчас в сторону бордовых сапог Хэдли на низком каблуке, а ее смотрят на дверь. Я вспоминаю носки нашей с Томасом обуви, показывающих друг на друга.
А в том, что их стопы указывают в разные стороны, я вижу нечто неправильное. Это вызывает у меня плохое предчувствие.
Кожу головы, шею и позвоночник горячо покалывает. Я знаю, Томас смотрит на меня сейчас своими великолепными глазами. Внутренне сжавшись, я поднимаю голову и встречаюсь с ним взглядом. На миллисекунду между нами устанавливается связь, и я тут же все понимаю. Понимаю, что скрывается в глубине его глаз. Понимаю резкость его черт, мне становится ясен каждый момент поджатых губ и пульсирующих вен.
Я понимаю все. Почему он не выглядит самым счастливым на свете.
До меня даже доходит смысл стихов Томаса. «Анестезия» — про одиночество, разбитое сердце и безответную любовь. Эти стихи про него, про меня и про таких людей, как мы.
От этого ужасающего понимания мое сердце колотится быстрей.
И в этот момент Ники что-то бормочет и хнычет. Его пухлые щечки подрагивают, когда он засовывает в рот свои пальчики. Печаль этого малыша причиняет мне боль, хотя я познакомилась с ним всего несколько минут назад.
Эмма смотрит вниз и хмурится.
— Ой, нет, ему, наверное, нужно к мамочке.
Готова поклясться, что Хэдли вздрогнула. Что происходит?
Томас тоже это замечает и больше не может стоять спокойно. Поставив кружку на стойку, он наклоняется и берет Ники на руки. Прижимает его к груди и, поддерживая головку, начинает укачивать. Его движения ловкие и опытные.
— Думаю, нам пора. Тем более уже время кормить Ники, — говорит Томас.
Мы прощаемся, и Томас с Хэдли уходят. Пока Эмма заказывает кофе, я наблюдаю, как на расстоянии друг от друга они идут по Альберт-стрит. Томас толкает впереди себя коляску, а Хэдли кутается в пальто и постоянно убирает светлые волосы за уши. Когда поскальзывается на ледяной корке, Томас подается в ее сторону, чтобы поддержать, но в последнюю секунду она уворачивается и выпрямляется. Хэдли продолжает идти, будто ничего не произошло, а Томас остается чуть позади.
С замиранием сердца я понимаю, что Томас похож на меня. Он безответно влюбленный.
***
В течение нескольких последних недель моими ночами завладел Томас. Я думала только о нем, но сегодня все иначе. Сегодня в мои мысли вторгся Калеб. Те пугающие, не оставляющие возможности нормально вдохнуть, связывающие в узел душу чувства, которые я к нему испытываю, словно вырвались наружу.
В памяти всплывают фиолетовые цветы, стоящие на подоконнике в том странном доме, где меня оставил Калеб.
Большую часть дней я не вспоминаю об этих цветах, но сегодня не думать о них просто не могу. Не могу не думать о том, какие красивые они были и как мне не хотелось их видеть, ведь тогда я была разбита горем. Я ненавидела эти цветы за то, какие они были манящие и нежные. И прямо сейчас моя боль умножается в тысячу раз, как будто мне грустно не только за себя, но и за кого-то другого.
Томас Абрамс для меня больше не тайна. Он всего лишь безответно влюбленный мужчина. Это разрушает все додуманное о нем и разбивает мое сердце на миллионы частей. Взяв его книгу, я еще раз читаю стихотворение. Будто языком зализываю раны на его сердце и душе.
Теперь, когда я знаю тайну Томаса, влечение к нему должно исчезнуть… но нет, оно по-прежнему живо. Из-за этого мне хочется бежать, бежать, бежать, до тех пор пока я не найду его и не спрошу: «На что похоже это чувство? Ты так же одинок, как и я? Потерян и разозлен? Ты такой же сумасшедший, как я?».
Мука, гнев, любопытство, боль от разбитого сердца… все это выплескивается из меня на лист бумаги. Мои дрожащие пальцы порхают над ним, пока я пишу свое первое в жизни стихотворение.
Для Томаса.
ГЛАВА ВОСЬМАЯ Бард
Любовь пугает. Она всесильна, внушает благоговейный ужас и меняет жизнь. Для такого человека, как я, все это слишком. Я видел ее, верил в нее, но чувствовать любовь никогда не хотел.
А в момент, когда увидел эту девушку, все перестало иметь значение: о чем я думал и чего якобы хотел. Я влюбился в нее с первого взгляда.
В Хэдли.
Она просто шла по коридору и в обеих руках несла какие-то книги, а ее светлые с медовым оттенком волосы развевались от быстрой ходьбы. Шла она нахмурившись, поэтому мне захотелось провести пальцем по ее лбу и разгладить морщинки. В Хэдли было что-то такое, имеющее со мной связь и обращавшееся ко мне напрямую. Может, ее походка — она съежилась и будто укуталась во что-то невидимое. Или приоткрытые от напряженного дыхания губы. Что бы то ни было, оно взывало ко мне, к чему-то, живущему внутри, о чем я даже не знал, — возможно, к инстинктивному желанию ее защитить. Хэдли прошла мимо, не удостоив меня даже взглядом и не зная, что одной лишь морщинкой на лбу изменила мой мир.
Спустя годы мои чувства остались прежними. Я вижу множество морщин на ее лбу и опущенные уголки губ и хочу уничтожить причину ее несчастий.
Проблема в том, что причина — это я.
И на ее красивом лице появилось еще больше морщин. Они немного смягчаются, когда Хэдли молча слушает, что ей говорит Грейс, жена Джейка, но от натянутой улыбки тут же появляются снова.
Хэдли похудела, сияние кожи потускнело, а темные круги под глазами придают ей затравленный вид. Глядя на эти внешние признаки истощения, я чувствую себя беспомощным и злобным — на себя или на мир, не могу четко сформулировать.
В затылке пульсирует сильная боль. Я уже знаю, что совсем скоро разболится вся голова.
— Ты в порядке, приятель? — спрашивает Джейк и кладет руку мне на плечо.
Мы ужинаем у Грейс с Джейком. Это что-то вроде добрососедского жеста. Хэдли с Грейс о чем-то беседуют рядом с кухонным островком, хотя говорит в основном Грейс. А мы с Джейком сидим здесь, на диване в гостиной.
Бутылка пива приятно холодит разгоряченную руку, когда, сделав большой глоток, я отворачиваюсь от своей жены.
— Ага. Все в норме.
— Ты же ведь знаешь, да, что можешь поговорить со мной? — он переводит взгляд с меня на Хэдли и обратно.
От желания Джейка вмешаться я скрежещу зубами. Но на самом деле это не вмешательство, — говорю я себе. Джейк из тех, кто просто беспокоится о других, вот только я не готов выкладывать обо всем, что на душе. У слов есть власть делать происходящее реальным. Как некоторые люди не рассказывают о своих ночных кошмарах, чтобы те не стали частью их реальности, так и я никому не рассказываю, что не так в моей жизни и браке.
— Тут не о чем говорить. Все в порядке.
Почувствовав мое напряжение, Джейк примирительно поднимает обе руки вверх.
— Ладно. Настаивать не буду, — говорит он и тоже отпивает пива. — Знаешь, Сара тебя ненавидит.
Радуясь смене темы, я отвечаю:
— Сара всех ненавидит.
— Да, но не все спорят с ней на педсоветах и не все указывают на — цитирую — «дерьмовый учебный план». Только ты.
— Но он и правда дерьмовый.
— Ты не собираешься облегчить себе жизнь и отношения на работе, да? — покачав головой, Джейк добавляет уже серьезно: — Ты не можешь так себя вести сейчас, Томас. Не можешь отправить мне сообщение и уйти, в то время как я собирался познакомить тебя со всеми. И оскорблять своих коллег ты тоже не можешь себе позволить. Ты больше не поэт. Ты учитель. Командный игрок.
Больше не поэт.
В намерения Джейка это не входило, но меня его слова все равно задели. Пульсирующая головная боль усиливается и вот-вот взорвется тысячами разных мыслей. От этого я чувствую себя усталым, скорее даже вымотанным — подобное чувство возникает, когда я часами напролет работаю над стихотворением, правлю и оттачиваю, пока оно не засверкает… или пока не сдаюсь, потому что мои слова иссякли.
— Да. Я знаю, — запустив руку в волосы, вздыхаю я. — Я понимаю, что ты делаешь мне одолжение. И не хочу все испортить. Этого больше не повторится.
Я абсолютно серьезен. Если эта работа исправит все мои ошибки, я с ней справлюсь.
— Хорошо, — говорит Джейк и поднимает свою бутылку в мою честь. — Как студенты? В этом году вроде приличный набор, да?
Вопрос Джейка срабатывает триггером, и я сразу же вспоминаю Лейлу — и сознание без моего участия делает слайд-шоу ее образов. Ехидная дикарка с фиолетовыми глазами. Ее громкий и безудержный хохот. Струящийся между пухлых губ дым. Дикие кудри темных волос, которые никогда, наверное, не лежат спокойно. И эти ее фиолетовые шубы… Да кто сейчас вообще носит шубы? Ее голос достает из самых глубин моей души давно погребенные слова. Эти слова беспощадны. Они не дают смириться с тем, что я больше не поэт.
Я не могу им быть — новую судьбу я выбрал себе несколько месяцев назад, — но слова приходят ко мне благодаря ей, словно она моя муза. Вот только мне не нужна муза. Как и поселившаяся в моих мыслях Лейла Робинсон.
Не в состоянии больше сидеть расслабленно, я сильнее обхватываю бутылку, и делаю еще один большой глоток пива.
— Ага. Приличный, — отвечаю я на вопрос Джейка.
— Это плохо, что ли? — положив руки на пояс, он бросает на меня многозначительно взгляд. — Ты там полегче. Не каждый из них будущий Хемингуэй. Смотри на настрой, а не на талант.
— Это мой первый урок о том, как быть учителем?
— Можно сказать и так.
— А ты, я смотрю, сегодня преисполнен мудрости, верно?
— Как и всегда, — ухмыляется он, и я смеюсь.
Наш разговор длится до тех пор, пока не становится пора уходить. Хэдли благодарит Грейс за приглашение, и они обнимаются. А мы с Джейком похлопываем друг друга по плечу.
Поскольку мы с Хэдли живем за пределами кампуса, до нашего дома нужно немного проехать на машине. Я завожу двигатель и в зеркало заднего вида вижу, как Грейс и Джейк целуются и хихикают, словно два подростка. Головная боль усиливается.
Когда мы с Хэдли пристегиваемся, я выезжаю на дорогу. От ее близости мне мгновенно становится легче. Пальцы покалывает от желания прикоснуться к ней, провести по щеке и изящной шее — но я себя сдерживаю. Хэдли это не понравится.
— Ты как… хорошо провела время? — не отводя взгляд от заснеженной дороги, я съеживаюсь от собственного вопроса, такого же глупого, как и разговоры о погоде. Никогда не был тем, кто умеет вести светские беседы, но ради Хэдли я постараюсь.
— Да, — она кивает, в течение секунды-другой смотрит на меня, после чего отворачивается к окну.
Это молчание угнетает. Я до белых костяшек стискиваю руль.
— Как думаешь… сегодня пойдет снег?
Меня начинает подташнивать, едва я произношу эти слова — такие пустые и безликие. Мы как будто не знакомы, как будто никогда не прикасались друг к другу и не слышали стук сердец.
Как будто мы никогда друг друга не любили.
В ответ на мой жалкий вопрос она пожимает плечами.
— Возможно.
По телу разливается тошнота, и я ощущаю жар. Складывается впечатление, будто за последние пять секунд машина уменьшилась в размерах. Я хочу дать по тормозам и вытащить нас из этого замкнутого пространства. Хочу оставить все произошедшее где-нибудь позади. Абсолютно все.
Но деваться некуда. Поэтому продолжаю вести машину.
На самом деле, я настолько поглощен этой обыденной задачей, что пропускаю поворот в сторону дома. Продолжаю ехать прямо и останавливаюсь уже перед входом в парк. И только тогда Хэдли замечает, где мы находимся.
— Что… Что мы здесь делаем? — повернувшись ко мне, спрашивает она. Стыдно признаться, но мне нравится видеть ее дезориентированной. Нравится видеть, что я ей нужен. Даже если всего лишь для ответа на вопрос.
— Хочу тебе кое-что показать, — несмотря на бушующие внутри эмоции, я говорю тихо.
Взгляд золотисто-карих глаз Хэдли поднимается к моему лицу. Наверное, это первый раз за весь вечер, когда она по-настоящему обратила на меня внимание, но, словно жалкий попрошайка, я приму и эту малость. Я ликую от ее пристального внимания.
Но все это быстро исчезает. Она выскакивает из машины, а я иду за ней. Начинаю думать, что это плохая идея, но больше никаких вариантов у меня нет. Мне просто нужно, чтобы Хэдли поняла.
Заполняя тишину, под ногами хрустит снег, пока я веду ее к скамье — туда, где однажды под усыпанном белыми цветами деревом я сделал ей предложение.
Когда мы подходим к скамье, окруженной сугробами и освещенной фонарем, этот вечер словно меняется на день восемь лет назад. Меня отбрасывает в тот дождливый день, когда я сказал Хэдли, что хочу провести с ней всю жизнь. Я собирался уехать учиться в аспирантуре и хотел, чтобы она поехала со мной.
— Помнишь это место? Ты ждала меня здесь. Как и всегда, — с усилием сглотнув, я продолжаю: — А я, как всегда, опоздал. И думал, ты уже ушла. Репетировал извинения, но, увидев тебя, просто остановился. И мне даже пришлось перевести дыхание. Ты была такая красивая, такая спокойная, такая… нежная, — я провожу онемевшими пальцами по своим волосам. — А я чувствовал себя неполноценным, недостойным тебя. Я всегда был таким… высокомерным мудаком.
Я замолкаю, когда Хэдли поворачивается лицом ко мне. Не знаю, что именно ожидал увидеть на ее лице, но только не это. Безмолвие. Она будто чистый лист бумаги. И из-за отсутствия эмоций похожа на двухмерную проекцию. Словно под этой поверхностью нет глубины.
— Я хочу домой, — голос Хэдли по-прежнему тихий и мягкий, но в сочетании с ее ничего не выражающим лицом звучит непривычно и неправильно.
— Хэдли…
— Мне тут не нравится, я не хочу здесь находиться.
— Но ты обещала, — мой голос подобен раскату грома, и я сжимаю кулаки, чтобы взять его под контроль. — Ты обещала, что попытаешься. Мы оба пообещали это друг другу. И я пытаюсь, Хэдли. Клянусь чертовым Господом Богом, я пытаюсь стать тем мужем, которого ты заслуживаешь.
Внутри меня ведут свою битву гнев и страх. Что, если я никогда не смогу до нее достучаться? Что, если никогда не смогу дать ей понять, как сильно я изменился? Вдруг она снова попросит развод? Я до сих пор помню тот невидимый удар, который ощутил, когда ровно в этот день несколько месяцев назад она заговорила о разводе. От ее просьбы во всем моем теле — начиная с сердца — прокатилась взрывная волна. Тогда я даже не понимал, насколько в наших отношениях все стало плохо.
— Значит, вот почему мы здесь, в этом городе?
— Да, потому что тебе здесь нравится. Ты всегда хотела вернуться.
— Но ты же его ненавидишь.
— Плевать. Я сделаю для тебя что угодно.
— Даже перестать писать?
От ее вопроса я вздрагиваю. Слышать это непривычно. Ничего подобного мы никогда не обсуждали. На протяжении многих лет я жил лишь словами — сочинял их и правил. И, увлеченный этим процессом, забыл, что Хэдли я тоже люблю. Из-за слов забыл о собственной жене и за это их теперь ненавижу. Я больше не хочу их слышать и писать. А ради Хэдли все готов отдать.
— Да. Для меня нет ничего более значимого, чем ты, — я качаю головой, устав от этой тоски по ней. — Неужели ты не понимаешь? Для любимых мы готовы на все. И ради любви я готов поступиться всем.
Глаза Хэдли блестят от непролитых слез, причиняя мне боль и при этом делая счастливым, поскольку они означают, что ей по-прежнему не все равно. От этого проявления эмоций я делаю несколько шагов вперед, но заметив, что выражение ее лица тут же изменилось, останавливаюсь. Эмоции исчезли, а ее лицо снова стало пустым.
— Я хочу домой. Я устала, — не дав мне возможности ответить, Хэдли возвращается к машине.
Мне требуется несколько секунд, чтобы прийти в себя, прежде чем я могу двигаться. Мое тело горячей волной обжигает гнев. Моя жена продолжает отвергать каждое мое действие. Какого черта она не хочет понять, от чего я отказался ради нее?! Почему она не может меня простить? Почему наши отношения не улучшились, ведь я сделал для этого все возможное?
Через десять минут мы приезжаем домой.
Входим в дом через кухню. Но как уютное пространство он не ощущается. У него еще нет своего характера. Дом слишком новый и слишком сильно пахнет краской и деревом. Здесь неестественно тихо, а я лучше сплю, слыша вой сирен скорых и пожарных. В маленьких городках я чувствую, будто один во всей вселенной.
Хэдли движется призраком; изящная и грациозная, будто парит. Она поднимается по лестнице, и, когда доходит до верха, раздается громкий плач. Проснулся Ники. Хэдли морщится от звука его плача и задерживается у его двери, но потом идет дальше.
Я стискиваю кулаки. Я готов принять ее равнодушие по отношению ко мне. Это страшно больно, но эту боль я вынесу. А от равнодушия по отношению к Ники мне хочется ее придушить. Сделав глубокий вдох, я поднимаюсь по этой же лестнице. Когда подхожу к белой двери в детскую, моя вспотевшая ладонь скользит по ручке.
Детская освещена лунным светом и лампой с изображениями морских животных на абажуре, стоящей на комоде, рядом с которым в кресле-качалке сидит наша няня Сьюзен. Держа Ники на руках, она ему что-то мягко напевает. Увидев меня, на цыпочках вошедшего в комнату, Сьюзен улыбается.
— Он просто немного покапризничал, — говорит она и встает.
Протянув руки, я забираю у нее Ники. Привычными движениями укачиваю его и целую в лоб.
— Все в порядке. Я посижу с ним. Можешь идти домой.
Круговыми движениями поглаживая Ники по спине, она успокаивает вместе с ним и меня.
— Уверен? Я могу остаться. Тебе нужно поспать. Утром тебя ждет работа.
Схватив уголок моего воротника, Ники пытается затащить его себе в рот. Я целую его пухлый кулачок.
— Не беспокойся за меня, — Сьюзен не знает, как много бессонных ночей я провел под этой крышей.
Она смотрит на меня с хмурым выражением на обветренном лице. Возможно, все-таки знает. Она уже собирается что-то сказать, но я ее останавливаю.
— Тебе помочь собрать вещи?
— Нет. Я и сама могу, — грустно улыбается она. — Пойду. Спокойной ночи, — она наклоняется поцеловать Ники в щеку и уходит.
Я с облегчением вздыхаю. Наконец-то я один. После американских горок, на которые был похож сегодняшний вечер, одиночество желанно.
Ники уже успокоился и даже пустил слюну мне на плечо. Я кладу его в кроватку и наблюдаю за тем, как он спит. Оглядываю мягкие щечки и миловидный подбородок. Его темные волосы всклокочены, а сжатые в кулачки руки он держит рядом с лицом. Одетый в голубые ползунки, мой сын дергает во сне одной ногой. Я кладу руку ему на грудь и успокаивающе поглаживаю. Вскоре его дыхание снова становится ровным, а рот во сне слегка открывается.
— Я люблю тебя, — шепотом говорю я. — Всегда буду любить.
Как и твою маму.
Эта мысль отзывается пульсирующей болью сначала в голове, а потом и во всем теле. И мне снова становится неспокойно.
Мне нужно напомнить Хэдли, как сильно я ее люблю. Что у нас есть ребенок. Что мы семья. «Никогда не поворачивайся спиной к своей семье». Я выучил это в худшие из времен.
Но как это напомнить тому, кто не хочет помнить?
ЧАСТЬ ВТОРАЯ НАРУШИТЕЛЬНИЦА
ГЛАВА ДЕВЯТАЯ
В понедельник утром начинается очередная учебная неделя. Мы с Эммой приходим в класс вместе и садимся рядом в центре полукруга. Несколько минут спустя входит Дилан, с улыбкой идет прямо к Эмме и садится с другой стороны от нее. Они начинают о чем-то разговаривать, а я с ухмылкой смотрю на свой блокнот.
Кто бы мог подумать, что всего за неделю моя жизнь так сильно изменится? Неделю назад у меня не было друзей, а сейчас их аж трое. Еще у меня есть Лабиринт — по крайней мере, я могу тут проводить время, прежде чем все поймут, что мне здесь не место.
Мое сердце грохочет в груди, когда я листаю страницы блокнота и натыкаюсь на последнюю, исписанную моим витиеватым почерком. Мне страшно смотреть на написанные там слова. Они кажутся детскими, неадекватными и недостойными кипучего энергией человека, которому были посвящены.
Захлопнув блокнот, я смотрю прямо перед собой.
Вскоре в аудиторию входит Томас, одной рукой держа стопку листов бумаги, а другой проводя по волосам. Мое тело напрягается, а по коже бегут мурашки.
Скупым и точным движением он снимает с себя куртку и вешает ее на спинку стула. Поправив манжеты рубашки, расстегивает пуговицы и закатывает рукава до локтей. Я наблюдаю за его руками, когда Томас перебирает листы бумаги, и вспоминаю, как он поддерживал хрупкую шейку Ники, когда укачивал его.
Томас Абрамс — это чистая магия. Ему подчиняются слова, он умеет успокаивать младенцев, он голубоглазый мудак, но по большей части он такой же, как и я: человек с разбитым сердцем.
— Мисс Робинсон, — его голос плетью разрывает воздух, и я морщусь. Он смотрит на меня — злобно таращится, на самом деле, — и внутри у меня трепещут перепуганные бабочки. — Вы принесли свою работу?
— Р-работу?
— Да. У вас что-то есть?
— М-м-м, я не… Я не помню, чтобы в прошлый раз вы давали нам домашнее задание.
Бросив стопку на стол, Томас складывает руки на груди.
— Это класс поэзии, мисс Робинсон. Он предполагает, чтобы вы писали. Взяли ручку и поднесли ее к листу бумаги. Звучит понятно?
Тяжело сглотнув, я рассеянно листаю страницы блокнота. О да, он супер-мудак. Но почему его злость так сильно меня заводит? Я конченая мазохистка.
— Прочитайте нам стихотворение, которое написали.
Блин. Блин!
Бабочки замирают и, падая вниз, мрут одна за одной. Тишина стоит абсолютная: мне слышно шуршание одежды, когда кто-нибудь ерзает на стуле. Внимание каждого устремлено на меня, а я терпеть это не могу. Терпеть не могу колющие взгляды.
— Вы считаете себя особенной, мисс Робинсон? Решили, будто я должен проигнорировать тот факт, что на прошлой неделе вы не сделали домашнее задание? Или же считаете своих сокурсников идиотами, раз они подчиняются правилам? Что из этого правда?
Сжав зубы от натиска эмоций, пугающе похожих на готовность сдаться, я сдавленным голосом отвечаю:
— Я принесла свою работу.
Он выглядит удивленным, что приятно.
— Давайте послушаем.
Облокотившись на стол, Томас скрещивает ноги в лодыжках.
Ладно, я уже не настолько возбуждена, особенно когда весь класс смотрит на меня с жалостью. Для них это естественно — читать вслух свои «работы», — а у меня трясутся ноги.
Покашляв, я начинаю.
В день нашей встречи ты любовался луной,
А я — тобой.
Высокий и непохожий на других, темный и одинокий,
Ты словно был моим отражением.
Расколот надвое и опустошен.
Словно высохший источник.
Я могла бы стать твоей,
Если бы ты лишь взглянул на меня.
Мой голос хриплый, а слова гулко отдаются в ушах. Я боюсь поднять голову и увидеть реакцию Томаса. Не переставая теребить уголок страницы, я ерзаю на стуле. Хотя я на него не смотрю, но все равно очень четко улавливаю момент, когда он готов заговорить.
— Что ж, пятерка за усилия и мужество прочитать вслух. Нет, пожалуй… — почесывая подбородок большим пальцем, говорит он, — пятерка с плюсом за мужество. Должно быть, вам пришлось как следует его собрать, чтобы продемонстрировать этот рубленый ритм и неотшлифованные слова. Скажите, мисс Робинсон, сколько раз вы вычитывали свою работу?
Открыв рот, я чуть было не брякаю: «А разве я должна была вычитывать?» Но, сдержавшись, вру:
— Один…
— Один, — резко повторяет он.
— М-м-м… два, — я поднимаю два пальца, но они так сильно дрожат, что тут же опускаю их.
Кажется, Томас на это не купился.
— Заметно. Рваная структура. Неровный ритм. И просто чудовищный выбор слов.
От стыда меня бросает в жар. Его слова попадают в меня горящими дротиками. Я выплеснула все свои чертовы эмоции в это глупое стихотворение, и ему больше нечего мне сказать? Томас, кстати, все тот же человек, что и был вчера? И по-прежнему способен на уязвимость? Или его вчерашнего я придумала?
— Разве стихотворение не предполагает воплощение сиюминутных эмоций? — сжав зубы, спрашиваю я.
— Если я должен рассказывать, каким должно быть стихотворение, то вы ошиблись классом.
На этом Томас отворачивается и больше не обращает на меня внимания. Я остаюсь один на один со своим закипающим гневом. Почувствовав, как Эмма сжимает мою руку, я хочу оттолкнуть ее и съежиться. Я рада побыть и одиночкой. Мне не нужна жалость.
Томас вызывает других студентов и тоже просит их прочитать свои стихи. Он нетерпелив, комментирует грубо и резко, но все же не настолько грубо и снисходительно, каким он был со мной. К моменту окончания занятий я думаю, что он получает удовольствие от этих дебатов по поводу его ненаглядного «выбора слов», хотя вряд ли в этом признается. Самовлюбленный мудак.
Единственный человек, кому он дал короткий положительный отзыв, — это Эмма. Томас сказал, что у ее стихотворения есть потенциал. Потенциал! Я так сильно ей завидую, что даже смешно.
Я тяжело дышу, но теперь это не имеет ничего общего с возбуждением.
***
После произошедшего на уроке у Томаса я весь день хожу недовольной, причем настолько, что после окончания своих занятий возвращаюсь в северную часть кампуса и в Лабиринт. Здание кажется бурлящим жизнью, как никогда. Интересно, эти люди когда-нибудь уходят домой? На часах почти пять вечера, а сверху доносятся звуки шагов — театральные актеры. Чертовы хиппи.
Я поднимаюсь на второй этаж, который точно такой же, как и первый, — длинный коридор и двери по обеим сторонам. Аудиторий здесь немного, в основном кабинеты преподавателей. Я останавливаюсь у последнего. Он расположен прямо над нашей аудиторией внизу, и на табличке написано «Томас Абрамс, приглашенный поэт». Я кривлюсь. Скорее похоже на приглашенного сукиного сына. Дверь приоткрыта, и я толкаю ее.
Томас сидит на стуле с высокой спинкой, с ручкой в руке и склонившись над каким-то бумагами. Когда открывается дверь, он поднимает голову.
— Мисс Робинсон. У нас с вами назначена встреча?
Войдя, я закрываю за собой дверь.
— Нет.
— Тогда вам стоит записаться и вернуться позже, — говорит он и возвращается к лежащим перед ним документам.
Если он сейчас не поднимет голову, я в него чем-нибудь швырну. И судя по всему, это будет небольшая лампа, стоящая на отполированном деревянном табурете рядом с дверью.
— Что это было? — выдыхая после продолжительной задержки дыхания, спрашиваю я. — Вы унизили меня перед всеми студентами.
Довольно долгое время все, что я слышу, — это царапающий звук его ручки, — а все, что вижу, — это его темноволосую склоненную голову. Моя рука тянется к лампе. И почти прикасается к ней. Сейчас я сделаю это. Я в достаточной степени бесстрашная и сумасшедшая.
Наконец он заканчивается писать. Отложив ручку, смотрит на меня.
— И когда именно я это сделал?
У меня вырывается недоверчивый смешок.
— Блин, вы сейчас серьезно? Вы унизили меня, разнесли мое стихотворение в пух и прах, как какое-то… какое-то… — черт, я даже слов подобрать не могу.
Сцепив пальцы лежащих на столе рук, Томас с непроницаемым видом наблюдает за моими безуспешными попытками.
— Как что?
— Вам это нравится, что ли, да? — я подавляю царапающий горло зарождающийся крик.
— Нет, — встав из-за стола, Томас обходит и облокачивается на него. — Мне не нравится оказаться загнанным в угол за то, что поделился своим честным мнением. Видимо, с первого раза ты не поняла: это поэтический класс. Если боишься критики, лучше бросай сразу. Да и потом, тебя уже не должно быть на моих занятиях, разве нет?
— О, вам этого очень бы хотелось, правда? — я открываю рюкзак и достаю распечатанный документ. Потом подхожу к нему и прижимаю бумагу к его груди. — Это подтверждение моей записи на ваш курс. Так что больше я не нарушительница.
Не забрав его у меня, Томас дает листку бумаги упасть на пол и лечь у его ботинок. Чертовы ботинки. Сама не знаю, почему я так ими одержима — как и его руками.
— У этого визита есть какая-то цель?
Я возвращаюсь взглядом к его лицу.
— Да.
— И какая же?
Я смотрю на его угловатую челюсть. За день щетина на его лице стала гуще. Она создает тень, контрастирующую с яркостью его глаз. Два очага синего пламени. В них столько гнева — смеси ярости, раздражения и разочарования.
Мне стоит его опасаться. И держаться подальше. Но я не могу.
Томас Абрамс — это раненое животное. Ранено его сердце, и из отверстия сочится кровь. И именно рана заставляет его скалиться и огрызаться.
Я хочу… провести по нему языком, как сделала это с его словами. Я хочу его поцеловать.
Вот черт!
Мое разбитое сердце хочет поцеловать Томаса, и тогда ему станет легче. Глупое сердце идиотки.
Облизнувшись, я смотрю на его. Я хочу пососать эти сердито искривленные губы, с силой втянуть в рот и пройтись зубами, и делать так до тех пор, пока гнев не потухнет, и останется лишь огонь.
Мое влажное дыхание делает воздух вокруг нас гуще и тяжелей. На его шее я вижу ритмично бьющийся пульс — в такт моему сердцу. Я хочу втянуть в рот и этот участок кожи — чтобы успокоить. Хочу вытянуть боль из его сердца.
Боже, я сошла с ума. Совершенно спятила.
Во рту становится сухо, а между ног совсем наоборот. В животе все оживает, но в каком-то неправильном смысле, в грязном.
— Мне пора, — тяжело дыша, как дурочка, я поднимаю глаза и смотрю на Томаса. Его взгляд опаляет. Он жжет даже сквозь одежду. Его сжатые зубы в сочетании с раздувшимися ноздрями пугают. Это раненое животное готово убивать.
Сглотнув слюну, я начинаю пятиться назад. В этой напряженной тишине валяющийся на полу документ хрустнул под моими ногами, словно выстрел.
— Писать стихи — это не для всех, мисс Робинсон, — говорит Томас, когда я уже почти дошла до двери. — На это требуется определенная глубина души, определенная чуткость, если хотите. На это способны редкие люди. Знать свои пределы и вовремя сдаться — это хорошо.
Я не понимаю, издевается ли он или говорит правду, но у меня нет сил разобраться в этом. Моя похоть делает меня глупой. Гораздо более глупой, чем обычно.
— Спасибо за совет, профессор, — повернувшись к нему, говорю я. — Но с поверхности глубину никак не увидеть. Иногда только погружение даст понять, слишком ли глубоко или в меру.
Мы молча смотрим друг на друга. Не знаю, что он сейчас во мне видит. В то время как я вижу его несчастье. Вижу, как он пытается поймать ускользающее — свою жену. Что он идет вслед за ней, как я за Калебом.
То стихотворение я написала для тебя.
Скрипнув зубами, Томас возвращается за стол. Его стул издает скрежещущий звук, когда он садится и начинает перебирать документы.
Я поворачиваюсь лицом к двери. Рядом с лампой, которую хотела запустить в него, лежит книга в черной гладкой обложке. Я была слишком зла, чтобы ее сразу заметить. Это та же книга, что была в магазине — «Фрагменты речи влюбленного» Ролана Барта, — вот только эта старая и потрепанная.
Незаметно схватив книгу, я прижимаю ее к груди и ухожу.
***
Сидя на кровати и слушая в наушниках голос Ланы, я открываю украденную книгу. Внутри надпись, сделанная почерком с завитушками.
«Томасу. Надеюсь, тебе понравится прочитать (снова) это произведение, которое ни один здравомыслящий человек не в силах понять. С любовью, Хэдли».
Я провожу пальцем по смазанным чернилам и представляю различные сценарии. Сочиняю историю, в которой Хэдли и Томас встречаются уже год, и вот у него день рождения. Хэдли дарит ему любимую книгу, которую он уже читал бесчисленное множество раз. Он удивлен и рад, и целует ее, будто это она самый драгоценный подарок. Я представляю нежные и мягкие поцелуи. Поцелуи, достойные королевы — не те, которые я хочу и которых, видимо, заслуживаю: грубые, грязные, лихорадочные и мокрые.
Вздохнув, я сосредотачиваюсь на пожелтевших страницах и листаю их. Время от времени останавливаюсь, когда вижу подчеркнутый пассаж или написанное слово. Агония. Пыл. Страсть. Одиночество. Разрушение. Распад. Ожог. Бессонница.
Слова написаны четким и ровным почерком — под стать Томасу. Но на кончике буквы «с» еле заметный завиток, делающий его самого игривым и даже мягким. Я хочу прикасаться к его словам, провести по ним языком.
И тут мое сердце перестает биться.
Без взаимности.
Эти два слова написаны рядом с отрывком, подчеркнутым жирными черными линиями. В нем говорится, что безответно влюбленный — это тот, кто ждет. Он ждет и ждет, а потом еще и еще. Он отбрасывает в сторону важнейшие моменты собственной жизни, позволяя им рассеяться по ветру, как и самому себе, и все это ради трех слов. Я тебя люблю. Он отчаян и одинок, как по собственному выбору, так и вследствие обстоятельств.
История моей жизни, аккуратно уложенная в это описание.
У нас с Томасом похожие ситуации. Попали мы в них разными путями, но судьбы теперь у нас одинаковые.
Я смотрю на часы: начало двенадцатого. Встаю, надеваю свою многочисленную зимнюю одежду и выхожу. Я иду туда, где была прошлой ночью. Я нарушительница.
Снова.
***
Должна признаться: после встречи с Хэдли и Томасом в кафе, я наблюдала за ним… в его доме… ночью, в окно.
Знаю, что это плохо. И почти тянет на преступление. Похоже на психоз. И сталкинг. Если Томас узнает, он меня убьет. Если узнает Кара, она наделает в штаны. Поэтому им я никогда не скажу. И заберу этот секрет с собой в могилу.
Адрес Томаса найти было легко. Он указан на сайте университета под списком сотрудников. Я просидела у дома своего преподавателя несколько часов, пор пока больше не смогла там оставаться, после чего наступила ночь, и я написала свое дерьмовое стихотворение с ужасным выбором слов.
Я всегда чувствовала себя аутсайдером и фриком, любила того, кто никогда не любил меня в ответ — сводного брата, который для всех окружающих мне настоящий брат. Как и для моей матери.
А теперь я нашла того, кто проходит через то же самое. Поэтому я нарушила собственное правило никогда и никого больше не преследовать и вчера вечером пошла к дому Томаса. Я смотрела на него через окно гостиной. Он развалившись сидел на диване, перебирал какие-то бумаги, крепко сжав ручку в руке и постоянно хмурился. Волосы всклокочены, а футболка подчеркивала линии его тела. Время от времени Томас поднимал голову и смотрел в окно. Слава богу, что у дома растут густые кусты, благодаря которым меня не было видно. Наконец он поставил оценку и бросил лист бумаги на журнальный столик. Потом проделал то же самое с другими работами.
Я почти ощущала охватившее его разочарование, но потом он отбросил студенческие работы в сторону и принялся ходить вперед-назад. Остановился и обернулся — я не знаю, на что именно он посмотрел, — а потом продолжил метаться. Это продолжалось не один час — будто гипнотизирующий ритуал, — после чего Томас рухнул на диван и запрокинул голову.
Сегодня идет снег. С неба падают крупные хлопья и ровным слоем ложатся на тротуар. Ощущая пронизывающий холод, я иду медленными размеренными шагами. Высокие здания кампуса сменили низкие дома с закругленными крышами, стоящие друг от друга на приличном расстоянии. Мне не стоит этого делать. Я не должна шпионить. Это безумие, не говоря уже о том, что нарушение закона, но все равно продолжаю идти.
Впереди вижу стоящий в стороне дом. Здесь живет Томас. На давно не стриженном газоне лежит снег, и в сочетании с заросшим кустарником место выглядит заброшенным. В этом доме не ощущается уюта.
В животе ноет, как и всегда, когда поблизости оказывается Томас, но сейчас это ложная тревога, потому что его здесь нет. В гостиной темно. Мне бы развернуться и уйти — может, дома никого нет, — но чокнутое сердце толкает меня вперед.
Смело пробираясь сквозь заросли и холодный двор, я обхожу дом кругом. Здесь растет одинокое дерево, возвышаясь над крышей и голыми ветвями царапая стены. Мой взгляд нацелен на последнее окно. Там горит свет и развеваются белые шторы.
Я медленно продвигаюсь вперед.
Испуганно оглядываюсь по сторонам, но не замечаю ни единого признака жизни. Во всех домах не горит ни огонька, а ближайший от дом, кажется, на расстоянии целого океана. Дойдя до окна, я сажусь на корточки и прижимаюсь к стене.
Голоса еле слышны, и мне требуется какое-то время, чтобы собраться с духом и заглянуть внутрь. Шторы приоткрыты, и между ними виднеется полоска света. Я отчетливо вижу Томаса, он стоит ко мне в профиль. Я смотрю на его голую грудь и пижамные штаны на завязках.
Охренеть. Он почти обнажен.
Его тело не громоздкое; он высокий и худощавый, а каждая мышца четко прорисована. Мой взгляд скользит по его щеке, по сухожилиям шеи, которая сливается с сильными плечами. Когда он сжимает руки в кулаках, на крепких предплечьях набухают вены. Его обручальное кольцо поблескивает на фоне темных штанов. Тело Томаса будто рисовал художник: сокрытые от глаз земли и угрюмые холмистые равнины мышц, которые сейчас напряжены.
О чем идет речь, разобрать трудно. Слова сливаются воедино, а голоса звучат тихо, но атмосфера там явно неспокойная. Мне удается расслышать что-то про Ники, что-то про желание оставить его в покое и про поехать куда-то на несколько дней. Все это произносит высокий голос Хэдли. Я не знаю, что в ответ говорит Томас, но он сильно взволнован. Он проводит рукой по волосам, от чего линии его живота и ребер становятся более резкими.
Если посмотреть на Томаса сейчас, когда его тело почти ничем не прикрыто и состоит сплошь из твердых мускулов, то он может показаться несокрушимым. О, до чего же наивно так думать.
Он не такой сильный и гораздо более уязвимый, нежели его жена. Хэдли может разломать его на куски и уйти, оставив искромсанным, если того захочет. И никто не сможет его спасти.
Но мы хотим. Хотим его поцеловать. Хотя бы раз.
Можно подумать, будто мой поцелуй волшебным образом исцелит его раненое сердце. Можно подумать, будто он хочет, чтобы его поцеловал кто-то вроде меня. Да и потом, мне стоит мечтать не об этом. Я здесь не для того, чтобы похотливо на него таращиться. Я хочу… увидеть его. Без всей его обычной напускной ерунды. Я здесь, чтобы увидеть кого-то вроде меня.
В окне мелькает желтая ткань — ночная рубашка? — и исчезает. Голоса смолкают. Тишина тяжелая и неприятная.
Томас стоит спиной к окну. Его плечи напряжены. О чем же они говорили?
Выйдя из оцепенения, он берет пустую вазу за горлышко. Готовый дать волю гневу и швырнуть ее, поднимает руку. Я заранее съеживаюсь от того, что вот-вот случится, но в последний момент он ставит вазу на место и идет за Хэдли.
Томас идет за ней, как и всегда.
ГЛАВА ДЕСЯТАЯ
Сейчас суббота, и я сижу в «Кофе со сливками» за столом, заваленном книжками, которые купила на прошлой неделе.
Хочу сделать еще одно признание. Нет-нет, ничего ужасного или криминального, вроде сталкинга или заглядывания в окна. Вот оно: я купила несколько книг по теории поэзии, после того как Томас посоветовал мне отказаться от этой идеи. Предполагается, что они научат, как быть поэтом, и в них говорится о вещах вроде техники, формы, слога и видах строф. Все это пугает и совершенно не понятно.
Я так увлеклась чтением дискуссии про важность пустого места в стихах — как оказалось, это так же важно, как и сами слова, — что меня застал врасплох аромат шоколада с ноткой каких-то специй.
Когда вижу, что Томас сверлит меня взглядом, моим пальцам становится жарко. В одной руке он держит кружку кофе и бумажный пакет с какой-то выпечкой, но самое сногсшибательное в его облике — это сидящий спиной к нему в рюкзаке ребенок. Ники дергает ножками и, пожевывая кулачок, смотрит по сторонам, в то время как рука Томаса лежит на его животе, словно защищая.
Господи боже, до чего же сексуален этот мужчина.
Томас смотрит на мою книгу, которую я незаметно пытаюсь придвинуть к себе. Но ставит кружку и пакет на стол и, придерживая Ники, наклоняется вернуть ее на середину стола.
Ухмыляясь, он пронзает меня взглядом.
— Чем занимаешься?
— Ничем, — ворчу я и пытаюсь выхватить книгу, но его рука как камень. — Отпусти.
Он отпускает книгу, и меня отбрасывает на спинку стула, в ответ на что раздается его мягкий смешок. После чего Томас садится за мой столик. Я не могу перестать смотреть на то, как умело он держит Ники, осторожно прижимая его к своей груди.
К груди, которую вчера вечером я лицезрела голую.
Не думай об этом.
Но бессовестное сердце не слушается, и меня атакуют воспоминания о вчерашней вылазке. Я поджимаю губы. Если не буду осторожной, не удержусь и сболтну. А Томас не должен узнать, что я видела его. Никогда.
Сделав глоток кофе, он выуживает из пакета шоколадный круассан.
— Любимая еда? — спрашиваю я, думая о его восхитительном запахе.
— Ага, очень. И на случай если тебе вдруг интересно… — он откусывает от круассана, — шоколадом я никогда не делюсь.
Я наблюдаю за плавными движениями его челюсти, когда он жует, и адамова яблока, когда глотает. Такие обычные действия, он делает их несколько раз за день, но для меня они необычные. Они позволяют заглянуть в его повседневность.
Как будто я еще недостаточно заглядывала. Чувствуя отвращение к самой себе, я опускаю взгляд.
Томас берет книгу и читает название, непревзойденно скрывая эмоции.
— «Становление поэта».
Теперь мне стыдно вдвойне. Я не хочу, чтобы он видел, как я стараюсь изо всех сил и как сильно меня ранили его слова во время занятий.
— Можно мне книгу назад? Я тут работаю.
Я забираю книгу — вернее, он ее отпускает и бросает на меня игривый взгляд.
— Но ты ведь сказала, что ничем не занимаешься.
В ответ на его ребячество я закатываю глаза.
— Вообще-то, я соврала.
— Врать плохая привычка, мисс Робинсон, — заявляет он тоном, уже совсем не похожим на ребяческий. — Из-за нее можно попасть в беду.
— Думаю, с небольшой бедой я управлюсь, профессор Абрамс.
Он молча пьет кофе и задумчиво меня разглядывает. Сама не верю, что говорю, но мне хочется, чтобы он ушел. За пару дней я столько раз преступила закон, что без румянца по всему телу смотреть на него не могу. Уверена, я сейчас похожа на помидор, но я их даже не люблю, особенно в гамбургере. И всегда отдавала их Калебу.
Он знает. Томас знает, что я видела его вчера.
— Я заставляю тебя нервничать, Лейла?
— Нет, — я усмехаюсь — или только пытаюсь, и звук получается скрипучим и визгливым.
— Угу, что-то сомневаюсь, — бормочет он и снова делает глоток. — Ты уже успела что-то сделать?
— Что? Нет, — быстро говорю я, рассеянно листая книгу. — Послушай, не мог бы ты уйти? Я работаю.
— Как ты можешь тут что-то делать? Здесь слишком громко.
— А мне нравится. Напоминает о доме, — бормочу я.
— И где же ты жила, на детской площадке?
— Нет. В Нью-Йорке.
После моего ответа Томас становится серьезным, а вокруг глаз исчезают морщинки, когда он изучающе на меня смотрит. Замечательно, я схлопотала еще более внимательное разглядывание. Мне стоит сказать ему, что пытки пора прекращать. Почему я не могу быть нормальной и скрытной?
Научись скрывать свои чувства, Лейла. Научись!
— Тебе не хватает шума большого города, — делает вывод он и прерывает мой внутренний монолог. Я неохотно киваю. После еще одного глотка кофе Томас добавляет: — Мне тоже.
От его откровения я едва успеваю подавить удивленный вздох. Я потрясена, что он решил поделиться со мной чем-то личным. И теперь в довесок к смущению по поводу вечерних приключений я ощущаю себя совершенно сбитой с толку.
— Что? — спрашивает он.
— Ты… Ты такой странный, — в ответ он приподнимает одну бровь. — Нет, правда. Почему ты со мной такой добрый?
— Я всегда такой.
— Ничего подобного. Ты меня ненавидишь. И всегда смотришь на меня убийственным взглядом, будто я повинна… не знаю… в терроризме или глобальном потеплении, или в чем-то еще.
Он усмехается, а может, даже смеется. Звук отрывистый и хрипловатый, но тем не менее, он вырвался благодаря мне. Благодаря мне.
Томас возвращается к своему кофе, но я успеваю выхватить у него из руки кружку. Я чувствую себя сейчас дерзкой. Его то ли смешок, то ли смех придал мне храбрости. Смущение никуда не делось, но когда мы близко друг от друга, я с каждым разом становлюсь все смелее и смелее.
Когда я делаю глоток, Томас выразительно на меня смотрит.
— Что? Я же говорила, что краду лишь то, от чего испытываю кайф, — пожав плечами, говорю я.
Он качает головой и смотрит в окно. До меня вдруг доходит, что не в «Лабиринте» Томас гораздо более открытый со мной. За пределами аудитории он поддразнивающий и расслабленный. Он действительно терпеть не может быть учителем, так ведь?
В этот момент Ники гулит и машет рукой вверх и вниз. Я старалась не смотреть на него. Развлекаться грязными мыслями о Томасе и шпионить за ним, а потом видеть невинное личико Ники ощущается… неправильно.
— Привет, Ники, — я машу ему пальцем, и маленький человечек в черной шапочке-бини и пухлыми щечками смотрит на меня своими яркими глазами. Он подается вперед — насколько может, поскольку все еще пристегнут к папиной груди. Хихикнув, я позволяю его кулачку с ямочками обхватить мой палец.
— До чего же ты милый, — я посылаю ему воздушный поцелуй, и он смеется. — Интересно, в кого ты такой милый? — округлив глаза, я весело смотрю на Томаса.
Но взгляд Томаса совсем не веселый. Он направлен на меня и пронзает насквозь. Я ерзаю на своем стуле, ощущая необходимость в хоть каком-нибудь трении между ног.
Мне хочется продолжать на него смотреть, но я возвращаю свое внимание к Ники. Он радостно играет с моим пальцем.
— Ой, посмотри только, ты снова в фиолетовом! Какой молодец. А знаешь, что я думаю? Я думаю, что мы с тобой родственные души. И нам надо одинаково одеваться.
Томас нарушает собственное молчание.
— Не подавай ему идеи. Я не хочу, чтобы мой сын одевался как клоун.
Я обиженно смотрю на него.
— Ты назвал меня клоуном? Какие претензии к моей одежде?
Он бросает кусочек круассана в рот.
— Вот что у тебя на голове?
Свободной рукой я снимаю с себя шапку, взъерошив волосы. Они волнами падают на лицо, и я их откидываю. От взгляда Томаса на мои волосы я начинаю думать, что в них что-то застряло. Они вечно все собирают: опавшие листья, снег, тонкие ветки.
Внезапно застеснявшись, я опускаю взгляд на уровень его шеи.
— Это меховая шапка в русском стиле.
— А здесь у нас что, Россия?
Я поджимаю губы, а в уголках его глаз углубляются морщинки, когда он бросает в рот еще один кусок. Я поворачиваюсь к Ники:
— Скажи ему, Ники. Скажи, что он недалекий болван.
Оставив в покое палец, Ники смотрит на мою шапку. Потом сует в рот кулачок и что-то лепечет. Боже, он просто прелесть. Я почти не могу спокойно на него смотреть.
— А ты случайно не хочешь эту шапку, малыш? — я протягиваю ему шапку, и он тут же ее хватает. — Вот видишь? Она так ему нравится, что он готов ее съесть, — говорю я, а потом бросаю на Томаса сочувственный взгляд. — Ну ничего, не всем же быть крутыми.
— Ты не особенно увлекайся. Он сейчас на таком этапе развития, когда все выглядит едой и от всего текут слюнки, — он достает из кармана салфетку, забирает шапку у Ники изо рта и вытирает ему слюни. Я пользуюсь этим моментом, чтобы рассмотреть Томаса и его уверенные движения.
— Это ты так не сдаешься? — показав на раскрытую книгу, о которой я уже забыла, спрашивает Томас.
Застенчивость снова окрашивает мои щеки в розовый, и опускаю глаза.
— Возможно.
— Покажи, что ты успела написать.
Я снова смотрю на него.
— Нет… Я ничего толком и не написала. Я не могу писать. Не умею. Разве проблема не в этом?
Покачав головой, Томас захлопывает мой блокнот, от чего Ники хихикает. Ну спасибо тебе за поддержку, приятель.
— А сейчас я скажу это тебе только раз и больше повторять не буду, так что слушай внимательно.
Его профессорский тон заставляет меня поднять руку, будто мы в классе.
— Что?
— Именно это ты и сказал тогда на занятиях, — говорю я и вспоминаю, как он потерял самообладание, когда все говорили о своих любимых писателях и поэтах. Я подражаю его низкому голосу: — Скажу только раз и больше повторяться не буду…
К моей радости, Ники снова хихикает.
— Так ты хочешь услышать мой совет или нет?
Я с энтузиазмом киваю.
— Эти книги не помогут, до тех пор пока ты что-нибудь не напишешь. Писать стихи они тебя не научат. Лишь подскажут, как улучшить написанное, — со вздохом посмотрев по сторонам, он опускает взгляд на кружку кофе.
— Обхвати кружку руками и закрой глаза, — говорит Томас.
Озадаченная, я ничего из этого не делаю, и он качает головой. Придерживая Ники, наклоняется вперед и, положив свою большие ладони поверх моих, обхватывает кружку.
В момент контакта у меня перехватывает дыхание. А видеть его грубые руки лежащими поверх моих маленьких ладоней со светлой кожей — это… шокирует. Как я себе и представляла, это прикосновение похоже на удар молнии. На электрический разряд. Когда энергия гудит и вибрирует.
— Лейла, ты еще со мной? — спрашивает Томас, и, сглотнув, я несколько раз киваю. — Закрывай глаза.
Я делаю, как он говорит, потому что иных вариантов, кроме как подчиниться, у меня нет. Своим прикосновением он держит мое тело в заложниках, и мои веки послушно опускаются.
И я тут же оживаю. Становлюсь гиперчувствительной. Я слышу его хрипловатое дыхание и воркование Ники. Чувствую тепло солнца на лице, хотя мы сидим в помещении, а утро облачное. Мне хочется поерзать на стуле и сжать бедра. Хочется попросить Томаса усилить нажатие на мои руки, чтобы ощутить, как его касание вытатуировано на моей коже.
— Расскажи, как ощущается эта кружка кофе.
У вас когда-нибудь получалось попробовать звук на вкус? Я раньше о таком и не думала, но сейчас ощущаю вкус звука его голоса. Он густой, тягучий и сладкий.
— Я-я… Ну… она горячая, — но не настолько горячая, как твои руки.
— Что еще?
Я шевелю пальцами под его ладонью и ощущаю шершавую поверхность кружки. Она желтая с коричневой ребристой ручкой.
— Грубая. И шершавая, — но грубость твоих рук ощущается в разы лучше.
— И?
В попытке почувствовать большее я ощущаю что-то металлическое. Сгибаю палец и костяшкой соприкасаюсь с гладким металлом. Это его обручальное кольцо. По сравнению с жаром его рук, оно кажется ледяным. Ритм моего дыхание меняется — или же становится другим его дыхание: прерывистое и неглубокое.
Чувствуя неправильность ситуации, я выпрямляю палец и прижимаю его к кружке.
— Она ощущается… словно солнце. Будто я только что прикоснулась к нему. И я ощущаю себя пробудившейся, наполненной энергией и… не знаю… Просто живой, — и мои слова сейчас не про идиотскую кружку.
Томас убирает руки, и я вынуждена открыть глаза. На его щеках легкий румянец, не яркий, но заметный, и он словно подсвечивает его изнутри. У меня в груди все переворачивается.
Он пожимает плечами.
— Теперь у тебя есть она. Эта кружка стала для тебя карманным солнцем. Писать стихи — это не про технику, хотя она тоже важна. И не про то, что ты видишь. Писать стихи — значит чувствовать. Тебе нужно уйти на глубину, поднять камни и заглянуть туда, куда бы ты предпочла не смотреть. Тогда ты сможешь писать. А эти книги сейчас тебе не нужны.
Я кладу руки на колени, одна на другую — жалкая попытка сберечь оставленное им тепло.
— Значит, ты так и делаешь? Заглядываешь туда, куда предпочел бы не смотреть?
— Иногда.
— И не боишься возможных находок?
Я не удивлюсь тому, что найду, если посмотрю вглубь себя — сумасшедшую эгоистку, преступно и неправильно влюбленную, — так что меня туда не тянет.
— Боюсь до ужаса, — бормочет он, отвечая на мой вопрос. — Искусство — это больно, Лейла. И потенциально опасно. Оно может разорвать на куски. И заберет у тебя все, иногда даже больше, чем ты будешь готова отдать. Это всегда голодный зверь. Ты его кормишь, кормишь и кормишь… до тех пор пока у тебя больше ничего не остается, — он делает резкий вдох. — Но ты все равно не будешь протестовать, потому что предпочтешь гнаться за удовольствием от создания чего-то нового, нежели жить во тьме. И это безумие.
Ничего более правдивого и печального я от него еще никогда не слышала. Его слова поселяются в моем треснувшем сердце, расширяя эту трещину. Я понимаю, что он говорит о любви — об этом безумном и голодном звере, который только берет и берет.
— Ты собираешься ответить? — спустя какое-то время спрашивает Томас.
— Что?
И тут бедром я чувствую вибрацию звонящего телефона. Вынимаю его из кармана и едва не бросаю, будто в руке у меня сосулька.
Это Калеб.
С экрана на меня смотрит улыбающийся Калеб, с зелеными глазами и светло-каштановыми волосами.
Я не… Не понимаю. И продолжаю смотреть на экран и слушать пронзительный рингтон, надеясь, что сейчас все изменится, а лицо Калеба исчезнет. Надеясь, что все это шутка.
Это ведь она и есть, правильно? Иначе с чего бы ему звонить мне спустя два года?
Когда телефон перестает звонить, я с трудом умудряюсь сделать прерывистый вдох.
— Лейла.
Я смотрю на Томаса как на незнакомца.
Прежде чем успеваю сообразить, что сказать, лежащий на столе телефон начинает жужжать снова. Недолго думая, я подскакиваю, собираю вещи и рассеянно смотрю на Томаса.
— М-мне пора.
Я выбегаю из кафе, как будто Калеб где-то здесь, а не в паршивом Массачусетсе. Как будто он пришел сюда, чтобы сказать, как сильно меня ненавидит.
ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ
— Нет, — мотая головой, говорит Эмма. — Я это не надену. Ни за что.
— Почему нет? — я смотрю на нее в зеркало, а потом перевожу взгляд на платье, которое держу в руках. — Что с ним не так?
— Цвет. Он… оранжевый.
— Апельсиновый, — в миллионный раз поправляю ее я. — Он апельсиновый.
— Это одно и то же, — положив руку на пояс, она поворачивается ко мне. — Блин. Я просто… Не знаю, — она подходит к моей кровати и плюхается на гору одежды.
— Ты мне доверяешь? — серьезно спрашиваю я, и она смеется над выражением моего лица. Я кидаю в нее платье, но она успевает отмахнуться. — Просто примерь. Апельсиновый цвет просто обалденно хорош и очень тебе идет. Доверься мне, — в ответ на ее сомневающийся взгляд я добавляю: — Дилану понравится. На тебе как будто надето… солнце.
Это слово заставляет меня слегка улыбнуться. Эта кружка стала для тебя карманным солнцем.
— Вот это да. Как поэтично, — поддразнивает меня Эмма.
— Ага, могу, когда захочу, — взяв за руки, я поднимаю ее и подталкиваю в сторону своей ванной. — Иди переодевайся.
Она нервозно сглатывает.
— А что, если я ему не нравлюсь? Сама понимаешь, мы так долго были просто друзьями, а теперь все изменилось. Я не…
— Ты его любишь?
Эмма закатывает глаза.
— Ну да.
— Тогда этого достаточно. Любовь — это волшебная сила. И может делать такое, чего ты даже представить себе не можешь, — я улыбаюсь. — Просто попробуй довериться.
— Ладно, — Эмма улыбается мне в ответ и уходит переодеваться. А я скрещиваю пальцы на руках и на ногах, надеясь — и умоляя, — что сказанное мне окажется правдой.
Мои молитвы прерывает жужжание лежащего где-то на кровати телефона.
Калеб.
Он единственный, о ком я думаю, пока лихорадочно ищу телефон под горой одежды, книг и смятых простыней.
К моменту как я его нахожу, звонок прекратился, но он был не от Калеба. Звонила мама. О чем я только думала? С чего бы Калебу мне звонить? В прошлый раз он, наверное, случайно меня набрал. Потому что сказать нам друг другу нечего.
Телефон зазвонил снова. Мама.
— А-алло, — пытаясь успокоить свое тревожное сердце, говорю я. У меня плохое предчувствие относительно этого звонка.
— Лейла. Как ты?
Несмотря на ее отстраненный тон, мне все равно приятно ее слышать. У нее мягкий голос, который всегда умудряется оставаться ровным, не повышаясь и не понижаясь. Когда она злится, меняется лишь ее лицо, становясь еще красивее — болезненно красивее. Смотреть на нее непросто.
— Отлично. А… а ты как?
— Хорошо. Хорошо. Я хотела поговорить с тобой о вечеринке Генри.
— Ну да. Точно. Я помню. Она на следующей неделе. Не волнуйся, меня там не будет.
На прошлый День святого Валентина я устроила форменный бедлам: напилась и накурилась, после чего меня стошнило прямо на ледяную скульптуру купидона. Это даже в газеты попало. Мама была поставлена в настолько неловкое положение, что решила меня прогнать. С тех пор я практически не появляюсь в городе и на ее вечеринках.
— Да. Это очень предусмотрительно с твоей стороны, но я на всякий случай хотела напомнить. Ты ни в коем случае не должна приходить.
— Ладно. Меня там не будет. Клянусь, — я падаю на кровать, от чего пальцы ног скользят по полу. До чего же трогательно, что твоя мать звонит напомнить, что тебя не ждут.
— Я не шучу, Лейла. Это очень важная вечеринка, и я не хочу, чтобы она была испорчена.
Что на самом деле означает следующее: я не хочу, чтобы ты ее испортила.
— Не хочешь поделиться? — накручивая прядь волос на палец, спрашиваю я.
— Прошу прощения?
Мама никогда не переспросит, не извинившись при этом. Это было бы слишком по-простецки и некультурно. Еще это показывает, насколько она женственная — в отличие от меня.
— Я про вечеринку. Что в ней такого важного? Просто день рождения Генри.
— Ничего важного.
— Но ты же сама сказала, что она важная.
— Я не говорила.
Нахмурившись, я сажусь в кровати.
— Мам. Почему ты так странно себя ведешь?
— Лейла, — снова вздыхает она.
— Мам, просто скажи мне. Иначе я внезапно могу захотеть прийти.
Она мгновенно пугается. Я почти слышу ее резкий вздох. О, этот ужас от того, что может появиться ее дочь и порушить все и вся. Я как чума.
Мне слышно позвякивание ее браслетов. Мама всегда меняет руки, когда ей неловко.
— Калеб согласился приехать.
Под кожу и вглубь костей просачивается холод, начиная с ушей, стекая по шее и проникая в тело. Я чувствую этот поток.
— К-калеб?
— Да. Он ответил на мое предложение.
Несмотря на то, что Калеб не имеет никакого отношения к Генри, мама всегда настаивает, что ему нужно приехать. Калеб — это сын, которого у нее никогда не было.
— Ага, — бормочу я.
— И я не хочу его пугать, — когда она продолжает, я стискиваю в руке телефон еще сильнее: — Поскольку хочу, чтобы он вернулся в город. Его место здесь, в компании его отца. Мне просто хочется, чтобы все шло, как и было запланировано.
Я крепко зажмуриваюсь.
— Конечно. Да. Будет лучше, если я не появлюсь, — у меня вот-вот навернутся слезы.
— Рада, что мы понимаем друг друга.
— Ага.
После этого наступает продолжительное молчание. Даже не знаю, почему мы не кладем трубки и почему слушаем дыхание друг друга. Может, мама хочет добавить что-нибудь еще. А может, я боюсь остаться одна, когда она свернет разговор.
Пока я гадаю о причинах, мама говорит:
— Значит, договорились. Звони, если что-нибудь понадобится.
Она всегда так заканчивает разговор.
— Хорошо. Позвоню.
На самом деле нет. Я ни за что этого не сделаю.
Раздается щелчок, и ее уже нет. После всех попыток сдержаться мои слезы свободно стекают по щекам — реки печали, чувства вины и, возможно, еще злости, точно не знаю. Снова упав на кровать, я сворачиваюсь калачиком и кладу телефон под щеку. Тело сотрясают всхлипы — гортанные животные звуки, которые даже мне самой не знакомы и про которые я не думала, что умею издавать. Я не думала, что мое сердце-хамелеон разобьется так сильно и больно. И я никогда не чувствовала себя настолько одинокой.
Нелюбимой. Ошибкой природы.
Я чувствую прикосновение руки к своему плечу.
— Лейла, — мягко говорит Эмма, почти сияя в платье апельсинового цвета. — Лейла, что случилось? Почему ты плачешь?
Я смотрю на нее сквозь текущие горячие слезы. В общем-то, она незнакомка. И мы практически ничего друг о друге не знаем. Она не знает, насколько я прогнила и что творила. Поэтому ее забота ничем не обоснована. Если бы она была в курсе, то не находилась бы здесь и не утешала, выглядя расстроенной из-за меня.
Будь я лучше и сильней, я бы прогнала ее. И не стала бы цепляться за ее доброту. Но я не настолько хороший человек. Разве я это уже не доказала?
Я сажусь, поворачиваюсь и крепко ее обнимаю, будто ребенок. Эмма удивлена, но все равно обнимает меня в ответ. Я прижимаюсь лицом к ее щеке. Мне непривычно. От ее кожи исходит аромат арбуза — сладкий и заставляющий чувствовать себя комфортно.
Эмма гладит меня по спине.
— Эй, что случилось? Расскажи мне.
— Н-ничего, — отвечаю я и прижимаюсь еще сильней. Мне необходимо это объятие. И необходимо знать, что я не настолько отвратительная, как считает моя мать.
Через несколько минут я смущенно отодвигаюсь.
— Прости, что набросилась на тебя.
— Все в порядке. Я не против. Так что случилось?
Я не могу ей рассказать. Не могу, и все. Она меня возненавидит и уйдет.
— Ничего, — шмыгнув носом, я растерянно улыбаюсь. После чего опускаю ноги на пол, спрыгиваю с кровати и хлопаю в ладоши. — Давай готовить тебя к свиданию.
Эмма смотрит на меня как на сумасшедшую.
***
Я словно заключена в банку из толстого стекла. И сквозь него едва могу слышать и видеть. Такое чувство, будто время повернуло вспять, и я снова ощущаю то ледяное онемение, когда уехал Калеб. Я топила то онемение в водке, окуривала травкой и окутывала хаосом, который сама же и создавала. Самым любимым развлечением была пьяная езда за рулем. Люди грозно смотрели на меня, сигналили, а я смеялась. Обвинения меня успокаивают. Я была плохой, и людям нужно было это знать.
Кстати, быть хорошей бесит. И чтобы забыть о внезапном звонке Калеба, мне страшно не хватает покурить. Какого черта он мне звонил? Может, чтобы, как и мама, «не пригласить» меня на вечеринку? Впрочем, это даже к лучшему. Мне плевать как на эту вечеринку, так и на Калеба. Если у меня получится, я бы вообще больше никогда его не видела. Как бы я с ним столкнулась лицом к лицу? Что бы сказала?
Со мной все в порядке. Но тогда почему мне хочется плакать?
Я даже не заметила, что занятия закончились, пока не услышала скрип стульев и разговоры студентов, собирающих вещи и намеревающихся уходить.
Эмма кладет руку мне на плечо.
— Ты идешь?
— Ага. Да. Сейчас, только соберусь.
Но как только убираю в рюкзак свой блокнот и собираю всю свою зимнюю одежду, я слышу свое имя.
— Мисс Робинсон, я хочу, чтобы вы задержались.
Я нервно сглатываю от формального и сдержанного тона Томаса. И не знаю, достаточно ли у меня сил на противостояние с ним. Я говорю Эмме идти без меня, и они с Диланом уходят. Аудитория уже опустела, когда, оставив вещи на столе, я медленно подхожу к его столу.
Скрестив руки на груди, Томас наблюдает за мной с нескрываемым вниманием. Посмотрев на него, я собираю воедино отдельные части его образа. Бордовая рубашка и черные джинсы. Растрепанные волосы. Мерцающие глаза. Гладкая линия челюсти. Он мягко проводит большим пальцем по своим губам. Мне хочется одновременно и продолжать смотреть, и сбежать подальше от его мужественной красоты. Она действует слишком успокаивающе и слишком подавляюще для моих чувств.
Он второй раз оставляет меня после занятий. В первый заявил, что я к нему неравнодушна, и в итоге это стало правдой. Что он мне скажет на этот раз?
— Как вам сегодняшний урок, мисс Робинсон?
Вот я и попалась. Я практически не обращала внимания — и он это знает, уверена. Но я решаю продолжать игру.
— Отлично, как и всегда.
— Правда?
Продолжая смотреть на стол, я киваю.
— Помнишь, что я сказал, Лейла? — его сильный глубокий голос создает вибрацию по всему моему телу. — От вранья могут появиться неприятности.
Я поднимаю взгляд, чтобы посмотреть на него. Вибрация усиливается и превращается в беспорядочную дрожь, от чего я отвечаю ему хриплым шепотом:
— Небольшие неприятности меня не пугают.
Еще раз проведя большим пальцам по губам, он опускает руки и засовывает их в карманы. Молчание между нами будто имеет особый подтекст. Словно Томас что-то готов разоблачить. Мой пульс ускоряется.
— Кто такой Калеб?
У меня перехватывает дыхание, и все, что я могу сделать, — это сдавленно выдохнуть. Выдох звучит слишком тихо и слишком громко одновременно. Словно легкий ветерок. Словно взрыв.
Откуда он знает это имя?
Имя того, кого я люблю, произнесенное низким голосом Томаса, звучит неправильно. Калеб такой нежный, такой мягкий. Его имя нужно произносить тихо и с почтением. Он совершенно не похож на Томаса — как и на меня, кстати.
Когда я ничего не отвечаю, Томас хмурится.
— Он сделал что-то с тобой? Обидел?
— Что? — это допущение настолько дико, что мне не остается ничего другого, кроме как бессвязно бормотать.
— Парень, который звонил тебе вчера, — поясняет он. — Он обидел тебя? Сделал больно?
Я качаю головой, еще не успев прийти в себя от новости, что Томас знает про Калеба.
— Это не твое дело.
Я отвечаю на автомате, но вместо приказного тона говорю тихо и неуверенно. Это не его дело. Произошедшее с Калебом не касается больше никого.
Но несмотря на это, из меня рвется наружу желание во всем признаться. На долю секунды меня веселит мысль, что я обо всем расскажу Томасу. Абсолютно обо всем. Не утаивая ни единой детали.
Это совершенно новое чувство, чуждое мне и пугающее. Я не могу. Не могу рассказать ему о том, что сделала. Он меня возненавидит. Хотя это мне понравится. Мне необходимо быть обвиненной. Чтобы кто-то напомнил мне, почему я заслуживаю быть изгнанной собственной матерью. Скажи мне, какая я плохая. Какая жалкая, отвратительная и сумасшедшая.
Боже, я так запуталась.
— Я пойду, — говорю я. Потому что если останусь, то выболтаю все свои секреты.
Я собираюсь уйти, но он останавливает меня, схватив за запястье. Это второй раз, когда он прикасается ко мне. Кожа к коже. Сейчас это не так шокирует, но ощущения столь же яркие. В воздухе словно что-то взрывается, после чего наступает полная тишина. Вселенная замирает и лишь спустя мгновение возвращается к жизни. Я знаю, что дверь в коридор открыта. Знаю, что поблизости есть люди. Знаю и то, что ему не стоит держать меня за руку, но мне плевать. Я не могу по-другому…
Как и он сам, его пальцы творят магию.
Томас тянет меня к себе, заставив упереться лобковой костью в край стола, но я даже не морщусь. Наоборот — прижимаюсь сильней.
— Что он тебе сделал? — жестким тоном снова спрашивает он. Линии его красивого лица становятся резкими, а в глазах появился яростный блеск. Он злится. Но из-за чего? Может, защищая меня? Какое милое заблуждение.
Не в состоянии чувствовать что-то еще, кроме его тепла, я мотаю головой.
— Ничего.
— Лейла, — угрожающе произносит он.
Его хриплый голос, как и прикосновение, — это одна из форм гипноза. Мое тело сдается и расслабляется. И из-за моих вялых и послушных мышц разум полностью отказывает.
— Он просто… никогда меня не любил.
— А ты его любила? — его гибкие пальцы сильнее сжимают мое запястье. Он понимает, насколько крепко меня держит? Интересно, как для него ощущается моя кожа?
— Да, — я любила его. Люблю ли до сих пор? Сама не понимаю. Я так долго страдала от боли, что уже и не знаю.
Лицо Томаса меняется. Он еще никогда так на меня не смотрел. Будто увидел в новом свете. Я наслаждаюсь его вниманием, хотя и не достойна его глаз.
Я такая же, как ты, — хочется мне сказать.
В голову закрадывается мысль: а что, если мне было суждено его встретить, чтобы найти эту недостающую симметрию для своей изуродованной души? Что, если встретить Дилана с Эммой мне было так же необходимо? Мне было суждено взять в руки их разбитые сердца и залатать. Но как же мне помочь Томасу? Как исцелить его разбитое сердце?
Облизав губы, я говорю:
— Это я сделала ему плохо.
Взгляд голубых глаз загорается, как будто мои слова — это бензин, который плеснули на тлеющие угли.
— И что именно ты сделала?
— Я заставила его переспать со мной.
Ну вот. Я это сказала. Теперь это больше не секрет. Томас молчит и ждет, когда я продолжу.
— Мы были на вечеринке. Вернее, это он был на ней. А я просто приехала с ним увидеться. В следующем месяце он должен был уехать в колледж, и я была в отчаянии. Я всегда его любила, но он никогда не отвечал мне тем же. В общем, я… хм… напоила его, — я съеживаюсь, но все равно продолжаю: — Н-но это еще не все. Я подсунула ему травку и соврала, что это обычная сигарета. А… а потом я использовала его.
Я помню изумленный взгляд Калеба и его расслабленные улыбки. В тот вечер его прикосновения не были мимолетными. Он гладил меня по щеке, пока о чем-то говорил. Обнимал меня за талию, когда мы танцевали. Раньше мы никогда не танцевали, так плотно прижавшись друг к другу. Я ощущала его учащенное сердцебиение и врала сама себе, будто это из-за меня, а не марихуаны или выпивки.
Еще никогда я не ощущала себя настолько любимой и отвратительной одновременно. И до сих пор не понимаю, как такое возможно. Это было ужасно, но, словно голодная собака, я поглощала его внимание и его любовь. Потому что какой еще у меня был выбор? Он должен был уехать. И не любил меня такой, какая я есть. Все, что мне оставалось, — это дать ему свое тело, причем я знала, что он откажется, если будет трезвым. Поэтому я немного подправила его восприятие.
— Мы оказались в комнате, куда не доносились звуки вечеринки, и я… поцеловала его. Он… м-м-м… поначалу не ответил, но потом сдался и… — мой вздох получается прерывистым.
— А потом я разделась и, взяв его руки в свои, прижала их к своему телу. Я-я видела, что он был смущен и не хотел, но я села на него верхом и… хм, да. Мы переспали. Мне казалось, что если я отдам ему свою девственность, то Калеб меня полюбит, но он уехал на следующий же день, — я моргаю, и одинокая слеза скатывается по моей щеке. — Так что это я сделала ему больно. Он был моим лучшим и единственным другом, но еще он мой сводный брат. А я заставила его заняться сексом со мной.
Вот и все. Все мои уродства на виду. Как и причины моей неправильности. Вот почему меня заточили в этой башне. И почему меня ненавидит собственная мать. Интересно, что она сделает, если узнает, как я поступила с Калебом. Она знает, что я люблю его, но не в курсе, как много табу я нарушила ради этой любви.
Когда Томас отпускает мое запястье, болезненное давление внизу живота ослабевает и превращается в приглушенную пульсацию.
Он хочет отодвинуться от меня.
В ответ на это слез становится еще больше — соленая и бесполезная вода, которая никогда и ничего не сможет исправить. Я ему противна, но разве в этом его можно винить? Я подавляю рвущийся наружу всхлип, но вместо него получается икота, когда на своей щеке чувствую его грубую руку.
Томас прикасается ко мне своими волшебными руками.
Это уже третий раз, и он куда интимней предыдущих. Мозолистые пальцы скользят по моему подрагивающему подбородку. Успокаивая и прекращая дрожь. Будто лекарство.
— Я боюсь… — срывающимся голосом шепчу я.
— Чего?
Навсегда остаться такой же несчастной и одинокой.
Но вслух ничего не произношу, потому что сейчас мы стоим ближе друг к другу, и я совершенно потеряла голос. Я замечаю поры на его коже и пятнышки на радужке глаз. Его взгляд скользит по моему лицу — слева направо и сверху вниз.
Я кладу руку на его ладонь и чувствую волоски на костяшках. Они будоражат мои чувства, делают их текучими и горячими. Я хочу пососать его пальцы. Хочу попробовать их на вкус, после того как он прикоснется ко мне. Хочу знать, на что похожа его кожа после соприкосновения с моей.
Мое воображение атакует образ его — и его пальцев — внутри меня. Внутри моей жаждущей сути. Образ, где он ласкает меня, одновременно успокаивая и настойчиво поглаживая. Я фантазирую, как его пальцы немного согнутся и, собрав изнутри мои соки, дадут мне их попробовать.
Это желание настолько сильное, настолько живое, что, не в состоянии сдержаться, я прижимаюсь носом к его ладони. Я практически перестаю его видеть, образ Томаса становится подернутым посверкивающей дымкой.
К черту сдерживаться. Я это сделаю. И попробую его кожу на вкус. Всего раз, — обещаю я себе. Плохо от этого никому не станет.
Я поворачиваю голову и высовываю язык. И прикасаюсь кончиком к месту, где пальцы соединяются с ладонью. Касание едва заметное. В этой огромной бескрайней вселенной оно практически не существует, но вкус его кожи взрывается у меня во рту — насыщенный и провокационный. Солоноватый шоколад.
С некоторым запозданием я понимаю, что он напряжен. Дымка рассеивается, и я возвращаюсь в реальность. Отодвигаюсь от стола и от его прикосновения, а он остается неподвижным. Его рука тяжело падает вниз.
— Прости, — говорю я, стыдясь своих действий и неумения себя контролировать. Кара была права: мне нужно над этим поработать. Как следует поработать.
Томас ничего не говорит. Его безмолвие и ничего не выражающее лицо пугают меня больше, чем возможный крик. Этому молчанию я бы предпочла его гневный окрик.
Боже, какая же я глупая.
— Мне пора.
ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ
Сейчас суббота, и мы с Эммой, Диланом и Мэттом сидим в «Алхимии». Кода нашли столик в центре зала, Эмма поставила на него большую сумку со всякими штуками. Сегодня вечер экспромта «Лабиринта», и она отвечает за подсказки.
— Напомни, зачем тебе понадобилась эта огромная сумка? — интересуется Мэтт и, сняв с себя пальто, вешает его на спинку стула, после чего садится.
Дилан презрительно смотрит на него.
— Там у нее подсказки, придурок.
Глядя на сумку, будто в поисках чего-то, Эмма довольно улыбается. Так мило, что она стесняется в его присутствии, хотя обычно Эмма уверена в себе. На этой неделе у них с Диланом было несколько свиданий. И оказалось, что Дилану нравится апельсиновый цвет. Я так и знала.
— А разве ты не можешь показать картинку или что-то еще в телефоне? — он толкает меня плечом. — Поддержи меня, Лейла. Сумка просто чудовищная.
— Вообще-то, меня все устраивает, — отвечаю я. — Мне нравится смотреть на то, о чем надо писать.
Когда Эмма рассказала о вечере экспромтов «Лабиринта», моей первой реакцией была паника. Я сомневалась, что смогу участвовать в чем-то подобном. Я же не готова. И не успела прочитать все свои книги.
Чтение теперь стало важной частью моей жизни. На прошлой неделе я всего раз бродила по улицам. А у дома Томаса вообще не появлялась. Я допоздна засиживалась над книгами. И обнаружила там так много всего, что кажется, будто все эти годы я жила как в тумане. Время работает против меня. И наверное, я умру, прежде чем прочитаю все свои книги.
Я пытаюсь успокоиться. Ведь я здесь, чтобы стать частью чего-то большего, чем я — искусства, — и самой мне не обязательно быть совершенной. Все, что меня должно волновать, — это возможность увидеть Томаса.
Прошло шесть дней, с тех пор как я плакала перед ним, рассказала уродливую историю своей любви и лизнула руку, желая ощутить его вкус. С тех пор я видела его в кампусе, в «Кофе со сливками», куда он заходил с Ники, и в коридоре «Лабиринта», когда Эмма притащила меня на читку пьесы. В тот единственный раз, когда гуляла ночью, я видела его в парке на скамье. Он курил, проиграв битву с самим собой, а я пряталась за деревом.
Он словно повсюду. Хранитель моих секретов. Единственный, кто знает, что я сделала.
И я ему неприятна. Он даже не смотрит на меня. Для него я стала невидимой. Почему-то это очень больно, ведь глубоко внутри я надеялась, что он тоже расскажет о себе.
Я и правда отвратительна.
Открывается дверь, и в бар входит Сара Тернер, а за ней профессор Мастерс и Томас. Шлейфом за ним следует вихрь снежинок, после чего дверь закрывается.
— Привет, детки, — небрежной походкой идя к нам, приветствует нас профессор Мастерс. В ответ раздаются смешки и ответное «Добрый вечер, профессор».
Ни на кого не обращая внимания, Томас отходит от тех двоих и направляется прямо к барной стойке. Сара бросает на него злобный взгляд, но профессор Мастерс подталкивает ее идти дальше.
Заказав себе выпить, Томас садится на барный стул, поставив длинные ноги на перекладину. Потом снимает куртку, под которой на нем надета серая футболка, плотно обхватывающая плечи и бицепсы. Затянутые в джинсы, мышцы бедер то напрягаются, то расслабляются, когда он нетерпеливо постукивает правой ногой.
Бармен ставит перед ним шоколадный мартини, и я смущенно отворачиваюсь. Его слабость к шоколаду плавит мои внутренности. Я еще не думала, что буду делать в понедельник. Просто вернусь в класс? Или же спрячусь и больше не покажусь ему на глаза?
Эмма встает, приветствует всех пришедших и дает инструкции. Потом ныряет рукой в сумку и что-то достает оттуда.
— Итак, подсказка первая. Бутылочка острого соуса. Вы должны написать короткое стихотворение, но не меньше двадцати строк длиной. Все, что вам придет в голову, когда вы видите соус, на котором написано «Острый». Я пущу его по столикам, чтобы все могли посмотреть поближе.
Моя первая мысль — что я терпеть не могу острый соус. Я больше по сладостям. На самом деле, я единственная сладкоежка в нашей семье или в семьях, частью которых я была на протяжении долгих лет. Мама, Калеб, папа, отец Калеба и даже Генри — все они не любят сладкое.
При мысли о Калебе я вспоминаю о своем лежащем в кармане пальто телефоне. После того раза в «Кофе со сливками» он звонил мне еще несколько раз, но я так и не ответила. Я понадеялась, что он оставит сообщение и даст знать, в чем дело, но он не написал.
Почему он продолжает мне звонить? Взять трубку меня удерживает страх — такой же импульсивный, как и я сама.
Эмма пихает меня локтем и говорит писать.
Точно. Острый соус. Покусывая кончик ручки, я пытаюсь думать… нет, чувствовать. Что заставляет меня чувствовать такой соус? Он острый. И он горячит. Чувствуй. Ощущай.
Когда закрываю глаза, то первое, что я вижу, — это красивое лицо Томаса. Его острый взгляд. Когда он рядом, каждая молекула моего тела и каждый сантиметр кожи воспламеняется. У него есть сила менять погоду — с холода на жару.
Мои глаза резко открываются. Томас Абрамс — Огнедышащий. Он дышит пламенем и похотью, заставляя меня забыть обо всем на свете и согласиться. Согласиться преследовать его. Согласиться на безумие. Решиться провести языком по его коже.
Дрожащими руками я начинаю писать, пытаясь ухватить образ и облечь в стихи. Ручка движется, и из-под нее текут слова. Они текут даже без моего ведома и усилий. Все, что я ощущаю, — это сочащийся сквозь тело жар.
Я подпрыгиваю от неожиданности, когда Эмма хлопает в ладоши.
— Все, народ, пора заканчивать. Положите ручки.
По залу проносится бормотание, а потом и разговоры, когда Эмма спрашивает, кто готов первым прочитать написанное. С горящими щеками я убираю свой блокнот в карман. Пока все заняты обсуждениями, я встаю и крадусь к выходу. Мне нужно в дамскую комнату и срочно успокоиться.
От неожиданного холода в коридоре я потираю руки и делаю глубокий вдох. Меня с трудом ноги держат. Значит, вот каково поэтам, когда они вкладывают в слова свои чувства? И вот как себя чувствует Томас? Это будто кровотечение. Все равно что бежать несколько миль и сбить дыхание.
Прежде чем я успеваю дойти, куда собиралась, меня оттаскивают в сторону и толкают в темную крохотную комнатку. Я даже не успеваю закричать, как деревянная дверь захлопывается и меня окружает уже знакомое тепло.
Это Томас.
Он затащил меня в какую-то кладовку и, схватив за локоть, толкнул к влажной стене.
— Т-томас, — тяжело дыша, говорю я. — Что… Что случилось? Что ты делаешь?
Его точеное лицо — словно эскиз, состоящий из густой тени и черточек тусклого света. Единственной яркой деталью остаются его горящие глаза. Я чувствую вкусный аромат сигаретного дыма, и мне почти больно.
Сейчас, когда первый шок прошел, мое тело расслабляется от радости находиться после всех этих дней в фокусе его внимания. Он видит нас. Тут есть о чем беспокоиться, но у меня слишком мало на это энергии.
— Томас? — шепчу я снова, поняв, что он не ответил. — Чт… что ты делаешь?
Его дыхание становится прерывистым, и эти струи воздуха касаются моей кожи, в то время как он внимательно вглядывается мне в лицо.
— Ты все еще любишь его?
— Что?
— Все еще любишь того парня?
— Я… Да.
— Сильно?
Мое дыхание становится таким же, как и у него: резким и прерывистым. Я рассматриваю его, этого мужчину, стоящего напротив меня. И вижу его уязвимость. Его обычная уверенность в себе дала трещину. Потому что я рассказала ему свою историю? Может, Томас наконец расскажет мне о себе?
— Томас, в чем дело?
— Как сильно ты его любишь, Лейла? Любишь ли ты его так сильно, что ненавидишь саму себя? Что не можешь вынести даже собственный вид в зеркале. Постоянно ли ты думаешь о том, как все исправить? Как все улучшить. И как стать лучше.
Он не просто растерян — он будто разваливается на куски. В выражении его лица — чистая агония. Его глаза слишком яркие и слишком сильно блестят. Все это чересчур похоже на меня, но прямо сейчас меня волнует другое. Я беспокоюсь о Томасе.
— Да, — шепотом отвечаю я. Потом поднимаю руку и прижимаю ее к его небритому лицу. У него высокие и будто высеченные из гранита скулы, а тепло под моей ладонью пульсирует. — Но я так от этого устала, — от моего признания его взгляд разгорается еще сильнее. Он Огнедышащий. Не понимаю, почему я раньше этого не замечала. Это же так очевидно. Его взгляд всегда разжигал огонь в моей душе.
Томас стоит близко-близко и без единого прикосновения всем телом прижимает меня к стене. Нависая надо мной, он согревает меня и дает импульс моим нервным клеткам. Я превращаюсь в спутанные оголенные провода, искрящиеся похотью и адреналином. Я словно сахарный сироп — густой и сладкий. Словно пьянящий виски.
Подойдя ближе, Томас упирается ладонями в стену по обе стороны от моего тела, заперев меня в клетку. Вены на его бицепсах набухают и становятся темно-фиолетовыми; я фантазирую, что они словно лентой стягивают меня поперек тела.
Томас глаз не сводит с моих приоткрытых губ, и внезапно те становятся единственным местом на моем теле, которое я в состоянии ощущать. Губы начинают пульсировать от жажды.
— Я тоже, — будто самому себе шепчет он.
Сказанное предназначалось не для моих ушей, но все же я услышала. Меня захватил ураган желания его поцеловать. Это желание будто торнадо или лавина, и я решаю сдаться и сделать это. Все в порядке. Позже я возьму вину на себя.
Нарушив все правила, я тянусь к нему и целую. Оставляю едва ощутимый чмок на его пухлых губах. Этот поцелуй — символ нашей с ним общности, который намекает, что я его понимаю. Но одного мне недостаточно. Поцелуй только разжигает мою страсть. Поэтому я целую его еще раз, в уголок губ, а потом и еще — в щеку.
Мне мало этих еле ощутимых прикосновений. Я хочу еще. Хочу большего. Но брать не смею — готова только отдавать. Я справлюсь.
Но тут, запустив руку мне в волосы, Томас меня останавливает. Я поднимаю на него испуганный взгляд, готовая принести извинения — не за сам поцелуй, а за то, что принудила его к нему. Во взгляде Томаса сплелись страсть, непреклонное намерение и неистовая потребность, и несмотря на слои одежды и тепло его тела, я начинаю дрожать.
— Ты пытаешься поцеловать меня, Лейла? — хрипло спрашивает он, сжав пальцы в копне моих волос.
Неужели не понятно? Наверное, я свечусь румянцем как неоновая вывеска. Сглотнув, я киваю.
— Да.
Томас приближается еще на сантиметр, по-прежнему не прикасаясь ко мне — насколько это вообще возможно, — но став нереально близко.
— Если вы хотите меня поцеловать, мисс Робинсон, вам следует сделать это получше.
О боже, неужели он так меня назвал — сейчас, здесь? Мой позвоночник выгибается, а отяжелевшая грудь сосками скользит по его содрогающейся от рваного дыхания груди.
— К-как? — на контрасте с собственными смелыми действиями, простодушно интересуюсь я. Его суровый профессорский тон заводит, делает меня дикой и не способной контролировать себя.
Целую секунду Томас молчит и просто смотрит. И я боюсь, что он пойдет на попятный и откажется от того, что мы собирались сделать (чем бы оно ни было и каким безумным ни казалось), но потом я чувствую аромат алкоголя, когда, подавшись вперед, он рычит:
— Вот так.
Накрутив мои волосы себе на руку, Томас сминает мои губы своими. Втягивает их в рот, и все, что мне остается делать, — это не мешать. Положив руки ему на плечи, я ощущаю горячие мускулы под мягкой тканью его футболки. Вздымающаяся грудная клетка Томаса скользит по моей груди, словно волна. Я хочу утонуть в ней. Испытываю жажду ощутить на своей коже каждую каплю его пота и похоти. Я тяну его на себя, чтобы он придавил меня своим массивным телом, но Томас не поддается.
Он стоит не двигаясь и не отпускает мои губы. Внутрь ныряет его язык и скользит по кромке моего рта, по зубам и языку — в попытке познать мой вкус: глубинный, настоящий. И, издав низкий стон, Томас многократно усиливает хватку в моих волосах.
Мне больно, но все же не до такой степени, чтобы возбуждение исчезло. Я прекращаю попытки привлечь его к себе и сама тянусь к нему. Поднимаю ногу и кладу Томасу на бедро. Скользнув руками выше, сцепляю их на шее. Забыв про стыд, я ползу по нему вверх, словно ядовитый плющ.
Прижимаясь к нему всем телом, целую его, отвечая, как умею. Вливая в него всю свою душу. И на эти несколько мгновений становясь целительным бальзамом для его ран.
Но долго это не продолжается. Потому что верх берут мои желания и эгоизм. Между ног становится влажно, от чего начинаю забывать, что я здесь, чтобы отдавать, а не брать.
Качнув бедрами, я ищу возможность потереться о его твердое тело. И да, я чувствую, что искала — прижатый к моему животу член. Он огромный. И твердый. И обжигающе горячий. Он трепещет жизнью, и когда я потираюсь об него, ощущаю пульсацию. Из груди Томаса вырывается мучительный стон.
Он прерывает поцелуй, и даже моя душа скорбит о потере. Захлебываясь воздухом, мы молча смотрим друг на друга. Я все еще цепляюсь за него, а его член все еще зажат между нашими возбужденными телами. Поднимаю ногу чуть выше, и он интенсивной пульсацией откликается на это еле заметное движение.
— А ну, не двигайся, — говорит мне Томас и сильнее тянет за волосы.
— Хорошо, — я тяжело сглатываю. — Прости.
Мои слова вызывают у него страдальческую усмешку.
— За что?
— Что заставила тебя поцеловать меня.
В ответ на это он стискивает челюсть — движение, уже ставшее легендарным. Мышца дергается, будто еще одно бьющееся сердце. Или бомба с часовым механизмом.
— Но ты именно это и сделала, так ведь?
Не в состоянии говорить, я просто киваю.
В ответ Томас протискивает бедро между моих ног и слегка надавливает. Это похоже на разряд тока, помноженный на удар молнии, и меня практически охватывает пламя.
— Чт-что… — я пытаюсь произнести хотя бы слово, но Томас усиливает давление, от чего из меня вырывается стон.
— Почему? — отмечая для себя мою очевидную реакцию, шепотом спрашивает он. — Почему ты заставила меня это сделать, Лейла?
— Потому что я…
Томас повторяет свои движения, превратив меня в стонущее и бессловесное нечто. Что он творит?
— Потому что ты — что?
— Потому что это очень похоже на меня. Я плохая, эгоистичная и… — слова превращаются в еще один стон, в котором возбуждение сливается со стыдом. — И беру что хочу, поскольку не могу себя контролировать. Да и не испытываю желания.
— И ты хочешь меня, верно? — когда я ничего не отвечаю, Томас дергает меня за волосы. — Ты хочешь меня, Лейла.
Он не спрашивает, но я все равно киваю. Да, я хочу его. Хотела с тех пор, как впервые увидела. И с каждым днем хочу все больше и больше. Потому что он такой, как я: безответно влюбленный. И мне хочется помочь ему хоть как-нибудь.
Глаза Томаса сияют удовлетворением и победой. Ему нравится мое отчаянное желание, и в ответ я хочу его еще сильней.
Мы наломали дров, мы в полной заднице, — говорит мое сердце-всезнайка. Я согласна.
— Я могу делать с тобой что захочу, и ты мне позволишь. Это так, Лейла? — словно смакуя собственные слова, Томас облизывает губы. — Могу сказать тебе подпрыгнуть, а ты лишь уточнишь, насколько высоко. Могу потребовать, чтобы разделась, и ты подчинишься с такой скоростью, будто вся твоя одежда горит.
— Да, — со стоном отвечаю я.
В награду Томас ритмично прижимается мускулистым бедром между моих ног, и мое лоно пульсирует. Одурманенный похотью мозг приказывает мне придвинуться, встретить его движение своим, и я слушаюсь. Скольжу вверх и вниз по этой сводящей с ума ноге и провожу ногтями по коже его головы, когда удовольствие нарастает.
Животом ощущаю яростную пульсацию его члена. Обожаю ее. Обожаю и тот факт, что, отбросив все свои запреты, я опустилась до подобного: стала опьяненной вожделением марионеткой. Обожаю, что Томас так этим доволен. Он больше не печален и не уязвим.
Да, обожаю все это разом.
Его боль станет моей, и это заставит меня кончить, потираясь об его ногу. Я смотрю на Томаса затуманенным взглядом. Рассматриваю высокомерные высокие скулы и горящий на них румянец. Смотрю на расширенные зрачки и приоткрытые влажные губы. И двигаюсь на его бедре. Вверх и вниз. Вверх и вниз.
— Конечно же, ты подчинишься, — хрипло говорит Томас. — Ты кончишь сейчас, Лейла?
Я резко несколько раз киваю. В глубине души осознаю, насколько все это неправильно и постыдно, но остановить себя уже не могу. Как и сказал Томас, я сделаю сейчас ради него что угодно.
Мои движения становятся хаотичными, резкими и необузданными. Я так сильно жажду этого удовольствия. Хочу, чтобы моей влаги стало так много, что, пропитав белье, она оставила бы след на его джинсах.
Этого броского и вульгарного образа становится более чем достаточно, и я кончаю. Сильно и издавая стоны. И именно так, как я того хотела — нет, как он того хотел. Я всего лишь следовала приказам. Мой разум словно заполнен ватой и искрами от статического электричества. Хочется, чтобы так было всегда.
Боже, это было так хорошо. Так хорошо.
Давление на мое тело ослабевает. Больше нет его бедра между моих ног и жесткой хватки в моих волосах. Когда оргазм стихает, Томас меня отпускает и, в свою очередь, освобождается от моих объятий.
Еще толком не успев прийти в себя, но изо всех сил стараясь, я прислоняюсь к стене. Томас оглядывает меня своими пылающими глазами, упираясь руками в стену по обе стороны от моей головы.
— Ты понимаешь, что я пытаюсь тебе сказать, Лейла? Ты слышишь, как сильно бьется твое сердце? Будто хочет выпрыгнуть из груди. Неужели ты думаешь, что можешь его контролировать? Просто взять и сказать ему, чтобы оно успокоилось. У тебя бедра еще дрожат. Уверен, что между ног все еще мокро, да? Неужели думаешь, будто сможешь все это взять под контроль?
Я мотаю головой.
— Вот именно. Ты удивишься, узнав, как много всего вообще не твоя вина, — Томас пронзает меня взглядом, подчеркивая важность своих слов.
На какое-то мгновение я не могу установить связь между тем, что он мне сказал, и произошедшим, но потом все понимаю. Томас хочет меня оправдать. Хочет сделать невиновной за этот поцелуй и за то, что принудила его к нему. Интересно, в это прощение включено и то, что я сделала с Калебом? Отпущены ли и эти мои грехи?
Мое сердце усмехается. Шутишь, что ли? Мы обманом заставили его заняться сексом.
— Я видела тебя, — не подумав, брякаю я.
Едва слова срываются с губ, я понимаю, что они тут же уничтожат добрые чувства, которые Томас ко мне питает.
— В окно, — добавляю я, потому что не могу не чувствовать себя виноватой.
Я несу ответственность за все свои поступки. За разбитые вазы. За грязные следы на плиточном полу. За утащенные из шкафа бутылки с выпивкой. И украденное нижнее белье Калеба. За то, что он на месяц раньше сбежал в колледж и с тех пор ни разу не появлялся дома. За то, что воровала в магазинах и пьяной гоняла за рулем, за испорченную мамину вечеринку и разбитую ледяную скульптуру.
Все это — моя вина. Просто я всегда беру и делаю что-то подобное. Я хочу, чтобы меня обвинял и Томас.
— Я видела, как ты одинок. Видела гнев на твоем лице и то, как ты… бродил по комнате, словно запертый в клетке зверь, — в моей памяти всплывает та сцена: как он ходил вперед-назад, запустив руки в волосы.
Потом сцена меняется, и вот я уже за окном его спальни.
— И… И потом ты был с ней… С Хэдли. Я… Ты о чем-то говорил и выглядел таким грустным и злым, а потом она ушла. Я смотрела тебе в спину. Твои плечи были так напряжены, и я видела, что ты изо всех сил старался сохранять спокойствие. Потом взял вазу, и я решила, что ты сейчас бросишь ее в стену и разобьешь, потому что твое сердце тоже разбито, но ты сдержался. И осторожно поставил ее на место. Ты гораздо лучше меня. Я… Я бы так не смогла.
Томас стоит совершенно неподвижно. Я даже не знаю, дышит ли он. Видит ли меня.
— Т-томас, прости меня. Я не собиралась подсматривать, я…
Наконец он слегка отодвигается, и свет рассекает его лицо на две половины — затененную и освещенную. Он кажется зверем — с горящим взглядом и неподвижным лицом. Впервые с момента своей исповеди я по-настоящему пугаюсь.
Я вижу, что он хочет что-то сделать — возможно, навредить мне физически. Тело напряжено, и весь он кажется больше, выше и едва сохраняющим контроль. На долю секунды я думаю, что сейчас он его потеряет. Его руки сжимаются в кулаках, но потом следует глубокий и прерывистый вздох.
— Держись от меня подальше, мать твою, — тихо припечатывает Томас.
После чего стремительно выходит из кладовой.
ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ Бард
Мой отец был влюблен. Его уже десять лет как нет в живых, но единственное, в чем я уверен насчет него, — это что он любил мою мать.
Которую я никогда не знал. Никогда не слышал ее голос и никогда к ней не прикасался. Она умерла, едва я родился. Конечно же, у меня есть ее фотографии, и я видел ее голубые глаза, так похожие на мои. Она была красивой женщиной с каштановыми волосами и широкой улыбкой.
Во всем остальном мои знания о ней сильно ограничены. Я не знаю, что это была за женщина, которая вызывала такую преданность у мужчины, никогда не понимавшего, как любить собственного сына. Все, что я о ней знаю, пришло ко мне из стихов отца, о существовании которых я понятия не имел, до тех пор пока мне не исполнилось достаточно лет, чтобы осознать: мой отец совсем не похож на других отцов.
Он был всегда занят. Всегда молчал. Сутулый и неопрятный человек, который скорее спотыкался, нежели ходил.
Мой отец был поэтом.
Его стол всегда был завален горами бумаг. Большинство было покрыто паутиной написанных чернилами слов.
Он писал и писал, и писал, но никогда ничего не публиковал.
Потому что писал он только для себя. И словами воскрешал свою мертвую жену. Он писал о ней и только о ней, и большинство стихотворений остались незаконченными и неотредактированными. Они похожи на невнятное бормотание о шелковистых волосах, сине-зеленом шарфике, родинке на плече и печенье с арахисовым маслом.
Я понял, что это была за любовь — жестокая, мрачная и нескончаемая. Похожая на безумие.
Уехав из этого города, я знал, что никогда не вернусь. Я познал здесь только одиночество и пример для подражания, который на меня даже не смотрел. Этот город — не мой дом. И отец — не отец, хотя он передал мне поэтический дар. Или же это бремя. Оно и есть причина всего происходящего со мной. Не познай я магию слов, моя жизнь сейчас была бы совершенно другой.
Но сегодня вечером охватившее меня безумие иной природы. Оно не имеет ничего общего с любовью и связано с девушкой с фиолетовыми глазами, которая отказывается покидать мои мысли.
Расставив пальцы и опираясь ладонями на стену, я стою под потоком ледяной воды. Воздух вокруг меня покалывающе-холодный, но моя кожа помнит горячее тело Лейлы.
Сместившись немного в сторону, я ощущаю, как сквозь тело словно проносится разряд тока, когда член прикасается к холодной плитке. Он стоит — твердый и агрессивный. Такой же дикий, как и я. Как и чувства внутри меня — незнакомые и примитивные. Они будто были скрыты, запрограммированы в генах, а я обнаружил их только сейчас. Непреложная необходимость кем-то обладать, быть воздухом, которым дышат, и вселенной, в которой этот человек живет, — это и дает силы, и отнимает одновременно.
Я закрываю глаза, и все, что вижу, — это она, цепляющаяся за мое тело и не перестающая двигаться. Как будто она умрет, если не прикоснется ко мне. Как будто потеряла рассудок. Словно снежный ком, который я не в состоянии остановить, мое возбуждение только нарастает, и, закрыв глаза, я вижу Лейлу. Но не ее раскрасневшееся лицо. Я вижу ее дух. Как она встала посреди многолюдной аудитории и прочитала вслух свое дерьмовое стихотворение. Или как у нее хватило мужества показать мне свою неприглядную сторону. Плакать в моем присутствии, быть уязвимой. Или же как она кинулась ко мне, зная при этом, что я могу ее отвергнуть.
Когда я успел стать для кого-то таким жизненно важным?
От этого мне хочется притянуть ее к себе, хотя я знаю, что должен оттолкнуть. Как она посмела шпионить за мной? Как посмела судить о моей жизни? Что она вообще в этом понимает?
Мне не следовало идти за ней. Не стоило терять контроль и целовать ее в ответ. Я отлично справлялся и игнорировал ее всю неделю.
Но она лизнула мне руку. Прямо в классе. Средь бела дня. Кто может позволить себе такое безумство? И такое… эротичное безумство.
Из моих размышлений меня выводит звук. Мягкий стук шагов. Я знаю, это она; я узнаю эти легкие шаги где угодно.
Но как мне теперь смотреть Хэдли в глаза?
Как рассказать ей об еще одной ошибке, которую я совершил, в то время как пообещал, что она всегда будет на первом месте? Как трус, я хочу спрятаться здесь, но между нами есть тяга. Когда она где-то поблизости, я не могу находиться на расстоянии. Это какая-то чертова физика.
Я выключаю воду, вытираюсь и с полотенцем на талии выхожу из гостевой ванной.
Пока иду по коридору, в моей голове проносятся сотни различных сценариев, как ей сказать. И вообще — говорить ли. Я съеживаюсь при одной мысли об умалчивании, но при этом не перестаю задаваться вопросом, почему так себя чувствую. Потому что хочу быть честным со своей женой или же потому, что этот поцелуй означал нечто большее, чем простая ошибка, и заслуживал признания?
Прежде чем я успеваю проанализировать эту абсурдную мысль, я замечаю ее. Хэдли стоит у входной двери с небольшой сумкой в руках.
При виде ее я снова возвращаюсь в этот мир, в свою реальность. От этого Лейла кажется существом из параллельной вселенной.
— Хэдли? — я произношу ее имя вопросительным тоном, хотя уже заранее знаю ответ на свой незаданный вопрос.
Еще никогда я так себя не чувствовал. И еще никогда у меня не останавливалось дыхание и не замирало сердце. Люди постоянно говорят об этих симптомах влюбленности, но это не любовь. Это пугающее чувство — чистый и неподдельный ужас. Он охватывает мое тело целиком.
Хэдли уходит от меня. Навсегда.
Она поворачивается ко мне, и выражение ее лица настороженное, но в глазах пустота. А поза и напряженная, и кроткая одновременно.
— Я еду к Бет.
Я слышу ее спустя секунду, когда звук прорывается сквозь окутывающую тишину.
— Что?
— Вернусь в среду.
— Вернешься?
Она хмурит брови — именно это меня в ней и привлекло с самого начала. Так странно, но желание разгладить морщинки у нее на лбу у меня сейчас не появилось.
— Мне нужно немного времени для себя, — продолжает она. Ее мягкий голос когтями царапает мне кожу.
— А как же Ники?
Я уже как-то задавал этот вопрос. И подобный разговор у нас тоже уже был. В ночь, когда Лейла видела меня в окно, мы с Хэдли спорили именно об этом. Я хотел, чтобы она осталась, а она хотела на несколько дней уехать.
Хэдли качает головой.
— Я ему не нужна.
А как же я? Ты нужна мне.
— Ты сейчас хочешь сказать, будто ты не нужна своем сыну?
Хэдли сглатывает, и у нее в глазах появляется странный взгляд.
— У него есть ты, а еще несколько дней здесь побудет Сьюзен. Мне просто… нужно уехать.
— Почему? От чего именно ты хочешь уехать?
— Я не хочу спорить, Томас. Просто… я хочу уйти.
— И ты поэтому крадешься посреди ночи? Потому что не хотела спорить? — не дав ей ответить, я продолжаю: — Но знаешь, что? Тебе не удастся избежать спора. Ты не можешь просто взять и сбежать от меня!
Я знаю, что мне стоит себя контролировать. И это не ее вина, что она захотела уйти. Это все я. Все испортил я.
Но какого черта? Разве она не видит, как сильно я ее люблю? И как ее уход меня уничтожит. Если Хэдли меня любит, почему она так со мной поступает?
Она меня не любит.
— Томас, я не…
Я делаю шаг к ней.
— Что я делаю не так? Скажи. Чего ты от меня хочешь? Что мне нужно сделать, чтобы ты осталась? Потому что я сделаю что угодно, — пока сам себя не отговорил, я протягиваю руку и хватаю ее за плечо. От моего прикосновения она вздрагивает, и я чувствую обжигающий гнев, обиду и страх.
Она не может меня бросить. Не может. Я не могу остаться один.
— Раньше я по-мудацки вел себя с тобой, но сейчас изменился. Скажи, что ты от меня ждешь, и я дам тебе это в ту же секунду. Только… не уходи.
Слова верные, я это знаю, но мой голос неправильный. Как и кипящие внутри меня эмоции. Все это плохо. И эта темнота, и это молчание, и то, что я стою в одном полотенце, и то, что умоляю свою жену остаться. И что она стоит, не шелохнувшись. И что ее взгляд — это взгляд загнанного в ловушку зверя.
Хэдли чувствует себя со мной как в ловушке.
— Я хочу, чтобы ты отпустил меня, — шепотом говорит она.
От испуга я цепляюсь за нее еще сильней.
— Нет. Нет, я не хочу. Я буду бороться за нас. И сдержу обещание, потому что люблю тебя.
Слова звучат как обвинение. Они звучат попыткой заставить ее понять и заставить остаться.
— Мне это не нужно. И я хочу, чтобы ты меня отпустил, — снова говорит она, и на этот раз ее просьба обладает силой. Я отпускаю ее, и моя рука опускается, вялая и бесполезная.
Она уходит от меня.
Она. Уходит. От меня.
Глаза щиплет, и я тяжело сглатываю. Заметив это, Хэдли поднимает руку и кладет ее мне на щеку. Содрогнувшись, я прижимаюсь к ней щекой, словно могу удержать ее физически.
— Не хочу, чтобы тебе было больно, — переполненным эмоциями голосом говорит она.
— Тогда не уходи, — хрипло шепчу я. — Ты мне нужна.
Она печально качает головой.
— Мне просто нужно немного времени. Пожалуйста.
Ради нее я все бросил. Все, что было для меня важно. Я выполнил свою часть сделки. И важней ее в моей жизни больше ничего нет.
Так почему она не может сделать то же самое? Почему она не может меня любить?
Ее маленькую руку обхватила моя большая рука. На какое-то мгновение мне хочется продолжать сжимать, до тех пор пока я не сломаю ее тонкие пальцы. Может, хотя бы эта физическая боль расскажет ей, как я сгораю изнутри. Может, тогда она останется.
Но я отпускаю ее руку и отступаю на шаг.
— Как ты доберешься? — стиснув зубы, спрашиваю я.
Хэдли молча всматривается в мое лицо. Я не скрываю ни злость, ни боль. Надеюсь, она увидит опустошение, которое после себя оставляет. Надеюсь, она увидит его в своих кошмарах, как в своих я вижу ее равнодушие.
— Я вызвала такси. Оно уже здесь, — отвечает она.
— Подожди, я что-нибудь надену и провожу тебя.
— Это не обязательно.
Я хмуро смотрю на нее, и она замолкает. Если уж моя жена собралась уезжать, я сам ее выпровожу. Несколько минут спустя мы стоим у открытой двери такси. Хэдли кладет сумку на сиденье и садится в машину. Не глядя на нее, я захлопываю дверь и слегка шлепаю по крыше, чтобы водитель трогался. Чувствую на себе взгляд Хэдли, но так и не поднимаю голову. Я просто разворачиваюсь и иду к дому — к этому нагромождению кирпичей, которое мне хочется разобрать голыми руками.
***
Когда Хэдли ушла от меня в прошлый раз, мне понадобилось два дня, чтобы заметить ее отсутствие. Я не горжусь этим. На самом деле, мне очень стыдно, что я не сразу обратил на это внимание. Я был полностью сосредоточен на сборнике стихов, над которым работал. И не думал ни о чем другом, кроме как о дедлайне. Даже не могу вспомнить, ел ли я и вставал ли из-за стола, хотя, конечно же, должен был.
Я практически ничего не помню из тех сорока восьми часов, пока в дверь моего кабинета не раздался стук, который резко вытащил меня из полубессознательного состояния. После этого мои воспоминания уже более четкие. Я помню, как в кабинет вошла Хэдли. Помню, как удивился, что повсюду чисто, хотя в последние часы буквально жил там. Мусор был в мусорной корзине. Бумаги аккуратно сложены на столе. Я тут же ощутил счастье и гордость, что так сильно отличался от своего отца — по крайней мере, насколько я его знал.
И я был настоящим поэтом. Опубликовал свои стихи, получил награды, был организован и аккуратен. Каждый раз, когда я смотрел на Хэдли, я вспоминал, что у меня есть семья. Это были моменты чистейшего высокомерия по отношению к себе и жалости по отношению к человеку, который потерпел неудачу во всех областях своей жизни. Это были моменты чистой ярости в его адрес.
Но от последовавших слов Хэдли мой мир дал трещину, а потом рухнул. Она попросила развод, а я молчал как идиот. Она сказала, что уезжала на два дня. Ей нужно было время на раздумья. Сказала, что наша любовь умерла, что нам лучше расстаться и что никто в этом не виноват. Просто так получилось, и все.
«Мы восторгаемся друг другом, Томас. Мы обожаем друг друга, но не любим».
И какого хрена все это означало? Конечно же, я от нее всегда был в восторге. Она же моя жена.
От этих воспоминаний меня возвращает в реальность звон связки ключей и щелчок входной двери. Пришла Сьюзен. Уже утро. Хэдли ушла несколько часов назад, но они кажутся годами.
Сьюзен кладет сумку на журнальный столик и неслышно подходит ко мне, сидящему на полу напротив Ники. Перед ним лежат игрушки, и самые любимые меняются каждую неделю. Сейчас это слон, которого я купил ему несколько дней назад.
— Он рано проснулся, — она садится рядом со мной и улыбается Ники. Он гулит и бормочет в ответ. С раскрасневшимися щеками и растрепанными волосами он выглядит маленьким хулиганом. Интересно, чувствует ли он произошедшие перемены и отсутствие мамы? Мне хочется поднять его, прижать в груди и сказать, что я люблю его несмотря ни на что. Только не оставляй меня.
— Томас? — Сьюзен кладет руку мне на плечо.
— Да, ему не спалось. Наверное, мне стоило бы положить его, чтобы он поспал… но я передумал. Хотел поиграть с ним.
— Все хорошо. Он потом немного покапризничает, но я справлюсь, — улыбается она.
Было время, когда Сьюзен знала меня лучше всех — она была и моей няней — и я думаю, ее материнское чутье по-прежнему сильное. Она вглядывается в мое лицо, и мне хочется спрятаться… или, может, сдаться и все ей рассказать, как ребенок маме в надежде, что та разрешит все проблемы. По крайней мере, матери мне представляются именно такими.
— Ты в порядке, Томас? Что происходит?
Ее забота отзывается где-то глубоко в сердце. Это успокаивает — видеть, что она беспокоится обо мне. Но ее сочувствие все равно несколько раздражает. Что еще раз доказывает, насколько сильно я все испортил.
— Все нормально, — коротко отвечаю я и встаю. — Ты не могла бы остаться на пару дней? И, естественно, я тебе заплачу.
— Конечно же, останусь. Но почему?
Думаю, она и сама понимает, почему, и меня это бесит. Бесит, что она знает о проблемах в этом доме и в моей семье. В отличие от меня. Какое-то время я не знал о них, но сейчас от них не отвернуться.
— Мне нужно, чтобы ты начала сегодня же. Скажи, когда будешь готова, и я отвезу тебя забрать вещи.
После чего ухожу, но когда подхожу к лестнице, Сьюзен говорит:
— Томас, вернись.
Этим суровым тоном она говорила со мной бесчисленного количество раз, когда я был маленьким. «Томас, не бегай». «Томас, не беспокой отца». «Томас, папа занят».
Я останавливаюсь, но не оборачиваюсь. И слышу, как она подходит.
— Что творится, Томас? — в ответ на мое молчание она кладет руку мне на спину, и от ее мягкого прикосновения я напрягаюсь. — Дело… в Хэдли?
При упоминании ее имени меня охватывает странный собственнический инстинкт. Не могу объяснить причину, но я не хочу, чтобы Сьюзен говорила о ней и знала, что Хэдли ушла и оставила семимесячного сына. Будто поняв, что я думаю о нем, Ники громко хихикает.
— Скажи, когда будешь готова, — настойчиво повторяю и, обойдя ее, собираюсь подняться по лестнице и… сделать хоть что-нибудь. Внутри рождаются слова и умоляют меня, чтобы я выплеснул их наружу, но я не буду. Я их ненавижу.
— Она ушла, да? — спрашивает Сьюзен, от чего я останавливаюсь и стою как вкопанный. Ее долгий вздох заставляет меня обернуться. Этот вздох говорит, что она не удивлена. Что даже ожидала чего-то подобного. А я сейчас лопну от злости. И чувствую себя раскаленным добела.
— Тебе есть что сказать? — мой голос спокойный и мягкий. Он так не похож на бушующую ярость внутри.
— Томас, я… — она вздыхает и беспокойно потирает ладони. — Знаю, что это тяжело слышать, но я думаю, что с Хэдли что-то не так. С ней что-то происходит, и ей нужна помощь, Томас. Возможно, у нее послеродовая депрессия или что-то подобное. Я на днях читала об этом, и у женщин это очень распространено. Они не проявляют интерес к собственным детям и очень подавлены, — протянув руку, она сжимает мое плечо. — Симптомы совпадают. Мне кажется, Хэдли нужно показаться психиатру.
— Моя жена не сумасшедшая, — скрипнув зубами, отвечаю я.
— Нет. Конечно же, нет. Я и не говорю этого. Но ей необходима медицинская помощь. Я же видела ее, Томас. Ее равнодушие неправильно и странно. Я…
— Мы не будем это обсуждать.
— Но нам необходимо это обсудить. Нужно что-то делать. Ты знаешь, куда она поехала? Надо ее найти. Стоило сказать тебе об этом раньше. Я…
— Нам ничего не нужно, и Хэдли не уехала. Она вернется через несколько дней. Ей захотелось немного отдохнуть. В среду она приедет, — как только произношу это, я понимаю, насколько неубедительно звучат мои слова. Неужели я и вправду верю, что она вернется?
— От чего отдохнуть? Никто не оставит своего ребенка на произвол судьбы.
— Вот только она никогда не хотела этого ребенка, а это все меняет.
Эти слова словно обрушившаяся лавина. Их отзвук бумерангом отскакивает от стен и попадает прямо мне в грудь. Я знаю, почему Хэдли не может заставить себя заботиться о Ники. И ответственен за это я.
— О чем ты говоришь? — нахмурившись, спрашивает Сьюзен.
— Она хотела сделать аборт, но я ее отговорил, — я провожу ладонью по волосам и обо всем наконец ей рассказываю: — Узнав, что беременна, она уехала на пару дней, но ее отсутствие я не заметил. Был слишком занят написанием очередного вонючего шедевра. Вернувшись, она сказала, что хочет развестись. И даже не собиралась говорить мне о ребенке. Она его не хотела, а рассказывать о беременности было неподходящее время, поскольку мы практически перестали любить друг друга. «Все станет слишком сложно», — сказала она. Одна она не смогла бы растить ребенка, а я был по уши в своих поганых заботах, — из моего ноющего горла вырывается невеселый смешок, и я признаюсь ей: — Я такой же, как мой отец, Сьюзен.
Чувствуя, как начинает кружиться голова, я хватаюсь за перила, чтобы не упасть. Если бы не тот выброшенный тест на беременность, я бы так и не узнал. И из-за моих ошибок она убила бы моего ребенка. Даже не могу описать злость, которую я чувствовал тогда. Мне хотелось убить ее — убить себя за то, что любил ее не так, как ей было нужно.
Но все, что я сделал, — это без конца умолял, и в конце концов она сдалась и решила попробовать снова.
Мой взгляд обращается к Ники, все еще играющему на ковре. Звук его хихиканья и бормотания вонзается в меня, будто самый острый нож. Я снова сделал все не так. Хэдли ушла, а Ники остался без мамы.
Сьюзен кладет ладони на мое напряженное лицо.
— Томас, ты не такой, как твой отец. Он любил тебя и твою маму, но не знал, как показать свои чувства. А ты — знаешь. Ты знаешь, как поставить своего ребенка на первое место. И знаешь, как сделать это же для Хэдли, — она сжимает мою руку. — Ты слышишь меня? Ты не такой, как он.
— Тогда почему она ушла? — шепотом спрашиваю я.
Поняв мои чувства, Сьюзен делает шаг вперед и обнимает меня. А я расслабляюсь в ее материнском тепле, как глупый ребенок. Ненавижу это. Ненавижу быть слабым и неудачником, но сил отойти у меня нет.
Через какое-то время Сьюзен уходит сделать Ники поесть.
Он играет с фиолетовой шапкой Лейлы, жует мех и пускает на него слюни. Ее вид напоминает о вчерашнем вечере, и, прежде чем я успеваю заметить, меня отбрасывает в другое измерение. Я до краев заполнен воспоминаниями о Лейле. С тех пор как Хэдли ушла, я даже не думал ни о Лейле, ни о поцелуе. Но сейчас все мысли только об этом.
Во мне вырастает голод — неправильный и грязный. Он жаждет только брать и брать, потому что я устал чувствовать себя так, будто не контролирую собственную жизнь.
Я ненасытен и жажду Лейлу. Мне необходима та сила, которую она мне дает. Я хочу злоупотребить этой силой, высвободить ее и использовать ее против нее. Уничтожить ее, как прямо сейчас уничтожен я сам. Она слишком храбрая, и это обернется против нее. Я изнываю от желания сокрушить эту храбрость и эту чистую отвагу.
Возможно, Сьюзен права, и я не действительно не похож на своего отца.
Мой отец не думал ни о ком другом, кроме своей жены, а внезапно появившееся жжение в костях и ощущение лавы в крови не имеет никакого отношения к Хэдли.
Все это связано с Лейлой Робинсон.
ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ ПАДШАЯ
ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ
Эмма осталась с Диланом в общежитии, а учебу отменили из-за сильной метели. Я дома — беспокойная и одна. Обычно я не меня не мучает перспектива оказаться взаперти в одиночестве, но за последний месяц я от этого отвыкла. Эмма все испортила, а сейчас ее нет.
Ненавижу ее.
Ненавижу Дилана.
И ненавижу паршивый снег!
Я ненавижу всех и вся.
Я сижу на диване. Мое напряженное тело чувствует себя неловко, будто не знает, что делать с самим собой. Я пытаюсь вспомнить, чем обычно занимаюсь, когда одна. На журнальном столике замечаю недоеденный пакетик Twizzlers и набиваю конфетами рот.
Так. Что еще?
— Ага! — кричу я в пустой комнате, ищу музыку на телефоне и останавливаюсь на Лане Дель Рей. Blue Jeans.
Песня напоминает мне о Томасе — впрочем, ничего удивительного тут нет. Поджав под себя ноги, я сижу на диване и слушаю ее, чувствуя себя жалкой. С развитием сюжета песни меня атакуют воспоминания произошедшего в кладовой бара.
Поцелуй. Оргазм. Моя исповедь. Ощущение опустошенности, когда он ушел.
Я сама виновата. Не стоило его целовать. И кончать на его ноге совершенно не стоило. Все это было неправильно по многим причинам… даже если он вроде бы наслаждался моими стонами и отчаяньем.
Песню перебивает пронзительный рингтон, эхом пронесшийся по всей квартире. Сначала у меня появилась мысль проигнорировать звонок, но пальцы сами нажали принять вызов, прежде чем я успела посмотреть, кто звонит.
Это Калеб, и я молча смотрю на экран, на котором идут секунды. Медленно подношу телефон к уху и, заикаясь, говорю:
— А-алло.
Наверное, мне стоило бы подговориться к звуку его резкого вдоха, когда он услышал мой голос. В груди все грохочет. Я чувствую, как ребра подрагивают, когда сердце хочет протиснуться между ними и припасть к телефону.
— Алло? — повторяю я, когда ничего не слышу.
— Привет, — с заминкой говорит он. — Я не ожидал, что ты ответишь.
Его голос — немного хриплый, но больше все же мальчишеский — проносится сквозь меня. Прошло два года. Два года, с тех пор как я его слышала — и как он со мной разговаривал. Ущипнув себя, я ругаюсь от боли.
— Лей? Ты здесь? Что… э-э-э, что это было?
От приливной волны эмоций, поднимающейся от груди ко рту, мне трудно говорить.
— М-м-м… я просто ущипнула себя. Но все нормально.
Раздается смущенный смешок.
— Ладно. Понял, — он покашливает и продолжает: — Надеюсь, ты не занята и я ни от чего тебя не отрываю, но в свое оправдание хочу сказать, что не рассчитывал на ответ.
— Нет. Я не занята, — я оглядываю свою пустую квартиру. — Сегодня весь день идет снег, так что мне никуда не надо.
— Ах да. Уверен, что насыпало прилично. Пусть так и будет. Я же знаю, как ты любишь непредвиденные выходные.
Больше нет, — хочу сказать я. Теперь я их ненавижу. Терпеть не могу сидеть дома взаперти и не ходить на занятия к Томасу.
Калеб меня больше не знает. Он понятия не имеет, что происходит в моей жизни. Эта мысль даже доставляет относительное удовольствие.
— Ага, — все же отвечаю я и ничего больше не добавляю.
Мы молчим. Я слушаю наше дыхание — больше похожее на вздохи — и чувствую себя стервой. Я разрушила все, что было между нами. То, что я сделала, — это преступление. И никакие извинения это не компенсируют. Сколько бы я тогда ни звонила, он ни разу не взял трубку.
Тряхнув головой, я нарушаю тишину.
— Как там в Бостоне?
— Хорошо… наверное. Я приехал в Нью-Йорк.
— Ну да. На вечеринку, — я облизываю губы. — А что привез для меня?
— Я… Я на самом деле…
— Да ладно, я пошутила, — неловко усмехнувшись, говорю я. — Бостон лишил тебя остатков чувства юмора, да?
Он смеется, а я представляю его светлые волосы и зеленые глаза. Представляю его гладкие пальцы, держащие телефон — кстати, у него айфон? — пока он разговаривает со мной.
— Где ты остановился? — спрашиваю я. Мне хочется дорисовать картину и увидеть то же, что и он. Мое голодное сердце жаждет больше информации.
— У твоей мамы. Более того — в твоей комнате.
— Да ладно, — я сажусь ровнее. — Блин. Но почему? У них достаточно свободных комнат. А в моей бардак.
— Лей, ты ведь здесь больше не живешь. После тебя убрались.
— А. Ну да, — я снова падаю на спину и кладу ноги на столик. — Извини, я просто запаниковала.
— Почему? Я же видел твою комнату. И знаю, что ты неряха.
— Эй! Я не неряха. Просто немного неорганизованная.
— Нет, неряха. Из-за якобы «неорганизованности» ты на целых два дня потеряла в своей комнате телефон.
— Тогда делай поправку на возраст. Не все такие же идеальны, как ты, вытирающий за собой мокрые следы от стаканов, — содрогнувшись, замечаю я.
На этот раз молчание не такое тяжелое. Я рисую в голове картину. Калеб сейчас в моей комнате. Мне трудно представить ее чистой, но я вижу его сидящим на кровати, опираясь на белое изголовье. Может быть, он смотрит в левое окно с видом на Центральный парк. В это время года деревья обычно голые, а сегодня должны быть усыпаны недавно выпавшим снегом.
— В общем, я звонил тебе, потому что хочу увидеться, особенно если ты все же придешь на вечеринку к Генри, — спустя какое-то время говорит Калеб.
Так вот почему он звонил. Он хочет видеть меня.
Прижав руку к животу, я пытаюсь усмирить появившихся там бабочек с трепещущими тонкими крылышками. Я так давно не чувствовала чего-то подобного. Но мне показалось, или же ощущения всегда были такими… легкими и приглушенными?
Они не имеют ничего общего с острым и тянущим ощущением в районе пупка. Или с покалыванием по коже. Или с желанием свести бедра вместе и потереть их друг об друга.
— Я не смогу, — мой голос пропитан болью. — У меня дела по учебе. Я уже сказала маме.
— А, — он разочарован, я понимаю это по его голосу. — Тогда, может быть, увидимся в другой раз.
— Значит, ты планируешь остаться?
— Думаю, да. Я нужен в компании. Меня же с детства готовили, так что, кажется, время наконец пришло.
— Конечно. Да. Компания. Что ж, я рада, что ты будешь неподалеку.
— Я тоже, — тихо отвечает он.
Наш разговор подошел к концу. Надо класть трубку, но ощущения, что все наладилось, нет. В чем был смысл звонка? Я интуитивно понимаю, что это была не просто желание договориться увидеться на вечеринке.
— Почему ты уехал от меня?
Неужели я сейчас это сказала? Но вроде да, именно это и ляпнула. Чертова кретинка.
— Лей, я…
— Даже не попрощался. Ты… злился на меня? — я слышу его вздох, будто он собирается что-то сказать, но тут же его опережаю: — Вернее я знаю, что злился. Иначе и быть не могло после того, что я сделала. Но я думала… не знаю… Я думала, что мы можем все наладить, а если нет, то ты дал бы мне шанс извиниться, но ты не ответил ни на один мой звонок. И ни разу не приехал. Знаешь, мама была просто убита, когда ты не приехал на Рождество.
Меня несет, я знаю, но не могу остановиться. Меня как будто тошнит словами.
— Она была очень подавлена. И даже не устроила вечеринку, хотя всегда это делала на праздники. Генри за нее сильно волновался. Он спросил у меня, типа я же знаю свою маму, что же тогда с ней происходит. Я ответила ему, будто не в курсе, хотя на самом деле это не так. Она скучала по тебе, — я глубоко вздыхаю. — Ты же знаешь, я никогда не чувствовала себя виноватой из-за всего, что ей натворила. Она не была идеальной матерью, но тогда мне стало жаль. Мне казалось, что я разрушила нашу семью. А ты на меня даже ни разу не накричал и не сказал, что ненавидишь меня. Я не имею в виду, будто хотела это услышать, но молчание гораздо хуже. Я не…
Я прижимаю ладонь ко лбу.
— Прости меня, что обманула и что воспользовалась тобой… Прости за все.
— Лей, прекрати, слышишь? Пожалуйста, просто остановись, — шепчет он, и его голос гортанный, будто на глазах слезы. Они навернулись и у меня — словно в ответ на его боль. — Тебе не за что извиняться. Это… Это не твоя вина.
У меня дежавю. «Ты удивишься, узнав, как много всего вообще не твоя вина». Голос Томаса, звучащий даже в моем воображении, заставляет меня дрожать.
— Лей?
— Я здесь, — стараясь собраться с мыслями, отвечаю я. — Калеб… это моя вина. Я знала, что ты был пьян, а сигарета, которую тебе дала… в ней была травка. Отдавая себе отчет, что тебе не интересна, я все равно… заставила тебя…
— Боже, вот значит, как ты думаешь? И вот значит, что, по-твоему, произошло? Ты меня заставила? — в трубке я слышу резкий вздох и как он хрустнул костяшками (он всегда так делает, когда волнуется). — Лейла, я знал про травку. И знал, что делал. Я хотел, чтобы это произошло, понимаешь?
— Т-ты хотел заняться со мной сексом?
— Да.
— Н-но почему?
— Потому что… хотел знать, каково это будет.
— Ты имеешь в виду секс? Ты им раньше не занимался? И тоже был девственником?
Вообще-то, такое стоит знать про своего сексуального партнера чуть заранее. Я всегда считала Калеба более опытным, хотя да, действительно, ни разу не видела его с девушкой. Он был из тех парней, кто проводит время за чтением, домашним заданием и иногда встречается с друзьями.
Но я думала, что он уже занимался сексом. Даже помню какие-то слухи. Мужества спросить я так никогда и не набралась — разве что устраивала истерики на пустом месте. Да-да, я часто ругалась с ним из-за ерунды, поскольку слышала, что он с кем-то переспал. Даже как-то разбила его настольную лампу и облила водой его тетрадь. Боже, ну и ссора тогда была!
— Нет.
— Ты не был девственником?
— Нет, Лейла. Не был.
— Но ты только что сказал, будто хотел знать о сексе.
— Знаешь, этот наш разговор я представлял немного не так. Надеялся, что ты придешь на вечеринку и мы поговорим. Я соскучился по тебе, Лей. Очень сильно. И мне так много тебе нужно рассказать. Я устал не разговаривать с тобой. Ты уверена, что не сможешь? Я имею в виду субботу.
— Скажи, что ты имел в виду, — я сажусь на край дивана и, свесив ноги, нетерпеливо ими мотаю.
— Не проси меня, Лей. Я не хочу обсуждать это по телефону.
— Но нам придется, если только ты не хочешь приехать сюда в метель.
— Пожалуйста, Лей, просто…
— Что ты имел в виду, Калеб? Ты же ведь знаешь, что от меня не отделаешься. Я буду названивать и сведу тебя с ума, пока не расскажешь.
На этот раз его вздох говорит, что он сдался.
— Я хотел понять, каков секс будет… с девушкой, — в ответ на его слова я молчу. Сейчас все кажется еще более запутанным. — Я гей, Лейла.
— Нет. Этого не может быть! — тут же выпаливаю я.
— Может.
— Нет! Ты же спал со мной, — повторяю я тоненьким голосом, потому что сказанное им никак не укладывается у меня в голове.
— Я думал… нет, знал, что если когда-нибудь влюблюсь в девушку, это будешь ты, Лей. Ты для меня — все. Ты мой лучший друг. Моя опора. Я знал, что ты любишь меня, и думал, что если отброшу подальше эти странные чувства, то смогу в тебя влюбиться. Думал, если просто… прикоснусь к тебе, у меня, может быть, это получится.
— Но ничего не получилось.
— Да, — шепотом отвечает он.
— То есть твой эксперимент не удался, — бормочу я, говоря скорее самой себе. — Когда ты переспал со мной, это был всего лишь эксперимент.
— Нет. Господи, нет. Лейла, это не эксперимент. Я бы не поступил так с тобой. Я…
— А потом ты ушел, — мой голос кажется мне блеклым и пустым. Как пустыня. Без каких-либо признаков жизни. — Оставил меня одну на чужой кровати. С людьми вокруг, которых я не знала. А когда я вернулась домой, тебя уже не было. Знаешь, когда лежала на той кровати, на секунду я решила, что ты пошел за кофе или чем-нибудь еще — как в кино. Я думала, что ты влюблен в меня. И считала, что у нас все будет идеально.
— Лейла, я…
— Нет. Ничего не говори.
— Но…
— Наверное, мне пора положить трубку.
Тело оседает тяжелым мешком, когда я заканчиваю звонок. Телефон выскальзывает из моих ослабевших пальцев и с грохотом падает на пол. В оцепенении я сижу на диване. Трудно на чем-то сосредоточиться, когда внутри все вибрирует — в груди, в ушах, в животе и даже в руках.
Калеб не может быть геем. Я люблю его… Любила. В общем, не важно. Я представляла, как будет выглядеть наша свадьба, медовый месяц в Париже и наши дети: мальчик с фиолетовыми глазами и девочка с зелеными. Фантазировала, как бесчисленное количество раз мы с ним занимаемся любовью. Несмотря на то, что наш первый раз был катастрофой, я думала, что со временем все улучшится, как вино или… другой алкогольный напиток, о котором я сейчас думать не хочу.
Как он может быть геем?
Где-то вдалеке (или, может, внутри меня) я слышу какой-то грохот. Поднимаюсь, но стоять спокойно не могу. Я переминаюсь с ноги на ногу, как будто готовлюсь побежать. Куда-нибудь. Куда угодно. В мгновении ока я оказываюсь в своей комнате. И одеваюсь. Прямо поверх пижамных шорт натягиваю колготки. Потом гетры. Поверх пижамной майки — пушистый белый свитер. Потом фиолетовую шубу. Шапку. Три пары носков под зимние сапоги. Перчатки. И выхожу за дверь.
Даже метель легче переносить, чем мою пустую квартиру.
ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ
Он украл мой блокнот. Тот, где я написала свое стихотворение. И который был со мной в вечер импровизации.
Вот же засранец.
Почему я решила, что это он? Потому что я не идиотка. И перерыла всю свою квартиру. Мне даже пришлось убраться — дважды, — чтобы заглянуть во все уголки. Могу предъявить мозоли на руках в качестве доказательства. И стертые колени от ползанья под кроватью, когда я вытаскивала все, что там валялось.
Но синего блокнота на пружинке нигде нет.
Побродив вчера на морозе, я снова начала мыслить рационально. Обжигающий холод неплохо прочистил мозги.
Калеб гей. Парень, в которого я была влюблена всю свою жизнь, оказался геем, а я этого не замечала.
Я была поглощена собственными фантазиями и ни разу не удосужилась вынырнуть из них и посмотреть по сторонам. Насколько эгоистичным и не интересующимся никем другим должен быть человек, чтобы не понять, что его лучший друг гей? Господи, я же росла с ним бок о бок. Как я могла быть не в курсе?
Я сидела на лавочке — на которой впервые увидела Томаса — и долго размышляла. Потом плакала. Потом размышляла снова. И это продолжалось до тех пор, пока я не поняла, что сейчас замерзну насмерть. А когда вернулась домой, то поняла, что очень хочу что-нибудь почитать или написать стихи. Или и то, и другое.
И вот с этого момента не могу усидеть спокойно на месте, потому что мой блокнот пропал. Взял и пропал!
Я знаю, что это Томас. Он взял его, когда мы были в кладовой. Больше просто некому. И я знаю, что не переложила его в другое место, а он единственный, с кем я контактировала в последние три дня.
Поскольку сейчас вторник, то занятий у Томаса у нас нет. Но раз уж учебу вернули, я иду в «Лабиринт». Он должен быть там. У него же должны быть занятия с другими группами.
А мне нужно вернуть блокнот. Как и свое дурацкое стихотворение. Я помню каждое написанное там слово и надеюсь, Томас не догадается, что оно о нем. Меньше всего мне хочется, чтобы он разнес его в пух и прах, как предыдущее.
Когда подхожу к его двери и смотрю на табличку «Томас Абрамс, приглашенный поэт», я понимаю, что думать, будто он не поймет, было ужасно глупо. Конечно же, он знает, что стихотворение про него. Он все обо мне знает. Положив ладонь на дверную ручку, я осторожно поворачиваю ее, она поддается, и вот я стою прямо перед ним.
Томас сидит за столом и поднимает голову, когда я появляюсь на пороге. Он не выглядит удивленным; будто знал, что я приду. Значит, совершенно точно он вор.
Не сводя с меня глаз, он откладывает ручку в сторону и откидывается на высокую спинку кожаного кресла. Оно слегка скрипит. Этот звук почему-то кажется неприличным и навевающим на определенные мысли, как чье-нибудь громкое и частое дыхание за закрытой дверью или шорох срываемой одежды.
Может, мне стоит вести себя поскромней рядом с ним? Отвести взгляд от его красивых глаз — особенно теперь, когда он знает, что я чокнутая сталкерша? Но, если откровенно, я не чувствую себя ни скромной, ни желающей смотреть в пол. По отношению к нему я ощущаю такой ненасытный голод, что даже кожа горит. На меня влияет не просто его присутствие — я чувствую, как будто он… во мне. Как будто часть его дышит внутри моего тела.
Шагнув вперед, я с легким щелчком закрываю за собой дверь. С головы падает капюшон, и на свободу вырываются мои буйные локоны. Эти еле слышные звуки ощущаются еще более неприличными, чем скрип кресла. Они словно выпускают на свободу все мои мысли.
— Стучать ты явно не собиралась, — бормочет он.
Блин.
— Я просто хотела проверить, повернется ли ручка, — говорю я и облизываю сухие губы. — И она поддалась.
— И она поддалась, — эхом повторяет он.
Я держу руки за спиной и не отпускаю ручку. Меня тянет извиниться, но понимаю, что толку от этого не будет. Я догадываюсь, что если Томас разозлится, то никакие мои действия мне не помогут. Стоило как следует подумать, прежде чем признаваться ему в своих грехах.
— У тебя мой блокнот, — подрагивающим голосом говорю я.
Томас меняет позу, снова заставив кресло заскрипеть. И заставив мои бедра потереться друг об друга.
— Твой блокнот?
— Да? — я хотела произнести это с утвердительной интонацией, но голос меня подводит и звучит пискляво, от чего утверждение превращается в неуверенный вопрос.
— Да, он у меня.
Моя рука соскальзывает с дверной ручки. Ха! Это оказалось… легко.
— То есть ты хочешь сказать, что взял его? — такой глупый вопрос.
Томас проводит указательным пальцем по губам.
— Ну а как еще он бы у меня оказался?
В его глазах пляшут искорки. Не потрать я так много времени на внимательное изучение его глаз, состоящих из обжигающего пламени, то точно ничего не заметила бы.
— Ого, выходит, ты его у меня украл, — бормочу я себе под нос.
— Если под воровством ты подразумеваешь и то, что стащила у меня книгу, то да.
Его книга лежит у меня на тумбочке. Я читала я ее бесчисленное множество раз. Читала ее так часто, что уже чувствую ее своей. Вернуть ее уже не могу. Нет, я, конечно, могла бы ее купить, но там не будет его заметок. И я не узнала бы, что из написанного ему особенно дорого и как он определяет для себя безответную любовь.
Я снова хватаюсь за дверную ручку, готовая развернуться и уйти, но мне все-таки удается настоять на своем.
— Послушай, меня не тянет создавать проблемы. Просто хочу назад свой блокнот, а ты… — сделав небольшую паузу, я все же заканчиваю предложение: — Ты меня больше не увидишь.
Да, это самое правильное решение.
Он женат. У него есть ребенок. Он учитель. Он больше не годится на роль отвлекающего меня от Калеба. Это больше не мимолетное увлечение. Не знаю, кто он для меня, но сомневаюсь, что найду силы это выяснить. Я уже по уши. И мы нарушили слишком много правил.
— Я собираюсь бросить твои занятия, — приняв решение, говорю я и киваю. — Что к лучшему, раз уж я не разбираюсь ни в писательстве в целом, ни в поэзии в частности. Поэтому если ты отдашь мне мой блокнот, я просто уйду.
В выражении его лица мелькает что-то мне непонятное, и он снова меняет позу. Скрип кресла и шорох одежды, — эти звуки заставляют мое сердце екнуть. Но я не обращаю на это внимания. Достав блокнот из ящика, Томас кладет его на середину стола. И медленно проводит по нему безымянным пальцем.
— Забирай.
На дрожащих ногах я подхожу к столу. Протягиваю руку и кладу ее на блокнот. Он неожиданно теплый на ощупь, как будто Томас поделился с ним своим жаром. Я поднимаю блокнот и хочу убрать его в карман шубы, но Томас хватает меня за запястье, остановив на полпути.
— Не так быстро, — вкрадчиво произносит он. — Прочитай мне его.
— Что?
Его пальцы такие длинные, что он может обхватить мое тонкое запястье целиком, и я дрожу от исходящей от него силы. Более того: он встает и теперь возвышается надо мной. Мне приходится откинуть голову, чтобы встретиться с ним взглядом.
— Стихотворение. Прочитай мне его.
Мои глаза вылезают из орбит. Наверное, я выгляжу смешно и нелепо, потому что… Черт! Я не могу!
— Нет.
Томас отпускает мою руку, но облегчение я не чувствую — потому что в этот момент все это тело напряжено, будто он старается сдержать мощную силу.
Я облизываю пересохшие губы, и его взгляд, заряженный каким-то эротичным электричеством, следует за этим движением. Хочу вдохнуть, но из горла вырывается тихий всхлип. В ужасе зажав рот ладонью, я отодвигаюсь назад.
Отхожу на сантиметр, а Томас приближается на два. Он наступает, закрывая собой свет, льющийся из окна за его спиной.
Прижав к груди блокнот, я пячусь назад и оказываюсь там же, откуда пришла, — у двери. Прислонившись спиной к деревянной поверхности и поясницей ощущая дверную ручку. А Томас нависает надо мной. Он стоит так близко, что я ощущаю жар, языками пламени пляшущий по его коже, но все же недостаточно близко, чтобы я, протянув руку, прикоснулась и обожглась.
Он Огнедышащий.
— Не заставляй меня повторять.
Под его пристальным взглядом у меня слабеют колени. Что сейчас происходит? Не в состоянии смотреть ему в глаза, я опускаю взгляд на шею.
— Я не могу.
В ответ на мой надсадный голос Томас замирает, а потом, словно от накативших эмоций тяжело сглотнув, хрипло говорит:
— Ты написала его для меня.
Его шепот заставляет меня поднять взгляд. Мне хочется все отрицать, но я отбрасываю эту идею, едва та приходит в голову. Интуиция подсказывает, что ему это нужно — как и мое отчаянное желание в баре и мой оргазм.
Словно загипнотизированная, я киваю.
— Да.
— Тогда прочитай, — резким тоном говорит он.
Мои глаза блуждают между его лицом и шеей, не в силах оторваться от его интенсивного взгляда и безумного пульса. Демонстрировать свои эмоции ему непросто, при этом они слишком сильные, чтобы удалось их скрыть. Томас не может их остановить, а я не могу перестать их впитывать всем своим существом.
Дрожащими руками я открываю блокнот и нахожу страницу, на которой записано мое стихотворение. Я знаю его наизусть, но этот барьер мне просто жизненно необходим, потому что — господи — творится какое-то безумие. И это безумие дико заводит.
Буквы расплываются, а тело трепещет. Одной рукой я держусь за дверную ручку за спиной, а другой сжимаю блокнот. Призвав на помощь всю свою силу воли, я умудряюсь сфокусироваться, и буквы перестают расплываться и прыгать по строчкам.
— Т-твой взгляд м-меня обжигает, — шепотом начинаю я; язык с трудом ворочается во рту. — В нем живет и танцует пламя,
Оно обращает меня в пепел — черный и тонкий.
И… это происходит не быстро — мой распад.
Я останавливаюсь, чтобы перевести дыхание. Грудь отяжелела, а между бедер пульсирует желание. Я потираюсь задницей о гладкую поверхность двери, но она не помогает утолить мою похоть.
— Продолжай.
— Сначала это лишь искра, колкая и горячая, — почувствовав, как что-то прикоснулось к шее, я подпрыгиваю. И чуть не роняю блокнот на пол, когда вижу палец Томаса на верхней пуговице моей шубы. Каждый раз, когда вижу его пальцы, поражаюсь их длине и силе. Короткие волоски делают их еще более мужественными. И ощущаются его руки настолько хорошо, что, наверное, это почти плохо.
— Что ты делаешь?
— Расстегиваю твою шубу, — не отрываясь от своей задачи, отвечает Томас.
— По-почему?
— Потому что я так хочу, — пожав плечами, говорит он. Его ответ одновременно и наглый, и по-мальчишески бесхитростный.
Верхняя пуговица расстегивается и приоткрывает полоску моей кожи.
— Томас. Не надо… пожалуйста.
— Продолжай читать, — говорит он и расстегивает вторую, третью, а затем и четвертую пуговицу. Я по привычке заранее готовлюсь, что мне станет холодно, но на самом деле знаю, что этого не будет. Ведь рядом со мной Томас, а за ним всегда следует солнце, куда бы он ни направился.
Отпустив дверную ручку, я останавливаю его и обхватываю запястье.
— Пожалуйста. Не надо.
Томас смотрит мне в глаза, и я не могу ни вдохнуть, ни выдохнуть. Если я решила, будто он хотел, чтобы я прочитала стихотворение по какой-то странной причине, понятной ему одному, то сильно ошибалась. Ему было нужно не это. Эта потребность — вот она, прямо сейчас на его лице. Она в румянце на щеках. В сжатой челюсти. В трепещущих ноздрях. Как будто ему не хватает воздуха. Как будто ему не хватает меня.
Я никогда не рассматривала саму себя с этой точки зрения. Никогда не находилась в центре чьего-то обжигающего внимания. Мое тело — как и вся моя душа — убеждает меня убрать ладонь с его руки.
О боже, неужели я и вправду собралась позволить ему это сделать? Я дам ему расстегнуть мою шубу.
Моя рука опускается, и он продолжает. Это молчание невыносимо, поэтому чтобы заполнить тишину, мне остается лишь продолжить читать стихотворение. Что я и делаю.
— Это тепло… — моя шуба уже полностью расстегнута, и виднеется толстая зеленая кофта. Кстати, она тоже на пуговицах. Осторожно, чтобы не прикоснуться к коже, Томас снимает шубу с моих плеч. Неуклюже поведя ими, я сутуло остаюсь стоять.
Томас проводит пальцем вдоль V-образного выреза моей кофты, будто хочет почувствовать мягкую и пушистую ткань, и принимается за верхнюю жемчужно-белую пуговицу.
По позвоночнику стекает капелька пота, и я выгибаюсь в пояснице — совсем чуть-чуть, но он замечает. В ответ сильней пульсирует вена на его шее.
— Это тепло поначалу незаметно.
Но постепенно кожа краснеет
И сгорает. Медленно и неумолимо.
Мне так же больно, когда ты просто смотришь на меня.
Томас расстегнул половину пуговиц на кофте, и я уже не в состоянии сконцентрироваться на чтении. Выпустив из руки блокнот, который тут же падает вслед за шубой на пол, я хватаюсь за дверную ручку теперь обеими руками. И едва не начинаю сползать вниз. Между ног мокро, ладони вспотели, а внутри бушует инферно — и все это по милости Огнедышащего.
— Дочитай стихотворение, Лейла, — говорит Томас и берется за последнюю пуговицу.
Я хочу отрицательно покачать головой, но получается вяло и томно.
— Я–я не могу. Не могу читать. Это слишком.
Запрокинув голову, я зажмуриваюсь, когда чувствую, что он расстегивает пуговицу. Сдерживаю рвущийся наружу стон и сжимаю подрагивающие бедра.
— Тогда в следующий раз.
В его интонации я слышу улыбку, и с отчаянием вслушиваюсь в произнесенные слова. У нас будет следующий раз? Томас стоит, слегка склонившись надо мной и держа в стиснутых кулаках полы моей кофты. Его костяшки побелели — он хочет раздеть меня так же сильно, как я хочу обнажиться перед ним.
Его взгляд поднимается к моей полуобнаженной груди, которую видно из выреза черной блузки — тоже на пуговицах. Чем дольше он смотрит на грудь, тем более тяжелой она ощущается, хотя мой размер всего лишь B.
Томас бросает на меня раздраженный взгляд из-под ресниц.
— Опять?
Я его понимаю не сразу, а потом до меня доходит, что он про блузку и пуговицы.
— Много слоев, ага. Извини.
Он не улыбается, но раздражение исчезает, и вместо него появляется легкая веселость. Разжав кулаки, Томас снова принимается за пуговицы и одну за одной их расстегивает. Я ахаю, когда костяшками пальцев он случайно прикасается к коже верха груди. Она ноет и набухает, а соски становятся твердыми и чувствительными почти до боли.
Прикоснись же ко мне.
Томас пальцами спускается к моему животу, и от моего резкого вздоха тот становится впалым. И вот наконец со всеми пуговицами покончено. Распахнутая блузка демонстрирует мой белый бюстгальтер и голый живот. Томас окидывает меня жадным взглядом, и, услышав его ставшее прерывистым дыхание, я шепчу:
— Что? В чем дело?
Томас смотрит на мой пупок, а потом это наконец происходит: он прикасается ко мне. Кончиком мизинца подхватывает колечко в пупке и слегка тянет.
— Бля-я-я, — бормочет себе под нос он.
— Тебе… не нравится?
— Нет. Наоборот. Очень нравится.
Услышав его низкий голос и словно себе под нос слова, я сдаюсь и выгибаю спину. Наши бедра соприкасаются, и животом чувствую его член.
— Господи. Такой большой, — со стоном произношу я, не в силах сдержаться. И сразу же чувствую стыд. Видимо, еще и краснею, потому что кожа ощущается очень горячей.
Томас замирает.
— Я не знал. Впрочем, догадывался.
— О чем?
Его взгляд скользит по моему телу — от груди к кольцу в пупке.
— Что ты краснеешь всем телом, — в ответ я краснею еще больше, и он усмехается.
Мое сердце блаженно вздыхает при этом бархатистом звуке. Мне хочется поселиться и жить здесь, в этом моменте. Он искренний и почти фантастический. Словно другой мир. Страна с иными правилами, без прошлого и будущего. Здесь имеет значение только настоящее.
Другой рукой Томас расстегивает переднюю застежку бюстгальтера, и чашечки повисают по сторонам, обнажая набухшую грудь и розовые соски.
Мне жарко. И кажется, будто я сейчас дышу всем телом — сипло и часто. Хочется прикрыться, даже несмотря на то, что соски умоляют, чтобы к ним прикоснулись. Сжали пальцами. Втянули в рот. Ни один человек не видел меня полуголой — даже Калеб в ту единственную ночь, когда в темноте я отдала ему свою девственность.
Томас облизывает губы и прерывисто вздыхает.
Я нужна ему. И в ответ он мне становится нужен еще сильней.
— У меня все ноет, — шепотом говорю я, и он смотрит на меня с расширившимися зрачками. — Пожалуйста. Ты должен прикоснуться ко мне. Просто должен.
Мои просьбы возбуждают его еще больше, а следом и меня саму — так сильно, что внутренние мышцы жадно сжимаются и разжимаются несколько раз.
Он прижимает большой палец к основанию моей шеи. Пульс сбивается, а потом начинает биться с удвоенной силой. Слегка прикрыв глаза, Томас ведет пальцем вниз, через ключицу к верху груди. Он прикасается ко мне всего лишь кончиком одного пальца.
— Боже… — я не узнаю собственный голос; он гортанный и сиплый от похоти.
Томас кружит пальцем по моей груди, лаская верхнюю часть и проводя кончиком по низу.
— Вот так? — когда он наклоняется спросить мне на ухо, его рубашка с тихим шорохом скользит по моему телу. Я поднимаю правую ногу и закидываю ее ему на бедро, притянув его пах к своему — пусть и укрытому слоями одежды, но чуть ли не стенающему от жажды.
— Да. Но этого мало, — прижавшись своим наполовину обнаженным телом к его, полностью одетому, я наслаждаюсь этим легким трением.
Он повторяет свои движения на левой груди — еще и еще. Соски твердые от предвкушения прикосновения, которого так и не происходит. Он мучает меня своими легкими ласками и не дает чего-то более весомого, от чего вся моя кожа густо покрывается мурашками.
— Ты такой упрямый, — говорю я, расстроенная, но принимающая и эту малость.
— И тебе это нравится, — обдавая горячим дыханием мое ухо, отвечает Томас.
— Но не должно.
— Да.
— И мне стоит уйти прямо сейчас.
— Да.
— Все это неправильно, — со стоном кружа бедрами и потираясь о его член, произношу я. — Самое неправильное из всего, что я когда-либо делала.
Словно нарочно выбрав именно этот момент, Томас сильно сжимает мой сосок и тянет — так же, как и мое кольцо в пупке. Как и с кольцом, я подчиняюсь и, прогнувшись, потираюсь своей грудью о его в поисках волшебного удовольствия.
— Боже… что мы делаем? — уткнувшись лицом ему в грудь и тяжело дыша, говорю я.
— Самое неправильное из всего, что мы когда-либо делали, — повторяет Томас мои слова. — Так что да, тебе лучше уйти. Просто уходи и никогда не возвращайся, — подняв голову, я вижу, что сейчас в нем что-то дало трещину, и его эмоции обнажены и искренни.
С силой проведя пальцем по моему соску, Томас всей ладонью массирует мою грудь.
— Потому что я эгоист, Лейла, — продолжает он. — От тебя прежней ничего не останется. Я спалю твою душу дотла и не раскаюсь ни на секунду. Буду брать и брать, до тех пор пока не опустошу, — говорит Томас и продолжает свою медленную пытку. — Ты должна оттолкнуть меня, накричать, что я тебя раздел, и, захлопнув дверь прямо перед моим лицом, уйти. Постучать в третью дверь по коридору и донести на меня.
— Я никогда и никому не расскажу о тебе. Никогда.
Томас криво ухмыляется.
— Никогда — это слишком долгий срок, мисс Робинсон.
— Может быть и так.
Обеими руками он обхватывает мое лицо.
— Иногда я забываю, как ты еще юна.
— Я не такая уж и юная, — возражаю я и настойчиво прижимаюсь к нему ближе, пытаясь чуть ли забраться на него, как в баре в тот вечер.
— Иди, Лейла, — говорит он, хотя и не отпускает. — Иначе я украду и твою наивность.
Томас прав. Я должна уйти, бросить его занятия и никогда не возвращаться.
Я должна.
Должна.
Вполне возможно, я юна и глупа, как он и говорит, но в его насмешливом тоне слышу одиночество. Я видела напряженные мышцы его спины, когда Хэдли вышла тогда из комнаты. И постоянно наблюдаю его нескончаемую внутреннюю борьбу.
Ощутив прилив смелости, я обнимаю Томаса за шею и грудью прижимаюсь к твердым мышцам его груди.
— А что, если я сама ее тебе отдам, и тебе не придется ее красть? Я про свою наивность. И ты поможешь мне повзрослеть.
Какое-то время Томас молчит, и мне страшно, что я зашла слишком далеко. Зашла слишком далеко своими словами, при этом прижимаюсь к нему всем телом — от этой мысли мне становится так смешно, что приходится прикусить губу, чтобы сдержать истерический смех.
— Хотите, чтобы я помог вам повзрослеть, мисс Робинсон? — его глаза словно тлеющие угли, и я рада, что обнимаю его за шею, иначе упала бы на пол и расплавилась. Его вопрос такой… странно эротичный.
Времени проанализировать это у меня нет, потому что Томас начинает двигать бедрами, даря мне желанное трение, которое — боже милосердный — я еще никогда не испытывала. От него у меня между ног сочится влага.
Томас нависает своим большим телом надо мной.
— И как ты предлагаешь мне это сделать?
— Не знаю, — захлебываясь воздухом, отвечаю я, не прекращая движение бедер.
— Но если ты не знаешь, мне нечем тебе помочь, — он замирает.
— П-пожалуйста. Не останавливайся. Я-я…
— Что?
Я смотрю на него одурманенным взглядом. Его фигура кажется сейчас больше и мрачнее; словно может впитать в себя весь мир без остатка, и не останется ничего, кроме меня и него.
— Мне это нужно. Мне нужно, чтобы ты…
— Что именно?
— Двигался.
— И все?
— Нет. Этого мало, — прижавшись к нему сильнее, я выше поднимаю ногу, закинутую ему на бедро. — Мне нужно, чтобы ты меня трахнул.
Сама не могу поверить, что произнесла это вслух. И поверить не могу, что это сейчас был мой голос — отчаянный и тонкий, как у маленькой девочки.
Дыхание Томаса становится резким. В его глазах мерцает восторг и напористость, против которых совершенно невозможно устоять. Я чувствую, как между нами все меняется. На что бы до сих пор ни были похожи наши несуществующие отношения, они изменились.
— Трахнуть тебя? Своим большим твердым членом?
Я шокирована и возбуждена одновременно. В голове воет сирена — я нарушила все мыслимые и немыслимые границы. Все это неправильно, но в меня вонзается его низкий хриплый голос, и ткань своих белых девчачьих трусиков я ощущаю пропитанной насквозь. Ощущаю каждую вытекающую из себя каплю.
— Да. О боже, пожалуйста, — я снова и снова прижимаюсь бедрами к его неподвижному телу.
— И у тебя получится его принять? — Томас опускает свой лоб на мой. — Ты такая маленькая, он может не поместиться внутрь.
Я вздрагиваю от его слов.
— Нет. Нет-нет, получится. Я это знаю. Уверена, — всхлипываю я, играя свою роль в этой странной игре.
— А что, если будет больно? Что, если он растянет тебя так сильно, что тебе будет больно? — вздрогнув, его пальцы сильней обхватывают мое лицо. Ему нравится этот контроль. Он получает удовольствие от власти, которую имеет надо мной.
— Плевать. Мне на все плевать. Я вынесу боль. И сделаю что угодно.
— Чтобы заполучить мой член?
Никого сексуальнее его я еще никогда не видела. Высокий и хмурый. С лицом, где мозаикой соединились жажда и похоть.
Да. Я сделаю что угодно. Чтобы заполучить тебя.
Кивнув, я тихо отвечаю:
— Да. Я сделаю что угодно для тебя, чтобы ты помог мне повзрослеть.
Томас издает стон и опускает руки на мои бедра. Я ожидаю, что он приподнимет меня, но, прижав меня к двери, он делает шаг назад.
— Не сегодня, — его грудь сотрясается от рваного дыхания. — Иди домой, Лейла.
— Но…
Томас убирает прядь непослушных волос мне за ухо.
— Тебе стоит еще немного оставить свою наивность при себе. Поэтому иди домой.
ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ
Мне приснился дурной сон, и теперь я не могу заснуть снова. Ворочаюсь в постели уже несколько часов.
Разочарованно вздохнув, я встаю. В те времена, когда Калеб еще не уехал, я звонила ему, не глядя на часы, и просила меня обнять. Представить не могу, что наши отношения когда-нибудь вернутся к подобной близости.
Мне так одиноко. Я не чувствовала себя такой одинокой, с тех пор как ко мне переехала Эмма.
Включаю свет и, взяв с тумбочки свой блокнот, открываю последнюю страницу, на которой писала. Большим пальцем провожу по остаткам бумаги на спирали, где когда-то была страница.
И мое стихотворение.
Прежде чем отправить меня домой, Томас вырвал страницу со стихотворением и оставил ее себе. Молча и не сводя с меня глаз, сложил листок пополам и убрал в карман.
Я дрожу под одеялом, как будто его взгляд и сейчас направлен на меня. Горячий и пропитанный желанием. Я тут же вспоминаю, как было мокро между ног, когда я набросилась на него, и как он отверг меня, ни разу при этом не прикоснувшись — только пальцем к груди и животу и в тот день, когда положил ладонь мне на щеку.
Я умираю как хочу его. У-ми-ра-ю. В моих мыслях лишь он и то, насколько это аморально. С каждым днем я захожу слишком далеко.
Интересно, когда это прекратится? И каким образом? Почему я не в состоянии контролировать саму себя?
Пытаясь сочинить хоть что-нибудь, я стучусь головой об изголовье кровати. Все не то. Я хочу писать, но заставить себя не могу. Поэтому решаю почитать. Возможно, Барт или Плат вдохновят.
Барт уверяет, что когда все безнадежно, в этом нет ничего страшного, а Плат говорит убить себя, поэтому я откладываю книги в сторону.
Потом беру со стола ноутбук и на сайте университета изучаю профиль Томаса. С тех пор как начала ходить к нему на занятия, я видела его страничку миллион раз, но при виде его лица у меня по-прежнему перехватывает дыхание. Оно красивое, без улыбки, недосягаемое.
В поле зрения попадает телефон его кабинета — мелко написанные десять цифр прямо под адресом. Его номер я видела и раньше, но никогда не думала о звонке.
Сев ровнее, я ищу телефон. Он застрял между матрасом и изголовьем. Проигнорировав сообщение от Калеба, я набираю номер Томаса. Безумие какое-то. Я даже не знаю, зачем звоню. Что ему сказать? И потом, не уверена, что он окажется на месте, потому что сейчас поздняя ночь. Но мне необходима связь с ним, даже хрупкая и непрочная. Даже если мне ответит автоответчик. На самом деле, я даже рассчитываю на это. Тогда смогу сказать что вздумается, повешу трубку и отправлюсь спать.
После третьего гудка раздается щелчок, и я слышу его хриплый голос.
— Алло?
Я едва не роняю телефон.
— Т-томас?
— Лейла? — раздается скрип кресла. — Что… Почему ты звонишь мне в такое время?
— Я… не ожидала, что ты возьмешь трубку.
Несколько секунд он молчит, наверное, такой же ошеломленный, как и я, или же вспоминает о произошедшем между нами всего несколько часов назад.
— Знаешь ли, если ты не хочешь, чтобы я брал трубку, тогда просто не звони.
Глубоко вздохнув, я откидываюсь на подушку и улыбаюсь как дурочка в ответ на его поддразнивающий тон.
— Просто решила, что ты будешь дома.
На этот раз воцаряется тяжелая тишина, как будто я наступила на мину, но его голос по-прежнему спокойный.
— Ну а раз мы установили, что я не дома, не против поделиться со мной, какого черта ты звонишь?
— Я… — мне хочется спросить, что с ним происходит, но я не решаюсь. Знаю, он не скажет. Томас честен со мной в редкие моменты — и в моменты моего отчаяния. — Я не могу уснуть, — вырывается у меня, и забавно, что слова звучат немного обиженно. Он слушает мой странный голос, который, конечно же, появляется у меня только в его присутствии, и резко втягивает в себя воздух. Откуда это взялось? Эта настойчивая ноющая боль, беспокойство и смелость. Я не могу сохранять спокойствие. Потирая ноги друг об друга, пальцем играю с вырезом майки.
— И ты решила, будто разговор со мной поможет тебе заснуть? Твоя лесть не знает пределов, верно? — голос Томаса хриплый, как и всегда, когда он шутит, и внезапно от моего одиночества не остается и следа.
— Как уже сказала, я не думала, что ты возьмешь трубку. Просто… не знала, кому позвонить, — говорю я и какое-то время молчу. И готовлюсь услышать грубость в ответ, но в глубине души я почему-то уверена, что ничего такого он мне не скажет. Томас не намеренно злой, он просто по какой-то причине таковым притворяется.
— Почему ты не можешь уснуть? — тихо спрашивает он, доказывая тем самым мою правоту.
— Мне приснился плохой сон, — устраиваясь на подушке поудобней, отвечаю я. — Про Калеба. Вернее сам по себе сон не был плохим. А Калеб был в нем счастлив — или же так мне показалось. Он… занимался сексом, — я делаю глубокий вдох, прежде чем добавить: — С парнем.
Тишина. С того конца трубки не доносится ровным счетом ничего. Но кажется, мне и не нужно, чтобы Томас сейчас что-то говорил. Потому что сначала я хочу выговориться.
— Он гей, — усмехнувшись, продолжаю я. — Парень, с которым я росла и в которого была влюблена почти всю свою жизнь, оказался геем. И знаешь, что хуже всего? Я даже не подозревала. Не замечала ни единого намека. Калеб сказал, что переспал со мной, чтобы понять, сможет ли сменить свои предпочтения, — я снова усмехаюсь, на этот раз с большей горечью. — Я дура, да? Эгоистичная идиотка.
Теперь мне… легче. В груди уже не так давит. Этот секрет больше не лежит на мне тяжелым грузом.
Томас по-прежнему молчит, поэтому я начинаю его упрашивать:
— Скажи что-нибудь. Нет, подожди. Скажи мне что-нибудь в поддержку. Вместо какого-нибудь саркастичного комментария, который никому, кроме тебя самого, не помогает.
— И почему я должен ради тебя сдерживаться? — мне нравится, когда Томас подначивает меня. Не обращается со мной как с хрупким созданием. Впрочем, вряд ли он на это способен.
— Решила, что мы с тобой друзья.
— Ты объезжаешь ноги всех своих друзей? — низким голосом интересуется он.
О боже. Мои глаза закрываются, и я сжимаю бедра.
— Нет. Мы не просто друзья.
— Ты думаешь?
— Ага, — киваю я и открываю рот, чтобы сказать… хоть что-нибудь, но это не имеет значение, потому что на меня находит прозрение. — Мы родственные души, — выпаливаю я, с трудом дыша и в то же время ощущая себя переполненной воздухом, как шарик.
— Что, прости?
— Да, — с огромными глазами говорю я, понимая, что все наконец встало на свои места. — Точно. Родственные души.
— Я… Ты… Что-что?
— Ой, да успокойся, — я представляю, как пульсирует вена у него на шее. — Не в том смысле, когда двое жили долго и счастливо. Мы другие родственные души. Даже я не настолько наивна. Я имею в виду, что мы понимаем друг друга. Мы схожи — во всех смыслах.
Томас вздыхает — глубоко и тяжело. И снова ерзает в кресле. Знаю, он мне не верит, но мой вывод все же очевиден.
— Мы оба лучше других людей понимаем, что из себя представляет неразделенная любовь, — начинаю объяснять я. — И я знаю, тебе не понравится об этом услышать, но в ту ночь, когда я подсматривала за тобой в окно — за что я снова, кстати, прошу прощения, — у тебя было такое выражение лица… Как будто я смотрюсь в зеркало. Как будто могу прочесть каждую твою мысль. И прочувствовать каждую твою мысль. Всем нутром, — я неловко откашливаюсь. — Понимаешь? Мы родственные души.
— Ты права.
Внутри меня все вибрирует от волнения.
— Ты правда так считаешь?
— Да. Мне действительно не нравится об этом слышать.
— Ой, — сглотнув, я откидываюсь на подушку и смотрю в белый потолок.
Кресло Томаса снова издает скрип, и я фантазирую, как он так же, как и я, откидывает голову и смотрит в потолок. Не знаю, как долго мы молчим, слушая дыхание друг друга. Но повесить трубку я не готова. Не хочу быть той, кто разорвет эту связь.
Судя по всему, он тоже.
Это такая успокаивающая иллюзия — что Томасу хочется слушать мое дыхание, чтобы не ощущать одиночество. Впрочем, это может и не быть иллюзией.
— Ты знаешь, что такое рудиментарный орган, Лейла? — спрашивает Томас, к моменту когда я уже пальцем успела нарисовать сотню кругов вокруг пупка.
— Что?
— Это орган, который стал бесполезен. Он не служит своей цели. Бесполезный багаж. Или потому что он недостаточно быстро эволюционировал.
— Ага. И?
— Но он все равно способен причинить тебе немало боли. Ах да, и убить тебя… очень медленно, пока ты не начнешь молить о смерти.
— Почему мы говорим про бесполезные органы?
— Потому что безответная любовь — как отмерший, бесполезный и переставший функционировать орган. Это хуже, чем болезнь. Болезнь можно вылечить, но восстановить утраченную целостность души нельзя. Оказаться настолько бессильным — это самое печальное открытие на свете.
Я ощущаю себя высохшей рекой. Почти пустыней. Каждая клетка моего тела болит из-за него. И из-за самой себя. Из-за нас обоих. Его мучительные слова уничтожают все внутри.
— Почему ты не дома, Томас?
— Потому что дом не ощущается домом, когда там нет ее, — тихо признается он.
Я вонзаю ногти в кожу живота в попытке как-то перекодировать его эмоциональную агонию в свой физический дискомфорт.
И тогда на меня снисходит другое откровение.
Не знаю, кем он является для меня, но знаю, кто для него я.
Я нужна ему. Ему необходимо использовать свою власть надо мной, потому что любовь сделала его бессильным. Ему нужно, чтобы я просила его, потому что любовь превратила его в попрошайку. И похоть, которую он чувствует по отношению ко мне, произрастает из любви к ней.
Крупная слеза катится из уголка глаза и исчезает в волосах. Я тут же прикусываю губу, чтобы не издать ни звука.
— Ложись спать, Лейла.
Тыльной стороной ладони вытерев нос, я сглатываю образовавшийся комок в горле.
— Ты не повесишь трубку, пока я… пока я не засну? — его дыхание замирает, а потом становится тяжелее. — Пожалуйста.
— Ладно. Договорились.
Я с облегчением вздыхаю.
— Спасибо.
Томас согласно хмыкает.
— Спокойной ночи.
Он снова хмыкает. Я закрываю глаза, по ощущениям будто заполненные песком, и наконец чувствую спокойствие. Надеюсь, он тоже.
Идет время. А сквозь мое сознание проносятся вопросы. Где сейчас Хэдли? Я правильно поняла, и она куда-то уехала? А где Ники? Он тоже моя родственная душа.
— Знаешь, нам надо завести одинаковые браслеты или что-то в этом роде. У родственных душ должно быть хотя бы что-то одинаковое.
— Ладно, но фиолетовый цвет я не люблю.
Тихо хихикнув, я зарываюсь носом в фиолетовое одеяло.
— Не волнуйся, со временем полюбишь. Для Ники тоже надо сделать браслет.
— Ага, — тихо говорит Томас, будто тоже засыпает.
Когда глубже проваливаюсь в сон, я чувствую это в своем успокоенном сердце: нам с Томасом было суждено оказаться рядом. И произошедшее между нами должно было произойти.
Потому что я — девушка, которая не станет любовью чьей-то жизни. С моим эгоизмом иное просто невозможно. Я рождена для жизни в тени и секрете. И я могу стать секретом Томаса — по крайней мере, на какое-то время. Пока не поглощу всю его боль и не отпущу его.
***
Сейчас поздняя ночь и примерно то же самое время, в какое я разговаривала с Томасом по телефону пару дней назад. Мне стоило оставаться в кровати и попытаться заснуть, вместо того чтобы прибежать к нему. Но по-другому я не смогла. Я хочу ему кое-что показать. Кое-что, сделанное под влиянием минутного порыва.
Хм, а что я делаю не под влиянием минутного порыва?
«Лабиринт» окутан сонной тишиной, когда я вхожу в него по своей ID-карте. Ни разу не видела это здание совершенно без людей. Стены будто знают миллион интимных секретов, или мне просто так кажется.
Я поднимаюсь по лестнице, иду по коридору и останавливаюсь у его кабинета, тяжело дыша от холода. Из носа течет самым неприглядным образом. Расправившись со своей реакцией на чертову зиму, я поворачиваю дверную ручку. С тихим щелчком та поддается.
Он здесь.
Чутье подсказывало мне, что Томас будет тут, сидеть за столом у окна, в освещенном только настольной лампой кабинете. Услышав, как я вошла, он поворачивается в мою сторону с сигаретой во рту. Томас выглядит изможденным. Вся его энергия словно куда-то утекла.
Не спеша затянувшись, он выдыхает струю дыма. В этом мрачном кабинете, где по углам повисли тени, Томас не выглядит обитателем этого мира. Слишком красив и слишком призрачен, чтобы быть человеком.
Сглотнув, я вздрагиваю всем телом, когда за спиной с тихим стуком закрывается дверь. От бега по обледенелым улицам мои волосы, должно быть, торчат в разные стороны. Щеки раскраснелись — как и голая беззащитная кожа бедер, не прикрытая ни шубой, ни высокими сапогами.
— Я хочу тебе кое-что показать.
Облизав губы, я запираю дверь на замок.
Свое тело я всегда считала проклятием. У него есть непрекращающиеся потребности и преступные пристрастия, но после знакомства с Томасом я поняла, что оно может быть инструментом. Оно может стать его инструментом.
Поэтому без какой-либо стеснительности я расстегиваю пуговицы шубы, глядя в немигающие глаза напротив. И наблюдая за его реакцией. Интересно, ему нравится моя смелость? Или она ему неприятна? Еле заметный румянец и дернувшийся мускул на челюсти поддерживают мое бесстрашие. Заверяют, что мои действия приветствуются. Схватившись обеими руками за лацканы шубы, я повожу плечами, и она падает на пол. Прикосновение распущенных волос к обнаженной спине заставляет меня вздрогнуть.
Хм. Да… Я голая. Если не считать черные сапоги, конечно, и фиолетовые носки в горошек под ними.
Кожа покрывается мурашками, когда я стою перед Томасом, словно выставленная напоказ. У меня нет женственных изгибов. Грудь маленькая, а талия тонкая. Готовясь к сегодняшнему вечеру, я побрила все тело, от чего светлая кожа стала гладкой даже между ног.
Скользнув по моему лицу, взгляд Томаса опускается ниже, а потом еще ниже и еще. После чего останавливается. Я знаю, куда он смотрит. Я сделала это специально для него.
Его стиснутая челюсть приводит меня в замешательство. Он злится или возбужден? Трудно сказать. Надеюсь на последнее. И надеюсь, этим вечером от меня прежней ничего не останется, и он украдет мою наивность, как и говорил, после чего обретет хоть немного покоя.
Томас щелчком выбрасывает сигарету в окно и закрывает его, приглушив завывание ветра. Потом поворачивается ко мне лицом и, посмотрев на мой живот, крадучись идет вперед. У меня все внутри сжимается от его на первый взгляд ленивых, но точно выверенных шагов.
Остановившись в метре от меня, Томас протягивает руку. Я резко втягиваю в себя воздух, когда прохладными пальцами он прикасается к моему подрагивающему животу и покрасневшей коже вокруг недавно сделанной тату. Вокруг моего пупка красуется пламя, и я сменила кольцо в нем на штангу с сапфиром.
Томас большим пальцем проводит по рисунку, а я шепотом говорю:
— Под цвет твоих глаз.
Пламя голубое, как и его глаза. Я жду, когда мне станет безумно стыдно. Ведь я показываю парню, с которым даже не спала, что отметила его на своем теле. Большей навязчивости просто не существует на свете.
Но нет, стыда я не чувствую. Словно мне нет необходимости прятать свое тело, когда я рядом с Томасом, и эти ощущения так не похожи на те, которые я всегда испытывала с Калебом, скрывая чувства и постоянно подглядывая за ним исподтишка.
— Я… Ты напоминаешь мне какое-то огнедышащее существо, — пытаюсь объяснить я.
Напряженный взгляд Томаса берет мой в плен. В его глазах бушует инферно и какие-то первобытные эмоции, когда он опускается передо мной на колени.
— Томас? — чтобы не упасть, я хватаю его за плечи.
Он дышит тяжело и шумно, и, словно в ответ, прижимается ртом ко мне. Обхватив меня за талию и притягивая к себе, он языком играет с украшением в пупке.
Откинув голову и издав низкий стон, я провожу руками по упругим мышцам плеч и погружаю пальцы в густые шелковистые волосы. Схватив за пряди, тяну за них, когда горячие посасывающие поцелуи начинают ощущаться почти болезненно.
Это нормально, когда между ног становится мокро всего лишь от поцелуев живота? Наверное, это безумие, но мне плевать. С каждым движением его языка и с каждым хищным поцелуем возбуждение все нарастает. Кожа вокруг тату по-прежнему гиперчувствительная, и от его нежных и легких укусов мне кажется, будто мое хрупкое тело раскололось пополам. При этой мысли влаги становится так много, что я чувствую стекающую каплю.
Будто зная, что сейчас творится с моим телом, Томас издает низкое рычание. Почти на седьмом небе от его жадного стона, я спиной врезаюсь в дверь и, подняв одну ногу, кладу ее ему на плечо.
Целуя и покусывая низ моего живота, Томас оставляет на коже красноватые следы. Я опускаю голову и смотрю, как он потирается щетиной о внутреннюю поверхность моего бедра, лежащего у него на плече. Это действие одновременно возбуждающее и нежное, от чего у меня на глазах появляются слезы. Положив свободную руку мне на другое бедро, он раздвигает мне ноги. Внутренние мышцы стыдливо сжимаются, когда я оказываюсь выставленной напоказ и когда он делает глубокий вдох.
Томас поднимает голову. Его потемневшие глаза подернуты похотью.
— Хочу пососать тебя между ног.
Это первые слова, которые он произнес, с тех пор как я вошла сегодня в этот кабинет. Его голос звучит грубо и скрипуче, как будто слова были вырваны из глубин его души. Чтобы кончить, мне хватит и их, но когда мои глаза начинают закрываться, я стараюсь держать их открытыми. Я хочу его видеть. Хочу наблюдать начало своей гибели.
— Хорошо, — шепотом отвечаю, пусть в этом и нет никакой необходимости.
Не сводя с меня лихорадочного взгляда, Томас прижимается носом к моему лобку, от чего по моему телу проносится электрический заряд. Обдавая меня горячим дыханием, медленно движется вниз. От первого контакта его рта с моей недавно выбритой кожей я вздрагиваю. Это ощущение подобно ожогу, который чувствуется и снаружи, и внутри.
Томас ведет языком от клитора к моему входу, где все ноет — давно уже болит и ноет от одних только мыслей о нем. В ответ на мой стон он сильней прижимается лицом и потирается носом и ртом, покрываясь моей влагой. Томас делает глубокий вдох. Вдыхая мой запах. Дыша мной. Я бы упала на пол, не держи он меня так крепко.
Прерывисто дыша, Томас обхватывает губами мой клитор и начинает посасывать. Его имя со стоном срывается с моих губ, голова со стуком встречается с дверью, а тело выгибается в пояснице навстречу его рту. Его внимание сосредоточено на одной крохотной точке, но ощущения почти чрезмерные. Еще никто и никогда не прикасался ко мне там губами, и — господи — я начинаю дрожать.
— Ты на вкус похожа на вишню. Или на сливу. Или на спелую сладкую черешню, — еле слышно говорит Томас, а потом снова обхватывает меня горячими губами.
В ответ на его слова я улыбаюсь, но улыбка тут же испаряется — возбуждение слишком велико. Кончиками ногтей я провожу по коже его головы, и, низко застонав, Томас притягивает меня к себе еще ближе — если это вообще возможно. Выгнувшись дугой, я упираюсь пяткой ему в спину. Мои жаждущие движения подстегивают его, и ласки напряженного языка ускоряются.
— Боже, Т-томас… — мои слова прерываются стоном, зародившимся где-то в животе. — Я не могу… это… Это слишком. Больно.
С тихим чмоком Томас отпускает клитор.
— Это хорошо. Потому что из-за тебя мне тоже больно.
Потом он наклоняется и втягивает в рот мою истекающую влагой плоть. Она вся помещается в его жадный рот, когда он посасывает ее, покусывает и потягивает. Все, что я могу сделать сейчас, — это сдаться и позволить ему пировать собой.
Боже, мне больно, но так хорошо.
— Бля… — напряженный шепот Томаса привлекает мое внимание, и, опустив взгляд на его склоненную голову, я выпускаю из рук пряди его волос. — Такая узкая. Еще уже, чем я себе фантазировал. А фантазировал я немало.
Когда Томас смотрит на меня, у меня перехватывает дыхание. Он возбужден, покраснел и вспотел, но все равно выглядит богоподобным существом. Как такое возможно, ведь это он сейчас стоит на коленях? Томас — красивый и сексуальный бог, у которого на губах и подбородке моя влага. Она поблескивает в тусклом свете лампы, будто жидкий огонь.
— Гордиться мне нечем. Я не хочу об этом думать, но ты искушаешь меня, Лейла, и слишком сильно. Ты заставляешь меня чувствовать себя безумцем.
После чего он снова припадает губами ко мне. Другим словом я даже описать это не могу. Томас втягивает в рот клитор, потом опускается ниже, к моему истекающему влагой входу. Погружает внутрь язык, и, господи, это ощущение на грани боли, но в самом лучшем смысле. Жжение от его вторжения напоминает мне, что просходящее реально, что мне не приснилось и что я ни за что на свете бы не променяла бы это на обычный секс.
Ворвавшись языком в меня, Томас кружит им и исследует меня изнутри. То повторяет эти движения, то проводит языком по всей длине от ануса до клитора. От этих ласк, от посасывания и его грубых стонов где-то в животе формируется большой огненный шар. Голубое пламя, окружающее мой пупок, полыхает все ярче.
— Я… я сейчас кончу, — не переставая подаваться бедрами навстречу его движениям и потягивать его волосы, хрипло произношу я. Томас удваивает свои усилия — если такое вообще реально — и доводит меня до критичной точки.
Я словно падаю с туго натянутого каната, по которому шла, и кончаю. Дрожа всем телом, лечу и не перестаю шептать имя Томаса.
Мое сердце бьется так сильно, что вот-вот разлетится на миллион осколков, а яростная пульсация горячей кровью разносится по всему телу. Я будто становлюсь одним большим беспорядочно колотящимся сердцем, а мое сердце становится мной, вялой и расслабленной после кульминации.
Кажется, я на несколько секунд отключилась, потому что следующий момент, который осознаю, — это стоящий передо мной Томас, продевающий мои руки в рукава упавшей шубы. Одурманенный оргазмом мозг находится в замешательстве, в то время как этот мужчина начинает застегивать мне пуговицы. Я вспоминаю свой предыдущий приход в этот кабинет, когда Томас, наоборот, расстегивал их. Сейчас его действия совсем не похожи на те, какие я от него ожидала, тем более после того как он сказал, что фантазировал обо мне.
Когда Томас почти застегнул пуговицу у меня под подбородком, я кладу ладонь ему на руку.
— Что… что ты делаешь?
Он встречается со мной взглядом. Его глаза еще пылают, а на щеках еще играет румянец. Он вытирает рот тыльной стороной ладони, от чего я перестаю дышать. Этот жест настолько мужской и безыскусный в своей простоте, что против собственной воли я впадаю в беспомощную зависимость от него.
— Собираюсь проводить тебя домой, — голос Томаса звучит так хрипло, словно он долгое время молчал.
— Что? Но почему?
— Потому что тебе нужно уйти, — сбросив мою руку, он заканчивает с пуговицами. Жест агрессивный и злой; мне становится больно дышать.
— Но… я…
Поправив мне, как ребенку, воротник, Томас смотрит мне в глаза.
— Для секса тебе стоит поискать кого-нибудь еще. А сюда не возвращайся. Мы не друзья. Между нами вообще ничего нет. Ты поняла меня?
Я молчу. Способность формулировать и произносить слова куда-то исчезла. Томас злится — как и его дергающийся мускул на челюсти.
— Ты меня поняла, Лейла? — скрипнув зубами, снова спрашивает он.
— Д-да.
Холодный и неприступный, с глубоким вздохом Томас отходит от меня.
— Пойдем.
ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ
Какого черта все пошло наперекосяк?
Я думала…
М-да, и о чем же я думала? Что он со мной переспит? Что Томас решится на грех прелюбодеяния, поскольку его боль станет совершенно невыносимой?
Но ведь не все такие же, как я. Не все эгоистичные, импульсивные и такие же идиоты.
Всхлипнув, я издаю стон и закрываю лицо руками, хотя лежу сейчас одна в своей ванне.
Час назад, не говоря ни слова, Томас высадил меня у дома. Вся поездка заняла минут пять, а из окна его машины кампус выглядел еще более неприступным, темным и безлюдным. Не дождавшись, когда машина полностью остановится, я выскочила из нее и побежала в свою башню. А сейчас пытаюсь утопить свое смущение, чувство вины и злость в пустой холодной ванне.
Между нами вообще ничего нет.
Но если он не хотел меня, тогда зачем сделал так, что я кончила? Зачем опустился передо мной на колени и целовал между ног, до тех пор пока я не содрогнулась в его объятиях, после чего выставил за дверь?
Моя тату горит огнем. Что за безумие — сделать нечто подобное ради мужчины, который тебе даже не бойфренд? Пожалуй, Томас самый сбивающий с толку мужчина на свете — не то чтобы у меня есть опыт. Меня оберегала любовь к Калебу.
Скользнув вниз, я ложусь на бок в позу эмбриона, прижав колени к груди. В метаниях между желанием расплакаться и позволить себе ярость проходит ночь. Утром просыпаюсь от грохота и выбегаю из ванной и из своей комнаты посмотреть, в чем дело.
— Я не на их стороне! Да что с тобой такое? — кричит Дилан, качая головой.
— Даже обсуждать это не хочу. Просто уходи, пожалуйста, — с напряженным выражением лица отвечает ему Эмма и открывает входную дверь.
Дилан проводит рукой по лицу и вздыхает.
— Ладно. Как хочешь. Но ты ведешь себя неразумно, — говорит он и быстрыми шагами выходит из квартиры.
Кажется, уже можно заговорить.
— Привет, что… Что происходит?
Какое-то время Эмма молча смотрит в одну точку. А потом закрывает дверь и медленно поворачивается ко мне.
— Мы тебя разбудили? Извини, — она плетется к дивану и обессиленно плюхается на него.
Я сажусь рядом.
— Да нет, все в порядке. Расскажи мне, в чем дело.
— Ничего. Ерунда.
— Не ерунда, если рано утром ты из-за этого прогнала Дилана.
Когда Эмма ко мне поворачивается, она кипит от злости.
— Он идиот, вот в чем дело.
— Допустим. И в чем именно он идиот? — я понимаю, что примерно так и выглядит нормальная жизнь: когда ты ссоришься со своим парнем, выгоняешь его, а потом обзываешь его по-всякому, изливая душу подруге.
Так живут нормальные люди. Мне тоже хочется иметь такие нормальные проблемы. Они намного лучше, чем мои.
— Насчет весенних каникул, — отвечает Эмма. — Мама зовет меня домой. Я не хочу, но Дилан уговаривает, чтобы мы поехали вместе. Хочет, чтобы я наладила отношения с мамой и все такое.
— А почему это плохо?
Вздохнув, Эмма внимательно на меня смотрит. Я еще никогда не видела ее такой серьезной и спокойной. Это немного пугает.
— Моя мама… Она не очень хороший человек. Она мне не нравится, и это никогда не изменится.
Мое сердце тревожно сжимается. Так вот, значит, почему она никогда не говорит о своих родителях? Я тут же вспоминаю тот телефонный разговор с матерью, когда Эмма только-только переехала ко мне и после которого ее успокаивал Дилан. С тех пор я ни разу не слышала, чтобы она общалась с кем-то из родных.
— Она… что-то сделала с тобой? — с осторожностью спрашиваю я.
— Не со мной. С папой, — глубоко вздохнув, Эмма отворачивается от меня и смотрит в стену. — Она изменяла ему, а он об этом и понятия не имел, — мне становится нечем дышать, и я едва не падаю, а тем временем она продолжает: — Узнал он совершенно случайно и был просто убит горем. Не понимаю, как можно было поступить таким образом с человеком, с которым ты собралась провести остаток жизни.
У меня пересохло в горле, поэтому говорить очень трудно, но все же мне удается пробормотать:
— М-мне очень жаль.
Покачав головой, Эмма продолжает, будто не слыша меня.
— Она разрушила нашу семью. Отец потерял работу, потому что не смог справиться с этой бедой. Потом они еще несколько месяцев ругались по поводу опеки надо мной. Поскольку я тогда была несовершеннолетней, права голоса не имела, и мама выиграла дело, потому что папа оказался «недостаточно стабильным», чтобы заботиться обо мне. А потом она вышла замуж за мужчину, с которым изменяла. И когда мне исполнилось восемнадцать, я приняла решение, что больше никогда не переступлю порог ее дома, — когда она поворачивается ко мне, ее глаза блестят от слез. — И после отъезда больше не возвращалась. Ненавижу ее и то, что она сделала с нами.
— А как сейчас дела у твоего папы?
Эмма пожимает плечами.
— Нормально. Встречается с кем-то. Конечно же, я за него рада, но ситуация мне все равно кажется немного странной. Впрочем, я на него не обижаюсь. Он заслуживает счастья.
— Да, — согласно киваю я, чувствуя слишком много стыда, чтобы сказать что-нибудь еще. Как отреагировала бы Эмма, узнай, чем я вчера занималась? Существует ли какой-нибудь способ оправдать вчерашнюю почти измену? Существует ли возможность рассказать своей новой подруге — своей единственной подруге — о том, какую ошибку я чуть было не совершила вчера?
Вчерашняя ночь станет одной из множества моих тайн. Я не смогу поведать ее Эмме. Как и кому-нибудь другому. Я не могу… Не могу снова стать одинокой. Одиночество меня теперь очень пугает.
— Эй, ты в порядке? — спрашивает Эмма и кладет руку мне на плечо. — Извини. Не хотела тебя грузить. Для такого разговора сейчас слишком раннее утро.
— Я нормально. Просто… Просто мне очень жаль.
— Твоей вины тут нет, — отвечает она, а потом критически меня оглядывает. — А почему у тебя лицо, как у енота? Во сколько ты вчера вернулась домой? Где ты вообще была?
Я чувствую одновременно панику и стыд и не могу пошевелиться. Я предложила себя своему женатому профессору, потому что решила, будто ему так же одиноко, как и мне, и секс на стороне его утешит.
Господи, я даже в уме не могу произнести эту фразу, не почувствовав при этом желания пнуть себя под зад.
— Я-я… просто… ушла. Захотела прогуляться.
— При полном макияже?
Ах, да. Макияж. Я не только побрила все тело, но еще и накрасилась. И сейчас косметика потекла.
— Э-э… Да. Иногда я так делаю, — я встаю, не в состоянии больше выдерживать ее проницательный взгляд. — Хочешь кофе? Давай сходим выпьем кофе!
Поняв, что я что-то скрываю, Эмма все же решает на меня не давить и молча уходит к себе переодеться. Слава богу. Если мне повезет, то вчерашнее надолго останется лишь моим секретом.
***
Снова наступила ночь. Эмма спит в соседней комнате. Она по-прежнему злится на Дилана, хотя я пыталась ее урезонить. Дилан всего лишь проявил заботу о ней и хотел дать ее матери еще один шанс. Когда я ему позвонила, он сказал, что просто предложил эту идею, но все внезапно вышло из-под контроля. Так бывает, когда ситуация накаляется, и аргументы становятся все более серьезными. И теперь он даже разговаривать с Эммой не хочет.
Я пытаюсь заснуть, но безуспешно. Мне не спится.
Таращась в потолок, какое-то время я стараюсь не двигаться, но потом внезапно звонит мой телефон, и я резко поднимаюсь в сидячее положение, чтобы нормально дышать, потому что мне звонит Томас. Со своего рабочего номера.
Я слишком шокирована, чтобы ответить, и через какое-то звонок прекращается. Потеря, которую я ощущаю из-за замолчавшего телефона, кажется глубинной и жизненно важной. И потом… он мне еще никогда не звонил. Вскочив с кровати, я снимаю пижаму, надеваю юбку с футболкой, потом поверх всего свое зимнее снаряжение и выхожу за дверь.
Как и прошлой ночью, я бегу по улицам и не останавливаюсь, пока не добегаю до «Лабиринта». Поднимаюсь по лестнице и хватаюсь за ручку двери кабинета Томаса с настойчивой уверенностью, которой вчера не обладала. Ручка, как и в прошлый раз, поддается, и я вхожу в кабинет.
На этот раз Томас сидит в своем кожаном кресле и смотрит на телефон, расположенный на столе. Когда я закрываю дверь, он резко поднимает голову и смотрит на меня. От бега я и так дышу тяжело, но дыхание становится еще более затрудненным, когда наши взгляды встречаются. В его глазах пылает огонь и ярость.
Резко втянув в себя воздух, Томас встает. Мое сердце начинает биться еще сильнее, не понимая, какую роль ему придется сыграть на этот раз. Как ему себя вести под интенсивным вниманием Томаса: дрожать от волнения или съежиться от страха? Или и то, и другое?
— Я сказал тебе больше сюда не приходить, — хотя его тон не настолько агрессивен, как вчера, резких ноток он все равно не лишен. Его голос по-прежнему может заставить меня заикаться и чувствовать стыд.
— Ты сам позвонил мне, — рассерженно отвечаю я, чувствуя себя возбужденной.
Обойдя стол, Томас подходит ко мне.
— И что?
— Зачем тогда ты звонил, если не хочешь меня здесь видеть? — от еще одного его шага вперед я прижимаюсь спиной к двери. — Так зачем ты звонил? — прежде чем успеваю остановить саму себя, я добавляю: — И… И если между нами ничего нет, почему ты…
Томас останавливается прямо передо мной. Он стоит так близко, что я чувствую себя зажатой в ловушку между его телом и дверью. Происходящее — словно дежавю. Словно история повторяется. Я все еще помню его слова. Как он говорил мне вчера, что между нами вообще ничего нет. И как сильно меня это задело.
— Почему я — что?
Я упрямо поднимаю подбородок, хотя ощущаю сильное желание съежиться.
— Почему ты довел меня до оргазма? Если так ненавидишь меня, зачем это сделал?
Поставив руки по обе стороны моего лица, Томас наклоняется ко мне невероятно низко.
— Ты считаешь, что я тебя ненавижу? — его резкий смешок царапает мою кожу. — Это не так, Лейла, — хрипло говорит он. Но если судить по его интонации, то это именно что ненависть.
— Значит, я тебе нравлюсь? — неожиданно тонким голосом спрашиваю я.
Кажется, мой наивный вопрос разозлил Томаса еще больше. Его лицо покраснело, а на шее вздулись вены. Это пугает.
— Боже, как же ты меня бесишь, — он качает головой. — Думаешь, это такие шуточки, да? Думаешь, мы старшеклассники? Ждешь, что я тебя поцелую, а потом мы отправимся в кино? Ты этого ждешь, Лейла?
— Н-нет.
— Тогда что, по-твоему, тут происходит?
— Я… не знаю.
— Не знаешь? Да ты для меня чертову татушку себе сделала! Явилась ко мне голая. Не можешь перестать предлагать мне себя, — от его издевательского тона у меня на глазах наворачиваются слезы. — И хочешь убедить меня, будто не понимаешь, что происходит?
Слезы все-таки проливаются. Ненавижу. Как же сильно я его ненавижу. Томас постоянно так делает: сначала притягивает меня к себе, а в следующую секунду швыряет на землю. Но на этот раз моя очередь — я кладу руки ему на грудь и изо всех сил его отталкиваю. Но Томаса с места не сдвинуть.
Когда он кладет руку на мою мокрую щеку, на его челюсти дергается мускул.
— Ты хотя бы представляешь, что я с тобой сделаю? Тебе этого не захочется, Лейла. И не захочется, чтобы я к тебе прикасался.
Я сжимаю руки в кулаки и комкаю рубашку у него на груди. В его взгляде читается сожаление, которое смягчает агрессию.
— Почему ты так решил? — сквозь слезы спрашиваю я.
— Потому что потом ты пожалеешь. Обо всем, что случится, если не уйдешь. Тебе нужно перестать приходить ко мне.
— Но ты сам мне позвонил.
— Ты не понимаешь, да? Я не хороший мальчик, предупреждаю.
— Я не верю, что ты плохой, — говорю я и сильней стискиваю кулаки. — Ты просто одинок. Как и я. И у тебя разбито сердце, — отпустив его рубашку и провожу ладонью по его горячей щеке. — Тебе можно прикоснуться ко мне, Томас. Я не стану сожалеть. Обещаю.
Он содрогается от моих прикосновений, будто сейчас развалится на части. В этот момент Томас выглядит уязвимым как никогда. Но потом берет себя в руки и застывает всем телом. Я боюсь, что он снова оттолкнет меня и отправит домой, но внезапно притягивает меня в свои объятия.
— Не давай обещаний, которые не сможешь сдержать, — говорит он в миллиметре от моих губ. — Когда пожалеешь об этом — а я уверен, так и будет, — просто вспомни, что сама напросилась.
В следующее мгновение Томас целует меня, и все мои мысли улетучиваются.
ГЛАВА ВОСЕМНАДЦАТАЯ
Я стою в кабинете Томаса, и на мне нет ничего, кроме носков в горошек.
Лампа на его столе — это единственный источник света, который выхватывает из темноты очертания моего худощавого тела. Я бросаю взгляд на свою тень. Интересно, чему свидетелями были здешние стены? Видели ли они когда-нибудь девушку-студентку, стоящую возбужденной и голой посреди кабинета? Случалось ли когда-нибудь такое раньше? На мгновение я и представить себе не могу, чтобы кто-то испытывал подобные чувства по отношению к своему преподавателю. Словно я единственная девушка в этом колледже — и в целом мире, — с которой это произошло.
Тяжело дыша, я то сжимаю, то разжимаю кулаки, совершенно измученная от неуверенности. В любую секунду Томас может снова меня отвергнуть и отправить домой, но он стоит, словно статуя, тяжело дыша и не отрывая взгляд от моего тела. Он кажется слишком сильным и чересчур хрупким.
Целуя меня, Томас с безумным отчаянием сорвал с меня одежду, и теперь она кучей лежит на полу у двери. И теперь я стою перед ним, выставленная напоказ, и схожу с ума от ожидания, смущения и возбуждения.
Томас подходит ко мне, кладет руку на щеку и заставляет посмотреть ему в глаза. В его взгляде я вижу неприкрытое желание, от чего мое сердце замирает.
Он хочет меня. Очень сильно.
Словно желая это доказать, Томас наклоняется ко мне и снова целует. Сейчас он кажется еще более голодным и безумным — если такое вообще возможно. Прижавшись к его полностью одетому телу, к теплой и мягкой ткани его рубашки, я чувствую себя еще более возбужденной и бессильной — потому что я открыта и уязвима, а он нет.
Он заставляет меня чувствовать себя шлюхой. Его шлюхой. Бесстыжей и похотливой.
В течение следующих бесчисленных минут Томас становится причиной моей жизни. Вдыхает воздух в мои легкие и питает своей похотью. Я медленно пьянею от него. Моя кровь сменяется его сущностью, и в результате все мои ощущения сводятся лишь к нему одному.
Томас поднимает меня, и я тут же обхватываю его ногами, прижавшись низом своего живота к его. Когда он обхватывает ладонями мои голые ягодицы, я вздрагиваю. Утонув в его поцелуях, я едва замечаю и не протестую, когда мир наклоняется, и моя спина соприкасается к грубой поверхностью серого ковра.
Разорвав поцелуй, Томас приподнимается и оказывается на коленях между моих раздвинутых бедер. Он так умопомрачительно сексуален, что я не могу удержаться и пытаюсь вдохнуть в себя его красоту.
Тяжело сглотнув, он обводит взглядом все мое тело — от растрепанных темных волос и лица к основанию шеи, где бьется пульс. Потом его взгляд спускается ниже, к моей маленькой груди, и я чувствую жар на кончиках затвердевших сосков. К тому моменту, когда его взгляд достигает моего трепещущего живота, Томас дрожит и истекает потом. Пульсирующая вена у него на шее отражает возбуждение его выпирающего сквозь джинсы члена. Я до боли кусаю губы, догадываясь, какую боль испытывает сейчас и он.
— Я-я хочу тебя видеть, — глядя, как по его виску скатывается вниз крупная капля пота, шепотом говорю я. — Пожалуйста.
Мне просто необходимо видеть его в наш первый раз. Поняв всю отчаянность моего желания, Томас расстегивает три верхние пуговицы своей белой рубашки, после чего, заведя руки за спину, рывком снимает ее через голову.
— Это так сексуально… — застонав, говорю я и приподнимаю бедра. Да, я его шлюха, голая и извивающаяся на полу.
На его губах играет самоуверенная ухмылка, но ей не по силам стереть с его лица выражение страсти. В отличие от Томаса, сдерживаться я не могу и окидываю его нетерпеливым взглядом. Упругие мышцы, идеальное количество волос на груди, четко прорисованные ребра перетекают в твердый живот. От пупка к внушительной выпуклости, спрятанной под синими джинсами, ведет дорожка мягких волосков.
Поняв, что на нем была белая рубашка и синие джинсы, я ахаю. Он одет как герой моей любимой песни.
— Что? — спрашивает Томас, поставив руки по обе стороны от моих бедер. Я заворожена танцем мышц его рук и плеч. Они натянуты словно струны.
— Ничего. Ты просто… напоминаешь мне героя одной песни.
— Правда? И какой?
— Blue Jeans, — отвечаю я. — Это Лана Дель Рей. А песня о том, как она не может оторвать от него взгляд, когда он входит в комнату. И как он заставляет ее сгорать от желания.
Переступая сильными руками, Томас подползает ближе. Ставит руки над моими плечами и слегка опускается, от чего резко проступают сухожилия на его шее.
— Я знаю, о чем она, — шепчет он, едва касаясь моих губ, в то время как его тело едва касается моего и надвигается, словно тень.
Приподняв бедра, я потираюсь ими о бока его обнаженного торса, заставив его задрожать. От моего прикосновения Томас склоняет голову и закрывает глаза, давая понять, что ему это нравится. Мне тоже очень нравится. Его кожа гладкая и горячая. Впрочем, я и не сомневалась. Он же Огнедышащий.
— Ты трахнешь меня сейчас? — от желания мой голос звучит тихо и хрипло.
Не поднимая голову, Томас встречается со мной взглядом.
— Да.
После чего он встает надо мной и снимает с себя джинсы и нижнее белье.
И вот он такой же обнаженный, как и я; его член такой большой и твердый… боже, мне трудно дышать от того, как сильно я хочу ощутить его и как он растянет меня изнутри.
«Что, если он растянет тебя так сильно, что тебе будет больно?»
Я помню его слова, но сейчас мне все равно. Я хочу его.
Мне хочется изучить его получше и рассмотреть член, упругие бедра и подтянутые икры, как свет падает на его гладкую кожу и лепнину мышц, но Томас явно не в настроении мне сейчас позировать. Он резко опускается на колени — как и вчера ночью, когда я показала ему татуировку.
Отчаянное желание отражается во всех его движениях — как он спешно ищет в кармане джинсов презерватив.
Во рту у меня резко пересыхает, когда Томас садится на пятки и надевает презерватив, а потом накрывает меня своим телом.
Я перестаю двигаться и только дышу, поглощенная ощущением от прикосновения его кожи к моей. Так приятно. Между нами больше нет слоев одежды. А его твердый член прижат к моему пупку.
Но я хочу большего. Он мне необходим.
Я выгибаюсь всем телом, от чего его член пульсирует еще сильнее, а сам Томас скрипит зубами. Схватив меня за волосы, он смотрит мне в глаза. Во взгляде сплелись ярость и удовлетворение.
— Лежать спокойно и не дергаться ты не можешь, правда? Ни на одну гребаную секунду не можешь перестать меня соблазнять.
— Не могу, — признаюсь я. — Сама не знаю, почему.
— Ты всегда такая жадная, Лейла. Всегда голодная, — говорит Томас, потираясь об меня своим тяжелым возбуждением и обдавая шею горячим дыханием. — Почему так? А? Почему ты такая жадная девчонка? Почему так сильно хочешь мой член?
От его слов я издаю протяжный стон. Боже, он настоящий поэт, слагающий сейчас свои непристойные стихи.
— Не знаю. Я просто очень хочу. Хочу твой член, — тоже с силой схватив его за волосы, говорю я. Мой голос из требовательного превращается в умоляющий: — Войди в меня, пожалуйста. Ну же.
Сама не знаю, почему я так себя веду; это Томас делает меня безумной. Нависающий надо мной, он ощущается просто идеально, а его грубые слова словно сахар у меня во рту.
Явно потеряв терпение, Томас отодвигается от меня, заставив меня разорвать объятие. Его тело выгибается, а мышцы натянуты словно канаты, когда он обхватывает ладонью член и упирается им в мой вход.
— Сейчас я удовлетворю твой голод.
И с протяжным стоном подается вперед. Приподнявшись над полом, я замираю и вскрикиваю от боли, вонзив ногти в ковер.
— Бля-я-я… — выругавшись, он опускает голову и едва не падает на меня всем весом.
Я всхлипываю от его вторжения. Это больно, очень больно. Я чувствую его каждой частью тела. Мои ноги дрожат, а на коже выступает холодный пот. Не могу припомнить, чтобы мне было так больно, когда Калеб лишил меня девственности. Почему же так мучительно больно сейчас?
— Ты обманула меня, Лейла? — скрежеща зубами от злости, спрашивает Томас. — Все это время ты врала мне насчет своей девственности?
Я энергично мотаю головой, от чего наши покрытые потом лбы скользят друг об друга.
— Н-нет. Нет! Я бы не стала тебе врать, — зажмурившись от боли, я тем не менее умудряюсь продолжать говорить. — Это не первый мой раз. А… второй.
Мои бедра двигаются из стороны в сторону, а пальцы на ногах поджимаются. Я пытаюсь найти комфортное положение, но болезненное давление не ослабевает. Томас кладет руку мне на бедро, чтобы я не шевелилась.
— Перестань дергаться. Так сделаешь себе еще хуже.
— Но мне больно, — прикусив губу, всхлипываю я.
— Я знаю, — не открывая глаз и не поднимая головы от моего лба, он стонет. Потом делает глубокий вдох, будто собираясь с силами. — Нет, я не могу. Мы не…
Мои руки и ноги обхватывают его тело, прежде чем он успевает договорить. Уже не в первый раз я ощущаю себя каким-то ядовитым растением, которое ничто не может остановить. От моих движений его член погружается глубже, но мне плевать на боль. Меня вообще ничто не волнует, когда он внутри меня.
— Нет. Мы можем. У меня получится приспособиться.
— Отпусти меня, Лейла, — я мотаю головой, и Томас стискивает челюсть. — Не заставляй меня силой убирать твои руки. Я не хочу делать тебе больно. Просто… отпусти.
— Нет, — почти повиснув на нем, я хватаюсь еще крепче. — Ты не понимаешь. Я практически ничего не помню. Не помню свой первый раз, потому что была пьяная, а в темноте почти не было видно его лица. Не помню ни боли, ни крови. Это было… — я ищу правильные слова, молясь при этом, чтобы они меня не подвели. — Я как будто занималась любовью с призраком. Как будто в мечтах или во сне. А сейчас все реально. Все по-настоящему, Томас. Ты настоящий. И мне необходимы боль и любые неприятные ощущения. Необходимо все это.
Крепко обхватив Томаса руками, я ощущаю его подрагивающие мускулы. Такое чувство, будто это сейсмические волны, а под моими прикосновениями назревает землетрясение.
— Я хочу, чтобы мне было больно, потому что хочу, чтобы этот раз стал моим первым, — глядя ему в глаза, говорю я.
Охваченный моей внутренней теснотой, его член с силой пульсирует, и по прерывистому вздоху Томаса я понимаю, что он принял решение.
— Положи руки мне на спину, — хрипло говорит он. — Если станет невыносимо, можешь оцарапать. Я не буду спешить, но не могу… — сделав усилие над собой, он добавляет: — Не могу гарантировать, что боль быстро утихнет.
— Хорошо, — киваю я и делаю, как велит Томас, после чего опускаю ноги, чтобы он мог двигаться.
Закрыв глаза, я готовлюсь к его толчку и к обжигающей боли, но ничего из этого не происходит. Я чувствую мягкое прикосновение к клитору. Ахнув, открываю глаза и смотрю на него. Томас опирается на один локоть, а вторая его рука нырнула между нашими телами. От очередного поглаживания большим пальцем я прикусываю губу, чтобы держать свои похотливые стоны под контролем.
Томас не улыбается, но суровое выражение его лица немного ослабевает. Словно завороженная, я не могу отвести от него глаз. А его пальцы и в самом деле творят магию.
— Нравится так? — спрашивает он.
Сглотнув, я издаю протяжный стон:
— Да…
— Именно такой я тебя и рисовал в своем воображении, — еле слышно говорит Томас. — Лежащей подо мной, голой и отчаянно меня жаждущей. Как ты стонешь от моих прикосновений, хотя я сказал тебе вести себя потише. А вести себя потише я тебе сказал потому, что хочу услышать кое-что еще, — он ускоряет ласку, и я содрогаюсь всем телом, а потом начинает медленно и осторожно двигаться, словно напоминая мне, что он по-прежнему внутри.
— Ты знаешь, что именно я хочу услышать от тебя, Лейла? — давление на клитор усиливается, и сдержать стон я уже не в состоянии.
— Томас… Боже мой.
— Тс-с. Скажи, ты знаешь? — когда я качаю головой, он уточняет: — Я про стихотворение, которые ты написала для меня.
Его палец кружит не переставая, наполняя меня удовольствием, и я забываю смутиться от упоминания моего стихотворения. Томас делает меня жадной, и хотя по-прежнему больно, я начинаю двигаться. Прогибаюсь в пояснице, и от этого движения его член погружается глубже.
Тихо выругавшись, Томас изо всех сил старается оставаться недвижным, от чего напрягаются сухожилия на его шее.
— Господи, ну ты и хулиганка. Постоянно меня дразнишь.
Сквозь стон мне удается проговорить:
— Как именно я тебя дразню?
— Когда смотришь на меня так, будто ждешь, что я тебя поцелую. Когда преследуешь меня повсюду. Когда соглашаешься на все, что я готов тебе дать, не жалуясь и не идя на попятную. Напрашиваешься. Бросаешь мне вызов и умоляешь сделать с тобой все самое плохое, что только приходит на ум.
Я мотаю головой из стороны в сторону, словно ошалелая, сумасшедшая и опьяненная им.
— Разве не поэтому ты пришла ко мне сегодня? Разве не поэтому продолжаешь приходить снова и снова? Ты захотела, чтобы я набросился на тебя и сделал больно, как будто это твой первый раз. Да?
— Да-а-а, — протяжно произношу я. — Именно это я и хочу.
Между ног стало невероятно мокро, и внезапно мы начинаемся синхронно двигаться. Его удары неспешны и почти ленивы; я ощущаю их где-то глубоко в животе.
С каждым его выпадом мое желание усиливается, и я забываю о неприятных ощущениях. Обхватываю ногами Томаса за талию и притягиваю его к себе ближе. Он ускоряет толчки и в итоге вколачивается в меня, издавая сиплые стоны, словно одержимый.
— О боже. О боже. О боже, — всхлипываю я с каждым ударом его бедер и чувствуя, как яйца шлепаются о мои ягодицы.
Не говоря больше ни слова, Томас впивается взглядом в мое лицо и подпрыгивающую грудь. Он словно демон, питающийся моими стонами, удовольствием и нетерпением. Мое отчаянное желание только подстегивает его, когда я подаюсь бедрами навстречу каждому его движению.
Я не свожу взгляд с него, нависшего надо мной, с его сокращающихся мышц живота и бедер, с его покрасневшей и покрытой потом кожи. Такое ощущение, будто горевший внутри него огонь выбрался на поверхность. И пылает, создавая красноватый оттенок на коже, который подчеркнут желтым светом лампы.
От этого зрелища у меня между ног стекает струйка удовольствия. Мне нравится думать, будто это моя девственная кровь, а не сливочное возбуждение.
Когда я со стоном немного меняю позу, угол его толчков тоже меняется. Головка члена попадает прямо в какое-то невидимое место внутри, и, начиная от кончиков пальцев ног, на меня накатывает волна дрожи. Она разливается по бедрам, и я понимаю, что сейчас кончу. Мне хочется сказать об этом Томасу, но слова словно застряли в горле. Впрочем, это не имеет значения, потому что предупреждать его нет нужды. В ответ на мой оргазм он сдавленно стонет.
Поджав пальцы ног, я ощущаю напряжение мышц всего тела. А внутренние мускулы с силой сжимаются и разжимаются.
Опустив голову мне на плечо, Томас ускоряется. Его толчки становятся хаотичными и безумными; сбивчивыми рывками он настигает собственное удовольствие, а затем замирает. Откинув голову, выгибается назад.
Сомневаюсь, что когда-либо видела зрелище прекрасней, нежели Томас, растворившийся в удовольствии. И никогда не слышала звука мелодичней, чем его животные хриплые стоны. Медленными движениями бедер он выжимает из себя все до последней капли, и мне жаль, что из-за презерватива я не могу почувствовать его сперму внутри.
Мои бедра подрагивают в унисон пульсации его члена, и я обнимаю его за шею, не желая выпускать его из своего горячего плена.
Какое-то время мы дышим синхронно — выдох и вдох, выдох и вдох, — словно наше сбивчивое дыхание сейчас тоже занимается сексом, в то время как тела замерли. Мысль странно поэтическая и совершенно нереальная, но приятная.
Затем Томас приподнимается и покидает мое тело. Снимает презерватив и заворачивает его в салфетку — чтобы спрятать? — которую бросает в мусорную корзину. Потом хватает джинсы и одевается.
Я снова лишь мельком вижу его жилистые ноги, прежде чем они становятся спрятанными под мягкой джинсовой тканью. Оставив молнию расстегнутой, словно ему жаль сил для такой прозаической задачи, Томас подходит к окну и закуривает.
Как конченая идиотка, я продолжаю лежать на полу и пялиться на него. Мышцы спины перекатываются от каждого его движения, а бицепсы становятся еще более выпуклыми, когда Томас проводит ладонью по своим густым волосам.
Чем дольше он молчит, тем больше растет мое беспокойство. Что-то не так. Его занимают какие-то мысли, и я хочу знать, какие именно. С трудом поднявшись, я охаю от ссадин, полученных от ковра. На ватных ногах хочу подойти к двери, чтобы собрать свою одежду, но, заметив диван, останавливаюсь.
Тот сегодня необычно помятый. Нахмурившись, я оглядываю кабинет — впервые с тех пор, как вошла. На столе в беспорядке разбросаны бумаги. Это так непохоже на Томаса. Пол усыпан пеплом и окурками, как будто Томас весь день травился никотином. Наверное, уборщики утром его возненавидят.
— Ты… Ты здесь спишь? — забыв про одежду, спрашиваю я. Когда его спина напрягается, а мышцы становятся еще более рельефными, я понимаю, что ответ на мой вопрос — «Да».
— Томас, — зову его я. — Что происходит?
В ответ мне снова тишина. По оконному стеклу ползет клубок дыма, рассеявшись на тонкие ниточки. А Томас стал еще больше похож на статую — холодный и неприступный. Сжав руки в кулаки, я заставляю себя стоять на месте, чтобы не сдаться и не подойти к нему. Потому что знаю: он ответит грубостью, а я сейчас чувствую себя слишком уязвимой для этого. Еще я до сих пор раздетая и слишком встревоженная.
— А где Ники? — хриплым от страха голосом спрашиваю я. Это первое, что приходит мне в голову. — Она… забрала его?
— Нет. Она бы не стала этого делать, — невесело усмехнувшись, отвечает Томас.
— Почему? — когда он ничего не отвечает, я задаю другой вопрос: — И где он тогда?
— С ним все в порядке. За ним сейчас присматривает тот, кто сейчас на это способен.
— И этот человек не ты?
— Нет. Сейчас точно нет.
От его черствости мне сдавливает грудь, и еле слышным голосом я спрашиваю:
— Т-томас, что происходит? Ты что, за последние два дня не появлялся дома?
Вздохнув, он оборачивается. У него на лице написано нетерпение. Оглядев меня с ног до головы, он делает очередную затяжку, держа сигарету между указательным и средним пальцами. Его взгляд одновременно расслабленный и суровый, от чего у меня внутри все сладко сжимается, хотя по-прежнему чувствую беспокойство. От тупой боли между ног я морщусь.
Это не остается незамеченным, и взгляд Томаса перемещается на низ моего живота. От гиперчувствительности и влажности, которую до сих пор ощущаю, я потираю бедра между собой.
— Одевайся. Я отвезу тебя домой.
— Нет. Сначала скажи, какого черта происходит.
Томас показывает на наполовину выкуренную сигарету.
— Пытаюсь покончить с собой, — с сарказмом говорит он, после чего щелчком отправляет ее в мусорную корзину. Подойдя к столу, берет ключи.
— Пойдем.
В моей голове пусто. И даже приказать телу двигаться у меня не получается. Оно само срывается с места и несется к нему, после чего обезьянкой цепляется за его твердое и мощное тело. Отойдя на шаг от неожиданности, Томас подхватывает меня.
Обняв его за шею, я бедрами обхватываю его талию. Между ног еще влажно, и я прижимаюсь этим местом к его твердому животу — тонкие волоски у пупка щекочут клитор, от чего мы оба содрогаемся. Прижавшись своим лбом к его, я смотрю Томасу прямо в глаза.
— Она вернется, Томас. Вот увидишь, — мои слова царапают язык и горло, но я все равно продолжаю говорить. — Поймет, как сильно тебя любит, и вернется, поверь. Я просто знаю это.
Горячие руки Томаса обжигают легкие ссадины на заднице, которые я получила от жесткого ковра.
— Вот как? Знаешь? — его скрипучий голос внушает беспокойство, а тот факт, что он массирует мне ягодицы, смягчая мою боль, словно ему не все равно, мало помогает делу. Томас смотрит на меня, будто я… важна для него, но надоедлива. Как будто я его окончательно запутала. Как будто не может поверить, что я говорю о его жене, при этом сижу на нем верхом голая и потираюсь бедрами, словно шлюха.
— Да. Она любила тебя когда-то, значит, полюбит и снова. Так просто разлюбить невозможно. Так не бывает.
А любви должно быть достаточно.
Сама не знаю, кого я пытаюсь убедить: его или себя. Любить Хэдли Томас никогда не перестанет, а у меня в голове не укладывается, как кто-то может не любить такого человека. Это непостижимо. И больно.
Вцепившись пальцами в округлости моих ягодиц, Томас прижимает меня к себе. Я чувствую, что он снова твердый, и между ног сладко ноет. Мы с ним словно залипли в телесных ощущениях, в жаре и похоти, в поту и неутолимом желании.
— Она сказала, что вернется в среду, но ее до сих пор нет, и я… Я не знаю, что делать.
Слова Томаса кажутся такими беззащитными и звучат так по-детски, что, не удержавшись, я целую его, желая испить его боль.
Когда мы отрываемся друг от друга, в его глазах стоят слезы, а голос напряжен.
— Я ее не достоин. И слишком долго ее игнорировал. Не знаю, как такое произошло, но я словно потерял Хэдли из виду. И забыл о ней. Забыл обо всем, кроме своих стихов. Такого отношения никто не заслуживает. Никто не должен быть забыт близкими.
Я даже не знаю, что плачу, пока не начинаю икать. На лице Томаса написано сожаление. Вот почему я возвращаюсь к нему снова и снова. Вот почему меня не волнует, что я нарушаю границы и становлюсь шлюхой. Падшей. Потому что ему одиноко. Потому что Томас безответно влюблен. И по какой-то непостижимой причине мне невыносимо видеть его таким.
Качнув бедрами, я гадаю, не сошла ли с ума. Разве можно испытывать такую грусть и похоть одновременно?
Положив руку на щеку, Томас пытается вытереть мои слезы, но я переполнена эмоциями, и слезы все никак не прекращаются. Господи, до чего же больно. За Томаса. И за саму себя.
— Значит, ты понимаешь? — шепотом говорит он, едва касаясь своими губами моих, мокрых от пролитых слез. — Если ты влюблена в кого-то вроде меня, разлюбить не так уж и сложно.
А когда он прижимает меня к себе еще сильней и целует, я в состоянии думать лишь об одном.
Если бы влюбилась в Томаса Абрамса, я никогда бы его не разлюбила.
ГЛАВА ДЕВЯТНАДЦАТАЯ
Я пообещала Томасу, что не пожалею о случившемся, и слово свое держу. У меня это даже легко получается. Я не жалею, хотя сдержаться и не начать придавать этому большое значение трудно; мне кажется, будто весь мир считает меня Эстер Прин и готов отчитать за эту интрижку. И за такое мне светит алая буква.
Мне хочется прыгать и кричать, что в книге героиня не знала, что муж был жив. И ей было одиноко. Разве она не заслужила немного любви?
Но я не могу вымолвить ни слова, потому что меня тошнит.
Оказывается, в «Лабиринте» репетировали пьесу по этому роману, и сегодня ее показывают в университетской Аудитории Линкольна. Эмма с Мэттом сидят на соседних красных виниловых стульях и шепотом о чем-то разговаривают. Мне и в голову не приходит, о чем они могут говорить, так доверительно понизив голос. Дилана нет, потому что, судя по всему, они с Эммой так и не помирились, и я чувствую себя очень скверно, будто виновата в их ссоре.
Но разве я не виновата? Разве это не вина человека, подобного мне, — кого-то вроде матери Эммы, которая изменяла мужу и разрушила семью?
Когда отворачиваюсь от Мэтта и Эммы, в двух рядах от меня замечаю парочку. Они целуются, и в темном зале их почти не видно. Словно извращенка, я наблюдаю за их нежностями. Парень погрузил руки в волосы девушки, а она обнимает его за плечи. Их поцелуй такой ласковый и полный любви — совсем не похож на произошедшее между мной и Томасом.
Впрочем, отчасти моя похоть утолена.
Теперь желание опорожнить желудок становится еще сильнее. Внезапно поднявшись с места, я пробираюсь к выходу. Мэтт с Эммой увлечены разговором и мой уход не замечают. После отчаянных поисков туалета, я врываюсь в кабинку, и меня рвет съеденным за день.
Господи, я и правда Эстер Прин. Я падшая.
У меня появляется сильное желание спрятаться и никогда больше никому не показываться на глаза. Моя пустая ванная стала лучшей подругой, потому что последние две ночи я провела в ней. За содеянное я чувствую страшный стыд. Наверное, люди по одному взгляду на меня все поймут, как будто моя кожа светится алым.
Мне хочется вернуться во вчерашний день и поселиться там навсегда. Когда Томас рядом, все кажется правильным и нормальным, а то, что мы сделали, — не постыдным. То был вопрос выживания, только и всего. Чтобы почувствовать себя лучше, Томас мне сейчас жизненно необходим.
Но ирония заключается в том, что единственный, имеющий силу прогнать это чувство, и тот, благодаря кому оно во мне поселилось, — один и тот же человек.
***
В панике я несусь по полночным улицам, практически не глядя по сторонам, прямо к «Лабиринту», высокому и сумрачному. Вбежав внутрь, я не сбавляю скорость и взлетаю по лестнице, после чего оказываюсь перед дверью в кабинет Томаса. Хочу повернуть ручку, но та не поддается. Я пробую снова и снова, потом изо всех сил стучу кулаком в дверь.
Боже. Боже. Боже.
Я захлебываюсь собственным дыханием. В царящей здесь гробовой тишине оно звучит слишком громко.
Где он? Почему не здесь?
В голове возникает совершенно нелогичная мысль: а что, если он уехал? Что, если он уехал, как Калеб, не попрощавшись, и я его больше никогда не увижу?
Моя тату горит огнем.
Знаю, это глупо. Томас не может никуда уехать. Он ведь здесь живет и работает. Поэтому в середине семестра он никуда не денется, так ведь? Но мне тяжело прислушиваться к голосу разума. Я чувствую себя преданной и брошенной — как и тогда, когда обнаружила себя в одиночестве среди пьяных гостей.
Это не может случиться со мной снова. Мне хочется рухнуть на колени и зарыдать, но мешает собственная паника. Она наполняет странной энергией, которая не дает ногам стоять на месте. Прежде чем понимаю, что происходит, я снова бегу.
Несусь по тем же улицам, пока не оказываюсь посреди жилого района, который кажется необитаемым и где повсюду лежит снег. Не остановившись ни на шаг, я направляюсь к дому Томаса. Свет в нем не горит. Голые ветви дерева, растущего рядом, раскачиваются на ветру, создавая атмосферу запустения.
Икая от холода и сбившегося от бега дыхания, я бреду по подъездной дорожке. Асфальт под моими ногами словно превратился в зыбучий песок, хватающий меня за пятки. Я не хочу видеть, что меня ждет в конце этой тропинки, но все равно не останавливаюсь. Просто ставлю одну ногу за другой.
Вглядываясь в окна, я надеюсь, что там покажутся признаки жизни, но нет. Желтым светом фонаря у крыльца подсвечена белая входная дверь.
Я снова нарушительница, брожу тут вокруг чужого дома. И тут вспоминаю об окне в задней части дома, в которое несколько дней назад увидела Томаса с Хэдли. С тех пор многое изменилось. А у меня появилось слишком много секретов. Про Томаса. Про себя. Про то, кто мы и на что способны.
От спешки я поскальзываюсь на снежной жиже и с визгом падаю. Черт. На глаза наворачиваются слезы, а в попытках встать падаю снова и обдираю колени.
Когда встаю и отряхиваю грязь, какая-то сила тянет меня назад, и я врезаюсь во что-то твердое и теплое. Во что-то недовольно рычащее. Во что-то вкусно пахнущее потом и шоколадом.
Это Томас.
От облегчения и прижимаюсь к нему всем телом.
Слава богу. Слава богу. Слава богу.
Впившись кончиками пальцев мне в руку, он разворачивает меня лицом к себе. Он тяжело дышит, а по вискам стекают струйки пота. Его роскошные черные волосы скрыты капюшоном, но несколько прядей упали на лоб и подчеркивают огненный взгляд.
Я так рада его видеть, что улыбаюсь, будто он одним своим появлением спас мне жизнь. Вот только ярость в его глазах только усиливается.
— Какого хрена ты тут забыла? — рычит Томас и выдергивает наушники из ушей свободной рукой. Мне интересно, что у него там за музыка, которая звучит сейчас приглушенно. Хочется знать, какая музыка способна влиять на него.
— Лейла, — предупреждающе произносит он и нависает надо мной, чтобы напугать, я уверена. Но мне сейчас настолько хорошо, что запугать меня не смогут ни его действия, ни слова.
— Томас, — шепотом говорю я, ощущая какой-то нелепый восторг, — я не нашла тебя в кабинете, поэтому подумала…
Тряхнув меня, Томас не дает мне договорить.
— И что ты подумала? Что секса тебе сегодня не светит? Это так тяжело пережить? — он говорит так, словно ему противно.
Его отвращение ранит куда больше, чем я могла себе представить. Весь день я мучилась от чувства вины и ненависти к себе. И весь день думала, что Томас — единственный человек, кому по силам успокоить меня и сделать так, чтобы я почувствовала себя лучше.
Прежде чем я успеваю что-то ответить, говорит он, и его голос с резкого и грубого меняется на агрессивный шепот.
— Почему ты не даешь мне оставить тебя в безопасности, Лейла? Зачем превращаешь это в адски сложную задачу? — на его лице так отчетливо написаны агония и сожаление, что я тут же понимаю его мотивы.
Томас не остался в кабинете, поскольку знал, что я приду. Знал, что я не могу держаться от него подальше. И да… пытался оставить меня на безопасном расстоянии от себя. Хотел меня спасти. Никто и никогда не делал ради меня ничего подобного. Ни для кого я не была так важна.
Похоже, что его терпение вот-вот кончится, и я кладу руку на его колючую щеку.
— Я подумала, что ты уехал… как Калеб. И я больше никогда тебя не увижу.
От моих слов в выражении лица Томаса что-то меняется. Мне не понятно, что именно, но это уже не тот гнев, который был секунду назад. Прикосновение его горячих пальцев жжет даже сквозь шубу. Что такого я сказала? Темно-серое небо над нашими головами подчеркивает хмурое выражение лица Томаса, и я почти слышу, как он скрипнул зубами.
Когда он снимает капюшон, волосы становятся еще более спутанными. Выкрутив мне руку, Томас прижимает меня спиной к дереву. Кора грубая и мокрая, и я чувствую, как холод просачивается сквозь все мои слои одежды.
Запрокидываю голову, чтобы посмотреть в его красивые сверкающие глаза. Они влияют на меня по-прежнему сильно — вне зависимости от того, сколько раз я встретилась с ними взглядом.
— Калеб… — хрипло говорит Томас в сантиметре от моих губ, и я обеими руками хватаюсь за его толстовку. Пинком разведя мои ноги, он освобождает себе пространство, в которое тут же вторгается, прижавшись ко мне всем телом. Моим пальцам хочется провести по жестким линиям его живота, но они стараются остаться на месте.
Хочу, чтобы он сократил это расстояние.
Возможно, он знает о моем желании. Возможно, видит его в выражении моего лица, потому что приближается еще на миллиметр. В исступлении я пытаюсь прикоснуться к его губам, но Томас отодвигается, оставив меня задыхающейся от неудовлетворенности.
Подавшись бедрами вперед, чтобы я почувствовала его твердость, он говорит:
— Считаешь, Калеб на такое способен?
— Н-на что? — от возбуждения мне трудно соображать. Прямо сейчас у меня нет желания говорить о Калебе. Томас рывком притягивает меня к себе и потирается низом живота, держа меня в руках, словно куклу. Я и есть его чертова кукла. Я издаю стон. Почему меня это так заводит?
— Думаешь, у него встанет от одного взгляда на тебя, Лейла? — его горячее дыхание обдает кожу моего лба, и по позвоночнику проносится дрожь.
— Нет. Только не от взгляда на меня, — шепотом отвечаю я, прижавшись лицом к его шее, и чувствую, как он тяжело сглатывает.
— Вот как? А если ты погладишь его? Не спеша и как следует? — отцепив мою руку от толстовки, Томас кладет ее себе на пах. Я массирую его внушительную твердость сквозь ткань его спортивных штанов. — Знаешь, как это делается, да? Как приласкать рукой член, чтобы от невыносимого желания тебя трахнуть стало больно.
Его грудь прижата к моей, и мое тело подчиняется и подстраивается под его вдохи и выдохи, даже под дрожь.
— Н-нет. Я не… Я никогда этого не делала, — покачав головой и вдыхая его запах у шеи, отвечаю я.
Томас отходит на шаг, и я сжимаю его член, пытаясь остановить. Скрипнув зубами, он смотрит на меня. Взгляд опасный и яростный. Теперь мне стало страшно, и я дрожу в предвкушении его следующего действия.
Не говоря ни слова, Томас рывком распахивает мою шубу, едва не оторвав все пуговицы. Холодный воздух ударяет прямо в грудь, заставив охнуть.
— Т-томас, мне… холодно, — говорю я, стуча зубами, когда он ныряет рукой мне под юбку и сминает в кулаках ткань колготок. — Прошу тебя, я замерзла.
Приблизившись ко мне, он согревает меня жаром своего тела.
— Считай это напоминанием.
— О чем?
— О том, что я уже говорил тебе про нарушение.
В памяти всплывает почти забытая фраза. Мы препирались тогда друг с другом на поэтическом вечере в «Алхимии». «С нарушителями правил часто случается что-нибудь нехорошее».
— Мне очень жаль. Я запаниковала. Решила, что ты тоже меня оставил. Как…
— Знаю. Как Калеб, — перебивает меня Томас и своим лбом прислоняется к моему. — Как раз хотел тебе напомнить и об этом. Я не Калеб.
— Боже, пожалуйста, остановить. Прошу тебя.
На его губах играет улыбка — такая же холодная, как зима, что царит вокруг. Он отпускает меня, но я чувствую разочарование, хотя просила именно об этом. Сунув большие пальцы под резинку колготок, Томас стягивает их, и от новой порции холода у меня снова перехватывает дыхание.
— Калеб ничего такого не стал бы делать, правда? — потянув за резинку, чтобы та врезалась в кожу над моими коленями, интересуется Томас. — Скажи ты всего одно слово, он тут же остановился бы. Но я не он. Кто я, Лейла? Назови мое имя.
— Томас, — с дрожью в голосе говорю я, в то время как он кружит горячими ладонями по задней стороне моих бедер. От его прикосновений мое замерзшее тело начинает оттаивать. Холод больше не имеет ни значения, ни власти надо мной.
— Да… — с заметным удовольствием хрипло говорит Томас, от чего у меня перехватывает дыхание. — Я не остановлюсь, даже если ты будешь молить. Заставлю раздеться на морозе, поставлю на колени прямо на землю и буду трахать, до тех пор пока не заполню тебя собой до краев. И знаешь, почему, Лейла? — словно загипнотизированная его голосом, я мотаю головой. — Потому что ты сама этого хочешь. И, напуганная до смерти, ты пришла сюда именно для этого. Ты ведь хочешь, чтобы я оттрахал тебя у себя на заднем дворе. Хочешь, чтобы я с силой вколачивался в тебя сзади, а ты будешь кричать так громко, что разбудишь соседей. А знаешь, что произойдет потом?
— Ч-что? — я вздрагиваю всем телом, когда руки Томаса спускаются к моим ягодицам и сжимают их.
— Сонные и сердитые, они откроют окна и захотят вызвать копов, но потом увидят тебя. А ты будешь стоять на земле на четвереньках и, принимая мой член, визжать. На лице гримаса, по щекам текут слезы… — замолчав, Томас прижимается лицом к моей шее и стонет, возбудившись от собственных фантазий. — И эти люди ничего с собой не смогут поделать. В ритме твоих стонов они дадут волю рукам, а когда ты кончишь, кончат и они — прямо в штаны. А как иначе, Лейла? Увидев тебя на земле, голой и корчащейся, они просто не смогут сдержаться.
Его слова шокируют так сильно, что мне кажется, я сейчас умру. Я словно муха, попавшая в его паутину эротичных слов и образов, и все, на что сейчас способна, это безвольно застонать. Почти ощутить на себе чужие взгляды, о которых он фантазировал. И почувствовать желание устроить для них шоу.
— Тебе нравится, да? Нравится быть всеми желанной, — кажется, Томас, как и я, растворился в происходящем.
— Да-а-а-а… — шепотом отвечаю я, представляя непристойные изображения, что он нарисовал своими словами. Томас настоящий мастер слова, с воображением настолько разнузданным, что я не хочу, чтобы он останавливался.
— Произнеси мое имя еще раз.
— Томас.
Когда я открываю глаза, чтобы взглянуть на него, на губах у Томаса расцветает полуулыбка, от которой я хочу его еще больше. Он раздвигает мои ноги шире, и резинка колготок больно впивается в ноги.
— Подними юбку, — шепотом говорит он, не отрывая губ от бешено пульсирующей вены на моей шее, затем проводит по ней языком и запускает тем самым электрические волны мне в низ живота.
Массируя широкими ладонями мои ягодицы, Томас словно вливает свое тепло в мое замерзшее тело, и я, совершенно не задумываясь, делаю, как он сказал. Передав ему контроль над своим телом. Задираю клетчатую юбку и выставляю напоказ нижнее белье. Кончиком пальца Томас проводит по шву моих белых хлопковых трусиков, и со стоном я запрокидываю голову, прижавшись затылком к шершавой коре дерева.
— Такая влажная, — прикусив кожу у основания моей шеи, Томас успокаивает боль поглаживанием языка. — Попроси, чтобы я разрешил тебе пососать мой член, — шепотом говорит он, потом опять кусает и проводит языком. Несколько раз скользнув пальцами по мокрой ткани, Томас запускает их внутрь, окуная в мою влагу, но ни разу не прикасаясь к клитору. Так скоро облегчения мне явно не видать.
— Ну давай же, Лейла. Попроси.
Острое желание, пронизывающее его слова, передается и мне. А я сделаю для него что угодно. Забыв о своем удовлетворении, я буду сосать его член, чтобы языком ощутить, как он пульсирует.
— Пожалуйста, Томас. Я хочу тебе отсосать. Можно? — в его прищуренных глаза мелькает вспышка желания, но он ничего не говорит в ответ. Знаю, Томас хочет, чтобы я постаралась и попросила еще. — Прошу тебя. Я так этого хочу. Умоляю. Я хочу… ощутить его вкус.
Томас скрипит зубами еще сильнее — такого я еще никогда у него не видела, — и стискивает мою задницу так сильно, что я не могу сдержать вскрик.
Я облизываю губы.
— Пожалуйста, Томас. Дай мне почувствовать его во рту.
Переместив руки мне на плечи, он толкает меня вниз. Боль, которую я ощущаю, когда коленями ударяюсь о землю, чересчур сильная. Видимо, это все из-за ободранной кожи после падения. А теперь мне предстоит еще больше повредить рану, пока буду сосать его член… Но ничего. Я сделаю для него что угодно.
— Ну раз уж ты так вежливо просишь… — от его гортанного голоса между ног становится еще более мокро.
И в этот миг я забываю о своем возбуждении, потому что перед моим лицом появляется его член. Томас приспустил штаны, чтобы достать эту огромную… штуковину. Мать вашу. Мать вашу! Неудивительно, что вчера мне было так больно. Он длинный, тяжелый и крупный, и… я могла бы перечислить еще больше эпитетов, если бы знала.
Посередине его лиловой головки есть бороздка, и по ней я могу провести языком, если захочу. Всю длину обвивают вены, а у основания кожа на стволе чуть темнее. Ого, какие большие яйца. Неожиданно. Это нормально, что они такие?
Я спешно пытаюсь вспомнить все порно-ролики, какие смотрела, и члены, которые там видела, но тщетно.
— Напугались, мисс Робинсон?
Поднимаю голову и бросаю взгляд на его кривую ухмылку. Вот же говнюк. Хочу высказать все, что думаю, о его насмешках, но принимаю решение промолчать, потому что из пор Томаса сейчас словно сочится похоть, это так заметно. Плечи напряжены. Дыхание сбивчивое. Он крепко схватил меня за волосы. Я нужна ему.
— Такой большой, — совершенно искренне говорю я, словно он сам не знает, и прикасаюсь к упругой головке кончиком пальца, от чего член дергается. — Не уверена даже, поместится ли он у меня во рту.
В ответ на мои тихие слова его хватка в моих волосах усиливается, и Томас делает глубокий вдох.
— Тогда мы будем пытаться, пока не поместится, — он тянет за волосы, запрокидывает мою голову назад, от чего напрягаются мышцы шеи, и проводит головкой по моим губам.
Я приоткрываю рот, чтобы пососать самую верхушку, и тут же издаю стон от его вкуса — солоноватого с легкой сладостью, мужественного и терпкого. А кожа такая нежная и мягкая. Я боюсь нечаянно прикусить. О, а еще он такой горячий, что все мысли про зиму и холодный ветер тут же испаряются.
Облизывая головку и погружая кончик языка в бороздку, я пробую ее вкус и текстуру. Нависая надо мной, Томас громко стонет и обеими руками держит мои волосы в плену. Внезапно чувствую соленый вкус и от неожиданности останавливаюсь.
Это предэякулят. Ну конечно.
По венчику головки стекает капля, которую я тут же ловлю языком.
— Бля-я-я… — хрипит Томас.
Я снова погружаю в рот головку, но теперь на этом не останавливаюсь и беру член глубже, пока он не оказывается зажат между нёбом и языком.
— Черт, — снова ругается Томас, и я встречаюсь с ним взглядом. В его глазах ревет пламя. Он так смотрит на меня, словно собирается оттрахать до потери пульса. Чтобы вознаградить его за такой взгляд, я провожу языком по нижней стороне члена, давая понять, что Томас может делать со мной что угодно.
Мышцы его живота сокращаются, но когда я протягиваю руку, чтобы нырнуть под толстовку, он качает головой.
— Нет-нет. И задери повыше юбку. Хочу видеть, как будут дрожать твои бедра от силы моих толчков.
Я поднимаю подол юбки, и в этот момент Томас начинает понемногу погружаться в мой рот, прислонив голой задницей к покрытому снегом дереву. Я вздрагиваю от ледяного прикосновения. Он не останавливается, и у меня начинает ныть челюсть, а потом двигается. Короткими и сильными толчками.
Несмотря на то, что его член у меня во рту, я ощущаю его всем телом, как будто сейчас разойдусь по швам или взорвусь от ощущения наполненности.
— Боже, как хорошо… — начинает он, а потом, не сбавляя темпа, издает эротичный полустон-полурык. — Охренеть, до чего же хорошо у тебя получается. Если бы не знал, то решил бы, что ты уже делала это раньше.
До этой секунды я боролась с сильным глоточным рефлексом, но сейчас чувствую удовольствие, которое, впрочем, долго не длится. Томас вытаскивает член, но продолжает удерживать рукой мою челюсть. Согнувшись в талии, он нависает надо мной.
— Ты уже делала это, Лейла? Кто-то тебя научил?
«Научил». Это слово и все его формы не в первый раз возникают между нами. Не будь Томас сейчас таким серьезным и не будь его прикосновения такими обжигающими, я бы посмеялась над его вопросом.
Но я лишь качаю головой — или пытаюсь, потому что он крепко держит меня за волосы.
— Нет. Ни разу.
Ты мой единственный учитель.
Смелости произнести вслух эти слова у меня не хватает, но подразумевались именно они. Облизав свои влажные губы, я с удивлением обнаруживаю на нижней крупную каплю слюны. Пытаюсь посмотреть ему в глаза, но он стискивает мою челюсть еще сильней, и я всхлипываю.
— Томас, мне больно.
На самом деле нет, но даже если и так, я все равно не возражала бы. Мои слова призваны свести его с ума. И миссия выполнена.
Его жесты становятся еще менее изящными, чем были раньше. Томас рывком погружает член мне в рот, продвинувшись на этот раз чуть глубже, и я кашляю от вторжения. Он тут же его вынимает и дает отдышаться. Едва я справляюсь с дыханием, Томас повторяет свои действия, и так несколько раз.
— Вот что происходит, Лейла, — его речь невнятная и резкая одновременно. — Вот что происходит, когда я сказал тебе что-то не делать, а ты перечишь. Когда ты заявилась сюда в своей чертовой фиолетовой шубе и короткой юбке и смотришь на меня своими огромными фиолетовыми глазами.
Тяжело дыша, Томас держит темп, который можно счесть карающим, вот только он совсем не такой. Он кажется… вышедшим из-под контроля и отчаянным, и мне это нравится. Всем происходящим я восхищена каждой клеткой тела. Бедра начинают дрожать, как Томас и предсказывал. Грудь набухла, а тату горит огнем.
— Это все ты. Ты заставляешь меня так себя вести, — подавшись в очередной раз бедрами вперед, говорит Томас, и от давления у меня на глазах выступают слезы. — Ты заставляешь меня надругаться над твоим ртом.
От его надломленного голоса я не могу сдержать собственный стон и ласкаю движущийся у меня во рту член языком. Громко выругавшись — этот звук эхом пронесся по всему моему телу, — он резко достает член и изливается мне на подбородок и шею. Густые капли медленно сползают вниз по моей коже, некоторые из них пропитывают горловину моего белого свитера, а некоторые спускаются к груди.
Опершись одной рукой о дерево за моей спиной, Томас продолжает поглаживать еще твердый член другой. Крепко сжав челюсть и склонив голову. Если бы я не знала, то решила бы, что ему больно. Но нет, это всего лишь последствие его вожделения — мучительного и восхитительного.
Томас открывает глаза и смотрит на меня.
— Прощания даются мне нелегко, но я не оставлю тебя, не попрощавшись, будто трус.
ГЛАВА ДВАДЦАТАЯ
Слова Томаса не выходят у меня из головы, но понимаю я их не сразу. А когда смысл наконец становится ясен, с облегчением выдыхаю и чувствую, как все мое существо наполняется нежностью. Не давая никаких надежд, он все же пообещал мне, что не бросит, как Калеб. По крайней мере, не сделает это без предупреждения.
Отпустив подол юбки, я круговыми движениями втираю его сперму в кожу шеи и подбородка, надеясь заполучить его в себя как можно глубже. Слизываю несколько капель, которые собрались в уголках рта. Они на вкус как самый лучший шоколад на свете — терпкий и солоноватый.
Шумно втянув в себя воздух, Томас рывком поднимает меня на ноги, другой рукой при этом подтягивая свои штаны. От внезапной боли в коленях я взвизгиваю.
— Что случилось? — нахмурившись, спрашивает Томас. — Я сделал тебе больно?
Его беспокойство облегчает мою боль.
— Нет. Это просто… Кажется, я разбила коленку, когда упала. Ничего страшного.
Прежде чем я успеваю договорить, Томас уже стоит передо мной на коленях. Приспускает мои колготки еще ниже и осматривает колени. Идет кровь. Тихо выругавшись, он расстегивает мой правый сапог.
— Что ты делаешь? — я хватаюсь за его плечи, когда он поднимает мою ногу и снимает сапог. Земля такая ледяная, что начинаю дрожать. Я ощущаю себя истекающей кровью Золушкой, которая только что отсосала своему порочному Прекрасному Принцу, а сейчас, вместо того чтобы надеть мне на ногу туфельку, он снимает с меня сапоги.
— Ты не можешь пойти домой в таком состоянии, — отвечает Томас и снимает с меня второй сапог. — Раны нужно промыть и перевязать, — расправившись с сапогами, он стаскивает с меня гетры и колготки, и теперь нижняя половина моего тела открыта всем ледяным ветрам. — Пойдем, у меня есть аптечка.
Его слова заставляют меня замереть. Они словно встряхивают меня и рассеивают морок. Мои действия становятся однозначными и кристально понятными — я смотрю на них со стороны, будто не сама их совершила. Я сделала ему минет на заднем дворе, прямо напротив окна, в которое наблюдала за ним и его женой.
Господи, я такая шлюха. Даже присутствие Томаса не может сгладить мою вину.
— Лейла.
Я перевожу взгляд на него, на его бесстрастную позу и все еще окрашенные возбуждением щеки.
— Я не могу… Не могу пойти туда.
Томас молчит. Словно понимает, почему я не могу. Словно осознает свершившееся безумие. Но есть правила, которые люди не должны нарушать. Я не могу стать пресловутой Другой Женщиной и войти в их дом.
Оглядев мои ноги, он задерживается взглядом на животе, как будто сквозь свитер видит мою тату.
— У тебя из-за меня идет кровь, так что мне тебя и лечить, — его слова звучат рассерженно, но сдержать танцующих бабочек в животе мне все равно не удается.
Томас разворачивается и идет к дому, неся мои гетры, колготки и сапоги.
Какое-то время я стою не шелохнувшись, после чего поправляю свою шубу и иду вслед за ним. Он уже стоит у двери и ждет меня. Открыв дверь, Томас отходит в сторону, чтобы я вошла первой. Сам факт появления в его доме через заднюю дверь делает ситуацию еще более непозволительной. Как будто это взлом. Плечи Томаса напряжены, как будто его посетила та же мысль. Мы с ним оба нарушители. Ночные воры.
Холодильник и свет над плитой издают еле заметное жужжание. Типичный звук типичной кухни, но я все равно в восторге — ведь это дом Томаса, и я сейчас здесь.
Он стоит рядом с кухонным островком — не долго, но достаточно, чтобы я заметила и удивилась. Почему Томас выглядит потерянным в собственном доме?
Словно выйдя из транса, он бросает на стол телефон, кошелек и ключи.
— Садись. Пойду принесу аптечку.
Слушая его удаляющиеся шаги, я пользуюсь возможностью оглядеться. Рядом с дверью на столе стоит кофемашина с подставкой для чашек. Наверху висит кружка с эмблемой Нью-Йоркского Университета, и я прикасаюсь кончиками пальцев к холодной керамике, понимая, что сильно скучаю по этому городу. Томас учился там, когда мне было лет восемь или девять. Он жил со мной в одном городе. Наверное, мы с ним не раз пересекались — будущий поэт и я. Родственные души. Возможно, я видела его в толпе и не замечала.
У его дома открытая планировка, и с кухни хорошо просматриваются гостиная и столовая, обе освещенные тусклыми светильниками. Я провожу руками по кожаному дивану, на котором он сидит по ночам и проверяет работы студентов.
Слева от меня лестница и коридор, куда пошел Томас. Отсюда слышно, как он в ванной ищет аптечку. Босыми ногами бесшумно ступая по деревянному полу, я останавливаюсь у приоткрытой двери в какую-то комнату. Она словно приглашает войти нарушительницу вроде меня.
Тяжело сглотнув, я открываю ее шире и вижу множество коробок и огромный стол, освещенный лишь льющимся из окна лунным светом. Провожу пальцами по поверхности и чувствую ее неровности. У этого стола есть история и характер. И он совсем не похож на отполированный рабочий стол, что стоит у него в кабинете. Этот мне нравится больше.
На нем ничего нет, кроме небольшой покрытой пылью лампы.
Даже ручек нет. Интересно, это вопрос организованности или чего-то другого. Кажется, второе.
Я перевожу взгляд на гору коробок у стены. На них написано «Старое», «Нью-Йоркский Университет», «Стихи», «Литературоведение» и так далее. Мое внимание привлекает заклеенная коробка с надписью «Амнезия».. Мне хочется вскрыть ее и заглянуть внутрь. Интересно, у меня есть шансы, что он не заметит пропажу, если я заберу отсюда что-то с собой?
— Даже не вздумай.
Подпрыгнув от неожиданности, я разворачиваюсь.
— Ты о чем?
Томас включает настольную лампу, одним щелчком делая комнату более уютной. Желтый свет такой же, как и в его кабинете в «Лабиринте», что тут же напоминает мне о нашем сексе. Я прижимаю руку к животу, где сейчас стало дурно.
— Брать мои вещи без разрешения.
— И не собиралась, — усмехаюсь я. — Я просто осматриваюсь.
— Как ни странно, я не удивлен, — сдержанно замечает Томас. — Садись, — показывая на стол, говорит он, и тогда я замечаю в его руке аптечку.
Запрыгиваю на стол и устраиваюсь поудобней.
Томас наблюдает за каждым моим движением, от чего я с особенной ясностью ощущаю, что наполовину раздета.
Он садится на стул, а когда тот скрипит под его весом, я чувствую вспышку возбуждения. Еще немного, и подо мной на поверхности стола останутся влажные следы, но сейчас не время. Я стараюсь быть хорошей и вести себя уважительно.
Жаждать Томаса в его собственном доме кажется неправильным — куда более неправильным, нежели все, чем мы с ним занимались до сих пор. Ведь его дом должен быть надежным и безопасным местом. Я же нарушаю это ощущение безопасности одним своим присутствием — пятнающим все вокруг и разрушительным.
Томас кладет ладонь на мое правое колено, и оно дергается. Но это прикосновение совсем не чувственное, так сделал бы, например, врач. Томас ставит сначала одну мою ногу себе на бедро, а потом другую, едва касаясь моей кожи, но я все равно это чувствую.
Воцаряется молчание, а тишина кажется такой же плотной, как и мышцы его бедер, об которые мне хочется потереться, — но я сдерживаюсь. Даже у такой шлюхи, как я, есть рамки приличия. Только не здесь. Только не здесь. Только не здесь.
Точными и скупыми движениями Томас достает из аптечки бинт. У меня такое чувство, что у него, как и у меня, самоконтроль висит буквально на волоске.
— А ты всегда хотел быть поэтом? — мой голос звучит скрипуче, но надо же хоть чем-то заполнить эту дурацкую тишину.
Какое-то время он молчит и смачивает спиртовым раствором ватный тампон, после чего без предупреждения прикладывает его к моим ссадинам, и я морщусь и ругаюсь. Взглянув на меня из-под ресниц, Томас снова возвращает внимание к моим подрагивающим ногам.
— У меня плохо получается управляться со словами, — внезапно говорит он, и я вздрагиваю. — Или, скорее, с разговорами. Когда был маленький, я мог ни с кем не разговаривать целыми днями, без конца читая комиксы и книги. Иногда казалось, что мне есть что сказать, и немало, но я не знал, как это сделать, — Томас делает паузу и занимается раной на другой ноге. На этот раз я знаю, что меня ждет, и почти не дергаюсь. — Потом нашел дневники своего отца и его стихи и понял.
— Что понял? — руками я крепко держусь за края стола, чтобы не погрузить их в его роскошные волосы.
— Что нашел для себя способ высказаться.
— Твой отец тоже был поэтом?
— Не настоящим, — в ответ на мое непонимание, Томас поясняет: — Он никогда не публиковался.
— А-а, — отвечаю я. Его определение «настоящего» поэта мне не очень нравится, но разве я в этом разбираюсь? Я ведь даже не фальшивый поэт. — Тогда он должен тобой гордиться.
— Он умер, — говорит Томас и заканчивает перевязывать мое колено. — Кроме того, я больше не поэт.
Прежде чем я успеваю спросить, что он имеет в виду, Томас задает встречный вопрос:
— А ты всегда хотела быть сталкершей?
Эти глаза Огнедыщащего… Они мне улыбаются. Наверное, мне стоило бы обидеться на его насмешку, но я не могу. И вместо этого всерьез обдумываю его вопрос.
— Хм. Вообще-то, да. Это было неизбежно. Я всегда была невидимой для всех — для мамы, для отца. Даже не знаю, помнит ли он меня, — я пожимаю плечами. — И… для Калеба тоже. Я постоянно наблюдала за ним из дальнего угла. Так что да, к преследованию меня готовила вся моя жизнь.
К моменту, как я заканчиваю рассказывать, у Томаса на челюсти играют желваки. А сам он будто оголенный провод. Я пытаюсь понять причину. Потому что я снова упомянула Калеба? Мое тело до сих пор пронизывает восхитительная дрожь от воспоминания, каким образом Томас убедил меня, что ни капли не похож на него.
— Томас?
Его имя произносит незнакомый женский голос, от которого я застываю изнутри.
Это кто… Хэдли? Она здесь? Как мог Томас так поступить со мной? Привести меня в дом, где его ждет жена.
Когда Томас встает, скрип стула на этот раз больше похож на похоронный звон.
Как он мог так с нами поступить, плачет мое сердце.
— Сьюзен, это Лейла.
Я опять замираю. Это Сьюзен. Не Хэдли. Всего лишь Сьюзен.
Господи, но кто такая эта Сьюзен?
Я спрыгиваю со стола, как будто мне кто-то всадил полный шприц адреналина. Сьюзен — это пожилая, но красивая женщина, с лицом, которое ожидаешь увидеть у собирательного образа любимой бабушки. У моих дедушек и бабушек — у всего этого огромного количества — лица, созданные при помощи ботокса.
— Зд-здравствуйте, — говорю я и, отойдя от Томаса, чинно складываю руки.
— Добрый вечер, — с удивлением отвечает она и переводит взгляд с меня на Томаса, а потом обратно. — У вас тут все в порядке?
Мы ничего не делали. Я к нему даже не прикасалась.
— Да, — с абсолютно нейтральным выражением лица отвечает Томас. — Я как раз собирался отвезти ее домой. Ники спит?
— Спит. Я встала попить воды.
— Хорошо. Я скоро вернусь, — отвечает ей он, а потом, не глядя в мою сторону, добавляет: — Пойдем.
Мы обмениваемся с Сьюзен неуверенными улыбками, и я иду вслед за Томасом. Спиной ощущая ее взгляд, гадаю, то ли это всего лишь моя паранойя, то ли она действительно поняла, что между нами. Я сгребаю свою одежду с кухонного островка, и Томас везет меня домой.
Поездка проходит в напряженном молчании. Я не понимаю, что произошло. От волнения я вспотела и боюсь, что испачкала кожаное сидение его машины.
Когда Томас останавливается у моей башни, я поворачиваюсь к нему.
— Прости меня. За то, что я… вот так заявилась к твоему дому.
Он смотрит прямо перед собой и крепко сжимает руль.
— Да. Тебе есть за что извиняться.
— Этого больше не повторится. Никогда, — уверяю я. — А Сьюзен… она… не…
— О Сьюзен тебе волноваться не нужно, — Томас поворачивается ко мне, и от его взгляда мне одновременно и комфортно, и беспокойно. Она не расскажет Хэдли, но все поймет, а это еще хуже. Сьюзен одним присутствием будет являть собой молчаливый упрек. Вот только как она поймет? Неужели по одному лишь взгляду на нас? Неужели наша страсть друг к другу настолько заметна?
Томас ждет, когда я выйду из машины, но я остаюсь на месте. Еще один вопрос.
— Что ты имел в виду, когда сказал, будто больше не поэт?
Он делает резкий вдох и медленно выдыхает.
— Ничего. Ничего я не имел в виду. А теперь иди домой.
— Вчера ночью ты сказал, что забыл о ней, потому что… был слишком занят своими стихами, — когда я складываю два и два, у меня в груди поселяется ужасное чувство. — Ты… перестал писать? Поэтому и переехал сюда?
Разве это возможно? Как он мог перестать писать? Кому это вообще по силам?
— Уходи.
Вот только я с места сдвинуться не могу.
— Томас, это же нелепо. Ты слишком хорошо пишешь, чтобы вот так взять и прекратить. Ты любишь стихи. Как ты вообще смог это сделать — перестать быть поэтом?
Когда Томас поворачивается ко мне, его бледное лицо резко выделяется на фоне тонированных окон машины.
— Убирайся отсюда!
Наверное, я должна на него обидеться. Правда. В нем так много всего, что должно меня оскорбить. Томас грубый, заносчивый и неподатливый, но во мне достаточно сумасшествия, чтобы заметить то, что он старается скрыть — неприглядную и неизбывную боль.
— Томас…
— Просто… уходи, Лейла. Уходи. Оставь меня. Мне… очень больно причинять тебе боль, но я все равно это сделаю. По-другому я просто не умею. Поэтому лучше тебе обойтись малой кровью и двигаться дальше.
«Как и Хэдли», — мысленно добавляю я. Как и любви всей его жизни, ради которой он пожертвовал тем, что определяет его суть — словами и стихами.
И вот сейчас, в его машине, я ощущаю, как рассыпается на куски моя наивность. Все, во что я верила, исчезло. Ведь одной любви, по-видимому, недостаточно.
В этот момент я принимаю решение, что никогда Томаса не оставлю. И, в отличие от его жены, никогда его не брошу.
ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ПЕРВАЯ
Сегодня утром я играю в тайного агента. Сказала Эмме, что у меня встреча с несуществующим учителем. Сомнению мою историю она не подвергла, потому что… хм, все эти дни Эмма немного рассеянная. Я жду Дилана у двери в наш класс поэзии. Он опаздывает, и до начала занятия у нас есть всего полчаса.
Услышав звуки торопливых шагов, я оборачиваюсь и вижу Дилана. От него веет холодом; он тяжело дышит и в руке держит стаканчик кофе.
— Привет. Извини, немного опоздал.
Я смотрю на кофе и думаю, что это странно, но у меня не возникает желания отпить глоток. Воровать мне нравится лишь у Томаса.
— Так в чем дело? Ты говорила про что-то важное, — говорит Дилан.
— Да. Почему ты так глупо себя ведешь?
Он хмурится.
— Что? Ты о чем сейчас?
— О том, что с Эммой ты ведешь себя по-идиотски, — сложив руки на груди, я прислоняюсь к стене. — Почему вы до сих пор в ссоре?
— Я с ней не ссорился.
— Да ну? А почему тогда Эмма такая мрачная? И почему ты к ней не заходишь?
После их размолвки прошла неделя, и все это время Дилан к нам не приходил. Зато заявлялся Мэтт и таскал у меня конфеты — что не хорошо, — но все мои беспокойства в основном касаются Эммы. Меня расстраивает, что причина их расставания не имеет к ним самим никакого отношения. Так глупо ссориться из-за того, что натворила ее мать, да еще давным-давно.
— Я думаю, вы оба сглупили и устроили драму на пустом месте, — не дав Дилану ответить, добавляю я. — Вы ведь любите друг друга. Ты вообще понимаешь, как редко такое бывает? Почему ты не можешь успокоиться?
Боже, мне хочется влепить ему пощечину за то, что вот-вот растеряет нечто бесценное.
— Слушай, со мной все окей. Я не против все исправить, но Эмма ведет себя просто-напросто неразумно. Я даже извинился, но знаешь, что она сделала? Собралась вместе с Мэттом поехать на весенние каникулы во Флориду.
— Что-что?
— А ты не знала? — ошарашенная, я качаю головой. — Ну так вот: Мэтт с Эммой собрались на несколько дней во Флориду, чтобы расслабиться и отдохнуть. И все из-за нашей идиотской ссоры. Если она решила заставить меня ревновать, то вперед.
— Но это так не похоже на нее. Совершенно не похоже.
Дилан качает головой.
— Да мне плевать. С самого начала было слишком много сложностей. Не надо было и начинать.
Выпрямившись, я удивленно таращусь на него.
— Что? Нет! Вам вдвоем было ведь так хорошо! И ты любишь ее. А она — тебя. В вашей дружбе всегда было место для чего-то большего.
Дилан молчит и не сводит с меня глаз. Это так странно. Став внезапно застенчивым, он неуклюже проводит рукой по затылку.
— Твои глаза такие… огромные.
— А?
— Хочу сказать, они очень… красивые.
— Та-а-ак. Ладно. Послушай, Дилан…
— Я сох по тебе весь прошлый семестр. То есть ты мне нравилась. А то «сох» какое-то детское слово, — нервно усмехнувшись, Дилан подходит ко мне ближе.
— Дилан, это просто…
— Я всегда считал тебя красивой, а когда… ну, увидел тебя в классе профессора Адамса, х-хотел пригласить тебя…
Не договорив, он наклоняется ко мне. Я знаю, что сейчас будет. Прежде чем Дилан прикасается к моим губам, знаю, что сейчас он меня поцелует. От него пахнет кофе и уличным холодом, а губы мягкие и немного суховатые.
Я замираю всем телом. Нет, это не страх — он не причинит мне вреда, — а что-то другое. Быть может, шок? Меня ошарашили его действия. А когда Дилан проводит кончиком языка по моим губам, я резко отстраняюсь.
Он уязвлен — это заметно по глазам — и слегка пристыжен, но не потому, что я не ответила на поцелуй, а из-за его ссоры с Эммой. Он ревнует и пытается вернуть себе хоть какой-то контроль. Господи, мужчины такие банальные.
Но прежде чем успеваю поделиться с ним своими умозаключениями, я чувствую, что на нас кто-то смотрит. Дилан это тоже чувствует и, отойдя от меня на шаг, оборачивается. Это Томас. Стиснув челюсть, он сверлит меня взглядом.
Судя по всему, он все видел. Вот черт. Я отхожу от Дилана подальше, потому что между нами ничего нет. Хочется подбежать к Томасу и сказать, что этот поцелуй ничего не значил. Сделав было шаг вперед, я тут же вспоминаю, где мы находимся — и, что еще важней, кто мы по отношению друг к другу.
Так что броситься в объятия к Томасу я никак не могу. И побаиваюсь ему даже улыбнуться. Мне приходится держать рот закрытым, иначе выдам наш секрет. Как много всего мы не можем себе позволить, что для других пар обычное дело. Впрочем, мы даже не пара.
— Доброе утро, профессор, — с беспокойством в голосе приветствует Томаса Дилан.
Едва удостоив его взглядом, Томас направляется к нам. Что он задумал? При виде его каменного лица и решительной походки я сглатываю образовавшийся в горле комок. Двигаясь сами по себе, мои ноги отступают на пару шагов назад.
Томас останавливается прямо передо мной. Его голубые глаза испускают пламя. Не в состоянии стерпеть, я открываю рот, чтобы сказать хоть что-нибудь — лишь бы нарушить эту агрессивную тишину, — но Томас меня опережает.
— Прошу прощения.
— Что? — подняв голову, спрашиваю я.
В течение нескольких секунд Томас молча на меня смотрит.
— Вы не даете мне пройти.
Когда я облизываю губы, его глаза вспыхивают, становясь еще более насыщенно-голубыми, если такое вообще возможно. Внутри становится приятно-больно, и мне хочется выгнуться в пояснице — чего сделать я никак не могу. В этот момент словно очнувшись от транса, я оглядываюсь по сторонам. Я и правда мешаю ему войти в аудиторию.
— Извините, — отвечаю я.
Как только я отхожу в сторону, Томас заходит в класс.
Это занятие проходит стремительно. Мы обсуждаем сатирические стихи Джона Уилмота, поэта XVII века. По его словам, люди — это звери, а общество этих зверей окультуривает. Поэтому пошло оно, общество. И нахрен здравый смысл. Делай что хочешь. Не сдерживай порывы, следуй им. Пожалуй, я бы ему поверила, не будь у него вереницы любовниц и не закончи он свои дни из-за ИППП.
За все это время Томас на меня ни разу не смотрит. Он выглядит как обычно, и никаких признаков гнева я заметить не могу, словно перед занятием ничего такого не произошло.
Может, я придаю этому слишком большое значение? Может, он совершенно не против? А может, просто не заметил? Это было бы здорово, потому что ничего, по сути, и не произошло, но радости я все равно не испытываю. Все что угодно, — хотя трудно сказать, что именно, — но только не радость.
По окончании занятия я принимаю решение обсудить это с Томасом, но шанса все никак не подворачивается. Его окружили несколько девушек, имени которых я даже не знаю, и засыпают вопросами. Обычно Томас сдержан и не поощряет дискуссии, выходя из класса, прежде чем кто-то успевает задать вопрос. Но сегодня решил задержаться и терпеливо ответить на все, что его спрашивают. Улыбается, кивает и пространно что-то объясняет. Он никогда не делал ничего подобного. Никогда.
С каждой секундой я чувствую себя все хуже и хуже. Мне слишком беспокойно, а внутри скопилось слишком много неизрасходованной энергии. Это возбуждает и сводит с ума. Все, что мне нужно, — это чтобы он посмотрел на меня один лишь раз. Всего раз.
Когда терпеливо сидеть больше не могу, я срываюсь с места и выбегаю из аудитории. Через весь кампус я бегу на следующее занятие и, сев у окна, смотрю на заснеженный двор. Спокойствие и безмятежность зимнего пейзажа только ухудшают мое настроение. Почему мир не взрывается вместе со мной? Я понимаю, что стоит переработать свое расстройство во что-то более продуктивное, например, написать стихи. Но пошли они, эти стихи. Нахрен все.
Почему он не взглянул на меня? Зачем разговаривал с этими девицами? Почему не проигнорировал этот ровным счетом ничего не стоящий поцелуй?
Я встаю, от чего мой стул громко скрипит. Профессор останавливается на полуслове, и все на меня таращатся, но на этот раз мне абсолютно наплевать. Собрав вещи, я торопливо говорю учителю:
— Я м-м-м… сегодня плохо себя чувствую. Мне нужно уйти.
Не дождавшись его ответа, я спускаюсь по лестнице лекционного зала и выбегаю в коридор. Десять минут спустя я пробираюсь в «Лабиринте» сквозь типичную для этого места толпу; помещения здесь как будто слишком маленькие и не вмещают такое количество студентов. А через считанные секунды я стою у двери в кабинет Томаса и кладу ладонь на ручку. Открываю и вижу его, сидящего за столом читающего какие-то бумаги.
Закрываю за собой дверь, изолировав внешний шум — или как минимум приглушив его. Внимание Томаса меня обычно успокаивает. Утихомиривает живущего внутри зверя, воющего в его отсутствие.
Но сейчас от спокойствия я очень далека.
— Этот поцелуй ничего не значил, — безо всякого вступления говорю я. — Дилан просто был злой и… ну да, поцеловал меня, но я тут же отошла в сторону.
Не говоря ни слова, Томас кладет ручку в сторону, но в выражении лица что-то мелькает — что-то, смягчающее его черты. Я не могу понять, что это означает, потому что в голове туман. Томас встает и обходит стол, но ко мне не подходит.
— Ты злишься, да? Злишься, что он прикоснулся ко мне? Все правильно. Ты и должен злиться и… ревновать, потому что лично я очень злюсь. Так сильно, что мыслить трезво не в состоянии, — подойдя к Томасу, я встаю напротив него. Его запах проникает в мои легкие, и я дрожу. — Ты никогда не разговариваешь со студентами и никогда не был добрым и отзывчивым. Тогда почему ты был так любезен с этими… девками? Я даже имен их не знаю, а все равно ненавижу.
— Мелани, — хриплым голосом отвечает Томас.
— Что?
— Это имя одной из девушек.
— Какое дурацкое имя!
— Что, не нравится? — насмешливо улыбается он.
— Не просто не нравится. Ненавижу. И прямо сейчас я ненавижу и тебя тоже.
Он выгибает бровь, когда я подхожу ближе. Носки нашей обуви соприкасаются. На Томасе сейчас те же ботинки, что тем давним вечером, сто лет назад, когда я думала, будто увлечена им, и считала его человеком, у которого есть все.
Это было глупо. Увлечена я не была, у Томаса совершенно ничего нет в этой жизни, а мои чувства к нему не поддаются четкому объяснению. И желания думать на эту тему у меня сейчас нет.
— Тогда какое имя, по-твоему, мне лучше произнести?
— Мое. Назови мое имя.
При воспоминании о вчерашней ночь я дрожу — он заставил меня повторять его имя, пока я делала ему минет. О боже, его член… Его вкус… Длина и тяжесть… Я могу писать стихи обо всем этом, хотя назвать поэтессой меня никак нельзя. А еще его слова… Между ног до сих пор мокро от его распутных стихов, как будто моя похоть не успокаивается ни на минуту.
Она даже усилилась, превратившись во что-то бушующее и яростное.
Смяв в кулаке полу его рубашки, я резко дергаю Томаса к себе.
— Я голодная.
Он смотрит на меня из-под отяжелевших век.
— Вот как?
Закинув ногу ему на талию и встав на цыпочки, я игриво надуваю губы и говорю:
— Да. Очень сильно. И мой голод способен утолить только твой член. Обещаю, с зубами буду осторожной.
Понятия не имею, когда я успела набраться храбрости, чтобы произносить такие слова. Прошлой ночью такого куража у меня точно не было. Как и минуту назад. Может, все дело в нем. Или в той ноющей боли, что живет во мне.
Бедром я ощущаю его твердость.
— И почему я должен позволить тебе это сделать? Что мне с того?
Мне хочется ударить его. С силой наступить на ногу. Встряхнуть.
Разве он не видит, как сильно я сейчас злюсь и как отчаянно ревную? Я словно слетела с катушек и уже не знаю, в какую игру сыграть, чтобы Томас лишился рассудка.
Прижавшись лицом к его шее, я берусь за верхнюю пуговицу его рубашки.
— Например, то, что я сделаю тебе хорошо.
— Да? И что именно ты сделаешь? — от его снисходительного тона и голоса с ленцой у меня начинает двоиться в глазах. Мне кажется, даже кровь в жилах стала гуще.
В этот момент я становлюсь поэтессой и подробно описываю свои грязные фантазии — высоким и тихим голосом, который Томасу так нравится.
— Сначала я его оближу. Проведу языком прямо по… той бороздке посередине. Я уделю ей особое внимание, а потом осторожно проведу зубами по головке, чтобы собрать… ну, это… солоноватую жидкость… Предэякулят? Я слижу ее, а потом начну сосать, пока не получу свой главный приз — который проглочу до последней капли.
Наше дыхание участилось. Впившись пальцами мне в задницу, он поглаживает ее круговыми движениями — с каждым разом все выше и выше задирая мою юбку. Жаль, что на мне колготки. Мне бы хотелось оказаться под юбкой голой.
Господи, да что это такое со мной?
Сейчас середина дня. В здании полно народу. Кто-то работает за компьютером, кто-то говорит по телефону. Отовсюду доносятся звуки шагов. Все это должно было заставить меня развернуться и уйти, но мое возбуждение только выросло. Тот факт, что люди не знают, какая разнузданность творится в стенах этого кабинета, делает предвкушение еще более ярким.
На лице Томаса написана чистая агрессия, и когда он рычит в ответ, мне кажется, что ему в голову сейчас пришли ровно те же мысли.
— Если ты собиралась свести меня с ума, то тебе лучше постараться как следует, Лейла. Потому что мой член испытывает жажду и не успокоится, пока вдоволь не напьется влагой между твоих ног.
Мне хочется победно улыбнуться, но похоть берет верх. Сделав пару шагов назад, я наблюдаю, как его тело расслабляется, будто Томас сдается мне. Момент настолько нереальный, что от ощущения своей власти у меня начинает кружиться голова.
Он знает, что мне нужно.
Видя мое нетерпение, Томас позволяет мне контролировать процесс — что невероятно удивляет.
Я толкаю его назад, и он послушно отходит, пока не оказывается в своем кресле. В ответ на скрип я едва не издаю громкий стон. Сев на корточки и стараясь не потревожить ссадины на коленях, я прячусь под стол. С трех сторон он закрытый, и это превращает его эротичное замкнутое пространство.
Положив ладони Томасу на бедра, я притягиваю его к себе. Его мышцы напрягаются, и мне трудно устоять и не провести по ним пальцами. Вверх и вниз. Вверх и вниз. С каждой секундой его мускулы твердеют все сильней. А выпуклость под ширинкой становится все больше.
Я словно собственными руками леплю его. Создаю его, как скульптор.
Расстегнув ремень, я расправляюсь и с молнией. Поерзав в кресле, Томас помогает мне достать член. Когда я провожу по нему обеими руками, Томас издает еле слышное шипение. Я отвечаю ему глубоким вздохом.
Вчера ночью он взял мой девственный рот и надругался над ним, но сегодня именно я буду той, кто воспользуется положением. Сегодня мой рот более жадный и более похотливый — обольстительное существо, состоящее из губ, языка и зубов, которое сосет со всем отчаянием, словно иной возможности больше не предоставится.
На предплечьях Томаса набухли вены, как будто он жаждет ко мне прикоснуться, но сдерживается и не убирает их с подлокотников. Мое тело ощущается тяжелым. Сдернув с себя шубу, я задираю кофту и оголяю грудь.
От моих действий Томас едва не подпрыгивает в кресле. От раздавшегося скрипа между ног становится еще влажнее, а дышать тяжелее. Томас заворожен моим телом и тем, что я сейчас для него устроила. Сжимаю свои соски, и с беспомощным стоном он произносит мои имя.
Я поддаюсь приливу небывалой энергии, и весь окружающий мир для меня тут же исчезает. Меня больше ничего не волнует, кроме его члена, который я с жадностью сосу. Я не хочу останавливаться — какой бы ни была причина.
Даже если это оглушающе громкий стук в дверь.
ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ВТОРАЯ
Отодвинувшись от меня, Томас садится ровнее. Раздается стук закрываемой двери, и я понимаю, что забыла ее запереть. Вот черт.
— Томас, — приветствует какой-то мужчина.
— Джейк, — отвечает Томас более напряженным голосом, нежели обычно, но, надеюсь, это никого не наведет на мысль, что под столом прячется студентка. Прижав ладонь ко рту, я пытаюсь успокоить тяжелое дыхание. Будто поняв, что я напугана, Томас успокаивающе проводит рукой по моей голове.
Когда он говорит, при этом продолжая меня успокаивать, по моему позвоночнику пробегает разряд тока.
— Что тебе надо?
— Эй, ты как разговариваешь со своим боссом?
Лаская мои волосы, Томас делает глубокий вдох и отвечает:
— Что тебе нужно, Джейк? Я сейчас немного занят.
— Вот как? Занят даже для чашки кофе? — в голосе профессора Мастерса сквозит недоверие.
Боже, я перепугана и возбуждена одновременно. Прямо у меня перед глазами красуется его твердый влажный член, к которому я страшно хочу прикоснуться.
— А ты разве не отдашь концы, если не заправишься шоколадом? — продолжает профессор.
Кусая губы, я смотрю на ярко-красную головку члена Томаса, блестящую от моей слюны. Как он отреагирует, если я сейчас проведу по ней языком? А если возьму в рот? Разозлится ли он, если потеряет контроль в присутствии своего коллеги и босса? Или же это возбудит его еще больше — как и меня?
Когда пододвигаюсь к нему ближе, я понимаю, что мне плевать. Мне просто нужен его пососать. Я голодна. Мне необходимо ощутить его во рту, и если Томас выйдет из себя, так тому и быть. Потому что потерю контроля над собой я чувствую из-за него постоянно.
— Думаю, переживу на этот раз, — отвечает Томас. — А теперь, если ты не против, я бы хотел вернуться к проверке студенческих работ.
— А какого черта ты весь вспотел?
Прежде чем профессор Мастерс договаривает свой вопрос, я погружаю член Томаса в рот. Раздается скрип кресла, когда он подпрыгивает — одновременно из-за меня и из-за подозрительного тона профессора Мастерса — и сгребает мои волосы в кулак.
— Ты в порядке?
— Д-да, — покашляв, отвечает Томас и стискивает мои волосы с такой силой, что мне становится больно. И я вымещаю все свое желание на его пульсирующем члене. — Просто немного напряжен.
— Из-за чего?
— Из-за предстоящей проверки, — бросает он. А я не перестаю сосать и играть с его яйцами. Они сжимаются, словно предупреждая меня о грядущем оргазме. Несмотря на то, что Томасом сейчас будет полон мой рот, я чувствую, как у меня между ног сочится влага моего возбуждения.
Профессор Мастерс успокаивает Томаса, а тот уверяет, что все будет в порядке. Они обсуждают что-то еще, но в фокус моего внимания попадает лишь голос Томаса. Он пронизан похотью и звучит сипло и надрывно.
Еще никогда в жизни я не была так сильно возбуждена. В голове мелькают картинки, как он кончает мне на лицо или как, потеряв контроль, вытаскивает меня из-под стола и трахает прямо на глазах профессора Мастерса и всего остального мира. Я еле успеваю сдержать рвущийся из горла стон. Рисую в воображении, как сжимаются мышцы на его заднице, когда он с силой будет врываться в меня, а я буду смотреть в глаза всем зрителям, особенно той Мелани, и говорить, как хорошо ощущается его член внутри. Как растягивает меня до боли. Та-а-ак хорошо-о-о… Я такая шлюха и жажду его член.
Странно, но моя ревность совсем не касается его жены. Быть может, я просто всегда знала, что Томас ее, а вот увидеть его с кем-то еще вносит неразбериху в мое и без того сумасшедшее сердце.
Я единственная «другая» в его жизни.
Внезапно все мои мысли мгновенно оказываются позабыты. Томас за волосы вытаскивает меня из-под стола. А когда разворачивает и с силой прижимает к столу, я в равной степени ощущаю панику и волнение. Но профессор Мастерс уже ушел. А дверь закрыта. Когда это успело произойти?
— Не двигайся, — говорит Томас и идет запереть дверь. Потом спустя всего мгновение вновь оказывается позади меня и за волосы поднимает со стола.
— Любишь играть в игры, Лейла? — яростным шепотом спрашивает он мне на ухо, и спиной я чувствую его вздымающуюся от тяжелого дыхания грудь. — Нравится злить меня, да?
От его голоса мои соски пульсируют желанием, и у меня не остается иного выхода, кроме как сжать свою грудь, когда я ему отвечаю:
— Я просто… Просто хотела показать тебе, как чувствую себя в твоем присутствии.
— И как же?
— С-словно заряженный пистолет. Который может выстрелить в любое мгновение. Я всего лишь хотела дать тебе понять, каково это — ощущать подобное безумие.
Он горько усмехается мне в волосы.
— Подобное безумие? — словно уточняет он, прижавшись членом к моей заднице и демонстрируя мне свое желание. Накрыв своими руками мои, он стискивает мою грудь. — Или вот такое? Когда ты не способна ни на одну чертову секунду перестать играть со своей грудью? Думаешь, безумие выглядит именно так? — Томас сжимает грудь еще сильнее, и я поднимаюсь на цыпочки, чтобы быть ближе к нему. Еще ближе. Я хочу заползти ему под кожу.
— Ты и понятия на самом деле не имеешь, — хрипло говорит Томас. — Но я тебе покажу. Я покажу, каково это — на самом деле ощущать себя безумным в твоем присутствии.
Я всхлипываю, когда он снова грудью кладет меня на стол. Задрав юбку, спускает вниз колготки и трусики. Мышцы обнаженных ягодиц подрагивают от предвкушения, когда Томас кладет на них руки и сжимает, как недавно грудь. Я оборачиваюсь, чтобы взглянуть на него.
По лбу и вискам Томаса стекают струйки пота и исчезают за воротником рубашки. Даже на кончиках ресниц, черных и густых, висят крошечные капли.
Я ахаю, когда он, крепко схватившись, раздвигает мои ягодицы. Глаза зажмуриваются сами собой, когда я представляю, на что он смотрит. Снова встав на цыпочки, я на этот раз отодвигаюсь от него, когда Томас кружит большим пальцем вокруг этого места. От каждого его прикосновения оно то сжимается, то расслабляется.
Томас усмехается — звук порочный и низкий, от которого все тело пронизывает дрожь.
— Значит, вот чего ты хочешь? Хочешь, чтобы я трахнул тебя в задницу? Вот почему она так трепещет и жаждет прикосновения?
Когда его палец нажимает чуть сильнее, я всхлипываю.
— Отвечай, Лейла. Ты это сейчас хочешь?
— Нет, — шепчу я. — Я не… Не знаю. Будет больно.
— Да. Будет, — наклонившись надо мной, отвечает Томас. — Но знаешь, что? Я не буду портить тебе удовольствие и твою задницу сейчас не возьму. Но однажды, когда, обезумев от ощущений вонзающегося в тебя члена, тебе станет на все плевать, я войду в твою маленькую попку и заставлю тебя визжать, — лежа под ним, я дрожу, загипнотизированная его голосом и действиями.
— Помнишь, как я сказал, что спалю тебя дотла и не раскаюсь? — приглаживая мои мокрые от пота волосы, Томас шепчет мне на ухо. — Когда я трахну тебя в задницу, именно это и произойдет. Я словно плесну бензина, зажгу спичку и буду смотреть, как ты сгораешь, Лейла. И поверь мне, тебе понравится. После этого ты не захочешь ни одного другого мужчину, но не пожалеешь об этом ни на секунду.
Господи. Боже мой. Мне кажется, я умираю. И я на небесах и в аду одновременно. А может, в параллельной вселенной. Я — повсюду. Он сокрушил меня своими порочными обещаниями, сломил меня, и я не уверена, что когда-либо вновь обрету целостность.
— Но не сегодня, — говорит Томас и поднимается, держа руку у меня на затылке, чтобы я оставалась на месте. — Сегодня я покажу тебе кое-что другое. Покажу, как сгораю дотла я.
С этими словами он резко входит в меня, и мне приходится прикусить губу, чтобы не вскрикнуть. Томас не нежничает. И не дает мне время приспособиться к его размеру. Он причиняет боль — между ног еще долго будет побаливать, — но это не имеет значения, когда с каждым движением его бедра ударяются об мои и когда он истекает потом, тяжело дышит и стонет. Мне хочется открыть глаза и посмотреть на него, но боль такая приятная, что перетягивает на себя все внимание.
Намотав мои волосы на руку, Томас поднимает меня вертикально, и тут же меняется угол его проникновения. Теперь он прижимается к передней стенке вагины, и я чувствую его член где-то в животе. Он держит меня с такой силой и мощью, что, запрокинув голову, я завороженно смотрю на его свирепое лицо снизу вверх.
— Я чувствую себя ненормальным, Лейла. Готовым сгореть в этом аду. Как будто каждая клетка тела вибрирует, — сквозь зубы произносит Томас. Его слова сочатся похотью и вожделением. — Начиная от низа живота и распространяясь по груди и плечам, превращаясь в яростную боль в затылке. И я знаю, что сгорю в любую секунду, если, не сдержавшись, продолжу думать о тебе.
Давление внизу живота неумолимо нарастает. Как будто меня сейчас разорвет на части или я описаюсь, или произойдет что-то еще в этом духе.
— Т-томас. Это слишком… — не договорив, замолкаю я, чувствуя выступившие на глазах слезы.
— Наоборот. Недостаточно, — врываясь в меня и касаясь чуть ли не самого сердца, говорит он. Хорошо, что одной рукой он зажал мне рот, потому что на этот раз сдержать крик у меня не получается. Как и не дать пролиться слезам. Они стекают по моим щекам и его ладони.
На лице Томаса появляется хищное выражение, но он не останавливается. Господи, он и не собирается останавливаться. Продолжает вколачиваться, а мне…
— Тебе нравится. Да? — хрипит он, продолжая мою мысль. — Может, именно поэтому ты забыла запереть дверь. Может, хотела, чтобы тебя застукали и увидели, как сильно ты любишь мой член. Я угадал? Ты хотела, чтобы все увидели, как тебе это нравится.
В знак согласия я несколько раз моргаю. На большее у меня просто не осталось сил. Отпустив мои волосы, Томас со стоном прижимается лицом к моей шее. Его движения стали хаотичными, как будто он приближается к разрядке.
Теперь, когда голова не запрокинута, я могу свободно дышать и погружаю пальцы ему в волосы. Я чувствую спокойствие. Его агрессия и жестокость меня успокоили. И я не хочу покидать его объятия и этот кабинет. Хочу остаться с ним навсегда.
При этой мысли мои глаза широко распахиваются. Нет. Никаких «навсегда». Все это временно.
— Дотронься до клитора. Хочу, чтобы ты кончила.
От звука властного голоса Томаса из моей головы исчезают все мысли, и я делаю, как он сказал. Одну руку опустив себе между ног, второй я играю с напряженными сосками.
— Вот о чем я постоянно думаю, — рычит он. — Даже когда тебя нет поблизости. Об этом. О том, чтобы снести к чертям любое препятствие и оказаться внутри тебя. И все мои мысли только о том, как я тебя трахаю, Лейла. Постоянно. И каждую минуту. Ты в моей крови, и разорву на части любого, кто посмеет до тебя дотронуться.
И именно в этот момент меня накрывает оргазм. Тело напрягается, мышцы твердеют, и я кончаю в ответ на его исповедь — слова, которые, кажется, вырваны из самых глубин души. Они обостряют ощущения и делают удовольствие более полноценным и почти болезненным.
Я чувствую, как кончает вслед за мной Томас, и только тогда понимаю, что он когда-то успел надеть презерватив. Я была настолько поглощена своим желанием, что ничего даже не заметила. Томас не издает ни звука — видимо, сказав и так слишком много.
Отпустив меня, он поглаживает мою вспотевшую спину. Прикосновения дарят долгожданный покой, и я сонно улыбаюсь.
Томас ревновал. Он неравнодушен ко мне.
Припомнить не могу, когда в последний раз я чувствовала себя такой счастливой.
ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ТРЕТЬЯ
Слова всесильны. Они удивительно прекрасны. Обожаю слова.
Я сегодня не столько ходила, сколько порхала, без остановки слушая Лану, потому что Томас сказал важные для меня слова. «Ты в моей крови, и разорву на части любого, кто посмеет до тебя дотронуться».
Не перестаю удивляться тому, как нечто мощное и уродливое вроде ревности вызывает у меня положительные эмоции. Да я бы снова поцеловала Дилана, лишь бы ощутить на себе агрессию Томаса. Интересно, все ли люди такие? Нормально ли — настолько страстно желать чего-то подобного?
Я открываю дверь своей квартиры, и все мысли о поцелуях с Диланом вмиг улетучиваются, едва вижу плачущую на диване Эмму.
— Что случилось? — бросаюсь я к ней.
— Мы с Диланом расстались, — шмыгая носом, отвечает она.
— Что? — я обнимаю ее. — Н-но почему? — «Неужели из-за поцелуя?» — хочу добавить я, но не хочу ее ранить. И потом, тогда она обвинит во всем меня.
— Потому что он вел себя как придурок.
— Что случилось? Что он… натворил? — спрашиваю я и поглаживаю Эмму по спине. В любой момент она оттолкнет мою руку и прекратит нашу дружбу.
— Дилан обвинил меня в измене, — поморщившись, говорит она. — Но я никогда и никому не изменяла. Я же не шлюха!
— Он имел в виду Мэтта?
— А ты откуда знаешь? — подозрительно прищурившись, интересуется Эмма.
Вот черт. Надо было держать язык за зубами. Теперь уже не знаю, стоит ли рассказывать про случившееся этим утром: как я соврала ей и встретилась с Диланом и как потом он меня поцеловал. Надо же быть таким идиотом. Но я и без того часто вру Эмме, поэтому лучше ничего не говорить. Иначе это будет выглядеть как-то так: «Слушай, я такая же, как твоя мать — вернее, женская версия того мужика, из-за которого распалась твоя семья. Кстати, давай останемся лучшими подругами».
Я смотрю на заплаканное лицо Эммы и думаю обо всех проблемах, которые свалились на ее голову за последние несколько дней. Кто в этом виноват? Их с Диланом ссора из-за чего-то, произошедшего давным-давно? Или ее мать, совершившая ужасный поступок много лет назад? Или же я? Может, ошиблась именно я, когда свела ее с Диланом? Но ведь они любили друг друга. Это же всем заметно. И если ты кого-то любишь, то тебе нужно быть с этим человеком, вот и все.
Боже, творится какая-то бессмыслица. Мне стало трудно отличать верное от неверного. Разве любовь стоит всех этих проблем?
В итоге я принимаю решение, что больше не могу врать Эмме. Она ведь моя подруга.
— Я… м-м-м… знаю это, потому что…
— Потому что он тебя поцеловал, — заканчивает Эмма вместо меня.
Я замираю. А сердце начинает грохотать, будто отбойный молоток. Пожалуйста, пусть она не начнет обвинять меня. Меня и так все во всем винят.
— Прости меня, ладно? Это было глупо. И совершенно ничего не значило. Он и не прикасался ко мне. Просто… — от нарастающей паники мой голос звучит пронзительно. — Ты должна мне поверить. Этот поцелуй не значил ровным счетом ничего.
— Эй, Лейла, конечно же, я тебе верю, — теперь черед Эммы меня успокаивать и гладить по спине. — Разве может быть иначе? Я знаю, что ты никогда бы так не поступила — не стала бы сознательно бросаться на чужого мужчину. Так что расслабься.
Ее слова обнадеживают, но мое сердце продолжает биться с бешеной скоростью, как будто не понимает, какого черта происходит.
— Ты веришь мне?
— Да, — грустно усмехнувшись отвечает Эмма. — В том поцелуе только его вина. Не твоя. А после того как он бросил мне в лицо, будто я изменяю ему с Мэттом… — она качает головой. — У меня появилось чувство, что я его на самом деле совсем не знаю.
— Дилан повел себя по-идиотски, Эмма. Он ведь ревнует. Пожалуйста, не разрывай из-за этого отношения, — мне стыдно, что всего минут десять назад я упивалась чьей-то ревностью. Трудно видеть Эмму в таком состоянии. И еще больше боли я вытерпеть тоже не могу.
Почему люди не могу просто взять и поладить друг с другом? — хнычет мое сердце.
Эмма снова начинает плакать, когда шепотом говорит:
— Я всегда знала, что он тобой увлечен, так что, наверное, с моей стороны было глупо начать с ним встречаться.
— Нет. Это не так. Любить кого-то вовсе не глупо, — отвечаю я и хватаю ее за руки. — Мне кажется, должен быть какой-то способ воссоединить вас. Не может же все так и закончиться.
— Но я не хочу, — пожимает плечами Эмма. — В последние несколько дней я много думала об этом и пришла к выводу, что это не страшно — когда получаешь не все, чего хочешь. Да, я любила Дилана — или так думала, — но отношения с ним были не лучшей идеей. Какое-то время я, конечно, надеялась, но сейчас мне кажется, что как друзья мы всегда были ближе друг к другу. Не стоит искать любовные истории там, где их нет.
***
У меня появилась тень. И зовут ее Сара Тернер. Она преследует меня повсюду.
И однажды она застала меня в туалете на втором этаже «Лабиринта». Так и знала, что появляться там было рискованно, но, как известно, я не из тех, кто прислушивается к собственным советам. Когда вышла из кабинета Томаса, я поняла, что мне необходимо некоторое время, чтобы прийти в себя и снова собраться. После того как благодаря ему я разлетелась на части. Стоя у раковины, Сара с любопытством посмотрела на меня, когда я вошла.
— Ты пришла увидеться с профессором Адамсом?
— Д-да. Мы… Хм, у меня есть несколько вопросов.
Тишину нарушал лишь шум льющейся воды, а я старалась не встречаться с ней взглядом.
— Ты новенькая, верно? — наконец спросила Сара. — И писательское мастерство вроде бы не твоя специализация?
— Нет, — специализацию я вообще еще не выбрала, но знать ей об этом вовсе не обязательно.
Закрыв кран, она оторвала бумажное полотенце и вытерла руки.
— То есть это благодаря нашей поэтической звезде ты решила пойти на этот курс?
Да.
— Нет. Меня подруга уговорила.
— Что ж, тогда удачи. Если я тебе понадоблюсь, ты знаешь, где меня искать. Как я уже говорила, гендерные роли в литературе — мой конек.
Когда Сара ушла, я не сразу поняла, что именно она имела в виду. Внезапно в памяти всплыл разговор с Томасом у бара «Алхимия» — я тогда совсем его не знала.
В любом случае, после этой встречи я начинаю повсюду пересекаться с Сарой. Иногда она приветственно машет мне рукой с другого конца коридора, а иногда даже через дорогу. Все это мне не нравится. Не нравится, что она меня замечает. В такие моменты мне трудно держать данное Томасу обещание ни о чем не жалеть. И в такие минуты мне жаль, что я не могу укутаться в его тепло, чтобы он обуздал мое беспокойство и тяжелое и темное предчувствие, зреющее у меня в груди.
Вот только все это не имеет значения. Никакие обвинения, косые взгляды или чувство вины не заставят меня отказаться от того, что у нас происходит с Томасом. Я не откажусь и не сдамся, потому что Томас счастлив. Ну, не безбрежно счастлив, конечно. Для такого свободного чувства он слишком сильно ощущает свою брошенность и любит слишком безответно. Зато смеется без горечи. Его смех действительно похож на смех, а не на усмешку. Кажется, ничего подобного я от него еще не слышала.
Но со мной Томас именно такой. Его смех грудной и сильный, немного мрачный — как и все в нем; а я словно достаю это на свет.
— У тебя такой скучный кабинет, Томас. Ты только посмотри: все бежевое, — однажды поздно вечером сказала я, сидя у него на коленях.
— А как бы тебе хотелось? Чтобы все было фиолетовым?
— Пф-ф, ну а каким еще? Впрочем, голубой цвет тоже возможен. Оттенок моей тату, например, — той самой, с которой я люблю играть в одиночестве по ночам, — подвигав бедрами, я ощутила под собой его эрекцию.
— Это правда?
— Ага.
— Вот только это моя тату, а ты тут каждую ночь, так что это я с ней играю. Языком, — лизнув шею, Томас прошептал мне на ухо: — До тех пор пока ты не начинаешь просить меня остановиться, тайно при этом надеясь, что я не послушаюсь. Ты про эту тату говоришь?
— Боже, ну ты и засранец.
Запрокинув голову назад, Томас расхохотался. Это меня ошеломило. Ничего подобного я раньше за ним не замечала. Звук его смеха пронзил мое тело насквозь, пропитав возбуждением, но тут было что-то еще. Ведь я не сказала ничего нового, чего не говорила бы раньше, или смешного. Но он никогда не смеялся в ответ. Томас словно начал слышать меня иначе.
Он счастлив. Потому что только когда счастлив, ты смеешься над глупыми шутками.
Разве счастье бывает чем-то неправильным?
Как все происходящее может называться плохим, если в конечном итоге нам дарован смех и хотя бы кратковременный покой?
Когда я полна сомнений или, не в состоянии уснуть на своей мягкой кровати, сворачиваюсь клубком в пустой холодной ванне или на полу шкафа, я вспоминаю его смех.
Думаю о том, как он смеется всякий раз, когда я взбираюсь на него, словно маленькая обезьянка. Томас хохочет, когда я злюсь на него за кражу моих конфет; он часто мстит мне за воровство его сигарет. Хихикает, увидев мои носки в горошек. Подшучивает надо мной, поскольку я упорно ношу «эти нелепые», по его словам, меховые шапки-ушанки. Посмеивается, когда я говорю, что он худший учитель на свете и дает идиотские домашние задания. Смеется, когда во время секса я становлюсь слишком жадной до своего удовольствия. И если я запинаюсь, читая свои стихи верхом на нем и не переставая двигаться.
Томас все смеется, смеется и смеется, а я не перестаю гадать, каким бы он был после ухода Хэдли, не преследуй я его с таким упорством? Превратились бы тонкие линии вокруг его рта и в уголках глаз в глубокие морщины?
Так что, быть может, это на самом деле хорошо — скрываться, нарушать правила и слать к чертям весь остальной мир. Потому что результат того стоит.
Потому что Томас того стоит.
Как бы неразумно это ни было, я продолжаю строить воздушные замки. И по-прежнему считаю себя Золушкой, а Томаса — странным, мрачным и порочным Прекрасным Принцем с разбитым сердцем.
И мне интересно, что произойдет, когда в жизнь Томаса вернется настоящая Золушка и сделает его цельным и счастливым. Я ему тогда больше не понадоблюсь. Томасу больше не будет нужна его распутная принцесса-самозванка.
***
Омываемый теплым светом настольной лампы, Томас сидит развалившись в своем кресле и курит. Его рубашка расстегнута, а волосы торчат в разные стороны. Я сижу на полу, опершись на диван, на коленях держу блокнот, а глаз не свожу с его упругих мышц, покрытых капельками пота.
Мне стал привычным этот ритуал — посреди ночи быть с Томасом здесь, в пустом здании, греться в его пышущей энергии и писать, пока он курит. Иногда я слушаю музыку у него в телефоне. Она всегда только инструментальная — песни без слов — поэтому помогает записывать все глупости, какие только приходят мне в голову.
Мой взгляд падает на лежащий на полу темно-бордовый галстук. Томас галстуки обычно не носит, но сегодня у преподавателей было какое-то особенное собрание, поэтому профессор Мастерс настоял, чтобы у всех был более официальный внешний вид. Не далее чем полчаса назад этот галстук красовался на мне, одетой только в носки в горошек, когда я привела нас обоих к оргазмам, сидя на нем верхом. От воспоминания я ерзаю, и, наверное, оставляю влажный след на грубом ковре.
На рабочем столе, у стены, на диване, на полу — Томас брал меня везде. Оглядев кабинет, я почти вижу наши силуэты в каждом углу. Слышу слова, которые он шептал мне на ухо. Чувствую мускусный запах нашего яростного и исступленного секса. Я замечаю валяющиеся повсюду обертки от моих любимых конфет и от шоколадных круассанов Томаса. Обычно я мусорю, а он подбирает за мной и выбрасывает в корзину, глядя на меня раздраженно и снисходительно. Наверное, ради подобного взгляда я так и делаю.
Внезапно я понимаю, что тут мой дом. Состоящий из моих стонов, пота и влаги между ног. Кабинет Томаса ощущается домом куда больше, нежели моя башня или мамин дом в Нью-Йорке. Мне здесь нет необходимости прятаться. И можно быть собой. Кем бы я в итоге не оказалась.
Погруженный в собственные мысли, Томас молчит. Мне хочется спросить, о чем он думает, но я боюсь услышать ответ. Наверное, о ней, о Хэдли. Его мысли всегда о ней.
С тех пор как она ушла, прошло десять дней. Я знаю, она вернется. Поймет, как сильно ее любит Томас. В нем дремлет эта сила — сила его любви к ней. И она находит отражение во всех его действиях — даже в том, как Томас трахает меня. Как моим телом успокаивает свое разочарование. Или как всем своим телом жадно впитывает мои стоны и оргазмы, которые укрощают его ярость. И как он использует меня, чтобы быть счастливым.
— Я думала, ты пытаешься бросить, — замечаю я. Мне нужно, чтобы Томас посмотрел на меня, поэтому брякаю первое, что пришло на ум. Его мышцы словно просыпаются ото сна, когда он поворачивается в кресле в мою сторону и выпускает изо рта большое облако дыма.
— А я думал, ты пытаешься что-то написать, — по его скрипучему голосу я понимаю, что Томас чуть было не заснул. Не могу не отметить, что это мило и очень по-человечески. Люди занимаются сексом. Потом спят. Потом занимаются сексом снова.
— Что-то плохо идет.
Расслабленная атмосфера мгновенно сменяется напряженной. Томас по-прежнему сидит раскинувшись в кресле, но в глазах мерцают огоньки.
— Вот как?
Кивнув, я поднимаюсь на колени, и блокнот с глухим стуком падает на пол. Когда Томас окидывает меня взглядом, моя спина невольно выгибается — это движение уже стало привычным. Почти вся моя одежда кучей свалена на полу, и на мне сейчас только шерстяная юбка и полупрозрачный свитер, сквозь который отчетливо видны соски.
— То есть ты собираешься мне помочь? — тихим голосом, который никогда не остается незамеченным Томасом, спрашиваю я.
В прошлый раз, когда я попросила его помочь отредактировать мое стихотворение, он усадил меня на свой член и заставил читать вслух и при этом двигаться. И все время он сидел, словно король, не сделав ни единого движения и жадно наблюдая за мной, подпитывая тем самым мое нежелание останавливаться.
Я опускаюсь на четвереньки и ползу к Томасу, глядя на него сквозь опущенные ресницы. Крепче сжав зубами сигарету, он пристально следит за мной. За каждым движением моих распущенных волос и за каждым колыханием груди, едва скрытой свитером. Когда я подползаю к нему, Томас поворачивается в кресле ко мне лицом. Обхватив руками его ноги, я массирую икры, сев на корточки.
— Ну так как? — запрокинув голову, спрашиваю я и, прижавшись грудью к ноге Томаса, от приятного трения о грубую джинсовую ткань издаю громкий стон.
Потушив сигарету, Томас щелчком отправляет ее в мусорную корзину. Наклоняется ко мне и выдыхает дым прямо мне в рот. Я с такой жадностью втягиваю его, словно это мой последний шанс вздохнуть. О боже. Господи. Это слишком. Внутри тела зреет взрыв — и я не смогу его вынести.
Когда Томас поднимает меня и сажает на себя верхом, кресло громко скрипит от нашего веса.
— Этот звук сводит меня с ума, — бормочу я, поглаживая небритую щеку Томаса.
— Какой звук?
— Твоего дурацкого кресла, — говорю я и в ответ слышу смех. Мне кажется, все мое тело откликается на смех Томаса. — Каждый раз, когда его слышу, я думаю только о том, как ты мне трахаешь, а оно протестующе скрипит.
Криво ухмыльнувшись, Томас смеется снова.
— Мне начинает казаться, будто тебя больше привлекает мое тело, а не мой поэтический гений.
Гений — да, он именно такой. Понятия не имею, как, но слова приходят к нему из пространства. Он как будто просто смотрит в потолок и записывает пришедшие на ум строки. Как это у него удается, мне никогда не постичь.
Если отставить в сторону наш бешеный трах, Томас меня многому учит. Критикует неверный выбор слов, ругает за чрезмерно витиеватые обороты. Мне кажется, ему это нравится. Помимо секса это единственное занятие, которым он воодушевлен и от которого его глаза горят неукротимой страстью. Томас светится, когда говорит о поэзии.
— А еще я хочу, чтобы ты повысил мне оценки, — отвлекаясь от собственных раздумий, говорю я и скольжу по его почти неприкрытому расстегнутой ширинкой члену. — Ты же видишь, что мне плохо дается поэзия. Сюжет часто меняет направление, а выбор слов никуда не годится, — в его взгляде — тлеющий огонь. Томас крепко обхватывает мои бедра.
— Ты сейчас пытаешься выудить из меня комплимент?
— Ага, — беззастенчиво признаюсь я. — Сделай мне комплимент. Считай это вызовом.
Он впивается пальцами мне в кожу, чтобы я не двигалась.
— Ладно. Ты раздражаешь меня гораздо меньше, чем раньше.
— Ого, остановись! А то я покраснела, — я шлепаю по его обнаженной груди. — Ты просто мастер своего дела.
Томас шлепает меня по заднице в ответ и заставляет меня простонать.
— Я уже говорил, что у меня плохо получается управляться со словами. И если тебе хочется комплиментов, то лучше иди к друзьям.
Это шутка, я знаю. Саркастическое замечание. Мне стоит тут же забыть о нем не портить момент — я и так ворую у Томаса немало времени.
Но мое упрямое сердце не в том настроении. Оно тут же вспоминает слова Томаса, сказанные в ту ночь в его полном коробок кабинете: «Я нашел дневники своего отца и его стихи и понял… что нашел для себя способ высказаться».
Наверное, Томас замечает, что я замерла в его объятиях, поскольку тоже напрягается всем телом. После той попытки в машине я больше не затрагивала эту тему — что он больше не пишет.
— В чем дело? — нахмурившись, спрашивает он.
— Ни в чем, — улыбаюсь я и начинаю массировать ему плечи, делая то, что у меня получается лучше всего — отвлекать его.
— Лейла, — предупреждающе рычит Томас. Это так нечестно. Я не могу устоять перед его голосом.
Каким-то образом меня одновременно получается напрячься и удрученно ссутулиться.
— Я… Я хочу посмотреть, как ты пишешь. Хоть немного. Что угодно. Просто хочу увидеть.
Проходит секунда. Потом вторая. В моей грудной клетке нарастает давление. Только не молчание. Оно все разрушит.
— Мне тяжело видеть тебя таким. Томас, я все понимаю. Но это так очевидно. Ты…
Не дав мне договорить, Томас поднимает меня и кладет стол. А когда пытаюсь сесть, прижимает ладонь к моей груди, чтобы я не двигалась. Он возвышается надо мной, словно какой-то бог гнева — с хмурым лицом и сияющей кожей. Моя грудная клетка вздымается и опадает под его ладонью, словно лишь благодаря ему я в состоянии дышать. И если он уберет руку, мне конец.
— Сними свитер.
Что? Нет.
— Томас…
— Снимай, — повторяет он и проводит языком по верхней губе.
Задрожав, я подчиняюсь. Когда оголяю грудь, дыхание Томаса становится глубже.
— И подними юбку до пояса.
Я делаю, как он сказал, и на этот раз его дыхание ускоряется, когда он молча смотрит мне между ног и на татуировку. Костяшками пальцев поглаживает вокруг нее, и мышцы моего живота непроизвольно сокращаются. Обеими руками раздвинув мне бедра, Томас большим пальцем проводит по мягкой коже и по мокрым складкам. Я ерзаю и извиваюсь от его прикосновений, от чего колышется моя отяжелевшая грудь.
Томаса возбуждает даже само зрелище. Он любит смотреть, как покачивается моя грудь, поэтому я извиваюсь снова и снова, корчусь и выгибаюсь в пояснице, чтобы разжечь его похоть. Меня это тоже заводит, хотя хочется скулить — я хочу, чтобы он поговорил со мной. Я больше не хочу отвлекать его или быть фальшивой Золушкой. Мне необходимо быть с ним самой собой. Это пугает так сильно, что я забываю, как дышать.
Такие мысли приходят ко мне не впервые, и я не понимаю, как их остановить.
Способность дышать возвращается, когда Томас отходит немного и достает из кармана пачку сигарет. Выуживает одну и закуривает.
Его ноздри вздрагивают, а у меня пересыхает во рту, когда он кладет свободную руку мне между ног и сжимает. Жест такой грубый и вульгарный, но при этом настолько собственнический и… очень эротичный.
Другой рукой Томас вынимает сигарету изо рта, и дым спиральками поднимается вверх. Я едва не взвизгиваю, когда он погружает в меня два пальца и, приподняв кончики, медленно поглаживает меня изнутри.
Я пытаюсь схватиться за его руку, но Томас качает головой.
— Держись за край стола.
Тяжело сглотнув, я подчиняюсь и наблюдаю за тем, как, сделав еще одну затяжку, Томас продолжает меня дразнить. Потом наклоняется над моей грудью и делает еще одну большую затяжку.
— Т-томас? — я напугана. Тлеющий конец сигареты слишком близок к моему телу — прямо над грудью, над сердцем. Он что… неужели хочет поставить на мне метку?
Когда взгляд Томаса встречается с моим, я не в силах отвернуться. В его глазах что-то изменилось и появилось нечто опасное, что сильно пугает. Вынув сигарету изо рта, он выдыхает дым над моим соском, а потом наклоняется и втягивает его в рот. Я непроизвольно приподнимаю бедра, и его пальцы погружаются глубже. Громко застонав, я раздвигаю ноги еще шире. Поднимаю ноги и пятками упираюсь в край стола.
— Ты говорила… — начинает Томас, не поднимая головы и хриплым голосом посылая неистовую дрожь по всему моему телу.
— Что? — немного приподнявшись, спрашиваю я у темноволосой склоненной над моей грудью головы.
Томас прижимает палец к клитору и высокомерно вздергивает бровь.
— Пыталась сказать, будто понимаешь и о чем-то там очевидном.
Признав свое поражение и, возможно, ощущая еще и злость, я откидываюсь назад. Больше не хочу быть его долбаной куклой.
Заметив мое напряжение, Томас окутывает теплым дымом другую грудь, после чего снова с силой втягивает в рот сосок. Я чувствую, как между ног стекает густая струйка моего возбуждения.
— Ты такая мокрая, Лейла, — стонет Томас. — Всегда горячая и мокрая. Мне нравится думать, что ты хранишь свое тепло специально для меня. Скажи, это так, Лейла? Скажи, ты спишь, зажав руку между ног, чтобы оставаться горячей и готовой для меня в любой момент?
Мои ноги сами собой поднимаются и обхватывают его за талию; я извиваюсь на этом столе, ненавидя себя и его за то, что он творит со мной.
— Я видела тебя в классе, Томас. Видела, как ты… смотрел на студентов, к-когда те рассуждали о поэзии. Слышала, как и ты говорил о стихах и искусстве, и знаю, насколько ты талантлив. Я видела в твоем взгляде тоску. Ты хочешь владеть тем же, что и они — снова писать, — и это разбивает мое сердце, — шепотом говорю я и чувствую, как по щекам стекают слезы. — Больше всего на свете я хочу, чтобы ты снова начал писать. Чтобы мог высказаться. Говорить. Ты должен, Томас. Так жить никому не стоит.
В ответ на мои слова по всему его телу проносится дрожь, и Томас опускается лбом на мою грудь. Погрузившись пальцами в его роскошные волосы, я прижимаю его к себе, ощущая ту же тоску, а еще нежность. Возможно, мне удалось до него наконец достучаться.
Но он встает и выбрасывает сигарету. Это безумие, и я пугаюсь, что она прожжет дыру в ковре. Потом он достает член из джинсов — он твердый и выглядит агрессивно, как и сам Томас. Знаю, сейчас меня накажут.
Да, накажи меня за то, что была эгоистичной и захотела от тебя большего. Захотела услышать написанные тобой слова.
Я заслужила наказание. Мне начинает казаться, что даже как падшая я ни на что не гожусь.
Смотрю в потолок и раздвигаю ноги шире. Я готова. Стиснув зубы, Томас одним движением врывается в меня. Я едва не падаю со стола, и мои ногти скользят по поверхности. Охнув, тянусь вниз и хватаюсь за край столешницы, потому что боюсь в следующую секунду оказаться на полу.
Его удары жестокие и карающие. На грани боли. Мои зубы клацают при каждом толчке, грудь колышется, а от его пальцев у меня на коже явно останутся следы. Но еще я понимаю, что, с силой ударяясь бедрами о край стола, Томас причиняет боль и себе. Он наказывает не только меня, но и себя.
Вот только несмотря на всю жестокость, Томас по-прежнему знает, как заставить трепетать каждую клетку моего тела. И умеет сделать так, чтобы частота моего сердцебиения стала почти болезненной. Я хочу утонуть в его жестокости. Хочу раствориться в этом моменте, чтобы Томас мог утолить моим телом свою жажду и обрел душевный покой.
Его глаза превратились в узкие щели, а челюсть сжата, когда он кладет руку мне на низ живота, чтобы усилить давление. Бессознательно мотая головой из стороны в сторону, я ощущаю чистейшее безумие. Мне хочется, чтобы Томас остановился, но просить об этом не стану. Я вынесу все.
Шлепки плоти о плоть перемежаются хлюпающими звуками. Я такая мокрая между ног, что краснею от смущения. Но Томасу будто этого мало — он наклоняется и, положив мои бедра себе на плечи, входит еще глубже.
Затем обхватывает мое лицо ладонями, и мне не остается ничего иного, кроме как смотреть ему в глаза.
— Слышишь эти звуки, Лейла? — хрипло шепчет он. — Это мой способ разговаривать с тобой и твоим телом, — после чего Томас меняет угол проникновения и, практически не подаваясь назад, двигает бедрами вверх и вниз, попадая прямо в нужную точку. И теперь я слышу, что звуки слегка изменились, стали еще более чмокающими и громкими. — А вот так оно разговаривает со мной. Говорит, что обожает ощущать меня внутри, — остановившись, Томас снова вколачивается в меня с прежней силой и яростью, от которой я перестаю дышать. С его лба на мой капает пот. — Больше никаких других разговоров. Никакие иные разговоры нам вообще не нужны.
Томас кусает меня за шею, и этого достаточно, чтобы мое тело достигло кульминации. Приподняв бедра выше и стиснув его плечи, я замираю и почти перестаю дышать. Мое удовольствие уничтожает остатки его самоконтроля, и, резко выйдя, Томас с низким стоном кончает мне на живот.
Прорываясь сквозь окутавший мои мысли туман, я понимаю, что он забыл надеть презерватив. Никогда раньше Томас про него не забывал и всегда был осторожен. А еще он ни разу не бросал сигареты на пол. Никогда не сорил. Никогда. Никогда. Никогда.
Эта аномалия пугает меня больше, чем что-либо еще.
Покрытая капельками пота грудь Томаса тяжело вздымается с каждым вдохом. Опустив мои бедра с плеч, он крепко хватает меня за подбородок и смотрит прямо в глаза. Вот только мне сейчас не хочется, чтобы он смотрел на меня. Я не получаю никакого удовольствия от этого взгляда Огнедышащего.
— Я не твой бойфренд, Лейла. Я не возьму тебя за руку и не отведу в кино. И о своих чувствах говорить с тобой не буду, — его пальцы сжимают еще сильней. — Скажи, что ты это понимаешь.
Поморгав несколько раз, я чувствую, как по щекам стекают слезы. Они злят Томаса еще сильней. Такой жестокости я в нем еще никогда не видела. Возможно, впрочем, что все это время он меня обманывал. И возможно, ничего я на самом деле не добилась. Быть может, то был безумный сон, в который я сама поверила.
— Скажи, — требует он.
Перепуганная, я несколько раз киваю, но Томас качает головой.
— Нет, Лейла. Скажи словами.
Я слышу, как разбивается мое сердце. Давным-давно мне уже доводилось слышать похожий звук, когда после ухода Калеба я разбила бутылку дорогого шампанского. Но сейчас звук больше напоминает выстрел — более резкий и оглушительный. Это рухнул на землю мой воздушный замок.
— Ты не мой бойфренд. И ты не поведешь меня в кино, не будешь держать за руку и не станешь говорить со мной о чувствах, — монотонно повторяю я. У меня получилось произнести эти слова, ни разу не запнувшись и не сделав паузу.
Когда его хватка ослабевает, на лице мелькает какое-то выражение, которое я не успеваю расшифровать. Да и не хочу. Я хочу уйти. Томас подходит к окну и закуривает, как и вчера ночью. Все повторяется, но одновременно с этим сильно отличаясь.
Тяжело сглотнув, я пытаюсь сесть. Мое тело ощущается зоной боевых действий, разрушенной деревушкой после свирепой песчаной бури. Я одеваюсь, а Томас смотрит в темноту за окном. Обычно он отвозит меня домой, и спустя минут десять я оказываюсь под своим фиолетовым одеялом, полусонная и мечтающая, чтобы он мне приснился. Похоже, что сегодня мне предстоит добраться до дома самой. Ну и ладно. Ночные улицы мои давние друзья.
Взявшись за дверную ручку, я поворачиваюсь к Томасу.
— Ты ведь знаешь, что я хочу тебя. И что я, сумасшедшая, позволяю тебе трахать себя, как тебе только заблагорассудится. Помнишь, что ты сказал? «Тебя выдают глаза». Ты можешь играть со мной и моим телом, отлично понимая, как оно тебя жаждет. Я для тебя словно открытая книга, — сделав глубокий вдох, я открываю дверь. — Но я тоже так могу. На это мне потребовалось время — бессонные ночи, полные раздумий, и да, слежка за тобой, но в итоге я научилась тебя понимать. Ты душишь сам себя, надеясь вдохнуть жизнь в свои отношения и в свою любовь. Сдерживаешься изо всех сил, и, наверное, пришла пора сделать вдох. Потому что в противном случае ты можешь все просто… уничтожить.
Я закрываю дверь за собой и ухожу. Прочь от него и от единственного места, которое считала домом.
ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ЧЕТВЕРТАЯ Бард
Прежде чем я вышел из ступора, прошло несколько минут.
Она ушла.
Лейла ушла одна посреди глубокой ночи. Я так и вижу, как она бежит по темным улицам, плачет, а ее локоны развеваются по ветру. Что, если она споткнется и упадет? У нее есть такой талант. Что, если столкнется с каким-нибудь пьяным парнем, который идти-то прямо не в состоянии, не то чтобы понять слово «Нет»?
А Лейла… она почти ребенок. Юная и хрупкая, при этом достаточно храбрая, чтобы быть со мной и принять меня таким, какой я есть. Ее смелость сбивает с ног. Подчеркивает мою трусость.
Я не могу позволить ей просто взять и уйти. Не могу. И отпустить ее я не в состоянии. Пока что.
Выбросив сигарету в окно, я застегиваю рубашку и замираю. Мне становится страшно. Но разве так не было всегда?
В течение всего этого времени Лейла всегда приходила ко мне одна. Шла ночными улицами, беззащитная и беззаботная — возможно, потому, что хотела поскорей увидеться со мной.
Я был столь же нетерпелив. Ни разу не поставил под сомнение свое желание ее увидеть. И ни разу не поинтересовался, как Лейла дошла сюда и не встретился ли ей кто-нибудь по дороге посреди ночи.
Я не спрашивал ее ни о чем. Просто брал — пользовался ею, как и привык. Настолько погрузился в собственные размышления, что больше не интересовался ничем — но разве я не говорил ей об этом? Разве не предупреждал с самого начала? Зачем же тогда Лейла все возвращалась и возвращалась? Зачем продолжала предлагать себя, словно жертву?
Как я уже говорил ей, Лейла пожалеет.
У меня начинает чудовищно болеть голова. Чувствую, что нужно все исправить, но я упорно не двигаюсь с места. Я не пойду за ней. Я ведь ей говорил. В том, что она ушла в слезах или считала наши отношения чем-то большим, нет моей вины.
Я стою посреди кабинета, как вдруг раздается щелчок открываемой двери. Решив, что это Лейла, на мгновение расслабляюсь, но на пороге стоит Сара.
В руке она держит стопку документов и, несмотря на поздний час, выглядит деловитой и собранной.
— Решила занести несколько копий документов, которые только что прислали, — объясняет она свой приход и показывает на стопку.
Завтра мы с Сарой едем в Нью-Йорк на конференцию. Вернемся в понедельник — возможно, с кучей заявок на следующий семестр, поскольку я выступаю в роли приманки как самый молодой поэт, выигравший премию Маклауда.
— Лейла Робинсон, — холодно продолжает Сара. — Я знаю, что у тебя с ней роман.
В животе становится горячо, а тело тут же напрягается. Пусть момент совсем не подходящий, но не реагировать на ее имя у меня не получается.
Обвинение Сары я не подтверждаю и не отрицаю. Словом «роман» мне бы и в голову не пришло назвать происходящее между нами с Лейлой. Наши отношения… более сложные, затрагивающие так много всего. Они постыдные. И чистые. Мне трудно описать их словами.
А сейчас она ушла — из-за меня.
Но я не виноват.
— Что, ответа не последует? Куда делся весь твой сарказм и остроумие? — ухмыляется Сара и качает головой.
— Давай ближе к делу, — сквозь зубы отвечаю я.
— Значит, ты не отрицаешь. И значит, на самом деле спишь со своей студенткой. Господи боже. Знаешь, поначалу я не поверила. Хотя и было что-то подозрительное во всех этих ваших встречах, после которых она ходила в дамскую комнату. Но представь мое удивление, когда глубокой ночью я встречаю ее в слезах выбегающей из здания, — глаза Сары словно две льдинки. — Что ж, поздравляю, профессор Абрамс. Ты не только некомпетентный преподаватель, но еще и как человек жалок.
Она бежала. Это все, о чем я могу думать. Лейла наверняка споткнется и упадет. Мне нужно догнать ее, прежде чем это случится.
Сделав шаг в сторону двери, я останавливаюсь, когда Сара продолжает:
— Какой же ты кусок дерьма, Томас! Ты ведь женат, у тебя маленький ребенок, и вот так ты относишься к своей жене? Тайком спишь со студенткой?
Она права, я кусок дерьма. Последняя сволочь, думающая только о себе. Я эгоист, некомпетентный и жалкий. Ее оскорбления созвучны голосу моей совести, которую я успешно похоронил под гневом на Хэдли и потребностью в Лейле. Сейчас же она ожила, и это сопровождается почти невыносимой тошнотой.
— Чего ты хочешь?
— Чего я хочу? Это все, что ты готов сказать в свое оправдание? Ты нарушил тысячу университетских правил, не говоря уже о том, что разрушил собственный брак. Хэдли тебе этого никогда не простит, неужели не понимаешь?
— Намерения Хэдли тебя не касаются, — говорю я. Она меня бросила. Чтобы хоть как-то сдержать свое нетерпение, я сжимаю руки в кулаки. — Я просто хочу знать, что ты планируешь делать с этой информацией.
— О, конечно, сейчас я тебе обрисую подробный план, — сдержанно улыбается Сара. — Во-первых, пойду к Джейку и обо всем ему расскажу. Уверена, что как твой друг он попытается тебя как-нибудь выгородить, но меня это не остановит. Я отправлюсь к ректору и скажу, что наш знаменитый поэт спит со своей студенткой.
Головная боль становится невыносимой.
— Я спросил, чего ты хочешь от меня?
Ее лицо покраснело от злости.
— Хочу, чтобы ты ушел. Эту работу я заслуживаю куда больше, чем ты.
— А если не уйду?
— Тогда в любом случае готовься к увольнению. Потому что я сделаю все, чтобы этого добиться. И выбор у тебя, Томас, примерно такой: вылетишь с треском и позором или уволишься по-тихому, — направившись к двери, Сара оборачивается и добавляет: — Возвращайся, откуда пришел. Тебе здесь не место.
Я зажмуриваюсь до белых точек в глазах и чувствую ослепляющую злость и боль.
Я не могу вернуться в Нью-Йорк. Мне нужна эта работа и необходимо оставаться в этом городе.
В голове безостановочно крутятся мысли, похожие на обрывки воспоминаний. Мелькают и вращаются, до тех пор пока слова не меняются и смысл не превращается в иной. Я не хочу возвращаться, потому что там нет Лейлы.
Шока от этого открытия оказалось достаточно, чтобы сорваться с места и побежать.
Я бегу — как и Лейла каждую ночь. Как и сегодня ночью. Остановившись у ее дома, я понимаю, что не знаю, на каком этаже она живет. Мне никогда и в голову не приходило поинтересоваться и уж тем более зайти. Обычно я подвозил ее к подъезду и тут же уезжал.
Тяжело дыша, я запрокидываю голову и оглядываю здание. Представить себе не могу, чтобы Лейла жила на каком-то другом этаже, кроме последнего. Она принадлежит небесам и звездам. Такая же яркая и сильная.
Но еще она меня пугает.
Я страшно боюсь Лейлу Робинсон и понятия не имею, как мне быть.
Прибежав сюда, я уже не понимаю, зачем. Какова была цель? Что я надеялся сделать? Подойти к двери ее квартиры и стучать, пока Лейла не откроет? Ну а потом? Извиниться? За что? Что сказал ей правду? Нет, лучше пусть будет как есть. Для нас нет будущего. Возможно, я наговорил ей всякого именно потому, что не хочу, чтобы она ко мне возвращалась.
Я трус, не знаю, как стать смелым, и уж тем более не знаю, какие слова подобрать для таких разговоров.
Скрипнув зубами, я разворачиваюсь и ухожу.
***
Услышав чьи-то легкие шаги рядом с собой, я просыпаюсь. И уже заранее знаю, кто это.
Хэдли.
Мне снится сон? Я даже не помню, как заснул, но лежу сейчас, неудобно согнувшись. Открыв заспанные глаза, понимаю, что сижу на полу под окном в комнате Ники. Впервые за много дней я вернулся домой перед рассветом. Посмотрел, все ли в порядке с сыном, и заснул.
Несколько раз поморгав, в дверях комнаты я замечаю Хэдли.
Она вернулась.
Позабыв про сон — как и про весь остальной мир при виде ее, — я быстро поднимаюсь на ноги.
И шепотом произношу ее имя.
Теперь, когда Хэдли вернулась, ее недавнее отсутствие заметно еще больше. Я вспоминаю, как в течение этих нескольких дней лихорадочно звонил ей и оставлял сообщения. Но она не отвечала и все никак не возвращалась. Потом я был слишком ослеплен своей яростью, чтобы продолжать звонить.
Возможно, это все-таки была не ярость, а чувство вины за все, что натворил. За свою похоть и потребность в ком-то другом. Когда Хэдли ушла, моя похоть по силе была равна нежному поцелую. Но теперь она живет своей жизнью — обрела тело, душу и голос. Хэдли должна знать, в какого человека я превратился за последние десять дней.
— Томас, — идя ко мне, шепотом произносит Хэдли.
Мы встречаемся на середине комнаты.
— Хэдли, мне нужно тебе…
— Обними меня, пожалуйста, — неуверенно просит она. Ее слова шокируют. Они как удар по моей и так неспокойной душе. Ничего большего я и хотеть не могу. Просто обнять ее. Все мое тело помнит о том, каково это было — чувствовать рядом с собой Хэдли. Но нет, тут есть что-то еще. Я ощущаю облегчение. Потому что прямо сейчас о Лейле можно не говорить. И я могу просто держать Хэдли в объятиях.
— Конечно, — как эгоист, я беру, что мне предлагают.
— Я скучала по тебе… — шепчет она.
Я киваю, но ответить тем же не могу.
Хэдли обнимает меня худыми руками, и я притягиваю ее к себе. Она словно фрагмент пазла, вставший на свое место: прижимается лицом к моей шее, пока я вдыхаю ее сладкий женственный аромат. Когда Хэдли расслабляется в моих объятиях, я перевожу взгляд на нашего сына. Он вздыхает во сне, словно поняв, что все хорошо: мама с папой наконец помирились.
И наконец-то у меня есть все, чего я хотел.
Это объятие обещает новое начало. Именно этого я и ждал.
Тем не менее внутри я ощущаю беспокойство. По-прежнему задыхаюсь, словно слишком надолго задержал дыхание. Чувствую, что грядет конец чему-то. И я умру.
ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ ОГНЕДЫШАЩИЙ
ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ПЯТАЯ
Несколько дней назад, когда все было идеально, Ники произнес свое первое слово. «Лей-ла». Да-да, он сказал именно это.
Ники смотрел на меня глазами, так похожими на глаза Томаса, хихикнул, пустив слюну, а потом поднял пухлую ручку и позвал меня по имени:
— Лей-ла.
Я расчувствовалась до слез, потом расхохоталась, а потом снова заплакала. Странно, наверное, так себя вести субботним утром в кофейне.
— Ты только что произнес мое имя! — воскликнула я и перевела взгляд на Томаса, губы которого подрагивали от сдерживаемой улыбки. — Он правда назвал меня по имени?
— Лей… ла. Лей-й-й-ла, — прыгая на коленях у своего папы, смеясь и ударяясь головой о подбородок Томаса, повторил Ники.
— Правда! Назвал! — я до сих пор помню собственное удивление. — Боже мой. Выходит, я его самый любимый человек на свете? Так, что ли?
— Умерь свои восторги. Возможно, он просто сложил пару слогов, как и всегда, — потрепав Ники по голове, ответил Томас. — Кроме того, твое имя звучит выдуманным. Два случайно взятых и соединенных между собой слога, — пожав плечами, добавил он. Я помню, как зимнее солнце заиграло на кончиках его темных волос, и это зрелище поразило меня прямо в сердце.
Я притворилась возмущенной и ответила что-то вроде «Да неужели? А как насчет имени Томас? То-мас. Что это, как не унылая вариация слова «Кристмас»[1]?
Он рассмеялся, а я почувствовала невероятную гордость, потому что до меня никто ему об этом не говорил.
Сегодня суббота, и когда вхожу в «Кофе со сливками», я вспоминаю о голосе Ники и сияющих на солнце волосах Томаса. И это даже хорошо, что моя голова занята, поскольку если задумаюсь хотя бы на секунду о том, кого именно могу здесь встретить, убегу домой и больше никогда не выйду из своей комнаты.
Будто почувствовав мое присутствие, он смотрит на меня, держа в руках кружку с кофе. В груди становится невыносимо больно, когда я оглядываю его лицо — которое не видела больше двух лет. Господи, он выглядит старше. Словно дал себе волю, разрешил телу стать еще больше. Волосы у него теперь длиннее, плечи шире, а на подбородке и щеках красуется щетина.
Но потом на его губах появляется улыбка — та самая, которую я часто видела в мечтах и снах. Которая всегда побуждала меня улыбнуться в ответ.
И в следующее мгновение мы несемся друг к другу, словно дети. Я бросаюсь в его объятия, плачу и смеюсь одновременно. Тех двух лет словно не бывало. Как будто ни одна неловкая ситуация не отменит того факта, что он мой лучший друг.
Калеб Уитмор, мой самый первый лучший друг.
Мы не перестаем смеяться, когда он ставит меня на ноги.
— Привет, — говорит Калеб голосом настолько знакомым, что я не выдерживаю и снова плачу.
— Привет, — шепотом отвечаю я, от грохота сердца с трудом слыша саму себя. Я до чертиков рада его видеть.
— Ты выглядишь… потрясающе, — убрав прядь непослушных волос мне за ухо, замечает он.
— Ты тоже, — отвечаю я и трогаю псевдо-бороду. — Зачем ты ее отрастил?
Смущенно улыбнувшись, Калеб проводит по ней ладонью.
— Захотел выглядеть более взрослым.
— Что? Но зачем?
— Бородачей принимают всерьез.
— Да ладно! — нахмурившись, говорю я. — Может, ты просто упахался в офисе отца?
— Там не так уж плохо, но, сама понимаешь, мышечная сила никогда не помешает, — он почесывает щетину, от чего мне становится смешно.
— Может, хочешь, чтобы я надрала там всем задницы?
Калеб смеется и добродушно на меня смотрит.
— Господи, мне так тебя не хватало, — сглотнув, он добавляет уже серьезно: — Очень сильно не хватало.
— И мне тебя, — срывающимся шепотом признаюсь я.
Мы подходим к его столику и садимся друг напротив друга. В ответ на выжидающий взгляд Калеба я вопросительно поднимаю бровь. Он смотрит на свой кофе, а потом на меня.
— Не хочешь украсть глоточек?
Нет, я больше ничего ни у кого не краду. Единственного человека, у которого мне захотелось что-нибудь стащить, сейчас тут нет.
В горле образуется комок, но я смеюсь, стараясь сохранить непринужденную атмосферу.
— Ты что это, называл меня воришкой?
— Ну да. Ты и есть воришка.
— Кажется, ты плоховато меня запомнил.
— Я помню о тебе все, Лей.
Я отвожу взгляд. Смотреть ему в глаза и видеть в них себя прежнюю оказалось делом непростым. Он напоминает мне о скелетах в шкафу, которые мне больше не нравятся. С тех пор как мы с Калебом общались в последний раз, я сильно изменилась. И я натворила много дурного с тех пор. Кстати, может, это означает, что я совершенно не изменилась?
Какой сумасшедшей была, такой и осталась.
— Спасибо за конфеты, — говорю я, чтобы нарушить гнетущее молчание.
Вчера Калеб прислал мне подарочную корзину с конфетами Twizzlers, которую я заметила, только когда вернулась от Томаса. Она ждала меня на столе; и приняла подарок Эмма, которая позже замучила меня расспросами, что это за тайный поклонник. Хотелось рассмеяться, но у меня получился лишь всхлип. Я рассказала ей о Калебе и о том, что он гей. Произнести это вслух оказалось уже легко и не больно. Как и признаться, что я была в него безумно и безответно влюблена.
Но если честно, в последние несколько дней я совершенно не думала о Калебе. Что заставляет задуматься, был ли Томас для меня таким же отвлекающим фактором, как и я для него?
— Подкупать меня нет нужды, знаешь ли.
— Я не думал, что ты захочешь меня видеть… после всего, что я тебе наговорил.
— Почему ты сразу мне не признался? — шепотом спрашиваю я, чувствуя, что не в силах говорить нормальным голосом. Слишком устала. Даже дышать тяжело. И мне просто хочется остановиться: перестать убегать и преследовать. Перестать обвинять.
— Я не знал, как, — сцепив руки вместе, говорит Калеб.
— Но я же не посторонний человек, Калеб. Это же я. Мы выросли вместе. И ты мой лучший друг. Неужели ты не считал меня своим другом?
Это такой жалкий и детский вопрос. «Считаешь ли ты меня таким же близким другом, как и я тебя?». Тем не менее этот вопрос ощущается куда более важным, чем «Ты любишь меня?». И внезапно понимаю, что отрицательный ответ меня уничтожит. Его дружба значит для меня больше, нежели любовь.
Калеб издает неуверенный смешок.
— Как ты можешь такое спрашивать, Лей? За последние два года я скучал по тебе каждую минуту. Я… — он проводит рукой по волосам, — чувствовал себя виноватым. И одиноким. Очень не похоже на самого себя. Но я не знал, как встретиться с тобой, после того… что сделал. После того как воспользовался тобой и твоими чувствами. Бросил тебя.
Видеть его сожаление нелегко. Мое сердце словно свернулось в клубочек от боли. Калеб во всем винит себя — так же, как привыкла делать я. Но мне не хочется, чтобы он продолжал в том же духе. И вспоминать о произошедшем я тоже не хочу — это слишком удручает. Настало время разделить вину пополам и двигаться дальше.
— Я прощаю тебя, — говорю я. — Правда. За все, что случилось. А ты простишь меня?
Калеб берет мою ладонь в руки и мягко сжимает.
— Да. И прощать мне тебя не за что, Лей.
Я улыбаюсь сквозь слезы. Ну вот и все. С этим наконец покончено. Я чувствую себя одновременно парящей в воздухе и крепко стоящей на земле.
Весь следующий час мы проводим обмениваясь новостями. Калеб рассказывает, как тяжело ему было в школе и что он ощущал себя белой вороной. Как боялся, что отец никогда не примет его таким, какой он есть. Я отвечаю, что это глупо, ведь на дворе двадцать первый век! Кого в наши времена беспокоит, что ты гей? Сама же рассказываю, как все было плохо после его отъезда и как мама хотела отправить меня в реабилитационный центр, но я избежала этой участи, выбрав учиться здесь. Рассказываю ему о Каре. О своей башне и об Эмме.
Единственный, о ком я умалчиваю, — это Томас Абрамс. Впрочем, о чем я могла бы рассказать? Он мой преподаватель. Он привил мне любовь к чтению, и благодаря ему я теперь знаю, что слова невероятно важны. Я спала с ним, а теперь между нами все кончено. Я позволила ему погубить мое тело, сердце и мечты. Стала его шлюхой, но плевать. Он ведь не просил этого. И даже наоборот — предупреждал меня о себе и своей жестокости. Так что от собственных моральных принципов я отказалась добровольно.
Я отдала Томасу всю себя, но ему ничего не было нужно.
— Я соскучилась по Нью-Йорку, — ни с того ни с сего говорю я.
— Тогда возвращайся, — с надеждой во взгляде зеленых глаз отвечает Калеб. — Да! Переезжай. Тебя легко примут в Колумбийский и переведут твой студенческий кредит. Жить можешь со мной, к матери возвращаться вовсе не обязательно.
Улыбаясь, я рисую в своем воображении жизнь с Калебом. Мы сможем вечерами смотреть кино. Играть в видеоигры. Как в старые добрые времена. У меня будет новый дом. Дом, который я сама для себя создам.
Но потом, прямо посреди кофейни, субботним неспешным утром, у меня случается озарение, которое пробирает до костей. Я понимаю, что лучше стану бездомной, нежели окажусь вдалеке от этого места.
— Я не могу, — качая головой, шепотом говорю я.
— Почему? — поняв серьезность моего тона, спрашивает Калеб.
— П-потому что мне нужно быть здесь.
— Объясни, почему?
— Потому что… — я делаю глубокий вдох, поскольку переживаю, что могу потерять сейчас сознание, — я влюбилась.
ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ШЕСТАЯ
Снег растаял — а кое-где еще не до конца, — и под ним теперь проступает земля, мокрая и уродливая, но все равно каким-то непостижимым образом красивая. Мне нравится думать, что эти перемены устроили мы с Томасом. Наши движущиеся в унисон тела высекли искру, которая растопила снег и мороз.
Потому что наше единение было волшебным. Оно заставило меня снова влюбиться.
Возможно, эту историю я вспомню перед собственной смертью. Как Падшая влюбилась в Огнедышащего. Их история была красивой и идеальной. А еще неправильной и уродливой — прямо как земля под ногами. Их отношения были исступленными и полны трагизма. Я всегда верила, что именно такой и бывает любовь.
Но на этот раз я собираюсь поступить правильно. Собираюсь измениться и стать лучшей версией самой себя. Мне невыносима мысль, что моя любовь что-то разрушает. Она слишком чиста для подобного — чище, чем любая другая, что существовала до меня или случится у кого-то после.
Чтобы дойти до места назначения, мне нужно всего пятнадцать минут. И вот он, дом с нависающим над крышей деревом. Томаса сейчас тут нет — он в Нью-Йорке на конференции, — но его присутствие все равно ощущается. Его недовольство замедляет мои шаги. Я знаю, он рассердится, если узнает, что я приходила сюда, да еще и без приглашения. Но мне необходимо это сделать. Моя любовь дает мне силы, а не топит в слабости.
Я стучу в дверь — сначала один раз, а потом еще — и жду, обхватив себя руками.
Когда дверь распахивается, на пороге стоит Сьюзен, женщина, с которой я познакомилась несколько дней назад самым что ни на есть нестандартным способом. Я неуверенно ей улыбаюсь, а она озадаченно хмурится.
— Д-добрый день. Я Лейла, — представляюсь я, хотя уверена, Сьюзен и так помнит. Разве она могла забыть? Я та девушка, которую Томас привел ночью, когда его жены не было дома.
— Томас уехал, — поджав губы, говорит Сьюзен.
— Я… Я знаю. Именно потому и пришла, — в ужасе вытаращив глаза от того, как именно это прозвучало, я решаю поправиться: — Нет. Я не это имела в виду. Случайно оговорилась, — делаю глубокий вдох. — Послушайте, я знаю, что вам не симпатична. Сама я себе тоже не особенно нравлюсь. Мне просто… Просто нужно увидеться с Ники, — Сьюзен открывает рот, чтобы ответить, но я поспешно добавляю: — Вы можете стоять рядом. Знаю, моя просьба необычная, и у вас есть причины мне не доверять, но обещаю, что не причиню ему вреда. Я обожаю этого мальчика, и, знаете, он тоже меня любит. С детьми у меня обычно отношения не складывались, и я совсем не понимаю, как с ними себя вести, но он такой… Ники мне как друг. Я всего лишь хочу поговорить с ним, извиниться, и вы меня больше никогда не увидите.
— Что ты ему сделала? За что собираешься извиняться? — смерив меня взглядом, интересуется Сьюзен.
— Я… м-м-м… предпочла бы сказать это ему. Прошу вас.
Видимо, мое отчаянное желание поговорить с семимесячным ребенком возымело свое действие, или же Сьюзен просто сжалилась над девушкой в слезах. Кивнув, она дает мне войти в дом.
— У тебя пять минут. И все это время я буду находиться рядом.
— Да. Конечно, — с облегчением отвечаю я.
Во второй раз я вхожу в дом Томаса, и этот визит кажется еще менее уместным. В комнату, где в своей кроватке играет одетый в желтые ползунки Ники, розовощекий коротышка, пробиваются солнечные лучи, подсвечивая его волосы мягким сиянием.
Малыш с мокрым от слюны подбородком и всклокоченными темными волосами занимает все мое внимание, будто пространство комнаты начинается с него и им же заканчивается. По отношению к его отцу я всегда чувствовала то же самое. Я питаю к Ники некое подобие материнской любви, и это самое странное, что случилось в моей жизни. Я не только не мать; меня и взрослой-то можно назвать с трудом. Но когда подхожу к кроватке, у меня руки ноют от желания взять мальчика на руки и прижать к груди.
Опустившись на колени, я с улыбкой смотрю в голубые глаза Ники. Он убирает в сторону слоненка, ухо которого жевал, и улыбается в ответ.
— Лей…ла-а-а! — восклицает он.
— Привет, малыш. Ты меня помнишь, да? — я машу ему указательным пальцем, и Ники, как и всегда, хватает его мокрой ладошкой.
Я наклоняюсь и целую держащий меня за палец кулачок. Ники хихикает и снова принимается за слоненка. На память мне приходят слова Томаса, что для Ники сейчас все еда.
— Эй, а у меня для тебя есть подарок. Вот, — я снимаю с себя белую меховую шапку-ушанку. — Можешь забрать, хотя моя самая любимая у тебя уже есть. Боже, до чего же ты милый! Так бы и съела тебя! — вспомнив о Сьюзен, я поспешно добавляю: — Но не буду, не волнуйся.
Ники играет со своей новой шапкой, размахивая руками, пока я набираюсь смелости сказать, ради чего сюда пришла.
— Я нарушила договоренность, — выпаливаю я, как и Томасу, когда мне нужно поделиться чем-то непростым. И тут же съеживаюсь. — Уф. Как-то само вырвалось. Наверное, надо начать с самого начала… Не то чтобы для тебя это будет иметь какое-то значение, — Ники по-прежнему занят шапкой, вертится туда-сюда и машет ручками. — Мы с твоим папой заключили соглашение. Неформальное. То была молчаливая сделка. Поверь мне, я согласилась только потому, что считала… будто ему это необходимо. Мне это тоже было нужно, но ему — в гораздо большей степени. Вот только я порушила все планы.
Я слышу, как Сьюзен переступает с ноги на ногу, но сейчас все мое внимание сосредоточено на малыше, которому совершенно плевать на мои слова.
— Знаю, что ты ничего не поймешь, и, вероятнее всего, скоро обо мне забудешь, поскольку мы с тобой больше не увидимся, но мне важно сказать: я нарушила нашу договоренность не нарочно. Как-то само произошло, понимаешь? Я не планировала… ну… влюбляться в твоего отца, — зажмурившись, я глубоко вздыхаю.
— Но сейчас поступлю правильно. Я… Я ухожу, Ники. Волноваться не о чем, произошедшее тебя никак не коснется. И мои ошибки тебя преследовать не будут.
Я вспоминаю о слезах, которые пролила Эмма, оплакивая то, чего не могла контролировать. Случившееся уплаченной цены не стоило, теперь я это понимаю. Ничто не может оправдать того, что я натворила. И если существует хотя бы призрачный шанс, что последствия коснутся этого маленького мальчика, на это я больше пойти не готова.
На глаза наворачиваются слезы, но я их сглатываю. Впрочем, Ники не замечает.
— Твой папа тебя очень любит. Он совсем не похож на моего отца. Он тебя не бросит, и я уверена, твоя мама любит тебя так же, если не сильнее. А еще, знаешь, любовь твоего папы к маме такая же большая, как и любовь к тебе. Поэтому… не беспокойся ни о чем, — шмыгнув носом, говорю я. — Я сожалею обо всех проблемах, которые принесла с собой, — наклонившись, целую Ники в лоб, и он хихикает в ответ. — Больше мы с тобой не встретимся, так что береги себя, ладно? Я тебя никогда не забуду.
Взглянув на Ники в последний раз, я встаю, поворачиваюсь и оказываюсь лицом к лицу с самой красивой и хрупкой женщиной, какую только видела. Хэдли.
Она… Она вернулась.
Вернулась. Как я и думала. Я всегда это знала, но реальность все равно кажется невероятной. Меня тянет рассмеяться, а потом тут же расплакаться.
Прежде чем успеваю сделать хоть что-то из этого, я понимаю, что ситуация просто из ряда вон.
Какая-то ополоумевшая незнакомка болтает с ее ребенком. Хэдли оглядывает меня взглядом своих красивых ореховых глаз, и мне становится очень стыдно. Я ощущаю себя голой.
Я сплю с твоим мужем. Да, это я. Влюбилась в него, мечтаю о нем и, наверное, буду продолжать мечтать всю оставшуюся жизнь. Так что можешь прикончить меня на месте, если хочешь. На самом деле, именно это я бы тебе и посоветовала.
— Ты неплохо с ним ладишь, — мелодичным голосом произносит Хэдли.
— Что? — писк, который я издаю, в сравнении с ее голосом похож на вопль гиены.
— С Николасом. У тебя хорошо получается.
Мелодия тембра Хэдли спотыкается об имя ее сына, и появляются фальшивые нотки. Теперь, когда первоначальный шок от вида возлюбленной Томаса ушел, я могу рассмотреть ее с максимальной объективность, на какую только способна.
Припухшие веки и красные глаза; светлые волосы, пусть и красивые по-прежнему, выглядят растрепанными. На Хэдли белый халат, который слишком просторный для ее миниатюрного тела. Она кажется еще более хрупкой, нежели когда я видела ее в предыдущий раз, но при этом более спокойной. Словно светится каким-то странным светом.
Вот она, женщина, которая бросила своего семимесячного сына. Которая ушла от Томаса. Мне хочется наорать на нее, встряхнуть хорошенько. В это мгновение я страшно ревную и злюсь. В жизни Хэдли есть все, о чем мечтаю я, а ей плевать.
Прежде чем гнев успевает вырваться наружу, я говорю себе, что ошибаюсь. Это я отняла у Хэдли принадлежавшее ей. И на ревность я не имею права.
— У меня…э-э-э… совсем нет опыта с детьми, но с Ники почему-то все получается легко, — говорю я. — У вас прекрасная семья.
Хэдли застывает, и я тут же сожалею, что произнесла последнюю фразу. Именно в тот момент я проявила свой гнев. А может, и ревность… Не знаю. Нужно поскорей уйти, пока я не наговорила лишнего, что в итоге будет стоить Томасу немало проблем.
В этот момент в комнату возвращается Сьюзен.
— Вот, — она протягивает мне книгу, на которую я в замешательстве смотрю. — Держи. Я нашла ее на столе, хотя искала повсюду, — поскольку книгу я так и не беру, Сьюзен добавляет: — Томас не любит, когда трогают его книги, но ты, должно быть, в числе отстающих по его предмету, если он хотел, чтобы ты прочитала ее перед началом экзаменов, разве нет?
В карих глазах Сьюзен пляшут чертики. Интересно, как ей удается сдерживаться в такой момент.
— Х-хорошо, — взяв книгу, отвечаю я.
Практически выбежав из дома, я несусь, до тех пор пока он не исчезает из виду. Потом резко останавливаюсь посреди дороги и запрокидываю голову вверх. Не помню, когда в последний раз на улице было так солнечно. У меня такое чувство, будто я не видела солнце несколько лет.
Мир стал ярче. А я ощущаю, что сделала нечто правильное. Словно споткнулась и восстановила равновесие. Нарушенные правила снова возымели действие. И во вселенной снова все хорошо.
Глядя в безоблачное небо, я загадываю желание. Пожалуйста, пусть Хэдли вернется навсегда. Дай Томасу все, что он хочет. Прошу тебя, Господи.
По дороге в свою башню я плачу. Ненавижу это поганое солнце.
ГЛАВА ДВАДЦАТЬ СЕДЬМАЯ
Сегодня суббота, и, кроме меня, дома никого нет. Пару месяцев назад я бы использовала это время, чтобы всласть насладиться порно и Twizzlers. Насчет конфет мои привычки не изменились, а вместо просмотра порно я сижу за ноутбуком и безостановочно пишу.
Пальцы порхают над клавишами, из меня нескончаемым потоком льются слова, и мне кажется, что еще никто и никогда не писал ничего подобного. Эта героиня жила у меня в голове уже на протяжении нескольких недель. Она шумная, носит неоново-зеленый рюкзак, отважная и хочет посмотреть мир. Ее зовут Ева. Все это время я ее игнорировала, потому что, знаете ли, я как бы собиралась писать стихи, а не фантастические истории. Писатели ведь неудачники. А вот поэты гении. Именно они меняют мир и заставляют людей думать. Они творят волшебство. Как Томас.
Но продолжать игнорировать Еву я больше не могу. Она должна воплотиться в своей истории. Кроме того, я знаю, что если не начну писать, то никогда не перестану плакать. Можно, конечно, вернуться к давним привычкам, к выпивке и травке, а потом и сыграть в ящик. Но я не хочу умирать. Я хочу жить. И писать.
Клик-клик-клик.
Внезапно раздается пронзительный звук — это звонит мой телефон. Подпрыгнув от неожиданности, я вскакиваю из-за стола. Обстановка в моей комнате похожа на последствия взрыва: повсюду лежат книги, разбросана одежда и пустые коробки от конфет. Задумавшись на мгновение, не отправить ли звонок на голосовую почту, я почему-то решаю ответить.
Телефон верещит где-то на кровати, и я успеваю схватить его, прежде чем звонок закончился бы. На экране незнакомый номер, но я все равно снимаю трубку.
— Алло?
Низкий голос пронзает мое сердце насквозь.
— Лейла.
— Т-томас? — не в состоянии стоять, я плюхаюсь на кровать.
— Ты сейчас одна?
— Да, — отвечаю я, посмотрев по сторонам, будто тут может быть кто-то еще.
— Открой дверь.
— Ты имеешь в виду уличную дверь? — встав с кровати, я выхожу из комнаты и в замешательстве смотрю на дверь своей квартиры.
— Да, открой уличную дверь.
— Х-хорошо.
В трубке раздается глубокий вздох.
— И скажи, какая у тебя квартира, — голос Томаса звучит странно — как будто он недоволен собой и как будто ему стыдно, что он не знает, где я живу.
— Последняя дверь направо.
— А этаж? — терпеливо уточняет он.
— М-м… последний.
Его смешок хриплый и печальный, полный смирения, хотя я не понимаю, что тут может быть смешного. Прежде чем мне удается задать хоть какой-нибудь вопрос, Томас заканчивает звонок. Словно приклеенная к полу, я стою и смотрю на входную дверь. Разве он не должен быть в Нью-Йорке? О нет, только не это… Что, если Томас узнал о моем утреннем посещении? Но всерьез испугаться я не успеваю, поскольку раздается стук в дверь — громкий и требовательный. Уронив телефон на пол, я бегу открывать.
Держась обеими руками за дверную коробку, на пороге стоит Томас. Когда наши взгляды встречаются, между нами словно пробегает электрический заряд. Мое сердце сначала замирает от обилия эмоций в его взгляде, а потом колотится как сумасшедшее. Оно не перестает трепетать, когда я оглядываю Томаса и его мятую рубашку, всклокоченные волосы и щетину на подбородке.
Томас выглядит надломленным. Словно прочные нити, держащие его цельным, растянулись или порвались. Он подрагивает всем телом. Ошарашенно посмотрев ему в глаза, я замечаю, как жадно он вглядывается в мое лицо. Пожирает меня взглядом. Но мне не понятно, почему.
— Томас? Что… э-э-э… Что происходит? — мой дрожащий голос выдает мое волнение, и только сейчас я обращаю внимание на то, как крепко Томас держится за дверь. Вздувшиеся вены вибрируют от натуги.
— Томас, ты меня пугаешь. В чем дело?
Не задумываясь ни о причине его злости, ни о чувстве самосохранения, подхожу к нему. Он нуждается во мне, я это знаю. Это единственное, о чем думаю, когда обеими руками отцепляю его руку от дверного косяка. Пусть и с трудом, но мне это удается, после чего я крепко сжимаю его ладонь.
Только тогда Томас отводит взгляд от моего лица и смотрит на наши руки. Две мои маленькие ладони со светлой кожей обхватывают его — большую и загорелую. Я чувствую, как в его венах бушует хаос и безумие.
— Ты живешь в чертовой строительной зоне, — бормочет Томас.
— Я называю ее своей башней, — когда из его ладони уходит напряжение, я делаю глубокий вдох. — Почему ты не в Нью-Йорке?
— Потому что должен тебе кое-что сказать.
— Ч-что?
— Ты знаешь, что очень красивая? — вместо того чтобы ответить на мой вопрос, говорит Томас. Его голос тоже дрожит — еле заметная вибрация, которую я ощущаю даже своей тату. Отпустив дверь, он нависает надо мной, заставляя тем самым отойти на шаг назад, и кладет свободную руку мне на щеку. Его пальцы так же подрагивают, и я кладу поверх них ладонь.
— Томас, пожалуйста, скажи мне, что случилось.
Он тяжело сглатывает.
— Нет, я неточно выразился… Ты не красивая. Думаю, ты самое совершенное создание на свете, — облизнув губы, Томас поправляет сам себя: — Нет, снова не то. Не «создание». Ты нечто большее, Лейла. Ты… ненаписанная мной поэма. Стихотворение, которое я никогда не смогу закончить, как бы ни старался.
— Томас… — шепотом произношу я и чувствую, как по щеке стекает крупная слеза. Мое раненое сердце сжимается в груди. Своими словами Томас будто ласкает его, навсегда оставляя отпечатки своих пальцев. Мне невыносимо сейчас слышать, как он делает паузы и подбирает слова.
Томас наклоняется ко мне и, обхватив лицо уже обеими руками, вытирает мои слезы.
— Когда я увидел тебя в книжном, ты была в тех нелепых наушниках и танцевала под музыку. А над твоей головой как будто сияло слово. Я не мог понять, к чему оно, пока не увидел тебя в своем классе. Вот тогда я и понял, кто ты: яркая, буйная и сверкающая, словно…
— Словно что?
— Словно над тобой сияет манящая ярко-красная буква, — шепотом говорит Томас в считанных сантиметрах от моих мокрых от слез губ.
На этот раз мой смешок полон печали и смирения с собственной судьбой.
— Ну да. Я такая и есть, верно? Эстер Прин. Уверена, это всем понятно.
Томас с силой стискивает мое лицо.
— Нет. Это неправда, слышишь? Неправда. Ты не похожа на нее или на кого-то еще. Ты не…
— …шлюха?
— Черт. Нет, — скрипнув зубами, говорит Томас. — Ты никогда и не была такой. Скажи, что понимаешь это. Скажи, Лейла.
Из-за пелены слез и бушующих внутри эмоций мне плохо видно его лицо. И единственное, благодаря чему я держусь и не разваливаюсь на части, — это его ярко-голубые глаза. Своей искренностью они пронзают меня насквозь. Умоляют, чтобы я произнесла это. Разве я когда-либо была в состоянии отказать Томасу хоть в чем-то?
— Я не шлюха.
Кивая, он медленно выдыхает, наполняя мои легкие шоколадным ароматом.
— Все верно. Ты не шлюха.
— Я больше не могу, — слова сами вырываются наружу. — Знаю, сама пообещала, что не пожалею, но больше так не могу. Я сожалею обо всем, что мы с тобой сделали. И как. Все это было неправильно, Томас. Мы нарушили правила и сломали границы. И… — всхлипнув, я замолкаю.
— Тс-с-с. Мы больше ничего не нарушаем. Все ведь кончено, помнишь?
— Да, — я сминаю в кулаках рубашку у него на груди. И, всхлипывая, притягиваю к себе, хотя стоило бы оттолкнуть. Все кончено. Все то запретное, что между нами было, и все, что я скрывала от Эммы. Вот только облегчения я не чувствую. Только невероятную по силе боль и испепеляющую агонию.
Томас обнимает меня и укачивает, словно ребенка, а я с еще большей силой хватаюсь за него. Благодаря ему я хоть как-то могу дышать. Что бы я ни говорила, отпускать Томаса мне не хочется. Мне не жаль, что влюбилась. Я сожалею лишь о том, как именно это произошло.
В какой-то момент слезы высыхают, и я просто стою и обнимаю Томаса, просто потому что не хочу, чтобы наше объятие прерывалось. Мы дышим друг другом. Когда его руки начинают подрагивать, я поднимаю голову. Такое выражение лица я еще никогда у него не видела — на нем, словно на истлевшей странице древней книги, написаны горечь и сожаление.
Его полуулыбка выглядит жалкой попыткой выглядеть беспечным. Томас словно хочет мне что-то сказать, но останавливает сам себя. Потом наклоняется и оставляет у меня на лбу нежный поцелуй, задержавшись на несколько секунд и только после этого сделав шаг назад. Именно такую нежность я всегда и хотела.
В последний раз окинув меня взглядом, Томас разворачивается и идет к лифту. Потрясенная, я остаюсь стоять в дверях. И это все? Он ведь так и не сказал, для чего приходил.
Раздается сигнал, что приехал лифт, раскрываются двери, но прежде чем Томас успевает войти, я несусь к нему и, запрыгнув на спину, обнимаю руками и ногами. Слегка качнувшись, он одной рукой хватает меня за запястье лежащей на его груди ладони, а вторую кладет на поясницу.
Мы оба тяжело дышим. И с поразительной отчетливостью — будто он только что прошептал мне это на ухо — я вспоминаю слова Томаса. Это прощание. Он пришел проститься, как и обещал. «Прощания даются мне нелегко, но я не оставлю тебя, не попрощавшись, будто трус».
Этого достаточно, чтобы мне снова захотелось заплакать, но, сдерживая себя, я обнимаю Томаса и просто дышу им. Я не стану усложнять. Куда уж дальше.
Не стану. Не стану.
Томас пытается высвободиться из моих объятий, но я держусь за него еще крепче.
— Отпусти меня, Лейла. Мне нужно уйти.
— Да, — прижавшись лицом к его шее, я провожу по ней зубами. Меня дурманит вкус и аромат его кожи. — Просто прежде чем уйдешь, останься еще ненадолго.
Едва произношу эти слова, я ощущаю стыд. Не надо было это говорить. Я ведь пообещала его сыну, что не разрушу их семью, но отдавать отчет в своих действиях сейчас не в состоянии. А мое тело жаждет его.
Тем не менее я ослабляю хватку и опускаюсь ногами на пол, одной ладонью ощущая упругие и крепкие мышцы спины, а другой — груди. Жду, что сейчас он уйдет. Судя по его участившемуся дыханию, Томас тоже ждет этого момента.
Но он поворачивается ко мне лицом. И голод в его глазах невозможно спутать ни с чем, он парализует и лишает дара речи. Наклонившись, Томас грубо целует меня. Вниз по позвоночнику проносится горячая волна, покалывающе разливающаяся между ног. Я вся словно бомба, готовая взорваться в любой момент.
— Это последний раз, — рычит он, практически не отрываясь от моих губ. — Попроси, чтобы я пообещал тебе, что это в последний раз.
Я не хочу этого делать, но выбора нет. Едва мы оба кончим, закончится и наше время. Оно все, что у нас сейчас осталось — время для одного раза. Но с этого мы и начали, так ведь? Вот и закончим тем же. Мне хочется смеяться и плакать одновременно.
— П-пообещай мне, что это в последний раз.
В нем сейчас будто происходят какие-то перемены. Словно он настраивается.
— Да. Обещаю.
И больше слов не нужно. Подняв меня, Томас идет в квартиру и целует. Я погружаю пальцы в его волосы. Пинком захлопнув дверь и придерживая меня за ягодицы, он идет к противоположной стене. От столкновения с которой мне немного больно, но я лишь еще сильнее целую Томаса, как будто мне не придется его отпускать.
Он своим телом прижимает меня к стене, и я ощущаю твердый член. Жадные руки гуляют вверх-вниз по моим обнаженным бедрам. Большими пальцами нырнув под резинку моих шорт в горошек, Томас крадется к моей горячей влаге.
Проводит языком по шее, а потом покусывает верх моей правой груди. Вот что происходит, когда мы находимся в непосредственной близости друг от друга — взрыв и языки пламени. Сдернув бретели моего топа с плеч, Томас обнажает грудь и втягивает в рот сначала один сосок, а потом другой.
— Боже… — выгнувшись в пояснице, шепчу я.
Отпустив бедра, Томас кладет обе ладони мне на лицо и заставляет посмотреть ему в лицо.
Мы дышим синхронно. Один вдох на двоих и один выдох. Губы приоткрыты. Во взглядах животная страсть. Прямо сейчас мы больше чем просто родственные души. Мы обитаем в телах друг друга. Мы одно целое. У нас одна кожа. Одно сердце. Одна потребность на двоих.
Быстро и грубо меня поцеловав, Томас одним движением сдергивает с меня шорты. На мне осталась только майка, собранная под грудью. Он опускается на колени и, придерживая меня одной рукой за талию, другой раздвигает мои подрагивающие бедра.
А потом набрасывается на меня. Языком, губами, зубами… И я сдаюсь на милость его греховных и восхитительных прикосновений. Томас с силой посасывает клитор, резко и глубоко погружаясь в меня пальцами. И все это время что-то бессвязно бормочет. Как сильно любит мой вкус и как я хороша, когда отвечаю ему с такой готовностью. Что никогда не забудет, какое упругое у меня тело и как горячо у меня внутри. Как плотно я обхватываю его член, что складывается впечатление, будто он для меня слишком большой, но ощущения при этом все равно идеальные.
От его грязных слов и неприличных стихов я кончаю, и это что-то совершенно великолепное. Чистейшая магия. Нечто кардинальным образом меняющее жизнь. Все, на что я сейчас способна, — это, запустив пальцы Томасу в волосы, без конца повторять его имя. Коснувшись нежным поцелуем моей тату, он встает. Берет на руки и несет меня, словно невесту, в спальню — я вяло махнула в ту сторону рукой.
Прижимаюсь лицом к его шее, пока он несет меня, а потом кладет на кровать, сдвинув в сторону валяющиеся вокруг вещи, чтобы мне было комфортно. Расстегивает рубашку, а потом, остановившись на полпути, снимает ее через голову. Следующими на полу оказываются джинсы. Из-под ресниц я наблюдаю за обнаженным Томасом. Это умопомрачительное зрелище.
От назойливого желания прикоснуться к упругим мышцам живота и покрытой темными волосками груди мои ладони сами собой сжимаются в кулаки. Томас окидывает взглядом мое тело: от всклокоченных волос до кончиков поджатых пальцев ног. Как и я, он запечатлевает меня в памяти.
Я выгибаю спину, и его член вздрагивает в ответ. Облизнув губы, Томас неторопливо поглаживает себя. Один раз. Другой. На то, как невероятно эротично он прикасается к своему члену, мое тело реагирует густой влагой.
Мышцы его бедер напрягаются, когда Томас наклоняется достать презерватив из кармана джинсов.
— Не надо презервативов, — он недовольно хмурится, от чего я потираю бедра друг о друга. — И я не хочу обычного секса.
Теперь выражение его лица не просто недовольное — оно мрачнее тучи. Положив ладони мне на колени, Томас раздвигает бедра, и его взору открывается мое ничем не прикрытое желание.
— Хочешь еще? — его голос, звучащий на октаву ниже, возбуждает меня еще больше.
— Нет. Хочу в попу.
Это были смелые, слишком смелые слова — особенно для той, кто прикована сейчас к кровати всего лишь силой взгляда своего любовника. Готова поспорить, что если Томас скажет мне лежать смирно и не двигаться, чтобы он мог вырезать из грудной клетки мое сердце, то я беспрекословно повиновалась бы. Я зашла достаточно далеко, чтобы оказаться в его власти.
Томас выгибает бровь и сильными руками проводит по всему моему телу.
— Что?
Я впиваюсь пальцами ему в икры и отвечаю:
— Если это наш последний раз, тогда я хочу тебя там, где ты еще не был.
Когда Томас склоняется надо мной, волосы падают ему на лоб.
— Будет больно.
— Знаю.
На его лице мелькает свирепое выражение.
— Я не хочу делать тебе больно.
Я бы рассмеялась, не будь сейчас на грани слез — опять. Разными способами Томас делал мне больно уже миллион раз. Еще один не имеет значения. Тем более что я жажду эту боль. Жажду, чтобы она сожгла меня дотла. Однажды Томас сказал, что после него я не захочу ни одного другого мужчину. И именно этого я и жду. Потому что на Томаса все равно никто не может быть похож. Если мне не суждено быть с ним, то рядом со мной не будет никого другого. Я останусь одна. Это именно то, чего я всеми силами хотела избежать… и чего хочу прямо сейчас.
— Я не против, — шепчу я.
Со лба Томаса мне на грудь приземляется капля пота. Его дыхание становится прерывистым. Томас хочет этого так же сильно, как и я. Скорее всего, сила собственного желания его даже пугает.
— Я вряд ли смогу остановиться… — медленно говорит он, взвешивая каждое слово, — когда… окажусь внутри.
Я кладу ладонь на его резко очерченную челюсть и провожу ногой ему по бедру.
— Но ты все сделаешь хорошо. Ты всегда делаешь мне приятно. Томас. Пожалуйста.
Мои надутые губы стали последней каплей. Свирепое выражение его лица возвращается, глаза становятся темнее, а на щеках расцветает лихорадочный румянец. Отстранившись, Томас тянет меня за руку. Я взвизгиваю, когда внезапно оказываюсь стоящей на коленях лицом к нему.
Тяжело дыша, мы молча смотрим друг на друга. В поле моего зрения попадает родинка на его ключице — которую раньше я никогда не замечала. Прикоснувшись к ней кончиками пальцев, провожу рукой по груди Томаса, ощущая, как на моей коже словно запечатлевается его сердцебиение. Наблюдаю, как от вдохов сокращаются одни мышцы и расслабляются другие.
Если у меня получится сосредоточиться как следует, то я могу притвориться, будто мы друг в друга влюблены. Так и происходит, когда любовь взаимная: вы можете себе позволить руководить друг другом и живете во имя своей половинки.
Схватив меня за руки, Томас поднимает их вверх и снимает через голову мою майку. Теперь я голая, как и он, и по коже бегают мурашки.
Его руки накрывают мою грудь. Дыхание и сердцебиение учащаются. Мою грудную клетку так сильно распирает от наплыва эмоций, что ребрам больно. Собственное возбуждение ощущается невероятно огромным. Чем больше Томас ласкает мою грудь, тем более нетерпеливой я становлюсь. Извиваюсь всем телом, чтобы прижаться низом живота к его члену, и Томас низко стонет.
Отпустив мою грудь и отодвинувшись, Томас хватает меня за шею, поворачивает к себе спиной и наклоняет над кроватью. Я охотно подчиняюсь и опускаюсь на локти, в то время как моя задница оказывается высоко поднятой.
Томас стискивает мои ягодицы, массирует их. Кожу поясницы и живота покалывает от удовольствия, а до сих пор нетронутый анус сжимается.
По внутренней стороне бедер стекает моя влага. Томас подхватывает густую струйку пальцем и проводит им по моим складкам.
Мое тело охватывает прерывистая дрожь, заставляющая беспокойно извиваться. Обернувшись назад, я вижу, что Томас наблюдает за собственными действиями. Нахмурившись, он добавляет еще один палец и погружает их в мою тесную вагину. Томас раздвинул мои ягодицы, и я ощущаю себя совершенно беззащитной под его внимательным взглядом.
Но он явно недоволен. Ему этого мало. Я понимаю это по его нетерпеливому выражению лица и позе.
Вонзив ногти мне в ягодицы, он раздвигает их еще шире. И тут я чувствую, как плотное кольцо мышц ануса расслабилось, а между ног стало так мокро, что меня накрывает волной похоти и стыда. Потом Томас делает нечто, что отправляет мое возбуждение на новый, до сих пор недосягаемый, уровень.
Он плюет мне между ягодиц, и от ощущений теплой слюны у меня неистово дрожат бедра. Внезапно внутреннее напряжение ослабевает, и я едва не кончаю, упав лицом на матрас.
— Чувствуешь, как здесь туго? — спрашивает Томас, пальцами смазывая плотное кольцо мышц, второй рукой не переставая ласкать меня чуть ниже. — Еще почувствуешь. И я знал, что ты не успокоишься, пока не сведешь меня с ума от того, какая ты здесь маленькая и никем не тронутая.
Убрав вторую руку, он сосредоточился только на моем анусе. Погружает кончик мокрого большого пальца внутрь, и я ощущаю легкую боль, которая дает мне понять, что я действительно этого хочу. Хочу, чтобы он взял мою задницу и стал моим первым.
Прогнувшись в пояснице еще сильнее, я поворачиваю лицо набок, завожу обе руки назад и кладу их на ягодицы, помогая ему растянуть меня.
— Бля-я-я… — прерывисто дыша, произносит Томас. — Смерти моей хочешь?
— Нет, — глухо бормочу я, чувствуя себя невероятно возбужденной и безмерно застенчивой. — Хочу, чтобы ты трахнул меня поскорей.
Томас вымученно смеется.
— М-да, я точно сдохну прямо в процессе.
Теперь, когда я сама держу себя открытой, он кладет руку себе на член. Я кожей чувствую, какой он обжигающе горячий. Томас смазывает своей слюной головку члена и растирает ее по всей длине. За спиной мне не видно, но зато я хорошо представляю, как выглядит его блестящая эрекция, когда Томас поглаживает себя, случайными и волшебными прикосновениями задевая мой клитор.
Мышцы его рук расслабляются, когда Томас останавливается и смотрит мне в глаза. Прикусив губу, я тяжело дышу.
Он взглядом дает понять, что готов взять меня. Слова нам и не нужны. Этот момент слишком важен для разговоров. И описать его можно только действиями. Сейчас он завладеет последней нетронутой моей частью.
Положив ладонь мне на талию, чтобы удерживать на месте, другой рукой он осторожно нажимает головкой на мой крошечный вход.
Нажимает сильней, пытаясь пройти через кольцо мышц. Это нелегко, а я не перестаю пытаться извиваться всем телом, зажмурившись и слушая шумное дыхание Томаса. Затем внезапно он оказывается внутри.
Мне больно. Мне жжет. Ощущения растекаются по позвоночнику. Зашипев от боли, я подаюсь было вперед, чтобы он выскользнул из меня, но Томас крепко держит меня за талию и не дает дернуться.
И продолжает погружаться. Господи, я чувствую, как растягиваются мышцы. Боже мой… Я дрожу от боли, дышу через нос и понимаю, что по щекам стекают слезы.
Это была плохая идея. Очень плохая. Очень.
— Тс-с-с, — шепчет Томас и свободной рукой гладит меня по спине в попытке расслабить мое перепуганное тело. — Все будет в порядке. Все будет хорошо. Не волнуйся.
— Ты уже… вошел полностью? — скуля, спрашиваю я.
— Нет, милая, еще нет, — сделав глубокий вдох и медленно выдохнув, отвечает Томас. Упругие мышцы его бедер подрагивают и дают мне понять о степени его самоконтроля.
Знаю, у него это вырвалось случайно. Но, услышав ласковое слово, я открываю глаза и оборачиваюсь. Томас сейчас словно статуя — с четкими и резкими линиями. Он высечен из камня. Мой Огнедышащий. Мой каменный бог.
А я его милая. Милая.
Томас опускает голову, будто в молитве, и хмурится, словно не может себе позволить потерять контроль и сделать мне больно, но мне уже плевать. Я хочу его любой ценой.
— Больно, — тонким голоском говорю я.
Томас вздрагивает всем телом и поднимает голову. Сунув свой большой палец в рот, я сосу его и фантазирую, будто это член, а я хорошая и старательная девочка.
В последний раз я играю в его любимую игру, и взгляд Томаса вспыхивает. Все его тело как будто становится больше и напряженнее. Я внутренне улыбаюсь, когда он обхватывает вспотевшими руками мои бедра и входит глубже. Прикусив кончик пальца, я издаю громкий стон и закрываю глаза. Боль практически невыносима, но, когда сдаюсь на ее милость, понимаю, что она понемногу начинает отступать.
Хрипло застонав, Томас входит в меня полностью, и я чувствую прикосновение жестких волосков у основания его члена. Я представляю, как он смотрит на меня, хорошую девочку, посасывающую палец и покорно не двигающуюся с места. Сердце начинает колотиться еще быстрее, когда я фантазирую, как он подастся назад, чтобы резко войти снова.
Убрав одну руку с моего бедра, Томас тянется к клитору. Я едва не падаю, но его хватка по-прежнему сильна. Играя с клитором и заставляя меня хотеть его еще больше, он выходит из меня почти полностью и снова скользит внутрь. Томас издает хрип, а я стон.
Моя спина покрывается каплями пота, которые щекочуще стекают по шее. Постанывая, я потираюсь ноющей грудью о простыни, в то время как Томас входит в уверенный и неторопливый ритм. Боль никуда не делась, но сейчас она вполне терпима и даже приятна.
В последний раз Томас рассказывает мне свои грязные порно-истории. Говорит, какая я узкая и какие потрясающие ощущения дарю. Что мужчины будут готовы убивать за право войти в меня — куда бы то ни было.
Слушая его, я начинаю терять рассудок. Мне абсолютно плевать на любых других мужчин. Я хочу только его.
От пота и моей влаги наши тела стали скользкими. Поменяв позу, Томас поднимает одну ногу и ставит ее, согнутую в колене, рядом с моим бедром. Ощущение реально странное — я чуть ли не в позвоночнике чувствую его член. Наверное, он ударяется о мои кости. При этой мысли я взрываюсь.
Между ног становится очень мокро, и по бедрам стекают вязкие струйки. Уверена, Томас теперь тоже от меня мокрый. Мое тело ощущается напряженным и вялым одновременно, по нему безостановочно пробегает мелкая дрожь. Оно словно не поддающееся контролю животное. На какое-то мгновение меня охватывает страх, что это никогда не закончится, и я больше не смогу восстановить власть над собственным телом. Из горла рвется вопль, но Томас зажимает мне рот рукой. Я кладу свою ладонь поверх его.
Позади меня Томас вздрагивает. Судя по рваному ритму его движений, он уже близко. Поэтому я сильнее сжимаю его ладонь — чтобы он больше не сдерживался.
Кончив, Томас падает на меня. Под восхитительной тяжестью его тела я вздыхаю, и какое-то время мы просто лежим в тумане разделенного удовольствия. Рука Томаса лежит у меня на плече, а грудная клетка содрогается от неровного дыхания, от которого пушок у меня на затылке встает дыбом. Прижавшись лицом к его руке, я вдыхаю аромат его кожи.
Впервые за долгое время я лежу в своей кровати и чувствую себя сонной. И твердая поверхность пустой ванны мне больше не нужна. Уже почти закрыв глаза и заснув, я слышу его задумчивый шепот:
— Ты вернула ее мне… способность писать.
Голос такой мягкий и тихий, что это может быть сном. В этом сне я могу представить, будто Томас пришел не попрощаться, а чтобы сказать, что любит меня.
Произнеся про себя эти два придуманных слова, я засыпаю.
ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ВОСЬМАЯ
Проснувшись утром, я понимаю, что Томаса уже нет. Ничего другого я и не ожидала, но обнаружить себя громко сопящей и укутанной в свое фиолетовое одеяло было странно. Где-то посреди ночи Томас накрыл меня и тихо ушел. Не знаю, почему, но даже сама мысль об этом причиняет куда больше боли, нежели все, что мы с ним делали.
На столике стоит моя кружка с остывшим кофе. Как бы я ни планировала держать подбородок высоко поднятым и двигаться дальше, мне больно.
Боль такая сильная, словно меня сбила машина.
Едва открывается дверь комнаты Эммы, я быстро вытираю слезы. Обернувшись, приветствую ее с натянутой улыбкой.
— Готова идти?
— Нет, занятия отменены. Я только что получила сообщение.
Первая моя реакция — это облегчение. Потому что идти на занятия я не хочу. И понятия не имею, получится ли у меня вести себя как ни в чем не бывало в присутствии Томаса после всего этого. Но спустя мгновение мой мозг просыпается.
— Что? Почему?
Выражение лица Эммы напуганное и смущенное одновременно.
— Я… получила смс от Саманты, которой прислал письмо Брайан. По его словам, он это сам видел, а может, кто-то ему рассказал. В общем, неважно. Но профессор Абрамс… Его жена сейчас в больнице. Она… Она пыталась покончить с собой.
В ушах начинает потрескивать.
Это такой звук, напоминающий статическое электричество и который не собирается наполнять только голову. Он распространяется по всему телу. Я вижу Эмму. Вижу, как она шевелит губами, что-то продолжая рассказывать. Как хмурит лоб и поджимает губы. Но ничего не понимаю.
Ничего.
Томас…
Уверена, я ему нужна. Поэтому мне нужно к нему. Надо срочно найти Томаса. Это… Ничего подобного просто не могло произойти. Я ведь видела ее собственными глазами буквально вчера, и все было хорошо. Да господи боже, он ведь любит ее! Так сильно, что… Или это я виновата? Я, да? Мой приход все испортил? Возможно, Хэдли поняла, что я тоже очень сильно люблю Томаса. Быть может, она все поняла про нас. И в случившемся виновата я.
Мой мир словно сошел с орбиты и неистово задрожал.
— Лейла! Какого черта ты несешь? — спрашивает Эмма. Как она оказалась так близко? Посмотрев вниз, я замечаю, что мои голые ноги забрызганы разлитым кофе и на полу валяются осколки моей кружки.
— Мне нужно с ним увидеться, — говорю я Эмме.
— Ничего не понимаю. Когда ты успела встретиться с его женой? И почему это ты виновата?
Я понимаю, что говорила вслух, но времени что-то объяснять сейчас нет. Нужно найти Томаса.
— А ты знаешь, где… — замолчав, я делаю глубокий вдох, пытаясь при этом привести слова и мысли хоть в какой-то порядок.
— С Хэдли сейчас все в порядке. Она в больнице. По крайней мере, согласно слухам, которые гуляют по всему кампусу.
— Так. Ладно, — я обхожу ее и направляюсь к двери. — Мне нужно в больницу. Прямо сейчас.
Но Эмма меня останавливает.
— Лейла, это еще не все.
От ее тона у меня мороз по коже. Внезапный холод пробирает до самых костей.
— Что? В чем дело?
Сильно взволнованная, Эмма заламывает руки.
— Я… Я слышала, что их сын — которого мы видели в «Кофе со сливками» несколько недель назад… — сделав паузу, она качает головой.
Почему она качает головой?
— Лейла, он тоже в больнице.
— Что это значит?
— Я не знаю. Он вроде бы в реанимации.
— Ники? — в ответ на сочувственное выражение лица Эммы я мотаю головой. — Но почему? В смысле что случилось? Как он попал в реанимацию? Неужели… Неужели все так серьезно?
Эмма кладет руку мне на плечо и круговыми движениями поглаживает.
— Черт, Лейла, ты дрожишь. Присядь лучше на минуту.
— Нет, — не дав усадить себя на стул, возражаю я. — Нет. Скажи, где сейчас Ники.
— Лейла, милая, я правда не знаю. Я просто пересказала тебе слухи. Понятия не имею, что произошло.
Я вырываюсь из ее объятий, взбудораженная и заторможенная в одно и то же время, и иду к входной двери.
— Мне нужно найти Томаса. Надо сказать ему, что с Ники все будет хорошо. Он сейчас, наверное, в полном ужасе.
— Лейла, послушай меня. Просто остановись и выслушай, — Эмма хочет схватить меня за руку, но я уворачиваюсь.
— Нет! — кричу я. — Нет. Я хочу отыскать Томаса, понимаешь? Ему нужно… — поняв, что у меня сел голос, я делаю глубокий вдох и продолжаю: — Мне просто нужно попасть в больницу. Прямо сейчас.
Эмма кивает.
— Хорошо. Я тебя отвезу. Сейчас выясню, в какую больницу их отвезли, и мы тут же поедем.
Согласно киваю, а потом ноги меня подводят, и я падаю на пол.
***
«Лей-ла… Ла-ла-а-а-а…»
Да, иногда я Лала. Ну и ладно. Я делаю глоток кофе, а Ники, не вынимая пальчиков изо рта, завороженно меня разглядывает. У него такие большие глаза — два голубых озера. Просто очаровательный мальчик.
«Хочешь попробовать мой кофе, малыш? — спрашиваю я, и он хихикает. — Давай так. Я тебе дам глоточек, если ты произнесешь слово «кофе». Скажи. Ко-фе».
Томас бросает на меня возмущенный взгляд.
«Что? Я учу его новым словам, — говорю я и снова поворачиваюсь к Ники. — Давай, Ники, не подводи меня. Скажи «кофе». Ко-фе».
Ники хохочет, а Томас поджимает губы, чтобы тоже не рассмеяться.
«Я смотрю, ты веселишься. Ну ничего, погоди, скоро настанет тот день, когда Ники сможет произнести слово «кофе» и полюбит меня больше, чем тебя».
— Мы приехали, Лейла, — голос Эммы возвращает меня в настоящее. Мы сейчас на парковке университетской больницы, и я с удивлением обнаруживаю, что по щекам у меня текут слезы.
Сама не понимаю, почему я плачу. Эмме сказали, что с Хэдли все будет хорошо, а насчет Ники… Я уверена, что Ники тоже поправится. Уверена. Несмотря на то, что он в реанимации, и есть вероятность, что малыш не переживет эту ночь. Нет, ну, много они понимают! И потом, сами же сказали: «вероятность». Вероятность может означать что угодно.
Так что я зря лью слезы.
Выпрыгнув из машины, я направляюсь к дверям больницы. «Как только увижу Томаса, все сразу же станет хорошо», — мысленно повторяю я снова и снова. Эмма подходит к стойке информации, но разговаривать с нами отказываются. Мы не родственники.
Краем глаза замечаю какое-то движение и, повернувшись, вижу Сьюзен.
— Сьюзен!
Увидев меня, идущую прямо к ней, она вздрагивает.
— Лейла.
— Почему вы плачете? — ее лицо такое же заплаканное, как и мое, от чего я ощущаю панику. — Нет-нет, не плачьте. Причин для слез нет. Все будет в порядке. Эмме сказали… — я поворачиваюсь, чтобы махнуть в сторону стойки и стоящей там подруги. — С Хэдли все будет хорошо.
Сьюзен ладонью зажимает рот, чтобы заглушить рыдания.
— Ники…
— С ним тоже все будет в порядке, — мой пронзительный голос ее пугает. Наверное, она думает, что я сумасшедшая. — С ним ничего не случится. Все будет просто прекрасно.
— Ты ведь знаешь, как он любит, чтобы все игрушки лежали в манеже. Каждый вечер мне приходится собирать их и складывать в один угол, — всхлипывая, говорит Сьюзен. — Сегодня утром, когда играл со своим слоненком, Ники был похож на ангелочка, — кажется, что еще немного, и Сьюзен упадет в обморок, поэтому я приобнимаю ее за плечи.
— Хэдли проснулась рано, и я… попросила ее присмотреть за Ники, чтобы самой сходить в магазин за смесью. Я не хотела. Не хотела оставлять его одного, но сама не знаю, почему не купила ее заранее. Я думала, что скоро вернусь, но в магазине нужной смеси не было, поэтому мне пришлось ехать в другой.
Сьюзен плачет навзрыд. Мне хочется накричать на нее, но в этот момент подходит Эмма, кладет руку мне на плечо и еле заметно качает головой, давая понять, чтобы я сдержалась.
— К-когда я вернулась, Ники… почти умер. Я набрала 911, а потом бросилась искать Хэдли. Она оказалась в ванне — без сознания, — рыдания Сьюзен подтачивают мою до этого несгибаемую веру, что все будет хорошо, и мне это не нравится. Совсем-совсем не нравится.
Я отхожу от нее на шаг.
— А где Томас?
Чтобы собраться с мыслями и ответить, Сьюзен требуется время, которое кажется нескончаемым. Наконец она отвечает, что Томас на третьем этаже, в приемном покое реанимации. Я бросаюсь вверх по лестнице, не глядя по сторонам.
Как только вижу Томаса, мои ноги останавливаются сами собой. Его широкие плечи, — это единственное, что я могу сейчас видеть. Он стоит спиной ко мне, посередине пустой комнаты, и смотрит в сторону стеклянных дверей, ведущих в коридор с палатами.
Это напоминает мне о той ночи, когда я подсматривала за ним в окно. Даже сквозь ткань серой рубашки мне видны напряженные мышцы спины. В тот день утешить его я не могла. Не могла ни прикоснуться, ни уверить, что все будет хорошо.
Но сейчас у меня есть такая возможность.
Бесшумно ступая, я иду к нему, почти не дыша.
— Томас?
Он не двигается. Не уверена, что он вообще меня слышал. Тогда я подхожу ближе и становлюсь к нему лицом.
Или не к нему, а к кому-то, внешне напоминающего Томаса. Этот человек такой же высокий, но выглядит изможденным. Словно от Томаса осталась лишь оболочка и опустошенный взгляд.
— Томас, — зову я снова, на этот раз чуть громче. Оторвавшись от созерцания чего-то мучительного и видимого только ему одному, Томас поворачивается в мою сторону. — Все будет хорошо, — произношу я в миллионный раз. Чем больше повторяю эти слова, тем больше они словно царапают рот и оставляют после себя привкус пыли — как после песчаной бури. Но я не перестану их говорить. Ведь Томас нуждается во мне. — Я с тобой. Все будет в порядке. Хэдли поправится.
Сглотнув, я подхожу еще ближе. Запрокинув голову, всматриваюсь в его неподвижное и угрюмое лицо.
— Томас, н-не волнуйся. Они все врут насчет Ники, я точно знаю. Верь мне. Я…
Сама того не ожидая, я громко всхлипываю. Совсем как Сьюзен — женщина, которая была уверена, что Ники умер. Но я не она. Поэтому мне не стоит плакать. Ведь я не сомневаюсь, что с малышом все будет в порядке. Других вариантов просто нет. Он обязательно поправится.
Мой болезненный всхлип словно пробуждает Томаса, но он по-прежнему меня не видит. Он слишком занят собственными мыслями и слишком подавлен горем. Никогда раньше я не представляла, что грусть бывает настолько сильной и жестокой, но на Томаса она действует именно так. Он опустошен. Внутренне я готовлюсь, что сейчас на меня обрушатся его эмоции, но ничего не происходит.
Томас уходит.
Подойдя к двери, ведущей на лестницу, он открывает ее, но, подбежав, я успеваю его остановить, прежде чем Томас достигает ступеней.
— Томас, подожди. Просто посмотри на меня. Пожалуйста. Все будет хорошо. Послушай меня. И посмотри. Посмотри на меня, — снова и снова прошу я. Наконец он встречается со мной взглядом.
В его глазах бушует ярость. Схватив меня за руку, он с силой встряхивает меня.
— Мой сын умирает, Лейла, — Томас произносит мое имя, будто оно отравленное. — А врачи меня к нему даже не пускают. Даже не дают мне его увидеть. Мой сын чуть не подавился насмерть паршивой пуговицей, а мне нельзя к нему войти.
«Он сейчас на таком этапе развития, когда все выглядит едой». Всхлипнув снова, я сдерживаю слезы с такой силой, что едва не душу саму себя.
— А знаешь, почему никто не смог ему помешать? — сильнее обхватив руку, Томас толкает меня к стене, и, ударившись спиной и головой, я кусаю губы, чтобы не вскрикнуть от боли. — Потому что моя жена была занята: пыталась покончить с собой, — оскалившись, говорит он. — Она проглотила целый пузырек снотворного, — к тому моменту, как Томас договаривает последнее слово, его рык становится похожим на вой раненого зверя. Он ударяет рукой по стене рядом со мной.
Но затем внутренняя борьба его оставляет, словно этого единственного удара хватило. Голос теряет угрожающие нотки и становится пронизанным невыносимой мукой.
— Я думал, что у нас все в порядке. Думал, что раз она позволила прикоснуться к себе, то значит простила. Хэдли попросила себя обнять и… И я решил, что она тоже меня любит. Может быть, самую малость — господь знает, я не заслуживаю чего-то большего сейчас, — но хотя бы так. А теперь… все разрушено. Моя семья развалилась, едва я заполучил ее обратно.
Надтреснутый голос Томаса разбивает мое сердце, размалывает его в крошево. Внутри у меня все будто в крови.
Я вспоминаю странное свечение, которое видела вокруг Хэдли вчера. Она выглядела уставшей, но… умиротворенной. Она была счастлива, а я все испортила.
— Это все я, — сглотнув, говорю я. — Здесь только моя вина. Я приходила к тебе домой, чтобы увидеться с Ники и сказать ему, что ни на что не претендую и отхожу в сторону. Что нарушила все правила и влюбилась в тебя. Меня застала Хэдли, и я…
— Ты влюбилась в меня, — его слова звучат не вопросом, а утверждением. Мне могло показаться, что Томас абсолютно спокоен, если бы не стиснутые зубы и играющие желваки.
— Томас, я…
— Мои родные умирают, потому что ты в меня влюбилась, — будничным тоном говорит он, и я теряю дар речи от инферно, взорвавшемся во взгляде его покрасневших глаз.
Внутри Томаса все горит огнем. Обхватив сильными пальцами мою руку, он словно оставляет ожоги на моей коже. Не то чтобы я этого не заслуживаю. Я была к этому готова — как и к любому наказанию, которому он захочет меня подвергнуть. Взгляд Томаса говорит мне, что я ему противна.
Но тем не менее ничего не происходит.
Отпустив мою руку, Томас разворачивается и тем самым еще больше смущает меня. Его нежелание продолжать этот разговор сбивает с толку, а сдержанность, которую он демонстрирует, лишь распаляет мое желание получить по заслугам. Я не хочу, чтобы он контролировал себя. Хочу, чтобы он пришел в ярость. Не могу думать ни о чем другом, кроме того, что Томас страдает из-за меня и ему нужно сделать мне больно, чтобы хоть как-то справиться со своими эмоциями. Размышляя об этом, я чувствую спокойствие и отчаяние одновременно.
Я делаю шаг к Томасу, чтобы схватить за рукав и… чтобы что? Остановить его? Сказать, чтобы он ударил меня? Прямо по лицу? Повалил меня на пол и пнул за то, что я стала причиной смерти его родных? Сама не знаю… Но Томас уворачивается, и я поскальзываюсь на скользком полу. И внезапно оказываюсь в воздухе.
Я лечу.
И падаю — в буквальном смысле.
Мое тело несколько раз подпрыгивает по ступеням, и когда я приземляюсь, все, о чем могу думать, — это что мне страшно жаль. И что все произошедшее имеет свою логику, ведь сейчас я умру, поскольку любовь моя токсична и делает больно другим.
А потом меня накрывает глухая тьма, и я проваливаюсь в сон.
ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ДЕВЯТАЯ
Я прихожу в себя под монотонные звуки медицинских приборов, и меня тут же окружает стерильный запах больницы. Прежде чем успеваю открыть глаза, на меня накатывает сильнейшее отчаяние. Паника. И беспомощность. От всего этого сдавливает грудную клетку, и, с трудом дыша, я пытаюсь сесть.
— Ты очнулась!
— Ч-что… — пытаясь сфокусировать зрение на сонном Калебе, произношу я и прижимаю ладони к вискам. Господи, чудовищно болит голова.
— Держи, — Калеб протягивает мне стаканчик с соломинкой. Я делаю глоток воды, и тот убирает мучительную сухость в горле.
Забрав у меня из рук стаканчик, Калеб не дает мне заговорить.
— Ничего не говори. Какое-то время голова еще будет болеть. Тебе надо отдохнуть.
— Я… н-не могу… — застонав, произношу я. Собственный тихий шепот грохотом отдается в голове, и из глаз тут же льются слезы. Хочется задать так много вопросов.
Калеб гладит меня по голове.
— Все в порядке. Все будет в порядке.
Совершенно беспомощная, я лежу и горько плачу. Поверить не могу, что совсем недавно сама произносила эти слова. Что все якобы будет в порядке.
Ведь это не так. Совсем не так. Я даже не знаю, как долго пробыла без сознания.
— Т-томас?..
Выражение лица Калеба становится суровым. Никогда не видела его таким.
— Он ушел.
Я пытаюсь сесть, но Калеб укладывает меня на спину.
— Почему? — наконец удается спросить мне.
— Какого хуя? Ты это сейчас серьезно, Лей? — я вжимаюсь в твердую подушку, в ужасе от того, что Калеб ругается. Он никогда не говорил такие слова. Ни разу. Мое беспокойство усиливается еще больше.
В том, что тебя кто-то знает всю свою жизнь, есть некое преимущество. Потому что Калеб умеет читать по моему лицу, не задавая дополнительных вопросов.
— Ты упала с лестницы. Это ведь из-за него, да? Ты это помнишь?
— Н-нет. Он ничего не сделал, — слова царапают горло изнутри. — Это все я. Я сама пошла за ним, — и это верно во всех смыслах.
Лицо Калеба становится еще более каменным, но потом расслабляется.
— Ты ни в чем не виновата.
По щекам текут слезы, а голова гудит от боли.
— Ты ничего не знаешь. Хэдли пыталась покончить с собой, потому что я заявилась к ним домой, — Калеб качает головой, но я продолжаю: — Она поняла, Калеб. Что я влюблена в ее м-мужа. А Ники… он…
Говорить мне становится все труднее и труднее. Голова готова взорваться, и из-за слез тяжело дышать. Калеб дает мне салфетку. Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста, пусть с ним все будет хорошо. Прошу тебя, Господи.
— Он в порядке. Мальчик справился.
Голос Калеба с трудом прорывается сквозь хаос, царящий у меня в голове. Он кивает и еще раз повторяет свои слова. Он в порядке. Ники справился.
— Правда? — шепотом переспрашиваю я.
— Ага. Он… с ним все сейчас нормально. И из реанимации его выписали. Как и Хэдли. Все хорошо.
И киваю и киваю. Продолжаю кивать, и по щекам катятся слезы. Слава богу. Слава богу. Слава богу.
Сложно выразить словами облегчение, которое на меня накатывает. Оно невероятно огромное. Давление в грудной клетке ослабевает, и я ощущаю себя легкой и свободной.
Но все это неправильно. Мне необходимо это ощущение давления. Ведь ничего этого не случилось, не будь меня в их жизни. Я пошла к ним домой, нарушила безопасность этого места и все испортила.
— Я едва не стала причиной его смерти, — мои слова сочатся солеными слезами.
— Лейла, послушай меня, — Калеб ждет, пока я не поднимаю на него взгляд. — В случившемся с Ники нет твоей вины. Это ответственность Хэдли. Сейчас идут разговоры об оценке ее психологического состояния.
— Что?
— Лейла, она пыталась покончить с собой. Это очень серьезно. Не говоря уже о том, что при ней чуть не погиб ее ребенок. Возможно, ей предъявят обвинения в пренебрежительном отношении, если не больше. Но тебя все это никак не касается. Одним своим присутствием ты ни на что не могла повлиять.
Но Калеб ничего не понимает. Не знает о масштабах содеянного.
«Мои родные умирают, потому что ты в меня влюбилась».
И Калеб не видел, какое выражение лица было у Томаса. Он не знает, что я отняла у Томаса все, что он с таким трудом себе вернул.
— Ты знаешь, где сейчас Томас? Можешь отвести меня к нему? Пожалуйста, Калеб, мне нужно с ним увидеться, — схватив его за руку, умоляюще говорю я.
— Нет. Но если бы и знал, не сказал. Ники вертолетом отправили в другую больницу, и они оба поехали с ним — Томас и его жена. Это все, что я знаю.
В панике я пытаюсь выбраться из кровати. Мне необходимо его увидеть. Извиниться. Сделать хоть что-нибудь. Томас может ненавидеть меня сколько угодно, но я точно знаю, что нужна ему сейчас.
Но Калеб с легкостью возвращает меня в кровать и не дает подняться снова.
— Господи, Лейла, да ты взгляни на себя. Тебе надо бережней к себе относиться. Черт!
Выражение его лица становится таким, будто он вот-вот заплачет, но все-таки сдерживается.
— Когда мне позвонила твоя мама, я-я… боже, я еще никогда не был так напуган. А когда приехал сюда, то понял, что человек, несущий ответственность за произошедшее с тобой, это твой профессор. В которого ты влюблена. Вот, значит, почему ты не хотела переезжать в Нью-Йорк?
Я не говорила Калебу, в кого именно влюблена. В тот момент я просто выбежала из квартиры, словно на меня снизошло откровение.
Пытаюсь подняться снова, но на этот раз Калебу даже останавливать меня не пришлось, потому что я без сил сама рухнула на спину.
— Он очень страдает, Калеб, — сквозь слезы говорю я, комкая руками простыни, которыми укрыто мое бренное изможденное тело. — М-мне нужно к нему.
— Что тебе на самом деле нужно сделать, — так это отдохнуть. И набраться сил. Здесь, в больнице, твоя мама и декан. Они… обо всем знают, — и снова мне не нужно спрашивать. Калеб сам все понимает. — Им кое-кто рассказал.
— Кто?
Он вздыхает и проводит рукой по своим волосам.
— Имя Сара Тернер тебе знакомо?
Я киваю.
— Она хочет получить его работу.
— С тобой хотят поговорить. Будет проведено расследование, — многозначительно посмотрев на меня, говорит Калеб.
— В этом нет необходимости, — я отвожу взгляд. — Я сама его преследовала, как сталкер. Ходила к нему домой. Влюбилась. Во всем виновата только я.
— Он был прав, — бормочет Калеб.
— Кто? — спрашиваю я, не особенно интересуясь ответом. Вопрос вырвался чисто автоматически. Я чувствую, как становлюсь легче, словно мое тело покидает жизнь и энергия. Легкий щелчок мгновенно превратит меня в пыль.
— Он сказал мне держать язык за зубами, но тебя-то я знаю. Ты невозможно упрямая, так что… Этой ночью тут был Томас.
Я тут же смотрю на него и ощущаю, как сердце запустилось снова.
— Томас?
— Ты тогда была без сознания. И он попросил сказать тебе, что ты ни в чем не виновата. Но так, чтобы я не говорил, что это именно его слова.
— Он… так сказал? Именно это?
— Да. Помимо прочего.
— Прочего?
Глубоко вздохнув, Калеб отворачивается, и только сейчас я замечаю, что у него опухла левая сторона челюсти.
— Он меня ударил. За то, что я сделал, по его словам.
Мои глаза широко распахиваются, а в голове снова поселяется пульсирующая боль. Калеб успокаивающе кладет руку мне на плечо.
— Расслабься. А то только хуже себе сделаешь.
— И после этого Томас просто взял и ушел?
— Да, — с жалостью глядя на меня, отвечает Калеб. — Оставаться он в любом случае не собирался.
Калеб ничего сейчас не произносит вслух, но я читаю его мысли: «О чем ты только думала? Спать с женатым преподавателем!»
— Конечно. Да. Я понимаю, — покачав головой и не переставая плакать, говорю я. — С чего бы ему оставаться? — «Я чуть было не убила его родных», — хочется добавить мне, но мой голос отказывает, как и большая часть систем моего тела. Я превращаюсь в безвольное существо, а в голове продолжают звучать слова Томаса.
«Мои родные умирают, потому что ты в меня влюбилась».
Как я могла сотворить с ним такое? Почему моя любовь оказалась настолько ядовитой? Такой эгоистичной и жадной? Словно демон.
«Ты не виновата». Но я не верю Томасу. Разве я могу быть не виноватой? Я пошла к нему домой, хотя именно это он просил меня не делать. Может, он просто сжалился надо мной, пока я лежала без сознания? От этой мысли мне становится еще хуже.
Ведь я думала, что на этот раз все сделала правильно. Верила, что любовь не пожрет меня изнутри. И что никому не навредит.
А оказалось, что моя любовь словно людоед. И я не заслуживаю даже просто любить кого бы то ни было, не говоря уже о том, чтобы чувства были взаимными.
ГЛАВА ТРИДЦАТАЯ Бард
Четыре месяца спустя…
Он смотрит на меня своими лучистыми голубыми глазами. На лоб падают темные пряди, с губы свисает ниточка слюны. Да, возможно, позже мне еще придется разбираться с последствиями его активности, но сейчас мой сын страшно рад своей самостоятельности. Стоя на четвереньках, он широко мне улыбается — или фиолетовому одеяльцу, которое я держу в руках.
— Иди-ка сюда, приятель. Хочешь одеяльце? — улыбка Ники становится шире, когда я показываю ему одеяло. — Тогда ползи скорей сюда.
Взвизгнув, Ники ползет на четвереньках так быстро, как только позволяют его маленькие ручки и ножки. Его энтузиазм настолько заразителен, что я смеюсь, когда он подползает ко мне, и беру его на руки. Радостные возгласы Ники от этого становятся еще громче.
По ощущениям он легче воздуха, но я знаю, что Ники прибавил в весе. А розовые щеки стали пухлее. Он счастлив в неведении. Не знает, что несколько месяцев назад чуть было не умер, а пуговица, оторвавшаяся от его любимого фиолетового слоненка, чуть было не стала тому причиной. Но я и не хочу, чтобы мой сын об этом знал. Не хочу, чтобы его простодушную наивность омрачило хоть что-нибудь.
Когда я опускаю Ники на пол, мой сын хихикает. Что-то бормоча себе под нос, он выхватывает одеяло у меня из рук и утыкается лицом в мягкую ткань. Когда начинает звонко ее целовать, я усмехаюсь. Звук получился неестественным и напряженным.
Услышав, как в комнату вошла Хэдли, я поднимаю голову. Она улыбается. Только что приняла душ, убрала волосы в аккуратный пучок. Как и у Ники, ее здоровье тоже улучшилось.
— Ты голодная? — спрашиваю я. — Вещи мы можем разобрать и потом.
В гостиной стоят нераспакованные коробки. В этих картонных стенках заключена целая жизнь. Вещи, что там хранятся, словно не больше не стоят тех трудностей, через которые мы прошли.
Теперь наш новый дом — здесь. Несколько месяцев мы прожили в пустовавшей до нашего приезда квартире Джейка. Потом настало время перемен. И вот сейчас у нас появилось свое жилье в Бруклине.
— Хорошо, — нерешительно улыбнувшись, отвечает Хэдли.
Оставив Ники играть на полу, я иду на кухню и достаю из пакета контейнеры с едой. Чувствую, как ко мне подходит Хэдли и останавливается у кухонного островка. Подняв голову, я встречаюсь с ней взглядом. Мои руки внезапно становятся слабыми, и я едва не роняю контейнеры на пол. До сих пор не верится, что моя жена здесь, что мой сын жив и что мы снова вместе. Как одна семья.
Сосредоточившись на еде, я раскладываю по тарелкам курицу Кунг Пао.
— Томас?
Не успев поднести вилку ко рту, я замираю. От интонации, с которой Хэдли произнесла мое имя, у меня мурашки по коже побежали. Все тело переходит в режим обороны, хотя атаки еще нет. В ее интонации звучит требование. Оно словно тонкий слой стали. Подобным тоном Хэдли со мной почти никогда не разговаривала. Надобности в этом никогда и не было — даже в самом начале наших отношений. Теперь же я понимаю, что раньше она просто-напросто всегда мне уступала.
— Что?
Хэдли потирает руки — от этого жеста, настолько для нее типичного, у меня начинает ныть в груди, — но во взгляде читается решимость.
— Я хочу развестись.
Проходит секунда. Потом другая. С улицы доносится чей-то смех. Проезжает машина. Взвизгивает какая-то женщина, после чего смеется. Я перевожу взгляд на Ники. Он по-прежнему играет с одеяльцем, ползая и прижимая его к груди. Его грудь вздымается от вдохов и выдохов. У меня же в груди сжимается всякий раз, когда я вижу своего сына живым. Снова повернувшись к Хэдли, я понимаю, что мне давно было любопытно, когда же она снова заговорит о разводе? Когда снова станет сильной — морально и физически — и перестанет во мне нуждаться?
Перестанет нуждаться в том, чтобы я приносил ей таблетки, кормил ее и обнимал, когда посреди ночи она просыпалась от кошмаров — и это были те редкие случаи, когда я позволял себе прикасаться к ней, — сам при этом сдерживая слезы, потому что ради нее должен был оставаться сильным.
— Понятно, — проведя кончиками пальцев по губам, отвечаю я, ошеломленный тем, что момент все-таки настал.
В ответ Хэдли улыбается. Потом кладет руку мне на плечо и предлагает сесть. Я послушно сажусь, словно ребенок, неспособный думать за себя и принимать решения.
Хэдли садится напротив меня, по другую сторону кухонного островка.
— Мне нравится так сидеть, — говорит она. — Напоминает старые добрые времена.
— Ага, — откашлявшись, соглашаюсь я.
— Ты только посмотри на этот островок, — продолжает Хэдли. — Он напоминает тот, который был в твоей квартире во времена учебы.
— Похож, да.
— На самом деле ты не помнишь, верно?
— Я…
— Тебе не обязательно во всем со мной соглашаться, Томас. Я не собираюсь… выходить из себя или делать что-то еще в этом духе.
— Я знаю.
В течение следующих нескольких минут мы молчим. Тишина ощущается знакомой и даже успокаивает. Примерно так мы и провели эти четыре месяца: в молчании, время от времени что-нибудь недолго обсуждая. Тем не менее я ощущаю, что эта тишина иная. Что-то грядет, я чувствую это нутром, сердцем, — да всем сразу.
— Мне нужно уйти, Томас, — спустя некоторое время произносит Хэдли. Так и не притронувшись к еде, мы оба держим по пластмассовой вилке. Зачем? Сам не знаю.
В ответ на ее слова я сильнее сжимаю вилку в начинающей подрагивать руке. Нельзя сказать, что я не ожидал это услышать. Как и нельзя сказать, что мы… счастливы. Глубоко вздохнув, я разжимаю кулак и отвечаю:
— Понятно.
— Мне это просто необходимо. По крайней мере, на какое-то время.
— А что будет с Ники? — я повторяю вопрос, который уже когда-то задавал. Возможно, мое беспокойство неискреннее.
Слегка поморщившись, моя жена берет меня за руку. Скрывать эмоции Хэдли всегда умела неплохо. Деликатная и с мягким характером, она была полной мне противоположностью. Но теперь я вижу ее насквозь. Замечаю эмоции, которые она пытается от меня спрятать, словно внезапно обрел способность заглянуть к ней под броню.
Словно приготовившись сказать нечто меняющее все и вся, Хэдли вздыхает, и я начинаю нервничать еще больше.
— У него есть ты, — улыбается она. — И Лейла.
При упоминании имени Лейлы внутри меня словно разгорается огонь. И я тут же вспоминаю о листке бумаги, спрятанном в моем кармане, — на нем то самое ее стихотворение. Она написала его мне. Кажется, это было в другой жизни. Я ношу его с собой повсюду, словно счастливую монетку в кошельке. Большинство дней я его даже не замечаю, но все равно знаю, что оно на месте.
Прошло четыре месяца, четыре долгих месяца, с тех пор как я видел Лейлу в больнице. С тех пор как оставил ее одну, бросив напоследок жалкое утешение: «Это не твоя вина». У меня даже не хватило мужества остаться и сказать эти слова Лейле лично. Я сбежал. Не мог видеть ее в таком состоянии. Настолько опустошенной. Не мог видеть результат собственных действий.
— Хэдли…
Черт. Я начинаю дрожать всем телом. К этому разговору я оказался совершенно не готов. Особенно к обсуждению Лейлы с Хэдли.
— Я… Если бы я мог все начать с…
— Мне хочется, чтобы с тобой все это случилось снова, — перебивает меня она, и, потрясенный, я встречаюсь с ней взглядом. — Ты влюблен. Я бы никогда не упрекнула тебя в этом.
Влюблен. Я влюблен в Лейлу Робинсон.
Из-за суматохи последних месяцев для разговора с Хэдли удобного случая так и не представилось. Ей приходилось довольствоваться слухами: почему мне пришлось уволиться и почему мы вернулись в Нью-Йорк — что не только из-за нее и лечения Ники.
У меня была связь со студенткой.
Я действительно влюбился в Лейлу, но Хэдли об этом никогда не говорил. И слышать эти слова из уст собственной жены оказалось странно. К этому чувству добавилось некоторое… облегчение. Которого я не испытывал уже очень давно.
— Надо было самому тебе рассказать, — хрипло говорю я. Мне хочется отвести взгляд, но не могу. Во время такого признания стоит смотреть в глаза.
— Да, — кивает Хэдли. — Но меня там не было.
— Надо было дождаться тебя. Нам с тобой… было о чем поговорить.
— Согласна, но, если честно, я не хотела. Не хотела осознавать все, с чем приходилось сталкиваться. Я… Я думала, что если уеду на несколько дней, то все наладится. Вот только этого не случилось. Во время отъезда я очень по тебе скучала, а когда вернулась, почувствовала себя еще хуже.
Слушать Хэдли мне сейчас непросто. Слушать, как я, по сути, заставил ее остаться со мной, и это сломало ее окончательно. Как она вынуждена была мне врать. Ведь она не ездила к Бет. Она просто-напросто сбежала от меня и жила в каком-то пригородном мотеле.
— Сьюзен… Это она мне рассказала. Постоянно твердила мне, что в семье проблема, но я никогда… Мне даже в голову никогда не приходило. И я почувствовала…
— Что именно? — не имея мужества удерживать зрительный контакт, я опускаю голову. — Облегчение, да?
Мне тоже стало легче, когда она ушла. Как будто больше не нужно было ходить вокруг нее на цыпочках и всячески щадить чувства. Не нужно было притворяться, будто между нами все хорошо. Я злился на Хэдли по многим причинам: что она скрывала от меня свою беременность и что перестала меня любить. И когда ушла, мне стало гораздо легче. Казалось, будто я снова мог дышать. И это радоваться этому ощущению было худшим из всего, что я когда-либо делал. Хуже измены. Хуже чем нарушить брачные клятвы.
Когда я снова смотрю на Хэдли, в ее глазах стоят слезы. Шмыгнув носом, она продолжает:
— Да. Как только я вышла за дверь, мне показалось, будто все будет хорошо. Будто больше не нужно наблюдать, как сильно я тебя мучаю. Будто больше не нужно вставать по утрам и просто находиться в том доме. Я больше не хотела оставаться в нашем доме ни на минуту. Я даже… на Николаса смотреть не хотела.
При звуке его имени наши с Хэдли руки одновременно вздрагивают, словно больше ничего нас вместе удержать не сможет, и если мы отпустим руки друг друга, все разрушится окончательно.
— И я подумала, что если смогу удержать в себе это ощущение еще хотя бы на день, то буду счастлива. И не буду чувствовать себя такой… подавленной. Каждый раз, когда наши с Ники взгляды встречались, мне казалось, что он осуждает меня и считает плохой матерью. Что не могу позаботиться о нем должным образом.
Мне хочется вытереть слезы Хэдли, но я не могу. Не могу отпустить ее руку.
— Его плач… — прикусив губу, видимо, чтобы не разреветься, продолжает Хэдли. — Его истерики и вопли… Красное лицо и сжатые кулачки. Господи, все это я просто не могла больше выносить. И постоянно спрашивала себя, ну почему он не перестает плакать? Пусть бы уже перестал. И в то же самое время меня ужасала мысль, что нужно взять его на руки и… успокоить.
— Что, если… Если бы у нас его никогда не было? Представь, — рассуждать на такую тему кажется кощунством: что единственно возможным способом предотвратить депрессию Хэдли было решение не рожать нашего сына. Как бы все повернулось, не уговори я ее оставить ребенка? Что было бы, не бойся я остаться одному, как мой отец, или не отпусти ее в ту ночь, когда Хэдли сказала, что хочет развестись?
Я перевожу взгляд на Ники. Забыв про одеяльце, он играет сейчас с пожарной машиной. В последнее время мой сын не перестает говорить — то есть что-то бормотать. Без конца болтая, Ники много ползает и смеется. Он жив и здоров. Терпеть не могу время, когда он спит, потому что в эти часы мне его не слышно. Не слышно, что он жив. Поэтому мне приходится прислушиваться к его дыханию или класть руку ему на грудь, чтобы свободно дышать самому.
Когда я поворачиваюсь к Хэдли, то замечаю, что она наблюдала за мной.
— Я бы ни на что его не променяла, — мягко говорит она, и я сразу жа расслабляюсь. — Своего сына я ни на что на свете не променяла бы.
— Знаешь, от матерей ожидается, что они должны заботиться о своих детях, — продолжает Хэдли. — Что ради детей они не будут спать по ночам, будут кормить их и баюкать. Поддерживать в них жизнь. Ничего подобного я никогда не делала. Более того: все перечисленное меня пугало, а наш сын этого даже не знал. Ники не понимал, насколько плохая ему досталась мать, которая даже смотреть на него не могла. Но он спас мне жизнь, Томас. Если бы он не… Сьюзен не пошла бы меня искать. Она решила бы, что я пошла спать, как обычно. И я бы умерла. А он, умирая, спас меня. Боже, что же я за мать?
На этот раз, рискнув разрушить наше единение, я обхватываю обеими руками лицо Хэдли и целую ее в лоб.
— Ты замечательная мать. Я в этом не сомневаюсь. Просто дай себе немного времени.
От непролитых слез у меня жжет глаза, и я запрокидываю голову, чтобы их остановить. Мне больше не хочется играть в эту игру с обвинениями Хэдли. Я устал. Устал чувствовать, будто мне нужно стараться удержать нас вместе, потому что это все равно невозможно.
Хэдли обязательно станет отличной мамой. Она ею уже становится. Держит на руках Ники. Даже время от времени укладывает его спать. Она все еще боится и ищет взглядом меня, когда Ники плачет или когда ему что-нибудь нужно. Но я знаю, что она обязательно привыкнет. Депрессия захватила ее почти полностью, но сейчас Хэдли становится лучше.
— Знаешь, что поддерживало во мне жизнь все эти месяцы? — спрашивает Хэдли и отходит на шаг. — Ты и твоя безоговорочная преданность. Твое упрямство возродить то, что практически исчезло. Ты любил меня, Томас, не смотря ни на что, и это придавало мне сил. Я была в состоянии открывать по утрам глаза, даже когда того не хотела. Ты же знаешь, мне не хотелось признавать, что я одна из них. У всех моих родственников была депрессия, пусть и в разных формах. Многие не смогли удержаться на работе. Мои сестры в разводе. Я не хотела стать такой же.
Через пару дней после происшествия мы узнали, что у Хэдли послеродовая депрессия. Классический пример, как нам сказали.
— Нет ничего плохого в том, с чем тебе пришлось столкнуться, Хэдли. Тебе нечего стыдиться.
— Да, я знаю. Знаю, — кивает она, а в глазах блестят слезы. — Но сначала мне нужно постараться простить саму себя. Раньше я не могла прикоснуться к Николасу, потому что не знала, как. Я боялась, а иногда… не чувствовала вообще ничего. Сейчас все иначе. Я чувствую — и так много всего. Люблю его всем сердцем. Знаешь, я никогда не думала, что бывает такая любовь. Поэтому когда хочу взять его на руки сейчас, я тоже не могу. Из-за того, что натворила. Из-за того, что чуть было не случилось.
— Хэдли…
— Нет, ничего не говори, — с усилием сглотнув, говорит Хэдли. — Я не могу так поступить — ни к тобой, ни с ним. Сначала мне нужно разобраться в себе и понять, что со мной будет. Разве я могу просто взять и вернуться после всего произошедшего? Ведь я чуть не убила собственного ребенка.
— Ты не виновата. Всему виной твоя депрессия. Это болезнь. А случившееся — несчастный случай.
— Да. Но я больше не больна, а в голове снова порядок. Настало время поступить правильно, — Хэдли снова сжимает мою руку. — Ты тоже должен поступить правильно. Все эти месяцы ты был рядом ради меня. Но теперь подумай о себе. И о ней. О Лейле.
Моя кровь откликается на звук ее имени неистовым бурлением. Я ощущаю приливную волну боли и с трудом держу собственные эмоции под контролем.
— С ней все нормально, — сквозь зубы произношу я. Отпустив руку Хэдли, я откидываюсь на спинку стула. Прикасаться к ней во время мыслей о Лейле кажется чем-то неправильным. Хотя это такая малость по сравнению со всем, что я натворил.
— На самом деле, нет.
Я резко выпрямляюсь.
— Что с ней?
Помолчав немного, Хэдли отвечает:
— Я хочу, чтобы ты перестал себя наказывать.
Открыв было рот, чтобы ответить, что ничего подобного я не делаю, произношу в итоге совершенно другие слова.
— Я не знаю, что еще делать. Я и так натворил столько всего, чем не могу гордиться. Предал тебя. Нарушил все обещания, которые дал… Но что еще хуже… — говорю я и с усилием сглатываю несколько раз, безуспешно пытаясь сдержать слова и эмоции, которые будто не хотят больше оставаться в тени.
— Она сказала… Лейла сказала, что сожалеет обо всем, что между нами было. Но я не виню ее за это, — проведя рукой по лицу, добавляю я. — Я плохо с ней обращался. Ради ее же блага. И сделал ей больно много раз.
Когда Лейла упала с лестницы, я внезапно понял, что люблю ее. Что всегда ее любил. А она лежала на полу без сознания — и полностью по моей вине.
— Тогда тебе нужно просто взять и все наладить.
— Не могу. Без меня ей будет лучше.
— Говорю же тебе: это не так.
— Что ты имеешь в виду?
— Я виделась с ней.
— Что? Когда? — в этот момент страница блокнота со стихотворением Лейлы даже на расстоянии ощущается чем-то тяжелым и огромным.
— Сегодня, — в ответ на мое недоумение Хэдли поясняет: — Мне не нужно было ко врачу. Я соврала. Когда ты высадил меня из машины, я на поезде поехала в ее колледж. Лейла учится в местном колледже.
— Она… — на мгновение я теряю способность говорить. — Она в Нью-Йорке?
— Да. Я попросила Джека разузнать, и кто-то ему все рассказал. Что Лейла в Нью-Йорке. Посещает летние занятия, чтобы наверстать пропущенное в прошлом семестре.
Она здесь. Где-то среди миллионов горожан живет и эта девушка с фиолетовыми глазами, о которой я боюсь даже мечтать. Но я все равно предаюсь мечтам. Иногда мне снится запах ее кожи и приглушенный смех. Там, под закрытыми веками, я и храню ее образ. В любое другое время суток думать о Лейле я не смею. Просто не могу. После всего, что наговорил ей, у меня нет на это права. Ведь после того, как взял ее на руки после падения и, передав медикам, я ушел, словно трус. Однажды я пообещал ей, что не уйду, не попрощавшись, но в итоге сделал именно это.
— Но когда ты… И как…
— Увидев меня, она была потрясена. Несколько минут словно двигаться не могла. И, казалось, готовилась к чему-то. Будто я брошусь на нее, или случится что-то подобное. Я сделала вид, будто наша встреча случайна, и все ей рассказала.
— Что рассказала?
— Что в произошедшем ее вины нет.
Я вздрагиваю, словно от выстрела. В ушах звенит. «Мои родные умирают, потому что ты в меня влюбилась». Я то и дело вспоминаю свои слова: могу сколько угодно быть чем-то занят, как вдруг они начинают звучать в моей голове раздражающе громко. Эти слова — мои демоны, но есть и другие: пустой взгляд моего сына, смех Лейлы, собственная жестокость, хрупкое тело Хэдли, лежащей на больничной койке. Демонов у меня стало так много, что я больше не ощущаю себя человеком.
— Лейла обвиняет во всем себя, да? — спрашивает Хэдли.
— Поэтому я и не могу с ней видеться. Пусть живет своей жизнью, ей это необходимо. А со временем она меня забудет.
— А ты? Забудешь ее?
— Не могу.
— Тогда почему решил, будто она сможет?
— Она еще очень молода, Хэдли. А мне нужно думать о Ники. Я не могу… Не могу попросить ее…
Я даже не в состоянии произнести это вслух. Как я могу попросить Лейлу… заботиться о Ники? И в качестве кого? Мачехи? Я не могу взваливать на нее подобную ношу.
— Мы с тобой оба знаем, что Лейла любит Ники. И, вероятно, она способна позаботиться о нем куда лучше меня.
Проведя руками по волосам, я с силой тяну за пряди. Я это знаю. Знаю, но…
— Я сделал ей много плохого, — наконец отвечаю я. — И не… Не думаю, что Лейла сможет меня простить.
— Тогда тебе стоит воспользоваться шансом и узнать точно, — Хэдли кладет руку мне на щеку и мягко поглаживает. — Не надо сдерживаться только потому, что боишься.
Подобные слова я слышал бесчисленное множество раз. Наверное, и сам часто говорил их другим. Но в моей душе они никогда отклика не давали. До этого момента я в них никогда толком не вслушивался. Говорят, в определенные моменты человеку нужно услышать нечто важное, что на него повлияет. Например, чтобы по-настоящему оценить книгу, ее стоит прочитать в определенном возрасте.
Возможно, с этими словами дела обстоят так же.
Кажется, Хэдли почувствовала происходящие во мне перемены чуть раньше, чем я понял это сам.
— Томас, она похожа на тебя. Такая же сильная и умная. И любит тебя.
Впервые за несколько месяцев я не сдерживаюсь и даю пролиться слезам.
— Ты правда так думаешь?
— Да. И у нее есть то же, что и у тебя.
— О чем ты?
— Я про внутренний огонь, — кивая, отвечает Хэдли. — Внутри нее горит тот же огонь, что и в тебе.
Я вспоминаю Лейлу и ее улыбку, ее волосы цвета воронова крыла и фиолетовые глаза. Ее гладкую светлую кожу. Тонкие руки, которыми она меня обнимала. Тату. Смех. Ее мужество. Ее слова. «Мы родственные души, Томас». «Ты как моя любимая песня». «Ты должен высказываться, Томас. Так жить никому не стоит». «Сдерживаешься изо всех сил». «Ты напоминаешь мне какое-то огнедышащее существо».
Лейла Робинсон. Это она Огнедышащая.
Моя Огнедышащая.
ЧАСТЬ ПЯТАЯ ПОПРАВШИЙ ПРАВИЛА
ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ПЕРВАЯ
Здесь мы не садимся в круг, хотя занимаемся критическим разбором. Преподаватель никого не оскорбляет и не комментирует чудовищный выбор слов. Он с нами не груб, не придирчив и не высокомерен.
Но и не гений.
Впрочем, он мне нравится. Хороший учитель, готов поддержать добрым словом. «Нравится» — это максимум, что нужно чувствовать по отношению к тому, кто тебя учит. Что-либо другое… что-то приближенное к любви или даже ненависти… Нет. Таким чувствам я говорю одно большое «Нет». Это только все усложняет.
Так что я довольна своим новым профессором. Он не Томас Абрамс. Но это хорошо. Мне бы не хотелось ходить к преподавателю, хоть в чем-то похожему на него. Я не хочу снова сталкиваться со всем тем, через что прошла с Томасом. И не хочу повторять все дурное, что совершила.
«Мои родные умирают, потому что ты в меня влюбилась».
«Это не твоя вина».
Последняя фраза Томаса преследует меня повсюду и расстраивает. Слова громко звучат в моей голове и заставляют биться сильнее чуть было не ставшее безразличным сердце. Мне хочется прибежать к Томасу, как следует встряхнуть и потребовать ответы на все мои вопросы. Например, все-таки я всему виной или нет?
Но лучше все оставить как есть. Я не хочу искать Томаса и требовать ответы. Мне не хочется настолько зависеть от него — как и от кого-то другого.
Доктор Апостолос говорит, что мы сами знаем ответы на свои вопросы. Просто нужно как следует поискать, а для этого стоит начать любить себя. «Люби себя, и другие последуют твоему примеру».
Она мой психотерапевт — настоящий, в отличие от Кары. С ней я познакомилась в реабилитационном молодежном центре в Нью-Джерси, после того как обо всем рассказала маме и декану.
Я убедила всех, что во всем виновата сама. Что преследовала Томаса. Подглядывала за ним и ходила к нему домой. Я даже показала им свою тату. Ага, встала прямо посреди больничной палаты и в присутствии множества людей задрала рубашку. От отсутствия у меня стыда они поморщились. Иногда слыть сумасшедшей имеет ряд преимуществ, потому что делу ход не дали, а меня всего лишь отчислили. Томас на тот момент уже уволился сам.
Ну и ладно. Я все равно не собиралась продолжать там учиться.
Впрочем, мама заявила, что с нее хватит, и отправила меня в этот колледж. Я не протестовала. Идти мне все равно некуда. Дома у меня больше нет — как и сил сделать все возможное, чтобы он у меня появился. Поэтому на те тридцать дней моим домом стал реабилитационный центр.
Доктор Апостолос была ко мне чрезвычайно добра. Ни разу не осудила, слушала, не перебивая, и только подавала салфетки, когда однажды я проревела всю встречу. И все ей рассказала. Про Томаса, про наши отношения, про Ники. Про Хэдли и то, что у нее послеродовая депрессия. Эту информацию я узнала от Эммы, когда та позвонила мне в самом начале моего пребывания в центре. На эту тему начали ходить слухи, и Эмма хотела, чтобы я была в курсе. Мы с ней по-прежнему дружим, хотя она и расстроилась, что я не рассказала ей про Томаса.
Обо всем этом я рассказала своему психотерапевту. Та ответила, что я никак не могу быть причиной послеродовой депрессии. Более того — чтобы достичь точки принятия решения о самоубийстве, требуется немало времени и достаточно долгое течение болезни. Так что в этом моей вины нет. Не я навлекла эту беду на их дом.
Я и сама это знаю. Слышала миллион раз и изучила про депрессию массу информации. Вот только сама не понимаю, почему не верю в собственную невиновность.
Хотя все равно стараюсь сосредоточиться на любви к себе. «Люби себя, и другие последуют твоему примеру».
Только что закончился урок писательского мастерства, и я спускаюсь по каменным ступеням здания. Они ведут прямо к тротуару, где всегда оживленно — это ведь Нью-Йорк. Большой, шумный и многолюдный. Тут все куда-то спешат и у всех есть дела. Мне нравится. В этом городе мне нравится все.
На моих губах появляется улыбка и почти сразу же исчезает. Воздух внезапно нагревается. Становится жарко. И причина тому может быть только одна: Томас.
Он здесь. Несмотря на толпу людей, я его сразу же замечаю. Томас стоит на углу здания, у перекрестка, где сейчас светофор показывает красный, и наблюдает за мной. Он словно знал, что я появлюсь именно в этот момент.
Возможно, ему рассказала обо мне приходившая вчера Хэдли.
Честно говоря, его появление я ждала. Хотя не знаю, зачем он здесь. Еще я понятия не имею, зачем ко мне приходила Хэдли — возникнув из ниоткуда, словно призрак, и напугав меня до смерти. Пока она без остановки говорила о том ужасном дне, я лишь стояла и смотрела на нее. Хэдли рассказала, как сдалась и приняла решение. И что я к этому не имела никакого отношения. Она произнесла эту фразу не меньше пяти раз, повторив уже сказанное мне доктором Апостолос.
В течение всего нашего разговора я не могла отвести от Хэдли взгляд. Она выглядела такой красивой и… выздоровевшей. Ослепительной. Мне не весело признаваться, что я сравнивала ее какую-то неземную красоту со своей мирской, но ничего не смогла с собой поделать. Когда Хэдли извинилась, что сделала мне больно, я только фыркнула. Она приносила мне извинения, в то время как преступницей была я.
Сделав глубокий вдох и убрав от лица взъерошенные ветром волосы, я поправляю топ и клетчатую юбку.
Не в силах больше выносить это ожидание, я подхожу к Томасу сама. Он всматривается в меня своими голубыми глазами, от которых внутри по-прежнему разгорается огонь, а по коже бегают мурашки. Такое ощущение, будто солнце сейчас светит персонально для меня. Покалывает кожу головы, шеи, спины и заднюю сторону бедер. Везде, по всему телу.
Его глаза по-прежнему красивые, но уставшие. Томас немного похудел и осунулся. Темные густые волосы падают на лоб и касаются плеч. Похоже, он давно не брился. И не спал.
Как будто давно не жил.
Когда я останавливаюсь в нескольких шагах от него, безумие города словно стихает, и воцаряется тишина, которую Томас решается нарушить:
— Как твои дела?
— Хорошо, — запнувшись, отвечаю я.
Фигура Томаса возвышается надо мной; он такой большой, что я не могу его игнорировать. Не могу не обращать внимания на его лицо, широкую грудь и то, что на нем сейчас белая рубашка и синие джинсы.
Я вспоминаю, как увидела его в первый раз — сидящим на скамье. Потом в книжном магазине и в аудитории. Несмотря на то, что Томас всегда был сдержанным, я знала, что внутри он полон гнева и разочарования. Напряженная поза всегда его выдавала. Еще Томаса всегда отличало некоторое высокомерие. Он знал, что лучше всех, и ненавидел это знание. Ненавидел, что его страсть к словам уничтожила страсть к жене.
Но сейчас ничего этого нет. Никакой страсти. Только отчаяние и безысходность.
Открыв было рот, чтобы что-то сказать, Томас словно пересматривает свое решение. Окидывает взглядом мою фиолетовую сумку на плече и прижатый к груди блокнот.
— Я… Ты ходишь на уроки поэзии?
— Я ненавижу поэзию.
— И правда что, — кивает он и потирает затылок.
Так странно видеть его неуверенным в себе. Я почти хочу избавить его от страданий. Почти хочу разрушить выросшую между нами неловкость и стать человеком, с которым разговаривать легко и просто. Но такой я становиться не хочу и не буду.
Не хочу.
И не буду.
— Как Ники? — выпаливаю я, как в старые добрые времена.
Черт! Ну и слабачка же я. Слишком мягкотелая.
Но в свою защиту хочу заметить, что мне и вправду интересно, как дела у малыша. Я скучаю по нему. Скучаю по его смеху и любви к фиолетовому цвету. Это глупо, да? Ники ведь не мой. Как и Томас.
— В порядке. Даже отлично, — на губах у Томаса появляется легкая улыбка. — Ники начинает говорить. Уверен, на днях он сказал «Папа».
— Да неужели? — несмотря на собственное нежелание, я улыбаюсь. А когда Томас отвечает тем же, я возвращаю ему его же слова, сказанные давным-давно: — А ты уверен, что это не два случайно взятых и соединенных между собой слога?
Улыбка Томаса меркнет, и он с усилием сглатывает. На лице появляется выражение то ли раскаяния, то ли еще чего-то подобного, но я заставляю себя отвести взгляд.
А потом меня кто-то толкает, а я, в свою очередь практически падаю на Томаса. Он обнимает меня и прижимает к своей груди. Господи, звучит и выглядит страшно банально. Как в каком-то кино. Поверить не могу, что это случилось со мной.
Я стараюсь не вдыхать его запах, но трудно устоять, когда мы стоим так близко. Дышать же приходится все равно, поэтому мои легкие наполняет аромат шоколада. Надежно спрятав этот подарок в закоулках памяти, чтобы насладиться им, когда окажусь в квартире Калеба одна, я разрываю объятия и отпрыгиваю в сторону. Напоминание об этом дурацком шоколаде мне сейчас совсем некстати.
Зато в этот раз отвести взгляд мне не удается, и я вижу раскаяние Томаса. Оно наполняет его взгляд, острый и проникающий прямо в мое сумасшедшее сердце.
Я наклоняюсь поднять разлетевшиеся по раскаленному тротуару блокнот и вложенные в него бумаги. Но Томас умудряется меня опередить, и, поглядывая на его длинные пальцы, к которым всегда проявляла повышенный интерес, я наблюдаю, как он собирает страницы. Глядя на вены на тыльной стороне ладони Томаса, я хочу спросить его: «Ты по-прежнему ничего не пишешь?». Очень хочу, но не буду.
Я смотрю, как Томас совершает самое обыденное действо и выглядит при этом необычно и даже экстраординарно. В его облике как будто не хватает чего-то привычного. У меня перехватывает дыхание. На безымянном пальце нет кольца.
Томас никогда его не снимал. Никогда. Без кольца я ни разу его не видела. Он словно везде был вместе с Хэдли. Даже когда мы… занимались сексом, я всегда ощущала прикосновение металла на коже талии, бедер, рук. Повсюду. Это ощущение постоянно давало мне понять, насколько ненормально происходящее между нами. Что Томас не мой и никогда моим не станет. Прямо сейчас воспоминания становятся настолько яркими, что я почти физически чувствую его кольцо.
Я резко выпрямляюсь. Словно почувствовав перемену в моем настроении, Томас тоже быстро встает. Я же не могу перестать таращиться на его… обнаженную руку.
— Ты не…
Он смотрит на свою ладонь, будто видит ее впервые. Повисает молчание. Держа мой блокнот в одной руке, пальцами другой Томас проводит по отпечатку от обручального кольца. Облегчение он чувствует или сожаление, мне не понятно.
— Мы с Хэдли разводимся.
— Из-за меня? — выпаливаю я, прежде чем успеваю себя остановить, и непроизвольно съеживаюсь. Мысленно напоминаю себе, что сейчас я не имею к ним обоим никакого отношения. И для их семьи ничего не значу. Когда, притворяясь, будто встреча была совершенно случайной, ко мне вчера пришла Хэдли, я ничего ей не сказала. Не спросила ни о Томасе, ни о Ники. Но она и так все про меня знает, верно? Потому и попыталась снять с меня груз ответственности.
Господи, неужели я снова все испортила?
Должно быть, заметив мое расстройство, Томас делает шаг ко мне и протягивает руку, но я тут же отхожу в сторону. Он морщится.
— Нет, не из-за тебя. Нам давно надо было развестись. К тебе это не имеет никакого отношения, — проведя рукой по своим волосам, отвечает Томас. — Я сам виноват. Слишком крепко держался за ускользающее.
Интересно, такое возможно — часто дышать, при этом остро ощущать нехватку воздуха? Потому что, кажется, со мной сейчас именно это и происходит. Томас вернул мне мои же слова — с такой серьезностью и покорностью судьбе. Это… шокирует. Я никак не ожидала, что он вообще их запомнит, не то что произнесет.
Мне нужно перестать торопиться с выводами. «Люби себя, и другие последуют твоему примеру».
Я убираю от лица вечно лезущие непослушные пряди и понимаю, что этот незначительный жест не остался незамеченным. Более того: Томас все это время не сводил с меня глаз. Что он пытается обнаружить? Вряд ли в этом есть толк.
— Понятно. Ясно. М-мне очень жаль, — неуверенно произношу я и разглядываю облупившийся лак на ногах, обутых в шлепанцы. — Я знаю, что ты ее… любишь.
— До сих пор люблю, — с грустной улыбкой добавляет Томас. — И думаю, что буду любить всегда. Но подобная любовь не может удержать людей вместе. Это уже не столько любовь, сколько благоговение, которое в дальнейшем будет только пугать и станет обузой.
Мне хочется спросить, что же будет с Ники? Развод — это ужасно. Посмотрите, как на мне сказались многочисленные разводы матери. С другой стороны, без любви жить вместе тоже плохо.
Так что, возможно, все к лучшему.
— Я понимаю, — киваю я и не могу удержаться от того, чтобы не добавить: — Ты выглядишь… просто жутко.
В ответ на его громкий смешок у меня в животе начинают порхать бабочки, но я умудряюсь подавить это чувство. Бабочки сейчас совершенно ни к чему.
— Мне пора. Надо домой. Так что я пойду.
Но прежде, чем я успеваю развернуться и уйти, Томас говорит:
— Прости, что оставил тебя, не попрощавшись.
— Не попрощавшись, да, — неловко пожав плечами, повторяю за ним я. — Но ведь ты ненавидел меня. Так что ничего мне не должен.
В этот момент солнечные лучи особенно ярко подчеркивают мученическое выражение его лица. Томас словно тень самого себя в прошлом.
— Я не ненавидел тебя. И не ненавижу, — он с силой сжимает челюсть, но я знаю, что причина тому не гнев, а попытка взять эмоции под контроль.
Он не испытывает ко мне ненависти.
Это признание должно было заставить меня ощутить облегчение или хотя бы желание улыбнуться. Но по моим щекам текут слезы — слезы, заранее почувствовать которые я не успела.
Сделав шаг ко мне, Томас резко останавливается и качает головой, молча говоря мне не плакать. Он несколько раз сжимает и разжимает руки в кулаки. Я знаю, он жаждет ко мне прикоснуться, но не позволю ему этого.
— Знаешь, Томас, это даже хуже, — с трудом переводя дыхание, говорю я. — Потому что если ты меня не ненавидишь, тогда это означает, что… — я не могу произнести слово «любишь». Ни сейчас, ни когда-либо еще, — испытываешь какое-то чувство противоположное ненависти. А если это так, почему ты не пришел ко мне раньше? Почему не позвонил и не сказал, что в тебе нет ненависти? Недели напролет я считала, что ты терпеть меня не можешь и что я разрушила всю твою жизнь. Думала, что из-за меня ты теперь не будешь счастлив. Все говорили, что я ошибаюсь и не могу быть причиной, но я не верила. Не верю до сих пор. Потому что как тогда ты мог так со мной поступить — с человеком, ненависть к которому не испытываешь? Как мог позволить нести на своих плечах подобную ношу?
Не знаю, как долго я вынашивала эти слова и долго ли могу продолжать, прежде чем упаду на тротуар и зарыдаю. Слезы течь не перестают, и я чувствую, что вот-вот начну всхлипывать.
Наверное, я снова веду себя как эгоистка. Ведь у Томаса для меня явно не было времени. Он заботился о Хэдли и сыне. Наверное, мне стоит не навешивать на него ответственность за себя, но остановиться я не могу. И не хочу. Любить себя значит бороться за себя и свое душевное равновесие. Поэтому да, я буду сражаться. Мученицей вряд ли стану, хотя чувство вины сочится из меня слезами и потом.
— Я уверен, что ты не поступила бы так с человеком, ненависти к которому не испытываешь, — шепотом произносит Томас, и я ошарашенно замечаю, что у него покраснели глаза и вот-вот прольются слезы. Нет, конечно же, он человек, поэтому может плакать. Но быть тому свидетелем… Это лишает остатка сил. Мне кажется, я сейчас рухну на землю.
— Т-тогда почему ты так себя повел?
— Потому что с тобой все непривычно и ново. У меня такое чувство, что еще никогда и никого я не ненавидел.
В ответ на его намеренный повтор моих слов я усмехаюсь. Но Томас не смеется.
— И как будто не испытывал вообще никаких чувств. Знаешь, как это страшно? — покачав головой, Томас сам отвечает на свой вопрос: — Очень страшно. Мне столько всего хочется тебе сказать, но в итоге я молчу. Так сильно боюсь сделать неверный шаг, что не двигаюсь с места. Я и сам не понимаю, почему это так. Не знаю, почему продолжаю все портить, когда речь заходит о тебе. Но единственное, о чем могу с уверенностью сказать, это благодаря тебе я понял, что… никогда раньше не дышал. И никогда не жил.
Слышать в его словах собственные мысли немного жутко. Ведь Томас и в самом деле выглядит не живущим полной жизнью человеком.
Мы родственные души, — шепчет мое сердце.
Заткнись, глупое. Мы больше не позволяем себе подобных мыслей.
В воздухе витает пугающая серьезность, которую мне выдержать трудно.
— Что ж, это было… очень поэтично.
Словно смутившись, Томас засовывает руки в карманы.
— Ты пробуждаешь во мне слова.
В памяти всплывают воспоминания о былых временах, но за них трудно ухватиться. Почему у меня такое ощущение, будто я уже это слышала? И почему при этом наш разговор грустный и не дает никаких надежд? Может, потому, что произошло очень много всего, и будь его слова правдой, они все равно ничего бы не изменили?
— Я не знаю, с твоим признанием, — говорю я, решив быть откровенной.
— Я буду ждать.
— Чего именно?
— Момента, когда ты решишь, что с ним делать.
— Это… — я качаю головой. — Ты не можешь просто взять и ждать.
— Почему нет? Конечно могу.
— А что, если я никогда так и не пойму?
— Тогда я просто продолжу ждать.
— Безумие какое-то, — с усмешкой замечаю я. — Это… похоже на сюжет книги.
И тут мое сердце все понимает. Слова Томаса похожи на слова автора «Фрагментов речи влюбленного», Ролана Барта. Эту книгу я стащила у Томаса сто лет назад, и она до сих пор лежит в ящике моего стола.
— Влюбленный — это тот, кто ждет, — перефразируя цитату, говорит Томас. — Поэтому я буду ждать. Сколько угодно.
ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ВТОРАЯ Бард
В течение нескольких месяцев после развода и оформления опеки над Ники я много размышлял над тем, что значит храбрость. Это значит отсутствие страха? Неуязвимость?
Но потом понял, что уже знаю определение этого понятия, поскольку отсутствие страха видел своими глазами. Мой отец был храбрым человеком. Заявление странное и излишне громкое, но это правда. Всю свою жизнь я считал его слабаком и не настоящим поэтом и делал все возможное, чтобы не стать на него похожим. Но вышло так, что отец оказался куда смелее меня.
Храбрость — это взять ручку и начать писать. Храбрость — это выцарапать из себя, изнутри, слова, а потом выжечь их на странице, чтобы сохранить их там. Храбрость — знать, что их никто и никогда не прочитает. Что это искусство, которое навсегда останется где-то в прошлом. Вклад в мир, судьба которому быть непознанным. Храбрость — знать об этом, но все равно продолжать делать.
Как продолжал мой отец. Он писал для себя. Не заботясь о наградах и признании. Да, хорошим отцом он не был, но по своей храбрости меня превзошел. А я так сильно старался не совершать ошибки, что забыл о собственном потенциале.
Я снова начал писать. Стихи. Это всегда были стихи. Благодаря им я могу самовыражаться. Они — голос моей души. Так было с «Анестезией». Сборник стал признанием моего одиночества, хотя в то время мы с Хэдли еще были вместе.
В последнее время я работал над стихами про Ники. Они помогали принимать все произошедшее. Где сейчас Хэдли, я не знаю. Она ушла, как и говорила. Хочется верить, что она нашла спокойствие и умиротворение, которые искала. Может, однажды вернется, и Ники заново с ней познакомится. А пока я буду рассказывать сыну истории о его маме.
Ники растет очень быстро. Он уже ходит. Много смеется, играет. Любимые игрушки по-прежнему сменяют одна другую каждую неделю. Прошлого для Ники не существует. Он не помнит, как лежал в больнице и как едва не умер.
Но я — помню. Эти воспоминания не дают мне спать по ночам. Постоянно проверяя, все ли в порядке с Ники, я чаще в итоге сплю рядом с его кроваткой на полу. Ну и пусть. Так я чувствую, что все под контролем.
Всякий раз, когда вижу, как Ники неуверенно переставляет ножки, я смотрю на свои ноги. Шевелю пальцами, чтобы понять механику ходьбы. И бывают моменты, когда каждый мой шаг ощущается как первый. Бывают моменты, когда я с изумлением смотрю на мир глазами Ники.
И все время прихожу к одному и тому же выводу: что храбрость — это не отсутствие страха, а способность делать что-то, несмотря на риск потерпеть неудачу. Как, например, создать произведение искусства, зная, что людям оно может не понравиться.
Храбрость — это как влюбленность. Не знаешь, ответит ли тебе человек взаимностью, но все равно влюбляешься.
Храбрость — это ждать мою Лейлу. Я не мог попросить ее любить меня в ответ. Это было бы нечестно. Она и так дала мне слишком много, а взамен я лишь причинял ей боль.
Поэтому пообещав Лейле ждать, с тех пор я верен своему слову. Осень тем временем прошла, и наступила зима.
Вместе с зимой бесконечно длятся дни, когда мы встречаемся после ее занятий, и я постоянно замечаю, как она сторонится меня. Поначалу Лейла даже не позволяла к ней прикоснуться. Мы ходили в кафе, что неподалеку, сидели на приличном расстоянии друг от друга, и я просто пялился на нее — просто не знал, что еще делать. Лейла же смотрела куда угодно, только не на меня. Она играла с Ники, дарила ему шапки, смеялась вместе с ним, учила новым словам. А я не знал, на что решиться: хохотать над ее выходками или умолять о любви.
Каждый день я наблюдаю, как Лейла от меня уходит — то на занятия, то просто по каким-то делам. За бесконечными днями следуют бесконечный ночи, когда я думаю о ней, а потом, не выдержав, звоню. Какое-то время она игнорировала мои звонки, как вдруг однажды взяла трубку, но разговор получился скомканным. Потребовалось все мое терпение, чтобы через несколько дней Лейла начала оттаивать, и до меня наконец дошло, как трудно ей было, когда я отказывался открываться и разговаривать.
Мы ведем бесконечные беседы о Ники, о книгах и многом другом, о чем я даже не подозревал, что хочу поговорить. Я даже не знал, что у меня найдется так много слов.
И до тех пор, пока в моей жизни не появилась Лейла, не знал, что могу кого-то ждать.
Сейчас почти полночь, и Лейла позвонила сообщить, что скоро придет. Я попытался ее отговорить — так поздно ехать на метро до Бруклина может быть небезопасно, и лучше бы мне приехать к ней самому. Но она только рассмеялась и сказала, что полночные улицы — ее лучшие друзья.
Раздается стук в дверь, и я спешу открыть. Лейла стоит на пороге с такой широкой улыбкой на лице, что мне приходится схватиться за дверную ручку покрепче, чтобы не упасть. Ее красота словно взрыв, словно вспышка — внезапная и резкая. Мигом лишает меня остатков мыслей и способности дышать. Иногда мне приходится прижимать ладонь к своей груди, чтобы успокоить рвущееся наружу сердце.
— Я закончила! — подпрыгивая на ходу, Лейла входит в мою мрачную двухкомнатную квартиру. У меня тут книг больше, чем мебели, но Лейле все равно. Стены выкрашены в фиолетовый, поскольку она считает, что белый — это скучно, и ходила со мной подбирать краску.
— Что закончила? — закрыв дверь, я иду за Лейлой и смотрю, как она снимает с себя шубу, свитер, шапку, шарф и перчатки. Потом складывает все вещи горой на журнальный столик, и мне приходится прикусить щеку изнутри, чтобы не рассмеяться.
— Ну что? На улице адски холодно, — бросив на меня недовольный взгляд, заявляет Лейла.
— Конечно, мы ведь за окном Антарктида.
— Очень смешно, — закатив глаза, отвечает она, а мне кажется, что я могу поцеловать ее даже на расстоянии.
Достав из смешного девчачьего фиолетового рюкзака меховую шапку, Лейла идет в спальню, где спит Ники. Я иду за ней. Потому что следую за ней повсюду. Лейла на цыпочках подходит к кроватке, улыбается и радостно вздыхает, положив руку себе на грудь. Мне хочется рассмеяться от ее театрального жеста, но я сдерживаюсь. Сам не понимаю, почему допустил хотя бы на секунду, что Лейла может не полюбить Ники или что он станет для нее непосильной ношей. Она любит его. Об этом говорят всякие мелочи — что она постоянно приносит ему шапки или что никогда не забывает пожелать ему спокойной ночи по телефону.
Лейла кладет шапку — на этот раз мандаринового цвета — рядом с Ники и, вернувшись в гостиную, останавливается напротив меня. Ее улыбка сияет.
На Лейле короткая юбка, и несмотря на очень плотные колготки, мне хорошо видны изгибы бедер и икр. Я помню, как снимал с нее детали одежды — одну за другой. И помню так живо, что пальцы ноют от желания повторить.
— Томас, — тяжело дыша, начинает она. Я никогда не говорил этого вслух, но мне нравится, как Лейла произносит мое имя. Так никто до нее не делал. Она словно всякий раз изобретает меня заново. Магия какая-то. При том что сама Лейла любит говорить, будто магию творю именно я.
Вид вздымающейся груди Лейлы находит отклик у меня в паху. Мне приходится откашляться, прежде чем спросить:
— Так что ты закончила?
Она с усилием сглатывает и выглядит немного ошарашенной.
— Свою историю.
Лейла написала новеллу, которую до сих пор мне не показывала. Она даже не говорила о ней, не обсуждала со мной детали сюжета, как раньше, когда была моей студенткой. Эта дистанция между нами ранит, но я терплю. В отличие от меня, Лейла любит вести несколько проектов сразу и работать над несколькими историями.
Когда она наклоняется над рюкзаком, чтобы достать что-то из него, моему взгляду предстает верх ее груди, и я тут же смотрю в потолок. Чувствую себя конченым извращенцем. Только Лейле под силу заставить меня чувствовать себя молодым и стариком одновременно.
— Вот.
При взгляде на блокнот в ее протянутой руке все мои неуместные мысли вмиг улетучиваются.
— Что это?
— Я хочу, чтобы ты прочитал, — шепотом говорит Лейла.
Застенчивая и неуверенная, она смотрит на меня из-под опущенных ресниц. Обеспокоенно потирает одну ногу об другую. Лейла сейчас выглядит невозможно молодо. Мне кажется, что если я прикоснусь к ней, то запятнаю ее чистоту своими искушенными и циничными пальцами.
Лейла не просто дает мне прочитать написанную историю. Она дарит мне свое сердце.
В последнее время я много думаю о ее сердце. Оно большое и неистовое, нежное и сияющее. Оно как звезда или луна, или все чертово небо. И все это Лейла дарит мне. Она дарит мне небо.
А вот и он. Все к тому и шло. Давно знакомый страх снова дает о себе знать. Я физически ощущаю, как в груди стало тесно.
Но мне удается справиться. Преодолев страх и тревогу, я делаю шаг к Лейле — к единственному человеку, который мне нужен.
— О чем эта история?
— О том, как мы влюбляемся, — опустив руку, Лейла делает несколько шагов назад. Я бы остался на месте, но по сияющим фиолетовым глазам понимаю, что она хочет, чтобы подошел ближе. Дойдя до стены, Лейла расслабляется и опирается на нее, будто утонув. У меня тоже чувство, будто я утонул — в ней самой, когда остановился в считанных сантиметрах.
Как только наши тела соприкасаются, я издаю громкий стон и упираюсь руками в стену по обе стороны от головы Лейлы.
— И как она называется?
— «Поправший правила», — ее голос почему-то звучит глухо, как обычно бывает, когда она спросонок звонит мне рассказать свой сон про Ники или меня.
— Вот, значит, как? — мой голос становится точно таким же. У меня такое чувство, будто благодаря Лейле мое сердце вновь заработало после нескольких месяцев комы.
— Да, — кивнув, отвечает она. — Наша история любви не сказать что красивая.
— Согласен.
— Мы нарушили слишком много правил, и мне это не нравится.
— Мне тоже.
— Но это наша история.
— Да.
На дрожащих губах Лейлы появляется неуверенная улыбка, к которой мне хочется прикоснуться поцелуем, но я сдерживаюсь.
— С чего начинается твоя новелла? — она отводит взгляд, но я все равно успеваю его поймать. На щеках Лейлы выступает румянец, и я чувствую, что и меня самого бросает в жар. — С чего она начинается, Лейла?
— С той ночи, когда я увидела тебя на скамье под деревом — у которого весной белые цветы.
Я ошарашенно облизываю губы. Никак не ожидал услышать это. Под этим деревом я когда-то сделал предложение Хэдли.
«Мы родственные души, Томас».
До сих пор я в это не верил. Или верил, но никогда не находил сколько-нибудь явные доказательства. Я сильнее прижимаюсь всем телом к Лейле, и у нее перехватывает дыхание.
— Да, я знаю это место, — дрожащим голосом отвечаю я.
— В общем, все начинается с того момента, когда я вижу тебя — такого же одинокого, какой была сама. И решаю, что тебе нужен друг.
— А потом ты обнаруживаешь, что я сволочь.
Лейла прикусывает губу, чтобы не улыбнуться, но в глазах пляшут бесенята.
— Да. А потом ты меня целуешь.
На этот раз удержаться я не могу и прижимаюсь к ней низом живота. Лейла тихо всхлипывает. Даже сквозь множество слоев одежды я чувствую, какая она горячая. Наши тела возбуждены и готовы. Они лишь ждут, когда то же самое поймут наши сердца.
— Что происходит, когда я тебя целую?
— Я… У меня такое чувство, будто ты хочешь съесть меня живьем. Ничего подобного никогда в моей жизни не было: стать для кого-то жизненно необходимой — как пища или вода. Но я хочу, чтобы так было всегда.
Именно это я и хочу сейчас сделать: испробовать ее вкус. С прошлого раза прошло слишком много времени, слишком много. Я ощущаю голод. Сильный голод. Я жажду ее. Но не сейчас. Еще рано.
— Да, но потом я все порчу. Вполне типично для меня.
— Все верно, но на достигнутом ты не останавливаешься. И не перестаешь портить, до тех пор пока я не заявляю, что с меня довольно.
Мне начинает щипать глаза.
— Я просто кусок дерьма. Ты уверена, что я герой этой истории? — бля, я хочу прикоснуться к ней. Всего раз. Большего я не попрошу. Мне хочется всего лишь прикоснуться к Лейле и прижать к себе. Но я не смею пошевелить и пальцем. Я не возьму недозволенное, даже если умру. Даже если все вокруг сгорит ко всем чертям.
— Но ты исправишься.
— Правда?
Достаточно ли я сделал, чтобы дать понять о своих чувствах? Не знаю. Понимает ли она, как сильно я ее люблю? Эти слова я еще не произносил, но хочу, чтобы Лейла знала и так. Чтобы видела мои чувства во взгляде. Что я люблю, а мое сердце истекает кровью, сгорает дотла. И впервые в жизни я не сопротивляюсь. Не стану сопротивляться, даже если Лейла даст мне сгореть заживо в этом внутреннем огне или уничтожит. Я не перестану ее любить. Я буду продолжать ее любить.
Раздается стук упавшего на пол блокнота, и в следующее мгновение Лейла обнимает меня. Прильнув бедрами, обхватывает ладонями лицо. Я вздрагиваю — член тут же встает по стойке смирно, — и прижимаюсь своим лбом к ее.
— Да, Томас. Правда. Ты уже многое для этого сделал. Господи, скажи мне, что и сам это понимаешь. Пожалуйста, скажи, что стерва, раз заставила тебя так долго ждать.
— Лейла… — предупреждающе рычу я.
— Тогда ты просто дурак, — поднявшись на цыпочки, она закидывает одну ногу мне на бедро. — Даже не прикасаешься ко мне, идиот. Даже прямо сейчас. Если по какой-либо причине я сделаю шаг назад, ты отступишь, будто я от тебя убегаю. Встречаешь меня из чертового колледжа, хотя я прекрасно могу добраться на метро, как и любой другой житель Нью-Йорка. Не спишь ночами, помогаешь мне с домашкой по Скайпу, потому что считаешь, будто я не хочу видеть тебя у себя. Даже не просишь меня приехать к тебе. Все это ужасно расстраивает.
Было время, когда ее безрассудное желание помогало мне ощущать свою власть, но теперь приходится признать, что на самом деле я отчаянно нуждался в Лейле. Нуждаюсь и сейчас.
— Ты не знала, что делать с моим признанием. Вот я и жду.
— А я уже устала от твоего ожидания.
Подпрыгнув, Лейла знакомым движением закидывает вторую ногу мне на талию. Она так часто это делала, что складывается впечатление, будто мы были вместе всегда, и это самая простая и понятная вещь на свете.
— Я даже с Ники успела это обсудить, — с хулиганской улыбкой добавляет Лейла.
— Что именно?
— Что ты выжидаешь слишком долго. Что я его очень люблю. И что… — прикусив губу, она смотрит на меня из-под опущенных ресниц, от чего мое сердце замирает. — Знаю, я далеко не лучшая кандидатура, когда речь заходит об уходе за ребенком. Немного с приветом, часто действую импульсивно и… Но я очень сильно его люблю и готова…
— Эй, ты для меня — все. Ты значишь для меня невероятно много, Лейла, — хрипло говорю я и слышу, что мой голос наполнен чувствами, у которых вкус слез. — Кроме того, любви уже достаточно. Остальное приложится.
Возможно, быть вместе и есть самое простое и понятное на свете. Я хочу признаться ей в своих чувствах, но Лейла меня опережает.
— Я люблю тебя.
Мой вдох ощущается первым в жизни.
— Бля… Я тоже тебя люблю.
Лейла сияет счастьем, но глаза мокрые от слез.
— Так вот, значит, на что это похоже.
— Ты о чем?
— Когда кто-то говорит тебе важные три слова. Мне всегда было интересно, что люди чувствуют, когда это слышат.
— Чисто технически это пять слов.
— Так даже лучше. Мат делает все более… эмоциональным и эпичным, — она потирается об меня, и я издаю долгий стон. Лейла улыбается и, прижавшись лицом к моей шее, шумно вздыхает. — У меня такое чувство, будто я могу ходить по воде.
— Да ну? Не делай этого, милая. Это невозможно.
— Ну ты и нахал, — открыв глаза, Лейла хихикает и обнимает меня руками и ногами еще крепче. Удерживать ее вес без рук становится все тяжелее — я по-прежнему упираюсь ими в стену. Это словно последний барьер между нами. Мне хочется обнять Лейлу, но что-то удерживает. — Ты собираешься меня поцеловать?
— Скажи мне. Я жду твой ответ, Лейла.
По ее щеке медленно стекает слеза.
— Тебе больше не нужно ждать меня, Томас. Тебе нечего больше ждать.
Убрав руки от стены, я крепко обнимаю Лейлу — одной рукой ныряю под бедра, другую кладу на затылок. И целую.
Этот момент словно просветление: я всегда был храбрым. Мне просто нужно было заглянуть вглубь себя. Я был достаточно отважен, чтобы решиться завести ребенка. Достаточно смел, чтобы любить его всем своим сердцем, зная при этом, что жизнь мимолетна и быстротечна.
В жизни так много всего неопределенного. Нам предстоит преодолеть множество препятствий. Наша любовь будет расти и меняться, а мы изменимся вместе с ней. Но сегодня я даю себе обещание.
Что всегда буду скорее храбрым, нежели не знающим страха.
Что найду в себе силы устанавливать собственные правила, а не следовать чужим.
И что буду любить. Всегда любить эту девушку с фиолетовыми глазами. Лейлу Робинсон.
КОНЕЦ
Что будет, если пригласить на свадьбу сестры первого встречного? Как быть, если ты запала на «брата» своего сводного брата? Сколько стоит поцелуй мальчика по вызову? Как феминистке в 19 веке устроиться на работу и укротить своего несносного боса? И чем закончится виртуальный роман между сержантом и известным стримером?
Ответы на эти и другие вопросы вы найдете в переводах нашей группы LOVEINBOOKS . Вступайте в наше сообщество, где каждый читатель найдет для себя книгу по душе. Будем рады вас видеть!
Мечтай. Люби. Читай.
[1] Прим. пер.: с английского Рождество.



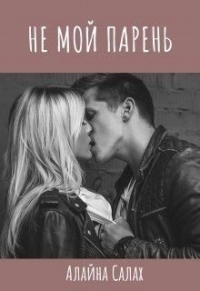


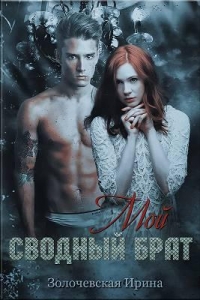


Комментарии к книге «Без взаимности -1», Сэффрон А. Кент
Всего 0 комментариев