НЕЛЮДЬ Ульяна Соболева и Вероника Орлова
ПРОЛОГ
— Бес…Ну, Бееес, — женский голос заставил оторваться от экрана и склонить голову к ярко-накрашенной блондинке, с соблазнительной улыбкой водившей тонким пальчиком по моему колену, — хватит пялиться на экран, ты ведь не для этого купил все билеты в этом зале, м?
Ухмыльнулся, притянув за подбородок к себе смазливое личико с полными губами, блестевшими ярко-красной помадой. Большим пальцем надавил на нижнюю, и девочка послушно открыла рот, втянув мой палец, игриво прикусывая острыми зубками.
— А зачем мы сюда приехали, куколка? — очень удобно называть женщин всеми этими приторно-сладкими прозвищами. Так, по крайней мере, не нужно обременять себя запоминанием их имён. Впрочем, я не утруждался даже запоминанием их лиц.
Её глаза прикрылись от удовольствия, когда я скользнул ладонью под подол короткого розового платья, обтянувшего соблазнительное тело словно вторая кожа. Когда-то мне было интересно, в какой момент закончится их фальшивое удовольствие и начнется работа. Потому что вряд ли можно наслаждаться сексом с таким уродом, как я…Богатым уродом. Влиятельным уродом. Неожиданно отхватившим жирный, мясистый кусок у суки-судьбы. Уродом, который для таких, как эта продажная куколка, теперь царь и бог. Сейчас мне уже по хрен, что они там изображают рядом со мной или подо мной. Если у меня на них встал, значит, меня всё устраивает. А их устроит оплата или статус моей шлюхи, который дает некоторые привилегии, пока мне не надоест и не появится другая.
— За этим, — не шёпот, а почти стон, и ухоженные пальчики обхватывают мой член сквозь ткань брюк.
Коснулась языком моего пальца, и тело прострелило разрядом возбуждения. Пожалуй, можно было бы до начала фильма устроить себе расслабляющие процедуры…с её ртом.
Я допустил ошибку, перевел на мгновение взгляд к экрану. Я увидел лишь мельком. Но этого оказалось достаточно, чтобы отстраниться от девки, оставив её изумлённо хватать воздух открытым ртом. Достаточно, чтобы дернуть ворот чёрной рубашки, чтобы унять предательскую дрожь в пальцах. Нет, не от возбуждения. Точнее, уже не от возбуждения к шлюшке, сидевшей рядом. Она тут же для меня исчезла, испарилась превратилась в ничто, кем по сути для меня и являлась.
— Бес? — непонимающе. Почти возмущённо.
Сдавил пальцами её затылок, заставляя замолчать.
Потому что сейчас я хотел, чтобы она просто заткнулась и не мешала, не портила своим голосом картинку, не раздражала суррогатом. Сейчас я смотрел на то, ради чего мы на самом деле приехали сюда.
Остолбеневший, словно в первый раз…но ведь у нас всегда так с ней. С той, которая смотрела прямо на меня с огромного экрана, и я чувствовал, как задрожал каждый нерв от этого светло-зелёного взгляда.
Да, не замерло сердце, не разорвалось в бешеном танце, не пустилось вскачь. Просто завибрировала каждая клетка на теле, как дрожит стекло от оглушительных аккордов музыки. Нарастающими битами. Пока что вступительными, но уже бьющими по венам адским всплеском адреналина и предвкушения.
И, нет, моё сердце не бьётся быстрее. Я вообще не знаю, бьётся ли оно. Потому что нет больше никакого сердца. Оно осталось там. На тёмном дне её лживого взгляда. Осталось пульсировать фантомной болью, отдающейся резонансом в моей пустой груди, каждый раз, когда она смотрела на меня с той стороны экрана. Каждый раз, когда накрывало осознанием, что не только на меня, но ещё и на миллионы других людей. Потому что недостоин того, который был бы для меня одного. Потому что для неё никто. Ничто. Нелюдь. Не людь…
Да и этот психоз — не любовь давно. Невозможно любить без сердца. Только подыхать от больной, тягучей, как вонючая и грязная трясина, одержимости, потому что ржавой занозой въелась в мозг, под кожу. Въелась и травит каждый день. Каждую ночь. Часами, сука, травит, месяцами, годами. Бесконечно, мать её!
Сжал пальцами подлокотники кресла, затаив дыхание, когда она улыбнулась кому-то в фильме. Ничего. Я напомню тебе о себе. Я вырежу своё имя на твоём сердце, даже если для этого мне придётся разорвать твою грудную клетку голыми руками. Я смою твою улыбку «для всех«…ты будешь улыбаться или для меня, или не улыбнёшься больше никогда в жизни.
Кем бы я ни был…ты всё равно остаешься моей. Клятвы не берут обратно. Клятвы — это кривые гвозди, которыми ты намертво прибита ко мне. Как твой Иисус к кресту. Я твой крест…Молись, моя маленькая Ассоль, игра уже началась, но твоих ходов в ней не будет.
Рывком наклонил притихшую шлюху к своему паху, удерживая за затылок и расстегивая ширинку другой рукой, продолжая смотреть остекленевшим взглядом на экран, и стиснул челюсти до хруста, когда голова блондинки ритмично задвигалась вниз-вверх как раз в тот момент, когда умопомрачительно красивая зеленоглазая женщина на экране начала сбрасывать с себя одежду…С-с-сука! Опять для всех!
ГЛАВА 1. Бес
1970-е — 1980-е гг. СССР
— Мама! — Тоненький громкий голос заставил женщину в мерзких перчатках обернуться. Я ненавидел, когда ко мне прикасались. Меня дико раздражало ощущение резины на моей коже. И выражение брезгливости на их лицах. На лицах всех, кто должен был коснуться меня. Даже если они делали это подошвами ботинок. Тогда было больнее, конечно. Но почему-то гораздо более унизительным мне казалось лежать перед женщиной с идеально уложенной в пучок прической и строгими очками на лице. Свет тусклой лампы отражался от них и почему-то слепил глаза, и я всегда в такие минуты думал о том, что когда-нибудь сорву их с её высокомерного лица и вобью в идеальный, искривлённый в презрении рот, до самой глотки, чтоб видеть, как по подбородку потечёт кровь и во взгляде появится удивление. Да, однозначно это было унизительнее. Может быть, потому что я понимал — если посмею наброситься и на эту суку, мою маму убьют. Так же как её детей. Настоящих детей.
Да, я называл про себя волчицу матерью. Волчицу, у которой эти твари отобрали детенышей, подсунув ей меня. Одна из женщин, которой повезло не умереть от нескольких прерванных на поздних сроках беременностей, рассказывала мне, что эта волчица оказалась гораздо человечнее ублюдков, кинувших месячного младенца в вольер с диким зверем.
Попрощавшись душераздирающим воем с потерянными волчатами, она облизала меня и приняла как своего собственного ребёнка. Потом не раз она будет бросаться на охранников, приходивших за мной, будет до последнего защищать своего единственного детёныша, позволяя наносить себе такие увечья, после которых приходила в норму неделями. А со временем уже я бросался на мразей, кусаясь и рыча, хватаясь зубами за толстые ляжки и не размыкая челюстей, даже когда на спину хаотично сыпались удары дубинок, защищая мать и себя.
Они называли меня зверёнышем, и я стал им. Они называли меня сволочью, и я с удовольствием доказывал им, что они правы. Они называли меня нелюдем, и я с готовностью убил в себе всё от человека и готов был рвать их зубами и жрать их мясо.
Подонки на двух ногах ассоциировались у меня с исчадиями самого настоящего зла, а до сих пор встававшая между мной и этими уродами волчица — с самым светлым, что было в моей жизни.
Под проклятия обессиленных женщин меня заносили полутрупом в вольер после очередных исследований границ боли или сеансов терапии, от которых я срывал горло в криках, и я верил, что страдания на сегодня закончились, только когда чувствовал, как утыкается в мою шею холодный нос, и как ложится рядом большое и горячее, мохнатое тело. Я закрывал глаза, вдыхая запах её шерсти и с благодарностью окунаясь в чувство безопасности, которое накрывало меня рядом с ней, и до потери сознания повторял «мама», пока шершавый язык слизывал следы крови и слёз с моего лица и тела.
Я услышал это слово от той самой женщины. Она представилась Ольгой и говорила, что я похож на её сына, оставшегося где-то в деревне, из которой она приехала в столицу в поисках лучшей жизни. Как она оказалась в этом проклятом месте, женщина не рассказала, по её словам, в моей жизни и так слишком много грязи и боли, чтобы пачкать остатки моей детства ещё и этой историей.
По ночам Ольга любила гладить себя по круглому животу и напевать какие-то песни. Смысла многих её слов я не понимал. Но мне так нравилось звучание её голоса в тишине лаборатории, что я ложился у самой двери и, положив голову на руки, закрывал глаза, вслушиваясь в тихую мелодию и представляя, что эту песню поют для меня. Каждое своё выступление она заканчивала ласковыми прикосновениями к животу и говорила, улыбаясь:
— Мама любит тебя, малыш. Что бы ни случилось с нами, знай, мама тебя любит и всегда будет рядом.
Почему-то я тогда решил, что «мама» — это самое важное, самое дорогое, что может быть. И чего у меня не было. Что-то сокровенное, ведь она пела только по ночам и только своему животу…или тому, кто в нём был. Что-то бесконечно доброе. И что умеет любить, несмотря на страх перед неизбежным.
Я ложился рядом со своей мохнатой «мамой» и, обнимая за мощную шею, до самого утра лежал с открытыми глазами, фантазируя о том, что когда-нибудь мы оба вырвемся из этого Ада и заберём с собой всех тех несчастных, чьи стоны давно стали привычным шумовым фоном нашего общего «дома». О том, что когда-нибудь в этой лаборатории начнут раздаваться совершенно другие голоса…другие мольбы, и эти новые стоны зазвучат гораздо громче и будут полны адской боли, потому что я наполню их такой агонией, от которой вибрировать будет даже воздух. И громче всех будет орать сука-профессор.
А сейчас я остолбенел, услышав, как это самое слово сказали монстру в очках без оправы. Тому, кого боялись даже высокомерные врачи-мужчины нашей тюрьмы. Тому, кого я ненавидел каждый день из своих тринадцати лет жизни. Я просыпался не с чувством голода, а с чувством ненависти к этой женщине со стальным голосом и светлыми волосам, с абсолютным безразличием выносившей приговор. Без разницы кому. Женщинам, их детям, мне или моей матери.
Я засыпал с чувством всепоглощающей ненависти…Иногда оно смешивалось с отвращением…в те дни, когда в маленький проём вольера кидали еду для моей волчицы. Я садился на пол спиной к ней, закрывая рот и нос рукой и стараясь не вдохнуть тошнотворный запах смерти, пока она с громким хрустом и чавканьем разрывала клыками и жадно поглощала маленькие посиневшие трупы младенцев.
Я не знал, убили ли эти мрази детей сами, или те умирали при родах, но я обещал себе, что отомщу за каждую смерть, которая произошла на моих глазах. За каждую смерть, от звуков которой я вздрагивал, покрываясь холодным потом омерзения и страха от осознания, какие нелюди нас окружали. Они называли таковыми нас…но ни в одном из этих зверей не было и толики человечности. Они призывали меня смотреть на то, как расправляется моя волчица с трупами детей, отпуская злые шутки. Хотя сами недостойны были даже рядом стоять с этим сильным животным. Прежде меня, совсем ещё ребенка, конечно, шокировало, когда та, которой я доверял безоговорочно, бросалась на человеческое «мясо«…пройдёт время, и я пойму, что иногда для того, чтобы суметь выжить и обеспечить защиту своей семье, можно становиться каким угодно зверем и рвать на части кого угодно. Она это делала ради меня…потому что я бы без нее не продержался.
От неё пахло какими-то духами. От профессора, как они называли её. Я же ощущал только вонь смерти, когда эта мразь приближалась ко мне. Я бросал ей вызов, вставая прямо перед дверью вольера под недовольное и предупреждающее рычание мамы, а монстр складывала руки на груди и, глядя мне прямо в глаза, называла своей помощнице ряд процедур, которым должны будут меня подвергнуть. Иногда мне казалось, что лучше бы эта сука приказала убить меня. Неважно как: быстро или садистски долго, пусть даже разрезая на мелкие части…Я мечтал умереть и прекратить эти мучения, только бы не просыпаться каждое утром с вопросом самому себе — переживу ли я этот день. Но стоило закрыть глаза, и я видел перед ними вереницы женщин, десятки…десятки женщин и младенцев, умерщвлённых ради целей этой амбициозной стервы…я видел разбитую челюсть свой матери и подпаленный бок, после того, как эти нелюди отгоняли её от меня пылающими палками. А ещё я видел самодовольный, полный превосходства взгляд этой сучки и понимал, что не имею права на эту слабость. И я стискивал зубы, запихивая свои желания в зад, и распахивал глаза, не позволяя смерти утянуть в свою тьму.
Я запомнил все имена. Я не умел писать. Я еще не умел разговаривать, и не понимал смысла многих звуков. Но эти имена…эти фамилии стали для меня аккордами реквиема. Мелодией смерти, которую я обещал сыграть по каждому из них. Особенно по профессору. Для неё я приготовил самую долгую и самую оглушительную мелодию
* * *
— Что ты тут делаешь? Я же говорила, что тебе сюда нельзя!
Монстр быстро вышла из моей камеры и подошла к маленькому существу в какой-то странной яркой одежде, настолько яркой, что у меня едва не заболели глаза.
— Ой, мама, а кто это?
Существо удивлённо смотрело то на меня, то на волчицу, ощетинившуюся и оскалившуюся на них.
Профессор остановилась возле существа, но в это время входная дверь громко хлопнула, и в коридоре появилась запыхавшаяся работница.
— Анжела Артуровна, простите меня, — она заламывала руки, еле сдерживая всхлипывания, — Я только отвернулась, чтобы ответить на звонок, и она…девочка убежала.
Его так зовут? Это существо? Девочка?
Я вскочил на ноги, когда она подошла ко мне и приложила маленькую, совсем крошечную ладонь к стеклу и посмотрела на меня, смешно открыв рот.
— Привет. Я — Ассоль. А ты кто?
— Аля! Немедленно вернись.
Голос монстра заставил её обернуться. И я возненавидел эту тварь с удвоенной силой. За то, что забрала у меня её внимание. Потом я стану ненавидеть любого, на кого будет обращён ее взгляд, любого, на кого будет направлен её интерес, любого, кто посмеет приблизиться к ней. Потом я начну захлёбываться в болоте ненависти и злости на весь мир. Из-за неё. А тогда я сам не понял, что влез в это болото сразу по колени. Просто стоял и смотрел, как заворожённый, не смея отвернуться.
— Как тебя зовут?
Она снова посмотрела на меня, нетерпеливо топая маленькой ножкой. А я…я пожал плечами и приложил ладонь к тому месту, где была её рука.
— Аля!
Девочка отступила от меня назад, с каким-то сожалением проведя через стекло по моим пальцам, и шепнула торопливо:
— Я-Ассоль! И я вернусь к тебе. Ты жди.
Мне вдруг стало грустно, что девочка с двумя косичками отняла руку от двери, и я автоматически сжал ладонь в кулак, чтобы сохранить иллюзию прикосновения.
— Я вернусь. Ты мне веришь?
Не знаю, почему я тогда ей кивнул. Не знаю, почему, но я тогда ей поверил. Со мной до неё никто ТАК не говорил и на меня никто ТАК не смотрел. Без ненависти и презрения. Может быть, я поверил ей, потому что впервые увидел солнце, вспыхнувшее в чьих-то глазах, обращенных на меня, и до отчаяния захотел ощутить его тепло.
* * *
Анжела Артуровна брезгливо стянула с ухоженных рук перчатки и быстрым и сердитым шагом последовала к выходу из лаборатории, уверенная, что Аля последует за ней.
Она предпочитала не отчитывать свою единственную дочь при посторонних. Благо та давала не так часто поводов для подобных мыслей.
Более того, сегодняшнюю активность обычно спокойной и послушной девочки Анжела Артуровна списала на её огорчение смертью отчима.
Профессор сжала пальцы. В своё время она променяла обоих своих мужей на блестящую научную карьеру, а те нашли своё утешение в Але. Ассоли, как называли ее они оба. Ярославская недовольно поморщилась. Нет, однозначно нужно поменять свидетельство о рождении дочери.
Это же надо было додуматься так назвать ребенка! Если бы знала, что покойный первый муж — биологический отец дочери, совершит подобную глупость, то прямо из больницы бы сама направилась в ЗАГС и потребовала бы записать дочь, как когда-то хотела, Алиной.
Начитался романтичных историй и ими же забил голову дочери. Если бы знала молодая, но не в меру честолюбивая, Анжела Виноградова, каким мягкотелым и нежизнеспособным в окружающем мире жёсткого соперничества за место под тусклым солнцем партийной элиты станет казавшийся великолепной партией Павел Мельцаж. Поляк по отцу, он работал и жил в Белоруссии, но окончил университет в Москве и остался там ради самой красивой и самой амбициозной девушки ВУЗа Анжелы.
Он называл её своим Ангелом. Он обещал ей показать полмира и всю луну, а корыстолюбивая девушка больше ценила двушку его бабушки в столице Союзных республик, куда они после свадьбы и переехали, благополучно отправив старенькую бабку в Белоруссию отцу Мельцажа, естественно, по настоянию молодой жены.
Потом они поменяют небольшую квартирку в старом районе на вместительную четырёхкомнатную, казавшуюся хоромами, обставят модной зарубежной мебелью и будут принимать только нужных и полезных гостей в своём новом жилище.
Долгие прогулки по вечерам, которые так любил Павел, сменят многочасовые работы в исследовательском центре и изучение набиравших тогда популярность работ по исследованию плаценты в сфере повышения реактивности организма. Он приглашал её встречать закат на теплоходе, а она отправляла его жарить картошку на ужин, так как сама практически до ночи пропадала в центре.
Он злился на неё за её отсутствие в своей жизни, а она была разочарована отсутствием у него амбиций. Рождение дочери подарило им обоим то, что они давно хотели: Павлу — объект, на который он направлял всю свою любовь и заботу, а Анжеле — возможность спокойно работать без оглядки на вечно недовольного мужа. Она вышла на своё место уже через шесть месяцев после родов, каждый день из которых провела с мыслью о том, что теряет такое важное, драгоценное время на ребенка, которого, как она сама считала, всё-таки слишком рано родила.
Когда девочке исполнилось три года, Павел умер от алкогольной интоксикации. Анжела тогда выдохнула, так же, как и сейчас, с известием о смерти благоверного ощутив, как спали оковы собственной совести, сжимавшиеся вокруг её шеи с каждым произнесённым «нет» и «мне некогда».
Впрочем, и второй суженый профессора оказался под стать Мельцажу — такой же мягкий и невыразительный. Поначалу он мечтал о совместных детях, но был вынужден практически в одиночку растить дочь супруги. Со временем Анжела всё чаще стала замечать, что муж не просто из вежливости либо жалости читает Ассоль (он упорно продолжал называть её так, несмотря на то, что знал о том, как это имя раздражало Анжелу…а, может, именно поэтому), а получает удовольствие, рассказывая маленькой девочке сказки братьев Гримм или читая по памяти Пушкина. К пяти годам Аля уже вовсю звала Олега папой, а тот гордился этим, представляя девочку на приёмах, как собственную дочь.
Испытывала ли Ярославская хотя бы толику ревности, присущей любой матери, к этим двум мужчинам? Никогда. Скорее, облегчение и тихую благодарность за то, что у неё была возможность спокойно отдавать себя тому делу, что она действительно любила и ценила — науке.
— Мама, это кто? — звонкий голос дочери отвлек от воспоминаний, — тот мальчик в камере.
— Это не камера, Аля, — поправила машинально, подходя к тяжёлому окну и дёргая на себя ручку, — твоя мама работает не в тюрьме, а в больнице. Значит, это палаты, а не камеры.
— А он чем-то болен? — девочка испуганно придвинулась ближе.
— Нет, он ничем не болен.
— Совсем-совсем ничем?
— Совсем.
— А зачем тогда держать взаперти здорового человека?
— Это моя работа, Аля.
— А что ты с ним сделаешь?
— Я его исследую. Я же как-то тебе показывала, помнишь?
— Ты показывала мне, как ты исследуешь лягушку. Ты разрезала её, и мы наблюдали за ней в микроскоп, — девочка закрыла ладошкой рот, её глаза широко распахнулись, — ты его тоже разрежешь?
— Ну что ты, — Анжела Артуровна глубоко выдохнула, думая о том, что если понадобится, то будет резать лично наживую любого из своих подопытных, — я не причиню ему вреда, он здесь для других целей.
— Для каких? — Аля подошла к матери и обняла тонкими ручками за пояс. Ярославская поморщилась — она терпеть не могла тактильные контакты.
— Для очень важных.
— Папа умер, — девочка вдруг напряглась, пряча голову на животе матери, и та растерянно подняла руки, раздумывая, стоит ли обнять ребенка. Обычно чем-то подобным занимались её отцы, не мать. Впрочем, если бы она уделяла время подобным глупостям, то не стала бы тем, кем стала сейчас.
— Люди рождаются и умирают. Это нормально, — всё же решилась положить ладонь на темноволосую головку.
— Не нормально! — Аля вдруг оттолкнула её от себя, и профессор разочарованно выдохнула, увидев в светло-зеленых, так похожих на её собственные, глазах ребенка слёзы. — Не нормально, что самые хорошие люди уходят…Не нормально, что тебе всё равно!
Неизвестно, каких бы масштабов достигла назревавшая истерика дочери, но телефонный звонок заставил ребенка замолчать. Ярославская отвернулась, чтобы не видеть дрожащих губ, искривлённых гримасой боли.
— Слушаю. Да, Валентин. Начинайте. Я сейчас спущусь. Нет. Всё нормально. Не переживай. Я нашла ему замену. Нелюдь 113 подойдёт. Нет, не молод. В самом подходящем возрасте для первого раза.
ГЛАВА 2. Анжела Артуровна Ярославская и Аля
1970-е — 1980-е гг. СССР
— Анжела Артуровна, вас к телефону, — тихий шёпот лаборантки испуганно замолк, как только светло-зелёный взгляд профессора обратился к ней. Она нервно стиснула пальцы, не решаясь поднять глаза к лицу начальницы, и, дождавшись молчаливого кивка, с видимым облегчением вышла из помещения лаборатории.
Анжела Артуровна последовала за ней, напоследок взглянув с сожалением на подопытную и отмечая у себя в голове необходимость отдать распоряжение Валентину созвониться с поставщиком для получения очередной партии простагландинов. Стоны женщины, лежавшей на вылинявшем дырявом пледе прямо на полу камеры со стеклянной дверью сопровождали негромкое цоканье аккуратных каблуков профессора.
Она обхватила изящными длинными пальцами телефонную трубку, машинально сканируя рабочий стол в поисках своей рабочей тетради.
— Ярославская слушает.
— Анжела Артуровна, это Дмитрий Ильич, — лечащий врач её мужа замялся на том конце трубки, и профессор облегчённо выдохнула, догадавшись, какую новость он хотел ей сообщить.
— Когда? — без лишних расспросов, без деланно-сентиментальных охов и вздохов. Конкретный вопрос, на который она ждала ответа, разглядывая свои аккуратно стриженые короткие ногти и думая о том, что придётся, как минимум, пару недель теперь обходиться без покрытия, соблюдая траур. Жаль. Она никогда не красилась, будучи обладательницей достаточно яркой внешности и позволяя себе баловаться самыми разными оттенками лаков из-за катастрофической нехватки времени на что-то большее.
— Сорок минут назад, — доктор деликатно закашлялся и, прежде чем он глубоко вдохнул, чтобы начать свою традиционную речь, которую, наверняка, придумал лет тридцать назад ещё на восходе своей профессии и с тех пор менял в ней только имена и даты, профессор сухо попрощалась с ним, пообещав отправить кого-нибудь за телом мужа, который уже несколько месяцев лежал в онкологическом отделении центральной областной больницы.
Положила трубку и, возвращаясь к подопытным, на ходу записала: «позвонить змее». Пусть свекровь сама занимается похоронами сына. Ярославская заплатит, и это самое большее, на что могла рассчитывать старая карга, и что могла сделать Анжела Артуровна для этого недомужчины, которому отдала слишком много и даже родила дочь.
Не успела подойти к двери, как снова раздался звонок, и Юлия, та самая лаборантка, вскочила с места, но тут же остановилась, словно вкопанная, увидев, как профессор, невозмутимо направляется к телефону.
Она уже знала, кто мог позвонить. Доктор, наверняка, не ограничился звонком только ей. Более того, Анжела Артуровна была уверена — дочери и матери мужа позвонили раньше. Сказать, что это её волновало? Ничуть. Так даже было удобнее — разобраться со всеми этими глупостями, чтобы, наконец, вернуться к работе. Сегодня нужно было абортировать сразу двух женщин.
— Ярославская.
Громкий всхлип, и профессор скривилась.
— Мама…Папа…папа несколько минут назад…папа, — девочка не могла договорить она задыхалась от слёз.
— Умер. Я знаю. Что ты хотела, Аля?
— Мамаааа…, - ещё один всхлип, и девочка шмыгнула носом, — он умер, понимаешь? Умер?
— С его болезнью он долго продержался, Аля.
— Как ты можешь так говорить?
— Как профессор медицинских наук и учёный. Аля, если ты хотела сказать что-то существенное, говори. Мне нужно возвращаться к работе. У меня сегодня две операции.
— К какой работе? — девочка вскрикнула так громко, что профессор отставила ладонь с трубкой от уха, инстинктивно отметив про себя, что нужно сделать замечание Юлечке, как её называл Валентин, чтобы больше не надевала эту кофточку с глубоким вырезом. Такими темпами мужчины в лаборатории вспомнят о том, что орган в их штанах пригоден не только для мочеиспускания, и рабочая атмосфера в лаборатории будет безнадёжно нарушена.
— Мне страшно, мама. Мне страшно. Бабушка уехала в больницу. Можно я к тебе приеду?
Если бы Анжела Артуровна могла предусмотреть…если бы она могла заглянуть в будущее, она никогда бы не ответила согласием на просьбу своей единственной дочери. Никогда бы не позволила ей даже ногой ступить на территорию исследовательского центра, существование которого являлось государственной тайной.
Но она вдруг оказалась наедине с ребёнком, которого почти не знала и который потерял вдруг близкого человека, и не нашла другого выхода, кроме как обещать дочери отправить за ней водителя, а сама со спокойной душой вернулась в лабораторию.
— Чёртова тварь! Держи его…да не спереди заходи, тупица. Сейчас он тебя покусает. Сучёныш! Зверина поганый! Я б ему все зубы повыбивал!
Анжела Артуровна обернулась на крики, раздававшиеся в самом дальнем углу длинного коридора с десятками палат по обеим сторонам. Когда-то на них были железные двери. Когда ещё здание было психиатрической больницей. Но уже десятки лет профессор Ярославская с успехом руководила тайным проектом по выделению специальных веществ из плаценты, которые в дальнейшем должны были стать основой так называемого «эликсира молодости».
Крики продолжились, только теперь к ним присоединились маты. Профессор недовольно поморщилась. Всё же это ужасно, когда людям её положения приходится иметь дело с подобным контингентом. Впрочем, кто-то же должен выполнять грязную работу.
Она медленно шла вдоль прозрачных дверей, за каждой из которых были прикованные цепями к ножкам простых больничных кроватей женщины. Истощённые, худые, грязные. Беременные. Нет, им, конечно, вводились ежедневно все необходимые препараты, призванные восполнить недостаток в витаминах. У них была теплая, хоть и жёсткая, постель и крыша над головой.
По сути, еще несколько месяцев назад эти курицы и мечтать не могли о таком. Бездомные, проститутки, малолетние дурочки, сбежавшие из родного дома. Те, кто ещё недавно отдавался за копейки или талоны на продукты первому встречному. Сейчас их кормили достаточно, чтобы они продержались тридцать недель, так необходимые профессору Ярославской и руководству партии, активно, но тайно спонсировавшему её исследования. Инкубатор. Курицы. Так их она называла про себя.
— Дрянь! Сука! Тварь бесчеловечная! Чтоб ты сдохла! Чтоб у тебя матка вывернулась, мразь! — очередная порция проклятий, сопровождавшаяся лязгом цепей по полу, выложенному дешевым коричневым кафелем.
Ну, девочки не знали, что матку она вывернет им самим, а к ругательствам не то что привыкла, а всегда умела наказать — например, резать без наркоза или показать им, как умирают их отбросы, захлебываясь в чане с водой, а потом рассказать, что она сделает с их маленькими синюшными телами.
Анжела Артуровна скептически оглядела худенькую беременную девушку с растрёпанными, давно нечёсаными волосами. Она сама запретила давать расчёски и любые заколки «инкубаторам». После того, как одна из будущих матерей вспорола себе вены зубьями деревянного гребня. Как она умудрилась сделать это, Ярославская так и не поняла, но отдала должное упорству, с которым курица полосовала запястья. Тогда слишком поздно уборщики обнаружили обезумевшую в заключении женщину, и та истекла кровью. Такая же молодая, как и та, что стояла перед профессором сейчас на четвереньках. Почти девочка. Пятнадцать лет. Её обнаружили за два квартала от детского дома, из которого она сбежала, и привезли в лабораторию к Ярославской, которая сочла экспонат заслуживающим внимания.
После проведения нужных исследований и сбора анализов девушку осеменили. Ярославская предпочитала называть этот процесс именно так. Обезличенно. Для неё все те женщины, которые находились по ту сторону дверей, были не людьми и даже не опытными образцами. Они стояли ещё ниже. Всего лишь сосуды, из которых нужно было добывать эти образцы. Живые пробирки. Не более того. О том, что у каждой подобной пробирки были когда-то собственные планы, мечты и сны, Ярославская предпочитала не задумываться. Что значат сотни и даже тысячи загубленных жизней, если миллионы будут спасены? Ничто.
Кажется, именно эта маленькая, грязная оборванка умудрилась тогда поранить осеменителя. Кто-то из охраны не уследил, и дрянь откуда-то достала шариковую ручку, которую и вонзила в горло мужчине, пока он усердно пыхтел на ней. Хорошо, что к тому времени он уже успел оплодотворить её. Но теперь у Ярославской появилась существенная проблема — найти нового самца, который станет донором спермы. И не просто донором, а достаточно выносливым донором, способным исполнять свои функции на нужном уровне. С учётом того, что совсем практически все «пробирки» должны будут опустошить.
— Что уставилась, сука старая? Выпусти меня отсюда-а-а…Выпусти, мраааазь.
Ярославская поджала губы, напоследок окинув девушку презрительным взглядом. Разделённая стеклянной дверью, та всё же бросалась на неё, уже зная, что длина цепи не позволит достичь цели, но не прекращала бесноваться.
— Ненавижу вас! Ненавижууу…Вы нелюди. Вы все — нелюди!
Величественный поворот головы профессора в сторону ясно продемонстрировал, кого в этом проклятом месте не принимали за людей.
— Да, твою маааать…Лёхаааа…Лёха, он прокусил мне руку.
— Я тебе говорил…придурок. Вот я его сейчас.
Звуки ударов по телу и скулёж животного заглушили дальнейшие проклятия охранников.
К тому времени, как Ярославская подошла к пинавшим кого-то тяжёлыми ботинками мужчинам, волчица, чей вой отдавался в стенах лаборатории зловещим эхом, уже бросалась на дверь и скребла массивными лапами железный замок.
— Что тут происходит?
Спросила негромко, но недовольство в её голосе заставило мужчин отпрянуть от мальчишки, скорчившегося на полу и прикрывавшего руками голову.
— Анжела Артуровна, — один из охранников поправил ремень на чёрных штанах, — этот, — едва не сплюнул, с откровенной ненавистью посмотрев на вскинувшего голову вверх и оскалившегося, как зверь, парня, — бес напал на меня, когда я пытался вывести его на прогулку.
Профессор выразительно посмотрела на изодранный рукав формы охранника, и тот поспешил вытянуть руку вперёд, чтобы наглядно продемонстрировать рану. Ярославская сухо выронила:
— И вы вдвоём не могли справиться с образцом? Два взрослых мужчины с ребёнком тринадцати лет?
Она терпеть не могла сравнивать своих подопытных с людьми. Они ими и не были. Но сейчас ей захотелось ткнуть подчинённых в их некомпетентность. Окинула внимательным взглядом мальчишку: он уже лежал на животе, слегка изогнув спину и подняв голову, внимательно переводил взгляд с неё на охранников. Так, словно готовился к новой атаке. Отметила про себя, что лёжа на полу, избитый двумя взрослыми бугаями, парень выглядел далеко не униженным, а, наоборот, сильным. Гораздо сильнее своих карателей. Конечно, не физически. Но выражение его лица и лихорадочно блестевшие ненавистью тёмные глаза, которые вспыхивали каждый раз, когда он смотрел на говорившего охранника, выдавали в нём достаточно жёсткий характер. Ярославская огорчённо подумала, что проблемы с этим нелюдем — последнее, что сейчас ей необходимо накануне грядущих проверок руководства.
— Да это не ребёнок! Это исчадие ада. Вон…, - второй охранник кивнул на вольер с волчицей рядом с палатой, в которой они все находились, — волчонок он, а не ребенок. Мы его все бесом зовём, потому что…
— Достаточно! — Женщина вскинула руку ладонью вверх, не желая терять драгоценное время на объяснения этого недоразумения, — он не бес. Он-нелюдь. Он образец. Как и все остальные. Не давайте им имена. Только порядковые номера, по которым мы можем различить их документально. Свободны!
Дождалась, пока они выйдут из палаты, и, натянув белые медицинские перчатки, склонилась над объектом № 113. Тот затаился, широко распахнутыми глазами следя за ней, подобно хищнику, не прирученному, но инстинктивно чуявшему, что перед ним находится кто-то сильнее и страшнее.
Профессор пропустила пальцы сквозь длинные чёрные волосы мальчика, и отодвинула мочку уха, проверяя, нет ли там повреждений или же паразитов.
Опустила руку по чётко очерченным скулам и тяжёлому, совершенно не детскому подбородку к шее, надавливая на кадык. Она безразлично ощупывала ребенка, так, как проверяют скот, не обращая внимания на его тяжёлое дыхание и напряжённый взгляд, который он не сводил с её руки.
Провела пальцами по бицепсу, слегка сжала предплечье, думая о том, что нашла нового «племенного» быка для своих «сосудов».
Вспомнила, как тринадцать лет назад у одной из женщин начались роды, тогда абортирование проводили на несколько недель позже, чем сейчас, и плод, в отличие от матери, выжил. Профессор как раз начала увлекаться нововведениями в области генной инженерии, на свой страх и риск и втайне от своих коллег проводя эксперименты по скрещиванию людей и животных и внедрению ДНК волка человеку. Правда, пока опыты не приносили положительных результатов, но Анжела Артуровна решила оставить темноволосого младенца, родившегося достаточно крепким для своих восьми месяцев. Что было неудивительно — и его биологическую мать, и отца до зачатия плода подвергли специальным процедурам, над ними проводили исследования не один месяц. И результат своих многолетних опытов профессор вполне заслуженно посчитала положительным, продолжая скрупулезно изучать уже его.
По совету своего помощника Валентина Снегирёва и для того, чтобы проверить влияние бихевиористских аспектов на становление личности подопытного образца, она приказала обустроить место мальчику в вольере с волчицей, у которой ради этой цели отобрали волчат, оставив единственного выкормыша — нелюдь № 113. Да, именно так их предпочитала называть профессор и требовала того же и от всех работников секретной лаборатории.
Так было легче уродовать их и усовершенствовать, калечить, отрезая части тела или же, наоборот, пришивая новые. Так было легче для всех тех, у кого пока ещё оставались крохи той самой совести, когда очередную роженицу везли на каталке в операционную, чтобы вырезать из неё плод, который потом либо отдадут на изучение Снегирёву, либо, если он не подойдет по определённым характеристикам, бросят на корм волчице.
ГЛАВА 3. Бес. Аля
Я помню, когда увидел её во второй раз. Помню так, словно это произошло недавно, а не целую вечность назад. Как всё-таки интересно устроена эта сука-жизнь: будучи детьми, люди так торопятся повзрослеть…и жестоко разочаровываются в собственной мечте, потому что, наконец, став взрослыми, неистово желают только одного — вернуться в то самое детство. Вернуться туда, где всё было настоящим и понятным.
Что ж…я отчаянно хотел повзрослеть. Я желал этого, словно обезумевший. В первую очередь, потому что это означало, что я выдержу. Что не сломаюсь раньше, чем смогу сбежать из этого грёбаного ада, в котором существовал сколько себя помнил. Потому что это противоречило любой логике — я должен был сдохнуть ещё в утробе матери, но она отдала свои последние силы мне…и я не имел права относиться к её подарку халатно. Не имел права позволить бездушным тварям в белых халатах растоптать его.
Я помню, когда увидел её во второй раз. И не только потому что каким-то грёбаным чудом я запомню каждую секунду, проведённую рядом с ней. Рядом с девочкой, которая не спросив разрешения, нагло влезет прямо в мою голову, заполнив собой все мои мысли. С девочкой, которая отберёт у меня то единственное, в чём я до встречи с ней был уверен, что оно принадлежит мне. А она просто протянет руку, чтобы сначала коснуться его осторожно кончиками пальцев, заставив задрожать от первого нежного прикосновения в моей жизни, а затем, крепко обхватив ладонью, резко вырвет его вместе с корнями, оставив кровоточить сосуды. Безжалостно и без раздумий она лишит меня сердца с такой наглостью, будто знала заранее — оно принадлежит ей и никому больше.
Но всё это будет потом. После того, как она воскресит меня, чтобы убить лично. Изощрённая подготовка к смертной казни, которая продлится долгие годы. Всё это будет после…после того, как меня едва не разломают на куски.
Его звали Михаил Васильевич, но охранники звали его Василичем. Невысокий полный мужчина с седыми редкими волосами вокруг внушительной залысины. Он был очень аккуратным и щепетильным во всём, что касалось гигиены. Натягивал перчатки ещё до входа на наш этаж. Так, будто боялся, что его кожу загрязнит даже воздух помещения, в котором содержали подопытных.
Я ненавидел смотреть на эти толстые пальцы, которыми он деловито поправлял очки на носу-картошке или же с выражением абсолютного презрения щупал мой живот, мои руки и ноги. Каждое утро записывая какие-то, одному ему известные данные в свой блокнотик. Знаете, когда человек чувствует себя наиболее унизительно? Не сидя на цепи в вольере, не прикованным к операционному столу и даже не лакая воду из миски и стоя на четвереньках, подобно зверю. Человек чувствует себя наиболее униженным, когда его рассматривают словно животное, заглядывая в рот, короткими пальцами надавливая на зубы и дёсны, раздевают, чтобы отстранённо изучить его тело, периодически склоняясь над своими записями и бормоча непонятные слова себе под нос. Так, словно человек и не человек вовсе, а насекомое. Хотя нас считали хуже них. Нас вообще не принимали за одушевлённые предметы.
До некоторого времени Василич именно так и относился ко мне. Не знаю, сколько лет мне было, когда я начал замечать, как резко начинает меняться дыхание доктора, как он называл себя, когда с меня срывали одежду для еженедельного осмотра. Да, я никогда не раздевался сам. Мне нравилось доводить до бешенства тупых охранников, пытавшихся стянуть с меня мешковатый плащ — моё единственное одеяние. Конечно, я знал, что ублюдки в конечном итоге повалят меня на пол и сдерут кусок ткань, но я получал нереальное удовольствие, диким зверем вгрызаясь в их ладони зубами, выдирая их жиденькие волосы и разрывая одежду. Потом смотрел на то, как эти сволочи вытирают губы от крови и с ненавистью смотрят на меня, и громко смеялся, сам выплёвывая кровь на чистый, аккуратно выглаженный халат доктора.
Пятна моей крови на рукавах его медицинского халата…так выглядел мой приговор ублюдку, который я привёл в исполнение через некоторое время.
В тот день Василич приказал своим идиотам-подчинённым искупать меня для очередного эксперимента. Меня облили ледяной водой из длинного шланга и, напоследок кинув какую-то серую ветошь и подождав, пока я укроюсь ею, повели куда-то наверх. Впервые меня выводили из нашего отдела. Когда подвели к лестнице, я остановился как вкопанный, глядя на выбитые на полу странные наросты. Обычно опыты над нами велись в другой стороне лаборатории, настолько близко к самим камерам, что мы слышали крики боли и ужаса каждого несчастного.
— Поднимайся по ступеням, тварь.
Митя, худой, но жилистый, охранник подтолкнул стволом автомата меня в спину.
— Нелюдь впервые ступени видит, — заржал рядом его напарник, — давай, бес, шевелись, если не хочешь, чтобы я тебя подогнал вот этим, — демонстративно потряс в воздухе коротким хлыстом.
Я медленно поднял ногу, ставя её на первую ступень. Не так страшно, как показалось впервые. Вторая нога вслед за первой, шаг за шагом, туда, откуда проливался яркий свет. Запоминая каждый поворот, каждый пролёт. Прикидывая, в какую сторону должен буду бежать в случае чего. В случае чего именно, я и сам не знал, но, понимая, что хрена с два меня просто выпустят на свободу из этого Ада, был готов ко всему. Я думал, что готов.
Меня вели по длинному коридору с тошнотворно белыми стенами и вонью стерильности, настолько отличающейся от привычного смрада немытых тел, крови и испражнений, витавшего у нас под землёй. Затем мы два раза повернули налево, и снова поднимались вверх, здесь уже были большие окна, сквозь которые настолько ярко слепило солнце, что я остановился, заворожённый игрой его лучей на чистых стёклах. Это было моё первое знакомство с солнцем.
— Шевелись, ушлёпок, — отвратительный смех охранника, захлебнувшийся, когда я резко развернулся, наступив со всей силы на его ноги и рывком ударивший головой в солнечное сплетение. Придурок согнулся, пытаясь вдохнуть открытым ртом кислород, а второй со злости ударил меня прикладом автомата по затылку, и я потерял сознание от резкой боли.
Очнулся на чём-то непривычно мягком. Очнулся с тупой болью в голове и ощущением омерзения. Панического, знаете, такого, который ощущаешь сразу. Кожей, клетками тела, чуешь сразу всеми органами чувств. Мозг подключается потом, ты еще не понимаешь, почему, но ощущаешь, как подкатывает к горлу тошнота. И ты начинаешь осознавать, что тебя тревожит. Чужие прикосновения. Ты ощущал их тысячи раз. Отключившись от очередной инъекции или обморока после недельного голода, ты приходил в себя именно от чужих прикосновений на операционном столе. Стискивал зубы, выжидая, когда сможешь открыть глаза и посмотреть в лицо своему мучителю. Они периодически менялись, но ты знал руки каждого из них. Даже в перчатках…
И тут тебя накрывает волной ужаса — ты понимаешь, что не чувствуешь резины. Только тепло чьих-то трясущихся рук, касающихся твоего тела. Мокрых от пота, омерзительно мягких ладоней, толстые пальцы поглаживают твой живот, спускаясь ниже, чужое частое дыхание обдает тебя вонью его обеда.
Я распахнул глаза, чтобы встретиться с маленькими круглыми глазами доктора, с отвратительной улыбкой на блестящих, словно маслянистых, губах доктора.
— Тише, мой мальчик, — эта улыбка становится шире, а я смотрю расширенными от испуга зрачками на то, как он торопливо расстегивает свой халат, освобождая толстую шею. Пока его ладонь…эта пухлая белая ладонь не накрывает мой член, сжимая его пальцами.
— Большооой, — он начинает водить по нему вверх-вниз, склоняясь ко мне. И меня срывает. Меня, блядь, срывает от понимания, чего хочет эта тварь. И я сам подаюсь перёд, к его губам. К его отвратительно пошлой улыбке…чтобы вонзиться в них зубами так, что ублюдок начинает выть, пытаясь отшвырнуть меня от себя. Впервые мои руки не стягивает ничего. Впервые понимание, что я сам в ответе за свою жизнь. За своё достоинство. Я видел десятки раз, как насиловали тех невольниц. Видел, как их брали, как над ними дышали так же тяжело и противно, как избивали, превращая в месиво лицо. Видел, как поначалу они боролись, чтобы потом отстранённо позволять себя ломать. Но меня нельзя сломать. Я и есть излом.
Оторвавшись от омерзительных губ, ударом головы в нос отбросил подонка на пол и оседлал, сжимая бока коленями. В его зрачках отражение лица какого-то больного ублюдка с окровавленным ртом, безумно хохочущего, пока мои ладони сомкнулись вокруг шеи Василича. Он вцепился в мои запястья, пытаясь освободиться и хрипя о помощи, а я смотрел на слёзы, стекающие по натуженному красному лицу и чувствовал, как по позвоночнику проходят судороги удовольствия.
Он стал моим первым. Потом их будет больше десяти. Их станет двенадцать. Один за одним убийц, прикрывавшихся белыми халатами и распоряжениями партийного руководства.
Но это будет потом. А тогда я смеялся. Смеялся громко. Впервые громко и счастливо. Тогда я понял, что я и только я решаю, сдохну или выживу. Его жирное тело всё ещё извивалось в попытках освободиться, когда я услышал торопливый шум ботинок. Наверное, их привлёк мой смех. Но мне в этот момент было плевать. Плевать на то, что после этого меня, наверняка, выпотрошат и кинут мои внутренности волчице. В этот день я впервые увидел солнечный свет. И впервые ощутил контроль над собственной жизнью. Это было больше, чем я имел до того момента.
Имело значение только успеть убить эту тварь. Вскинул руку к столу, возле которого мы извивались на полу, лихорадочно скользнул ладонью по поверхности клеёнки, чтобы едва не закричать от триумфа, когда нащупал маленький нож. Быстрым движением в толстую шею несколько раз подряд, закатив глаза от удовольствия, когда его кровь брызнула мне в лицо.
Я не помню, как меня оттаскивали от тела доктора. Я не помню, куда меня отвели. Не помню, сколько раз терял сознание, пока обозлённые охранники избивали меня дубинкам на заднем дворе прямо на мокрой после дождя земле. Мне по-прежнему было плевать. Я почти не ощущал боли. Только кровь доктора на своей коже и во рту и ощущение в ладонях его содрогнувшегося в последний раз тела.
Я понятия не имею, почему меня оставили в живых. Почему профессор не приказала уничтожить меня за убийство своего коллеги. Но через пару дней меня снова бросили в вольер к маме. И только там, рядом с ней, я смог, наконец, спокойно выключиться. Выключиться, чтобы проснуться через некоторое время от тихого голоса, услышав который я вскочил с кафеля и прильнул к решеткам вольера, не веря своим глазам. Там, по ту сторону стояла она. Склонив голову набок и нахмурив тонкие брови, девочка осмотрела меня, а мое тело дрожью пронзило от этого взгляда. Без профессионального интереса. Без унизительной жалости. Но так, словно ощущала боль, которую испытывал я после жутких побоев. В ее светло-зеленых глазах заблестели слёзы, как капли дождя, и они стали цвета летней мокрой листвы.
— Ты меня помнишь? Я Ассоль…
* * *
Многие говорят «я увидела его и влюбилась или пропала, или перестала дышать»… А я увидела его и почувствовала боль. Его боль. Она впилась мне в кожу тонкими иглами и мягко вошла в вены, понеслась вместе с кровью к сердцу и прошила его намертво ржавыми занозами. Потом, спустя годы, он будет дарить мне эту боль в самых разных воплощениях, она раскроется внутри меня, как цветок-рана с рваными краями-лепестками, он раскрасит для меня этот цветок такими оттенками, которым любовь может только позавидовать… Это слово никогда не имело того сокровенного, невозможно жгучего значения, как боль. Потому что она адресна. Она никогда не безлика. Любить можно что угодно и кого угодно, а болеть только одним человеком, болеть за него, болеть из-за него и для него.
Какой изощренно нежной и сладко-горькой, а иногда кроваво-огненной или черной была она с ним, с самой нашей первой встречи, когда увидела черноволосого мальчика, стоящего на четвереньках, и мою мать, возвышающуюся над ним в кипенно-белом халате, но для меня на мгновение она исчезла, как и все, кто присутствовали в лаборатории. Я смотрела на мальчишку и внутри все защемило от раздирающего чувства, от невыносимого желания закрыть от матери собой и запретить ей трогать его. И не потому, что мне стало жалко. Этот мальчик внушал какие угодно чувства, но не жалость. В его взгляде было столько отчаянной ярости и дерзости, что впору было отшатнуться, как от дикого зверька, опасного и непредсказуемого. А мне почему-то захотелось протянуть руку и пригладить его взъерошенные волосы. Я никогда не забуду, как он рассматривал меня, склонив голову к плечу. Как приложил ладонь туда, где была моя рука, и провожал долгим взглядом словно я какое-то невероятное чудо, которого он никогда в своей жизни не встречал.
В то время я была для него чудом, а он для меня спасением от безграничного одиночества. После смерти папы я осталась совсем одна. Бабушка слегла и мать определила ее в дом престарелых, который упорно называла госпиталем для пожилых. Её младший сын разбился на машине три года назад, и бабушка вернулась из Белоруссии к нам, продав там квартиру.
Наверное, именно в те дни я возненавидела мать той ненавистью, которая уже не пройдет и лишь будет прогрессировать, с годами превращаясь в мрачную необратимую ярость. Возненавидела из-за бабушки, из-за отца, из-за себя. Ничто так не отталкивает, как чье-то равнодушие. Даже презрение и злость не так разрывают душу, как полное безразличие той, кто должна была меня любить самой абсолютной любовью. Ведь должна! Я читала об этом в книгах. В многочисленных и бесконечных книгах, которыми наполнена наша библиотека. Мне было всего лишь восемь, а я глотала романы, которые с трудом могли осилить подростки. Мне ничего не оставалось, как читать много, запоем, взахлеб пожирать все, до чего дотягивались руки. Таким образом я могла уйти от внешнего мира. Стать кем-то другим. Кем-то, кем Алька Мельцаж быть никогда не могла и не сможет. С друзьями мне особо не повезло — мы жили слишком далеко от школы, предназначенной для детей важных государственных работников, и меня туда возил личный водитель через весь город, потому что это было престижно, а мать непременно должна была думать о своем престиже. Показуха всегда и во всем. Самое важное для нее «Что скажут люди?» или «Ты дочь профессора Ярославской! Ты должна быть лучше всех в школе! Только посмей принести плохую оценку или замечание!». Дети со мной особо не дружили, да и когда, если сразу после уроков Павел забирал меня и привозил в наш большой дом, принадлежавший еще моему покойному деду (тоже профессору и доктору наук) и находившийся почти на выезде из города, неподалёку от клиники. И вокруг всего несколько домов таких же врачей, как и моя мама, целиком посвятивших себя исследованиям в научном центре. Пока папа еще не слег, я проводила много времени с ним, потом с бабушкой, а теперь…теперь у меня никого не осталось. А ведь Софья Владимировна была в своем уме, и можно было нанять кого-то, чтоб ухаживали за ней у нас дома, но мать оставалась непреклонной в своем решении избавиться от ненавистной свекрови. Оставшись несколько раз одна дома, я взмолилась взять меня в клинику.
— Пожалуйста, мама. Я не помешаю тебе. Мне страшно одной в этом огромном доме.
— Включи свет и телевизор. Не выдумывай, Аля. Страхов нет, ты сама их себе нафантазировала. Надо посмотреть, что ты там читаешь. В конце концов, сделай уроки.
— Я все сделала и даже наперед. Антон Осипович тоже задержался на два урока по фортепиано вместо одного… Я не могу уснуть, мама. Мне страшно. Здесь совсем никого нет. Когда ты приедешь домой?
— Мне некогда слушать твое очередное нытье. Ты взрослая девочка, найди себе чем заняться.
Она просто положила трубку. А я так и видела, как на ее невозмутимом лице не дрогнул ни один мускул, как поправила очки и, цокая каблуками, пошла в свою лабораторию. Я в настойчивой ярости набрала номер снова, а потом еще и еще. Наперекор ей. Пусть слышит, как трещит проклятый аппарат, пусть ей сообщают о моих звонках каждые пять минут. Но она ни разу мне так и не ответила, за что моя ненависть поднялась еще выше на одну ступень. Я, швырнула аппарат на пол и побежала в комнату покойного отчима (я всегда называла его папой), обнимала любимую фотографию и рыдала на его кровати до самого утра, пока не уснула в спальне, пахнущей стерильной чистотой и уже давно утратившей его запах…запах улыбок и счастья, запах детства. Мое почему-то оборвалось именно тогда, когда его не стало и мы вернулись с похорон, а потом спустя несколько дней, перед тем как сесть в машину, чтобы уехать навсегда, моя бабушка поцеловала меня в макушку и тихо сказала:
— Алечка, ты взрослей, моя девочка. Взрослей. Ты все сумеешь и сможешь сама. Ты очень красивая, умная, талантливая и очень сильная. Ни за что музыку не бросай, никогда не бросай — ты станешь знаменитой, вот увидишь. У тебя на роду написано…мне карты все сказали. Прощай, моя хорошая.
Я бежала за машиной, вытирая слезы, а она махала мне сморщенной рукой через заднее стекло. Больше я никогда ее не видела — бабушка умерла через два месяца после папы. А мать всё же забрала меня к себе в клинику. Ей пришлось, так как меня и в самом деле стало не с кем оставить, а может, ей осточертели мои звонки и истерики. Я думаю, она не раз потом пожалеет об этом или возненавидит сама себя, хотя вряд ли такой человек, как моя мать, умеет ненавидеть. Скорее, презирать.
Едва я осталась одна в небольшой комнате, выделенной мне неподалеку от ее кабинета, то тут же бросилась к лаборатории, вспомнив о мальчике с глазами загнанного волчонка и всклокоченными черными кудрями. Сняв туфли, я кралась туда на носочках, выглядывая из-за угла и прячась обратно, едва завидев медперсонал или охранников, а потом снова мелкими перебежками от стеночки к стеночке, пока не добралась до больших стеклянных дверей, которые оказались запертыми на ключ.
Неподалеку, из соседнего кабинета доносились мужские голоса, и я заглянула туда, тут же отпрянув назад.
— Та оклемается он. Тот еще выродок живучий. Я боюсь его теперь. Ты видел, что он с Василичем сделал? Места живого на нем не оставил. Пятьдесят три колото-резаные в лицо и в шею. Психопат гребаный. Кто знает, что ему завтра в голову взбредет.
— Василич заслужил. Я б сам ему яйца оторвал, если б не грымза наша. Как жена с сыном приезжали, так мне и хотелось ему глаза повыковыривать, чтоб не смотрел на Лёлика моего.
Я сильно-сильно зажмурилась. Мама говорит, если плохие слова слышишь, нужно уши руками закрывать, а если скажешь, то срочно рот мыть с мылом и больше никогда не говорить.
— О мертвых или хорошо, или ничего. Давай лучше помянем доктора.
— У тебя есть?
— А то. Пошли к мне в подсобочку, я и огурчиков бочковых с погребка достал.
— А если сучка придет проверить?
— Не придет, у нее две операции сегодня и дочка ее здесь.
Это они мою мать так обзывают? Захотелось кинуться на них с кулаками, но это означало себя обнаружить, и я не произнесла ни слова.
Юркнув за угол, когда они ушли, я подбежала к столу и стянула ключи.
Открыла стеклянную дверь и так же аккуратно заперла ее за собой изнутри. Прокралась ко второй толстой деревянной двери, ведущей в помещение для подопытных животных, и та оказалась незапертой, я толкнула ее двумя руками, пытаясь разглядеть в полумраке куда идти. Над стенами стояли клетки с собаками, обезьянами и разными грызунами, которые притихли, едва я вошла в помещение. Я медленно прошла мимо них, чувствуя, как щемит где-то внутри от жалости и невыносимо хочется их приласкать, но едва я протянула руку к одной из клеток с обезьянками, животное тут же метнулось в угол и задрожало. Потом я пойму, что они боялись тех, кто протягивают к ним руки, потому что они причиняют им невыносимую боль. И я пошла к дальней двери, распахнутой настежь. Двери, за которой находился большой вольер из железной сетки, я бы назвала его клеткой. Шаг за шагом, склонив голову, я подходила все ближе и ближе, стараясь рассмотреть, кто там, и вздрогнув, когда засветились в темноте волчьи глаза. Подошла вплотную к клетке и присела на корточки, заметив фигуру мальчика на голом кафеле рядом со зверем. Волчица тихо зарычала, когда я коснулась клетки. А мне стало страшно, что она его загрызет или покалечит.
— Эй…мальчик. Просыпайся. Она тебя съест.
Он резко подскочил на полу, тут же став на колени, впиваясь пальцами в клетку, а я тихо всхлипнула, увидев длинный порез у него на лице от виска через всю щеку до самого подбородка. Раскрытый и все еще кровоточащий. Его явно избили, потому что глаза мальчика опухли и заплыли, он силился смотреть на меня тонкими щелочками, а мне показалось, что я сейчас громко закричу от обжигающего чувства внутри…это его боль ошпарила меня словно кипящим маслом, оставляя первые пятна на сердце. Вот оно — самое начало проклятия, когда я подцепила эту смертельную болезнь без имени и названия. Потом я всегда буду ощущать его страдания сильнее собственных, даже тогда, когда он будет истязать меня саму…но самое страшное, что я всегда буду знать, что эту боль мы делим пополам, она никогда не будет только моей или его. Она наша общая…и нет ничего прекраснее осознания этой адской взаимности. А тогда я коснулась пальцами его пальцев, и он тут же отпрянул назад, а я вскочила на ноги и бросилась к шкафчикам с красными крестами, распахивая их настежь в поисках ваты, бинтов и спирта. Да, я знала, что делать с ранами все-таки моя мать врач и было время, когда я тоже хотела стать врачом, а отец, смеясь, учил меня лечить моих кукол и бинтовать им все части тела и даже зашивать раны. Когда я вернулась с медицинским железным лотком, доверху наполненным ватой, с баночкой спирта и бинтами, мальчик все так же сидел, вцепившись руками в решетку, и внимательно следил за каждым моим движением.
Я отодвинула засов на двери и едва захотела войти, как на меня тихо зарычала волчица… а ведь я совсем о ней забыла, пока собирала медикаменты. Мальчик обернулся к ней, издав какой-то низкий утробный звук, и снова посмотрел на меня. Переступив порог, я остановилась, сжимая в руках бинты и глядя расширенными глазами на ошейник на шее паренька и на железную цепь, вкрученную в стену. Сразу я их не заметила.
И я вдруг подумала о том, что так нельзя обращаться с людьми и с животными нельзя…Я буду хотеть сказать матери об этом. Невыносимо буду хотеть. Но я слишком хорошо её знала — едва я признаюсь, что ходила в лабораторию, она сделает все, чтоб я сюда больше никогда не попала, вплоть до того, что отправит обратно жить в нашем доме. Это была некая степень моего эгоизма — страх разлучиться с ним ценой его мучений и свободы. Возможно, расскажи я кому-то о том, что происходит за стенами исследовательского центра, у нас у всех была бы совсем иная судьба, но я этого не сделала. Мне такое даже в голову не пришло. Я возмутилась его ужасному положению, но ничего не предприняла, чтобы что-то изменить, и не предприму еще долгие годы, особенно когда пойму, что власти прекрасно знают об опытах над людьми и выделяют для этого средства, оказывая покровительство моей матери.
Решительно шагнув внутрь, я опять замерла, понимая вдруг, что нахожусь в клетке с двумя зверьми. Что мой новый знакомый на человека похож лишь внешне, и именно о нем говорили охранники — этот мальчик зарезал какого-то Василича. Но еще раз взглянув на лицо паренька, покрытое синяками, я подумала о том, что тот несомненно все это заслужил, и сделала шаг в сторону подростка.
Он мужественно терпел, пока я промывала раны перекисью и мазала спиртом, даже не вздрагивал. Потом я пойму, что по сравнению с той болью, которую нелюдь № 113 терпел ежедневно, мои манипуляции с его раной казались всего лишь комариными укусами.
— Ты такой сильный и смелый. Я всегда визжала, когда бабушка мазала мне ранки зеленкой. Я часто падаю с велосипеда, не умею на нем кататься, сын нашего соседа говорит, что я неуклюжая тощая каланча, — два мазка по ране и снова в его страшные, заплывшие черные глаза с багрово-синими веками, которые неотрывно смотрят на мое лицо так, словно не могут отвести взгляд. А я снова мазнула ваткой и подула, от этого движения мальчик резко отшатнулся назад и оскалился. Волчица зарычала вместе с ним, поднимая голову и навострив уши.
— Говорят, что так меньше щиплет. — тихо объяснила я, — Я всегда дую себе на ранки, когда мажу. Вот, хочешь, покажу?
Я закатала рукав платья и показала ему счесанный локоть, намазанный зеленкой.
— В школе с лестницы свалилась. Петька Рысаков, козел, столкнул, я ему за это портфель чернилами облила. Вот видишь, я тоже мазала и дула, и было совсем не больно. — я подула на локоть, и вдруг мальчишка тоже подул на него вместе со мной. Я засмеялась, а он вообще оторопел, глядя на меня не моргая. Тогда я наклонилась и подула на его рану снова. Теперь он не отшатнулся и даже глаза закрыл.
— Воооот. Я ж говорила — это приятно. А ты почему все время молчишь? Разговаривать не умеешь? А имя у тебя есть?
Он отрицательно качнул головой и вдруг снова смешно и очень серьезно подул на мой локоть, рассматривая рану, и я улыбнулась. Когда он это сделал, на душе стало так тепло. Сочувствие всегда порождает ответную волну эмоций.
— Ты хороший. — погладила его по голове. По жестким длинноватым, спутанным волосам, — Не знаю почему они тебя так боятся. Наверное, ты плохо себя вел и тебя наказали. А родители у тебя есть? Где твоя мама?
— Ма-ма, — тихо повторил за мной мальчик и посмотрел на волчицу, она склонила серую голову с проплешинами и пошевелила ушами. Наверное, в том возрасте еще многого не понимаешь, но я больше не задавала вопросов, на которые он не давал мне ответов, что-то придумывала сама. А на что-то вообще закрывала глаза. Я хотела, чтоб он всегда был рядом со мной…я даже не задумывалась о том, что для него это означает вечную боль и неволю. Тогда еще не задумывалась.
— И то, что имени нет, это неправильно. У человека всегда должно быть имя.
Сунула руки в карманы и обнаружила в одном из них конфету.
— Хочешь половинку? Это «Красный мак», мои любимые.
Я протянула ему конфету, но он с опаской смотрел на нее словно на отраву.
— Не знаешь, что такое конфеты? — удивилась я, — Это очень и очень вкусно.
Развернула обертку и услышала, как издала какой-то звук волчица. Я посмотрела на мальчика, на пустую миску на полу, потом на нее и вдруг поняла, что они оба голодны. А я тут со своей единственной конфетой. Я разломала ее пополам, чтобы честно дать кусочек своему новому другу, а второй съесть самой. Мама редко баловала меня сладким — она считала, что от сладкого у меня испортятся все зубы. И эта конфета осталась еще с того времени, когда бабушка приехала из столицы. Она тихонечко выдавала мне по несколько конфет, и я прятала их в карманы, чтоб мама не увидела и не отобрала.
— Вот. Это тебе. — дала мальчику, но он не торопился брать лакомство и тогда я протянула руку к его рту, — Положи под язык и соси ее — так дольше чувствуется вкус шоколада и сахара. Он, как песок хрустит на зубах и катается на языке. Это тааак вкусно. Мммммм.
Внезапно парень забрал у меня конфету, резко стянув ее зубами с ладони, и теперь отшатнулась уже я. А он ее, не прожевывая, проглотил. Понимая, насколько он голоден, я протянула ему вторую половинку, но теперь он взял ее в зубы и на четвереньках переместился по клетке к волчице. Положил возле нее, она благодарно облизала ему лицо и вдруг навострила уши. Мальчишка тут же вскочил на ноги, кивая мне на дверь, чтоб уходила. Вдалеке послышались мужские голоса, и я быстро собрала вату, спирт, схватила лоток и, пятясь спиной, вышла из клетки, запирая ее на засов, а потом прильнула к ней лицом и тихо сказала.
— Александр… я назову тебя Сашей. Как Александра Грина, который написал мою самую любимую повесть «Алые паруса». Когда-нибудь я тебе ее расскажу. Теперь у тебя есть имя…Я вернусь к тебе завтра. Са-а-аша….
А ведь он тоже написал для нас с ним сказку. Жестокую, жуткую, сюрреалистическую сказку для взрослых. Он превратил мои алые паруса в кроваво-красные и утопил в океане боли после того, как вознес в самый космос, где я видела миллиарды разноцветных звезд-алмазов. Они же потом засыпали меня сверху, придавили как камнями, когда я с этого космоса упала в бездну и разбилась.
ГЛАВА 4. Аля
Россия. 90-е годы ХХ века
Они стояли на подоконнике в обыкновенной стеклянной вазе — белые каллы с ветками спелой калины, туго связанные между собой обычной бечевкой и украшенные тонкой сероватой декоративной сеткой. Когда их внесли в гримерку, Аллочка уронила кисточку, которой водила по моему лицу, и побледнела.
— Что такое? — спросила я, устало поднимая веки.
— Это шутка какая-то. — пробормотала она, а я посмотрела на цветы в ее руках и почувствовала, как кольнуло где-то внутри. Обман зрения. С первого взгляда кажется, что лепестки забрызганы кровью, и лишь потом понимаешь, что ягоды оторвались и посыпались в чаши цветов, — Я выкину! Примета плохая. На похороны такие приносят! Черте что! — уже бормочет себе под нос, — Аж мурашки от них.
Я сама не поняла, как резко подорвалась с кресла и выскочила из гримерки, растолкав журналистов и телевизионщиков, взбежала на сцену с потухшим экраном, всматриваясь в темный зал. Потом обратно за кулисы, быстрым шагом, почти бегом на улицу. Каждый раз один и тот же сценарий — мне приносят цветы, я бегу в надежде успеть увидеть, кто их принес и, конечно же, никого не нахожу. Как будто получаю их от призрака.
Обхватила себя голыми руками, дрожа на холодном сентябрьском ветру в одном тоненьком платье, вглядываясь до рези в глазах в толпу поклонников, в машины и на прохожих за красивой оградой телецентра. Кто-то на плечи набросил пальто, и я рассеянно обернулась, встретилась взглядом с мужем, с трудом подавив возглас разочарования.
— Все нормально, любимая? Что-то случилось? — от фальшивой заботы оскомина на зубах мокрым песком.
Мгновенная улыбка на губах, взмах накладными ресницами и взгляд полный признательности, отрепетированный за долгие годы до совершенства, но такой же фальшивый, как и его забота.
— Все хорошо. Вышла вдохнуть свежего воздуха.
— Холодно и дождь идет. Ты можешь простудиться.
— Душно там стало, Вить, вот и вышла. Я пойду. Интервью скоро. Спасибо, что приехал.
Издалека послышались крики фанатов, толпа меня заметила, рванула ко входу, едва сдерживаемая охраной, и я тут же ретировалась обратно в здание, нажимая кнопку лифта и поднимаясь на этаж концертного зала, где проходила премьера моего последнего фильма «Одиночество», который «взорвал» критиков и свел с ума желтую прессу откровенными сценами и противоречивым сюжетом.
Распахнула дверь гримерки и тут же услышала голос Аллочки:
— Я их выкину, да? — она так и продолжила стоять с букетом в руках.
— Не тронь!
Я взяла цветы из ее рук. Сердце продолжало тревожно биться и дергаться. Я получала их каждый год. Получала всегда именно в этот день и независимо от того, где находилась. В прошлый раз у меня были съемки под Владивостоком в одной из деревень, а их все равно привезли с курьером. Ни одного магазина, машины не ездят из-за размытых дорог, а мне букет этот на мотоцикле из самой столицы доставили. Я знала, от кого они. Знала и в то же время дрожала от одной мысли об этом. Нельзя вспоминать. Нельзя, иначе опять не смогу жить, есть, спать и дышать. Его не существует. Он умер. Даже если не умер по-настоящему, он умер для меня. Когда первый раз получила эти цветы, я закричала. Громко, истерически долго кричала, потом разбила окно, потому что в панической лихорадке не могла его открыть, и вышвырнула букет на улицу в грязь, под машины…чтобы через минуту выбежать босиком на дорогу и поднять его дрожащими, изрезанными разбитым стеклом руками из лужи, прижать к груди, закрывая глаза, тяжело дыша и всхлипывая от яростной боли, которая пронизала всю душу насквозь, прошла огненными иголками сквозь сердце — нашел.
Он меня нашел. И я вот я опять живая. Оказывается, все же живая, потому что внутри, под ребрами адски болит, невыносимо. Только по нему так болеть может, только с ним настолько живая, что лучше бы сдохла.
— Вазу принеси, — тихо сказала и попробовала выдохнуть. Не получается. Сердце сжалось, каждый удар в висках отдается судорогами и плетью по нервам. Я бы полжизни отдала за то, чтобы увидеть его снова. Один раз. Издалека. Просто увидеть, как он стоит где-то там в толпе зрителей с этими проклятыми цветами и смотрит в зал глазами чертового психопата, готового сожрать меня живьем в полном смысле этого слова. Да, он умел меня пожирать. Обгладывать до костей, обсасывать даже их без жалости, смакуя мою агонию наслаждения, испепеляя дотла, чтобы потом каждую отметину покрывать поцелуями, слизывая с нее капельки моего и своего пота.
Но, нет, сейчас он не позволит мне испытать облегчение, ему нравится истязать, напоминая о себе и не делая ни одного шага навстречу, но чтоб знала — он рядом. Знала и тряслась от ужаса. И за это я ненавижу его так же сильно, как и люблю. За то, что мучает. Не дает расслабиться. Напоминает о своем существовании и о нашем прошлом. Хочет, чтоб боялась. И мне страшно… я боюсь, что он исчезнет или что мне всё это кажется, и эти цветы от кого-то другого. Я слишком известная личность. Психопатов, жаждущих привлечь к себе мое внимание намного больше, чем один единственный бывший…и я не знала, кто «бывший«…Любимый? Любимых бывших не бывает…Бывший мой? И это тоже неправда — он навсегда останется моим, даже если забыл меня. Пальцы тронули горошинки калины. Красивая, огненно-кровавая и горькая до безумия. Как наша с ним страсть. Только горечь и боль. Только необратимость. Только смерть.
* * *
Вначале кажется, что это красные бусины. Крупные, блестящие, как лакированные… И мне становится страшно, что он их украл и что его за это опять будут бить. Мой сумасшедший. А потом понимаю, что это калина, на нитку нанизанная. Саша на шею мне одел… а у меня от счастья сердце сдавило тисками и не отпускает. Я никогда раньше такой счастливой не была, как с ним в этот момент… и не только в этот.
— Подарок, — в глаза смотрит, жаждет впитать мою реакцию, а у самого в уголках взгляда сомнение вспыхивает, не уверен, что понравится. Он его гасит, зажмуриваясь и тут же распахивая глаза, чтобы не упустить моих эмоций.
— Самый дорогой подарок…самый …самый. Спасибо, — лихорадочно по его лицу приоткрытым ртом, как же сводит с ума его запах и щетина колючая, от которой потом скулы саднит и губы щиплет, — все, что от тебя — бесценно. Вечно носить буду.
— Сгниют, — гладит по скулам и в глаза глазами своими черными смотрит. Прожигает насквозь. Он всегда мало говорит. Так мало. Но от каждого слова по коже мурашки бегут. Потому что для меня. С другими молчит. А со мной разговаривает, иногда такое мне шепчет, что щеки пунцовыми становятся.
— Засушу и спрячу, как и твое сердце. — в его губы ищущими голодными губами, закатывая глаза от наслаждения чувствовать его так близко, — Соскучилась по тебе за целый день, пока на учебе была, пока домой ехала. Минуты считала, секунды до встречи с тобой.
У него горячие губы. Кипяток. Сухие, искусанные и невыносимо горячие, а дыхание обжигает мне горло каждым рваным выдохом в рот, и я жадно глотаю этот кипяток судорожными глотками, ударяясь языком о его язык, с упоением позволяя впиваться в мой рот, терзать его в яростном исступлении, цепляясь пальцами за его жесткие угольно-черные волосы, прогибаясь под ним, под худым мускулистым телом, словно отлитым из жидкой ртути. Меня трясет в диком примитивном желании получить от него больше, чем поцелуи. Намного больше. С ним не стыдно и ничего не страшно. Потому что я ведь для него вся. Я знаю, что для него, и он знает. В глазах вижу блеск голодный и огонь бешеный, когда смотрит на меня. Никогда и никто больше на меня так не смотрел.
Грудь под свитером налилась до боли, и соски трутся о шерсть, покалывают, ноют, хочу, чтоб коснулся их, до безумия хочу. Хватаю его за руку и прижимаю к груди так сильно, что оторопели оба, разорвав поцелуй. И глаза в глаза, смотреть до секунды, когда воздух начнет вибрировать от приближающегося взрыва сумасшествия. В сарае холодно. На улице холодно, а мне горячо рядом с ним так, что капли пота на коже выступают от напряжения. И я шепчу ему в губы, мокрые от поцелуев, срывающимся голосом.
— Раздень…жарко мне. Сними…пожалуйста.
Простонал что-то еле слышно. Тянет мой свитер вверх, и лязгает цепь, возвращая на мгновение в реальность, где он зверь подопытный, и тут же вышибает из нее обратно в безумие очередным стоном, когда свитер отбросил на сено и ошалевшим взглядом на грудь мою смотрит с напряженными сосками и красными бусинами калины между ними.
— Прикоснись ко мне, — срывающимся шепотом, трогая его губы, пока он судорожно со свистом выдыхает и втягивает воздух, глядя на мою грудь и дрожа всем телом от возбуждения.
А потом трясущимися пальцами за бусы взялся и вниз повел от горла до ключиц, заставляя меня выгибаться навстречу, покрываясь мурашками. Цепляет напряженный сосок ниткой и заставляет меня всхлипнуть, когда раздавил ягоду, сжимая грудь сильнее, обхватывая дрожащей пятерней, и я в самом примитивном желании тяну его за волосы вниз. От сомкнувшихся на соске губ и касания языка пронизало током все тело, и ноги непроизвольно сжались вместе. И он сминает грудь уже сильнее, двумя руками, посасывая соски, кусая их в исступлении, давит ягоды жадным ртом и руками, а мои пальцы тянут его волосы, и тело выгибается навстречу ласке, извивается под ним. Хочется везде его руки чувствовать и губы. Везде, особенно между ног, где так горячо и невыносимо мокро, где от пульсации низ живота болит и зарыдать хочется. Чего-то более острого хочется, чтобы разорвало на части, а пока нас трясет обоих в дикой лихорадке.
Оторвался на мгновение, и мне холодно стало тут же, закусила губу, чтобы не закричать, не потребовать вернуть моё тепло обратно. Расфокусированным взглядом в его лицо, вижу, как губы шевелятся и голос тихий, срывающийся.
— Как солнца коснулся…Кожу обожгло, видишь?
Показывает мне ладони свои, я головой мотаю, а он губами по шее, вызывая новую волну мурашек.
— Они внутри, — зубами цепляет мочку уха, я вскрикиваю, и он рот мне закрывает ладонью, — ожоги. Они под кожей, — и снова на рот мой, не позволяя ответить, отстраняясь, обдавая жарким дыханием, — ты у меня под кожей.
Впервые так много говорит, но каждое его слово — это ласка, которая возбуждает сильнее прикосновений, хриплый шёпот заставляет взвиваться от страсти. Поцелуи со вкусом калины горько-сладкие, огненные, звериные, и он наваливается сверху, придавливая всем весом, заставляя тереться голой грудью о его грудь, о жесткие волосы и твердые мышцы. Сминает меня жадными руками, пожирая поцелуями, и я трусь в изнеможении о его бедро между моих ног, содрогаясь от возбуждения, взмокшая, обезумевшая, как и он…пока вдалеке голос Степана не послышался.
— Эй. Бес, ты где, тварь проклятая, прохлаждаешься? Тебе кто позволял в сарай идти, ублюдок?
И я прячусь за сеном, пока охранник бьет его по спине цепью, выгоняя из сарая, а я на каждом ударе губы кусаю и вздрагиваю так, словно меня бьют, словно моя кожа лопается и по моему телу кровь течет. Из-за меня бьет. Потому что ко мне сбежал и работу бросил. Ненавижу мразей. Ненавижу всех. И мать свою ненавижу. Когда-нибудь Саша сбежит от них. Мы вместе сбежим. Никто нас не найдет…Никто.
Всхлипываю, отыскивая ягоды в сене, собирая в кулак и не видя ничего из-за слез.
* * *
Они все у меня в шкатулке засушенные лежат. Их сорок девять штук тогда осталось и больше ничего от него, кроме них и воспоминаний.
— Не нужно, я сама! Никакого трёхкилограммового грима!
Отобрала расческу у Аллочки и повернулась к зеркалу, проводя по волосам и глядя сквозь свое отражение в зеркале в никуда. Тело еще покалывает от воспоминаний, и на губах калина горчит.
— У вас синяки под глазами и бледная кожа, а на вас вся страна смотреть будет. Иван Федорович разозлится…
— Плевать! Не разозлится. Не то я разозлюсь и откажусь давать это интервью. Я болею. Я вообще не в форме.
— Не болеешь, а в очередной депрессии, — послышался голос продюсера, который вошел в гримерную и прикрыл за собой дверь, — Аля, у нас пятнадцать минут до эфира. Народ ждет. Тебя хотят видеть. Под окнами телецентра толпы людей с плакатами с твоим именем. Сейчас не время впадать в очередную хандру. Я обещаю отпуск после этого интервью. Обещаю.
— Ты мне этот отпуск несколько лет обещаешь. Ничего не хочу больше. Устала я. К дьяволу кино! Интервью эти. Все к такой-то матери! Уехать хочу. Все бросить и уехать.
Сдохнуть хочу, но этого я вслух не сказала. Поднесла ко рту сигарету, и Иван Федорович тут же чиркнул зажигалкой. Меня замутило от резкого запаха его одеколона и удушливого дыхания с парами коньяка. Отшатнулась и встала с кресла, чтобы подойти к окну и стать рядом с цветами, распахнуть окно настежь, подставляя лицо порывам ветра и мелким колючим каплям дождя.
— Аля, девочка моя, ты же талант. Сыграй для них, как ты умеешь. Через не хочу. Что ж ты мне каждой осенью нервы треплешь? И мне, и Виктору. Это нужное интервью. Тебе нужное и нам всем. За рекламу уже заплатили серьезные люди. Ты же знаешь, сейчас не время для хандры. Соберись и иди к людям.
Я руку его оттолкнула, сбрасывая с плеча.
— Допинг дай и выйду, если тебе так надо.
Иван Федорович лихорадочно осмотрелся по сторонам.
— Что ты так громко! Не нужно кричать. С допингом завязывать надо, Алечка. Без него тоже можно продержаться.
— Я не хочу без него. Или давай, или иди к черту — я домой поеду.
Вложил пакет с белым порошком мне в ладонь и прошептал на ухо:
— Только чтоб Виктор не узнал, я ему слово дал, что не принесу тебе больше.
Я расхохоталась, глядя Ивану в глаза через стекло:
— Слово дал? Ему? Думаешь ему не наплевать? Показушник чертов, да по фиг ему, что я нюхаю, даже если колоться стану, он вначале просчитает, сколько денег я приношу и трачу, и только потом подумает, сдохну я или нет. Иди, Иван. Я скоро в форме буду. Мне пару минут надо.
Дверь захлопнулась. А я снова к цветам прикоснулась, несколько ягод сорвала и в рот сунула, разжевывая и глядя на свое слабое отражение в стекле. Потом разорвала пакет с кокаином насыпала на запястье и втянула в себя, сжимая переносицу двумя пальцами и закатывая глаза от сильной щекотки и от покалывающих искр удовольствия, растекающихся от кислой горечи из носоглотки по всему телу. Последние годы бывали дни, что только так могла на сцену выйти, только так не думала ни о чем. Отвлекалась от ощущения невыносимого, отчаянной тоски по нему, от понимания, что я мертвая уже давно. Что нет меня с тех пор, как не вместе мы. Не я это совсем. Другой кто-то с моим лицом улыбается, а я не умею улыбаться, жить, дышать без него не умею. За столько лет так и не научилась.
«А ты все-таки нелюдь, Саша, ты меня живьем разлагаться оставил. Лучше бы задушил или сердце вырезал. Как охранникам тем. Намного гуманней бы было».
Когда вышла к журналистам, тут же защелкали фотокамеры, а я улыбнулась и помахала рукой зрителям, поворачиваясь в разные стороны и посылая им воздушные поцелуи.
— Какая она красавица!
— Ослепительна! Звезда! Богиня!
— Али-и-ин-а-а-а! Я ради вас спрыгну с крыши!
Я села в мягкое кожаное кресло. Поправляя волосы и поднимая глаза на ведущего, который тут же судорожно сглотнул, отрывая взгляд от декольте моего платья. Константин Морозов — смазливый кобель, перетрахавший все, что движется и не останавливающийся на достигнутом. Последняя любовница, известная певица старше его на тридцать лет, вознесла Морозова до невиданных высот, откуда он вещал своим тенором речи с претензией на сарказм и оригинальность, поправляя длинные пряди волос за ухо. Вот и сейчас он явно старался произвести впечатление:
— Алина Бельская — молодая актриса, но ее имя известно нам всем уже давно. Она взрослела на наших глазах, превращаясь из юной девушки в невозможно красивую женщину. В талантливую, ослепительно красивую и востребованную актрису Российского кинематографа. На ее счету участие в таких фильмах, как «Анна Каренина», «Гамлет», «Война любви» и, наконец, скандальная картина «Одиночество», премьера которой состоялась сегодня в нашем зале и собрала невиданное количество зрителей. Кроме того, Алина играет в театре, где ее успех так же ошеломителен, как и в кино.
Он говорил, а я смотрела на него и думала о том, что меня раздражает эта наигранная улыбка и этот маслянистый взгляд, которым он шарит по моему лицу и телу, явно вспоминая откровенные кадры из фильма и смакуя их про себя. Я отвечала на вопросы, как робот, робот запрограммированный на определенные слова, эмоции, улыбки. Зал рукоплещет, ведущий в восторге и, кажется, уже думает о том, а не взять ли ему у меня номер телефона или не дать ли мне свой. Он хочет убить двух зайцев сразу — переспать со мной и, возможно, получить свою первую роль. Петь он уже пробовал, теперь хочет сниматься в кино.
В конце вечера кто-то принес совершенно чистый конверт и в прямом эфире отдал ведущему, который тут же расплылся в улыбке и помахал этим конвертом перед камерой.
— И самый главный сюрприз сегодняшнего вечера. Конечно, же мы не забыли, что у вас день рождения и для вас приготовлен подарок. Нашей студии сообщили о возможном сотрудничестве, и мы были, мягко говоря, в шоке.
Так что же прячется в этом конверте? Приглашение от известного, талантливого американского режиссера и продюсера Френка Карреллы на съемки его нового фильма «Остров смерти». Пробы будут проходить через несколько недель. Поаплодируем такому грандиозному успеху! Впервые российская актриса будет сниматься у голливудского режиссера. У меня даже нет сомнений, что пробы пройдут успешно.
Я почти его не слышала. Взяла конверт, продолжая улыбаться и принимать поздравления. Конечно же, Морозов дал мне свой номер и шепнул на ухо, что будет ждать моего звонка, на что я ответила презрительной улыбкой.
— А я не слишком маленькая для тебя?
Его глаза удивленно расширились, а я похлопала его по плечу.
— Позвоню лет через десять, если номер не сменишь.
Уже у себя дома, когда положила конверт на комод и с облегчением сбросила туфли с ног, услышала, как зазвонил телефон. Сняла трубку, расстегивая змейку на юбке.
— Аля, включай телевизор — Морозов только что разбился на машине насмерть.
Я схватила пульт от телевизора и включила первый канал, где уже шел экстренный выпуск новостей:
— Всего лишь полчаса назад наш коллега и талантливый журналист и ведущий Константин Морозов погиб в страшной аварии. Его машина упала с моста…Следствие пока…
Я сделала тише звук и села на диван, беря в руки конверт и глядя, как горничная ставит букет калл в воду. Несколько ягод калины выпали и покатились по белому ковру прямо к моим ногам.
— По предварительным данным, в Морозова стреляли перед тем, как он потерял управление и, врезавшись в столб, вылетел с моста в воду. Еще один журналист подло убит…
Я даже не подняла голову, увлеченно катая босой ногой ягоду по ковру, пока не раздавила ее и сок не брызнул в разные стороны, пачкая ковер кровавыми пятнами.
ГЛАВА 5. Бес
На её губах довольная улыбка. Красивая. Я впервые замечаю, насколько она красивая. Раньше я не задумывался об этом. Раньше она олицетворяла для меня само Зло. А зло не принято рассматривать. Его не принято разбирать на составляющие, иначе можно свихнуться от новых вопросов, от ощущения безысходности, когда так отчаянно ищешь ответы, а они всё дальше и с каждым новым шагом страшнее найти конец нити, скрученной в этот клубок. Страшнее потому что со временем начинает казаться — по ту сторону не конец веревки, а острые лезвия, которые вонзятся в твою грудь, стоит достичь их. Монстр. Она слегка хмурится, не поднимая на меня своих глаз. Я знаю их цвет, но я готов выгрызть любому кадык, только бы не признавать, что у её дочери такие же глаза. Ни хрена. У моей девочки глаза живые, искренние, при взгляде на которые хочется дышать и в то же время адски тяжело сделать вздох. Та самая красота, от которой физически становится больно. Ассоль читала мне об этом в своих книгах.
«— Больно смотреть?
— Да. Но это просто оборот речи. Когда писатель хочет передать, насколько красив герой или героиня.
— Так не бывает?
— Конечно, нет, — она смеётся, и её белозубая улыбка полосует сердце надвое. Качаю головой, протягивая руку и касаясь нежной щеки костяшками пальцев. Как же она ошибается.
— Бывает.
Опускает глаза, но я успеваю заметить, как они вспыхнули от удовольствия, и по щекам разлилась краска смущения».
И мне было действительно больно смотреть на неё. Это когда в груди всё сжимается и начинает покалывать под кожей, когда она рядом. Кажется, прикоснётся — и я сдохну, свалюсь мешком с костями возле её маленьких ножек.
Если бы я знал, что не сдохну…что захочу прикасаться ещё и ещё. Сам. Волос её тёмных, шелковистых, волнистых. Она собирала их в хвостик или косичку, а я обожал распутывать их пальцами, слушая, как сбивается её голос, пока читает мне очередную свою книгу.
— Валечка, показатели в норме, сделаешь сам последний анализ крови и дашь мне последние данные по компонентам. Внедрение прошло успешно.
Валентин кивает, поправляя пальцем очки, а я медленно выдыхаю, сдерживая приступ тошноты. Какую-то дрянь мне впрыснули в вены. Плевать. Я привык. Чтобы отвлечься, посмотрел на Снегирёва.
По похотливому взгляду видно, что мечтает эту суку трахнуть. Хотя то, с каким хозяйским видом глядит вслед профессору, пока она заученными до автоматизма движениями снимает перчатки и кидает их в мусорное ведро, говорит, что, наверняка, уже отымел этого монстра. Причём не раз, потому что взгляд у ублюдка далеко не щенячий, восторженный, с каким на неё смотрел когда-то местный лаборант, а довольно уверенный. Да и запах её я на нём ощущаю. Устойчивый такой, словно покрывал сутки напролёт. По телу дрожь омерзения прошла. И непонимание — как можно было мразь эту захотеть.
И тут же словно обухом по голове: а ведь ты хочешь. Ты, мазохист несчастный, до одури, до дрожи в пальцах дочь её хочешь. Когда смотришь на неё, крышу напрочь сносит, так, что теряешь чувство пространства и времени. А ведь Ассоль копия своей матери. Ведь ты запретил ей собирать волосы в пучок, потому что слишком тогда суку эту напоминает.
И всё же настолько отличается, как отличается чистое синее небо от грязной земли. Всю жизнь не смел поднять голову с земли, а когда рискнул — едва не ослеп от красоты, раскинувшейся над головой.
Я не знаю, как так получилось, что я перестал смотреть на неё, как на своё солнце, и захотел не просто любоваться им каждый день, греясь в тепле его лучей…как так получилось, что стало жизненно необходимым поймать их в ладони, прикоснуться, чтобы осатанеть от этой близости.
Я не знаю, как стал хотеть чего-то большего, чем просто слушать её голос, тихим шёпотом рассказывающий что-то о школе или друзьях, как стал желать встречи с ней, словно одержимый, словно помешанный наркоман ждёт очередной дозы. Я её выгонял. Когда понял, что подсаживаюсь на неё, что начинаю сходить с ума, если она не появляется два или три дня подряд. Она приходила, улыбалась, а мне шею ей свернуть хотелось. За то, что забыла обо мне так надолго. Я не умел считать, но я знал, что солнце за это время успевало встать три или пять раз и снова спрятаться в ночи.
Она хваталась за меня тонкими горячими пальчиками, а я отдергивал руки, чувствуя, как обжигает меня ими. А ведь я себе придумал, что за эти ночи мои ожоги, те, что внутри, уже начали заживать. Бред. Они пульсировали в дикой агонии, как только она, нахмурив изящные брови, снова нагло стискивала мои пальцы, не отпуская, не позволяя отойти в дальний угол камеры. Закрывала за собой дверь и, осторожно ступая, подходила ко мне.
Сунув руку в маленькую сумочку на длинной веревке, которую она носила через плечо, Ассоль вытащила пирожок и протянула волчице, уткнувшейся в её ладонь носом. Угощает Маму, гладит её по холке, а сама глаз с меня не сводит.
— Ты обиделся?
Качая головой, усаживаюсь на пол, прислоняясь к стене спиной. Прикрыл глаза, но продолжаю следить за ней из-под ресниц. Как же тяжело даже вдох сделать рядом с ней. Кажется, лёгкие воспламенятся сейчас. Пытка в такой близости от неё и ещё большая пытка быть вдалеке.
А она чувствует, не подходит близко. Не боится, я знаю, но и давить не хочет. Правда, упрямая настолько, что, пока не выяснит, почему трясёт меня от злости, не уйдёт.
— Саш…
Имя, которое она дала мне. Почему, дьявол его подери, оно таким правильным кажется, когда она его произносит? Единственным правильным. Теперь я знал, как оно может звучать в других устах…мне не нравилось кстати. Чужим, не её голосом, оно казалось странным, каким-то некрасивым. Не моим.
— Она говорит, мне идёт это имя.
Не знаю, почему сказал это. Может, потому что делиться с ней привык всем. Всем делился, кроме своей боли. Рассказывал обо всём, что происходило вокруг, кроме опытов над собой. Хотя…обычно мои рассказы заканчивались или историями про волчицу или про то, как я довёл до бешенства профессоршу или же покалечил охранников.
Ложь. Отвратительно наглая ложь. Проверить захотелось, как она отреагирует. Заденет ли её, что с другими общаюсь. Будет ли выворачивать так, как меня выворачивало каждый раз, когда приходила и рассказывала про друзей своих, про прогулки на теплоходе и походы в кино. Особенно когда рассказала, что такое кинотеатр, и как близко там люди друг к другу сидят. Она с восторгом в зеленых глазах мне про фильм, про любовь главных героев, а меня изнутри колотить начинает от ненависти к её одноклассникам, с которыми ходила туда. И словно по венам лезвием осознание, что мне этого не светит. НИКОГДА. Ни шагу за пределы грёбаной территории. НИКОГДА. Ни мгновения за руки прилюдно. НИКОГДА. Ни обнять, ни поцеловать. НИКОГДА. Ничего из того, что женщины мои мне рассказывали.
И сердце тут же встрепенулось и замерло, отказываясь верить, надеяться, когда она вдруг резко взглянула на меня, хрупкая ладонь замерла на голове волчицы. Мгновение молчания и она убирает руку, стискивает пальцы.
— Кто?
Она знает, что я никогда не разговаривал с сотрудниками лаборатории. Они даже не знали, что я умею разговаривать, считая, что лишь способен производить животные звуки. Они не знали, что к этому времени Ассоль научила меня писать моё и её имя, и теперь мы изучали остальные буквы алфавита. И она не была дурой, она знала, что в лаборатории в соседнем крыле находились палаты с женщинами. Те самые, из которых меня переселили после инцидента с мразью Василичем. Те самые, в которые теперь водили, словно племенного кобеля на вязку.
— Инга. Говорит, идёт почти так же, как Бес.
Она не знает её имени. Нам стирали не только прошлое, нам стирали имена. Но теперь они рассказывали мне. То недолгое время, что я с ними был. О своей жизни, о семье, об имени. Словно если молчать, это всё исчезнет, как сон и останется только наш кошмар.
Ассоль кивает молча. Дёргано как-то. И я настораживаюсь. Ощущение, что ей не нравится это. Не нравится, что я рассказал нашу общую тайну, тайну моего имени другому человеку? А мне хочется, чтобы по другой причине, и я ещё дальше иду.
— Правда, она зовёт меня Александр.
Смотрю, не отрываясь. Мне хочется увидеть в её глазах ту же боль, которую я ощущаю, слушая о её знакомых. О тех, кто рядом с ней за партой, в классе, в магазине, в парке, в театре. О тех, разговоры с кем не опозорят её, не рассердят ее мать, не вызовут осуждения. О тех, кем мне никогда не стать для неё.
— Говорит, это имя пол…полка…
— Полководца, — Ассоль опускает голову, разглядывая носки мягких голубых кожаных туфель, — И часто ты с ней видишься?
Я пожимаю плечами. Я, правда, не знаю, часто ли это? Поначалу я вырывался из рук охранников, пытаясь сбежать, не делать того, что они заставляли. Я знал, чего они хотели от меня. Не был полным идиотом, не раз наблюдал за процессом, прикрывшись старой ветошью, которая валялась грудой тряпья в вольере волчицы. Подсматривал за тем, как по коридору шёл связанный крепкий мужчина с пустым взглядом и абсолютным безразличием на лице. Он разворачивал спиной к себе любую из тех женщин, на которую ему указывали, даже если они отбивались и кричали, и насиловал. Быстро. Безэмоционально. Со временем женщины теряли надежду и так же отстранённо принимали участие в процессе. Брыкались только новенькие. Затем приходило понимание — тот, кто их брал, был таким же невольником, как и они сами. И получал удовольствия не более них. Только физическое. Правда, что оно значило по сравнению с тем унижением, которому от подвергался? Выбора не было: или он послушно покрывал всех «самок», или умирал в мучительной агонии от препарата, который ввели бы ему кровь.
Откуда я знал? Мне предложили то же самое. И даже после этого я плевал в лицо охранникам, пытаясь сбежать, пока меня не оглушили чем-то в очередной раз…а потом я очнулся с диким стояком, от которого разрывало тело. С похотью, концентратом нёсшейся по венам. И можно было сколько угодно сопротивляться…но я проиграл.
— Саш, — её голос приводит в чувство, возвращает в реальность, её голос ещё долго будет моим единственным маяком, который удержит, не даст утонуть…и он же потом беспощадно станет тем самым камнем на шее, не позволившим всплыть с грязного мутного дна, — как часто ты видишься с Ингой?
- Я не знаю, — шаг ей навстречу, и она выпрямляется, напряжённо глядя в моё лицо, — с тобой…редко, — лбом прислониться к её лбу, — очень редко, — глубоко вдохнув запах её кожи. Летом пахнет. Цветами полевыми. Не знаю, почему так решил. Никогда на улице не был и цветов не видел. Но она читала мне о них, и я именно таким и представлял их аромат.
Судорожно сглотнула, а у меня у самого в горле дерёт от сухости. А когда руки положила на мои плечи, дёрнулся всем телом, ощущая, как кожа нагревается под её ладонями.
— Экзамены были, — закрывает глаза, приподнимаясь на цыпочках, — не могла приехать сюда. Все эти дни.
Медленно отстранился от неё, и наклонился к ней, чувствуя, как изнутри что-то чёрное, что-то страшное рваными волнами поднимается.
— Где спала? — распахнула глаза, а у меня это чёрное по стенкам желудка вверх, впиваясь когтями острыми в мясо, — Все эти дни.
— У Бельских. Мама договаривалась с Ниной Михайловной, мы с Витькой готовились вместе. Саша?
Кивнул, отступая назад и отворачиваясь. Чёрное в грудную клетку лезет, бесцеремонно крошит кости щупальцами своими.
— Уходи, — замолчал, ожидая, когда выйдет из вольера. Когда оставит наедине с чернотой, вонзающейся клыками в горло.
— Почему? — в её голосе изумление и обида. А мне расхохотаться хочется. И в то же время вытолкать из клетки, чтобы не смела дразнить своим присутствием. Не смела вызывать вот это жуткое желание придушить.
Сама мне десятки раз про Витьку Бельского рассказывала. Одноклассник её. Сукин сын, с которым и в кино, и на вечер танцев, и в гости. Сама придёт после таких праздников и с горящими от возбуждения глазами мне про него и не видит, что за каждое его имя её голосом прибить её хочется. Выть хочется. Потому что всё ему. Ужин — ему, танцы — ему, игры — ему…а мне жалкие крохи. Рассказы-объедки с послевкусием разочарования. Мне ничего! Только желание зверем взреветь от боли, которая внутри разливается кислото, й и крушить всё вокруг, кулаки об стены сбивать, шёпотом с её именем на губах.
— Не уйду.
Уверенно. С вызовом. И я резко разворачиваюсь на пятках, чтобы к стене её пригвоздить за плечи.
— Уходи, я сказал, — сквозь зубы, вздрагивая от того, как на губы мои посмотрела и свои облизнула.
— Выгони.
Тихо, так тихо, что не слышу — по губам читаю, и злость ответной волной.
— Выгоню. Проваливай.
— Послушный, — кивнула и руки вскинула вверх и за шею мне завела, — тогда поцелуй.
Смотрю на неё расширенным глазами и вижу, как в её зрачках моё отражение плещется. В темном болоте взгляда с поволокой страсти. Подалась резко вперёд и остановилась у самых моих губ, у самой дыхание рваное, частое, и мне кажется, я грудью чувствую, как её сердце бьётся. О мою грудь бьётся испуганной птицей.
На ресницы её — дрожат, отбрасывая тени на побледневшее лицо. Инстинктивно повторить вслед за ней движение, чтобы прильнуть к её губам своими и тут же отстраниться, ошеломлённый.
Смотрит на меня округлившимися глазами, приложив ладонь ко рту. Снова ждёт чего-то. А у меня в голове каша, перемешалось всё. Выгонять уже не хочется. Вообще выпускать не хочется никуда. Чего-то большего хочется. Того, что не испытывал ещё с другими.
— Мокро?
Спросил серьезно, а она рассмеялась вдруг растерянно, и меня повело. От желания ещё раз ощутить её губы под своими. Впился в них…и застонал, когда позвоночник разрядом дичайшего возбуждения прострелило. Пальцами в волосы её зарылся, а самого колотит от того, как к телу моему прижимается и как поддается, подставляет губы. Так сладко. Никогда не думал, что это так сладко может быть, что наизнанку вывернуть может от простого прикосновения к губам.
— Са-ша, — дыхание сбивается, а я, дорвавшись до неё, губами вкус её кожи собираю. Со щёк, с глаз, снова с губ, растворяясь в них и растворяя её с собой.
Наш первый поцелуй. Потом их будет сотни. Потом будут откровенные ласки. Потом будет секс. Но ничто не сравнится с тем самым, первым. Когда впервые понял, что не только смотреть могу, но и обладать. Когда впервые понял, что мне принадлежит.
ГЛАВА 6. Бес
«Часы показывают половину третьего, Я тихонько просыпаюсь. Я знаю, что-то не в порядке, И медленно подхожу к двери. Ощущая жару сквозь стены, Я чувствую снаружи горький запах. Все, что я вижу - Языки пламени вокруг. И все, о чем я думаю - То, что я одна. Пожалуйста, найди и спаси меня…» © «In This Moment» — «World in Flames»Я сидела, вдыхая аромат свежезаваренного кофе со сливками, если бы не он, этот длинный день казался бы еще более тяжелым и бесконечным. Сделала глоток и расслабленно откинулась на спинку кресла. Внутри все равно клокочет осадок от ссоры с Никитой. Почему-то мужчина считает, что, если переспал с тобой несколько раз, то он имеет на тебя все права. Ему и в голову не приходит, что это ты выбрала, с кем спать, когда и сколько раз. И иногда этот выбор был случаен, мимолетен и не вызывал ничего, кроме чувства разочарования и сожаления. Но он начинает копаться в себе, в тебе, ищет причины, делает выводы и просто не может понять, что тебе не было вкусно. И дело не в его внешности, сексе. Просто ты поела в этом ресторане и больше туда не хочешь. Не потому, что там плохо готовят, а просто не хочешь. Тебе там шторки не понравились. Так и с Никитой. Мы были с ним два раза после корпоратива. Я сыграла для него умопомрачительный оргазм и решила, что меня дико раздражает запах его тела, слюны и все эти словечки, которые он говорит во время секса и от которых хочется уснуть. Только его мои довольно тактичные отмазки от дальнейшего развития отношений не устроили, и, вернувшись с отпуска, он решил показать, как он соскучился, прижав меня к стене и пытаясь взять прямо в кабинете, задрав юбку мне на пояс и насильно целуя в губы, за что и получил по физиономии, а потом и каблуком по лодыжке.
— Ты совсем охренела, Белозерова? Ты что?
— А то, что «нет» — это «нет», а не «я согласна». Понял? Так более доходчиво?
— А как же…
— Что? Случайный секс? Иногда он бывает у людей, работающих вместе. Если тебе трудно с этим смириться — смени рабочее место.
— Стерва ты, Слава. Фригидная, долбаная сучка, возомнившая себя крутой!
Я ударила его по второй щеке, и после этого он сгреб свои папки и решил свалить с кабинета.
— Ты пожалеешь об этом и мне плевать на твоего папочку!
Скатертью дорога. Придурок. Как говорят, не бывает фригидных женщин — бывают паршивые любовники… И теперь я точно знала, НАСКОЛЬКО это правдивое высказывание. И смазливый Никита явно не обладал ни одним из достоинств моего другого любовника… чьего лица я так ни разу и не видела.
Я никогда раньше не отсчитывала время до вечера. Наоборот, офис всегда был для меня своеобразной отдушиной, местом, где отходили на задний план все личные проблемы и переживания, и оставались только вопросы деловые. Я с головой окуналась в тот или иной контракт, а при особо запутанных случаях и вовсе выключала мобильный телефон, полностью растворяясь для окружающего мира.
Но с некоторых пор я перестала выпускать смартфон из рук, где бы ни находилась. Ходила с ним даже в уборную. Я постоянно ждала сообщения. От него. Он мог написать в любое время, а мог не вспоминать обо мне целый день, заставляя сходить с ума. Когда на определенном этапе все мысли возвращаются только к дисплею телефона, а ночью не спишь, потому что ждешь… И ничего. И ты бессильна что-либо изменить. Он мог дать почувствовать, насколько все это несерьезно, и вдруг, совершенно неожиданно следующим утром, отправить как ни в чём ни бывало своё фирменное «здравствуй, маленькая, скучала по мне?», и я застывала над этим коротким предложением на долгие секунды. Сердце сжималось от предвкушения и тут же пускалось в бег от какой-то странной радости. Написал… Наконец-то. Как же я хотела хотя бы одно слово…Пусть даже отдаленно понимала, почему так ждала его каждое утро и вечер. Джокер стал моим билетом в другую жизнь. Туда, где не имели значения ни одно из навязываемых с детства правил и принципов. Туда, где я могла быть с ним настоящей, пусть даже и под чужим именем. Я писала ему «Здравствуй. Безумно скучала по тебе» и понимала, что это правда. Каждое слово было правдой. Я лгала ему, но никогда и ни с кем еще не была настолько настоящей, как с ним. Я уже не представляла свой день без него. Я запутывалась в этих отношениях все сильнее и сильнее. Джокер был для меня более реальным, чем кто-либо из тех, кто меня окружал. Пока в один определенный момент я не поняла, что влюбилась в него.
Сегодня я задержалась на работе — нужно было разобраться с одним делом, но мысли то и дело убегали совершенно в другую сторону. Очередной взгляд на часы, и я не сдержала вздох разочарования. Еще три часа до нашего «свидания». Автоматически проверила чат — ничего. Свернула окно и наконец открыла файл с макетом искового заявления, как вдруг завибрировал телефон — пришло сообщение на мейл. Зашла через компьютер на свою электронку:
Отправитель: какой-то незнакомый Anonymus666.
Тема сообщения: Возмездие.
Текст сообщения: Есть вещи, которые не стоит забывать. Приятного просмотра, сучка. Наслаждайся.
Горло перехватило от ужасной догадки. Остановилась, не рискуя щёлкнуть трясущейся рукой на видеозапись, прикрепленную к сообщению. Тело сковывал обжигающий ледяной страх, заставляя вжаться в спинку кресла. Я догадывалась, что мне прислали. Так бывает. Просто знаешь и всё… Потому что есть только одна вещь, которая могла меня напугать.
На каком-то автомате всё же включила видео, чтобы уже через несколько секунд закричать беззвучно от первых же кадров. Как в самых страшных снах, когда ваш голос неожиданно пропадает, и вам остается только беззащитно открывать и закрывать рот. По вашим щекам катятся осколки того самого льда, причиняя нечеловеческую боль, а сердце стучит всё медленнее, словно замерзая.
Я смотрела на языки пламени, а сама дрожала от холода, проникшего в мое тело.
Даже не поняла, как кто-то подошел сзади. Видео давно закончилось, языки пламени застыли на экране, а я дрожу, и зуб на зуб не попадает.
— Слава. Все в порядке? Эй. Посмотрите на меня. Слава!
Резко развернул к себе кресло и оперся на поручни, обхватил мое лицо ладонью.
— На меня смотрите и дышите глубже. Я сейчас воды принесу.
Я слышала чей-то голос будто сквозь вату и даже разобрать не смогла, чей именно. Поняла только, что мужской. И едва развернул к себе кресло — узнала, но слова не могла сказать. Хотела качнуть головой, дать понять, что не в порядке. Что всё плохо. Просто ужасно. Я хочу посмотреть на него, но не могу. Не могу отвести взгляда от застывшего видео. Оно остановилось, но я вижу его, я вижу огонь, вырывающийся из окон, я вижу то, что не заснято. То, что навсегда выжжено глубоко внутри. Теплая ладонь касается замерзшей руки, и я бы вскрикнула, если бы не пропавший голос. Кожу словно обожгло кипятком, но мне нужны эти прикосновения. Чтобы вернуть чувствительность пальцам, которых я не ощущаю.
Тепло его рук касается осколков льда на щеках, и я облегченно выдыхаю. Он поворачивает меня за лицо к себе, а у меня из глаз наконец брызнули слёзы. Адам.
Он что-то говорит, и убирает руки, а я крикнуть хочу, чтоб не уходил. Мне так тепло рядом с ним. Хотел отвернуться, а я вцепилась в его запястья и непослушными губами еле выдавила из себя:
— Не…уходи…по…жа…луй…ста… не …ухо…ди.
Присел на корточки, глядя на меня снизу-вверх, а у меня непроизвольно из глаз слезы катятся.
— Не ухожу.
Руку протянул и указательным пальцем по щеке провел, вытирая слезу.
— Испугалась?
Качаю головой, прижимаясь щекой к его пальцам.
— Я уйти хочу. Отсюда.
— Уйдем сейчас. Это видео? Знаешь, кто прислал?
Провел большим пальцем по скуле.
Его голос…он успокаивает. Он дарит облегчение от той боли, что сейчас растекалась во мне жидким азотом. Потому что он первый, кроме членов моей семьи и психоаналитика, кто увидел меня в этом состоянии. Отвернулась, пытаясь выйти из почты. Пальцы всё еще не слушаются, продолжая дрожать. Его ладонь касается плеча успокаивающе, а боль внутри злится, свирепствует, атакует трясущиеся руки, и Адам сам нажимает на «Выход» и закрывает вкладки.
— Уйдем отсюда. Пожалуйста.
— О'кей. Уходим.
Поднял под руку с кресла и замер, всматриваясь в мои испуганные глаза.
— Я могу вычислить, кто это сделал. Если захочешь, мы поговорим об этом.
Подхватил мою куртку со спинки кресла и повел за собой из кабинета.
— Отвезти тебя домой или поехали посидим где-то? Пока не успокоишься?
Остановилась, глядя на свою ладонь в его руке. Он так естественно повел меня за собой. Посмотрела в его лицо, вздрогнув от того беспокойства, которое плескалось в темных глазах. Впервые в жизни я видела признаки тревоги за себя у кого-то, кроме мамы и Нины. Покачала головой, думая о том, что не хочу ничего. Не хочу ни многолюдных кафе, ни дома, который наводит тоску. Я хочу остаться одна. И в то же время безумно боюсь сейчас одиночества.
— Нет…я не хочу. Я ничего не хочу.
— Давно по ночному городу ездила? Хочешь покажу тебе одно интересное место? Там очень тихо и можно молчать. Я часто там молчу.
Рука сильнее сжала мои холодные пальцы, ведет за собой по лестнице.
Да, я хочу именно туда, где можно молчать. И мне нужен кто-то рядом, кто не позволит треску огня разрушить мою тишину.
Мы вышли на улицу, и я вздрогнула от холода, забравшегося под куртку. Переменчивая погода то холодно, как ранней весной, то душно до невыносимости.
Я не помнила, чтобы надевала её, наверное, Адам сделал это. Раскат грома заставил съёжиться и побежать вслед за парнем, спускавшимся по лестнице к чёрному «Фольксвагену».
В этот момент завибрировал телефон в кармане куртки, и я вцепилась в него пальцами, понимая, что не хочу сейчас ничего, боюсь увидеть на дисплее очередное уведомление со своей почты.
Адам открыл дверь пассажирского сидения, и я села, по-прежнему не доставая телефон.
Смотрела, как он застегивает ремень безопасности, и думала о том, что впервые успокаиваюсь вот так просто, без звонка психиатру или подруге. С человеком, который даже не знает, что произошло, но именно это мне и нравилось сейчас.
Закрыла глаза, откидывая голову назад, вдыхая аромат лимона, царивший в салоне.
— Спасибо…
Адам привез меня к высокому зданию научного центра. Мы каким-то образом зашли с черного входа. У него была пластиковая карта работника.
— Я уволился…но программисты, они, знаешь…они те еще жуки. Мне нравилось тут на крыше зависать по ночам. Так что ключ я себе оставил.
Мы поднялись на грузовом лифте, и Адам толкнул дверь, ведущую на крышу, пропустил меня перед собой.
— Здесь звезды близко, и тишина. Как будто вымерли все. Иногда хочу почувствовать, что нет ни единой души.
Я подошла к перилам, глядя вниз, чувствуя легкое головокружение от высоты, а он встал рядом, достал сигарету, закурил. Он, видимо, заметил, что я еще вздрагиваю, снял кожаную куртку и поверх моей куртки набросил мне на плечи. Затянулся сигаретой, глядя на ночные огни.
Да, он был прав, здесь можно молчать, и ночной город постепенно вымирал, только одинокие машины и мигающие неоновые витрины внизу. Подняла голову и посмотрела на небо — черное, затянуто тучами. Дождь прекратился, но ни одной звезды не видно. Кажется, и моя жизнь вот такая непроглядная. Живу по какой-то инерции, по какому-то расписанию, составленному не мной. И кто-то…кто-то покопался в этом расписании. Кто-то узнал обо мне то, чего не знал никто. То, что я запрятала так глубоко, что даже мой психиатр думала, что я уже справилась. А некто нашел и вытащил наружу, чтобы показать мне, что тайн не бывает. Каждая тайна — это чье-то подлое открытие и достояние. Вопрос времени, когда оно вырвется наружу. Где-то в глубине души я понимала, что это только начало.
* * *
Я очнулась словно от резкого толчка. Так бывает, когда неожиданно пропадает чувство безопасности, с которым вы уснули, и на его место приходит неожиданная тревога. Открыла глаза, вдохнув полной грудью холодный воздух, и едва не закричала, ощутив теплое дыхание, касавшееся затылка. Вот почему я проснулась. Прохладный ветер ласкал щёки и шею, а спиной я ощущала тепло. Сильные мужские руки, обнимавшие сзади, согревали большими ладонями мой живот. Я вспомнила, как мы сели на его куртку у стены и Адам обнял меня сзади, согревая от ночного холода. Неужели я уснула? Черт… неудобно как. Я боялась обернуться назад и встретиться с ним взглядом, так как понятия не имела, как уснула здесь вчера. Последнее, что помнила, это куча окурков возле его ног и внимательный взгляд куда-то в сторону города.
Адам обещал молчание и не нарушил своего слова. Где-то внутри всколыхнулись чувства благодарности и стыда. Всю ночь тут со мной провел.
Его дыхание изменилось, когда я пошевелилась, и я мягко отстранилась от него.
— Доброе утро, Адам.
— Доброе утро.
Развернул меня к себе за плечи. Долго в глаза смотрел, а потом к губам наклонился медленно, давая право решить, хочу я этого или нет…тихо спросил.
— Кофе и по домам? — а сам все ниже наклоняется.
Он спрашивал про кофе, а я видела совершенно другой вопрос в его глазах. Смотрит на мои губы, а я чувствую холод, снова забирающийся под одежду, холод, от которого мурашки по телу. От него исходит аура и надежности, и опасности одновременно. Только я совсем не хотела ничего такого. Понятно, что дура, надежду дала и сама виновата…Может, если бы не Джокер. Только у меня возникло странное чувство, что сейчас я делаю что-то отвратительное по отношению к нему. Что-то гадкое, как измена или предательство. Смешно…Да, до истерики смешно. Как можно изменять тому, кто ни разу к тебе не прикасался и ничего не обещал…оказывается, можно. Потому что то, что происходило между мной и Джокером, совершенно не отличалось ни от одних нормальных отношений.
Словами можно иметь ТАКИЕ отношение, которые вам и не снились. Словами можно вытащить самые дикие эмоции и самую болезненную нежность. Этого никому не понять…Никому, кроме Харли…Потому что теперь я знала, что она и в самом деле его любила.
В глубине темно — карих глаз Адама осторожность, от которой становится неуютно. Если я сейчас позволю себя поцеловать, то во что это выльется потом? И в то же время где-то в висках отстукивает пульсом чувство благодарности за помощь, за то, что не оставил одну, за то, что вытащил из того кошмара, в котором оказалась вчера вечером. Снова завибрировал сотовый. И я догадываюсь, от кого это сообщение. Словно чувствует…в последнее время меня начало преследовать ощущение, что он меня чувствует. На каком-то мистическом уровне, непостижимом для кого бы то ни было.
Мерзкое чувство вины за принятое решение впивается скользкими пальцами в затылок, и я отстраняюсь от парня, мягко убирая его ладони со своих плеч. Отвела взгляд, вставая и поднимая с пола сумку.
— Я, думаю, да…Наверняка, рядом поблизости хороший кофе можно купить?
Уже давно рассвело. Наверное, где-то часов семь утра. В телефон так и не смотрю. Мне страшно, что ОН чувствует не только, что у меня неприятности, а и то, что я все же пару секунд раздумывала, позволить ли Адаму поцеловать меня.
— Купим кофе, и я отвезу тебя домой. Мне на работу через час. Я сегодня даже не проспал.
Усмехнулся и щёлкнул меня по носу.
— У тебя на переносице восемь веснушек…Слава. Спорим, к концу лета их будет штук тридцать?
Поначалу даже опешила от этой наглости, но в то же время воздух между нами перестал быть таким раскаленным. Он развеял обстановку своей шуткой, и я подумала о том, какая же задорная у него улыбка. Он вообще очень симпатичный. Не похожий все же на этих пластмассовых людей, окружающих меня повсюду. Все же настоящий, и в глазах у него нет пустоты. Там слишком глубоко для простого программиста. Там есть что-то непостижимое. И, самое странное, он меня слишком хорошо понимает. Не смотрит поверхностно.
Прищурилась, глядя на то, как он встает и отряхивается, протянула ему куртку.
— Ты проиграешь, Гордеев! К концу лета у меня их максимум двадцать девять штук на переносице бывает.
Развернулась к нему спиной и полезла в сумку за расческой.
— А вообще…значит, ты же мне еще и должен остался? За то, что не проспал?
Повернулась к нему лицом, на мгновение застыв под его внимательным взглядом, когда он смотрел, как я укладываю волосы, и, смутившись, спрятала расческу обратно в сумку.
— Белозерова, тебе говорили, что ты офисный узурпатор?
— Да! Ты! Пару дней назад.
— Точно. Как я забыл?
— У тебя короткая память. Жесткий диск перегружен. Переустанови систему.
Мы рассмеялись, и Адам открыл дверь.
— Насчет диска не знаю, а вот я бы с удовольствием переместил нас сейчас из папки «Научный центр» в папку «домой», например. Значит так, Белозерова, мы сейчас выходим с центрального входа, делаем лица кирпичами. Если что спросят, скажешь, ошиблись зданием.
— А ты мой водитель?
Казалось, ночного кошмара и вовсе не было…только у меня на электронке по-прежнему висело то письмо с видео. И оно никуда оттуда не денется. Когда сели в машину, собралась с мыслями и, наконец, попросила.
— Адам.
— Да.
— Я хочу, чтоб ты вычислил, кто это прислал. Сможешь?
И в этот момент я поняла, что доверяю ему. Вот так неожиданно для себя. И я хочу знать, какой ублюдок влез мою личную жизнь и трогал то, что я сама трогать боялась. Я хотела найти эту тварь и заставить пожалеть об этом.
— Без проблем. Вечером, после работы?
Я как раз достала свой сотовый и увидела, как мигает уведомление.
«Не ответила, девочка. Ты понимаешь, что это значит, да? Сегодня в девять я жду тебя, и я очень надеюсь, что ты будешь здесь, иначе это последнее сообщение, которое ты от меня получила».
— Прости, но сегодня не получится.
Нервно кусая губы и ощущая дикое желание ответить на сообщение немедленно. Пока он не ушел. Пока он онлайн.
— Твой парень?
— Да, — ответила, не задумываясь, и сунула телефон в сумочку, отворачиваясь к окну.
ГЛАВА 7. Аля
— Блядь! Что за…Какого хрена ты врубил эту дрянь на полную мощность? Я сутки не спал, мать твою!
Недовольный голос соседа заглушил музыку. Невольно даже восхитился силе его злости. Но не смог отказать себе в удовольствии проорать в ответ слова из песни
«Очнись и ты увидишь, друг Как превышая скорость света. Мир движется к концу И это дело их нечистых рук». © «Louna» — «Свободное падение»Всё же видеть, как он морщится, словно от зубной боли, и швыряет на пол подушку — не сравнимое ни с чем удовольствие. Особенно после того как я, мать его, понял, что ночью мне не отвечал никто из них двоих.
— Я тебе помешал, да? Ох, прости…Хотя, ладно. Можешь не прощать. Пусть этот грех останется на моей совести.
В этот момент ублюдок резко подскочил и захлопнул ноут.
— Ц-ц-ц, тебе говорили, что ты особенно злой, когда не выспишься?
— Мне говорили, что если жить с психами в одной комнате — это плохо действует на нервную систему и пищеварение. Поэтому просто сделай одолжение — исчезни!
— Смотрю, тебе не понравился вчерашний суп с морепродуктами? Мне в принципе тоже, именно поэтому я оставил его тебе…А вместо благодарности одни упреки снова.
Парень фыркнул и плюхнулся обратно на кровать, закрывая глаза. Он, что, реально думает, я ему позволю уснуть?
— Не хочешь поделиться с лучшим другом, где провёл прошлую ночь? Мне же интересно…Ходишь без меня где-то. Где твоя мужская солидарность?
Он встал с дивана и прошел к окну, достал сигарету. Потер затылок, словно музыка начала отстукивать у него в голове.
— Мирославе Лазаревне понравилось ночное небо и прохлада. Ты знаешь, от нее пахнет свежестью? Такой запах…мммм. На затылке, ближе к уху. Спасибо…твое видео пришлось кстати. Отличный повод для того чтобы сблизиться с ней.
Урод! Сжал кулаки, успокаивая навязчивое желание вмазать этому ублюдку. Да! Я думал об этом. Точнее, я не хотел об этом думать. Он и она. Где-то глубоко внутри подняла голову злость…и зависть, застучала в висках, потому что он прикрыл глаза, вспоминая, и я мог поклясться, что он чувствует ее запах сейчас. В то время, как я мог только вообразить себе это. И это оказалось, мать его, больно.
Бросил взгляд на крышку ноута и подумал о том, как дорого мне Принцесса заплатит за этот обман. Она не пришла на наше свидание, предпочла провести время с этим офисным манекеном.
— И что? Есть успехи? Насколько ты сблизился?
Хотел ли я это знать в самом деле? Хотел. Еще как хотел. С каким-то диким мазохистским удовольствием получить удар под дых и немного прийти в себя.
Приподнял одну бровь. Да, парень, мне это действительно интересно.
— Достаточно для того, чтобы через день два наклонить ее на той же крыше через перила и отыметь так, чтоб искры с глаз посыпались. Но тебе же все равно, где это случится. Или начал любить слушать подробности?
Стало легче? Нет! Не стало. Всего лишь долбаная отсрочка.
— О, так малыш Адам облажался? Упустить такой шанс…одни целую ночь…Наедине. Адам, Адам…А ведь я тебе предлагал тройничок с одной из шлюх. Зря ты отказывался… Может, чему-нибудь научился бы у своего друга.
Развернулся, открывая ноут и включая его. Убавляя звук, потому что сейчас я хотел подробностей, а он терпеть не мог громкую музыку. Да, и музыку вообще.
А еще я не успокоился. Потому что желание разбить его голову о стену не пропадало, а превращалось в потребность. Всё сильнее с каждым его словом. С тем пренебрежительным тоном, которым он говорил о МОЕЙ Принцессе. Маленькая лживая сучка. Убил бы. Впрочем, я убью её в любом случае, когда наступит время. У меня для неё есть персональный, продуманный до мелочей, сценарий. Вкусный, кровавый с запахом гари. Сценарий ада. У каждого он свой. И ее ад я изучил досконально, чтобы воспроизвести для нее в мельчайших подробностях. Декорации, стереозвук, HD изображение.
Не закрывать глаза, Джокер, иначе перед ними возникнут кадры того, что они, возможно, делали этой ночью. Представил, как он касается ее пальцами, и стиснул зубы.
— Расскажи мне всё, что произошло вчера. С момента просмотра видео и до сегодняшнего дня.
Да, я любил это делать. Спрашивать у него обо всем. Всегда. Это было своеобразной игрой, потому что кроме этого долбаного ублюдка у меня никого не было, да и у него тоже. И он делился. Щедро. А я был благодарным слушателем. Никогда не перебивал. Только насчет Миры ему делиться явно не хотелось. Это было что-то, что он не собирался открывать мне. Она ему слишком понравилась за это время, чтобы рассказывать в подробностях, как об очередной шлюхе, которую он трахал без меня. И именно это меня бесило. Потому что не отступится.
— Ты испугал её. А я утешил. Знаешь, то место на крыше, когда мне херово, я люблю там бывать без тебя? Ты тоже там бывал не раз. Остальные подробности ты не получишь. Могу только сказать, что она особенная. Ты и это уже слышал. Все в ней особенное: пахнет особенно, дышит особенно и смотрит особенно. У нее гладкая кожа и шелковистые волосы… восемь веснушек на носу. Когда я сниму с нее одежду, я уверен, что она вся такая же гладкая. Везде. Это будет медленно и долго. Я никуда не тороплюсь.
Повернулся ко мне, затягиваясь сигаретой.
— Когда буду ее трахать в первый раз, я отправлю тебе сообщение. Обещаю. Но без подробностей. У тебя ведь превосходная фантазия. Ты можешь о ней фантазировать, Джокер.
Я никогда не думал о том, что слушать его слова о Принцессе, его планы на нее будет настолько мерзко. Чёрт, да чего уж там, я и помыслить не мог о том, что мне будет не наплевать на нее. Впрочем, до этой самой минуты я и не подозревал об этом. Наверное, всё же нет лучшего катализатора для чувств, чем ревность. Когда убить хочешь только за грязные мысли в отношении своей женщины. Кого бы то ни было. В любви и страсти не бывает друзей. Каждый мужчина — соперник и враг.
И сейчас я смотрел на своего соперника и улыбался, представляя его эмоции, когда он увидит то, что я покажу ему. И он смотрел. Читал одними губами, играя желваками и вцепившись пальцами в спинку стула.
Жри, ублюдок, только дозированно. Только то, что я позволю. Усмехнулся, ожидая реакции на ее красноречивое: «Если бы я могла показать тебе, Джокер…если бы могла рассказать, КАК я люблю тебя…Как хочу тебя».
— Жаль, что у тебя с фантазией всё не настолько хорошо, правда?
Захлопнул ноут перед его носом. Он достаточно увидел.
— Продолжай любоваться веснушками, мальчик, пока я трахаю ее по ночам.
— Как своих сук, которые пачками пишут тебе о своих мокрых трусиках, стоячих сосках, шлют фотки и видео и дрочат на твой талантливо-грязный текст? Так ты ее трахаешь?
Он сделал несколько шагов ко мне, и я понимаю, что достал его. Ему хочется перемолоть меня в кровавое месиво. Как, оказывается, мы похожи, да, Адам?
— Она не такая, как эти твои соски! Ты врешь, мать твою! Ты просто грязно лжешь!
Но я не лгал. Он видел это в моих потемневших глазах, когда подошел слишком близко. Да! Я был слишком собой доволен в этот момент.
— Это не секс, Джокер. Это так…мастурбация. А трахать по-настоящему ее буду я.
— А ты задумайся, почему она решила стать моей сукой и присылать мне свои фото вместо того, чтобы дать тебе прошлой ночью?
Ох, даааа…Он взвился от злости. Я чувствовал его ярость на себе. Чёрт, да, её нельзя было не ощутить. Мне казалось, даже лампочка над головой трещала этой самой яростью. Щёлкнул пальцами, взрывая на части неожиданно возникшую тишину.
— Секс в головах, Адам, а не в прикосновениях. Ты продолжай вдыхать запах ее волос и разглядывать ее лицо, пока она со мной. И плевать, что это мастурбация. Кончает-то она с моим именем! Кончает грязно и пошло….Маленькая девочка из богатой аристократической семьи матерится, выгибаясь на стуле перед компьютером, представляя, как вбиваюсь в нее Я, а не ты, веришь мне? И нет, парень, — засмеялся, глядя, как зазмеилась в его глазах ревность, отбрасывая темные тени на бледное лицо, — трахать ее буду только я. ТОЛЬКО. Я. Потому что это моя сука. Моя соска. Не имеет значения, кто. Но Моя.
Он пошел на меня, а я ударил первым за то, что смел прикасаться к МОЕЙ Принцессе. Бил и хохотал, пачкаясь его кровью, слушая, как хрустят костяшки моих пальцев, как я наношу удары один за одним и смеюсь…истерически, оглушительно громко под треск стекла и под музыку.
«Лицо фемиды скрыто маской Ей важен лишь тариф, Кто платит больше, тот и прав. Гарант защиты — это сказка, — Свобода — это миф Триумф неволи — верный путь к майн кампф». © «Louna» — «Свободное падение»Я вынес разбитое зеркало на помойку, не забыв «поздороваться» с Лизаветой Ивановной привычным маршем и услышал из-за двери ее ворчание.
— Не к добру это…не к добру. Совсем с ума посходили все. Что за мода — зеркала бить?
Где вы здесь видели добро, Елизавета Ивановна? Нет добра. И не было никогда. Слышите, как орет музыка? Вы ненавидите её и не понимаете, что пока она раздирает вам барабанные перепонки, никто не умрет сегодня. Если выключить — зло взорвет тишину брызгами грязи и крови.
Захлопнул крышку мусорного бака и посмотрел на окна своей квартиры, откуда все еще доносилась музыка. Ублюдок, наверняка, бинтует изрезанные руки, а я чувствую, как по моим течет холодная кровь ярости и боли. Мне нравилось, как она капала на носки моих ботинок и растекалась под подошвами темно-алым узором ненависти.
Когда-нибудь я все же убью его. Самым последним будет он…для него у меня тоже имеется фееричный эпилог. Ему понравится.
«Остановись, мы на краю Мы катимся вниз в Ад точка Ру Остановись, нас тянет на дно Мы падаем вниз в Гов точка Но». © «Louna» — «Свободное падение»* * *
«Чувствую дрожь, страх, боль И это сводит меня с ума Я больше не могу притворяться Бога ради, Почему я выбрала не тот путь? Неудачница — мое второе имя А вообще-то, не так уж я и плоха Кто-нибудь может мне сказать, так ли это плохо сходить с ума по тебе? Сходить с ума по тебе Сходить с ума…» © «Hooverphonic» «Mad about you»{«Joker:
— Давно хотел отыметь тебя, пока ты готовишь или моешь посуду.
Harley Quinn:
— Это так….ооох… чтобы я больше никогда не могла делать это спокойно?
Joker:
— К черту все прелюдии. Оставим их на следующий раз. Я хочу сделать всего три вещи: оттрахать тебя языком, пальцами и членом.
Ты выбираешь, какую из них ты хочешь первым делом.
Harley Quinn:
— Язык.
Joker:
— Моя девочка возбудилась сегодня, когда я описывал как хочу ее вылизать?
Harley Quinn:
— Да….Представила.
Joker:
— Подошел к тебе сзади и резко повернул к себе, наклоняясь к губам, но не целуя. Вдыхая запах, сжимая аппетитную попку под короткими шортами. Знаешь, о чем я думал целый день, Харли? О твоих губах и о том, что есть между ними. Ты знаешь, что между ними прячется?
Поднял за талию и усадил на стол, все еще не целуя, прижимая тебя к себе.
— Между ними прячется самая охренительная вещь на свете — твой оргазм. Я думал о том, как буду их целовать, — а рука скользит между твоих ног, по шортам, шелку трусиков, отодвигая их вбок, — как проведу сначала по ним пальцами…,- Даааа, Принцесса, по этим губам.
Резко внутрь средним пальцем под твой выдох, глядя в распахнувшиеся глаза с тихим рычанием от ощущения тесноты. Другой рукой сильно до боли сжал грудь. Ущипнул сосок через материю майки. И ты громко всхлипнула.
Опустился на колени, раздвинул твои стройные ноги в стороны, содрал шорты к чертям, поставив одну ногу на стол и отодвигая трусики дальше, провел языком по твоей плоти, чувствуя, как разрывается член от желания тут же тебя взять. На этом кухонном столе.
Медленно между розовыми складками, отыскивая языком клитор, скользя по нему. По кругу и сбоку, отыскивая, какое прикосновение заставит тебя взвиться и застонать сильнее. Справа или слева…? Или чуть ниже у входа в лоно, где так влажно и вкусно блестят твои соки. Скользнуть языком в сладкую мякоть и тут же выскользнуть наружу, раздвигая плоть пальцами, возвращаясь к клитору, и ударяя по нему все сильнее и сильнее, обхватывая губами и сильно всасывая в себя, одновременно погружая в тебя сразу два пальца. Какая же ты вкусная, Харли. Как же мне нравится сосать тебя, трахать, пытать. Под твои стоны и всхлипы, под вращение бедрами навстречу моим губам и, выскальзывая пальцами наружу, погружать в тебя язык, сжимая клитор и растирая его, чтобы снова обхватить губами и вонзиться пальцами глубже.
И начать двигать языком быстро и жестко, не меняя темпа, сильно трахая тебя пальцами. Ритмично и глубоко. Не давая передышки.
Блядь! Как же это… Так ты хотела? Хотела, чтоб я вылизал тебя? Кричи для меня, маленькая, кричи и пульсируй у меня во рту, изливайся мне на язык влагой, сжимай мои пальцы и кричи. Громко. Сейчас.
— Это красноречивая пауза девочка? Успеваешь работать пальчиками между написанием ответов? Погладь себя между ног и пиши дальше.
Harley Quinn:
— Впилась руками в твои волосы, прижимая за голову к себе и выгибаясь навстречу твоему языку.
Безумие вот так…возбудиться сразу. От одного только взгляда и хриплого шепота. Возбудиться настолько, чтобы молча позволять изучать тело, которое ты знаешь лучше меня самой. Подаваться вперед бедрами, сходя с ума от адреналина, который взорвался в крови от первого же прикосновения. Обжигающего, горячего, подобно пламени. Язык сменяют пальцы, заставляя кричать от удовольствия.
И тут же пальцы уступают языку, и я не сдерживаю стоны, скатившиеся с губ.
Поднимаешь голову, глядя в глаза, изучая мою реакцию, а меня разрывает от вида твоих влажных губ и темного взгляда.
Провела по своим губам, представляя, что это ты их целуешь. Скользнула двумя пальцами в рот, уловив ритм твоих движений.
Смотри, представляя, как я точно так же вылизываю твой член, как обхватываю его губами, вбирая всё глубже.
Застонать громче от резких движений, прижав сильнее твою голову к себе, и взорваться, бесстыже сокращаясь вокруг твоих пальцев. Взорваться прямо на твоем языке, откинувшись назад, с закрытыми глазами, ощущая полное бессилие перед этим безумием.
Joker:
— Сжимаешь меня плотью, а я рычу от возбуждения, глядя, как ты сосешь свои пальцы. Маленькая сучка, знаешь, КАК это сводит меня с ума. Специально заводишь, подстегиваешь, лишаешь самообладания и гребаного контроля, которого с тобой и так никогда не бывает.
Я не дождался, пока стихнут спазмы, пока перестанешь сокращаться, резко встал на ноги, перевернул тебя на живот, вдавливая в стол, не сдирая с тебя трусики, а отодвигая в сторону, и рывком вошел сзади.
— ДА МАТЬ ТВОЮ! — заорал и вцепился зубами в твой затылок. Первый толчок, и меня уносит на хрен. Раскачиваясь, пытаюсь сдержаться и не могу, Блядь. Рвет вперед. В тебя. Коротко, быстро, хаотично и резко, глубоко, прижимая твою голову к столу, сминая другой рукой ягодицы, до синяков, ногтями.
С каждым толчком сатанея все больше. Узкая и горячая. Все еще вздрагиваешь и стонешь. Черт! Только от твоих стонов можно кончить! Только от них рвет нервы и терпение, а яйца становятся каменными.
— И этого тоже хотела? Чтоб оттрахал как сучку? Отодрал грязно и больно? Говори! Кричи. ДА! Я ХОТЕЛА! — сильно вбиваться в тебя и застонать, — ХОТЕЛА, ЧТОБ ТЫ, — за волосы к себе, надавливая на поясницу, — МЕНЯ ОТТРАХАЛ, КАК СУЧКУ! ГОВОРИ И КРИЧИ МОЕ ИМЯ!
Harley Quinn:
— Даааа…хотела!
Жадный. Ты не позволил ни одного лишнего мгновения наслаждения без тебя. Еще секунду назад я умирала и начала воскресать в твоих руках, а сейчас ты грубо переворачиваешь меня на живот и рывком входишь сзади, заставляя закричать от неожиданности и удовольствия, от дикого наслаждения, прострелившего в позвоночник снизу-вверх, растекшегося по венам с каждым твоим толчком. Я цепляюсь за поверхность стола, ломая ногти от резкой боли в затылке. Животное. Ты грубое и похотливое животное. Кричу твоё имя с громким всхлипом, и мое больное удовольствие слезами из глаз, по щекам и подбородку. Не могу оглянуться, увидеть твой взгляд — не разрешаешь, вдавливая голову в стол. Злой. Такой злооооой, что только от понимания этого колотит всё тело.
Тело, которое болит без прикосновений, это твое наказание. Мне, себе. Не трогать, не ласкать, а вот так грубо брать, показывая мое место. И самое страшное — я кричу, но не от боли, а от наслаждения. Потому что хочу тебя сегодня именно так. Именно под тобой и бесправной, чтобы до синяков на груди, на спине, на бедрах. Чтобы ломать ногти и срывать горло. Чтобы ощущать каждый толчок вот так…как маленький апокалипсис.
И срывающимся голосом. Громко. Всхлипывая и злясь в то же время.
— ДА! ХОТЕЛА! ДЖОКЕЕЕЕР….Хотела таааак.
Под твоим напряженным взглядом. Уже одними губами, искусанными до крови.
— Как сучку, Джокеееер… дааааааа…
Закрыв глаза, закричать от дикого наслаждения, ослепившего яркой вспышкой. Его брызги по всему телу, цепной волной, заставляя дрожать и стонать, сжимая тебя изнутри до боли.
Joker:
— ДААА, МОЯ ДЕВОЧКА СЛАДКАЯ! ВОТ ТАК!
Кричишь… как же сладко ты кричишь. Пошло и грязно. Без контроля. Сумасшедшая и дикая от похоти. И я зверею от твоих криков, меня простреливает от каждого. Нет, маленькая, я не злой. Я голодный. Вечно дико голодный на тебя! Но не злой… мой голод граничит с яростью и болью. Мне больно, когда я хочу тебя! Понимаешь? Удерживая за волосы, продолжая двигаться под твои крики и стоны. Подхватывая последние судороги и чувствуя, как готов кончить сам. А перед глазами эти пальцы у тебя во рту, эти втянутые щеки и резко очерченные скулы. Если б знала, какая ты красивая в этот момент.
Сдернул тебя со стола, опуская на колени, надавливая на подбородок и проводя воспаленной головкой по губам. Резко качнулся тебе в рот, удерживая за затылок. Любуясь твоими заплаканными глазами, мокрыми ресницами, взъерошенными волосами и этой челкой, сбившейся набок.
— Соси, Принцесса. Облизывай, соси и глотай. Я хочу кончить тебе в горло.
Harley Quinn:
— Впиваюсь ногтями в твои ягодицы, намеренно царапая и тут же лаская кончиками пальцев.
Обхватила языком член и провела по нему вверх — вниз, едва не заурчав от бешеного наслаждения чувствовать его у себя во рту. Проводя по каждой выступающей вене и выпустить наружу, удерживая губами головку. Поднимаю лицо, не отрывая от тебя взгляда, дразня языком уздечку, слизывая выступившие капли смазки и спускаясь по стволу вниз, прикусывая одними губами.
Смотри, Джокер, как я опускаю руку вниз, дотрагиваясь до себя. Между ног еще пульсирует, и отголоски оргазма почти причиняют боль. Особенно когда смотрю на тебя вот так.
Сжимаю пальцами член у основания и вбираю его глубоко. Чтобы задвигаться в одном ритме.
Хочу трахать тебя губами столько, сколько ты позволишь.
Joker:
— Довольная мартовская кошка. Моя грязная и развратная девочка. Тебе нравится стоять передо мной на коленях с моим членом во рту. Двигаешься по нему языком, а я слежу за тобой сквозь ресницы и рычу от возбуждения. Немного игры… остыть, чтобы потом взорваться, трахая твое горло. Трогаешь себя пальцами, красную воспаленную плоть, и вздрагиваешь. Слишком чувствительно. Я бы облизал там все еще раз, собирая наш вкус и запах… но сейчас я хочу наблюдать, как ты сосешь меня. Вот так. Заглатывая глубоко. А мне мало. Я хочу большего. Я хочу тебя трахать.
Подхватил под руки, отнес обратно на стол, укладывая на спину, свешивая голову с края и врываясь в твой рот глубоким толчком, до самого горла, сжимая его пальцами, чтобы чувствовать, как вхожу в него. Слезы из твоих глаз, как безудержный кайф. Задыхаешься, а я толкаюсь в твой рот, как оголтелый, одновременно растирая клитор пальцами. ДА! МАТЬ ТВОЮ, ДА!
Заорал, изливаясь, погрузив в лоно пальцы и содрогаясь в твоё горло короткими толчками, чувствуя, как ты сглатываешь, а меня трясет от адского наслаждения, разветвившегося под кожей паутиной электричества. Нирвана в несколько секунд агонии. Пока выстреливаю в тебя своим безумием и голодом.
Опустился на колени, глядя на тебя сверху вниз, вытирая слезы большими пальцами и наконец-то впился в твой рот поцелуем. Сжирая свой вкус с твоих губ, спетая язык с твоим языком.
— Не только ты этого хотела. Прежде всего этого хотел я. Соскучился маленькая. Дико соскучился»}.
* * *
Тикают часы, и в комнате тихо звучит голос Наоми[1], и я голая засыпаю на влажных простынях с телефоном на соседней подушке. В окне занимается рассвет… а я улыбаюсь, слыша, как пришла смска. Я не смотрю. Я знаю, что он написал. «Спи, маленькая. Я напишу тебе завтра».
* * *
{«Harley Quinn:
— Я на работе.
Joker:
— Что делаешь?
Harley Quinn:
— Ну, я же сказала — на работе.
Joker:
— Мммм… на работе можно заниматься чем угодно. Ну так что делаешь, Харли?
Harley Quinn:
— Безумно хочу кофе. И машинка сломалась…А я полусонная муха. Кто-то не давал мне спать до пяти утра.
Joker:
— И кто это?
Harley Quinn:
— Один ужасно озабоченный тип с гримом на лице.
Joker:
— Хочешь, чтоб я оторвал ему яйца?»}.
Засмеялась в голос и тут же обернулась на Никиту, который два дня назад вернулся обратно в кабинет с таким видом, будто ничего и не было. Правда, с пластырем на носу и багровыми синяками под глазами. Кто-то недавно набил ему физиономию. Да так, что те два дня он провел дома.
— Я смотрю у тебя в ноуте интересней, чем с реальными людьми.
— Поверь, намного интересней.
Всё же заставила себя заняться лежавшим на столе проектом договора лизинга и очнулась, только когда в дверь постучали и тут же заглянула секретарша Вера.
— Слава, тут посыльный принес кофе со сливками.
Обернулась к ноуту и быстро написала:
— Тыыыыы.
{«Joker:
— Что? Иди забери, пока не остыл.
Harley Quinn:
— Спасибо»}.
Вернулась с кофе, посмотрела, как Никита демонстративно говорит с какой-то женщиной по телефону, и снова повернулась к компьютеру.
{«Joker:
— Вкусно?
Harley Quinn:
— Очень. Но горячо. Язык обожгла.
Joker:
— Я бы пососал твой язык, Харли, если бы ты была рядом.
Harley Quinn:
— А ты на работе или дома?»}.
Перевела внимание на договор, пока Джокер набирал ответ, и снова открыла вкладку в компьютере.
{«Joker:
— У меня выходной сегодня.
Harley Quinn:
— Тогда представь, что я там с тобой.
Joker:
— В моей рубашке и без трусиков?»}.
Отложила бумаги подальше.
{«Harley Quinn:
— Ох…дааааа, а еще обязательно подойти совсем рядом…и, встав на цыпочки, потянуться за чем-нибудь на сааааамом верху шкафа.
Joker:
— Нарываешься, да? И вот так, сидя, смотреть снизу-вверх и гладить по ногам. Так бы и отымел тебя в этой рубашке на полу»}.
К черту лизинг, дышать стало тяжело. Отпила из картонного стакана, и пальцы пробежались по клавиатуре.
{«Harley Quinn:
— Или сесть на тебя, и, отобрав чашку, нагло выпить половину твоего кофе, не отводя взгляда…кофе со вкусом твоих губ…пока я потираюсь о твои джинсы голой промежностью.
Joker:
— Нееет, маленькая, ты бы пила ее, уже сидя на моем члене. Я внутри. А ты не можешь двигаться — у тебя в руках кипяток»}.
Поперхнулась кофе и сжала сильно колени, чувствуя уже знакомую пульсацию.
{«Joker:
— Сжала колени?
Harley Quinn:
— Черт. Да!
Joker:
— Хорошо нарисовал, значит.
Harley Quinn:
— Только осторожно…очень осторожно раскачиваться вперед-назад и в стороны. И потом…пока не снесет крышу так, что будет наплевать на любые ожоги, лишь бы только чувствовать твои толчки в себе.
Joker:
— Да, Блядь, тихонько…очень тихонько, и я смотрю тебе в глаза и сдерживаюсь чтобы не выпустить голодное животное и не наплевать на то, что ты обожжешься»}.
О.Мой. Бог! Он ненормальный. Я же на работе, и Никита что-то там бубнит по телефону. Повернула ноут в сторону и закинула ногу за ногу.
{«Harley Quinn:
— Я завожусь от одного твоего предложения. Ты что творишь, Джокер?! Я же в офисе!
Joker:
— Плевать! На хер чашку с рук выбить и начать насаживать тебя на себя, как одержимый.
Harley Quinn:
— Вцепиться в твои плечи, вонзая ногти. Глубокооооо…. кусая твои губы…остервенело…пытаясь отобрать инициативу.
Joker:
— Даааа, маленькая невинная шалость закончилась тем, что я тебя сейчас трахаю, Харлиии!!!!
Harley Quinn:
— Боже, да я готова шалить так двадцать пять часов в сутки.
Joker:
— Сильно, быстро и глубоко, сдирая с тебя зубами рубашку, кусая твои соски и впиваясь пальцами в твои бедра, насаживаю на себя со всей дури. Чёёёёрт, как же внутри тебя охренительно и горячо!»}.
О, БОЖЕ! С ума сойти!
{«Joker:
— Опрокинуть навзничь, развести ноги в стороны и драть, как сучку, пока не начнешь орать. А еще слизывать с тебя разлитый кофе.
Harley Quinn:
— Ораааать? Оооо…я буду орать, срывать голос прямо в твои губы…Хрипло шептать на ухо, кусая за мочку. Оплетая ногами твои бедра и прижимаясь сильнее. Отталкивая и выгибаясь. И царапая спину, плечи, кусая ключицы…Хочу свои следы на тебе.
Joker:
— Подхватить твои ноги под колени, поднимая к груди. Перехватить твои запястья, завести за голову. И, опираясь на локти, долбиться в тебя до озверения, рыча и кусая твои губы. Пока не начнешь сокращаться вокруг моего члена и закатывать глаза.
Harley Quinn:
— Дааааааааа…Снова криком. Громким. Сжимая тебя изнутри, чувствуя, как сгорает кожа везде, где ты дотрагиваешься…Вздрагивать в твоих руках, распадаясь от наслаждения на части. О наслаждения и от ощущения твоего тела надо мной. А потом укусить тебя за шею, снова за ключицы, отталкивая тебя назад. На пол. Оседлать, задирая майку, и вонзаясь ногтями в кожу груди и живота….Продолжая извиваться на тебе. Быстрее и быстрее…Не отрываясь от твоего взгляда.
Joker:
— Маленькая сучка!!! Смотреть на твою грудь в разорванной рубашке и резко схватить за горло, сжимая все сильнее, толкаясь быстрее и глубже, чувствуя, что меня сейчас на хрен разорвет на части. И только в глаза… пока оргазм подкатывает издалека. Бешеный острый, слишком быстрый.
Извиваешься на мне, запрокидывая голову и стараясь вздохнуть, а это уже мой кайф — видеть, как ты задыхаешься, а я остервенело трахаю тебя, насаживая все сильнее и быстрее, пока не разжимаю пальцы как раз в тот момент, когда меня накрывает, и рывком тебя к себе, впиваясь жадными поцелуями в шею. Целовать до синяков и кончать в тебя, сжимая до хруста. Доигралась, маленькая?
А теперь зайди в туалет и кончи для меня, Харли»}.
Ты, случайно, не похмелье от которого Утром будет болеть голова Или просто мина, Которая рванет без предупреждения? Отдай мне всю свою ненависть И в нашей постели я превращу ее В невиданную страсть, невиданную страсть Это все потому, что я без ума от тебя Без ума от тебя Без ума от тебя Без ума… © «Hooverphonic» — «Mad about you»{«Harley Quinn:
— Как бы я хотела вот так тебя. Спонтанно. В любое время суток. Джокер…я хочу увидеть тебя по-настоящему. Пожалуйста.
Joker:
— Иди в туалет и кончи. Сейчас.
Harley Quinn:
— Джокер, я прошу тебя. Один раз.
Joker:
— Сейчас»}.
* * *
Вышла из уборной, поправляя юбку и все еще сжимая смартфон пальцами. Адам тоже вышел с чашкой чая. Смотрит вопросительно, приподняв одну бровь. Бросила взгляд на его руку — костяшки пальцев сбиты. Перевела взгляд на его лицо.
— С тобой все в порядке, Белозерова?
— Да, Гордеев, более чем.
Взгляд на телефон. И снова смотрит мне в глаза. Вид у него еще тот. Словно всю ночь не спал и провел в каком-то баре или в драке.
— Сладкая ночка была, Гордеев?
Он, казалось, не услышал меня или намеренно проигнорировал.
— Я тут нарыл кое-что. Ты просила. Надо поговорить. У тебя точно всё нормально, Белозерова? Ты наркоту не принимаешь?
— Нет, Гордеев не принимаю. Настроение хорошее.
— Угу. Вижу. Неадекватная …будто тебя…
— Что меня?
— Только что отымели. — усмехнулся уголком рта.
— Да, иди ты.
— Ты там точно одна была?
Кивнул на уборную.
— Адам, ты издеваешься надо мной?
— Нет. Так что? Хочешь заехать ко мне после работы?
Снова смотрю на телефон. Молчит. Не пишет. Ждет моего ответа. Адам, как же ты не в тему сейчас!
— Во сколько?
{«Ты это сделала, Харли?»} — уведомление с мобильной почты высветилось на дисплее.
— Давай часов в шесть, подойдет?
{«Не долго ли, девочка? Обычно ты справляешься быстрее»}.
— Подойдет.
— Вот и чудно, Гордеев. Спасибо. До вечера.
Зашла в кабинет и, прислонившись к стене, выдохнула с облегчением, увидев, что Никиты нет.
{«Harley Quinn:
— Сделала.
Joker:
— А теперь насчет твоей просьбы, Харли.
Harley Quinn:
— Да.
Joker:
— Я не совсем нормальный…девочка.
Harley Quinn:
— Нормальней не придумаешь. Смеешься?
Joker:
— Да, смеюсь.
Harley Quinn:
— Мне плевать. Хоть карлик или урод…Мне все равно, понимаешь?
Joker:
— Это ты не понимаешь… Хочешь развалить то, что есть между нами? Хочешь испортить или прекратить игру?
Harley Quinn:
— Нет…хочу чувствовать. До боли. Понимаешь? Я хочу тебя чувствовать. Руки твои, запах. Я…
Joker:
— Что ты, Харли?
Harley Quinn:
— Я люблю тебя»}.
И пауза потянулась длиной в вечность. А меня трясти начинает. Я взглядом в его «онлайн» впилась. Если выйдет — я закричу. А потом так просто, но будто выстрел в абсолютной тишине всего три слова.
{«Joker:
— Я немой, Харли.
Harley Quinn:
— Ну и что?!..Господи! Какая разница?!
И снова молчание…а потом так неожиданно.
Joker:
— Хорошо.
Harley Quinn:
— Что?
Joker:
— Хорошо. Мы встретимся. Только с одним условием. Ты завяжешь глаза. И не снимешь повязку до конца встречи.
Harley Quinn:
— Но если ты… Если я тебя не услышу и…
Joker:
— Ты меня почувствуешь. Ты же этого хотела?
Harley Quinn:
— Да. Я этого хотела. Когда?»}.
«Кто-нибудь может мне сказать, так ли это плохо быть без ума от тебя? Без ума от тебя Без ума…» «Hooverphonic» — «Mad about you»Но точка «онлайн» в этот момент погасла, а я, тихо застонав, закрыла глаза.
— Мне все равно, как ты выглядишь. Мне все равно, кто ты. Все равно…
Шепчу и понимаю, что у меня дежавю…ОНА говорила мне о нем тоже самое.
ГЛАВА 8. Аля
Владимир Романович Шестаков проводил взглядом высокую блондинку в маленьких шортах и коротком топе, открывавшем взору ее упругий живот с какой-то стекляшкой в соблазнительном пупке, и, призывно просигналив, тяжело вздохнул, когда она посмотрела на него через плечо и прошла мимо.
Стар он, конечно, девочек таких цеплять — у самого дочка примерно того же возраста. Но природу не обманешь — мужской взгляд на то и мужской, чтобы оценивать красоту женских форм, независимо от возраста. Правда, не сказать, чтобы сейчас он сильно расстроился. Наоборот, сейчас его тело дышало самым настоящим предвкушением.
Проехал мимо красавицы и выругался, зацепив очередную яму. Эта дорога деревенская еще недешево обойдется его новенькому джипу. Владимир Романович с трогательной нежностью провел ладонью по рулю, хорошо, что решился на кредит, не послушал жену, утверждавшую, что сейчас не время для покупки автомобиля. А то до сих пор бы на своей старой железяке ездил. Не сказать, чтобы он плохо зарабатывал: на дом, на обучение обоих детей и ежегодный отпуск хватало с лихвой. Но проклятая дача съедала все свободные средства. А если быть честными, то и не дача вовсе, а маниакальное желание жены его, Ларисы, не уступать ни в чем соседям, отстроившим полгода назад самые настоящие хоромы недалеко от города. Тогда Шестакову пришлось едва ли не впопыхах перекраивать проект дома и отдавать строителям. А не то вынесла бы ему дражайшая супруга весь мозг своими претензиями. Была бы его воля: поставил бы он одноэтажный уютный домик, во дворе установил мангал и разбил огород. Речка совсем рядом протекает. А что еще для счастья мужику надо? А пришлось кучу денег потратить на какое-то вычурное двухэтажное здание с нелепыми башенками, пузатыми балконами и кричащей ярко-красной крышей.
Когда увидел рисунок жены, едва не сплюнул с досады. Но за долгие годы совместной жизни привык Владимир Романович слушать свою суженую и беспрекословно ее желания выполнять. Тем более что выторговал он у нее в свое полное распоряжение небольшую пристройку возле дома. Жена, догадавшись, для чего требует благоверный площадь, глаза, конечно, закатывала, но согласилась.
Владимир Романович Шестаков любил изредка расслабляться не совсем традиционным способом. Подарили как-то мужики ему на юбилей абонемент в один клуб, оказывавший определенного вида услуги, Шестаков тогда долго смеялся вместе с ними, а с утра на трезвую голову понял, что глупость это всё. Никогда не зайдет он в дебри эти. Стыдно даже произнести было эту аббревиатуру — БДСМ. Срам для любого нормального мужчины. Решил передарить кому-нибудь, якобы в шутку, но слишком долго тянул с этим, и когда подошло окончание срока действия абонемента, всё же потянул его какой-то черт туда.
Не позвонил заранее, не записался — представить не мог, как о чем-то подобном вообще разговаривать можно. Когда заходил в ничем не примечательное снаружи здание с бежевой дверью, даже как-то успокоился. Администратором оказалась улыбчивая девушка в офисном костюме, которая поняла запинающегося Шестакова и, оглядев его странным взглядом, пригласила пройти за ней в цокольный этаж.
Тогда уважаемый доктор едва дара речи не лишился — настолько отличались два этажа. Здесь внутри царила палитра красных и черных оттенков, много бархата и странные приспособления, висевшие на стенах: какие-то черные маски с пустыми глазницами, нечто вроде кляпа в виде шарика. Шестаков даже порно такое не смотрел, а тут шел за стройной девушкой, покачивавшей соблазнительными бёдрами, и чувствовал, как пот катится градом по спине.
Именно там он познакомился с Инессой, которая открыла ему заново его самого. Правда, она запрещала его звать себя по имени — только Госпожой. Женщина была настолько красива в обтягивающем корсете, открывавшем большую голую грудь с торчавшими кверху сосками, что Шестаков потерял дар речи. Только слушал её голос, изредка кивая и выполняя её приказы, как в каком-то полусне. Гораздо позже обнаружил себя связанным и на четвереньках, задница горела от плетки, но он самозабвенно вылизывал Госпожу, все ниже прогибаясь и постанывая от удовольствия, которое волнами пробегало по позвоночнику от каждого удара. В тот раз он впервые получил настолько мощный оргазм, даже не войдя в женщину.
Уехал оттуда с чувством полного удовлетворения…и омерзения к самому себе. Так как настоящему мужчине точно нельзя было кончать от такого унижения. Пришел домой, оттрахал жену на кухне, но скинуть с себя ощущения брезгливости так и не смог. Ненавидел себя и Инессу, друзей, подаривших гребаный сертификат, целый месяц. Злился на детей по поводу и без, срывался на пациентах и медсестрах. А через месяц снова оказался стоящим на коленях перед Инессой с кляпом во рту и связанными за спиной руками.
Жена обнаружила его наклонности, наткнувшись на переписку на одном из форумов. Была глубоко шокирована, кричала и ругалась, устроила истерику, а потом, забрав детей, уехала из дома. Сколько ни старался с ней Владимир поговорить, попросить прощения — тщетно.
А так как Лариса работала в одной с ним больнице медсестрой, то плюнул он на всё и оформился работать на «скорой». Больше года они не жили вместе, но он упорно навещал детей у тещи и звонил ей каждые выходные. Правда, тоже без особого успеха. Пока однажды не вернулся домой и не обнаружил жену со стеком в руках и в обтягивающем кожаном костюме. Простила его Лариска, а он о подобном и мечтать уже к тому времени не смел. Со временем снова вернулся в хирургию, опять же по настоянию жены. Правда, вынес из работы на «скорой» много воспоминаний для себя, которые вдруг налетали неожиданно и не всегда в подходящее время. Как сейчас, когда стоял на светофоре, и взгляд зацепился за рекламную растяжку местной кондитерской с улыбающейся девочкой. В бумажном праздничном колпаке. Чёртов колпак. Мужчина невольно вздрогнул, почувствовав мгновенное оцепенение. Такое с ним происходило нечасто. Всё же врач — это профессия, которая не прощает состояния паники. Шестаков был отличным врачом, потомственным хирургом. Благо, хватило ума вернуться в хирургию после пары лет работы на экипаже.
Чего только он не перевидал в годы этой работы. Казалось бы, работников хирургического отделения сложно удивить, но всё же «неотложка» требовала куда более стойкой психики. В белых стенах больницы и пациенты, и родственники ведут себя иначе, чем в собственных квартирах или в общественных местах. Здесь они чувствуют себя куда увереннее, на своей территории могут и оскорбить фельдшера, и угрожать ему, и даже избить. Шестаков любил травить байки о тех годах своей жизни. И как убегал от наркоманов в ломке, скрутивших его и требовавших «дозу»; и как дрался с озверевшим отцом ребенка, потому что тот требовал вколоть малышу с небольшой температурой жаропонижающее; и как бабушка одна звонила каждый день в одно и то же время и ждала его с накрытым столом.
Но бывали и такие истории, о которых Шестаков не то, что рассказывать не любил, он запрещал себе вспоминать о них. Вот только память, сука редкостная, любила поиздеваться над ним. Как сейчас, когда этот плакат проклятый увидел. На секунду лишь глаза прикрыл, а перед ними девочка мёртвая, истекшая кровью в точно таком же колпаке. Конечно, он не чувствовал своей вины за ее смерть, в тот день, он как вчера помнил, застряла их машина в пробке — такое случалось каждый день. «Скорую помощь» водители, торопившиеся по своим делам, давно перестали пропускать на дорогах. Вот такой банальной была причина смерти маленькой девочки, а не множественные ножевые ранения, указанные в заключении эксперта. Но, тем не менее, он иногда видел её вот так, неожиданно. Словно память играла с ним в какую-то одной ей известную игру, своеобразная проверка на стойкость.
Загорелся зеленый, и тут же зазвонил сотовый, возвращая водителя в реальный мир. Жена. Поставил телефон на вибрацию, не имея никакого желания говорить с ней сейчас. Иногда ему ее становилось отчаянно мало, да и сама жена порой не выказывала особого желания проводить сессии, как раньше. Быстрый секс раз в неделю перестал удовлетворять Шестакова, и он часами мог зависать в интернете на определенных сайтах. Ничего крамольного — просто виртуальное общение с полунамеками, от которых у него каменел член и текли слюни. Или же вполне откровенное описание секса, которое он раз за разом перечитывал, закрывшись в комнате темной ночью и мастурбируя. Всё зависело от стиля, который выберет Госпожа.
А совсем недавно Владимир познакомился с женщиной, которая занимала все его мысли на протяжении двадцати с лишним дней. Думал о ней днём, заходя на свой аккаунт на сайте с рабочего компьютера, и поздно ночью с телефона, запершись в ванной. Она настолько крепко схватила его за яйца, что он купил путёвку на юг для жены и младшей дочери только для того, чтобы беспрепятственно ездить на встречи с ней. Децима…Странное имя для Темы, но Владимир был хорошим сабмиссивом и не задавал вопросов даже в онлайн — переписке. Даже когда увидел, как она переименовала свой аккаунт. Морта. Теперь стало понятнее: его Госпожа брала для себя имена древнеримских богинь судьбы. Первая отмеряла нитью, сколько осталось человеку жить, вторая цинично перерезала эту самую нить.
Задумался и очнулся, когда джип едва не занесло на дороге, но успел выровнять руль. Еще немного, и он будет на месте назначения.
В «Пределе» он уже бывал. И не раз. Нравился ему именно этот клуб. Он здесь появлялся по вечерам, когда жена находилась на вечерней смене. Притом так, чтобы вернуться к полуночи домой. Здание, выстроенное в готическом стиле, напоминало древний вампирский замок. Все нижние обязаны были переступить порог клуба только на четвереньках, в ошейнике и с металлическим поводком. Если ты был без пары, то тебя встречала работница персонала, одетая в кожу и с плеткой в руках, и на поводке вела либо в зал, где ты занимал место в нише для Нижних, либо же в ВИП — комнаты, одну из которых Децима, он по привычке называл ее про себя первым именем, сегодня заказала. Да, именно она, а не Владимир, определил место и время встречи, заявив, что будет ждать его уже в комнате.
Владимир улыбнулся Каролине, стоявшей возле двери и поигрывавшей стеком в руках, и тут же опустился на колени, расстегивая воротник рубашки и открывая ее взгляду кожаный ошейник. Девушка молча взяла протянутую им цепь и, закрепив к ошейнику, повела его наверх. Они прошли пешком два этажа, поднимаясь к самому чердаку — так показалось мужчине.
Путь к комнате показался ему невероятно долгим, но предвкушение от встречи с Госпожой перекрывало раздражение от ожидания. Позади осталась последняя ступень, и Каролина нажала кнопку в стене, обитой чёрной тканью с выступающими из нее металлическими шипами. Отступила на несколько шагов назад и, элегантно развернувшись на высоких каблуках, вышла из комнаты, закрыв за собой тяжелые двойные двери.
Владимир Романович вздрогнул, когда неожиданно из всех колонок, висевших под потолком, раздалась музыка, совершенно чуждая этому месту.
«Сорок тысяч лет в гостях у сказки Звёзды подарили мне на счастье Силу океана, сердце мертвеца, да. Там я разучился плакать, мама, Но реву, когда из-за тумана Видят паруса мёртвые глаза урагана». © «Агата Кристи» — «Ураган»Почему — то стало жутко от слов этой песни. В молодости Шестаков был поклонником «Агаты Кристи», но в данной обстановке именно эта композиция показалась ему какой-то зловещей.
Владимир Романович прождал еще с минуты, но дверь впереди него оставалась закрытой, и никто не появился. Тогда он продолжил дорогу так же на четвереньках. Металлическая цепь, словно издеваясь, отстукивала аккорды песни.
«Дорога в ад, па-па-ра-па, Дорога в ад. Пой ветер нам, гори душа, Па-ра-па па-ра-па». © «Агата Кристи» — «Ураган»Подполз к двери, и та бесшумно открылась, впустив его в абсолютную темноту.
Композиция пошла по второму кругу, где-то сбоку щелкнул выключатель, и мужчина зажмурился от яркого света, ослепившего глаза. Потом он увидел прямо перед собой гильотину, в комнате никого не было, и Нижний позволил себе улыбнуться. Ему нравился именно этот девайс, хотя, конечно, никогда и никому не говорил об этом. Право выбора Верхние давали только раз — на согласие встречи с ними в реальности. И всё. Всё остальное зависело не от него. Но сейчас, глядя на конструкцию в середине комнаты, он был доволен. Игра с собственным сознанием, проверка своих инстинктов и чувств. Когда тебе приходится полностью довериться тому, кто находится за твоей спиной. Ты не можешь его видеть. Иногда ты даже не слышишь его голоса. Смесь страха, ожидания и благоговения к тому, кто может сотворить с тобой что угодно. Сейчас он рисковал. Без приказа Госпожи он не имел права сдвинуться с места, но Децима написала ему вчера, что на сессии ему будет предоставлен выбор — тот самый. И сейчас он понял, что она имела в виду.
Шестаков подполз к гильотине и медленно встал на ноги, оглянулся, но не заметив никого, начал раздеваться, складывая одежду аккуратно на полу. По-прежнему молча, просунул голову и руки в специальные отверстия. На руках тут же защелкнулись своеобразные кандалы, и мужчина напрягся в ожидании.
Сбоку открылась дверь и послышались уверенные шаги. Нижний сначала, не понял, что его насторожило, что заставило словно подобраться, он списал это на волнение от встречи с женщиной, о которой грезил всё последнее время, а, точнее, о том, какие удовольствия она ему могла доставить.
И только когда с пронзительным свистом на спину опустилась плеть, он закричал, хотя не имел права на голос. Закричал, потому что это не был удар Доминанта, не был удар женщины. Это не походило даже на жест наказания за провинности. Это был акт холодной ярости, ненависти, вспоровший ему кожу на спину. Это был чисто мужской удар.
Музыка стала тише, а потом Шестаков понял, как может звучать ужас. Когда музыка теряется где-то на заднем фоне, превращаясь в эхо твоего собственного страха. Ты уже не разбираешь слов, не слышишь нот. Пытаешься уловить хотя бы звук, хотя бы подсказку…но тщетно. Потому что погрузился в тишину. В ту самую, от которой стынет кровь и сворачивается в венах холодными шариками ртути.
— Децима? — Сглотнул ком, застрявший в горле и казавшийся нашпигованным иголками, расцарапавшими всю гортань.
Абсолютно голый, прикованный за руки, лишенный возможности шевельнуться, оглянуться назад, он вздрогнул от мужского голоса, от звука которого зашевелились волосы на затылке.
— Морта — одна из трёх богинь судьбы. Знаешь, что она делает?
— Где Децима? — дрожа от холода, который колотил всё тело, который замораживал все внутренности. И тут же закричал от очередного удара плетью.
— Что делает Морта?
— Пере…перерезает нить жизни человека…Кто вы? — глядя расширенными от страха глазами на вставшего перед ним высокого мужчину в длинном черном плаще и капюшоне, скрывавшем его лицо.
Незнакомец пожал плечами и обошел вокруг Шестакова, остановился с правой стороны и, склонив голову, рассматривал его часы.
— Чего вы хотите? — Одними губами, шепотом. Кожа на спине горела, он даже не был уверен, что не истекает сейчас кровью, но сейчас даже эта боль уступала ужасу, который он испытывал перед абсолютным спокойствием мужчины, по-хозяйски расстегнувшего его часы и кинувшего их на кучу одежды.
— Поиграть.
Ответил так просто, что Шестаков вздрогнул. А потом мужчина произвел какие-то манипуляции с гильотиной — Шестаков не мог видеть всего, и Владимир Романович снова закричал. Его запястий и шеи коснулась нечто холодное и острое, распороло кожу от быстрого движения, и он повторно заорал, ощутив струйки крови, побежавшие по рукам и шее вниз. Дёрнулся в чертовой гильотине, но без толку — был плотно прикован.
А уже через секунду Владимир Романович Шестаков очутился в самом настоящем Аду. Только в этой Преисподней не было котлов, но его персональному Дьяволу не нужна была кипящая вода, чтобы заставить извиваться и хрипеть от боли с кляпом во рту. Под вопли «Агаты Кристи», отскакивавшие от мягких стен, обитых поролоном и предназначенных для того, чтобы впитывать звуки. Но эти чертовы слова отскакивали от них, словно резиновые мячики, проникая под кожу несчастного, истекавшего кровью, слезами и слюнями, беззвучно оравшего от дикой боли, очагами вспыхивавшей то на спине, то на руках, то на груди.
На последней дозе воздуха и сна, сна. Поцелуй меня, я умираю, Только очень осторожно, мама, Не смотри в глаза, мёртвые глаза урагана. © "Агата Кристи" — "Ураган"А он бы душу продал кому угодно и за любую цену, чтобы увидеть глаза своего мучителя, спокойно и методично срезавшего с него кожу на запястье, лоскут за лоскутом. Ему казалось, что эта гребаная боль срослась с ним, стала его частью. Садист молча и аккуратно, быстрыми, отточенными движениями кромсал его на ошметки, а он орал, но его крик пропадал внутри него же. Терялся, застревал в его горле. И это было куда страшнее и больнее, чем физические страдания.
А потом, словно гром среди ясного неба, спокойный голос, перекрывавший даже музыку.
— Итак. Пять минут. Один вопрос. Один верный ответ. Три попытки. На кону — твоя жизнь.
Щёлкнул пальцем где-то выше затылка Шестакова, и тот похолодел от ужаса.
— Кивни, если согласен. Если нет — твоя голова всё равно окажется на полу.
Шестаков закрыл глаза, не в силах унять дрожь, проклиная долбаного маньяка. Он ждал одной только возможности — задать вопрос. Спросить, почему? С какого хрена это происходит с ним?
Очень медленно кивнул, молясь Богу, в которого никогда до сих пор не верил, чтобы не коснуться лезвия, которого, казалось, чувствовал кожей.
Парень усмехнулся одними губами, будто и не ожидал иного ответа.
— Игра началась.
* * *
Кто знает, что видят те, кто умирает…Что чувствуют они, понимая за доли секунды, что это конец…Ощущают ли пресловутое дыхание смерти, делая свой последний вздох? Владимир Романович Шестаков не просто чуял его, он им пропах весь. Он чувствовал, как эта вонь вырывается из его рта. Он хватал воздух ослабевшими ладонями, пытаясь отогнать старую суку с косой подальше. Он не был идиотом, он понимал, что живым не выберется отсюда. Только не тогда, когда увидел лицо парня. Нет, не лицо. Оно ему ничего не сказало. Такое же, как у сотен тысяч людей, которых он встречал в своей жизни. Надежду в нем убили те самые мертвые глаза. Не просто пустые или задернутые поволокой жизненного опыта, а именно мертвые. Шестаков не знал, но готов был поклясться, что кто-то в свое время "убил" их. Иначе не качал бы тот так спокойно головой, иногда бросая взгляд на свои часы. Он никуда не торопился и не торопил, а словно получал удовольствие, отсчитывая последние минуты жизни своей жертвы.
Минуты…Минуты…Шестаков дернулся, правильный ответ застрял в горле, а запястья снова обожгло вспышкой боли, и ужасная догадка озарила сознание. Он знал, что вырезал у него на обеих руках этот псих.
— Время…Время, — он шептал пересохшими губами, слишком обессилевший, чтобы говорить громко, но ему казалось, что тот его не слышит. И тогда он закричал так громко, насколько ему позволяли последние силы.
— Время…Я не убивал…Оно убило. — посмотрел прямо в абсолютную пустыню его взгляда, на дне которой полыхали темным огнем песчаные дюны, и добавил, уронив голову, — Её.
Мужчина удовлетворенно улыбнулся. Несомненно, он ждал, что его узнают, иначе всё это не имело смысла.
Он лишь снова пожал плечами и подошел близко, так близко к Шестакову, что у того выступили очередные слезы на глазах. В пустыне погас последний костер — палач принял решение и потерял интерес.
— Пять минут уже прошли. Ты опоздал, доктор. Снова.
* * *
Кирилл Алексеевич скривился, разглядывая обмякший в гильотине труп, не рухнувший на пол, только благодаря кандалам, удерживавшим его за руки. В этот момент прорвавшаяся в комнату женщина с криками, что она — владелица клуба, завизжала и упала в обморок, и следователь недовольно махнул рукой.
— Грёбаные шлюхи, как мужиков стегать плетьми — это они крутые, и едва ли не яйцами железными между ног трясут, а как кровь увидят, так сразу валятся без чувств. Уберите ее, парни.
— Н-да, — его помощник многозначительно посмотрел на забрызганный кровью пол и опустился на корточки перед отрубленной головой, валявшейся возле его ног.
Брезгливо ткнул ее пальцем в перчатке.
Сам следователь рассматривал в этот момент своеобразные часы, вырезанные на обеих запястьях у трупа.
— Полдевятого…хм…а тут нет.
— Что? — Игорь вскинулся, и следователь обернулся к нему, дождался, пока тот подойдет. — На одной руке у него время полдевятого. А на второй тридцать пять минут девятого. Видишь? Ублюдок аккуратно каждую цифру вырезал.
Круглов достал фотоаппарат и сделал снимок. Конечно, эксперты тоже сделают это, но помощник знак, что Кирилл Алексеевич не хотел ждать. Ему нужно было время, чтобы успеть схватить мысль, возникшую сейчас в этой пропахшей смертью комнате. Мысль о том, что нужно, просто необходимо пересмотреть материалы дел, которые он вел вот уже несколько месяцев.
— Нужно поднять дела по области за последние полгода.
— Да, нет…, - Игорь отрицательно качал головой, — да ну на фиг, Кирилл.
— А я задницей чую, что это все одно дело, Игорь. Остаешься допрашивать здешний персонал, а я в комитет. Ты заканчивай и пулей ко мне. Я тебе голову на отсечение даю, — кивнул в сторону отрубленной части тела убитого и как-то зло усмехнулся, — это не осечка заигравшегося любителя "пожёстче". Мужичка явно наказали за что-то. И, если это не заказ жены или партнёра по бизнесу, то я даже догадываюсь, в какую папку мы вложим его последние фотографии.
ГЛАВА 9. Бес
И снова тишина. Острая, словно лезвие ножа, она разрезает окружающее пространство, делит его на неровные части мозаичного стекла, которые падают на твою ладонь со звоном. Ты можешь сжимать ладонь сколько угодно в надежде раскрошить их, на деле выясняется, что они выкованы из металла, и ты лишь ранишь собственную руку, превращая кожу в решето, металлический запах твоей же крови наполняет тёмное "где-то там", в котором ты находишься…Но грёбаная тишина не отступает. Лишь жалкий звук капель крови, срывающихся с твоей ладони в бездну, разбавляет ее. Но этого так мало, когда балансируешь на грани абсолютного безумия в полном одиночестве. "Где-то там".
Человек привыкает ко всему, и ты тоже привыкаешь к этой твари — безмолвию. Даже если ненавидишь его остатками своей души. Ты делаешь шаг, потом второй, уже не удивляясь тому, что не проваливаешься в чёрную дыру под ногами. Чёрта с два ты бы испугался этого! Сейчас ты согласился бы сорваться в эту пропасть даже по частям, и чтобы вдребезги. И навечно. Может, уже не придется тогда идти туда, где горит тусклая полоска света. Ты бы никогда не пошел в ту сторону, будь у тебя выбор. Но ведь тебя лишили права выбора много лет назад. Сначала люди. Потом ОНО. Твое персональное ЗЛО. Трансформация самого любимого существа в нечто, ввергающее в панический ужас. То, что ждет тебя за дверью. Нет, ты конечно, давно уже не видишь этой двери. Ты просто знаешь, что она там есть. Как и пол под твоими ногами, которого на самом деле не существует и на который ты, скорее, по привычке ступаешь слишком осторожно. Ведь ты уже не веришь, что ОНО не услышит. Ты уверен, что ОНО узнало о твоем присутствии сразу, как ты здесь появился. ОНО всегда ждет тебя тут. В этом месте. И ты не можешь не прийти. Ненавидя ЭТО всей душой, ты идешь на ЕГО беззвучный зов под стук собственного сердца, колотящегося в груди, будто разбивающего грудную клетку на части.
Ты пересекаешь последний рубеж, нет, ты его не видишь. Здесь темно, хоть глаз выколи. Но ты помнишь, что он тут есть. Потому что сперва ты оказывался здесь при абсолютном свете, ярком, слепящем глаза. Но свет со временем поглотила твоя собственная тьма. И он становился всё слабее, пока однажды не исчез, оставив свой след слабым лучом, освещающим только ЕЁ. Маленькую тонкую фигурку, стоящую к тебе спиной. ЗЛО всегда встречает тебя именно так. ОНО наслаждается предвкушением твоего ужаса. И пока ты делаешь очередной шаг вперед, оно начинает медленно разворачиваться в твою сторону. Обычно ты начинаешь кричать раньше, чем увидишь ЕГО оскал.
Вам, может быть, одна из падающих звезд, Может быть, для вас, прочь от этих слез, От жизни над землёй принесёт наш поцелуй домой. И, может, на крови вырастет тот дом, Чистый для любви… Может быть, потом Наших падших душ не коснётся больше зло. © Кукрыниксы — ЗвездаТы бы благодарно выдохнул, если бы эта музыка за пределами твоего сознания появилась раньше. Хотя бы на долю секунды. Может, тогда ты проснулся бы раньше…Но пока ЗЛО сильнее. И пока ты видишь ЕГО, ты не можешь ни отвести взгляд, ни проснуться. Только продолжать глотать воздух открытым ртом. В ожидании, чтобы потом закричать. Снова. Кричать как сотни, тысячи раз до того. Потому что ЭТО — единственное, чего ты боишься. Ты — убийца и давно уже сдохший труп. До сих пор боишься оскала на окровавленном лице изрезанного призрака своей сестры.
"Мне страшно никогда так не будет уже, Я — раненое сердце на рваной душе. Изломанная жизнь — бесполезный сюжет. Я так хочу забыть свою смерть в парандже". © Кукрыниксы — ЗвездаИ пока ОНО смотрит на тебя пустыми глазницами лысого, склоненного набок черепа с улыбкой сумасшедшего на изрезанном лезвиями подобии лица, ты продолжаешь кричать, все равно не смея отступить от него назад. ОНО подходит так близко, подволакивая правую ногу и истекая черной кровью, от вони которой закладывает нос, поднимает безжизненно висевшую руку и упирается костлявым пальцем прямо в твою грудь. Проходит сквозь твое тело, и ты знаешь, что ОНО там ищет. Твое сердце, которое беснуется сейчас уже где-то в районе желудка.
— Очнись… Мать твою, Джокер, очнись!
Ты выныриваешь из кошмара, наконец, вдыхая спертый воздух своей комнаты и тут же бежишь к окну, чтобы распахнуть его настежь, чтобы отогнать вонь ЕГО крови.
— Я же просил не закрывать окна! Даже когда я сплю!
— Угомонись, придурок! — Адам цедит слова сквозь зубы, но ты не злишься на него за оскорбления. Ты знаешь, что он единственный, кто действительно беспокоится о тебе. И он снова немного растерян. Пусть даже и привык давно к твоим снам. — Она не исчезнет никогда, даже если ты будешь спать с открытой дверью. До тех пор, пока не откажешься от идеи…
— Оно…, - перебиваешь, зная заранее, что он скажет. Стакан холодной воды. И до дна. Одним глотком. — И нет…Оно говорит. Я хочу услышать, что Оно говорит, понимаешь?
— И ты согласен и дальше вот так подыхать? — короткий кивок, и парень разочарованно стонет, — Ты — псих, Костя, ты понимаешь это? Долбаный психованный мазохист! — Адам качает головой, глядя со злостью на орущий плеер. Как бы он ни ненавидел громкую музыку, он позволяет тебе не слышать тишину. И это одно из качеств, которые ты так ценишь в своем единственном друге.
— Пыфффф…Можно подумать, ты только сейчас это узнал.
Дождаться, когда он успокоится, и пройти на кухню, чтобы схватить пиво и вернуться обратно, рухнуть на кровать, уже не закрывая глаза и вспоминая, вспоминая, вспоминая.
Как впервые увидел этот свой кошмар. Тогда не было тьмы, а был твой дом. И ОНО было еще слишком похоже на твою сестру. Хотя чёрта с два ты сейчас боишься ЕГО больше, чем тогда. Нет, в первый раз было страшнее всего. Больнее. Потому что на тебя смотрела ОНА. И ты кричал тогда не там, у себя в сознании, в гребаном сне, а наяву. Так громко и истошно, что напугал несчастного парня, впустившего тебя в свой дом. И, пока ты приходил в чувство, боясь закрыть глаза и снова погрузиться в этот Ад, Адам медленно встал, держась за голову и проследовал на кухню за водкой и рюмками. Он не задавал вопросов — он единственный знал о тебе всё.
И пусть ему нельзя было ни грамма…Пусть ты прятал глаза, глядя на ободряющую улыбку на бледном лице, именно тогда, вы вдвоем приняли решение, распоровшее надвое ваши жизни.
"Лишь солнце да песок жгут нам сапоги, За короткий срок мы смогли найти Тысячи дорог, сложенных с могил, нам с них не сойти. И, может быть, кому не дадим своей руки, Может потому, что у нас внутри Все осколки льда не растопит ни одна звезда". © Кукрыниксы — Звезда* * *
Кто бы мог подумать, что бедный парень-сирота из столицы, с которым я познакомился во время очередного футбольного турнира среди молодежных команд, станет не просто другом, а спасителем.
Пару раз собирались игроками в баре после окончания соревнований. Пару раз едва не перебили друг другу морды, кстати, тогда тоже успокаивал разгоряченных парней именно спокойный и хладнокровный Адам. Гордеев, как капитан, имел немалый авторитет у своих ребят. Его уважали за умение принимать хладнокровные решения даже во время сложнейших игр, за врожденное чувство справедливости и за талант от Бога. Если кого-то высшие силы наградили счастливой семьей, смазливым лицом или неплохими финансовыми возможностями, то Адаму не досталось ни того, ни другого, ни третьего. Он жил с бабушкой в небольшой двушке в одном из спальных районов города, имел самую обыкновенную внешность. Они перебивались с хлеба на воду, существуя на одну лишь пенсию бабки, пока он не устроился в соседний магазин грузчиком. Жить стало не намного, но всё же легче, и, самое главное — теперь он перестал чувствовать себя обязанным бросить футбол, что, по мнению единственной родственницы, было бы страшным грехом. Потому что у внука эта игра была в крови. Им восхищались тренер и игроки своей и чужих команд. Его даже позвали в один из английских клубов, агент которого настойчиво предлагал ему два раза, что само по себе было невероятно, переехать в Великобританию. Но к тому времени бабушка была уже слаба здоровьем, и Адам не смог оставить ее, зная, что та зачахнет в одиночестве.
— Гордеев, ты реально дебил. Это такой шанс…ты только подумай, насколько жизнь твоя изменится! Ты сможешь зарабатывать нормальные деньги и присылать их бабуле, а потом и ее заберешь к себе.
— Кость, — Адам махнул рукой, протягивая пиво. По правде говоря, он всегда был поборником соблюдения режима, но сейчас мы праздновали день рождения Адама вдвоем в тесной кухне. — Боюсь я, — он понизил голос, чтобы не услышала старушка, находившаяся в своей комнате. — Ей уже сейчас тяжело. А ты говоришь "зарабатывать деньги"…Да, пока это случится, загнется она тут. У нее нет никого, кроме меня, понимаешь?
Я, конечно, кивал головой, но понимал, что душу бы продал за такое предложение. А этот чудак так просто отказывался от шанса, который выпадает раз за всю жизнь. Мистер Благородство, мать его! Тогда я даже не представлял, насколько он соответствует этому шутливому статусу.
И при этом я никогда не считал его идиотом и не начал относиться к нему хуже, я продолжал восхищаться им, человеком, который был способен на большее, чем я, чем миллионы других. И я сейчас не о спорте.
И даже, когда его взяли в состав "Динамо", а я пока так и оставался в родном городе, мы продолжали созваниваться и переписываться в интернете, уже куда реже видясь вживую.
Пока я не ввалился к нему домой без звонка, без предупреждения. Чёрт, я стоял под дверью его квартиры и ни капли не сомневался в том, что меня не сдадут, впустят, и, если будет возможность, помогут. Просто потому что Адам был единственным кто навещал меня в психушке. Правда, всего два раза, его больше и не пустили бы — он не был моим родственником. Но Гордеев то ли подкупил, то ли соблазнил медсестру, и мы с ним увиделись там. Он же попросил ее приносить мне письма, сложенные вчетверо листочки бумаги, которые стали для меня своеобразной отдушиной, позволили не сойти окончательно с ума. В них Гордеев рассказывал о своей жизни, о клубе, о бабушке, которая вовсю пыталась его женить. Он позволял мне вырваться из душных стен больницы на свободу, туда, где ревели трибуны и раздавался свисток судьи, где забивались голы и праздновались победы. Я не мог отвечать ему. Первое время после трагедии я вообще не мог писать. На то, чтобы снова научиться держать ручку в пальцах у меня ушло больше полугода. На то, чтобы связно формулировать мысли, — еще больше времени. И я начал отвечать ему мысленно. В своей голове. Перечитывал каждый день одно и то же письмо, вплоть до получения следующего, и молча разговаривал с Адамом. Поначалу лишь простыми предложениями из трёх-четырех слов. Спрашивал его о здоровье Елены Васильевны и о новой девушке, о последнем матче его команды и о финале Лиги чемпионов. Ругал его за поражения и очередной промах мимо ворот. А потом я начал делиться с ним сам. Так же мысленно рассказывать о своей боли и утрате, о том, как мне не хватает родителей и задорного смеха сестры. О той боли, что стала неотъемлемой частью тела. О своей ненависти. И о своих планах. И там, в моем сознании, Адам был согласен со мной. Там он не пытался переубедить и не отвернулся от меня.
И ведь этот идиот принял меня! Даже узнав, что я сбежал при переводе из психушки в тюрьму. Да, я научился притворяться нормальным, я разговорил ту самую медсестру и трахал ее месяц, прежде чем она помогла мне вырваться из того Ада, который все называли больницей, передав несколько шприцов с транквилизаторами. Потом её насмерть собьёт иномарка без номеров, а самого Константина Туманова чуть позже объявят погибшим, сгоревшим заживо в обветшалой пристройке одного из частных домов.
Это был тот самый момент, когда я понял, что могу рассказать Адаму обо всём: о своих кошмарах, страхах…и о своих планах. Настоящему Адаму, а не тому, кому я так и не отправил ни одного письма. Тот момент, когда через общего знакомого Гордеев связался с сотрудниками полиции и за немалые деньги моего отца, которые мы путем махинаций перекинули с одного счета на другой, а оттуда на третий, и договорился о "случайной" находке "моего" обгоревшего на девяносто девять процентов тела в маленькой деревянной постройке. Единственное, куда я не втягивал его — были убийства. Парень точно не заслужил отвечать перед совестью за чужие жизни, которыми я купил свою собственную.
О причинах его бескорыстной помощи я узнаю буквально через неделю после того, как мы с ними помянем его бабку, умершую почти три года назад. Да, чертов ублюдок обманывал меня в тех своих письмах, рассказывая о ней. О "Динамо", в котором уже не играл, о котором пришлось забыть, как и о футболе в целом. Он нафантазировал жизнь, которая могла бы у него сложиться, чтобы разнообразить ту, которую вёл я за стенами психбольницы.
— Ты придурок, Гордеев…ты конченый придуроооок. Это же надо было наво….навооб…придумать столько всего, — заплетающимся языком и глядя, как он пытается удержать голову, сидя за столом без скатерти с бутылкой водки и стаканами. Но уже через секунду он роняет ее на руки и замолкает на долгие минуты. А потом очень тихо, и так же коверкая слова, выдает:
— Там слишком тускло было…Серо. Я же видел. Я…я раскрасить хотел. Для тебя.
Мы ушли с ним в запой дня на три. Отмечали всё подряд: мой побег и свободу, мои похороны и новую жизнь, нашу встречу и мое новоселье у него. Мы просто напивались сутками, не зная, что делать дальше. Точнее, я знал…Но даже когда у вас в руках нож, вам всегда нужно время, чтобы смириться с мыслью, что придется воткнуть его в чье-то горло.
* * *
Я открываю глаза, отгоняя воспоминания. На часах уже полпятого утра, о сне и речи быть не может. В гробу я видел такие сны. Впрочем, именно им, скорее всего, и суждено меня туда свести.
Достал ноут и зашел в свой аккаунт. Глупая привычка, которая раздражала меня самого: перечитывать наше с Принцессой общение. Нет, раньше я точно так же раз за разом повторно читал всё, что она мне писала. Но тогда это было изучение, своего рода исследование Госпожи Белозеровой. Не из газетных статей или телевизионных эфиров, не из Инстаграма или других социальных сетей, а уже намного ближе — в личной переписке. Теперь же мне не просто доставлял удовольствие этот процесс, теперь он стал необходим. Читать слова и представлять, что слышу их. Её голосом. Тихим, бархатным, от звуков которого напрягался член и перехватывало в горле. Представлять, что вижу, как откидывается на спинку кресла и кусает губы, ожидая моих сообщений. И это не всегда лишь мои фантазии, иногда я всё это видел из соседнего дома, который снял именно для этой цели — наблюдать за Принцессой из окна, когда она совершенно не подозревает, что в доме напротив находится тот тип, с которым она проводит почти двадцать четыре часа в сутки. Потому что стало до дикости мало просто интернета, мало читать и воображать себе ее. Иногда свет монитора бесил настолько, что хотелось разбить его к чертям собачьим. Да, он связывал нас с ней. Но и в то же время мешал увидеть вживую, лицом к лицу. Особенно когда хотелось на самом деле прикоснуться, ощутить, так ли шелковиста её кожа, как я придумал себе. Это желание тоже раздражало. Осознание того, что становлюсь зависимым. И это ни хрена не долбаная привычка. Это потребность открыть рано утром аккаунт и наткнуться на "Доброе утро, Джокер! Я думала о тебе ночью…".
И я с силой подавляю в себе гребаное желание ответить ей тут же. Желание, блядь! Которого не должно быть. Которое слишком быстро возникло. Умник Адам утверждает, что это связано с моим одиночеством. Что любой другой "нормальный" мужик не подсел бы на женщину, которую толком не видел. Что просто у меня "недотрах". Обычно на этом месте разговора я посылаю его глубоко на хрен.
Чёрт, ведь поначалу НАС действительно было не так много в сутках. Только столько, чтобы продолжать удерживать ее на крючке, не дать ей соскользнуть с него. Я не знаю, что произошло потом…Возможно, в этом виноваты рассказы Гордеева. Возможно, действительно, сукин сын прав, и мне просто нужна сексуальная разрядка. А, возможно, это из-за её искренности. Той, которой буквально дышали её слова. Её стоны. Блядь, я не просто читал её стоны, я вдыхал их, я слышал их и ощущал на своих губах. Как наяву. Принцесса лгала мне, притворившись мёртвой подругой, но была честной со мной во всем остальном.
Это грёбаное признание в любви…Оно должно было означать мою победу. Посадить на цепь сестру своего врага…первого номера из списка. Заставить влюбиться в себя, ни разу не увидевшись с ней. Это должно было принести чувство полного триумфа и удовлетворения. И без этой, мать её, неожиданной остановки сердца. Когда следующий вздох дался слишком тяжело. Потому что лёгкие будто проткнули острым лезвием. И смятение меняется на злость к самому себе.
Нет, хрупкая Принцесса не стала моим героином. Но уже начинала вызывать нечто, похожее на ломки. А это значило, что нужно увидеться с ней. Просто увидеть её, отыметь и скинуть с себя эту чертову зависимость.
{"Harley Quinn:
— Доброе утро, Джокер! Мои мысли о тебе…Сегодня кроваво — алые. Наслаждайся.
(И ровно десять картинок с самыми откровенными фото и признаниями).
Joker:
— Доброе утро, крошка. Это то, что ты хотела бы, чтобы я сделал с тобой? Какая из картинок больше всего взбодрила мою девочку?
Harley Quinn:
— Мммм…мне нравятся все…
Joker:
— Какая ненасытная. А я хочу попробовать на вкус шестую. Как думаешь, ты бы кричала так, же, как эта блондинка, если бы я вылизывал тебя?
Harley Quinn:
— Оооох…Не надо. Мне на работу нужно собираться.
Joker:
— И восьмая…как тебе восьмая, Харли?
Harley Quinn:
— Боже…
Joker:
Я так мало похож на Господа, детка. Мне определенно понравилась восьмая картинка.
Harley Quinn:
— Джокер, прошу тебя…
Joker:
— Приласкай себя пальчиками, Харли. Прямо сейчас.
Harley Quinn:
— Что?
Joker:
— Три движения: Коснись себя между ножек, вытащи пальчики из трусиков и оближи их. Я жду.
— Моя девочка замолчала так надолго. Решила нарушить правила?
Harley Quinn:
— Даааа…Нарушила…Прости меня.
Joker:
— Маленькая сучка. Напрашиваешься на наказание?
Harley Quinn:
— Ох, Джокер…ДА!
Joker:
— Я хочу твоё фото. Немедленно. Покажи мне, КАК ты нарушала мои правила.
Harley Quinn:
— НЕТ! Я…Я не смогу!
Joker:
— Не разочаровывай меня, Харли. ТВОЁ ФОТО! Прямо сейчас!
Harley Quinn:
— Ты с ума сошёл?! Как я тебе отправлю ТАКОЕ?!
Joker:
— Покажи, насколько доверяешь мне, девочка…И да. Я псих. Я конченый псих, когда думаю о том, как твои тонкие пальчики касаются такой горячей плоти. Мне надоело представлять это. ПОКАЖИ МНЕ СЕБЯ, ХАРЛИ!
И застонать снова, когда всё же уступила. И снова вслух, жадно рассматривая фотографии, отправленные ею. Запомнить их, чтобы запустить в своем воображении уже полноценное видео, мастурбируя в абсолютной темноте с закрытыми глазами."}
"У меня чувство, что мы должны Выйти за пределы, Прокатиться, Сделать все, что хотим, Сделать это преступлением, Сделать это вовремя, Сделать это там, где мы хотим Давай займемся сексом Я хочу этого малышка, и я знаю, что ты это сделаешь Я получу это, детка и я знаю, что ты хорошая Давай превратим это в грех" © "Dope" — "Let's Fuck"ГЛАВА 10. Бес. Аля
Наверное, именно так грешники ожидают своей участи после смерти. Стоя на перепутье двух дорог и с тоской глядя на белоснежные ворота Рая с развевающимися золотыми знаменами, мирно покачивающимися под пение ангелов. Бред полный, конечно. Но я чувствовал себя, примерно, как те несчастные, которым не оставалось ничего, кроме как смотреть и тяжело вздыхать, стараясь не повернуться в противоположную сторону, откуда воняло гарью и паленой плотью человеческих тел, откуда слышались истошные крики и мольбы о прощении.
Только я, в отличие от тех, кто уже вовсю поджаривался на костре, собирался вначале зайти в соседнюю дверь и вкусить в полной мере плодов с того самого дерева греха. Греха безудержного с моей маленькой Принцессой, которая уже была в трех кварталах от меня.
{"Запомни, Харли, я разрешаю тебе говорить, кричать, стонать, умолять. Да, определенно, ты можешь стонать и умолять, маленькая. Ты не задаешь вопросов. Ты теряешь право сомневаться. И ты даже не пытаешься увидеть моё лицо.
— Я обещаю, Джокер.
— Не обмани мое доверие, Харли"}.
Она ехала на такси и не переставала писать, будто беспокоясь, что я передумаю. Нет, никаких просьб или намеков. Самый обычный разговор на самые обычные темы…Правда, меня отсюда и под дулом пистолета бы сейчас не выгнали.
Наша первая настоящая, реальная встреча с Мирославой…Способ, наконец, привести в порядок мысли. А, может, наоборот — риск погрязнуть в ней еще глубже. Как бы там ни было, даже все демоны Ада сейчас не могли мне помешать.
Улыбнулся очередному сообщению от нее и быстро набрал текст:
{"Прямо сейчас аккуратно сними трусики, Принцесса, и сожми их в ладони. Это твой пригласительный билет на мою вечеринку. Без него тебя попросту не впустят"}.
* * *
Я нервничала. Нет… я не просто нервничала — у меня от предвкушения встречи дрожали колени и захватывало дух. Я ничего в своей жизни не желала так сильно, как встречи с ним. Ничего и никогда. До такой степени, что только от мысли об этом подкашивались колени и все плыло перед глазами.
Моментами мне хотелось зарыдать, а моментами я улыбалась, как идиотка, и таксист смотрел на меня в зеркало и усмехался.
Несколько месяцев переписки…Если точно, то больше трех. Как несколько лет для кого-то. В сети день за месяц. Я поняла это спустя время. Поняла, что меня швыряет в это сумасшествие с такой силой, что я завишу от банального сигнала полученной смски или мейла. Меня скручивает, если мой сотовый вне досягаемости протянутой руки. Если, не дай Бог, минут десять был не заряжен, меня ломало в полном смысле этого слова. Несколько дней назад я расплакалась, когда сломалась зарядка.
Не могу жить без его "Доброе утро, девочка". Я не могу спать без его "Спокойной ночи"… И я умру, если он не напишет мне "До завтра, Харли". Я люблю его. Я ТАК люблю его, что мне от этого чувства больно дышать. Я никогда раньше не думала, что любовь она… она бестелесная, она безликая, она безголосая и глухая. Она просто абсолютная, если душа разрывается от тоски и одержимости по человеку, которого никогда не видела и не слышала.
И я сейчас могла прикоснуться к своей собственной душе пальцами, меня раздирало на части от предвкушения.
Я боялась… Я так боялась, что он передумает, что сыграет в новую игру, ускользнет. Я писала ему всю дорогу. И по мере того, как такси приближалось, я уже не выдерживала напряжения.
Прочла его последнее сообщение, и щеки мгновенно вспыхнули, я сжала колени, закатывая глаза от изнеможения. Боже! Одно предложение…и я готова. Я уже у точки невозврата. И я не знаю, КАК он это делает со мной.
Бросила взгляд на таксиста и просунула руку под подол платья, поддевая резинку трусиков. Смотри на дорогу, придурок. Потянула вниз, улыбаясь таксисту дурацкой улыбкой. Каблук запутался в резинке.
— Мы почти приехали.
Чееерт! Дернула трусики, и шелк порвался.
— У вас что-то упало?
— Нет. Все нормально.
Он явно решил, что краснею я от его взгляда, и самодовольно усмехался. Скомкала трусики в ладони и достала повязку. Когда такси остановилось, то мне сообщили, что за проезд уже оплачено.
Боже, мне казалось мое сердце разорвется от волнения. Таксист не уезжал. Он почему-то смотрел на меня, а я ведь должна завязать глаза.
Плевать. Пусть смотрит. Я выдохнула и завязала глаза тонким шифоновым черным шарфиком, сложенным в длину несколько раз.
Теперь сердце билось у меня в висках, и я ждала… тяжело дыша и судорожно сжимая пальцы.
* * *
Она приехала. Я знал, что она едет. Она сама молила меня о встрече, писала мне каждую минуту сегодня. Но пока такси не остановилось возле крыльца и из него не вышла стройная девушка в потрясающем чёрном платье до колен, облегавшем идеальные формы, я неотрывно смотрел на телефон, ожидая от нее извинений и сообщения о том, что передумала. И это было бы совершенно естественно, учитывая, кто такая Мирослава Белозерова.
Но сейчас она стояла с закрытыми глазами прямо передо мной, напряженная, стиснув пальцы рук. Спустился по ступеням и подошёл к ней, закатив глаза от блаженства, когда почувствовал запах ее тела. Умная девочка. Это было одно из моих условий. Никаких духов. Только легкий запах геля для душа и аромат ее собственного тела. Сегодня я не хотел суррогатов. Всё только настоящее. Медленно оглядел стройную фигуру, длинные ноги и упругую грудь, скрытую тканью платья. Девочка слегка разочаровала. Закрылась практически наглухо, даже горло плотно обхватывал воротник. Всё же я ожидал более смелого наряда. Протянул руку и провел кончиками пальцев по лицу. Затаив дыхание и слыша, как забарабанило собственное сердце. Первое прикосновение. Только сейчас понял, что все мечты, все фантазии и наполовину не были настолько будоражащими. Провел по мягким губам и мысленно застонал, когда она приоткрыла рот. Её волосы…Дьявол, сколько раз я мечтал накрутить их на ладонь! А сейчас осторожно касался пальцами собранных в прическу локонов.
Подошел к таксисту и расплатился, отпуская его. А когда развернулся к Мирославе, едва не застонал вслух. Эта маленькая ведьма полностью оголила спину. И я, блядь, не видел в своей жизни никого сексуальнее ее в этом скромном, на первый взгляд, платье.
Пробежаться пальцами по изгибу спины, улыбнувшись мурашкам, покрывшим светлую кожу. А потом она медленно положила в мою ладонь кусочек ткани, и меня едва не разорвало от осознания, что это трусики. Подняв руку к ее лицу, медленно вдохнуть в себя запах ее белья, наблюдая за тем, как краска смущения заливает алебастровые щёки. Да, девочка, ты правильно всё поняла. Сунул кусочек шёлка в карман и взял Миру за руку, стиснув зубы от того, с каким безоговорочным доверием она сжала мои пальцы. Она была напряжена, она боялась, но сейчас я понятия не имел, чего именно: того, что поведу за собой, или что оттолкну.
Глупая. Даже если ты сейчас захочешь — не отпущу.
Мы медленно поднялись на второй этаж отеля, я открыл ключом свою комнату и втянул ее за собой так, что она впечаталась в мою грудь. В паху прострелило возбуждением. Немедленным. Острым. От ощущения близости ее тела. От того, каким мягким и горячим оно было в моих руках.
Развернул ее к себе спиной и поднес указательный палец к ее губам, сначала по нижней, затем по верхней, пока она не открыла рот. Дааа, маленькая. Вот так. Губами по ее шее вниз, слизывая те самые мурашки. Вкус ее кожи взрывается на языке ярким фейерверком. Скользнул пальцем в ее рот…О, да, Принцесса…Вспомни, сколько раз ты делала это в своих фантазиях, вспомни, как писала мне о них.
* * *
Услышала шаги, и пульс взорвался, стало тяжело дышать. Короткими, судорожными вздохами-рывками. С завязанными глазами обостряется все. Каждое из чувств. И я чувствовала его запах. Горьковато — острый. Как дорогой кофе и легкий табак. Он курит. Я так явно представила сигарету в его пальцах, вены на запястье и часы. Я была уверена, что он носит часы. Ожидание прикосновения. Боже… это сумасшествие. Мой пульс отсчитывал каждую долю секунды. И он прикоснулся. Тихо всхлипнула и вздрогнула. Очень осторожно, а меня трясет, как от ударов хлыстом. Проводит по губам, и в горле пересыхает…Нет. Это не так, как я представляла. Это в тысячу раз лучше. Это в миллионы раз чувствительней. Он трогал мои волосы, и я облизывала пересохшие губы, впитывая каждое прикосновение.
Слышу, как отдалился. Скорее всего, рассчитывается с таксистом и идет обратно. И это скольжение подушечек пальцев вдоль голого позвоночника по коже табуном мурашек. Стиснул мою руку, и я стиснула в ответ. Так сильно, что стало больно. Да! Его пальцы такие сильные, такие…Боже…сколько раз я представляла эти пальцы на мне, во мне. Везде.
Повел за собой, и я послушно пошла следом. Мы зашли в комнату, в которой тихо играла музыка, чувственная "Enigma", но сейчас, в нашем напряжении она казалась слишком громкой.
"Прикоснись и поцелуй меня Где тебе хочется. Прикоснись и ласкай меня Как тебе хочется". © "Enigma" — "Touchness"Когда резко втащил меня туда, я буквально упала на него и застонала от этой близости. Слишком близко. Так близко, что у меня закружилась голова.
Снова трогает мои губы. Сначала нижнюю, потом верхнюю, и я приоткрываю рот, стараясь поймать его палец губами.
Когда прикоснулся губами к шее, меня пошатнуло и болезненно заныло внизу живота. Запредельное напряжение. Возбуждение и предвкушение, восторг и волнение. Калейдоскоп сумасшествия. Целует мою шею, а меня трясет от переизбытка чувств. От остроты происходящего.
Погрузил палец мне в рот, и я инстинктивно обхватила его губами. Между ног стало мокро. Вкус его кожи… бьет по нервам, адреналином по всему телу. Мне хочется… мне хочется так много, так невыносимо много, и я боюсь вздохнуть, боюсь, что мне это снится. Боже! Джокер… если бы ты знал, что со мной творится сейчас…
Обхватила его запястье двумя руками и протолкнула палец глубже, вытаскивая и снова погружая себе в рот, нежно сбоку, обвивая языком, лаская кончик его пальца, и снова глубже в рот. Внутри появляется легкий страх… страх, что вот это дикое возбуждение может исчезнуть. Как и всегда. С другими.
* * *
Уткнулся в ее волосы, унимая боль, взорвавшуюся в низу живота, когда она начала творить нечто невообразимое своим язычком. А я выдыхал ей в затылок и думал о том, сколько женщин ласкали меня ртом, скольких я имел грубо, скольких доводил до слез или, наоборот, позволял вести им. Сотни. Но ни от одной ни разу так не срывало крышу, как от нее сейчас.
Захватить пальцами дерзкий язычок и слегка сжать его. Никогда не командуй рядом со мной! Веду всегда только я! Достаточно больно, чтобы Принцесса поняла?
И Мирослава опускает голову, а я проталкиваю в ее рот второй палец, оттягиваю ее голову за волосы назад и смотрю сверху вниз, как мои пальцы врезаются в нее поршнем, между кроваво-красных губ, на всю длину. Она знает, что я смотрю, она дрожит, зная, о чем я сейчас думаю. И она тоже видит эти картинки. Как я трахаю ее рот. Мокрыми пальцами по ткани платья, к торчащему соску. Ущипнуть его и вдохнуть в себя ее жадный выдох. Прижимая ее к себе вплотную, давая понять, насколько сильно хочу ее сейчас.
Смотрю на рот ее полуоткрытый, вижу, как вырываются ее стоны. Я, блядь, не просто читаю их на экране монитора. Я их вижу. Я их слышу, как и сердце, которое колотится под моей ладонью. Чувствую, как напрягается живот.
Потянуть молнию платья, позволяя ему мягко опуститься к ее ногам. Отойти на шаг и рвано выдохнуть, застонать и тут же, мысленно проклиная себя, закрыть рот сжатой ладонью. Абсолютно голая и в одних чулках. И, если мне хоть кто-нибудь скажет, что видел женщину сексуальнее, я молча вырву идиоту язык за эту ложь.
Слишком красива, чтобы быть настоящей. Статуэтка с фарфоровой кожей, с высокой грудью и напряженными, тугими сосками. Ее длинные ноги… и упругая задница, о которую я только что тёрся. Чёёёёрт…Да, самая настоящая, живая статуэтка из фарфора. Но я сломаю ее сегодня. Я заставлю ее рассыпаться на сотни осколков и кричать от наслаждения.
Ее губы подрагивают, слишком соблазнительные, чтобы устоять. Но я обхожу ее сзади, снимаю шпильки, распуская длинные волосы, темным водопадом падающие на тонкую спину.
Такая беззащитная. Покорно стоит, ожидая моих действий. А меня на части разрывает от желания сжать ее, оставить синяки на идеальной нежной коже. Чистая. Слишком чистая для меня. А мне плевать. Она сама захотела окунуться в мою грязь с головой.
Расстегнул ширинку и приблизился к ней вплотную. Головкой члена по ягодицам и между ними. Она напрягается, ее дыхание, и так не ровное, окончательно сбивается. А я закричать хочу, чтобы говорила. Чтобы стонала вслух. Это не наша долбаная переписка. Я хочу ее голос. Хочу имя своё ее голосом слышать.
Притянуть ее к себе, вдыхая запах свежести, сжимая ладонями грудь. До боли. Не хочу полутонов сегодня, Принцесса. Прикусить мочку уха, терзая соски, возбужденные, твердые. Щипая их и перекатывая между пальцами Другой ладонью нырнуть вниз, между ног. Двумя пальцами погладить между нижних губ и сразу в нее. В узкую сладкую дырочку. И тут же выдохнуть прямо в ухо, когда сжала меня изнутри. Выскользнуть обратно, продолжая тереться об нее членом, чувствуя, как начинает трясти самого от желания опрокинуть на четвереньки и грубо отыметь… Но у моей девочки была особенность, которую я хотел уничтожить сегодня и навсегда. Сжимаю клитор, растираю его большим пальцем, проникая двумя другими в нее снова. На всю длину и резко. И так же резко обратно. И снова внутрь, толкаясь сзади, о ее ягодицы членом. В том же ритме, кусая ухо, шею. Сатанея от возбуждения, спалившего внутренности дотла.
* * *
Вдыхает запах моих волос. Безликий любовник с запахом опасности и самого бешено желанного мужчины за всю мою жизнь. Квинтэссенция похоти и благоговейного восторга от каждого касания, о которых мечтала, которые ждала, казалось, целую вечность. Изнеможение и обжигающая, слепая страсть, граничащая с пьяным безумием. Даааа, я опьянела от его близости и от понимания, что МЫ НАСТОЯЩИЕ, живые, горячие. МЫ ЕСТЬ. Мы не имена, потерянные в бесконечной искусственной паутине.
Как же я хочу его. Хочу его настолько сильно, настолько остро, что на глазах выступили слёзы.
Возбуждение потрескивает в воздухе тяжестью голодного электричества. Меня обжигают даже его вздохи. Такой же властный, как и в переписке, такой же невыносимый искуситель. И я всхлипываю с рыданием, когда захватывает мой язык пальцами, не давая вести…Ведет сам. Мне кажется, я умираю от изнеможения, запрокидывая голову и выдыхая сумасшествие кипятком дыхания. Проникает мне в рот сразу двумя пальцами…Ощущения запредельные, острые, как лезвие опасной бритвы. Не первый секс… и все же первый. Все первое и в то же время досконально изученное.
Я хочу его видеть и не хочу. Меня сводит с ума этот запрет, эта игра, которая вдруг стала не просто реальной, а настолько реальной, что мне кажется, я впадаю в состояние невесомого помешательства.
Сжал сосок…и я громко застонала, хватая воздух. Наконец-то его ласки, а не мои. Его пальцы, а не мои, его губы, а не мои.
Больно и сладко. Пульсация между ног невыносима. Не спадает, нарастает с такой скоростью, что меня начинает лихорадить.
Раздевает, а для меня каждое его движение — мистика, сумасшествие. Голая перед ним. В повязке на глазах и черных чулках. Как он хотел. Какая же неуправляемая власть у него надо мной, порабощающая, подавляюще-тяжелая и сводящая с ума. Прохлада касается напряженных, твердых сосков, обвивая их болью, острыми покалываниями от жажды ласки. Трясет от голода.
Распускает мои волосы. Сколько раз он писал мне об этом. Джокер. Мужчина с чужим именем, без лица, без голоса. Только руки, губы и язык тела. Сказано было слишком много. Хотелось орать тишиной. Тереться о его ладони возбужденными сосками в унисон тому, как его горячая плоть трется о мои ягодицы. Чувствую его член, и влага течет по ногам. Так унизительно, так откровенно и бессовестно. Так грязно…Сжимает ладонями грудь, и меня выгибает к нему назад, прогнувшись в пояснице, ритмично двигаю ягодицами навстречу его движениям, сводящим с ума. Он не торопится… я чувствую эту неторопливую жесткость. Терзает соски, и я понимаю, что с ним все иначе. Не так, как с другими. Я на грани… я вот-вот унизительно кончу только от того, как он ласкает мою грудь и трется о ягодицы членом.
Вскрикнуть от проникновения пальцев и сжаться в первой судороге под его выдох и свой гортанный стон. Первое проникновение. Такие желанные пальцы. О, как я хотела их. Каждый его палец. Каждую фалангу ощутить внутри себя. Именно вот так. Сильно. Глубоко. Резко.
Кусает мочку уха, рычит сквозь зубы и ритмично двигается внутри. Толчками. Длинными рваными толчками. Сжимает клитор, и меня накрывает медленно и необратимо. Не останавливается, так чутко улавливая ритм, в унисон каждому моему стону, быстрее и быстрее, кусая затылок. Толкая за грань. Заставляя резаться о края едкого наслаждения, впиваясь в мои волосы, оттягивая голову назад.
Он смотрит. Я чувствую его взгляд кожей. Его голод впивается в каждую пору на теле, проникает ядом в натянутые, как струны, вены. Сильно и глубоко врывается пальцами и скользит по клитору. Уверенно. Настолько уверенно и умело, что мне хочется орать от каждого касания, скользящего по влажной плоти. И я слышу собственный громкий крик с рыданием, переходящий в протяжный стон. Оргазм ослепляет, сама насаживаюсь на его пальцы, трусь о его член, судорожно сжимаясь, замирая с широко раскрытым ртом на самом острие нирваны…И в космос…тот самый, который обещал. Только с ним так. Только с ним до самого края, до самого дна. Пожирает мои стоны, не касаясь губ.
— Джоооокееер…
На выдохе, сотрясаясь всем телом. Из-под повязки катятся слезы. Так быстро. Так же, как и всегда с ним…только до боли остро, сильно, мощно. Так мощно, что меня трясет. Болит внизу живота, каждый нерв сокращается от наслаждения.
— Возьми меня, — хрипло, нагло, срывающимся голосом, задыхаясь, — возьми меня…хочу чувствовать тебя. Сильно чувствовать. Хочу плакать для тебя, Джокер.
* * *
Да, вот так! Плачь, Принцесса, плачь! Кричи, извиваясь в моих руках. Сжимаю челюсти до хруста, мне кричать хочется самому. Ее эйфория в меня перетекает. С первым разом тебя, Принцесса! От ее слов, срывающегося голоса, зашумело в ушах, заколотило словно в ломке, скрутило сосуды от боли, от потребности кончить уже с ней вместе. Смотрю на мокрые дорожки слёз, берущие свое начало из-под черной повязки, и понимаю, что именно так и выглядит моя власть над ней: ее слёзы наслаждения и судороги удовлетворения.
Слизываю соленую влагу с щёк и прижимаюсь к молящим губам затяжным поцелуем, проталкивая язык в рот, сплетая его с ее языком, отстраняясь на мгновение, чтобы дать ей попробовать на вкус свои пальцы, облизывая их вместе с ней.
Ты вкусная, Принцесса. Видишь, какая ты вкусная? От тебя трудно оторваться, разорвать хотя бы на секунду контакт. Я бы трогал тебя вот так сутками. Руками, подрагивающими от дикого желания доставить еще большее удовольствие вперемешку с самой грязной похотью получить самому всё то, что представлял себе. Всё то, о чем рассказывал тебе до этого дня.
Отстраниться от нее и несильно толкнуть вперед на четвереньки, отступая, чтобы любоваться ею снова. Провести ладонью по влажной плоти, цепляя пальцами складки кожи.
Она прогибается в спине, затем склоняет голову к полу, а я зверею от ее безоговорочной готовности покориться.
Скинул с себя опостылевшую футболку, если сейчас же не почувствую её своей кожей, сдохну на месте. Склонился над ней, к уху, языком по мочке, намеренно касаясь грудью ее спины. Вашу ж мать! Это лучшее ощущение, что я когда — либо испытывал. Это слишком…правильно. Во так вот чувствовать ее под собой, изнывающую, стонущую, готовую.
Выцеловывать затылок, шею, плечи, собирать капли пота губами со спины, прикусывая и тут же лаская языком. Как десятки раз до этого, только сейчас нас трясло обоих, так ведь, Принцесса? Мы привыкли к звуку клавиш, привыкли обозначать пробелами и смайлами наши чувства…А сейчас они взрывались между нами, чистые, живые эмоции… там, где наши тела соприкасались. И эти взрывы…Зона поражения каждого проникала под кожу, обжигала внутренности дотла. Но я никогда не был более цельным, чем здесь и сейчас, когда она терлась об меня ягодицами, всхлипывая и умоляя…
Наполнил ее собой, застонав, когда она словно перчатка, плотно обхватила меня. Мне сорваться хочется, врываться в нее на полной скорости, заставить рыдать, ломать ногти, а я сжимаю челюсти, разрывая надвое сознание, понимая, что с ней хочу этой нежности. Без боли. Пока.
Услышал очередной всхлип и сделал первый толчок, заорав. Громко. Надсадно. Про себя. Второй и третий, уже быстрее и с каждым я рычу, кричу беззвучно от того удовольствия, которое сосредоточилось в одной точке, которое грозило вырваться оттуда мощным ураганом по всему телу.
Склониться, чтобы обхватить упругую грудь, сжать ее, и выдохнуть от ее вскрика. Остановиться на мгновение, чтобы повернуть к себе ее лицо и впиться в открытый рот укусом. Да, Принцесса, я тебя не целовать хочу. Я тебя сожрать готов. Всю без остатка. Когда вот так стонешь прямо в мои губы, поддаваясь бёдрами навстречу, а меня от каждого звука твоего будто подхлестывает нечто огромное вперед, еще быстрее, еще глубже.
* * *
Это было еще одно потрясение с ним…Он ломал мои страхи и комплексы. Просто сжимал их ладонями и крошил, как стекло. Это двойственное чувство, что знаю его… а он меня, но тут мы оба голые. Слишком голые. Без защиты мониторами, словами, текстами и паузами. Здесь уже не обманешь. И страсть перестает быть фантазией, она становится реальностью. Обжигающей и яркой. Острой. Страх разочарования разбивается о собственные дикие эмоции. Не сравнить… ни одно слово с касанием и языком тела.
Его триумф чувствую в воздухе, он взрывается фейерверком, брызгами эйфории, а потом его губы на моих губах, и я умерла…Прежняя я. Та, что писала ему от чужого имени, та что считала свою любовь фантазией и иллюзией. Меня разорвало на части от его поцелуя. Никогда не думала, что это может быть откровением. Все вторично. Поцелуи не лгут. Там прячутся эмоции. И от его жадных мягких губ все сжалось внутри. Новым безумным трепетом. Он пожирает мой рот, с нетерпением, с надрывом, с безумной жадностью. Теперь я чувствую его голод…не похоть, а голод. Ожидание вот этого момента… Он его ждал. Так же, как и я, потому что его дыхание не просто сбивалось, оно со свистом вдиралось мне в легкие, со сплетением языка, с ударами губ о губы в кровь… и его пальцы с моим вкусом, облизывает вместе со мной… И я понимаю, что хочет, чтоб чувствовала его. Ощущала то, что ощущает он. Как там… в переписке. Отдача. Бешеная, дикая отдача. Толкает, опуская на колени…и я знаю, что он любит именно так. Покорно склоняю голову, прогибаясь в спине. Он ждал этого согласия, как я ждала его власти надо мной. Меня трясет от нетерпения.
Чувствую спиной его кожу, мышцы на груди. Мокрый, горячий. Напряжение передается мне, его лихорадка ударами тока от него ко мне. Как шаровая молния от стен, обжигая пятнами.
И его губы везде, жадный, голодный, пожирает каждый миллиметр кожи. Ни одного стона… но его дыхание. Я слышу его дыхание и понимаю, что хочу, чтобы взял. Примитивно хочу, чтобы ворвался в меня. Подаюсь назад, потираясь о него ягодицами.
Первый толчок внутри, заполняя так глубоко, так сильно и резко, и у меня из глаз звезды посыпались. Запрокинула голову с протяжным стоном…Боже! Мужчину надо хотеть душой, чтобы вот так сойти с ума. Все остальное — суррогат. Кончать с ним мозгами сотни раз до этого и сейчас взрываться физически, только от понимания, что он наконец-то настолько близок ко мне. И мне плевать, как он выглядит, мне плевать, какого цвета у него волосы, глаза… мне на все плевать. Я его душу чувствую каждой порой своего тела.
И он срывается, дыхание уже вперемешку с рычанием и в унисон моим стонам… Я никогда не думала, что умею ТАК громко и надсадно стонать. От каждого толчка закатываются глаза…Целует снова в губы, а я настолько наполнена им вся, что меня трясет от этого осознания. Завела руку назад, впиваясь в его волосы, притягивая к себе, прижимаясь мокрой спиной к его груди.
— Дааааааа….хочу тебя… я так сильно хочу тебя.
Сжимает мою грудь, снова целуя, пожирая каждый стон, а я двигаюсь навстречу тому самому космосу… потому что он срывает меня в него снова этими быстрыми толчками, запахом, дыханием. Сама не верю, когда накрывает оргазмом, заставляя замереть в его руках на доли секунд и закричать, содрогаясь, сжимая его изнутри. Сильно. Быстро. Впиваясь ногтями в его затылок, кусая за губы…
* * *
Я сдох. Я реально сдох в этот момент. Глядя на нее, невероятно красивую, нечеловечески прекрасную, когда ее накрыло. Сокращается вокруг меня, а я взгляда не могу оторвать от ее закатывающихся глаз и открытого в крике блаженства рта. Прижимаю к себе тело ее сочное, не останавливаясь ни на мгновение, продолжая двигаться внутри нее, но это уже на автопилоте. Потому что понимаю, что попался. Вот сейчас, блядь, понимаю, что не смогу больше без этого. Без того, чтобы видеть слезы ее, почувствовать судороги своей плотью, бархат кожи под руками, услышать свое имя ее голосом. Я боялся этой зависимости, когда согласился на встречу. Но я понятия не имел, насколько она реальна. Насколько она больная. Как разбивает на осколки остатки разума и здравого смысла.
"Чёрные самолетики, белые корабли; Цель для моей оптики — море твоей любви. Это тебя трогает, это меня несёт. Я для тебя многое, ты для меня — всё!". © Звери — КораблиВпиваюсь пальцами в бедра, ускоряя ритм, осатанело врываясь в нее, продолжая выбивать крики. Ощущая, как приближается оргазм, как ударяет электрическими разрядами под кожей. Коротит по всей поверхности тела, заставляя выгибаться самому и рычать, прикусывать язык и губы до металлического вкуса крови во рту. Пока не взрывается яркими огнями там же, под кожей, отдается мощными судорогами. Те самые долбаные искры из глаз…
Сорваться, потерять контроль и кончать в нее безумно долго, чтобы потом просто рухнуть на пол и притянуть ее к себе, ослабевшую и дрожащую. Провести пальцами по волосам, лаская темные локоны, шумно вдыхая запах пота и секса, витавший в комнате.
Она поднимает голову кверху, тянется губами. Так бы она могла смотреть, если бы не повязка, и я сжимаюсь изнутри, понимая, что готов содрать эту чертову ткань. Дьявол, я действительно хочу сделать это. Увидеть ее взгляд, найти себя в нем, в глубине зрачка. Я так хочу найти себя в ней.
Больное желание, которое не имеет права на существование. Монстры не имеют права на существование. Они появляются в нашем мире, чтобы утащить в свой недостойных, тех, кто притворяется людьми и носит маски из человеческой кожи.
Я тоже её носил. И принцесса не заслужила стать проходной жертвой монстра на его пути.
Сколько могут молчать двое, знающие друг о друге почти всё, но даже не подозревающие о главном? Думаете, им нужны слова? Вы ошибаетесь. В ту ночь мы заменили буквы на стоны, слова на прикосновения, а предложения на оргазмы. Мы признавались друг другу ладонями рук на теле и поцелуями. Я вылизывал её тело, она беззастенчиво трогала мою душу. Ночь напролёт. А знаете, что происходит, когда кто-то трогает вашу душу? Вы начинаете сходить с ума и желать большего. Но моё "большее" всегда приносило только боль и смерть.
"Черные самолетики, сбитые корабли. Мне хватает эр*тики и не хватает любви. Если одна останешься, не выключай свет. Ты без меня справишься, я без тебя — нет". © Звери — КораблиЯ ушел рано утром, заказав для нее "латте", который должны были подать через полчаса после моего ухода. И это самое правильное, что я когда — либо сделал в своей жизни. Удалил нашу переписку в ее аккаунте и телефоне и свой номер. При желании она его может узнать, конечно. Но к тому времени у меня будет уже другой. Она возненавидит меня так же искренне, как любила этой ночью. И это самое большее, на что я мог рассчитывать.
"Солнечное сплетение, вечная ерунда. Я для тебя спасение, ты для меня беда. Это тебе нравится, это тебя убьет. Все корабли отправятся, с летчиками под лед". © Звери — КораблиГЛАВА 11. Аля
Старший следователь следственного комитета Кирилл Алексеевич Трефилов тяжело выдохнул и залпом опрокинул в себя остатки остывшего чая. Отложил в сторону кружку с надписью: "Самому НАХОДЧИВОМУ следователю", подаренную ему помощником пару лет назад на "23" февраля, и грузно опустился в новенькое кресло, которое, кстати, оказалось ужасно неудобным по сравнению с его любимым креслом, прослужившим ему не один год и безжалостно отправленным на склад во время отпуска своего хозяина. Надо сказать, сюрприз в виде ремонта кабинета, да и всего этажа, Трефилову очень сильно не понравился. Его нервировали эти нежно-голубые стены и блестящая темная мебель. Он барабанил длинными пальцами по отполированному до скрипа столу и тихо матерился, понимая всё же, что злость эта далеко не на вышестоящее начальство, самовольно распорядившееся его кабинетом, и не на помощника Круглова, безнадежно опаздывавшего сегодня, а на самого себя. За то, что ухватить не может мысль, которая бродит в голове, словно тот самый понурый ёжик в тумане, и тонким голосом заунывно взывает к его вниманию.
Перед ним кучей лежали десятки фотографий с мест происшествий. На всех них трупы, расчлененные части тела и замаранные кровью стены, двери и автомобили.
Кирилл Алексеевич вдруг подорвался и начал складывать фотографии в хронологическом порядке, стараясь не рассматривать искорёженные органы и изрезанные лица. Парадокс, он вполне спокойно относился к убийствам, его не тошнило от запаха крови и вида отрезанных голов, рук и ног. Однажды он даже расследовал дело по факту убийства молодой беременной женщины, живот которой был вспорот, а плод вынут из него и вложен в руки погибшей. Тогда рвало и Игоря, и местного участкового, и молодого судмедэксперта, а сам Трефилов продолжал спокойно рассматривать несчастную с не рожденным ребенком в поисках вещдоков.
Но вот фотографии…Трефилов к своим сорока пяти годам ненавидел снимки застывшей смерти. Ему казалось, что она смотрит на него потухшими глазами потерпевших, бесстрастно снятых экспертами. Словно задаёт ему очередную шараду, и с каждым разом ему всё тяжелее разгадывать ее. Чертовы психопаты, кромсающие людей, словно скот, с каждым годом всё изощрённее и безжалостнее. Теперь просто убивать и насиловать уже не так интересно. Сволочи, насмотревшись голливудских фильмов, всё чаще предпочитают оставлять послания полиции. Местный психолог назвал это своеобразным разговором убийц с мёртвыми или со своим прошлым, но Кирилл Алексеевич не верил ему. Уж он — то точно знал, что эти нелюди хотят вести диалог с ним, а не с трупами.
Грёбаная всемирная паутина…Начитаются, насмотрятся херни всякой и идут людей убивать. Трефилов в свое время сутки в себя прийти не мог после первого своего убийства при исполнении. И ведь кого он пристрелил? Грабителя, зарезавшего ножом дедка-инвалида ради военных наград и приставившего лезвие к шее его внучки. А всё же совесть давила, сжимала изнутри тисками железными. Он глаза бешеные, обдолбанные того парня молодого долго еще во сне видел. А эти уроды не просто на курок нажимают, а с невероятным садистским удовольствием вырезают внутренние органы, зашивают рты и носы, отрубают гениталии и головы.
Общество конченых, больных мразей без права на жизнь. Трефилов с радостью бы казнил каждого из них. Просто нажимал бы на кнопку и смотрел, как корчатся в конвульсиях, поджариваясь на электрическом стуле. А на экране перед каждым из них фотографии ни в чём неповинных людей, которых они жизни лишили. Какие на хрен принудительные меры медицинского характера?! Каждого на стул и в землю закопать. И без креста! Чтобы даже мать не знала, где это отродье Ада упокоилось.
— Здорово! Кир, я в школу к малому заходил, вставили мне там по полной, — Игорь начал извиняться с порога и тут же заткнулся, поняв, что старший углублен в бурную мыслительную деятельность.
Кинул сумку на край стола и остановился по правую руку от Трефилова, склонившего набок голову и молча рассматривавшего снимки.
— Он убил сначала водителя "скорой" Голубева, потом Шестакова.
— Да, он будто намеренно показывает, что эти две смерти связаны между собой, — Игорь отодвинул ближайший стул и сел на него, взяв со стола фотографию подвешенного к дереву мужчину. И если бы не вырезанные у него на обоих запястьях часы, то Голубева точно назвали бы самоубийцей: некогда шофёр "скорой помощи" пропил и семью, и квартиру, и работу. Переселился жить в деревню в обветшалый отчий дом, во дворе которого и было обнаружено его тело.
— Какие новости из больницы?
Трефилов тяжело посмотрел на Круглова, и тот едва не поёжился. Знает мужика уже года три, а всё так же тушуется под его взглядом умных зеленых глаз из-под широких насупленных бровей.
— Пока особо никаких. Изъял из архива личные дела Шестакова и Голубева. Действительно работали вместе какой-то период времени. Были в одной бригаде. При этом особую дружбу не водили. Либо о ней неизвестно жене Шестакова, работавшей в той же больнице медсестрой. К друг другу в гости не ходили, если и пили вместе, то обычно всем персоналом на праздниках.
— Нужно вызовы смотреть. Куда ездили и к кому. Когда.
— Эта информация тоже…изъята. Осталось только, — Игорь бросил грустный взгляд в сторону своей черной прямоугольной сумки с длинной ручкой, — изучить ее досконально.
Трефилов удовлетворенно кивнул и снова погрузился в свои мысли. Круглов всегда поражался тому, как старшему удавалось распутывать самые странные и тяжелые дела. Тот по привычке даже не смотрел фотографии, и Круглов догадывался, что следователь просто запоминал трупы, их расположение и окружающую обстановку места происшествия еще во время выезда. Это одновременно восхищало и пугало мужчину.
Протянул руку и взял фотографию блондинки с зашитым ртом. Стена позади нее была испещрена надписями, нанесенными кровью.
— Другой город, другой способ убийства…Женщина. Все остальные — мужики. Почему ты думаешь, что есть что-то общее между делом, навязанным нам сверху, и "нашими" трупами?
— Я так не думаю, — коротко и безапелляционно, а сам смотрит так, будто сейчас руку отрубит, если Круглов не положит фото обратно. Мужчина догадался, что нарушил какой-то своеобразный трефиловский порядок, и тут же аккуратно вернул снимок на место.
— Я так не думаю, — Трефилов смягчился, возвращаясь в реальность, — Но она…Понимаешь, не было следов изнасилования, не было насильственных действий сексуального характера. Молодую девку, приехавшую в деревню к бабке, просто так убили едва не в первый вечер? И убили как? Жестоко! Издевались над ней часами.
— Мог быть просто маньяк заезжий, гастролёр. Перекрывался после серии преступлений. Или, наоборот, только-только начал свою "профессиональную" деятельность, тварь! Хотя нет…Слишком всё "чисто" сделано.
— Правильно. Мог быть. Как и Шестакова. Маньяк заезжий.
— Как и Голубева. Как и Брылёва, наркошу того, которому вены вскрыли по всему телу и засыпали всего коксом. Как и его дружка, Наумова.
— Как и Голубева. Как и Брылёва. И Наумова…Маньяк заезжий. Грёбаный заезжий маньяк-меломан?
Круглов вскинул голову и почувствовал, как мурашки пробежали по телу. Только что Трефилов дал понять, что обладает некоторой информацией. А тот скупо улыбнулся одними уголками губ и кивнул на самый крайний снимок. Игорь пододвинул его к себе кончиками пальцев.
— Музыкальный диск, небрежно брошенный в самом углу подвала. А это, — Трефилов с азартом бросил прямо перед помощником другое фото, — из "Предела". И тоже диск музыкальный. Голубев "повесился", видимо, слушая это, — еще одна фотография, на которой крупным планом самый обычный диск CD-R. — А вот мелодия смерти Брылёва и Наумова, товарищ помощник следователя.
— И под какую музыку нынче людей потрошат, Кирилл Алексеевич? — Круглов стиснул челюсти, он терпеть не мог таких вот психопатов, загадывающих идиотские ребусы следствию.
— Под разную, Игорь Иванович. Под разную. Но, что примечательно, на каждом из этих дисков записана только одна песня. Всегда разная, но одна.
— Прослушал их?
— Ни хрена ничего непонятно. То ли Чистова была девушкой меломана…
— Джокера.
— Что?
— "Джокер" ему подходит больше, — Круглов ткнул пальцем на небольшое изображение разукрашенного лица известного персонажа комиксов, нанесенное на каждый диск.
— Хорошо. Девушкой Джокера, изменившей ему…но тогда причем тут бригада "скорой помощи", мать вашу?! Причем тут торчки? Какая между ними связь?
— Если она вообще есть!
Трефилов резко поднял один из снимков, вглядываясь в него, и Круглов нехотя потянулся за своей сумкой, в душе матеря больных уродов, присваивавших себе права самого Господа Бога.
* * *
— Ты, мать твою, не Господь Бог решать, кому жить, а кому умереть! Хватит убийств, Джокер! Достаточно! Не нажрался еще ими? Кому и чего ты доказать хочешь, ты сам-то знаешь?
— Харе орать, Адам. Поздно ты опомнился. Сколько убийств спустя, сам-то помнишь?
— Вот я тебе и говорю, Кость, достаточно! Хватит. Ты, Блядь, ты наказал мразей, убивших…их, наказал. Ты, грёбаный псих, даже "скоряков" наказал! Я молчу про "попутные жертвы". Так их ты окрестил про себя? Людей…Личностей. Со своими интересами, со своими мыслями и характером, с людьми, которых они любили и которые любили их, ты называешь "попутными жертвами". Хватит уже! Нет больше виноватых.
Адам скривился, ударив кулаком по столу рядом с оравшим голосами "Оксидерики" ноутбуком.
"По темным коридорам, Ослепнув в своей доле, Ты шел, не зная страха, Враги познали боль. А в голове лишь мысли О мести и расплате, Покойся с миром, нечисть! ты выбрал свою роль". © Оксидерика — Отступники— Есть. Есть, Адам, будь ты проклят! Есть, — я вцепился пальцами в край стола, стараясь держать ситуацию под контролем, но Адам сжался непроизвольно, зная, что может последовать после этой вспышки моей злости.
Однако, упрямый кретин, продолжал.
— Хорошо. Я не отрицаю. Мы вынесли ему приговор вместе. Вдвоем. — Чертыхнулся и поправился, — Втроем. Так пришей этого пид***а и всё. Что мы там ему придумали, ты помнишь? Покончи с ним и закрой на хрен двери в Преисподнюю, которую ты устраиваешь. Харли тебе достала самые крутые доказательства, которые его жизнь превратят в настоящий Ад. Используй их. Опозорь его. Уничтожь, как депутата, как адвоката. А потом убей. И всё. Закрой эту страницу.
— Помню ли я, Адам? Да, я каждый вечер закрываю глаза и представляю, что сделаю с ним. Эта мразь содрогался, увидев трупы тех нариков. Он еще позавидует им, Гордеев.
— Отлично! Что там у тебя за дела на завтра? Снова чай с лимоном на кухне и онлайн-мастурбация? Может, втиснешь в свое плотное расписание обнародование плотских утех господина Белозерова? И пока он будет дрожать от бессилия и прятаться от гнева своего грозного папочки и репортеров, ты придумаешь, как к нему подобраться. Убийц твоей семьи больше нет. Как и тех, кто косвенно виновен в смерти твоей сестры. Костя…ты поквитаешься с адвокатом, безжалостно слившим тебя на суде. Твоя справедливость восторжествует в полной мере.
"Сердце отбивает ритм Воин внешне, раб внутри Не смиряясь, но борясь, ы идёшь, в душе смеясь". © Оксидерика — ОтступникиНаивный. После всего, что произошло. После всего, что он знает обо мне. Всего, в чем он участвовал наравне со мной, Адам продолжал лелеять надежду на нечто лучшее, чем я мог ему предложить.
— В моем расписании на завтра как раз между онлайн-мастурбацией и чаем с лимоном есть одно маааааленькое дело, друг, — Адам громко застонал и ударился затылком о стену. — Василий Забродов.
— Нет…
— Да, Адам. Козёл, солгавший на суде только потому что я пару раз начистил морду его ботанику-сыночку.
— Он не врал. Костя, он, Блядь, не врал. Ты и был таким агрессивным, каким он рассказывал.
— Люди ошибочно полагают, что ложь — это тьма, а правда — свет. Но любую правду можно преподнести так, что она заполнит мраком всё вокруг. Из-за него…из-за той лживой суки я должен был всё еще сидеть в тюрьме! Твари, зарезавшие мою семью, должны были жить и дальше дышать, смеяться и трахаться, накачиваться наркотиками и алкоголем, а я должен был гнить сначала в психушке, а потом в тюрьме. ЗА ТО, ЧЕГО Я, МАТЬ ТВОЮ, НЕ ДЕЛАЛ!
— Ты отомстил. Ты им всем отомстил. Остался один Белозёров. Не трогай свидетелей. Ты по горло в чужой крови, Костя. Еще немного, и ты захлебнешься ею. Мирослава…она не при чём. Вообще.
— Успокойся. Нет больше Мирославы твоей, — я резко вскинул руки, предупреждая любые действия, — И, да, твоё задание отменяется.
— Что значит, отменяется. — Он резко встал и подошёл к окну, открыл его, глубоко вдыхая ночной воздух с привкусом дождя, барабанившего в окна.
— Удар нанесем только по брату ее и отцу. Ты сам говорил, что его здоровье в последнее время ухудшилось. Сделаем подарок нашей милой Принцессе.
— Ты совсем рехнулся, Джокер? Какой подарок? Убить ее отца? Думаешь, ей нужно это наследство? Ты, чёртов кретин, до сих пор не понял, какой она человек?
Всё я понимал. И куда лучше него. Я знал, какая она, уже не только по перепискам. Не только по жарким смскам в два часа ночи и трогательным сообщениям в семь утра. Я чувствовал, какая она, той ночью в отеле. Ощущал пальцами, губами, кожей своей. Чувствовал искренность ее, чувствовал любовь…чёрт ее раздери! Любовь в каждом ее выдохе и прикосновении. И она не просто давала ее. Нет. Она заражала меня ею. Воздушно-капельным, Блядь, путем. Никакого инкубационного периода. Моментальная вспышка после первого же тактильного контакта. И я ни одного доктора не знаю, способного мне помочь выкарабкаться из этой агонии, которая охватывает внутренности, когда думаю о ней. О том, что сейчас испытывает она. Ненависть. Определенно ненависть. И это самое большее, на что я мог рассчитывать сейчас.
— Зато ты, я смотрю, уверен, что знаешь её? Насколько близко, Гордеев? Успел посочувствовать ей за эти дни? Пожалеть бедную богатую девочку, брошенную интернет-негодяем?
— С каких пор тебя это начало волновать? Когда ты решил поменять план и бросить Миру, Джокер? До того, как трахнул в номере гостиницы, даже не позволив увидеть твое лицо? Или всё же после? Как какую-то шлюху…
Не дал ему договорить, резким ударом прямо в челюсть, чтобы заткнулся. Потому что о ней нельзя так говорить. Только не о ней. Слишком чистая, чтобы ее можно было марать словами. Даже ему.
— Еще раз, тварь, ты посмеешь назвать ее так…
— И что ты сделаешь? Убьёшь меня? — Он расхохотался, откинув голову назад, из его носа текла кровь, а он ржал, как псих, вытирая ее рукой. А потом резко замолчал и начал раскачиваться с пятки на носок.
— Не убьёшь. И мы оба это знаем. Даже ради неё. А я вот тебе зад надеру, если мне опять придется видеть тень, в которую Мира превратилась из-за тебя.
— Подсел на нее, Гордеев? Слишком уж беспокоишься.
— Даже если и так, — он улыбнулся, посмотрев куда-то в окно, и тут же перевел взгляд на меня, — то какое твое дело? Ты отказался от неё. Сам.
— Ни хрена подобного. Ты завтра же увольняешься с работы. Ты сам сказал, нам достаточно того материала, который у нас имеется. Игра подходит к завершению, Гордеев.
— Плевать! Ты поигрался со своей Принцессой. А я не буду играть.
— Это иллюзия, Адам. Ты ведь знаешь, каким будет наш с тобой финал.
— Вот именно! — Он резко подался вперед к моему лицу, — Я хочу насладиться каждым мгновением той жизни, которую мне отмерил один чокнутый придурок!
Он развернулся, подхватив куртку с дивана и собираясь выйти из комнаты.
— Адам…Только попробуй приблизиться к ней ближе, чем на метр.
— И что ты сделаешь? Ты же так ратуешь за справедливость, Костя. Ты просто кинул девку, воспользовавшись ею. Кинул грязно и трусливо. Не попрощавшись. Я ее успокою. Я ей подарю то, чего ты не дашь никому и никогда!
— Только попробуй, Гордеев. И моё гребаное чувство справедливости деликатно отвернется, пока я из тебя кишки доставать буду. Она моя.
— Ты весьма оригинально дал ей это понять при последней встрече. — Он усмехнулся и понизил голос, — Любовь это не про тебя. Не придумывай себе того, чего нет. Смерть, боль, месть, ярость…Это то, чем ты живешь. Ты дышишь только благодаря им. Если бы не эти "ферменты" ты бы сдох еще там, в гребаной психушке. И тебе никогда не разбавить свой "кислород" долбаной любовью. Такие, как ты, не умеют любить.
— А ты умеешь, Гордеев?
Он вдруг рассмеялся и резко смолк.
— Умел. До тебя я многое умел, Кость. — Распахнул дверь и остановился на пороге, не оборачиваясь. — Но я еще помню, каково это — уметь кого-то любить.
Он ушел, будто растворившись в темноте комнаты, а я уткнулся в собственные ладони, думая над его словами. Возможно, он был прав. Но мне было насрать на его слова. На его чувства сейчас. Если даже она и будет с кем-то другим, то только не с ним. Чёрта с два я буду смотреть, как он трогает мою женщину. Ревность дикой кошкой вонзилась когтями в районе груди, распоров мясо вплоть до сердца. Дышать стало тяжело, и я склонился к столу, судорожно вдыхая открытым ртом воздух, хотя мне казалось, что это яд высшей концентрации, слишком резкий, парализующий. Когда нет возможности двигаться, ты всё чувствуешь, но не можешь даже пошевелиться. Рука дернулась к смартфону, но я удержался, сжав ее в кулаке.
Развернул к себе ноутбук и открыл папку с файлами. Сто двадцать восемь фотографий. Обычно мне хватало десяти. С ней всё больше. Всё куда серьезнее и больнее. Откинуться на спинку кресла и пролистывать одну за другой её изображения, останавливаясь дольше на тех, где она улыбалась. Правда, одними губами. Закрыть глаза, вспоминая ее рваное дыхание и участившееся сердцебиение. Дьявол, я мог заложить собственную голову, что тогда она улыбалась мне искренне. А я так и не увидел ее улыбки.
Я видел десятки ослепительно красивых женщин, видел, как менялось их лицо, пока я ожесточенно врывался в их тела. Но сейчас…сейчас я понял, что не помню ни одного в этот момент. Все слились в какую-то единую серую, бесцветную маску без эмоций и звуков. И никакого желания вспомнить хотя бы одно. В то время, как её лицо с той ночи рисовал в своих мыслях сотни, нет, тысячи раз. То, каким оно могло бы быть под этим проклятым шифоном, когда она взрывалась в моих объятиях. Слишком ярко и красочно для такого, как я.
Прав Адам. Дьявол его раздери на мелкие кусочки, но он прав. И я сам знал это, иначе не оставил бы ее. Своеобразная жертва, которую никто и никогда не оценит по достоинству. Зато я буду спокоен за нее. Ухмыльнулся собственной мысли. Вот так просто Принцесса стала той единственной, о которой мне вновь стало необходимо заботиться. А это сулило неприятности не только мне, но и ей.
Набрать в телефоне смску своему закадычному другу — придурку, зная, что он прочтет ее лишь утром.
"Я не шутил, Адам. Не смей приближаться к ней ближе установленного расстояния. Иначе я убью тебя. И её. Просто помни и об этом тоже…друг".
Последний взгляд на глаза её зеленые — омуты, в которых тонул без возможности выплыть, на руки изящные, тонкие, а у самого болезненными воспоминаниями — насколько нежная у нее кожа, как дрожат от возбуждения длинные пальцы, как простреливает по всему телу от их прикосновений, когда цеплялась за меня судорожно. Память — сука коварная, подбрасывает по сто раз на дню эти ощущения, заставляя кусать запястья, чтобы не сорваться, не залезть в гребаный аккаунт, не написать сообщение на номер, который знал наизусть. Не поехать в их фирму, чтобы там следить за ней исподтишка. Перетерпеть. Я столько в своей жизни вытерпел, что и с этим справлюсь. Даже если иногда выть хочется от тоски по ней. От того, что запомнит навсегда таким: нарисованным персонажем чужой фантазии, мерзавцем, обманувшим и использовавшим. И ни капли меня настоящего.
Закрыть изображения и зайти в другую папку, в которой лежал компромат на самого Белозерова. Онлайн-трансляция его деловых встреч и грязных развлечений. Нажал на плей, и меня едва не вырвало: в этот самый момент многоуважаемый Дмитрий Лазаревич остервенело трахал своего визжащего, словно девка, блондинистого помощника. Интересно, у этого ублюдка есть звукоизоляция стен, иначе мне очень и очень жаль его секретаршу. Депутат резко дернул вверх за волосы своего любовничка и рвано задышал ему в ухо, кончая. Мне кажется, отличный кадр для его кичащегося своей безупречностью, чопорного папаши.
Недавно в одной из газет была заметка о неожиданно пошатнувшемся здоровье миллионера Лазаря Белозерова.
Что ж, в таком случае никого не удивит и пафосная статья о безвременной кончине одного из влиятельнейших людей страны с перечислением всех его заслуг перед Отечеством.
"В душе одни лишь раны, А в сердце шар огня. Всю жизнь ходить по кругу — Обманешь лишь себя. Забудь про свои чувства и прошлое забудь, Здесь смерть равна искусству, И в этом жизни суть". © Оксидерика — ОтступникиГЛАВА 12. Бес
"Я поверю любой твоей лжи, Лишь притворись, что любишь меня Заставь меня поверить, Закрой глаза, Для тебя я буду кем угодно" © "Evanescence" — "Anything for you"Говорят, что ночью темно…Нет, темно бывает в любое время суток. Особенно, когда понимаешь, что лучше бы не просыпаться, лучше бы всегда жить в той темноте, с завязанными глазами, где видела и чувствовала больше, чем в самый яркий день. И от понимания не кричишь, не плачешь, а молча выходишь на балкон, завернутая в простыню, и смотришь на город. В странном оцепенении.
Так странно — они все куда-то спешат, едут, идут. Живые. Настоящие. А я здесь. В каком-то отеле…тоже настоящая. Но только я. Все остальное просто онлайн-игра.
Мне не нужно ничего говорить… я все поняла, когда проснулась одна в постели и, зайдя в свой аккаунт, поняла, что ничего не было. Никогда. И его не было. Он стер нам воспоминания, как в фантастическом блокбастере, когда герой открывает глаза и понимает, что в его мозгах основательно покопались.
Джокер покопался в моей душе. Вывернул там все наизнанку, а потом на скорую руку вырезал из неё все, что было мне дорого. Ни слова не оставил. Пустая "личка". В сотовом стерты все смски.
Усмехнулась — какое жестокое дежавю. Он точно так же поступил и с Ниной. Какая же я идиотка. На что-то надеялась и во что-то верила. Как можно верить тому, кто даже ни разу не назвал своего настоящего имени. Кого я люблю? Уродливо усмехающуюся аватарку? Маску? Или пустоту под ней?
Кто он — человек без возраста, без имени, без личности?
{"- Джокер! Пожалуйста! Почему ты не выходишь? Не отвечаешь на сообщения? Ты наказываешь меня? Я сделаю все, что ты просил. Все. Ответь мне, пожалуйста. Я с ума уже схожу! Меня ломает без тебя! Пожалуйста. Я все сделала! Все! Почему ты на меня злишься?!
— Я не злюсь. Молодец, девочка. И да, я наказывал тебя. Ты ведь знаешь правила игры!
— Я думала, что мы уже не играем! Я думала, это нечто большее для тебя, чем игра!
— Ты напрасно так думала, Харли"}.
И я напрасно так думала. Я вдруг поняла, что это самое страшное, что может с тобой случиться — вдруг понять, что кто-то, безумно дорогой тебе, просто исчез. И никогда его не найти. Как бы ты ни хотела. Потому что его-то и не было с тобой. Был образ, в который он заставил тебя поверить, была гениальная психологическая игра. И я в ней проиграла. Потому что правил не знала…потому что впустила ЕГО в свою реальность. Позволила стать для меня настоящим.
Актер отыграл свою роль, спектакль окончен, сгорели декорации, и зритель вдруг понял, что его жестоко обманули. Я обернулась на разоренную постель, закрыла глаза, сжимая челюсти. Иначе и быть не могло. Он сделал мне подарок на прощание и бросил меня.
Сколько у него таких, как я? Десятки? Сотни?
Мне еще не было больно. Точнее я в болевом шоке даже не чувствовала, что во мне все ампутировано без наркоза. Я заходила и заходила на свой аккаунт, я вертела телефон в руках, я снова и снова смотрела в мессенджеры, словно ожидая чуда…но его не случится.
Не было вопроса "почему?". Он бесполезный, как и мои надежды на то, что утром он снимет с меня повязку, и я увижу того, кем безнадежно и хронически больна.
Да, он снял с меня повязку, и я с ужасом поняла, что хочу оставаться с ней до конца моих дней. Я хочу "видеть" его в нашей темноте. Хочу слышать смски его голосом в голове…хочу трогать его губы стихами, хочу кричать ему о том, как безумно люблю его многоточиями. Хочу отдаваться ему снова и снова длинными, красноречивыми паузами. И от отчаяния заходится сердце, дышу часто-часто, сжимая горло руками и глядя на постель, где он любил меня до утра. Терзал, мучил, ласкал и дразнил. Ни одного слова. Ни одного звука, кроме хриплого дыхания, стонов и моего шепота. Любить можно молча. Как и ненавидеть. Любить можно с закрытыми глазами и в полной тишине. Нашей тишине.
Она умеет дрожать. Оглушительно…беззвучно…кричать. Прислушайся, Джокер — громче не бывает. Она воет и плачет, она стонет и рыдает, смеется и больно жалит, ранит хлестко, вспарывая невидимые рубцы с неровными краями, чтобы пройтись по ним нежным безмолвием, слизывая бордовые капли. Такой чистый звук, настоящий, без грамма фальши. Только Тишина может быть настолько искренней. В расстоянии мигающих, бегущих точек на белом фоне и косых штрихов на оконных стеклах, зигзагов на черном небе и ароматом утренней росы, когда твоя тишина окрасилась в цвет рассвета, а моя всё еще черная, как сонная бездна. Тишина орет, срывая гортань до хрипоты и только мы оба её слышим. Она такая разная. Протяни руку, потрогай…она живая, мягкая и твердая, голодная и дикая, несчастная и до безумия счастливая, жестокая и кровожадная сука. Чувствуешь, как она обжигает пальцы и на них остаются невидимые ожоги? Под ногти, под кожу. Серной кислотой туда, где разрывает грудную клетку…молча, но больно. Ломает, скручивает, пульсирует…оно слышит Тишину…Мою…уже раскрашенную золотистыми красками и зноем. Она летит к тебе…чтобы встретиться, врезаться и взорваться триумфальным криком, разбить хрустальное расстояние мегабайтов, слиться, впитаться, стать единым целым…эхом… черным по белому…осколками стекла. Истосковалась, нежится. Ласковая, как первые лучи солнца…Лепестками роз, ароматом глянцевого кофе, беззвучными поцелуями… прозрачными…реально-нереальными. Для меня всегда настоящими.
Только он отказался от нашей тишины. Он разорвал её в клочья. Вырезал тупыми ножницами терабайты моей тишины из собственной жизни.
Я запомнила каждую черточку на его теле. Шрамы на боку, родинку на затылке, густые брови вразлет, ровный нос и сочные губы. Скулы и твердый подбородок. Его густые волосы под пальцами и гладкую сильную спину, которую полосовала ногтями. Мне не нужно было его видеть на самом деле. Мне было достаточно его чувствовать. Говорят, красота в глазах смотрящего… но это неправда. Красота в сердце. Она начинается именно там с наших собственных эмоций по отношению к человеку. Я не испытывала даже разочарования. Всего этого можно было ожидать. Но я, конечно, не ожидала. Мы всегда говорим себе "со мной этого не произойдет"… и я говорила. Сотни, тысячи раз, когда получала от него очередное послание после часов ожидания. Когда улыбалась картинке с чашкой кофе или забавным смайлам. В каждой строчке океан эмоций, Вселенная. Только сейчас, обводя глазами свой сотовый телефон, я вдруг поняла, что моя Вселенная заключалась лишь в белом полотне личного чата социальной сети и не простиралась дальше, чем интернет — отношения, где каждый может быть кем угодно и уйти, когда угодно…Уйти из моей жизни. Вот так просто. Всего лишь стерев все свои сообщения и добавив меня в черный список пользователей. Никто и никому ничего не должен. А как же я? Как же моя жизнь? Мои чувства? Это его не волнует и не волновало изначально. Глупо злиться на того, кто ничего тебе не обещал…даже больше — на того, кто изначально тебе не доверял.
Я даже представить не могу сколько нас таких в этом его списке…Игра. Все было долбаной, проклятой игрой и, как только вышло за рамки виртуальности, Джокер попросту испарился.
Не помню, как тогда вернулась домой. Заказала такси, вышла на улицу из гостиницы. Пока ехала по дождливым улицам, смотрела на людей и думала о том, что любой из них может оказаться им…Каждый прохожий, таксист, официант в кафе…даже мой сотрудник на работе. И я никогда об этом не узнаю. Потому что я, дура, влюбилась в Джокера, у которого нет лица.
В ванной долго рассматривала свое отражение, проводя пальцами по следам от поцелуев, укусов, засосов на шее и на груди. А ведь через пару дней от них ничего не останется. Они сотрутся, как и наша любовь в переписке. Любовь? Нет. Любовью вот это безумие назвать невозможно. Что угодно, только не любовь. Одержимость, скорее. Я была им реально одержима. Никогда в своей жизни и никого я не любила так, как этого безликого, безымянного любовника, который ворвался в мою жизнь, как торнадо, и вытеснил все представления об отношениях.
Джокер решил, что это просто — удалить все сообщения и притвориться, что ничего не было. Наверняка, уже использованная практика с такими идиотками, как Нина и как я. Но стереть можно что угодно, кроме памяти и отметин внутри.
Не пошла на работу…просидела весь день дома, не отвечая на звонки и мейлы. Ждала. Отчаянно и без всяких на то причин. Вздрагивала от вибрации телефона и разочарованно стонала, когда видела чужие уведомления, когда кто-то звонил, когда пиликало оповещение с мейла. Никогда не думала, что зависимость может быть настолько бешеной. Может быть, он наказал меня? Может быть, я нарушила какие-то проклятые правила? Обманула его?
И у кого об этом спросить? Кричать в пустоту, в мегабайты и гигабайты интернет-пространства? Смешно…до истерики. И я хохотала. Как больная, сумасшедшая психопатка. Я хохотала и металась по комнате. Меня ломало без него. По нарастающей…минута за минутой, час за часом меня скручивало в жуткой зависимости. Я вцепилась в этот телефон и рыдала над ним. Взяла больничный и не вылезала из своей квартиры.
Я продолжала ему писать. Как будто он и не исчезал. Как будто может все это прочесть…Только отправить не могла — меня заблокировали. И я писала сама себе. Не знаю, во что я превратилась за эти дни. Когда мать приехала ко мне, она поверила, что я и на самом деле больна. Даже испугалась и хотела позвать нашего семейного врача. Но я ее отговорила…Мне нужен другой врач — психиатр, например. Хотя и он мне не поможет. Мне нужен мой Джокер. Мне нужны его сообщения, мне нужно его присутствие в моей жизни.
И снова пишу…снова ему. В черновиках мейла… в заметках смартфона.
{"Ты чувствуешь, Джокер? Каждый слог и каждую букву, пробел и точку, скобки, знаки. У всего есть подтекст. Даже в паузах своя истерика и безумие. Читал меня тональностью импульсов, звуками пауз, воплями бесконечных пробелов и многоточий, слезами молчания и в немых яростных диалогах с монотонными нотами стука сердца по воздуху. Caps Lock, Caps Lock, Caps Lock… и Enter. Caps Lock, Caps Lock, Caps Lock…Пауза. Отсчет нирваны секундо-минутами до понимания триумфа. Знаешь все мои backspace…backspace…backspace. Знаешь их лучше, чем я сама. Стреляешь в упор точным попаданием в вену ржавой иголкой ярости, вбивая в мой космос гвозди своей нетерпимости, пощечинами по нервам и нежно режешь меня нашими словами. Только словами…много противоречивых и ядовито-пошлых прекрасных слов. И нескончаемым "МОЯ". Я тебя так дико Caps Lock…что мои пальцы не всегда играют ту мелодию, которую шепчет сердце…пальцы фальшивят, любимый, а оно — никогда. Ты единственный, кто мог его услышать. Я тебя многоточием. Одержимо, грязно, невыносимо, бесконечно…многоточием. Так сильно и громко, что дышать больно"}.
А потом часами думать, что бы он мне ответил…И ненавидеть себя за то, что пишу ему. Не гордая, не сильная. Я даже музыку не могла слушать, потому что все напоминало о нем. Ненавижу его! Почему он со мной так? Почему ни одного слова? Это же страшно — не знать: за что. Это дико и невыносимо — сходить с ума от воображаемых причин и мотивов. Перебирать каждое свое слово, каждую фразу и искать. Искать, почему ушел. Что со мной было не так?
Спустя неделю вдруг заметила, что он светится онлайн в одном из мессенджеров…Внутри все воспламенилось, сердце забилось в горле, и пальцы сжали телефон так, что стало больно. От болезненной ломки скрутило все тело.
Дышать больно от понимания, что он здесь…И в то же время уже чужой. Захлопнувший дверь у меня перед носом. Я больше не имею права написать ему ни слова. Он не хочет.
"Я нема по отношению к тебе — нема, глуха и слепа, Ты даешь мне все, кроме объяснений. Я протягиваю руку, но чувствую только ночной воздух. Не чувствую ни тебя, ни любви, просто ничего". © "Evanescence" — "Father away"Открыла личку мессенджера снова и замерла …Что я ему скажу? Все и так понятно. Ничего не написала. Закрыла диалог и обхватила голову руками, глядя на точку его присутствия. Пусть так…пусть просто где-то там будет. Где-то по другою сторону пропасти из матриц и кодов, но будет.
"Напиши мне…напиши, пожалуйста, хотя бы два слова — Привет, Харли". Я положила сотовый на подушку, продолжая смотреть на зеленый кружочек, чувствуя, как по щекам текут слезы. Неужели он не понимает, что сделал со мной? Не понимает, как мне плохо без него? Или это пытка? Издевательство.
"Пытаюсь забыть тебя, Но без тебя чувствую пустоту. Не бросай меня здесь совсем одну. Мне трудно дышать. Я бегу к тебе, Кричу твоё имя, Я вижу ты там, очень далеко". © "Evanescence" — "Father away"Может быть, он испугался…Смешно звучит по отношению к такому, как Джокер…но все же. С его недостатком он мог решить что угодно. Решить, что я передумаю, узреть в моем поведении какой-то только ему известный подтекст. Не знаю — придумать нам проблему из своей немоты.
Я должна найти его. Не может быть, чтоб человека не было на самом деле.
Все и всегда оставляют следы. Даже незначительные, легкие, незаметные, но оставляют.
Утром меня позвали в районное отделение полиции. Выдернули из постели, зареванную, телефонным звонком. Мужской голос вежливо поинтересовался не разбудил ли меня, а потом представился, как Кирилл Алексеевич Трефилов — следователь областной прокуратуры, и попросил приехать на беседу по поводу новых фактов по убийству Нины.
Когда зашла в кабинет то в глаза сразу бросилась его чашка с броской надписью и легким дымком сверху, окурки в толстой, стеклянной пепельнице. Он вежливо поздоровался, я так же вежливо ответила. Уверена, что он такой весь учтивый, потому что знает, чья я дочь и сестра, иначе они обычно разговаривают совсем в другой форме.
Как же надоело это откровенное подхалимство, заискивание.
— Мирослава Лазаревна, возможно, я задам вам те же вопросы, которые задавал мой коллега, но мне нужно уточнить некоторые детали, и для полной картины нужна информация от вас.
Я не смотрела на него. Знала, что мои красные глаза с синяками и бледное, опухшее лицо и так вызывают нездоровое любопытство. Будь я обычной свидетельницей, никого бы это не волновало, но я дочь Лазаря Белозерова, а, значит, меня будут рассматривать, как под микроскопом.
— Задавайте любые вопросы.
— Мы недавно попросили родителей Нины предоставить нам ее ноутбук снова. Тщательно изучив его, мы пришли к выводу, что многие файлы в нем стерты. Вам может быть известно, что именно могло послужить причиной удаления целых папок с фотографиями, архивов переписок с мессенджеров?
— Нет. В последнее время Нина отдалилась от меня.
— Почему? Вы поссорились?
— Нет, мы никогда не ссорились…просто она отдалилась. Так бывает.
— Бывает. Не спорю. И все же, может быть, вам известно, что Нина проводила очень много времени в интернете? Мы зафиксировали её следы на тематических сайтах БДСМ, на сайтах виртуального секса онлайн и тому подобных ресурсов. Вам что-то об этом известно?
— Нет…мы не обсуждали её сексуальную жизнь настолько подробно.
— Да, ладно…Зачем вы мне лжете, Мирослава…разве девушки не обсуждают своих парней? У кого длиннее, у кого короче…
Я вскинула голову. Неожиданно. Какая наглая фамильярность. Что он себе позволяет?
— Даже если и обсуждают, вас это не касается. Никого не касается. Зачем вы меня позвали? Какие факты вам стали известны?
— Значит-таки, да, обсуждали. — он проигнорировал мой последний вопрос, — А она не рассказывала вам, что незадолго до своей смерти с кем-то познакомилась? Или встречается?
— Она часто с кем-то знакомилась, но вряд ли встречалась.
— С таких вот…эммм…интернет — ресурсов? — легкое осуждение в голосе. Даже презрение. Вот как относятся к идиоткам, вроде меня и Нины. Я и сама раньше так же относилась. Посмотрела Трефилову в глаза и отчеканила:
— Да.
— А она рассказывала вам о них? Меня интересуют ее последние знакомства.
— Почему вы спрашиваете об этом? Я не хочу обсуждать личную жизнь Нины даже с вами. Вы все равно не нашли психопата, который это сделал. Притом ваши люди сказали мне, что это был незнакомый ей человек, промышляющий кражами гаджетов и личных драгоценностей. Скорее всего, наркоман. И Нину он убил лишь потому, что она подняла шум или сопротивлялась.
— Мы нашли её смартфон и драгоценности.
— Неужели нашли? — я удивленно приподняла брови с таким же презрением, с каким он задал свой вопрос минуту назад.
— Да. Их принесла одна бомжиха-алкоголичка в пункт приема золота и продала за копейки. Как вы понимаете, на убийцу она мало похожа, да, и вряд ли занимается скупкой краденого. Она утверждает, что нашла все это добро возле мусорки в нескольких кварталах от места преступления, и, вы знаете, — я склонен ей верить.
Я смотрела на следователя и чувствовала, как начинает пульсировать в висках.
— И что это значит? — хотя я уже и сама догадывалась.
— А это значит, что кража была постановкой. Богатову убили. Намеренно. Обдуманно и хладнокровно. Убил тот, кого она хорошо знала и села в машину. Он ждал её возле клуба. Возможно, они даже условились о встрече заранее. Теперь понимаете, почему я хочу знать, с кем она переписывалась в последнее время?
{"- Я покажу тебе. Он написал мне на сотовый.
— Ты дала ему свой сотовый?
— Правила игры!
— Ну, да. Как я забыла правила игры?!
— Он такое мне пишет… Слав. Я… я, кажется, влюбилась.
— Ну да. В виртуального Джокера, который обещал исполнить твои желания.
— Он их исполняет.
— Я в этом даже не сомневаюсь"}.
— Я вас понимаю. Я постараюсь вспомнить. Она называла мне много имен. Просто сейчас я плохо соображаю. Простудилась или вирус подхватила.
— При вирусе разве не течет из носа? Или у вас глазная инфекция?
— Что вы имеете ввиду?
— Только то, что вы слишком много плачете, Мирослава Лазаревна.
— Это не имеет никакого отношения к делу.
— Скорее всего, не имеет. Вы все же постарайтесь вспомнить. Это очень важно. Возьмите мою визитку и позвоните, как только придет в голову хоть какая-то информация.
— Непременно.
Я встала из-за стола и пошла к двери.
— Возможно, у этого парня кличка Джокер или Джек Пот…что-то в этом роде.
Я вздрогнула, но также спокойно открыла дверь кабинета и вышла наружу.
{"- Да мне все равно, как он выглядит, Слав. Все равно, понимаешь?
— Не понимаю, но если тебе хорошо…
— Мне хорошо. Иногда тааак больно, но хорошо"}.
Несколько секунд, чтобы отдышаться у стены. Привести свои мысли в порядок. Перестать дрожать, как в лихорадке.
Я долго смотрела на свой сотовый потом набрала номер Адама. Мне ответили не сразу…а когда ответили, я сама не поняла, как сказала:
— Давай встретимся, Адам. Пожалуйста. Мне нужна твоя помощь.
В трубке послышался смешок.
— А не зачастила ли ты с просьбами о помощи, Белозерова? Или перепутала мой номер с номером МЧС?
— Мне плохо…, - сорвалась я и всхлипнула.
— Я вообще-то на работе. Хорошо. Давай через час в "Овер тайм".
Я кивнула…даже не понимая, что он меня не видит. Выключила смартфон и закрыла глаза, в голове все кружилось, как на карусели. Это не мог быть МОЙ Джокер…Не мог. Я должна найти его и поговорить. Я обязана его найти. Адам мне может помочь в этом.
ГЛАВА 13. Бес
Я сминала в ладони уже третью белоснежную салфетку, пытаясь успокоиться и унять дрожь пальцев. Развернула ее на столе, проглаживая и распрямляя. Так странно, я ведь ее не использовала, не измазала ничем, но она перестала быть кипельно-белой: изломы и изгибы будто испачкали бумагу, испортили ее, вызывая желание порвать на кусочки и выкинуть, брезгливо отряхнув руки.
Автоматически обводила кончиками пальцев резные края салфетки, думая о том, что ощущаю себя такой же ненужной и потрепанной. Несмотря на новое пальто, на дорогие туфли и довольно стильное платье, мне казалось, каждый присутствующий в кафе посетитель и официант могли при желании увидеть даже мельчайшую царапину, которой кровоточила я изнутри, каждый болезненно ноющий шрам. Нет, эти шрамы появились не с уходом Джокера из моей жизни. Он просто сковырнул их напоследок, обнажил всё то, что столько лет они скрывали: ощущение полного одиночества и своей абсолютной ненужности. Никому. Даже ему. Единственному, кому я поверила.
Можно быть первоклассным специалистом в области гражданского права, можно виртуозно играть на скрипке или великолепно танцевать партию Кармен на сцене Большого, но при этом чувствовать себя одинокой и никчемной. И тогда очередное выигранное многомиллионное дело, потрясающий сольный концерт или порция бурных оваций восторженных зрителей становятся всего лишь попыткой обрести значимость в собственных глазах.
"Мой прекрасный лжец, Ты тонешь В пучине страха. Ты проникаешь вглубь меня, Думая, что моя кровь Может спасти тебя. Почему? Почему? Расскажи мне… Расскажи мне, как Ты мог затеряться в океане, Плывя по течению? Расскажи мне, почему Ты выбросился на берег?". © "In This Moment" — "Lost at Sea"Бросила взгляд на часы и мысленно прокляла Адама, безбожно опаздывающего на встречу. Я понятия не имела, что ему скажу, но пока мне не к кому было обратиться. У меня были знакомые программисты, молодые и опытные хакеры, работавшие в различных крупных фирмах…но я не доверяла ни одному из них настолько, чтобы рассказать о Джокере. По большому счету, я и Адаму не должна была доверять. Но когда у вас закрыты все двери и выход наглухо замурован, лучшее, что вы можете сделать — это начинать разбирать по кирпичику стену. И сейчас я намерена была снести ко всем чертям ту стену, которую выстроил передо мной Джокер.
Задумалась так, что даже не заметила, как Адам отодвинул стул напротив меня. В своей черной кожаной куртке поверх черной водолазки и со своей вечной ухмылкой на губах. Он громко поздоровался и, улыбаясь, подозвал двумя пальцами официантку, которая, схватив меню едва не полетела к нам. Какая всё же открытая у него улыбка, задорная, заразительная…Будь это при других обстоятельствах, я бы непременно ответила на нее своей. Стиснула пальцы, вдруг подумав о том, что так и не узнаю, как улыбается ОН.
— Гордеев, о том, что у тебя нет предков англичан, я догадывалась…Но опоздать почти на час? На целый час? Совесть — то должна быть?
* * *
Я опоздал намеренно. Хотел, чтоб она меня ждала. Эдакое паршивое вранье самому себе. Что будет ждать именно меня, а не его. Хотя бы раз. Пусть из-за него, но МЕНЯ.
Я прекрасно понимал, о ком пойдет речь. И проклинал ЕГО как мог. Сука! Надеюсь, он знает, где я и зачем. Пусть корчится от боли. Живой мертвец. Я смотрел на него и наслаждался его муками. Его дрожащими пальцами, стиснутыми до скрежета челюстями. Я тащился от его невыносимой ломки по ней. Жри, ублюдок, свое собственное дерьмо. Ты же этого хотел. Я смаковал горы окурков в пепельнице, смаковал нетронутую постель, пустые бутылки и грязные чашки из-под чая. Неотправленные смски. Сбитые костяшки пальцев. И этот его вой наркомана, который загибается без дозы, он эхом пульсировал у меня в висках. Загибайся. Так тебе и надо! Я рад, что ты по уши в этом болоте, как и я. Прочувствуй, каково было мне, когда ты хвастался своими гребаными победами.
А когда увидел ее, сердце грохнулось к дьяволу на паркетный пол кафе и укатилось к ее ногам. Валяться там, у носков ее туфель. И я знал, что через пару слов она пройдется по нему грязной подошвой. А оно…оно все равно останется у ее ног. Еще один живой мертвец, и я на собственных похоронах между ними. Потому что холодею, глядя на ее бледное лицо, на синяки под глазами и покрасневшие белки. Плакала. Из-за него.
Она даже не заметила, как я вошел. Только когда отодвинул стул и швырнул на спинку куртку, она подняла голову и посмотрела на меня. Я подозвал официантку:
— Два кофе. Как обычно. — повернулся к Мире, — Привет. Нет, не англичанин, а работающий офисный червь. Мне закончить надо было. Давай излагай, и я погнал. У меня до хрена дел.
Говорю, а сам слежу за ее пальцами, теребящими салфетку. Невыносимо захотелось их накрыть своими и сильно сжать, чтоб успокоить. Я её истерику кожей почувствовал. На каком-то гребаном астральном уровне. Словно это меня всего скручивает.
"Бывает ли у тебя такой страх, что ты не можешь одолеть, Такой, что никак не отстанет, будто что-то застряло в зубах? Есть ли у тебя еще пара козырей в рукаве? Ты и не догадываешься, что ты влипла по уши? Я мечтал о тебе чуть ли не каждую ночь на этой неделе". © "Arctic Monkeys"— "Do I Wanna Know?"* * *
Конечно, ему надо было работать…Сказал таким тоном, упрекая, мол, ты можешь себе позволить прогуливать работу, а я нет. А мне закричать вдруг захотелось ему в лицо, то единственное, что мне действительно важно, я себе позволить не могу. Неделю не появляться в офисе даже без объяснений — могу, не работать каждый день с утра и до вечера, чтобы получить в конце месяца зарплату, тоже могу, вот это чертово кафе, в котором сидим с ним вдвоем, купить могу прямо сейчас…А вернуть другого, того, кто ни разу вот так не посмотрел, как он…с таким интересом, с какой-то страстью, сменяющейся на неожиданную нежность, тоже не могу. И забыть его — тоже нет. А если я не могу позволить себе того, кого хочу на самом деле, то зачем мне всё остальное?
Следит за движениями моей руки, и я схватила эту злосчастную бумажку и спрятала в карман пальто.
— Мне помощь твоя нужна, Адам, — посмотрев в его лицо, отмечая, как сузил глаза, откинувшись на спинку стула.
* * *
Помощь. Так типично для женщин искать в каждом мужчине рыцаря. Тонкий психологический ход, используемый веками. Срабатывает даже с отъявленными мерзавцами при правильной интонации и подходящей ситуации. И самое паршивое она, как истинная женщина, чувствует, что мне не безразлична. Знает, что нравится…Не знает, насколько, но это уже мои проблемы. Я и не хочу, чтоб знала, как меня ломает по ней с самой первой встречи. Хочу её, как оголодавший зверь. Трясет от звука ее имени. От взгляда, блядь, сердце в горле бьется.
— Помощь, значит. Какая? Чем смогу, так сказать…
Я не мог сдерживаться. Не мог это контролировать. Оно вырывалось наружу само — раздражение от понимания, чего она хочет. Глухая ярость и ревность. Я не мог их скрыть. Они, как лезвия, вспарывали мою показную невозмутимость и лезли наружу с каждым сказанным словом.
* * *
— Сможешь, я уверена, — положила свою руку на его ладонь и сжала, удерживая взгляд. Да, пусть это было нечестно, но я бы не выдержала его отказа. — Мне нужно найти одного человека. У меня есть его аккаунт, у меня есть его номер телефона…был номер телефона. Но я не знаю ни его имени, ни фамилии. Адааааам, мне нужна любая информация о нём. Пожалуйста, я прошу тебя. Помоги мне. Я больше никому не могу доверять.
И плевать, если станет презирать. За эти дни я дошла до той точки, когда гордость и чувство собственного достоинства стали значить не больше, чем красивые слова. Внутренне мутировала настолько, что перестала ощущать их на уровне эмоций. А, впрочем, сейчас я не чувствовала ничего, кроме отчаяния и опустошенности.
* * *
Усмехнулся…А ведь все же больно. Знал, что будет хреново понять, насколько она любит этого урода, но надеялся, что сам увяз не настолько. Надежда сдохла только что. Беззвучно. Окоченела и разложилась за считанные секунды. Даже праха не осталось. Достаточно в глаза эти посмотреть, увидеть в них бездну отчаяния и понять, что это тупик.
Обхватила мои пальцы, а я резко их выдернул, накрыл ее руку ладонью и сам сжал.
— Знаешь, Мира. Я, конечно, все понимаю. Не мое это дело. Но и ты все прекрасно понимаешь. Не дура ведь. Вроде как. Я не горю желанием искать твоего виртуального любовника и тратить на это свое время.
Сжал её ледяные пальцы сильнее и наклонился вперёд.
— Ты себя в зеркале видела? Из-за чего? Потому что тебя кинули в вирте? Ты серьезно из-за этого дерьма не ходила на работу и сидишь тут дрожишь с опухшими от слез глазами?
"Она — одинокий рейнджер, несущий надежду, скачущий В моей пустой голове, когда она не со мной. Я схожу с ума, потому что я не хочу быть здесь, Я уже и не помню, когда последний раз был счастлив". © "Arctic Monkeys" — "R U Mine?"* * *
Резко выдохнула, убирая свою руку. Будто пощёчину мне влепил. Каждый вопрос отпечатался на коже обжигающим красным следом. Опустила голову, пытаясь сдержать непрошеные слезы. Только не при нем. Не при всех этих людях. Мне надоела за это время жалость. Жалость мамы, жалость самой к себе. Мерзкое чувство, от которого тошнило и кружилась голова.
— Он не…, - Вскинула голову, внутренне сжавшись от той злости, что полыхала в его потемневших глазах. Стиснул челюсти, ожидая ответа. А я губы пересохшие облизнула и решила с другой стороны зайти.
— Дело в Нине…Это связано с Ниной. С ее смертью. Мне нужна информация о человеке, которого подозревают…, - глубоко вдохнула, стараясь сдержать рвущиеся из груди всхлипы, — в ее убийстве.
"Почему? Почему? Расскажи мне… Расскажи мне, как ты мог Затеряться в океане зла? Упасть на дно, где только мрак? Расскажи мне, почему Ты закрыл себя в углу? И лишь сладкий привкус млений, Тебя закружит в одно мгновенье. Мой прекрасный лжец, Ты тонешь…" © "Arctic Monkeys" — "Do I Wanna Know?"* * *
Я встал со стула и склонился к ней, поднял голову за подбородок, глядя в глаза и понимая, что внутри все переворачивается от заблестевших слез. Когда я останусь с ублюдком наедине, за каждую слезу ребра пересчитаю. Кто-то сегодня будет харкать кровью. Только меня злило, что она отрицать пытается. Прикрывается следствием, Ниной. Стыдится. Пусть произнесет это вслух. Услышит, как оно звучит со стороны. Весь этот гребанный виртобредосекс с каким-то Джокером, мать его. И не лжет мне. Я ненавижу ложь в любом ее проявлении. В этом мы похожи с моим уродом — соседом.
— Не лги мне. Никогда мне не лги. Или ты говоришь правду, включая все. Реально все. Или я ухожу.
"Сколько секретов ты в силах сохранить? Ведь ко мне прицепилась эта мелодия, что заставляет думать О тебе то и дело — она звучит у меня на повторе, Пока я не засну, Опрокинув бокал на диван…" © "Arctic Monkeys" — "Do I Wanna Know?"* * *
Качаю головой, чувствуя, что еще хотя бы слово, и меня разорвет от боли прямо тут. Среди всех этих людей, у него на глазах. Он хочет правды. Как и тот, другой. Они все хотят только правду. Они требуют искренности, и, получив ее, окунают в самую низменную, самую острую боль. Покачала головой, отстранившись назад и выдавила из себя шепотом:
— Не уходи…Но я не могу…здесь. Не хочу…здесь. Забери меня отсюда.
Как и в прошлый раз…и сейчас, как и тогда, я почему-то была уверена, что он не откажет. Заберет. Хотя, я ведь и в Джокере была уверена.
Джокееер. Я даже не знаю его настоящего имени. Ничего не знаю. Мне казалось, я медленно схожу с ума. Просто от осознания, насколько по-идиотски все это, насколько наивно, утопично, гадко…Но от этого ничего не менялось. Пусть Джокер нереальный, но мои чувства реальны! Мои воспоминания реальны, мое ощущение его рук на теле, поцелуев, запаха. ВСЕ ЭТО РЕАЛЬНО! И моя боль реальна.
* * *
Резко поднял Миру со стула, глядя в глаза.
— Поехали.
Приобняв, повел к выходу из кафе, по пути сунув официантке деньги и подмигнув, когда она смущенно улыбнулась.
— Без сдачи, куколка.
Усадил Миру в машину, сел за руль и сунул в рот сигарету. Бросил на нее взгляд — дрожит. Вот-вот сорвется. И от одной мысли, что увижу ее слезы, захотелось убивать. Зверски убивать, извращенно с особым садизмом.
И куда мне ее везти? Усмехнулся. Конечно, к себе. Пусть кого-то скрутит еще сильнее, пусть потом бьется головой о стены. Пусть узнает ублюдок, что он с ней делает. Именно так, Джокер, теряют. Не тогда, когда бросают, а в тот момент, когда есть, кому пожалеть, когда ЕЙ есть, к кому пойти. И я, блядь, пожалею. Она скоро не будет плакать по тебе, урод! Она скоро будет улыбаться. Мне. Или я буду не я!
* * *
Самая долгая дорога та, которая ведет в никуда. И я сейчас ехала в это самое никуда вместе с едва знакомым парнем для того, чтобы найти другого, еще менее, как оказалось, знакомого.
Мы снова ехали в полной тишине, Адам поморщился и сжал руками руль, когда я щёлкнула по проигрывателю, и я тут же выключила его. Отвернулась к окну.
Он привез меня в тихий двор в одном из спальных районов, один из тех дворов, главной достопримечательностью которых являются старые скамейки с сидящими на них старушками. Переполненные мусорные баки во дворе, дохнувшие такой вонью, что невольно закрыла нос рукой. Мы зашли в обшарпанный подъезд с разбитым окном, все стены которого были исписаны различными надписями. Открывая дверь, Адам вдруг повернулся к квартире напротив и подтолкнул меня вперед, сам отступив на шаг назад, будто закрывая собой от кого-то. Демонстративно помахал этому кому-то рукой и на мой ошарашенный взгляд ослепительно улыбнулся.
Он жил в небольшой двухкомнатной квартирке со старыми пожелтевшими обоями в коридоре и темным линолеумом. Галантно забрал у меня пальто и повесил его на единственный в прихожей крючок поверх своей куртки. Молча прошла за ним в комнату и присела на край старого коричневого дивана из тех, что покупали, потому что они долго не марались. Так же молча разглядывала его комнату, обращая внимание на стол, накрытый бежевой скатертью с большими коричневыми цветами, на светлые в темную широкую полоску обои, местами выцветшие. И ярким контрастом этому интерьеру дорогой телевизор и ноутбук. Адам выложил из кармана на стол айфон последней модели, с улыбкой глядя на мою реакцию.
Никогда бы не подумала, что он может жить в таком месте. Медленно встала и подошла к подоконнику, заляпанному желтыми следами от стаканов. На нем стопкой лежали альбомные листы, пригляделась и едва не ахнула. Это были рисунки. Посмотрела на Адама, он напрягся, но коротко кивнул, и я взяла бумаги в руки. Скорее всего, рисовал он сам. Странные картины. Мрачные. Кроваво — черные цвета. Перекладываю из руки на подоконник лист за листом и рассказываю всё то, что он хотел знать. Пусть знает. Это будет первый кирпич, который я выбью. Взгляд зацепился за один рисунок, повторявшийся несколько раз, от которого мурашки пробежали по позвоночнику. Темный силуэт ребенка, скорее всего девочки, на абсолютно черном фоне. Он то парил над бездной, то отдалялся, то приближался. Снова только бордово-красный и чёрный. Черепа, кости, гробы…ничто не заставило так сжиматься от непонятной тревоги, как эта серия.
* * *
Она говорила сбивчиво, глядя сквозь меня в свое "никуда". Говорила о нем. Много и только о нем. Имя произносит и голос срывается, а я сжимаю челюсти все сильнее от понимания, что происходило в их проклятом вирте, и как далеко они зашли. Когда рассказала о встрече, я закурил, не помню какую по счету сигарету и отвернулся к ноутбуку. Сжатые губы нервно подергивались. Я видел свое отражение на экране — болезненная гримаса и сверкающие ненавистью глаза. Таки не выдержал да, Джок? Таки захотел прикоснутся, принюхаться, тронуть губами. Урод грёбаный! Выдохнул и клацнул по клавиатуре, набирая в поисковике адрес известной социальной сети. Зашел в личный аккаунт — Мира мне уже скинула ссылку на акк Джока и рассказала, какой информацией располагает она сама.
— Итак, что мы имеем? Его существующий аккаунт, где он тебя внес в черный список. Имеем номер заблокированный. И все. С номером ничего не попишешь. Если выкинул симку, я ничего не смогу сделать. А вот вскрыть его аккаунт и электронку, с которой он тебе писал, попробую. Сложнее будет, если привязал к номеру. Другому. Придется пытаться сменить номер, а он получит уведомление. Но будем надеяться, что он просто инетовский мачо и не следит за безопасностью своей страницы. Дальше посмотрим, куда двигаться. Возможно, он переписывался с кем-то, кто знал его реальные имя и фамилию, знал где живет.
— А если никто не знал? — тихо спросила она.
Повернулся к ней, сидящей на краю дивана и сжимающей чашку с кофе. Шокирована моей квартирой. Да, детка у меня нет богатенького папы. Как и желания менять что-то в своём доме.
— А если никто не знал, буду пытаться по ай пи, который зафиксировала соц. сеть.
Внутри раздавался истерический хохот. Теперь я сам, как долбаный Джокер, должен играть в какую-то игру. Делать вид, что я ничего не знаю, что буду искать данные и информацию. Ублюдок поставил меня в идиотское положение. Да и со следователем мне ситуация тоже не понравилась. Копнули в верном направлении. Меломан мать вашу! Чертов маньяк засветился со своими дисками и рожей Джокера, где только мог. Не убивается ему без них, блядь. В любом случае надо уводить всех в ином направлении. Будешь мне должен, Джок. Ох как должен. Возьму с процентами.
* * *
— Прямо сейчас! Попробуй прямо сейчас, Адам, прошу, — замолчала, пытаясь успокоить забившееся сердце. Глупое, оно вдруг ожило с той надеждой, которую пробудил уверенный тон Адама. Как мало нам нужно, когда мы так жаждем малейшего намека на победу, на лучший исход. Всего лишь уверенность и поддержка, пусть и лживое, но обещание в голосе. И мы снова можем дышать свободно, не заходясь в приступах кашля от того смрада безысходности, в котором подыхали. Мысленно одёрнула себя и уже спокойнее, пытаясь обмануть, но не столько парня, сколько всё же саму себя, — Следователь… Он будет ждать звонка. И не раз вызовет к себе. Я знаю. Мне нужна информация. Нина…Я уверена, что это не он, но нам нужно проверить.
Подняла взгляд на Адама и увидела, что он и так все понял. Ему не надо лгать. Он видит, как меня трясет только от понимания, что можно найти Джокера. Как меня скручивает от близости наркотика, к которому не могу протянуть связанные этим же наркотиком руки. Только жадно смотреть на точку онлайн над аватаркой и дрожать в адском приступе жесточайшей ломки.
"Это такое сладкое пристрастие, Тебе следует возрадоваться. Ты знаешь, если бы я могла, То забрала бы всю твою боль. Но сможешь ли ты обернуться и Встретить своё поражение? Так расскажи мне, как Ты мог затеряться в океане, Плывя по течению? Расскажи мне, почему Ты выбросился на берег?" © "In This Moment" — "Lost at Sea"* * *
Мне захотелось встать с кресла, подойти к ней и сильно тряхнуть. Да так сильно, чтоб вытрясти из нее всю эту хрень. Весь этот психоз по недостойному ублюдку. Говорит мне о Нине, а сама содрогается от одной мысли о Джокере. Жаль, он этого не слышит… а, может, и не жаль. Нечего ему на ее слезы смотреть. Обойдется. Слишком большой подарок для такой мрази… да и я мразь не лучше, если помогаю ему во всем, пляшу под его дудку уже столько лет и никак не сброшу это ярмо. Словно он мой сиамский, долбаный близнец. Ничто не связывает крепче, чем общие косяки и преступления.
{"Мы сообщники, Адам. Очнись. Открой глаза. Не выйдет не испачкаться, остаться чистеньким с неизмятой совестью. Ты уже весь в крови, как и я. По самое горло. Захлебываться вместе будем. Ты убивал их со мной. Не важно, кто всадил нож, а важно, кто сказал, куда всадить и когда. Наводчик — бОльшая мразь, чем убийца"}.
Я слегка тряхнул головой, вышвыривая голос и хохот Джока из мозгов.
— У меня уйдет время. Я запущу программу, которая будет подбирать пароль к электронке. Вскрыв ее, вскрою и аккаунт. Я отвезу тебя домой и займусь этим, отзвонюсь, когда что-то получится.
Она болезненно поморщилась и нервно сжала пальцы, даже я хруст услышал, встал с кресла и подошёл к ней, присел на корточки, заглядывая в глаза. Бездна отчаяния. Пропасть боли и паники. И я ее боль каждой порой впитываю. Отравляет меня, заражает, вызывает приступ дикой ярости.
{"Что ж ты с собой делаешь, девочка? Как тебя так утянуло, а? Приклеило к нему намертво? Я отдеру тебя от этой сволочи. Просто дай мне время. Я зубами тебя от него отгрызу"}. А вслух тихо:
— Почему вирт, Мира? Насколько все хреново в твоей жизни? Что есть там, чего нет здесь? Пойми, ТАМ все ненастоящее. Тебе только кажется, что оно есть, но это иллюзия, Мира. Это самообман. Всегда хочется большего. По кому ты страдаешь? Человек мог открыть себе тысячу акков и под каждым ником морочить голову таким наивным дурам, как ты. Вас у него могут быть десятки, а то и сотни.
Это был, скорее, монолог… Она вряд ли меня слышит сейчас. Отобрал у нее чашку и помог встать с дивана, удерживая за плечи и все еще глядя в зеленые глаза, подернутые дымкой слез.
— Поехали. Тебе пора. Скоро мой сосед вернется. Он не любит гостей.
Бросил взгляд на часы. Да, очень скоро.
* * *
— Неправда. настоящее. Оно всё настоящее. Всё, что чувствовала я. Понимаешь? Неважно по кому, неважно, сколько у него аккаунтов…У меня было всё настоящее. Искренность…, - провожу пальцами по его ладони, — искренность и в реале очень тяжело встретить, Адам. Я ожила с ним, понимаешь? Я с ним была такой живой, какой не была никогда здесь.
Улыбнулась, глядя, как снова стиснул челюсти, на скулах желваки ходуном, а мне смеяться хочется в голос. Да, Гордеев, думай, что угодно. Вот такая я дура — искусственная в этом мире и живая в виртуальном.
Сжала сильную ладонь, заглядывая в черную темноту в его глазах. Она бурлит подобно лаве, переливаясь всеми оттенками мрака. Никогда не думала, что у него он такой глубокий — этот взгляд…Он не подходил ему. Словно принадлежал другому человеку. Словно вот это красивое лицо, аккуратная прическа не имеют ничего общего с тьмой на дне зрачков. Он сам по себе, а она сама по себе. Я даже поежилась от этого странного ощущения.
— Спасибо, Адам. Я в долгу не останусь.
* * *
Я схватил ее за плечи снова и сильно их сжал:
— В каком долгу? М? Белозерова, еще раз ляпнешь такую херню, я тебе не то что помогать не буду, я не плюну в твою сторону! А насчет настоящего — ты просто настоящего не встречала. Сравнивать не с чем. Тот, кто скрывает свое имя, меняет номера телефонов, не может быть настоящим. Ты настоящая — да. А он твоя выдумка. Не больше. Пустышка.
* * *
— Зато он лучшее из того, что следовало выдумать, Адам. Понимаешь? А настоящие…,- не смогла сдержать грустную улыбку, — встречала, Гордеев. Встречала немало. Но ни одного из них я бы не стала придумывать.
* * *
— А зачем придумывать настоящих, Мираааа? — я резко наклонился к ней, обхватывая за талию и привлекая так близко, что теперь касался подбородком ее волос. Напряглась, но не отталкивает, а я не удержался, развернул спиной к себе и прижал к груди, — Что есть настоящее? Ты меня не видишь сейчас. Я у тебя за спиной, но ты знаешь меня…Ты думаешь, что знаешь.
Едва коснулся губами ее затылка, закрывая глаза в изнеможении от ее запаха. Поплыло перед глазами от удовольствия, и адреналин запульсировал в висках. Не целую, а едва касаюсь губами. Прикосновения дыханием. Я чувствую. Она чувствует. Все так же напряжена.
— Зачем выдумывать того, кто уже существует, Мира? Того, кто и так настоящий. Не виртуальный. Живой.
Ладонью на ее горло, где быстро бьется жилка, и ощущаю ее дыхание, которое она задержала, готовая вырваться из моих объятий в любую секунду.
"Успокойся и позволь прикоснуться к твоим губам. Прости, что перебиваю: Просто я постоянно наготове, Пытаюсь поцеловать тебя. Не знаю, чувствуешь ли ты то же, что чувствую я, Но мы могли бы быть вместе, если бы ты захотела. (Хочу ли я знать?) Взаимно ли это чувство. (С грустью смотрю, как ты уходишь) Я вроде как надеялся, что ты останешься". © "Arctic Monkeys" — "Do I Wanna Know?"Я заскользил губами к ее уху, не касаясь, а лишь лаская нежную кожу шеи горячим дыханием, продолжая удерживать пальцы на той самой жилке, и она пульсирует все быстрее и быстрее.
— Зачем придумывать…если его можно нарисовать прикосновениями…без написанных лживых слов.
Она вздрогнула, когда мои губы коснулись мочки уха, и я тут же выпустил ее.
— Нам пора. Поехали.
ГЛАВА 14. Аля
Я чувствовал. Я давно уже не читал ее. Она настолько во мне, что уже на стадии"…набирает сообщение" я слышал её голос и видел её мысли. К чертям аудио — его только для того, чтобы слушать её стоны…Под музыку. Представляя, как она там…в паузах. СО МНОЙ! Да, дьявол! Снова и снова на повторе. Композиция только для меня, где она записала свои стоны, наложив их на песню группы "Nine Inch Nails" "Closer". Слушать их, словно конченый псих, сутками напролет, стараясь не сорваться, не начать фантазировать, рисовать себе, что и как она делала в этот момент. Или еще хуже — вспоминать. Осатанело вбиваться в собственную ладонь, закрыв глаза и фантазируя, что всё это наяву. Настолько МОЯ, что самому сложно поверить в это.
А ночью в тишине в ожидании Адама, с особой мстительностью улыбаться собственным мысля о том, что он этого не узнает. Я не позволю услышать МОЁ.
И в очередной раз читать её CAPS LOCK, улыбаясь смущению между строк. Многоточия ее голода…Когда впиваешься взглядом в текст, считая пробелы…Каждый из них значит больше, чем для всех остальных значат признания в любви.
Зачем я это делаю? Своеобразное наказание самому себе. За ту боль, что разъедает внутренности, за то, что ломает так, будто кости крошатся в песок, а кишки наизнанку выворачиваются. Но я с маниакальным упорством приговоренного к смерти снова и снова окунался в наш с ней мир, потрескавшимися губами выпивал до дна этот яд и, вытирая ладонью рот, смаковал его вкус, корячась в судорогах боли. Я выкуривал ее из себя, и видел, как она улетает сизой дымкой в сторону окна, и тогда я переставал выдыхать дым, слишком слабый, чтобы расстаться с ней навсегда. Я и не хотел. Да, я не был рядом с ней, но я похоронил ее в себе. Навечно. Заживо.
Я ведь не лгал ей:
{"Словами иногда острее, чем лезвием, да, маленькая? Они впиваются в запястье глубже веревок, стягивая, не позволяя лишних движений.
Потому что каждое твое движение — слово принадлежит мне"}.
Даже сейчас. Ты просто помни это, Принцесса…набирая пробелы. В паузах. И многоточиях. Никому другому. Только мне.
"Молчим, открыта дверь Тире и точки о тебе, Моя печаль. Приснись, вернись ко мне. Надежды в миг случайных дней Не обещай". © "The SLOE" — "Моя печаль"Да, моя печаль. Тоска, вдыхая которую ощущаешь, как рвутся сухожилия и в сердце впиваются острые иглы разочарования. Потому что понимаю, что всё правильно. Я всегда был эгоистом. Эгоистом во всём. Но в таком случае с ней я не хочу быть самим собой. По крайней мере, я постараюсь.
— Неужели в этой квартире можно находиться, не боясь оглохнуть? Аллилуйя!
Гордеев распластался на диване, довольно щурясь на одиноко висящую на потолке лампочку. На губах полуулыбка ехидная блуждает. Нет, придурок, просто я, скорее, позволю утащить меня демонам в мой собственный Ад, чем я позволю тебе услышать мою девочку.
Демонстративно напевая, щёлкнуть на плеер и включить на полную громкость другую музыку, злорадно ухмыльнувшись, когда он едва не зарычал.
— Рад, что при всё при этом у тебя есть еще силы на клоунаду.
— При чём при этом? Ты никогда не мог оценить мое чувство юмора, Гордеев. Обидно даже.
Он громко фыркнул и резко сел, вытянув ноги на полу.
— Ты знаешь, я ведь ни разу не спросил тебя, почему ты выбрал этот грёбаный псевдоним. Думал, это веяние моды. Но теперь понимаю — ты точно такой же урод, смех которого вызывает не радость, а страх или злость. Кого ты обмануть пытаешься, Кость? Посмотри, во что ты превратился? Домой заходить не хочется. Дышать нечем, и рожа твоя унылая угнетает.
— Забыл, что ты у нас такой ранимый. В следующий раз обязательно пирог испеку и фартучек парадный надену.
— Тебе самому это не надоедает, Джок? Очнись. Начни что-то делать.
— Тебя не поймешь. То не убивай, Костя, будь человеком. То, очнись, Джок, сделай что-нибудь! А что мне делать? Говори открытым текстом, Адам. Так и скажи: прикончи, наконец, ублюдка Белозерова и навсегда исчезни из моей жизни к чертям собачьим!
— Вот! Даже я не мог бы сказать лучше! С одной ремаркой: из нашей с Мирославой жизни!
Протянул руку за чашкой с чаем и понял, что даже поднести ко рту не могу. Потому что трясет всего. Колотит дрожью ненависти к нему. Впервые. Люблю этого мерзавца, всегда уважал и любил, а сейчас лезвием хочется по горлу. И смотреть, как кровью истекает. И всё из-за нее. Потому что сейчас он искренен. Хочет, чтобы я оставил ее ему. Замолчи, Адам! Замолчи, друг. Потому что не отдам! Не порть тот финал, который мы продумывали с тобой вдвоем. Вместе. А он всё не затыкается, продолжая ковыряться ржавым ножом прямо в душе. Он понимает, насколько больно делает сейчас? Конечно, понимает, долбаная мразь, и всё равно не останавливается.
— Дьявол, Костяяяя! Ты же видишь, что это единственный возможный вариант. Отпусти её. Я в последний раз прошу, отпусти её сам. И оставь нас. Исчезни. И я даже ни разу не спрошу, куда. Это был наш общий план, помнишь? Справедливость. Наш общий приговор. И мы почти привели его в исполнение. Остался этот пи***ас. Грохнуть его и всё. Миссия выполнена! Гэйм овер, чувак!
Расхохотался, расплескивая кипяток на ладонь, глядя, как растекается он темными лужицами на скатерти.
— Справедливость? О какой справедливости ты говоришь, Адам? Даже после того, как я заставлю Белозерова жрать собственные яйца без соуса, до справедливости будет еще слишком далеко. И ты знаешь это. Ты помнишь, как Черчилль сказал? Если вы убили убийцу, количество убийц в мире остается прежним. Приговор не может быть исполнен наполовину. Только ты струсил. В последний момент ты просто струсил.
Качает головой, усмехаясь одними губами, а в глазах пустота. Я не вижу их. Я знаю. Столько лет вместе, и мне не нужно смотреть на его лицо, чтобы понимать, что он чувствует. Он ведь не впервые за эти дни пытался разговор этот завязать. А я уходил от него. Оставлял его одного или вдевал наушники и громко пел, только бы его слов не слышать. А сейчас решил, что хватит. Я знал, что он скажет. И знал, что я ему отвечу. Я всегда лучше него разбирался в людях. Иначе он бы не питал надежды, говоря мне следующие слова.
— Я передумал. Я, мать твою, передумал! Я меняю концепцию, Джок! Мне плевать на нашу договоренность. Я срать хотел на твои моральные принципы. Блядь, о каких принципах маньяка-убийцы можно говорить? Они вообще имеют право на существование? Его принципы и законы? Я жить хочу, Кость. Катись со своим планом куда подальше!
— С каких пор это только мой план? С каких пор ты решил нарушить его, Гордеев? Какая на хрен жизнь? Кому? Монстру, который убил столько людей, что пальцев на руках не хватит? Монстры не имеют право на жизнь, на любовь и счастье. Их создают для сохранения баланса добра и зла в мире и уничтожают, как только этот баланс начинает рушиться.
— Так вот уничтожь монстра, Костя. Из нас двоих чудище — ты. А я жить хочу. Мне есть, за что бороться. И ты отлично знаешь, с каких пор. И ради кого. И, если ты действительно любишь ее, то позволишь сделать мне это. Вытащить ее из той пропасти, в которую ты ее скинул. Не хочешь выкарабкиваться сам — лежи там. Я слова не скажу. Но Мирославу на дне не оставлю.
Закрыть глаза и глубоко выдохнуть, чтобы не вскрыть подонку вены осколками чашки, разлетевшимися в разные стороны, когда я ударил ею по столу. Напоминать себе, что он мне нужен. Что пока я не могу отказаться от него так же легко, как это делает сейчас он.
— А что ты сделаешь, рыцарь? Кем ты себя позиционируешь? Принцем на белом коне, который спасет принцессу?
— А это уже тебя не касается. Просто перестань ее мучить. Она видит твоё "онлайн" и с ума сходит от него, от невозможности написать тебе. Ты держишь ее этим гребаным "онлайн", ты понимаешь?
Рассмеялся, чувствуя, как снова заскользили в груди острые холодные когти ревности, как вонзаются они в сердце, оставляя глубокие кровоточащие борозды.
— Я не держу ее, Адам, — это, Блядь, она меня удерживает, вцепилась в душу обеими руками и не отпускает, что бы я ни делал, как бы мысленно ни молил, — Не обвиняй в своих неудачах меня. Что такое? Не можешь заинтересовать девочку? Неужели мастурбация по интернету оказалась ей всё же интереснее и вкуснее живого мужчины? Кто бы мог подумать, да, Гордеев?
Отвернуться, глубоко вдыхая и начиная собирать стекло со стола.
— И даже не думай, что я позволю тебе быть с ней. Она моя, Адам. Вся моя. Принадлежит мне. Что бы ты ни делал. А если…если у тебя начнет получаться, Гордеев, то я тебя просто убью. Слышишь?
— Это такая месть? Но кому? Заставить ее страдать? Превратить ее в привидение при жизни и наслаждаться осознанием того, насколько сильно тебя любят? Тешишь своё эго, Джок? Оно того стоит?
Нет. Это слабость. Это трусость. Самая элементарная. Потому что загибаться начну, увидев вас рядом. Только сначала прикончу обоих, а потом и себя убью. Отпустить ее? О, я ее отпущу. Потом. После всего. Отпущу ее окончательно. Но тебе не отдам. Ни одному мужчине не отдам, пока мы оба с тобой живы.
— Это любовь, Адам. Не верь, если скажут, что она светлая. В ней нет и проблеска света. Она тёмная, воняет смертью и ранит клыками острыми и ядовитыми. Она душу травит так, что сдохнуть хочется. И чем скорее, тем лучше.
Он ушёл, а я по квартире зверем метался, ломая кулаки о стены, громя видавшую виды мебель и разбивая вдребезги посуду. Прав он был. На все сто процентов прав. Только людям не дано прыгнуть выше своей головы. И я не о деньгах и карьере сейчас. Нельзя заставить человека сопереживать, если он абсолютно безразличен к чужому горю. Как и нельзя верить в искреннюю радость людей завистливых и тщеславных. Я мог заставить Мирославу поверить в то, что отказался от нее, но не смог сделать этого на самом деле. Слишком собственник, чтобы согласиться делить ее с кем бы то ни было. Я не знаю своей реакции, если бы мне Адам швырнул сейчас ее фото с кем-то другим. Чёрт, да я соц. сети ее облазил в поисках новых фото после нашего расставания. Не нашел ничего. Что успокаивало и в то же время убивало.
Иногда мне казалось, что было бы легче, если бы уже через несколько дней она выставила свежие селфи с друзьями, возможно, мужчинами. Подумаешь, интрижка виртуальная закончилась сексом в реале. Жизнь ведь продолжается. Я бы медленно вырезал каждого из них из ее памяти и головы тупым ножом, но не корчился бы в муках от той агонии, что съедала сейчас изнутри, зная, в каком состоянии она. Зная, что любит.
"Целую в губы тень твою, И о тебе моя печаль. В бездонный омут падаю, И ни о чем не жаль". © "The SLOE" — "Моя печаль"Старался забыться, просто трахнуться с кем-то, чтобы унять это постоянное желание, дикую похоть, которая охватывала тело каждый раз, когда смотрел на нее.
После того, как вспорол брюхо Забродову, набил его фальшивыми баксами и аккуратно зашил. Самое приятное — подонок был под львиной дозой бетаблокаторов, которые обездвижили его, но, что важно, не облегчили страдания. Он ощущал каждое движение лезвия, каждый укол иглы и сдох от болевого шока, когда я уже делал последние стежки. Сосед всегда был завистливым и гнилым слабаком, не продержался и часа, убил весь интерес на корню.
Самое паршивое — раньше я не просто убивал мразей, разрушивших мою жизнь, я получал удовольствие от каждого действа. Как однажды сказал Адам, "это не убийства — это театральная постановка, состоящая из нескольких актов". И я был ее режиссером и самым взыскательным зрителем. Упивался послевкусием, разглядывая фотографии, сделанные собственноручно, или просматривая видео — кадры из криминальных сводок.
Но в этот раз всё было по-другому. Всё было неправильно с самого начала. Не было привычного удовольствия и нирваны, в которую окунался с того момента, как начинала звучать музыка. Была лишь злость, смешанная с желанием отомстить, и ни капли наслаждения.
Принцесса не просто проникла под кожу ароматами ядовитого безумия, ослепив короткой ослепительной вспышкой счастья. Мысли о ней теперь вытесняли всё остальные, оставив их нечетким фоном позади.
"Пустить по венам боль Кол в грудь и пуля с серебром, Моя печаль". © "The SLOE" — "Моя печаль"Впервые я возвращался после "премьеры" неудовлетворенным и разочарованным.
И поэтому, переодевшись дома, ночью вышел прогуляться. Бродил почти до самого рассвета по улицам города, полной грудью вдыхая загаженный выхлопами воздух. У меня внутри, правда, яда всё же было больше. Им все легкие пропитались. А потом увидел "бабочек", стоявших неподалеку от дороги, и решил выкинуть хотя бы ненадолго из головы мысли о Мире. Выбрал самую хрупкую и не такую потасканную, как остальные, брюнетку и поманил к себе пальцем.
Наивный идиот! Думал, что смогу переключиться, расслабиться, и хотя бы полчаса, час не агонизировать в жалких попытках не потянуться к телефону и влезть в скрины переписки или смотреть ее фотографии.
Вывез проститутку в лес и долго трахал, крутил ее по-всякому, будто игрушечную, затыкая рот, когда орала слишком громко. Возненавидел шалаву только за то, что стонет не тем голосом, прикасается не так, и кричит. Кричит неискренне. Слишком громко или, наоборот, слишком тихо. И на ощупь не такая. Всхлипывает, прогибаясь в спине и царапая руками ствол дерева, а во мне ярость глухая приступами накатывает и отступает. Закрыл глаза, попытавшись представить, как бы двигалась другая…Моя. И не смог. Потому что в диссонанс жёсткий вошел. Потому что в моей памяти она была лучше. Потому что сейчас я четверти того наслаждения, что тогда разорвало сознание напополам, не получал.
Разозлиться снова и приставить нож к горлу девки, улыбнувшись, когда заорала, глядя расширенными глазами, забилась раненой птицей у меня в руках. И адреналин в кровь бешеным скачком, и я продлеваю его действие, начиная полосовать потное тело. От затылка вниз, по позвоночнику, вспарывая кожу и жадно глядя, как проступают капли крови. Под ее оголтелые крики и мольбы. Вот только я уже ни слова не разбираю. Всё слилось в один сплошной вой, а перед глазами темнота взрывается яркими кроваво-красными точками.
Я оставил ее полуживую валяться возле этого самого дерева. Просто в какой-то момент сознание включилось. Никак кончить не мог, шлюха подо мной уже не орала, а плакала почти беззвучно, продолжая шевелить искусанными до крови губами. Не знаю как, но очнулся перед тем, как вонзить нож в грудь. Унял дрожь в руке, державшей рукоятку, и рухнул рядом с ней на холодную землю. Ни оргазма, мать вашу, ни успокоения. Чувство разочарования всё больше усиливалось. А еще страха. Никогда раньше не впадал в полное беспамятство. Но ведь и психами становятся не сразу, так ведь?
В тот день вернулся домой и долго старался отмыть с себя вонь проститутки. Пропах ею весь. От этого запаха тянуло выблевать собственные кишки прямо в прихожей Адама. А, может, и не от него вовсе. А от осознания, что начинаю терять контроль над самим собой. А это значит, что времени осталось мало. Слишком злая усмешка судьбы. Куда уж больше-то, будь она проклята?!
Однако, эта тварь, видимо, услышала мои проклятия и решила протащить по полной через Ад, показать наглядно всё, на что способна. Только чуть позже.
Это случилось после ссоры с Адамом. Через некоторое время. Я долго стоял после душа перед зеркалом ванной. Пытался понять, что конкретно во мне изменилось. Тщетно. Только при взгляде в зеркало гнетущее ощущение безысходности и злости. Бешенства. Дикого желания убивать. Причем долго и с особым садизмом.
Я проснулся с ощущением тревоги. Так бывает, даже когда вы впервые за долгое время не видите свой самый "любимый" кошмар с трупом вашей сестры в главной роли. Наверное, моему сознанию просто понадобился отдых от самого себя, и оно решило позволить мне набраться сил для следующего круга пыток. Ведь так намного интереснее — мучить сильного соперника можно долго, продлевая его страдания и собственное удовольствие.
Тревога подтвердилась смской от скотины Адама: "У нее невероятно вкусная кожа на затылке…Решил просто напомнить, Джок. С добрым утром, дружище!".
Взревел, швырнув телефон об стену, испытывая потребность свернуть ублюдку шею, вырвать язык и губы, которыми касался ее. Подонок! Я бы вырезал их ножом и нарисовал им же улыбку. А после отрезал по одному пальцы, которыми набирал это долбаное сообщение. И глаза…Выколоть глаза, которыми он смел смотреть на нее с похотью. Звал его, матерясь и выбивая двери в квартире ногой. Но его не было.
Ледяной душ не помог, я по-прежнему хотел только одного — убить его как можно больнее, чтобы прощения просил окровавленным ртом и со слезами в лживых глазах.
Раздался звонок в дверь, и я невольно вздрогнул. У меня никогда не было гостей. И не должно было быть их и у Адама.
Завязать полотенце вокруг бёдер и подойти к двери. Открыть ее и шумно выдохнуть, чувствуя, как уходит из-под ног земля и шумит в висках. Вот она, очередная ухмылка небес. Стоит напротив меня. Стиснув пальцы и вздернув кверху подбородок с вечным вызовом в глазах. Моя Принцесса. Мирослава.
Подошла вплотную и поставила ногу в проём.
— Здравствуй, Адам! Ты один? Можно войти?
ГЛАВА 15. Бес. Аля
Я долго не решалась подняться к Адаму. Стояла внизу, потирая замерзшие пальцы и переминаясь с ноги на ногу. Посмотрела на его окна и снова на свою машину — хотелось уехать. Унижения и так предостаточно. Я себя смешала с грязью еще в первый раз, когда попросила о помощи…а сейчас это высшая степень мазохизма — просить Гордеева добыть еще информации. Он прислал мне достаточно, чтобы любая другая, нормальная женщина перестала искать. Чтобы смирилась с тем, что ею бессовестно поиграли и вышвырнули. Да, больно. Но жизнь не кончается. У нормальной. А я ненормальная. У меня она закончилась. Я все равно люблю Джокера. Не верю, что бросил. Не хочу верить. Я бы почувствовала. Я его настроение угадывала по пробелам и паузам. Я знала, когда он улыбается, а когда злится. Я чувствовала малейшее изменение в интонации текста. Пусть кто-то скажет, что это бред…но мы были связаны на каком-то ментальном уровне, невидимой нитью, цепью, леской. Нас резало на части без общения. И я ощущала его раны вместе со своими. Не мог он так со мной. Тот, кто через час моего молчания писал мне, что у него ломка и искал меня по всем соц. сетям и мессенджерам, чтобы просто спросить, скучала ли я по нему. ДЖОКЕР НЕ МОГ МЕНЯ БРОСИТЬ! Тот, кто включал мне музыку перед сном или сидел со мной до утра онлайн, когда мне было страшно уснуть. Тот, кто научил меня этому особенному жесту, означающему "я с тобой". Там, в номере отеля он показал мне его вживую, прижимая мои руки сначала к моей груди, а потом к своей, так чтоб я слышала сердцебиение. "Я с тобой"… писал он мне, если мне было страшно или я скучала по нему и ждала его возвращения.
Так не притворяются. Есть что-то еще. Есть какая-то проклятая причина, по которой он ушел, и я найду ее… и его найду. Потому что ненормальная. Потому что моя жизнь без него больше не продолжается. На месте стоит. Как часы без батарейки. Она показывает без пяти шесть утра…то самое время, когда он ушел из отеля, чтобы больше никогда со мной не встречаться.
Но я хотела знать…хотела знать, что Джокер не предавал меня. Это было важно. Настолько важно, что я приехала сюда без приглашения и собиралась унизительно просить Адама помочь мне еще раз…Просить не переставать искать. Просить несмотря на то, что понимала — я ему нравлюсь. Поднялась наверх и уже снизу услышала, как орет музыка в подъезде. Чем выше этаж, тем отчетливей грохот сумасшедшего звука… а потом в удивлении поняла, что эти бешеные басы доносятся из-за двери Адама. Того, кто никогда не слушает музыку.
* * *
Если бы в этот момент надо мной разверзся потолок и появился какой-нибудь старикан в белых одеждах и с длинной бородой, я бы удивился меньше, чем сейчас. Когда передо мной стояла она. Автоматически отошел назад, пропуская ее внутрь и думая о том, что не просто убью Гордеева…я этого урода в такой Ад погружу, что он захлебнется в собственном дерьме.
"В чьих-то крошечных руках — острая игла И серебряная нить наши шьют сердца, Взлетают в небо и к ногам падают цветы. Мы разрываем пополам этот мир — Я и Ты". © "The SLOE" — "На двоих"— Привет! Проходи, — жестом поманил ее за собой и направился в зал к ноутбуку, сделал музыку, оравшую так, что стекла дребезжали, тише и прошел в спальню к шкафу. Успокоиться. Мне нужно было успокоиться и думать о том, что делать. А не о том, как буду резать на лоскуты этого гребаного козла за то, что приводил ее к нам. Ведь приводил — слишком уверенно она прошла в комнату. И плевать я хотел на то, что больно будет самому — лишь бы знать, что истекает кровью наравне со мной. Накинул на себя свободную рубашку и натянул штаны, понимая, что намеренно оттягиваю время встречи. Наша, Блядь, первая с ней встреча лицом к лицу.
Выдохнуть медленно и глубоко, будто перед прыжком с парашютом, и пойти к ней. Остановиться в дверях, жадно впитывая в себя ее образ. Такая красивая вблизи, несмотря на усталый и обеспокоенный вид. Слишком красивая. Темные волосы затянуты в тугой хвост, побледневшее, осунувшееся лицо горит болезненным румянцем. Подняла на меня взгляд, и я мысленно застонал, рассыпаясь перед ней на осколки собственной гордости. Каким идиотом нужно быть, чтобы столько времени запрещать себе видеть её? Тонуть в этом зеленом омуте, на дно которого отбрасывала густые темные тени грусть?
— Будешь кофе? Я чайник ставлю.
* * *
Мне почему-то показалось, что он какой-то не такой. Какой-то взбудораженный моим приходом. Словно никогда в жизни не ожидал меня снова здесь увидеть. Где-то неприятно кольнуло, что я далеко не желанный гость в его доме. Впрочем, я такой же нежеланный и в своем собственном. Можно было привыкнуть. Прошла в прихожую, осматриваясь по сторонам. Ничего не изменилось с моего ухода. Странно, Адам сказал, что живет с соседом, но я почему-то не вижу чужих вещей, взгляд зацепился за обувь у входа, за куртку на крючке. Снова посмотрела на Адама, который прошёл в соседнюю комнату. У него красивое тело. В меру накачанное, подтянутое, скорее худощавое, чем плотное. На коже поблескивают капли воды. Я подошла к окну, раздвигая шторы и выглядывая во двор. Унылое место. Все какое-то серое, незаметное, потерянное. Но мне уже второй раз казалось, что оно какое-то честное. Намного честнее, чем в дорогих кварталах или фешенебельных спальных районах за городом, где все отдает дорогой мишурой, а внутри… внутри постановочные декорации красивых фильмов о правильных людях. Перевела взгляд на рисунки и вздрогнула…Сверху лежал новый эскиз. На нем не было той жуткой девочки, на нем были изображены два человека. Как черное и белое, и они словно сливались друг с другом, только черное перетекало в белое, отбирая пространство себе, оплетая тонкой сеткой паутины. И там, где линии паутины впивались в "белого" человека, видны алые подтеки крови.
— Будешь кофе? Я чайник ставлю.
— Да, спасибо. Буду.
Прошла на маленькую кухню, наблюдая, как он включает конфорку. Волосы все еще мокрые, и рубашка пропиталась водой. Он даже не вытерся насухо. Движения очень резкие, нервные.
— У тебя все в порядке? Прости, что я без предупреждения…Мне нужно было с кем-то поговорить и…, - я подошла еще ближе, останавливаясь у него за спиной, — мне больше не с кем, кроме тебя.
* * *
Вздрогнул, когда подошла так близко, что ее дыхание коснулось затылка и обожгло кожу словно кипятком. Я никогда не реагировал ни на одну женщину настолько остро. Мне казалось это жалкой выдумкой сценаристов, писателей. Депрессивные личности, обращающие внимание на каждую недостойную пристального внимания мелочь. Не должны мужики потом покрываться из-за такой ерунды. Я перетрахал сотню девочек, и мне всегда были чужды эти романтические бредни про "волшебные" прикосновения, вызывающие дрожь по всему телу. Глупости…До нее всё было просто и понятно: есть член, стоящий колом, которому просто жизненно необходимо разрядиться, и есть упругая задница, на которую он, собственно говоря, и реагировал. К черту взгляды и объятия — это только способ заставить раздвинуть ноги.
А потом появилась она…кто знает, если бы встретил ее в реальной жизни…если бы не представлял десятки раз настолько детально каждое касание, каждую ласку и реакцию на нее…Но уже поздно. Уже слишком прочно подсел на этот наркотик в ее лице и соскочить с него теперь хрен получится.
Развернулся к Мирославе и сглотнул, увидев растерянность и тревогу на ее лице. Беспокоится за меня, а у самой глаза, опухшие от слёз. Чёрт, Принцесса, почему? Почему душу выворачиваешь мне своим горем? Заставляешь чувствовать себя виноватым, хотя знаю, что поступил верно. Спрашивает, всё ли у меня в порядке, а мне заорать хочется, что нет. И больше никогда не будет. С тех пор, как узнал, какая она…чистая, настоящая, искренняя. С тех пор, как свихнулся на одном ее имени настолько, что потерял самого себя. Снова. Но в этот раз, видимо, окончательно.
Провел костяшками пальцев по правой щеке и стиснул челюсти, когда будто разрядом тока ударило. Какая же нежная у нее кожа. Яркой вспышкой воспоминание в мозгу, как сминаю ее ладонями, оставляя синяки на всём теле. Как пробую языком, сходя с ума от вкуса ее тела.
Отдёрнул руку, стиснув челюсти и проклиная себя за слабость. Напоминая себе, что я Адам. Сейчас для нее я этот подонок Гордеев.
— О чем ты хотела поговорить, Мира? — Пройти мимо нее к холодильнику, начиная выкладывать на стол сладости, доставая лимон.
Режу его, а сам стараюсь не смотреть на пальцы тонкие, побелевшие от того, как она их стиснула, хочется самому сжать их в своей ладони и ласкать своими, успокаивая, забирая ее дрожь себе.
* * *
Я смотрела на его лицо и не могла понять, в чем перемены. Даже не перемены. Нет. Он все такой же…только взгляд у него иной. И я не могу понять, что именно в нем мне кажется другим. Возможно, я никогда не видела Адама таким напряженным. Он провел костяшками пальцев по моему лицу…а мне, как и несколько дней назад, не захотелось сбросить его руку. Это было странно…потому что я не любила, чтобы ко мне прикасались чужие.
Смотрела, как он достает из холодильника продукты, на то, как напрягаются мышцы на его руках и спине под темно-фиолетовой рубашкой. Когда он начал резать лимон, я перевела взгляд на его пальцы. Такие четкие удары. Очень быстрые. Скорее не режет, а рубит. Как мясо. Куски равномерно складываются в пирамиду на доске.
Я подошла ближе и положила руку ему на локоть, чуть сжимая:
— У тебя что-то случилось, да? Или я очень не вовремя. Может, ты кого-то ждешь?
Он вздрогнул от моего прикосновения так сильно, что нож соскочил и порезал указательный палец…а он…он даже не заметил. Он просто смотрел на мою руку, лежащую чуть выше его локтя, а потом перевел взгляд на мои глаза, и мне опять стало не по себе. Та тьма, которую я заметила в прошлый раз… На дне его зрачков поблескивает пламя. Они дикие, эти глаза. Очень дикие и глубокие. Да…сегодня он смотрел на меня иначе…смотрел так, что у меня вдоль позвоночника поползли мурашки, а в горле слегка пересохло. Я схватила его за запястье, мешая резать лимон, который окрасился в красный цвет.
— Ты порезался. У тебя есть аптечка?
* * *
— Не надо. Присаживайся.
Покачал головой и машинально сунул палец в рот, глядя на нее. Наваждение какое-то. Одно прикосновение — и меня ломает, на части рвет, просто потому что это она. Ничего особенного…а мне схватить ее ладонь хочется и сильнее стиснуть, чтобы убрать не смогла. Вжимать в себя, чтобы под кожу проникла.
И в то же время злость возвращается. Я думал, она испарилась с приходом Мирославы, а она, сука, и не думала исчезать. И сейчас грызла изнутри кости своими кривыми зубами. Потому что моя Принцесса так просто другого мужика трогает. Так, будто между ними это в порядке вещей.
Чайник засвистел, и я с облегчением отвернулся от нее к плите. Всё так же не глядя, налил ей кофе и добавил сливок, как она любит. Себе две ложки сахара в чай и дольку лимона. Бесценные секунды на то, чтобы прийти в себя, исподтишка продолжая ее рассматривать.
Она обхватила чашку обеими ладонями, закрыла глаза, вдыхая аромат, а меня выкручивает от желания отобрать чашку и, присев на корточки перед ней, целовать эти ладони, каждый пальчик согревать собственным дыханием.
"На двоих этот мир Облюбить до седин. На двоих из серебра Сшитые сердца". © "The SLOE" — "На двоих"Говорить…Мать вашу, я хочу слышать ее голос, как рассказывает…что угодно. Хочу создать в голове своей жалкую иллюзию семьи. Мы с ней вдвоем на кухне за столом разговариваем. Так естественно. Так, черт подери, нормально!
Вот только само понятие "нормально" не обо мне. О ком угодно, только не о психе с солидным багажом трупов за плечами.
— Белозерова, ты пришла обо мне говорить или о себе? Что у тебя еще случилось?
* * *
Я поняла, что с ним не так. Вот сейчас. Вот в эту самую секунду. Адам впервые держал меня на расстоянии. Потому что именно он всегда раньше это расстояние сокращал. И этот чай…почему чай?
— С каких пор ты полюбил чай, Гордеев? Ты заболел что ли?
* * *
Едва не поперхнулся, чертыхнувшись про себя. Идиот! Как я забыть мог, что дружок мой чай терпеть не может. Кофеман хренов.
Демонстративно шумно отхлебнул из чашки и прищурился, глядя на ее лицо, на темные нахмуренные брови идеальной формы. Провести бы сейчас по ним указательным пальцем…
— Белозерова, когда я тебя вижу, я сам себе удивляюсь, во мне прямо способности новые открываются, представляешь?
Пододвинул к ней тарелку с пирожными и снова пригубил из стакана:
— Признавайся, решила убить меня неудовлетворенным любопытством? Что с тобой? Почему у тебя руки трясутся так, будто мы на Северном полюсе?
* * *
— Мне просто холодно, на улице дождь льет, как из ведра. Я замерзла.
Мне уже больше недели дня холодно. Так холодно, что все тело сводит ледяной судорогой даже в горячей ванной… с того момента, как прислал мне переписку Джокера с другими женщинами. Не жалея…со всеми подробностями. Я все еще не могла прийти в себя после этого удара. Нет, я больше не плакала. У меня высохли все слезы. Иногда боль превращает все внутри в пустыню. В выжженную, голую пустыню, покрытую пеплом и льдом. У меня от этого холода покалывает все тело. Оставалось выяснить только одно, чтобы захлебнуться в агонии окончательно. Я долго не решалась, но если не узнаю я сама себя изведу.
Весь этот месяц превратился в сплошной ад. В нескончаемый ад отчаяния и тоски. А последние недели стали невыносимыми. Я вся стала сгустком боли.
— Адам…та переписка…что ты прислал. На скринах есть время, но нет даты…Ты бы мог, — я так и не смогла отпить этот кофе. Снова стало больно в груди. Так больно, что я не могла вдохнуть, как и тогда, когда получила от него эти копии. — Ты бы мог посмотреть для меня, когда это все было? Я понимаю, что их много и…Я бы хотела знать когда.
Невольно перевела взгляд на его порезанный палец. Он все еще кровоточил.
* * *
Резко встал со стула, и тот грохнулся позади. А я вылил недопитый чай в раковину и включил воду, усердно намывая чашку. Адам, мерзавец конченый, такую ты войну затеял со мной? Кишка тонка была бросить открытый вызов, и ты решил ударить исподтишка. Ножом в спину. Браво, моё второе грёбаное "я". Тогда просто не удивляйся, когда тебе ответка прилетит. И тебе придётся сожрать её, давиться и продолжать жрать до конца, до последней крошки.
Подонок мечтает об обычной, нормальной жизни, о семье, в которой бы его ждали и любили. Думает, я не знаю, что губы раскатал на мою Принцессу, выстроил в своей голове идеальную схему, в которой есть он, она и их дети. И, конечно, в нее никак не вписаться мне. Решил играть грязно, Гордеев? Забыл, что это ты плод моего воображения, а не наоборот? Забыл, что это не твои мечты, а мои! Мои, чтоб ты сдох. Вот только им не суждено сбыться. Мы с тобой повязаны крепче, чем сиамские близнецы. Их еще можно разъединить, а меня, тварь, от тебя не освободить.
Она молчала, затаив дыхание. Мне кажется, я даже слышал, как бьется ее сердце. Истерично, быстро. Моё тоже точно так же сейчас о внутренности билось с разбегу. До боли.
— Я отправил тебе достаточно, разве нет? Или у тебя совсем нет чувства собственного достоинства, раз ты еще держишься за призрачные соломинки? — Оглянувшись через плечо, и видя, как она напряглась в ожидании продолжения. Спина прямая, будто каменная, подбородок вздернут кверху, но губы…Губы едва заметно подрагивают, и это ломает всю картину ее нарочитой силы.
— Скажи, тебе понравилось читать его сообщения другим женщинам? Признайся, тебя это заводило? Ну, давай, Белозерова, расскажи. Может, у тебя пристрастия особые в сексе? И ты шалила сама с собой, читая, как этот больной ублюдок трахает в вирте очередную наивную дурочку?
* * *
От неожиданности я пролила на себя кофе. Мне показалось, я физически чувствую, как начинает гореть моя кожа. Как будто меня только что отхлестали. Вскочила со стула и с грохотом поставила чашку на стол.
— А ты подонок, Гордеев. Знаешь…это низко. Это просто низко. Я жалею, что о чем-то тебя попросила. Если ты считаешь, что имеешь после этого право так говорить со мной, то ты просто тупой болван.
Пошла к двери, срывая с крючка куртку и пытаясь открыть замок, но его как заклинило.
— Открой ее. Открой эту дурацкую дверь.
* * *
Бросился за Мирославой и схватил за локоть, притянув ее к себе. Едва не сдох тут же, на месте, когда врезалась от неожиданности в мою грудь спиной. На долю секунды позволить себе прижаться к ней и вдохнуть аромат волос. Всего на миг, чтобы тут же усилить хватку и прошипеть ей на ухо тихо и зло. Прошипеть, умирая от потребности прикусить розовую мочку, обвести ракушку уха языком, заставить ее задрожать от желания так же, как колотило сейчас меня.
— Низко вскрывать чужой аккаунт. Низко пытаться найти того, кто тебя знать не хочет. Ты ему на хрен не сдалась. Что ему нужно было сделать, чтобы ты поняла это окончательно? А, может, нужно сделать это мне, м, Мирослава? Заставить тебя забыть несуществующего идиота с выдуманным именем?
Ладонью по ее животу, другой рукой удерживая её за руки, преодолевая сопротивление. Напугать ее так, чтобы даже сунуться к этому подлецу не смела. Языком по шее, у самой линии роста волос, начиная терять контроль, ощущая, как начинает трясти, словно в лихорадке, от желания разложить ее тут же, в прихожей. Сделать свой последний глоток безумия и отпустить.
— Поверь, тебе понравится. Мои прикосновения живые, горячие. Это не сухие черные точки на голубом экране монитора.
* * *
Я замерла. Замерла еще в тот момент, когда он схватил меня грубо за руку и дернул к себе. На секунду потемнело перед глазами. Идиотка! Безмозглая идиотка! К кому я пришла? Я же вообще его не знаю. Не знаю, что у него на уме. Он может сделать со мной что угодно здесь, и меня никто не найдет… И в то же время я была почти в шоковом состоянии…Как будто это не он. Вообще не он. Но дыхание его, руки его…голос его. А интонации иные. Злые. Страшные. И словами бьет жестоко. Режет ими вживую. Зная, что именно причинит боль. Он прощупал это место и безошибочно проворачивает в нем лезвие.
Его ладони скользят по моему животу, а у меня внутри протест и какой-то странный всплеск адреналина. Электричество по коже. Тихими едва слышными потрескиваниями возбуждения, волнами ужасающего удовольствия от прикосновений его пальцев…отчего становится страшно. Никогда так не было ни с кем, кроме…Я, кажется, с ума схожу от всего этого. У меня отказывает разум.
Резкий рывок, разворачиваясь лицом к нему:
— Живые? Нет ничего живого с тобой. Ты мне отвратителен. С первого взгляда не нравишься. Лучше черные точки на мониторе, чем такой придурок, как ты. Что? Добровольно никто не дает?
Выдернула руку и со всей силы ударила его по лицу:
— Ты — офисный лох, Гордеев. Тебе никогда не дорасти до меня и уж точно не дорасти до моей постели. Руки убрал и открыл дверь!
* * *
Расхохотался, прижимая ладонь к щеке. Дааа, я запомню эти ощущения, чтобы передать их ему. Краткой вспышкой воспоминаний. Покажу ему кадр со звуком и буду наслаждаться, глядя, как разбивает он кулаки о стены. Моя маленькая Принцесса выбирает дракона, а не принца, как бы изящно он ни шаркал перед ней ножкой.
Не знаю, как сдержался, чтобы не впиться в губы поцелуем. Такая красивая, даже когда злится. Хаотично вздымающаяся грудь в вырезе кофты, лихорадочный блеск в глазах и упрямо поджатые губы, капельки пота на лбу, которые слизать до трясучки хочется. Признаться хочется, мать вашу! Тряхнуть за плечи и признаться, что это я — те самые черные точки, которые лучше. А потом схватить ее в охапку и не отпускать. К чертям Белозерова — убью урода втихаря и без шумихи. Сделаем новые паспорта и уедем с ней. Куда угодно. Или останемся здесь на хрен. В этой квартире. Не отпущу, не позволю уйти. Больше никогда. К чертям весь мир и долбаную справедливость. И Адама. К Дьволу его! Вот только никогда…никогда мне не отправить его туда одного.
Прижать ее сильнее к себе и уткнуться в волосы, в последний раз вдыхая свой наркотик. Провести губами по скуле вверх к уху и распахнуть дверь.
— Беги, Мира. Беги и больше не смей возвращаться.
"Только теплая слеза и судьбы каприз, Словно капли серебра соскользнут с ресниц. Не отрекаясь никогда от своей мечты, Мы разрываем пополам этот мир". © "The SLOE" — "На двоих"* * *
Я приехала домой, все еще ощущая эти грубые объятия и его голос у себя в голове. Голос, который не смолкал и резал по нервам. Едва переступила порог, по телу прошла волна дрожи — здесь кто-то побывал. Все вроде стояло на месте, но я видела изменения. Легкие штрихи чужого присутствия у себя в квартире. Где знаешь каждый уголок, каждую деталь, где видишь, как сдвинули на сантиметр горшок с цветком на подоконнике. Видишь чуть перекошенную картину на стене и не до конца закрытый ящик стола… а еще мерцающий экран включенного ноутбука, а на нем что-то мелькает, двигается, и я иду к нему, чувствуя, как начинаю задыхаться. А вместо ледяного холода, начинает жечь кончики пальцев и спину. Потому что я вижу языки пламени. Звук включен на полную громкость, и это потрескивание начинает сводить с ума. Я покрываюсь холодным потом, хватая ртом воздух…а потом я слышу детский крик и кричу сама, оседая на пол.
ГЛАВА 16. Аля
1980-е СССР
С этих самых дней и начался обратный отсчет. Сейчас, вспоминая о наших с Сашей последних неделях вместе, мне кажется, я даже слышу, как тикает часовой механизм до взрыва, после которого я оказалась в чудовищно глубокой яме из осколков собственных иллюзий, наивности и несбывшейся любви. Изрезанная этими осколками, стоящая на коленях и беззвучно орущая в пустоту до бесконечности его проклятое имя, которое сама ему и дала. У нас было около пяти дней тишины — в город приехала делегация врачей из Европы, и мать, естественно, принимала в ней участие. Важные открытия, сделанные в нашей стране, демонстрировали иностранцам. Разумеется, под плотной завесой тайны, не раскрывая секретов, а показывая лишь результаты. Потому что изнанка была настолько уродлива, что даже Гестапо содрогнулось бы от методов моей матери получать нужный результат из живого "материала". Но тогда я не знала, каким чудовищем она является на самом деле, и что меня будет тошнить каждый раз при упоминании ее имени. Мне казалось, она великий человек и светило науки. Я ею гордилась и боялась ее.
После четырех дней в городе все врачи должны были приехать к нам в клинику вместе с журналистами и телевидением. В спешном порядке куда-то перевезли всех подопытных животных, а также женщин из лаборатории. Я смотрела из окна, как их запихивают в грузовик, и впивалась пальцами в ладони все сильнее и сильнее — некоторые из них были с довольно заметными выпирающими под робами животами. Я не хотела думать о том, чьи это дети. Не хотела и не могла. Я все же спрятала голову в песок, у меня просто не было выбора. Или не думать, или сдуреть от ревности и отчаяния. Но молодость слишком оптимистична, и я думала о том, что совсем скоро мы сбежим оттуда вдвоем. А эти дети…их ведь и нет теперь. Может, их не было или они были не от него. Да, малодушно, да, эгоистично, но покажите мне того, кто не хотел бы обманываться на моем месте? Сейчас я слышу по ночам крики младенцев, и один из них орет громче всех, так орет, что я сама ору во сне, затыкая уши ладонями, и вскакиваю с постели, чтобы лихорадочно искать в ящике комода пакетик, жадно втягивать белые кристаллы, запивать их вином и проваливаться в забвение. Пару раз меня увозили на скорой после передозировки и возвращали с того света. Об этом никто не знал, кроме моего импресарио и мужа. Потом какое-то время я не слышала детского плача, и мне не снились сны, какое-то время я переставала нюхать кокаин и даже пыталась жить нормальной жизнью…пока ОН жестоко не напоминал мне о себе. И мне казалось, я схожу с ума, потому что все эти послания видела только я…и только я знала, от кого они и что он от меня хочет.
"Ну давай, где же ты? Хватит играться! Убей меня уже! Ты ведь этого хочешь? Моей смерти?". И да, я знала — он ее хотел, но по его правилам. Когда-то проклиная меня, он обещал, что, даже если сдохнет, вернется с того света за мной, и я буду мечтать о смерти. И нет ничего ужаснее ее ожидания.
А тогда я верила, что нас с Сашей ждет счастливое будущее. Мне казалось, что стоит только выйти за забор клиники и вывести его оттуда, как все неприятности тут же закончатся, все забудется. Наивная. Я понятия не имела, что с ним никогда бы ничего счастливого не вышло. Он — психопат, садист и маньяк, для которого человеческая жизнь не будет иметь никакого значения.
Я постепенно готовилась к побегу, продумывала каждый наш шаг. Нет, я, конечно, не была идиоткой и понимала, что нам потребуются деньги на проживание и на дорогу. Они у меня были. Я ездила в город и потихоньку продавала свои серьги, кольца и цепочки. Все, что досталось мне от бабушки и было подарено матерью. Она любила меня украшать, как новогоднюю елку. Ей казалось, что чем больше на нас побрякушек, тем дороже и солиднее мы выглядим. Притом, ее постоянной пациенткой были жена и дочь одного из самых лучших ювелиров в стране. На вещи и обувь Ярославская не скупалась никогда — все самое лучшее и модное должно быть обязательно у неё. Конечно, одеть это особо было некуда, но, если к нам приезжали гости или мы куда-то ездили, мать была похожа на женщину с обложки журнала. Красивая. Я всегда считала ее очень красивой. Она мне напоминала красавиц тридцатых-сороковых годов: Марлен Дитрих или Грету Гарбо. Холодная красота, ледяная. Мать вытравливала волосы до белизны и придавала им серовато-жемчужный оттенок. В детстве я видела в ней снежную королеву из детского фильма. Все деньги я спрятала на вокзале в камере хранения. Мы с Сашей решили ехать на север, как можно дальше от центра, в глубинку. В какой-нибудь областной центр, где он сможет устроиться на завод, а я…
Мне кажется, что с тех пор, как я узнала его, я вообще о себе забыла.
После нашей ссоры мы сильно отдалились друг от друга. Нет, я не перестала приходить к нему каждый день. Это было невозможно, потому что я не представляла свою жизнь без него.
Мы по-прежнему общались, обсуждали прочитанные книги, я приносила ему новые романы вместе с чем-нибудь вкусным, но я не могла подпустить его к себе, а он чутко улавливал мое настроение и не прикасался. Я увернулась от его губ и вздрогнула, когда прижал меня к себе в первую встречу после ссоры, и он, чертовый гордец, не сделал ни одной попытки прикоснуться еще раз. Теперь он демонстративно держал со мной дистанцию. Нет, я не упрекала, и мы больше не говорили о тех женщинах, но и в нас обоих что-то сгорело. Во мне исчезло ощущение того, что наша любовь — это что-то чистое и прекрасное, а он… он, наверное, чувствовал себя униженным тем, что я обо всем узнала и отпрянула от него. Я помнила тот взгляд, которым он на меня посмотрел и медленно разжал пальцы на моих плечах. А потом сам вытер мне губы большим пальцем. Я не придала этому значения ровно до того момента, как сама взяла его за руку, рассказывая что-то, а он стряхнул мою ладонь и спрятал свои в карманы штанов.
— Не стоит. Запачкаешься еще.
— Возможно, — так же нагло, глядя в его черные глаза и возвращая удар под дых так же умело, как он его нанес, и тут же пожалеть об этом, когда поджал губы и отошел к противоположной стене.
Я садилась у одного стороны клетки, а он у другой, и мы читали друг другу вслух отрывки Гамлета по ролям. Я готовилась поступать в следующем году в театральный в том городе, куда мы собирались уехать. Все мои реплики и отрывки Саша запоминал с первого раза. Его память была феноменальной. Потом я узнаю, что это результат проводимых ранее опытов над его мозгом. Они слепили гения и страшную машину для убийств одновременно, безжалостную и равнодушную к любой боли.
Больше мы не приблизились к друг другу. Так и держали дистанцию. Иногда я ловила на себе его горящий взгляд, полный тоски, и опускала глаза. Наверное, он ждал, что я сделаю сама свой первый шаг к нему, а я не могла… я все еще видела его с ней, я все еще помнила, что он мне рассказал. Мне было не просто с этим смириться. А еще мне казалось, Саша сам не хочет нашей близости. Нас отшвырнуло друг от друга на несколько лет назад, и впервые возникали паузы в разговорах.
Потом он вдруг исчез. Сразу после возвращения матери вместе с гостями. Они пробыли здесь день, а с утра Саша пропал. Я искала его повсюду. Мною овладела жуткая паника. Это было похоже на приступ сумасшествия. Потому что мне стало наплевать, что кто-то может узнать о нас с ним, и я расспрашивала о нем работников лаборатории. Никто либо не знал, либо скрывал от меня его местонахождение. Я сходила с ума, проводила в его клетке по несколько часов в изнуряющем ожидании. Я даже начала молиться богу. Да. я, дочь яростной коммунистки и атеистки молилась, как меня учила в детстве бабушка. Наверное, я бы не выдержала если бы он не вернулся…точнее, если бы его не вернули. Я услышала шаги сквозь сон и спряталась под тряпками, как обычно, пока слышала шаги и какой-то странный звук, будто что-то тащат. Лязгнул замок клетки, и удар о пол. Потом клетку закрыли, и шаги удалились… а в следующие несколько минут я беззвучно кричала, всхлипывая и тяжело дыша, глядя на черное от кровоподтеков лицо Саши. Залитое кровью и опухшее до неузнаваемости. Когда я попыталась перетащить его на тюфяк, он от боли глухо застонал, и сквозь клокочущее дыхание я слышала, как он шепчет мне.
"Я не стал…как обещал…не стал…твой…только твой".
И я зарыдала, пряча лицо у него на груди…все поняла. Его жестоко избивали все эти дни, заставляя выполнять свои функции. Они его не просто избили — его ломали. В полном смысле этого слова. Мне было страшно даже тронуть эти раны…я всхлипывала, заливаясь слезами, обрабатывая их, бинтуя его торс, накладывая швы на виске и у брови. Смывая кровь со сломанного носа и осторожно пытаясь напоить его водой. Я грела его своим телом по ночам, а по утрам возвращалась к себе и валилась с ног от усталости, но все же ехала на учебу, чтобы после нее бежать к нему снова. Обычно после избиений его какое-то время не беспокоили. Охрана приносила миску с едой и воду. Твари бездушные, они даже не заходили чтоб проверить, как он себя чувствует. Я слышала, как они переговаривались между собой:
— Думаешь, выживет? Если сдохнет, у нас могут быть неприятности.
— У меня было указание заставить мразь делать свою работу. Он отказался, тварь упертая, и не оставил мне выбора. А сдохнет так сдохнет, я давно хочу, чтоб его пристрелили или вывезли отсюда в "топь".
— Его б вымыть.
— Я такого приказа не получал, а грымза сюда не заходила уже несколько дней и про него не спрашивала.
Что такое топь я узнаю спустя много лет. Так называлось место, где топили трупы подопытных на болотах. Но я и без этого поняла, чего жаждет новый охранник. Все они смертельно боялись Сашку. Я этот страх слышала в тембре голоса и видела в их взглядах. Боялись даже такого избитого. Я умудрилась снять с него кандалы и ошейник, чтобы самой попытаться отвести в душевую, но едва мне удалось его приподнять, как я вдруг услышала его голос над ухом.
— Я сам…
ГЛАВА 17. Бес. Аля
1980-е СССР
Я не сразу понял, почему вдруг очнулся. Почему вместо черной вязкой тины, забивавшейся в рот и ноздри, я вдруг ощутил запах полевых цветов. Почему смог сделать вздох, вспоровший мне изнутри грудную клетку и в то же время позволивший почувствовать себя живым. Она. Почему-то я думал, она уйдет, когда я открою глаза. Если я открою свои глаза. Просто в тот момент казалось нереальным даже поднять веки, настолько их жгло дикой боль после нескольких дней в отключке.
А я не просто её увидел, я вдруг тепло её кожи ощутил наряду со смутным пониманием, что в редкие минуты своего сознания я его точно так же ощущал. Всем своим телом. Не верилось, честно. Казалось, воспалённое сознание придумало само, создало иллюзию. Наряду со звуками её тихого шёпота, иногда врывавшегося сквозь бесперебойный гул колоколов. Да, так звучала для меня боль — колоколами, тяжёлым набатом, каждый удар которого в висках такой агонией отдавался, что я впервые просил о смерти. Кого просил? А хрен его знает. В Бога я не верил. Всегда только в себя и в Ассоль. А с недавних пор перестал и в неё. Меня никто не учил с самого рождения, что есть некто свыше, который направит и поможет, если будешь истово следовать его слову, или накажет, если посмеешь ослушаться. Некто, которому нужно поклоняться, уважать, любить и бояться. Я привык верить в то, что можно потрогать руками, верить в то, что слышал и видел сам, и любить лишь тех, кто любил меня. Потом эта девочка сломает последний принцип, заставив на собственной шкуре узнать, что любить можно безответно. Хотя, черта с два это безумие являлось любовью. Болезнью моей неизлечимой, зависимостью, психическим отклонением…Чем угодно, но только не этим бесцветным словом.
Но тогда я этого не знал. И поэтому, когда понял, что именно меня удерживает на самой поверхности болота, что не даёт уйти вниз, захлёбываясь отвратительной вязкой жижей, то всё тело прострелило острым желанием увидеть её своим глазами. Увидеть, что это не игра мозга. И когда, наконец, удалось разлепить веки, задохнулся, увидев её голову в сантиметрах от своей. Поддерживает меня руками осторожно и в то же время крепко, а для меня это как канаты, которые не позволяют потонуть.
Всё же не сон…я ведь почти поверил, что слышу её голос во сне. Но вот она. Вцепилась в мое тело тонкими пальцами, удерживая от падения. И сознание полоснуло чувство омерзения к себе самому. К своей слабости перед моей хрупкой девочкой. Лучше сдохнуть, чем позволить ухаживать за собой, как за немощным. Несмотря на то, что лучше себя чувствовал, чем в первые дни после тесного и плодотворного "общения" с дубинками и сапогами ублюдков-охранников.
— Я сам.
Выдавил из себя и поперхнулся словами. В горле дерет от сухости, и каждое усилие заставляет невольно кривиться от боли.
— Отпусти
* * *
Упрямый…гордый и до дикости упрямый. Кривится от боли. А я в глаза ему смотрю, поглаживая пальцами припухшую щеку. Почему у нас все так? Почему из всех, с кем я была знакома, с кем сталкивалась на учебе, на концертах, в театре, мне не понравился никто, никто не заставил мое сердце захлёбываться от отчаянной дикой любви. Никто не нравился. Словно весь мужской мир вокруг стал бесполым. Скучные, пресные по сравнению с ним, пустые и предсказуемые. А в нем неизведанные границы, в нем бездна черная, страшная с языками пламени на дне, и я до безумия хочу гореть в его бездне. У него взгляд другой, интонации, его эмоции цветные, сумасшедшие, прикосновения болезненно-дикие. Я читала о первой любви. Много читала. Она не должна была быть такой. В глаза его смотрю и чувствую, как дух захватывает от того, что там, в зрачках, беснуется. Никогда и никого больше в своей жизни не встречала с такой гордостью фанатичной и с этим чувством собственного достоинства. В нем его было в тысячи раз больше, чем в каждом из его мучителей.
— Не сможешь сам. Я в душ отвести хочу, пока нет никого. Лучше помоги мне. Утром охрана вернется. Я с тебя цепи сняла.
Нежно, безумно нежно по губам разбитым подушечками пальцев провела.
— Мне было так страшно в эти дни, Саша. Так страшно…Я боялась, что ты не вернешься. Я больше не хочу так бояться.
* * *
Эта её ласка, осторожная, нежная…так больно. И больно не снаружи, где не осталось ни сантиметра кожи, которая бы не пульсировала бы в агонии, а изнутри. Там, где прикосновение пальцев словно подтверждение её слов. Пытаюсь разглядеть в глазах нотки жалости, понимая, что, если найду их, выгоню отсюда. Лучше пусть ненавидит, чем жалеет.
Головой покачал, прикрывая веки и вдыхая её запах. Чувствуя, как оседает он в лёгких, растворяясь, заменяя кислород. Да, иногда я думал о том, что возле неё мне ни к чему кислород, достаточно её аромата, чтобы продолжать сходить с ума с её именем, ритмично бьющимся в сердце с каждым вздохом.
— Иди домой, Ассоль. Там тебе нечего бояться.
* * *
Гонит. Иногда я ненавидела его за эту гордость, восхищалась до захватывания духа и мурашек, и ненавидела одновременно. Потому что она делала меня крошечной рядом с ним и ничтожной.
— Мой дом рядом с тобой…мне не страшно, когда я чувствую твои руки. Нет ничего ужасней минуты, проведенной вдали от тебя.
Коснулась его губ губами едва-едва.
— Идем…тебе станет легче под теплой водой. Их никого нет. Они напились водки и храпят в подсобке.
Потянула на себя за шею.
— Пожалуйста….идем. Ради меня.
* * *
Глаза закрыл, расщепляясь на атомы в звуке её голоса, чувствуя, что не могу сопротивляться ей. Словно животное, выдрессированное только на её голос, только на ее команды. Спустя время я буду силой вытравливать из себя эту привычку, ненавидя и Ассоль, и себя за неё.
А тогда я позволил себя увести из вольера в сторону небольшого закутка, отгороженного грязным куском ткани, подвешенным на бельевой веревке. Мы шли туда, наверное, целую вечность. Ассоль боялась причинить мне боль быстрым шагом, а я не торопился вставать перед ней под шланг, прикреплённый сверху к стене, пытаясь отсрочить собственное унижение. И в то же время понимая, насколько она права — мне нужно смыть с себя засохшую кровь и эту вонь немытого тела. А ещё…это было так глупо, но я боялся разорвать контакт с ней. Контакт, которого был лишён всё последнее время. Притом лишил себя его сам и сам же готов был волком взвыть без прикосновений к ней.
Когда дошли, Ассоль отодвинула в сторону занавеску, помогая мне подняться в квадрат "душевой". Смотрел на неё исподлобья, глядя, как поднимается на цыпочки, устраивая шланг правильно, отбегает в сторону, чтобы прокрутить вентиль шланга. Торопится, словно боится, что я передумаю.
Дьявол…а я в это время чувствовал себя таким жалким…и в то же время исступлённо впитывал в себя эту заботу, стараясь не вспоминать, как отдергивала руки, показывая, насколько ей противны мои прикосновения. Отгоняя от себя мысли, что это простая человеческая жалость.
* * *
Я стаскивала с него прилипшую к телу грязную футболку, пропитавшуюся кровью. Она отмокала под теплыми струями, а я смотрела ему в глаза, ощущая, как вода брызгает мне на платье и в лицо, и медленно тянула футболку наверх, и, если он вздрагивал, останавливалась, не переставая смотреть в глаза.
— Я эти дни искала тебя везде, — потянула материю еще выше и стащила через голову, чувствуя, как вода уже течет по моему платью, лицу и волосам, так же, как и по его лицу. Розовыми каплями по сильной шее, собираясь в ямке ключиц вниз по груди. И я платком мокрым вокруг ссадин провожу, вздрагивая, а сама не перестаю в глаза ему смотреть.
— Я бы умерла если бы ты не вернулся, — прошептала, проводя тканью по сильной груди, по плечу вниз к локтю, где остался длинный след от плети. Трогаю раны, а у самой саднит внутри будто мои они…не его.
— Больно… — губами по плечу вверх к ключице, собирая губами воду вскидывая руки на его затылок и ероша мокрые волосы — мне больно…
По шее, едва касаясь вверх к скуле.
— Я соскучилась по твоему запаху, Саааша. До безумия, слышишь?
И по телу дрожь волнами от того, насколько горячее его тело под струями воды. Тянусь к его лицу, а он прямой как струна, не наклоняется даже.
— По губам твоим соскучилась, — веду приоткрытым ртом по его щеке и осторожно губы целую. Нижнюю, верхнюю, проводя ладонями по спине, смывая кровь дальше…наслаждаясь каждым прикосновением, млея от наслаждения снова его касаться после дней нашего отчуждения.
Не отвечает, продолжает смотреть в глаза горящим взглядом, и я не могу прочесть, что в нем…впервые не могу.
Дернула пуговицу на ширинке.
— Я сниму…, - и еще одну.
* * *
Я понять не мог, что она делает. Почему трогает так, словно сама корчится от той боли, что меня раздирала изнутри. Осторожно…так осторожно снимает с меня одежду, а я даже руки поднять не могу. И не потому что больно, а потому что в оцепенение впал. Потому что мне стало казаться, что в этих прикосновениях что-то большее, чем просто забота. Но это бред. Это же бред? После нашей ссоры. После того, как видел своими глазами, насколько противен стал. Да и кому бы не стал? Сам бы к ней прикасаться не смог после других мужиков.
Логика? Она эту мою логику ладонью сжимала, деформируя, разбивая на осколки и кроша так, что та песком сквозь пальцы посыпалась. Ничего в голове не осталось. Чувства. Все пять чувств в теле взорвались одновременно. Запах её тела так близко к моему. Её горячее дыхание, ласкающее мои губы. Её мокрые волосы перед глазами, прилипшие к лицу…такая красивая мокрая, такая открытая для меня. Взгляд её то темнеет, то светлеет, вскидывает черные закрученные кверху ресницы, обжигая неким вызовом и бесконечной нежностью, вызывая желание прикоснуться к пухлым губам, с которых, черт бы ее побрал, слизывает маленьким язычком вкус моих губ. И во мне это движение лютым возбуждением отдается. Прострелило разрядом молний в позвоночнике, заставив выгнуть спину. Запах её вдыхаю и схожу с ума от этой близости. Такой неправильной после всего произошедшего. Абсолютно непонятной…но, Блядь, такой естественной с ней.
Шепчет лихорадочно…мне кажется, сама не понимает, что шепчет, а ведь каждое её слово во мне клеймом под кожей. Я ведь каждому поверил.
Сдерживаться от того, чтобы губу её прихватить зубами…сдерживаться, потому что померещилось: отвечу, и спадёт с нее это наваждение.
И в то же время отчаянно захотелось, чтобы продолжала. Потому что в голове всё еще воспоминанием её "возможно".
Когда дернула пуговицу на ширинке, резко воздух сквозь крепко стиснутые зубы в себя втянул и перехватил её запястье.
— Не стоит, — качая головой и глядя прямо в изумленные глаза, жадно следя за ее реакцией, — запачкаешься ещё.
* * *
Пальцы сильные и горячие. Меня током от них ударило. Так долго не прикасался, и кажется, кожа настолько изголодалась, что теперь дымилась под его пальцами, пропитываясь бешеной статикой. Осторожно руки свои из ладоней его высвободила.
— Я отвратительно чистая без тебя…мерзко чистая, Саша…Сашаааа, запачкай меня, пожалуйста. Я не могу больше без тебя…, - горячо прямо в губы, расстегивая еще одну пуговицу, жадно проводя по груди раскрытой ладонью, стараясь не задеть едва затянувшиеся раны.
— Запачкааай, у меня от чистоты этой крыша едет, — лихорадочно мокрыми губами по его мокрым щекам, ссадинам, сплетая пальцы с его пальцами. Сдернула штаны вниз и, дрожа всем телом, прижалась к нему, ощущая животом каменную эрекцию, задыхаясь от возбуждения и голода, дикого, щемяще нежного и до исступления жестокого.
* * *
Моя девочка. Моя грязная девочка. Запачканная нашей общей грязью. Неправильной, отвратительно мерзкой, грязной любовью. Она могла бы признаться мне в любви, могла бы начать шептать что сожалеет о своих словах…и я бы не поверил. Но это была моя Ассоль. и она знала, как заставить меня вскинуть голову кверху и, сцепив зубы, выругаться. Потому что я поверил. Потому что чувствовал каждое её слово на своей шкуре, и сейчас они все вместе внутри яростно пульсировали, требуя выполнить её просьбу. Запачкать собой везде, каждую клетку кожи.
— Запачкаю, — вдираясь зубами в нижнюю губу и застонав в ответ на её стон облегчения, — запачкаю так, что не отмоешься, — сдирая рукава платья в стороны, оставляя его висеть на ней клочками ткани, — никогда, мать твою, не отмоешься.
И снова к губам её, не обращая внимания на боль, вспыхнувшую от резкого движения. Ладонями сжал округлую грудь и снова застонал, когда прижалась к члену плоским животом.
— Проголодался, — опустив одну ладонь на ягодицу и сильно сжимая ее, — Сожрать тебя хочу, — в перерывах между поцелуями, бешеными, жадными поцелуями.
Стискивая в ладонях грудь, и чувствуя, как начинает колотить тело от этой близости. Ущипнул тугой острый сосок, спускаясь губами по шее, к выпирающим тонким ключицам.
Такая хрупкая, дрожит, взгляд потемнел, затуманившись, а меня начинает вести от желания сжать её в ладонях, чтобы окончательно поверить, что снова со мной. Снова моя.
Потянул её за собой, разворачивая к стене спиной, чтобы опереться об эту стену ладонями…потому что понимал, могу упасть в любой момент.
— Красиваяяяя, Блядь, какая же ты красивая, моя Ассоль, — снова накидываясь на её рот и опуская ладонь между стройных ног, по мокрой ткани трусиков, не снимая, не отодвигая, дразня через белье. Средним пальцем между складок плоти вверх-вниз, зарычав в ответ на её вздох. Поймал его губами, толкая своим языком её, сплетая их в безумном танце.
* * *
Забыла, когда целовать дико начал, забыла, насколько слаб, потому что страсть его оказалась настолько бешеной, что затмила все, выбила из меня остатки разума. Я не просто соскучилась по нему, меня колотило от адской невероятной жажды, меня от нее лихорадило так, что, казалось, мне кожу вместе с одеждой снять хочется. И поцелуи алчные, языком глубоко в рот толкается, пальцами мою плоть гладит сверху по платью…и меня ведет до сумасшествия.
А когда о стену руками облокотился, по плечу кровь из открывшейся раны потекла. Сама жадно его губы нашла, хватая за руки, отрывая от себя и шепча в губы:
— Я сама…сама тобой испачкаюсь…сама.
Опускаясь на колени. Лихорадочно гладя его узкие бедра и тяжело дыша, глядя на вздыбленный член у своего лица, обхватывая его двумя руками, скользя ладонями по вздувшимся венам и бархатистой, натянутой до предела горячей коже. Какой же он красивый везде. Даже здесь. Смотрит на меня сверху-вниз, выдыхая со свистом, когда я двигаю руками. Да, это иная красота, да не та, к которой мы привыкли, но от него пахло зверем, от него исходил мощный заряд секса, животного, дикого секса. И его тело, исполосованное шрамами, такое упругое и накачанное, казалось мне идеальным, сводило с ума и заставляло дрожать от похоти.
— Целовать тебя…везде хочу, Сашааа.
Жадно принимая в рот его плоть. Поднимая пьяный взгляд вверх, с триумфом любуясь на то, как голову запрокинул, облокачиваясь о стену двумя руками и непроизвольно толкаясь в глубину моего рта головкой, с трудом в нем помещающейся.
* * *
Охренительная картина — капли воды, стекающие по её лицу, пока она исступленно облизывает меня язычком, не отводя взгляда. Словно дразня и в то же время наблюдая за моей реакцией. Вверх по всей длине, чтобы вобрать в рот пульсирующую, готовую взорваться головку, и тут же выпустить её с громким звуком, а у меня перед глазами разноцветные круги от напряжения, смешанного с диким наслаждением. Обхватил пятерней за голову, поглаживая пальцами затылок, чтобы через несколько секунд уже сжимать его сильно, не позволяя отодвинуться. Сжимать, толкаясь в тёплый рот, не в силах сдержать глухое рычание. Смотреть, как ритмично врывается член между её губ, сатанея от возбуждения. Не давая отстраниться, грубо трахать её рот, видя, как задыхается и в то же время закатывает глаза. Мы всегда были оба чокнутыми, находя удовольствие в том, что любого нормального человека оттолкнуло бы. Нас же тянуло словно магнитом к безумию друг друга, к безумию, которым невозможно было насытиться.
Стискивая пальцами голову Ассоли, ожесточённо вбиваться членом, до крошева сцепив зубы, мне кажется, я слышу, как они стираются в песок от напряжения.
Резко выйти из нее, тяжело дыша открытым ртом, давая себе секунды на то, чтобы не кончить. Обхватив ладонью за шею, поднял её на ноги и к стене лицом развернул, впечатывая в неё грудью. Голодным взглядом на её спину тонкую, выгнутую, укрытую водопадом тёмных волос, на упругую оттопыренную задницу…и я прижимаюсь к ней членом, захватывая губами мочку уха и чувствуя, как выворачивает от желания ворваться в неё одним движением.
— Видишь на тебе мою грязь?
Медленными движениями члена между ягодиц, пока не входя.
Сплетая наши пальцы и поднимая вверх по стене наши руки. К её лицу.
— Ты вся покрыта ею.
Раздвинув её ноги коленом, чтобы, обхватив ладонью эрекцию, вонзиться в неё резким ударом и закричать, когда сильно стиснула меня изнутри. Тесно и горячо. С ней всегда тесно и горячо так, что кажется, может разорвать только от первого толчка. Когда от напряжения пот по спине, по вискам, тут же смываемый водой. Когда неосознанно до боли стискивать её тонкие пальцы, вбиваясь в неё хаотичными толчками. То глубокими и сильными, то короткими, медленными, чтобы снова рывком по самые яйца, заставляя закричать. Ладонью сжал её подбородок, поворачивая к себе лицо и вгрызаясь в искусанные губы.
* * *
Я представляла иначе… я хотела отдать ему всю свою болезненную нежность, забывая, что он зверь. Ему не нужна вязкая патока — он хочет больно и до остервенения. Словно это возвращало ему силу…словно он получал наслаждение от собственной агонии боли. И я расслаблялась, давая ему эту безграничную власть надо мной, наслаждаясь ею еще сильнее, чем он сам, глотая слезы и давясь его резкими безжалостными толчками мне в горло, когда от натиска слезы бегут по щекам. Так пошло и так грязно, и в то же время ничего более чистого и настоящего в моей жизни больше не будет никогда.
Когда вошел в меня сзади сильным толчком, от наслаждения закатились глаза и задрожало все тело. Первые волны наслаждения сладкой судорогой. Сжимая до хруста его пальцы и извиваясь от каждого бешеного толчка. Целует в губы, не прекращая двигаться во мне, заставляя широко открыть рот, впуская его язык яростными толчками…Чувствуя, как тяжело дышит и как дрожит его большое тело позади меня. Освободилась из его объятий, резко глядя во вспыхнувшие яростью звериные глаза. Недоумевает, осатаневший от страсти и похоти, и меня ведет от того, что я читаю в его глазах. Хочет разорвать на куски. Тяну резко вниз за собой на пол на нашу мокрую одежду…потому что вижу, как раскрываются раны на груди и плечах потому что даже с водой смешивается его пот от возбуждения и от слабости, его кровь. С яростным протестом стискивает меня за талию, а я перекидываю ногу через него, чтобы рывком сесть сверху на член и тут же изогнуться назад. На корточках, распахнув колени, бесстыже раскрытая для него, и он звереет, глядя на меня вниз, где его плоть поршнем входит в мое тело, и от его взгляда меня выгибает дугой назад, прежде чем успеваю понять, как сильно накрыло адским удовольствием, как пронизало тысячами игл острейшего оргазма, от которого с губ сорвался гортанный крик.
Осатанело скакать на нем, судорожно сжимая его член спазмами наслаждения с хаотичными стонами, похожими на протяжный вой. Жалобно выдыхая его имя ему в губы, не переставая извиваться на нем в диком темпе, пока тело пронизывает вспышками агонии… и, задыхаясь, прижать его мокрую голову к груди.
* * *
Разозлился на неё, и она знает, почему. За то, что посмела слабым посчитать. За то, что решила, что соглашусь отдать контроль и соглашусь потерять власть над ней даже в таком состоянии. И в то же время плевать в этот момент как — лишь бы глубоко в ней. Лишь бы стоны её продолжать слышать. Лишь бы продолжать смотреть, как закатываются зеленые глаза от наслаждения и вздрагивает тело от каждого моего прикосновения.
И через секунду забыть обо всем, когда раскрылась передо мной. Скачет, извиваясь на моих бёдрах, впиваясь ногтями в кожу до царапин, заставляя шипеть от смеси напряжения, боли и дичайшего наслаждения. Наслаждения, отдавшегося эхом в её теле, выгнувшего ее назад и заставившего закричать. А меня от этого крика схватывает ответной эйфорией, когда сжимает ритмично член, разделяя свой оргазм со мной.
Сжал ладонями колыхающуюся перед глазами грудь, чтобы через мгновение впиться в неё губами, посасывая, покусывая зубами, когда она всё еще продолжает двигаться на мне. До тех, пор, пока не накрывает в оргазме. Оглушительном, громком, почти болезненном оргазме. Впился в её бедра пальцами, удерживая на себе, содрогаясь и изливаясь в неё бесконечно долго. Пачкая её изнутри собой. Как обещал ей. И как до одури хотел сам.
Откинулся на пол, зашипев от резкой боли, прокатившейся по позвоночнику вдоль всей спины, и глядя мутным взглядом на неё, обессиленно упавшую на мою грудь и тут же резко вскинувшую голову вверх. Пытается отстраниться, хмуро разглядывая раны.
Удержал её на себе, запуская пальцы в мокрые волосы.
— Теперь моя девочка достаточно грязная?
ГЛАВА 18. Бес
Доктор была довольна. Она, не скрывая сдержанной улыбки, читала белую бумагу с какими-то цифрами, я предположил, что там могли быть мои анализы, а после вскинула на меня взгляд и, схватив теплыми пальцами за подбородок, начала поворачивать моё лицо то вправо, то влево. А я в этот момент старался абстрагироваться от омерзения, прокатившегося по телу с её прикосновением, и думал о том, что не представляю этого монстра с широкой открытой улыбкой. Разве может улыбаться робот? Нет, не растягивать губы в стороны, обнажая зубы, а по-настоящему? Так, чтобы чувствовались её истинные эмоции. Да и разве умеет она чувствовать на самом деле? Я несколько раз видел, как она бесцветным ледяным голосом выносила приговор молоденьким лаборанткам, пытавшимся трясущимися пальцами воткнуть иглу мне в вены. Я ведь не раз задавался вопросом, каким должен быть человек, работающий в нашем грёбаном центре. Точнее, какие человеческие качества должны отсутствовать у этих людей в белых халатах, с видом хозяев разгуливающих по узким коридорам больницы.
Наверное, такие качества вытравливались вот этим её тоном, высокомерным, презрительным, уничижительным. Когда собеседник чувствовал, как его окунают в самую настоящую помойную яму, и в то же время не мог ничего сделать с этим, не мог сопротивляться, а только послушно нырять в дерьмо, давая себе обещание вынырнуть уже без ненужной сентиментальности или сострадания.
Я видел, как она ломала их одним взглядом, полным такого превосходства и разочарования, что казалось странным, как они не падали к её ногам со слёзными мольбами дать ещё один шанс, возможность исправить оплошность. Вот только Ярославская не давала второго шанса никому. Никому, кроме меня. И я не знал, кого "благодарить" за подобную "щедрость" доктора — себя, её удивительную привязанность ко мне или всё же связанные со мной надежды монстра.
— Слушай меня внимательно, нелюдь. Ты приступишь ко всем своим обязанностям уже через несколько дней. Ко всем, — сделала упор на этом слове, сжимая сильнее подбородок, — иначе я разочаруюсь в тебе и буду вынуждена освободить твою клетку для более сговорчивого подопытного.
Резко убрала руку и так же резко встала, кивнув одному из охранников, чтобы развязал мои привязанные к подлокотникам руки и увёл из её кабинета.
Второй шанс был предоставлен мне через неделю после того избиения.
Он прозвучал голосом одного из охранников.
— Эй, нелюдь. Вставай. Пошли купаться.
Посмотрел на него, на то, как лениво поигрывает плёткой. Смешной. Новенький. Из тех, которые, получив в руки оружие, начинают мнить себя чем-то большим, чем просто кусок вонючего говна, которым и являются.
Склонил голову набок, заметив, как усмехнулся второй охранник. Этот у нас подольше работает. Костей зовут. Появился после смерти Генки и его дружков, наверняка, фотографии видел тех мёртвых ублюдков, поэтому предусмотрительно не приближается достаточно близко к клетке. Похоже, циничная, покрытая угрями рожа новенького и его подбешивает.
— Ты, что, оглох, тварь? Встал, говорю…пшёл в свою баньку, воняет уже от тебя.
Заржал и посмотрел на напарника, одобрения ищет своему поведению, но наткнулся лишь на серьезный взгляд, раздраженно повел плечами и ко мне снова обернулся.
— Я кому сказал? Или ты русский не шпрехаешь?
Подошел к клетке и дернул на себя замок. Быстрый взгляд на Костю, который пальцы на автомате сжал, и на меня пристально смотрит. Дает понять, что не позволит вреда нанести. А мне и не надо. Я, может, заскучал без своей девочки, уехавшей с матерью три дня назад, и поиграться хочу. А с кем еще играть, как не с такими вот выродками, которые мнят себя выше других, только потому что кто-то сверху им кусочек власти кинул. Отними её у них — первые начнут ползать в ногах тех, кому ещё вчера угрожали. Трусливые твари. Больше всего на свете именно трусость всегда презирал. Именно она толкает человека на предательство, на ложь, на самую низкую подлость.
— Что скалишься, шевелись давай. На свидание тебя поведем, радуйся, ублюдок! Сами не ходим, а тебя как кобеля на случку. Трахаться-то любишь, убогий?
И снова смех мерзкий, открывающий рот с большой дырой между передними нижними зубами.
Он ступил в клетку, несмотря на предупреждающий отклик напарника, и щёлкнул в воздухе плеткой.
— Шевелись, убогий.
Вскинул руку, замахиваясь.
— Давай, тварь.
А через секунду полетел прямо на меня, когда я перехватил и дёрнул на себя плеть. Оскалился в его растерянное лицо и оттолкнул от себя к решётке, так, чтобы спиной об неё ударился и вниз сполз.
Сзади щёлкнул затвор автомата.
— Не трогай, Бес. Не трогай, твою мать.
Ударом с ноги в лицо придурку, громко всхлипнувшему в неудачной попытке прикрыть рукой голову.
— Бес, я выстрелю.
Вот только ни хрена не выстрелит. Потому что такой же трус, как и этот, который визжит уже о помощи. Не выстрелит, потому что боится. Не меня. Монстра. Боится, что та за мою шкуру его самого на тот свет отправит. Потому и способен только смотреть, как избиваю его напарника. Схватив за воротник и подняв над собой, прижимая к стене, ударами под рёбрами, громко смеясь, когда ублюдок сгибается и орет от боли.
— Бес, оставь его.
Выстрел в воздух. Неужели решится? Взглянул на побелевшее лицо охранника с заплывшими синяками глазами. Еще одна очередь в воздух. Понятно, хочет спихнуть ответственность. Привлечь народ на шум, а самому отстраниться, позволив другим принять решение.
И ведь добился своего. Уже через несколько мгновений Снегирёв влетел в помещение и истошно завопил, требуя всё того же. Отпустить. Повернулся к нему и улыбнулся, глядя, как лихорадочно он стягивает туго повязанный галстук со своей жирной шеи. И он смотрит, не отрываясь, на мои руки, боится в глаза взглянуть. Мы оба знаем, что он также не рискнет. Мы оба знаем, что он такая же ничтожная тварь, как эти двое, способная насиловать безропотных девочек, но никак не держать ответ перед своей любовницей.
Только замахнулся, чтобы выбить тщедушному придурку передние зубы, как услышал его тихий шёпот, и увидел, как слёзы по щекам струятся.
— Не надо…пожалуйста…не надо…дочь у меня родилась…не видел еще…не видел…пожалуйста.
Рука сама опустилась, пальцы шею его разжали, позволяя сползти на пол и закашляться. Не его пожалел. Таких жалеть — себя не уважать. Ребенка жалко стало. Что вырастет, ни разу отца своего не увидев, какой бы мразью тот ни был. Со временем жизнь заставит расстаться с этой сентиментальностью, за что я ей буду всё же благодарен.
Смотрел, как ползет к выходу из клетки, периодически останавливаясь и отплёвываясь, пока, наконец, его не приняли по ту сторону вольера на руки и не вынесли, видимо, на улицу.
Снегирёв тем временем подошёл вплотную, лично проверяя дверь.
— Значит, снова сопротивляешься?
Я на пол уселся и руки на груди сложил, глядя прямо на него.
— Почему отказываешься? Раньше нормально же ходил.
А я на пальцы его толстые смотрю и представляю, как он ими худые колени девок наших лапает, и от отвращения тошнить начинает.
— Что молчишь? Думаешь, мы не знаем, что говорить умеешь? Ещё как умеешь, мразь безродная. А сколько возомнил о себе. Понравилось получать, смотрю? Так мы тебе организуем повторный горячий приём.
— А ты сам организовывать будешь?
Доктор вздрогнул, видимо, не ожидая, что я отвечу, но уже через несколько секунд продолжил.
— Для этого есть специальные люди, которые заставят тебя или подчиниться, или сдохнуть, если норов свой не уберешь.
— Значит, сдохну.
Я пожал плечами, глядя на злость, вспыхнувшую за круглыми очками.
— Не веришь? Хорошо…хорошоооо, — он погрозил указательным пальцем в воздухе, — я тебя заставлю передумать. Я-то заставлю. Вот увидишь, выродок вонючий.
Он ещё что-то бормотал себе под нос, покидая помещения, а я лёг на пол, чувствуя, как снова накатила тоска. Развлечение оказалось слишком скоротечным, да и послевкусие оставило непривычно неприятное, горькое, которое хотелось выблевать, лишь бы не ощущать во рту. С другой стороны, как минимум, до приезда монстра из другой республики меня точно не тронут, а значит, я не нарушу обещания, данного своей девочке. Почему-то казалось безумно важным не допустить этого. Не допустить появления на дне зеленого взгляда прозрачных слёз-упрёков. Такие чистые, а словно ранили под самой грудиной. И сейчас эти раны, незатянувшиеся, всё ещё кровоточащие, саднили при мысли о том, что скоро, совсем скоро терпение доктора закончится, и меня отправят на свалку. В топь. Отправят туда, потому что я твёрдо знал — сдохну, но больше ни одну не покрою. Как бы ни полосовали плетью, как бы ни избивали, чем бы ни грозили. Пусть хоть на куски режут. По хрен. Плевать. Я и не такое терпел. Одно сводило с ума — моя девочка. Слёзы-упрёки сменятся на слёзы-боль в её глазах, как в тот день…а я…я ничего не могу сделать, чтобы не допустить этого. Бессилие никогда так не удручало, как в последние дни. Оно выворачивало изнутри, заставляя биться о металлические решетки клетки, сбивая костяшки пальцев в кровь.
Побег. Мы не раз говорили с Ассоль о возможности побега. У нас уже был примерный его план, у нас были координаты места, куда мы могли беспрепятственно отправиться, и даже средства, на которые мы должны были первое время прятаться…у нас было всё, кроме решимости. Моей.
Иногда очень мало просто обдумать хорошо план действий. Иногда совершенно недостаточно иметь поддержку даже любимого человека, в котором бываешь уверен больше, чем в самом себе. На некоторые поступки нужно решаться. И я впервые испытал страх. Осознав, что понятия не имею, какой бывает жизнь по ту сторону стен лаборатории. Каково это — быть ответственным за себя самого? У меня не было этой роскоши. Никогда. Я никогда не делал самых элементарных вещей — выбирать одежду или еду, выбирать круг общения, просто разговаривать. Дьявол, я понятия не имел, каково это — разговаривать с другими людьми. Без чувства постоянной ненависти или презрения. Просто разговаривать. Ни о чём. Не ожидая, что уже в следующую минуту тебя будут бить, резать или колоть. И я всё сильнее стискивал ладони в кулаки, думая о том, что мало просто сбежать с моей девочкой. Что дальше? Что смогу я дать ей там, в большом мире? Там, где мужчина должен заботиться о своей женщине, став для неё защитой и опорой? Какую работу я мог выполнять? Без образования, без особых навыков…Ненавидел себя самого за эти вопросы, но задавал их каждую ночь. Презирал за эти въедающиеся в мозги страхи, и всё равно не мог победить их…но и отказаться от мыслей о свободе больше не мог. Потому что все страхи…нет, не исчезали, но затенялись осознанием того, что моей она сможет стать по праву. Моей женщиной. Моей женой. Свобода для меня тогда имела именно её запах. Она была созвучна только этим мыслям о ней. Всё остальное отходило на второй, десятый план, на фоне которого были МЫ. Как же жёстко я ошибался.
Снегирёв ошибся не менее жёстко, решив, что очередное избиение заставит меня передумать. Почему люди слабые, жалкие, ничтожные считают, что физическая боль самая сильная? Почему они придаёт такое большое значение сохранности своего тела, позволяя втаптывать в грязь душу? Чёрт их поймёт, но ублюдок просчитался, отправив ко мне своих бугаев.
* * *
Не знаю, как долго провалялся после общения с ними, но очнулся под тихое всхлипывание Ассоль, осторожно, кончиками пальцев поглаживающую мою голову, превратившуюся, по ощущениям, в одну сплошную гематому.
Попытался сдержать стон и не смог, но всё же удалось повернуть к ней лицо и разлепить опухшие веки, чтобы едва не задохнуться от восторга, увидев мою девочку.
— Такая красивая.
Очень красивая. В темно-синем платье с белым воротником и собранными в хвост волосами.
Вот только кажется, она не поняла ни слова, нахмурившись и склонившись к моему лицу, прислушиваясь.
— Тшшш, — снова пальцами нежно, почти невесомо, волос моих касается, а у меня ощущение, что боль мою стирает на корню, — я тут, Саша. Я рядом.
Я знаю, я твоё присутствие ощущаю на расстоянии. Словно пёс, вышколенный на запах своей хозяйки. Влюблённый в неё без памяти пёс, готовый вгрызться в горло всем, кто в ответе за эту боль, исказившую её черты.
ГЛАВА 19. Анжела Артуровна Ярославская
Анжела Артуровна остановила запись, которую просматривала на компьютере. Рука нервно повела мышью, и белая стрелка на мониторе остановилась. Доктор медленно выдохнула, снимая очки и доставая мягкий платочек приятного мятного цвета с милыми кружевами по краям изделия, чтобы аккуратно и тщательно протереть стёкла. И почему она думала, что сможет смотреть безучастно на подобное непотребство? О, нет, Ярославской не было ни в коей мере ни больно, ни обидно, но от увиденного на чёрно-белом экране внутри растекалось холодное разочарование. Так иногда случается, когда человек, на которого возлагались определенные надежды и который оставил поначалу одно впечатление о себе, вдруг оказывается совершенно другим, словно меняет уже слегка поистершуюся, пошедшую трещинами маску. И застань она бывшего, да, Анжела уже точно решила, что бывшего, любовника с другой женщиной, с нормальной женщиной, то лишь почувствовала бы легкую досаду. Не более того. Досаду, что не поняла этого раньше. Но вот так…с подопытным материалом? И после этого Валентин мог прийти к ней. Появились непрошеные позывы к рвоте, и доктор потянулась за стаканом с водой.
Ярославская не была настолько наивна, чтобы не понимать — под её началом работать и добиваться определенных результатов могли только люди, лишённые присущей большинству инфантильности, некой ненужной и смешной, на взгляд самого ученого, сентиментальности. Более того, Анжела Артуровна первая указывала на дверь тем, в ком не видела потенциала, как и тем, в ком не видела того фанатизма к делу, которым занималась лаборатория.
И, наверное, только поэтому она даже слова не скажет Снегирёву, чьё изображение застыло сейчас на мониторе. Да, было бы смешно предполагать, что Валентин был верен своей любовнице, которая, как он ни звал замуж, не торопилась больше менять комфортный для себя статус вдовы на штамп в паспорте. Ярославская ненавидела весь этот официоз, эти бумажки, которым общество придавало слишком много значения. Глупости, на самом-то деле. К чему связывать себя лживыми обетами в ЗАГСе в их возрасте? Но унижать себя подобными связями она однозначно не допустит, и значит, уже сегодня прекратит любые отношения со Снегирёвым.
Доктор брезгливо поморщилась, переключая своё внимание с кадра, где ее помощник со спущенными штанами нависал над лежавшей на полу молодой девчонкой, на другую запись. Странно, но сейчас она почувствовала непривычное тепло, нахлынувшее на неё при взгляде на парня, нервно мерившего шагами периметр своего вольера, огороженного решеткой. Женщина склонила голову, невольно залюбовавшись крепким, мускулистым телом молодого мужчины. Нет, она смотрела на него без какого-либо сексуального подтекста — только чисто профессиональный интерес, гордость, которую испытывает творец за свое создание. А ведь именно она его сотворила. Это животное, выглядевшее, как человек. Анжела знала, как часто новые охранники совершали свою самую роковую ошибку — видели в парне, лениво изучавшем их при первой встрече, лишь пленника…не больше. Идиоты. Как можно было не заметить ту звериную мощь, которая переливалась под его кожей при каждом движении? Эта мощь усиливалась ненавистью, с которой он смотрел на персонал, яростью, с которой вырывался из захвата охранников. Вырывался практически всегда. Ярославская не помнила ни одного дня, в который в процедурный кабинет привели бы Нелюдя113, и тот покорно сел бы на стул и позволил себя осматривать, брать анализы и так далее. Впрочем, покорность вообще не была присуща конкретно этому объекту. Ярославская привыкла к ней так же, как к крепкому чаю вприкуску по утрам вместо полноценного завтрака и обязательно с долькой фруктов. Она вообще редко встречала людей, способных бросить ей вызов. Если только из самой верхушки партии. Но с ними она сама надевала маску сильного, но покорного учёного, чутко понимающего все требования своих заказчиков. Иногда приходилось стискивать зубы и клеить на губы отвратительно сладкую улыбку, чтобы убедить сильных мира сего в своей лояльности и тем самым получить то, что хотела непосредственно сама доктор.
Все остальные…она привыкла видеть, как они стелются у ее ног, готовые стерпеть любые унижения. Все, кроме Нелюдя. Иногда это его бессмысленное упорство, ведь рано или поздно его всё равно заставляли подчиниться, раздражало доктора. Иногда — восхищало. Но давно уже перестало оставлять равнодушным. Особенно когда Ярославская поняла, что именно этот эксперимент, не согласованный с министерством, может стать главным делом её жизни, а вовсе не то, чему она отдала столько лет своей жизни. Особенно когда просматривала результаты его анализов. О, они были просто шокирующими. Клетки тела объекта регенерировали с невиданной для человека скоростью. Естественно, далекой от иллюстрируемой писаками в тех книжках, которые тайком почитывала Аля. Но и они потрясали работников лаборатории. Вживление объекту элементов ДНК волка не прошло даром. Ежедневные тренировки с пробежками по лесу, когда подопытного "вели" на автомобиле и с автоматами наперевес охранники, также оставили свой след на его физическом состоянии. Специальные инъекции адреналина для выяснения пределов возможности организма подопытного, инъекции препаратов, нивелирующих чувствительность к боли…всё это повысило уровень анальгезии у Нелюдя113. Однако, и запросы, и поставки соответствующих медикаментов не могли оставаться надолго тщательно скрываемой тайной, тем более что разрешение Ярославская получала совершенно на другие разработки. И вот теперь её многолетним экспериментом заинтересовались сверху. Заинтересовались и вызвали, потребовав полного отчёта и позволив Ярославской взять два дня обдумывание своих дальнейших действий.
Анжела Артуровна тогда впервые за долгие годы сорвалась на дочери. Никогда ведь себе не позволяла подобного. Вообще Ярославская считала ниже своего достоинства повышать голос, полагая, что её сила кроется далеко не в криках. А сорвалась, потому что на записях увидела, как та, дрянь эдакая, страстно целовалась с объектом. Подумать только! Её единственная дочь. Дочь, которая получала всё самое лучшее: образование, окружение наряды, развлечения. Всё то, чего в ее годы Ярославская была лишена. И она позволила себя лапать какому-то грязному оборванцу, немытому подопытному…как только не побрезговала. Только от мысли о том, что это существо…это подобие человека касалось своими лапами её девочку, по затылку пробегала дрожь омерзения. У Ярославской были свои планы на Алю, и она не позволит никому, тем более объекту своего эксперимента нарушить их.
Своей вины в сложившейся ситуации доктор вовсе не чувствовала. Ни в том, что не только закрывала глаза на тайные встречи этих двоих, ещё когда они были маленькими, но и поощряла эти свидания, периодически покупая книги, которые могли понравиться детям их возраста, чтобы иметь возможность следить за реакцией объекта на них. Ни в том, что её дочь оказалась настолько одинокой в собственном доме и при живой матери, что обратила внимание на заморыша.
Впрочем, Ярославская не сильно переживала по этому поводу. Уж на Альку-то управу она всегда найдет. Девочка давно уже выросла, раз считает приемлемым целоваться с мужчинами…и снова по позвоночнику мурашки омерзения пробежали, настолько непривычным было для Ярославской воспринимать Нелюдя как полноценного мужчину, несмотря на то, что тот уже несколько лет именно по её указке был своеобразным "племенным быком".
Ничего, отправит Алю за границу вместе с Витей, там пускай и расписываются, а тем временем Ярославская будет пожинать все плоды этого союза с семьёй зятя. Уж у неё-то давно всё расписано аккуратным, несвойственным медикам и учёным почерком. Вот только иногда взбрыкивали некоторые буквы…как правило, на абзацах, касавшихся Нелюдя. Ярославская водрузила очки на переносицу, внимательно глядя на подопытного, остановившегося посреди своей клетки и обхватившего голову руками. В этот момент парень повернулся лицом в сторону камеры, и Ярославской даже показалось, что посмотрел прямо на неё. Чушь, конечно, но от неожиданности доктор вздрогнула.
Этот темный пристальный взгляд, которым, казалось, нелюдь не просто рассматривал, а мысленно разделывал любого соперника. Сначала ошкуривая, а затем расчленяя на части, чтобы знать точно, из чего состоит оппонент. О, да, Ярославская знала, что каждого входившего в здание лаборатории объект воспринимал как потенциального врага. И только полный придурок мог считать, что того могут удержать цепи или верёвки. В конце концов, его намеренно превращали в животное. В сверхчеловека. Вот и заказ поступил новый от правительства — представить опытный образец и все данные по нему, и тогда, возможно, Ярославской доверят создать отряды таких усовершенствованных солдат.
Нелюдь в этот момент повел головой, принюхиваюсь, и доктор припала к монитору, чтобы гневно вцепиться аккуратными ноготками в край стола, когда широкая улыбка, изменившая до неузнаваемости лицо вечно угрюмого монстра в клетке, растянула его потрескавшиеся губы. А после в клетку, оглядываясь назад и осторожно ступая на цыпочках, впорхнула тоненькая девочка в белом платье, которая тут же бросилась на шею мужчине, утыкаясь носом в его грудь.
Да, определенно наступило время прекратить отношения между этими двумя. И чем скорее, тем лучше.
ГЛАВА 20. Аля
— Аля, прости меня, Аляяяя. Мы выкрутимся. Я обещаю.
Омерзителен до скрипа суставов и горечи во рту. Сплюнуть хочется в его лощенную физиономию с мешками под глазами. За версту разит перегаром, и шелковый халат разошелся на круглом брюшке, открывая взгляду сморщенный отросток под ним. Нет, я его не ненавидела. Слишком сильное чувство. Мне было его как-то омерзительно жаль, и он был мне противен уже давно: и как человек, и как мужчина. Да и узнать в этом обрюзгшем разжиревшем кабане былого красавца Виктора Бельского было практически невозможно.
— Выкрутимся? Каким образом? Ты выставишь на аукцион папины награды? Или мемуары твоего деда?
Виктор в очередной раз проиграл много денег. Вынес из дома все золото и заложил, чтобы расплатиться с долгом. Утром я не нашла серьги, которые мне подарила бабушка, и это переполнило чашу моего терпения. Я влетела в его спальню и стащила жирную тушу с постели. Он не сразу понял, в чем дело, а меня передернуло от отвращения, когда увидела на его шее засосы и следы от помады. Не ревность, нет. Мне было плевать, с кем он спит, лишь бы ко мне не лез. Но видеть последствия его бурной ночи мне не хотелось совершенно. Не в нашей квартире, не на моих глазах, не на глазах слуг и проклятых журналистов, которые и так знали, в каких мы долгах из-за этого азартного ублюдка.
— Не надо ехать…Аля.
— А что надо? Тебя нянчить? Или боишься, что, пока меня не будет, денег никто не даст? Когда вернусь, подам на развод!
В этот момент он сразу протрезвел. Это произошло за какие-то доли секунд. Просветление в мутных глазах. А потом за руку меня схватил и к себе дернул.
— Развод? Вот как ты запела? Не будет никакого развода, Аля. Не будет, если ты не хочешь, чтоб я превратил твою жизнь в ад!
— В ад? Ты?! Я не боюсь! Мне надоело бояться. Можешь рассказывать что угодно и кому угодно!
— Уверена?! Думаешь, информация о чудовищной деятельности твоей мамаши — это все, что у меня есть?
— А что еще у тебя есть, кроме компромата твоего отца, который он прятал на всякий случай в своем сейфе. На случай, если его арестуют, и он смог бы потянуть за собой и ее! Гниль — это у вас семейное! Дай пройти. Мне больше не о чем с тобой говорить.
Попыталась высвободить запястье из его потных пальцев, но он схватил меня теперь обеими руками.
— Нееет! — затряс головой, глотая слюну, потому что после ночных излияний у него, наверняка, пересохло в горле, — У меня есть что-то покруче, моя дорогая женушка! Я тоже время зря не терял…. Витя не лошок, Витя тоже кое-что нашел.
Я расхохоталась ему в лицо, но все же почувствовала, как по спине поползли мурашки. Что уже могло узнать это ничтожество?
— И что ты нашел?
— Ооооо… это нечто особенное. Видео…видео, где ты трахаешься с тварью, которая перерезала как скот около двадцати человек. Как он тебя там. Раком. На кафеле… ааа ты…ты подвываешь и задом вертишь! С убийцей! С психопатом! С подопытным животным твоей чокнутой мамаши! С уродом, от которого ты понесла, как и все сучки, которых он покрывал! Да! Я и это знаю!
Сердце сжало как в тиски. Я буквально почувствовала, как кровь отлила от лица. Меня швырнуло в холодный пот, и я почувствовала, как начали дрожать колени и в горе появился ядовитый густой ком.
— Заткнись, — едва слышно, хрипло.
— Представляешь, как это будут смаковать журналисты, представляешь, как это попадет в газеты? Кем ты станешь тогда? Какие роли тебя дадут! Ты сдохнешь в подворотне! Никому не нужная тупая шлюха-наркоманка!
Я дала ему пощёчину. Звонко. Сильно. Так, что ладонь отнялась. На негнущихся ногах пошла к выходу из спальни. А он вдруг схватил меня за халат.
— Аляяя, я просто не хочу отпускать тебя. Я люблю тебя! Это ты! Ты во всем виновата! Ты никогда меня за мужчину не принимала! Из спальни своей выталкивала. Давала только, когда полумертвая после алкоголя и дозы была. Из-за тебя все! Ты жизнь мне, сука такая, испортила!
Он попытался прижать меня к себе и обслюнявить мне лицо своими красными мясистыми губами.
— Давай все сначала. Я играть перестану. Уедем за границу…хоть немного люби меня. Хоть раз со мной как на том видео…хоть раз, Аляяя.
Я силой отшвырнула его от себя.
— Никогда! Слышишь? Никогда ко мне не прикасайся! Я не разведусь с тобой…но будет все, как и раньше. Ты сам по себе, а я сама по себе. Из долгов своих сам вылезай. Маме своей позвони или сестре, может, вытянут твой зад… и серьги мне верни. Как хочешь верни, или я тебе весь кислород с деньгами перекрою.
— Верну… я все верну. Прости меня… Прости.
— Бог простит, Витя. Он все видит…
"Может, и меня простит когда-нибудь". Когда я садилась в машину, папарацци плотным кольцом обступили наш дом. Они фотографировали отъезжающий автомобиль и даже гнались за ним следом.
— Алина, а вы уже знаете, кто спонсор вашей поездки? А кто будет сниматься в главных ролях?
— Почему остров закрыт для туристов? Что вам известно об этом месте?
— А это правда, что вы хотели отказаться от роли и вам удвоили гонорар, и что вы получили все деньги авансом?
— Вы знаете, кому принадлежит этот безлюдный остров? Алинаа, хотя бы несколько слов для газеты "Город звезд"… Один вопрос. Один единственный!
Я проигнорировала их всех. У меня не было ответа ни на один вопрос кроме гонорара, его действительно удвоили и оплатили мне половину заранее. Я ничего не сказала Виктору и перевела эти деньги на счет матери в Страсбурге. Подняла стекло и откинулась на спинку сидения. В висках все еще пульсировала адская боль после разговора с Виктором. Одно упоминание, и меня бросило в дрожь. Одно упоминание, и не было никаких лет исцеления и забвения. Словно только вчера все произошло. Словно только вчера я целовала пересохшие губы Саши и лихорадочно задирала на нем майку, чтобы застонать от сумасшедшего наслаждения, касаясь ладонями горячей кожи. Господи, почему я не могу забыть? Почему? Что со мной не так? Почему все живут своей жизнью, почему люди могут быть счастливыми дважды и трижды в жизни, а я как будто проклята. Я как будто ношу в себе его личный код, инфекцию, хроническую смертельную болезнь, и нет от нее никакого исцеления, нет даже гребаных передышек. Я в непрекращающемся рецидиве.
Боль от его имени, боль от похожего запаха и боль от звука детских голосов, от плача младенца. Я не переносила ничего, что связано с их рождением. Сестра Виктора считала, что я тварь, которая ненавидит детей. Она просто не знала…никто из них ничего не знал. А меня под грузом вины и дикого отчаяния размазывало каждый день и каждую ночь. Я ничего не забыла…. У меня детский плач в ушах стоит, едва тишина наступает. Иногда снится, что я все еще ребенка жду… Его ребенка. Снится, как живот руками глажу, как в зеркало смотрю и улыбаюсь от счастья, как разговариваю с ней, прислушиваясь к легким пинкам и пытаясь поймать их ладошкой, угадывая это ножка или ручка…с его девочкой…с нашей мертвой девочкой.
"Саша, а у тебя дочка скоро родится…как бы ты хотел ее назвать? Мы так скучаем по тебе… мы так сильно по тебе скучаем, любимый…"
Просыпаюсь в слезах с застрявшим в горле воплем безумия…и запрещаю вспоминать. Запрещаю себе спать без снотворного. Иначе не выдержу. Я и так не знаю, как все это время живу, на каком волоске держусь за жизнь эту никчемную. Хотя нет, знаю. Потому что он рядом. И я жду, когда мой палач выйдет на свет, чтобы вынести мне приговор, как обещал десять лет назад.
И сейчас не просто сердце кольнуло, а такая боль оглушила, от которой выть хочется и веревку на карниз повесить, чтоб прекратить. Чтоб, наконец-то, все это прекратить. Только порошок проклятый и спасает… Ничего больше.
Посмотрела в окно на ярко-голубое небо. Иногда кажется, что погода издевается надо мной. Потому что внутри меня уже давно нет солнца, тепла и нет неба. Он украл их и унес с собой. Как и все мои мечты. Как и надежду на счастье. Он уже меня убил. Мы ехали в маленький частный аэропорт, откуда меня должен был забрать самолет прямиком на остров, о котором я не знала ровным счетом ничего. Да и мне было плевать, я прочту сценарий, перевоплощусь в какую-нибудь тупую сучку или умную стерву и проживу ее жизнь, ненадолго оставив свою и чувствуя временное облегчение. Только это меня и спасало. Только это помогало не сдохнуть. В аэропорту нас встретил молчаливый человек в длинном черном пальто. Он представился Вячеславом Денисовичем, моим сопровождающим лицом. По контракту с момента посадки на самолет охрану и обслуживающий персонал мне предоставляла кинокомпания.
И я видела, как позади нас шли несколько мужчин в таких же темных пальто с одним наушником в ушах. Усмехнулась — прям как в кино. Тоже мне, звезду нашли.
На паспортном контроле мне лишь вежливо улыбались и попросили автограф. Стало интересно уже и самой, кто этот продюсер и какие огромные связи и деньги он имеет. Салон самолета поразил роскошью и комфортом. Меня провела в него очень вежливая стюардесса и помогла разместится на белоснежном сидении. Весь салон кипенно-белый, как и форма всего экипажа, и ни одного пятнышка грязи на обивке. Стерильно и пахнет лимонным освежителем. Я откинулась назад и в блаженстве скинула туфли на каблуках. Прикрыла глаза…где-то вдалеке заиграла музыка. Вначале я с облегчением вздохнула, потому что не любила полную тишину, а потом почувствовала, как боль начала зарождаться в районе сердца. Вначале мягкими волнами, еще не паническими рывками…Эта песня… я пела ее ему. Он любил. Говорил, что у меня голос не хуже той, кто ее исполняет — великой и неповторимой Эллы*1. Я всегда была помешана на блюзе.
— О чем она?
— О лете, о море, о любви и о небе. О счастье.
— Это все разве называется разными словами?
Моя голова у него на коленях, и длинные сильные пальцы перебирают мои волосы. После дикого секса, когда он требовал от меня петь, пока жадно вылизывал меня, стоя на коленях, а потом так же жадно вбивался в меня членом хрипя мне в ухо: "Пой, маленькая, громче…давай, не останавливайся".
— Да, конечно!
— Для меня все это называется лишь одним словом.
— Каким?
Пальцами по его колючей скуле, по резко очерченным губам, зарываясь во взъерошенные мною волосы.
— Твоим именем, — очень серьезно, перехватывая губами мои пальцы, — все это могло бы называться просто твоим именем.
— А для меня твоим…
— Которое тоже придумала ты, — шепотом и с улыбкой. Очень нежной, как весеннее солнце. Он казался мне в такие минуты ослепительно красивым…Нет, конечно же. это не так красота, к которой все привыкли. Кто-то назвал бы его даже уродом. Но для меня…для меня мой мужчина был самым прекрасным. Я любила в нем все. Каждый шрам, каждую родинку, каждую выпуклую мышцу, запах волос и пота, вкус его дыхания и спермы. Да, я обожала в нем каждую мелочь. Каждую самую незначительную черточку на его мужественном, изуродованном несколькими шрамами, лице. Есть мужчины, которым не нужно быть красивыми, чтобы женщины сходили по ним с ума. Самыми нереальными были его глаза. Удивительного бархатного темного цвета. Как обжигающий кофе или вязкий шоколад, а иногда черная бездна лютого мрака похоти. Говорящий взгляд. Он мог не сказать ни слова, и я понимала каждый взмах его ресниц. Длинных, как у девочки. Я трогала их пальцами, и он смеялся, говоря, что это щекотно.
— Значит, ты ревнивец!
— Да. Ты не представляешь какой. Я ревную тебя даже к воздуху, которым ты дышишь, к струям воды в твоем душе и шелку твоих трусиков.
— Да ладно.
— Я серьезно. Ничто и никто не имеет права прикасаться к тебе, кроме меня.
— Ты бы объявил им войну?
— Я объявлю войну всем и каждому, кто попытается отнять тебя у меня.
А потом вдруг резко встал на ноги и прислонился лбом к решетке.
— Что такое? — обнимая сзади и прижимаясь щекой к его изрытой шрамами спине.
— Сотрясение воздуха. Пока я сижу в этой клетке, ни черта я не смогу сделать! Даже если ты с Виктором своим…
Я поднырнула под его руки и, прислонившись к решетке спиной, обхватила его лицо руками.
— Уже скоро. Всего несколько дней. Она уедет на майские праздники. Охрана напьется, как всегда, и я выведу тебя отсюда. У меня уже все готово, любимый.
У меня и правда все было готово. Я заставила его выучить наизусть всю местность. Так выучить, чтоб мог нарисовать её мне с закрытыми глазами. В лесопосадке я спрятала для него другую одежду и справку о выписке из центра. Если бы у него спросили документы, этого было бы достаточно. Я сняла квартиру на другом краю города и оплатила ее на месяц вперед. Там было все необходимое для жизни. Мне помогал Петька Русаков, его брат нашёл человека, который должен был сделать для Саши паспорт и свидетельство о рождении. Все это заняло б около месяца. И после праздников в конце мая в начале июня мы бы сели с ним на поезд. После его побега я должна была выждать неделю и встретиться с ним на автовокзале возле остановки с номером автобуса 316. Я бы проехала три остановки и там бы вышла, переоделась в арке дома, где спрятала за кирпичами пакет с одеждой. Когда-то там жила моя бабушка, и этот тайничок я обнаружила, разыскивая нашего кота Ваську по подворотням. Потом я бы взяла такси и снова приехала на автовокзал, где и подобрала бы Сашу. Мне казалось, что все продумано идеально. Мы обсуждали это каждый день…нет не вслух. Я не была уверена, что клетку не прослушивают. Я писала ему, а он отвечал мне в общей тетради по геометрии.
Иногда рисовал там пошлости, иногда писал, мне как любит меня. Иногда, пока я вырисовывала ему план, забирался мне под платье и ласкал пальцами, заставляя писать дальше. Это были его любимые игры.
Самолет уже взмыл в небо, и я очнулась от воспоминаний, когда стюардесса что-то занесла и спиной к мне ставила на столик у иллюминатора.
В ноздри забился удушливый запах каллов, и я стиснула руками поручни кресла, а когда она отошла, шумно втянула в себя воздух. Вместе с белоснежными цветами, как всегда, были ветки калины и алые ягоды рассыпались по столу, как капли крови.
— Кто это прислал? — тихо спросила я.
— Хозяин этого самолета. Таковы были его указания. Когда мы взлетим, поставить в вазу этот букет. Для вас.
В горле резко пересохло, и я медленно встала с кресла.
— Хотите я унесу?
— Н-н-нет. Пусть стоит. Принесите мне бокал мартини, пожалуйста.
Я сделала несколько шагов в сторону букета…и ягоды на белоснежном столе начали расплываться в лужицы крови, в ручейки и в огромные пятна. Я схватилась за горло и остановилась в шаге от цветов. В висках взорвались дикие человеческие крики…
…Эта ночь наступила. Она наступила не тогда, когда мы планировали, и не так, как мы планировали. И в этом виновата только я. Мать наняла другую охрану несколько недель назад. Каких-то ублюдков, которые выполняли свои обязанности намного лучше предыдущих. Двое церберов, стороживших двери, ведущие в лабораторию и операционные вместе с боксом, где держали тех несчастных женщин. Я просчиталась, думая, что по ночам они будут пить вместе с остальными и, как всегда, дико соскучившись по Саше, прокралась в коридор, ведущий к в лабораторию. Новый охранник стоял возле двери и курил, глядя на меня исподлобья. Судорожно сглотнув, я хотела повернуться, чтобы уйти, но меня подхватили сзади под мышки.
— Ой, а кто тут у нас? Девочка… ты смотри….
— Да, девочка, — ухмыльнулся второй, — хорошенькая девочка.
— Отпустите! Вы не знаете, кто я?
Тот, что курил, блондин, отбросил сигарету в сторону и подошел ко мне вплотную, дыша в лицо табаком.
— Конечно, знаем — ты подстилка немытого урода.
Сзади заржал его дружок.
— И по совместительству дочка стервы.
— Какая она сочная, упругая. Давай повеселимся — покажем ублюдку, как надо девок трахать. Говорят, он отказался свой долг исполнять, и вместо него скоро сюда другого осеменителя привезут.
Вместе с этими словами блондин, который курил, сжал мою грудь обеими руками, а я закричала, и мне тут же заткнули рот пощечиной.
— Молчи, сука. Будешь сговорчивой, мы аккуратненько потрахаем и отпустим. Интересно, твои дырочки такие же маленькие, как и ты, или этот своим шлангом тебя растянул. Говорят, у него ого-го!
Они втащили меня за волосы в помещение с вольером и закрыли за собой дверь.
— Эй, обезьяна! Мы тебе твою сучку привели развлечься. Ты ж не жадный? Мы ее немного попользуем. Сильно не испортим. Потом посмотрим, как ты ее жаришь. Ты ж нам покажешь, м? Тут слухи ходят, что у тебя даже костлявые полудохлые сучки с инкубатора кончали.
Саша уже давно стоял у решетки и дергал ее руками, впившись бешеным взглядом в обоих тварей, которые толкали меня от одного к другому и стаскивали блузку за рукава. Он с такой силой дергал прутья, что те немного погнулись.
— А ты везде ее имел?
— Щас проверим!
— Отпустили! — проревел Саша, — Отпустили или разорву сук. Кишки вырву и сожрать заставлю.
Оба охранника заржали, а я отрицательно качала головой. Только молчи, Саша, молчи. Они чокнутые, они и выстрелить смогут.
— Ну ты у нас в клетке. Так что нам бояться нечего. Мы тебе представление покажем. Можешь подрочить, пока мы ее трахаем. За твою дерзость тебе сегодня обломится.
Рванул на мне с треском блузку, а я плюнула ему в рожу и вцепилась в него ногтями. Он взвыл и ударил меня по лицу кулаком с такой силой, что я упала на пол, а он тут же навалился сверху. Я не знаю, как все произошло. Я ничего не видела, я в этот момент пыталась освободиться из-под туши белобрысого. От ужаса и паники у меня плохо получалось, и я до смерти боялась, что они причинят вред Саше. Как вдруг кто-то заорал, а потом я увидела лезвие, которое прошлось по горлу охранника, и на меня фонтаном брызнула кровь, но на этом кошмар не окончился — острие ножа мягко вошло в один глаз, а затем во второй.
Я в ужасе всхлипывала, глядя, как Саша перевернул охранника на спину и пока тот дергался и выл от боли, он вспарывал ножом его живот. Резал, как режут кусок мяса. Я отвернулась, чтобы не видеть, что он делал дальше… но я знала…он выполнял свое обещание данное ему раньше. Саша всегда выполняет свои обещания. От дикого крика охранника меня колотило крупной дрожью и бросало в холодный пот. Он мычал и выл, словно давился и захлебывался, а я не хотела даже думать чем, я зажимала уши все сильнее и тихо выла сама.
— Я! Сказал! Не трогать!
— Сашаааа, не надо!
Закричала, когда он склонился над другим, но Нелюдь меня уже не слышал. Потому что в помещение забежали еще три охранника. В жутком оцепенении, ступая по лужам крови, я смотрела, как он их режет. Не одним ударом, а десятком. В грудь, в лицо. Кровь брызгает на него, а он словно наслаждается… его черные глаза горят почти так же, как перед оргазмом. Я слышу, как он что-то бормочет и пока не могу разобрать слов. Только иду по его кровавым следам, закрыв рот обеими ладонями, потому что меня тошнит от количества крови и трупов.
Зашла за угол и резко прислонилась лбом к стене, чтобы не смотреть — Саша склонился над одним из конвоиров, которые водили его к подопытным. И я задохнулась, захлебываясь воплем, когда тот закричал.
— Нееет, Саша, нет!
А он, словно робот, запрограммированный на кровавую бойню. Срезает с охранника кожу, снимает с его лица как маску, я сильно закрываю глаза — это все не правда. Я не вижу этого на самом деле. И вдруг понимаю, что он бормотал, потому что теперь его голос набирал силу — он пел…И сейчас поет…убивает и поет. Мне стало жутко и мороз пополз по коже.
Summertime, and the livin' is easy.[2]
Fish are jumpin' and the cotton is high.[3]
Полосует лезвием по горлу и несколько ударов в грудь ножом. Быстро-быстро, слово лед колет и брызги летят в разные стороны.
Your daddy's rich, and your momma's good lookin'. [4]
So hush little baby, don't you cry.[5]
Идет дальше, даже походка у него другая тяжелая, страшная. Как необратимость. От него пятится медбрат, а он прижимает его к стене и бьет ножом в лицо, а я беззвучно кричу.
One of these mornings, you're gonna rise up singing.[6]
Then you'll spread your wings and you'll take to the sky.[7]
Навстречу выскакивает кто-то в белом, кажется, один из лаборантов, и я слышу довольное рычание, напоминающее рычание зверя. Тот с воплем пятится назад, но Саша его догоняет, и дальше я не могу смотреть. Боже, я больше не могу смотреть на этот ад! Я закрываю лицо руками и сажусь у стены, заходясь в рыданиях и раскачиваясь из стороны в строну. Это не Саша… нет. Он не мог… это не он. Мне снится кошмарный сон. Я проснусь. Я сейчас открою глаза.
But till that morning, there's a nothin' can harm you.[8]
With daddy and mammy standing by. [9]
Хриплый голос очень красиво и безошибочно выводит каждое слово с безупречным попаданием в ноты, под вопли своих жертв, под их жуткие нечеловеческие крики. Потом пение стихает, а меня трясет как в лихорадке, и я сжимаю свое лицо, чтобы не смотреть, впиваясь в волосы. Пока не чувствую, как он опускается рядом со мной на колени и рывком прижимает меня к своей груди.
— Тссссс, маленькая… я рядом. Никто больше не тронет.
— Зачееем? — захлебываясь рыданием.
— Они посмели тебя коснуться…они держали меня в клетке.
— Но не все… не все… — с ужасом глядя на его полностью залитое кровью лицо, — Ты их… ты их… как свиней.
Отрицательно качает головой.
— Свиньи такой смерти не заслужили, а они да.
— Если тебя поймают… это смертная казнь… Сашаааа. Уходи. Сейчас беги. Сашааа.
— Я все помню. Я буду ждать тебя, — смотрит мне в глаза, — Слышишь? Я буду ждать тебя!
— Я приду…
И про себя о том, что не мог он иначе. Они все издевались над ним годами. Они заслужили смерти… я должна была найти оправдание. Это сейчас я люблю его без всяких оправданий. Ненавижу смертельно и так же смертельно люблю.
— Придешь…да? — шепчет он и рывком прижимает меня к себе, — . Люблю тебя, девочка моя. До смерти люблю. Сдохну и все равно любить буду.
И так жутко это слышать, и в то же время по телу разливается кипяток. Он только что перерезал людей как скот… и шепчет мне о любви. Нежно шепчет, так же нежно, как и волосы мои гладит, и слезы вытирает пальцами…
* * *
Мать хлестала меня по щекам тыльной стороной ладони так, что перстень царапал кожу до крови.
— Дрянь! Ты мне все испортила! Ты мне все поломала! Где он? Это ведь ты помогла ему сбежать?
Не орет, а шипит, как змея. А я щеки руками зажала и в пол смотрю.
— Ты знаешь, что с нами теперь будет? Нас посадить могут! Ты ему помогла?
— Нет… я вообще не знаю, о чем ты!
Схватила меня за волосы и несколько раз дернула.
— Не лги мне! Это ты! Он сам не смог бы. На это деньги нужны и помощь извне. А ему больше некому помогать, кроме тебя, идиотки!
Она ударила меня еще раз.
— Ты, дура такая, не представляешь, что натворила! Его поймают и расстреляют. Он больше двадцати человек там перерезал! Это смертная казнь! Думаешь, вы сбежите? Его объявят в международный розыск.
Я расплакалась, зарывая лицо руками.
— Они меня изнасиловать хотели…он спас…
— Где он? Я помочь могу. Я же мать твоя, не забывай. Я вывезу его из города и спрячу, у меня связи есть, а ты одна не справишься и светиться тебе нельзя. Рассказывай, где он, и я что-то придумаю.
Я была так напугана, так юна, так сильно его любила, что я поверила ей. Я бы тогда позволила ей себя разорвать на куски ради него…И я привела их к нему. Убийц. Он смотрел мне в глаза, когда в него выстрелили…смотрел, а я орала "беги"…глядя, как он перескакивает через ступени, прижимая ладонь к ране на боку, удаляясь все дальше, как за ним бегут люди моей матери, и оседала на асфальт, понимая что наделала. После этого мать перестала быть для меня матерью. Она для меня умерла. В тот же день я узнала, что жду от Саши ребенка.
….Хриплый голос Евы Фицджеральд красиво ласкает слух, и по телу бегут мурашки. Я сама не заметила, как раздавила в руках ягоды и сок потек через пальцы по моему запястью. Ну вот и все. Он пришел за мной. Я дождалась.
ГЛАВА 21. Анжела Артуровна и Бес
Анжеле Артуровне пришлось собрать все свои силы в кулак, чтобы оторвать остекленевший взгляд от черно-белой записи с камеры, установленной напротив вольера нелюдя. В голове со скоростью света проносились мысли, одна ужаснее другой. Наполненные абсолютным разочарованием к своему ребенку. И от этого разочарования под кожей расползался холод отвращения к ней…к этой дряни, которая называла себя её дочерью. И в то же время Ярославская чувствовала, как сжимает легкие пламя костра, каждый вздох даётся с огромным трудом и, кажется, способен сжечь дотла все внутренности. Омерзение вновь и вновь подкатывает к горлу, обрушивается волнами с привкусом предательства и унижения. Доктор сама не замечает, насколько сильно стиснула свои аккуратные пальцы, до онемения. Лучше бы с собакой…лучше бы с последним бездомным, которые когда-то ошивались неподалеку от территории исследовательского центра вплоть до тех пор, пока их не стали ловить для проведения экспериментов. Подобие человека, жалкая пародия на него, опустившаяся на самое дно эволюции. Правда, даже этим убогим впоследствии хватило мозгов уйти из этой местности, после того, как бесследно исчезли десятки. А она…эта мелкая дрянь с подопытным…да в нём было больше от химии, чем от природы. Ярославская знала это точно. Она сама меняла его, как меняют вещи, усовершенствуя, убирая ненужные в целях ее исследования функции. Мало кто понимал это сейчас, но в этом нелюде теперь было гораздо меньше от человека, чем, например, лет семь назад.
Намеренно уничтожены многие качества, которые Ярославская считала лишними для машины-убийцы. Психологическим ли, физическим ли, химическим ли воздействием, но подопытного лишили таких эмоций, как сопереживание, что особенно ярко взыграло после того, как тварь практически разучилась чувствовать физическую боль, жалость, утомляемость. По сути, он мог продержаться в адских условиях довольно долго без еды, без воды, на жутком холоде или при невыносимой жаре. Он был невообразимо меток и до невероятности жесток, что, конечно же, было обусловлено именно его неспособностью чувствовать боль самому. Не человек. Искусственно взращённый организм.
Анжела Артуровна прикусила губы, чтобы сдержать стон, застрявший в горле при очередном брошенном в сторону монитора взгляде. Её девочка…Нет, Ярославская никогда не была лицемерна с самой собой. Никогда она не была такой матерью, мир которой составляли её дети. Да и, честно говоря, в её системе ценностей, дочь занимала место третье, аккурат за амбициозностью и любовью к науке. Но тем не менее смотреть, как та, которую она породила из собственного чрева как женщина, выгибается под тем, которого создала доктор в своей лаборатории…смотреть на это было сродни самой настоящей пытке, которую устроил для неё Захар.
Он, словно почувствовал, что ей нужна сейчас поддержка, подошёл сзади и опустил свои огромные, похожие на медвежьи лапы, ладони на хрупкие плечи своей начальницы. Провёл осторожно пальцами по напряжённой, будто высеченной из камня, спине, невольно удивившись тому, как продолжает спокойно, на первый взгляд, смотреть перед собой Ярославская. Никаких истерик, никаких громких ругательств или, более характерных для таких маленьких женщин её круга, причитаний. Ничего абсолютно. Только холодное, замораживающее молчание, и Покровскому кажется уже, что тот же лёд сковал всю стройную фигуру Анжелы. А ещё не покидает ощущение, что, если прислушаться, можно услышать, как шевелятся шестеренки в голове доктора, наверняка, лихорадочно обдумывавшей, как выйти из сложившейся ситуации.
Её верный помощник едва сдерживал ухмылку. Ведь он-то уже знал о том, что отношения девчонки и оборванца давно перешли из необъяснимой, какой-то странной дружбы в такие вот порочные, плотские. Это Ярославская, несмотря на свою учёную степень и положение в обществе, сохранила совершенно несвойственную женщине её возраста наивность, словно смотрела на свою дочь сквозь ширму превосходства, которое отличало их семью от всех остальных людей. Бред. Самый настоящий бред. Покровский отлично знал, что даже самые нежные и утонченные сучки могли течь только от запаха драного кобеля, лишь бы от него несло самцом. А от Беса им не то, что несло. Им провонял каждый метр помещения, в котором держали недоноска. И да, он, действительно, сочетал в себе ту силу и мощь, к которой на интуитивном уровне тянутся все женщины. Недаром девки-инкубаторы сами с готовностью раздвигали перед ним ноги, в то время как с первым дрались едва ли не до смерти. Проблема Ярославской была в том, что она давно уже убила в себе женщину и смотрела на всех людей вокруг себя словно сквозь невидимый окуляр микроскопа, расщепляя их на составляющие части. Как смотрят на микробы, на лягушек в разрезе, но не на людей. Такие же взгляды часто Покровский ловил как на Ассоли, так и на себе. И в эти моменты ему, огромному мужчине под метр девяносто с телосложением ходячего шкафа на мощных квадратных ногах, хотелось провалиться сквозь землю, лишь бы не ощущать на себе этот холод увеличительного стекла. Со временем, впрочем, он привык к нему.
А вот девчонка за это же время не стала привыкать, а поступила точно так же, как всегда поступала её мать — получила то, что хотела. Покровского забавляло, что обе женщины не видели, насколько походят друг на друга. При всех своих отличиях. Что для одной, что для второй не существовало слова "нет" в отношении того, что они желали. Только шли они к этому желаемому совершенно другими методами.
Захар сжал плечи Ярославской, глядя исподлобья на видеозапись, чувствуя, как вспыхнула в низу живота яростная похоть, когда Бес, ритмично двигая бёдрами, дёрнул на себя за волосы голову девчонки, а та изогнулась подобно кошке. Чёёёрт…а вот это было нехорошо — проколоться перед доктором, ненароком заметит, как занервничал помощник, и выкинет его из штата. Хотя с учётом последних событий навряд ли Ярославская поставит выше собственной безопасности и труда всей своей жизни что-либо ещё оскорблённую гордость за честь дочери. Тем более, что от этой чести остались теперь одни ошмётки воспоминаний.
— Выяснил, куда исчез объект?
Голос Ярославской вернул Покровского в реальность.
— В милиции. Забрали в отделение после вызова "скорой" кого-то из прохожих. Но там, кажется, его надолго не задержали и сразу увезли. Правда, после того, как нанес ранение в живот одному из ментов.
— Ты сообщил о его особом статусе следователю?
— Он порезал мента, они сейчас все там обозлённые, никаких статусов не признают, — ладони невольно застыли в напряжении, ожидая дальнейших вопросов. Захар понимал — начальница всё же дорожила нелюдем и, возможно, даже попытается вытащить его оттуда. Вернуть себе. Или всё же, Покровский продолжал надеяться на её благоразумие, заставить его замолчать навсегда раньше, чем он откроет пасть.
— Что ты уже сделал?
Покровский осторожно выдохнул, не желая показывать своего облегчения.
— Подготовил все документы. Позвонил нужным людям в Финляндии и Германии.
Молча кивнула, продолжая смотреть прямо перед собой.
— Организовал вылет на послезавтра. Раньше не получалось. Но я думаю, время у нас ещё есть…
— Рано послезавтра. Отменяй.
— Но, Анжела Артуров…
— Отменяй, — женщина подняла лицо к нему, — в отделение поедем. Нужно поговорить с этим…с нелюдем.
— Мне кажется, это не лучшая идея. Вы просто теряете время и намеренно рискуете…
— А я более чем уверена, что не спрашивала твоего мнения, Покровский, — голос Анжелы приобрел такие привычные презрительно стальные нотки, — чтобы уже на завтра на утро добился мне встречи с ним. Со мной же и пойдёшь в отделение.
Она повела плечами, и мужчина тут же убрал ладони. А когда она резко и в то же время изящно встала со стула и посмотрела в суровое лицо своего помощника, тот медленно выдохнул — теперь перед ним стояла та Ярославская, которую все боялись.
— Я сама позвоню Бельскому. Он нам поможет. Ты свою задачу понял?
Дождалась, когда мужчина утвердительно кивнул головой, и быстро прошла мимо него. Да, нужно немедленно позвонить несостоявшемуся свату…Хотя, кто знает, кретин Витька настолько влюблен в Алю, что примет её любой. Конечно, обо всех тонкостях отношений непутёвой дочери с подопытным Анжела никому рассказывать не собиралась. А Витькой крутить много ума не надо. И Але придётся заняться им вплотную, иначе Ярославская лично превратит жизнь дочери в Ад. Идиотка…такая идиотка. Разрушить все планы, которые столько лет выстраивала мать, с такой любовью и рвением. И ради кого? Ради чего? Ноги вместе удержать не смогла. Ничего. Теперь будет раздвигать перед тем, на кого мать укажет, иначе чудовищный конец её грязному любовничку обеспечен.
Кстати не помешало бы проверить эту дурёху на предмет беременности. Как бы не понесла от подопытного. Простить такое и растить чадо от монстра даже идиот Витя не сможет.
Потом был недолгий разговор с дочерью, сопровождавшийся двумя хлёсткими пощёчинами и обещанием устроить показательное представление для Али с расстрелом её ничтожного хахаля, если эта дурочка не даст нужные для Ярославской показания в суде. Вся беседа спокойным, ледяным тоном. Анжела Артуровна не опустилась до истерики. Только холодно улыбнулась, когда на щеке дочери остались красные следы её пальцев, и удовольствие от их созерцания прокатилось по телу теплой волной, особенно, когда из глаз дочери брызнули слёзы ненависти, а глаза поволокло маревом боли. В тот момент, когда та узнала, что нелюдь жив, а после застыла от ужаса, услышав про то, что его взяли органы. Согнулась пополам, хватая воздух открытым ртом и стискивая пальцы точь-в-точь как мать. Ну чисто дурочка малолетняя. В её годы Ярославская уже вовсю крутила лучшими студентами университета, а эта сама стала зависимой. И от кого?!
* * *
Бельский не подвёл. С определенными трудностями, но всё же ему удалось устроить встречу доктора с задержанным Правда, отец Виктора осторожно намекнул, что есть какие-то силы, которые упорно не желают подобного свидания и всячески препятствовали его устройству. Анжеле Артуровне оставалось только догадываться…догадываться о том, что, кажется, в своё время она выбрала не ту сторону политического противостояния, согласившись работать на правящую партию. Но сейчас эти мысли отошли на задний план. Через три дня после разговора с Бельским…через несколько часов после ознакомления с результатами анализов дочери она смотрела на своего подопытного, и ей хотелось смеяться и кричать одновременно. Да, вот сейчас. Не тогда, когда видела, как он имеет её дочь на грязном полу своего вольера; не тогда, когда ругала Алю за связь с этим ничтожеством; не тогда, когда сообщили, что эта тварь всё же сбежала, и теперь существовала реальная угроза не просто всему её проекту, но и её жизни и свободе.
А сейчас. Глядя на своё детище, запертое по ту сторону клетки. Клетки, в которую посадила его не она. Клетки чужой, в которой её слово мало что значило. Ярославскую накрыло волной возмущения и праведной злости. Словно у неё отняли что-то важное. Посягнули на то, что принадлежит ей и только ей. Самым бесцеремонным образом отобрали детище всей её жизни, и теперь доктору приходилось подключать третьих лиц, чтобы вернуть доступ к нему. Анжела вдруг с поражающей ясностью осознала, что решение убить его было обусловлено не только стремлением обезопасить себя и не позволить развязать язык подопытному, который отчаянно ненавидел её, но и нежеланием делиться им. Да! Абсолютным нежеланием видеть свою вещь, свою разработку, свой самый главный научный труд в чужих руках. Объекты исследований должны находиться либо во власти учёных, либо быть уничтожены за ненадобностью.
И что больше всего разозлило доктора и заставило поджать губы — это осознание: нелюдь очень чутко ощущал эмоции доктора. Этот ублюдок…эта тварь сидел на скамье, прислонившись к стене спиной и прикрывая ладонью живот. Ярославская посмотрела на его руки и заметила расползшееся бесформенное пятно крови на его футболке. Он наслаждается пониманием того, что больше не принадлежит доктору. Своеобразная мнимая свобода. Не в том смысле, в котором принято понимать это слово. А свобода непосредственно от неё.
Спиной она чувствовала присутствие Покровского, наверняка, сложившего на груди руки и неотрывно смотревшего на заключенного. Показывает, что Ярославская находится под его охраной. Странно…И, возможно, опрометчиво, но ощущая буквально кожей всю ненависть объекта, доктор совершенно его не боялась. Как не боится опытный дрессировщик молодого льва, выходя с ним на арену цирка. Испытывая при каждой встрече не страх, а желание попробовать ещё, понять, как далеко можно зайти в этот раз.
Рука в кармане сжала фотокарточки, которые Анжела захватила с собой из семейного альбома.
Нелюдь по-прежнему молчал, всё так же не отрывая взгляда от лица доктора и всё с той же омерзительной улыбкой превосходства.
Ярославская же продолжила тихим спокойным голосом начатый разговор, в котором предложила ему молчать о лаборатории и о своей жизни, а со своей стороны обещала скрыть факт убийства им в общей сложности десятков людей. Последние побоище она заверила выставить как пьяную попойку с последующей жестокой резнёй. Свободу она ему благоразумно не стала обещать, зная, что тот ей не поверит. Но нелюдь только издевательски ухмылялся на её предложения, всем своим видом демонстрируя нежелание идти на компромисс.
— Это твой единственный шанс остаться в живых. И это единственный выбор, который у тебя будет. Который я тебе дам.
— Впервые.
Учёная прищурилась.
— Впервые. И в последний раз. И ты разочаруешь меня, отказавшись воспользоваться этим правом выбора.
— Какая досада. Разочаровать саму Ярославскую.
Нелюдь склонил голову набок, усмехаясь потрескавшимися губами. Наглец. Дерзит, а сам кровью истекает. Наверняка, ведь рану перебинтовали. Но, видимо, она открылась, и теперь помещение заполнил запах его крови, сопровождавший каждую их встречу.
За спиной озлобленно выдохнул Захар, и Ярославская едва не зашипела на него, когда нелюдь резко посмотрел в его сторону и оскалился, сверкая белыми зубами. Разговор явно не клеился. Да и глупо было рассчитывать, что этот…когда-то она мысленно звала его волчонком, но сейчас перед ней стоял матёрый волк…и этот волк плевать хотел на предложение доктора пойти на сотрудничество и не рассказывать о лаборатории. А когда Анжела, разозлившись, вцепилась пальцами в сталь перед собой и прошептала твёрдым голосом, что отпустит, навсегда отпустит недоумка восвояси, если только он согласится на её условия, этот зверь засмеялся так громко, что показалось, сейчас к ним сбежится весь отдел. Громко и издевательски, правда, вот в глазах его тёмных так и не зажглось даже искры веселья. Наглядная демонстрация его веры в её слова.
И тогда доктор заговорила по-другому, желая стереть в порошок этого упёртого недоноска, сравнять с землёй всё то, ради чего он отказывался идти на компромисс. Она имела на это все права. Та, которая создала его, только она одна и имела право его уничтожить. Неожиданно сознание затопило спокойствие, размеренное, ледяное.
Взглядом указав Покровскому на стул, который тот пододвинул ей, она грациозно села и начала рассказ, внимательно следя за калейдоскопом эмоций, замелькавшим на лице нелюдя.
— Знаешь, в чём люди ошибаются чаще всего, нелюдь? В собственной значимости для других людей. Слабые и немощные в своём одиночестве, они придумали целую систему так называемых ценностей, которой маниакально придерживаются, чтобы не отвечать за свои поступки лично. Два взрослых, состоявшихся человека, две личности не просто соединяются для удовлетворения естественных, заложенных природой потребностей, но и для создания подобия животной стаи. Они боятся противостоять другим особям самостоятельно. Они слишком жалкие, чтобы отстаивать свои интересы один на один с подобными себе. Они начинают создавать иллюзии. Выводят каждую линию, закручивая их в кружева. Всё больше кружев, всё красивее, одно налагается на другое. И вот уже плотная ажурная ткань закрывает обзор, мешает видеть собственное ничтожество, придавая ту самую мнимую значимость в глазах общества и в своих глазах.
Нелюдь молчал, скрыв за опущенными веками потяжелевший взгляд.
— Они прикрывают свои никчёмность красивыми словами. Дружба. Семья. Любовь.
В голосе доктора прозвучала несвойственная ему улыбка.
— Они облагораживают этими названиями самые обычные, самые естественные, и поэтому наиболее честные, хоть и непригляндные свои потребности.
— И повинуясь какой из своих потребностей, уважаемая доктор Ярославская снизошла до такого, как я?
Вопрос нелюдя заставил замолчать Анжелу Артуровна. Тот вдруг резко распахнул глаза, по-прежнему горевшие ненавистью.
— Впрочем, мне куда интереснее, какой из этих потребностей должен уступить я и всё же согласиться прикрыть твою задницу, а, доктор? В то время, как мной движет одна-единственная — утянуть тебя за собой в могилу, в которую меня загнала ты.
Уголки губ Ярославской дрогнули.
— Я всё же говорила о людях. Ты не человек…Бес. Возможно, ты забыл об этом? — она позволила себе секунду смаковать ярость, разрушающей волной хлынувшую на неё сквозь стальные решетки, и продолжила, — Возможно, отношение всех этих людей вокруг тебя…вопросы, которые они задавали тебе, как человеку…возможно, всё это ввело тебя в заблуждение. Легло той самой кружевной вуалью на твои глаза, застилая ими правду, которую знаем мы оба. Ты не человек. И никогда им не будешь. Ты — объект. Ты — нелюдь. Ты — ничтожество, которое я изучала каждый день под микроскопом. Исследование, которому отдала столько своих сил. Ты…ты мой труд. Не более того. Как все те исследования, которыми я занималась параллельно. Не возомни о себе большего.
Бес так же едва улыбнулся одними уголками губ и закрыл глаза, всем своим видом демонстрируя полное безразличие.
— Я говорила о своей дочери.
Такое короткое предложение, заставившее напрячься каждый мускул в теле ублюдка. Он всё ещё не смотрел на собеседницу, но теперь, она была уверена, впитывал каждое её слово кожей.
— Она придумала этот мир. Она создала эту иллюзию, облачив её в самые проникновенные слова. Ассоль, — Ярославская едва не подавилась, произнося имя дочери на манер своего мужа, так, как привык называть её подопытный, — скрупулёзно ткала каждый ажурный завиток, чтобы он получился красивым, интересным, завлекательным. Она создала прелестную, изумительную ткань. Для тебя.
Он стиснул зубы так сильно, что Ярославская услышала их скрежет, а затем его глаза медленно открылись и немигающе уставились на неё.
— Что значит "для меня"?
Доктор холодно рассмеялась.
— То и значит, нелюдь. Она создала иллюзию под названием "любовь" только для тебя. И создала её по моему поручению.
Он ухмыльнулся настолько жутко, что доктор услышала шаги позади себя — Покровский вплотную приблизился к её стулу.
— Можешь говорить, что угодно, я тебе не верю.
— Она читала тебе те книги, которые ей приносила я. Она научила тебя писать на бумаге, которую клала в её сумку я. Она считала с тобой на палочках, таких бледно-розовых, и смеялась, когда ты, впервые увидев их, принялся обнюхивать и сразу же засунул несколько штук в рот, попытавшись сжевать.
Теперь доктор смотрела, как заходили ходуном желваки на скулах у заключённого.
— Вы слушали те песни, которые я сочла способными повлиять на твое психоэмоциональное состояние. Затем моя дочь учила тебя танцевать, жалуясь мне каждый день, как ты оттаптываешь ей ноги. Это ведь именно ты порвал ремешок на её голубых сандалиях.
Доктор глубоко вдохнула в себя воздух, пропитавшейся вонью крови и пота нелюдя. Она определенно будет скучать по атмосфере боли, царившей между ними все эти годы.
— Это была своеобразная социализация объекта. Дрессировка. Как дрессируют пойманное в лесу животное, приучая его ездить на велосипеде или приносить в зубах тапочки. Никакой разницы. Метод кнута и пряника. Кнут ты получал от меня. Ну а пряником для тебя стала Ассоль.
— Убирайся.
Сказал тихо и хрипло, но с такой угрозой в голосе, что Ярославская невольно вздрогнула и тут же возненавидела себя за эту слабость, стараясь незаметно для оппонента собрать оставшиеся силы и спокойствие и продолжая рассказывать обо всём, что прочла в эти дни в дневнике дочери. Обо всём, что, как справедливо думал нелюдь, знать должны были только эти двое.
— И ты знаешь, моя дочь в чём-то даже превзошла меня. И если я знала всё досконально о твоём теле, то она изучала твою душу. Впрочем, ведь она не побрезговала и телом, так, нелюдь?
Бес медленно поднялся со скамьи и шагнул к доктору.
— Убирайся, я сказал.
— Я могу назвать по датам каждое ваше тайное свидание. Но это ведь тебе ни о чем не говорит? А тот факт, что я сама готовила их? Так же, как те самые книги и аудиокассеты с музыкой? Помнишь тот ваш раз после того, как тебя избили? Тогда мне даже пришлось уговаривать её прийти к тебе. Вид у тебя был, прямо скажем, так себе тогда.
— Выметайся.
Ещё один шаг навстречу, и доктор буквально спиной чувствует, как меняется, учащается дыхание её охранника.
— Ты знаешь, я часто думаю, что Ассоль намного сильнее меня. Потому что я была бы неспособна на такие жертвы. Даже во имя науки. Принять в себя недочеловека? Презренную тварь, подобную тебе? Знаешь, куда она бежала после ваших встреч? В ванную комнату, чтобы смыть с себя следы твоих грязных лап. А оттуда к тому, кто помог бы забыть об этом унижении.
Нелюдь вдруг снова усмехнулся.
— Я повторю свой вопрос, доктор. На что ты рассчитываешь, явившись сюда и старательно опуская в моих глазах свою дочь? Думаешь, я поверю хотя бы одному твоему лживому слову? Что может побудить мать так отзываться о собственном ребенке перед таким недочеловеком, как я? Перед полным ничтожеством? Если вы вместе претворяли в жизнь ТВОИ планы, то почему сюда ты пришла одна? Почему позади тебя стоит твой шкаф, а не дочь? У тебя ведь нет правдивых ответов ни на один мой вопрос, доктор? Тогда проваливай отсюда. И как можно дальше. Потому что я уже начал тянуть за собой тебя и твоих приспешников. И продолжу делать это со всем удовольствием, на которое способны звери, разрывающие надвое своих дрессировщиков.
Теперь нелюдь стоял уже вплотную к решетке камеры, впиваясь в неё длинными смуглыми пальцами. Прогоняя Ярославскую и в то же время, и она чувствовала это кожей, жадно ожидая ответа именно на свой последний вопрос.
— А после ванной комнаты она шла к тому мужчине, который помогал ей забыть твои прикосновения.
Верхняя губа ублюдка начала подрагивать, слегка обнажая зубы.
— Ты ведь верил её рассказам о жестокой матери, отправлявшей её к Бельским на неделю-другую? Ты упивался осознанием собственной значимости для нее. Тебе ведь было приятно до дрожи, что для неё приоритетом был твой грязный вонючий вольер, а не огромный особняк Бельского, превосходившего тебя во всём.
Глухой рык сорвался с оскаленных губ мужчины, и Ярославская невольно отпрянула назад всем корпусом.
— Он дарил ей украшения, а она говорила, что это от покойной бабушки. Я знаю всё это, нелюдь. Как знал и ты. Ты ведь чувствовал его запах на ней. Но продолжал озираться вокруг только через черную кружевную ширму. Но всему приходит конец.
Ярославская достала из кармана фотографии и бросила их на пол камеры, вставая со стула и отступая.
— Ознакомься с ними, нелюдь. На них Ассоль со своим женихом. Со своим настоящим женихом.
Нелюдь автоматически проследил взглядом за рассыпавшимися по полу фотографиями, но не стал рассматривать их при ней, тут же повернувшись к доктору. Ничего. Он обязательно будет изучать каждый запечатленный кадр. Ярославская очень тщательно подбирала их. Только те, на которых Витя обнимает Алю или танцует с ней. На одном даже умудрился поцеловать девушку, после чего получил затрещину. Но продолжения ведь нелюдь не увидит. Только то, что сочла нужным показать Анжела Артуровна. Только то, что выбьет почву из-под его ног. Должно выбить, если доктор не ошиблась и правильно изучила своего подопытного.
— Ты называл её своей религией. Посмотри, насколько лживой может быть вера.
И аккуратно протянуть между решеток прямо к его пальцам несколько листков бумаги. Страницы из дневника Али, на которых та, ещё будучи совсем девочкой прописывала каждый свой день, проведенный рядом с нелюдем. Лишённая общения с матерью и её внимания, дочь обращалась в своем дневнике именно к ней. Каждая запись как отдельное письмо. Некоторые — как полноценный отчёт с указанием времени посещения "мальчика" и подробным описанием совместных занятий. Своеобразная игра в учёного, которую когда-то в детстве вела Ассоль.
КОНЕЦ ПЕРВОЙ КНИГИ
Продолжение следует в Бесе 2
Примечания
1
Наоми Вульфc солистка группы "Hooverphonic"
(обратно)2
Подразумевается Элла Фицджеральд и песня "Summertime".
Летний зной, жизнь — проста, прекрасна (англ.)
(обратно)3
Рыба плещет и хлопок высок. (англ.) (Элла Фицджеральд "Summertime)
(обратно)4
Твой Папа богат, а Мама красива (англ.)
(обратно)5
Утихни, малыш, не плачь, засыпай сынок (англ.) (Элла Фицджеральд "Summertime)
(обратно)6
Однажды с песней ты поднимешься рано(англ.)
(обратно)7
Крылья вскинув, взлетишь в простор голубой. (англ.) (Элла Фицджеральд "Summertime)
(обратно)8
А пока здесь тебя вряд ли кто-нибудь ранит: (англ.)
(обратно)9
Ведь папа и мама закроют тебя собой…(англ.) (Элла Фицджеральд "Summertime)
(обратно)







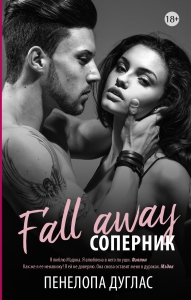

Комментарии к книге «Нелюдь», Ульяна Соболева
Всего 0 комментариев