Джейми Каейн Инструкция на конец света
Перевод: Лиза Журавлева
Редактор: Наталия Т. Марина С.
Сверщик: Марина К.
Вычитка: Татьяна Туровец
Обложка: Ekaterina Dmitrenko
Специально для группы Y O U R B O O K S
При копировании перевода, пожалуйста, указывайте переводчиков, редакторов и ссылку на группу.
Часть первая
Конец света, как он нам известен.
3 августа 2002 года.
К тому времени как ты вернёшься, конец света, возможно, уже наступит.
Конец света, апокалипсис или ледниковый период, второе пришествие, что бы то ни было.
Может быть, ты думаешь, я никогда не слушала достаточно внимательно, никогда не воспринимала твои предупреждения всерьёз, но это не так. Я всё помню.
Ты сказал, мир может сгореть в огне или замёрзнуть, не важно, нужно быть готовым к худшему.
Ты говорил: выживут только сильнейшие.
Думал, нам был нужен продуманный план и, желательно, ещё и надёжный запасной.
Ты подготовил нас к самым немыслимым сценариям, кроме одного, того, что и произошёл.
Итак, что же нам делать, если апокалипсис начался «изнутри»? Когда рушится наша семья, а не сама цивилизация?
Пока ты был занят подготовкой к катастрофе, возможно, самое страшное уже произошло, и это вовсе не то, о чём ты думал.
Глава 1
Вольф
6 июля, 2002 год.
С кроны дерева мир кажется совершенно другим. Можно заметить, какими спокойными бывают животные, и ещё много того, что люди обычно не хотят видеть.
Если бы вы сидели на мадронском дереве, то вы бы слышали, как грузовик движется по гравию, до того, как увидели машину. Она въехала на поляну и остановилась у заброшенного дома.
Из белого грузовика вышел мужчина и прошёл к водительской двери другого авто, где сидела женщина. Дверь машины заклинило. Мужчина попытался её открыть, а затем что-то произнёс. Похоже, он не знал что делать.
Их машины – новые, блестящие, чистые и гладкие, прямо как авто в рекламе – серебристый седан и большой белый грузовик, за которым на прицепе следовал трейлер. Никаких пыльных машин, на которых я ездил в детстве.
Я устроился на сгибе дерева, подогнул под себя ногу так, чтобы не заснуть, и положил плечо на прохладную древесину. Дерево мадрона называют холодильником. Даже в самые жаркие дни на нём всегда будет свежо. Причём никто толком не знает, почему так. Тем не менее, эта особенность меня очень радовала, особенно в такие жаркие дни.
Я всё ещё сидел и молчал. Практиковался в своём занятии: представлял как здесь могли сидеть коренные американцы сотни лет назад, ещё до того как пришли белые люди.
Через некоторое время моё терпение было вознаграждено – я увидел маленького зайца: его пыльно-коричневая шерсть переливалась на длинном, гибком тельце, и он с лёгкостью выпрыгнул из норы. Спустя пару секунд показались уши его крольчат, их чёрные бархатные
глазки смотрели по сторонам, ища маму. Из своих наблюдений я понял, что они не выпрыгнут наружу, пока крольчиха не позовёт их на том тихом языке, на котором они разговаривают. Она будет толкать детёнышей обратно в нору, снова и снова, и так до тех пор, пока они не вырастут достаточно большими, чтобы найти себе еду, и достаточно быстрыми, чтобы убежать от хищников.
Но будет большой удачей, если выживут хотя бы некоторые из них.
Я понимал, что природе необходимо соблюдать баланс «Ястреб должен съесть зайца», но мне всегда казалось, что это жестоко. Я не мог понять, почему жизнь, такая невероятно хрупкая и удивительная, вот так просто может быть разрушена. Махеш сказал бы, что в действительности, жизнь не прекращается, ты всего лишь снова вернешься к матери-земле, но вот и объясните это крольчихе, которая пытается сохранить жизнь своим детёнышам.
Вероятно, она понимала всё это гораздо лучше, чем я.
Наконец, маленькая темноволосая женщина сумела выбраться из машины и встала около нее, скрестив на груди руки в довольно строгой позе. Затем она пробралась сквозь заросший сад к крыльцу и пошла за мужчиной.
Если бы вы были рядом, вы бы поняли, какое удовольствие я испытал, увидев девочку, выбравшуюся с пассажирского сидения пикапа и побежавшую к родителям. И хотя я не мог рассмотреть её в деталях, всё же у меня сложилось о ней кое-какое впечатление: длинные тёмные волосы, заплетённые в косичку, сама она была худенькая, одетая в джинсы и белую майку. У неё была одна особенность, – она двигалась так легко, будто её нисколько не волновали неубранные, заросшие окрестности.
Последней из машины вышла другая девочка. Наверное, она сестра первой, но была меньше ростом и младше. Цвета в её одежде были совершенно необычны для этого пыльного места: ярко-розовый и бирюзовый. Она что-то крикнула остальным, а затем вприпрыжку побежала сквозь сад.
Сопоставив пару фактов, я понял, что прибывшая в долину семья – это соседи одного вредного старика, и всё то время, что я помню, там не было больше никого. Сам этот старик приезжал в дом только раз в год на некоторое время для охоты на оленей.
Семья уже освоилась.
А я был одинок.
Это чувство мучило меня даже до того, как эти, новые, приехали. Началось всё с моей мамы, которая приехала месяц назад.
Вам, наверное, будет любопытно узнать, зачем я наблюдаю, и это будет хорошим вопросом. А вот почему я решил рассказать о себе, думаю, никому не стоит знать. Я сидел на этом дереве, потому что оно стояло между местом, которое я считаю своим домом, и местом, которое зовётся моим домом.
Когда мама уехала в прошлом году, мне стало легче, как если бы я, наконец, удалил больной зуб, но следом за этим пришла пустота. Она появилась там, где этот зуб некогда находился.
А потом, после многих вещей – я изменился. Привык спустя год или больше. Прекратил скучать по «зубу», научился жевать на другой стороне рта и когда вспоминал это, то помнил только боль, которую он вызывал, и снова испытывал облегчение от его отсутствия.
Но моя мать это не коренной зуб, и даже не клык. Она – наркоманка. Как-то она сказала, что выздоравливает, но мне всего лишь семнадцать. Что я должен был делать с распустившейся матерью теперь? Что делать с ее новой религией «Двенадцати шагов», ее высшими силами или с ее псевдо-Иисусом, что вписывается в жизнь деревни так же хорошо, как змея в курятнике?
Мне всё это не нужно, поэтому я постоянно пропадаю на деревьях. Только они меня никогда не разочаровывают.
Ну, хорошо, не совсем пропадаю. Там я строю дом. Тайный дом на дереве, маленький по размеру, но огромный в фантазиях.
Скоро я буду жить, совсем как мой герой Торо, в хижине на дереве. Только выше (прим. ред.: «Уолден, или Жизнь в лесу» (англ. Walden; or, Life in the Woods)– главная книга американского поэта и мыслителя Генри Дэвида Торо. В этой книге Торо описывает свою собственную жизнь, тот её период, когда он в течение двух лет один жил на берегу Уолденского пруда в Конкорде). Может быть, всё это закончится строительством моста на Луну. И я буду изучать то, что принесет мне абсолютное одиночество.
* * *
Вся семья скрылась в доме, оставив снаружи лишь тишину, что мгновенно заполнила поляну. Даже цикады были неподвижны очень долгое время.
И я уже собирался слезть и поискать место менее людное, как вдруг услышал скрип парадной двери, она немного приоткрылась и снова захлопнулась. Присмотревшись, я увидел мужчину и девочку, ту, что постарше, не испуганную сорняками. Мужчина сказал что-то и дал девочке ружьё.
Может, это пистолет?
Но он длинный, чёрный и выглядел весьма зловеще при солнечном свете.
Плавным движением девочка положила ружьё на плечо, так, будто она уже делала это тысячу раз. Я был ошарашен, потому что потом она направилась к деревьям, – и ко мне.
Николь
Всё является испытанием.
Если я дрогну, я провалюсь.
Если я скажу «нет», я провалюсь.
Если буду колебаться, я провалюсь.
Будучи дочерью своего отца, я знала, как выживать, пусть даже он подготавливал меня не совсем к этому. Я перешла поле и направилась к лесу. Маленькая папина девочка-солдат.
Всё, что вам хотелось бы узнать о лейтенант-полковнике (в отставке) Джеймсе Риде, вы можете прочитать в его собственной книге «Конец света как он нам известен» – это руководство по выживанию во время апокалипсиса или ледникового периода, всемирного землетрясения, ну или какой-то невероятной катастрофы, которая настигнет человечество.
Отец делал ставку на социально-государственный распад, вызванный стихийным бедствием с последующей нехваткой воды и пищи.
Пожалуй, эта теория не хуже остальных.
Всегда была одна вещь, которая меня интересовала, но я не осмеливалась озвучить её вслух: если Бог есть, почему мы так уверены в том, что он хочет, чтобы мы выжили?
Отец ответил бы на этот вопрос, я уверена. Он бы сказал, что нас выбрал Бог; мы были созданы в его воображении, и он дал нам знания и множество умений, чтобы пережить любую катастрофу, с которой мы столкнёмся.
Но что, если книга папы попадёт в руки к кому-то, кто не был избранным? Хотелось бы знать, что было бы, если б я была другим человеком, с иной жизнью, и очень, очень далеко отсюда. Мои размышления о Боге совсем отличаются от папиных.
Книга отца не содержит глав о нём лично. Ничего подобного, строго руководство по тому, как очистить воду, найти и построить убежище, снять шкуру с животного, зажечь огонь в любую погоду при любых обстоятельствах, вправить сломанную кость с теми материалами, что под рукой, и прочее. Вот по этим главам вы можете догадаться, что за человек написал эту книгу.
По крайней мере, сможете предположить.
И, скорее всего, угадаете.
Джеймс Рид из тех парней, что могут перевезти всю семью в новый дом, который никто до того и не видел – может только на старом семейном фото – потому что он решил, что мы будем там жить. Даже не спросив нашего мнения.
И вот – теперь все мы здесь, в этой глуши. Все мы – это я, мама, Иззи (сестра). Каждая ошарашена и потрясена по-своему.
Сейчас я: на сорок процентов ошеломлена, на пятнадцать процентов в шоке и сорок пять процентов даже не знаю что. Может заинтригована.
Мама: поражена на шестьдесят процентов, возмущена на сорок.
Иззи: удивлена на тридцать процентов, шокирована на шестьдесят процентов и парится о своих волосах на десять процентов.
Участок, куда привез нас папа, совсем не похож на те места, где мы жили раньше, а меняли место жительства мы очень часто (тут уж спасибо папиной карьере военного). Этот дом принадлежал моим прапрадедушке и прапрабабушке, он был построен больше ста пятидесяти лет назад на деньги, вырученные моими родственниками с продажи бакалейных товаров шахтерам во время Золотой лихорадки.
Этот дом представлял собой двухэтажный полуразрушенный особняк, совсем неуместный среди этого ландшафта; окруженный лесом, он был похож на сгорбившуюся старушку, ожидающую смерти. Видимо, изначально дом был белого цвета, но почти вся краска отвалилась, обнажив серую облицовку.
Вокруг были только деревья и холмы, которые ближе к западу перерастали в крутые горы. Даже притом, что это вроде как дом нашей семьи, я никогда раньше здесь не бывала. Потому что папа не был близок со своими бабушкой и дедушкой, а после них тут долгое время никто не жил. Но, так как отец был единственным ребенком в семье – он унаследовал этот дом после смерти дедушки в прошлом году.
Прежде чем мы сюда добрались, я пыталась представить себе это место, но оно было так далеко, что я едва ли могла бы найти его на карте.
Отца не больно-то интересовала остальная часть мира. Он сказал нам только, что в доме будет погреб для маринада и большой гараж, пристроенный в шестидесятых, где отец будет хранить свои множественные запасы, которые он копит как сумасшедшая белка, подготавливающаяся к самой долгой зиме в мире. Ещё он сказал, что в двадцати акрах от нас находятся предгорья Сиерра, местность там будет в основном лесистая, и будет большая, чистая поляна для двухакрового сада и каких-нибудь домашних животных, будет даже своя, работающая круглый год, подземная скважина и септическая система.
Таковы были мои фантазии с тем полученным, весьма скудным количеством информации, но реальность представилась иначе.
Нашим домом на ближайшее будущее оказалось самое неухоженное здание, какое можно увидеть разве что в фильме ужасов.
Надеюсь, что здесь хотя бы есть водопровод. Я вспомнила об этом, потому что отец не так давно прочитал мне целую лекцию о жизни без водопровода – как собрать проточную воду и использовать ее вместо смыва в туалете, и что нам действительно лучше использовать дворовый туалет для своих целей (будто это закалит нас).
Мама точно его использовать не будет, даже ночью.
Она родилась в семидесятых в Камбодже, ее первые воспоминания были о голоде и о том, как она пряталась в джунглях. Как-то, в довольно редком для нее порыве, она поделилась с нами, что видела, как ее старшего брата убили выстрелом в спину, когда он пытался убежать с массовой резни, учиненной в ее деревне Красными кхмерами. Когда маме было шесть, ее родители были вынуждены иммигрировать с ней и оставшимися родными в Соединенные Штаты, в Южную Калифорнию, где они должны были жить нормальной загородной жизнью, но, конечно, чувствовали они себя отвратительно после всего, что произошло.
Поэтому мне было понятно, что мама не собирается ничего принимать, кроме условной жизни среднего класса. Даже папины планы о возвращении особняку былого величия не вызывают у нее энтузиазма.
Когда я думаю о нашем ранчо в пустыне, то совсем не испытываю сожаления, но знаю, что мама очень скучает по тому дому. Наш бывший район всегда казался мне пустым местом без души, уверена, его бы выбрали зомби (если бы у них была работа и счет в банке).
Сложилось такое впечатление, что пригород кажется маме местом кровожадных диктаторов-убийц, которые всегда будут отрицать свою причастность к смерти миллионов людей.
Мама поддерживает в доме идеальную чистоту и порядок. И она любит, когда в доме полно новых, интересных и современных штучек – как раз то, чего в новом жилье явно не хватает.
Нашему прибытию сюда предшествовало десятичасовое путешествие через пустыню и Центральную долину. Мы выехали в ноль-четыреста часов, что значит на рассвете, то есть в четыре утра (если вы не живете по-военному времени).
Мама ехала на своей «Хонде» вместе с Иззи, а я была в грузовике с папой. За грузовиком, на прицепе следовал трейлер, весь забитый нашими вещами и домашними принадлежностями. Остальное потом нам должна доставить транспортная компания.
Для нас провели пятиминутную экскурсию по дому, во время которой я узнала, что в доме есть «страшная» ванная, а также спальни для каждого из нас.
Потом нас всех нагрузили работой – Иззи и папа разгружали трейлер, я была в поиске ужина, а мама осталась на кухне, выглядев при этом очень недовольной.
Она была так зла, что я даже не знаю слов, способных описать ее гнев. Это было весьма плохим знаком, но мой отец – профи в игнорировании женских эмоций. Он делает это на протяжении многих лет.
Найти ужин – для большинства это означает открыть холодильник или заказать еду на дом. Но не для моей семьи. В быту Ридов вы должны будете добывать еду самым древним способом, каким только возможно. Это делаю я или отец.
Мама с младшей сестрой не подписывались на такой, настроенный на выживание, образ жизни. Они не обучены к приспосабливанию, «выживанию».
Что касается мамы, такой режим явно не для нее. Ее семья итак по приезду в Америку отчаянно пыталась спастись. И у них получилось. С шести лет и далее, пока мама росла в Лонг-Бич, она научилась любить все американские вещи и все, что касалось среднего класса. У нее не было романтических идей о том, как эта жизнь тяжела.
Итак, я – девочка с ружьем, бесцельно разгуливающая между деревьев в надежде поймать что-нибудь более впечатляющее, чем обычная белка. Но сейчас не то время для охоты – слишком светло и душно после обеда. В это время животные прячутся, пережидают жару. После того как солнце спустится в долину, там обязательно появятся олени, кролики и другая живность. Мне кажется, лучше всего для этого подходит раннее утро, когда звери рискуют покинуть свои убежища и ищут еду на день.
Но папа любит усложнять мне задачи. Он хочет знать, что я выживу независимо от того, что может случиться. У отца не было сына, на которого он возлагал такие надежды, он привык передавать свои знания мне, Иззи же обычно отказывалась принимать участие в чем-либо, происходящим вдали от дома.
А я с одной стороны даже очень рада, что нахожусь в окружении неба и растений.
Пробираясь вдоль заросшей тропы, я чувствовала приятную тяжесть оружия в руках. В такие моменты меня всегда одолевают два чувства, между которыми я то и дело мечусь. Это нежелание стрелять в бедных животных, которые всего лишь пытаются жить своей жизнью. В своих мыслях я не выполняю каждый приказ, чтобы угодить отцу.
Но в реальной жизни я думаю: «Я же дочь своего отца», и появляется другое чувство – гордость. В охоте я действительно преуспела. Могу подстрелить утку в полете, затем ощипать ее и приготовить ужин на открытом огне, если необходимо. Но насколько же сильно я иногда устаю от постоянных папиных наставлений, хотя, настолько же мне нравится осознавать, что я полностью могу позаботиться о себе сама. Мне никогда не нравилось сталкиваться с убийством животных, но я понимаю, что только так мы можем добыть еду.
«Пойдем, поищем ужин», – так папа говорит в начале каждой охоты. И приходится идти.
В такие моменты я всегда продумываю варианты своих ответов, думаю о том, как сказать «Нет».
Может заявить как-нибудь, что я – вегетарианка, просто хочется посмотреть на его реакцию. Но я не скажу. Я такая бунтарка только в своих фантазиях.
Жара обжигает мне кожу, с меня текут ручейки пота по спине и груди. Моя майка уже прилипла к телу, и я мечтаю о какой-нибудь другой одежде вместо джинсов и ботинок, но, в конце концов, здесь повсюду жгучая крапива и эта одежда сможет защитить меня от этого ужасного растения.
Вблизи деревьев мои чувства почему-то обострились.
Там, на краю поля что-то мелькнуло, деревья помогут мне начать игру. Я выбрала дерево, на которое смогу опереться, и стала вести себя ещё тише, замедлила дыхание и ждала. Мне на лицо сел комар, но я не стала его смахивать.
Вскоре мне повезло: я услышала какой-то шорох около упавшего дерева. Достаточно близко я увидела коричневатого зайца и вскинула ружье.
Я уже прицелилась, когда услышала голос, воскликнувший: «Стой!».
Держа зайца на прицеле, я вздрогнула и чуть было не выстрелила, но отец хорошо тренировал меня.
Только я, ослабив давление на курок, опустила ружье, как заяц спрятался в зарослях, и я повернулась на звук голоса.
Там был парень, моего возраста, с довольно длинными вьющимися волосами, он слезал с дерева. Он был так одет (всё выцветшего коричневого и зеленого цвета), что если бы он не заговорил, то я бы его и не заметила.
– У этой крольчихи есть детеныши! – крикнул он, как только очутился на земле. Он смотрел на ружье и медлил. Поэтому я совсем опустила его.
– Это мой ужин, – без эмоций пробормотала я.
Он подошел ближе, и я напряглась, но было интересно, кто он и почему он здесь, на нашей собственности.
На дереве.
Судя по всему, он наблюдал за мной.
Но как только он приблизился, я увидела в нем что-то привлекающее меня: он был такой открытый, честный, совсем не опасный. У него были золотисто-коричневые глаза, которые светились, как и его кожа, как будто его что-то подсвечивало изнутри. Он выглядел довольно симпатичным, но слишком мелкие черты лица делали его похожим на девушку.
Я рассматривала его, во рту все пересохло, и я не могла что-либо сказать, пока он не остановился в нескольких шагах от меня и не протянул руку, но подал ее как-то неловко, будто никогда не делал этого раньше.
– Я Вольф, – сказал он.
Я посмотрела вниз, на протянутую руку, и мне показалось это странным, как будто мы начали бизнес-сделку здесь, в деревьях.
Тем более, что он не был похож на человека, которого заботят формальности.
И когда я не протянула руку в ответ, он заулыбался и повернул кисть ладонью вверх.
– Я без оружия, – сказал он. – Рукопожатие должно было просто помочь нам познакомиться.
Я опустила ружье и положила его прямо на землю.
– Я охочусь, – ответила я.
Как глупо.
«Какая нормальная шестнадцатилетняя девушка будет охотиться, чтобы добыть себе ужин?» – этот вопрос возник в моей голове, когда я посмотрела в глаза Вольфа.
Обычно меня не волнуют подобные вещи, потому что мне вообще было строго запрещено встречаться или даже знакомиться с парнями (и что это должно было сказать обо мне, ведь я спокойно смирилась с этими правилами?), но это парень, которого я раньше не видела.
– Верно, – сказал он и так выгнул бровь, как будто я рассказала какую-то шутку. – Как твое имя?
– Николь. Что ты делал на нашем дереве? – вдруг спросила я.
– Приятно познакомиться, Николь, – он посмотрел наверх, как будто там, в ветвях, он мог найти ответ на мой вопрос. – Я не знал, что это твое дерево.
Я покраснела и растерялась, даже не зная, что сказать. В воображении случайно возникла карикатура странной деревенщины, которая стоит вот здесь с моим ружьем и приглядывает за границами своих владений.
– Ты не ответил на мой вопрос.
– Я наслаждался тишиной. Там, где я живу, иногда слишком людно.
– И где это?
– Деревня Садхана, – сказал он, кивнув в сторону востока. – Знаешь, где это?
Видимо, мое отсутствующее выражение на лице ответило за меня, потому что, после того как я ничего не ответила, он продолжил.
– Она находится по соседству с вашей собственностью – там центр духовной терапии.
– Ты имеешь в виду то здание для йоги? Мы проезжали мимо указателя. Я и не думала, что там живут люди.
– Ага, это деревня на самообеспечении. Там постоянно проживает около сотни наших.
Я моргнула, вспомнив, как отец прокомментировал указатель, когда мы выехали на дорогу. Он пробормотал что-то о хиппи и сказал мне держаться подальше от «этих людей».
От этого парня.
– Ааа, – сказала я. – Насколько я помню, мы тогда говорили о хиппи, об их настоящей жизни, не как о персонажах из фильма или человека на Вудстоковском фото в моей тетрадке по истории.
Тут мой живот издал какой-то странный звук и я, как обычно, почувствовала себя не самой классной девушкой на планете.
А ещё я немного вспотела, осознав, что я осталась наедине с этим взъерошенным парнем среди леса. Я бывала среди парней – нормальных парней, носящих майки с надписями и джинсы и говорящих о футболе – но никогда не оставалась с ними наедине. Никогда.
У этого парня, Вольфа, был такой взгляд, как будто он заглядывает мне прямо в душу. Он смотрел мне в глаза не моргая, и это меня начинало нервировать. Меня никогда не разглядывали так пристально.
Я отвела взгляд первая и стала изучать землю под ногами, а потом снова посмотрела на него узнать, пялится ли он на меня еще. Как будто ему не говорили, что смотреть так, в упор, неприлично.
– Мне нужно идти, – сказала я.
Он кивнул и его взгляд остановился на ружье.
– Точно, твой ужин.
Я даже не сказала «пока». Просто повернулась в направлении убежавшего зайца. Я знаю, что не найду его уже. Даже если бы и нашла, мне бы не хватило духу его убить.
Иногда мне кажется, нет ничего отвратительнее меня, когда я держу в руках заряженное ружье – силу, направленную на разрушение, но с нажатием на курок, все путается и начинается работа воображения.
«Такова жизнь, – сказал бы мой отец, – и наша задача – быть первыми в игре на выживание».
Но что, если он ошибается?
Что, если он неправ во всем этом?
Именно эти вопросы мучили меня с каждым днем всё больше и больше.
Глава 2
Изабель
Я не собираюсь жить в этом тараканьем мотеле с привидениями. Нет, нет и ещё раз нет.
Мой отец – король страны сумасшествия.
Он надевает свою странную шляпу и произносит свои непонятные речи, и столько, сколько я себя помню, моя тупая сестра ему верит.
Я замечала его странности еще до того, как стала достаточно взрослая, чтобы ездить на велосипеде, но Ник? Ей точно промыли мозги.
Я помню его разговоры о том, как закончится еда и вода, еще тогда, когда я была совсем маленьким ребенком, и мне ведь тогда было интересно, блин… Мы могли ходить по магазинам и покупать кучу всего. Вы когда-нибудь видели супермаркет «Сейфвей»? В нем хватило бы еды нам на всю жизнь. Я даже была уверена, что отец никогда не был внутри продуктового, потому что мама накупила и приготовила еды на все ближайшее время.
А сейчас я была просто нереально возмущена тем, что моей спальней будет самая отвратительная и вонючая комната, и я уверена, что в своей неадекватности отец вышел на новый уровень, вместе с иллюзиями, которые он питал по отношению ко мне.
Это началось где-то после девятого ноября. Когда весь мир сходил с ума, у моего отца был ментальный перерыв. Но этот дом, эта спальня стали последней каплей для меня.
С чего бы начать?
Всё вокруг в темно-коричневой деревянной обивке, а на полу лежит лохматый зеленый ковер, от которого пахнет так, будто на нем выкуривали как минимум по пачке сигарет в день и... я не пойму, это всё всерьёз? Нет, правда, серьёзно?
И я не имею права возражать, потому что в этом случае мне прочитают часовую лекцию и выдадут дурацкий список заданий типа порубить дрова или почистить туалет зубной щёткой.
Поэтому я стою, жую жвачку и громко лопаю пузыри – единственный возможный протест в этой ситуации.
В этой жаре мои волосы стали очень пушистыми и превратились в какую-то странную прическу. Это и неудивительно, тут даже нет кондиционера, хотя сейчас мне бы хватило просто найти зеркало и попытаться спасти свои волосы, пока они не «канули в Лету».
Где-то тут я уже мельком видела ванную, но я не собираюсь ей пользоваться.
Там стоит зеленая раковина, зеленая ванна и… вы готовы к этому? И зеленый (!) туалет.
И совсем не того оттенка зеленого, о котором вы могли бы подумать.
Я слышала, мама пробормотала что-то об уродливом авокадо, но нет, это скорее цвет болота или чего-то противного, такой цвет вы бы выбрали, если бы хотели нарисовать огра или показать кому-то оттенок уродства.
Пока отец повел показывать Ник ее комнату, я улизнула на заднее крыльцо, спустившись по лестнице и пробежав через коридор. Там я достала компакт-диск из кошелька, поставив его на крыльцо таким образом, чтобы было видно мое отражение, и стала заплетать косички.
Получились две тугие косы, и они не имели права еще раз распушиться. А потом я заметила, что мой блеск для губ пропал.
Отец запрещал нам наносить макияж, но иногда у меня получалось убеждать его в том, что блеск для губ не является частью макияжа, потому, что он прозрачный (ну почти) и он нужен исключительно для того, чтобы уберечь губы от трещинок и сухости.
Естественно, отец не одобрял нанесение блеска, но, как правило, он и не замечал, что я его использую.
Он постоянно ограждал нас от вещей, нормальных для девушек, например, запрещал прокалывать уши (да и любую часть тела), потому что нельзя было хоть как-то выделяться, нельзя было носить милую одежду и даже носить туфли пусть и на самом маленьком каблуке.
Будь его воля, он бы вырядил нас с ног до головы, как девочек-пионерок: тусклые длинные волосы до колен (которые бы очень сильно секлись, так как отец не понимает, зачем нужно вкладывать деньги в такую бесполезную штуку как стрижка); какие-нибудь старенькие туфли на шнуровке, будто созданные для того, чтобы заставить парней обходить меня стороной.
Он действительно думает, что так должны одеваться девочки нашего возраста.
Правда!
У него просто снесет голову, если он найдет наш тайник с косметикой, который я прячу на дне сумки, или одежду, на которую я накопила – что я вряд ли одену – только с маминой помощью.
Мама не согласна с папой в плане запретов на одежду и макияж, но она сказала, что выбрала свой путь, чтобы это не означало.
Наверное, она имеет в виду то, что она соглашается с отцом, чтобы он ни сказал, и тогда, когда он не видит, она делает что хочет, а он типа не замечает ее уловок.
Так что, думаю, нет ничего страшного, если я поступлю также.
Я как раз заканчивала плести вторую косичку, когда услышала голос мамы, он был с нотками злости, и я начала кусать губы, думая, где можно скрыться, чтобы избежать ругани.
Но это был лишь первый порыв, я немного успокоилась, когда поняла, что она возмущается из-за этого дома и по поводу того, что она отказывается здесь жить, на данный момент я не могу с ней не согласиться. Я бы могла даже поддержать ее в этом желании убраться отсюда.
Хотя, нет, не смогла бы, была моя вторая мысль, после того как я услышала голос отца, я не поняла что именно он сказал, и приблизившись к ним я стала свидетелем кое-чего, ранее мною не виданного во всех их ссорах.
После того, как отец сказал матери заткнуться хотя бы на минуту, она влепила ему пощечину.
Это вовсе не первый раз, когда он предлагает ей помолчать, но, насколько я помню, впервые она ударила его.
Мои глаза широко распахнулись от удивления, и я поторопилась изменить выражение лица, будто всё это не так важно, да и вообще, я ничего не заметила, потому что, если отец увидит, как я таращусь, неизвестно, какое наказание он выдумает.
Снять шкурку с курицы; найти, выкопать и выкинуть камни с огорода…
Пару минут ничего не происходило, всё как будто замерло. Мой отец был в шоке от того, что мама ударила его, он стоял и непонимающе моргал, его лицо порозовело от злости, и на нем проявился красноватый отпечаток руки мамы.
Должно быть, жара совсем свела их с ума.
Я заметила какое-то движение в комнате, и увидела Ник, видимо она тоже стала свидетелем этой сцены. На ее лице застыло глупое выражение, рот приоткрылся.
То, что мама осмелилась ударить отца, но и сделала это при нас – это просто ужасно, кажется, даже воздух между всеми нами трещит от напряжения.
Когда напряжение, наконец, спало, отец поднял руку, как будто хотел перехватить мамину ладонь, но она закричала: «Не трогай меня!» и увернулась от его руки.
В следующую секунду мама выбежала из дома, отец побежал следом за ней. Николь тоже рванула за ними, видимо думая, что спасет ситуацию и окажется «хорошей дочерью».
А я просто стояла и смотрела, желая увидеть, кто же выйдет победителем.
Конечно, про себя я аплодирую маме, но за всю мою жизнь она, пожалуй, худший оппонент для «каменного» отца.
На улице я с удивлением обнаружила не продолжение драки, а совсем иную картину – папа прижал маму к себе и обнял, но она начала вырываться и плакать. После нескольких неудачных попыток, мама притихла в его руках и мои надежды на то, что мы покинем этот дом, плавно растворились в воздухе.
Николь
Родители никогда не дрались вот так, или хотя бы не при нас.
Драка предполагает двоих участников, а отец, как правило, не принимает в этом участия. В такие моменты как сейчас, когда мама зла на него. Она начинает пытаться сказать ему что-нибудь, и, когда он не отвечает, она начинает выражать недовольство с сильным кхмерскими акцентом, пока не прекратит говорить на английском совсем. И после того, как он так и не отвечает, мама носится вокруг дома, хлопает дверьми или затевает уборку.
Свидетелем таких выходок я была множество раз, в детстве я думала, что виновницей всему была мама, то, что она поступает очень нехорошо. Со временем я передумала.
Всё это сложнее, чем кажется.
Что, если один человек зол, а другой человек его всё время игнорирует?
Что, если у человека, о котором тебе следовало заботиться, как ни о ком другом, есть проблема, но ты ничего не делаешь, чтобы помочь? Или вы делаете вид, будто не слышите этого вообще?
Сейчас уже за полночь. А я лежу в спальном мешке в темноте, свернувшись и обнимая подушку.
Мама вопит, отец молчит. И его молчание громче любого крика.
– Ты меня никогда не спрашивал, – заявила мама, – ты просто привез нас сюда, даже не посоветовавшись.
Отчасти я могу понять, почему он так поступает. Претензии мамы всегда одни и те же, ну приблизительно одни и те же. У нее всегда заготовлен стандартный бланк недовольств: ты не знаешь, чего я хочу, не слышишь меня и не заботишься обо мне.
Кроме этого, куча вещей угнетает ее. Например, таких, как этот пыльный дом, расположенный в какой-то глуши, полное отсутствие людей в округе, и мы, сводящие ее с ума.
Последнее обвинение больно ударило меня, заставив сильнее прижаться к подушке, как будто относилось только ко мне.
Не знаю, почему так.
Хотя… Знаю.
Потому что это действительно так, а я не хочу, чтобы это было правдой.
Даже не представляю, как мы будем лечиться от этого безумства. От этого некуда бежать.
После отставки из армии отец был совсем разбит. Поскольку до этого условия жизни ему диктовала армия: как поступить, во что верить, как быть. И только всё стало налаживаться, как появилась группа террористов, разрушивших наши иллюзии о системе безопасности в целом.
Видите? Отец ошибается, он ведет нас не той дорогой.
Мама никогда не была его сторонницей, и ему следовало бы это заметить.
Она с нетерпением ждала его выхода на пенсию, надеясь, что после сможет вернуться в школу и сосредоточиться на своей карьере.
Отец надеялся, что после переезда в эту глушь, мама будет обучать нас на дому, но ей никогда не нравилась эта идея.
Мама работала учителем на постоянной основе, у нее был собственный класс на втором этаже, и я знаю, ей нравилось, когда в этом классе было много студентов. Маму увлекала работа с необычными студентами, помню, как видела из-за ее плеча, как она осваивает на компьютере программу специального образования по обучению детей с ограниченными способностями, аутизмом. Она разрывалась между нашим новым домом и Калифорнийским университетом в Дэвисе (прим.: Институт расследований нарушений, связанных с неврологическим развитием), который должен был стать экспертом в области аутизма. Позже мама подала заявку на онлайн-обучение в этом институте.
Было больно смотреть на то, как мама всё же продолжала обучать меня и Иззи без особого интереса, особенно притом, что были дети, реально нуждающиеся в ее помощи.
Честно говоря, я вообще не уверена, что отец когда-нибудь по-настоящему слушал маму или хотя бы интересовался ее желаниями и мечтами. И судя по состоянию этого дома – совершенно не понимал, каково ей пришлось в детстве, и что она совсем не хочет возвращаться к удушающей бедности, о которой она хранила воспоминания. Мама прекрасно знает, что есть большие красивые пригородные дома, с шикарным ремонтом, с подстриженным газоном и чистой проточной водой, а что самое главное – это всё может принадлежать нам, только при условии, что отец как-то забудет о том, что мир умрет в следующий четверг.
И почему она не может желать того же, что и все остальные?
Отец заставлял меня вести тетрадь, где были сохранены все премудрости выживания. Я помню, как сделала самую первую запись в нём, как в тот момент отец внимательно смотрел на меня и объяснял произношение слов, это было на кухне вечером. Звучало это примерно так: «Выживание – это вера в свои способности вне зависимости от сложности ситуации».
Тогда мне было лишь восемь, и, если честно, я не поняла смысла его слов, хоть он и пытался объяснить. У меня были идеи, как например, если бы я заблудилась в лесу и смогла сама достать пищу и кров, или как если бы с моими родителями случилось несчастье, а я была бы в состоянии позаботиться о себе сама. В общем, я вроде поняла. А вроде и нет.
Есть кое-что, в чём я совсем не могу разобраться: неужели на Земле нет никого, кто хотел бы что-либо изменить и как-то спасти ситуацию? И совсем никого, кто мог бы обнять тебя и сказать, что всё будет хорошо?
Изабель
Сегодня моя жизнь перестала быть моей. Этот день войдёт в историю как день, когда все разом обломались. Не, ну может это я громко заявила, но мой чудесный мир определённо был разнесён на кусочки.
Правительство должно запретить таким людям как мой отец иметь детей.
Ещё этот дурацкий дом. С каждым днем, что мы поводим в нём, он становится только хуже.
Знаете, ощущение такое, будто вы смотрите ужастик, где семья только заселилась в новый дом, но он так ужасен, что вам хочется во весь голос крикнуть что-то типа: «Берите свои шмотки и убегайте вместе с ними оттуда нахер, пока на вас не начали охотиться привидения, видно же, что в этом доме не произойдёт ничего хорошего!».
Сейчас четырнадцать минут второго ночи, а я до сих пор тупо лежу на кровати. Телефон здесь не ловит сеть. Я даже не разбирала вещи, те, которые привезла из моей старой комнаты, – не хочу всё это раскладывать здесь.
Я лежу и смотрю в потолок, он весь в каких-то пятнах, они похожи на очертания континентов.
Спать мне неохота, и я даже не представляю, чем можно здесь заняться.
Не могу заснуть. Может сбежать отсюда? Но куда… Здесь у меня нет ни друзей, ни знакомых, никого на тысячи миль вокруг, а желания стать бездомной у меня нет. Хотя мы и так отчасти как бездомные, и меня бесит такой образ жизни, ладно, хотя бы есть вода и еда.
А ещё тут когда-то умерла моя прапрабабушка, и в доме наверняка есть привидения, хотя пока ни одного не видела.
Пока.
Я слышу голос мамы снизу, кажется, она плачет. Она снова накричала на отца, а он снова промолчал. Иногда, когда она не кричит, слышен низкий гул голоса отца.
Мама уже начинала психовать, когда мы только подъехали к дому после обеда. Вернее, началось это задолго до того. Она начала злиться ровно с того момента как мы стали удаляться от города. И чем дальше мы уезжали от центра и магазинов, тем злее она становилась.
Мама любит магазины (впрочем, как и я).
Потом она начала бормотать на кхмерском, а это всегда плохой знак.
Мои родители стоят в комнате прямо подо мной, поэтому я могу слышать обрывки их фраз. В основном ничего нового, заезженная пластинка, ещё, видимо, мама ходила из комнаты в комнату, потому что её голос то приближался, то отдалялся.
«Противный старый дом... ты никогда не слушаешь... не заботишься о нас... невозможно жить в середине леса...».
Я услышала достаточно, чтобы понять, что мама «сделала» его. Отец всё-таки довёл её до края, и я снова начинаю надеяться, что она переубедит его и он поймёт, что здесь невозможно жить, и прямо с утра мы соберём вещи и свалим отсюда в «Мариотт-Отель», пока не найдём нормальный дом.
Вот что должно произойти, если во Вселенной есть хоть сколько-нибудь справедливости, если существует Бог, в которого все верят? Я не молюсь, но я закрыла глаза и, лёжа в этом пыльном спальном мешке, повторяю слова: «Боже, позволь нам убраться отсюда, пожалуйста. Если Вы слышите, помогите нам уехать прямо завтра. Или сейчас, как Вам удобно. Аминь».
Оказывается, я произнесла это вслух.
Вдруг хлопнула дверь.
А затем дверь машины.
Завёлся двигатель, водитель газанул и машина уехала. Всё это произошло так быстро, что я даже не успела подбежать к окну и посмотреть, кто сел в машину, которая уже удалялась в лес по гравию. Но, вроде, это была мама.
Я смотрела в окно, пока машина не исчезла из виду, а затем вернулась в спальник, вытерев ноги полотенцем перед этим. Не хочу, чтобы грязь из этого дома попала в спальный мешок. Дом погрузился в тишину. Обычно, если мама злится, она ходит и вопит, собеседник ей в тот момент не нужен. Она может хоть целый час распинаться перед стеной, так что, судя по воцарившемуся молчанию, уехала именно мама.
Куда она могла поехать в час ночи во вторник? Магазины, рестораны и всё подобное закрыты. Может, она просто решила проехаться, чтобы остыть? Или ее уход означает нечто большее?
Я представила, как она едет по дороге, останавливается у мотеля и берёт там комнату. Но... Что дальше? Она вообще вернётся к нам? По крайней мере, ко мне? Как она могла меня оставить одну? Понятно, конечно, что она была зла и думала, что я сплю, поэтому и не пришла меня будить, чтобы забрать с собой.
Походу она просто решила сбежать из этого дебильного дома, от отца и отдохнуть где-нибудь в уютной комнатке мотеля. Эта мысль немного успокоила меня, но заснуть по-прежнему не удавалось. Я посмотрела на свой телефон, с его экрана постоянно маячила идиотская надпись «Связи нет», и мне захотелось бросить эту железку об стену, чтобы она разлетелась на сотни кусочков. Но вместо этого, я решила заглянуть в сообщения. Я пересматривала переписки с моими друзьями, с которыми мне уже не удастся встретиться снова.
Ненавижу всю свою жизнь! Всю!
Может, спуститься на первый этаж к отцу и высказать ему всё? Рассказать, что я чувствую. Но, разумеется, я этого не сделаю. Вместо этого, я тупо лежу и залипаю в потолок, на эти чёртовы пятна, ожидая рассвета.
Глава 3
Лоурель
Не могу даже сказать, насколько я счастлива из-за того, что Анника пришла домой.
Кто вот это может понять?
Точно не Вольф, для которого присутствие матери рядом, как петля на шее.
И точно не сама Анника. Она не знает, что для меня значит.
И явно не мои родители, которые ушли четырнадцать лет назад в туман (с наркотиками) и даже не удосужились послать хотя бы открытку.
Каждый раз как я вижу Анни после возвращения, я испытываю противоречивые чувства. С одной стороны, радость. А с другой... Разочарование и что-то ещё, непонятное мне самой.
Я застыла у двери в ее комнату. Моя рука парит в воздухе, готовая постучать, но пока я слушаю ее голос с мягким немецким акцентом – она разговаривает с кем-то.
Она смеется, и моё сердце готово выскочить из груди. Она вернулась уже как две недели, но пока у нас не было возможности остаться с ней наедине. Тут раздаётся низкий мужской голос, и моя рука опускается. Неужели она за две недели умудрилась найти парня? Может, это друг. Хотя эта догадка даже звучит глупо. Нет, Анника не из тех женщин, кто может дружить с мужчинами. Она слишком прекрасна.
На самом деле, мать Вольфа – самая красивая женщина из всех, что я видела. Она необычна, нереальна как богиня из греческих мифов. Когда я была меньше, в моих мыслях Анника была моей матерью. Вольф был мне как брат, но иногда я жалела, что он рядом. Потому что он хотел всецело быть во внимании Анни.
А я и сейчас хочу.
У нее есть домик в северной части деревни, в котором никто не жил с того момента, как она уехала.
Она является одним из первых членов Садханы, и с таким долгим членством ей полагаются привилегии. Кроме того, мне кажется, что у Махеша кое-что для нее есть. Он даст ей то, что она захочет, в том числе уединенное место, где никто не сможет ее достать (даже ее сын). Поэтому мне противно даже думать о том, что какой-то левый парень там с ней. И он своими грязными руками может дотронуться до ее мягкой кожи. Его присутствие разрушает всякую надежду на то, чтобы хотя бы час побыть около нее.
Я только хотела предложить ей позавтракать вместе. Чай она будет или кофе. Я бы рассказала о своей реабилитации, о том, что благодаря ее заботе мне лучше. Мне следовало лучше оценить ситуацию, но я ничего не могу с собой поделать. Я развернулась и уже начала уходить, как щелкнул замок, и дверь отворилась, отчего я застыла на месте. Я покраснела, как будто сделала что-то предосудительное. В дверях замер парень и тоже уставился на меня, он был какой-то помятый растаман, с дредами до пояса, бородкой и футболкой с надписью «Я – солдат в армии Джа» (фраза из песни).
И, прежде чем я смогла улизнуть, послышались шаги, а в дверях возникла сама Анника.
– Лоурель, дорогая! Какой сюрприз!
– О, привет, – я растерялась и не знала, что сказать.
– Как ты здесь оказалась? – она удивлена, но улыбается.
– Я... остановилась узнать, не позавтракали ли вы уже, – я сказала правду, не люблю врать.
– Нет, ещё нет, – растаман наклонился и поцеловал Анни.
– Мне нужно идти, – сказал он, совсем без ямайского акцента, который я ожидала услышать. Вообще ведёт себя как будто он в крутом костюме, а не в этих шмотках. – Я вынужден Вас оставить этим утром, – он ушёл и, наконец-то, у меня появилась возможность сделать то, что я задумала.
– Я собиралась пойти в кафетерий. Не хотите со мной? – я ненавижу себя за то, как ужасно сейчас прозвучал мой голос, он какой-то слабый и заискивающий.
Она быстро провела ладонью по своим мягким, светлым волосам и произнесла:
– А давай-ка я отвезу нас на завтрак в город? Там мы сможем посидеть в тишине и покое, – это большее, о чем я только могла мечтать. В кафе будет куча народу, многих людей Анни будет знать, поэтому будет много с ними разговаривать, а значит, у меня будет возможность просто лишний раз побыть с ней рядом. Но... Поездка в город и обратно, сам завтрак в кафе, где ещё нужно выбрать блюдо и дождаться заказа? Класс.
– Это было бы просто прекрасно! – выпалила я, сияя от счастья. У меня есть деньги, которые я выручила, помогая Паули с его велобизнесом. Но она отмахивается от этого предложения. Я слышала раньше сплетни о том, что у Анники есть внушительный целевой фонд.
– Не говори глупостей, я оплачу. Давай просто посидим вдвоём.
Через пару минут она вышла из ванной одетая, с растрёпанным пучком на голове. Она легко скользнула в сандалии и улыбнулась.
– Я так рада, что ты остановилась, – после этих ее слов мое разочарование улетучилось. Анни, со своей необычной красотой как у редких зверьков, снова была моя. Мы идём к машине, старенькому «Мерседесу», который, наверное, раза в два старше меня. В машине витает запах ладана, а снаружи пахнет картошкой фри. Мы едем, разговариваем о пустяках: кто приехал в деревню, кто уехал и тому подобное. Она рассказывает о своём путешествии по Европе и Азии после того как она вышла из реабилитационного центра, но это не то, о чём мне хочется поговорить.
У меня появляется странное чувство, что запаниковав сейчас, я потеряю такое ценное время рядом с ней, и больше у меня не будет шанса сказать то, что желаю.
Беда в том, что я даже не представляю, о чём нужно говорить.
Мне интересно узнать о том времени, что она провела вдали, но сейчас я хочу поговорить о своём будущем. Именно с ней. Мне хочется, чтобы она выслушала мои планы и дала совет. Стоит ли идти в колледж? Или путешествовать? Продолжать работу с Паули?
Я не знаю. Мне нужен хрустальный шар для гаданий или, хотя бы родители, чтобы знать, что делать.
Последний вариант – работа с Паули – кажется наиболее безопасным, но скучным. Я почти всю жизнь провела в деревне. Я бы хотела уехать, но мне некуда, ни семьи, ни представления о том, как живут другие люди, у меня нет. Иногда я представляю, как отправлюсь на поиск родителей, которые чувствуют себя ужасно после того, как оставили меня на воспитание чужим людям. Но, в действительности я даже не уверена, что они живы, да и не знаю, хочу ли я их видеть.
Мне хотелось бы, чтобы Анни взяла меня за руку и подсказала, как быть. Может, даже предложила поехать в Европу вместе, показала мне мир, который я не видела раньше и представила своей семье как дочь. Вот что я хочу больше всего на свете. И то, о чем я никогда не осмелюсь просить.
Мы направляемся к ресторанчику, известному своими вкусными травяными чаями и вегетарианскими завтраками. Анни изучив меню, выбирает зеленый жасминовый чай и греческий вегетарианский омлет. Я сказала, что буду то же самое, хотя предпочла бы что-нибудь с большим количеством сыра, ветчины и сметаны.
– А теперь расскажи мне о себе, – сказала она, как только официантка отошла. Столкнувшись с этой фразой в реальности, я потерялась и не знала, что бы такого произнести для поддержания ее интереса. Поэтому я тупо пожала плечами.
– Ой, ты знаешь, всё по-старому. Школа, работа с Паули.
– И как продвигается ваш велобизнес?
– Набирает популярность. Мои проекты хорошо продаются.
– Так ты и проектируешь, и красишь?
– Я разрабатываю несколько вариантов, в основном арт-декор, у Паули не хватает терпения.
Бизнес Паули – это декорирование велосипедов. По мне, так это гениально – он покупает старые велики, восстанавливает их, потом мы их разрисовываем и продаем в модные веломагазины. Паули делает основную работу, а я прорисовываю сложные детали.
– В твоей жизни есть парни?
– Нет.
– У такой милашки, как ты? Очень странно, вокруг тебя должна быть толпа из поклонников, – я покраснела от такого комплимента, но не ответила.
Потому что у меня даже не было отношений, по крайней мере, серьезных. Да, есть парочка, с которыми я спала, но нет кого-то, кто хотел бы провести со мной день.
– Мне всегда казалось, что ты и Вольф могли бы быть хорошей парой. Может, не сейчас, а вообще, – она произносит имя Вольфа немного неправильно, на немецкий манер.
– О Боже, нет.
– Почему? Вы знаете друг друга так хорошо, как никто другой.
– В этом то и проблема. Никаких тайн тут нет. Эта идея мне неприятна, как будто меня сватают за родного брата, – не знаю, как Анни пришло в голову это предложить.
– Понятно, – говорит она, кивая. – Но это было бы здорово, я беспокоюсь о нем. Вольф стал нелюдимым и слишком молчаливым в последние несколько лет. Он ушел в себя, я редко его стала видеть, но когда вижу, он всегда один. И молчит.
– Он в порядке, – я говорю, потому что желаю перевести разговор в другое русло, вот только не знаю, о чем можно поговорить.
– Сейчас он очень походит на своего отца, мне очень не хотелось бы, чтобы он пошел по его пути.
«По его пути...» – я понимаю, о чем она. О суициде, который совершил его отец, когда нам было по тринадцать. С того момента мне всегда казалось, что тринадцать и вправду несчастливое число.
Подошла официантка и поставила небольшие чашки чая вместе с маленькой баночкой меда.
– Вольф не совершит подобного.
На самом деле я не уверена в своей правоте.
Знаю, что не совершил бы тот шалопай, которого я знала, но этот новый Вольф?
Анни улыбается, но у нее грустные глаза, мне это совершенно не нравится. Так она смотрит, если хочет выпить.
Вольф живет в моих самых ранних воспоминаниях, тогда он был мальчиком с золотисто-коричневыми волосами, мягкими руками и умными и серьезными глазами. Он возникал как будто из-под земли – такое у меня сложилось о нем детское впечатление. Он был грязный и… одичавший, как маленький бездомный зверек, которого мне удалось приручить.
Его внимание и дружба вызывали во мне такие же чувства, как если бы мне доверилось некое дикое создание – как будто ты избранный. Я до сих пор не могу понять его полностью, но знаю, что он никому не доверяет. Теперь и мне.
Я была той, которая знала его ещё как Вольфи. Ещё он был Вольфгантом (спасибо Анни), в детстве это имя мне казалось дурацким для ребенка.
Даже было время (мне было пять), когда я думала, что мы с ним будем вместе, поженимся, и у нас родятся такие же красивые детки, с золотистой кожей.
Больше я так не думаю, разумеется.
Я перестала верить в счастье очень давно.
Еду принесли быстрее, чем я ожидала и, когда официантка исчезла, Анника улыбнулась и задала вопрос:
– Ты будешь молиться со мной?
Я замерла.
Ходят слухи, что Анни ударилась в веру. Поговаривают, что это произошло после курсов анонимных алкоголиков, которые, видимо, были частью ее программы реабилитации, в которую я мало верю.
Она наклонила голову и закрыла глаза, я сделала то же самое, но чувствую себя обманщицей. Она протянула руку к моей руке, и я дала ей ладонь, не зная, что делать.
В Садхане в нас воспитывали духовность, но не такую. Не ту, что я видела в фильмах. В нашей деревне всё по-другому. Философия Махеша основана принципах йогов с примесью буддизма. Главным Богом является наша Земля, призвание к миру – единственная молитва.
Она произносит вслух слова, которые я не могу даже повторить, потому что их не знаю. Моя любимая Анни всегда была близка к краю, та, что освещала мою жизнь как звезда, неужели она стала фанатичной сторонницей такой религии? Когда она сказала «Аминь», я повторила, хотя понятия не имела, что это значит.
Николь
Когда я проснулась в новой спальне после первой ночи в доме бабушки и дедушки, я удивилась тишине вокруг. Я заснула с наушниками, включёнными на полную громкость, чтобы не слышать ругань родителей, но, видимо, во сне я выдернула их из ушей, так как сейчас я не слышу ничего. Мои родители – жаворонки, поэтому с первыми лучами солнца у нас в доме всё оживает. Мама готовит завтрак, убирает посуду, подметает полы. Папа, если он к тому времени ещё дома, обычно забивает гвозди, строит, ремонтирует что-либо. Поэтому это молчание заставляет меня похолодеть, несмотря на то, что в комнате очень тепло.
Вольф
Попробуйте представить, что дерево способно любить.
Я не говорю, что будет легко представить себе мир, как его видит дерево. Наверное, Вы вообще считаете, что дерево его никак не видит, но это не так.
Это мне сказал Махеш, когда мне было двенадцать лет, и я строил свой первый домик. Я только узнал о важности коры для дерева и волновался по поводу её повреждения при работе с ней. Он помог мне узнать, как следует заботиться о дереве, что для него полезно, а что – нет. И это не так, как описывают в дурацких детских книгах, где «Щедрое Дерево» всё отдаёт человеку, а он всё берёт и берёт.
Я говорю об уважительных и взаимовыгодных отношениях, в которых дерево почитают за его красоту, силу и изящество.
А сейчас меня беспокоит, что если шум от забивания гвоздей услышат новоприбывшие соседи и решат, что мой домик строится на их дереве. Мое вторжение не было преднамеренным. Я выбрал это дерево раньше, чем они приехали. Я долго выбирал крепкий ствол, которому не в тягость будет поддерживать дом. С этого дерева легко проглядывается восточная часть леса. То, что мое строительство развернулось на чужой территории, я заметил почти что в конце, как оказалось, разделы старой колючей проволоки всё еще были расположены вдоль границы участка, но, так как большая часть этого забора исчезла, сейчас сложно сказать, где проходит граница. Даже когда я осознал свою ошибку, стало понятно, что выгонять меня пока отсюда не собираются. Пришлось заканчивать дом, оглядываясь через плечо, думая о том, как бы кто меня здесь не заметил. План, конечно, как из «О мышах и людях», но деревья не строят глупых планов и вообще их не строят.
Создание домика было для меня отдушиной. Я много думал о том, что должно быть внутри. Снаружи я выпилил много окон – хочу, чтобы внутри было много света. С сохранением тепла в доме были некоторые проблемы. Возможно, я буду здесь жить только весной, летом и ранней осенью. Короче, когда снаружи будет достаточно тепло.
Я уже собрался идти домой, когда услышал голос снизу, из-за которого покрылся мурашками. Голос был девчачий, и она спросила:
– Что ты делаешь? – я опустил глаза вниз, там стояла Николь.
– Строю крышу.
Она рассматривает домик, его странно расположенные окна и смешанные цвета фасада.
– Что это?
Она первая, кто увидел мое творение, мой секрет. Теперь не получится это скрывать. Странно, я должен бы злиться на нее за такое вторжение, но этого не происходит. Я только немного взволнован тому, что она здесь.
Глава 4
Николь
В тот момент, когда я увидела, пожалуй, самого странного парня из всех, которых когда-либо встречала, сидящего в домике на дереве – я решила, что мне это кажется. Этот парень вообще бывает на твердой земле?
Я оглянулась вокруг, пытаясь убедиться, что это не сон. И действительно – вокруг все тот же плотный лес, моё тело также ноет и просит влаги как собственно и пять минут тому назад, когда я искала ручей, к которому меня отправил отец.
Вольф спустился по лестнице и подошел ближе. Было видно, что он осторожничает, но уже не так, как при первой встрече. Что-то мне подсказывает, что он не хочет меня здесь видеть.
– Привет, – говорит он. – А где твое ружье?
– Я не на охоте.
– То есть ты не носишь его даже для безопасности? В любой момент ты могла бы столкнуться с милым животным, которое захочешь убить.
– У меня есть нож, – объяснила я, демонстрируя оружие, что лежало в моем заднем кармане. – Как раз для тех случаев, когда я встречаю Бэмби, – кажется, он не понял, шучу я или говорю всерьез. Я же не улыбалась, не желая помогать ему в разгадке.
– Эмм, а как ты тут оказалась?
– Услышала стук.
– Ты гуляла по лесу одна?
– Не совсем гуляла. Я искала ручей по поручению отца.
Вольф указал в том направлении, куда я и собиралась:
– Надо спуститься с холма, пройти где-то минут десять, только ручей почти пересох.
Мне всё равно нужно увидеть его своими глазами.
– Хорошо, спасибо, – сказала я и развернулась, собираясь продолжить свой путь. Однако странное ощущение необходимости задержаться не отпускало меня.
– Подожди, – быстро произнес он. – Если хочешь, могу показать, где у ручья более глубокий бассейн. Правда, это немного подальше. Вдруг ты захочешь поплавать...
– Спасибо, не нужно, – отрезала я. – Я найду.
Если он решил, что я иду к ручью, чтобы искупаться, то не стоит его переубеждать. Незачем объяснять, что моему отцу просто нужно знать, где находятся все ближайшие источники воды.
Он ничего не ответил. А я не могла сдвинуться с места. Наши взгляды задержались друг на друге немного дольше, чем нужно, пока я не отвернулась, делая вид, что решила лучше рассмотреть лес.
– Хочешь, проведу экскурсию по моему дому? – наконец спросил он. – Из его окон открывается чудесный вид.
– Почему ты решил построить дом именно здесь?
– Не знаю, но этот дом – мой храм одиночества.
Теперь, уже я не понимала, шутил он или говорил всерьёз. Поэтому не ответила. Может, «храм одиночества» – это часть его странной религии.
Он придвинул лестницу и махнул рукой, чтобы я шла за ним. Мне не захотелось сопротивляться.
Интерьер дома очень удивил меня: старые окна, полы со щелями, такие же стены. Спасало положение только то, что дом находился посреди леса. Но было такое ощущение, что создатель этого дома явно много пил, раз решил построить дом целиком из окон в разноцветных рамах.
– Так все же, для чего ты его построил?
Он пожал плечами:
– Просто построил и все.
– Без причины?
Я представила, как кто-то из моих друзей решил построить дом глубоко в лесу. Просто так. Как кто-то из них стоит тут без рубашки, с конским хвостом на голове... Странная картина. Она не укладывалась у меня в голове.
Даже дети в мастерской не сделали бы ничего подобного. Бесспорно, в этом домике есть какая-то своя красота, как в скульптуре из музея. Но он точно не для жилья.
– И сколько домов на деревьях ты уже построил?
Он хмурится:
– Кажется, это десятый или одиннадцатый, я уже сбился со счёта.
– Где остальные? – почему-то мне представилось, как эти домики разбросаны по всему лесу, маленькими зданиями, спрятанными от людей.
– В основном, на Садхане, в главной деревне. Когда становится теплее, люди могут отдыхать в них, дома служат для них убежищем.
– Неплохо.
– Но этот дом только для меня.
– Но сюда столько идти...
– Зато мне не нужно его ни с кем делить.
Только сейчас я осознала главную проблему. Дело в том, что сейчас я нахожусь на территории нашей семейной собственности – отсюда видно «границу собственности» – старый забор, который еще указывает линии разделения земли.
– Домик находится на нашей собственности, – выпалила я, прежде чем успела подумать, что снова его обвиняю, будто глупая неадекватная провинциалка с террористическими корнями. Ружья только не хватает.
Его глаза расширились от удивления.
– Правда?
– Да, посмотри на линию забора вон там, – я показываю на расшатанные колышки за окном.
Он долго смотрел в указанную сторону:
– Мм... Как думаешь, твои родители будут против?
– Наверно.
Это было вранье года. Мой отец знает всё о границе собственности. Он не будет против, он будет в ярости. Парень отвернулся и показал на противоположное окно.
– Я выбрал это дерево, потому что оно очень крепкое, в тот момент я и не думал, что нарушаю чьи-то границы.
– Может быть, отец и не найдет это место, – прозвучало не очень убедительно, но, честно говоря, я не уверена, что хочу, чтобы этот парень опять оказался здесь. Непонятно для чего он все это построил, да и о нем мы ничего не знаем. Мало ли.
– Мне жаль, я не специально, – он пожал плечами, как будто он тут не причем.
В эту минуту я задумалась – а не могло ли быть так, что он всё знал с самого начала и просто не парился об этом?
– Ты планируешь здесь жить или что?
Он опять пожал плечами:
– Из твоих уст это звучит так официально. Я не знаю, честно.
– Ты вложил много сил в постройку этого дома.
Почему-то, он стал меня ужасно раздражать.
– Не переживай, я не хотел устраивать здесь вечеринки. Просто мне нужно место, которое было бы очень далеко от всех людей.
А теперь странная близость нашего одиночества начинает доходить и до меня. Я понимаю, что Вольф начинает меня привлекать и очаровывать, хотя видно, что он не осознаёт этого.
– Мне нужно идти, – выпалила я. – Отец может меня потерять.
Потрясённая тем, что всё это время находилась наедине с парнем, которого абсолютно не знаю, я отхожу к лестнице.
– Ты расскажешь ему об этом? – слышится голос Вольфа.
– Нет... Вернее, не сейчас.
Потому что папе и так хватает проблем с поиском мамы. Я попыталась вообразить, где моя мама, что она думает. Но так и не могла понять причины ее поступка и его значения.
Я не знаю, почему отцу никогда не приходило в голову, что она тоже волнуется. Наверное, она взвалила на себя слишком много. Оглядываясь назад, я думаю о её затуманенном взгляде, когда она задумывалась о студентах, исследованиях. Вспоминаю, как она в этот момент улыбалась... и понимаю, что мы были слишком невнимательны к ней.
А где она теперь?
Что делает?
Вдруг она не вернется?
Образно говоря, в нашей семье отец – это автомобиль. Мама – двигатель. Я хочу сказать, что пускай даже формально машина будет существовать, но ведь без двигателя она работать не будет.
Сейчас я иду на восток, вдоль пологого откоса холма, где все покрывают опавшие листья и ветви деревьев. Я уже привыкаю к этим лесам, где так мало следов существования живых существ, только иногда отпечатки копыт оленей и мелких животных. Дойдя до основания склона, я увидела, какой здесь мог бы быть глубокий ручей, если бы прошлая зима не была такой сухой. Сейчас видно только тоненький поток, едва-едва. Я иду к его основанию по грубой земле, пока не дохожу до небольшого бассейна ручья. Тут я снимаю ботинки, подворачиваю джинсы и просто стою.
В тени вода прохладная. Вообще-то, вся эта вода возникла из-за таяния ледников Сьерра-Невады. Она очень чистая и пригодна для питья.
Но, не думаю, что её хватит надолго.
В Калифорнии дождь идет зимой, а в оставшееся время года воды можно особо не ждать. Когда мне было тринадцать, мы жили в пустыне и не замечали засуху, потому что она постоянная. А теперь стоит подумать о том, где брать питьевую воду.
Вспомнились частые пожары в Калифорнии, начинавшиеся весной. Отец считает, что эти пожары признак неминуемого краха общества, но мне кажется, проблема скорее в сухом климате.
И вообще всё здесь кажется мне неправильным, вся эта идея с переездом и поступок мамы – лишнее тому подтверждение.
Надеюсь, у отца есть план. Обычно у него он есть.
* * *
Это был второй день, после того, как уехала мама.
Грузовик с вещами прибыл поздно. Вещи были разгружены, и мы их распаковали, в это время отец периодически замирал и посматривал в окно, на пустую дорогу. Он никогда не говорил ничего об исчезновении мамы. Если бы мы с Иззи не были такими разными, возможно, мы обменялись бы взволнованными взглядами или тайком поговорили об этой ситуации. Но, вместо этого, она избегала моего взгляда, когда мы столкнулись в прихожей. Большая часть дня прошла в наведении порядка.
У нас была своя система распаковки вещей, которую оказалось невозможным воплотить в жизнь без участия мамы, поэтому папа перераспределил обязанности так, чтобы всё было полностью распаковано где-то часам к десяти вечера.
На третий день мама всё ещё не вернулась. Наш дом, с его угнетающим фасадом, с появлением наших вещей стал только унылее. Выражение лица отца стало ещё мрачнее, теперь для такого настроения у него был серьезный повод.
На четвёртый день отец сообщил мне, что мы едем в продуктовый. Сестру оставили дома, в то время как мы с отцом сели в грузовик и двинулись в той же самой жуткой тишине, которая возникла с уходом мамы. Но в таком небольшом пространстве я не могу ее не нарушить, она невыносима.
– Куда ушла мама? – задала я вопрос писклявым голосом.
Руки отца крепче сжали руль, и, не разворачиваясь ко мне, он выдал:
– Не знаю.
Я ожидала услышать не это.
– Разве она не сказала хоть что-нибудь, прежде чем уйти? Где она будет? Когда вернется?
– Нет.
– А ее мобильный? – хотя я и спросила, но знаю, что он отключен, я пыталась позвонить с телефона Иззи.
– Она оставила его дома.
– Оо.
М-да. Это похоже на маму. У нее никогда не было привычки брать телефон с собой, к тому же она постоянно забывала его заряжать и просто думала, что ей редко звонят.
– Ты пытался позвонить кому-нибудь из родственников?
– Пару раз, никто не ответил на звонки.
– Наверное, она знала, куда идти, да?
Отец ничего не ответил, и я снова пытаюсь представить маму, где она и что делает... и понимаю, что никакого понятия об этом не имею. Вообще, понимание того, что моя мама – преподаватель было у меня только в мыслях. Даже идея о том, что мама могла мечтать о чем-либо, выходящим за пределы нашего мирка, казалась мне нереальной и неинтересной, как сложные математические вычисления.
– Ты не думал, что она могла пострадать, или что-то серьезное могло случиться? – опять молчание. – Пап? Это не шутки. Что, если она разбилась или заблудилась, или... – Или что? Я не знаю.
– Полиция позвонила бы, случись что-то серьезное. Она не хочет быть найденной, вот что я имею в виду.
– Но почему? – глухо спрашиваю я.
Я знаю почему. Но мне нужно убедиться в правильности догадки.
– Не знаю.
По тону его голоса было понятно, что тема закрыта. Отец никогда не признается, что чего-то не знает. Только сейчас я понимаю, какая же нетвердая почва у меня под ногами. В жизни я всегда рассчитывала на несколько вещей: на абсолютную уверенность моего отца во всем и на тот факт, что родители вместе.
Не сомневаюсь, папа любит маму. Он может и не показывает этого, но это так. Я уверена. Другое дело, любит ли она его. Я опять в растерянности. За окном мелькает сосновый лес. Мы проезжаем большой знак с медной надписью «Деревня Садхана и Духовный центр».
– Кто там живет в этой Садхане? – спросила я.
– Эти люди – группка сумасшедших язычников.
Я исподтишка взглянула на профиль отца, пока он был занят дорогой. На его голове до сих пор короткая стрижка, хотя он и в отставке. Он не планировал уходить, но так вышло, и мне всегда кажется, что он готов надеть униформу и в любой день вернуться к работе. Я отвожу взгляд, пока он не заметил, как я за ним наблюдаю.
Мне хочется спросить: «Так ты знаешь, кто эти люди?»
Но вместо этого получается:
– То есть, там что-то вроде церкви?
– Там, похоже, живет группа хиппи, которые используют духовность как прикрытие для выращивания травы.
Я вспоминаю Вольфа, парня из леса (и уже не в первый раз). Он странный и сколько бы я ни думала, у меня не получается приобщить его хоть к какой-то категории людей. По-моему, он полная моя противоположность – я-то скучная девочка-ботаник азиатской внешности, обученная охоте.
Знаю, что для людей я – тихоня. Потому что в классе сидела спокойно, не поднимала руку, чтобы другие могли ответить, поскольку знала все ответы на вопросы.
– Давай-ка я кое-что тебе проясню. Мы больше не в военном городке, здесь, в гражданском мире куча сумасшедших – и твоя работа держаться в стороне от этого, понятно?
– А с кем же мне дружить?
– Ни с кем. У тебя есть сестра и этого достаточно.
Я отвернулась к окну и закатила глаза. До чего бредовая идея дружить с Иззи. Он вообще давно ее видел?
– Мы с ней немного разные.
– Не спорь. Вы с Иззи – семья, вам ничего не должно мешать общаться.
Я подавила громкий вздох.
– Хорошо, пап.
Я слышала от него подобное и раньше. С моей стороны глупо было бы затевать этот разговор, зная, что он ни к чему не приведет. Хотя, может, просто Иззи настолько женственней меня, что он считает, что ей необходим телохранитель?
Он вообще ее не знает.
* * *
Когда мы возвращаемся домой из продуктового магазина, я помогаю папе выгружать еду из пакетов. Ее так много, что её наверняка хватит на ближайший месяц.
Отец работает в полнейшей тишине. Интересно, надеялся ли он увидеть маму дома?
В кухне он уже распределил шкафы для еды. Я стараюсь положить всё в точности предназначенное для этого место.
Когда не осталось ничего, кроме гигантского мешка сухого риса и пустой канистры, я стала искать отца, чтобы узнать, что с этим делать. У нас уже был случай, когда моль в кладовой всё сожрала. Перерыв весь дом, я нашла отца, сидящим в своем офисе. Он что-то просматривал и иногда делал заметки на страницах.
– Гм… – пытаюсь привлечь его внимание. – Что делать с рисом?
Он нахмурился, как будто не понял вопроса, и эта неопределенность в его глазах пугает. Обычно он выглядит самоуверенно, а тут он показался мне даже хиловатым и как будто постаревшим. Я даже вижу проблески седых волос на голове и глубокие морщины вокруг рта и глаз. Раньше я этого не замечала.
– Я собираюсь уехать на некоторое время, вам придётся побыть одним, – говорит он.
Мне нужно время, чтобы осознать сказанное. А пока я молчу. Не знаю, что ответить.
– Куда ты собираешься?
– Искать маму.
– И сколько ты будешь её искать?
– Столько, сколько потребуется.
– И мы с Иззи будем здесь одни?
У нас ведь даже нет телефона или интернета. У отца был план жить за счет солнечных батарей, но мы их еще не установили.
Хорошо, что хоть электричество есть.
– Да. Здесь достаточно еды, я оставлю вам немного денег. И ружье.
– Но... – вырвалось у меня, прежде чем я успела подумать. Это самое нелюбимое его слово.
Отец строго смотрит на меня.
– Все будет нормально.
В моей голове тысяча вопросов, но пока я их формулировала, отец дал мне какую-то книгу. Я вижу что это «домашняя» книга, где он записывает все, что считает связанным с семьей.
Это какой-то неясный документ, который он написал для мамы, сестры и меня пару лет назад. В него мы, собственно, никогда не смотрели, зато отец к этой книженции обращался при каждой возможности.
Я беру книгу в руки и сжимаю так крепко, как будто я тону, а книга может меня спасти.
Значит, я и Иззи одни в этом разбитом доме, в самой глуши. Звучит ужасно. Но отца это не волнует, он хочет, чтобы я доказала, что смогу выжить в этих обстоятельствах.
Я вглядываюсь в небо, как будто там что-то может быть написано.
Существует миллион причин, почему оставить нас тут вдвоем – плохая идея, но отец просто не сможет сидеть и ждать.
– Где ты будешь ее искать? – наконец спрашиваю я.
– Тебя это не должно волновать, – по его взгляду видно, что он считает, что я «недалекая».
Еще больше вопросов возникает, если подумать о том, что что-то может случиться, ведь мне даже позвонить некому. У отца нет телефона, он думает, что в них нет необходимости. К тому же по нему правительство легко может отследить наше передвижение. Телефон есть у сестры, но связь тут почти не ловит.
– Вы двое продолжайте работать по списку, если все сложится удачно, я вернусь максимум через неделю.
«Если всё сложится удачно...»
Надо постараться не говорить ничего Иззи.
Может и получится, но как я проживу с ней наедине целую неделю?
Или даже больше, чем неделю.
Даже не хочу об этом думать.
Папа не из тех людей, с которыми можно спорить, даже если ты его дочь. Он настолько уверен в собственной правоте, что любые слова, противоречащие его убеждениям, для него так же достоверны и убедительны, как и жужжание летающей вокруг головы мухи. Это всего-навсего мелкая помеха, от которой надо отмахнуться, а в идеале – раздавить.
Я знаю это столько, сколько себя помню, но выразить свою мысль словами я смогла лишь недавно.
– Где Изабель? – спрашивает он, стремительно проходя мимо стола и беря в руки чемодан, который, я только сейчас это замечаю, стоит возле двери.
– В комнате, наверно.
– Изабель, – кричит он в глубину коридора, – спускайся сюда.
Иззи неторопливо спускается по лестнице, на ногах у неё фиолетовые шлёпанцы с ремешком между большим и указательным пальцами, одета она в джинсовые шорты и слишком открытый топ, так что папа такое точно не одобрит.
Она молча окидывает нас взглядом.
– Я еду искать маму. Твоя сестра за старшую пока меня нет. Ты должна делать все, что она скажет, поняла?
Иззи открывает рот и в ужасе спрашивает:
– Что?
– Ты меня слышала. Я не потерплю никакой дерзости.
– Я тоже хочу поехать, – просит она.
– Ты останешься здесь и будешь ремонтировать дом. Я оставляю вам список дел, которые надо сделать, так что, когда мы с мамой вернёмся, всё должно быть готово.
Не могу представить, что он имеет в виду, говоря о ремонте дома. Мы что, должны закрыть глаза на пятна на стенах и потолке, на сломанные и склеенные изолентой окна, на жуткую атмосферу дома, в котором будто обитают призраки, и просто вести тут хозяйство, словно всё в порядке? Или мы должны проявить талант мастеров на все руки, которого у нас нет, и всё починить?
Он ничего не объясняет, только говорит: «Итак, всё ясно» и идёт по коридору к двери с чемоданом в руке.
Мы с Иззи следуем за ним настолько потрясённые, что нам нечего сказать.
Я стою на крыльце и смотрю, как он уезжает, как его грузовик оставляет за собой облако пыли на иссушенной грунтовой дороге, но я всё ещё надеюсь, что он передумает, осознает, какое это безумие оставить двух девочек-подростков одних в этой глуши на всё время своего отсутствия. Но вот только, когда он о чём-то передумывал?
Почти никогда.
Я оборачиваюсь и смотрю на выражение лица Иззи. Она уже сейчас, как я могу предположить, прокручивает в мыслях, в какие неприятности ввяжется со своей новоприобретённой свободой.
– Мы остаёмся ровно на этом месте, – говорю я, и эта фраза звучит чудаковато, потому что у нас нет машины, чтобы куда-нибудь поехать, а до города миль пять.
И куда бы мы поехали?
Она пожимает плечами.
– Как хочешь, но почему бы и нет, если мы здесь одни? Я собираюсь выяснить, как развлекаются местные.
– Нет, не собираешься. Ты остаёшься здесь, как сказал папа, и помогаешь мне.
Послушав себя со стороны, я понимаю, что выгляжу самой большой тупицей в мире, но что мне ещё сказать?
Правда в том, что у меня вообще нет способов контроля над Иззи. Всю свою жизнь она бушует сильнейшим ураганом, с которым мне надо жить, постоянно опасаясь, какие разрушения он может за собой повлечь.
Она драматично округляет глаза:
– И что с того?
– А то. Если ты не будешь делать, как сказал папа, я ему сразу же расскажу, как ты себя вела, пока его не было.
– Ты расскажешь папе, а я устрою тебе такую жизнь, что ты об этом пожалеешь, – воркует она фальшивым приторным голосом, потом разворачивается и идёт обратно в дом.
Впервые я скучаю по маме. Мы не самые дружные мама с дочкой, и я знаю, что разочаровываю её, когда встаю на сторону папы, но всё-таки. Как она могла оставить нас тут, вот так, без объяснений, без прощаний – без ничего?
Зуд в пальцах призвал взять дневник и ручку, чтобы записать всю эту головоломку, изложить её на бумаге, на которой я могу построить и перестроить свои мысли, пока они не раздавили меня. Мне кажется, что привычку писать я переняла от папы, зачинателя конца света, хотя он даже не знал о моём личном дневнике, в отличие от дневника тренировок по выживанию, который он заставил меня завести. Тот личный дневник – единственный мой бунт, единственное место, где я могу говорить то, что хочется, и не надеяться на одобрение папы.
Я никогда не умела угадывать мамины мысли. Что-то в ней кажется невероятно знакомым – её тёплый запах жасмина, её голос, её широкие скулы, а что-то – таким несовместимым со мной, будто бы она с другой планеты. Мама не из тех, кто любит говорить о своих чувствах, или своём прошлом, или о чём-то личном. Она даёт поручения, спрашивает, как прошёл день, объясняет, как что-то сделать. Но сама она для меня - закрытая книга.
Теперь же меня интересует скрытая сторона мамы, та, которая стремится сорваться и убежать, не попрощавшись, та, у которой, в отличие от меня, достаточно смелости, чтобы противостоять папе. Имя мамы – Мели1, и впервые за свою жизнь я вижу, что она цельная личность, а не просто мама. Та сторона, которую мы не замечали до этого дня, у которой есть надежды, мечты, страсти, никак не связанные с нашей семьёй, – это то, что я хотела бы узнать.
Внутренний мир Мели, мне кажется, гораздо сложнее, чем любой из нас мог представить.
Часть 2
Ты сам по себе.
Каждый обученный мечтает пройти экзамен на выживание. В подготовке ведь нет никого смысла, если ты действительно не веришь в конец света, верно? Ты постоянно мечтаешь о подвигах, приключениях, ощущении жизни на пределе. Я вижу это во всех подготовительных журналах, которые папа раскидывает по дому, на вебсайтах и в переписках, окна которых папа оставляет открытыми на экране.
Но я всегда удивлялась этой мечте и её хрупкости. В конце концов, если правда хочется так жить, почему бы прямо сейчас не собрать вещи и не переехать в труднодоступные районы Аляски? Зачем ждать?
Теперь я вижу, что папа, наконец, сделал именно это. Этим он говорит нам и остальному миру: «Зачем ждать? Почему бы не начать бороться с апокалипсисом уже сейчас?»
Глава 5
Вольф
Я видел во сне девушку из леса, видел Николь. Хотя я обычно не запоминаю сны, этот помню отчётливо, потому что нечто подобное я вижу каждую ночь со дня нашей первой встречи. Она подкарауливает меня в лесу, а после того, как стреляет мне в ногу и склоняется надо мной проверить, жив ли я, я целую её.
В этом сне не так много нелогичных моментов, но он настолько живой, что пробуждает во мне желание увидеть её снова по неясным для меня самого причинам. Я тут же просыпаюсь в поту, с пересохшими губами, с выпрыгивающим из груди сердцем и в напряжении.
Я убеждаю себя, что этот сон повторяется и не даёт ей покинуть мои мысли, потому что я не хочу думать о той странной девушке с пушкой. Я не хочу думать ни о чём, кроме неё, и это меня пугает. Она идёт вразрез с моими устремлениями в духе Торо – к простоте и одиночеству. Генри Торо никогда не упоминал о вторжении девушек в его уединённую жизнь на берегу Уолденского пруда.
Пока я делаю обычные вечерние дела на кухне – наслаждаясь их размеренностью – и нарезаю овощи для ужина, приходит Лорель. Мне нравится работать кухонным ножом, и, несмотря на то, что сейчас я измельчаю ножом лук, глаза у меня не слезятся. Свет из окна косо падает на кухонный стол и под разными углами отражается от движущегося ножа.
– Эй, ты, – начинает Лорель, скрестив руки на груди и навалившись рядом со мной на край стола для разделки мяса. – Где ты был?
– Последний час здесь.
– Я имею в виду, всё это время. Ты словно на другой планете живёшь.
Я мельком смотрю на неё и замечаю недовольство в глазах, которое она тщательно скрыла в голосе.
Лорель постоянно что-то требует от меня как от друга. Она всегда хочет большего, чем я могу дать ей. Раньше я пытался ей угодить, пытался найти прелесть в том, как она, наверно, нуждается во мне, но после ряда неудач я оставил эти попытки.
– Я был то здесь, то там.
Пока она смотрит, как я нарезаю овощи, царит неловкое молчание. Я легко справляюсь с ножом, и белая мякоть лука быстро превращается в кучку мелких кубиков. Потом я беру другую головку, и всё начинается заново.
– Мы серьёзно поговорили с Анникой, – говорит она.
Я молчу. Я не хочу говорить о маме или о чём-то ещё. Я принялся готовить ужин раньше, чем надо, потому что так я могу работать один, без шума и болтовни.
– Она говорит, что беспокоится за тебя.
– Ммм, – мычу я.
Мычанием я хотел показать безразличие, чтобы отбить у неё желание продолжать разговор, но, кажется, она приняла его за приглашение говорить дальше.
– Она думает, что у тебя склонность к суициду, как у твоего отца.
Если бы я не знал Лорель так близко, я бы принял эту фразу за попытку помочь. Или за банальную вежливость.
Но мы выросли вместе как деревья, стволы которых переплелись.
Сиамские близнецы без родительского надзора.
– Ей не следует беспокоиться, – говорю я кучке лука.
– Я тоже волнуюсь. Ты ведёшь себя так, будто у тебя депрессия.
– Со мной всё в порядке.
Она кладёт холодную ладонь на мою руку, которой я нарезаю лук. Я останавливаюсь и смотрю на неё. Её волосы, подвязанные зелёным расписанным платком, лежат на плечах и спускаются почти до талии, а серо-голубые глаза ничего не выражают. В левой ноздре, как обычно, сверкает серебряное кольцо.
– Она сказала мне, что хочет, чтобы ты пошёл с неё на встречу АА2.
– Я не пью.
– Она хочет взять тебя как сопровождающего из семьи или что-то вроде того.
Лорель вовсе не играет роль посредника между мамой и мной, но всё же Аннике только хуже, как только она вернулась. Может быть, Лорель действительно этому поспособствовала.
– Почему бы тебе не пойти вместо меня? – предлагаю я и продолжаю готовить.
– Она хочет, чтобы ты пошёл с ней. Не я.
– Тогда почему она не попросила меня лично?
– Она подумала, что ты скорее согласился бы, если бы я тебя попросила. Она думает, что ты злишься на неё из-за того, что её так долго не было.
Я молчу.
– Она заставила меня помолиться с ней, – жалуется Лорель, будто в этом есть что-то вопиющее.
– Мы живём в духовном реабилитационном центре, если ты ещё не заметила.
– Нет, эта молитва была похожа на молитву Богу.
Пока я ищу, что ответить, объект нашей беседы заходит на кухню. Колокольчики на двери зазвенели – кто-то пришёл.
Лорель рядом со мной смертельно побледнела, возможно, обеспокоенная тем, что до мамы донеслась её последняя реплика.
– Два моих любимых человека! – восклицает Анника, очевидно, ничего не замечая. – Вас-то я и искала.
Я снова сосредотачиваюсь на нарезке, как будто она перенесёт меня отсюда в другое место, но Анника подходит ко мне вплотную, и я чувствую запах пчелиного воска.
– Ты его уже попросила? – спрашивает она Лорель.
– Да. Он уклоняется от ответа.
– Этого я и опасалась. Я же подозревала, что только я сама должна спросить его?
Лорель впивается в меня взглядом, но я представить не могу, почему.
– Милый, – говорит Анника. – В моей реабилитационной группе сегодня в шесть вечера начинается ночь семьи. Я хочу, чтобы ты пошёл со мной.
Я оставляю нож на столе, беру тяжёлую разделочную доску из дуба и засыпаю огромную гору лука в кастрюлю, чтобы повара из этого вскоре что-то приготовили.
Но кухня кажется уже переполненной.
Я демонстративно выхожу через заднюю дверь, не говоря ни слова, не тратя время на то, чтобы смыть с ладоней запах лука, рассчитывая, что гордость не позволит маме пойти меня уговаривать. Из-за гордости, наверно, она сперва отправила поговорить со мной Лорель. Но я в ней ошибся, она всё-таки идёт за мной, даже бежит, чтобы догнать. По крайней мере, сейчас она одна останавливает меня у входа в клуб занятий йогой.
– Вольф, просто выслушай меня.
– Я занят, – отвечаю я. – Что тебе надо?
Она наклоняет голову вбок и, прищурившись, смотрит на меня.
– Чем ты таким занят все те дни, что тебя нет?
Я безразлично пожимаю плечами, абсолютно не хочу рассказывать кому-либо, а особенно маме, о новых домиках на деревьях.
– Ты почти взрослый, – говорит она. – Я хочу провести с тобой время, прежде чем ты уйдёшь и будешь жить своей жизнью.
Сейчас она хочет провести со мной время. Я решаю не намекать на то, что последние семнадцать лет идея провести время со своим сыном приходит ей в голову нечасто.
Немного поздновато для этого, – хочется сказать мне, но я ничего не говорю. Молчание часто оказывается лучшей стратегией. С этим не поспоришь.
– Ну, что? Эй, я со стеной разговариваю?
– Нет, – отзываюсь я, направляясь к сараю, где стоит мой велосипед с прицепом, нагруженный материалами для крыши. Тем, кто спрашивает, я говорю, что отвожу ненужные доски и другие предметы из деревни парню в городе, который строит курятники из переработанных материалов.
Но она протягивает руку и хватает меня, когда я пытаюсь проскользнуть мимо.
– Вольфик, прошу тебя.
– Просишь о чём?
– Я немного у тебя прошу. Пойдём со мной? Ты мне нужен там.
Больше всего я ненавижу в себе потребность быть необходимым. Особенно я хочу быть необходимым маме. Я хочу этого не умом, не той частью, которая мыслит взвешенно и логически. Я хочу это примитивным, рептильным мозгом, рефлексы которого настолько древние, что не принимают во внимание доводы логики.
Грудь сковывает гнетущее чувство, в то же время мне хочется высвободить руку и убежать, но я стою. Я не соглашаюсь, но она знает, что я пойду с ней.
– Встреть меня на стоянке где-нибудь в полшестого, хорошо?
Она по-матерински тепло сдавливает мне руку и теперь смотрит на меня покорно и уязвимо. Я киваю и, наконец, обретаю свободу.
Так как сбежать на велосипеде не получилось, я иду через поля к лесу и скоро оказываюсь в тени под покровительством деревьев. Дорогу я знаю, пожалуй, лучше кого бы то ни было. Я иду по таким малоприметным тропинкам, что только олени знают об их существовании, и углубляюсь всё дальше и дальше в лес.
Мама скажет, что избавляется от зависимости. Скажет, что она трезвая (ей нравится слово «трезвый», оно как справка, по которой отпускаются все прошлые грехи). Но, на самом деле, она страдает от алкозависимости.
Я не помню того времени, когда это ещё не было её главной характеристикой.
Моё несчастье в том, что я её единственный ребёнок, поэтому, когда она решает примкнуть к рядам порядочных матерей, она направляют всю свою неконтролируемую энергию на меня. От этого остались неприятные детские воспоминания. Например, на мой двенадцатый день рождения она испекла пирожные брауни и украсила их сорняками, в результате чего у моих друзей либо были галлюцинации, либо они серьёзно отравились.
Или, когда мне было девять, она повезла нас с Лорель и Паули в город смотреть кино, но она про нас забыла, и мы полночи искали её машину. Автомобиль мы нашли во дворе какого-то бара, а мама на заднем сиденье занималась любовью с незнакомым типом.
Моё самое неприятное воспоминание, тем не менее, случилось, когда от нас ушёл папа. Мне было шесть, и Анника колебалась между депрессией, запоями и периодами угрызений совести, когда ей надо было убедиться, что со мной всё в порядке. Я в то время ходил в школу в Уолдорфе, потому что в деревне школу ещё не открыли. Однажды она появилась в школе рано утром, чтобы меня забрать по какой-то причине, которую я уже не помню. Но она была пьяна, или под наркотой, или ещё под чем-то, и, после того, как она, запинаясь, зашла за мной в класс, учитель отказался нас отпускать, потому что она явно была не в состоянии вести машину. Так что Анника выдала тантру ярости на глазах у детей, которые рисовали пальцами на бумаге, и я стоял там с голубой краской на пальцах и смотрел, как надрывается мама, пока не приехала полиция и не отвезла нас на заднем сиденье служебной машины в деревню.
Каждый раз, когда я вижу полицейский автомобиль, я думаю о маме, о том ужасном дне и моём наполовину законченном подсолнухе, который я рисовал пальцами, на фоне небесно-голубого неба. Хотел бы я сохранить тот рисунок, чтобы сжечь.
После возвращения из реабилитационного центра она изменилась так, что меня это скорее беспокоит, чем успокаивает. Она теперь верит в высшие силы, делает всё постепенно и посвящает себя Господу-с-большой-буквы-Г. Даже Махеш не осмеливается с ней спорить.
Я думаю, что женщина вроде Анники, которую воспитали университетские профессора из Гейдельберга в духе господства науки и литературы, научили подвергать всё сомнению и ставить учение превыше всего – это пример бунтаря. Бунт сначала проявлялся в жизни в Садхане, а теперь – в обращении восстания в то, что нельзя ни доказать, ни опровергнуть.
Вера.
Я хотел бы верить в неё хоть чуть-чуть, но не могу.
Я не знаю, как давно погрузился в медитацию, следуя по оленьим тропам, но я вздрагиваю, когда вижу, что неосознанно вернулся на опушку леса, с которой виден дом Николь. Сейчас там нет припаркованных машин, но я вижу её на улице, она носит доски через двор в старый сад и на огород.
Я прижимаюсь к стволу дерева, вдыхаю слабый затхлый запах подгнившей листвы и наблюдаю.
Я не знаю, зачем подсматриваю, но неприятные ощущения от сна, которые преследовали меня, начали таять, и она снова стала реальным человеком, с руками в рабочих перчатках, тыльной стороной которых изредка убирает со лба пот. После перерыва она снова идёт с той же едва уловимой элегантностью, которую я заметил при первой встрече.
Я вижу, что, по крайней мере, в том, как она ставит одну доску на другую, сооружая клумбу, она чем-то похожа на меня. Мы оба что-то строим. Она не боится ни тяжёлого труда, ни пота, ни грязи.
Было бы неправильно стоять тут и смотреть, словно хищник высматривает добычу, пока она в одиночестве занимается своими делами. Я должен либо пойти к ней и предложить чем-нибудь помочь в том, что она делает, либо уйти.
Так что я разворачиваюсь и направляюсь обратно в лес, сопротивляясь притяжению, которое создаёт её присутствие.
Я выбираю одиночество, потому что так безопаснее.
* * *
В город мы едем на старом Мерседесе, кожаный салон которого пробуждает одно из самых ярких моих детских воспоминаний. Мама всегда опасно водила машину, поэтому я настоял на том, чтобы вести самому. Так как в её отсутствие машина была у меня, на водительском месте мне должно было быть удобнее, но всё же большую часть времени автомобиль стоял на стоянке, потому что на велосипеде мне нравится ездить больше, и теперь мне кажется, что на соседнем сиденье находится опасное животное. Впервые я остался на какое-то время один на один с Анникой после того, как она вернулась.
Мне, по меньшей мере, неловко.
Я стараюсь сосредоточиться на дороге, пока она пытается уложить год в пятнадцать минут, тараторя всё больше и больше об откровениях, открывшихся ей во время терапии. Большинство из них касаются её отношений с мамой, гнева на моего папу, двойственного отношения к трезвости.
Она преподносит это как сводку последних новостей, но я уже слышал их. Она напоминает сломанную пластинку, которую починили, но она близка к рецидиву, только на этот раз она абсолютно уверена в том, что всё заработает.
Будто бы в сорок три года всё её дурные привычки прошлого стёрлись.
Может быть, в моих словах много горечи.
Потому что так оно и есть.
Я сижу на встрече анонимных алкоголиков. Когда Анника представляет меня собравшимся, мне кажется, что она создаёт себе новый образ. Ответственная Анника. Очищенная Анника. Божественная Анника.
От всего этого желудок сводит, потому что это – часть той лжи, в которую она хочет меня втянуть. Даже само моё присутствие – это часть лжи.
Позже мы выбираемся из муниципального центра, покрашенного в что-то среднее между бежевым и жёлтым. Когда строили эту конструкцию из шлакоблоков, даже не пытались сделать что-то привлекательное.
Я замечаю эти детали, потому что мне нравится думать о формах и линиях объектов, о том, как перекликаются форма и функция, о задачах того или иного стиля, о том, как взаимодействуют – или, в данном случае, не взаимодействуют, практичность и красота.
Я чувствую, как за час пребывания в том месте я насквозь пропитываюсь запахом просроченного кофе и сигаретным дымом.
– Ну, расскажи мне, как у тебя дела? – спрашивает меня Анника по дороге домой.
Я крепко сжимаю руками руль и смотрю прямо перед собой, в голове пустота. Сомневаюсь, что мама когда-нибудь ещё интересовалась моими делами. Я снова думаю: «Почему сейчас?»
Уже слишком поздно создавать доверительные отношения между матерью и сыном.
Я пожимаю плечами:
– Нормально.
– Тебя часто нет дома. В чём же причина?
– Я просто доставлял посылки… Почему ты спрашиваешь? – парирую я, упрямо не говоря ей то, что она хочет услышать.
– Я просто желаю тебе лучшей жизни, чем моя.
Вот так шутка. У неё было беззаботное детство, любящие родители, которые открыли для неё все двери.
– Может быть, тебе надо было задуматься об этом семнадцать лет назад, - невольно вырывается у меня.
На пару мгновений это обвинение повисло между нами в воздухе. Я не смотрю на неё, не хочу видеть, как она это восприняла.
– Ты злишься на меня, – говорит она наконец.
– Не совсем.
– Понимаю. Ты имеешь право злиться. Я надеюсь лишь на то, что ты сможешь это преодолеть, и в тебе, в конце концов, проснётся сострадание.
Я перекатываю на языке колкий ответ, взвешиваю его, набираясь смелости сказать даже больше того, но сдерживаюсь. Я знаю, что она любит спорить. Я не хочу доставить ей такое удовольствие.
– Ты так вырос за этот год, но ты всё ещё мой сын. Я всё ещё твоя мама, нравится тебе это или нет.
– Тебе, наверно, хочется почитать инструкцию к этому.
Она вздыхает, и уголком глаза я вижу, что она смотрит прямо перед собой на дорогу.
Раньше я боролся за её внимание, пытался изо всех сил быть хорошим мальчиком, давать ей всё, что нужно, чтобы она меня заметила, или полюбила, или и то, и другое. Больше я об этом не беспокоюсь, и даже не знаю, когда точно произошло это изменение. Явно до того, как она уехала в прошлом году. Возможно, это произошло, когда у меня начался переходный возраст, и я понял, что мир – это суровое место, в котором все мы должны заботиться о себе сами.
Я сворачиваю с шоссе на грунтовую дорогу, которая ведёт через лес в деревню. Всё своё внимание я концентрирую на том, чтобы объезжать рытвины, потому что дорогу не ремонтировали ещё с допотопных времён.
– Чего ты хочешь добиться в жизни? – спрашивает она.
Слишком много родительской опеки для одного дня. Мне не хочется отвечать, но я чувствую, что она всё ещё ждёт ответа, так что я пожимаю плечами и говорю, что не знаю.
– У тебя определённо есть какие-то идеи. Хочешь стать поставщиком переработанных стройматериалов по всему региону?
Правда в том, что раньше у меня были готовые ответы на её вопросы, но они утонули в сером тумане, который в последнее время застилает мои мысли. Я больше не могу цепляться за будущее рядом со своим домом на дереве или с тем, что оно мне сулит.
– Ты всегда был таким умницей! Может, пойдёшь в университет?
Мама училась несколько лет в университете до того, как всё бросила и поехала путешествовать по миру с отцом. Я предполагаю, что такой способ провести эти годы так же хорош, как и другие, если не обращать внимания на то, что она за это время ничему не научилась и ничего не приобрела. Её наблюдения за иными культурами были лишь поверхностными, увидев мир в его многообразии, она не обрела мудрости, и всё это было, как мне кажется, всего лишь предлогом, чтобы попробовать наркотики из экзотических стран. Как говорил мой папа, это был её опиумный период.
Так как я ничего не отвечаю на её предложение поступить в университет, она снова вздыхает.
– На самом деле, мне хочется, чтобы ты прошёл курс терапии, чтобы оправиться после папиной смерти.
Теперь она меня шантажирует. Она жадно ждёт ответа, и мне некуда деваться. Так что я отвечаю.
– Иди ты к чёрту, – говорю я. – Пошла к чёрту твоя терапия. Тебе она ничего хорошего не дала.
– Неправда, – возражает она, будто не замечая моих оскорблений. – Мне очень помог тот труд, что я проделала.
Меня умиляет, как она называет это «трудом», как будто после сеанса у врача у неё болит спина, а в руке она сжимает квитанцию со своей зарплатой. Уверен, что так она чувствует себя полезной личностью, хотя на деле она бесполезна.
Проблема моей мамы именно в этом – она никогда не пыталась приносить пользу. Она всегда думала, что достаточно просто быть красивой.
Глава 6
Изабель
Я, наконец-то, могу выбраться из этой дыры.
Последние пять дней я провела здесь взаперти, умирая со скуки, наблюдая за тем, как со стен осыпается краска, пока Ники бегает вокруг, стуча молотком, прикрепляя всё, ведя себя так, будто мы оказались в телешоу «Маленький домик в прериях», которое папа показывал нам, когда мы просили посмотреть телевизор.
Сначала я не знала, за какое время можно добраться до города и даже как там оказаться, но потом меня осенило: автостоп. Я вполне справлюсь с этим. Мне надо всего лишь внимательно смотреть, какому автомобилю голосую. Чтобы в нём не ехали подозрительные личности, серийные убийцы и так далее.
Мне всего лишь надо выйти на шоссе, поймать попутку, и я смогу уехать за сотни миль отсюда на несколько часов.
Меня останавливает только мысль о том, что мама может вернуться домой в любой момент.
В любую минуту…
Даже когда прошла уже почти целая неделя? Я с ума схожу от ожидания.
Кроме того, моя сестра вкалывает, как рабыня, на этой непереносимой жаре, строит клумбы, приколачивая друг к другу доски, выпалывает сорняки, копается в грязи с тяпкой по невообразимым для меня причинам.
Она пытается привлечь меня к домашним делам, но действенного способа для этого просто нет.
На это нет никакой надежды.
Вчера утром среди вещей в сарае я нашла лежанку, ещё я нашла пляжное полотенце в ванной, достала бикини, забытое на дне ящика комода. Потом я весь день читала журнал Cosmo, принесённый домой контрабандой, его я обнаружила в маминой заначке. Нам, подросткам, категорически запрещено было читать журналы, если только на них не стоял заголовок вроде «Домашнее консервирование для подростков», но папе никогда не удавалось убедить маму в дьявольском влиянии поп-культуры.
Из-за которой мама, наверно, и сбежала.
С пятачка на шоссе, на котором мой телефон ловит ровно на десять процентов, я отправила ей сообщений пятьдесят после отъезда, но всё ещё не знаю, прочитала ли она хоть одно из них. В них написано что-то вроде:
«Куда ты уехала?»
«Когда ты вернёшься?»
«Ты должна вернуться. Папа сходит с ума».
«Почему ты мне не ответила?»
«Папа оставил нас здесь одних. Я позвоню в службу опеки детей, если ты не вернёшься ПРЯМО СЕЙЧАС!!!!!!»
И так далее.
Я не собиралась исполнять угрозу из последнего сообщения, потому что, хотя я, возможно, могу раз-другой припугнуть этим Ники, чтобы она оставила меня в покое, я осознаю, что, если позвоню в службу опеки, я, в конце концов, окажусь в каком-то жутком доме для подростков, или в приюте, или ещё где-то, и, скорее всего, стану сексуально озабоченной, потому что в таких местах это – обычное дело.
На секунду я решила рискнуть, ведь только так я получила бы приличный кондиционер, телевизор и человеческую еду, но потом поняла, что это того не стоит.
Нет, мне надо найти маму.
Она единственная в этой безумной семье понимает меня, поэтому я совершенно обескуражена тем, что она смогла уйти без меня. Она знает, как сильно я ненавижу это место.
Я абсолютно (почти) убеждена, что она рано или поздно придёт. Если бы меня кто-нибудь спросил, я бы искренне ответила, что она всего лишь уехала на продолжительные спа-процедуры и, возможно, побежала на марафон по магазинам пока решает, как вытащить семью из этого ночного кошмара.
Может быть, она подумывает о разводе, но это же не конец света.
Я имею в виду, что, насколько я вообще разбираюсь в жизни, жить здесь – это конец света.
Я думаю, что плохая сторона жизни в том, что мне надо бы было иногда приезжать домой к отцу, чтобы навещать его, а лучшая – в том, что у мамы полно родственников в Южной Калифорнии – Лонг-Бич, Ньюпорт-Бич, Хантингтон-Бич (все города заканчиваются на «бич» (beach «пляж» – Прим.пер.)) – так что мы могли бы переехать с ней к побережью и больше не притворяться кроткими монашками. Мы могли бы пожить с кузинами, пока не найдём собственное жильё, которое, конечно же, окажется престижным кооперативом с выходом к океану, еще мы могли объедаться каждый вечер и никогда бы больше не консервировали бы продукты.
Может быть, прямо сейчас она подыскивает нам дом.
На мгновение я испытываю приступ вины. Я люблю папу и всё такое, и я совсем не хочу, чтобы они разводились, но ему жизненно необходимо трезво посмотреть на все эти игры в выживание. В любом случае, он не тот идеальный парень, каким хочет казаться.
Когда подходит к концу второй день приёма солнечных ванн, чтения всех журналов «Cosmo», которые я смогла найти, Николь, еле волоча ноги, возвращается из сарая, грязная и потная.
От этого зрелища мне хочется проверить свои ногти, я только недавно их выкрасила в прекрасный апельсиновый металлик, который ошеломительно сочетается с цветом кожи, и про себя я отмечаю, что вечером надо нанести закрепляющий слой.
– Ты уже ужинаешь? – спрашивает меня Ники.
– Нет.
Она поворачивается и идёт к дому, её костлявые плечи опали, и мне почти стыдно. Ники так сложно любить, у нас ничего общего, но она, как-никак, единственный человек, которого я вижу в последние дни. Я думаю, мне надо попробовать с ней подружиться или ещё как-то сблизиться.
Для себя я принимаю решение быть отзывчивее к ней, но это продолжается только час или два (то есть это могло бы длиться и дольше, если бы мы не встречались, но в тот момент, когда мы начинаем разговаривать, я вдруг не могу вспомнить, почему хотела быть милой).
Она так раздражает. Она будто бы папочкин робот с промытыми мозгами.
Но готовит она в разы лучше, чем я.
Если я буду добра с ней, она, наверно, приготовит что-то вроде шоколадных печений на десерт, а то сэндвичами с арахисовым маслом и джемом я не только не наедаюсь, но мне ещё и дурно от них становится.
Солнце зашло за верхушки деревьев, так что теперь, куда бы ни села, я всегда в тени, поэтому встаю и иду за Ники в дом, думая, как бы подобраться к щедрой стороне сестры. Я могла бы заглянуть в папин список дел и сделать из него что-нибудь наименее противное. Или я могла бы сделать то, чем сама потом воспользовалась бы, и попробовать отскрести грязную ванну так, чтобы позже её принять.
Сделаю и то, и другое. Сначала список дел, потом ванна. Тогда она сможет испечь печенье, пока я отмокаю в чистой ванне.
Но в доме я слышу душераздирающий урчащий звук, исходящий от стен, будто бы дом страдает. Я иду на звук по коридору, захожу в ванную, где Николь уставилась на водопроводный кран, из которого ничего не льётся.
– Что это за звук? – спрашиваю я.
– Ты о трубах? – отзывается она.
Будто я знаю.
– Господи, что с ними не так?
Она коротко выдыхает.
– Воды нет, видишь?
Она открывает и закрывает кран, потом повторяет свои действия.
– Я думаю, что такой звук возникает из-за воздуха в трубах.
В животе урчит от ужаса.
Нет воды?
Я весь день пролежала на солнце, от меня пахнет кремом для загара и потом. Мне надо помыться или я взорвусь от бешенства.
– Тогда мы просто вызовем водопроводчика, или кого-там, он приедет и всё починит, верно?
Она садится на край ванны и пристально на меня смотрит.
– Здесь не поможет водопроводчик. У нас здесь свой колодец.
– Колодец? Тот, в который надо опускать ведро на верёвке?
– Нет, не сосем. Это такой… Я даже не знаю, как он устроен.
– Тогда мы должны позвонить тому, кто знает. Я не собираюсь жить без воды.
Она суёт большой палец в рот, чтобы откусить кусочек ногтя, но едва кладёт его между зубами, до неё доходит, что она делает, так что она прячет руку между ногами. Давным-давно родители запретили ей грызть ногти, так что она никогда не делает это на людях. Но по её уродливым обгрызанным ногтям отчётливо видно, что она всё ещё их кусает.
– Мы не можем никому позвонить, даже если твой телефон заработает. У нас нет денег, чтобы им заплатить, и если кто-нибудь узнает, что мы остались здесь одни, у мамы с папой из-за нас могут быть проблемы.
– Мы просто скажем, что мама с папой на какое-то время уехали.
– На то, чтобы это починить, могут уйти дни, и, как я сказала, у нас нет денег на мастера.
Мне так тошно от того, что она так поступает, будто бы у неё своих мозгов нет, так что я хочу взять её за плечи и встряхнуть, но она выше и сильнее меня, так что я иду на кухню, в которой видела местный телефонный справочник. Я уже начинаю листать страницы, как до меня доходит, что я без понятия, что искать.
Мастер колодцев? В секции на букву «М» нет ничего подходящего.
Николь идёт за мной на кухню и вырывает справочник.
– Прекрати, – приказывает она. – Дай подумать. Может быть, я придумаю, как починить его самой.
– Ты же дурочка, – говорю я, в основном потому, что у меня туман в голове, а не потому, что это правда.
Я иду в свою комнату и всё переворачиваю вверх дном, пока не нахожу припрятанные со дня рождения деньги. У меня почти двести долларов сбережений, о которых мне совсем не хочется говорить Николь, потому что она потратит их на какую-нибудь чушь, вроде оптовых мешков с бобами. Но я могла бы взять десять долларов, поймать попутку до города и купить себе что-нибудь на ужин.
Я выгляжу малопривлекательно, так что пытаюсь убрать запах пота очищающими салфетками для лица, которые нашла в косметичке, заново расчёсываю волосы, собираю их в хвост и надеваю любимую кепку. Потом надеваю чистую одежду и выгляжу почти нормально. Брызгаю дезодорантом и пшикаю туалетной водой, которую мама подарила мне на Рождество, даже несмотря на то, что папа запрещает нам пользоваться духами, так что я пахну тоже вполне сносно.
Едва верится, что я, наконец, обрела настоящую свободу в первый раз за всю жизнь и даже не могу принять душ, прежде чем ей насладиться. Единственное я знаю точно – я не собираюсь упускать момент.
Когда Николь отворачивается, я выскальзываю во входную дверь, осторожно прикрываю её, чтобы та не скрипнула, и направляюсь к городу, пока не стемнело.
Лоурель
Когда мы едем в минивене Паули вместе с самим Паули и Кивой, мы замечаем на обочине девочку, она неуверенно поднимает палец, словно сомневается, действительно ли она хочет, чтобы кто-то её подобрал. Она молода и привлекательна, ей около 13-15 лет, тип её фигуры притягивает взгляды таких парней, как Кива, подобно блестящим предметам.
– Что тут у нас? – спрашивает Кива, пока Паули притормаживает и пододвигается к обочине, где гравий соприкасается с травой.
Я опускаю окно.
– Тебя подбросить?
Она вымученно улыбается.
– Я еду в город, нам по пути?
– Сегодня твой день.
Кива перегибается через сиденье и открывает дверь с её стороны, а я уже знаю, по какому сценарию будут развиваться события. Он из кожи вон вылезет, чтобы проникнуть к ней в трусы, и если только у неё не стальная воля, то он в этом преуспеет. Он в зените пубертатного периода, ему шестнадцать, он до смешного стремится так быстро отдалить от себя девственность, как только может.
Эта девочка же выглядит свежей. Нетронутой. Взглянув на неё вблизи, я бы предположила, что ей четырнадцать.
Я чувствую искусственный клубничный запах, когда она садится в машину, а когда поворачиваюсь к ней, замечаю её сходство с одной из двух новых девочек, которых описал Вольф. Та же оливкового оттенка кожа, те же тёмные прямые волосы, те же слегка азиатские черты.
– Как тебя зовут? – спрашиваю я.
– Изабель.
– Я Лоурель, а это Паули, – говорю я, кивая на водителя.
– Я Кива, – откликается Кива с заднего сиденья.
– Спасибо, что подобрали меня.
– Тебя родители никогда не учили, что нельзя ловить попутки? – спрашивает Паули, вглядываясь в неё через зеркало заднего вида, в его голосе звучат флиртующие нотки, хотя он стопроцентный гей.
Она пожимает плечами.
– Может, и учили.
– Ты, наверно, здесь недавно. Иначе я бы тебя узнал, – говорит Кива.
– Я здесь на время. Ребята, вы в старших классах здесь учитесь?
– Не совсем, – говорю я. – Мы учимся в школе Садхана.
– Я – выпускник школы жизни, – говорит Паули.
– Я изучаю искусство бытия, – говорит Кива, и это очень на него похоже. В последнее время я ни разу не видела, чтобы Кива сунул нос в какую-нибудь книгу.
– Мы решили, что пойдём учиться во Всемирный Колледж Спокойствия.
– Всемирный Колледж Спокойствия. Это же не просто название, да?
– Ага.
– Ребята, вы вместе живёте? – спрашивает девочка.
– Что-то типа того, – отвечает Паули. – Ты должна прийти и посмотреть, как мы живём. Это перевернёт твой мир.
Я сдерживаюсь, чтобы не закатить глаза. Не знаю, может ли кучка хиппи в общежитиях и хижинах кого-то впечатлить, но я там жила почти всю жизнь, так что, наверно, отношусь к этому предвзято. Я знаю, что является деревней хиппи, а что – нет. Я знаю, что она так и не оправдала тех духовных идеалов, на которых была заложена, и меня это, в любом случае, не беспокоит, но я терпеть не могу, когда люди говорят о ней, как об исключительной форме рая.
Скорее, это место, где люди сбегают от реальности. Сомнительное место для детей. Я знала о сексе всё к тому времени, как мне исполнилось шесть, потому что видела так много накуренных придурков, которые занимались этим у всех на виду, и попробовала на себе гораздо больше к тому времени, как достигла возраста этой девочки. Какие истории я бы ей рассказала… То есть, кто-то в Садхане и правда стремится к просветлению и всему прочему, но деревня привлекает и многих полоумных, людей, которые не хотят жить в реальном мире с его реальными трудностями.
Но за это я их не виню.
Когда на радио заиграла любимая Паули композиция группы Queen, он настолько прибавил громкость, что никто не смог разговаривать. Подгоняемый ритмом музыки, он едет быстрее. Стремительно приближаясь к городу, мы видим, как вдали над горами распространяется дым от ближайшего стихийного лесного пожара. Эта опасность нависла над нами уже давно, но пожары случаются в этой части штата ежегодно, как сменяются времена года. К этому времени года в Сьерре так жарко и сухо, что пламя не остановить.
Иногда мне нравится, как сверкает красным ночь, и как дым заполняет долины и окрашивает воздух в бежевые оттенки. Это похоже на конец света.
От этого я вспоминаю о девушке с ружьём, которую Вольф видел в лесу. Я наклоняюсь к приёмнику и выключаю радио, когда мы приближаемся к городу.
– У тебя есть ружьё? – спрашиваю я Изабель, и брови у Кивы ползут на лоб.
Изабель недовольно морщится.
– У сестры есть. Не у меня.
– Твоя семья – сюрвивалисты?
Её лицо искажается гримасой боли.
– Ммм, папа – что-то вроде сюрвивалиста.
По её напряжённым губам я вижу, что задела её за живое, затронув что-то, о чём она не хочет разговаривать.
– Правда? Ты сюрвивалист? – спрашивает Паули.
– Вы что, ребята, верите, что грядёт зомби-апокалипсис? – спрашивает Кива, который обожает зомби.
Не понимаю, как кому-то могут нравиться зомби.
– Ни в коем случае. Но папа из их числа, и сестра тоже. Он ей совсем мозги промыл.
Сюрвивалисты с пушками поселились прямо рядом с нашей мирной и беззаботной коммуной? От такого невероятного совпадения я чуть не смеюсь в полный голос. Мне жизненно необходимо встретиться с её сестрой с пушкой как можно скорее и выяснить, что у неё за дело.
Николь
Когда я понимаю, что Изабель пропала, я стараюсь не паниковать. То есть, в любом случае, как далеко она могла бы добраться? Она абсолютно не ориентируется, и у неё нет денег. Но когда я представляю себе, как она ловит попутку и садится в машину к какому-то злоумышленнику, сердце переполняется ужасом. Папа доверил мне заботу о сестре, о доме, обо всём – и теперь всё рушится. Я уже провалила задание, а ещё даже недели не прошло.
Сначала я обыскиваю дом и его окружение, надеясь на то, что она моет пол в сарае, или ищет что-то в гараже, или, что совсем невероятно, гуляет где-то в лесу, но часть меня знает, что эти поиски бесполезны. По тишине, по мирному спокойствию, на которое Иззи не способна, я вижу, что одна. Она постоянно что-то напевает себе под нос, или копошится где-то, или жалуется на скуку.
Я вспоминаю о велосипеде в гараже и иду за ним. Может быть, я смогу перехватить её, пока её не подобрала попутка, если поеду достаточно быстро. Когда я застёгиваю шлем, то понимаю, что обе шины сдуты. Конечно. На велосипеде никто не ездил, пока мы собирались и переезжали. Только у меня в семье есть велосипед. У сестры был один, но в прошлом году она оставила его без замка у школы, и его угнали, а папа отказался покупать новый.
Я оглядываюсь кругом в поисках насоса, но всё, что вижу - это так и не распакованные коробки, потому что папа не включает распаковывание вещей в наше безумное расписание. Он не предполагал, торопясь уехать, что мне может понадобиться велосипед, чтобы погнаться за сестрой. Бормоча ругательства, я снимаю шлем и решаю бежать за сестрой.
А потом я думаю, а что, если я её не догоню? Что, если я просто позволю ей самой понять, что сбегать вот так – плохая идея? У меня всё ещё остаётся нешуточная проблема, с которой надо разобраться – отсутствие воды.
Возможно, она сама вернётся. Возможно, я беспокоюсь по пустякам.
Возможно.
Глава 7
Вольф
Когда я был гораздо младше, я был, возможно, влюблён в Лоурель. Сколько себя помню, она была в моей жизни, но всё же я помню время, когда она всегда защищала меня, когда мы были лучшими друзьями и товарищами по играм, и я представлял её себе девочкой, сотканной из солнечных лучей и неба. Я мечтал о ней, вдыхал её запах и думал о ней только в превосходной степени – самая симпатичная, самая умная, самая лучшая.
Я не знаю, почему моё отношение к ней изменилось. Я не знаю, когда это произошло. Но Лоурель невозможно узнать, не меняя своего мнения о ней, потому что она стремительно превращается из одного человека в другого прямо у тебя на глазах.
Я знаком с ней достаточно долго и понимаю, что за привлекательной внешностью скрывается тьма и пороки. Она – бездонный бассейн, в котором опасно плавать. Ты никогда не узнаешь, что именно утянет тебя на дно.
Таким образом, Лоурель – единственная девушка, которую я любил, если, конечно, то детское чувство, которое я испытывал к ней, было любовью. Девушка, которую ты, как думал, знал, стала незнакомкой. Дело не в том, что в такой крохотной деревне как моя, все ровесники воспринимают друг друга как братьев и сестёр. В деревенскую школу приезжают дети из других мест, потому что она славится нестандартным подходом к образованию. Так что, здесь есть девушки из близлежащих городков, некоторые из которых обладают возможностями, о которых я могу только мечтать.
Что-то всё же не даёт мне ухаживать ни за одной из них. Даже когда они строят мне глазки, я коченею, внутри меня только ледяная сталь, которой неведомо то удовольствие, когда заигрываешь ты, и когда заигрывают с тобой.
Став старше, я чувствую, что что-то не так. Я знаю, что я, наверно, остался в стороне от чего-то невероятного, но это ни на что не влияет. Я всё ещё холоден к миру.
Лоурель говорит, что я держусь слишком далеко ото всех, я слишком возвышен и слишком зацикливаюсь на плохих вещах. Но я уверен, что втайне она рада тому, что я не влюблён ни в одну из городских девчонок. По тому, каким будничным тоном она упрекает меня в отчуждённости, я могу сказать, что её это совсем не беспокоит.
А вот новая соседка…
Николь.
Она всё ещё преследует меня во сне и наяву.
Я вижу во снах её тонкие руки и легкую поступь сквозь бурные заросли сорняков. Я просыпаюсь с её именем на губах, она заполняет всё расстояние между отдельными мыслями. Как мне вести себя на этой новой планете?
Иногда ранним утром я лежу без сна в новом домике на дереве, а возле моего уха жужжит комар. Я отмахиваюсь от него в третий раз и пристально смотрю сквозь окно в крыше на звёзды. Первый раз в жизни я не хочу быть один.
Я представляю, что чувствовал бы, если бы Николь лежала рядом, тёплая, её светло-коричневая кожа рядом с моей, и сквозь меня проходит ток. Я возбуждаюсь от одной этой мысли.
Я глубоко вдыхаю и выдыхаю, потому что так я одновременно и отдаляюсь и приближаюсь к этому ощущению.
Это желание.
Я испытывал его раньше, конечно. Миллион раз. Но не так. Я не был одержим гонкой за одной единственной девушкой, которая носит с собой пушку и умеет с ней обращаться, которая живёт непостижимой для меня жизнью и ничего не знает о моём странном мире.
Может быть, меня так привлекает в ней наша непохожесть.
Большинство людей обычно образуют пары с другими жителями деревни, потому что убеждаются в том, что люди извне просто их не понимают. Те духовные принципы, которым они следуют, не пускают посторонних в их повседневность. Но что говорить о нас, детях искателей истины? Мы вовсе не выбирали эту жизнь. И, всё же, нас объединяет что-то исключительное, потому что мы общаемся с такими же, как мы. Может быть, не только с ребятами из деревни, но точно с теми, кто понимает и кто вырос в этой культуре или придерживается её принципов.
Что бы подумала Николь о такой жизни? Что она думает обо мне?
Я осознаю в этой молчаливой темноте, что, на счастье или на беду, мне предстоит это узнать.
* * *
Хелен – самая давняя мамина подруга. Они вместе приехали в деревню, когда она только зарождалась, но, пока мама продолжала употреблять наркотики и алкоголь, Хелен одумалась, получила учёную степень и стала деревенским терапевтом. Она стала мне кем-то вроде мамы, по крайней мере, тогда я думал, что на маму можно положиться и она даст разумный совет.
Я не разговаривал с ней после приезда Анники, в основном, потому что я знаю, что она будет убеждать меня дать Аннике ещё один шанс и простить её ради своего же блага, а я весь этот бред слушать не хочу.
Но она знает, что я её избегаю, так что, когда я вижу записку, просунутую под дверью спальни, на которой её рукой небрежно написано моё имя, сердце уходит в пятки.
Я поднимаю её и вскрываю конверт. Внутри лежит листок со словами: «Нам надо поговорить. 15:00, мой кабинет. С любовью, Хелен».
Я бросаю записку на прикроватную тумбочку и иду к выходу, придумывая отговорки. У меня дела. Мне надо работать в домике. Я хочу увидеть Николь.
Но уже 14:52. Все мои дела подождут полчаса. К тому же, чем дольше я откладываю встречу, тем …
Я иду через двор и рощу красных деревьев к зданию администрации. В нём в конце главного коридора находится кабинет Хелен, маленькая комната с огромными окнами, индийскими ковриками ручной работы и папоротниками в горшках.
Дверь слегка приоткрывается, так что я знаю, что сейчас она никого не принимает. Когда я стучу в дверь, она зовёт меня войти. В кабинете витает лёгкий запах ладана. Хелен сидит за столом, ручка зависла над тетрадью.
– Милый Вольф! Вот так сюрприз! – говорит она, поднимая на меня взгляд. Она обходит стол и обнимает меня.
Хелен всегда пахнет цитрусовыми. Она худая женщина с изящными формами, отточенными годами занятий йогой, сильная, но с нежными объятиями. Мне кажется, что она ко мне прилипла, но это потому что я так сильно перерос её за последнее время.
– Ты занята? – спрашиваю я.
– Конечно, нет. Я рада, что ты прочёл мою записку. Давно пора было поговорить.
Она жестом приглашает меня на диван напротив своего стола и притягивает кресло так, чтобы сидеть в полуметре от меня.
– Когда ты вернулась с Гаити?
– В воскресенье.
Несколько месяцев в году Хелен добровольно помогает в детском приюте в одном из беднейших регионов Гаити, а потом она возвращается в Штаты и остальную часть года убеждает богачей пожертвовать деньги приюту.
– Как путешествие?
– Затратно и прекрасно, как всегда. Ты должен поехать со мной в следующий раз.
– Может быть, поеду, – говорю я и откидываюсь на спинку дивана, погружаясь в тишину и спокойствие кабинета. - Меня заинтересовала странная записка, которую ты обронила возле моей двери.
– Я вчера целый день провела с Анникой, – говорит она вместо объяснения.
– Понятно. Она вернулась.
– И конечно, я тут же подумала о тебе. Как ты это воспринял?
Я пожимаю плечами. Что ей ответить, в самом деле? Если кто-то и знает о тяжести ситуации, то это Хелен.
– Ты много времени с ней провёл?
– Нет, – отвечаю я.
– Это она так решила?
– Я. Она пыталась восстановить отношения.
К горлу подкатил комок, и я пытаюсь глубоко дышать.
Я не хочу проходить курс терапии чувств к маме. Я мельком гляжу на дверь, рассчитывая, как трудно будет сбежать.
– Сближение с тобой – часть её лечения, – говорит Хелен.
– Надо внести изменения. Она должна вычеркнуть меня из своего списка.
– Не думаю, что она с этим согласится.
Я выглядываю в окно позади её стола, гляжу на австралийский папоротник размером с дерево, покачивающийся на ветру. Его явно посадили до повального увлечения местными растениями в деревне.
– Можно мне сказать, что я думаю?
Она смотрит на меня с полуулыбкой.
– Ты расскажешь, хочу я того или нет.
Она смеётся.
– Ты слишком хорошо меня знаешь.
Я пожимаю плечами.
– Я тебя слушаю.
– Я подозреваю, что ты не сможешь быть по-настоящему счастлив, пока не помиришься с Анникой.
Во рту застывает что-то похожее на смех.
– Помириться?
Она откидывается в кресле и изучающе на меня смотрит.
– Чем это должно быть, по-твоему?
– Не знаю.
– Подумай об этом.
– Я не хочу об этом думать.
– Ничего не получится, если ты будешь так сопротивляться, – говорит она своим лучшим успокаивающим голосом врача.
– Я не хочу проходить терапию.
– Прости, – извиняется Хелен. – Я должна была тебя спросить.
– Может быть. Но я знал, что отказался бы, если бы ты спросила.
Она улыбается.
– Ты такой же сообразительный, насколько красивый.
Мы сидим в тишине несколько долгих секунд.
– Я не верю ей, – наконец говорю я, слова безудержно вырываются из меня на этот раз.
– Чему именно?
– Тому, что она трезва. Всё ещё трезва.
Она кивает.
– Она должна снова заслужить твоё доверие.
«Сомневаюсь, что это возможно», – хочу сказать я, но молчу. Вместо этого я просто смотрю на свои ноги, покрытые коричневой пылью, в резиновых шлёпанцах. У меня мамины пальцы, квадратные, каждый чуть короче предыдущего. Это одна из тех вещей, в которых мы похожи.
Я никогда не пил ничего крепче пива, никогда не прикасался к тяжёлым наркотикам, временами я курил травку, но мне никогда это не нравилось, и я завязал с этим несколько лет назад, пытаясь не стать похожим на маму.
– Я позвала себя сюда не для того, чтобы задавать неудобные вопросы, уверяю.
– Тогда зачем?
– Я просто хотела поговорить, по-дружески.
Когда она говорит это, она наклоняется вперёд, протягивает руку, кладёт её на моё предплечье и слегка сжимает, глазами показывая, что не шутит.
– Тогда, как друг, ты поймёшь, почему я не собираюсь присоединяться к фанатам Анники.
Она поджимает губы и выглядит так, будто собирается что-то сказать, но не произносит ни слова.
– Не волнуйся за меня, – говорю я.
– Могу я дать тебе совет?
– Конечно.
– Теперь, когда твоя мама вернулась, дай ей подняться или упасть без твоей помощи, хорошо? Просто будь готов принять изменения, но знай, что тебе не надо контролировать результат.
Тут она меня поймала. Я смотрю в её бледно-голубые глаза и знаю, что она видит мой страх – страх снова войти в жизнь мамы и застрять в этой яме с зыбучими песками.
– Ладно, – говорю я и встаю, собираясь уходить.
Мы обнимаемся, прощаемся, и я иду обратно по коридору во двор, где всё освещено ярким солнечным светом.
«Дай ей подняться или упасть самой», – думаю я.
Я могу.
Я могу сопротивляться тому, чтобы попробовать спасти её от самой себя.
По крайней мере, я надеюсь, что могу.
* * *
Эта девушка, возникшая в моей жизни внезапно, как сорняк, как загадочный незнакомый цветок – к счастью, отвлекает меня от мамы. Хотя я не хочу иметь ничего общего с этим миром, я также не могу сопротивляться её притяжению. У меня есть что-то вроде плана, в котором нет девушки Николь, которая охотится на животных в лесу, тем не менее, кажется, она чувствует себя в моей душе как дома.
И она заставляет меня задуматься о будущем. Завершение этапа «одиночества в домике на дереве по Торо», потом университет, потом что? Будет ли потом бегство? Будет ли у меня какой-то план? Остался всего год, и я чувствую силу, растущую в моём теле, желание заблудиться в мире, как можно дальше отсюда, сбежать от всего, что составляло мою жизнь раньше: от мамы, деревни, папы, друзей.
Уверен, в мире миллион вещей, которым я не могу научиться здесь, в крошечном мире деревни.
В этом я отличаюсь от своего идола Торо. Но всё же, его лесной дом не висел на краю пропасти, которая угрожает поглотить всю его жизнь.
Может быть, тяга к Николь возникла из-за её потусторонности, её непохожести на всё, что я когда-либо знал. Она с другой планеты, и поэтому, наверно, я приношу дары к её дому.
Символы мира и доброй воли от моей планеты для её родины.
Если я не протяну руку и не заговорю первым, она может уничтожить меня своей необычной красотой.
Я еду на велосипеде по грунтовой тропинке, взбираюсь на холм к старому фермерскому дому. Снаружи никого не видно. Ни машины, ни грузовика, которые приехали в первый день, всё ещё нигде нет, на мгновение я думаю, что мне надо было приехать позже. Но пока что, в девять утра, не так жарко. Позже дорога будет невыносимой. Так что, я прислоняю велосипед к стене сарая и иду по тропинке к дому.
То, что когда-то было мощёной дорогой, превратилось теперь в смесь сорняков и обломков красных кирпичей. Неподалёку, у подножья холма, я вижу индюка в окружении трёх индюшек, они идут к поляне, и я спрашиваю себя, станет ли один из них ужином у этой семьи.
Сначала я хочу броситься к ним и спугнуть, чтобы они убегали и спасались, но потом подумал, кто я такой, чтобы судить? Я знаю, что девушка, которая сама охотится за своим ужином, гораздо великодушнее той, которая идёт в магазин за индейкой, выращенной на фабрике.
Мне надо постоянно напоминать себе это из-за отвращения, вызванного видом оружия.
Я беру две тряпичные сумки с руля. В одной – букет цветов, только что собранных мной в саду Садханы, в другой – буханка розмаринового хлеба, испечённого Лоурель рано утром. Я сам себя убеждаю, что меня заставляет дарить подарки соседям необычность самого факта, что у меня теперь есть соседи. Но голос в глубине напоминает, что соседка привлекательна и не покидает мои мысли со дня приезда.
Принёс бы я эти примирительные подарки, если бы приехал только её отец или если бы приехала не она?
Ни в коем случае.
Глава 8
Николь
Отец уехал больше недели назад, и я уже сыта по горло этой детской игрой на выживание. Я чуть ли не каждый час жду его возвращения. По крайней мере, Иззи пришла домой прошлой ночью, ближе к одиннадцати, без каких-либо объяснений, где она была и что делала.
Я пытаюсь не волноваться.
У меня нет сил на то, чтобы беспокоиться по этому поводу, потому что в доме всё идёт наперекосяк.
Но большой проблемой остаётся вода. А точнее её отсутствие в трубах прошлой ночью.
У нас большой запас питьевой воды в гараже, ряд четырёхлитровых канистр на нижних полках. Я знаю, что ещё могу спуститься к ручью, набрать воду и вскипятить, чтобы использовать её дома. Если же всё это не сработает, у меня на всякий случай есть таблетки для очищения воды тогда, когда её нельзя прокипятить.
Не то, чтобы нам угрожала смерть или что-то вроде этого.
Прошло меньше суток без водопровода, но только теперь, ощутив трудности полива в саду, проблемы с душем или приготовлением еды, с тем, как смыть в туалете или вымыть руки, я начинаю понимать, как мы испорчены в повседневной жизни.
К нашей неожиданной радости бабушка и дедушка не побеспокоились о том, чтобы избавиться от страшной туалетной кабинки на заднем дворе, потому что именно ею нам приходится пользоваться сейчас, с пауками, жуками, мерзкими запахами и всем остальным, пока я не решу вопрос с водой. Мы с Иззи громко поспорили из-за этого посреди ночи, но как только она поняла, какая грязь в скором времени разведётся дома на жаре, она сдалась.
Я жила в походных условиях с отцом, но никогда не жила без удобств в собственном доме, а всё начинает походить именно на это.
Сидя на земле рядом с открытым колодцем и уставившись вниз, в его темноту, я слышу шаги по сухой траве. Я поднимаю взгляд, ожидая увидеть Иззи, приближающуюся ко мне с очередной жалобой, но вместо неё вижу Вольфа, и у меня перехватывает дыхание.
Его присутствие выбивает меня из колеи, хотя я не совсем понимаю почему.
– Привет, – говорит он, уголки его глаз изгибаются в улыбке, которая не доходит до губ.
Он несёт пару тряпичных сумок, из одной выглядывают цветы. Для нас? Я почти смеюсь, потому что это совсем не похоже на то, что мне нужно прямо сейчас – водопроводчик.
– Привет.
– Я принёс подарки соседям-новосёлам, – говорит он, приподнимая сумки и ставя их в стороне на крыльце чёрного входа.
– Ух ты, спасибо.
Он похож на одну из тех жён военнослужащих из армии, которые обычно показывались, принося печенье в плетёных корзинах и приветствуя соседей на новом месте.
– Ты там что-то потеряла? – опускаясь на колени, он вглядывается в яму.
– Не совсем. У нас больше нет воды в доме, и… – я выдумала и прорепетировала в голове ложь. – Мои родители в Заливе на пару дней, забрать вещи, которые мы оставили там на время.
– Хмм.
– Ты знаешь что-нибудь про колодцы?
– Немного, – говорит он, и моё сердце подскакивает.
– Там явно достаточно воды, – говорю я, беря фонарь и направляя свет вниз, чтобы ему было видно. – Я только не знаю, как до неё добраться.
Он хмурится, будто взвешивает трудности. Наконец он говорит:
– В этом доме так долго никто не жил, возможно, трубы проржавели, а когда вы снова начали ими пользоваться, одна из них лопнула.
– То есть нам надо выяснить, где поломка?
– У тебя дома нет следов протечки?
– Нет.
– А ты все краны проверила?
– Ни один не работает.
– Тогда я бы подумал, что это значит, что поломка между домом и колодцем, и, похоже, что здесь подземная система. Тебе, скорее всего, придётся копать, чтобы найти её.
Я смотрю на землю под собой. Я сижу на том месте, которое надо раскопать, и там всего около метра, если предположить, что труба идёт от края колодца к ближайшей точке дома, где находится стена кухни с раковиной. Кажется, это вполне возможно и выполнимо. Только почва твёрдая, как скала, после стольких месяцев без дождя.
Я вздыхаю, не уверена, что мне надо объяснять, что я единственная, кто должен будет делать эту работу. В нормальной семье, в нормальной ситуации, девочка-подросток должна бы, я думаю, позвонить папе и позвать его домой, чтобы он решил проблему. И тогда папа сам сделал бы это. Или он позвонил бы сантехнику.
Я не хочу, чтобы Вольф знал в подробностях, насколько мы далеки от нормы.
Кажется, он понимает мои терзания:
– Тебе помочь покопать?
Я прикусываю губу и поднимаю на него взгляд:
– А можешь?
– Конечно, почему бы и нет. Похоже, ты тогда занялась бы этим одна. У тебя есть две лопаты?
– Они в гараже.
Мы встали и направились туда, и только теперь я задумалась, почему Вольф здесь. Я была так поглощена водной дилеммой, что забыла спросить.
– Я слышал, что твоя младшая сестра голосовала на дороге прошлой ночью, – говорит он.
– Что? Откуда ты узнал?
– Её подобрали мои друзья.
– Боже. Она идиотка.
– Ей повезло.
– Куда они её отвезли?
– В придорожную забегаловку в городе. Они поели вместе и высадили её по дороге домой.
– Ох, она ничего об этом не упоминала. Чертовка.
Я открываю дверь гаража и моргаю, пока глаза привыкают к темноте после яркого света. На стене у выхода папа прикрепил ряд крюков, на которых висят всевозможные лопаты и другие садовые инструменты. Я беру совковую лопату, которая лучше подходит для твёрдой почвы, и протягиваю её Вольфу. Потом я хватаю вторую для себя.
– Я не знаю, упоминала ли твоя сестра, но у нас сегодня вечеринка. Будем рады видеть вас обоих.
– Что за вечеринка?
– Чудная на самом деле. Мама устраивает её в качестве приветствия после курса реабилитации.
– Вот так.
Я не знаю, что ещё сказать, поэтому я смотрю на него, пытаясь понять его чувства.
– Должен тебя предупредить, мама – сумасшедшая.
Пока мы идём обратно к колодцу, меня так и подмывает рассказать о безумствах, которые натворили недавно мои родители, но я молчу.
– Друзья сказали, что они уже пригласили твою младшую сестру, так что я хотел убедиться, что ты тоже знаешь о приглашении.
После нашей ссоры прошлой ночью Изабель скрылась в своей комнате и больше со мной не разговаривала. Я не знаю, какой реакции я ожидала, когда вела себя как папа, но испытала облегчение, когда она перестала что-то требовать и жаловаться по мелочам.
Я тоже хочу жаловаться. Очень.
Но кто тогда будет внимательно слушать и заботиться?
– Спасибо, – говорю я, пытаясь представить сегодняшнюю вечеринку и компанию Вольфа.
Я ничуть не сомневаюсь, что меня бы туда не пустили, если бы родители были здесь, а Иззи в её четырнадцать, пришлось бы ждать этого миллион лет. Но вечеринка… Именно о ней я временами мечтаю, стремлюсь, даже жажду, когда размышляю о том, каково жить в обычной семье, иметь обычные порядки, быть обычным подростком.
Я слышала разговоры школьников. Мне не хочется ни напиваться, ни употреблять наркотики, ни встречаться с парнями перед другими людьми. А как же веселиться и развлекаться? Творить глупости? Падать в бассейны не раздеваясь?
От одной мысли об этом мне стыдно, но звучит всё равно здорово.
Я невыносимо хочу почувствовать беззаботность, а дух захватывает, когда я позволяю себе подумать об этом.
– Так, значит, ты придёшь? – говорит Вольф, криво улыбаясь.
Мы снова у колодца, и я всем телом наваливаюсь, пытаясь вонзить кончик лопаты в почву. Я всего лишь делаю небольшую ямку.
– Не уверена.
Все реальные причины, которые я могу назвать, звучат откровенно по-дурацки. Вроде, мне запрещают ходить на вечеринки, сестра ещё слишком маленькая, папа терпеть не может хиппи и убьёт нас, если вернётся и увидит, что мы веселимся в подобной компании.
– Если тебя это не устраивает, мы устроим что-то своё, – говорит он. – Я не обещаю, что ты хорошо проведёшь время, но гарантирую, что удовольствия получишь больше, чем от попыток откопать лопнувшие трубы.
Он ухмыляется, и я не могу удержаться от смеха. Эти последние несколько дней настолько нелепые, что я не знаю, что ещё делать.
– Хорошо, тогда решено. Ты знаешь дорогу до деревни?
– Нет, я не слоняюсь по лесам, шпионя за людьми, как ты.
– А следовало бы. Это может многое разъяснить.
– Естественно.
– Просто спускаешься с холма и идёшь вправо по грунтовой дороге до основной трассы. Это всего в километре, можно пройтись пешком или доехать на велосипеде, но, если хочешь, мои друзья могли бы забрать вас на машине.
– Всё в порядке, – говорю я. – Мы и пешком дойдём. Если решим прийти, я хотела сказать.
Мы копаем, пока одежда не пропиталась насквозь потом. Почва такая твёрдая у поверхности, что дело идёт медленно, но на глубине меньше чем полметра земля становится мягкой и влажной, и этот многообещающий факт поселил во мне надежду, что мы нашли лопнувшую трубу. Вольф углубляется ещё на пару десятков сантиметров, пока я смотрю, ближе к концу он копает осторожнее, чтобы не вонзить лопату слишком глубоко и не повредить трубу. Потом мы оба встаём на колени и копаем влажную землю руками. Когда мои руки касаются металлической трубы, мы совершенно грязные и мне настолько жарко, что я вот-вот вырублюсь, но я так благодарна Вольфу за помощь. Без него я бы не знала, что делать, и теперь вижу, что вся подготовка, вся папина так называемая тренировка оказалась бесполезна, когда я столкнулась с реальной проблемой, пытаясь выжить самостоятельно.
Я поднимаю взгляд на Вольфа, наблюдая за тем, как он откапывает проржавевшую трубу, из которой брызжет вода, и ощущаю прилив благодарности. И что-то ещё.
Пьянящую силу притяжения, влекущую меня к нему.
Вольф
Я никогда не любил вечеринки, но мысль о том, что Николь придёт на одну такую в Садхану, дарит мне ощущение праздника.
Может быть, это не праздник в представлении Анники, для неё это, когда все держатся за руки или бьют в барабаны вокруг костра всю ночь напролёт, скорее, это просто приятное чувство… Веселье.
Я думаю, что, наверно, я забыл, что такое веселье.
Я помню, что прочитал как-то высказывание Уинстона Черчилля, который назвал депрессию «чёрной собакой», которая, кажется, преследует меня всё последнее время после возвращения матери. Хотя, может быть, это больше похоже на вечно висящую над головой тучу, которая навевает уныние на все мысли и чувства. Не могу сказать, что я когда-то испытывал депрессию, но, пока я ехал на велосипеде, возвращаясь от Николь к себе в перепачканной одежде и обуви, и пропитанной потом футболке, я понял, что впервые за долгое время, я чувствую себя живым.
Я хочу знать, что случится потом, хотя это уже давно не пробуждало во мне любопытства.
Мы не смогли решить проблему с трубами. Всё равно запасных инструментов не было, а куски трубы разбросаны вокруг. Но Николь сказала, что вызовет сантехника, и я был рад, что смог хотя бы немного помочь. Мы поели хлеба, который я принёс, и попили воды, потом я посчитал, что мне лучше уйти, потому что вообще-то меня не приглашали.
Я прыгаю в пруд, когда возвращаюсь в деревню, позволяю холодной воде смыть с меня грязь и остаток дня провожу, избегая встреч с взрослыми. Они будут просить меня что-то сделать: собрать хворост, нарезать овощи, поставить палатки для наплыва приезжих, которые хотят переночевать на свежем воздухе – я же просто хочу насладиться моментом, пока я счастлив.
Оставшаяся часть шайки (а я всю жизнь присматривал за детьми в деревне) разбежалась, кто-то помогает с приготовлениями к празднику, кто-то делает всё возможное, чтобы спрятаться и ничего не делать.
Я ускользаю и направляюсь к домику на дереве, где я провожу вечер, приколачивая на крыше последние куски черепицы, и к концу дня я чувствую себя уставшим, но воодушевлённым, в голове мелькает образ Николь со следами ручейков пота на грязном лице, когда она работает позади меня.
В ней ещё больше загадок, чем я подумал, увидев её впервые, когда она направлялась к лесу с ружьём. Она хранит целый мир в себе, ожидая, когда его откроют.
Изабель
Сначала я подумала, что ребята из Садханы странные. Как беспризорники, которых мы видели однажды на экскурсии в Голливуде, когда смотрели достопримечательности. Но чем больше я с ними общалась, тем сильнее они мне казались полной противоположностью сестре и папе, то есть это был тот тип людей, с которыми я могу совершенно расслабиться.
Вдобавок Кива был таким зажигательным. Я думаю, что я ему понравилась.
Потом, когда они подвозили меня до дома прошлой ночью и сказали мне о вечеринке, мне показалось, что моя жизнь, наконец, стала обретать какой-то смысл. Я чуть не расплакалась – так я была счастлива. Если серьёзно – это были слёзы счастья.
Но позже я, конечно, вернулась в суровую реальность, к настолько опротивевшему дому, что я не могла допустить, чтобы меня высадили на вершине холма. Я сказала им остановиться на полпути до дома, а дальше я пошла в гору пешком. На полном серьёзе. Я соврала, сказав, что не хочу, чтобы кто-то видел, что меня подвозят, что родители думают, что я пошла прогуляться по лесу.
И как подготовиться к вечеринке, когда в кране нет воды? О Боже. Мне пришлось стоять в ванне, поливая себя из трёхлитровой канистры. Без всяких шуток. Николь сказала, что я могу взять только одну канистру, но я вылила три, и вообще меня не волнует, что мы останемся без воды, потому что это не моя вина.
Я собираюсь благоухать на вечеринке. И ничего важнее этого нет.
Глава 9
Вольф
Я смотрю с карниза домика на старом дереве, как люди приходят на вечеринку. Большинство из всех, кто прибыл (в том числе и люди) редко смотрят наверх, так что я могу их разглядеть и остаться незамеченным. Многие лица мне знакомы – это люди из города, несколько стариков, которые живут на окраине деревни с самого её основания, и куча маминых дружков из её прежней компании. Это не сулит ничего хорошего её обету трезвости. Я прочитал огромное количество литературы на эту тему. Я знаю, что лечение предполагает избегать встреч с давними приятелями, иначе мама скатится обратно к старым привычкам.
Но, как сказала Хелен, мне надо позволить ей самой выиграть или проиграть. Я не отвечаю за её решения.
Общаясь с Анникой, я никогда не мог угадать её настоящих намерений. Возможно, она действительно хочет оставаться трезвой, а, может, просто врёт сама себе. Мне кажется, что Николь не хочет, чтобы я смотрел на людей, приходящих один за другим, но я жду кое-кого. Я вижу, как Лоурел возвращается из города с Паули, они несут на вечеринку сумки со льдом. Вот кто меня, наконец, обнаружил. Только они могли бы додуматься взглянуть на домик на дереве.
– Эй, лузер, – говорит Лоурел. – Спускайся сюда и помоги мне донести этот чёртов лёд.
– Я занят, – отвечаю я.
– Ждёшь особого гостя? – спрашивает Паули.
– Вроде того.
– Ты просто отлыниваешь, – говорит Лоурел, которая хорошо меня знает.
– Всего понемногу, – отзываюсь я, но теперь, когда моё убежище раскрыто, мне приходится спуститься.
Темнеет, и воздух наполняется густым дымом от травки. Мы тащим сумки к кулерам, стоящим в ряд во дворике, и начинаем закидывать лёд в бесконечные ёмкости с пивом. Я стискиваю зубы при мысли обо всех соблазнах, которые окружают здесь Аннику.
Я не могу проконтролировать всё, что она делает, а моей задачей всегда было следить за ней любым доступным способом.
Лоурел хватает меня за руку и пытается вытолкнуть по направлению к звукам музыки и голосов позади дома, но я врезаюсь пятками в землю и сопротивляюсь.
– В чём дело? – спрашивает она.
– У меня не то настроение, чтобы лезть в эту шумиху.
– О, ничего себе, какие новости, – она закатывает глаза. – Пойдём, ну пожалуйста. Я хочу с кем-нибудь потанцевать.
– Я уверен, ты найдешь кучу партнёров по танцам.
Стремительно проносясь мимо нас, Паули хватает Лоурел:
– Я буду твоим партнёром, крошка.
Она умоляет спасти её, но я просто стою и смотрю, как Паули увлекает её за собой. Ничего страшного в том, что он воспользуется Лоурел, когда она обкурится или напьётся, хотя нормальных людей это беспокоило бы. Лоурел нравится, когда ею пользуются.
Она бы никогда это так не назвала. Но она милая, и необычная, и любит всячески привлекать внимание. Гремучая смесь. Раньше я пытался защитить её от самой себя, но за все годы я понял, что это также эффективно, как пытаться защитить маму от алкоголизма или пытаться остановить кого-то, одержимого идеей. Бесполезная затея.
Я направлялся обратно к укрытию в домике на дереве, когда тяжёлая пятерня хлопнула меня прямо по спине, вот и старина.
– Вольфганг, дружище, – произносит мужской голос, и я поворачиваюсь к новому парню Анники, лицо которого сияет улыбкой. Улыбка не касается его глаз.
– Я надеялся, что мы сможем поговорить, как мужчина с мужчиной.
– Я немного занят, – говорю, продвигаясь к двери.
– Всё это может подождать, я уверен. Давай вместе сходим в сауну, а?
– Может быть, позже.
Или никогда. Никогда – было бы неплохо.
Он скрещивает руки на груди и хмурится.
– Мне начинает казаться, что я тебе не нравлюсь. Это правда?
– У меня нет твёрдых убеждений на твой счёт.
Он снова фальшиво скалится.
– Я тебе не верю. Однажды мы можем стать семьёй, так что нам надо разрешить все разногласия.
Я поднимаю руки в знак того, что меня абсолютно не касаются все эти семейные дела.
– Что бы у тебя там ни было с Анникой…
– С твоей матерью, ты хотел сказать, и это касается тебя тоже.
– Я уеду, как только мне исполнится восемнадцать, а это будет через несколько месяцев.
Больше чем через семь месяцев, но всё же, я хочу, чтобы он отчётливо понимал, моё присутствие в его жизни ненадолго.
Я поворачиваюсь и направляюсь к двери на задний двор, пробиваясь сквозь толпу незнакомых женщин, которые только что зашли.
Когда я снова на улице, я моргаю, пока глаза привыкают к сумеркам, и уже собирался вернуться в укрытие, как Николь со своей сестрой появляются из темноты на опушке. Николь несёт фонарь, и я тут же отмечаю, что она осмелилась срезать путь по лесу в ночное время, хотя пойти по дороге было бы безопаснее. Я бы тоже так сделал.
Я машу рукой, привлекая её внимание, пока она осматривается, и взгляд девушки останавливается на мне. Её сестра стоит позади, всё ещё оглядываясь, возможно, она ищет парней, которые её подвезли. Но она ещё слишком юная, чтобы гулять с ними по ночам, потому что они явно задумали недоброе.
Я направляюсь к ним, говорю «Привет» Николь, а её сестра в это время быстро уходит.
Николь, глядя на меня, не замечает этого, пока я не бросаю взгляд в сторону сестры.
– Мы должны присмотреть за ней, – говорю я.
– Я уже достаточно за ней присматривала. Она в любом случае собиралась сбежать от меня, так что всё в порядке.
– Вы пошли через лес?
– Я нашла тропинку, когда охотилась, и поняла, что она ведёт сюда.
– Ты что, следила за мной?
– Я была слишком занята лопнувшими трубами и сбежавшими сёстрами для этого. Ещё раз спасибо за помощь сегодня. Это было очень мило с твоей стороны.
Она смотрит мне прямо в глаза, говоря это, и я могу почувствовать её благодарность. От этого мне хочется притянуть её ближе и зарыться лицом в её волосы, но вместо этого я кладу руку ей на спину и подталкиваю прочь от дома.
– Как насчёт того, чтобы побыть в домике на дереве со мной? – спрашиваю я.
– Мне без разницы.
Домик прямо перед нашим домом, приспособленный для того, чтобы следить за входом, я построил первым, он очень практичный… В нём нет того очарования и забавности, которые свойственны моим следующим творениям, именно их я хочу показать ей. Я увожу её от дома к западной части здания.
Из-за спины доносятся звуки барабанов, значит, собирается круг. Они начинают вразнобой, постепенно входят в ритм и вскоре, если вечеринка пойдет по обычному сценарию, толпа будет танцевать под бой барабанов, умело крутить обручи и совсем раскрепостится. В этот момент ситуация стремительно ухудшается. Я думаю, что будет с сестрой Николь, но пока держу язык за зубами, потому что она явно не в настроении играть в наставников. У нас ещё будет время, чтобы выловить её оттуда до того, как всё окончательно выйдет из-под контроля.
Мы забираемся по лестнице в один из моих самых любимых домиков Садхана на дереве, – он круглый, похож на юрту. В крыше у него окна, чтобы смотреть сквозь ветви на небо.
– Ух ты, – говорит она. – Ты сам его построил?
– Мне немного помогли. Там матрац, можем на него сесть и посмотреть на толпу людей, танцующих на заднем дворе.
– Это всё для твоей мамы? – спрашивает она.
– Ага, интересно да? То есть, вечеринка – это скорее искупление вины, но эти люди любят Аннику, так что я уверен, что они рады её возвращению.
– Судя по твоему голосу, сам ты не рад.
Я чувствую её взгляд на себе, и на мгновение поднимаю на неё глаза, потом снова смотрю в сторону, не зная, что сказать.
Правильно ли желать, чтобы мама не приезжала вовсе? Та ли это вещь, которую я могу доверить девушке, с которой едва знаком?
– Не всё так просто, – говорю я.
– Так какая твоя мама? – спрашивает меня Николь, и я пытаюсь подобрать слова.
Пропащая, разбитая, непостижимая для других, но я понимаю, что это не вся правда.
Она ещё харизматичная и притягательная, и множество людей не смогло перед ней устоять.
– У неё зависимость, – говорю я. – Ты когда-нибудь видела зависимых людей?
Я знаю ответ ещё до того, как она мотает головой. Конечно, не видела. Её тщательно распланированная и воплощённая жизнь до сих пор содержала только те элементы, которые её отец считает подходящими, судя по тому, что я о ней знаю.
Я пытаюсь представить детство в армии, с военачальником вместо отца, но это так не похоже на мою жизнь, что я могу думать только стереотипами. А Николь – не стереотип.
– Она принимает наркотики? – спрашивает она.
– Иногда. Ещё она выпивает. Сейчас она трезвая, но это никогда не длится долго.
– Звучит печально.
Её левый глаз скрыт за прядью волос, и я борюсь с искушением отбросить волосы с лица. Возможно, она специально её так сделала. Может быть, с ней, Николь чувствует себя защищённой. Я знаю, как необходимо это чувство.
Вообще-то я не хочу говорить об Аннике. Сегодня ночью надо веселиться, так что я улыбаюсь и пожимаю плечами.
– Эй, родителей не выбирают. Что же тут поделать, верно?
Она улыбается:
– Верно.
– Ты когда-нибудь танцевала в кругу под бой барабанов?
– Нет.
– Ты знаешь, как крутить обруч?
Она хмурится.
– Хм, вроде как.
– Тогда пойдем, покрутим немного обруч, – говорю я и начинаю спускаться по лестнице, прежде чем она находится с ответом. Я знаю, что это беспроигрышный способ помочь человеку расслабиться на таких деревенских вечеринках.
Рядом с костром мы замечаем сестру Николь, которая смеётся и танцует в компании детей, с которыми я вырос, и я облегчённо вздыхаю – по крайней мере, она не в каком-то тёмном углу, прижатая каким-то чуваком. Я отыскиваю два обруча, а в стороне уже собралась группа, проделывающая забавные трюки, и мы тоже отходим к краю.
Я бросаю взгляд на Николь, а она старается не смеяться. Это одно из тех трогательно нелепых мгновений, которые почти никогда не случаются, – те мгновения, когда ты знаешь, что прямо здесь и прямо сейчас, по меньшей мере, всё в порядке.
Больше, чем в порядке. Всё замечательно.
Николь
Радость после первой в жизни настоящей вечеринки омрачает чувство вины. Но вернувшись за полночь домой незаметно, я совершенно успокаиваюсь. Иззи бóльшую часть ночи провела, приклеившись к парню по имени Кива. Она танцевала, сражая страстью. Половину ее движений я совершенно не знала, а вторую – не решилась бы повторить. Всё же я никогда не выпускала её из виду больше, чем на полчаса, а она на удивление спокойно восприняла мою просьбу вернуться домой, когда около двух часов ночи вечеринка, наконец, стала сворачиваться.
Она согласилась пройтись пешком по ночному городу, а утром проснулась веселой и бодрой и даже предложила помочь мне с уборкой.
Да и сама я чувствовала себя лучше, чем обычно. Я не знаю, как относиться к Вольфу и его странной жизни, но симпатия и сильнейшее взаимное влечение заставляют разум отступить. Пытаюсь представить, что сказал бы отец, если бы увидел, как Вольф забирает меня на свидание? Это слишком много даже для фантазии. А что, если бы он представился просто другом? Папа прогнал бы его со словами, что мне нельзя находиться в обществе дегенератов.
И это в лучшем случае!
От мысли о столкновении двух столь разных миров у меня болит живот, и я надеюсь, что папа не вернётся в ближайшее время. Вот только, конечно, как долго мы можем протянуть здесь без воды, кондиционера, почти без денег, без машины?
Не так уж долго.
Я иду по шоссе проверить почту, про которую я совершенно забыла в последние несколько дней. Но часть меня хочет пойти ещё дальше, прямо к домику Вольфа на дереве и посмотреть, там ли он. Но я не решилась.
Открывая старый проржавевший почтовый ящик, я ожидаю найти счета на адрес дедушки, макулатуру и рекламные листовки, приходящие каждый день. Но на самой вершине стопки лежит какой-то конверт, поперёк лицевой стороны синими чернилами выведен знакомым аккуратным почерком адрес. Я беру конверт и осматриваю, мгновенно узнав мамин почерк.
На лицевой стороне нет обратного адреса, проверяю другую сторону, но не вижу его даже на обороте. Самое обычное письмо, на нём печать с американским гербом, почтовый штамп с датой наверху и надпись «Барстоу, Калифорния» над датой.
Барстоу?
Зачем ей туда возвращаться?
Это ближайший к военному посту город, в котором мы когда-либо жили. Насколько я знаю, это не то место, куда она хотела бы когда-нибудь вернуться. В то же время, именно там пересекаются дороги на Лас-Вегас, Аризону, Луизиану и Мексику на юге.
Я пробую предположить, куда мама направилась бы, но не могу. Я пытаюсь представить, как она прячется в каком-то захудалом мотеле посреди пустыни, и это напоминает бегство девушки, которая мечтает стать танцовщицей в Лас-Вегасе.
Тут я понимаю, что забыла как дышать, так что медленно наполняю легкие воздухом. Потом ещё раз, пока руки не перестают дрожать.
Я хотела подождать и открыть письмо дома не на солнцепёке, но я уже надрываю конверт, а что, если это не письмо вовсе? Что, если там какая-то глупость, вроде рецепта любимого ананасового пирога Иззи?
Я не знаю, почему я думаю о такой возможности, но это так.
В конверте только листок в линейку, сложенный втрое. Я достаю его и различаю нечёткие синие буквы даже сквозь бумагу. Я разворачиваю письмо и вижу слова «Дорогие Николь и Изабель» вверху страницы.
Рядом на опушке поваленное дерево, так что я сажусь в его тень, укрываясь от солнца, и читаю.
Я не знаю, получите ли вы это письмо. Может быть, ваш папа увидит его в ящике и спрячет от вас. Я надеюсь, этого не случится. Я хочу, чтобы вы обе знали, что я и не думала вас покидать. Просто мне кажется, что прямо сейчас вам с папой будет лучше, а я пока разберусь с некоторыми вещами. Я считаю, что мне надо сказать вам, если папа ещё не сказал, что я не вернусь жить с вами снова. Я бы сказала вам это лично, что я не хочу, чтобы вы питали надежды, что произойдёт какое-то чудо, а потом ещё одно. Я приеду забрать что-то из своих вещей может быть, но я не намерена жить в том доме.
Всё же дело не только в доме. У нас с папой более серьёзные проблемы, и мы собираемся разводиться. Я надеюсь, что вы не впервые об этом слышите или хотя бы думали, что такое возможно. Всё будет хорошо. Папа вас любит и позаботится о вас, в любом случае, вы уедете из этого дома через несколько лет. Когда я устроюсь где-нибудь, то узнаю, когда и где мы можем встретиться. Пока что помните, что я вас люблю, и всё это никак не связано с вами. Это моя и папина проблема.
С любовью, мама.
Я смотрю на письмо невидящим взглядом. Всего лишь одна страничка, написанная так прозаично, будто она рассказывает мне о походе в бакалею. Я, конечно, допускала мысль о разводе, но я не могла представить, что это действительно случится. До этого письма я верила, что все наладится. Я никогда не думала, что это может случиться всерьёз. Я пытаюсь представить, как я запросто передам письмо Иззи, как она отреагирует, и что я буду с этим делать.
Она придёт в ярость. Может быть, убежит. И тогда я не выполню самое важное задание, которое поручил мне папа. Я даже вообразить не могу, как Иззи может сама о себе позаботиться на улице. Она умрёт или ещё хуже.
Я бережно складываю письмо и кладу обратно в конверт. Встаю, отряхиваюсь и иду по грунтовой дороге домой, в животе такой тяжёлый ком, что его почти невозможно вынести.
Если Иззи увидит письмо, то что произойдёт? Это единственная моя мысль. Как ответить на более сложный вопрос о маме и папе, о будущем нашей семьи, я не могу сейчас даже предположить.
Глава 10
Николь
На девятый день рождения один друг подарил мне блокнот, и с того дня я бережно его храню. Ещё давным-давно я назвала его дневником. Он был фиолетового цвета с надписью «Мой дневник» на обложке и запирался на такой золотой замочек, к которому идеально подходил крошечный золотой ключик. Я любила этот подарок больше всех остальных, которые я когда-либо получала, в основном благодаря замку и ключу. Я прятала его в разных местах, чтобы никто не совал в него нос без спроса, и писала там каждую ночь, а когда заканчивались листы, мне приходилось тратить накопленные деньги на ещё один, и ещё один, и ещё.
Мне нравилось, что мне не надо было записывать, что говорит мне папа. Я могла писать всё, что захочу. Я могла думать обо всём, что захочу. Меня охватывало дразнящее чувство свободы.
Забавно, но, оглядываясь в прошлое, я понимаю теперь, что в замке я видела символ свободы. Именно он давал мне уверенность в мыслях и словах, которые я писала и которые никто не мог прочитать.
Которые папа не мог прочитать.
Во время первых попыток, я чувствовала себя неловко, не зная, что стоит записать, а что нет, сомневалась, заслуживают ли мои собственные мысли и чувства записей, но где-то в середине первого дневника, я нашла свой стиль. В четвёртом классе мы ездили с одноклассниками смотреть пьесу, посвящённую Хелен Келлер, и я помню, что её история меня так взволновала, что, когда я приехала домой, я пошла прямо в свою комнату и приклеила корешок театрального билета на следующую пустую страницу дневника. Потом я сделала то, что никогда раньше не делала. Я стала писать письмо Хелен Келлер.
Я написала, чему я научилась у неё, и это письмо не было последним. После этого письма я писала постоянно. Письма учителям, письма друзьям, письма президенту, родителям, сестре, бабушкам и дедушкам, которых я никогда не видела.
Обычные заметки я тоже делала, но письма давали мне ни с чем не сравнимое чувство. Благодаря им я чувствовала свои огромные возможности. В них я могла говорить что угодно и кому угодно, и все переживания, накопившиеся во мне, исчезали на страницах дневника. Потом я чувствовала себя лёгкой, словно пёрышко.
Так что пока я одна, погружённая в слишком глубокую тишину дома и растерянная после маминого письма, я беру в кабинете папы пустой блокнот в гладкой чёрной обложке и начинаю писать.
Но то, что происходит на этот раз, не похоже на то, что было раньше. Я понимаю это, потому что теперь я пишу письмо папе. Я хочу, чтобы он прочитал то, что я пишу, тогда, когда он сюда возвратится. В конце концов, чем он может мне ответить, если ему не по душе то, что я хочу сказать? Разве может он сделать что-то хуже, чем оставить нас одних в разваливающемся доме?
3 августа, 2002
Когда ты вернешься, возможно, наступит конец.
Конец, как в апокалипсисе, или новый ледниковый период, или Второе пришествие, или…
* * *
Чем дольше не было родителей, тем больше я о них волновалась. Прошло две недели, а мы ни слова не получили от папы. Я начала представлять себе худшие варианты событий.
Того, что я не знаю о родителях, хватит несколько томов. Я открываю черный блокнот и записываю вопросы, которые приходят мне на ум:
Куда поехала мама?
Почему она уехала?
Почему она не взяла нас?
Почему она не сказала нам, что уезжает?
Почему она решила сбежать?
Как она познакомилась с папой?
Любила ли она его?
Почему папа ушёл в отставку?
Возможно, эти вопросы взаимосвязаны, но я не знаю, как именно. Я знаю только, что хочу найти ответы. Я начала обыскивать вещи родителей. Кроме банальных мест, вроде днища комода и задней стенки гардероба, ничего нет. Проверяя эти места, я не надеялась там что-то обнаружить. Я копала глубже, в нераспакованных коробках в гараже, хотя папа не из тех, кто хранит ненужные вещи. А у мамы где-то была коробочка с памятными мелочами. Я наткнулась на неё как-то много лет назад, но уже давно её не видела. Интересно, взяла ли она её с собой, когда уезжала. И всё же собирал ли её вещи папа, так куда бы он её положил, если совсем выбросил?
Я выхожу из гардероба родителей и натыкаюсь в дверном проёме на Иззи.
– Что ты делаешь? – спрашивает она.
– Кое-что ищу.
– Ты что-то вынюхиваешь, – она осматривает комнату, отмечая открытые гардероб и комод, которые мне не удалось закрыть полностью. – Я расскажу папе, когда он вернётся.
Я молчу. Если она заподозрит, что я хочу скрыть что-то от папы, она точно расскажет ему при первой же возможности. Вместо возражений я закрываю гардероб и расставляю всё в комнате по местам.
Заскучав, Иззи уходит, но из коридора до меня доносится её крик: «Держись подальше от моих вещей!»
Я думаю, что, если где-то и есть информация о папе, то, может быть, в комнате под лестницей, где папа устроил кабинет. Документы он прячет в картотеке, но я не знаю, где ключ. За стационарным компьютером, которым пользуется вся семья, он не работает, а свой ноутбук он, наверно, взял с собой, когда уезжал.
На мгновение я ощутила укол совести от своего шпионажа. Но, когда я подумала о том времени, что мы провели тут одни без телефона и других средств связи, чувство вины рассеялось.
Вряд ли у папы были важные документы на нашем общем компьютере, так что самое лучшее, что мне пришло в голову на данный момент – это попробовать открыть замок картотеки. Я слышу, как Иззи слушает музыку в своей комнате, поэтому я прокрадываюсь мимо её двери на кухню, быстро беру из ящика нужные инструменты и иду обратно в кабинет. Я запираю за собой дверь на замок, потому что не хочу, чтобы Иззи застала меня за взломом.
Сомневаюсь, что папа хранил бы что-то важное здесь. У него есть огнеупорный сейф, в котором он хранит вещи, вроде наших свидетельств о рождении, револьвера и кто его знает чего ещё. Он сказал мне, что револьвер нужен на крайний случай, только если всё остальное оружие украдут, он обещал, что даст мне код к замку, но так и не сказал.
Папина картотека – настоящий антиквариат, папа унаследовал её от своего отца. Она выстругана из массивного дуба, а замок, кажется, не так сложно открыть. Я открываю ящик с инструментами и достаю тот, который, скорее всего, подойдёт к скважине. Не подошёл. Я проверяю остальные инструменты, но все они слишком большие, так что я открываю ящик стола и роюсь в поисках скрепки.
Я разгибаю ее, чтобы конец вошел в скважину, и после нескольких попыток я ощущаю всплеск ликования – замок открылся.
Я выдвигаю три верхних ящика и пробегаю глазами по заголовкам карточек, все до одной тщательно выведенные папиным почерком и расположенные в алфавитном порядке. Я даже не знаю, что именно ищу. Верхний ящик начинается с «Авто», заканчивается карточкой «Имущество» и не содержит ничего многообещающего.
Наугад я вытаскиваю папку «Военное оборудование» и открываю. Внутри лежат несколько руководств по эксплуатации пистолетов, пара распечатанных статей из интернета о моделях ружей и все папины лицензии на оружие. Оружия у него много, но не всё зарегистрировано.
Я кладу папку обратно и закрываю ящик, потом открываю следующий, который начинается с заголовка «Информация по доходам» и заканчивается папкой «Отставка». Названия папок ассоциируются с занудными документами внутри, и я чувствую себя по-дурацки, воображая, что точно найду здесь что-то, что прольёт больше света на жизнь родителей. Я достаю наобум документы с названием «Домашнее хозяйство», потому что обложка на них потёртая, а ещё заголовок выбивается из алфавитного порядка.
Положив папку на колено, я открываю её. Сверху лежит чек от холодильника марки GE, ниже – статья о том, как чистить ковёр от камней. Я пролистываю страницы, все с подобным содержанием. Очень занимательно.
После того, как я кладу папку на место, я открываю нижний ящик и снова ищу заголовки, которые подтолкнули бы к чему-то полезному. Меня привлекла надпись «Паспорта», потому что я вообще-то не сомневалась, что папа хранит наши паспорта в несгораемом сейфе. Когда я открыла папку, прямо передо мной оказалась копия свидетельства родителей о регистрации брака. Я беру её и разглядываю вблизи. Тут есть их полные имена, даты рождения, они поженились в военном городе Форт Льюис, штат Вашингтон, который находится рядом с маминым колледжем.
Я делаю расчёты и впервые узнаю, в каком возрасте мама вышла замуж за папу. Ей было двадцать один, а ему – тридцать четыре. Тринадцать лет разницы?
Я пытаюсь представить, как я через пять лет выхожу замуж за тридцатичетырёхлетнего мужчину, и живот неприятно сводит.
На фотографии они молодожёны, стоят на фоне церкви, мама одета в простой белый сарафан, на папе – армейские джинсы. Они улыбаются, будто им от этого больно. Мама кажется такой юной, я могла бы дружить с ней сейчас.
Я никогда прежде не удивлялась разнице в возрасте родителей. Когда я была младше, меня не смущало то, что у папы седые волосы, а у мамы нет.
Я не сомневаюсь, что даже через миллиард лет папа не разрешил бы нам выйти замуж за того, кто намного старше нас, даже если нам уже будет по восемнадцать-девятнадцать лет. Он с ума сойдёт, это точно.
Тогда почему он женился на маме?
Я добавлю этот вопрос к остальным в блокноте.
Я достаю лист из-под свидетельства о браке, это мамино письмо к папе, написанное всё тем же аккуратным почерком синими чернилами на тонкой белой бумаге в линию.
Милый Джеймс,
я скучаю по тебе. Как у тебя дела в Боснии? Я знаю, что прошёл всего месяц с твоего распределения, но всё же не могу не сказать, что я как жена военного, отрезана от всего мира. Мне одиноко. Если бы я только знала, как мне будет одиноко, вряд ли я бы согласилась идти на танцы в офицерский клуб год назад, или согласилась бы потанцевать с тобой, или дала бы тебе потом свой номер телефона, или согласилась бы с тобой пообедать. Я не жалею о нашей встрече и том, что влюбилась в тебя, но лучше бы я поняла ещё тогда – как это тяжело.
Я стараюсь держаться и думать о школе, но произошло то, о чём ты должен знать. Я беременна, на восьмой неделе, если быть точной. Я регулярно принимала противозачаточные таблетки и не знаю, как такое произошло. Я хотела бы сказать тебе лично или хотя бы по телефону, но каждый раз, когда нам удаётся поговорить, я просто не могу выдавить из себя ни слова.
Я хочу, чтобы ты знал, что, хотя я понимаю твоё желание иметь детей – я к этому не готова, и я не знаю, когда буду готова и буду ли готова вообще. Я не могу завести ребёнка прямо сейчас, когда я только-только встала на ноги, стала работать учителем. Это первый год, когда я чувствую, что знаю, чем занимаюсь, и я радуюсь успехам учеников и своим собственным навыкам. Я не могу бросить всё это сейчас. Я просто не могу.
Писать это так же тяжело, как говорить вслух. Мне жаль, но я решила прервать беременность. Иногда я думаю, что я должна просто сделать это и не говорить тебе, и ты бы никогда не узнал об этом, но если что-то пойдёт не так, я хочу, чтобы ты знал причины моих поступков.
Я надеюсь, что ты простишь меня. Я знаю, что, когда мы говорили о детях, ты надеялся разубедить меня. Ты думал, что наша любовь друг к другу – разрушит мои сомнения. Я очень сильно тебя люблю, и я надеюсь, что ты достаточно сильно меня любишь, чтобы понять и принять мои чувства. Я верю в то, что ты поймешь и примешь это.
Навеки твоя,
Мали
Мама не хотела иметь детей? Я смотрю на дату вверху страницы, письмо написано за пять лет до моего рождения. Я была ошарашена.
У меня был бы старший брат или сестра. Меня вообще могло бы не быть. Может, мама изменила своё мнение насчёт детей, а, может, папа настоял и заставил её. Судя по письму, на маму всё же нелегко было надавить.
Кто-то затряс дверную ручку, потом постучал.
– Открывай! Что ты там делаешь? – говорит Иззи с другой стороны двери. Я закидываю бумаги обратно в картотеку, закрываю и иду к двери.
Прежде чем Иззи бы что-то сказала, я пулей проношусь мимо неё и выбегаю по лестнице, через двор прямо к лесу. Я бегу, пока не оказываюсь достаточно далеко, чтобы она не погналась за мной. Потом я сажусь на землю и плачу.
* * *
Мне не стоило разнюхивать что-то, если не смогу держать то, что я нашла в тайне. Я понимаю это только теперь, на день позже. Я не могу заснуть, лежу, пытаясь прогнать из своих мыслей маму, папу и их запутанную ситуацию.
Как только я слышу старую песню группы REM «Настал конец света, как мы его представляем» (прим.: англ. «It’s the End of the World as We Know It and I Feel Fine – Я в порядке»), слова оседают в моей голове и не покидают меня больше. Когда я была маленькой, я слышала эту песню по радио, которое любила слушать мама, когда мы ехали на машине, и я помню, как папа постоянно говорил, что мы должны быть готовы к концу света, каким мы его представляем, что только самый хитрый и подготовленный выживет. Я бы задумалась, почему эти парни поют о том, что с ними всё в порядке, когда наступает конец света, который они знают? Разве их это не пугает?
Теперь смысл песни, слова которой навсегда выжжены в моей памяти постоянными повторениями, раскрывается мне полностью. В мире – который я знаю – я никогда не смогла бы почувствовать себя в безопасности.
Лёжа в кровати, я слушаю, как скребутся на чердаке грызуны, и мне кажется, что потолок вот-вот рухнет на меня. Так жарко, что я мокрая от пота, а веер только дует горячим воздухом и не приносит прохлады, но этим вечером нельзя открывать окна, чтобы не дышать едким коричневым дымом лесных пожаров на соседних холмах.
В одном из углов падают кусочки потолка, крошки белой штукатурки, как капли из слабоватого душа, сыплются и образуют кучку на полу возле моей кровати. От этого сильнее всего мне хочется кричать, или разбить что-то, или поступить, как мама – убежать от всего этого.
Только я не могу убежать.
Я в западне со своевольной сестрой и не от кого ждать помощи. Я могла бы пересчитать по пальцам родственников, которых мы видели лично, людей, которых мы могли бы позвать, если бы были нормальной семьёй. Но мы не нормальная семья.
Я немного знакома с двоюродными братьями и сёстрами во Фресно, потому что они единственные поддерживают с нами связь. Мамина родня никогда не любила папу, поэтому мы держались на расстоянии. Возможно, они помогут, если я им позвоню, но в глубине души я знаю, что не готова принять отказ.
Я хочу доказать себе – если только не папе – что я могу справиться.
Но могу ли я справиться?
У меня нет выбора.
Глава 11
Вольф
Во второй половине XIX века люди пришли в эту часть страны в поисках золота. Если вы читали что-то об истории Золотой лихорадки, то знаете, что там, в основном, про то, как люди боролись с трудностями, умирали и отчаянно искали удачу. Раньше я думал, что всеми ими правила корысть. Но потом я понял, какие отважные люди были среди них, если они, покинув родные края, пересекли страну, когда ещё не было машин, автострад, самолётов, даже многих дорог, а потом годы надрывались ради золота, которого хватило бы на то, чтобы выжить.
Возможно, если бы я жил тогда, я тоже стал бы золотоискателем.
Чем старше я становлюсь, тем сильнее ощущаю себя одиноким исследователем в странном новом мире, о котором я почти ничего не знаю, и не уверен, хватит ли мне экипировки для выживания. Я думаю о Николь и её охотничьем ружье, как легко и уверенно её палец переместился на курок, готовый поразить любое живое существо, в которое она целится.
Так что я не могу проигнорировать нравоучения Махеша о мире и вселенской любви, и неважно, что я хорошо понимаю, что нам всем необходимо выживать и мы все знаем, каким образом.
В глубине моих мыслей маячит темнота. Она была там всё время, что я себя помню, но, по крайней мере, то, чему я научился у Махеша, помогает мне держать её под контролем.
Именно эта темнота убила моего отца, по словам мамы. Подтолкнула его всадить пулю в голову, такая внезапная и жестокая смерть, что я не могу представить, как он приставляет дуло к виску, мой нежный папа, пусть земля тебе будет пухом. Уже то, что он прикоснулся к пистолету, для меня непостижимо, не говоря о том, что он наставил на себя дуло и потянул за курок. Как он пришёл к тому, чтобы обладать предметом, несущим такие разрушения?
Как он мог уничтожить свою жизнь, оставив мне только свои каштановые волосы, карие глаза и тёмные закоулки души?
Хорошо, что я ни разу не видел Николь с ружьём после первого дня знакомства. Я не уверен, что смог бы называть её другом, зная, что она тепло относится к этим вещам.
Я пригласил её посмотреть на реку Юба. Она всего в полутора часах ходьбы от деревни, но лучше выйти пораньше и захватить воды. Обнаружить прохладную воду и нырнуть в неё – вот, что кажется единственной стоящей вещью.
Мы идём по тропинке в реке, постепенно спускаясь, и на какое-то мгновение между нами повисла тишина.
Она кажется слегка подавленной с нашей прошлой встречи, под уставшими глазами пролегли тени, но она не говорила, что её что-то беспокоит, а я не спрашивал. Если она захочет мне рассказать, она сама расскажет.
Звук шумящего потока заглушает теперь щебетанье птиц над головой. Я не устаю благодарить природу за то, что вода каким-то чудом ещё здесь, несмотря на засуху. Она течет с ледников холодная, плавать в ней тяжело, а кое-где подстерегают предательские течения, но здесь скалы образуют полузакрытую бухту с бассейном, прекрасно подходящим для плавания.
Когда мы проходим сквозь просвет в скалах, я слышу, как Николь что-то восклицает. Обернувшись, я вижу на её лице восторг.
– Ух ты, настоящая река.
– Ага. Великая Юба во всём великолепии.
Она улыбается, и я вижу, что долгая прогулка пошла на пользу. Она могла бы весь день выполнять задания из бесконечного списка своего папы, а вместо этого она здесь со мной.
– Раньше птиц вокруг было больше, – говорю я, смущаясь, будто бы я хвастаюсь перед ней своей наблюдательностью. – Всех животных было больше, но последние несколько лет, они всё исчезают и исчезают.
– Откуда ты знаешь?
– Засуха. Сама Юба сильно уменьшилась. Я думаю, что большинство животных умерли или переселились туда, где воды больше.
Она всматривается в темноту леса за рекой, будто бы общаясь с ним.
– Что из того, что ты видел там, самое красивое?
«Ты», – почти сказал я. Вместо этого я рассказываю ей о другой прекрасной встрече.
– Однажды я гулял и немного заблудился, так что домой пришлось возвращаться в потёмках. Я шёл по грунтовой дороге, как вдруг увидел, как молодая пума перебегает дорогу в погоне за зайцем. Вышла луна, и я мог их отчётливо видеть, я чуть штаны не намочил.
Напряжение на её лице сменяется улыбкой.
– Потрясающе. Я бы до смерти перепугалась.
– Она всего килограммов двадцать весила, но страшновато. Я какое-то время потом не гулял по темноте.
Я наблюдаю, как она приближается к воде, потом наслоняется, чтобы прикоснуться к ней, подойдя к берегу реки. Целовал ли её кто-то или обнимал ли когда-то?
Подпустит ли она меня?
Я не для этого её сюда привёл или сделал это неосознанно, но я хочу, чтобы она сняла футболку и шорты, представ в сплошном синем купальнике, я знаю, что, в конце концов, мне захочется, чтобы между нами было что-то большее, чем дружба.
Я хочу познать её непостижимым для самого себя образом, и это влечение так сильно, что я чувствую, как вся энергия, накопленная человечеством в прошлом и настоящем, подталкивает меня к этому.
Николь
Многие люди не понимают, что то, что я умею обращаться с оружием, не означает, что люблю его применять.
Но с шести лет папа пытался меня переубедить. В целом, я с этим смирилась. Сначала я тренировалась с пневматической винтовкой. Папа приводил меня на задний двор и говорил целиться в банки, расставленные на заборе, или самодельные бумажные мишени.
Однажды, когда мне было восемь, и я так наловчилась стрелять по мишеням, банкам и теннисным мячикам, которые папа подбрасывал в воздух, папа уговорил меня выстрелить в белку. Когда я действительно подстрелила её, я увидела, как дёрнулось и упало с ветки маленькое бурое тельце, глухо ударившись о землю – я поняла, что только что совершила убийство.
Тогда я была уверена, что я убийца.
В то мгновение, когда я осознала, какую ужасную вещь совершила, я бросила ружьё на землю и заплакала. Папа попытался меня успокоить, сказать, как здорово у меня получилось, что белка не пропадёт – чёрт возьми, мы на ужин её съедим, сказал он – но меня это не утешило. Я только сильнее заплакала, а мама пришла посмотреть, в чём дело. Я бросилась мимо неё в дом и заперлась в своей комнате на всю ночь.
Я забралась под одеяла, рыдая, мучаясь от картин голодных бельчат в каком-то дупле, которые ждут, когда их мама или папа вернётся к ним.
Это было не то прекрасное начало моей охотничьей карьеры, на которое надеялся папа.
Много лет подряд мне снились кошмары о белке и осиротевших бельчатах. Во всех снах, я радостно стреляла из ружья, пока белка не падала на землю, и тогда меня охватывало такое чувство вины, что, холодея, я могла бы сжаться до точки, обессиленная я смотрела на предсмертные конвульсии бедного животного. У меня было такое чувство, будто мне хватит сил только, чтобы заставить себя двигаться, подойти к белке и взять её, занести в дом и перебинтовать, что я могла бы её вылечить. Но я вновь просыпалась с чувством вины за однажды совершённое убийство.
После этого долгие годы я пыталась всеми способами прекратить тренировки по стрельбе, но папа в этих вопросах так легко не сдавался. В конце концов, я опять стала учиться стрелять, даже получила настоящее ружьё на десятый день рождения, а когда я повзрослела, я начала понимать, что убивать свой ужин, по крайней мере, гуманнее, чем то, что делают с животными на фермах.
Стать вегетарианкой в нашем доме не стоило и пытаться – с отцом, заядлым охотником, и мамой, которая испытала страшный голод в детстве, а сама я не была так привередлива в еде – так что, пока я питаюсь мясом, я должна мириться с тем, что животных надо убивать. Но удовольствия мне это не доставляет, к великому разочарованию отца.
Иногда я думаю, что жизнь папы не такая уж плохая, не считая пары разочарований, но я – самое крупное из всех.
Есть его воображаемая семья (целая футбольная команда из одних только мальчиков, дополненная парой симпатичных девочек, которые помогают маме на кухне), а есть его реальная семья (я и моя упрямая сестра).
Теперь я совсем не беспокоюсь о папиных разочарованиях. Мама исчезла, и папа ушёл с концами вслед за ней. Сейчас всё, что я знаю о них, кажется ложью, и единственный способ пережить это сумасшедшее лето – это перестать следовать их правилам и создавать свои.
Иззи развалилась на диване в гостиной и машет веером в вытянутой руке перед лицом, поставив босую ступню на кофейный столик, чего бы мы никогда не сделали, если бы родители были рядом.
Я думаю о глупом списке домашних дел и том, что папа сказал подготовить дом к приезду мамы, но она явно не собирается обратно, и больше я не буду делать никаких изматывающих заданий. Папа может всё это сделать сам, когда вернётся. Если вернётся.
Я иду к холодильнику и наливаю Иззи стакан воды. Она в полном недоумении смотрит на меня. Я знаю, что она лелеет надежду на то, что мама придёт и спасёт её, но с каждым днём она унывает всё больше, всё чётче осознаёт, как маловероятно спасение. Мы в плачевном состоянии, но это не раскрывает всей трагедии. Будь сейчас настоящий апокалипсис, мы бы умерли первыми.
– Выпей это, – говорю я, возвращаясь в гостиную.
– Где ты была? – спрашивает она обвиняющим тоном. – Я тут взаперти целый день, с ума схожу от скуки.
– Не ожидала, что моё присутствие тебя развлекает.
– Я не так уж скучаю, презренная. Я просто думаю, что, если ты одна должна за всем присматривать, ты не могла сбежать со своим странным парнем.
– Он не мой парень, – говорю я и иду на кухню, чтобы избежать споров.
– А мама с папой так не скажут, когда вернутся. А вдруг они придут домой, пока тебя нет? Думаешь, я им буду рассказывать, как ты только что ушла в лес за ягодами?
Я думаю о письме, которое я всё ещё не показала Иззи. Я ни в коем случае не должна доставать его сейчас, когда у неё и так настроение ни к чёрту. Но как же соблазнительно воспользоваться этим оружием, чтобы ранить её.
– Что бы ни происходило сейчас в жизни мамы, это нас не касается. Может быть, она встретила парня или что-то ещё.
– Бред!
– Пусть так, но, возможно, что мы её не знаем по-настоящему. Может, у неё кризис среднего возраста или что-то другое. Может быть, она решила поступить в аспирантуру и это интереснее, чем ухаживать за семьёй.
Я вспоминаю о втором письме из папиных документов, про нежеланного ребёнка, и мой живот сжимается. Я пытаюсь представить, что я его тоже показываю Иззи, но это выше моих возможностей. Это слишком не только для её чувств, но и для моих. Притворюсь, что никто больше не знает о том письме, может, оно вообще фальшивое.
Я пожимаю плечами:
– Так бывает.
– Мама и папа женаты! – кричит Иззи, и я замолкаю.
Я бы так же говорила до того, как узнала о предстоящем разводе или, прежде всего, о том, что мама никогда не хотела детей.
Если я не могу защитить себя от худших ошибок своих родителей, может быть, у меня получится уберечь хотя бы Иззи. Я не знаю, каким образом и даже почему мне это необходимо, но прямо сейчас она – это всё, что у меня осталось от семьи. Наверно, дело в этом. Мы должны держаться друг за друга, потому что в последнее время помощи ждать не от кого.
Я сажусь на диван рядом с Иззи и тоже закидываю ноги на столик. Я устала от долгой прогулки и проголодалась, но я не хочу снова есть бобы с обеда на ужин.
– Как насчет взять немного денег, которые оставил папа, прогуляться до города и купить что-нибудь пожевать вроде пиццы? – предлагаю я.
– Пешком до самого города? – Она смотрит на меня, как на сумасшедшую. – Мы могли бы поймать попутку.
Я прикусываю губу. Это прямо противоположно моим представлениям о том, что мы должны были сделать, но я не хочу очередную бессонную ночь провести здесь.
Так что я пожимаю плечами:
– Ладно, почему бы и нет.
Иззи с сомнением смотрит на меня, но потом по её губам медленно растекается улыбка.
– Папа будет в ярости, если узнает, – говорит она.
– Знаю. Но его же здесь нет, так?
Она изучает свои ногти, покрытые свежим ярко-розовым лаком.
– Как ты думаешь, почему папа так странно себя вёл перед отъездом?
Вопрос звучит так, будто она знает ответ, а я нет.
– Нервничал… – предполагаю я. – Он плохо представляет свою жизнь без армии.
– Ты, правда, думаешь, что он хочет, чтобы мы жили здесь? То есть, жили здесь всегда?
Именно так я и думаю, но прямо сейчас мне не хочется этого говорить.
– Я думаю, он просто хочет, чтобы наша жизнь была похожа на приключение. Таким мужчинам как папа необходимо чувствовать, что судьба всего мира держится на их плечах. Им надо чувствовать, что происходящее важнее, чем оно есть на самом деле. Они днём и ночью мечтают об апокалипсисе, о том, как они снова станут героями, повергнут негодяев и защитят своё имущество от мародёров.
Она удивлённо вздыхает.
– Пошли, – говорю я. – Поймаем попутку и в пиццерию.
Глава 12
Изабель
Когда я слышу, как хрустит гравий под колёсами, у меня сердце подпрыгивает от радости. Я выглядываю из-за банки куриного супа с макаронами, который разогреваю на плите перед окном, но мне отсюда не видно дороги. Я ожидаю увидеть мамину машину, или папину, или… Мне вообще не важно, кто это. Я бросаю деревянную ложку в кастрюлю и кидаюсь к окну, перегибаясь через раковину в надежде увидеть, кто едет.
В этом старом сером минивене мог бы жить какой-нибудь бродяга. Я тут же узнаю машину Паули.
– Ники! – восклицаю я, глупо радуясь.
Я даже не знаю, дома ли она. Меня слишком переполняют эмоции, чтобы сохранять хладнокровие, потому что в этот дом никакое веселье ещё никогда не приезжало.
Я вспоминаю, что надо выключить плиту, я же суперответственная девушка, и мчусь в коридор, снова зовя Николь. Но дом отвечает лишь тишиной. Потом я вспоминаю, что она собиралась в сарай за чем-то.
Когда я подбегаю к входной двери, автобус уже остановился. Словами не описать радость, когда я увидела, как Паули выходит через переднюю пассажирскую дверь. Теперь я вижу, что прибыли все ребята из Садханы. Я чуть не бросилась открывать дверь, как осознала, что я в выцветшей футболке и шортах, в которых утром я как девочка-рабыня прибиралась дома. И от меня должно вонять, потому что дома уже долго нет нормального душа. В итоге, я психанула и побежала умываться к жалкому ручейку, но удовольствия от этого купания было мало, потому что в этой воде писают и какают рыбы и, в любом случае, двухдневную грязь так не смыть.
Николь выходит из сарая и идёт к автобусу своей глупой походкой девочки-охотника и серьёзной миной. Это даёт мне время забежать наверх и попытаться привести себя в порядок, пока я не упустила возможность поговорить с нормальными людьми.
Ладно, согласна, эти ребята не нормальные, но они точно лучше, чем моя сестра с промытыми мозгами. С ними намного приятнее. Может быть, они пригласят нас куда-нибудь, и тогда это было бы самое лучшее событие с того дня, как мы переехали в эту дыру, не считая вечеринки в Садхане.
В ванной я наспех брызгаюсь дезодорантом, гладко зачёсываю волосы в хвост, чищу зубы и мажу губы блеском.
Потом я мчусь в свою комнату, хватаю чистые майку и шорты, бегу вниз по лестнице, на ходу застёгивая молнию и пуговицу на шортах. Шуршания гравия больше не слышно, так что я уверена, что они ещё здесь. Перед дверью я притормаживаю, глубоко вдыхаю и выдыхаю, делая вид, что я совершенно естественно вышла посмотреть, что происходит.
Все уже вышли из автобуса. Лоурель и незнакомый мне парень облокотились на него, и я поражена, как невыразимо круто всегда выглядит Лоурель. Не то, чтобы я хотела носить странные вещи, как она – сегодня на ней что-то вроде белого саронга – я точно не хотела бы постоянно обматывать голову шарфами, но она такая очаровательная и так не похожа ни на одну девушку, которую я когда-либо видела. Кажется, что она с другой планеты.
Раньше я ненавидела свои прямые волосы, грустные карие глаза и узкие мальчишеские бёдра. Но когда начался переходный возраст, всё в моём теле стало принимать округлые черты, и мальчики – даже некоторые мужчины – начали обращать на меня внимание, даже пялиться на меня, куда бы я ни пошла. И мне это нравится.
– Эй! – зовёт Паули, как только видит меня.
Он стоит рядом с Николь, которая поворачивается ко мне и хмурится. По ней даже не заметно, что она рада гостям.
Я улыбаюсь, машу рукой и стараюсь не бежать к ним вприпрыжку.
– Что случилось? – говорю я, пройдя двор.
– Мы приехали спросить, не хотите ли вы, девчонки, поехать с нами на озеро. Мы собираемся поплавать и устроить пикник.
Я уже могу представить список с причинами, по которым мы не можем поехать, составленный Николь, поэтому я удивляюсь, что она не подпрыгивает в ту же минуту и не говорит: «Нет».
Вместо этого она просто переводит взгляд на меня.
– Звучит клёво, – говорю я и смотрю на неё в ответ.
Она пожимает плечами:
– Конечно, мы поедем.
Ушам своим не верю.
Сперва она едет со мной автостопом в город за пиццей, а теперь это? Самые приятные сутки, которые я провожу с ней за всю свою жизнь.
Но потом я вижу, как она мельком смотрит на Вольфа, самого странного из всех этих ребят, такого спокойного и молчаливого. Он напоминает животное, которое пытается слиться с окружающей средой. И я вижу, как неуловимо меняется выражение лица Николь. Я вижу, если я не совсем спятила на такой жаре, что она что-то испытывает к нему.
Я приберегу это открытие, потому что оно точно пригодится. Когда я бросаю взгляд на Лоурель, я вижу, что она тоже наблюдает за Николь. Может быть, она увидела то же, что и я. Она смотрит на Николь странно, как голодный хищник.
– Лучше сразу наденьте купальники, – говорит Паули.
– Буду через минуту, – улыбаюсь я и иду переодеваться.
Я слышу, как Николь идёт за мной, но у меня слишком хорошее настроение, чтобы разговаривать с ней прямо сейчас. Мои мысли занимает купальник. Тот, который нравится папе, сплошной тёмно-синий, я носила его прошлым летом на плавании, и у него вся попа протёрта от того, что я сидела на краю бассейна. Или чёрный. Или тот, о котором папа не знает, который я купила на деньги со своего дня рождения, крошечное жёлтое бикини с белыми бусинами на лямках. Его и надену. Меня только немного беспокоит, что Николь расскажет папе, что я его надела перед мальчиками.
И что с того? Если когда-то и было подходящее время для этого бикини, то это оно.
В отличие от Николь у меня есть грудь. Настоящая, 3 размера, которая привлекает взгляды парней. Я надеваю бикини и короткие рваные шорты и, когда я иду мимо комнаты Никки, вижу, как она выходит в своём нелепом купальнике сборной по плаванию прошлого года. В нём она похожа на десятилетнюю девочку, плоскую, как блин.
– Что? – спрашивает она, когда я корчу ей гримасу.
– У тебя другого ничего нет?
– Нет, а что с этим не так?
Я пожимаю плечами:
– Ничего.
Она возвращается и надевает поверх купальника топик и шорты. Потом я смотрю, как она укладывает волосы перед зеркалом, и вдруг осознаю, что я никогда не видела, чтобы Николь делала укладку. Она либо заплетает косы или собирает в хвост, когда идёт на очередное задание, даже не глядя, хорошо ли получилось. Я абсолютно не понимаю, как она может так пренебрегать внешностью.
А теперь она занимается собой.
Через несколько минут мы втискиваемся в дряхлый старенький автобус. Я сижу на заднем сиденье с Кивой, к которому, если честно, я испытываю какие-то чувства. Мы обменялись поцелуями на вечеринке в Садхане, это было мило, но этим всё закончилось. Я изредка видела его потом и всегда в компании.
Кожа на сиденьях затвердевшая и поцарапанная, а запах напоминает запах старого скунса. Я ищу нормальный ремень безопасности, но в машине всего один старомодный, так что я пристёгиваюсь им и пытаюсь себя вести так, будто всё круто. Когда мы выезжаем из леса на автостраду, Кива закуривает косяк и предлагает мне.
Ну ладно, я никогда не курила раньше. Ни одной сигареты. Кто-то предлагал мне косяк на вечеринке, но я отмахнулась, как это сделала другая девушка, и никто не обратил на это внимание. В этот раз всё по-другому, всё гораздо важнее. Пахнет отталкивающе, но я не хочу создать впечатление зануды ещё до того, как началось веселье. Несомненно, Кива симпатичный, с русыми кудрявыми волосами, ниспадающими на плечи, с тёмным загаром и бледными голубыми глазами. Он сказал мне, что ему шестнадцать, так что он всего на два года старше меня – в пределах досягаемости.
Так что я беру косяк в губы, пытаясь подражать Киве. После этого я долго откашливаюсь, горло горит, глаза слезятся.
Николь смотрит через плечо на меня с тем же самым безразличным выражением, с которым она решает, стрелять ли в животное.
Вольф
Я перегибаюсь через спинку кресла и забираю косяк у сестры Николь, пока она изо всех сил пытается восстановить дыхание. Я тушу его и втыкаю в боковую дверь, потому сейчас нам не хватало только остановиться на обочине в прокуренном минивене, и вообще я уверен, что наши гости не заядлые курители марихуаны.
– Эй, отдай, – требует Кива.
– Пока мы едем, не отдам, дубина.
– Окей, бабуля, – огрызается он.
Мы с Кивой никогда не были особенно близки, но я знаю его всю жизнь, поэтому для меня он как брат. Он может сгоряча наделать глупостей, но обычно он безобидный, и я не хочу, чтобы он попал в беду.
Я встревоженно оглядываюсь на Николь, на её гладкие загорелые ноги, тонкие руки, которые лежат так близко, что вот-вот прикоснутся к моим. Её руки лежат на коленях, длинные и ловкие, с тонкими проворными пальцами. Натренированные, но изящные руки. Интересно, грубые у неё ладони или мягкие, даже не знаю, каким бы я больше обрадовался. Какие бы ни были, они идеальны.
На сиденьях передо мной Лоурель и Паули спорят о песне, играющей по радио, вроде, выясняют, кто исполнитель. Я смотрю в окно на пробегающий мимо пейзаж и размышляю, как я тут оказался. Я не собирался проводить день с этими ребятами, но, когда Лоурель сказала, что они по пути планируют пригласить Николь с сестрой, я передумал. Она видит меня насквозь, будто бы она знала, что я поеду, как только она упомянет Николь.
Сегодня будет больше сотни градусов по Фаренгейту, так что нам почти нечем больше заняться, кроме купания. Даже строить дом в тени леса было бы утомительно, и я чувствую такое облегчение, какого не испытывал уже давно. Я рад быть здесь со своими друзьями в этот знойный день и лететь навстречу новым возможностям. Я чувствую себя молодым или, может, полным молодости, а не безнадёжно древним, как всегда.
Когда мы подъезжаем к озеру, мы оставляем машину на обочине, чтобы не платить за парковку. Хотя сейчас четверг, вторая половина дня, на знаменитых пляжах не так много людей, так что мы хватаем свои вещи и четверть мили пробираемся по лесу в сторону укромной бухты, о которой мало кто знает. Она частично в тени, краешек пляжа едва выступает из леса, а потом с головой погружается в холодную глубину – то, что надо, в такой день, как сегодня.
Я несу корзину с едой, потому что я её сам собирал. Во главе колонны Паули несёт переносной морозильник, а остальные – полотенца, покрывала и рюкзаки. Николь идёт вплотную ко мне, и я чувствую себя комфортно в её компании. Она молчит. Я рад, что она не пытается завести какой-нибудь пустяковый разговор, хотя остальные впереди нас постоянно болтают.
Я много чего хочу у неё спросить, но сейчас нам обоим так жарко и мы запыхались от маршрута по неровной гористой местности.
Когда мы дошли до пляжа, я с радостью отмечаю, что мы здесь одни. Мы ещё даже не успели положить на землю все вещи, как Кива стянул с себя футболку и с воем бросился в воду. Младшая сестра Николь, которая в жёлтом бикини выглядит не по годам взрослой, прыгает за ним.
Я достаю бутылку комбучи из морозильника, который нёс Паули, и приношу Николь, пока она расстилает полотенце на песке. Секунду она смотрит на бутылку, потом берёт, пьёт, а сделав глоток, морщится.
– Это не чай, – говорит она.
– Это комбуча. Прости, я должен был предупредить. Я всё лето её готовил. В деревне все верят, что она восстанавливает силы.
– Из чего она?
– Из чего-то вроде перебродивших грибов.
Она моргает и хмурится.
– Не волнуйся, тут ничего опасного. Просто такой вид газировки. Там есть вода, если хочешь.
Я делаю большой глоток комбучи и возвращаю бутылку Николь. Она делает ещё один глоток, сначала осторожно.
– Я знаю, что к нему надо привыкнуть.
Тогда она слегка улыбается:
– Это вовсе не ужасно.
Лоурель, переодевшись в бледно-зелёное вязаное крючком бикини, подходит к нам:
– Идёте в воду?
– Через пару минут, – говорю я.
Николь пожимает плечами.
– Думаю, я первым делом осмотрю те скалы, – говорит она, кивая на противоположную сторону бухты, где скалы выступают из воды под невысоким утёсом и неглубокой пещерой.
– Пойдём, – соглашаюсь я. – Я покажу.
Я жадно ухватился за возможность сбежать от Лоурель и её зоркого взгляда. Несмотря на то, что мы никогда не ходили с ней на свидания, никогда не были парой, я чувствую, что она по-прежнему испытывает ко мне что-то. Будто бы я ей не нужен, но никому больше она меня не уступит.
– Как хотите, – говорит она, разворачивается и идёт к воде, притормозив на мгновение, прежде чем прыгнуть.
Пока мы шли к пещере через пляж и скалистый участок, все уже зашли в воду.
– Когда я был маленьким, я приходил сюда и играл в пещерного человека доисторических времён, – говорю я.
– Там глубоко? – спрашивает Николь, когда мы смотрим в провал пещеры.
– Не сильно. Время от времени я здесь ночую. Здесь так спокойно ночью.
В этот момент Паули с криком прыгает бомбочкой в воду, а девушки визжат от брызг.
– Сейчас не так спокойно, – говорит она.
– Когда я узнал, что тебя пригласили, я подумал, что мне надо поехать и защитить тебя от этого хаоса.
– Я похожа на того, кого надо спасать?
– Нет.
– Почему ты решил, что я поеду, даже если тебя не будет с ними?
Я поднимаю взгляд на неё, чтобы посмотреть, серьёзно ли она говорит. Она улыбается, почти смущённо, будто бы никогда не флиртовала.
– Я видел, что твоих родителей нет рядом, – говорю я. – Они узнают, что вас не было, когда вернутся?
Её лицо застыло.
– Они не узнают.
– Уверена?
Я не хочу, чтобы её отец взбесился и совсем запретил ей приходить к нам.
Она вздыхает и садится на край скалы у воды, свесив ноги. Я сажусь рядом.
– Если я расскажу тебе кое-что, ты сохранишь это в тайне?
– Конечно.
Она так долго молчит, что я уже думаю, что она не будет ничего рассказывать. Я смотрю, как она наблюдает за ребятами в воде, и наконец она заговорила.
– Родители уехали, и я не знаю, когда они вернутся. Я не хотела никому говорить, но…
– Но?
– Это так тяжело. То есть, дома нет воды, запасы еды заканчиваются, добраться до магазина не так просто, и меня просто бесит, что мне не с кем об этом поговорить.
– Я думал, что вы позвоните сантехнику насчёт лопнувшей трубы.
Она мотает головой.
– На него нам не хватит денег. Я вроде остановила протечку, примотав изолентой к трубе стеклянную банку с тряпкой. Но повязку надо менять каждый день.
– Я могу помочь. То есть, я, возможно, смогу починить водопровод или же найду того, кто сможет.
– Ни в коем случае, я не могу допустить, чтобы кто-то узнал, что мы остались одни.
– Мы что-нибудь придумаем, чтобы вас прикрыть.
Она снова вздыхает.
– Врать людям я тоже устала.
– Я могу подвозить тебя до магазина. Могу попросить у кого-то машину, по крайней мере. Это хоть как-то поможет?
Она смотрит на меня, между бровей у неё пролегла глубокая складка, но она не выглядит встревоженной.
– Ага, спасибо.
Я хочу, чтобы мы здесь были одни. Я мог бы приблизиться и прикоснуться к ней. Может быть, поцеловать её. Может, что-то большее.
Я определённо хочу больше, чем просто её поцеловать. Я постоянно об этом думаю после того, как мы плавали в реке Юба. Воспоминания, её тело, влажное, сверкающее на солнце, так изящно скользящее в воде, преследуют меня. Просто я не знаю, хотела ли она когда-нибудь, чтобы я поцеловал её или прикоснулся к ней. Но больше всего я не хочу спугнуть её. Я хочу удерживать её поблизости, чтобы узнать получше, и тогда наши отношения плавно стали бы чем-то бóльшим.
– Куда уехали твои родители?
– Не знаю. У мамы сдали нервы и она сбежала, а папа поехал её искать.
– Так что ты не знаешь, когда он вернётся?
Она отрицательно качает головой, я не могу разгадать выражение её лица.
– Он тебе не писал, не звонил?
– Телефоны – это не для него.
– Слишком удобно?
– Вроде того. – Она поднимает камень и взвешивает его на ладони. – Он хочет посмотреть, как мы выживем без его помощи.
– Выживете после чего?
– После чего-нибудь. После всего.
– После Армагеддона что ли?
В ответ она улыбается, но взгляд при этом остаётся мрачным.
– Наверно.
– Твой отец сурвивалист?
– Он предпочитает называть себя подготовленцем.
– Кем?
– Человеком, который готовится к худшему. Мне кажется, что у сурвивализма теперь какой-то слишком негативный оттенок.
– Так вот почему ты охотишься и живёшь на отшибе?
– Ты тоже живёшь на отшибе.
– Я живу в духовном центре, мама была одним из его основателей. Они решили купить эти земли, потому что тут красиво, дёшево и они думали, что само место вдохновляет на духовное созерцание.
Я говорю это, стараясь звучать менее пафосно, но Николь серьёзно кивает, смотря прямо перед собой.
– Цели папиного плана – превратить дом в автономную крепость. Он даже убежище собирается построить.
– На случай ядерной войны?
– На случай любой катастрофы.
– Ты веришь, что это всё пригодится?
Она пожимает плечами.
– Все мы когда-нибудь умрём, верно?
– Большинство из нас к тому времени будут лежать с восковыми лицами в кровати, доживая старость.
– А зомби будут карабкаться в окно.
Я смеюсь и оглядываюсь на неё посмотреть, шутит ли она. Она иронично улыбается.
– Так твой отец научил тебя, как выживать в диких условиях? Это достаточно полезно, так ведь?
– Ну да. То есть так и есть, но это тяжелее, чем я думала. Я чувствую себя безнадёжно тупой, когда дом неумолимо разваливается.
– Дом разваливался и до твоего приезда, так что ты никакого вреда не нанесла.
– Спасибо, утешил.
– Я умею обращаться с гвоздями и молотком, если хочешь, могу помочь с ремонтом.
Она с недоверием смотрит на меня.
– Почему ты хочешь помочь?
– Почему бы нет?
Она молчит.
– Мне тоже нужна ещё одна пара рук, чтобы помочь на стройке дома на дереве. Может, мы могли бы совершить обмен услугами.
– Может быть.
– Ты не против, если я приду завтра и посмотрю, в чём у тебя дело?
Она пожимает плечами.
– Только, если ты хочешь.
Я вижу, как в озере ребята брызгаются, визжат и смеются, устраивая бои мальчиков против девочек. Лоурель будто чувствует, что на неё смотрят, и оборачивается на нас, в выражении её лица что-то меняется. Её губы всё ещё улыбаются, а глаза – уже нет.
Николь, должно быть, тоже заметила это, потому что она спрашивает:
– Вы с Лоурель встречались когда-то?
– Нет. Мы только друзья, – говорю я, соображая, как деликатно описать все наши запутанные отношения.
– Мне кажется, что я ей не нравлюсь.
– Ага, я не в курсе. Но, если от этого станет понятнее, она немного жадная до вещей, которые ей не принадлежат.
– То есть, вы никогда не гуляли под ручку или что-то ещё?
– Боже, нет. Это как ухаживать за собственной сестрой.
От одной мысли мне стало даже немного противно, но вслух я этого не сказал, чтобы она не подумала, что я извращенец.
Лоурель всем нравится. Она похожа на мою маму в миниатюре, только без серьёзных пагубных пристрастий.
– Это почти бессмысленно, – продолжаю я. – Но она ведёт себя так же, когда дело касается моей матери. Будто бы она хочет завладеть всем маминым вниманием и раздражается, когда мама хочет провести время со мной.
– Мда.
– Как я и говорил, всё очень запутанно. Она выросла без семьи. Именно поэтому, наверное, она испытывает ко мне глубочайшую привязанность, как к родному брату, и боится, что кто-то меня украдёт? Её одержимость моей мамой такого же рода.
– Хочешь теперь поплавать? – спрашивает она.
Не хочу. Я хочу поцеловать её, доказать ей, что дурацкая ревность Лоурель никак на меня не влияет, но я знаю, что сейчас неподходящее время, неподходящие условия.
Так что я беру её за руку.
– Пойдём, - говорю я. – В воду!
Глава 13
Вольф
На следующий день я прихожу к дому девочек. Ранним утром здесь тихо и спокойно. Лишь с ветвей деревьев неподалёку, доносится щебетание птиц. Я обошёл участок, пытаясь представить, что должны испытывать две девочки-подростка, живущие одни в этом месте. Когда здесь много лет подряд никого не было, я обшарил всё, просто из любопытства. Когда-то это был уютный дом, но за ним никто не присматривал уже несколько десятков лет.
Я стучу в дверь и жду. Минуту спустя дверь открывает Иззи и недружелюбно на меня смотрит.
– Чего тебе надо?
– Я пришёл к Николь. Она рядом?
– Не знаю, – отрезает она и закрывает дверь прямо перед моим носом.
Я иду на задний двор и замечаю, что Николь, выйдя из леса, тащит ведро с водой через поле, так что я бегу к ней и беру у неё ведро, чтобы ей было легче.
– Спасибо, – говорит она. – Что ты тут делаешь?
– Я же говорил, что приду помочь, забыла?
– О Боже, как мило с твоей стороны, но здесь абсолютно нечего делать, только разве что спалить всё дотла и построить заново.
– Осторожней в своих желаниях, – говорю я, кивая на дым на горизонте. Ветер, к счастью, дует сегодня не в нашу сторону, так что мы не дышим гарью, но всегда помним, что летние лесные пожары где-то поблизости.
– А знаешь что, – добавляю я, – если ты не хочешь сегодня оставаться здесь, мы могли бы пойти к моему домику на дереве. И ты бы помогла мне закончить пару дел. Мне надо отшлифовать полы и стереть пару пятен, чтобы потом покрасить.
– Ты проделал весь этот путь ради бесплатной рабочей силы, так?
– Так, но не совсем.
– Хорошо, вырваться отсюда – отличная идея. Иззи сегодня не в настроении.
Пока мы идём по лесу, она рассказывает мне о поездке в город за пиццей.
– Ты должна была попросить машину у меня. Ты же знаешь, что я в любой момент могу взять её у мамы и подбросить тебя куда угодно.
– Спасибо. Мне кажется, что в этот раз, по крайней мере, было правильно сделать что-то вместе с Иззи, без посторонних. Ей сейчас трудно всё переносить.
– Кто вас подобрал на дороге?
– Милая семья на «Минивэне». Нам повезло, я это и тогда поняла, так что обратно мы доехали до дома на такси за двадцать долларов, потому что к тому времени уже стемнело.
Мы доходим до домика на дереве, и она, остановившись, смотрит на него снизу вверх.
– Вот и пришли. Дом, милый дом, – говорю я.
– Как же я была удивлена, увидев тебя тут тогда, я не осознала ещё, какое это красивое место. Я имею в виду, что оно странное, но прекрасное, понимаешь?
Я улыбаюсь.
– Ты – первый человек, который его увидел, насколько мне известно.
– Правда?
– Я никогда не собирался показывать кому-то это место, – признаюсь я.
Она поворачивается и смотрит на меня.
– Почему?
– Здесь я хотел быть один.
– Ты хочешь жить здесь в одиночестве и никогда ни с кем не встречаться?
– Если я захочу кого-то увидеть, я сам к нему приду.
– А, ты не рад гостям.
– Нет.
– Это значит, что я не могу прийти в гости?
– Тебе я показал это место, верно?
– Не совсем. Я случайно обнаружила тебя тут, помнишь?
Она скрещивает руки на груди и снова поворачивается к дому, смотря на него так, будто она в музее, а дом – произведение искусства.
– Я специально привёл тебя сюда.
– В качестве рабочих рук.
– Мы так-то заключили договор об обмене, – возражаю я. – Но ты можешь приходить в любое время. Ты – единственное исключение из моего правила.
Она слегка приподнимает уголки губ в улыбке, и мне вдруг приходит в голову, что я редко вижу, как она улыбается. Её лицо подобно водной глади, по которой редко проходит рябь, хотя в глубине кипит жизнь.
Мне нравится, что она не улыбается только из вежливости, потому что я чувствую, что так я присутствую при чём-то редком и завораживающем.
– Я польщена.
– Ты сохранишь мой секретный адрес в тайне?
– Разумеется.
Она поднимается по лестнице к входной двери, и я вхожу вслед за ней. Я не рассчитывал, что в этом месте будут находиться двое, не представлял, что когда-то сюда войдёт другой человек и займёт то пространство, которое не занял я. Мы заполнили всю комнатку, и я почувствовал, как она близко.
– Что ты будешь делать здесь совсем один? – спрашивает она, смотря в окно.
– Всё, что захочу.
Прямо сейчас то, что я хочу – это поцеловать её, но, когда я наклоняюсь ближе, я чувствую, как напрягается её тело, словно олень, готовящийся к прыжку. Я снова спрашиваю себя, целовал ли её когда-нибудь кто-то по-настоящему.
– Дух захватывает, – говорит она. – Будто в сказке оказалась.
– Ты о чём?
– Об этом доме. В прошлый раз я была немного напряжена. Не могу поверить, что ты всё это построил своими руками. Я впечатлена.
Думаю, для этого я и привёл её сюда… чтобы впечатлить. Но нет. Я не этого хочу. Я просто хотел показать ей частицу себя, которая не имеет ничего общего с деревней, или мамой, или Лоурель, или кем-нибудь ещё.
Я хочу, чтобы кто-то знал – кто я, когда я вдали всего этого. Я хочу, чтобы этим кем-то была Николь.
Она отводит взгляд и снова смотрит на меня, и я ошарашен, когда она подаётся вперёд и оставляет на моих губах лёгкий поцелуй, как будто спрашивает разрешения.
Я полностью погружаюсь в трепет её мягких губ, но потом она останавливается, и я притягиваю её ближе, пока она не прижимается вплотную ко мне. Я запускаю руку в её волосы и нежно обнимаю тёплое основание её шеи, а поцелуй становится всё глубже, и мы медленно таем друг в друге.
Это волшебство. Этот поцелуй.
И он длится и длится.
– Ух ты, – шепчет она.
– Да.
– Мы должны когда-нибудь повторить.
– Скоро, – говорю я.
– Да, скоро.
– Например, прямо сейчас.
И мы целуемся.
Николь
Я не святая. Я уже думала о том, как это – целоваться с парнем, который мне нравится, лежать, прижавшись к кому-то.
Я думала о том, как это должно быть – делать всё это с Вольфом.
Он всю ночь не даёт мне уснуть.
Но на самом деле поцелуй с ним не такой, как я ожидала.
Я не представляла, что он может быть невероятно мягким и жёстким в то же время. Я не могла вообразить, что от него по телу, словно ток, разольётся возбуждение, что меня охватит головокружение, перехватит дыхание, и я настолько потеряю контроль над происходящим, что остальной мир рассеется. Это не похоже ни на что из того, что я знала раньше. Нужно самому оказаться в центре этого, чтобы понять.
Но потом он останавливается и отстраняется, бормоча извинения.
– Я, правда, привёл тебя сюда не для того, чтобы целоваться, – говорит он.
– Знаю.
– Я просто хотел этого уже давно.
– Вообще-то, это я тебя поцеловала, – уточняю я.
Он улыбается.
– Да, ты права. Забыл. Но я всё-таки поцеловал тебя в ответ.
– А потом ещё раз.
– Я не хочу, чтобы ты думала, что я завёл тебя в лес, чтобы домогаться.
– Может быть, это я тебя домогаюсь.
Он смеётся.
– Ты совсем не похожа на извращенку.
Я с сомнением пожимаю плечами.
– Ты ещё не видел, что я вытворяю с наждачной бумагой.
Впервые я почувствовала что-то сокровенное и опьяняющее в нашем уединении.
Я думаю, что бы сказал папа, и тут же отбрасываю эту давнюю привычку. Его слова ничего не значат. Важно только то, что я хочу быть здесь с Вольфом прямо сейчас. Я хочу перестать думать, как девочка с «промытыми» мозгами, и начать думать, как самостоятельный человек со своими собственными желаниями.
– Не похоже, что этот пол ещё нужно шлифовать, – замечаю я, быстро проводя рукой по гладкой поверхности.
– Не здесь, вон там, – он кивает на противоположную сторону комнатки.
Я начинаю ползти по зелёному спальнику, расстеленному в центре комнаты, но на полпути я просто падаю и чувствую, что Вольф рядом.
– Ты же на самом деле не хочешь шлифовать пол, так ведь? – спрашиваю я и тяну его к себе.
Не знаю, откуда во мне эта дерзость, но папа меня точно такому не учил.
Изабель
Я не сплю, просто лежу в своей комнате, в полудрёме, слушая, как что-то скребётся под крышей. Наверно, мыши. Просто Ник говорит, что это они издают такие звуки. Но потом что-то с грохотом обрушивается на кухне, и я вскакиваю, уши заполняет стук сердца. Я пытаюсь полностью успокоиться, чтобы что-то услышать.
Я подумала о взломщиках, которые появились здесь из ниоткуда, о том, что мне некого позвать на помощь, кроме сестры-тугодума. Теперь мне кажется, что именно так всё и происходит.
Я медленно выбираюсь из постели и шлёпаю к двери, а возня внизу утихает. Потом я всматриваюсь в темноту безмолвного коридора. И тут я слышу, как что-то внизу скребётся. Я бесшумно бегу в комнату Ник и трясу её за плечо.
– Ник! – шепчу я как можно тише.
– Ммм, – бормочет она.
Как она вообще может так крепко спать, когда в доме какой-то маньяк, или наркоман, или убийца разыскивает нас. Я хватаю её за плечо и трясу.
– Ник! Проснись!
Она мигом широко открывает глаза и не скрывает удивления от того, что я так близко.
– Что? – чересчур громко спрашивает она.
– Тсс! Там кто-то внизу! – шепчу я.
Она поднимается на локтях, хмурится, вглядываясь в лунный свет, проникающий через окно.
– С чего ты взяла?
– Я слышала шум.
– Может быть, папа вернулся, – говорит она. – Или мама.
– Посреди ночи? А что, если это не они?
Наконец, она вроде бы осознала, в какой мы западне, одни здесь, она садится и тянется рукой под кровать, где теперь хранит охотничье ружьё.
Она проверяет, есть ли патроны, и внезапно я понимаю, как мне повезло, что моя сестра – такой же чудаковатый Рэмбо, как наш отец.
Внизу всё затихло, но для меня это плохой знак. Кто бы там ни был, он, скорее всего, нас услышал и теперь только ждёт, чтобы мы спустились, и он нас убьет.
Ники встаёт и идёт через всю комнату к двери, я спешу за ней.
– Что ты делаешь?
– Иду выяснять, что это за звуки.
Прежде чем я успеваю её остановить, она щёлкает выключателем, и на лестнице загорается свет.
– Кто здесь? – громко спрашивает она, и мне хочется влепить ей пощёчину.
Тишина.
– Пап? Мам?
Вместо ответа до нас доносится едва различимый скребущийся и шаркающий звук.
Она глубоко вдыхает и спокойно выдыхает.
– Ты, стой тут и ищи место, чтобы спрятаться. Если что-то случится, спускайся по пожарной лестнице из своей комнаты и беги за помощью в Садхану.
Я смотрю на неё, как на полоумную, но голова ничего не соображает, и я не могу ничего сказать в ответ. Не помню, чтобы мне когда-то было настолько страшно.
– Стой тут, – шёпотом повторяю я через какое-то время, но она уже спускается по лестнице. – Ник! – зову я её. Она не оборачивается, и я подхожу ближе к коридору и всматриваюсь в её спускающуюся фигуру.
Она исчезает за поворотом на лестничной клетке. Через пару секунд раздаётся выстрел. Я чуть штаны не намочила. Во рту пересохло, адреналин пульсирует в венах, я забываю про предосторожность и бегу вниз, не в силах оставить там сестру одну.
Что, если Николь мертва?
Но она жива. Она стоит в проёме двери, ведущей на кухню, и держит ружьё дулом вниз. Она оборачивается и смотрит на меня.
– Крысы, – говорит она. – Грызут нашу еду. Я попала в одну, а остальные разбежались от звука выстрела.
Сначала, как мне кажется, я чувствую облегчение, а потом меня охватило отвращение, потому что, оглядывая кухню, я натыкаюсь на останки крысы, размазанной по плитке над разделочным столом.
– О Боже, я это отскребать не буду.
Она заходит на кухню, кладёт ружьё на стол и садится на корточки перед дырой под шкафчиками с посудой.
– Вот как они пробрались, – говорит она.
Я думаю о скребущемся звуке, который мы слышали ночью над потолком, и в моём воображении появляются не милые мышки, а крысы, серые и жирные, как та, у которой разнесло выстрелом голову. Она размером почти с кошку. Или была размером с кошку. От этого вида и запаха пороха к моему горлу подступает тошнота.
– Вдруг их тут ещё больше?
– Ещё две скрылись в этой дыре.
Я складываю руки на груди и внимательно оглядываю комнату и коридор. Я не хочу жить бок о бок с огромными крысами, которых можно спугнуть только оружейным выстрелом.
– Ты проверишь все шкафчики и оставшиеся комнаты, пока я попытаюсь закрыть дыру?
Я не собираюсь заходить на кухню, если есть малейший шанс, что там притаилась какая-то крыса, но молчу. Я просто наблюдаю, как она идёт к входной двери и отпирает её. Она берёт со стола во дворе фонарь и включает.
– Куда ты?
– В сарай за досками.
– Прямо сейчас?
– Мне что, красную ковровую дорожку им постелить?
– Иди ты.
Она выходит, а я стою, как дура. Следы крысиного помёта виднеются через всю кухню. Раньше я бы их смела, не думая, что это на самом деле. Но сейчас от одной мысли, что я знаю, откуда они появляются, меня вот-вот стошнит.
В животе урчит, я достаю пару шлёпанцев, надеваю, осматривая кухню и остальные помещения в доме. Следов крыс больше нигде нет, так что я беру метлу и совок из кладовой в коридоре и сметаю весь помёт, который могу найти. Потом я нахожу баллончик с хлорной водой и распыляю его по всем поверхностям. Николь возвращается с молотком, гвоздями и досками и начинает заделывать дыру.
Не могу поверить в то, что это теперь моя жизнь. Пока мои друзья из школы, в которой я училась в прошлом году, отдыхают на Гавайях, плавают в составе сборной, отрываются на пляже, я оттираю остатки крысиного помёта с пола на кухне посреди ночи. Даже если бы я могла поговорить с кем-то из старых друзей, я бы не стала говорить об этом. Я бы переврала каждую мелочь из того, что со мной произошло этим летом.
Крысы вытащили из шкафа огромную пачку хлопьев «Cheerios» и прогрызли в коробке дырку. Теперь её содержимое высыпается на стол. Я беру её и выбрасываю, но Николь, закончив латать дыру в полу, встаёт и останавливает меня.
– Мы всё ещё можем их съесть, – говорит эта ненормальная.
– Ты всё ещё можешь их съесть. Я не ем то, на чём есть крысиная слюна.
– Крысы не облизали все те хлопья, которые ещё в коробке. У нас не так много запасов.
Я наблюдаю, как она достаёт дырявый ящик и заклеивает пробоину куском серебристой изоленты.
– О, Господи. Отвратительно.
Она не обращает на меня внимания и ставит ящик обратно в шкаф. На полу под столом лежит солонка. Должно быть, я проснулась именно из-за того, что она упала.
Я продолжаю подметать под столами, но мне так противно от такой жизни, что хочется кричать.
– Это – жестокое обращение с детьми, – говорю я. – Может быть, нам разрешат пожить в Садхане, пока родители не вернутся?
– Мы остаёмся здесь. Так нам велел отец.
– Его здесь нет! И он вовсе не идеальный папочка, и вообще тебе не следует вести себя так, будто он таким является, – на одном дыхании выпаливаю я.
Я никогда не рассказывала Ник о вещах, которые подслушала в ссоре родителей перед переездом. Мне нравилось, что я знаю то, чего не знает она. Но, в самом деле, если она собирается позволить отцу разрушить наши жизни, я хочу, чтобы она знала, какую паршивую задницу она так защищает.
– Что ты хочешь этим сказать?
Я кладу тряпку и хлорную воду и ухожу. Я слишком взбудоражена, чтобы адекватно мыслить, так что я поднимаюсь к себе и ложусь на кровать напротив горящей лампы. Несмотря на открытое окно и вентилятор, здесь всё равно около сотни градусов по Фаренгейту, поэтому я просто лежу, вдыхая тяжёлый воздух и обливаясь потом, и пытаюсь думать.
Что я ей наговорила? Какую кашу я заварила? Подходящее ли сейчас время?
Я думала, что она оставила свои повадки странной девочки с «промытыми» мозгами. В последнее время с ней стало намного приятнее находиться рядом. Но, как я и думала, как только она теряет самообладание и не знает, что ещё сделать, она снова становится «Папиным Маленьким Роботом».
Я слышу, как она поднимается по лестнице, и собираюсь с духом, чтобы напрямик поговорить с ней об отце, но она не заходит в мою комнату. Она просто идёт в свою спальню и закрывает за собой дверь.
Глава 14
Николь
Стирка белья – та ещё пытка, когда дома не работает водопровод, а, значит, не работает и стиральная машинка. Я стараюсь носить вещи до тех пор, пока они не становятся окончательно и бесповоротно грязными, и пытаюсь убедить Иззи поступать так же. Если ей хочется постирать что-то до того, как оно станет грязным, она должна стирать сама, таково правило.
Итак, прежде чем идти к вялотекущему ручью стирать бельё, я копаюсь в корзине в поисках того, что ещё можно носить. Выхожу из дома я рано, до дневной жары. Я тру каждую вещь – одежду или полотенце – по-отдельности, полощу их в холодной воде, мылю крошечным кусочком оливкового кастильского мыла. Наверно, это не очень полезно для экосистемы, но, когда я попробовала стирать одежду без мыла, пахла она невыносимо.
После этого я приношу все домой и развешиваю на верёвках, высохнув, одежда становится тяжёлой и будто одеревенелой.
Когда подхожу к входной двери, Иззи сидит на крыльце в тени, обмотав голову футболкой наподобие тюрбана. Cклонившись над пальцами ног, она красит их блестящим красным лаком.
Я ещё не говорила с ней после ночного нашествия крыс и, могу поспорить, что она в ещё более паршивом настроении, чем обычно, но так я этого оставить не могу. Она лентяйничает, пока я драю её грязное бельё. Я шумно роняю корзину с мокрыми вещами рядом с ней.
– Тебе надо развесить это, пока всё не покрылось плесенью.
Она на меня даже не смотрит.
– Мне некогда.
– Педикюр может подождать.
– Может быть, я займусь бельём, когда закончу с лаком.
Я хочу есть, моя футболка пропиталась потом, пока я стирала вещи, и мне не хочется разжигать печь и готовить что-то из наших бесконечных запасов овсянки. Я также не хочу есть погрызенные крысами хлопья Cheerios даже больше, чем Иззи. Но этого я ей никогда не скажу.
Хочется влепить ей пощёчину, так всё бесит.
Я слишком долго стою неподвижно, потому что она начинает на меня смотреть.
– Что?
– Займись бельём сейчас. Я пошла готовить завтрак.
– Я не буду ничего есть с кухни, где гуляли заразные крысы, так что на меня можешь не готовить.
– Ты просто избалованная мерзавка.
Мышцы её лица, безумно похожего на лицо мамы широкими скулами и тёмными линиями бровей, сводит от ярости, так напрягалось и лицо мамы в минуты гнева. От этого кажется, что оно вот-вот лопнет, как воздушный шарик.
– Я не избалованная мерзавка в отличие от тебя. Только ты постоянно ведёшь так, будто отец тебя назначил венцом вселенной.
У меня глаза на лоб полезли. Я разворачиваюсь и ухожу.
Она кидает мне в спину:
– Ты понятия не имеешь, какой он на самом деле. Хочешь знать правду об отце? Он обманщик, лгун, возможно, даже преступник.
Я моргаю. Я чувствую, как по спине стекает капля пота, и меня это приводит в такую ярость, что я едва держу себя в руках.
– О чём ты говоришь? – я резко поворачиваюсь и спрашиваю так спокойно, как только могу.
Иззи наносит последний штрих красного лака на мизинец, закрывает флакон. Она внимательно на меня смотрит.
– Отец не просто ушёл в отставку. Его заставили подать заявление, потому что кто-то обвинил его в преступлении, которое он совершил вместе с одним из своих подчинённых, его должны были отправить под трибунал.
– Только потому, что кто-то что-то сказал…
– Не без оснований сказал. Преступление было. Точно. А он отделался отставкой вместо того, чтобы сесть за решётку, потому что у военного суда не было достаточно доказательств.
– Откуда ты всё это знаешь?
– Неважно, как я это узнала.
– В таком случае, я тебе не верю. Ты всё выдумываешь, чтобы меня одурачить.
– Мама с папой ругались по этому поводу последние несколько месяцев. Если бы ты не бегала с высунутым языком за папой, ты, наверно, заметила бы, что старина папаша – тот ещё двуличный подонок.
Я вдруг почувствовала, как у меня душа ушла в пятки.
– Я тебе не верю, – повторяю я. Но на самом деле я и себе не верю.
– Потому что ты идиотка. Мама согласилась приехать сюда только, чтобы избежать того скандала. Но когда она приехала сюда и увидела эту дыру, она смылась.
– Прекрати! Не хочу слушать твои бредни.
Мне хочется избавиться от жары и от Иззи. Я поднимаюсь по ступеням в дом, обходя сестру, но она идёт за мной. А когда я беру из холодильника кувшин, наливаю себе стакан воды и оборачиваюсь, она всё ещё рядом, ждёт, что я отвечу.
– Папа даже не может оправдаться, потому что его здесь нет, – говорю я. – Нам не следует об этом разговаривать. Если то, что ты сказала, правда, тогда ты можешь лично это узнать у него, когда он вернётся.
– Он лжец, Ники! Не доходит? Он не собирается так запросто признаться в своих ошибках, потому что это не вписывается в ложную картину мира, которую он нам пытается внушить.
Мои глаза наполняются слезами, но я не собираюсь плакать перед Иззи. Я пью воду и ставлю стакан рядом с раковиной.
Хочется верить, что папа не такой, каким она его описывает. Хочется верить, что он не стал бы обманывать нас и он не мошенник. Я убеждаю себя в этом, а между тем начинаю осознавать, что Иззи – единственный человек здесь, который не врет сам себе.
В конце концов, как связать это с тем, что он хотел детей, а мама – нет? Может быть, из-за этого и из-за аборта отношения дали трещину, которую никогда не срастить. Может быть, с ними происходили такие вещи, которые мы никогда бы себе не смогли представить.
Я думаю о мамином письме, которое Иззи всё ещё не видела. То, что она говорит, противоречит письму. Стало ли то, о чём она рассказала, причиной, по которой мама добивалась развода?
Я спрятала письмо в поваренную книгу, которая стоит на полке рядом с холодильником. Я иду за ним и даю Иззи.
Она смотрит на мамин почерк на конверте.
– Что это?
– Письмо от мамы.
Она подозрительно на меня смотрит, но достаёт письмо и начинает читать. По безразличному выражению её лица невозможно догадаться, что происходит у неё в мыслях, но, судя по тому, как перебегает её взгляд от строчки к строчке, к этому моменту она должна быть так же расстроена, как и я.
Прежде чем я успеваю её остановить, она комкает письмо в руке и швыряет в другой конец комнаты. Не знаю, почему я хочу поднять это письмо. Я уже читала его, и его содержание совсем не похоже на изящную памятную записку, которую можно перечитывать снова и снова.
Я тупо пялюсь на письмо, не в состоянии мыслить разумно. Худшая часть меня хотела сделать больно сестре, и у меня получилось. Даже не сомневаюсь.
– Иди ты в жопу! – говорит она, обращаясь то ли ко мне, то ли к письму, то ли в пустоту, и выбегает из дома, хлопнув дверью.
После её ухода дом будто содрогнулся в тишине, и я осталась один на один со своими проблемами и сомнениями.
Возможно ли то, что после стольких лет всех папиных лекций о справедливости, всех нравоучений о достоинстве, и семье, и морали, и добре и зле, он был способен обманывать маму?
На меня наваливается волна тошноты.
Это не может быть правдой, говорю я себе.
Это не может быть правдой.
Может быть, его подставили, или подчинённый соврал, или…
Нет.
Я вспоминаю последний год и вижу, как всё изменилось. Напряжение между родителями росло, отец внезапно ушёл в отставку, ему в голову пришла безумная идея переехать сюда, чтобы спасти от конца света. Всё складывается, если добавить ещё одну деталь. Паззл собран, но на нём вырисовывается вовсе не милая картинка.
Всё, во что я так искренне верила в своей жизни, оказалось ложью.
Изабель
Я не знаю, куда я собиралась пойти, когда сбежала из дома. Я просто хотела вырваться из этого ада.
Я хочу, чтобы этот чёртов дом просто исчез. Я хочу прокрутить свою жизнь, как видеоплёнку, и оказаться там, где я буду подальше отсюда.
То, что мама не вернётся, ничего не меняет. Это письмо ни на что не влияет.
Я пробираюсь через лес к короткому пути до Садханы, разрываясь от злости. Как она могла бросить меня здесь? Как она вообще могла подумать, что всё наладится?
У меня самые непутёвые родители в мире, меня вконец измотало притворяться, что мне наплевать на то, что они думают и хотят. Я подхожу к двери дома, где, насколько я знаю, живёт Кива, но его здесь нет. Какой-то парень с нелепой белокурой бородой, заплетённой в косу, говорит мне, что я могу найти Киву в сарае, так что иду в том направлении, которое он показал.
Я вижу, как Кива тащит стог сена для коз на поле рядом с сараем. От коз ужасно пахнет, но они мне кажутся милыми, смотрят на тебя глупыми глазами и трясут жирными круглыми боками. Как только он опускает сено на землю, один из козлят тут же запрыгивает сверху и начинает блеять.
– Эй, – окликает он, когда видит меня.
Я с противоположной стороны загона, но чёрно-белый козлик, заинтересовавшись, пошёл в мою сторону.
– Сам ты эй. Не время для шуток.
– Ты очень вовремя пришла. Я как раз закончил дела в сарае.
– Клёво. У тебя есть время прогуляться?
Он улыбается.
– Конечно. Иди сюда, я покажу тебе своё секретное место.
Я вхожу вслед за ним в открытую дверь сарая. Он поднимается по лестнице с другой стороны от входа на чердак, и я тоже иду за ним. Там мы остаёмся одни. Здесь есть всё для отдыха: матрас, одеяла, вентилятор, радио…
Он пробирается в противоположный угол чердака, нажимает кнопку вентилятора и включает радио, выбрав станцию, по которой передают песни, напоминающие по стилю старый рок. Из-за приёмника Кива достаёт пузатую бутылку с какой-то прозрачной жидкостью.
– Познакомься с моим другом, Доном Хулио, – говорит он. – Он поможет нам отметить конец тяжёлого трудового дня.
Он вынимает большую круглую пробку из горлышка и приносит две стопки, которые потом наполняет текилой.
Я подползаю к нему, сажусь на край матраса и смакую возбуждение от того, что я наконец-то погружаюсь в мир, который для себя выбрала, мир, до которого не могут добраться родители, мир, в котором я сама устанавливаю правила.
Когда он протягивает мне стопку, я знаю, что я никогда не пробовала текилу, даже лучше, чем то, что я никогда раньше не напивалась по-настоящему. Я чётко осознаю, что это то, чего я хочу, так что я залпом выпиваю, изо всех сил стараясь не обращать внимания на острый едкий запах.
Когда Кива замечает моё выражение лица, которое я невольно сделала, он улыбается.
– Стоящая вещь, правда?
– Ага, – соврала я.
Он осушает свой стакан одним глотком и наливает нам обоим снова. Потом ещё раз, стаканы опять пусты.
Я слушаю, как он рассказывает о поездке в Мексику, где он впервые попробовал текилу, и тут мой разум начала затмевать пелена тумана, а меня – охватывать чувство головокружения от собственной беззаботности о будущем.
Когда я пытаюсь рассказать ему, как уехали мои родители, что теперь мы с Ники живём одни – я не знаю, как много я уже выпила – четыре, может? – кажется, что слова застревают на моём глупом языке, и я начинаю смеяться.
– Что ты сказала? – спрашивает он, смеясь вместе со мной.
– Мои родители. Они уехали, – выдавливаю я в итоге из себя.
– Куда уехали?
– Не знаю.
– Надолго?
Я пожимаю плечами, обмякшими, будто они вот-вот скатятся на пол.
– Может быть, через месяц.
– Так ты сама по себе теперь? Круто.
Я смотрю на него и думаю обо всех ситуациях, когда это было бы круто, но на самом деле это вовсе не так. Но я молчу. Вместо этого я придвигаюсь ближе и наклоняюсь, пока мои губы не соприкасаются с его губами, и мы целуемся.
От него пахнет потом, а на его губах вкус соли с текилой. И после того, как мы поцеловались, мы уже не останавливались. В итоге мы оказались на матрасе, он сверху, и это лучшее из того, что я когда-либо испытывала в своей жизни.
Но в какой-то момент я поняла, что происходящее совершенно не остановить. Он обвивает меня руками, на пол летит одежда, а мысли растекаются, как патока.
Мне удаётся вспомнить, что мне четырнадцать. И я девственница.
Потом наши тела, мокрые от пота, прижимаются друг к другу, и я осознаю, что я должна намекнуть на презервативы, или на то, чтобы притормозить, или о контроле рождаемости, или о том, что я не хочу продолжать, но я не могу выдавить ни слова, потому какая-то часть меня хочет продолжить.
Из-за того, что частичка моего тела охвачена пламенем, я не в состоянии принимать решения. Эта же сила толкает нас всё ближе и ближе друг к другу, пока он не прижимается вплотную к моим бёдрам, и я чувствую острую боль, когда его тело с нажимом давит на моё.
Ни презерватива, ничего между нами, а я кричу, потому что боль оказалась в разы сильнее, чем я ожидала. Пока он продолжает, боль не утихает, и где-то на моих губах застыло слово «Хватит», но я не знаю, произнесла ли я его хоть раз. В любом случае, я не сделала этого вслух.
Приподнявшись на локтях, он двигается и смотрит на меня. Я ощущаю себя каким-то заданием, которое ему дали, рутиной, с которой надо разделаться, а остановиться, пока всё не будет готово, нельзя.
Глупые слёзы катятся по моему лицу и теряются в волосах, но они, наверно, выглядят, как пот, потому что он их не замечает.
Я девственница, должна сказать я.
Нет, я была девственницей. До этого момента.
По его телу пробегает дрожь и он обрушивается на меня, а я лежу, прижатая им, и думаю о беременности, и ЗППП, и смерти просто потому, что я была слишком глупа, что не подумала про презервативы. Про то, что надо носить с собой один просто на всякий случай. Но кто знал, что это случится?
– Прости, – говорит он. – Я собирался выйти заранее. Наверно, я немного увлёкся.
Николь
Я слышу подъезжающий автомобиль, выглядываю и вижу фары и очертания минивена Паули в темноте ближайших деревьев. Машина останавливается перед домом. Иззи выходит через пассажирскую дверь и стучит в дом. Минивен уезжает.
Когда она входит, вид у неё ужасный, волосы растрёпаны, лицо бледное в красных пятнах, глаза странно слипаются. Её шатает. Качаясь из стороны в сторону, она идёт мимо меня на кухню, где падает на стул и кладёт голову на стол.
Я иду за ней, наливаю стакан воды, ставлю рядом с ней.
– Ты в порядке? – я чувствую, как от неё пахнет алкоголем, так что я думаю, что ответ «Нет».
– Нет, – говорит она.
Иззи рассказывает о случившемся, изрыгая отдельные фрагменты, комкая их. Я удивлена её искренности. Удивлена, что она хочет говорить. Она рассказывает мне о сарае, о спиртном, о том, что произошло потом.
– Он заставил тебя? – спрашиваю я.
– Нет. То есть, я так и не сказала ему прекратить.
– Но ты была пьяна.
Я сажусь за стол и кладу ей руку на плечо, она не вырывается. Не так я представляла себе её первый раз.
Она начинает плакать.
– Всё в порядке, – уверяю я её. – С тобой всё будет в порядке.
– Он никак не предохранялся, – говорит она.
Желудок у меня сводит, и я вижу, как она морщится, как делала это в детстве. Для меня она всё ещё та маленькая девочка, слишком маленькая, чтобы справится с такими взрослыми проблемами, как эта.
Я злюсь на родителей за то, что это случилось этим летом, когда они оставили нас одних. Я злюсь, потому что я не защитила Иззи. И я злюсь, потому что, кроме меня, здесь некому это сделать.
– Мы можем поехать в клинику и сдать анализы, согласна? И купить тебе противозачаточную таблетку, чтобы быть уверенными, что ты не забеременеешь.
Я даже не знаю, о чём говорю, потому что я сама с этим никогда не сталкивалась. Разрешены ли противозачаточные после полового акта в Калифорнии? Я слышала об этом, но не знаю точно. Мне это было не надо.
– Что, если мама с папой узнают? – прохрипела она.
– Их здесь нет. Как бы они узнали?
Она шмыгает носом.
– Ты им расскажешь?
– Я считаю, что, если они хотят, чтобы мы сами о себе позаботились, это не их дело, как мы это делаем, – медленно говорю я, осознавая, что это правда, только после того, как нужные слова сами по себе возникают на языке.
После того, как я помогла Иззи вымыться, вылив на неё канистру воды, и уложила её спать, я осталась одна в гостиной и стала смотреть в темноту окна, чувствуя себя более одинокой, чем до того, как мы сюда переехали.
Я убедила сестру, что с нами всё будет в порядке. По крайней мере, я так думаю.
Но так ли это?
Я иду спать и достаю ружьё из-под кровати. Я провожу ладонью по холодному стволу и прижимаю его к груди, как ребёнка. Это меня успокаивает. Хотя ты не можешь помочь, ты чувствуешь себя более могущественным, когда у тебя есть ружьё. Если не помочь, то хотя бы позаботиться о себе, если знаешь, как с ним обращаться. Может быть, я где-то заблуждаюсь, но сейчас я благодарна папиной одержимости катастрофами.
Я не стала бы стрелять в человека без необходимости – только если не было бы другого выхода – но сделала бы предупреждающие выстрелы. Я могла бы до смерти напугать бестолкового мальчишку, который на собственной шкуре не ощутил жара огнестрельного оружия, если бы он осмелился подойти к моей сестре ещё раз.
Часть 3
Выживание, уклонение, сопротивление и бегство
Третье сентября
Всё, чему меня научил папа, воспитало меня не совсем так, как он рассчитывал. ВУСБ – это одна из первых аббревиатур из речи подготовленцев, которые он мне преподал: Выживание, Уклонение, Сопротивление и Бегство.
В выживании я вижу историю, которую человек сам себе рассказывает, чтобы справиться с трудностями.
Уклонение – это всё, что связано с избеганием врагов. Но что делать, если враг – это человек, от которого ты зависишь? Что, если враг в вашей же голове?
Сопротивление – это не взведённый курок ружья. Это знание собственного сознания. Знание того, с чем ты смиришься, а с чем – нет.
Бегство не всегда возможно в реальном физическом мире, но никто не знает, куда направлены твои мысли. Никто не может убедить тебя в истинности чего-то, если ты знаешь, что это ложь.
Глава 15
Николь
В конце августа лесные пожары всё ещё полыхают на засушливых холмах севера, этим летом они подобрались особенно близко. Перемена ветра могла бы перебросить их к нам. Кто-то уже эвакуируется сам, но между нами и огнём протекает река, так что я уверена, что мы в безопасности. Мы получаем последние сводки новостей только по радио, я не выключаю его до поздней ночи, хотя едва различаю смысл сообщений, которые слышу.
Иззи изменилась после происшествия в сарае, побледнела. Я тоже чувствую себя совершенно другим человеком. Теперь я никому не доверяю, будто бы наш дом – это полуразвалившаяся крепость, которая противостоит целому миру. Мне не хочется её покидать, и Иззи тоже. Когда я хожу за водой, меня охватывает тревога, возрастая по мере того, как я отдаляюсь от дома, и угасая, только когда я возвращаюсь и закрываю дверь на ключ. Я сплю с ружьём под подушкой, вскакиваю от каждого шороха, просыпаюсь снова и снова среди ночи, устаю ещё больше с каждым новым днём.
Я не знаю, чего я жду, какую опасность вижу за каждым углом. Это не Кива, который ходит где-то поблизости, а, если даже он пришёл, я на самом деле не верю, что он так опасен.
То, чего я боюсь, не описать словами, я чувствую что-то опасное, глядя на опушку леса, какую-то силу, которая, как хищник, знает о нашей уязвимости и ждёт подходящего момента, чтобы напасть.
Через два дня после инцидента с Кивой, у Иззи начались месячные, и теперь она отказалась ехать на обследование и делать тест на ЗППП. У меня не было ни сил, чтобы её заставить, ни желания ловить попутку или просить кого-то нас подвезти. Мне просто кажется, что всё это слишком хлопотно.
Я попросила её держаться подальше от ребят из Садханы, и, к моему удивлению, она меня слушается. И всё же я беспокоюсь за неё, потому что, как и я, она почти не хочет выходить из дома.
Когда я готовлю бобы с рисом на ужин, не знаю даже в какой сотый раз за это лето, я слышу стук в дверь. Не глядя на гостя, я знаю, что это Вольф. Он – единственный, кто приходит к нам пешком, а не приезжает на машине, и я не слышала, чтобы автомобиль поднимался на гору.
Я избегала его после истории с Иззи и Кивой. Вовсе не потому, что это случилось по его вине. Я не могу избавиться от чувства, что то, что было с ней, могло произойти со мной – может быть, это должна была быть я, если должно было случиться такое.
Может быть, я хотела этого. Когда мы целовались с Вольфом в домике на дереве, я, наверно, позволила бы ему всё, о чём думала постоянно. Но он проявил себя джентльменом. Мы только целовались, и ещё целовались, а когда мы лежали рядом друг с другом, он не позволял своим рукам слишком увлекаться.
Но теперь я думаю, что то, что не произошло между нами, не произойдёт никогда. Что бы я ни чувствовала к Вольфу, всё это вытеснено страхом за благополучие сестры. Теперь я понимаю, что значит играть с огнём, а я не люблю рисковать. Я не из тех людей, которые гонятся за опасностями.
Я выключаю горелки на плите и вытираю руки полотенцем, сердце бьётся с глухим стуком, ожидая, что скоро я увижу Вольфа. Когда я открываю ему дверь, он выглядит лучше, чем во время последней нашей встречи.
– Привет, – говорю я.
– Давно не виделись. Где ты пряталась всё это время?
– Только тут.
– Я приезжал сюда несколько раз и стучал в дверь, но никто не отвечал.
Я равнодушно пожимаю плечами. Наверно, я пошла в лес, а Иззи ни за что не открыла бы дверь.
– Слушай, – наконец говорю я, готовясь извиняться по сценарию, который я мысленно прорепетировала. – Папа должен скоро вернуться.
– Правда?
– Я не знаю, когда именно, но он должен был увидеть пожары в новостях. Когда он вернётся, он точно не позволит мне встречаться с тобой, так что, наверно, нам просто надо прекратить видеться сейчас, пока всё не стало слишком сложно.
Под внимательным взглядом Вольфа я сомневаюсь в искренности своих слов, но я не подаю вида. Я просто смотрю на него в ответ, твёрдо решив не отступать от начатого. Глубоко внутри же я чувствую, что погибаю.
– Твой отец против парней с длинными волосами, что ли?
Я чуть приподнимаю плечи:
– Если честно, он просто вообще не разрешает мне общаться с парнями.
Я понимаю, что никогда в жизни я не звучала так неубедительно, но осознаю, что ему будет тяжело спорить с правдой.
Выражение его лица остаётся прежним. Он просто кивает.
– Я понимаю. Вы живёте в его доме и всё остальное.
– Спасибо, – говорю я, тихо радуясь, что он не стал спорить.
Он поворачивается и делает пару шагов, потом останавливается и смотрит на меня.
– Некоторым правилам лучше не следовать. Если ты когда-нибудь захочешь встретиться, ты знаешь, где меня найти.
Я закрываю дверь, грудь сдавливает тревога, сердце глупо трепыхается, будто птица, запертая в слишком тесной клетке.
Так будет лучше, я знаю. Так будет проще всего, и я сразу же облегчённо вздыхаю, когда он исчезает вниз по дороге. Но одновременно меня мучает чувство, что только что случилось непоправимое.
Изабель
Ночью, когда огонь перекинулся через Юбу, мы узнали о случившемся уже спустя какое-то время. Мы не думали, что огонь может пересечь реку, и не думали, что направление ветра может поменяться за одну ночь, и искры устремятся к нам, а не в другую сторону.
Вольф
Звуки сирен и вертолётов, подлетевших слишком близко к деревне, будят меня на рассвете. Следующее, что я замечаю – это голоса мужчин, выкрикивающих команды. В моё полусонное сознание проникает слово «Эвакуация», и, открыв глаза, я смотрю на часы на тумбочке, но вместо них теперь только чёрный экран. Я пытаюсь включить лампу, но света нет. Должно быть, электричества нет совсем.
«Огонь», - осенило меня.
Запах горящего леса теперь особенно усилился.
Я думаю о Николь и её сестре, у них нет машины, нет взрослых рядом, а сейчас, похоже, нет и электричества. Кто скажет им, что надо эвакуироваться? Я сажусь так быстро, что у меня кружится голова, и, оглядываясь, вижу, что мои сожители, Кива и Паули, начали просыпаться чуть позже, чем я. Отсыпаются, наверно, после вечеринки.
– Парни, – кричу я. – Просыпайтесь!
Кива зевает и переворачивается. Паули что-то бормочет и приподнимается на одном локте.
– Что происходит?
– Я думаю, надо эвакуироваться, пожар.
– Вот чёрт, – говорит он и выдёргивает себя из постели.
Кровать Кивы стоит рядом, Паули берётся за одеяло и стягивает его со спящего тела.
– Вставай, чувак. Шевели булками! Мы должны убираться отсюда.
Николь
Мне снится, что кто-то стучит в дверь дома, а потом я просыпаюсь и понимаю, что это не сон. До меня доносятся другие звуки издалека – мне кажется, что это стрёкот вертолётов, летающих поблизости, – и едкий запах лесного пожара, будто бы огонь полыхает прямо за окном моей спальни.
Я выпрыгиваю из кровати, чтобы узнать, в чём дело. На дороге стоит минивен Паули, рядом я вижу Киву, который смотрит снизу вверх на дом. Уже почти рассвет, и затуманенный мозг не может осознать, зачем ему быть тут. Но вдруг меня пронизывает страх.
– Открывайте! – кричит тот, кто стучит в дверь. – Николь! Иззи! Это Вольф! Надо эвакуироваться!
Мне кажется, что огню не пересечь реку. Прямо сейчас нам ничего не угрожает. Я знаю, что эвакуация – это всего лишь мера предосторожности, и ещё, что я не могу заставить Иззи сесть в один фургон с Кивой. Ни за что на свете.
Поэтому я засовываю руку под кровать, хватаю винтовку и иду в комнату Иззи. Она уже проснулась, но ещё не встала с постели.
– Что происходит? – спрашивает она.
– Ребята из Садханы стоят у нашего дома. Говорят, что надо эвакуироваться. Пожар.
– Кива? – спрашивает она.
Я смотрю на нее и киваю.
– Я скажу им, чтобы они ушли. Мы сможем позаботиться о себе.
– Нет! – говорит она. – Не иди туда. Пожалуйста. Давайте просто останемся здесь и дождёмся, когда они уйдут.
Я пытаюсь придумать самый безопасный план действий, но я не могу. Папа всегда готовился к одному при пожаре: сесть всем в хорошо укомплектованный фургон и уехать. Но здесь нет ни его, ни фургона. И я продолжаю думать: огню не пересечь реку. Это просто невозможно.
Я смотрю сквозь занавески в комнате Иззи, стараясь остаться незамеченной. Не открывать дверь, когда в неё стучат – это, безусловно, один из самых простых вариантов. У нас есть пожарная лестница возле её окна, если по какой-то причине они решили... Я не знаю... выломать дверь? Я не могу представить, как Вольф делает это, но если он думает, что мы спим, когда надо спасаться, я не знаю, на что он способен.
Он перестаёт стучать в дверь и идёт к той части дома, где мы сейчас находимся. Он глядит вверх, но я отхожу от окна, чтобы он меня не заметил. Затем он начинает кричать нам.
– Николь! Иззи! Вставайте!
Я слышу, что он, должно быть, бросил маленький камень в стену дома возле окна. Потом ещё один. Затем третий разбивает старинное стекло и приземляется у моих ног.
Иззи смотрит на меня широко раскрытыми глазами, в них ни намёка на обычную иронию. Она сидит на кровати, притянув колени к груди, похожая на маленькую девочку.
Вольф и кто-то еще – Паули, кажется, – всё ещё зовут нас снаружи. Затем они спорят о чём-то, Паули хочет уйти, а Вольф настаивает, чтобы они нас нашли. Паули замечает, что мы, возможно, уже ушли, и Вольф замолкает.
Через некоторое время я слышу, как кто-то ломится в заднюю дверь, а затем выбивает её. Я безумно рада, что одной из первых вещей, которые сделал папа после переезда, стали дополнительные замки на обеих дверях. Потом он напоминал нам использовать их каждый раз, когда мы закрываем двери. И я следую его совету. Но через минуту-две я слышу, как разбивается стекло, и сердце уходит в пятки, когда Иззи, всё ещё сидя на кровати, всхлипывает. Я думаю об окне подсобного помещения, о том, насколько оно близко к перилам, насколько легко было бы сломать стекло, разблокировать его и вылезти.
В это мгновение я понимаю, что сейчас делает Вольф, и каждая моя клеточка чувствует, как в неё вторгаются.
– Николь, не позволяй им войти сюда!
Я смотрю на Иззи, и её лицо так же бледное, как и в тот день, когда она вернулась домой от Кивы. Она – испуганный ребенок, зависящий от меня, потому что лишь я могу её защитить.
Я знаю, что винтовка заряжена, и я поднимаю её, чтобы пуля спустилась по стволу.
– Не волнуйся, – говорю я. – Не позволю.
И я спускаюсь по лестнице.
– Не входи! – кричу я, приближаясь к нижним ступеням, и просто чтобы убедиться, что они знают, что я не шучу, я делаю предупредительный выстрел в стену рядом с лестницей.
От звука выстрела из винтовки в маленьком пространстве меня оглушило, а отдача вдавила приклад мне в плечо, но я едва чувствую это, наблюдая, как облако пыли из балки и гипсовой стены осыпается с большого отверстия, которое я только что проделала. Я слышу, как Вольф ругается где-то внутри дома, а кто-то кричит ему снаружи.
Я прислоняюсь к стене на лестничной клетке, не имея возможности встретиться с ним, если он всё ещё внизу. У меня дрожат руки, потому что впервые я стреляла из оружия, чтобы напугать кого-то, и это мне кажется ещё более бесчеловечным, чем я предполагала.
Только когда я слышу, как фургон заводится и уезжает, я думаю пойти в заднюю часть дома, чтобы посмотреть, насколько близко подошёл огонь с севера. Из окна спальни родителей я вижу чёрное небо, стену дыма, так что огонь может быть на нашем участке. Так близко, что я не знаю, сможем ли мы выбраться достаточно быстро, чтобы спастись.
Вольф
Мне тяжело оставлять Николь в этом доме, но в меня никогда раньше не стреляли, и я даже не знаю, что думать о том, кто мог бы прицелиться из такого ружья и выстрелить, зная, что человек может пострадать или даже погибнуть. Я не знаю, о чём она думала, или почему это сделала, но я понял, что она хотела, чтобы я ушёл.
Это были бы пустяки, но когда дело хоть как-то касается её жизни, это серьёзно. Я пытаюсь представить себе, как её тепло может обернуться хладнокровием, даже насилием, так быстро, и всё, о чём я могу думать, это то, что она пожалела о том, чтобы позволила себе довериться мне в доме на дереве. По-видимому, она сильно пожалела об этом, даже очень.
Когда мы выезжаем на главную дорогу, я набираю номер пожарных на сотовом телефоне Паули и даю им адрес Николь, сообщая, что из дома надо эвакуировать двоих людей.
Изабель
Мне кажется, что я никогда не задумывалась о том, как хорошо иметь сестру, которая мастерски владеет пистолетом. То есть, когда я увидела, что эти парни возвращаются в фургон и отправляются, я была так рада, что заплакала, как маленький ребёнок.
Затем Ники вернулась в мою комнату и сказала, что нам нужно уходить, и я не сомневалась, что она потеряла рассудок, пока не увидела стену чёрного дыма над склоном.
Мы собираем то немногое, что помещается рюкзаках, и бежим по грунтовой дороге, из-за воздуха – тяжёлого от дыма и пепла – мы начинаем кашлять. Лёгкие и глаза пылают. Где-то на полпути к главной дороге мы слышим сирену пожарного грузовика, всё ближе и ближе, а затем видим, как на нас едет красный пикап с логотипом какого-то пожарного дежурства, и чьи-то сильные руки подхватывают нас и закидывают в кабину.
Когда мы подпрыгиваем в грузовике, движущемся по главной дороге и удаляясь от огня, последний человек, которого я ожидаю увидеть, – это наш отец, который едет в противоположном направлении – к дому, в своём грузовике. Николь тоже видит его.
– Это наш папа! – кричит она. – Надо остановить его!
Николь
Я смотрю через окно грузовика, как папу арестовывают за отказ сотрудничать со спасателями. Его лицо, загоревшее там, где он находился всё это время, ещё и краснеет от гнева, когда он спорит с офицером, который его арестовывает. Он прибыл на место вскоре после того, как обратил внимание на пожарный грузовик, на котором мы ехали, и остановил его. Он даже не понимает, что мы сидим на задних сиденьях грузовика, и мне на самом деле не хочется встречаться с ним прямо сейчас.
Меня злит не только то, что папа будет унижен и закован в наручники у нас на глазах, но и всё остальное, а особенно то, что он оставил нас справляться с множеством проблем в одиночку. Одна из таких проблем – огонь, который может уничтожить всё, что у нас есть, в любую минуту.
Я чувствую какое-то тепло и прикосновение к своей руке, и, смотря вниз, я вижу, как Иззи обхватила мою руку своей. Я не знаю, как долго это продолжалось, но я не отдёргиваю руку, потому что не могу вспомнить, когда она в последний раз прикасалась ко мне добровольно.
Полицейский сопровождает моего отца в задний отсек автомобиля, затем хлопает дверью, и через мгновение они уходят. Только теперь, в тот момент, когда они проходят мимо нас, мы с папой встречаемся взглядами через окно полицейской машины.
* * *
На следующий день после того, как мы спали на детской кроватке в комнате продлёнки в начальной школе, в которой организовали центр эвакуации, мы узнаём, что огонь не разрушил наш дом. Пожарные смогли остановить его у реки и удержать там, но мы всё равно не можем вернуться к себе, пока огонь не будет полностью под контролем. Когда папу отпустили из тюрьмы, продержав его там ночь, он везёт нас на машине в мотель в часе езды – самое близкое место, где, по его словам, он может найти комнату, когда вокруг столько эвакуированных людей.
Мы обе не радуемся ему.
Он даже не притворяется, что нашёл маму.
Он загорелый и молчаливый, плечи опавшие, я никогда раньше не видела его таким.
– Ты смотрела на огонь? – спрашивает он меня.
Я сижу у подножия кровати, которую я должна делить с Иззи, и смотрю новости по телевизору. Иззи, проведя столько времени без мобильной связи, радуется, что поймала, наконец, сигнал.
– Да, услышали по радио об эвакуации.
Мне кажется смешным то, что единственное стихийное бедствие, за которым мы не можем ухаживать дома, запасать его или защищать себя от него – это огонь. И это единственное, которое, по моим наблюдениям, может навредить нам в ближайшее время. Интересно, думал об этом ли папа.
– Я увидел пожар в новостях и вернулся, чтобы убедиться, что вы обе в безопасности.
– Куда ты уехал? – спрашиваю я, не столько надеясь его ответ, сколько задавая вопрос.
– Я поехал на юг. Я не нашёл твою маму.
– Она написала нам в письме, что подаёт документы на развод.
Он бросил на меня взгляд.
– Какие документы?
Я пожимаю плечами
– Это правда? То, что у тебя была интрижка с одним из ваших младших офицеров?
– Нет, и не суй свой нос не в своё дело.
Он хлопает ладонью по столешнице комода и направляется к двери.
Я иду за ним, потому что знаю, что он лжёт. Я не знаю откуда, но уверена, что это так.
Я больше не верю ему.
– Я знаю, что мама никогда не хотела иметь детей. Поэтому ты обманул её? Для мести, потому что она не хотела, как на конвейере, воспитывать для тебя детей?
Иззи только теперь открывает дверь комнаты и застывает на месте от света.
Он поворачивается ко мне, все шесть футов в два дюйма роста, и его ладонь ударяет меня по щеке, прежде чем я успеваю увидеть, как она приближается. Мою голову с силой откидывает набок. Качнувшись в сторону, я снова прихожу в себя и гляжу на него не моргая. Я помню, как похожая сцена разыгрывалась между мамой и папой, только тогда мама была на месте папы, и я почти смеялась над тем, что мы как-то стали семьей, в которой друг другу дают пощёчины.
Взглядом я бросаю ему вызов сделать это снова. Иззи нервно смотрит то на меня, то на папу.
Моя щека пылает, вероятно, ярко-красная с отпечатком его ладони.
– Она правильно сделала, что сбежала от тебя, – говорю я, не уверенная до конца в правильности своих слов.
Я просто хочу причинить ему боль или посмотреть, могу ли я сделать это. Думаю, он снова ударит меня, но вместо этого он поворачивается и идёт в ванную, захлопнув за собой дверь.
Когда я смотрю на Иззи, её уже нет в дверях. Её нигде нет.
Лоурель
Все могут вернуться в деревню через четыре дня после эвакуации. Направление ветра переменилось, и пожар Оазис-Ридж, расположенный по соседству с нами, по сообщениям спасателей, полностью потушили. Я пытаюсь представить, куда бы я пошла, если бы деревня сгорела, но не могу. Теперь я точно знаю, что не хочу находить своих родителей, но я не ощущаю и готовности к самостоятельной жизни.
Когда я вижу, что Анника, сильно напрягаясь, тащит большую коробку во дворе, я окликаю её и бегу помогать.
– Тебе помочь? – спрашиваю я.
– Ты не могла бы просто придержать дверь на общий склад, пока я её заношу? - спрашивает она, и я спешу открыть перед ней дверь.
– Отправляешь кому-то подарок?
– На самом деле я отправляю кое-какие свои вещи в Берлин, – говорит она, проходя мимо меня на склад.
Я хочу спросить зачем, но она разговаривает с сотрудником склада и просит форму заявления для таможни. Я жду, пока она заполняет документы и указывает адреса, а затем я иду с ней обратно.
– Я хотела поговорить с тобой, – говорит она, когда мы снова одни.
Моё глупое сердце слегка подпрыгивает.
– Да?
– Я думаю, что, может быть, огонь, который прошёл так близко, - это знак, понимаешь? Он как моя зависимость. Если я не образумлюсь, я уничтожу всё.
– Но ты же будешь вести себя осторожно, верно? Ты же не пьёшь.
Она мягко обхватывает меня одной рукой за талию и ведёт меня рядом с собой.
– Не пью – громко сказано. Знаешь, просто здесь тяжело. Так много соблазнов, старых привычек, старых друзей. Я не знаю, смогу ли я держаться дальше. Я молилась о том, что мне делать.
Опять молится.
– Помогло?
– Мне кажется, что огонь был Божьим ответом на мои молитвы. Я думаю, он говорит мне, что я должна уйти, если я хочу спастись.
– Уйти куда?
– Куда угодно, но я всегда хотела жить в Берлине, поэтому, я думаю, что поеду туда.
Мне нечего сказать. Я потрясена. Я не могу представить, что Анника никогда не вернётся в Садхану. Это равносильно тому, что солнце никогда не вернётся на небо. Без этого всё теряет смысл.
– Но…
– Сначала я хотела поговорить с тобой, – говорит она, – потому что я боюсь, как Вольф воспримет эту новость. Ему нужна будет поддержка друзей.
– Да, – говорю я, но на самом деле не слушаю, потому что голова занята своими мыслями. А что будет со мной?
– Ты думала взять его с собой? – спрашиваю я, вместо того, чтобы сказать, что я хочу поехать с ней.
– Я собираюсь предложить ему, конечно, – говорит она. – Просто я не думаю, что ему понравится эта идея.
– Могла бы понравиться, – небрежно говорю я.
– Я говорила об этом с Хелен, и я знаю, что она думает, что я должна остаться здесь, по крайней мере, до тех пор, пока не Вольф не окончит школу, но просто не знаю, выдержу ли.
– Хелен знает, о чём говорит, – говорю я. – Может быть, вам стоит её послушать.
Она останавливается и поворачивается, чтобы обнять меня.
– Ты мне очень дорога, понимаешь. Как дочь.
Я таю в её объятиях, на глаза наворачиваются горячие слёзы. Я хочу так много всего сказать. Я хочу вцепиться в неё и сказать ей, что она для меня - весь мир, но вместо этого я просто закрываю глаза и вдыхаю её запах – смесь лаванды и пчелиного мыла.
– Я поеду с тобой, если он не согласится, – наконец говорю я.
– Но как же твои планы? – говорит она. – Я хочу, чтобы ты осуществила их, ты же знаешь.
Я слушаю её слова, будто она, как мама, даёт мне настоящий мудрый совет.
Я возвращаюсь в свою комнату, облегчённо вздыхаю от того, что нет соседей, и ложусь на кровать, я слишком потрясена, чтобы плакать, мне слишком грустно, чтобы двигаться. Я думаю о том, что Анника уходит, о её совете, и я чувствую странное чувство, что поступлю именно так, как она мне сказала. Я не знаю, как долго я лежу, когда слышу стук в дверь. Открыв её, я вижу Изабель.
Она спрашивает, могу ли я подбросить её до города. Я не спрашиваю, зачем ей туда надо. Я уже решила, что поеду туда, чтобы осенью записаться на начальный курс университета, и меня раздражает мысль, что поеду выполнять эту особенно удручающую задачу в одиночку. Я всё ещё думаю, что появится более привлекательная возможность, но сейчас я сделаю то, что Анника сказала мне сделать. Записаться в университет, планировать будущее, подходить ко всему с умом. Последнего совета я от неё никак не ожидала.
Когда Иззи идёт за мной к машине и садится на пассажирское место, я вижу у неё в руках сумку.
– А в сумке что? – спрашиваю я.
– Да так, ничего. Просто вещи.
Я знаю, что это далеко от правды, но я не настаиваю и выезжаю через ворота из Садханы на главную дорогу. Она поправляет волосы, смотрясь в зеркало.
– Куда именно тебя подбросить? - спрашиваю я, потому что она ничего не говорит.
– Просто в город, останови, где будет угодно.
– Ты что, сбегаешь?
Я оглядываюсь и встречаю виноватый взгляд.
– Ты не представляешь, что творится у меня дома. Папа с ума сошёл. Я не могу здесь оставаться.
– И куда ты направляешься?
– В Лос-Анджелес. Я знаю, что могу работать моделью или кем-то ещё. У меня есть деньги.
– Это самый глупый план, который я когда-либо слышала, – говорю я, останавливая машину на обочине дороги.
Я не знаю, почему мне даже хочется проследить, что сделает или не сделает эта неразговорчивая девочка. Может быть, она немного напоминает мне себя.
Когда я начинаю разворачиваться и поехать обратно, она кричит:
– Что ты делаешь?
– Везу тебя в Садхану, так что просто успокойся.
– Я не хочу туда, понятно? Просто высади меня, я поймаю другую попутку.
– Ты собираешься ехать автостопом до Л.А.?
– Нет, только до автовокзала Грейхаунд.
– Поговори, пожалуйста, с кем-нибудь, прежде чем что-либо делать.
– Я не буду говорить с Кивой. Я не хочу его видеть.
– Не с Кивой, конечно.
– Ты, разумеется, не собираешься говорить со мной об этом.
Она скрещивает руки на груди и всматривается в лобовое стекло.
– Нет. Тебе же нужен хороший совет, а мне нечего предложить.
Через пять минут я провожаю её в кабинет Хелен, в самом спокойном конце деревни. Среди моих знакомых только она может образумить глупого подростка, даже если ей никогда не удавалось образумить меня. Она заслужила моё уважение, когда пыталась убедить Аннику остаться здесь. Я стучу в дверь к Хелен, и когда она открывает, я объясняю ситуацию. Иззи смотрит на меня, будто хочет меня убить.
Но стоит Хелен раз успокаивающе улыбнуться и сказать несколько добрых слов, и я знаю, что она остынет.
– Мне пора, – говорю я и оставляю Иззи в более ответственных руках, чем мои.
Теперь, когда я сделала доброе дело, свой первый поступок ответственного взрослого человека, мне интересно, что будет дальше. Университет? Работа? Пенсия? Двое детишек и муж?
Возможно, всё будет и не так, но я уже не пугаюсь той неизвестности, которая кроется за тем, чтобы сделать небольшой шаг вперед и посмотреть, что произойдёт.
Я не та девушка, которую видит мир. Я не та, за кого все меня принимают.
Я даже не знаю, кто я такая, но, может быть, я готова узнать это.
Когда я возвращаюсь к машине, то вижу, как Анника шагает по каменистой дорожке, вдалеке от меня, полы юбки закручиваются вокруг лодыжек, волосы сияют на вечернем солнце, а у меня сердце сжимается от тоски, которая, теперь я знаю, никогда не исчезнет. Или, может быть, когда-нибудь я перестану её замечать.
Затем я сажусь в машину и еду подавать документы в университет.
Глава 16
Изабель
Так как мама ушла, а папа вёл себя так, будто конец света, наконец, наступил, а он оказался к нему совершенно не готов, нам с Николь удалось уговорить его на одну вещь. Теперь он не против того, чтобы мы учились в институте в городе. Может быть, это не похоже на великое достижение, но поживи в нашем доме в режиме 24/7 и сам увидишь, как тебе захочется прыгнуть в жёлтый школьный автобус и умчаться в обычный американский институт.
На самом деле он согласился только потому, что ему не хотелось самостоятельно заниматься нашим образованием. Это, по словам папы – женское занятие.
Неважно.
Теперь я новенькая, прогуливаюсь по шумным коридорам, заполненным людьми, и чувствую себя кинозвездой в собственном фильме об институтской жизни. Точно так же я себе всё представляла, намного лучше, чем в средней школе. Я пробегаюсь взглядом по номерам аудиторий, пытаясь найти ту, в которой будут проходить подготовительные занятия. Когда я нахожу свой кабинет, я вижу там на первом ряду симпатичного парня. Он поднимает на меня взгляд, и я отворачиваюсь.
Я пообещала себе, что больше никаких парней, по крайней мере, в ближайшее время. Я не знаю, как справиться со всеми впечатлениями от того, что произошло между нами с Кивой, но я знаю, что у меня есть время, и ещё я уверена, что мне не надо больше быть такой наивной. Я думаю о Хелен, той женщине, к которой я приходила и с которой разговаривала ещё пару раз. Она предложила мне свои услуги терапевта, или вроде того, бесплатно, и мне нравится общаться с ней.
Николь было не на руку, чтобы я пошла в институт, но она не устраивала из-за этого сцен. Она молча ехала со мной в автобусе этим утром, наверно, ей стало легче от того, что мне надо было уехать от папы.
После того, как вернулся, он, как зомби, постоянно чинит сломанные вещи в доме. Их список слишком большой, чтобы утверждать, что он много оттуда сделал.
Он не говорит о маме, но пару дней назад мы получили от неё другое письмо, в котором она сообщает, что поступила в университет в Дейвисе всего пару часов назад. Она написала, что записалась волонтёром в Медицинский Институт Исследований Неврологических Расстройств и надеется когда-нибудь устроиться там на работу. Она изучает что-то вроде прикладного поведенческого анализа, и теперь она на самом деле кажется счастливой и довольной всем этим – работой с кричащими детьми и прочим. Приглашения нет, ну и ладно. Мне кажется, то, что она счастлива, это замечательно, и она сказала, что скоро сможет приехать к нам и забрать нас на выходные, остановившись где-нибудь пожить.
Кажется, папа не замечает и того, что Николь больше не слушается его. После того, как он ударил её, она так и не говорила с ним по-нормальному, ограничиваясь самыми элементарными словами.
Такой – своевольной, открытой с другой стороны – Николь нравится мне намного больше. Мне не стыдно быть её сестрой, особенно после того, как она проделала дыру в стене, только чтобы отпугнуть Киву и остальных парней и защитить меня. Такой сестрой я даже могла бы немного гордиться, если бы она одевалась поприличнее.
Вольф
Анника находит меня, когда я вожусь в курятнике с курами, которые ищут жуков и выдергивают ростки редко попадающейся зелени, пробившейся из-под земли. Теперь, когда они уже склевали все крошки от моего бутерброда, которым я перекусил, они потеряли ко мне интерес, и я могу наблюдать за их глуповатыми неуклюжими движениями. Она проезжает мимо и замечает, как я сижу в окружении трёх кур породы Плимутрок, красивых птиц с чёрно-белым, будто тщательно подстриженным оперением. Она направляет машину к обочине просёлочной дороги, желудок у меня проваливается куда-то вниз, когда она глушит двигатель.
Она целенаправленно идёт ко мне, полы белой юбки обвиваются вокруг лодыжек, волосы собраны в пучок. Благодаря солнечным очкам, у меня не возникло чувства приближающейся ссоры.
– Вольфик, – зовёт она. – Я искала тебя, и вот ты тут с курами.
Я ничего не отвечаю, просто смотрю, как она открывает калитку и поднимает подол юбки, чтобы пройти через двор. Через несколько секунд она садится рядом со мной на траву и вздыхает.
– Мне кажется, что ты прячешься от меня, - говорит она.
– Неправда.
– Завтра снова в школу, да?
Я пожимаю плечами. Переходным годом называется выпускной год в Школе Всемирного Спокойствия. Переход во взрослую жизнь, какой бы она ни была. Я не могу представить, чем он так ценен, после такого безумного лета.
– Ты же собираешься?
– Я не знаю.
– Может быть, стоит сменить обстановку. Я думаю о том, чтобы поехать в Германию. Ты хочешь поехать со мной?
От удивления я не знаю, что сказать. Анника никогда не показывала бурного горячего желания вернуться в родную страну. По моим наблюдениям, она настолько американка, насколько немка способна ей стать.
Мне интересно, поедет ли её парень, но я не решаюсь спросить.
– Почему? – в итоге выпаливаю я, так как в горле у меня будто застрял ком.
– Почему я собираюсь поехать в Германию или почему я приглашаю тебя с собой?
– И то, и другое.
– Пока я была в реабилитационном центре, я встретила человека. Он пригласил меня жить у себя в Берлине.
– Ты встретила кого-то, и это не Марк, на лечении?
– Мы с Марком не так хорошо подходим друг другу. Он понимает.
– Так что ты спрашиваешь, хочу ли я поехать и жить с тобой и каким-то незнакомым мне типом в Берлине?
– Ты можешь съездить и решить сам, захочешь ли ты остаться там или вернуться сюда.
– Нет, – отвечаю я, не давая себе даже подумать о такой ситуации.
Очередной глубокий вздох. Пару секунд она не произносит ни слова, а самая дерзкая курица в загоне, Лулу, подходит ближе и клюёт меня в ногу.
– Дело в том, что здесь мне сложно оставаться трезвой. Я думаю, в Берлине будет легче, когда мой приятель тоже не пьёт.
– Так тебе будет лучше.
– Я думаю, что не должна ехать без тебя. Я всё ещё твоя мама, ты же знаешь.
– Спорный вопрос, – фыркаю, хотя я даже не подумал о жестокости тех слов, которые срываются у меня с языка.
– Ты имеешь полное право злиться.
– Здорово.
– Я хочу сказать, что собираюсь поехать, но не желаю ехать без тебя.
– Ты собираешься силой тащить меня в Германию?
Она опять замолкает, её взгляд перебегает с горизонта на меня и обратно.
– Я не поеду без тебя. Я останусь здесь.
– Не надо, пожалуйста. Только не из-за меня. Мне одному здесь будет хорошо.
– Меня не было рядом с тобой год, Вольф, и я вернулась, чтобы увидеть тебя, каким бы ты ни был, главное, живым.
Я начинаю подниматься, потому что мне уже надоело слушать её любительский анализ моей психики, но на какое-то мгновение она хватает меня за руку и останавливает.
– Мы ещё не закончили, – говорит она голосом наставника, который от неё редко услышишь.
Я плюхаюсь обратно, обхватываю руками колени и смотрю прямо перед собой, чтобы не встречаться с её многозначительным взглядом.
– Ты не можешь закрыться от всего мира. Это плохо заканчивается. Твой папа так сделал.
Сравнение меня с папой – это совсем не то, что я ожидал услышать сейчас.
– Существует огромная разница. Он накачивал себя наркотиками. А я нет.
– Рада, что ты так не делаешь. Ты сильнее, чем он, сильнее, чем я. Ты же знаешь, я горжусь тобой.
Мне становится неловко, но тут мне приходит в голову мысль. Может, она действительно решила принять обет трезвости на этот раз?
Может, она действительно говорит то, что думает?
Когда смотрю на Аннику, я вижу ту же женщину, которую всегда знал. Я прожил с ней жизнь, пытаясь спасти её от себя самой, пытаясь защититься от неё самому, но не сильно преуспевая в обоих делах.
– Я знаю, что сложно доверять зависимому человеку, Вольф. Я знаю, что никогда не давала тебе серьезного повода доверять мне, так что ты правильно делаешь, когда относишься ко мне с опасением. Но я не хочу бросать тебя снова.
Она говорит последние слова, будто бы она только сейчас осознала, что так всё и есть на самом деле. И я не знаю, достаточно ли этого для изменений.
– Решать тебе, – говорю, а в горле пересохло настолько, что я едва выдавливаю из себя звуки.
Она кладёт руку мне на плечо, и на этот раз я не убираю её.
* * *
Когда удушающая августовская жара продолжилась и в сентябре, никто не удивился. В воздухе всё ещё витает лёгкий запах дыма, хотя пожары более-менее удалось сдержать на севере. Иногда ночью дым настолько сгущается, что я всё ещё не могу спать в доме на дереве.
Меня тянет наружу, поэтому я столько брожу по тропинкам вокруг Юбы или вдоль её берегов, которые не задел огонь, сколько могу. Я плаваю в одиночестве, думая о Николь, о том, придёт ли она когда-нибудь к реке, чтобы отыскать меня.
А если она придёт, возьмёт ли она с собой ружьё?
Что она сделает? Как я отреагирую я на это?
Я представляю себе её такой, какой она была, когда целовала меня в домике на дереве, – бесконечно спокойной, как она раздевается и прыгает в ледяную воду за мной, но едва мой мозг начинает думать об этом, как сразу же прекращает, потому что действительно не хочет узнать продолжение. Что-то со мной явно не так, потому что я не могу мечтать о девушке, но всё дело в том, что не хочу мучить себя вещами, которых у меня нет. Я боюсь, что, если позволю себе желать Николь, по-настоящему желать её, ничто другое не сможет утолить мою страсть.
Я хочу прийти к ней, но не иду. Я понимаю, что после возвращения отца мой приход обернётся для неё только проблемами. Я прислушиваюсь, и до меня доносятся звуки выстрелов вдалеке, от которых я неизменно вздрагиваю. Стрельба, не сомневаюсь, идёт с их участка, потому что этот звук появился только после их приезда и редко когда раздавался раньше.
Я плаваю, пока терпеть холодную воду я больше не могу ни секунды, тогда я выхожу на берег и растягиваюсь на тёплых скалах у реки, подставляя тело жгучим лучам. Я ведь решил вернуться в школу – не для того, чтобы нагнать выпускной год, о котором я вспомнил в последний момент, – но я заставляю себя задуматься о выпускном проекте, который должен быть чем-то вроде итога всего того, чему я научился за школьные годы. Я изучаю жизнь местных пчёл. Последние два года я высаживаю растения, благоприятно влияющие на пчелиную популяцию, и призываю остальных к этому же. Теперь мне надо собрать данные, отражающие плоды моих стараний, оформить их в исследовательской работе, сделать выводы, учитывая всё факторы, которые могли бы повлиять на результаты, а факторов предостаточно. Лесные пожары, например. Мигрируют ли из-за них пчелы в другое место?
Хруст щебня от чьих-то шагов привлекает моё внимание, я сажусь, и не могу поверить в то, что открылось моим глазам.
С холма по тропинке спускается Николь. Она движется так же естественно, также не подозревая о своей грациозности, как она двигалась, когда я впервые её увидел. По животу растекается тепло нетерпения. Я не знаю, видит ли она меня отсюда, потому что она смотрит под ноги, чтобы не упасть, но у подножия она понимает взгляд и направляется ко мне.
Николь
Когда я не нашла Вольфа у дома на дереве, угадать, где он мог бы быть в такой жаркий день, как сегодня, не составило труда. Сверху, под прикрытием деревьев, я смотрю, как он плавает, его обнажённый торс блестит на солнце. Слишком яркие воспоминания о прикосновениях к его коже, его тепло и запах – это всё, что мне надо, когда мы рядом.
Я не знаю, чего я жду. Я пришла, чтобы поговорить с ним, но я не знаю, что ему сказать.
Наконец, когда он лежит на солнце на берегу реки, я собираю волю в кулак, чтобы пойти к нему и уже там сказать то, что придёт в голову.
Я не уверена даже, захочет ли он меня видеть после того, как я прогнала его месяц назад и пробила в стене дыру, чтобы отпугнуть его.
– Эй, – окликаю я его, подойдя достаточно близко, чтобы меня было слышно за гулом потока.
– Сама ты эй.
Плотные пряди мокрых волос обрамляют его лицо, делая его ещё более прекрасным, чем обычно. Сначала я не могу подобрать слова, поэтому я сажусь рядом с ним и смотрю на воду.
– Пришла поплавать?
– Нет, но сейчас, когда я уже тут, это звучит привлекательно.
– Я по тебе скучал.
Я смотрю на него, подозревая, что он шутит, но он говорит серьёзно.
– Папа вернулся, – говорю я.
– Я знаю.
– Это было ужасно.
– Ты в порядке?
– Да, – говорю я, и это правда. Мне становится лучше.
– Что с мамой?
– Думаю, что она правильно поступила, уехав от нас. Это похоже на безумие, что ли. С какой-то точки зрения это – верный шаг.
Я рассказываю ему о родителях, о том, какие они разные, о конце папиной карьеры, о решении мамы уехать, пока не поздно. Раскрыв все карты, я чувствую, что в этом нет ничего постыдного. Просто такова жизнь. Неприятности случаются, а ты из них выпутываешься.
Вольф, сидящий рядом, молчит, он из тех людей, которые слушают всем своим существом. Ему не надо издавать звуки, которые делают другие, чтобы показать, что они слушают, потому что и так ясно, что всё его внимание сосредоточено на мне.
Это его качество, как и все остальные, убеждает меня в том, что он один из тех редчайших людей, которых я когда-либо встречала, из тех экзотических, вымирающих видов.
– Так твой папа смирился с тем, что твоя мама уехала, чтобы спасти всех?
Я усмехаюсь.
– Насколько маме сейчас хорошо, настолько папе – плохо.
Какое-то время мы оба молчим. Ястреб парит над нами и приземляется на ветку дерева поблизости, а мы смотрим, как он останавливается на пару мгновений, потом вновь взлетая и улетая за реку.
– Слушай, – начинаю я. – Мне жаль, что так вышло во время эвакуации.
– В меня тогда впервые в жизни стреляли.
– Я не стреляла в тебя. Я стреляла в стену. Чтобы отпугнуть тебя.
– Зачем?
Потом я рассказываю ему о том, что произошло между Иззи и Кивой, что она ни в коем случае не могла сесть в ним в автобус и уехать.
Вольф слушает, а его молчание так ощутимо, будто кто-то третий сидит рядом с нами. В итоге он произносит:
– Вот бы ты сказала мне это раньше. Этот проклятый идиот…
– Не говори ничего, пожалуйста. Она просто хочет идти дальше, и мне это кажется единственным выходом. Ладно?
Пару мгновений он молчит, а потом кивает.
– В любом случае, хотя папа съехал с катушек из-за маминого ухода, он разрешил нам ходить в школу в городе, и всё стало немного налаживаться с началом учебного года. Он ремонтирует дом, а мы весь день проводим вне дома.
– Как тебе школа?
– Я думаю, что тебя там не хватает.
Он странно на меня смотрит, будто бы не понимает, серьёзно ли я говорю или шучу.
– Думаю, нашу школу ты даже не рассматривала? – спрашивает он.
Я смеюсь.
– Не в этой жизни. Но она хорошая. Иззи всегда мечтала о нормальном институте, так что её мечта сбывается, а я просто рада быть подальше от дома.
– У Иззи тоже всё в порядке?
Я призадумалась. Мы никогда не общались с Иззи так тесно, но за последнее время отношения между нами потеплели. Она со мной разговаривает. Спрашивает и просит совета. Будто бы, раз мамы нет рядом, я – тот единственный человек, которому она может доверять.
– Да, в порядке. Не то, чтобы она такая же бесстрашная, как раньше, но институт пошёл ей на пользу. Она с удовольствием уезжает из дома, от папы и проводит весь день с обычными ребятами.
Я знаю, что он думает о том, что произошло в сарае и как сильно это могло её потрясти, но он больше ничего не говорит по этому поводу, и я ему благодарна. Свой рассказ я заканчиваю тем, как я могла бы защитить её, и размышляю обо всём том, что пошло не так.
Я думаю, что, в конце концов, мы поняли, что способны пережить всё, что бы на нас ни обрушилось, по-другому. Без папиной помощи.
– Хочешь поплавать? – спрашивает Вольф, и я вижу, как он потягивается и встаёт.
– Конечно, – говорю я, осознавая только теперь, что я не взяла купальник. На нём только пара чёрных боксеров.
Я снова пытаюсь представить, что бы сказал папа обо всём происходящем, и в минуту высочайшего откровения я понимаю, что это ничего не меняет. Для меня это никогда больше не будет ничего значить. Он не тот, перед кем я должна ещё когда-то отчитываться. После того, что случилось этим летом, я ни перед кем не отвечаю, кроме себя. Он может вышвырнуть меня пинком из дома, если захочет.
Я всё равно найду способ выжить.
Я тоже встаю, и, не думая о том, что делаю, снимаю джинсы, майку и остаюсь только в трусиках. На мгновение я ловлю взгляд Вольфа, который не могу расшифровать. Что там? Может, любопытство?
Неважно.
Я иду к воде и, не привыкая к температуре воды, не колеблясь, я просто иду, пока не оказываюсь по колено в воде, а потом ныряю. От воды, как от электрошока, от её ледяного холода, от непередаваемого чувства облегчения перехватывает дыхание. Я ныряю с головой и рывком выплываю на поверхность, жадно ловя воздух.
Когда я оборачиваюсь, Вольф стоит прямо за мной, уже промокший, он улыбается и смеётся.
– Если ты побудешь тут всего минуту, то привыкнешь к холоду, – советует он.
Я снова ныряю, а когда я поднимаюсь за глотком воздуха, он стоит чуть ближе, на расстоянии вытянутой руки.
Воздух за последние полчаса усилился, и небо над нами, которое было пепельно-серым от дыма пожаров, посветлело, стало кристально-голубым, впервые за последнее время.
Я тянусь и беру Вольфа за руку. Я не знаю, о чём я думала, когда делала это, но, когда мы соприкасаемся, я знаю. Я притягиваю его ближе, пока он не оказывается прямо передо мной, кожа наших мокрых холодных тел соприкасается. И я целую его.
Это лучшее, что я когда-либо испытывала. Мне в голову приходит мысль, что вкус еды раскрывается гораздо ярче, когда ты действительно неподдельно голодный. Может быть, между нами происходит что-то подобное.
Я действительно и неподдельно истосковалась по этому.
Его руки скользят по моей талии, и я исчезаю во вкусе его губ, его прикосновении к моей коже. Я обёрнута в объятия единственного в мире человека, которому я могу полностью доверять.
Я чуть-чуть отстраняюсь, чтобы перевести дыхание, и ловлю его настороженный взгляд.
– Ты всё ещё в порядке? – спрашивает он.
– Я больше, чем в порядке.
Холодное прикосновение потока стало теперь нежным, желанным, хотя от него немеют пальцы. Мне так много хочется сказать, но ни одна мысль не приходит в голову. Остаётся только надеяться, что моё молчание говорит о многом.
– Я скучал по тебе, – говорит он.
– Да?
– Да.
– Я тоже скучала по тебе, – говорю я. – Я кое-что поняла, пока пыталась держаться подальше.
– Что ты не можешь жить без меня?
Я улыбаюсь.
– Я поняла, как сильно мне нравится быть рядом с тобой.
Он снова целует меня, на этот раз медленно, растягивая каждое мгновение. Где-то в вышине кричит ястреб. Нещадно палящее солнце согревает наши обнажённые тела, а мы в этот момент самые счастливые создания в этом лесу. Мы часть каждого живого организма, что нас окружают, и мы сами целый мир внутри нас.
КОНЕЦ
Notes
[
←1
]
В англоязычных источниках имя Maly означает blossom «цветение». (Прим.пер.).
[
←2
]
Организация Анонимных алкоголиков. (Прим.пер.).






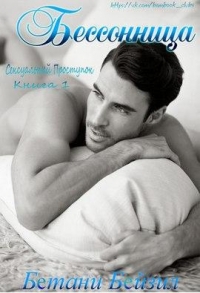
Комментарии к книге «Инструкция на конец света», Джейми Каейн
Всего 0 комментариев