Мужская верность (сборник)
© Токарева В. С., 2000, 2002
© ООО «Издательская Группа «Азбука-Аттикус», 2016
* * *
Своя правда
Марина
Ее жизнь была проста и сложна одновременно. Впрочем, как у каждого человека.
Марина Ивановна Гусько родилась в простой русской семье, в городе Баку. Баку – в те далекие советские времена – интернациональный город, объединивший все народы, живущие в мире и братстве.
Жизнь протекала во дворах.
Маленькая Марина играла с соседскими детьми – Хачиком, Соломончиком, Поладом и Давидом. Приходило время обеда, из окон высовывались мамы и бабушки и звали детей, каждая со своим акцентом. И все было привычно. Иначе и быть не могло.
Марина любила бегать к морю и залезать с мальчишками на нефтяную вышку, на самый верх. Это было опасно. Дети могли легко сорваться, разбиться, соскользнуть в смерть. Они не осознавали этой опасности. Дети.
Родителям было не до Марины. Она сама формировала и сама заполняла свой день. Набегавшись, возвращалась домой, спала без задних ног. При этом задние ноги были грязные и в цыпках. Однако – детство, начало жизни, ее нежное сияние. Марина любила постоянно орущую мать, постоянно дерущегося брата. Любят ведь не за что-то. Просто любят, и все.
Марина училась на три и четыре. По пению – пять. Она хорошо пела – сильно и чисто. Ее всегда ставили запевалой. Она становилась впереди хора, исполняла запев. А хор подхватывал – припев. Какое это счастье – стоять впереди всех и петь индивидуально…
Марина окончила школу и поступила в педагогический институт. Учитель – это всегда хорошо. Почетно и сытно.
Марина видела своими глазами, как азербайджанские родители таскали учителям корзины с продуктами: домашние куры, фрукты, зелень. Учителя в ответ ставили нужные отметки. Зачем глубинные знания восточным девочкам? После школы выйдут замуж, будут рожать детей. Математика понадобится только для того, чтобы считать деньги на базаре. А русский может не понадобиться вообще.
Марина помнила заискивающие лица родителей и учеников. Ей это было по душе: держать в страхе и повиновении. Как Сталин всю страну, но в более мелком масштабе.
Марина хотела властвовать. Так она побеждала комплексы униженного детства.
В студенческие годы у нее было одно платье. Вечером стирала, утром гладила. Но даже в этом одном платье в нее влюбился Володька Сидоров из политехнического института. Они познакомились на танцплощадке.
Прежде чем пригласить Марину, Володька заслал к ней своего друга Бориса – спросить: пойдет ли она с ним танцевать?
Борис – высокий красавец, подошел к Марине, у нее сердце всколыхнулось. Она готова была упасть в его руки. А оказывается, Борис просто спросил: пойдет ли она танцевать с его другом?
– А где он? – разочарованно спросила Марина.
Володька приблизился – коротенький, широкоплечий, как краб. Не Борис, конечно. Но и не урод. Почему бы не потанцевать? Мог бы и сам подойти.
На другой день они отправились в кино. Володька в темноте взял ее руку. Марина хотела в туалет по малой нужде, но выйти среди сеанса было неудобно. Она терпела, мучилась, и Володькина нежность не производила должного впечатления.
После сеанса отправились в парк. Володька прислонил Марину к дереву и, нажимая на ее тонкий девичий стан, стал впечатывать свои губы в ее губы.
Современная девушка сказала бы запросто: отойди на пять шагов и отвернись. И через десять секунд жизнь приобрела бы совсем другие краски. Но девушки пятидесятых годов – это другое дело. Мальчик не должен знать, что в девушке скапливается моча, – это стыдно. Они вообще Дюймовочки, рожденные в цветке.
Короче говоря, Марина описалась в тот самый момент, когда Володька ее целовал. Было темно, ничего не видно, только слышен шум падающей струи.
Володька повертел головой на короткой шее и спросил:
– Что это?
Марина тоже повертела головой, как бы прислушиваясь, и спросила:
– А где это?
Потом она быстро увела Володьку от этого дерева к другому и целовалась с другим настроением, полностью участвуя в поцелуе, изнывая от томления. Единственное – тормозила его руки, когда они соскальзывали ниже талии.
Вечером опять пришлось стирать платье. Володька ничего не заметил в тот раз. А если бы даже и заметил – легко простил. Его ничто не могло свернуть с пути познания Марины, ее тепла, ее запаха и тайных тропинок. Он хотел познавать – дальше и глубже, и долго. Всегда.
Они поженились.
Мать рассказывала соседям: как ни придешь, всегда лежат. И это правда.
Через девять месяцев у них родился ребенок. Мальчик. Хорошенький, со светлыми кудряшками, как Ленин в детстве.
У Марины – сессия, ребенок – в яслях. Придешь забирать – он мокрый по горло, простуженный, недокормленный. Голова идет кругом: не знаешь, за что хвататься – за пеленки или за конспекты? В зеркале Марина натыкалась на свое серое лицо с синяками под глазами. Хотелось лечь и ни о чем не думать, заснуть летаргическим сном. Володька не помогал, у него одно на уме. Марина подчинялась с обреченностью овцы, но, даже занимаясь любовью, думала о том, где взять денег, что сварить на завтра, как сдать экзамен.
Принято считать, что материнство – счастье. Счастье – когда есть деньги, есть помощники. Когда есть все, и ребенок – ко всему.
А когда нет ничего, сплошные нагрузки, то ты уже не человек, а лошадь под дождем.
Прошло десять лет.
Володька после института работал на заводе маленьким начальником. Шум, грохот, пьяные работяги. Трезвыми они бывали до обеда, то есть до двенадцати часов. А после двенадцати – святое дело. И Володька с ними. Но меру знал. Его уважали.
На работе Володьке нравилось. Он вообще любил работать. Ему было интересно в процессе. Конечная цель определена, и каждый день – продвижение к цели.
А дома – скучно. Марина вечно чем-то недовольна, вечно ей мало денег. Сын постоянно что-то требует: то катай его на спине, то учи уроки, то играй в прятки. А Володька устал. Какие прятки… Он предпочитал лечь на диван и уснуть.
Он так и поступал. Газету на лицо – и на погружение.
Появлялась Марина и начинала дергать вопросами, как рыбу за крючок. Володька всплывал из своего погружения, разлеплял глаза. Ну не может он приносить больше, чем ему платит государство. Не может он идти в гости, ему там скучно. Он может работать и спать. Да. Такой у него организм.
Противоречия со временем не рассасываются, а усугубляются. Марина в знак протеста игнорировала супружеские обязанности, отказывала в жизненно необходимом. И все кончилось тем, что у Володьки появилась любовница – армянка. Марине передали: с волосатыми ногами. Раньше он приходил домой, ел и спал. А теперь – приходил, ел и уходил. Спал у армянки.
Начались скандалы на новую тему. Раньше было две темы, теперь стало три.
Марина решила гнать неверного мужа из дома, но мать сказала:
– Ты что, сошла с ума? Кто же отдает родного мужа в чужие руки?
Марина задумалась. Ей стало обидно, что Володька – ее, и только ее, – вдруг нашел другие ноги, глаза, не говоря об остальном.
Марина работала в школе, в младших классах. Проверка тетрадей съедала все свободное время.
В учительской активно обсуждали ее семейную ситуацию. Марина поделилась с подругой, географичкой, а то, что знают двое, – знает свинья. В песне поется: «Мне не жаль, что я тобой покинута, жаль, что люди много говорят…»
У Марины было чувство, что она голая стоит посреди учительской, а все ходят вокруг нее кругами и рассматривают с пристрастием. Было стыдно, холодно и одиноко.
Большинство коллектива держало сторону Марины: самостоятельная, в порочащих связях не замечена, прекрасный специалист. Дисциплина в классах – как в армии, учебный процесс обеспечен. И закон на ее стороне: штамп в паспорте, ребенок. Семья. А армянка – кто такая?
Но были и сторонники армянки. Говорили, что, как всякая восточная женщина, армянка беспрекословно подчиняется мужчине, не задает лишних вопросов, не критикует, упаси бог. Только вкусно готовит и подчиняется. Ну и отдается с большим энтузиазмом. Всю душу вкладывает. И опять же – южный темперамент. Ну и глаза – большие и бархатные. У всех южных людей большие и красивые глаза. Вырисовывался привлекательный образ: красивая, кроткая, покорная, темпераментная… Володьку можно понять.
Марина пригорюнилась. Что делать?
Укреплять семью, дружно посоветовали в учительской. Родить второго ребенка. Ребенок привяжет. И опять же алименты. На двоих детей – тридцать три процента. Зачем армянке алиментщик? Армяне умеют считать деньги. А если родится девочка, Володька вообще никуда не денется. Отцы любят девочек как ненормальные.
Сказано – сделано. Марина изловчилась и зачала ребенка. А через девять месяцев родилась девочка. Назвали Снежана. Имя – нежное, нерусское. Марина предпочитала все нерусское, это называлось «преклонение перед Западом». Хотя скоро выяснилось, что Снежана – болгарское имя. Курица – не птица, Болгария – не заграница. Лучше бы назвали Мария, международный стандарт. Но Снежана осталась Снежаной, сокращенно – Снежка. Это имя ей очень шло.
Володька ходил задумчивый, но образа жизни не поменял. После работы приходил домой, ел и уходил. А основная его жизнь протекала у армянки.
– Хочешь, я его изобью? – спросил Павел, старший брат Марины.
– Не знаю, – задумчиво ответила Марина.
Она действительно не знала, что делать. С одной стороны, ей хотелось избить и даже убить Володьку, чтобы не достался никому. А с другой стороны, он был ей дорог именно сейчас, когда ускользал из рук. Марина вдруг увидела в нем массу достоинств: немногословный, честный, трудяга, а главное – мужик. Мужская сила – в глазах, в развороте плеч и в верности, как это ни странно. Он больше десяти лет был верен Марине, теперь до конца дней – той. Видимо, одной женщины маловато для мужского века.
Павел избил Володьку без разрешения. По собственной инициативе. Так он защищал честь сестры. Не один, а с товарищем. Они метелили Володьку, пока он не упал. А когда упал – дали пару раз ботинком в морду. От души. Володька вернулся домой, выплюнул зубы, собрал вещи. И уехал из города. Вместе с армянкой. Боялся, что и ее побьют.
Марина отчитала Павла. Он сорвал всю схему. Девочка бы росла, Володька бы привыкал и, возможно, оторвался от армянки. А если не оторвался, жил бы на два дома. Все лучше, чем ничего. А что теперь? Тридцать два года, двое детей. Кому нужна? Кому нужны чужие дети…
Надо было выживать. Но как?
Марина отдала девочку в ясли, и сама в ясли – работать. Пришлось уйти из школы. В яслях обе сыты, дочка присмотрена. И еще домой прихватывала из столовой: кастрюльку супа, сверху – кастрюльку котлет с лапшой, в банку – компот из сухофруктов. Получалось полноценное питание для сына Саши – белки, витамины. Жить можно, с голоду не помрешь. И на одежду хватало: зарплата плюс Володькины алименты. Были сыты, одеты и даже принаряжены. На праздниках Снежана смотрелась лучше всех, в бархатном зеленом платьице и лаковых туфельках.
Но не хлебом единым жив человек. Особенно в молодые годы.
Директор детского сада подкатывался к Марине, но у него изо рта воняло горохом. Говорят, нелюбимые плохо пахнут. А любимые – благоухают. Взаимное тяготение скрыто в запахах. Как у собак. Просто люди об этом не догадываются.
Марина не могла целоваться с директором. Ее мутило.
Потом возник вдовец. Познакомились в очереди за картошкой. Вдовец с ребенком – мальчик, Сашин ровесник. Не старый, лет сорока пяти. Приличный. Марина стала присматриваться: жилплощадь, зарплата… Но однажды вдовец произнес такую фразу:
– Ты своего сына отдай матери. А Снежана пусть останется с нами. У нас будет двое детей – твоя девочка и мой сын. Поровну.
Когда смысл сказанного дошел до Марины, а дошел он быстро, в течение минуты, вдовец перестал существовать. То есть физически он еще стоял посреди комнаты, но для того, чтобы дойти до порога, одеться и выйти за дверь, ему понадобилось три минуты. После чего он исчез из ее жизни и из ее памяти.
Саше к тому времени было двенадцать лет. Длинненький, с крупными коленками на тонких ногах, как олененок. Он везде ходил следом за матерью, носил тяжелые сумки, помогал, как настоящий мужчина. Марина советовалась с Сашей по части прически и макияжа. И он давал совет типа: «Не крась губы фиолетовой помадой, ты в ней как утопленница…» Марина стирала с губ модный в те времена фиолетовый цвет, заменяла на нежно-розовый. И действительно становилась моложе и естественнее.
Марина любила сына до судорог, хотя видела его недостатки: ленивый, безынициативный… Но при чем здесь достоинства и недостатки, когда речь идет о собственных детях. Недостатки Марина тут же превращала в достоинства. Ленивый, но зато не нахальный. Скромный. А эти «не ленивые» прут, как носороги, попирая все человеческие ценности.
Когда за вдовцом хлопнула дверь, Марина заплакала. Но слезы были светлые и крепкие. Она поняла, что ей ничего не светит по части любви и надо жить ради детей и ставить их на крыло.
Снежана пошла в первый класс, и Марина вернулась в школу. Снежана училась хорошо, хватала на лету. Было ясно, что девочка неординарная. И другие замечали.
Марина уже ничего не ждала для себя лично, и в этот момент судьба сделала ей царский подарок. Этот подарок назывался Рустам.
Сначала Марина услышала его голос.
Она сидела дома, проверяла тетради, когда зазвонил телефон. Марина сняла трубку и отозвалась:
– Алё!..
– Попросите, пожалуйста, Джамала, – сказал приятный мужской голос.
– Вы не туда попали, – вежливо ответила Марина и положила трубку.
Сосредоточилась на проверке тетрадей, но снова зазвонил звонок и тот же голос попросил:
– Позовите, пожалуйста, Джамала…
– Я вам уже сказала: вы не туда попали. – Марина положила трубку.
Прошло пять секунд. Звонок.
– Нет тут никаких Джамалов, – с легким раздражением отчитала Марина. – Вы какой номер набираете?
Приятный мужской голос проговорил нужный ему номер.
– Ну вот так и набирайте, – велела Марина.
– Извините, – отозвался приятный баритон.
Марина положила трубку, но уже не могла сосредоточиться на работе. Ей казалось, он снова позвонит. И он позвонил.
– Алё! – гавкнула Марина.
В трубке молчали. Несчастный обладатель баритона уже не решался позвать Джамала.
– Это вы? – проверила Марина.
– Это я, – честно отозвался баритон.
– На телефонной станции неправильно соединяют, – предположила Марина.
– А что же делать?
– Дайте мне телефон вашего Джамала, я его наберу и скажу, чтобы он вам позвонил. Как вас зовут?
– Рустам.
– Он вас знает?
– Ну да. Я его родной брат.
– Хорошо. Я скажу, чтобы Джамал вам позвонил. Какой телефон?
– Мой?
– Да нет. Зачем мне ваш? Джамала телефон.
Рустам продиктовал. Марина записала и положила трубку.
Далее она набрала нужные цифры. Подошел голос, как две капли воды похожий на предыдущий. Значит, Рустам и Джамал – действительно братья.
– Позвоните, пожалуйста, своему брату Рустаму, – официально проговорила Марина. – Он не может до вас дозвониться.
– А вы кто? – спросил Джамал.
– Телефонистка.
Марина положила трубку. Сосредоточилась на работе. Она проверила четыре тетради, когда снова раздался звонок.
– Большое спасибо, – сказал Рустам. – Все в порядке.
– Ну хорошо…
– А как вас зовут? – спросил вдруг Рустам.
– А зачем вам? – не поняла Марина.
– Ну… Я к вам привык. У вас такой красивый голос.
Марина усмехнулась.
– А давайте увидимся, в кино сходим, – предложил Рустам.
– А как вы меня узнаете?
– А вы возьмите в руки газету.
Баритон был не опасный и очень нежный. А в самом деле, почему бы и не сходить в кино…
– А сколько вам лет? – спросила Марина.
– Двадцать шесть. Много.
Марина огорчилась. Ей было тридцать два. На шесть лет старше.
Но в конце концов не замуж же выходить. А в кино можно сбегать и с разницей в шесть лет.
– Значит, так, – распорядилась Марина. – На мне будет белый шарфик в черный горох. Если я вам не понравлюсь, пройдите мимо.
– Вы мне уже нравитесь, – простодушно сознался Рустам.
Молодой наивный мальчик. Это тебе не вдовец с копотью жизненного опыта.
Марина оставила Снежку на Сашу. Показала, чем кормить и во сколько. А сама нарядилась, надушилась духами «Белая сирень» и отправилась к кинотеатру.
Марина стояла полчаса и поняла, что Рустам не придет. Вернее, он был, но прошел мимо. Зачем ему нужна русская тетка с двумя детьми… Про детей он, конечно, не знал, но узнал бы. Марина вздохнула и пошла к автобусной остановке, чтобы вернуться домой. Она уже сделала десять шагов, когда перед ней внезапно, как из-под земли, возник Омар Шариф в натуральную величину. Белые зубы, белая рубаха, русая голова. Русый азербайджанец. Такое тоже бывает. Он схватил Марину за руку и сказал, задыхаясь:
– Меня Джамал задержал. Приехал в последнюю минуту.
– А вы бы сказали, что спешите…
– Не могу. Старший брат.
Значит, брата нельзя напрягать, а Марину можно. Мусульманская семейная клановость имела свои достоинства и недостатки, как два конца одной палки.
Марине стало ясно, что эта встреча ничего не даст. Рустам – законченный красавец. Зачем она ему? Даже смешно. Жаль? Ничуть. Она ничего не приобретала, но и не теряла. Еще не вечер, и жизнь впереди. Не этот, так другой. А можно – ни того ни другого. Мужчина нужен для продолжения рода. А дети – уже есть. Программа выполнена.
– На журнал опоздали, – сказал Рустам. – Но ничего…
Он взял Марину за руку, будто знал давно, и они побежали. И белый шарфик в черный горох развевался на ветру.
Журнал уже шел, но их пустили. Они прошли на свои места и сели рядом.
Зерно сыпалось в закрома страны, узбеки собирали хлопок, и он тоже сыпался, как вата. Марина преувеличенно напряженно смотрела на экран, а Рустам – она это видела боковым зрением – смотрел на нее. Присматривался. Примеривался.
Рустам был хороший мальчик из хорошей азербайджанской семьи. Его мать – актриса ведущего бакинского театра – хотела для него хорошую девочку из хорошей азербайджанской семьи, не актрису, не дай бог… Такая девочка все не находилась. Непростое это дело – правильно выбрать подругу жизни, мать будущих детей.
Рустам в темном зале обсматривал русскую молодую женщину, и она нравилась ему все больше. Во всем мягкость: в овале лица, в льняных волосах, во взгляде голубых глаз. У азербайджанских девушек не бывает такой голубизны и такой льняной мягкости.
Когда фильм кончился, Рустам был влюблен окончательно и готов к любой авантюре.
Авантюра затянулась на долгие годы.
«Какое счастье, что Володька меня бросил, – думала Марина. – Иначе я не узнала бы, что бывает такое…»
Рустам работал в правоохранительных органах, в чине капитана. Его отец и брат тоже трудились на этой ниве. Отец – генерал, Джамал – полковник. Может быть, они сами себе давали звания…
Рустам приходил на работу, окидывал взором стены кабинета и звонил Марине в школу. Она уже ждала его звонка и сдергивала трубку.
– Позовите, пожалуйста, Джамала… – произносил Рустам.
Марина радостно хохотала, звенела как колокольчик. Рустам слушал ее счастливый звон, в нем все резонировало и отзывалось. Рустам шептал Марине в ухо такие вещи, о которых принято молчать. Марина в ужасе шила глазами по сторонам – не слышит ли кто? Нет. Никто не слышал и даже не догадывался.
Марина обмирала от слов. Пульс начинал стучать в самых неожиданных местах – в горле, например, в губах и много ниже.
– Спасибо. Вы очень любезны, – сухо проговаривала Марина, чтобы ввести учительскую в заблуждение. Пусть думают, что она разговаривает по делу. Но любовь – разве это не дело? Это самое главное изо всех дел, какие существуют в жизни человека.
Звенел звонок. Марина брала журнал и шла на урок. Она двигалась как лунатик, глядя в никуда и туманно улыбаясь.
Рустам хватал плащ, выбегал на улицу, запрыгивал в троллейбус. Через двадцать минут он оказывался возле школы. Садился на скамейку и поднимал лицо, наводил взгляд на уровень второго этажа.
Марина подходила к окну. Видела Рустама и наводила свой взгляд на уровень его глаз. Их взгляды пересекались, и по ним текло электричество большой мощности. И если в это электрическое поле попадал комар или жук – падал замертво.
Марина не могла вести урок. А выйти из класса она тоже не могла. Директору бы это не понравилось. Марина давала невинным детям самостоятельную работу, например нарисовать птицу. Или – написать сочинение: как я провел лето. И снова возвращалась к окну. И замирала. И жуки падали замертво, попадая в силовое поле их любви.
Вечерами Рустам учил со Снежаной уроки, играл с Сашей в шахматы. Он был практически мужем и отцом. Дети его любили, особенно Снежка. Она не помнила родного отца. Это место в ее душе занял Рустам. Многие говорили, что они похожи: Снежка и Рустам. И действительно, что-то было.
Иногда ходили в гости. Но это был круг Марины. В свой круг Рустам ее не вводил. Марина имела статус любовницы, а в Азербайджане этот статус не престижен, мягко говоря. Но что они понимают? Ни у кого и никогда не было такой близости. Марина и Рустам вместе ели, вместе спали, вместе думали. И не было такой силы, которая могла бы их растащить по разным пространствам.
Умер Павел – старший брат Марины. Тот самый, который избил Володьку. Болезнь называлась длинно и мудрено: лимфогранулематоз. Заболевание крови. И от чего это бывает?
Марина пошла в больницу брать справку, удостоверяющую смерть. Ей выдали его вещички: пиджак, брючата и часы. Часы еще шли. Марина заплакала. Рустам стоял рядом и страдал. Павла он не знал, но горе любимой видел впервые, и его сердце рвалось на части.
Потом они шли по больничному парку. Рустам вдруг остановился посреди дорожки и стал страстно целовать ее лицо, глаза, рот. Это противоречило мусульманской морали: целоваться среди бела дня при всем честном народе. Это не Франция. Но Рустам игнорировал мораль. Марина отвечала ему так же истово. Казалось бы, горе должно отодвинуть неуместную страсть. Но ничего подобного. Марина топила свое горе в любви, от этого любовь становилась выше, полноводнее, как уровень воды в водоеме, если туда погрузить что-то объемное.
А может быть, горе выбрасывает в кровь адреналин, а счастье – расщепляет и выводит из организма. И человек лечится любовью интуитивно.
Но скорее всего: счастье и горе – два конца одной палки. И составляют единое целое.
У любви есть одно неприятное осложнение: аборты. Предотвратить их было невозможно. Марина не хотела и не могла думать о последствиях, когда попадала в объятия столь желанные. Все остальное меркло в лучах нежности и страсти. Природа мстила за разгильдяйство. У природы свои законы.
К абортам Марина относилась легко, гораздо легче Рустама. Провожая любимую женщину в абортарий, он мотал головой, как ужаленный конь.
– Оставишь ты меня без потомства, – упрекал Рустам. Он хотел ребенка, но предложения не делал. Он хотел оставить все так, как есть, плюс еще один ребенок, сын. Фархадик например.
Однажды Марина задумалась: а почему нет? Пусть будет Фархадик, где два ребенка, там и три.
Марина тянула с очередным абортом. Жалко было убивать плод любви. Она поехала к матери – посоветоваться. Мать жила в поселке под Баку. Марина ехала на электричке и все больше приближалась к решению оставить ребенка. Укреплялась в этой мысли и уже любила маленького.
– И не думай, – жестко отбрила мать. – Зачем плодить безотцовщину? Мало тебе двоих?
– Я его люблю, – тихо сказала Марина.
– И что с того? Азербайджанцы женятся только на своих. У них вера. А с русскими они просто гуляют. С азербайджанками не погуляешь. Там надо сразу жениться. А русские для них – джуляб…
Что такое «джуляб», Марина хорошо знала.
Мать была груба, как всегда. Наверное, она страдала за свою дочь, и это страдание вылезало наружу такой вот бурой пеной.
– Я пойду, – сказала Марина, поднимаясь. – У тебя капустой воняет. Меня тошнит.
Ее действительно тошнило от всего. И от родной матери в том числе.
Марина возвращалась домой и думала о том, что ее мать, к сожалению, не познала женского счастья и не имеет о нем представления. Для нее любовь – это штамп в паспорте и совместное проживание. А что там за проживание? Бездуховный труд, взаимное раздражение и водка как выход из постоянного негатива. Расслабление. Или, как сейчас говорят, – релаксация. Народ самоизлечивается водкой и от нее же вырождается.
Женщины крепче и выносливее мужчин. Мать не пьет, терпит эту жизнь. Но она даже не знает, бедная, как пахнет любимый мужчина.
У Рустама несколько запахов: его дыхание – земляника, подмышки – смородиновый лист, живот – сухое вино. Рустам пахнет всеми ароматами земли, чисто и трогательно, как грудной ребенок. И она готова его вдыхать, облизывать горячим языком, как волчица, и так же защищать.
Володька был эгоистичен в любви. Думал только о себе, как солист. Один и главный, и все должны под него подстраиваться. Рустам – совсем другое дело. Он приглашал в дуэт. Он и Она. Оба старались не взять, а дать счастье. И были счастливы счастьем другого.
О! Как она любила этого человека. Ей нравилось, как он ест: жует и глотает. Как он спит – мирно дышит, и живот ходит под ее рукой. Ей нравилось слушать его речь, хотя это была речь непродвинутого человека. Книжек он не читал. А зачем? Зачем нужны чужие мысли? И зачем разбираться в музыке, когда можно просто петь? А картины существуют только для того, чтобы вешать их на стену. Смотреть – не обязательно.
Его главная реализация – любовь. Вот тут он был великим человеком. Исторгать большое чувство и принять большое чувство – это тоже талант.
Для Марины существовали три ценности: дети, хозяйство и Рустам. Она хорошо готовила, умела и любила колдовать над кастрюлями. Женщина. Ее мать готовила плохо. Детей полулюбила. То есть любила, но ничего для них не делала. Любовь к мужчине для нее – грязь. Спрашивается, зачем живет человек?
И все же после разговора с матерью Марина пошла и сделала аборт. Одним больше, одним меньше.
Рустам тряс головой, вопрошал:
– Как ты можешь убивать в себе человека?
Марина не отвечала. Она могла бы сказать: «Женись, тогда и требуй». Но это – грубо. Если бы Рустам хотел на ней жениться, так она бы знала. А если не делает предложения – значит, не хочет. И разговаривать на эту тему опасно. Можно договориться до разрыва. Остаться с правдой, но без Рустама. Лучше жить в неведенье счастливом.
Единственное, что позволяла себе Марина, – это вопрос:
– Ты меня не бросишь?
Он прижимал к сердцу обе руки и таращил глаза:
– Я тебя никогда не брошу… Мы всегда будем вместе. До смерти.
И она успокаивалась. До смерти далеко. И в каждом дне – Рустам.
Дни действительно бежали один за другим.
Саше исполнилось восемнадцать лет. Его забрали в армию, увезли куда-то. Поселили в казарме.
Через полгода Саша сбежал. Сел на поезд и добрался до Баку. Появился на пороге. Марина все поняла и обомлела. Ноги стали ватные. Побег из армии – это статья. Это тюрьма. А что делает тюрьма с восемнадцатилетним мальчиком – можно догадаться.
Марина кинулась к Рустаму. Рустам – к отцу-генералу. Генерал позвонил куда надо. Саша вернулся обратно. В части сделали вид, что не заметили его отсутствия. Вроде болел, а теперь выздоровел.
Через три месяца потребовался еще один звонок, и Сашу перевели служить под Баку. Он околачивался в военном санатории, подметал дорожки, таскал трубы и кирпичи. Батрачил. На выходные уходил домой. А потом постепенно стал ночевать дома. Все были спокойны. Благодаря кому? Рустаму.
Денег в семейный бюджет Рустам не вносил. Его зарплаты едва хватало на карманные расходы. Но у него в районе жили близкие родственники, и раз в месяц Рустам привозил полную машину небывалых по качеству и количеству продуктов: домашнее вино, битые индюки и поросята, фрукты, зевающие, еще живые, осетры.
Рустам сваливал это все на стол, получался натюрморт такой красоты, что даже жалко есть. Рустам в такие минуты чувствовал себя не нахлебником, а настоящим мужчиной – добытчиком и кормильцем.
Снежана задумчиво смотрела на усопшие мордочки свинячьих детей, на бледную шею индюка – поверженной жар-птицы, и в ее неокрепшей голове всплывали мысли о жестокости. Видимо, жестокость заложена в схему жизни как ее составляющая.
На выходные уезжали к морю: Марина, Рустам и Снежана.
Каспийское море в те времена было чистым, целебным. Рустам заплывал далеко, даже страшно. Снежана в купальничке строила крепость из мокрого песка. Марина и тут хлопотала: чистила овощи, раскладывала на салфеточках. Горячее в термосе, у нее специальный термос с широким горлом, для первого и второго.
Рустам возвращался – холодный, голодный и соскучившийся. Прижимался волосатой грудью к ее горячему телу, нагретому солнцем. Целовал лицо в крупинках песка. Счастье – вот оно! Вот как выглядит счастье: он и она на пустынном берегу…
А мама Рустама все искала хорошую девочку из хорошей азербайджанской семьи. И нашла. Девочке было двадцать лет. Ее звали Ирада.
Рустаму имя понравилось. И девочка тоже понравилась: скромная, даже немножко запуганная. Ему было ее жалко. Рустам вообще был добрым человеком. Формы Ирады созрели и налились, у нее была большая грудь и роскошные округлые бедра, но женственность еще не проснулась в ней. Она смотрела на Рустама, как на диковинную рыбу в аквариуме, – с интересом, но отчужденно.
Ираде – двадцать, Рустаму – тридцать шесть, Марине – сорок два. В сорок два уже не рожают. А в двадцать рожают – и не один раз, а сколько угодно. Это обстоятельство решило дело. Рустам хотел детей. Он уже созрел для отцовства, а Марина упустила все сроки. Марина не захотела рисковать. А кто не рискует, тот не выигрывает.
Мать Рустама страстно хотела внуков, и Рустам должен был учитывать ее желание. Желание матери в мусульманском мире – закон.
Все кончилось загсом. И скромной свадьбой. И после свадьбы – постелью. Близость с Ирадой, конечно же, получилась. Но не дуэт. Не Моцарт. Так… собачий вальс.
Рустам заснул и плакал во сне. Утром мать спросила:
– Ты ей сказал? – Она сделала ударение на слове «ей». Она никогда не называла Марину по имени.
– Нет, – хмуро ответил Рустам.
– Пойди и скажи, – твердо приказала мать. – Она все равно узнает. Пусть она узнает от тебя.
Рустам сел на троллейбус и поехал к школе. Он хотел приготовить слова, но слова не подбирались. Рустам решил, что сориентируется на месте. Какие-то слова придут сами. Она может сказать: «С русскими вы гуляете, а женитесь на своих». И это будет правда, но не вся правда. А значит, ложь. Он скажет Марине, что это ложь. А она ответит: «Ты женился на девушке, которую знал десять дней. А меня ты знал десять лет. И ты обещал, что не бросишь до смерти…»
Рустам подошел к школе, но не решился войти в помещение. Это была территория Марины, и он не рисковал. Ему казалось, что здесь ему поддадут ногой под зад и он вылетит головой вперед.
Вышел учитель физкультуры Гейдар. Они были знакомы.
– Привет! – поздоровался Рустам.
– Салям, – отозвался Гейдар. – Тебе Марину? У нее дополнительные занятия.
– Позови, а? – попросил Рустам.
Гейдар скрылся за дверью и скоро появился.
– Идет, – сказал он и побежал на спортивную площадку. Там уже носились старшеклассники, как молодые звери.
Если бы Рустам читал стихи, ему бы вспомнились строчки одной замечательной поэтессы: «О, сколько молодятины кругом…» Но Рустам не думал о стихах. Он принес Марине плохую весть. В старину такие люди назывались горевестники и им рубили головы, хотя горевестники ни в чем не виноваты. Они – только переносчики информации. А Рустам – виноват, значит, ему надо два раза рубить голову: и как виновнику, и как горевестнику.
Марина появилась на широком школьном крыльце, кутаясь в серый оренбургский платок. Было начало марта, ветер задувал сердито. Рустам увидел ее женственность и беззащитность. Она куталась в платок, как девочка и как старуха – одновременно.
Он вдруг понял, увидел воочию, что бросил ее на произвол судьбы. И зарыдал.
– Что с тобой? – Марина подняла и без того высокие брови.
Рустам рыдал и не мог вымолвить ни одного слова.
Марина знала эту его готовность к слезам. Он часто плакал после любви, не мог вынести груза счастья. Плакал по телефону, когда скучал. Рустам был сентиментальный и слезливый, любил давить на чувства. И сейчас, после десятидневной командировки, он стоял и давил на чувства. Дурачок.
Марина снисходительно улыбалась. Обнять на пороге школы на виду у старшеклассников она не могла. Поэтому спросила:
– Вечером придешь?
– Приду, – отозвался Рустам.
– Я побегу, – сказала Марина. – У меня там внеклассные занятия.
Она повернулась и пошла. Не догадалась. Ничего не почувствовала. И это странно. Марина была очень интуитивна. Она слышала все, что происходит в любимом человеке. А здесь – тишина. Видимо, в самом Рустаме ничего не изменилось. В его паспорте появился штамп. Но это в паспорте, а не в душе.
Марина ушла. Рустам остался стоять. Слезы высыхали на ветру. «А в самом деле, – думал он, – почему бы не прийти вечером?» Что случится? Ничего не случится. Он ведь не может так резко порвать все корни своей прошлой жизни. Тридцать шесть лет – зрелый возраст: свои ценности, свои привязанности. Вот именно…
Вечером Рустам появился у Марины – с натюрмортом из сезонных овощей и фруктов, с куклой для Снежаны и с любовью для Марины, которая буквально хлестала из глаз и стекала с кончиков пальцев. Но в двенадцать часов ночи он засобирался домой, что странно. Рустам всегда ночевал у Марины. За ночь тела напитывались друг другом, возникала особая близость на новом, на божественном, уровне. Для Марины эта близость была важнее, чем оргазмы.
– Не могу остаться, – сказал Рустам. – Мама заболела.
Мама – это святое. Марина поверила.
Мама болела долго. Год. Потом другой. Что же делать? Возраст…
Марина постепенно привыкла к тому, что он уходит. Ничего страшного. Ведь он возвращается…
Рустам приходил два раза в неделю: понедельник и четверг. Два присутственных дня. Остальное – с мамой. Этот режим устоялся. В нем даже были свои преимущества. Оставалось больше времени для детей.
Саша постоянно пропадал где-то, как мартовский кот. Приходил домой только поесть. Марина вначале волновалась, потом смирилась. Мальчики вырастают и вылетают, как птицы из гнезда.
Снежане – тринадцать лет, переходный возраст. Школа. Володька, законный отец, не интересовался детьми. Жил где-то в Иркутске со своей армянкой. Там тоже было двое детей.
Марина не понимала, как можно быть равнодушным к своей крови, к родной дочери, тем более она такая красивая и качественная. Чужие восхищаются, а своему все равно. Мусульмане так не поступают. Южные народы чадолюбивы. Лучше бы Рустаму родила. Но это если бы да кабы…
Снежана сидела в углу и учила к школьному празднику стихотворение Есенина. «Гой, ты, Русь моя святая…»
– Что такое «гой»? – спросила Снежана.
– Значит – эй, – объяснила Марина.
– Тогда почему «гой»?
Марина задумалась. Если бы они жили в России, такого вопроса бы не возникло. Она вздохнула, но не горько. Марина родилась в Баку, впитала в себя тюркские обороты, культуру, еду. Она любила этот доверчивый красивый народ. Она пропиталась азербайджанскими токами и сама говорила с легким акцентом. И не избавлялась от акцента, а культивировала его. И русское тоже любила – блины, песни, лица…
Марина была настоящей интернационалисткой. Для нее существовали хорошие люди и плохие. А национальность – какая разница…
Однажды Рустам уехал в Москву, в командировку. Сказал: на повышение квалификации. Он рос по службе и уже ходил в чине полковника.
Позвонил из Москвы и сообщил, что вернется через три дня, во вторник.
– Что приготовить: голубцы или шурпу?! – радостно прокричала Марина.
– То и другое, – не задумавшись ответил Рустам.
Марина поняла, что он голодный и хочет есть. Где-то шатается, бедный, среди чужих и равнодушных людей. А он привык к любви и обожанию. Его обожает мать, Марина, ее дети, брат Джамал. Он просто купается в любви, а без нее мерзнет и коченеет. Кровь останавливается без любви.
– Как ты там?! – крикнула Марина.
– Повышение квалификации! – крикнул Рустам.
Телефон щелкнул и разъединился.
Вечером позвонил встревоженный Джамал. Они были с Мариной знакомы и почти дружны. С женой Джамала Марина не общалась. Она видела, что та воспринимает ее вторым сортом. Не то чтобы джуляб, но не далеко.
– Рустам звонил? – спросил Джамал.
– Да. Он приедет во вторник, – услужливо сообщила Марина.
– А ребенок?
– Какой ребенок? – не поняла Марина.
– Его оставляют на операцию или нет? Что сказал профессор? – допытывался Джамал.
– Какой профессор? – Марина ничего не понимала.
Джамал замолчал. Трубку взяла его жена.
– Ребенка оставляют на операцию или отказались? – четко спросила жена.
– Какого ребенка?.. – повторила Марина.
– А ты ничего не знаешь?
– Что я должна знать?
Жена брата помолчала, потом сказала:
– Ладно. Разбирайтесь сами. – Бросила трубку.
Марина осела возле телефона… Во рту стало сухо. Она постаралась сосредоточиться. Итак: Рустам с каким-то ребенком поехал в Москву. Не на повышение квалификации, а показать профессору. Нужна операция. Значит, ребенок болен. Чей ребенок? Джамала? Но тогда Джамал сам бы и поехал. Значит, это ребенок Рустама. Он женился, и у него родился больной ребенок.
Марина вспомнила, как он рыдал на школьном крыльце. Вот тогда и женился. И с тех пор стал уходить домой ночевать.
Все выстроилось в стройную цепь. Обман вылез, как шило из мешка.
Рустам вернулся. Появился во вторник, как обещал. Его ждали голубцы и шурпа.
Он ел, и губы его лоснились от жира, капли стекали по подбородку.
Марина не хотела портить ему аппетит, но, когда он отодвинул тарелку и отвалился, спросила:
– Что сказал профессор? Он берется делать операцию или нет?
Рустам навел на Марину свои голубые глаза и смотрел незамутненным взором.
– Ты женат, и у тебя ребенок, – сказала Марина в его голубые честные глаза.
– Кто сказал?
– Джамал.
– А ты слушаешь?
– Еще как…
– Врет он все. Он мне завидует. Он не любит жену, просто боится. Не слушай никого.
У Рустама было спокойное, чистое лицо, какого не бывает у лгунов. Ложь видна, она прячется искоркой в глубине глаз, растекается по губам. Марина усомнилась: кто же врет – Рустам или Джамал? Можно спросить, устроить очную ставку. Можно в конце концов приехать к нему домой. Предположим, она увидит жену и сына. И что? Она скажет: ты меня обманул. Но разве он обманывал? Разве он обещал жениться? Он только любил. И сейчас любит. Оставил больного ребенка – и к ней. Любовь к женщине сильнее, чем сострадание. Рустам был любовником и остался им. И все же мать Марины оказалась права: они женятся на своих.
– Слушай только меня, и больше никого! – приказал Рустам и вылез из-за стола. – Все завидуют. Ни у кого нет такой любви…
Он икнул и пошел в душ.
Марина стелила кровать, но движения ее рук были приторможены. Руки уже не верили. И это плохой знак.
Потом они легли. От Рустама пахло не земляникой, как прежде, а тем, что он съел. Мясом и луком. Он дышал ей в лицо. Марина не выдержала и сказала:
– Пойди сполосни рот.
Рустам тяжело слез и пошел голый, как неандерталец. Было стыдно на него смотреть. И это тоже плохой знак.
Саша уехал первым. Он отправился в Москву с азербайджанскими перекупщиками овощей. В Москве торговал на базаре. Азербайджанцы держали его за своего. Акцент въелся как родной.
Там же на базаре познакомился с блондинкой, и Марина скоро получила свадебные фотографии. На фотографии Саша надевал обручальное кольцо на палец молодой невесте.
Невеста – никакая, мелкие глазки, носик как у воробья. Не такую жену хотела она своему Саше. Ну да ему жить…
Марина поплакала и устремила все свои чаяния на Снежану. Дочь ближе к матери.
Снежана заканчивала школу. В нее был влюблен одноклассник Максуд Гусейнов. Отец Максуда – министр.
Марина замерла в сладостном предчувствии. Ее дочь войдет в богатый, престижный дом. И тогда статус Марины резко поднимется. Она уже не учительница младших классов, разведенка, русский джуляб. Она – сватья самого Гусейнова, у них общие внуки. Денег у Гусейновых хватит на детей, внуков и еще на четыре поколения в глубину. Можно будет бросить дополнительные занятия, и даже школу можно бросить. Она будет появляться в тех же кругах, что и родители Рустама – актриса и генерал, и сдержанно здороваться.
Но произошло ужасное. Снежана влюбилась в мальчика с соседнего двора, татарина по имени Олег. Олег – старший в семье, у него десять братьев и сестер. Десять голодных голозадых татарчат ползают по всему двору и жрут гусениц.
Как это случилось? Как Марина просмотрела? Узнала от соседей. Оказывается, тот Олег каждый день ее провожает и они каждый день отираются в парадном. Мать – джуляб, и дочь в нее…
Марина поняла, что времени на отчаяние у нее нет. Надо немедленно вырвать Снежану из среды обитания и отправить подальше от Олега. В Москву. В Сашину семью. Саша нашел медицинский техникум. Не врач, но медсестра. Тоже хорошо.
Отправили документы. Снежана получила допуск.
Надо было лететь в Москву.
Марина поехала проводить дочь. Самолет задерживался. Зашли в буфет. Марина купила Снежане пирожное – побаловать девочку. Как она там будет на чужих руках? Сердце стыло от боли. Снежана жевала сомкнутым ртом. Ротик у нее был маленький и трогательный, как у кошки. Глаза большие, круглые, тревожные. Как любила Марина это личико, эти детские руки. Но любовь к дочери была спрятана глубоко в сердце, а наружу вырывалась грубость, как ядовитый дым. Точно как у матери. С возрастом Марина все больше походила на мать – и лицом, и характером. Умела напролом идти к цели, как бизон.
– Максуд знает, что ты едешь в Москву? – спросила Марина.
– Да ну его… – ответила Снежана.
Так. Все ясно. Статус останется прежним и даже упадет. Деньги Гусейновых будут служить другим.
– А этот… – Марина даже не захотела выговорить имя «Олег». – Этот знает?
– Я буду ему писать, – отозвалась Снежана. Не хотела распространяться.
– Скажи, пожалуйста, – вежливо начала Марина, – почему тебя тянет в самую помойку?
– Я его люблю. А твоего Максуда терпеть не могу. У него пальцы как свиные сардельки.
– При чем тут пальцы?
– А что при чем?
– Перспективы, – раздельно произнесла Марина. – Какая перспектива у твоего аульного татарина? Метла? И что у вас будут за дети?
Снежана сморгнула, и две слезы упали в чашку с чаем.
– Не могу… – Марина расстегнула кофту. Ей не хватало воздуха.
Подошла официантка Джамиля, бывшая ученица Марины. В городе было полно ее учеников. Девочки, как правило, не тяготели к высшему образованию.
– Здрасьте, Марина Ивановна, – поздоровалась Джамиля. – Передали, рейс опять задерживается. Вы слышали?
– Ты иди, – участливо предложила Снежана. – Я сама улечу.
Марина растерянно посмотрела на Джамилю.
– Идите, идите… Я за ней присмотрю.
– Что за мной смотреть? – пожала плечом Снежана. – Что я, ребенок?
Марина поняла, что серьезного разговора с дочерью не получится. Слишком тесно стоят их души. Снежане эта теснота невыносима. Ей будет спокойнее, если Марина уйдет и перестанет мучить.
Марина ушла. Она ехала на автобусе и тихо плакала. Снимала слезы со щеки. Как медленно тянулся каждый день. И как мгновенно промчались семнадцать лет. И теперь вот Снежана уезжает. И хорошо, что уезжает. Первая любовь – нестойкая. С глаз долой, из сердца вон.
Марина вошла в свою квартиру через полтора часа, и тут же зазвенел звонок. Звонила Джамиля. Она сообщила, что Снежана не дождалась самолета. За ней приехал высокий черный парень, и они вместе куда-то испарились. И на посадке Снежаны не было.
– А билет? – растерянно спросила Марина.
– Ну вот… – ответила Джамиля. Что она могла добавить?
Билет пропал. Снежана сбежала с Олегом.
У Марины горело лицо, как будто наотмашь ударили дверью по лицу. «Ну вот…» – повторяла она.
Мать не знала любви и не понимала Марину. Но ведь Марина знает, что такое любовь-страсть, а тоже не понимает дочь. Что это? Конфликт поколений? Нет. Если бы Снежана выбрала Максуда – воспитанного и начитанного мальчика, золотого медалиста, – никакого конфликта поколений не было бы.
И дело не в деньгах. Дело в общении. В атмосфере семьи. Но с другой стороны, Рустам – тоже не философ. А она была с ним счастлива. И даже сейчас, после вранья, – тоже счастлива.
Марина металась по квартире, хотела бежать, но не знала куда. Она не знала, где живет этот Олег, будь он трижды проклят. Марина металась и билась о собственные стены, как случайно залетевшая птица.
Пришел Рустам – ясный и простодушный, как всегда. Марина ударилась о Рустама. Он ее поймал, прижал, пригрел. Она утихла в его руках.
– Как будет, так и будет, – философски изрек Рустам. – Что такое семнадцать лет? Это только начало. Рассвет. Даже раньше, чем рассвет. Первый солнечный луч. Пусть будет Олег. Потом другой. Зачем отдирать по живому? Само отвалится. Только бы не было последствий в виде ребенка.
Последствия не заставили себя ждать. Снежана ходила беременная. Марина узнала об этом через чужих людей. Снежана не звонила и не появлялась. Видимо, боялась.
Марина закрывала глаза и молилась, чтобы ребенок не появился на свет. Умер во чреве. Грех, грех просить такое у Бога. Но ребенок – крепкая нить, которая привяжет Снежану к Олегу. А Марина хотела получить дочь обратно, отмыть, нарядить и пустить в другую жизнь, где чисто и светло. Как у Хемингуэя.
Снежана появилась через полтора года с восьмимесячной девочкой на руках. Значит, тогда в аэропорту она была уже беременна.
Снежана размотала нищенские тряпки, и оттуда – узенькая, как червячок, – возникла девочка. У нее было русское имя – Александра, Аля. Она посмотрела на Марину и улыбнулась ей, как будто узнала. И улыбка эта беззубая резанула по сердцу. Марина тоже ее узнала. Родная душа прилетела из космоса.
Марина взяла девочку на руки и больше не отдала. А Снежана и не требовала обратно. Она собралась в Москву, учиться в медицинском техникуме.
Мать оказалась права. Теперь Снежана соглашалась с доводами Марины. Олег – это дно. Там жить невозможно. Даже собаки живут лучше.
«В Москву, в Москву…» – как чеховские три сестры.
Снежана – в Москву. А Марина – с маленьким ребенком на руках и с Рустамом два раза в неделю.
Сказать, что Марина любила Алю, значит не сказать ничего. Она ее обожествляла. Девочка – вылитый отец, смуглая, с большими черными глазами, вырезанными прямо. Уголки глаз – не вниз и не вверх, а именно прямо, как на иконах. Носик ровный, а рот – как у котенка. Снежанин рот. Должно быть, Олег был красивым. Марина, ослепленная ненавистью, даже не рассмотрела его. А он был красивый и, наверное, нежный.
Теперь, когда Снежана его бросила, Марина была мягче к Олегу, но видеть не хотела. А зачем? И ребенка не хотела показывать. Она не хотела Алечку с кем-то делить. Даже с родным отцом. Надо сказать, что Олег и не настаивал. Он боялся Марины, как мелкий травоядный зверь боится крупного. Бизона например. Не сожрет, так затопчет.
Когда Марина вспоминала свои непотребные молитвы, касающиеся беременной Снежаны, ее охватывал жгучий стыд, смешанный с ужасом. А если бы Бог послушал? Но, слава богу, он не прислушивается к глупостям. Он их игнорирует. Простил глупую бабу.
Алечка росла, развивалась и каждый месяц умела делать что-то новое: сказать «баба», «дай», хлопать в ладошки.
Настала осень, школьная пора. Алечку пришлось отдать в ясли. Потом в детский сад. Все сначала, как тридцать лет назад. И та же бедность, как в начале жизни.
Рустам не помогал. Откуда? Натюрморты от родственников перекочевали в семью. Он не мог разрываться на два дома. На Восьмое марта подарил вигоневый шарф в клетку: зеленую, черную и красную. Мрачный такой, красивый шарф. Вот и весь навар от Рустама. Но Марина не думала ни о каком наваре. Рустам пришел, чтобы украсить и осмыслить ее жизнь. Вот его роль и функция. Единственный человек, с которым Марина не была бизоном, – это Рустам. С ним она была – голубка. И его два присутственных дня уравновешивали и освещали всю неделю.
Правда, бывают мужчины, которые и осмысливают, и зарабатывают, и женятся. Но это у других.
От Саши пришло письмо. У него родился сын. Назвали Максим. Сейчас все мальчики – Денисы и Максимы. И ни одного Ермолая. Только у Солженицына.
Снежана вышла замуж за хорошего парня, зовут Олегом. Опять Олег. Русский, золотые руки, работает автомехаником.
Марина подняла глаза от письма. Автомеханик – тоже не профессор. Рабочий класс. Саша продает на базаре овощи. Ее дети не подняли жизненную планку.
Но самое интересное – Снежана не спрашивала: как Аля, как ее здоровье, на что они живут? Снежана отрезала от себя прошлую жизнь вместе с Алей, поскольку Аля – тоже часть ее прошлой жизни. Ничего себе…
Марине стало жгуче жаль свою маленькую внучку, которая никому не нужна, кроме своей бабки. Но ничего… Бабка еще в силе. Ее надолго хватит…
Вставали рано. Марине – в школу. Алечке – в сад.
Марина поднималась первая. Внучка сладко спала, подложив руки под щечку. Жалко было будить. Марина зажигала свет. Алечкины веки вздрагивали. Световой сигнал выдергивал ее из глубокого сна.
Потом Марина начинала ходить по комнате, пол скрипел, посуда в серванте отзывалась легким звоном. Эти слуховые сигналы тащили Алечку из глубокого сна на поверхность. И наконец она открывала глазки. Хныкала. Хотелось спать. Как хочется спать растущему организму. Но надо вставать. Это проклятое слово – надо. Не хочешь, а надо. Кому надо, спрашивается…
Рустам тоже любил Алечку, качал на ноге, пел песни по-турецки. Марина обмирала: вдруг уронит? Стояла рядом и следила.
Рустам смешно пел непонятные слова. Аля радостно дрожала личиком. Марина расслабленно улыбалась. Святое семейство.
Казалось, что так будет всегда. Но ничего не бывает всегда. Как говорила старуха соседка: «Чисто не находисси, сладко не напьесси…»
Настала перестройка. И грянул Сумгаит.
Чушки – так называли азербайджанцев из района – потекли, как мутные реки, в город. Резали армян. Чушки шли в домоуправление, брали списки жильцов, вычленяли армян и шли по адресам. Смерть приходила на дом.
Такого не было с 1915 года, когда турки резали армян с нечеловеческой жестокостью. Все повторилось через семьдесят лет. Чушки гонялись за армянами, которые были повинны только в том, что они армяне. Армяне защищались как могли. Карабах, Карабах – вся страна была взбудоражена этим круглым словом, катящимся, как камень с горы.
Азербайджанцы считали Карабах своей землей, поскольку она географически находилась на территории Азербайджана. Армяне считали Карабах своим, поскольку из глубины веков заселяли и возделывали эту землю.
Можно было бы все так и оставить, пусть каждый считает своей. Какая разница? Живут в дружбе, и все… Но дружбу сменила ненависть.
Ненависть – фатальное чувство, такое же, как любовь, но со знаком минус. Ненависть – как эпидемия. Охватывает все пространство и не знает границ. С армян перекинулась на русских. Неверные должны освободить мусульманскую землю. Азербайджан – для азербайджанцев. Все, кто другие, – езжайте к себе. И даже в школу занесло эту националистическую заразу. Директор-азербайджанец много молчал, сжав рот курьей гузкой. Дети дрались без причин.
Марина чувствовала себя виноватой непонятно в чем. Она боялась ездить в автобусе, боялась заходить в магазин. На нее смотрели с брезгливым пренебрежением. Хамили. Русский джуляб – это самое мягкое, на что можно было рассчитывать. Однажды двое молодых и вонючих затащили в подворотню и дали обломком кирпича по голове. Удар был не прямой, а скользящий. Содрало кожу. Кровь полилась, как из подрезанной овцы. Марина заорала во всю силу легких. Чушки вырвали у нее сумку и убежали.
В сумке было всего пять рублей и губная помада. И удар – она это чувствовала – неопасный для жизни. Так что, можно сказать, легко отделалась. Но Марина не замолкала. Стояла и кричала, плакала – и было в этом крике все: и предательство города, и предательство Рустама. И четкое понимание, что ничего уже нельзя изменить.
Марина решила уехать.
В Москву. К детям. Ее место – возле детей. Что ей сидеть возле женатого Рустама…
В Россию. В Москву, в Москву…
Настала минута прощания.
Рустам помогал собрать вещи, принес пустые коробки из-под марокканских апельсинов и моток бельевой веревки. Все-таки какая-то польза от него была.
Молча паковали книги, посуду. Рустам был деловит, но подавлен. Потом поднял голову и спросил:
– А как же я?
– Ты будешь жить с женой и воспитывать сына, – ответила Марина.
Он понял, что она все знает. Наивный человек, он до сих пор полагал, что Марина ему верит безоглядно.
Рустам опустил голову. Врать дальше он не хотел. Вернее, хотел, но в этом вранье уже не было никакого смысла.
– Что с твоим сыном? – спросила Марина.
– Врожденный порок сердца.
– Это опасно?
– До пятнадцати лет живут, – ответил Рустам.
– А сейчас ему сколько?
– Пять.
Значит, осталось еще десять. Одно дело – растить свое продолжение, а другое дело… Марине страшно было даже думать об этом. Она не хотела ставить себя на место Рустама даже в воображении. Бедный Рустам…
– Когда ты женился? – спросила Марина. – Когда к школе пришел? Когда плакал?
– Да…
– А почему не сказал?
– Я не мог. Ты прости…
Рустам заплакал, но иначе, чем всегда. Обычно он плакал, как ребенок, чтобы видели и сочувствовали и утешали. Это был плач-давление. А сейчас он плакал, как мужчина. Прятал лицо.
– Я тебя прощаю, – сказала Марина. Он заплатил судьбе сполна. Что уж теперь считаться…
Она обняла его за голову. От его волос пахло чем-то родным и благодатным. От них ушло общее будущее, но прошлое осталось и въелось в каждую клетку. Все-таки любовь, если она настоящая, остается в человеке навсегда. Как хроническая болезнь.
Марина собралась в Москву не с пустыми руками. Она сосредоточилась и выгодно продала квартиру соседям – за шесть тысяч долларов. Деньги по тем временам немереные. Если перевести на рубли – миллионы. Считай, миллионерша.
Марина все узнала: можно прописаться в квартире сына или дочери. Не временно, а постоянно. Имея постоянную прописку, можно устроиться работать по специальности. Учителей не хватает, поскольку никто не хочет работать за маленькие деньги. Но маленькие – тоже деньги. Марина умела виртуозно экономить. Она могла бы даже написать диссертацию на тему «Выживание индивида в современных условиях».
Предстоящая жизнь рисовалась так: Саша с женой, двое детей – Максим и Аля. И она – глава рода, на хозяйстве и воспитании детей. Молодые работают. Марина – держит дом. Все логично. Впереди – счастливая старость, ибо нет большего счастья, чем служить своим детям.
Поезд отходил через сорок минут. Пришлось взять целое купе, иначе не уместились бы узлы и коробки. Провожал Рустам. А кто же еще…
Марина позвонила в Москву с вокзала. Набрала код Москвы и номер Сашиного телефона.
– Алё, – раздался молодой плоский голос. Марина догадалась, что это жена Людка.
– Сашу можно?! – закричала Марина.
Она не доверяла технике, а ей необходимо быть услышанной.
– Его нет. А кто это?
– Марина Ивановна. Его мама.
– Ну… – скучно отреагировала Людка. – И чего?
– Передайте Саше, что я еду. Пусть он меня встретит послезавтра в семь утра, поезд Баку – Москва, вагон четыре, место шестнадцать…
Марина ждала, что Людка возьмет карандаш и все запишет: время прибытия, номер вагона. Но Людка недовольно спросила:
– В гости, что ли?
– Почему в гости? Жить.
– К нам?
– А куда же еще? – удивилась Марина.
Людка оказалась тупая. Мать едет к сыну. Что тут долго разговаривать? Но Людка, видимо, считала по-другому: сначала надо спросить разрешения, а не ставить перед фактом.
Марина бросила трубку. Вернулась к вагону. Рустам держал Алечку за руку, поглядывал на часы.
– Иди, – сказала ему Марина. Забрала Алечкину руку в свою.
Марина не хотела дожидаться той минуты, когда поезд тронется и Рустам побежит рядом, задыхаясь, чтобы хоть на секунды отодвинуть расставание. Ей было его жаль.
Жалеть надо было себя – сорвалась с места, как осенний лист, ни кола ни двора, и как там ее встретят, да и встретят ли… Жалеть надо себя, но она жалела Рустама – своего третьего ребенка. Как он будет справляться с жизнью, бедный мальчик, у которого еще один бедный мальчик…
Слезы жгли глаза, но Марина стиснула зубы.
– Иди, Рустам… – приказала она. – Иди и не оборачивайся.
Рустам послушался, он привык ей подчиняться, и пошел не оборачиваясь. Он уходил в свою жизнь, где больше не было счастья, а только долг и страдания.
Марина не спала всю ночь. Жалость и упреки скребли душу как наждачная бумага. И непонятно, встретит ее Саша или нет.
Саша подошел к вагону и привел друзей. И они ловко погрузили в машину «рафик» все ее узлы и коробки.
Алечка стояла возле машины, тепло закутанная. Марина боялась перемены климата.
– Мне снились лошадки, – сказала Алечка.
– Да? – отреагировал Саша. Ему не хотелось вникать. Марина поняла: поезд ночью вздрагивал, покачивался, и Алечке казалось, что она едет на лошадках.
Марина наклонилась и поцеловала свою дочку-внучку. Ей было жалко ее, стоящую в толпе среди чужих, равнодушных людей.
Начиналась московская жизнь.
Москва
Саша подавил яростное сопротивление жены, и Марина с Алей поселились в их двухкомнатной квартире, в районе Братеево. Братеево – название бывшей деревни. Марине казалось, что она попала не в Москву, а в город Шевченко с тоскливо одинаковыми блочными строениями.
Какой смысл жить в Москве, если обитаешь в Братеево? С таким же успехом можно жить в Тамбове или в Туле.
Снежана с мужем снимали комнату в Химках. Но даже туда Марина не попала, потому что ее не звали. Снежана с мужем сами приехали в гости, привезли торт и бутылку шампанского. Алечке – ничего.
Марина даже онемела от возмущения. Не видеть дочь четыре года и приехать с пустыми руками. Это что-то уж совсем непостижимое.
Отправляясь в Москву, Марина побаивалась, что Снежана заберет Алю. Но Снежане это и в голову не приходило. Она вся была в своем новом Олеге.
Новый Олег – с бородой и глазами как у Че Гевары. Но без беретки. Держался скромно.
Марина с места в карьер поинтересовалась квартирным вопросом и выяснила, что Олег со Снежаной снимают комнату в коммуналке.
– А где вы раньше жили? – спросила Марина у Олега.
– С родителями, – ответил Олег.
– Тоже в коммуналке?
– Нет. У нас трехкомнатная квартира.
– Вы там прописаны? – допрашивала Марина.
– Ну да…
– А почему вы не можете жить в одной из трех комнат? Разве лучше снимать? Выбрасывать деньги на ветер?
Снежана сжалась. Она видела, что мать ступила на тропу бизона и теперь будет переть, затаптывая всех и вся на своем пути.
– Я предпочитаю жить отдельно, – сдержанно ответил Олег. Он видел, что не нравится теще, и это его сковывало.
Марина догадалась, что родители Олега недовольны его браком на женщине с ребенком. Если прописать Снежану, то автоматом надо прописывать и Алю. Они не хотели чужого ребенка. Кому нужны чужие дети…
– Вы можете разменять жилплощадь, – подсказала Марина.
– Родители меняться не хотят. Они там привыкли. А судиться с ними я не буду.
– Почему? – Марина не видела другого выхода кроме суда.
– Потому что это противоречит моим принципам. – Олег твердо посмотрел на тещу. – Родители уже старые, а я молодой. У меня профессия. Я все себе заработаю.
– Правильно, – одобрила Людка. – Поведение настоящего мужчины…
Для Людки было главным закончить дебаты и поднять рюмку. И залить глаза, тем более что на столе стояла классная закуска, приготовленная Мариной: паштет из печенки, три вида салатов, селедочка под шубой, а на горячее – утка в духовке, обмазанная медом. Запах по всему дому.
– За воссоединение семьи! – произнес Саша и метнул рюмку в рот.
Марина заметила, что он не пьет, а именно мечет – одну за другой. Научился. Еще Марина видела, что он заматерел, расширился в плечах, стал похож фигурой на Володьку, но выше ростом.
Семья накинулась на закуски. Максим ел не вилкой, как положено, а столовой ложкой, чтобы больше влезало.
Марина подвинула ему вилку и шлепнула по руке. Она не любила Максима за то, что он был похож на Людку. Копия. Те же мелкие глазки и воробьиный носик. Ей было стыдно сознаться даже себе самой, что она недолюбливает своего внука. Алю любила до самозабвения, а к Максиму – никакого чувства. Как к чужому. Людка это видела и обижалась: мало того что приперлась с ребенком и теперь в двух комнатах живут пять человек. Общежитие. И плюс к общежитию она не любит Максима и позволяет себе это не скрывать. Устанавливает свои порядки на чужой территории. И Людка, хозяйка дома, должна все это терпеть…
Но сейчас ей было весело, впереди предстояла реальная выпивка, закуска и десерт – торт с розами.
Марина не любила шампанское, у нее начиналась отрыжка. И тяжелые масляные торты, бьющие по печени, она тоже не ела.
Марина поднялась из-за стола и пошла на кухню. На кухне всегда есть дела: шкварчала в духовке утка. Марина отворила дверцу духовки. Жар пахнул в лицо.
«Заработает… – думала Марина. – Когда это он заработает? Десять лет уйдет. Вся молодость будет пущена на заработки. Копить… Во всем себе отказывать… А жить когда?»
В кухню вошла Снежана. Остановилась молча.
– Он тебе не нравится? – тихо спросила Снежана.
– При чем тут я? – удивилась притворно Марина. – Тебе жить.
– Вот именно, – твердо сказала Снежана. – Я тебя очень прошу, не вмешивайся. Хорошо? Если он тебе не нравится, мы не будем сюда приходить.
Значит, Снежана готова была обменять мать и дочь на чужого нищего мужика. Она пришла договариваться, чтобы бизон не вытаптывал ее пшеницу.
Марина выпрямилась, смотрела на Снежану. Тот же черный костюмчик, в котором она пять лет назад сидела в аэропорту. Другого так и не купили. Тот же кошачий ротик, встревоженные полудетские глаза. Все это уже было… Этот урок уже проходили.
Марина обняла дочь, ощутила ее цыплячьи плечики.
– От тебя уткой пахнет, – сказала Снежана, отстраняясь. И это тоже было – у Марины с ее матерью. Только тогда пахло капустой…
Ну почему самые близкие, самые необходимые друг другу люди не могут договориться? Потому что Россия – не Азербайджан. Там уважают старших. Старший – муаллим, учитель. А здесь – старая дура…
У Людки было два настроения: хорошее и плохое. Людка работала в парфюмерном отделе большого универмага. За день уставала от людей. Приходила домой в плохом настроении: хотела есть и ревновала Сашу. Ей казалось, он всем нужен. Стоит на базаре, как на витрине, и любая баба – а их там тысячи – может подойти и пощупать ее мужа, как овощ. Саша казался Людке шикарным, ни у кого из ее подруг и близко не было такого мужа. И когда кто-то говорил о Саше плохо, она радовалась. Значит, кому-то он может не нравиться. Меньше шансов, что уведут.
Людка возвращалась домой никакая, садилась за стол. Обед уже стоял, накрытый чистой салфеточкой. Так Марина ждала когда-то Рустама. А под салфеточкой – фасоль, зелень, паштет. На сковороде – люля-кебаб из баранины. У Марины была азербайджанская школа – много зелени и специй. Бедная Людка никогда так не питалась. Ее повседневная еда была – яичница с колбасой и магазинные пельмени.
Людка молча поглощала еду в плохом настроении, потом шла в туалет и возвращалась в хорошем – легкая, лукавая, оживленная.
– Мам… – обращалась она к Марине.
Марину коробила простонародная манера называть свекровь мамой. Ну да ладно.
– У нас на первом этаже есть сосед – алкаш Димка Прозоров.
Марина отметила, что Прозоров – аристократическая фамилия. Может быть, Димка – опустившийся аристократ.
– Так вот, у него трехкомнатная квартира, он ее может обменять на двушку с доплатой.
– Какую двушку? – не поняла Марина.
– Ну, на нашу. У нас же две комнаты. А будет три. У каждого по комнате. Вам с Алей – одна. Нам с Сашей – спальня. Максиму – третья.
– А телевизор где? – спросила Марина.
– У вас. Не в спальне же.
– Значит, мы будем ждать, когда вы отсмотрите свои сериалы? У ребенка режим.
– Да ладно, мам, – миролюбиво сказала Людка. – Разберемся, ей-богу. В трех же лучше, чем в двух.
Людка поднялась и опять пошла в туалет. Оттуда вышла разрумянившаяся, раскованная, как будто сняла себя с тормоза.
Марина представила себе квартиру алкоголика. Туда просто не войдешь.
– А какая доплата? – спросила Марина.
– Пять тысяч. – Людка вытащила из сумочки дорогие сигареты.
– Чего?
– Чего-чего… Ну не рублей же.
– Долларов? – уточнила Марина.
– Ну… – Людка закурила. Это был непорядок, в доме дети, но Марина смолчала.
– А он что, один в трех комнатах? – удивилась Марина.
– У него семья, но они сбежали. – Людка красиво курила, заложив ногу на ногу. Ноги в капроне поблескивали.
– Сбежали, но ведь прописаны, – резонно заметила Марина.
– Пропишутся в нашей. Мы же их не на улицу выселяем. Мы им двухкомнатную квартиру даем. В том же подъезде. Привычка тоже много значит…
«Пять тысяч доплата, – размышляла Марина. – Тысяча – на ремонт. Итого шесть». Значит, она с ребенком остается без единой копейки. Заболеть – и то нельзя. А впереди – одинокая больная старость. Старость – всегда одинокая и больная, даже в окружении детей.
– Нет у меня денег, – отрезала Марина.
– Да ладно, мам… Вы квартиру продали. У вас больше есть.
Откуда она знает? Наверное, Алечка проговорилась. Алечка, как старушка, везде сует свой нос. А что знают двое, знает свинья. То есть Людка.
– Не дам! – отрезала Марина. – Мне пятьдесят лет. И оставаться с голым задом я не хочу.
– Мам… Ну вы ж приехали… Вы ж живете. Я ведь вас не гоню. Почему не вложиться? Внести свою долю в семью.
Марина вырастила сына, Людкиного мужа. Это и есть ее доля.
– Слово «нет» знаешь? – спросила Марина.
– Ну ладно… На нет и суда нет, – философски заметила Людка и удалилась в туалет.
Оттуда она не вышла, а выпала. Головой вперед.
Марина стояла над ней, не понимая, что же делать. Людка была громоздкая, как лошадь. Марина затащила ее на половик и на половике, как на санях, отвезла в спальню. Дети бежали рядом, им было весело. Думали, что это игра.
Потом они втроем громоздили Людку на кровать. Максим снимал с нее обувь. Алечка накрывала одеялом.
Дети по-своему любили Людку и не боялись ее.
Марина решила проверить туалет и нашла в сливном бачке бутылку водки. Ей стало все ясно: вот откуда Людка черпает хорошее настроение.
Вечером, дождавшись Сашу, Марина спросила:
– Ты знаешь, что Людка пьет?
– А как ты думаешь? – отозвался Саша. – Ты знаешь, а я нет?
Он устал и был голоден. Марина с любовью смотрела, как он ест. Нет большего наслаждения, чем кормить голодного ребенка. Марина старалась не отвлекать его вопросами, но не выдержала:
– А что, не было нормальных порядочных девушек? Обязательно пьянь и рвань?
– Поздно было, – спокойно ответил Саша. – Максим родился.
– А почему ты мне не писал?
– О чем? – не понял Саша. – Я написал, когда Максим родился.
– О том, что твоя жена алкоголичка.
– Я не хотел, чтобы ты знала. Теперь знаешь.
– А что же делать? – спросила Марина.
– Понятия не имею. Я не могу бросить ребенка на пьющую мать. И Людку я тоже бросить не могу.
– Почему?
– Мне ее жалко. Что с ней будет, посуди сама…
– Надо жалеть себя. Во что превратится твоя жизнь…
– Значит, такая судьба…
У Саши было спокойное, бесстрастное лицо. Как у Володьки. Но эту черту – жалеть другого вместо себя – он перенял у матери. Однако Марина совмещала в себе бизоний напор и сострадание. А у Саши – никакого напора и честолюбия. Одно только сострадание и покорность судьбе.
Марина стала вить гнездо. Она всегда гнездилась, даже если оказывалась в купе поезда – раскладывала чашечки, салфеточки, наводила уют. Прирожденная женщина. Недаром Рустам околачивался возле нее столько лет…
Первым делом Марина выбросила старый холодильник «Минск». Ему было лет сорок. Резина уже не держала дверцу, пропускала теплый воздух. Еда портилась. Марина отдала «Минск» Диме Прозорову, а в дом купила холодильник немецкой фирмы «Бош». Марина влезла в святая святых, в свои доллары, вытащила громадную сумму, шестьсот долларов, и завезла в дом холодильник – белый, сверкающий, с тремя морозильными камерами, саморазмораживающийся. Лучше не бывает.
Людка увидела и аж села. Не устояла на ногах.
– У-я… – протянула она. – Сколько же стоит этот лебедь-птица?
– Не важно, – сдержанно и великодушно ответила Марина. Это было ее вложение. Ее доля.
Людка отправилась в туалет. Марина решила, что сейчас – подходящее время для генерального разговора.
– Я пропишусь, – объявила Марина, когда Людка вернулась и села закурить. Закрепить состояние. – Я пропишусь, – повторила Марина. Это была ее манера: не спрашивать разрешения, а ставить перед фактом.
– Где? – насторожилась Людка и даже протрезвела. Взгляд ее стал осмысленным.
– Где, где… – передразнила Марина. – У своего сына, где же еще…
– Значит, так, – трезво отрубила Людка. – Ваш сын к этой квартире не имеет никакого отношения. Эту квартиру купил мне мой папа. Они с матерью копили себе на старость, а отдали мне на кооператив. Потому что я вышла замуж за иногороднего. Это раз.
– Но ведь Саша здесь прописан… – вставила Марина.
– Второе, – продолжала Людка, – если вы пропишетесь, то будете иметь право на площадь, и при размене мне достанется одна третья часть. Разменяетесь и засунете меня в коммуналку.
Стало ясно: Людка не доверяла Марине и ждала от нее любого подвоха.
– Если бы вы хотели, чтобы мы с Сашей нормально жили, вы бы вложили свои деньги. А вы не хотите…
Марина отметила, что Людка не такая уж дура, как может показаться.
– Люда… – мягко вклинилась Марина.
Она хотела сказать, что человек без прописки – вне общества. Бомж. Она не сможет устроиться на работу и даже встать на учет в районную поликлинику… Но Людка ничего не хотела слушать.
– Нет! – крикнула Людка. – Слово «нет» знаете?
Вся конструкция жизни, выстроенная Мариной, рушилась на глазах, как взорванный дом.
Она могла бы сказать: «На нет и суда нет» – но суд есть. И этот суд – Саша.
Саша торговал на базаре, но не выдерживал конкуренции. Азеры – так называли азербайджанцев – имеют особый талант в овощном деле, в выращивании и в продаже. Они ловко зазывали покупателей, умели всучить товар, как фокусники. Молодым блондинкам делали скидку. Пожилых теток вытягивали на дополнительные деньги, манипулируя с весами. Килограмм произносили «чилограмм». И сколько бы их ни поправляли, не хотели переучиваться, и несчастный килограмм оставался с буквой «ч».
А Саша стоял себе и стоял. Покупатели обходили его стороной, от Саши не исходила энергия заинтересованности.
Покупатели спрашивали: «Виноград импортный?» Конкуренты рядом таращили глаза и били себя в грудь: виноград краснодарский… Хотя откуда в апреле виноград?
А Саша соглашался: да, импортный. А значит, выращенный на гидропонике, и витамины там не ночевали. Так… декорация. Вода и есть вода. И пахнет водой.
Дорогой товар портился. Хозяин штрафовал. Саша постоянно оказывался в минусе. Он не любил зависеть, а приходилось зависеть дважды – от покупателя и от хозяина.
Саша возвращался домой усталый, опустошенный.
Марина кормила его, вникала душой, ласкала глазами. Спрашивала:
– А раньше ты приходить не можешь?
– Если бы у меня была своя палатка, я поставил бы туда Ахмеда, а сам сидел дома, с тобой и с ребенком.
– Ахмед – это кто? – не поняла Марина.
– Наемный работник. Таджик.
– Ты его знаешь?
– Да нет. Они все Ахмеды. Таджики скромнее, чем азеры. Меньше воруют.
– Так поставь.
– Нужен начальный капитал. Знаешь, сколько стоит палатка? Три тысячи долларов.
Марина сидела, придавленная суммой. Три тысячи – половина ее квартиры.
– Я бы поставил палатку возле метро, зарегистрировался, заплатил за место – и вперед. Десять процентов Ахмеду, остальное – мое. Чистая прибыль. Маленький капитализм.
– А палатки подешевле есть? – поинтересовалась Марина.
– Стоит не палатка, а место. Надо платить тем, кто ставит подписи.
– А можно не платить?
– Можно. Но тогда тебе не дадут торговать.
– Мафия? – догадалась Марина.
– У каждого свое корыто. Если хочешь зарабатывать, надо тратить.
Саша ел, широко кусая хлеб, как в детстве, и его было жалко.
Марина поднялась и вышла из кухни. Через несколько минут вернулась и положила перед Сашей тридцать стодолларовых купюр.
Саша взял их двумя руками, поднес к лицу и поцеловал. Наверное, ему казалось, что это сон. И он проверял: сон или реальность?
– Ты что? – удивилась Марина. – Грязные же…
– Твои деньги не грязные. Они святые. Через полгода я тебе все верну…
– Да ладно, – снисходительно заметила Марина. – Когда вернешь, тогда и вернешь.
Она гордилась своей ролью дающего. В ней все пело и светилось.
– Не жалко? – проверил Саша.
– Нет… – Марина покачала головой. И это была чистая правда.
Людка за стеной говорила с кем-то по телефону. Бубнила басом. И не знала, какие эпохальные события свершаются без ее ведома и за ее спиной.
Также за спиной и без ведома Людки Марина отнесла остальные деньги в банк МММ. Об этом банке она узнала из телевизора. Все программы были забиты Леней Голубковым. Леня стал народным героем, как Чапаев. Он осуществлял народную мечту – разбогатеть на халяву.
Люди наивно верили, что деньги можно вложить в банк и они вырастут сами, как дерево. Эту народную наивность и доверчивость плюс экономическую безграмотность использовали ловкие Мавроди. Создали пирамиду, которая должна была неизбежно рухнуть. И рухнула. И что интересно, целая толпа обманутых вкладчиков отказывалась верить в коварство Мавроди и защищала его, собираясь на митинги.
Марина на митинг не пошла. Она поняла все сразу. В Марине сочетались доверчивость и тертость. Поэтому она понимала и народ, и Мавроди. И еще она поняла, что деньги сказали «до свидания» – и это с концами. Концов не найдешь.
У Марины высох рот – произошел выброс адреналина в кровь. Так организм реагирует на стресс. Она стала мелко-мелко креститься и прочитала «Отче наш» от начала до конца. А что еще? Не в милицию же бежать.
Прошло полгода. Саша деньги не вернул по очень простой причине. Ее можно было предвидеть. Явились конкуренты и подожгли палатку. Утром Саша вышел из метро и сразу увидел перекореженный огнем остов палатки. Три тысячи унеслись в небо, превратившись в дым.
Саша пришел домой, внутренне обугленный и обожженный, как его палатка. Марина вдруг поняла, что Сашу могли сжечь вместе с палаткой или отстрелить в подъезде. Но ограничились поджогом. И слава богу… Марина стала мелко-мелко креститься, приговаривать: «Господи, спаси и сохрани…»
Кроме Господа, ей не к кому было обратиться…
Неудовлетворенности накапливались, собирались в критическую массу. И однажды случился взрыв.
Причина – пустяковая, как всегда в таких случаях.
Дети разодрались из-за игрушки. Марина взяла сторону Али, а Людка, естественно, сторону Максима. С детей перешли на личности, в прямом смысле этого слова: начали бить друг другу морды.
Саша вбежал в комнату, стал отдирать Людку от матери. Но Людка дралась истово, как бультерьер. Саша облил ее водой из графина. Людка отделилась на мгновение. Саша обхватил ее руками и, не зная куда деть, поволок на балкон.
Людка заорала: «Он меня выкинет!» Дети взвыли. У Саши было звериное лицо. Марина вдруг испугалась, что он ее действительно выкинет с седьмого этажа. И сядет в тюрьму.
Марина кинулась между ними и стала отдирать Сашу от Людки. И в конце концов ей это удалось.
Людка рыдала. Саша трясся, его бил нервный колотун. У Марины высох рот, язык стал шерстяной. Однако все обошлось без уголовки.
Разошлись спать. Было одиннадцать часов вечера.
Ночью Марина не спала. Она понимала: неудовлетворенности никуда не денутся, а, наоборот, накопятся. Противоречия со временем не исчезают, а обостряются. Марина никогда не согласится с пьянством Людки. А Людка не смирится со злобной бабой, которая ходит по квартире как шаровая молния. Того и гляди шарахнет и все сожжет.
У Людки была своя правда: тяга к спиртному ей передалась от отца. Наследственное заболевание. Такое же, как любое другое. Например, как диабет. Почему диабетиком быть не стыдно, а алкоголиком стыдно? Ее любимый поэт Высоцкий тоже был алкоголик. И ничего. Правда, рано умер, но много успел.
Можно, конечно, подлечиться, но, говорят, женский алкоголизм злой, лечению не поддается. Можно себя закодировать, но тогда ты – это уже не ты, а кто-то другой. Можно зашиться, но, если не выдержишь и выпьешь, умрешь в одночасье. Зачем такой риск? Пусть все идет как идет.
Марина ей мешала, как шкаф, который поставили посреди комнаты. Свекровь явилась как снег на голову и, вместо того чтобы сидеть тихо, как мышь, – командует, устанавливает свои порядки на чужой территории. Ни один зверь это не выдержит: перегрызет горло, забьет рогами…
Марина не спала в эту ночь. Она боялась за Сашу. Поставленный в безвыходное положение, он действительно выкинет Людку с балкона или утопит в унитазе. И сядет на большой срок.
Лучше она уйдет сама. Самоустранится. Но куда? К Снежане – невозможно, да и не хочется. Остается государство. Существуют миграционные службы, которые занимаются беженцами из горячих точек.
Беженцев где-то сортируют и селят. Надо узнать – где. В каком-нибудь отстойнике.
К утру Марина приняла решение: Алю – к матери. Сама – в отстойник. Хуже не будет. Да она и не волновалась за себя. Марина могла бы жить в пещере, есть корку хлеба в день, только бы знать, что у детей все в порядке.
Марина встала в шесть часов утра. Написала записку. И ушла. В сумке у нее лежало пятьдесят рублей.
Русские бежали из Узбекистана, из Баку, из Чечни…
Чиновники, которые занимались переселенцами из горячих точек, буквально сходили с ума. На них наваливалась лавина людей, враз потерявших все. Когда одни люди теряют все, а вокруг ходят другие, кто ничего не потерял, живут в своих домах, едят из своих тарелок, – создается перепад справедливости. И обиженные – точнее, несправедливо обиженные – становятся полузверьми, как собаки: они и ненавидят, и гавкают, и стелются. И готовы укусить за лучший кусок, и высоко подскочить, чтобы выхватить кусок первому.
Марине не пришлось ни стелиться, ни подскакивать. Она спокойно доехала до Белого дома, там находился регистрационный пункт. Ее зарегистрировали вместе с остальными, такими же как она. Среди беженцев многие были из Баку, и это радовало. Все равно что встретить на войне земляков.
После регистрации подогнали автобус и отвезли в пустующий санаторий на станцию Болшево.
Некоторых разместили в санатории, а Марине повезло: ее поселили в новом доме из красного кирпича, который недавно выстроили для обслуги санатория. Обслуга подождет, у них есть площадь. А у беженцев нет ничего.
Марине досталась отдельная комната в двухкомнатной квартире.
В соседнюю комнату подселили русскую беженку из Чечни Верку с десятилетней дочерью Аллой. Верка была подстарковатая для такого маленького ребенка. Выглядела на пятьдесят. Может, поздно родила.
Девочка была похожа на кореянку, ничего с Веркой общего. Может, украла. А может, муж был кореец.
Верка рассказывала ужасы: пришли боевики, пытали, вырывали зубы. Марина слушала и холодела. Ей еще повезло: один раз дали по башке, и то не сильно.
– А за что? – спросила Марина.
– Как за что? За то, что русская.
Мир сошел с ума. Армян убивали за то, что они армяне. Евреев – за то, что евреи. А русских – за то, что русские.
– А чем они драли зубы? – спросила Марина.
– Плоскогубцами… – Верка раскрыла рот и показала младенчески голые десны в глубине рта…
Марина удивилась. Передние зубы у Верки целы, не хватает коренных. Если бы боевики орудовали плоскогубцами, то выдирали бы те зубы, к которым легче доступ, – то есть передние.
Марина подозревала, что Верка – аферистка и фармазонка. Всякий люд встречался среди беженцев. Одни прибеднялись, ходили в лохмотьях, чтобы вызвать жалость. Другие, наоборот, наряжались в золото и приписывали себе научные звания.
Был и настоящий профессор марксистско-ленинской философии. Он хорошо готовил и переквалифицировался в повара. Работал на кухне санатория.
Беженцев кормили три раза в день. Кормили неплохо, так что ни о какой пещере и корке хлеба вопрос не стоял.
Верка раз в месяц ездила в Москву, в Армянский переулок. Там Красный Крест выдавал пособие на детей. Деньги копеечные.
Марина быстро сориентировалась и стала подрабатывать на соседних дачах.
Вокруг санатория стояли кирпичные коттеджи «новых русских». Марина мыла окна, убирала, готовила. Ей платили два доллара в час. Это тебе не Армянский переулок.
Верка говорила, что у нее высшее образование и самолюбие не позволяет ей убирать за богатыми. Как она выражалась, жопы подтирать… Марина так не считала. Можно и жопы подтирать. Работать не стыдно. Стыдно воровать.
«Новые русские» и их жены с Мариной не общались. Они говорили, что надо сделать, принимали работу и платили. Марина как личность была им совершенно не нужна и не интересна.
Вторая категория хозяев – богатые пенсионерки. Из бывших. Бывшие жены, бывшие красавицы. Они знакомились с Мариной, вникали, выслушивали, сочувствовали. Марина охотно шла на контакт и быстро соображала: что можно срубить с этой дружбы? Но срубить ничего не удавалось. Самое большое – старые шмотки. Дружба дружбой, а деньги врозь.
Марина была счастлива, что освободилась от ненавистной Людки. В разлуке ненависть обострилась. При воспоминаниях о невестке Марину буквально трясло. По Алечке скучала и терзалась мыслью, что пятилетняя девочка спит в одной комнате со взрослыми.
Жизнь без Али немножко потеряла смысл. Одно только выживание не может стать смыслом жизни. Вокруг Марины были такие же пораженцы, как она. Это уравнивало и успокаивало. Марина никому не завидовала, кроме семьи профессора-повара. Он уехал из Баку вместе с женой, и они ходили рядышком, как Гога с Магогой, руки калачиком.
Марина тоже хотела бы вот так же, руки калачиком, а не путаться под ногами у своих детей.
Отсутствие счастья вредно для здоровья. Мозг вырабатывает гормон неудовольствия, и человек расстраивается, как отсыревший рояль. И фальшивит. Должна быть пара. Комплект. Марина скрывала свою неукомплектованность, но затравленность стояла в глубине глаз.
Где ты, Рустам? Хотя понятно где. Со своей женой Ирадой. Нужен другой. Хоть кто-нибудь…
Сорокалетняя бухгалтерша Галина с нижнего этажа нашла себе жениха. Но никому не показывала. Наверное, стеснялась. Завидущая Верка предположила, что Галина выходит замуж по расчету. Но ведь настоящая любовь – тоже расчет. Человек берет сильное чувство и дает сильное чувство. Равноценный обмен.
Однажды Галина явилась с таинственным видом. У жениха есть родственник. Не старый, 55 лет. Желает познакомиться для создания семьи. Есть площадь в Москве и загородный дом с дровяным отоплением и без удобств. По объявлениям он знакомиться боится, мало ли на кого нарвешься. Лучше по рекомендации. Галина рекомендовала Марину.
– Так я же старая, – напомнила Марина.
– А он что, молодой?
– Эти пергюнты в шестьдесят ищут тридцатилетних, – заметила Верка.
– Ему нельзя тридцатилетнюю. У него сердце, – объяснила Галина.
– Так он помрет… – заподозрила Марина.
– Помрет – квартиру тебе оставит…
Галина оставила телефон и ушла. Марина выждала два дня для приличия и позвонила.
Голос был непродвинутый. Офицерский. Ну и что? Рустам тоже был военный. А кого ей предоставят? Нобелевского лауреата?
Марина стала договариваться о встрече.
– Меня зовут Владимир Константинович, – представился претендент. – Я буду ждать вас возле метро «Сокол».
– Лучше на «Белорусской», – предложила Марина.
– Почему?
– Мне ближе.
Марина не знала Москвы и боялась запутаться.
– А как я вас узнаю? – спросила она.
– У меня будет в руках газета. Моя фамилия Миколайчук.
– Зачем мне ваша фамилия? Я же не милиционер…
Установили день, время и место.
Марина отправилась на место встречи, как когда-то к Рустаму. Но без шарфика в горох, а в беретке на голове, поскольку волосы наполовину седые и непрокрашенные.
Марина вышла с вокзала, дошагала до метро и тут же увидела Владимира Константиновича. Он стоял в сером плаще, высокий и прямоугольный, как пенал. Серые волосы зализаны назад, серое лицо с высоким носом. Как у покойника. В руках газета, как и договаривались.
Марина не остановилась. Прошла мимо, не сбавляя ходу. Таким же целеустремленным шагом дошагала до платформы и вошла в электричку. Поезд тронулся в ту же секунду. Марина обрадовалась, как будто убегала от преследования.
Всю дорогу смотрела в окно. Ее история повторилась с точностью до наоборот. Знакомство по телефону. Газета в руке, надежда на перемену участи. Но тогда это было легко, бегом, взявшись за руки. А сейчас Владимир Константинович стоял, как гроб, поставленный вертикально. И лицо – гробовое. Где ты, Омар Шариф? Где ты, моя молодость, мой город?
Марина тихо плакала, снимая слезы мизинцем. А когда вошла в свою комнату – упала, не раздеваясь, на кровать и зарыдала во всю силу, как тогда в подворотне. И чувство было то же самое: полная обреченность и невозможность изменить что-либо. Так, наверное, чувствует себя шахтер под завалом.
Марина выла, будто прощалась с жизнью. А девочка стояла и испуганно смотрела черными корейскими глазами.
Верка нашла работу в фирме: распространять пищевые добавки. За каждую проданную партию она получала процент. Ее заработок зависел от ее настойчивости. Верка впивалась в людей, как энцефалитный клещ. Было легче купить, чем спорить.
Марина проявила железную твердость. Она не верила ни в какие добавки и подозревала, что очередной Мавроди делает бизнес на здоровье людей. Верка клялась, стучала кулаком в грудь, как цыганка. Но Марина устояла. У нее была цель: накопить денег и вывезти Алечку на лето. Алечка будет три месяца жить на природе, не хуже «новых русских». Хуже, конечно. Но в конце концов, небо у всех одно, и воздух тоже один для всех.
В отстойнике начались волнения. Руководство санатория требовало освободить дом для законных владельцев.
У каждой стороны была своя правда. Беженцы заявляли, что они жертвы государства. И они – люди, а не стая бездомных собак.
Правда очередников состояла в том, что они пахали на санаторий десять лет почти бесплатно. За жилье. Они ждали эти квартиры как манну небесную, и даже больше. Манной можно только утолить голод, а в доме – жить до конца дней. И законные очередники не намерены расплачиваться за ошибки государства. Пусть беженцы отправляются в Нечерноземье. На пустующие земли, которые никому не принадлежат. Пусть строят себе дома, создают фермерские хозяйства, а не занимают чужую площадь.
У профессора был знакомый в Государственной думе. Он сказал: не отдавайте жилье, закон на вашей стороне.
И началось противостояние, как в Палестине, в секторе Газа.
Беженцы забаррикадировались в своих квартирах, а очередники собирались внизу в бурлящие толпы, выкрикивали угрозы и даже кидали камни.
В квартиру к Марине поднялись законные владельцы – молодая пара, муж и жена. Спокойно объяснили, что, если Марина не выкатится в течение трех дней, они наедут на ее семью.
Марина не знала, что такое «наедут», и поняла буквально: задавят машиной. Хорошо, если Людку. А если Алечку…
Марина побежала по поселку. Сняла возле станции комнату с верандой. Без удобств, как у Владимира Константиновича. Зато недорого. Она сложила узлы и в течение дня переволокла один за другим в новое жилище.
– Ты молодец против овец, – откомментировала Верка. – А против молодца – сама овца.
– А ты кто? – спросила Марина.
– Я никого не боюсь, – заявила Верка. – Я через все прошла…
Верка осталась. У нее действительно был большой опыт борьбы и противостояния. Она была бесстрашная и бессовестная – два качества, необходимые для выживания.
Профессора с женой оставили при санатории. Он был повар по призванию. В этой профессии любители превосходят профессионалов.
Оставили бухгалтера Галину. Она умела правильно составлять все документы, с ней не страшна никакая налоговая инспекция.
Хорошие специалисты оказались востребованы. Бесстрашные и рисковые остались сами. Остальные уехали в Кимры, создавать фермерское хозяйство. Где эти Кимры – никто толком не знал, но само слово «Кимры» не внушало доверия. Что-то среднее между кикиморой и мымрой.
Марина получила на лето Алечку. Каждое утро они просыпались в доме, пахнущем деревом, и видели в раскрытое окно цветущие яблони. Марине казалось, что ребенок наголодался за зиму. Она поила ее козьим молоком, откармливала витаминами. Алечка действительно расцвела, стала смугло-розовая, как абрикос. На нее оглядывались и заглядывались.
В середине лета заехали Снежана с Олегом. Марина отдала им комнату, а сама с Алечкой переселилась на веранду. Марина была рада, что семья в сборе. Все – как у людей. И готова была обслуживать и обихаживать эту семью, даже Олега.
Олег не ходил на работу. Снежана говорила, что он в отпуске. Но однажды после обеда к их даче подъехала машина, оттуда вышли двое бритых и черных, как чушки, и перемахнули через забор.
– Куда? – грубо остановила их Марина. – Ребенок спит.
Алечка действительно спала после обеда.
Чушки остановились. Появился Олег – он увидел их в окно. Втроем вышли за забор. Синхронно сели в машину и укатили. Все – молча. Как в кино.
Снежана стояла посреди участка. Смотрела вслед.
– Куда они его? – спросила Марина.
– Работать, – хмуро ответила Снежана.
Марина заподозрила неладное и стала вытягивать из дочери правду. И оказалось: год назад Олег взял деньги в долг, большую сумму, и не смог отдать вовремя. Его поставили на счетчик. Марина догадалась, что деньги он взял у бандитов. Порядочные люди на счетчик не ставят.
– А где он взял бандитов? – удивилась Марина. – Где он их нашел?
– Сейчас полстраны бандитов, – объяснила Снежана. – Сейчас проблема – где найти порядочных людей…
Олег – механик милостью Божьей. Он слышал машину, как хороший врач. Мгновенно ставил диагноз. Такие специалисты быстро раскручиваются, открывают свои мастерские, и деньги текут рекой. Но бандиты взяли Олега под колпак и заставили работать на себя: перебивать номера на ворованных машинах. Они сделали его соучастником, и, если их шайку раскроют, Олег автоматом пойдет в тюрьму. При этом они ничего ему не платили. Денежный ручей полностью стекал в бандитский карман.
Олег решил скрыться. Сбежать. И сбежал в Болшево. К теще под крыло. Наивно полагал, что его не найдут. Но бандиты быстро вычислили. Как? Непонятно.
– А на что он брал деньги? – спросила Марина.
– На гараж.
– А сколько стоит гараж?
– Шесть тысяч, – ответила Снежана.
Те самые шесть тысяч, которые сгорели. Лучше бы им отдала.
Олег мог лежать весь день под машиной, а потом вернуться домой и, минуя душ, сразу к Снежане под бочок. Ему не мешал запах машинного масла, и Снежане, похоже, не мешал. Может быть, этот запах казался ей преувеличенно мужским и возбуждающим.
Брезгливая Марина не могла этого вынести.
– Скажи, чтобы он мылся! – приказала она. – Иначе я скажу.
– Куда он полезет под холодную воду в потемках? – заступалась Снежана.
Дело в том, что дача была без удобств. Душ стоял во дворе. Это была просто бочка, поднятая на трехметровую высоту.
– Можно нагреть в ведре, – находила выход Марина.
– Он устал, – не соглашалась Снежана. – И вообще… Какое твое дело? Он же не к тебе ложится, а ко мне.
Марина решила действовать самостоятельно. Она дожидалась Олега и просто не пускала его в дом. Перекрывала вход своим широким телом.
– Сначала под душ, потом пущу, – ставила она свои условия.
Олег усмехался снисходительно, не драться же ему с тещей… Он шел под душ. Марина выносила ему старую простыню и стиральный порошок. Ей казалось, что мыла – недостаточно.
Через полчаса продрогший Олег пробирался к Снежане.
Луна светила в окно. Олег дрожал как цуцик. У него зуб на зуб не попадал. Снежана обнимала его руками, ногами, губами, каждым сантиметром своей кожи. Она его жалела. Она ему верила. Она знала, что когда-нибудь бандитская паутина разорвется и все кончится и забудется, как дурной сон.
Как разорвется паутина? Что может случиться? Но в жизни бандитов случается ВСЕ. Они так и живут. Или все – или ничего. Однажды настанет ничего. На это Снежана и рассчитывала. И ее уверенность передавалась Олегу. Он засыпал с надеждой. И жил – с надеждой.
Они были счастливы. Несмотря ни на что.
У Марины были свои резоны.
– Ты должна его бросить, – втолковывала она. – Пусть он уезжает, а ты и Аля оставайтесь здесь. Я буду вас содержать.
– Я не хочу его бросать и не хочу оставаться здесь. Я хочу быть с Олегом, – спокойно реагировала Снежана.
– И носить передачи в тюрьму…
– Если понадобится, буду носить.
– Декабристка… – комментировала Марина.
– А что лучше? Всю жизнь – в любовницах?
Снежана ударила по самому больному: под дых.
– Я любила, – отозвалась Марина.
– И я люблю. И не лезь в мою жизнь. Чего ты добиваешься? Чтобы я разошлась и сидела у тебя под юбкой?
Марина заплакала. Алечка решила оказать моральную поддержку. Она взяла синий фломастер и написала на березе печатными буквами: «Я люблю бабушку». Буква «Я» стояла наоборот.
Марина ворочалась всю ночь без сна.
Накануне она позвонила Людкиной соседке. Соседка доложила: Людка с Сашей помирились, живут душа в душу. Саша работает, ребенок растет, Людка пьет. Все хорошо.
Снежана и слушать не хочет о перемене участи. Значит, все так и будет продолжаться. Невестка – пьянь. Зять – соучастник. Родственнички.
Почему все живут как люди, а у нее – все не как у людей?
Что она сделала не так? В чем ее вина? Классический вопрос русской интеллигенции: кто виноват и что делать? Ей не приходило в голову, что никто не виноват и ничего не надо делать. Каждый живет свою жизнь. И чужой опыт никогда и никем не учитывается.
К утру вдруг пришло озарение. Марина с трудом дождалась, когда все встанут. За завтраком она торжественно объявила:
– Олег! Я знаю, что ты должен сделать. Ты должен пойти в милицию и заявить на твоих бандитов. Их арестуют, и ты станешь свободным, как птица.
– Какая птица, мамаша… – весело отозвался Олег. У него было хорошее настроение. – Фильтруйте базар.
– Что? – не поняла Марина.
– Думай, что говоришь, – перевела Снежана на русский язык.
– А почему базар?
– Базар – это противоречия.
– А на каком языке?
– На блатном, – объяснила Аля.
– Боже… – испугалась Марина. Шестилетняя Аля разбирается в блатном жаргоне. Что из нее вырастет?
– Если я их сдам, – объяснил Олег, – то они придут и завалят всю мою семью.
– Завалят? – переспросила Марина. – Это что, изнасилуют?
– Убьют, – уточнила Снежана.
– Кого? – похолодела Марина.
– Всех, – весело заключил Олег. – Придут и замочат.
Что такое «замочат», Марина поняла без объяснений. Ясно, что замочат в крови.
Марина перестала есть. Она просто не могла проглотить то, что было у нее во рту. И выплюнуть не могла. Она сидела с набитым захлопнутым ртом и в этот момент была похожа на лягушку, поймавшую комара.
Олег посмотрел на тещу и сказал серьезно:
– Марина Ивановна, вы законопослушный человек. Вы думаете: моя милиция меня бережет. Да? А сейчас другое время. И милиция другая. Сейчас менты. Я сдам бандитов, а менты сдадут меня. Понятно?
Марина сглотнула наконец. Повернулась к дочери. Раздельно произнесла:
– Или я. Или он.
– Он, – ответила Снежана.
– Ты меняешь родную мать на чужого мужика? – задохнулась Марина.
– Мы же говорили… – спокойно напомнила Снежана.
Вот и весь разговор. Коротко и ясно.
Последние полгода Марина работала в коттедже у банкира. У банкира – целый штат челяди: шофер, няня к ребенку и домашняя работница. Сокращенно: домраба. Именно этой рабой была Марина. Ей платили двести долларов в месяц, в то время как учителя в школе получали в десять раз меньше. Марина могла на свою зарплату снимать жилье, питаться и еще откладывать на черный день.
Марина совмещала в себе горничную и кухарку. Продукты питания были в ее распоряжении.
От многого немножко – не кража, а дележка. Марина откладывала кое-что для Алечки, так, по мелочи. Она называла это «сухой паек» и прятала паек в хозяйственную сумку. Сумку ставила в уголочек прихожей, чтобы не бросалась в глаза. Потом принималась за уборку.
Дом – большой, пятьсот метров. Марина вначале уставала, потом привыкла. Моющий пылесос, современные моющие средства и даже тряпки для мытья пола – все было заграничное, удобное. Дом сверкал чистотой.
В ванной комнате стояли тренажеры. В подвальном помещении – бассейн с подогревом. Все здесь было приспособлено для здоровья и долголетия. Обслуга в бассейн не допускалась. Для обслуги полагался душ.
Самого банкира Марина не видела. Он постоянно отсутствовал, зарабатывал деньги. Как Олег. Но банкир работал на себя, а Олег – на бандитов.
В спальне стояла фотография банкира: молодой и квадратный, как шкаф. Но ничего. С такими мозгами и с такими деньгами можно быть и шкафом.
Домом распоряжалась жена банкира Света. Света, с точки зрения Марины, походила на куклу Барби, сделанную в обществе слепых. Лицо – длиннее, чем надо, а тело – короче. При этом – белые прямые волосы и глубокое декольте – зимой и летом.
Марина догадывалась, что этот банкир слаще морковки ничего не ел. Барби обнаруживала его комплексы. Вот такую он хотел: блондинку с сиськами, но купил не в том магазине.
Марина тяжело вздыхала: разве Снежана хуже Светы? Лучше. Нежная, хрупкая, большеглазая девочка. Вот бы Снежана вышла за банкира, тогда Марина жила бы в этом доме хозяйкой, делала зарядку на тренажерах, плавала в бассейне, растила бы Алечку. А теперь вместо Алечки – Ниночка.
Ниночка, дочь Светы от первого брака, мордастая, со вздутыми щеками, росла как принцесса – вся в любви и витаминах. Ей полагалась нянька в отдельное пользование и индивидуальный уход. Она спала сколько хотела, потом ее кормили и водили гулять в песочницу, где Ниночка общалась с себе подобными.
Марина вспоминала, как она будила Алечку в детский сад, как Алечка не могла проснуться, и несправедливость стучала в груди, как пепел Клааса в сердце Тиля Уленшпигеля. Марина поджимала губы, чтобы справиться с разъедающим чувством. Она понимала, почему в семнадцатом году большевики подбили народ на революцию. «Грабь награбленное». Если бы сейчас появился новый Ленин и кликнул клич, Марина оказалась бы в первых рядах.
Приезжала мать Светы – ровесница Марины. За рулем, с мобильным телефоном. Она звонила, ей звонили. Чувствовалось, что ей все нужны и она, в свою очередь, нужна всем.
Марина смотрела на тещу и грезила наяву. Если бы она была банкировской тещей, тоже завела бы свое дело. У нее столько нераскрытых способностей. Марина бы выучилась водить машину, ездила в Москву, посещала модные тусовки, и ее показывали бы по телевизору. А может быть, завела бы себе поклонников и вертела бы ими. Вела молодую жизнь с маникюрами и мелированными волосами. А что? Пятьдесят лет – разве это старость? Старят не года, а бедность и неблагодарность.
Неблагодарность относилась не только к детям, но и к обществу. Где ты, Советский Союз, так любимый ею? Кто ты, сегодняшняя страна, которая превратила ее в бомжиху и обслугу?
Марина вздыхала, поджимала губы, смотрела по сторонам на чужое великолепие. Хорошо бы проснуться – и все как раньше. Все равны. Политбюро – как апостолы при Христе. Никто про них ничего не знает.
А сейчас – гласность. Все знают всё. Как тонет подводная лодка с молодыми мужчинами. Как голодают шахтеры. Как воруют власти предержащие, и это называется «нецелевое использование». Как каждый день в Чечне убивают друг друга. И при этом кто-то плавает в бассейне и пользуется чужим трудом…
У одних – все. У других – ничего. Кто ТАМ, наверху, этим занимается? Наверное, в небесной канцелярии сломался компьютер и сигналы не поступают.
Бывают дни, когда воедино стекается все хорошее. А бывает – наоборот: удары судьбы подкрадываются, как волки, с разных сторон и нападают одновременно.
Марина уходила, как обычно, отработав свои пять часов. На террасе ее остановила Света и сказала:
– Дайте, пожалуйста, вашу сумку.
– Зачем? – спокойно спросила Марина, хотя это спокойствие далось с трудом.
– На досмотр, – объяснила Света и потянула к себе сумку.
Марина уступила. Не будет же она драться.
Света перевернула сумку вверх дном. На веранду посыпалась мелитопольская черешня – сухая и крупная, три лимона и три яблока. Плюс рыбка в фольге. Собака сеттер подбежала и тут же съела то, что ей понравилось. Фрукты она только обнюхала.
– Вы уволены, – сказала Светлана.
Марину обдало жаром. Лицо горело. Она поняла, что ее заложила нянька. Сволочь.
– Вам что, жалко? – спросила Марина. – Это же мелочь…
– Мелочь, – согласилась Света. – Но я не знаю, что вы захотите украсть в следующий раз.
– Я не воровка, – обиделась Марина. – Я интеллигентный человек. У меня высшее образование.
– Интеллигентные люди не берут без спроса. А высшее образование может получить любой жлоб. Сколько угодно жлобов с высшим образованием.
Света протянула Марине расчет. В конверте. Марина поняла, что спорить бесполезно.
– Я больше не буду, – пообещала Марина.
– Я не хочу об этом думать, будете вы или нет.
Рынок рабочей силы был огромный. Спрос превышал предложения. Таких, как Марина, было гораздо больше, чем таких, как Света. Свете гораздо проще было взять незатейливую хохлушку лет сорока, которая не вздыхает, губы не поджимает и по сторонам не глядит.
– До свидания, – проговорила Света и протянула Марине пустую сумку.
Марина молча взяла сумку и пошла, глядя под ноги, стараясь не наступить на черешню.
Сеттер бежал следом, провожая до калитки. Он любил Марину и всегда норовил поцеловать ее, допрыгнуть до лица.
Марина подошла к даче и не увидела машины Олега. Ступила на порог – шкафы пусты, все раскидано, как будто обокрали. Было заметно, что собирались второпях.
Марина заглянула на половину хозяев.
– Ты моих не видела?
– Они уехали, – ответила хозяйка.
– А что-нибудь сказали?
– Сказали: до свидания.
Марина вернулась на свою половину и легла на кровать.
Судьба подвела черту. У нее ничего не осталось: ни семьи, ни работы, ни жилья. Видимо, кому-то ТАМ она очень не нравилась.
Марина лежала и ни о чем не думала. Просто лежала, и все. Ничего не хотелось: ни есть, ни думать.
Начиналась глубокая депрессия.
Марина пролежала три дня. А потом решила покончить с этим прогоревшим мероприятием, именуемым ЖИЗНЬ. Как говорила Марина Цветаева: вернуть Создателю его билет. Попутешествовала на этом свете, и хватит. Она никого не обвиняла. Просто сама себе была не нужна, не говоря о других.
Марина вышла из дома и пошла в лес. Как она поставит точку, еще не решила. Можно повеситься на шарфе, который подарил ей Рустам. Однако висеть на виду у всех – не очень приятно. Можно прыгнуть с обрыва в реку, но река мелкая. Переломаешься и останешься жить в инвалидном кресле. Ни туда ни сюда. Не живешь и не умираешь.
Марина увидела сваленное дерево и присела отдохнуть.
Пели птицы. Солнышко мягко сеяло свет сквозь листву. В муравейнике шуровали муравьи. У каждого куча дел. Марина задумалась, глядя на живой дышащий холм. И в этот момент из-за деревьев появилась женщина – не первой молодости, но ухоженная. С хорошей стрижкой.
Женщина подошла к дереву и спросила:
– Можно?
– Пожалуйста, – отозвалась Марина и подвинулась.
Марина не подозревала, что ТАМ послали ей ангела-хранителя. Ангел был не первой молодости и с хорошей стрижкой.
Анна
Ее звали Анна. А его – Ферапонт.
Ферапонт – это Андрей Ферапонтов, ее муж, с которым прожила 24 года. На следующий год – серебряная свадьба.
Жили по-разному: и хорошо, и плохо, и совсем никуда. С возрастом противоречия не сглаживаются, а, наоборот, усугубляются. Они усугубились до того, что Ферапонт перестал спокойно разговаривать. Все время визжал, как подрезанная свинья, точнее – кабан. Видимо, Анна его раздражала.
Анна послушала этот визг и смылась на дачу. Сначала на день, потом на неделю, а потом осела и просто стала жить в доме на земле. Тишина, покой, время движется по-другому, чем в городе. До работы – на полчаса ближе, чем из городской квартиры. Машина – в теплом гараже. Собака Найда любит до самоотречения, смотрит с нечеловеческой, космической преданностью. Чего еще желать?
Дом остался от деда – врача. Сталин собрался расстрелять его в пятьдесят третьем году как отравителя. Но умер сам. А дед остался. И жил еще двадцать лет.
Отец деда тоже был земский врач, знал Чехова. А прабабка – сестра милосердия – знала великих княжон. Осталась фотография: прабабушка в госпитале вместе с великими княжнами Ольгой и Татьяной. Нежные лица, белые крахмальные косынки с красным крестом, доверчивые глаза.
Знакомый художник написал картину с этой фотографии. Серо-бежевый блеклый фон. Глаза сияют сквозь времена.
Анна повесила эту картину у себя в спальне. И когда просыпалась, смотрела на девочек начала века, а они – на нее.
После деда, кроме дачи, осталась восьмикомнатная квартира в доме на набережной. Квартиру сдавали иностранцам, на это и жили. Хватало на все и еще оставалось на отдых и путешествия.
Путешествовать Анна не любила. Ездить с Ферапонтом, постоянно преодолевать его плохое настроение – себе дороже. А отправиться одной – тоска.
В привычной трудовой жизни для тоски не оставалось времени. Она вела четыре палаты. Научилась быстро ходить и быстро разговаривать. Как диктор телевидения. Если пациент попадался бестолковый и не понимал с первого раза, у нее закипали мозги. Но Анна терпела, поскольку принадлежала к потомственным земским врачам. «Надо быть милосердным, дядя…»
Дача – деревянная, но крепкая. В доме имелся свой домовой, он шуршал по ночам. Иногда раздавался звук как выстрел. Может быть, это приходил дед.
Анна просыпалась и замирала, как труп в морге. По одеялу пробегал любопытный мышонок, думал, что никого нет.
Анна ждала рассвета. Зрело решение: завести кошку. Живое существо – смотрит, мурлыкает.
День выдался теплый и нежный, как в раю.
Анна побрела в лес. Вышла на поляну.
На сваленном дереве сидела женщина средних лет. О таких говорят: простая, русская. А кто не простой? Королева Елизавета? Не простая, английская…
Анна подошла и спросила:
– Можно посидеть?
Женщина подвинулась, хотя место было – целое бревно.
Анна села. Стала смотреть перед собой.
Если разобраться, то в ее жизни все не так плохо. Муж хоть и орет, но существует на отдельно взятой территории.
Сын – способный компьютерщик, живет в Америке, под Сан-Франциско. Имеет свой дом в Силиконовой долине. Женат на ирландке.
Дочь – студентка медицинского института. Живет у мальчика. Но сейчас все так живут. Раньше такое считалось позором, сейчас – норма.
Получается, что у Анны есть все: муж, двое детей, работа, деньги. Чего еще желать? Но по существу у нее – только больные, которые смотрят, как собака Найда. Анна спит в холодной пустой постели, и по ней бегает мышь. Вот итог ее двадцатичетырехлетней жизни: пустой дом и домовой в подвале. А что дальше? То же самое.
Женщина на бревне сидела тихо, не лезла с разговорами. И это было очень хорошо. Анна застыла без мыслей, как в анабиозе. Потом встала и пошла. Не сидеть же весь день.
Прошла несколько шагов и обернулась. Женщина поднялась с бревна и смотрела ей вслед.
– Вы ко мне? – спросила Анна.
Женщина молчала. Собаки ведь не разговаривают.
– Проходите, – пригласила Анна.
Анна и Марина стали жить вместе.
Анне казалось, что она провалилась в детство: то же состояние заботы и защиты.
Домовой притих, вел себя прилично. Мыши не показывались, возможно, убежали в поле.
Анна просыпалась от того, что в окно светило солнце. Ее комната выходила на солнечную сторону. Девушки с фотографии смотрели ясно и дружественно, как будто спрашивали: «Хорошо, правда?»
Внизу на первом этаже слышались мягкие шаги и мурлыканье. Это Марина напевала себе под нос.
Анна спускалась вниз.
На столе, под салфеткой, стоял завтрак, да не просто завтрак, а как в мексиканском сериале: свежевыжатый апельсиновый сок в хрустальном стакане. Пареная тыква. Это вместо папайи. В нашем климате папайя не растет. Свежайший, только что откинутый творог. Никаких яиц каждый день. Никаких бутербродов.
Анна принимала душ. Завтракала. И уезжала на работу.
Марина оставалась одна. Врубала телевизор. Включала пылесос и под совместный рев техники подсчитывала свои доходы.
Анна платила ей двести пятьдесят долларов в месяц плюс питание и проживание. Хорошо, что банкирша Света ее выгнала. Там полный дом народа, постоянные гости, некогда присесть. А здесь – большой пустой дом, его ничего не стоит убрать. Народу – никого. Сама себе хозяйка.
Марина почувствовала себя как в партийном санатории. Казалось, что она открыла новую дверь и вошла в новый мир. Когда Бог хочет открыть перед тобой новую дверь, он закрывает предыдущую.
Предыдущие двери захлопнулись, и слава богу. Единственный гвоздь стоял в сердце: Аля. Когда Марина ела на обед малосольную норвежскую семгу, невольно думала о том, что ест сейчас Аля… Когда ложилась спать на широкую удобную кровать в комнате с раскрытым окном, невольно думалось: на чем спит Аля? И главное – где? Должно быть, на раскладушке в коридоре. Не положат же они шестилетнюю девочку в одну комнату с собой… А вдруг положат? Что тогда Аля видит и слышит? И какие последствия ведет за собой такой нездоровый опыт…
Марина тяжело вздыхала, смотрела по сторонам. Мысленно прикидывала: где Алечка будет спать? Можно с собой, можно в отдельную комнату. Места – навалом.
Марина собиралась переговорить на эту тему с Анной, ждала удобной минуты. Но найти такую минуту оказалось непросто. По будням Анна рано уезжала на работу и возвращалась усталая, отрешенная. Сидела как ватная кукла, с глазами в никуда. Не до разговоров. Марина чувствовала Анну и с беседами не лезла. Анна ценила это превыше всего. Самое главное в общении, когда удобно вместе молчать.
По выходным телефон звонил без перерыва. Звонили пациенты, задавали короткий вопрос, типа какое лучше лекарство – то или другое? И когда его лучше принимать – до или после еды? Казалось бы, какая мелочь. Разговор занимает две минуты. Но таких минут набиралось на целый рабочий день. Анна стояла возле телефона, терпеливо объясняла. А когда опускала трубку, из-под руки тут же брызгал новый звонок.
Марина хотела их всех отшить, но Анна не позволяла. Земские врачи прошлого, а теперь уже позапрошлого века тоже вставали среди ночи и ехали на лошадях по бездорожью. Сейчас хоть есть телефон.
И все-таки Марина нашла момент и произнесла легко, между прочим:
– Я привезу на месяц мою внучку…
Анна отметила: Марина не спрашивала разрешения, можно или нельзя. Она ставила перед фактом. Но Анна не любила, когда решали за нее. Она промолчала.
Анна уставала как собака, и присутствие в доме активного детского начала было ей не по силам и не по нервам.
Главный врач Карнаухов грузил на нее столько, сколько она могла везти. И сверх того. А сам принимал блатных больных. Можно понять. Зарплата врача не соответствовала труду и ответственности. Анна взятки не брала. Как можно наживаться на несчастье? А больное сердце – это самое настоящее несчастье. Во-вторых: деньги у нее были. Карнаухов страстно любил деньги, а они его – нет. Деньги никогда не задерживались у Карнаухова, быстро исчезали, пропадали. У Анны – наоборот. Она была равнодушна к деньгам, а они к ней липли в виде ежемесячной аренды за квартиру.
Подарки Анна принимала исключительно в виде конфет и цветов – легкое жертвоприношение, движение души. Анна складывала красивые коробки в бар. Это называлось «подарочный фонд».
Каждый день к вечеру Марина выходила встречать Анну на дорогу. Анна сворачивала на свою улицу и видела в конце дороги уютную фигуру Марины, и сердце вздрагивало от тихой благодарности. Спрашивается, зачем в ее возрасте нужен муж? Только затем, чтобы на него дополнительно пахать? Лучше иметь такую вот помощницу, которая облегчит и украсит жизнь… Марина и Анна, как две баржи, потерпевшие крушение в жизненных волнах, притиснулись друг к другу и потому не тонут. Поддерживают друг друга на плаву…
Вечером смотрели телевизор.
Анна включала НТВ, а Марина ненавидела этот канал за критику правительства. Марина была законопослушным человеком, и ее коробило, когда поднимали руку на власть. Нельзя жить в стране, где власть не имеет авторитета.
– При Сталине было лучше, – делала вывод Марина.
– При Сталине был концлагерь, – напоминала Анна.
– Не знаю. У меня никто не сидел.
Человек познает мир через себя. У Марины никто не сидел, а что у других – так это у других.
Иногда по выходным приезжали родственники: Ферапонт на машине и дочка с женихом – тоже на машине.
Анна носилась как заполошная курица, готовила угощение – руками Марины, разумеется.
Усаживались за стол. Какое-то время было тихо, все жевали, наслаждаясь вкусом. Дочь ела мало, буквально ковырялась и отодвигала. Она постоянно худела, организм претерпевал стресс. От внутреннего стресса она была неразговорчива и высокомерна.
Анна лезла с вопросами, нервничала, говорила неоправданно много, заискивала всем своим видом и голосом. Хотела им нравиться, хотела подольше задержать. Журчала, как весенний ручей.
– Помолчи, а? – просил Ферапонт и мучительно морщился. – Метешь пургу.
– А что я говорю? Я ничего не говорю… – оправдывалась Анна.
Слово брал жених. Марина не вникала.
Потом спрашивала:
– Горячее подавать?
На нее смотрели с возмущением, как будто Марина перебила речь нобелевского лауреата.
Марина не могла свести концы с концами. Анна – глава семьи. Все они живут за ее счет, точнее, за счет ее дедушки. Вся недвижимость – квартира, дача, мебель, картины, все богатство – это наследство Анны. Почему они все относятся к ней как к бедной родственнице? И почему Анна не может поставить их на место? Вместо того чтобы выгнать Ферапонта в шею, отдала ему квартиру, купила машину…
Марине было обидно за свою хозяйку. Так и хотелось что-нибудь сказать этой дочке, типа: «А кто тебя такой сделал? Ты должна матери ноги мыть и воду пить…» Но Марина сдерживалась, соблюдала табель о рангах.
Потом родственники уходили довольно быстро.
Дочь тихо говорила в дверях, кивая на Марину:
– Какая-то она у тебя косорылая. Найди другую.
– А эту куда? – пугалась Анна.
– А где ты ее взяла?
– Бог послал.
– С доставкой на дом, – добавлял Ферапонт.
Анна видела: с одной стороны, они ее ревновали, с другой стороны, им было плевать на ее жизнь. Жива, и ладно. У них – своя бурная городская жизнь. Дочь была влюблена в жениха. Ферапонт – в свободу и одиночество, что тоже является крайней формой свободы.
Марина отмечала: родственники вели себя как посторонние люди. Даже хуже, чем посторонние. С чужими можно найти больше точек соприкосновения. Так что – богатые тоже плачут. Этими же слезами.
Анна выходила провожать. Отодвигала миг разлуки.
Родственники садились в машины и были уже не здесь. Взгляд Анны их цеплял, и царапал, и тормозил.
Стук машинной дверцы, выхлоп заведенного мотора – и аля-улю… Нету. Только резкий запах бензина долго держится на свежем воздухе. Навоняли и уехали.
Марина испытывала облегчение. Она уставала вдвойне: собственной усталостью и напряжением Анны.
Анна тоже была рада освобождению. Доставала чистые рюмки.
– Все-таки все они сволочи, – разрешала себе Марина. – И мои, и твои.
– Знаешь, в чем состоит родительская любовь? Не лезть в чужую жизнь, если тебя не просят… Ты лезешь и получаешь по морде. А я не лезу…
– И тоже получаешь по морде.
– Вот за это и выпьем…
Они выпивали и закусывали. Иногда уговаривали целую бутылку. Принимались за песню. Пели хорошо и слаженно, как простые русские бабы. Они и были таковыми.
За это можно все отдать. И до того я в это верю, Что трудно мне тебя не ждать, Весь день не отходя от двери… –выводили Марина и Анна.
– И что, дождалась? – спросила Марина, прерывая песню.
– Кто? – не поняла Анна.
– Ну эта… которая стояла в прихожей.
– Не дождалась, – вздохнула Анна. – Это поэтесса… Она умерла молодой. И он тоже скоро умер.
– Кто?
– Тот, которого она ждала, весь день не отходя от двери.
– Они вместе умерли?
– Нет. В разных местах. Он был женат.
– И нечего было ей стоять под дверью. Стояла как дура…
– Ну почему же… Песня осталась, – возразила Анна.
– Другим, – жестко не согласилась Марина. – Все вранье.
Она вспомнила Рустама, который врал ей из года в год.
– Все врут и мрут, – жестко сказала Марина. Она ненавидела Рустама за то, что врал. И себя – за то, что верила. Идиотка.
– Но ведь песня осталась, – упиралась Анна.
И это правда. Ничто не пропадает без следа.
Дети не звонили Марине. Может быть, не знали куда. Марина исчезла из их жизни, хоть в розыск подавай. Но и розыск не поможет. Как найти человека, который вынут из обращения: ни паспорта, ни прописки…
Марина тоже им не звонила. Она поставила себе задачу: позвонить, когда купит квартиру. Она знала, что существует фонд вторичного жилья. Люди улучшают условия, старое жилье бросают, а сами переходят в новое. Эти брошенные квартиры легче сжечь, чем ремонтировать. Но существует категория неимущих, для которых и это жилье – спасение. Администрация города продавала вторичное жилье по сниженным ценам, в пять раз дешевле, чем новостройка.
Марина подсчитала: если она будет откладывать все деньги до копейки, то за два года сможет купить себе квартиру.
Анна весь день проводила на работе, и Марина по секрету подрабатывала на соседних дачах. И эти дополнительные деньги тоже складывала в кубышку. Кубышкой служила старая вязаная шапка.
Иногда, оставшись одна, Марина перебирала деньги в пальцах, как скупой рыцарь. Она просила Анну расплачиваться купюрами с большими рожами. Она боялась, что деньги с маленькими рожами устарели и их могут не принять.
Марина подолгу всматривалась в щекастого мужика с длинными волосами и поджатыми губами. Франклин. Вот единственный мужчина, которому она доверяла полностью. Только Франклин вел ее к жилью, прописке и независимости. Сейчас Марина жила как нелегальный эмигрант. Она даже боялась поехать в Москву. Вдруг ее остановят, спросят документы, и препроводят в ментовку, и запрут вместе с проститутками.
Володька и Рустам бросили ее в жизненные волны, карабкайся как хочешь или тони. А Франклин протянет ей руку и вытащит на берег.
Однажды днем зашла соседка, старуха Кузнецова, и попросила в долг сто рублей, заплатить молочнице.
Попросить у Марины деньги, даже в долг, значило грубо вторгнуться в сам смысл ее жизни.
– Нет! – крикнула Марина. – Нету у меня! – И заплакала.
«Сумасшедшая», – испугалась Кузнецова и отступила назад.
Собака Найда, чувствуя настроение хозяйки, залаяла, будто заругалась. Остальные собаки в соседних дворах подхватили, выкрикивая друг другу что-то оскорбительное на собачьем языке.
В середине лета Анна засобиралась в Баку.
В Баку проводилась всемирная конференция кардиологов под названием «Евразия». Съезжались светила со всего мира.
Карнаухов предложил Анне поехать, проветриться. Это была его благодарность за качественную и верную службу.
Узнав о поездке, Марина занервничала, заметалась по квартире.
Открыла бар, цапнула из подарочного фонда самую большую и дорогую коробку конфет «Моцарт». Положила перед Анной.
– Передашь Рустаму, – велела она.
– А ты не хочешь спросить разрешения? – легко поинтересовалась Анна.
– А тебе что, жалко? – искренне удивилась Марина. – У тебя этих коробок хоть жопой ешь.
Сие было правдой, коробок много. Но спрашивать полагается. В доме должна быть одна хозяйка, а не две.
Анна посмотрела на Марину. Она стояла встрепанная, раскрасневшаяся, как девчонка. Видимо, Марине было очень важно представить живого Рустама, как свидетеля и участника ее прошлой жизни. Не всегда Марина жила в услужении без возраста и прописки, нелегальная эмигрантка. Она была любимой и любящей. Первой дамой королевства, ну, второй… А еще она хотела показать Рустаму свою принадлежность к медицинской элите.
– Только ты не говори, что я у вас на хозяйстве, – попросила Марина. – Скажи, что ты – моя родственница. Жена двоюродного племянника.
– Если спросит, скажу… – согласилась Анна.
В конце концов, она вполне могла быть женой чьего-то двоюродного племянника. Все люди – братья…
Баку – красивый, вальяжный город на берегу моря. Жара стояла такая, что трудно соображать. А соображать приходилось. Доклады были очень интересные. Все собирались в конференц-зале, никто не манкировал, слушали сосредоточенно. Сидели полуголые, обмахивались.
Анна не пользовалась косметикой. Какая косметика в такую жару? В конференции участвовали в основном мужчины, девяносто процентов собравшихся – качественные мужчины, интеллектуальные и обеспеченные. Было даже несколько красивых, хотя умный мужчина – красив всегда. Но Анна не смотрела по сторонам. Эта сторона жизни: «он – она» – не интересовала ее совершенно. Была интересна только тема доклада: «Борьба с атеросклерозом».
Атеросклероз – это ржавчина, которая возникает от времени, от износа. Сосуды ржавеют, как водопроводные трубы. Их научились заменять, но чистить их не умеют. Для этого надо повернуть время вспять. Человек должен начать жить в обратную сторону, как в сказке. Однако Моисей, который водил свой народ по пустыне, имел точный возраст: 400 лет. И это может быть. Если атеросклероз будет побежден, человеческий век удвоится и утроится. По Библии, Сарра родила Иакова в девяносто лет. Вряд ли они что-то напутали в Библии.
Атеросклероз – это и есть старость. Потому что душа у человека не стареет. Вечная девушка или юноша. А у некоторых – вечный мальчик или девочка. Борис Пастернак определял свой возраст: 14 лет. Он даже в шестьдесят был четырнадцатилетним.
А сколько лет ей, Анне? От шестнадцати до девяноста. Иногда она была мудра, как черепаха, а иногда не понимала простых вещей. Ее было так легко обмануть… Потому что она сама этого хотела. «Я так обманываться рад…»
Скучно жить скептиком, всему знать свою цену. Никаких неожиданностей, никакого театра с переодеваниями. Все плоско и одномерно: счастье – временно, смерть – неизбежна. Все врут и мрут.
А вдруг не мрут? Просто переходят в другое время.
А вдруг не врут? Ложь – это не отсутствие правды. Ложь – это другая правда.
С Рустамом удалось встретиться в восемь часов утра. Другого времени у Анны просто не было. Конференция – это особое состояние. День забит, мозги – на определенной программе. И договариваться о встрече с незнакомым Рустамом – дополнительное усилие. Анна могла выделить на него пятнадцать минут: с восьми до восьми пятнадцати.
Рустам вошел в номер. «Уцененный Омар Шариф», – подумала Анна. Что-то в нем было и чего-то явно не хватало.
Анна не стала анализировать, что в нем было, а чего не хватало. У нее в распоряжении только пятнадцать минут.
Анна передала конфеты. На этом ее миссия заканчивалась. Рустам мог уходить, но ему было неудобно уйти вот так, сразу.
– Может, нужна машина, поехать туда-сюда? Может, покушать шашлык, зелень-мелень? – спросил он.
– Спасибо. Конференция имеет свой транспорт.
– Как? – Рустам напряг лоб.
– У нас проходит конференция кардиологов, – объяснила Анна.
При слове «кардиологов» Рустам напрягся. Этот термин он, к сожалению, знал очень хорошо.
– А можно моего сына показать? – спросил Рустам, и его лицо мгновенно осунулось. Глаза стали голодными. Сын – вот его непреходящий душевный голод. Перед Анной стоял совершенно другой человек.
– У вас есть на руках история болезни? – спросила Анна.
– Все есть, – ответил Рустам.
– Приводите его сегодня к двенадцати, – велела Анна. – До обеда можно будет организовать консилиум. Это будет частью конференции.
Рустам достал из кармана ручку и записал адрес на коробке конфет «Моцарт». Ему было не до конфет, не до Марины. Прошлое не имело никакого значения. Он стоял на стыке судьбы. Из этой точки судьба могла пойти вправо и влево.
Анна все понимала и не задавала лишних вопросов.
Рустам явился вовремя, как аристократ. Рядом с ним стоял его сын, серьезный, красивый мальчик. Его красота была не южной, рвущейся в глаза, а более спокойной. Глаза – серые, волосы – темно-русые, синюшные губы выдавали тяжелую сердечную недостаточность.
Его осмотрели детские кардиологи, профессор из Манилы и Карнаухов из Москвы. Состоялся консилиум. Каждый высказал свою точку зрения.
Мнения совпали: необходима операция. Время работает против ребенка. От постоянной кислородной недостаточности начинают страдать другие органы.
Еще пять лет назад такие дети считались обреченными. Но сейчас этот порок умеют устранять.
– Мы поставим вас на очередь, – сказал Карнаухов. – И вы приедете в Москву.
– А длинная очередь? – спросил Рустам.
– Примерно полгода.
– А почему так долго?
– Потому что больных много, а больница одна, – объяснила Анна.
– А где лучше, в Америке или у нас? – поинтересовался Рустам.
– В Америке дороже.
– Сколько? – уточнил Рустам.
Анна перевела вопрос на английский. Участники консилиума понимающе закивали. Назвали цену.
Анна перевела.
Брови Рустама приподнялись. Выражение лица стало дураковатое. Было очевидно, что для него названная сумма – понятие астрономическое.
– А что ты удивляешься? – вмешался мальчик. – Операция – высококвалифицированный, эксклюзивный труд, повышенная ответственность.
Анна перевела на английский. Участники консилиума заулыбались, закачали головами. Им нравился этот странный мальчик, и хотелось сделать для него все, что возможно.
– Ты любишь читать? – спросил Карнаухов.
– Естественно, – удивленно ответил мальчик.
– А что ты сейчас читаешь?
– Ленина и Сталина.
– У нас в доме собрание сочинений. От отца осталось, – объяснил Рустам. Видимо, отец был партийный.
Анна догадалась: мальчик не мог играть в детские игры, вести жизнь полноценного подвижного подростка. Много времени проводил дома, поэтому много читал.
– Интересно? – спросил Карнаухов.
– Сталин – неинтересно. А Ленин – много лишнего текста.
– А у кого нет лишнего текста?
– У Пушкина. Только те слова, которые выражают мысль.
Анна вспомнила слова Высоцкого: «Растет больное все быстрей…» Природа чувствует короткую программу жизни и торопится выявить как можно быстрее все, что заложено в личность. Поэтому часто тяжело больные дети умственно продвинуты, почти гениальны.
Прием был окончен.
Анна вышла проводить и попрощаться.
– Что передать Марине Ивановне? – спросила Анна.
– Спасибо… За вас…
Рустам заплакал с открытым лицом. Его брови тряслись. Губы дрожали.
В жизни Рустама обозначилась надежда, как огонек в ночи. И эту надежду организовала Анна, которую он еще вчера не знал.
Рустам стоял и плакал. Анна не выдержала. Ее глаза увлажнились.
Мальчик смотрел в сторону. Не желал участвовать в мелодраме. Ему нравилось чувствовать себя сверхчеловеком – презрительным и сильным. Вне и над. Над схваткой.
Должно быть, начитался Ницше.
Анна вернулась в Москву.
Марина, как всегда, ждала ее на дороге.
Анна вышла из такси. Вытащила чемодан, коробки с подарками. Азербайджанцы надарили национальные сувениры.
– Ну как? – спросила Марина вместо «здравствуй».
Этот вопрос вмещал в себя многое: «Видела ли Рустама? Передала ли конфеты? Как он тебе показался? Что он сказал?»
– Симпатичный, – одним словом ответила Анна. Это значило: видела, передала и посмотрела и скромно оценила – симпатичный.
– И ребенок замечательный, – добавила Анна.
– Какой ребенок? – не поняла Марина.
Этот вопрос она уже задавала однажды Джамалу. И у нее было то же выражение лица.
– Сын Рустама. У него врожденный порок сердца. Они приедут в Москву на операцию.
– С женой? – сумрачно спросила Марина.
– Не знаю. Наверное…
Вошли в дом. На столе стояли пироги: с мясом, капустой и черникой. На плите изнемогал сложный суп с самодельной лапшой.
Когда хочешь есть и тебе дают – это счастье.
Уселись за стол.
– А кто их позвал? – спросила Марина.
– Что значит «позвал»? Их же не в гости позвали. По медицинским показаниям.
– А ты при чем?
– Я – врач. Рустам попросил, я помогла. А что? Не надо было?
Марина поджала губы. Анна – это ЕЕ человек. ЕЕ территория. И Рустам позволил себе тащить ТУ, предательскую, жизнь на территорию Марины.
Анна отправила в рот ложку супа. Закрыла глаза от наслаждения. В этом изысканном ужине пряталась вся любовь и забота. И легкое тщеславие: «Вот как я могу».
– Это не суп, – подтвердила Анна. – Это песня.
– А что он сказал? – спросила Марина.
– Кто?
Ничего себе вопрос.
– Рустам, – напомнила Марина.
– Ничего. Спросил, сколько стоит операция в Америке.
– А мне что-нибудь передал?
– Передал: спасибо… – «За вас» Анна опустила. Это могло быть обидно. Хотя и просто «спасибо» – тоже обидно после всего, что было.
Марина опустила глаза.
– Если вы любили друг друга, то почему не поженились? – простодушно спросила Анна.
– У него другая вера, – кратко ответила Марина.
Не скажет же она, что он ее бросил. Стряхнул, как рукавицу.
– Ну и что? У нас почти все врачи другой веры. И у всех русские жены.
– Евреи, что ли? – уточнила Марина. – Так евреи – вечные беженцы. Они выживают.
– Интересная мысль… – Анна улыбнулась.
Ее друзья и коллеги меньше всего похожи на беженцев. Скорее на хозяев жизни. А татарин Акчурин – вообще первый кардиолог.
– А какой у него сын? – осторожно спросила Марина.
– Потрясающий. Я бы его украла.
«Мог бы быть моим, – подумала Марина. – Только здоровым. От смешения разных кровей дети получаются лучше. Как котлеты из разных сортов мяса».
– Мальчик похож на Рустама? – спросила Марина.
– Гораздо умнее…
Так. Значит, Рустам показался ей недалеким.
Анна почувствовала себя виноватой, хотя не знала, в чем ее вина.
Они сидели на кухне, пили чай с черникой, и над их головами метались многие чувства.
Хлопнула входная дверь. В доме раздались легкие шаги.
– Кто это? – испугалась Анна.
– Алечка, – хмуро ответила Марина.
– Кто? – не поняла Анна.
– Моя внучка, кто же еще…
Марина по привычке устанавливала свои порядки на чужой территории. А почему ей в ее возрасте надо менять свои привычки? И что особенного, если ребенок подышит воздухом и поест хорошую еду? Здесь всего навалом. Половина выкидывается собаке. И взрослым полезно: не замыкаться друг на друге, а отдавать тепло – третьему, маленькому и растущему. Поливать цветок.
Анна замерла с куском пирога. Стало ясно: она – за порог, Аля – тут же появилась в доме. Марина – самостоятельна и независима. А независимость часто граничит со жлобством. Грань тонка.
Алечка тем временем привычно метнулась к холодильнику, взяла йогурт. Села в кресло с ногами. Включила телевизор.
Передавали какую-то тупую игру. Тупой текст наполнял комнату. Алечка смеялась.
– Выключи телевизор, – потребовала Анна.
– А вы пойдите на второй этаж. Там не слышно, – посоветовала Аля.
– Иди сама на второй этаж! – прикрикнула Марина. – Там тоже есть телевизор.
– Там маленький… – заупрямилась Аля. Но все-таки встала и ушла.
Анна сидела, парализованная открытием. Ее (Анну) не любят. Ее просто качают, как нефтяную скважину. Качают все: и Ферапонт, и Карнаухов, и целая армия больных. Думала, Марина – простая русская душа – жалеет и заботится. Но… «Мечтанья с глаз долой, и спала пелена». Как у Чацкого.
Анна отодвинула тарелку и поднялась на второй этаж, в свою спальню.
Телевизор грохотал на втором этаже.
– Иди вниз, – приказала она Але.
– Ну вот… – пробурчала девочка. – То вниз, то вверх…
Однако телевизор выключила.
Алечкой можно было управлять, хоть и через сопротивление.
Марина осталась сидеть внизу с невозмутимым видом. Когда она нервничала, то надевала на лицо невозмутимость. Защитный рефлекс. Марина рисковала и понимала это. Если Анна взорвется и попросит их обеих убраться восвояси, ей просто некуда будет пойти. Алечку она отвезет к матери, а сама – хоть на вокзал. Сиди и встречай поезда.
Алечка спокойно спустилась. Кажется, пронесло. А может, и не пронесло. Завтра выгонят. Но завтра будет завтра. А сейчас надо покормить ребенка.
Марина усадила внучку за стол и стала подкладывать лучшие кусочки. Алечка вдохновенно ела, а Марина сидела напротив и благословляла каждый ее глоток.
Ночью Анна долго не могла заснуть.
Вспомнился рассказ деда, как во время войны он привел в дом беспризорника. Они с бабушкой его накормили, отмыли и одели. А он на другой день вернулся с друганами и обокрал дом. Доброту он воспринял как слабость.
Так и Марина. Выживает любой ценой. Карабкается из ямы вверх и тянет за собой внучку. Тут уж не до политеса. У таких людей, которые карабкаются из ямы вверх, не бывает ни совести, ни чести. Только желание вылезти.
Анна понимала всех. Только вот ее никто не хотел понять. Все только пользуются, как нефтяной скважиной. Но с другой стороны, если скважина существует, то почему бы ею не пользоваться… Нет зрелища печальнее, чем пустая заброшенная скважина.
Это был вторник. Анна запомнила, потому что вторник – операционный день. Анна вернулась уставшая.
Аля сидела перед телевизором и смотрела мультик.
Анна поужинала и поднялась в спальню. Хотелось пораньше лечь, побыть одной, почитать.
В спальне все было как всегда. Кроме одного: на фотографии «сестры» к лицам великих княжон пририсованы усы. Это значило одно: Аля пробралась в спальню и хозяйничала здесь как хотела.
Анна спустилась вниз и попросила Марину подняться.
Марина поднялась, увидела, но не нашла в этом ничего особенного. Дети любопытны и любознательны. Так они познают мир.
У Анны горела голова. Поднялось давление. Затошнило. Она села на кровать и попросила лекарство.
– Ты чего? – удивилась Марина. – Из-за этого? Я сотру.
– Марина… – слабым голосом произнесла Анна. – Собери, пожалуйста, свою внучку и отвези ее домой. Чтобы ее здесь не было. Поняла?
Марина вышла из комнаты.
Алечка сидела перед включенным телевизором, как нашкодивший котенок.
– Говна такая… – напустилась Марина. – Чего ты лазишь? Чего ты все лазишь?
Алечка задергала губами, готовясь к плачу. Ее личико стало страдальческим. Марина не могла долго сердиться на внучку. А на Анну могла.
«Подумаешь, барыня сраная…» – думала Марина, собирая Алечкины вещички.
Если бы Марина могла, если бы было куда – она ушла бы сейчас вместе с Алечкой навсегда.
Марина собрала спортивную сумку и вышла из дома, держа Алечку за руку.
Путь был долог. Сначала пешком до шоссе. Потом на автобусе, всегда переполненном. Далее – на метро.
В метро Алечка заснула, прикорнув теплой головкой к бабушкиному плечу. Марина смотрела сверху на макушку. Волосы были настолько черными, что макушка казалась голубой. К горлу Марины подступала любовь. Она не понимала, как может Алечка кому-то не нравиться.
Сейчас приедет к Снежане и уложит ребенка спать. А утром поищет работу возле дома – все равно кем, хоть сторожихой. Хоть за копейки, но рядом с семьей.
Снежана открыла дверь.
В Марину вцепился едкий запах кошачьей мочи.
– Какая вонь, – хмуро сказала Марина вместо «здравствуйте».
Кошка по имени Сара проследовала из комнаты в кухню.
У кошки ото лба к подбородку шла белая полоса, деля мордочку на две неравные части, от этого кошачье лицо казалось асимметричным.
– Какая уродина, – отреагировала Марина.
– Почему уродина? – возразила Алечка. – Очень красивая… – Она кинулась к кошке и подняла ее за лапы, поцеловала в морду.
Было видно, что Алечка соскучилась по дому и с удовольствием вернулась. Маленьким людям везде хорошо. Они не видят большой разницы между бедностью и богатством. Они видят разницу между «весело» и «скучно».
На кухне ужинал Олег. Видимо, только что вернулся с работы. «Много работает», – отметила про себя Марина.
Олег не вышел поздороваться. Он задумчиво ел, делал вид, что все происходящее за дверью кухни не имеет к нему никакого отношения.
– Ты разденешься? – спросила Снежана.
Она не спросила: ты останешься? Об этом не могло быть и речи. Вопрос стоял так: ты разденешься или сразу уйдешь?..
– Я пойду домой, – ответила Марина. – Уже поздно.
Марина сначала произнесла, а потом уже поразилась слову «домой». Она привыкла к дому Анны и ощущала его своим. Она его прибирала, знала каждый уголок и закуток. Это был чистый, экологический, благородный дом, запах старого дерева и живые цветы на широких подоконниках.
Анна лежала и смотрела в потолок. Она рассчитывала на Марину, хотела прислониться к чужой, приблудшей душе. Но чужие – это чужие. Только свои могут подставить руки, потому что свои – это свои.
Может быть, вернуться в Москву? Жить с Ферапонтом? Заботиться о нем? Плохая семья лучше, чем никакой. Это установлено психологами.
Анна встала и набрала московскую квартиру. Услышала спокойный, интеллигентный голос Ферапонта:
– Да… Я слушаю.
– Это я, – произнесла Анна. – Как ты там?
– Ничего… – немножко удивленно проговорил Ферапонт.
– Что ты ешь?
– Сардельки.
– А первое?
– Кубики.
– Хочешь, я приеду, сготовлю что-нибудь, – предложила Анна.
– Да ну… Зачем? – грустно спросил Ферапонт.
Анна почувствовала в груди взмыв любви.
– Может, мне переехать в Москву? – проговорила Анна.
– Ну, не знаю… Как хочешь…
В глубине квартиры затрещал энергичный женский голос.
– Ну ладно, я сплю, – сказал Ферапонт и положил трубку.
Анна смотрела перед собой бессмысленным взором. Что за голос? У него в доме баба? Или работает телевизор?
Анна прошла в кабинет, включила телевизор. Фигуристая молодуха с большим ртом энергично рассказывала о погоде. О циклоне и антициклоне.
Анна стояла с опущенными руками. А вдруг все-таки баба? Тогда возвращаться некуда. Остается вот этот пустой дом, затерянный в снегах.
«Хотя бы Марина скорее вернулась», – мысленно взмолилась Анна.
Она легла, попыталась заснуть. Но в мозгах испортилась электропроводка. Мысли коротили, рвались, прокручивались. И казалось, что этому замыканию не будет конца.
Где-то около двух часов ночи грюкнула дверь.
«Марина», – поняла Анна, и в ней толкнулась радость. Стало спокойно. Анна закрыла глаза, и ее потянуло в сон, как в омут. Какое это счастье – после тревожной, рваной бессонницы погрузиться в благодатный сон.
Наступила весна. Солнце подсушило землю.
Марина сгребала серые прошлогодние листья и жгла их. Плотный дым шел вертикально, как из трубы.
В доме раздался телефонный звонок. Марина решила не подходить. Все равно звонят не ей. А сказать: «Нет дома» – это то же самое, что не подойти. Там потрезвонят и поймут: нет дома. И положат трубку. Марина продолжала сгребать листья. Звонок звучал настырно и как-то радостно. Настаивал.
Марина прислонила грабли к дереву и пошла в дом.
– Слушаю! – недовольно отозвалась Марина.
– Позовите, пожалуйста, Джамала! – прокричал голос. Этот голос она узнала бы из тысячи.
– Какого еще Джамала? – задохнулась Марина. – Ты где?
– Я в Москве! Мне вызов пришел. Слушай, мне не хватает на операцию. Мне больше не к кому позвонить.
– Сколько? – крикнула Марина.
– Две штуки.
– Рублей?
– Каких рублей? Долларов.
– А ты что, без денег приехал? – удивилась Марина.
– Они сказали, в Америке дорого, а у нас бесплатно. Я привык, что у нас медицина бесплатная…
– А когда надо?
– Сегодня… До пяти часов надо внести в кассу.
– Ну, приезжай…
Марина не раздумывала. Слова шли впереди ее сознания. Как будто эти слова и действия спускались ей свыше.
– Приезжай! – повторила Марина.
– Куда поеду, слушай… Я тут ничего не знаю. Привези к метро. Я буду ждать.
– Ладно! – крикнула Марина. – Стой возле метро «Белорусская». Я буду с часу до двух.
– А как я тебя узнаю? – крикнул Рустам.
– На мне будет шарфик в горошек. Если я тебе не понравлюсь, пройди мимо.
Рустам странно замолчал. Марина догадалась, что он плачет. Плачет от стыда за то, что просит. От благодарности – за то, что не отказала. Сохранила верность прошлому. Ему действительно больше не к кому было обратиться.
Марина бежала до автобуса, потом ехала в автобусе. Ее жали, мяли, стискивали. Какие-то цыгане толкали локтем в бок.
Наконец Марина вывалилась из автобуса. Направилась к метро. И вдруг увидела, что ее сумка разрезана. Марина дрожащими пальцами расстегнула молнию. Распялила сумку. Кошелька нет. Две тысячи долларов – все, что она заработала за восемь месяцев, – перешли в чей-то чужой карман. Сказали: «До свидания, Марина Ивановна». Двадцать щекастых Франклинов помахали ей ручкой: «Гуд-бай, май лав, гуд-бай…» В глазах помутилось в прямом смысле слова. Пошли зеленоватые пятна. Чувство, которое она испытала, было похоже на коктейль из многих чувств: обида, злоба, ненависть, отчаяние и поверх всего – растерянность. Что же делать? Ехать на «Белорусскую» и сообщить, что денег нет. Деньги украли. Тогда зачем ехать? Рустам ждет деньги, от которых зависит ВСЕ. В данном случае деньги – больше чем деньги.
Марина остановила машину.
– Куда? – спросил шофер, мужик в возрасте.
– Туда и обратно, – сообщила Марина.
Мужик хотел уточнить, но посмотрел в ее лицо и сказал:
– Садитесь.
Марина вбежала в дом. Кинулась к письменному столу. В верхнем ящичке лежала груда янтарных бус, под бусами конверт, а в конверте – пачка долларов. Наивная Анна таким образом прятала от воров деньги. Думала, что не найдут. Если воры заявятся и сунутся в ящик – увидят бусы, а конверт не заметят.
Марина давно уже нашла этот конверт и даже пересчитала. Там лежали шесть тысяч долларов. Или, как сейчас говорят, шесть штук.
Она отсчитала две штуки, остальные сложила, как раньше. Сверху тяжелые бусы.
Марина не отдавала себе отчета в том, что делает. Главное, чтобы сегодня деньги попали к Рустаму. А там хоть трава не расти.
Марина себя не узнавала. А может быть, она себя не знала. Ей казалось, что она не простила Рустама. Она мысленно проговаривала ему жесткие, беспощадные слова. Она избивала его словами, как розгами. А оказывается, что все эти упреки, восходящие к ненависти, – не что иное, как любовь. Любовь с перекошенной рожей. Вот и поди разбери…
Машина ждала Марину за воротами. Шофер подвез к самому метро «Белорусская». Запросил пятьсот рублей. Еще вчера эта трата показалась бы Марине космической. А сегодня – все равно.
Рустам растолстел. Живот нависал над ремнем. Кожаная курточка была ему мала.
Марина помнила эту курточку. По самым грубым подсчетам, курточке – лет пятнадцать. Значит, не на что купить новую.
Она знала, что милиция разошлась по частным охранным структурам. Рустам – стар для охранника. Значит, сидит на старом месте. За гроши.
Рустам смотрел на Марину. Из нее что-то ушло. Ушло сверкание молодости. Но что-то осталось: мягкие славянские формы, синева глаз.
Рустам стоял и привыкал к ней. Жизнь помяла их, потискала, обокрала, как цыганка в автобусе. Но все-таки они оба живые и целые, и внутри каждого, как в матрешке, был спрятан прежний.
– Знаешь, я стал забывать имена, – сознался Рустам. – Не помню, как кого зовут. А то, что ты сказала мне в пятницу десять лет назад, – помню до последнего слова. Ты моя главная и единственная любовь.
Марина помолчала. Потом сказала:
– И что с того?
– Ничего. Вернее, все.
Ничего. И все. Это прошлое нельзя взять в настоящее. Марина не может позвать его в свою жизнь, потому что у нее нет своей жизни. И он тоже не может позвать ее с собой – таковы обстоятельства.
У них нет настоящего и будущего. Но прошлое, где звенела страсть и падали жуки, принадлежит им без остатка. А прошлое – это тоже ты.
Марина протянула деньги.
Рустам взял пачку, сложил пополам, как обыкновенные рубли, и спрятал во внутренний карман своей многострадальной курточки.
– Я не знаю, когда отдам, – сознался он.
Вторичное жилье сделало шаг назад и в сторону. Это па называется «пусть повезет другому». Но было что-то гораздо важнее, чем жилье, прописка и пенсия.
– Ты ничего не меняй, ладно? – вдруг попросил Рустам. – Я к тебе вернусь.
– Когда?
– Не знаю. Не хочу врать.
– И то дело… – усмехнулась Марина. Раньше он врал всегда.
Марина возвращалась на метро. На автобусе. Потом шла пешком. Свернула в лес к знакомому муравейнику. Села на сваленное бревно.
Какая-то сволочь воткнула в муравейник палку, и муравьи суетились с утроенной силой. Восстанавливали разрушенное жилище.
Марина вгляделась: каждый муравей тащил в меру сил и сверх меры. Цепочку замыкал муравей с огромным яйцом на спине. Муравей проседал под тяжестью, но волок, тащил, спотыкаясь и останавливаясь. И должно быть, вытирал пот.
Марина вдруг подумала, что Земля с людьми – тоже муравейник. И она среди всех тащит непосильную ношу. А кто-то сверху сидит на бревне и смотрит…
Стрелец
I
Костя – бывший инженер, а ныне неизвестно кто – родился в декабре под созвездием Стрельца. Люди под этим знаком любят срывать цветы удовольствия и не превращать жизнь в вечную борьбу, как Николай Островский. Стрелец – это не скорпион, который сам себя жалит.
Костя легко двигался, всегда скользил, если была зима. Разбежится и заскользит. Прыгал, если было лето: подскочит и достанет до высокой ветки, если в лесу.
И по жизни он тоже вальсировал, если ему это удавалось. Жена досталась красивая, многие хотели, а Костя получил. Сын появился быстро – продолжатель рода, наследник. Правда, наследовать было нечего. Инженер при коммунистах получал позорные копейки. Гримаса социализма…
Но вот пришла демократия, и Костя оказался на улице. Вообще никаких денег: ни больших, ни маленьких. Ничего. Институт закрылся. Помещение сдали в аренду под мебельный магазин. Понаехали армяне, открыли салон итальянской мебели. Предприимчивая нация.
Инженеры-конструкторы разбрелись кто куда. Костин друг Валерка Бехтерев сколотил бригаду, стали обивать двери. Закупили дерматин, поролон, гвозди с фигурными шляпками. Ходили по подъездам.
Косте такая работа была не по душе. Он не любил стоять на месте и тюкать молотком. Ему хотелось движения, смены впечатлений. Костя стал заниматься частным извозом, или, как говорила жена, – выехал на панель.
Машина у него была всегда, еще со студенчества. И красивая жена ему досталась благодаря машине. И благодаря гитаре. Когда Костя пел, слегка склонив голову, то казался значительнее. Что-то появлялось в нем трагически непонятое, щемящее. Голос у него был теплый, мужской – баритональный тенор. Руки – длинные, пальцы – сильные, смуглые, шея – высокая. Как будто создан для гитары, в обнимку с гитарой, в обнимку с рулем машины, с изысканным красным шарфиком, благоухающий тонким парфюмом. Хотелось закрыть глаза и обнять. Вернее, наоборот: обнять и закрыть глаза.
Однако теща была постоянно недовольна: то поздно пришел, то мало денег. А чаще – и то и другое.
Костя мысленно звал тещу «бегемотиха Грета», хотя у нее было другое имя – Анна Александровна.
Если бы Костя знал, что в нагрузку к жене придется брать эту бегемотиху Грету, никогда бы не женился. Но теща возникла, когда уже было поздно: уже родился ребенок, надо было жить, вести хозяйство.
Жена – учительница. Учителям тоже не платили, но она все равно шла и работала. Ей нравился процесс даже в отсутствие денежного результата. Она вставала перед классом, на нее были устремлены 30 пар глаз, и она ведала юными душами. Рассказывала про Онегина, какой он был лишний человек в том смысле, что эгоист и бездельник. Такие люди лишние всегда, поскольку ничего не оставляют после себя. А общество здесь ни при чем, лишние люди были, есть и будут во все времена.
Получалось, что Костя – тоже лишний человек, никуда не стремится, ни за что не хочет отвечать.
Теща была во многом права – по содержанию, но не по форме. То, что она говорила, – правда. Но КАК она говорила – Косте не нравилось: грубо и громко. Все то же самое можно было бы спеть, а он бы подыграл на гитаре. Было бы весело и поучительно. У тещи плохо с юмором и с умом, поскольку ум и юмор – вещи взаимосвязанные и взаимопроникающие.
Если бы у Кости спросили, кем он хочет стать, он бы ответил:
– Наследником престола.
Не королем, потому что у короля тысяча дел и обязанностей. А именно наследником, как принц Чарльз. Ничего особенно не делать, скакать на лошадях, иметь охотничий домик и встречаться там со взрослой любовницей.
Однако Костя принцем не был. Его отец – далеко не король, хотя и не последний человек. Когда-то работал торговым представителем в далекой экзотической стране, но проворовался и потерял место. Отца сгубила жадность. Костя не унаследовал этой черты, вернее, этого порока. Он не был жадным, более того – он был очень широким человеком, но ему нечего было дать. И за это его упрекала теща, а уж потом и жена. Жена со временем подпала под влияние своей мамы, и Костя уже не видел разницы между ними. Разговор только про деньги, вернее, про их отсутствие, когда в жизни так много прекрасного: музыка, песни, гитара, люди на заднем сиденье его машины, да мало ли чего… А теща – про комбинезон для ребенка, жена – про зубы: у нее зубы испортились после родов, кальция не хватает. А кальций в кураге, в хурме, в икре, и все опять упирается в деньги.
Костя мечтал найти мешок с деньгами и решить все проблемы. Навсегда. Тогда он купил бы себе охотничий домик, как принц Чарльз, и жил один, без давления. Завел бы себе любовницу – молодую или зрелую, все равно. Лучше молодую. А теще принес бы деньги в коробке из-под обуви… Лучше из-под телевизора. Интересно, о чем бы она тогда разговаривала…
Еще он мечтал быть спонсором телевизионной программы «Что? Где? Когда?»… Сидели бы интеллектуалы и угадывали. А Костя – скромно, в черной бабочке за их спиной. А рядом жена с голой спиной и сыночек, расчесанный на пробор, и тоже в бабочке. А все бы видели – какой Костя скромный и положительный, жертвует безвозмездно на золотые мозги. Интеллект – это достояние нации.
«Хотеть – не вредно» – так говорила жена. Сама она тоже не могла заработать, но почему-то себе в вину это не ставила. Она считала, что зарабатывать должен мужчина, как будто женщины – не люди.
Третья мечта Кости – свобода и одиночество, что, в сущности, одно и то же.
Свободу и одиночество Костя обретал в машине. Он ездил по городу, подвозил людей. Никогда не торговался. Когда его спрашивали: «Сколько?» – он отвечал: «Не знаю. На ваше усмотрение». Усмотрение у всех было разное, но на редкость скромное. Костя даже брать стеснялся. Ему ли, гордому Стрельцу, протягивать руку за деньгами.
Иногда в машину заваливалась веселая компания с гитарой. Костя пел с ними, но не вслух, а внутренне, как Штирлиц. Петь громко и принимать равноценное участие он стеснялся, поскольку шофер – это обслуга. И короткое «шеф» только подчеркивало, что он никакой не «шеф», а наоборот.
Однажды Костя подъехал к вокзалу, но его тут же погнали, что называется, в шею. У вокзала орудовала своя шоферская мафия, и посторонних не пускали. У шоферов свои пастухи, как сутенеры у проституток. Если бы Костя имел деловые качества, он сам бы мог стать пастухом, иметь серьезные сборы. Но Стрелец – он и есть Стрелец. Быть и иметь. Косте легче было не иметь, чем перекрутить свою сущность.
Хорошо бы, конечно, иметь и быть. Как Билл Гейтс, который зарабатывал любимым делом. Если бы ему ничего не платили, он все равно занимался бы компьютерами.
Костя всегда спрашивал адрес и очень не любил, когда отвечали: «Я покажу». Он чувствовал себя марионеткой, которую дергают за нитку: направо, налево… Ему еще не нравилось, когда садились рядом. Казалось, что чужое биополе царапает его кожу. Костя открывал заднюю дверь и сажал на заднее сиденье, которое, кстати, самое безопасное.
А еще он не любил выслушивать чужие исповеди. Иногда пассажир, чаще женщина, начинал выгружать свою душу и складывать в Костю, как в мусорный пакет. Ему хватало тещи.
Больше всего Косте нравилось ездить по городу в дождь. Включить музыку – и вперед. Ничего не видно, и кажется, что ты – один. Только музыка и движение. Дворники работают, отодвигая воду с ветрового стекла. И этот ритм тоже успокаивает.
Однажды из дождя выскочил парень, резко открыл дверцу, запрыгнул почти на ходу, сильно хлопнул дверцей и скомандовал:
– Вперед!
– Куда? – не понял Костя.
– Вперед, и очень быстро!
«Козел», – подумал Костя, хотя парень был похож не на козла, а на филина. Круглое лицо, неподвижные глаза и нос крючком.
Имели место сразу три нарушения: сел рядом, адреса не назвал и хлопнул дверцей так, будто это броневик, а не жидкая «пятерка».
– Куда все-таки? – с раздражением спросил Костя, выводя свою «пятерку» с маленькой дорожки на широкую трассу.
Костя поглядел на парня, но увидел только его затылок. Затылок был широкий и плоский, будто он его отлежал на подушке.
Филин смотрел на дорогу. Костя заметил, что с ними поравнялся черный джип, опустилось боковое стекло, обозначилось длинное лицо с ржавой растительностью.
– Уходи, – напряженно скомандовал Филин.
Его напряжение передалось Косте. Костя рванул машину вперед и помчался, виляя между другими машинами. Джип исчез, потом снова появился, но не справа, а слева. Со стороны Кости.
Костя вильнул в переулок, нарушая все правила.
– Ушли, – выдохнул Филин.
– А теперь куда? – спросил Костя и в это время услышал сухой щелчок. И увидел джип, который не преследовал, а уходил. Это мог быть другой джип. Мало ли сейчас иномарок на московских дорогах.
Костя хотел выяснить, куда же все-таки ехать. Но Филин заснул, опустив голову на грудь. Закемарил. Костя остановил машину. Его смутила какая-то особенная тишина. Полное отсутствие чужого биополя. Он обошел машину, открыл дверь. Филин сидел в прежней позе. В виске у него темнела круглая бескровная дырка. По лицу ото лба спускалась зеленоватая бледность, какой никогда не бывает у живых.
– Эй! – позвал Костя. – Ты чего?
Если бы Филин мог реагировать, он бы сказал: «Меня убили, не видишь, что ли…»
Костя оторопел. Он видел по телевизору криминальные разборки, но это было на экране, так далеко от его жизни. Где-то в другом мире, как среди рыб. А тут он вдруг сам попал в разборку, в ее эпицентр.
Что же делать? Естественно, обращаться в милицию. Они знают, что в этих случаях делать.
Костя поехал со своим страшным грузом, как «черный тюльпан». Он смотрел на дорогу, высматривая милиционера или милицейский пост. Поста не попадалось. У Кости в голове рвались и путались мысли. Сейчас милиция завязана с криминалом, в милиции служит кто угодно. Это тебе не Америка.
Спросят:
– Кто убил?
– Не знаю, – скажет Костя.
– А как он оказался в твоей машине?
– Заскочил.
– Знакомый, значит?
– Да нет, я его в первый раз вижу.
– А может, ты сам его убил?
– Зачем мне его убивать?
– Вот это мы и проверим…
Костю задержат. Хорошо, если не побьют. Могут и побить. А могут просто намотать срок. Не захотят искать исполнителей и посадят. Теща будет рада. А жена удивится – каким это образом вальсирующий Костя попал в криминалитет. Туда таких не берут. Там тоже нужны люди с инициативой и криминальным талантом. А гитара, шарфик и парфюм там не проходят.
Костя свернул и въехал во двор. Остановил машину против жилого подъезда под номером 2. Вытащил Филина и посадил на землю, прислонив спиной к кирпичной стене. Люди найдут, вызовут милицию – все своим путем, только без него. Без Кости.
Костя вернулся в машину. Перед тем как уехать, бросил последний взгляд на Филина. Он был молодой, немножко полноватый, с лицом спящей турчанки, видимо, походил на мать. У него было спокойное, мирное выражение. Он не страдал перед смертью, скорее всего он ничего не успел почувствовать. Он убегал и продолжал бежать по ту сторону времени.
У Кости мелькнула мысль: может, его не бросать? А что с ним делать? Привезти домой? То-то теща обрадуется…
После этого случая Костя долго не мог сесть в машину. Ему казалось: там кто-то есть… Может, душа этого парня плавает бесхозно.
Дома Костя ничего не сказал. Ему было неприятно об этом помнить, а тем более говорить.
Однако время шло. Костя постепенно убедил себя в том, что снаряд не падает дважды в одно место. Значит, смерть больше не сядет в его машину…
Он снова начал ездить. И в один прекрасный день, а если быть точным, то в дождливый октябрьский вечер, в его машину села ЛЮБОВЬ. Потом он совместил эти два обстоятельства в одно, поскольку любовь и смерть являют собой два конца одной палки. Но тогда, в тот вечер, Костя ничего не заподозрил. Просто стройный женский силуэт в коротком черном пальто, просто откинутая легкая рука. Она голосовала.
Костя мог бы появиться минутой раньше или минутой позже – и он проехал бы мимо своей любви. Но они совпали во времени и пространстве. Костя затормозил машину, ничего не подозревая. Она села грамотно – назад, дверь прихлопнула аккуратно, назвала улицу: Кирочная.
Костя никак не мог найти эту чертову улицу. Они крутились, возвращались, смотрели в карту, и в конце концов выяснилось, что такой улицы нет вообще. То есть она есть, но в Ленинграде. Она назвала «Кирочная», а надо было улицу Кирова. Они сообразили совместными усилиями.
Позже она расскажет, что занимается антиквариатом. Скупает старину, реставрирует и продает. Такой вот бизнес. Накануне ездила в Петербург, купила чиппендейл – что это такое, Костя не знал, а переспрашивать постеснялся. Однако догадался, что чиппендейл – на Кирочной. А сейчас нужна была улица Кирова.
Костя нашел улицу и дом. Она полезла в сумочку, чтобы расплатиться. Косте вдруг стало жаль, что она уйдет. Он предложил подождать.
Она подумала и спросила:
– Вы будете сидеть в машине?
– Естественно.
– Это может быть долго. Давайте поднимемся вместе.
Они поднялись вместе. Дверь открыла старуха, похожая на овечку, – кудряшки, очки, вытянутое лицо.
– Это вы? – спросила Овечка.
– Да. Это я, Катя…
Костя услышал ее имя. Оно ей не соответствовало. Катя – это румянец и русская коса. А в ее внешности было что-то от филиппинки: маленькое смуглое личико, прямые черные волосы, кошачьи скулы, невозмутимость, скромность. В ней не было ничего от «деловой женщины», или, как они называются, бизнесвумен. Отсутствие хватки, агрессии – скорее наоборот. Ее хотелось позвать в дом, покормить, дать подарочек…
– Это вы? – еще раз переспросила Овечка.
– Да, да… – кивнула Катя. – Это я вам звонила.
– А он кто? – Овечка указала глазами на Костю.
– Я никто, – отозвался Костя, догадавшись, что старуха боится.
Овечка вгляделась в Костю и поняла, что бояться его не следует. Она предложила раздеться, потом провела в комнату, показала лампу и стол. Лампа была с фарфоровыми фигурками, а стол-бюро – обшарпанный до невозможности.
Катя и старуха удалились в другую комнату, у них были секреты от Кости. Костя огляделся по сторонам. Вся комната в старине, начиная от люстры, кончая туркменским ковром на полу. На стенах фотографии и гравюры в рамках конца века. Костя как будто окунулся в другое время и понял, что ему там нравится. Там – неторопливость, добротность, красота. Там – все для человека, все во имя человека.
Костя стал рассматривать фотографии. Мужчины со стрельчатыми усами, женщины – в высоких прическах и белых одеждах. Они тоже любили… Вот именно: они любили, страдали и умерли. Как все. Только страдали больше и умерли раньше.
Катя и старуха вернулись довольные друг другом. Костя предположил, что Овечка не в курсе цен. Катя ее, конечно, «умыла», но не сильно, а так… слегка. «Умывают» все, на то и бизнес. Но важно не зарываться. Иначе все быстро может кончиться. Быстро и плохо.
Костя смотрел на Катю – тихую, интеллигентную девочку. У нее все будет долго и хорошо, потому что с ней никто не станет торговаться. Сами все дадут и прибавят сверху.
Овечка предложила сверху фасолевый суп. Катя и Костя переглянулись, и Овечка поняла, что они голодны.
Суп оказался душистый, фиолетовый, густой. Костя накидал туда белого хлеба и ел как похлебку. Катя последовала его примеру.
Много ли человеку надо? Тепло, еда и доброжелательность.
– Вы муж и жена? – поинтересовалась Овечка.
– Нет, – ответила Катя. – Мы познакомились час назад.
– У вас будет роман, – пообещала старуха.
– Почему вы так решили?
– У вас столько радостного интереса друг к другу…
Катя перестала есть и внимательно посмотрела на Костю, как будто примерила. Костя покраснел, хотя делал это редко. Он, как правило, не смущался.
– Вы похожи на меня молодую, – заметила Овечка.
– Это хорошо или плохо? – спросила Катя.
– Это очень хорошо. Я многим испортила жизнь.
– А это хорошо или плохо? – не поняла Катя.
– Это нормально.
– А когда лучше жить – в молодости или теперь? – спросила Катя.
– И в молодости, и теперь. Дети выросли, никаких обязанностей, никакой зависимости от мужчин. Свобода…
– Но зависимость – это и есть жизнь, – возразил Костя.
– Вот и зависьте. От нее.
Костя снова покраснел. Старуха была молодая. Ей нравилось эпатировать. Ставить людей в неудобное положение.
– А вы больше ничего не хотите продать? – спросила Катя.
– У меня есть дача. Там никто не живет.
– А дети? – напомнил Костя.
– У них другая дача, в другом месте. Под Сан-Франциско.
– Но можно сдавать дачу, – предложила Катя.
– Я не люблю сдавать, – отказалась старуха.
– Почему?
– Потому что люди у себя дома никогда не вытирают обувь занавеской. А в гостиницах вытирают.
– Но там же все равно никто не живет, – напомнила Катя.
– Там живет моя память. Раньше эта дача была центром жизни: съезжалась большая семья, горел камин, пахло пирогом… Прошлое ушло под воду, как Атлантида…
– Грустно, – сказала Катя.
– Так должно быть, – возразила старуха. – Закон жизни. Прошлое уходит и дает дорогу будущему. Суп, который вы съели, через несколько часов превратится в отходы. И вы снова захотите есть.
Старуха прятала за грубостью жалость к себе, иначе эту жалость пришлось бы обнаружить. Старуха была гордой.
– А дача далеко? – спросила Катя.
– Полчаса в один конец. Близкое Подмосковье, – отозвалась старуха.
В Катином личике ничего не изменилось, но Костя понял, что ей это интересно. Интереснее всего остального.
– Я дам вам ключи, можете посмотреть…
Старуха принесла связку ключей и протянула их Косте.
– Почему мне? – удивился Костя.
– Но ведь вы же повезете…
– Он вам нравится? – прямо спросила Катя.
Старуха ответила не сразу. Она долгим, внимательным взглядом посмотрела на Костю, после этого глубоко кивнула:
– Да…
И все рассмеялись. Это почему-то было смешно.
Катя и Костя вышли на лестницу. Стали спускаться пешком. Костя забежал вперед и перегородил ей дорогу. Они смотрели друг на друга, она – сверху вниз. Он – снизу вверх. У Кати было серьезное личико. Углы губ – немножко вниз, как будто она с тревогой прислушивалась к будущему, а там – ничего хорошего. Все утонет, как Атлантида, – молодость, красота, ожидание счастья, само счастье – все, все…
Костя приблизил свое лицо и поцеловал ее в угол рта. Сердце замерло, а потом застучало, как будто испугалось. Костя осознал, что не захочет жить без нее. И не будет жить без нее. Как все это раскрутится, он понятия не имел. Это все потом, потом… А сейчас она стояла напротив и смотрела на него сверху вниз.
В эту ночь Костя бурно и безраздельно любил свою жену. Он понял, что главное в его жизни произошло. Он вытащил счастливый билет. Билет назывался Катя. Чувство не оценивается деньгами, и тем не менее Костя выиграл у жизни миллион. Он миллионер и поэтому был спокоен и щедр. Он любил жену, как будто делился с ней своим счастьем.
– Тише… – шептала жена. В соседней комнате спали мать и сын, и жена боялась, что они услышат.
Костя пытался вести себя тише, но от этого еще больше желал жену. И она тоже обнимала его руками и ногами, чтобы стать одним.
Мать за стеной злобно скрипнула диваном. Дочь любила ее врага, и мать воспринимала это как предательство.
Договорились, что Катя позвонит сама. Она его найдет.
Последний разговор был таким:
– Вы женаты? – спросила Катя.
– Вовсю… – ответил Костя.
– А чем вы вообще занимаетесь?
– Ничем. Живу.
– Это хорошо, – похвалила Катя. – Я позвоню…
Костя ждал звонка постоянно. Он предупредил тещу, что ему должны звонить с выгодным предложением. Теща тоже стала ждать звонка. Они превратились в сообщников. Вернувшись с работы, Костя пересекался с тещей взглядом, и она медленно поводила головой. Дескать, нет, не звонили…
Это свидетельствовало по крайней мере о трех моментах. Первый – Катя замужем, второй – у нее куча дел, и все неотложные. Третий – основной – Костя ей не понравился. Не произвел впечатления.
«А в самом деле, – прозрел Костя. – Зачем я ей? Вовсю женатый, нищий. Какой с меня толк? Я могу быстро бегать и далеко прыгать, но эти качества хороши при охоте на мамонта. Сегодня мамонтов нет. Хотя ученые пообещали воссоздать. В вечной мерзлоте нашли хорошо сохранившиеся остатки. Возьмут клеточку, склонируют и пересадят в слона, вернее, в слониху. Родится мамонт. Он будет живой, но один. И поговорить не с кем».
Сегодняшние девушки – другие. Это раньше: спел под гитару – и покорил. А Катя – человек действия: поставила задачу – выполнила. В красивый хрупкий футляр заключен четкий, отлаженный инструмент. Не скрипка. Скорее, саперная лопата, выполненная Фаберже.
Костя не набрал козырей, поэтому она не позвонила. Он все понимал, но не мог отделаться от ее желудевых глаз, от опущенных уголков рта, как будто ее обидели. Когда взял ее руку в свою – тут же испугался, что повредит, сломает, – такая хрупкая, нежная была рука, будто птенец в ладони…
Костя перестал ждать звонка. И тогда она позвонила. Это случилось в десять часов вечера. Когда шел к телефону – знал, что это она. Он собрался задать вопрос, содержащий упрек, но не успел.
– Завтра едем смотреть дачу, – сказала Катя, – в десять часов утра.
– Здравствуй, – сказал Костя.
– Здравствуй, – ответила Катя. – Значит, в десять, возле моего подъезда.
– Ждать внизу? – уточнил Костя.
– Лучше поднимись. Квартира двадцать. Четвертый этаж.
Костя молчал. Он мгновенно все запомнил.
– Поездка возьмет у тебя два часа.
Костя принял к сведению.
– До свидания, – попрощалась Катя и положила трубку. Костя понял, что отношения она складывала деловые. Вызвала машину на два часа. Заплатит по таксе. А какая у нее такса? Скорее всего средняя: не большая и не маленькая.
Деловые – пожалуйста. Лучше, чем никаких. Костя готов был не показывать ей своих чувств. Он будет любить ее тихо, безмолвно и бескорыстно, только бы ощущать рядом. Только бы видеть, слышать и вдыхать. Как море. Море ведь не любит никого. Но возле него – такое счастье…
Раньше, в прежней жизни, Костю интересовал результат отношений, конечная стадия. А сейчас был важен только процесс. Он готов был отказаться от результата. Главное, чтобы Катя ничего не поняла. Не увидела, что он влюблен, а значит – зависит. Иначе растопчет. Или выгонит.
Дверь открыл муж.
«И она с ним спит?» – поразился Костя. Муж был никакой. Без лица. Сладкая какашка.
…Позже Катя расскажет, что он преподавал в институте, где она училась, вел курс изобразительного искусства. Он столько знает. И он так говорит… Золотой дождь, а не лекция. Катя им восхищалась. А сейчас он – директор аукциона. Все самое ценное, а значит – самое красивое проходит через его руки. Через его руки протекает связь времен: восемнадцатый век, девятнадцатый век, двадцатый.
– Он богатый? – спросит Костя.
– Какая разница? – не ответит Катя. – Я все равно не люблю жить на чужие деньги. У меня должны быть свои…
Муж открыл дверь и посмотрел на Костю, как на экспонат. И тут же отвернулся. Не оценил.
– Катя! – крикнул он. – Шофер приехал!
– Сейчас! – отозвалась Катя. – Пусть внизу подождет…
Костя успел зацепить взглядом богатую просторную прихожую со стариной и понял, что это – другой мир. Из таких квартир не уходят.
Костя спустился и захотел уехать. Он не любил чувствовать себя обслугой.
Включил зажигание, но машина закашляла и не двинулась с места. Пришлось поднять капот и посмотреть, в чем дело. Ни в чем. Просто машина нервничала вместе с Костей.
Катя спустилась вниз. На ней было голубое пальто-шинель с медными пуговицами.
Вырядилась, подумал Костя. И тут же себя поправил: почему вырядилась? Просто оделась. У нее хорошие вещи, в отличие от его жены. Это у бедных несколько видов одежды: домашняя, рабочая и выходная. А богатые всегда хорошо одеты.
Катя молча села. Она была не в курсе Костиных комплексов. Молча протянула ему листок, на котором старуха нарисовала схему. Все действительно оказалось очень просто: прямо и через полчаса направо.
Въехали в дачный поселок. Как в сказку. Позади серый город, серая дорога. А здесь – желтое и багряное. Дорогие заборы на фундаментах. Но вот – деревянный штакетник, а за ним барская усадьба из толстых бревен с большими террасами.
– Какая прелесть… – выдохнула Катя. – Дом с мезонином.
– А что такое мезонин? – спросил Костя.
– От французского слова «мэзон» – значит дом. А мезонин – маленький домик.
– Откуда вы знаете?
– Я закончила искусствоведческий. Но вообще – это знают все.
– Кроме меня, – уточнил Костя.
Он больше не хотел нравиться. Более того, он хотел не нравиться. Он – шофер. Работник по найму. Потратит время, возьмет деньги и купит теще новый фланелевый халат. Очень удобная вещь на каждый день.
Вошли в дом. Его давно не топили, пахло сыростью. Дом был похож на запущенного человека, которого не мыли, не кормили, не любили.
– Здесь надо сломать все перегородки и сделать одно большое пространство.
Катя смотрела вокруг себя, но видела не то, что есть, а то, что будет.
– Старуха не согласится, – сказал Костя.
– У старухи никто не будет спрашивать. Я куплю и возьму в собственность. А со своей собственностью я могу делать все, что захочу.
«Саперная лопата», – подумал Костя.
– Дом ничего не стоит, – размышляла Катя. – Здесь стоят земля и коммуникации.
– Старуху не надо обманывать, – напомнил Костя.
– Да что вы пристали с этой старухой?
Катя воткнула в него свои желудевые глаза. Они долго не отрываясь смотрели друг на друга.
– Для старухи пятьдесят тысяч долларов – это целое состояние, – продолжала Катя. – Ей этого хватит на десять лет. Не надо будет к детям обращаться за деньгами. Я поняла: она не хочет у детей ничего просить. Для нее просить – нож к горлу. Она очень гордая.
– А как вы это поняли? – удивился Костя.
– Я умею видеть.
Костя понял, что она и его видит насквозь. Как под рентгеном. Вот перед ней стоит красивый Стрелец, который не умеет зарабатывать, но умеет любить. Хочет отдать свое трепетное сердце, бессмертную душу и ЧУВСТВО. …Она войдет в море секса, под куполом любви, как под звездным небом. Это тебе не двадцать минут перед сном со «сладкой какашкой».
Однако Катя – человек действия. Поставила задачу – выполнила. Она купит дачу за пятьдесят тысяч долларов. Вложит еще пятьдесят и продаст за полмиллиона. Чувство – это дым. Протянулось белым облачком и растаяло. А деньги – это реальность. Это свобода и независимость.
– Я хочу подняться на второй этаж, – сказала Катя.
– Я пойду вперед, – предложил Костя. Он боялся, что лестница может обвалиться.
Лестница не обвалилась. Поднялись на второй этаж. Там были две спальни и кабинет. В одной из спален – полукруглое окно. В нем, как картина в раме, – крона желтого каштана. У стены стояла широкая кровать красного дерева. На ней, возможно, спал чеховский дядя Ваня, потом через полстолетия – молодая старуха, а месяц назад – пара бомжей. Ватное одеяло, простеганное из разных кусочков ситца. Плоская подушка в такой же крестьянской наволочке.
Костя старался не смотреть на это спальное место. Он оцепенел. Смотрел в пол. А Катя смотрела на Костю. Почему бы не войти в море, когда оно рядом? Чему это мешает? Только не долго. Войти и выйти. Сугубо мужской подход к любви.
Костя смотрел в пол. Он не любил, когда решали за него. Он Стрелец. Он должен пустить стрелу, ранить и завоевать.
– Сердишься? – спросила она, переходя на «ты». Она все понимала и чувствовала. Вряд ли этому учат на искусствоведческом. С этим надо родиться. Все-таки не только саперная лопата, но и скрипка.
Она положила руки ему на плечи. Благоухающая, как жасминовая ветка. В голубом пальто из кашемира. Она не похожа ни на одну из трех чеховских сестер. А он на кого похож? Не ясно. Таких героев еще не стояло на этой сценической площадке, в этой старинной усадьбе.
– Перестань, – попросила Катя.
Что перестать? Сопротивляться? Полностью подчиниться ее воле. Пусть заглатывает, жует и переваривает. Пусть.
Костя хотел что-то сказать, но не мог пошевелить языком. Во рту пересохло. Язык стал шерстяной, как валенок.
Они легли не раздеваясь. Костя звенел от страсти, как серебряный колокол, в который ударили. И вдруг, в самый неподходящий или, наоборот, в самый подходящий момент, он услышал внизу шаги. Шаги и голоса.
Костя замер как соляной столб. А Катя легко поднялась с дивана, застегнула свои медные пуговицы и сбежала вниз по лестнице.
Вернулась довольно быстро.
– Это соседи, – сообщила она. – Увидели, что дверь открыта, пришли проверить. Они следят, чтобы не залезли бомжи.
– Заботятся, – похвалил Костя.
– О себе, – уточнила Катя. – Если дом подожгут, то и соседи сгорят. Огонь перекинется по деревьям.
Катя скинула пальто и легла. Замерла в ожидании блаженства. Но Костя уже ничего не мог. Как будто ударили палкой по нервам. Все, что звенело, – упало, и казалось – безвозвратно. Так будет всегда. Вот так становятся импотентами: удар по нервам в минуту наивысшего напряжения.
Он сошел с тахты. У него было растерянное лицо. Ему было не до Кати и вообще ни до чего.
Он стоял и застегивал пуговицы на рубашке, затягивал пояс.
Катя подошла, молча. Обняла. Ничего не говорила. Просто стояла, и все. Косте хотелось, чтобы так было всегда. В любом контексте, но рядом с ней. Пусть опозоренным, испуганным – но рядом. Однако он знал, что надо отстраниться, отойти и валить в свою жизнь.
Костя отодвинулся и сбежал вниз по лестнице. Катя не побежала следом. Зачем? Она спокойно еще раз обошла весь второй этаж. Потом спустилась и обошла комнаты внизу, заглянула в кладовку.
– Помнишь, как говорила Васса Железнова: «Наше – это ничье. МОЕ».
– Когда это она так говорила? – спросил Костя, будто Васса Железнова была их общей знакомой.
– Когда корабль спускали на воду, – напомнила Катя.
Костя никогда не читал эту пьесу. Из Горького он знал только «Песню о Буревестнике».
Катя тщательно заперла входную дверь. Подергала для верности.
Сели в машину.
Катя забыла об их близости, думала только о даче.
– Если фундамент состоятельный, можно будет поставить сверху третий этаж. Это увеличит продажную стоимость.
– Зачем тебе столько денег? – удивился Костя.
– Денег много не бывает.
– Но ты хочешь больше, чем можешь потратить.
– Я хочу открыть издательство, – созналась Катя. – Выпускать альбомы современного искусства. Сейчас тоже есть свои Рембрандты. Но они все по частным коллекциям. Их надо собрать.
– Возьми деньги у мужа.
– Он не даст. Это очень дорогие альбомы. Там особенная мелованная бумага, ее в Финляндии надо заказывать. И полиграфия…
– Твой муж жадный?
– Мой муж умеет считать. Он говорит, что я на этих журналах прогорю. Очень большая себестоимость. Их никто не будет покупать, и кончится тем, что они будут штабелями лежать у нас в гараже.
– Он, наверное, прав…
Катя смотрела перед собой.
– Если считать результатом деньги, то он прав. Но деньги – это только деньги. Хочется, чтобы ОСТАЛОСЬ.
– Рожай детей. Они останутся.
– Это самое простое. Все рожают, и куры, и коровы. А вот издательство…
Машина выбежала из дачного поселка. Кончилось золотое и багряное. Впереди были серая дорога и серый город.
– Выходи за меня замуж, – вдруг сказал Костя. Он сначала сказал, а потом услышал себя. Но было уже поздно.
– Что? – переспросила Катя, хотя прекрасно расслышала.
– Замуж. За меня. Ты, – раздельно повторил Костя.
– Интересно… – проговорила Катя. – Я своего мужа дожимала пять лет. Он упирался. А ты сделал мне предложение на второй день.
– Я тебя люблю. Мне не надо проверять свои чувства. Я хочу, чтобы мы не расставались.
– У тебя есть где жить? – поинтересовалась Катя.
– Нет.
– А на что жить?
– Нет.
– Значит, ты рассчитываешь на мои деньги и на мою территорию. Так и скажи: женись на мне. Это будет точнее.
Катя издевалась. Она издевалась над ЧУВСТВОМ. Территория чувства – сердце. Значит, она издевалась и над сердцем, и над душой. И только потому, что у нее были деньги, которые она добывала, обманывая старух.
Костя понял, что он не захочет ее больше видеть. Цинизм – вот что течет по ее жилам и сосудам. Она вся пропитана цинизмом, как селедка солью. Сейчас он довезет ее до подъезда, возьмет деньги, заедет на базар, купит хурму, курагу и привезет домой. Он наполнит дом витаминами. А весь остальной мир с его грандиозными планами – его не касается. В своем доме – он МУЖ, опора и добытчик. И так будет всегда.
Машина выехала на набережную.
– Сердишься? – спросила Катя. Она играла с ним, как кошка с мышью: отдаляла, потом приближала.
Но в этот раз она заигралась. Костя отодвинулся слишком далеко, на недосягаемое расстояние. Он самоустранился.
Машина остановилась возле подъезда. Катя полезла в сумку.
– Не надо, – отказался Костя. Он понял, что не возьмет у нее денег. И она тоже поняла, что он не возьмет.
– Я позвоню, – коротко пообещала Катя. Она была уверена в себе.
Костя не ответил. Он тоже был уверен в себе. Он мог опуститься на колени перед женщиной, но лечь на землю, как подстилка, он не мог и не хотел.
Катя вышла из машины и пошагала на свою территорию со своим кошельком.
Костя рванул своего железного коня. Куда? В остаток дня. Катя права. Но и он – тоже прав. Жизнь прекрасна сама по себе, а деньги и комфорт – это декорация. Как бантик на собаке.
Ночью они с женой любили друг друга. Что бы ни происходило в жизни Кости, перед сном он неизменно припадал к жене, как к реке. Но в этот раз он пил без жажды. И чем нежнее обнимала его жена, тем большую пустоту ощущал он в душе. Пустоту и отчаяние. «И это – все? – думал он. – Все и навсегда… Ужас…»
Она позвонила на другой день. Ночью.
– Приезжай немедленно. Поднимись.
– А который час, ты знаешь? – трезво спросил Костя.
Но в трубке уже пульсировал отбой. Катя раздавала приказы и не представляла себе, что ее можно ослушаться.
– Кто это? – сонно спросила жена.
– Валерка Бехтерев. Ногу сломал.
Жена знала Валерку.
– О боже… – посочувствовала жена.
Через полчаса Костя стоял в Катиной спальне.
Позже Катя скажет, что эта спальня из Зимнего дворца, принадлежала вдовствующей императрице, матери Николая. Но это позже… А сейчас им обоим было не до истории…
Катины подушки источали тончайший запах ее волос.
– Он не вернется? – спросил Костя.
– Он уехал два часа назад. Сейчас взлетает его самолет.
– А вдруг не взлетит?
Костя чувствовал себя преступником, вломившимся в сердце семьи. Кате тоже было не по себе. Она никогда не приглашала любовников на супружеское ложе и даже не могла себе представить, что способна на такое, но оказалось – способна.
Костя отметил, что у него стучало сердце, он задыхался, как от кислородной недостаточности. Так бывает высоко в горах, когда воздух разряжен.
Он ушел от Кати под утро и был рад, оказавшись вне ее дома. Все-таки он был скован невидимым присутствием ее мужа. И все время казалось, что он вернется.
Через неделю они с Катей уехали на Кипр. Костя одолжил деньги у Валерки Бехтерева. Пообещал вернуть через полгода. Как он будет возвращать, Костя не знал. Главное – одолжить. А там будет видно…
Хороший это остров или не особенно, он так и не понял, потому что они с Катей не выходили из номера. Они любили друг друга двадцать четыре часа в сутки, делая перерыв на сон и на еду. Катя пила сухое кипрское вино и ела фрукты, как Суламифь, которая изнемогала от любви… Но где-то к вечеру просыпался зверский аппетит, и они выходили в ресторан под открытым небом. Музыка, близость моря, стейк с кровью, а впереди ночь любви. Так не бывает…
Костя не выдержал и сознался, что любит.
– За что? – спросила Катя.
– Разве любят за что-то? – удивился Костя.
– Конечно.
Костя подумал и сказал:
– За то, что ты всякая-разная…
– У тебя есть слух к жизни, – сказала Катя. – Как музыкальный слух. Знаешь, как называются бесслухие? Гудки. Вот и в жизни бывают гудки. Все монотонно и одинаково.
– Но, может быть, гудки умеют что-то другое?
– Возглавлять оценочную комиссию. Разбираться в живописи. Я хочу, чтобы во мне разбирались, в моей душе и в остальных местах…
Играла музыка. Танцевали пары. Одна пара очень хорошо танцевала, особенно парень. Он был в шляпе и в длинном шарфе. Катя застряла на нем глазами.
Костя встал и пошел танцевать. Один. Постепенно ему уступали площадку. Всем хотелось смотреть.
В студенчестве Костя участвовал в пародийном ансамбле, объездил с ним полстраны. Чтобы станцевать пародию, надо знать танец. Костя знал. Двигался, как Майкл Джексон. Когда музыка кончилась, ему хлопали, требовали еще. Но «еще» – было бы лишним. В искусстве главное – чувство меры.
Когда он вернулся к столику, Катя смотрела на него блестящими глазами.
– Может, ты еще петь можешь? – спросила Катя.
– Могу, – серьезно ответил Костя. – А что?
Он мог все: петь, танцевать, любить, готовить пельмени. У него был музыкальный слух и слух к жизни. Он не мог одного: зарабатывать деньги. Но этот недостаток перечеркивал все его достоинства.
Ранним утром Катя проснулась и решила выйти на балкон – позагорать. Но Костя спал, и она не хотела шуметь, тревожить его сон. Однако все-таки очень хотелось выйти голой под утреннее солнце. Она стала отодвигать жалюзи по миллиметру, стараясь не издавать ни единого звука. А Костя не спал. Смотрел из-под приспущенных век, как она стоит голая и совершенная, отодвигает жалюзи, как мышка. Именно в эту минуту он понял, что любит. Сказал давно, а понял сейчас. И именно сейчас осознал, что это не страсть, а любовь. Страсть проходит, как температура. А любовь – нет. Хроническое состояние. Он не сможет вернуться в прежнюю жизнь без Кати. Он всегда будет вальсировать с ней под музыку любви. И даже если она будет злая – он будет кружить ее злую, вырывающуюся и смеяться над ней. Когда любовь – это всегда весело, даже если грустно. Всегда хорошо, даже если плохо.
А когда нет любви – становится уныло, хочется выть. А под вой – это уже не вальс. Совсем другой танец.
Все тайное становится явным. Жена случайно встретила Валерку Бехтерева, узнала про деньги в долг. Связала долг с отсутствием мужа. Отсутствие связала с южным загаром. Остальное Костя рассказал сам. Жена собрала чемодан и выгнала. Последнее слово было, естественно, за тещей. Но он сказал ей: «Меня оправдывает чувство». После чего за ним была захлопнута дверь, а Костя стал спускаться с лестницы пешком.
Костя оказался на улице, в прямом и переносном смысле этого слова. Ему было негде ночевать.
Звонить Кате он не хотел. Это не по-мужски – складывать на женщину свои проблемы. Отправился к Валерке Бехтереву. Валерка был холост и жил один.
– Ты что, дурак? – спросил Валерка, доставая из холодильника водку.
– Почему? – не понял Костя.
– Знаешь, как трудно найти порядочную жену? А ты взял и сам бросил.
– Я полюбил, – объяснил Костя.
– Ну и что? И люби на здоровье. А жену зачем бросать?
Валерка нарезал сыр и колбасу. «Жлобская еда», – подумал Костя. На Кипре он привык к свежим дарам моря: устрицам, креветкам. Колбаса казалась ему несвежей, пахнущей кошачьей мочой. Костя стал есть хлеб.
– Ты чего как в тюрьме? – спросил Валерка. Он сидел за столом, высокий и сильный. Физический труд закалил его. Валерка разлил водку по стаканам.
– Разве ты пьешь? – удивился Костя.
– А у нас без этого нельзя, – объяснил Валерка. – Вся бригада пьет. Без этого за стол не садятся. А я что, в стороне? Они не будут меня уважать. А что за бригадир без уважения коллектива…
Валерка профессионально опрокинул стакан.
– Ты стал типичный пролетариат, – заметил Костя.
– А какая разница? Интеллигент, пролетарий… Одно и то же. Просто книжек больше прочитали.
– Значит, не одно и то же.
Костя поселился у Валерки.
На ночь Валерка вытаскивал для Кости раскладушку. Ночью, когда Костя вставал по нужде, Валерка поднимал голову и спрашивал:
– Ты куда?
Потом поднимался и шел за Костей следом, будто контролировал. Если Костя хотел пить и сворачивал на кухню, то Валерка шел следом на кухню. Костя не мог понять, в чем дело, а потом догадался: Валерка где-то прячет деньги. У него тайник, и он боится, что Костя обнаружит и, конечно же, украдет.
Утром Валерка, отправляясь на работу, собирал «тормозок» – так называлась еда, которую рабочие брали с собой. Костя подозревал, что название происходит от слова «термос», но «термосок» произносить неудобно и как-то непонятно. Поэтому – «тормозок». Удобно, хотя и бессмысленно. Валерка складывал в пакет вареную в мундире картошку, вареные яйца, неизменную колбасу, хлеб. Валерка тратил минимум на питание, экономил деньги и складывал их в тайник. До лучших времен. Как учили коммунисты, во имя светлого будущего. Но почему настоящее должно быть темнее будущего – непонятно.
Костя подъехал к Катиному дому на Бережковской набережной. Шел дождь. Люди горбились, как пингвины. А еще совсем недавно были море, солнце и любовь.
Костя остановил машину, поднялся на четвертый этаж, позвонил в квартиру двадцать.
Открыла Катя. Она была в синем атласном халате с японскими иероглифами.
– А я тебя потеряла, – сказала она. – Проходи.
– Ты одна? – проверил Костя.
– Одна. Но это не важно.
– Важно, – сказал Костя и обнял ее сразу в прихожей. Ладони скользили по шелку, как по Катиной коже. – Родная… – выдохнул он, хотя это было не его слово. Он никогда им не пользовался.
– А я тебе звоню, мне отвечают: он здесь больше не живет…
– Это правда, – подтвердил Костя. – Я ушел…
– Куда?
– Не знаю.
Катя отстранилась. Смотрела исподлобья.
– Из-за меня?
– Из-за нас, – поправил Костя.
Прошли на кухню. Костя заметил, что над плитой и мойкой – сине-белые изразцы. Должно быть, тоже из дворца.
Катя стала кормить кроликом, тушенным в сметане. На тарелке лежали две ноги.
– Кролик… – удивился Костя. – Я его двадцать лет не ел.
– Самое диетическое мясо.
– А зачем ты отдала все ноги?
– Почему все? Только две…
– А всего их сколько?
– Четыре, по-моему…
– Ну да… Это у кур две, – сообразил Костя.
Он стал есть, молча, умело отделяя мясо от кости. Было понятно, что они думали не о кролике, а о том, что делать дальше. Если Костя ушел, сделал ход, – значит, ответный ход за Катей. Она тоже должна совершить поступок. Уйти от мужа. Но куда? Из таких квартир не уходят в шалаш, даже с милым.
– Эта квартира чья, твоя или мужа? – спросил Костя.
– Общая. А что?
– Так… Все-таки кролика жалко. Кур не жалко, они глупые.
Костя забрасывал проблему словами. Но Катя поняла ход его мысли.
– Я поговорю со старухой, – сказала она. – Поживешь на даче. Я скажу ей, что ты будешь сторожем. Платить не надо.
– Кому платить? – не понял Костя.
– Ты ничего не платишь за аренду, а она – за твою работу.
– За какую работу?
– Сторожа.
– Но я не буду сторожем.
– Если ты там живешь, то это происходит автоматически.
Костя смотрел на Катю.
– Понял? – проверила она.
Теперь Катя забрасывала словами проблему: при чем тут старуха, сторож, платить… Дело в том, что Катя не хочет делать ответный ход. Она хочет оставить все как есть. В ее жизни ничего не меняется. Просто появляется любовник, живущий на природе. Секс плюс свежий воздух.
Свободный любовник потребует время. Времени у Кати нет.
– Если хочешь, я возьму тебя на работу, – предложила она.
– Куда?
– Шофером. На фирму. Бензин наш. Зарплата – пятьсот долларов.
– Это много или мало? – спросил Костя.
– Столько получает президент.
– Президент фирмы?
– Президент страны.
– Что я буду возить?
– Меня.
Таким образом Катя совмещала время, работу, любовь и семью.
– Ты согласен? – Катя посмотрела ему в глаза.
Согласен ли он иметь статус обслуги?
– Я согласен. А сколько получает президент фирмы?
– Гораздо больше, – неопределенно ответила Катя.
– Больше, чем президент страны?
– Зачем тебе считать чужие деньги? Считай свои.
Костя уже посчитал, что при такой зарплате он легко отдаст долг Валерке Бехтереву и сможет помочь семье.
– Я согласен, – повторил Костя и принялся за кролика. Он согласился бы и на меньшее.
Катя села напротив, стала смотреть, как он ест. В этот момент она его любила. Она понимала, что он – ЕЕ, она может обрести его в собственность. МОЕ.
– Красота – это симметрия, – задумчиво проговорила Катя.
Это значило, что она находила Костю красивым.
– Что ты больше хочешь: любовь или богатство? – поинтересовался он.
– Все.
– Ну а все-таки… Если выбирать.
– А зачем выбирать? – удивилась Катя. – Любовь и богатство – это единственное, что никогда не надоедает.
Она сидела перед ним немножко бледная, молодая и хрупкая. Он подумал: в самом деле, зачем выбирать… Пусть у нее будет все, и я среди всего.
Фирма «Антиквар» располагалась в двухэтажном здании. Там были выставочные залы с картинами, бар с барменом, запасники типа кладовок. На втором этаже – просторные рабочие кабинеты и Катин риелторский отсек. Служащие – в основном женщины, сдержанные, по-западному улыбчивые.
«Сладкая какашка» мелькнул пару раз, куда-то торопился. Кстати, у него было имя: Александр. Не Саша и не Шура. А именно – Александр.
Костя явился для подписания договора. Им занималась некая Клара Георгиевна – ухоженная, почти красивая. Иначе и быть не могло. Среди произведений искусства люди должны выглядеть соответственно.
Клара Георгиевна куда-то уходила, приходила. Костя видел через окно, как во дворе разгружали грузовик. Рабочие стаскивали растения в бочках, маленькие декоративные деревья. Видимо, предстояла выставка-продажа зимнего сада.
Появились крепкие мужики, сели возле Кости.
– Сейчас… – сказала им Клара Георгиевна и снова ушла.
– А ты откуда? – спросил молодой мужик с круглой головой.
– Шофер, – ответил Костя. – А что?
– Ничего. Мы думали, что ты тоже из оборонки.
Позже Костя узнал, что оборонка – это оборонная промышленность и они делают сувениры на продажу: сочетание бронзы и полудрагоценных камней – яшмы, малахита. Оборонка выживала. «Сладкая какашка» скупал их продукцию за копейки и продавал недорого. Среди шкатулок девятнадцатого века – современные бронзовые петухи. Все довольны.
– Идите в восьмой кабинет, – сказала Клара Георгиевна.
Мужики поднялись с энтузиазмом. Видимо, в восьмом кабинете давали деньги. Там располагалась бухгалтерия.
Мужики ушли. Возле Кости сел художник, непохожий на художника. Лицо сырое, как непропеченный хлеб.
– Не покупают, – пожаловался он. – Говорят, дорого… Говорят, ставь другую цену или забирай…
– А где ваша картина? – спросил Костя.
Художник показал пальцем на противоположную стену. На черном фоне – голова старика. Золотая рама. Красиво. Однако кому охота смотреть на чужое старое лицо, если это не Рембрандт, конечно…
Художник вскочил и устремился к нужному человеку. Нужный человек – коммерческий директор, маленького роста, стройный, лысоватый. Он слушал с непроницаемым лицом. Умел держать удар. Его главная задача – вовремя сказать «нет». Отказывать надо решительно и сразу, иначе погибнешь под собственными обещаниями.
Клара Георгиевна задерживалась. Костя смотрел на старика в золотой раме и невольно вспомнил свою бабушку. Она всегда улыбалась, глядя на Костю. Он звал ее «веселая бабушка Вера». Однажды летом они куда-то шли. Костя устал, просился на руки. Бабушка не соглашалась, четырехлетний Костя весил 20 килограммов. Это много – тащить такую тяжесть по жаре. Он ныл, цеплялся. Бабушка его оттолкнула, он не устоял и шлепнулся в лужу. Это было первое столкновение с несправедливостью: любящий человек – и в лужу. Бабушке стало стыдно, и она из солидарности села рядом с ним в глубокую лужу. И неожиданно заплакала. Они сидели в луже обнявшись и плакали. Старый и малый. Сладость раскаяния, сладость прошения… Он запомнил эту лужу на всю жизнь.
А жена… Разве она не толкнула его в лужу, когда выгнала из дома? Да, у нее были причины. Но Костю оправдывало чувство. Жена должна была понять. Она должна была подняться над собой как над женщиной. Подняться над обидой.
Клара Георгиевна вернулась с печатью и договором. Костя поставил подпись в двух местах. Клара Георгиевна стукнула печатью, будто забила гвоздь.
Старуха оказалась дома.
Костя приехал за второй парой ключей, но явился без звонка и боялся не застать.
– Мне Катя звонила, – сказала старуха. – Я очень рада, что вы там поживете. Дом любит, когда в нем живут, смеются. Хотите чаю?
– С бутербродом, – подсказал Костя.
Он уселся за стол, и ему казалось, что он всегда здесь сидел.
Старуха налила чашку куриного бульона, поджарила хлеб в тостере.
Костя сделал глоток и замер от блаженства. Вспомнил, что весь день ничего не ел.
Раньше, как бы он ни уставал, – знал, что в конце дня теща нальет ему полную тарелку борща. А потом в отдельную тарелку положит большой кусок отварного мяса, розового от свеклы. А сейчас Костя – в вольном полете, как ястреб. Что склюет, то и хорошо. Да и какой из него ястреб?
Старуха села напротив и смотрела с пониманием.
– Что-то случилось? – спросила она.
– Я ушел из семьи, – ответил Костя.
– И каков ваш статус?
– Рыцарь при знатной даме, – ответил Костя.
– Какой же вы дурак… – легко сказала старуха.
– У меня страсть, – как бы оправдался Костя.
– Страсть проходит, – сказала старуха. – А дети остаются. У вас, кажется, есть дети?
– Кажется, сын.
– У меня это было, – сказала старуха.
– А потом?
– Потом прошло.
– А сейчас?
– Что «сейчас»? – не поняла старуха.
– Вы жалеете о том, что это было? Или вы жалеете о том, что прошло?
– Это сломало мою жизнь. И очень осложнило жизнь моего сына. Я слишком дорого заплатила за любовь. Она того не стоила.
– Любовь у всех разная, – заметил Костя.
– Любовь – ОДНА. Люди разные.
Старуха поставила на стол винегрет. Костя стал есть вареные овощи, не чувствуя вкуса.
– Зачем я буду загадывать на пятьдесят лет вперед? – спросил он. – Я люблю, и все. А дальше: как будет, так и будет.
– Старость надо готовить смолоду, – сказала старуха. – Она является быстрее, чем вы думаете.
Зазвонил телефон. Это звонила Катя. Скучала. Отслеживала каждый шаг.
Возможно, она лишала его будущего, но наполняла настоящее. До краев. А кто сказал, что будущее главнее настоящего?
Костя поселился в доме с мезонином.
Катя первым делом привезла туда двух уборщиц, молодых хохлушек, и они буквально перевернули весь дом, отскоблили затвердевшую пыль, протерли даже стены и потолок. Выстирали занавески, вытряхнули и вытащили на морозное солнце все матрасы и одеяла. Постельное белье и полотенца Катя привезла новые.
Хохлушки работали четыре дня не покладая рук, как в спортивном зале под нагрузкой. И когда уборка была наконец закончена, дом явился своей прежней прелестью, со старой уютной мебелью, примитивной живописью. Время и прошлая жизнь как будто застряли в пакле между бревнами.
Хохлушки уехали. В доме стоял запах дерева. Возле камина лежали красиво нарезанные березовые чурочки.
Костя и Катя разожгли камин. Молча сидели, глядя на огонь. Обоим было ясно, что жизнь приобрела новое качество.
– Какое счастье – дом на земле, – сказала Катя. – Чтобы за дверью лес, а не мусоропровод. А за окном березы, а не дома. Совсем другая картинка перед глазами.
– Я заработаю деньги и куплю тебе этот дом, – пообещал Костя.
– А где ты возьмешь деньги?
– С неба упадут.
– Тогда стой и смотри в небо.
Они обнялись.
– Знаешь, что мне в тебе нравится? – спросила Катя. – То, что ты рос, рос, но так и не вырос. Мальчишка…
– «Тебе твой мальчик на колени седую голову кладет», – вспомнил Костя.
Пролетел тихий ангел.
Смеркалось. Березы за окном казались особенно белыми, а ели особенно темными. Вот как выглядит счастье: картинка за окном, огонь в очаге. И тихий ангел…
Грянул кризис. Люди стали барахтаться, тонуть и выплывать. «Антиквар» тоже стал барахтаться, тонуть и всплывать ненадолго, чтобы опять опуститься на дно.
Цены на квартиры упали. Богатые уносили ноги в теплые края, а обнищавший средний класс уже не стремился купить квартиру или картину, как это было прежде.
Катя крутилась как белка в колесе. Наладила связь с русскоязычной диаспорой в Америке, Израиле, переправляла картины, матрешки, хохлому. Шереметьево, таможня, груз, справки, взятки. Костя старался не вникать, потому что вникать было противно. Деньги вымогали на всех уровнях. Задерживали груз, не торопились отвечать на вопросы. Равнодушно смотрели в сторону, иногда напрягали лоб и возводили глаза в потолок. Прямо не говорили, цену не называли, ждали, когда сам догадаешься. Косте всякий раз хотелось развернуться и уйти. Его вальсирующая натура не выносила явной наглости. Ему было легче оставаться в машине и ждать – что он и делал. Катя – наоборот. Она любила преодоления. Чем сложнее задача, тем радостнее победа. Она виртуозно и мастерски со всеми договаривалась, в ход шли улыбки и полуулыбки, и взгляды из-под тонких бровей, и долларовые купюры. Желание победить было почти материальное. Его можно было потрогать. И каждый человек, сталкиваясь с таким желанием, не мог от него увернуться.
Костя ловил себя на мысли: из Кати могла бы выйти промышленная шпионка. Она могла бы выведать любую суперсекретную информацию. Жаль, что ее способности уходили на такую мелочь. Она ловила рыбку в мутной жиже, а могла бы выйти на морские просторы.
Со временем Катя нравилась ему все больше. Его восхищало в ней все, даже то, как она говорит по телефону. Это всегда был маленький устный экспромт. Когда человек одарен природой, это проявляется во всем, и даже в том, как он носит головной убор. Катя носила маленькие шапочки над глазами. Ни тебе челочки, ни набекрень – прямо и на глаза. И в этом тоже был характер.
Костя – ведомый. Исполнитель. Он не умел проявлять инициативу. Он мог только выполнить поручение…
Поручений было невпроворот. Костя был ее извозчиком, курьером, носильщиком, секретарем, сопровождающим лицом, доверенным лицом, братом, отцом, любовником. Он был ВСЕМ.
Вокруг Кати кишели посредники, ворье – все хотели делать деньги из воздуха. Катя погружалась в стрессы. Костя лечил ее заботой и любовью. В такие минуты он говорил:
– Да брось ты все… Зачем тебе это надо?
– Не могу, – сознавалась Катя.
– Тебе адреналина не хватает. Ты уже как наркоманка…
Но Костя и сам уже не хотел для себя иного режима. Он уже втянулся в этот густой график, в насыщенный ритм. Как бегун на дистанции. Человеку, привыкшему бежать, скучно ходить пешком или стоять на месте.
Каждое утро Костя ждал Катю у подъезда, и не было лучшего дела, чем сидеть и ждать, когда она спустится.
Потом – целый день марафона. Обедали вместе, чаще всего на фирме. Александр держал повара, что очень грамотно. Если хочешь, чтобы люди работали, они должны быть сыты.
Ночевали врозь. Катя должна была из любой точки земного шара вернуться ночевать домой.
Костя отвозил ее и возвращался на дачу. Он спал один, в той самой комнате с полукруглым окном.
Дом по ночам разговаривал: скрипел, вздыхал, иногда ухал как филин. Костя просыпался и уже не мог заснуть.
Мышь гоняла пластмассовый шарик. Костя не понимал: где она его взяла. Потом вдруг догадался, что это легкий камешек керамзита. Под половыми досками был насыпан керамзит для утепления.
Костя брал ботинок, запускал в сторону шума. Мышь затихала, но ненадолго. Тогда Костя включал свет. Грызуны не любят освещения. Однако при свете Костя не мог заснуть. Он лежал и смотрел в потолок.
В голову лезли воспоминания, угрызали совесть. Костя вспоминал жену, как увидел ее в первый раз. Она сидела в библиотеке, в красной кофте, и подняла на него глаза. И в этот момент он уже знал, что женится на ней. Куда все делось?
Вспоминал, как в первый раз увидел сына. Он понимал умом, что это его сын, но ничего не чувствовал, кроме того, что все усложнилось. Его личная жизнь окончилась, теперь все будет подчинено этому существу. Так оно и оказалось.
На Костю свалилась тяжелая плита из пеленок, вторая тяжелая плита – тещин характер. Костя спал на кухне, теща над его головой кипятила пеленки, ребенка мучили газы – он орал, жена не высыпалась. А где-то шумела другая жизнь, свободная любовь, пространство и расстояния. И вот он ушел в другую жизнь. В этой другой жизни есть все, что он хотел, кроме сына.
Катя, возможно, могла бы родить ему сына, но ей было некогда. Она летала по жизни как ласточка. Ребенок вышибет ее из движения. Это уже будет не ласточка, другая птица, вроде курицы.
У Кати – другие приоритеты. Она владела интуицией бизнеса. Видела, где лежат денежные возможности. А это тоже талант. Тоже азарт.
Старуха сказала: «Какой же вы дурак…» Это звучало как диагноз.
«Какой же я дурак…» Под эти мысли Костя засыпал, и мышь его уже не тревожила. Возможно, уходила спать.
Раз в неделю Костя заезжал домой, проведать своих и завезти деньги. «Домой»… «своих»… Хоть он и бросил их на ржавый гвоздь, они все равно остались своими. И дом остался домом, поскольку другого у него не было.
Костя перестраивался в крайний ряд и ехал по улице, в конце которой размещался маленький бетонный заводик, а дальше шли дома – серые, бетонные, безрадостные.
«Свои» – это ядовитая теща, обожаемый сын и жена, которую он жалел. Жалость – сильное и богоугодное чувство, но оно ничего не решало и было бессильно перед другим чувством: любовь.
Теща все понимала, ничего не могла изменить и была набита злобой от макушки до пят, как адский мешок. Находиться возле нее было опасно, как возле шаровой молнии. Того и гляди шарахнет разрядом.
На этот раз теща открыла ему в пальто.
– Хорошо, что пришел. Поди погуляй с Вадиком. Мне надо уйти.
– Куда? – удивился Костя, как будто у тещи не могло быть своих дел.
– Погуляй два часа, – не ответила теща. – Потом дай ему поесть, еда на плите.
У Кости не было свободного времени, но его интересы не учитывались.
– А где Лариса? – спросил Костя.
– У Ларисы и спрашивай…
Теща намекала неизвестно на что. Давала понять: раз тебе можно, почему ей нельзя…
Но ведь он приехал «домой». К «своим». Они должны хранить огонь в очаге, даже в его отсутствие.
Вадик быстро оделся, они вышли на улицу.
Костя посмотрел на часы, было пять. Гулять надо до семи. Катя будет искать, звонить. Но ничего. Он имеет право уделить своему сыну два часа в неделю.
К Вадику приблизился худенький мальчик в джинсах и курточке, явно старше, лет двенадцати.
– Поиграем? – предложил он.
Вадик весь осветился. С ним хотел играть большой мальчик, а это очень престижно. Это все равно как к рядовому подошел полковник и предложил поиграть.
Они стали носиться друг за другом. Игра называлась «салки», а в детстве Кости она называлась «пятнашки», что, в сущности, одно и то же. Салки от слова «салить» – значит коснуться и запятнать.
Когда дети остановились продышаться, Костя спросил:
– Мальчик, тебя как зовут?
– Я девочка. Саша.
Костя немножко удивился, но промолчал. Какая, в общем, разница… Девочка двигалась и общалась как мальчишка. Она была изобретательной, придумывала разные игры. Вадик с восторгом ей подчинялся. Девочка – явный лидер, Вадик – исполнитель.
– Сколько время? – неожиданно спросила девочка.
– Надо говорить: «который час», – поправил Костя. – Без двадцати семь…
Девочка посмотрела в сторону, что-то соображая. Потом подставила Вадику подножку и толкнула. Вадик рухнул. Девочка наклонилась, зачерпнула снег варежкой и натерла Вадику лицо.
– Малолетка… – с презрением проговорила она и выпрямилась. В довершение поддела Вадика ногой и перекатила его, как бревно.
Потом повернулась и пошла прочь.
Вадик поднялся, смотрел ей вслед. Его личико, вымытое снегом, было свежим и ошеломленным. Он не понимал, что произошло. Только что играли, дружили, и вдруг, на пустом месте… За что?
Девочка удалялась, уносила в сумрак свою непредсказуемость.
Костя все понял. Она отомстила Вадику за то, что он был НЕ ТОТ. За неимением лучшего общества она вынуждена была опуститься до малолетки. Но она не простила и теперь уходила гордая, несмирившаяся. А Вадик ничего не понимал и смотрел ей вслед как дурак.
– Она что, с ума сошла? – проговорил Вадик, обратив на отца свои промытые удивленные глаза.
– Просто ей пора домой, – дипломатично ответил Костя. – И нам тоже пора.
Вадик вложил свою руку в ладонь отца. Ему было важно за кого-то держаться. И не за «кого-то», а за сильного и своего.
Костя держал его руку в своей и знал: что бы ни случилось, он всегда будет ему отцом. Всегда.
Костя любил сидеть в Катином офисе и смотреть, как она работает. Белые стены, компьютеры, картины, крутящееся кресло – поворачивайся куда хочешь.
Но сегодня никуда поворачиваться не надо. Перед Катей стояла клиентка по фамилии Сморода, с ударением на последней гласной. Такая фамилия вполне могла служить и как имя. Очень красиво.
Сморода была молодая, рыжая, очень прямая, в шубе до пят. Не улыбалась, не хотела нравиться. Смотрела спокойно и прямо.
Катя привыкла к тому, что клиенты нервничали, торговались до крови, боялись прогадать, покрывались нервными пятнами.
Сморода ничем не покрывалась, хотя дело касалось огромной суммы. Сморода выставила на продажу квартиру в центре, в доме архитектора Казакова. Квартира – лучше не придумаешь, ушла тут же, как блин со сковороды. Сморода явилась оформлять сделку.
– Дело в том, что я уезжаю, – сообщила она. – Я хочу, чтобы вы переправили мои деньги в Лос-Анджелес.
– У вас есть там счет? – спросила Катя.
– Нет. У меня там нет никого и ничего.
– Но, может быть, друзья. На их счет.
– У меня нет друзей. – Сморода пожала плечами.
– А как же быть? – не поняла Катя.
– Я уеду. Открою там счет. Сообщу его вам, по факсу. И вы мне переведете.
– А вы не боитесь бросать свои деньги на незнакомых людей? – удивилась Катя. – Вы мне доверяете?
– У меня нет другого выхода. Я должна срочно уехать.
По-видимому, Сморода сама была исключительно порядочным человеком и мерила других на свой аршин. Если она не в состоянии обмануть, то почему она должна заподозрить в обмане Катю…
Катя все это понимала, но она давно в бизнесе и знала: бизнес по недвижимости – это стадо, бегущее к корыту. И вдруг среди стада – прямая, загадочная Сморода.
– А почему вы уезжаете? – не выдержала Катя. Любопытство было неуместным, но Катю интересовали причины, по которым можно бросить целое состояние.
– Причина более важная, чем деньги, – неопределенно ответила Сморода.
Что может быть важнее денег: любовь? смерть? Но лезть в душу было неудобно.
Катя протянула ей визитку с указанием факса и телефона, Сморода спокойно попрощалась и ушла.
Через неделю пришел факс от Смороды с реквизитами банка. Катя переправила все деньги минус комиссионные. Еще через неделю раздался звонок. Это звонила Сморода, чтобы сказать одно слово:
– Спасибо. – Она была немногословной.
– Как вы поживаете? – не выдержала Катя.
– Я поживаю на океане. Хожу каждое утро по десять километров.
Катя не поняла: хорошо это или плохо – десять километров каждый день.
– Вам там нравится? – проверила она.
– Теперь уже нравится…
Сморода молчала. Кате не хотелось с ней расставаться, но ничего другого не оставалось.
– До свидания, – попрощалась Катя. Положила трубку и пошла вниз.
Надо было влиться в стадо, бегущее к корыту. Внизу ждал Костя, чтобы облегчить и украсить этот бег, сделать его радостным, почти сверкающим. Подставлял руку, плечо и сердце. Пел под гитару – ретро и современную попсу.
Катя спускалась по лестнице и думала: как хорошо, что есть на свете музыка и Сморода – территория любви и благородства.
Костя отвез Катю домой.
Перед тем как выйти из машины, она долго сидела. Потом сказала:
– Не хочется уходить.
– Не уходи, – отозвался Костя.
Это была его мечта: приватизировать Катю в собственность.
– Не могу.
– Почему? – не понял Костя. – Разве это не от тебя зависит?
– Александр выкинет меня из дела. Он хозяин.
– Я буду твой хозяин.
– Хозяин без денег – это не хозяин.
– Тогда иди домой…
Катя имела манеру давать надежду, а потом ее забирать. И тогда Костя, взметнувшись душой, шлепался этой же душой в лужу, ударялся сердцем.
Катя сидела.
Костя открыл ей дверь. Катя медленно выгрузила ноги, потом остальное тело.
– Что для тебя важнее, деньги или чувства? – спросил Костя.
– Все! Я не могу жить без любви и не могу жить без дела.
Катя скрылась в подъезде.
Костя предлагал ей выбор. А зачем? Когда можно иметь то и другое. Это было обидно для Кости. Он мог бы погрузиться в тягостные мысли, но его отвлекала малая нужда. Костя понял, что не доедет до дачи. Отлить было негде: набережная освещалась фонарями.
Костя въехал во двор. Двор был сквозной, напротив – широкая арка.
Костя вылез из машины, остановился возле багажника и принялся за дело. Струя лилась долго, дарила облегчение, почти счастье. Физическое счастье уравновешивало душевную травму.
Не отрываясь от основного дела, Костя успел заметить: в противоположной арке возник молодой человек. Он бежал, и не просто бежал – мчался с такой скоростью, будто собирался взлететь. Еще секунда – ноги перестанут толкать землю и он взлетит, как реактивный снаряд.
Снаряд за несколько секунд пересек двор, поравнялся с Костиной машиной и метнул в раскрытую дверь какую-то тяжесть типа рюкзака. Промчался дальше, нырнул в арку, которая была за Костиной спиной.
Костя обернулся – никого. Был, и нет. Парень буквально побил мировой рекорд по бегу на короткую дистанцию. Правда, неизвестно: сколько он бежал до этого.
Костя закончил дело. Поднял молнию и увидел перед собой две зажженные фары. Во двор въезжала машина. Она проехала до середины и остановилась. Оттуда выскочили двое и беспокойно огляделись по сторонам. Двор был темен и пуст, если не считать Кости. Один из двоих приблизился к Косте и спросил:
– Здесь никто не пробегал?
– Я не видел, – соврал Костя. Он помнил разборку с Филином и не хотел повторений.
Было ясно, что первый убегал, а эти двое догоняли. По тому, КАК убегал первый, легко догадаться, что он уносил свою жизнь. Не меньше. Он сбросил рюкзак, как сбрасывают лишний груз с перегруженного вертолета.
Второй внимательно глядел на Костю и тем самым давал возможность рассмотреть себя. У него были большой нос, узкие и даже на вид жесткие губы, брови, стекающие к углам глаз. Он мучительно кого-то напоминал. Шарля Азнавура – вот кого, понял Костя.
Азнавур покрутил головой, досадливо сплюнул. Пошел к своей машине. Костя видел, как машина попятилась и выехала тем же путем, что и въехала.
Все произошло за три минуты, как будто прокрутили микрофильм с четкой раскадровкой:
1. Бегущий парень-снаряд.
2. Скинутый рюкзак.
3. Машина с фарами.
4. Общение с Азнавуром.
5. Отъезд машины.
Все. Микрофильм окончен. Действие тускло освещалось редкими фонарями. Никаких шумов, если не считать падающей струи в начале первой минуты.
Костя сел в машину. Рюкзак залетел на заднее сиденье, притулился в углу, как испуганная собака. Взрывчатка, испугался Костя. Но кто будет бегать со взрывчаткой…
Костя перегнулся, потрогал рюкзак. Под пальцами – бугристое, твердое. «Деньги», – промелькнуло в мозгу. Он сначала догадался, а потом уже увидел. Растянул веревку на рюкзаке, сунул руку и достал пачку. Перетянута резинкой. Зелень. Стодолларовые купюры.
Костя испытал двойное чувство: беспокойство и покой. С одной стороны, это очень странно и неожиданно – получить мешок с деньгами. А с другой стороны, ничего странного. Он их ждал. Правда, Костя полагал, что деньги упадут с неба, а они залетели сбоку. Подарок судьбы. Судьба любит Стрельцов и делает им подарки.
Однако за такие подарки могут и пристрелить. Костя вспомнил бегущего – убегающего, и второго, похожего на Азнавура. Оба бандиты скорее всего. Вор у вора дубинку украл.
Костя тронул машину с места, не дай бог бандиты вернутся. Выехал в арку, переключил скорость – вперед, по набережной к Ленинским горам. Оттуда – на Ленинский проспект. Строй сменился, но все осталось Ленинским.
Костя смотрел перед собой, размышлял: может быть, выкинуть этот рюкзак, от греха подальше. Но тогда его найдет кто-то другой, Скорпион или Козерог.
Второй вариант: отвезти в госбанк. Однако сейчас государство тоже ворует, иначе откуда такое тотальное обнищание граждан? Отдать государству – значит бросить в дырявый мешок… Может быть, отвезти в милицию? То-то милиционер удивится. Заберет деньги, а потом пристрелит Костю как свидетеля.
Машина встала. Наступило время пик. Впереди тянулась километровая пробка. Машины трубили, как слоны. Казалось, что пробка никогда не рассосется.
Косте очень хотелось убрать себя с трассы, он свернул в первый попавшийся рукав и вдруг сообразил, что находится недалеко от своего дома. Свернул под светофор и оказался на своей улице. Здесь пробки не было. Костя свободно устремился по привычному когда-то маршруту. Как изменился Костин маршрут… Как это грустно и грубо и прекрасно. Но жизнь вообще груба и прекрасна, а главное – непредсказуема. Еще утром Костя был нищим, а сейчас он миллионер и держит жизнь в своих руках, если не считать рук Азнавура.
Костя резко затормозил машину, взял из бардачка отвертку. Вышел и, присев на корточки, открутил номера – сначала впереди машины, потом сзади. Открыл багажник и бросил туда номера. Азнавур мог запомнить номера, а это опасно. Теперь Костина машина была безликой. Просто светло-бежевая «пятерка». Мало ли таких на дороге. Если остановит милиционер, Костя что-нибудь наврет, откупится. Даст одну купюру из пачки. Костя оглянулся на рюкзак, прикинул, сколько там пачек. Не меньше ста. Каждая пачка по десять тысяч. Значит, миллион. Костя погладил рюкзак, как собаку по спине. Радость медленно, но полно заливала все его существо. Примешивалась уверенность: ТАК и должно было случиться. Компенсация судьбы.
Катя говорила: «Хозяин без денег – не хозяин». А теперь он хозяин с деньгами, с гитарой и красным шарфиком. Красавец. Плейбой, как молодой Кеннеди, хотя его больше нет. Как Майкл Джексон, хотя Майкл – не мужчина, а существо, совершенное двигательное устройство. Значит, как кто? Как Костя. Этого хватает.
Дверь отворила жена в ночной рубашке. Она болела, стояла бледная, лохматая, с закутанным горлом.
Обычно при появлении Кости она что-то демонстрировала: показное равнодушие, поруганную любовь, христианскую покорность судьбе. Сегодня жена была совершенно естественная, спокойная, немножко ушастая. Когда-то эти уши-лопухи вызывали в Косте нежность и восторг. Ему казалось, что он любит ее именно за уши. Милый недостаток оттенял достоинства. Жена была составлена из одних сплошных достоинств. Но, как оказалось, мы любим не тех, кто нам нравится.
– Раздевайся, – спокойно предложила жена.
Костя снял дубленку и шапку. Остался в твидовом пиджаке и шарфике. Жена всегда издевалась над его манерой прихорашиваться, но это ей скорее нравилось. Костя обнял жену. Она спокойно переждала этот дружественный жест.
Рюкзак Костя оставил в машине, задвинул его под сиденье. Было бы странно явиться в дом с миллионом, а потом унести его обратно. Надо либо отдавать весь рюкзак, либо не показывать.
– А где Вадик? – спросил Костя.
– У соседей.
– Что он там делает?
– Дружит, – ответила жена. – Там мальчик – ровесник.
– Хороший мальчик? Ты его знаешь? – проверил Костя.
– Ладно тебе. Амбулаторный папаша…
– Что значит «амбулаторный»? – не понял Костя.
– Есть лечение стационарное, а есть амбулаторное: пришел-ушел…
Костя промолчал. Подул на замерзшие руки. Он всегда терял перчатки. Жена это знала. Ей стало его жаль.
– Поешь? – спросила она.
– Спасибо… – уклонился Костя.
– Да или нет? – уточнила жена.
– Скорее нет. Твоя мать меня отравит.
– Ее можно понять. – Жена налила себе чай из термоса. – Ты зачеркнул всю ее жизнь.
– При чем тут она?
– Ты бросил на ржавый гвоздь ее дочь и ее внука.
– Но я оставил вам квартиру.
Квартиру действительно достал Костин отец, когда еще был у корыта.
– Еще бы не хватало, чтобы ты выгнал нас на улицу…
– Я вас не бросил. Я делаю все, что могу.
– А что ты можешь? Прийти и сесть с виноватым лицом?
Теща перестала греметь на кухне посудой. Прислушивалась.
– Меня оправдывают чувства…
– Плевала я на твои чувства. У меня ребенок.
– У нас ребенок, – поправил Костя.
– Он стоит больших денег. Лечение, обучение, спорт, не говоря о еде. Он растет, он должен хорошо питаться. А мы на что живем? На мамину пенсию и на твое пособие. Ты приносишь копейки в потном кулаке. Потом убегаешь, и мы не уверены – принесешь ли ты в следующий раз.
– Сколько тебе надо, чтобы чувствовать себя уверенной?
– Тысячу долларов в месяц. Я бы купила себе машину-автомат, научилась водить и стала независимой.
– Тысяча в месяц – это значит двенадцать тысяч в год? – посчитал Костя.
– Плюс отдых на море и лечение. Значит, пятнадцать тысяч в год, – уточнила жена.
– Дай мне наволочку, – попросил Костя.
– Зачем?
– Не задавай вопросов. Просто дай наволочку, и все.
– Чистую или грязную?
– Все равно.
– Дай ему грязную! – крикнула теща. – Ему стекла на машине протереть.
Жена ушла в ванную и вернулась с наволочкой едко-голубого цвета. Должно быть, достала из грязного белья.
Костя взял наволочку и вышел.
Машина стояла на месте, и рюкзак тоже лежал на месте, как спящая собака. Костя сел на заднее сиденье, поставил рюкзак рядом и отсчитал тридцать пачек. Получилась половина наволочки. Туда свободно влезло бы еще столько же. Костя кинул еще две пачки, на машину-автомат.
Мысленно Костя разделил миллион на три равные части: жене – триста тысяч. Кате – триста. И себе. И все. Миллион кончился. Это не так уж и много, оказывается.
Костя затянул веревки и задвинул рюкзак поглубже под сиденье. Запер машину и рысцой побежал в подъезд. Поднялся на лифте. Радость, как лифт, поднималась в нем от живота к горлу. Какое это счастье одаривать близких тебе людей и обиженных тобой.
Костя вошел в дом с наволочкой, громко потопал ногами, сбивая налипший на ботинки снег. Прошагал в комнату и высыпал на стол содержимое наволочки. Пачки денег шлепались друг на друга, образуя горку, некоторые съезжали сверху вниз.
Жена онемела, ее глаза слегка вытаращились, челюсть слегка отвисла. Она являла собой одно сплошное удивление. Теща стояла с невозмутимым видом. Ни один мускул на ее лице не дрогнул, только в глазу обозначился голубой кристалл.
– Здесь триста тысяч долларов, – объяснил Костя. – Это алименты за двадцать лет. И двадцать тысяч на машину.
Жена стояла бледная, ушастая, перепуганная. Казалось, она ничего не понимала.
– Ты сказала: пятнадцать тысяч в год, – растолковал Костя. – Десять лет – сто пятьдесят тысяч, двадцать лет – триста тысяч.
– А машина – отдельно? – спросила теща. – Или входит в триста тысяч?
– Отдельно. Здесь триста двадцать, – уточнил Костя.
Жена очнулась.
– А где ты это взял? – спросила она.
– Бог послал.
– На дом?
– В машину забросили.
– Ты шутишь?
– Нет. Это правда.
Теща удалилась на минуту, потом вернулась с чистой наволочкой и стала сгребать деньги со стола, как будто это была гречка. Ее ладонь была крупной, округлой, как у медведицы.
– А ты не боишься, что за деньгами придут? – спросила жена.
– Если придут, мы скажем, что ты с нами не живешь, ничего не знаем, – проговорила теща.
Она удалилась с наволочкой в другую комнату.
– Сейчас будет делать тайник, – предположила жена.
Для тещи ничего в мире не было дороже денег, потому что только с помощью денег она могла действенно проявить свою любовь к близким.
– Поешь, Костя… – предложила теща, обозначившись в дверях. – У меня сегодня твой любимый бефстроганов. Настоящий. С лучком и жареной картошечкой.
Костя сглотнул, и по его горлу прокатился кадык.
Теща метнулась на кухню, и уже через несколько минут перед Костей стоял полный обед: первое, второе и третье. Теща – талантливая кулинарка, и кулинарный талант – редкость, как всякий талант. К тому же теща готовила со счастьем в душе, потому что обслуживала родных людей: дочь и внука. У нее был талант преданности. Теща оказалась при многих талантах. Раньше Костя этого не замечал. Раньше ему казалось: какая разница – что ешь, лишь бы насытиться. Но сейчас, после года бездомности, когда не ешь, а перекусываешь, он понял, что еда определяет качество жизни. И это имеет отношение не только к здоровью, но и к достоинству.
Костя ел и мычал от наслаждения.
– У тебя зуб болит? – спросила жена.
– Нет. Просто вкусно.
Теща села напротив. С нежностью смотрела, как Костя ест.
– Не борщ, а песня, – отозвался Костя. – Спасибо.
– Это тебе спасибо. Ты хороший, Костя. Добрый. Что бы мы без тебя делали… Мы бы пропали без тебя. Спасибо тебе, – с чувством проговорила теща.
– Да не за что, – смутился Костя. – Я же их не заработал. Шальные деньги, неизвестного происхождения. Может, от наркобизнеса.
– Деньги не пахнут, – возразила теща. – Ты мог бы и не дать. Или дать одну пачку. Мы были бы рады и одной. Ты добрый, Костя. Дай Бог тебе здоровья.
Костя поднял глаза на тещу и увидел, что она симпатичная – женственная и голубоглазая. И ромашковая прелесть жены – от тещи.
– А вы раньше кем работали? – спросил Костя. – Какое у вас образование?
Оказывается, он даже не знал внутреннего мира тещи. Не знал и не интересовался.
– Я работала в гороно. Осуществляла учебный процесс.
Значит, жена – наследственная учительница.
– А где ваш муж? – спросил Костя.
– Муж объелся груш, – ответила теща.
Значит, теща пораженка. И жена унаследовала ее участь. Жена не слушала их беседы. Она сидела, бледная, и смотрела в стену.
– Ты чем-то недовольна? – спросила теща.
– Откупился, – сказала жена.
– А что бы ты выбрала: я без денег или деньги без меня? – поинтересовался Костя.
– Ты с деньгами, – ответила жена.
«Все женщины одинаковы», – подумал Костя и взялся за бефстроганов. Зазвонил телефон. Жена взяла трубку, послушала и сказала:
– Он здесь больше не живет… Понятия не имею…
– Кто это? – насторожился Костя.
– Не сказали. Мужик какой-то…
– А голос с акцентом?
– Нет. Нормальный. Интеллигентный даже. По голосу – не бандит.
– А что, у бандитов особенные голоса? Они что, не люди? – спросила теща.
Костя отодвинул тарелку. У него пропал аппетит.
– Я пойду. – Он встал.
– Доешь, – попросила теща.
– Пусть идет, – сказала жена. – Я боюсь.
Жена боялась, что Костю ищут, и он сам этого боялся.
И только теща не боялась ничего. Она была как ловкий опытный зверь в лесу, который хорошо знал лес и чувствовал свою силу.
– Я сбегаю за Вадиком, – услужливо предложила теща.
– Не надо, – отрезала жена.
Костя оделся и вышел во двор с мутным чувством.
Кто его искал? Может быть, школьный друг Миша Ушаков? Они вместе учились в школе, потом в институте. Потом Миша ушел в науку.
А вдруг звонил Азнавур?
Костя вспомнил его лицо со стекающими вниз бровями. Казалось, сейчас откроет рот и запоет с характерным азнавуровским блеянием. Но у бандита были дела поважнее, чем петь. Убить – вот его дела.
Может быть, Азнавур ехал следом и выследил? Костя оглянулся по сторонам. Никаких следов преследования. Несколько машин стояли темные, со снежными шапками на крышах. Значит, ими не пользовались несколько дней по крайней мере.
А вдруг парень-снаряд запомнил номера, узнал в ГАИ – кто владелец. И теперь ищет.
Надо немедленно избавиться от машины. Отогнать в лес и поджечь. И заявить об угоне. Пусть эта машина числится в розыске. А если кто-то из бандитов явится, то можно сказать: угнали месяц назад. Ездит кто-то другой. Значит, и деньги у другого. Костя сел в машину. Нащупал рукой рюкзак. На месте.
Он вдруг почувствовал, что устал. Хотелось лечь и закрыть глаза. И ни о чем не думать. А уничтожить машину можно и завтра. На рассвете. Все главные события происходят чаще всего на рассвете: любовь, рождение, смерть… И смерть машины в том числе. Зачем же искать другое время, когда природа сама его нашла…
Костя подъехал к даче.
Сосед – молодой и пузатый, похожий на переросшего младенца, расчищал въезд перед гаражом. Орудовал широкой лопатой. Увидев Костю, он разогнулся. Верхняя линия века была прямая, как у Ленина. Вернее, как у башкирских народностей. «Эмбрион Винг», – подумал про него Костя.
Костя стал отворять широкие ворота. Ворота просели, стояли низко, выпавший мягкий снег тормозил движение.
– Расчистить тебе? – предложил Винг.
– Не надо, – отказался Костя. Для него было важнее, чтобы Винг исчез, испарился.
– Я тебе лопату оставлю, если что… Поставишь сюда.
Винг прислонил лопату к стенке гаража и удалился, довольный собой. Костя не стал загонять машину во двор. Он внутренне расстался со своей машиной, и ему было все равно, что с ней будет дальше: угонят или частично ограбят.
Костя вытащил рюкзак и пошел в дом.
Дом обдал его теплом, как родной. Они с домом подружились – это было очевидно. И даже семья мышей – пара взрослых и три мышонка сосуществовали с Костей вполне дружелюбно. Не появлялись при свете, только ночью. Не грызли хлеб – только подбирали крошки. Мышата не пищали, не нарушали покой. Иногда, очень редко, Костя видел их мордочки с глазками-бусинками – чудные, воспитанные дети.
Костя скинул дубленку, выворотил рюкзак на пол. Сел рядом и стал складывать кучки по десять пачек. Получилось пять полных и одна половина. Пятьсот пятьдесят тысяч. Триста двадцать он отдал, значит, изначально был не миллион, а восемьсот семьдесят тысяч. Тоже неплохо.
Костя решил не оставлять деньги в рюкзаке. На нем были следы бандитских рук. Он достал из кладовки свою спортивную сумку и покидал в нее пачки. От денег пахло лежалой бумагой плюс чем-то слегка химическим. «А вдруг фальшивые?» – мелькнуло в голове. Тогда теща его убьет.
Сумка была полна, но не доверху. Костя легко задвинул молнию. Теперь это надо куда-то спрятать. Куда?
Костя сообразил: если он спрячет, воры найдут. Воры – психологи и прекрасно понимают психологию обывателя. Значит, надо НЕ прятать. Положить на видное место. Например, на шкаф. Воры войдут и увидят на шкафу спортивную сумку. Они даже внимания не обратят. Начнут рыться внутри шкафа, выворачивать все на пол.
Костя подумал и сунул в сумку спортивный костюм, на тот случай, если воры все же сунутся. Костюма оказалось мало, пачки просвечивали по бокам. Костя добавил две пары носков. Закрыл молнию и взгромоздил сумку на шкаф. И почувствовал большое облегчение. Ему захотелось вернуться в привычную жизнь.
Костя включил телевизор, углубился в новости. Телевизор – это его малая наркомания. Костя любил просмотреть все новости и вести. Без этого его ломало.
Костя внимательно выслушал все, что произошло за сегодняшний день в стране. Впечатлительные люди на Западе, прослушав наши последние известия, схватились бы за головы, зарыдали и укрепились в мысли: в этой стране жить нельзя. А оказывается, можно.
После новостей шел боевик, где крутой мужик бил по морде ногами. Развернется, как балерина, и – раз по морде ногой, как рукой. Костя с наслаждением впитывал в себя телевизионную продукцию. Потом задумался и уже не смотрел, а телевизор все работал, и время шло. И обеспокоенные мышата выглядывали, как бы спрашивая: ну, когда ты потушишь свет?
Костя лег наконец. Вертелся в темноте. Что-то ему мешало. Какая-то неоформленная мысль… И вдруг она оформилась, эта мысль. Простая, как все гениальное. Он должен купить у старухи этот дом. Оформить и взять в собственность. Ему ведь негде жить… А теперь у него будет собственный загородный дом в ближнем Подмосковье. Он сделает суперремонт, купит мебель из светлой сосны в скандинавском стиле. Наймет приходящую тетку. В доме – всегда чистота и еда, пахнет свежей выпечкой с ванилью. Катя будет приходить в ухоженный красивый дом. Подъезд к дому – расчищен. У порога – две пары пластиковых лыж… Спорт, секс и бизнес – формула американцев. Они примут для себя эту формулу.
И вообще, хорошо бы поскорее истратить эти чертовы деньги. Избавиться от них. Тогда пусть приходит Азнавур и задает вопросы…
Костя проснулся в половине девятого. Сработали внутренние часы. Он открыл глаза и подумал: Катя… Даже не подумал, а вдохнул, как воздух.
В полукруглом окне – гениальный пейзаж: ель сквозь две березы. Заснеженные лапы елей и яркая белизна берез – на перламутре неба.
Природа видна только за городом. А природа – это замысел создателя. Трудно себе представить, что береза возникла в результате эволюции. Она возникла в воображении создателя, и он ее воплотил…
По утрам у Кости всегда было хорошее настроение – признак здоровья и знак Стрельца. Костя быстро собрался. Перекинул сумку через плечо. Она весила, как пять килограммов картошки. Ощутимо. Вышел из дома.
Звонить Кате он не стал. Он просто подгонит к ее дому джип «паджеро», просто введет ее в свой загородный дом, покажет гениальный пейзаж в полукруглой раме.
Брошенная машина стояла за забором, как брошенная жена. Надо было как-то от нее избавляться.
Эмбрион Винг околачивался возле своего гаража, вел переговоры с работягой. Зимой рабочая сила стоила дешевле, и Винг предпочитал вести строительные работы в холода.
Забор между ними выглядел странно: до середины он шел прямо, а с середины – сворачивал, как пьяный, и шел по биссектрисе. У Кости было большое желание поставить забор на положенное место.
– Привет! – крикнул Винг, глядя нахально и одновременно трусливо. Он проверял глазами: заметил Костя или нет. Если Костя кулак по натуре, он не потерпит самозахвата. Если интеллектуал – не обратит внимания. Есть третий вариант – интеллигент. Заметит, но постесняется сказать.
– Послушай, – отозвался Костя, – а чего это забор стоит линзой?
Винг понял, что Костя заметил. Решил слегка наехать.
– Деревянный дом полезнее, чем кирпичный. Но непрактичный. Горит.
Костя не отозвался. Он не понял: Винг философствует или пугает? А если пугает, то что за этим стоит? Вернее, кто за этим стоит? Может быть, Винг – уголовник, что тоже вероятно. В стране незаметно и постепенно произошла легализация криминального отсека. Они уже живут рядом, заседают в правительстве, скоро сядут с тобой за один стол. С ними придется дружить, ходить в гости. Однако сосед – это навсегда. И устраивать себе под боком Чечню – недальновидно и неразумно. Лучше погасить скандал в зародыше.
– Давай так: ты распрямляешь забор, а я плачу деньги. Я покупаю у тебя этот треугольник. Называй цену, – предложил Костя.
Эмбрион Винг смотрел недоверчиво.
– Сколько ты хочешь?
– Машину, – не мигая произнес сосед.
– Какую? – не понял Костя.
– А вот эту. – Он ткнул пальцем на сиротливую Костину машину.
В Косте толкнулась радость: не надо возиться с машиной, жечь ее, – он никогда этого не делал, и неизвестно – сумеет ли поджечь. Может загореться лес, и Костя начнет метаться среди деревьев и сам сгорит, не дай бог…
– А зачем она тебе? – простодушно спросил Костя.
– Жена хочет учиться. Надо такую машину, чтобы не жалко разбить. А твою не жалко.
Костя сделал вид, что задумался. Потом сделал вид, что решился.
– Идет, – согласится Костя. – Бери.
– Прямо сейчас? – не поверил сосед.
– А чего тянуть…
– А ты на чем будешь ездить? – позаботился Винг.
– У меня служебная есть, – соврал Костя.
Сосед обернулся к рабочему. Это был крепкий молодой украинец по имени Васек. В поселке работали молдаване, армяне, украинцы, или, как их называли, хохлы. Дети разных народов. Они приезжали в поисках работы, и по этой миграции становилось понятно, что экономика разрушилась. Люди летят, как осенние листья, гонимые ветром перестройки.
– Переставишь забор? – спросил эмбрион Винг.
– Когда? – уточнил Васек.
– Зараз, – по-хохлацки ответил Винг. Он хотел казаться своим, свойским – так легче торговаться, сбивать цену. – За чей счет?
Этот вопрос относился к Косте. Костя готов был оплатить всю стоимость, но боялся привлечь внимание неожиданной щедростью.
– Пополам, – сказал Костя.
Эмбрион уставился в пространство, и Костя видел: он подсчитывает возможность его обдурить. Такая возможность есть. Он возьмет с Кости всю сумму и скажет, что это – половина.
Лицо у соседа было круглое, пухлое, как волдырь. Косте было противно возле него стоять, хотя все складывалось на редкость удачно.
– А оформление? – спохватился сосед.
– Пожалуйста. Я дам тебе генеральную доверенность с правом продажи.
– Когда?
– Все равно. Хоть сегодня.
Винг посмотрел на часы.
– Успеем, – сказал он. – У них обед с половины первого. Сейчас я Гале позвоню.
– Какой Гале? – насторожился Костя.
– В нотариальной конторе. У меня там все схвачено.
Сосед достал из кармана сотовый телефон и стал договариваться с Галей, чтобы она ждала и не уходила.
Костя вспомнил, что оставил дома рюкзак. А это улика.
– Я сейчас, – предупредил он и пошел в дом.
Рюкзак валялся в прихожей. Костя взял его, чтобы выкинуть в любой мусорный бак.
Сосед продолжал разговаривать. После Гали он позвонил еще в несколько мест.
Костя раскрыл свой багажник и сбросил туда рюкзак. При утреннем свете рюкзак выглядел грязным, в подтеках. Косте показалось, что это замытые пятна крови.
Хохол вскинул лопату на плечо и пошел искать себе напарника. У него была сверхзадача: как можно больше набрать заказов и послать деньги домой, в маленький городок, который называется Золотоноша.
У Кости возникло желание догнать Васька и дать ему половину пачки. Но добро не бывает без последствий. Васек может решить, что это в долг, и убьет Костю, чтобы не отдавать долг. Либо молва разнесется по поселку, и Костей быстро заинтересуются.
Костя вздохнул. Ему было жаль этих людей. Их здесь эксплуатировали, как рабов, и кидали. И они сами тоже кидали. Рабское существование лишает человека нравственности.
Жизнь пестра и многослойна. Поэтому лучше всего в нее не вникать, не нырять в черные глубины, а вальсировать на поверхности.
Нотариальная контора находилась возле окружной дороги.
Костя включил печь. Ехали молча. От теплого воздуха стало душно. Костя расстегнулся.
– Хороший у тебя шарфик, – заметил сосед.
– Мне тоже нравится, – согласился Костя, отсекая тем самым все намеки.
– А откуда он у тебя?
– Жена подарила, – соврал Костя. Так было короче.
– А мне моя только теплые кальсоны покупает, хотя знает: я кальсоны не ношу.
– Заботится, – отозвался Костя.
– А ты кальсоны носишь? – спросил Винг.
– Нет.
– Сейчас, по-моему, никто не носит. Она их в военторге покупает.
– Ну вот, военные носят…
Тема была исчерпана. Замолчали.
– Тебя как зовут? – спросил Костя.
– Влад. А что?
– Да ничего. Просто узнал, как зовут. Мы же соседи.
– Ну да…
– А что значит Влад? Владислав?
– Владимир.
– Ну и был бы Володя.
– Меня все детство дразнили: «Вовка-морковка, спереди веревка, сзади барабан по всем городам»… Тебя дразнили в детстве?
– Не помню.
– Не помнишь, значит, не дразнили. Счастливый человек. В детстве бывает очень обидно. Потом на всю жизнь остается.
Костя молчал, думал о спортивной сумке, которая лежала за его спиной. Мысленно пересчитывал деньги, размышлял – сколько вложить в новую машину. Нет смысла покупать самую дорогую. Машины все равно принято менять раз в пять лет.
– Ты, наверное, думаешь, что я жлоб? – спросил Влад и сделал паузу, ожидая возражения. Но возражения не последовало. – Я не жлоб. Просто я в этом углу гараж хотел поставить. Поэтому и прихватил шесть метров.
– Но это же чужие метры. Попросил бы или купил.
– А ты бы сказал «нет». Не дам и не продам.
– Так бы и сказал, – подтвердил Костя.
– Ну вот. А мне без гаража невозможно. А поставить его больше некуда.
– Почему некуда? Поставь в противоположный угол.
– А там надо деревья рубить. Три березы снимать. Жалко.
– Но есть понятие: мое и чужое.
– А еще есть шанс. Единственный шанс в жизни. Если отобью – будет мое, а не отобью – уйдет навсегда. С концами. Ну, я и попробовал. Любого человека можно напугать или купить. Деньги и страх.
– Сталин так же считал, – заметил Костя.
– Вот и царствовал всю жизнь. Страной должен править диктатор. Это как отец с ремнем в доме. Всегда будет порядок.
– А ты чем занимаешься? – спросил Костя.
– Всем. Мороженым торговал. Пломбиры, эскимо.
– Выгодно?
– А зачем бы я стал этим заниматься?
– Тогда зачем тебе диктатор? Он бы тебя посадил на паек. На пайку.
– Я бы выкрутился. Я никогда не пропаду. Я – непотопляемый.
Влад нажал на кнопку приемника, оттуда выплеснулась песня, неизвестно в чьем исполнении. Влад подхватил с энтузиазмом и пел не хуже певца.
– Люблю эту группу, тащусь… Ты мне оставишь кассетник?
– Бери, – согласился Костя.
– По-моему, у тебя колодка стучит, – насторожился Влад.
– Починишь.
– Ремонт сейчас дорогой…
– Заплатишь. Машина ведь даром досталась.
– Ничего подобного, – запротестовал Влад. – В этом месте земля дорогая. Одна сотка – две штуки. А твоя машина – полторы от силы.
– Так ведь земля моя. Ты забыл… – напомнил Костя.
Остановились возле нотариальной конторы. Костя усомнился: оставлять деньги в машине или взять с собой? С собой – вернее. Он закинул сумку за плечо и пошел за Владом в нотариальную контору.
В коридоре сидела очередь – человек восемь. На полтора часа. Коридор был довольно узкий, стулья старые, стены крашены зеленой масляной краской. Картину дополняли сквозняки и тусклое освещение, поскольку коридор был без окон.
Костя подумал: если бы люди каким-то образом узнали, что у меня за спиной в сумке полмиллиона, что бы сделали? Навалились скопом. Но вид у людей был не агрессивный и слегка заторможенный. Когда приходишь в такие вот государственные коридоры, процессы в организме замедляются, как у медведя в спячке. Отсюда такие заторможенные лица.
Влад, ни на кого не глядя, прошел в кабинет.
– Куда? – подхватилась женщина.
– Мы занимали, – бросил Влад. – Он подтвердит.
«Он» – это Костя, появившийся полминуты назад.
Влад исчез за дверью, но тут же высунулся.
– Заходи, чего стал, – велел он Косте.
Наглость, как любое боевое действие, должна быть внезапной и краткой и действовать как электрошок. Влад хорошо это усвоил.
Нотариус Галя сидела за столом возле окна. На ней была мохеровая вязаная шапка, какие носили при социализме. Серый костюм не украшал Галю, а просто сохранял тепло. Похоже, Гале было все равно, как она выглядит. А может, у нее был другой вкус. Не плохой, а другой.
Влад коротко разъяснил Гале, что от нее требуется. Галя быстро достала анкеты, сама их заполнила, вписала все, что надо.
Костя протянул документы на машину, технический паспорт и свой паспорт.
– Потом зарегистрируете в ГАИ, – предупредила Галя.
– А зачем? – спросил Влад.
– Такой порядок. Все передвижки по машине должны быть зарегистрированы в ГАИ.
– Это хорошо, – заметил Влад.
Доверенность казалась ему ненадежным документом. Хозяин машины мог в любую минуту передумать. Сегодня дал доверенность, завтра отобрал. Влад сам не раз так поступал.
– До которого часа ГАИ? – спросил он у Гали.
Влад хотел все провернуть за один день, чтобы закрепить завоевание. Чтобы у Кости не было дороги назад. Он изо всех сил торопился на самолет, в который была заложена бомба.
Галя назвала сумму за нотариальные услуги и процент за срочность.
– У меня с собой нет денег, – заметил Влад. – Ты заплати. Я тебе потом отдам.
Костя знал, что Влад не отдаст. Но это не имело значения.
– Доллары берете? – спросил Костя.
– Только рубли, – ответила Галя.
– А что же делать? – растерялся Костя.
– У нас тут рядом сберкасса. Можете разменять.
– Да возьми доллары, – заговорщически посоветовал Влад.
– Не имею права, – грустно ответила Галя.
Если бы деньги предназначались лично ей, Галя, конечно, взяла бы доллары. Но она была на государственной службе и должна была соблюдать финансовую дисциплину.
Костя и Влад вышли из кабинета. Женщина из очереди с брезгливым упреком посмотрела на Костю:
– А еще в шарфике…
– Что? – не понял Костя.
– Шарфик надели, а ведете себя как нахал, – объяснила женщина.
– A-а… – Костя постоял в раздумье. Потом наклонился к женщине и тихо спросил: – А где здесь туалет?
– Ну вы вообще… – Женщина покачала головой. Может быть, ей казалось, что нахалы не должны посещать туалет. Либо она считала, что нахалы не имеют права общаться с приличными людьми.
– В конце коридора, направо, – сказал старик, сидящий вторым.
– Спасибо, – поблагодарил Костя и пошел направо.
Этот туалет каким-то образом снял агрессию с очереди. Он как бы примирил всех со всеми. Получалось, что все люди – люди. Каждый человек – человек.
Костя зашел в туалет. Снял сумку и поставил ее на сливной бачок – повыше и почище. Достал одну пачку, вытащил из нее десять сотенных бумажек – пусть будут. И сунул в карман дубленки. Начатую пачку положил во внутренний карман пиджака. Потом застегнул сумку, закинул за плечо. Перед тем как выйти, с отвращением помочился. Больше всего он любил мочиться на даче, на землю. Ему казалось, что через струю он общается с космосом. Приобщается к круговороту. И процесс мочеиспускания из функции организма превращается в нечто подобное медитации. А общественные туалеты повергали в депрессию, как будто он обнимался с трупом.
Все, что касалось тела, чистоты, физических проявлений, было для Кости важно. Может быть, это особенность Стрельцов.
Костя и Влад вышли из нотариальной конторы и стали искать сберкассу.
Возле Костиного сердца лежала пачка с деньгами, и не какими-нибудь, а благородными долларами. В кармане тоже лежали деньги, грели бедро. На спине – куча денег, но она воспринималась как тяжесть. Когда так много – деньги становятся абстракцией. Нечто подобное происходит во время землетрясения. Когда погибает один человек – это трагедия. Когда много – это статистика.
Девушка в окошке сберкассы приняла купюры и долго их разглядывала, проверяла на каком-то аппарате, только что не нюхала.
Костя стоял замерев и напрягшись. Очень может быть, что ему достались фальшивые деньги. В бандитской среде это так естественно.
Если теща узнает, что деньги фальшивые – она его просто убьет. Или скорее всего сама умрет. А Костя этого не хотел. Он уже успел ее полюбить. Он желал ей здоровья и долголетия.
Девушка закончила проверку и выдала ему пачку русских денег. Значит, доллары оказались настоящими. Значит, у жены все в порядке. Он ее обеспечил и теперь освобожден от гнетущего чувства вины. А она свободна от унизительного состояния бедности. Деньги не сделают жену счастливой. Но они сделают ее свободной. А это тоже большое дело.
У Кости была мечта – летать. Люди в двадцать первом веке изобретут крылья на моторчике. Маленький, портативный летательный аппарат… Величиной со спортивную сумку. Он будет за спиной, на лямках. Нажал на кнопку – крылья плавно выдвинулись и распростерлись. Нажал вторую кнопку – и взлетел. Как во сне. Можно задавать любую высоту, любую скорость.
Костя вспомнил об аппарате, потому что за его спиной, в сумке, – крылья. Они уже тянут его вверх. Сообщают радость и высоту.
Костя отсчитал рубли для Гали, отдал Владу. Влад тоже пересчитал, шевеля губами. Потом он перестал считать, но продолжал шевелить губами. Не мог остановиться. Видимо, деньги действовали на него гипнотически. Это была его медитация.
Костя и Влад вернулись в нотариальную контору, получили необходимые документы.
– Теперь в ГАИ, – сказал Влад. – Там как раз обед кончился.
Влад боялся, что Костя одумается и порвет доверенность. Поэтому он немножко нервничал и немножко наезжал. Костя, в свою очередь, мечтал освободиться от машины и от Влада, который ему надоел своей деловитостью, а главное – голосом. У него был жлобский голос, не наполненный знаниями. Только голос, а под ним – пустота.
Влад сел за руль. Тронулись.
– Хорошая машина, – похвалил Влад. – Мягкая. Даже жалко разбивать. Я себе ее возьму, на каждый день.
– У тебя же есть машина, – вспомнил Костя.
– У меня две. «Паджеро» и «феррари». Но они дорогие. Их жалко, а эту не жалко. Будет каждодневная, а те выходные.
– Машина нужна, чтобы ездить, – заметил Костя. – А не в гараже держать, как туфли в шкафу.
– Моя жена так же говорит… Я на мебель чехлы надеваю, а жена стаскивает. Говорит: хочется жить в красоте…
– Будешь беречь, а жить когда? – спросил Костя.
– Моя жена так же говорит. Я скупой, бережливый, экономный… А знаешь почему?
– Не знаю.
– Потому, что я очень долго жил очень плохо. И мои родители очень долго жили очень плохо. Я устал. Я больше так не хочу. Я теперь очень долго буду жить очень хорошо. Ни одного дня не отдавать черту. Понял?
«Неплохо, – подумал Костя. – Ни одного дня не отдавать черту…»
Подъехали к ГАИ.
– Подожди, – предупредил Влад.
Он выскочил из машины. Скрылся в дверях ГАИ.
Костя ждал, безучастно глядя перед собой. Было как-то тревожно сидеть возле милиции с мешком денег. Хоть ГАИ и не милиция, но все равно.
Влад появился быстро – энергичный и озабоченный.
– Если хочешь быстрей, надо башлять…
– Чего надо? – не понял Костя.
– Башли. Ты как будто вчера родился. Давай…
Костя сунул руку в карман дубленки и вытащил стодолларовую банкноту.
– Много, – сказал Влад.
– Других у меня нет.
– Ну давай…
Влад взял деньги и скрылся.
Костя испугался, что сейчас выйдет страж порядка и спросит: «Откуда у вас валюта? Откройте сумку… Пройдемте…» И это будет дорога в один конец.
Через пять минут Влад вышел вместе с начальником – этакий комиссар Каттани, красивый, не подумаешь, что взяточник. В Косте все напряглось. Зачем он вышел?
– Где номера? – громко крикнул Влад.
– В багажнике, – ответил Костя. – А что?
Влад что-то сказал Каттани. Каттани покивал головой. Они расстались, явно довольные друг другом.
Влад сел в машину.
– Номера те же останутся, – пояснил Влад. – Меньше волокиты.
Выехали на проспект.
«Неужели все позади?» – подумал Костя.
– Деньги все делают, – философски ответил Влад. – Надо только уметь дать.
– А чего там уметь? Протянул и дал.
– Ничего подобного. Надо уметь быть своим.
– В Америке этого нет, – заметил Костя.
– Знаешь, какая зарплата у полицейских? А у наших ментов – знаешь какая?
Выехали на широкий проспект. По правой стороне стояли узкие высокие дома, как воздетые к небу пальцы. В одном из таких домов жил Миша Ушаков.
– Останови, – попросил Костя. – Я сойду.
– А чего? Поедем на дачу. У меня коньяк есть бочковой. Целая канистра.
Костя догадался: Влад не отказывает себе в предметах роскоши, к коим относится коньяк. Но старается совместить роскошь и жесткую экономию. И тогда получается бочковой коньяк.
– Ты кто по гороскопу? – спросил Костя.
– Дева.
Костя знал, что мужчины-Девы – жадные, аккуратные и красивые. Жадность – совпадала с Владом. А красота – нет. Хотя что-то симпатичное в нем все-таки было. Недвусмысленность. Влад не хотел казаться лучше, чем он был.
– Притормози, – попросил Костя.
Влад остановил машину. Выпустил Костю. Теперь машина была его, и только его. Он рванул ее с места, будто это был «паджеро» или «феррари». Но это была «пятерка»-«жигули», замешанная в историю. Тот же бочковой коньяк в канистре.
Миша Ушаков был дома, как обычно.
Последние три года он сидел возле парализованной мамы. Попеременно с женой. Денег на сиделку у них не было.
Мама требовала ухода, как грудной ребенок, с той разницей, что ребенок растет и впереди у него большое будущее. Труд во имя жизни. А здесь – тупиковая ветка.
Миша обрадовался Косте. Он радовался любому человеку, который размыкал его пространство. Дом как бы проветривался жизнью.
Миша заметил, что человек имеет несколько кругов. Первый круг – это круг кровообращения, биология, то, что внутри человека.
Второй круг – это связь с родными: мужем, женой, детьми, родителями – кровный круг.
Третий круг – связь с друзьями, сотрудниками по работе – более дальний круг, наполняющий человека информацией.
И четвертый круг – расширенная информация: путешествия, впечатления.
Особенно полноценным четвертый круг бывает у людей, имеющих славу и власть. Слава – тоже власть. А власть – тоже слава.
Этот четвертый круг наиболее полно питает человека. Поэтому так многие устремляются к власти и жаждут славы.
Когда человек заболевает, круги постепенно сужаются: с четвертого – на третий, с третьего – на второй и в конце концов – на первый, когда уже ничего не интересно, кроме своего организма.
Мишина мама сохраняла два круга: первый и второй. Себя и Мишу. Больше ничего и никого.
Первое время она бунтовала: почему это несчастье случилось именно с ней? А теперь уже не бунтовала: случилось и случилось.
Единственное, она очень жалела Мишу. Качество его жизни ухудшилось. Она тащила сына за собой в два круга, отсекая третий и четвертый. Ей хотелось, чтобы Миша жил полноценной жизнью. Она была даже согласна умереть, но как человек верующий – не могла наложить на себя руки. А если честно, то и не хотела. Все шло как шло.
А Миша хотел только одного: чтобы его мама жила и смотрела на него любящими глазами.
Жена была старше Миши, безумно его ревновала, боялась потерять, и такая ситуация в доме ее, как ни странно, устраивала. Она делала жену необходимой. Человеком, без которого не обойтись.
Жена тоже обрадовалась Косте. Она вообще не разрешала себе плохих настроений. Организованная, сделанная женщина.
Костя разделся в прихожей. Вместе с Мишей прошел в его кабинет. Полированный чешский гарнитур, модерн шестидесятых годов. Кресло – просто помоечное, прикрытое пестрой тряпкой. Стулья расшатались, однако служили. Вещи живут дольше человека. Было очевидно, что Мише и его жене плевать, что вокруг.
Равнодушие к комфорту – наследие совковых времен. Но и бескорыстное служение науке – тоже оттуда. Из совка.
– Как у тебя дела? – спросил Костя.
Они с Мишей виделись редко, но от разлуки дружба не портилась, не засыхала. Каждый раз при встрече Косте казалось, что они расстались только вчера.
– Мама лежит, наука стоит, – сообщил Миша. – Финансирование нулевое. Половина лаборатории в Америке. Живут под Сан-Франциско. Чуваев уехал на прошлой неделе. А туберкулез вернулся.
– Кто? – не понял Костя.
– Не кто, а что. Туберкулез. В девятнадцатом веке назывался чахоткой.
– Но ведь изобрели пенициллин… – вспомнил Костя.
– Пятьдесят лет назад. Туберкулез приспособился. Мутировал. И вернулся. Грядет чахотка двадцатого века.
– Что же делать?
– Мы посылали письмо президенту. Я разговаривал с Харитоновым…
Миша замолчал. Потом очнулся.
– Выпить хочешь? – спросил он.
Костя заметил, что женщины всегда предлагают поесть, а мужчины – выпить. Костя вспомнил, что он без машины, а значит, может выпить.
Вышли на кухню. Жена – ее звали Сильва – сварила сосиски. Разогрела заранее приготовленную вермишель.
Сосиски были пересолены.
Изначально плохое мясо, и в него добавлена соль.
Крупный ученый жил в бедности, ел дешевые сосиски. А мог бы уехать под Сан-Франциско, иметь дом с бассейном. А его мама сидела бы в шезлонге, на лужайке перед домом. И ее руку лизал бы черный дог. Но для Миши самым главным был мутирующий туберкулез.
Миша разлил водку по стаканам. Выпили.
– Так что Харитонов? – напомнил Костя.
– Харитонов сказал, что сейчас страна летит в пропасть и надо подождать… Они могут лететь еще семьдесят лет. У нас ведь все по семьдесят лет.
– А ты не хочешь уехать? – спросил Костя. – Какая разница, где бороться против туберкулеза?
– Разница, – отозвался Миша.
– Почему?
– Я там ничего не придумаю. Я только здесь могу работать. В этой комнате. У меня здесь мозги вертятся. А ТАМ стоят.
– Но ты же не пробовал…
– А зачем пробовать? Я и так знаю. Рыбы живут в воде, птицы в небе, а русские – в России.
– А сколько тебе надо денег? – спросил Костя.
– Много.
– Что такое «много»?
– А почему ты спрашиваешь?
– У меня спонсор есть. Он может дать.
– Спонсор – не идиот. Деньги вернутся не скоро. А может, и никогда. Просто люди перестанут умирать от туберкулеза. Харитонов тоже спросил: «Когда вернутся деньги?» Если бы я ему сказал: «Завтра», – был бы другой разговор. Никого не интересует здоровье нации. Всех интересуют только деньги.
– А сколько стоит твоя программа?
– Да я не о всей программе. Мне бы только достать биологический продукт антибиотиков.
– Что? – не понял Костя.
– Бактерии, грибы – природный антибиотик. Они вырабатывают вещество, которое защищает от окружающих бактерий…
– Это дорого? – поинтересовался Костя.
– Если учитывать приборы, химическую посуду, труд лаборантов, то в сто тысяч можно уложиться.
– Сто тысяч чего?
– Ну не рублей же… Я обращался в банки, мне говорят: кризис.
Костя принес из прихожей сумку и стал выкладывать на стол пачки. Миша смотрел с ужасом, как будто увидел привидение.
– Откуда это у тебя? – шепотом спросил Миша.
– Я получил наследство.
– Откуда?
– У меня дедушка в Израиле. У него там нефтяная скважина.
– А разве в Израиле есть нефть? – удивился Миша. – По-моему, ты врешь.
– Какая тебе разница? Дело ведь не в нефти, а в деньгах.
Костя отодвинул в сторону десять пачек. Миша смотрел задумчиво.
– Я думал, что ты русский…
– Я русский.
– А дедушка в Израиле откуда?
– А там тоже много русских. Все живут везде.
В кухню вошла Сильва. Застыла при виде денег. Но ненадолго. И ни одного вопроса. Вышколенная, как гувернантка в богатом доме. Собрала посуду со стола и сложила в раковину.
– Я завтра же закажу Шульцу штаммы, – объявил Миша.
– Шульц – это кто? – спросил Костя.
– Немец.
– Хорошо, – одобрил Костя. – Шульц не украдет.
Миша разлил остатки водки. Сильва поставила на стол магазинное печенье. Вышла.
– Мистика какая-то… – проговорил Миша. – Я всегда знал, что мы выкрутимся. Случится чудо… И вот оно – чудо.
– У меня к тебе просьба: не говори никому, где ты взял деньги.
– Не скажу, – пообещал Миша.
– Поклянись.
– Клянусь.
– Чем?
– Честным словом.
Мишиного честного слова было вполне достаточно.
– Я пошел. – Костя поднялся.
Миша не хотел расставаться сразу, резко. Это все равно что резко затормозить, и тогда можно удариться головой о стекло.
Миша продлевал расставание, как бы плавно тормозил.
Вместе вышли во двор. Зимой смеркается рано. Сумеречное освещение было очень красивым. Все четко, как через темное стекло.
– Чудо только маскируется под чудо. А на самом деле – это проявление справедливости, – сказал Миша.
– А ты считаешь, справедливость есть? – серьезно спросил Костя.
Чужие деньги попали к Косте. Он их раздает широкой рукой. Разве это справедливо?
А может быть, как раз справедливо. Скорее всего это деньги, полученные от фальшивой водки или от наркотиков. Иначе откуда такие бешеные суммы у таких молодых людей? Пусть лучше они попадут в руки теще, которая всю жизнь работала на эту страну и не получила от нее ничего, кроме нищенской пенсии. Бедную тещу использовали и кинули, как теперь говорят. И науку кинули. Значит, Костя частично восстановил справедливость.
– Конечно, есть, – сказал Миша. – Ведь свалили памятник Дзержинскому.
– Через семьдесят лет…
– Это лучше, чем никогда, – возразил Миша.
Фон неба темнел и постепенно растворял в себе дома и деревья.
«Как время, – подумал Костя. – Все в себе растворяет. Целые поколения…»
Вдруг зажглись фонари, и стало как-то театрально.
– Я хотел тебе кое-что сказать… – начал Миша.
«Сейчас скажет, что у него есть другая женщина», – испугался Костя.
– Никто, кроме мамы, не знает, какой я был маленький. В ней я весь, как в компьютерной памяти, – проговорил Миша. – Если она уйдет, она все унесет с собой и останется только то, что Я СЕЙЧАС. Без корней и без прошлого…
Костя задумался. Он заметил: когда у человека нет детей, то всю свою любовь он складывает на родителей. Миша любил маму удвоенной любовью, как больного ребенка.
– И еще… – проговорил Миша.
Костя напрягся.
– Спасибо тебе…
– И все? – проверил Костя.
– Все.
– Тогда я пошел, – с облегчением сказал Костя. Поправил на плече сумку.
– А ты не боишься, что тебя ограбят? – спросил Миша.
– А откуда кто знает?
И в самом деле. Откуда кто знает, что лежит у человека в спортивной сумке? Может, книги, может, теннисная ракетка…
Они разошлись. Костя испытывал чувство, похожее на вдохновение.
Что его вдохновило? Мишино «спасибо», или то, что немец вышлет штаммы, или просто Миша, который любит свою маму, а жена любит Мишу, а Миша науку – и везде любовь кружит над головами.
Костя взял машину и поехал к старухе. Он решил отдать ей деньги прямо сейчас. Ему подсознательно и сознательно хотелось освободиться от дурных денег. Поменять деньги на результат.
За рулем сидела молодая женщина, видимо, тоже занималась частным извозом.
Костя опустился на заднее сиденье, осторожно прикрыл дверцу, назвал адрес старухи: «улица Кирова, семнадцать» и замолчал. Углубился в подсчеты.
Сколько было денег? Сколько осталось? На что их потратить? Только скорее. И тогда пусть приходит Азнавур и задает вопросы.
– Как поедем? – Женщина обернулась и посмотрела на Костю. На ней была круглая шапочка, отороченная белым мехом. Как у Снегурочки. – Через центр или по кольцу?
– Самая короткая дорога та, которую знаешь, – сформулировал Костя.
– Тогда по кольцу…
– Простите… дурацкий вопрос. Если бы вы нашли много денег, что бы вы сделали?
– Много – это сколько? – уточнила Снегурочка.
– Чемодан.
– Я бы зарыла их в землю. И сама бы уехала.
– Зачем?
– Боялась бы…
– А потом?
– Потом, через год, откопала бы.
– А дальше?
– Дала бы батюшке на храм. У нас очень хороший батюшка. У него семь человек детей. Он так тяжело живет.
– А зачем так много детей?
– Сколько Бог даст.
– Пусть государство поможет. Церковь ведь не отделена от государства.
– А что с того? – Снегурочка обернулась. У нее были густо, по-новогоднему, накрашены глаза. – Мы все оказались брошены государством. Каждый выживает как может.
– А муж у вас есть? – спросил Костя.
– Немножко… – неопределенно ответила Снегурочка, и Костя понял, что она больше рассчитывает на Бога, чем на мужа.
– Здесь под светофор направо, – руководил Костя.
– А вы крещеный? – спросила Снегурочка.
– Нет.
– Это плохо.
– Почему?
– Ангела-хранителя нет. Вы предоставлены самому себе. Вас никто не охраняет.
Костя вдруг подумал: это правда. Его никто не охраняет.
– А в моем возрасте можно креститься? – спросил он.
– В любом можно. Хотите, наш батюшка вас окрестит? – Снегурочка обернулась и посмотрела на Костю новогодними глазами.
– Хочу, – серьезно ответил Костя.
Снегурочка достала из сумки маленькую книжечку величиной с карманный блокнот. Протянула Косте.
– Это молитвенник, – объяснила она. – Тут на последней странице наш адрес и телефон.
– Телефон храма?
– Нет. Телефон нашего православного издательства. Меня Рита зовут. Скажете: позовите Риту.
Костя взял молитвенник. Положил в карман.
– А для себя лично вы что-нибудь хотите? – спросил Костя.
– У меня все есть.
– Ну… У английской королевы тоже все есть, и даже больше, чем у вас. И то ей что-то надо…
– А чего у нее больше? Король? Так он мне и даром не нужен. Королевство? Я без него обойдусь. А остальное у нас одинаково: земля, хлеб, вера…
– Стоп! – скомандовал Костя.
Машина встала. Костя вышел. В кармане лежала начатая пачка. Он отсчитал семь сотенных банкнот и протянул. Почему семь, он не знал. Так получилось. Семь – мистическая цифра. Семь дней – это неделя.
Снегурочка включила свет. Долго смотрела на деньги. Потом спросила:
– Что это?
– Жертвоприношение, – ответил Костя.
– Спаси вас Бог, – просто сказала Снегурочка. – Приходите, если что…
– Можно вопрос? – спросил Костя.
Рита выжидательно смотрела на него.
– Если вы веруете, зачем краситесь?
– Так красивее. Господь не против. Он на такие мелочи внимания не обращает…
Машина весело фыркнула и ушла.
Костя сделал маленькое открытие: «милостыня» – от слова «милость». Сделайте милость… Явите божескую милость… Значит, милость угодна Богу, как творчество, как любовь. Костя посожалел, что у него мало денег. Оказывается, миллион – не так уж много. Это даже мало на самом деле…
– А вы мне снились, – обрадовалась старуха. – И еще знаете что? Битые яйца.
Костя прошел и разделся. Старуха журчала, как весенний ручей:
– Раньше битые яйца снились мне к деньгам. А сейчас – просто к битым яйцам. Я пожарю вам омлет с сыром.
Старуха ушла на кухню.
Костя достал из сумки десять пачек и положил их на середину стола.
Стал ждать.
Старуха вошла с тарелкой. Остановилась. Строго спросила:
– Что это?
– Сто тысяч, – смущенно отозвался Костя. – За дачу. Я покупаю у вас дачу. Вы не против?
– Я против того, чтобы грязные деньги лежали на обеденном столе.
– Почему грязные?
– Вы представляете, через сколько рук они прошли? И что это были за руки… Уберите их куда-нибудь.
Костя перенес деньги на подоконник.
– Подите вымойте руки, – попросила старуха.
– Я же вилкой буду есть, – возразил Костя.
– А хлеб?
Костя послушно отправился в ванную комнату. В ванной была стерильная чистота, как в операционной. Костя понял, что у старухи – мания чистоты. Деньги для нее источник грязи. Но не только. Деньги – это потеря загородного дома, который помнит ее маленькой и молодой. А вместо этого куча денег, как битая скорлупа.
Костя вернулся в комнату. Старуха сидела, глядя в стол.
– Они сказали, что никогда не вернутся в Россию, – проговорила старуха.
Костя понял, что речь идет о сыне и о его семье.
– Они сказали, что в Америке лучше их детям. Дети – уже американцы.
– А им самим? – спросил Костя.
– Им самим трудно. Эмиграция – это всегда стресс.
– Значит, свою жизнь под ноги детям? – спросил Костя.
– И мою тоже. Но зато теперь у меня есть много денег. Я буду менять их на рубли и докладывать к пенсии. Как вы думаете, сколько надо докладывать?
– Если скромно, то долларов двести, – предположил Костя.
– Значит, сто тысяч разделить на двести – будет пятьсот месяцев. В году двенадцать месяцев. Пятьсот делим на двенадцать – сорок. Мне хватит на сорок лет… Я буду покупать куриные сосиски в супермаркете.
– А в Америку вы не хотите переехать?
– Не хочу. Зачем я буду путаться у них под ногами? Там вместе не живут. Не принято. Это в Индии живут вместе. Чем ниже уровень жизни, тем крепче связь поколений.
Костя слушал, но ему казалось, что его никогда не коснутся старость, ненужность. У него все – здесь и сейчас.
Он подошел к телефону и набрал номер Кати. Мобильный был отключен, а домашний занят. Катя не прекращала работу дома, вела деловые переговоры по телефону.
Костя вернулся к столу. Старуха разливала чай.
– Это деньги ваши или ее? – Старуха кивнула на телефон.
– Мои.
– У вас такие деньги?
– А что?
– Ничего. Вы не производите впечатления делового человека.
– А деловые – они какие?
– Они сначала едут в нотариальную контору, оформляют сделку, а уж потом расплачиваются.
– А мы – наоборот, – сказал Костя. – Сегодня деньги, завтра стулья. Какая разница?
– Деловые люди держат деньги в западном банке, а не носят с собой. Деньги должны работать.
– А вы откуда знаете?
– От своего сына. Он знает.
– У меня нет счетов в западных банках, – сказал Костя.
– Я могу вам помочь. Вернее, мой сын. Хотите?
– Не знаю. Я подумаю…
– Подумайте. И звоните. Мне кажется, мы будем дружить.
– Мы будем крутые и деловые, – улыбнулся Костя.
– Мы никогда не будем крутые, но голыми руками нас не возьмешь…
Костя снова набрал Катю. Телефон был занят вглухую. Проще доехать и кинуть камнем в окно.
Костя доехал и поднялся на лифте.
Дверь мог открыть Александр, но это не имело значения. Костя только увидит Катю и отметится: вот он я. Вот она – ты. Он не мог уехать на дачу, чтобы не повидаться и не отметиться.
Открыла Надя, собачья нянька. Они держали специального человека для собаки, и это было логично. Хозяев целыми днями не было дома, а собака, молодая овчарка, должна есть, и гулять, и общаться.
Овчарка рвалась с поводка и буквально вытащила Надю за дверь. Они удалились на вечернюю прогулку.
Катя сидела в кресле, положив ноги на журнальный столик. Смотрела в телевизор.
– Где ты был? – спросила она.
– У Миши, – ответил Костя. Он не любил врать и старался делать это как можно реже, в случае крайней необходимости.
– Зачем? – спросила Катя.
Костя хотел все рассказать, но споткнулся о Катино лицо. Она была явно не в духе, ее лицо было злобно целеустремленным. Нацеленным в негатив.
– Так… – неопределенно сказал Костя. – Зашел по делам.
– Какие у тебя с Мишей дела?
– Привезти – увезти, – соврал Костя.
– Ну да… – согласилась Катя. – Какие у тебя еще могут быть дела…
Костя услышал интонации тещи. Неужели все возвращается на круги своя?
– А где Александр? – спросил он.
– В санатории. Здоровье поправляет.
Может быть, Катю злило то обстоятельство, что Александр поправляет здоровье, а она – расходует.
– Под Москвой? – спросил Костя. Его интересовала вероятность его появления.
– В Монтрё, – сказала Катя.
– А это где?
– В Швейцарии.
Без хозяина и без собаки Костя чувствовал себя свободнее. Он прошел на кухню и включил электрический чайник. Стал ждать и пока ждал – соскучился. Без Кати ему было неинтересно. Он налил себе чай и пошел в комнату, чувствуя себя виноватым непонятно в чем. Видимо, Катя была более сильный зверь и подавляла травоядного Костю.
– Ты чего злая? – спросил Костя.
– Налоговая полиция наехала.
– И что теперь?
– Надо платить. Или закрываться.
– Во всех странах платят налоги, – заметил Костя.
– В цивилизованных странах, – поправила Катя. – А здесь куда пойдут мои деньги? В чей карман?
– Сколько они хотят? – поинтересовался Костя.
– Налоги плюс штраф. Ужас. Бухгалтерша дура. Или сволочь. Одно из двух. Я ей говорила: составь документацию грамотно… Нет. Они все обнаружили.
– Что обнаружили?
– Двойную бухгалтерию, что еще…
– А зачем ты ведешь двойную бухгалтерию?
– Костя! Ты как будто вчера родился. Все так делают. Они обманывают нас, мы – их.
– Сколько ты должна заплатить?
– Какая разница…
– Ну все-таки…
– Шестьдесят тысяч. Ты так спрашиваешь, как будто можешь положить деньги на стол. Ты можешь только спрашивать.
По телевизору шла криминальная хроника. Показали молодого мужчину, лежащего вниз лицом. Диктор сказал, что убитый – житель Азербайджана и его смерть – следствие передела московских рынков.
– Очень хорошо, – отозвалась Катя. – Пусть сами себя перестреляют. Перегрызут друг друга, как крысы.
– У него тоже мама есть, – сказал Костя.
– Ты странный, – отозвалась Катя. – Защищаешь налоговую полицию, сочувствуешь мамочке бандита. А почему бы тебе не посочувствовать мне? Заплатить налоги, например… Отвезти меня на горнолыжный курорт?
– Поезжай в Монтрё, к Александру. Ты ведь этого хочешь? Ты злишься, что Александр уехал, а ты осталась.
Катя помолчала, потом сказала:
– Мне хорошо с тобой в постели. Но жизнь – это не только постель, Костя. Мы бы могли вместе тащить воз этой жизни. Но я тащу, а ты вальсируешь рядом, делаешь па. Я не могу тебя уважать. А любовь без уважения – это просто секс. В таком случае лучше уважение без любви.
– А Александра ты уважаешь?
– Его все уважают.
– Все ясно, – сказал Костя и поставил чашку на подоконник.
– Отнеси на кухню, – велела Катя. – Ухаживай за собой сам.
Костя отнес чашку на кухню. Вытащил из сумки десять пачек и вернулся в комнату. Аккуратно выложил на журнальный столик.
– Что это? – растерялась Катя.
– Здесь налоги, машина и Монтрё.
– Откуда у тебя деньги? – торопливо спросила Катя и сняла ноги со столика.
– Я ограбил банк.
– Ты не можешь ограбить банк. Для этого ты трусливый и неповоротливый.
– Выиграл в карты.
– Ты не можешь выиграть в карты. Для этого нужны особые способности.
– Они у меня были давно, – нашелся Костя.
– Ты их прятал?
– Да. Я хитрый и жадный.
– Это нормально. Я тоже жадная, знаешь почему?
– Знаю, – сказал Костя.
– Ну почему?
– Просто жадная, и все. Тебе всего мало.
– Потому что я трудно зарабатываю. Поэтому.
Костя вышел в прихожую, стал одеваться. Катя вышла следом. Наблюдала молча.
– Ты куда? – спросила она. – К жене?
– Нам надо расстаться на какое-то время. А там решим…
– Странно, – задумчиво проговорила Катя. – Зачем же ты отдал мне деньги, если не собираешься со мной жить…
– Это ты не собираешься со мной жить, – уточнил Костя.
– Тем более, зачем вкладывать деньги в прогоревшее мероприятие?
– Странно, правда? – отозвался Костя. Он был спокоен. Он оказался равным зверем в схватке.
Костя забросил сумку за плечо. Она сильно полегчала, практически ничего не весила.
– Костя! – окликнула Катя.
Он обернулся в дверях.
– Я заплачу старухе за дачу. Ты не против?
– Против.
– Почему?
– Я уже все заплатил.
Катя смотрела на Костю.
Он вышел. Хлопнула дверь. И какое-то время Катя смотрела в закрытую дверь.
Во дворе Костя встретил Надю с овчаркой. Собака смотрела ему вслед, повернув голову, как бы спрашивая: уходишь?
Костя долго шел пешком, потом спустился в метро. Ему хотелось быть на людях.
Вокруг него клубились и застывали на эскалаторах потоки людей, и никому не было до Кости никакого дела. И это очень хорошо. Он – безликая часть целого. Атом.
Катя права. Есть много правд: правда любовной вспышки, когда человек слепнет, и правда прозревшего. Катя прозрела. Значит, не любит больше. Придется жить без Кати. Он, конечно, не кинется под поезд, как Анна Каренина. Он будет жить, хотя что это за жизнь без любви? Тусклая череда дней. Работать без вдохновения, любить скучных женщин… Работать Костя не особенно любил. Он любил вальсировать, но сейчас у него подломан позвоночник. А какие танцы без позвоночника…
Костя вошел в вагон. Люди смотрели перед собой с обреченными лицами. Когда человек заключен в капсулу вагона или самолета, от него ничего не зависит. Он только ждет, отсюда такое остановившееся выражение…
Напротив сидела девушка. В ней было все, кроме основного. Нулевая энергетика. Катя сделала его дальтоником. Теперь он перестанет разбирать цвета. Все будет одинаково серым, бесцветным.
Костя думал обо всем понемногу, как Анна Каренина по дороге на станцию Обираловка. Он недавно перечитал этот роман и понял, что у Анны Карениной была элементарная депрессия. Ей все и всё казалось отвратительным. Сегодня ей выписали бы транквилизатор. Она ходила бы вялая какое-то время. А потом бы прошло. Иммунная система бы справилась. Анна вышла бы замуж за Вронского. Он и не отказывался. Просто Вронский не мог любить страстно каждую минуту и каждую минуту это демонстрировать. Любовь – это фон, на котором протекает жизнь. А Анна хотела, чтобы любовь была всем: и фоном, и содержанием.
И Косте хотелось того же самого. В отношениях с Катей он был Анной, а она – Вронским. Анна ревновала Вронского к княжне Сорокиной. А Костя – к Александру. Значит, в Александре было нечто, что привлекало надолго. Золотые мозги. Это тебе не красный шарфик. И не вальсок в обнимку с гитарой. Песни и пляски нужны в праздники. А золотые мозги – всегда.
Ну что ж… Пусть остается с мужем. А он будет жить на свежем воздухе, на пособие азербайджанского перекупщика.
Костя вышел из метро. Залез в маршрутное такси. Такси было совершенно пустым. За рулем сидел парень, похожий на красивую гориллу. Как актер Шварценеггер, что в переводе означает «черный негр», как будто негр может быть белым.
Шофер слушал по приемнику последние известия. Ждал, когда наберутся пассажиры. Ему было невыгодно ехать пустым.
Костя подумал, что теперь ему придется искать работу. Невозможно ведь нигде не работать и ничего не делать, даже при наличии денег. Что он умеет? Жить и радоваться жизни. Но таких должностей нет, разве только массовик-затейник в санатории. Но радоваться жизни профессионально – это все равно что насильно улыбаться перед фотоаппаратом. Долго застывшая улыбка – это уже оскал.
На руководящие посты Костю не возьмут, да он и не хочет. Он хочет быть свободным и ни от кого не зависеть.
Может быть, есть смысл водить маршрутное такси… Он любил ездить, наматывать дорогу на колеса. За рулем он отдыхает, если, конечно, не по десять часов подряд. Можно купить собственный маленький автобус, взять у государства лицензию – и вперед. Работа непрестижная, но понятие престижа давно изменилось. Престижно быть богатым, как на Западе. А Костя богат, по крайней мере на сегодняшний день. Он может работать когда хочет и сколько хочет.
Костя сел поближе к водителю и спросил:
– Устаешь?
Шофер удивился нетипичности вопроса. Обычно его спрашивали, сколько платить и сколько ехать. Деньги и время.
– Вот я фрукты из Молдавии возил, – отозвался шофер, – по восемнадцать часов за рулем. Я один не ездил. Боялся заснуть. Надо чтобы рядом кто-то сидел и отвлекал. А это что… семечки.
– А если бы у тебя вдруг случайно оказалась куча денег… Что бы ты сделал?
Шофер задумался, но ненадолго.
– Поехал бы путешествовать по всему миру с друзьями… Прогулял бы.
– А если бы остались?
– Поехал бы в Монте-Карло, в казино. Рискнул бы… Потрясающее чувство, когда рулетка крутится, а ты ждешь.
– А ты играл?
– Нет. Но мечтаю.
– А если проиграешь?
– Ничего. Зато будет что вспомнить.
В микроавтобус ввалилась шумная компания молодых людей. Расселись. Все места оказались заняты и даже не хватило. Одна девушка села на колени рослому парню.
«Взяли бы меня с собой, – подумал Костя. – Я бы им попел».
На него никто не обратил внимания.
Машина тронулась. Костя сдвинулся к самому окну, смотрел в стекло и думал, что между находкой денег и потерей Кати есть какая-то связь. Если судьба дает, то она и забирает. Судьба расчетлива. А может, это не расчет, а справедливость. Не должно быть – одним все, другим – ничего.
Костя сошел на своей остановке.
За ним увязалась крупная собака. Ей надоело быть бездомной и бродячей. Собака хотела хозяина. Костя шел безучастный, и было непонятно: согласен он на хозяина или нет.
Прогулял… Проиграл…
Шофер согласен жить одним днем. Предпочитает не заглядывать далеко вперед. Если заглянуть ОЧЕНЬ далеко, то можно увидеть хвост кобылы, везущей за собой чей-то гроб… Где-то Костя это читал.
Теща – наоборот, просчитывает на десять лет вперед. На пятьдесят лет вперед, как будто собирается жить вечно. Как ворона. Но у нее – потомство. В этом дело. Срабатывает закон сохранения потомства.
А Катя – просчитывает все: настоящее и будущее – и позволяет себе зигзаг в сторону. Но ненадолго. В кино это называется «отвлечение от сюжета внутри сюжета». «Меня оправдывают чувства, – вспомнил Костя. – А мозги для чего?»
Собака отстала, как бы махнула рукой. Она была готова к хорошему и плохому в равной степени.
Подходя к дому, Костя увидел, что возле забора кто-то ковыряется.
Влад стоял с лопатой и долбил мерзлую землю. Подрывал столб, чтобы поставить забор на место. Он решил сам выполнить работу и взять себе деньги.
Костя остановился. Ему было совершенно безразлично, как будет стоять забор. Он спросил:
– У тебя выпить есть?
– Пошли, – коротко отреагировал Влад.
В доме у Влада было тепло. Вот главное, подумал Костя, тепло. Физическое и душевное.
Разделись, прошли на кухню.
Влад поставил на пол пластмассовую канистру и стал переливать коньяк в трехлитровую банку.
– А его можно пить? – усомнился Костя.
– Я сам не пью, но работяги хвалят. Пока все живы, никто не отравился.
Влад достал из холодильника картошку в мундире и квашеную капусту.
– Кто это коньяк капустой закусывает? – осудил Костя.
– В капусте витамины. Я всю зиму капусту ем.
Влад ловко почистил картошку, полил капусту подсолнечным маслом. Запахло подсолнухом.
Влад налил Косте в стакан, как работяге.
– А жена где? – поинтересовался Костя.
– В санатории.
– Болеет?
– Почему болеет? Здоровая как лошадь.
– А в санаторий зачем?
– Для профилактики. Чтобы не заболела. За женой тоже надо следить, как за лошадью. Даже больше.
– А ты лошадей любишь? – догадался Костя.
– Я все детство в Туркмении провел. У бабки жил. Меня бабка любила. Хорошее было время.
– Да, – согласился Костя. – Меня тоже бабушка любила.
– Давай выпьем. – Влад налил и себе.
– Ты же не пьешь…
– А что со мной случится?
Костя выпил. В груди разлился целебный жар.
– А твоя бабка была туркменка? – спросил Костя.
– Почему туркменка? Русская. Просто там жила. Во время войны эвакуировались и остались.
Влад достал из холодильника копченое сало.
– Хохлы любят сало, а евреи не едят. И мусульмане не едят, – заметил Костя. – Свинья грязная.
– Свинья умная, – поправил Влад. – И евреи умные. Евреи правильно относятся к женам. Делают что хотят, а о женах заботятся.
– У каждой нации свои приоритеты, – сказал Костя. – Айсоры – лучшие чистильщики ботинок.
– Айсоры – это кто? – не понял Влад.
– Ассирийцы. Помнишь, был такой ассирийский царь?
– Вот за него и выпьем!
Костя выпил полстакана. Он хотел растворить в коньячном спирте свою тоску по Кате и смутный страх, связанный с Азнавуром. Любовь и Смерть – два конца одной палки. А Костя – посредине.
– Если бы у тебя были деньги, что бы ты с ними сделал? – спросил Костя.
– Я бы отдал долги, – мрачно ответил Влад.
– А остальные?
– И остальные отдал.
– У тебя большие долги?
– Я взял под процент. Думал, быстро раскручусь. И не раскрутился. А они включили счетчик. Теперь каждый день накручивается…
– И что делать?
– Откуда я знаю…
– А ты с ними поговори. Объясни.
– Наивный ты человек… Я каждый день живу за свой счет.
– Это как?
– Каждый день – подарок. Ну ладно… – Влад тряхнул головой. – А твоя баба где?
– А что? – насторожился Костя.
– Да ничего… Я видел однажды, как она расчесывает волосы на крыльце…
«Может, дать ему в долг? – подумал Костя. – Влад, конечно, возьмет. И кинет. Не потому, что бандит. А потому, что не сможет вернуть. Это ясно».
– Когда она приезжает, я смотрю в ваше окно. Там свет горит, тени двигаются… – мечтательно проговорил Влад.
Костя выпил еще и прислушался к себе. Бочковой коньяк не только не растворил образ Кати, а, наоборот, сделал его отчетливым. Стереоскопичным. Он увидел Катю – босую на снегу. Она стояла на крыльце и расчесывала волосы.
«Я схожу с ума», – подумал Костя.
Катя стояла перед дачей босая. Она исповедовала учение Порфирия Иванова, обливалась водой и ходила босиком по земле в любую погоду.
Костя не понял, как он оказался перед старухиной дачей? Видимо, он ушел от Влада. А Влад где? Должно быть, остался в своем доме.
– Проходи, – велела Катя.
Костя вошел в дом и включил свет.
– Не надо… – Катя повернула выключатель. – Так лучше…
В окно проникал свет от луны. Катя стояла босая, как колдунья, лесная девушка.
– Ты правда здесь? – проверил Костя.
– Правда.
– А зачем ты приехала?
– К тебе.
– Из-за денег?
– Да…
Косте было все равно, из-за чего она приехала. Если пароход тонет, а человек спасается, то какая разница – что его спасло. Главное – жив.
– Я позвонила Валерке, сказала: приезжай, харчи есть. Он деньги «харчами» называет.
– А Валерка кто?
– Исполнительный директор. Приехал, скинул деньги в целлофановый пакет, как мандарины. Я вдруг так испугалась… Я поняла, что деньги для меня ничего не значат. Вернее, значат гораздо меньше, чем я думала. Любовь главнее бизнеса, главнее любой деятельности вообще. Я так испугалась… Я сказала Валерке: отвези меня на дачу. Он отвез.
– А твоя машина где?
– Она сломалась. Старая. Ей уже пять лет.
– Завтра я куплю тебе новую. Какую ты хочешь…
– Откуда у тебя деньги?
– Потом расскажу.
– Ты дрожишь, – заметила Катя. – Пойдем…
Они вошли в спальню. Костя стоял стеклянный от коньяка. Катя стала раздевать его, снимала по очереди одежду и бросала тут же, на пол.
– Знаешь, в чем разница между твоими деньгами и моими? – спросил Костя. – Мои деньги не работают. Я их никогда не повторю. Это разовый эффект, как фейерверк.
– Какой ты милый, когда пьяный…
Они легли в кровать. Катины ноги были холодными. Костя стал их греть своими ногами.
– У тебя еще остались деньги? – спросила Катя.
– Двести пятьдесят тысяч, – отчитался Костя. – Я хочу достроить дом и купить машины.
– Никакого дома, – категорически запретила Катя. – Вложишь в издательство. Мы будем издавать иллюстрированные журналы. Современная живопись. И художественная фотография. Если бы ты знал, какие сейчас мастера фотографии… Просто документальная живопись. Их надо продвигать и раскручивать.
– А кому это нужнее – им или нам?
– Ты уже говоришь как бизнесмен. Молодец. Если хочешь, мы внесем твое имя в название издательства…
Костя тихо и медленно ее целовал.
– Твоя фамилия Чернов, моя – Тимохина. Вместе получается «Черти». Хочешь «Черти»? Очень мило…
– Никаких чертей. Пусть будет «Стрелец».
Катя промолчала. Она заводилась от его ласк, ей не хватало дыхания. Она билась в его руках, как большая рыба. Он был благодарен ей за то, что она так сильно чувствует.
– Трещит… – вдруг проговорила Катя, открыв глаза.
Костя не мог остановиться. В такие моменты остановиться невозможно. Но Катя выскользнула из его рук, подошла к окну. Косте ничего не оставалось, как подойти и встать рядом.
Дом Влада стоял темный в темноте, оттуда доносился редкий треск, как будто стреляли. И вдруг, прямо на глазах, – дом вспыхнул весь и огонь устремился в небо. Ветра не было. Через десять примерно минут дом рухнул, превратившись в светящийся муравейник.
– Обошлось, – выдохнула Катя. Она боялась, что пожар перекинется на их дом. Но обошлось.
– А соседа тебе не жалко? – спросил Костя.
– Он бы нас не пожалел, – ответила Катя и вернулась в кровать. – Иди сюда… – позвала она.
Костя лег рядом. Катя ждала продолжения, но Костя не хотел уже ничего. Он чувствовал себя парализованным, как тогда, при первом их посещении. Но тогда он просто испугался. А сейчас было другое. Случилось то, чего нельзя поправить.
Все имеет свой золотой запас. Деньги оплачиваются трудом. Большие деньги – большим трудом. На это уходит жизнь. Костя получил быстро и даром и подложил чужую жизнь. Он рассчитался с Владом, который, по сути, Вовка-морковка, спереди веревка…
Катя тянулась к нему с ласками. Косте казалось, что между ними лежит мертвый Влад, и так будет каждую ночь. И вальсировать теперь тоже придется в обнимку с обгорелым трупом…
Костя торопливо спустился на первый этаж, вытащил из кармана молитвенник. Осветил фонариком.
– «Отче наш… – прочитал Костя. – Иже еси на небесех».
– Как торжественно… На небесех…
В окно постучали.
«За мной», – понял Костя. Накинул дубленку на голое тело, вышел босиком. Холод обжег ноги, но все познается в сравнении. Страх обжигает сильнее.
Светила полная луна. Под луной стоял Влад в спортивном костюме.
Костя онемел. Он почему-то соединил молитву и Влада. Он помолился, и вот – Влад.
– Видал? – спросил Влад, кивая на светящийся муравейник.
– А кто это? – спросил Костя. Хотел добавить – твои или мои? Но сдержался.
– Не буду я тут больше жить, – мрачно сказал Влад. – Купи у меня землю. Я по дешевке отдам.
Костя сунул руку в карман дубленки и достал начатую пачку.
– Сколько тут? – спросил Влад.
– Восемь.
– Ладно. На первое время хватит. Тридцать за тобой… Отдашь, когда будут. – Влад перетряхнул плечами. – У меня там все сгорело. Я деньги под полом держал. Никогда не держи деньги под полом.
– Хорошо, – сказал Костя. В этот момент он почти любил Влада, но скрывал свои чувства. Влад снял с него тяжесть, равную колесу от вагона: колесо на груди не расплющит, но и дышать не даст. Влад снял колесо. Чистый воздух хлестал в грудь.
– Дай мне твой тулуп, до города доехать, – попросил Влад.
Костя снял с себя дубленку, но холода не почувствовал.
– А как ты уцелел? – спросил Костя.
– Что я, дурак? У меня веревочная лестница была. Тоже сгорела. С-суки…
Влад плюнул и пошел своей вьющейся походкой, как будто хотел по малой нужде.
Костя стоял голый, как Адам в первый день Творения. Он поднял лицо к небу и проговорил:
– «Господи, Отче наш, иже еси на небесех…»
На небесах бога нет. А на небесех – есть.
II
Прошел год.
Издательство «Стрелец» набирало обороты. Катя сказала: «Никто не будет обслуживать твои деньги. Крутись сам». И Костя крутился, но это был уже другой вальс.
Жили врозь, как и раньше. Катя говорила, что это сохраняет и усиливает любовь. Но Костя понимал, что Катя не хочет менять основной сюжет.
Его часто мучил один и тот же сон: как будто он убегает, а за ним гонятся. Сердце обмирало от апокалипсического ужаса. Костя просыпался от сердцебиения. Обнаружив себя в собственной постели, радовался спасению. Понимал: это подсознание выдавливает страх.
Креститься Костя так и не собрался. Жил без ангела-хранителя. И очень зря. Однажды в полночь, когда Костя просматривал ночные новости, раздался стук в дверь. Стук был осторожный, но какой-то подлый, вкрадчивый.
Костя открыл дверь. Перед ним стоял незнакомый тип в норковой шапке и спортивной куртке.
– Узнаешь? – поинтересовался он.
Костя вгляделся и вдруг узнал: это был тот самый парень, который летел, как снаряд, вбросил рюкзак и просвистел мимо. Было невозможно себе представить, что он смог увидеть, а тем более запомнить Костю на такой скорости.
– Привет, – спокойно сказал Костя. Он не испугался. Более того, он обрадовался, что все наконец кончилось. Он устал бояться.
– Деньги, – коротко сказал Снаряд.
– Денег нет, – так же коротко ответил Костя. – Ты бы еще через десять лет пришел…
Они молча, изучающе смотрели друг на друга. Косте захотелось спросить: как ты меня нашел? Но это был бы праздный вопрос. Какая разница – как? Нашел, и все.
– Даю три дня. Чтобы деньги были, – сообщил Снаряд.
– А иначе ты меня убьешь? – спросил Костя.
– Какая польза от трупа… Если не заплатишь, отработаешь.
– Как?
– Это мы тебе скажем.
Снаряд повернулся и пошел. Костя увидел, как он перемахнул через забор. И стало тихо.
Он сказал «мы». Значит, входит в криминальное сообщество. Придется противостоять целому сообществу, что совершенно бессмысленно.
Косте хотелось бы проснуться, но это была явь. Он стоял и ничего не чувствовал, как после удара. Он знал, что боль наступит позже.
Рано утром Костя звонил в дверь жены. За его спиной висела пустая спортивная сумка.
Открыла теща. Ее круглые голубые глаза стали еще круглее. У тещи и жены были одинаковые глаза, и эти же глаза перекочевали на лицо сына и делали его похожим на пастушка.
Костя понимал, что предает эти общие глаза, и не мог выговорить ни одного слова. Только пошевелил губами. От бессонной ночи у него горел затылок, слегка подташнивало.
– Заходи, – велела теща.
Костя прошел в комнату и сел не раздеваясь.
– Щас, – сказала теща и скрылась.
Она появилась с целлофановым пакетом, на котором было написано «Мальборо». Положила пакет на стол и стала вытаскивать из него старые шерстяные носки. Пыль от носков бешено клубилась в солнечном луче.
В какой-то момент теща перестала вытаскивать и подвинула пакет Косте.
– Здесь триста тысяч, – сказала она. – Двадцать мы потратили.
Костя смотрел на тещу. Она все понимала без слов.
– Никогда хорошо не жили, нечего и начинать, – философски заключила теща.
Костя опустил голову. Никогда он не чувствовал себя таким раздавленным. Если бы теща упрекала, уязвляла, скандалила, ему было бы легче.
Из ванной комнаты вышла жена. На ее голове был тюрбан из полотенца. Жена тут же поняла, ее глаза испуганно вздрогнули.
– Приходили? – торопливо спросила жена.
Костя кивнул.
– Хорошо, что Вадика не украли.
– А где Вадик? – испугался Костя.
– Спит, где же еще… Отдай эти деньги. Ну их к черту… Сын важнее денег.
– И отец важнее денег, – добавила теща.
– Какой отец? – не понял Костя.
– Ты… Какой еще отец у Вадика? Лучше бедный, но живой, чем богатый и мертвый.
– Перестаньте! – Жена подошла и обняла Костю.
Костя заплакал. Ему казалось, что со слезами из него выходит вся горечь.
На улице пахло весной и снегом. Утренний воздух был чистым даже в городе. Косте казалось, что все люди в домах и вокруг – тоже чистые, уставшие дети. А теща – уставшая девочка, которая много плакала. Все ее недостатки – это реакция на жизнь и приспособления, чтобы выжить. Как веревочная лестница при горящем доме. По ней и лезть неудобно, а приходится.
Людские недостатки – как пена на пиве. А сдуешь – и откроется настоящая утоляющая влага, светящаяся, как янтарь.
Миша Ушаков оказался на работе. Открыла его жена Сильва, с ведром и тряпкой.
– Хорошая примета – полное ведро, – отметил Костя.
– Это если из колодца, – уточнила Сильва.
Народная примета подразумевала чистую колодезную воду, а не ту, что в ведре – с хлоркой и стиральным порошком.
– Миша велел тебя найти, – сообщила Сильва. – А откуда я знаю, где тебя искать. Жена сказала, что тебя нет и не будет. Я Мише говорю: сам объявится…
– А зачем он меня искал?
– Он тебе деньги оставил.
– А ему что, не понадобились? – бесстрастно спросил Костя, хотя в нем все вздрогнуло от радости. Не надо просить, объяснять, унижаться. Нет ничего тошнотворнее, чем клянчить. Даже свое.
– Харитонов открыл финансирование, – объяснила Сильва.
– Что это с ним?
– Смена правительства, смена курса, – объяснила Сильва. – Зайдешь?
– Спасибо, я спешу.
Сильва принесла деньги, завернутые в газету.
– Харитонов сам позвонил, – добавила она. – Представляешь?
– Не очень.
– Хочется верить, что все изменится. Мы так устали от пренебрежения…
Сильва любила отслеживать униженных и оскорбленных, к коим относила и себя. Ее унижение происходило не на государственном уровне, а на сугубо личном. Она была на пятнадцать лет старше Миши и тем самым без вины виновата. Они поженились, когда Мише было двадцать пять лет, а ей сорок. Тогда это выглядело неплохо. Оба красивые, оба в цвету. Сейчас Мише сорок, а Сильве пятьдесят пять. Разница вылезла. Сильва замечала легкое пренебрежение Мишиных ровесников. Она чувствовала себя как собака, которая забежала на чужой двор. Все время ждала, что ее прогонят палками. Полностью зависела от Мишиного благородства. Сильва отрабатывала свою разницу, но сколько бы ни бегала с ведром и тряпкой, она не могла смыть этих пятнадцати лет.
Костя смотрел на ее фигуру, оплывшую, как мыльница, и думал: а зачем ей это надо? Бросила бы Мишу, вышла за ровесника и старела бы себе в удовольствие. Не напрягалась бы… Разве не лучше остаться одной, чем жить так? Наверное, не лучше. Но и такая жизнь – все равно что ходить в туфлях на два размера меньше. Каждый шаг – мучение.
– Как мама? – спросил Костя, в основном из вежливости.
– Хорошо. Смотрит телевизор. Ест семгу. Читает… – Сильва помолчала, потом добавила: – Мне иногда хочется выброситься из окна…
Косте не хотелось говорить пустых, дежурных слов. Но надо было что-то сказать.
– Ты хорошо выглядишь, – соврал Костя. – Почти совсем не изменилась.
– Да? – Сильва удивилась, но поверила. Ее лицо просветлело. Сильве на самом деле не хватало сочувствия. Она устала от пренебрежения, как вся страна.
– Мне бы скинуть десять лет и десять килограммов, – помечтала Сильва.
«Тогда почему не двадцать?» – подумал Костя, но вслух не озвучил. В его сумке лежала половина долга. Еще треть он возьмет у Кати. И можно спокойно ждать, когда появится Снаряд. Интересно, а с него можно сдуть пену? Или он весь – одна сплошная пена, до самого дна…
Костя подъехал к издательству «Стрелец».
В издательстве шел ремонт, однако работа не прекращалась. Все сотрудники сгрудились в одной комнате, друг у друга на голове. Секретарша Анечка натренированным голоском отвечала по телефону. Редакторша Зоя отвергала чьи-то фотографии с наслаждением садиста. Костя подумал: если она потеряет работу в издательстве, то может устроиться ресторанным вышибалой. Ей нравится вышибать.
Исполнительный директор говорил по телефону. За одну минуту текста он произнес тридцать пять раз «как бы» – слово-паразит интеллигенции девяностых годов.
В помещении воняло краской. У рабочих были спокойные, сосредоточенные лица в отличие от работников умственного труда. У рабочих не было компьютерной речи, они выражались просто и ясно. И когда употребляли безликий мат, было совершенно ясно, что они хотят сказать. Костя заметил, что в мате – очень сильная энергетика, поэтому им так широко пользуются. Как водкой. В водке тоже сильная энергетика.
У рабочих было точное представление: что надо сделать, к какому числу, сколько получить. Что, Когда и Сколько. И этой определенностью они выгодно отличались от интеллигенции, плавающей в сомнениях.
Катя сидела за столом возле окна и беседовала с двумя оптовиками. Один из них был бородатый, другой косой.
Оптовики скупают весь тираж, как азербайджанские перекупщики скупают овощи. А потом везут по городам и весям. У них это называется: по регионам. В ходу такие термины: крышка, наполнитель, как будто речь идет о маринованных огурцах. А оказывается, крышка – это обложка, а наполнитель – то, что в книге. Рембрандт, например.
Рядом с оптовиками стояли люди из типографии. Типография «Стрельца» располагалась в Туле.
Катя сидела, сложив руки на столе, как школьница-отличница. Она знала: сколько и почем, поэтому ее нельзя было надуть. Эта уверенность висела в воздухе. Здоровые мужчины ей подчинялись. И подчинение тоже висело в воздухе.
Костя не мог вникнуть в работу, поскольку его мозги были направлены в прямо противоположную сторону. Он нервничал.
Катя подошла к нему, спросила:
– Ты чего?
В том, что она не подозвала его к столу, а подошла сама, проглядывалось отдельное отношение.
– Мне нужны деньги, – тихо сказал Костя. – Четыреста тысяч. За ними придут завтра.
– Четыреста тысяч чего? – не поняла Катя.
– Долларов. Моя доля меньше. Но ты дай мне в долг.
– Это невероятно, – так же тихо сказала Катя. – Все деньги в деле.
– Но они меня убьют. Или заставят убивать.
– Деньги в деле, – повторила Катя. – И если вытащить их из дела, надо закрываться.
– Или дело, или я, – сказал Костя.
– Даже если я сегодня закроюсь, деньги придут через полгода. Ты странный…
Катя с раздражением смотрела на Костю. Издательство – это ее детище, духовный ребенок. А Костя – это ее мужчина. Ребенок главнее мужчины. Мужчину можно поменять, в крайнем случае. А издательство, если его приостановить, – его тут же обойдут, сомнут, затопчут. Упасть легко, а вот подняться… Костя требовал невозможного.
– У тебя что, больше негде взять? – спросила Катя.
– Вас к телефону! – крикнула Анечка.
Катя с облегчением отошла. Взяла трубку. Голос ее был тихим. Когда Катя расстраивалась, у нее голос садился на связки.
Косой оптовик смотрел на Катю, чуть отвернув голову, – так, чтобы было удобно обоим глазам.
Катя отвернулась к окну, чтобы не видеть Костю, а заодно косого оптовика. Для нее они были равновелики. Тот и другой хотели денег, и вообще все мужчины мира хотели одного: денег, денег и опять денег, как будто в мире больше ничего не существует. И как будто их неоткуда выгрести, кроме как из Кати. Бухгалтерша Вера что-то тыркала в компьютере. Нужен был сильный бухгалтер – мужик. Но мужики больше воруют. И все в конечном счете снова упирается в деньги…
Костя смотрел в Катину спину. От спины шла радиация ненависти. Костя поднялся и вышел. Ему было жаль Катю. Ей была нужна поддержка, а какая из Кости поддержка…
О том, что она отдала его под пулю, Костя не думал. Ну отдала и отдала…
У каждого человека свои приоритеты. У жены – сын Вадик. У Сильвы – муж Миша. У Кати – издательство «Стрелец». А у Кости – собственная жизнь, никому не нужная, кроме него самого.
Костя взял такси и поехал на дачу.
Лес вдоль дороги был местами вырублен, торчали отдельные дома и целые поселки. Люди строились, как грачи. Вили гнезда. При советской власти это запрещалось. Живи где скажем и как разрешим. После падения социализма из человека вырвался основополагающий инстинкт, как песня из жаворонка. И эти дома – как застывшие трели.
Все дома напоминали партийные санатории из красного кирпича. Мечта коммуниста. Представление Совка о прекрасном.
Костя поставил бы себе деревянный сруб из вековых архангельских сосен. Внутри он не стал бы обшивать вагонкой, а так и оставил бы полукруглые бока бревен, с паклей между ними. Это был бы натуральный дом, как у старообрядцев. Со ставнями.
Хотя какие ставни, какая пакля… Ему придется все срочно продавать, включая свою душу. Завтра явится Мефистофель в норковой шапке, и – здравствуй, нищета…
Вечером постучали.
«Он же завтра собирался», – подумал Костя и пошел отпирать. Открыл дверь без страха. Зачем Снаряду убивать его, не взяв деньги? Какая польза от трупа?
В дверях стоял Александр и держал в руках голубой пакет, на котором было написано: «Седьмой континент».
«Выпить, что ли, приехал…» – не понял Костя.
– Проходите, – пригласил Костя.
– Я ненадолго, – предупредил Александр, шагнув через порог. Снял шапку. Лысина была смуглой, Александр успел где-то загореть. Может быть, в Монтрё.
– Вот. – Александр протянул пакет. – Здесь ваша доля в издательстве. И сто тысяч, которые вы одолжили моей жене. Можете пересчитать.
Костя не принял пакета. Александр положил его на подоконник.
– Больше мы вам ничего не должны. И вы нам тоже ничего не должны. Ясно?
– В общих чертах, – сказал Костя. При этом он успел понять: Александр вовсе не какашка, и тем более не сладкая. И сегодняшнее время – это его время.
– Надеюсь, мы поняли друг друга… Честь имею.
Александр повернулся и пошел.
Костя стоял на месте как истукан. Ноги завязли, как во сне, когда хочешь бежать, но не можешь. Но это был не сон. Костя очнулся от оцепенения и рванул вперед. Догнал Александра возле калитки. Он хотел спросить: Александр сам приехал или его послала Катя? Чья это идея?
За забором стояла машина. В ней сидела Катя? Увидев Костю, она опустила стекло.
– Привет, – сказал Костя растерянно.
– Привет, – отозвалась Катя и включила зажигание.
Александр сел в машину и крепко хлопнул дверью. Этот хлопок прозвучал как выстрел.
Машина фыркнула и ушла. Вот и все.
Костя вышел на дорогу. Снегу навалило столько, что еловые ветки гнулись под тяжестью. Красота – как в берендеевом лесу. Серьга месяца, промытые хрустальные звезды. Природа по-пушкински равнодушна, и вообще равнодушна к человеческим страстям. Вот и все. Красота и пустота.
Прошла кошка с черным пятном на носу. В конце улицы стояла затрапезная машина.
Костя вернулся в дом и ссыпал все деньги на стол: из пакета «Мальборо» и из пакета «Седьмой континент». Все пачки были одинаково перетянуты желтыми и розовыми резинками. Бандиты и бизнесмены одинаково пакуют деньги. Значит, бизнесмены – тоже немножечко бандиты. И наоборот. Бандиты – тоже в какой-то мере бизнесмены.
Значит, миром правят ловкие, оборотистые, рисковые. А такие, как Костя – нормальные обыватели, не хватающие звезд с неба, не выходящие из ряда вон, – должны довольствоваться тем, что остается от пирога. А от пирога ничего не остается. Даже крошек.
А Костя, между прочим, тоже нужен для чего-то. Иначе его не было бы в природе. Что же получается? Костя – лишний человек. Как Онегин в свое время. Но у Онегина было состояние. Он его проедал и мучился дурью. Бездельник, в сущности. Стрелец. Итак, Костя – лишний человек постсоциализма на рубеже веков.
Деньги валялись на столе. Говорят, деньги не пахнут. А они пахли чем-то лежалым. Тошнотворный запах. Костя открыл окно. Сел за стол и задумался, бессмысленно глядя на раскиданные пачки. Завтра он их отдаст. И с чем останется? Кати – нет. Любви – нет. Работы – нет. И себя – тоже нет.
Что же есть? Долг в размере ста семидесяти тысяч. Дачу придется продать. Этого не хватит. Снаряд включит счетчик – десять процентов каждый месяц. Вот тогда Костя покрутится, как собака за собственным хвостом.
Но с какой стати? Эта мысль ударила как молния и все осветила. А почему надо отдавать дачу и деньги? А потом еще крутиться в бесючке страха. Разве не проще оставить все себе, перевести деньги под Сан-Франциско, как это сделала незнакомая красавица Сморода? К Александру он обращаться не будет… хотя почему бы и не обратиться. Александр будет только счастлив отправить Костю за океан…
Перевести деньги на счет старухиного сына. Потом самому уехать к деньгам. Взять в аренду дом – там принято жить в аренду, – вызвать жену, сына и тещу. Никогда хорошо не жили, почему бы и не начать… В их распоряжении весь глобус. Не понравится в Америке, можно переехать в Европу. Или на Кубу, например. Там круглый год лето. Можно танцевать вальс по всей планете.
Костя крепко запер дачу на все замки. Неизвестно, когда он в нее вернется. Но вернется обязательно.
За два года дача столько видела и слышала… Она слышала любовные стоны, треск березовых чурок в камине, бормотание телевизора, дыхание во сне, шуршание воды, да мало ли чего… Она видела отсветы пожара, Катю – босую на снегу и даже молодого бандита в норковой шапке. Хотя вряд ли она его запомнила…
Через три часа Костя вышел от старухи. В кармане лежали реквизиты, написанные по-английски. Все очень просто: адрес банка, код и номер счета. И фамилия Петров, написанная по-английски, на конце две буквы «ф». Петрофф.
Костя остановил такси. Шофер медленно тронулся: движение было перегруженным.
Костя хотел было задать свой вопрос про деньги, но передумал. Зачем? Он и так знал, что с ними делать.
Вдруг Костя обратил внимание на белую «Ниву», которая медленно шла за ними. Машина была грязная, затрапезная, где-то он ее видел… Но мало ли белых «Нив»… Они сейчас подешевели, население охотно их покупает. Однако внутри Кости все напряглось и натянулось.
Такси свернуло на Бережковскую набережную. Здесь все началось и кончится тоже здесь.
Белая «Нива» обошла его справа. В ней сидели двое: Снаряд и еще один. Значит, они его пасли. Они предусмотрели то обстоятельство, что Костя захочет удрать с деньгами.
Костя не испытал никакой паники. Неожиданная ясность опустилась на его голову.
«Бежать, – сказала ясность. – Уносить ноги».
Костя выскочил из машины и побежал. Всю имеющуюся в нем энергию он сосредоточил на движении и развил такую скорость, будто им выстрелили. Случайные прохожие шарахались в сторону, боясь столкнуться с массой, помноженной на ускорение.
Что-то мешало движению… Сумка на боку. На такой скорости тело должно быть обтекаемым, как ракета, которая идет через плотные слои атмосферы. А сумка тормозила, гасила скорость.
Надо ее скинуть, но по-умному. Не выкинуть, а скинуть.
Впереди темнела раскрытая машина. Согбенный мужик качал колесо. Костя метнул сумку в машину и пролетел мимо. Мужик ничего не понял и не отвлекся. Продолжал качать колесо. Мало ли кто бегает по молодости лет…
Это не было похоже на сон. Во сне Костю охватывал ужас, когда все цепенеет и залипает. А здесь – включилась четкая программа самосохранения. Она гнала вперед и отдавала мозгу приказы: вперед, вправо, снова вперед, прячься… Костя увидел перед собой темное парадное. Заскочил в него, взбежал на второй этаж. На втором этаже он влез на подоконник и прыгнул вниз. Суставы спружинили. Он оказался на параллельной улице.
Время было выиграно. Снаряд и еще один стояли, должно быть, во дворе и растерянно крутили головами. Куда подевался?
Костя влился в толпу пешеходов. Толпа приняла его, растворила.
Костя шел – уникальный и неповторимый среди таких же уникальных и неповторимых. Свой среди своих. Он испытывал легкость в теле, как космонавт после перегрузок. Он был одновременно – и корабль, и космонавт.
А под ним Земля кружилась вокруг своей оси, медленно и ритмично, совершала свой вечный вальс. Очень может быть, что Большой взрыв случился в декабре. И Земля тоже родилась под созвездием Стрельца.
Навстречу свободной походкой шел Азнавур. «Спокойно», – приказал себе Костя, не изменил ни лица, ни маршрута. Шел как шел. Когда поравнялись, услышал французскую речь. Это на самом деле был Азнавур. В России шли его гастроли.
Мужская верность
На двери его кабинета висела табличка: «Денис Петрович Мальцев. Профессор». Но вся лаборатория, игнорируя табличку, звала его Деничка. Его все любили, и было за что: ошеломительно талантливый, добрый, открытый настежь, как большой ребенок.
Он знал все: откуда взялась Земля, как появился первый человек, что было миллионы лет назад и будет миллионы лет спустя. Говорить с ним было – счастье. Единственное, я никогда не чувствовала в нем мужчины. Он был вне секса, и это, конечно, очень мешало. Чему? Всему. Хотя мне это «все» было совершенно не нужно. У меня крутился яркий роман, а Деничка околачивался возле моей рыжей подруги Надьки Абакумовой.
Надька играла на ударных в женском джаз-оркестре. Чувство ритма у нее было абсолютным. Надька считала, что ритм – основа основ. Сердце бьется в ритме, легкие дышат в ритме, и даже совокупление происходит в ритме. Существует и космический ритм – смена времен года, например… Но вернемся к Деничке.
Я подозревала, что он был Надькин любовник, но Надька отмахивалась обеими руками, говорила, что они просто дружат. И вообще, он не по этому делу. Мальчик-подружка.
Не такой уж и мальчик. Нам всем было тогда под сорок. Взрослые, в общем, люди. У каждого семья, работа, положение в обществе, статус.
В сорок лет должен быть статус – и семейный, и общественный. Хотя все это – фикция, если разобраться. Какой семейный статус, если муж гуляет. И не просто гуляет, а завел постоянку. И даже не скрывает. И даже нарывается. Это у Надьки.
У меня другая крайность: не гуляет, не нарывается, но – тоска. Бурое болото. Можно, конечно, поменять участь. Но с кем? Все мои претенденты не набирали козырей.
А зачем менять шило на мыло, притом что шило – гораздо более ценная вещь. У нас с мужем была на заре туманной юности общая лав-стори, общие двое детей. Как можно разводиться, разрушать комплект? Это даже выговорить невозможно. Представляю себе глаза мужа, если я это озвучу. Лучше я буду сидеть по ноздри в болоте.
Жалость – хорошее чувство. Оно держит того, КТО жалеет. Очищает, питает. Как чистый источник с хрустальной целебной водой.
Но одной жалостью жив не будешь, поэтому я крутила параллельный роман. Мой Ромео любил меня и хотел иметь в полном объеме. И спрашивал: ну, когда? Имелось в виду: когда я выйду за него замуж? Я молчала, глядя перед собой, и лицо становилось тупым, как у бизона. А он смотрел на мое тупое лицо и все понимал. Он понимал, что я хочу и на елку влезть, и зад не ободрать. Обычно так себя ведут мужчины.
Я не шла замуж еще и потому, что интуитивно тяготела к покою, а не к душераздирающим страстям. Я хотела страстей и не хотела одновременно. Единство и борьба противоположностей.
Мой параллельный роман протекал страстно, конфликтно. Такое чувство можно было вынести два дня в неделю. А жить с таким чувством постоянно – невозможно. Как невозможно есть ложками растворимый кофе.
Моя жизнь была сбалансирована покоем и страстями и стояла устойчиво, как добротная табуретка на четырех ножках. Однако без спинки. Не упадешь, но опереться спиной не на что.
Надька организовала культпоход в театр. В полном составе: она с мужем, Деничка с женой, я с Ромео.
Я тогда впервые увидела жену Денички: тяжелая, с крестьянским лицом – она выглядела несовременно. До тех пор, пока не начинала говорить. Когда открывала рот – юмор сыпался из нее как золотой дождь. Юмор и ум. И уже не имело значения, как она выглядит. Деничка взял жену из своего научного окружения, и дурой она не могла быть изначально. Дуры в науку не идут, хотя все бывает.
В театре, на людях, Деничка выглядел не очень. У него была проблема со зрением, он носил очки, минус 10. Глаза за толстыми стеклами выглядели как две точки. Рот маленький и круглый, как копейка. Уши – на два сантиметра выше, чем у всех, – верхняя часть ушной раковины не закруглялась, а была ровной, будто ее разгладили утюгом. Деничка был похож на волчонка в очках. Наверное, при первом рождении он был волком или собакой. Страшненький, но милый. И не опасный.
Смотрели «Ревизора» в современной интерпретации. Для меня «Ревизор» – скучнейшее сочинение, и никакая современная постановка не делает его интересной. Возможно, я не права, даже скорее всего не права. Билеты доставала Надька.
Надькин муж присутствовал, но его не было. То ли ему, как и мне, был скучен «Ревизор». То ли его душа пребывала в другом месте. Как у покойника. Надька искусственно улыбалась, светилась хрустальными бусами. Я сидела и думала: мой муж скучный, но он при мне. Плохонькое, да мое. А этот – виртуальный муж, хотя тогда не было слова «виртуальный». Зачем Надька настаивает на этом браке? Вышла бы за Деничку. Отбила бы у жены и приватизировала. Такой качественный, надежный. Вот только уши… Но уши, в конце концов, можно закрыть волосами…
В антракте решили подняться в буфет. Я шла вверх по лестнице. Деничка что-то спросил. Я обернулась. Он стоял и смотрел на меня снизу вверх. Его лицо было приподнято. Юношеская форма головы, вихор на макушке и одухотворенное выражение лица. Как будто он ловил лицом солнце.
Я поняла вдруг, что нравлюсь ему, но менять одну на другую, как Хемингуэй, он не мог. Хемингуэй поменял жену на подругу жены и написал об этом книгу. А Деничка был воспитан иначе и не мог позволить себе такой свободы. И я не могла. Или не хотела. Скорее всего то и другое. И не могла, и не хотела. Просто ответила на его вопрос и пошла вверх по лестнице и уже через две ступеньки забыла, о чем он спрашивал.
После спектакля решили не расставаться.
Надька ждала, что я приглашу к себе, но я молчала. Я многое могла в этой жизни: за ночь сшить платье, выиграть в суде любое, самое запутанное, дело, перевести на английский сложнейшую статью. Но чистить овощи, но стоять над плитой, но мыть посуду… Этот труд всегда казался мне рабским и бессмысленным, что неверно. Еда – часть культуры народа, не меньшая, чем архитектура. Но архитектура остается, а еда переваривается и превращается в нечто прямо противоположное.
Я, конечно, не права. Просто я глубинно бездарна по части хозяйства. Мой муж наверняка страдал от этой моей бездарности, но терпел. Он меня понимал. Невозможно, чтобы в одном человеке совмещалось ВСЕ. Как правило, одно за счет другого. Профессия побеждала все остальное.
Надька не дождалась приглашения и позвала к себе. Дом у нее был уютный, но тесный. Кухня как купе. Коридора не было вообще. Мы сидели на кухне и ели холодец из головы. Еда бедных. Мы все были бедные в те времена, но это ничему не мешало. В молодости так легко быть счастливым…
Ромео прижимался своим коленом к моему. Мы пили водку, хищно разгрызали хрящи и жаждали друг друга.
Жена Денички что-то рассказывала с блеском. Надька красиво ела, раскладывая косточки по бокам тарелки, лавировала между своими состояниями. Однако дома, в своих стенах, она чувствовала себя наиболее устойчиво.
Под конец вечера мы хором спели модную бардовскую песню: «Из Ливерпульской гавани всегда по четвергам суда уходят в плаванье к далеким берегам…» Это были слова Киплинга в переводе Маршака. Надька умопомрачительно стучала ладонями по столу. Деничка пел высоковатым голосом, а Надя подпевала – низким. Я танцевала – преимущественно руками и бедрами, потому что негде развернуться. И даже Ромео высмотрел гитару и, обняв ее, что-то изобразил, довольно удачно. Это был экспромт-выплеск.
Надькин муж мужественно пережидал. Ему было тесно во всех смыслах: душевно и телесно. Хотелось на волю. И все это было написано у него на лице.
Мы жили, страдали, мечтали, врали и жаждали лучшей участи. Казалось, что жизнь трясется на ухабах, но катится в счастье. Исключительно в счастье, и больше никуда.
С тех пор прошло пятнадцать лет. Страна изменилась. И люди тоже изменились. Русские научились считать деньги, как немцы.
Пятнадцать лет – большой срок в жизни человека. Из программы цветения мы перешли в программу увядания. Да еще перемена строя: был развитой социализм, стал дикий капитализм. А мы все – пенсионеры в диком капитализме, брошенные природой и обществом на произвол судьбы. В прямом смысле этого слова – именно на произвол судьбы.
Мои дети выросли и устроились. С этой стороны все было неплохо, даже лучше, чем прежде. Пришло время молодых и предприимчивых.
Надькин муж неожиданно разбогател и уже мог безболезненно содержать и жену, и постоянку. И новую любовницу – балерину с высокой шейкой и воробьиным личиком. Он много ездил и повсюду возил ее за собой. Надьку это не особенно раздражало. Основная ее ненависть пришлась на предыдущую. Надька была счастлива, что у ТОЙ ничего не получилось, ее тоже списали в б/у, бывшую в употреблении.
Мой муж пребывал в том же самом качестве: тоскливый остров, как в Дании. Он вышел на пенсию. Пенсии не хватало, и мне приходилось его поддерживать, как сына. Сначала он стеснялся, потом привык. Мне казалось, что я испортила ему жизнь и теперь должна платить по счетам.
То, что он испортил мою жизнь, мне и в голову не приходило. Я всегда была активной стороной и решала все сама. И если я решила сохранить сей мрачный остров – это мое решение.
В результате мне приходилось вести по пять дел одновременно. Благо моя профессия оказалась востребованной в диком капитализме. Я стала модным юристом, мне стеснялись предлагать маленькие деньги. Хватало и на ремонт, и на машину. Но… иногда нужна была защита, мужская рука, мужское слово. Этого не было, и я страдала от одиночества. Неудовлетворенности накапливались и складывались в депрессию. Я была несчастна при полном процветании.
Ромео провалился куда-то в пучину времени. Я о нем не вспоминала. Ушедшее чувство как прогоревший костер. Когда горит – красиво. А когда пепел – не на что смотреть: пыль и прах.
Однажды Ромео заехал ко мне на работу – седой, в голубом, красавец. Мы сидели и беседовали.
Ромео жаловался на отсутствие работы и денег. Я сказала фразу из Довлатова: «Богатыми не становятся, богатыми рождаются». То же самое и с бедностью. У Ромео никогда не было денег: ни тогда, ни теперь. Но тогда это не имело значения. Их не было ни у кого.
Ромео смеялся сквозь усы, от него пахло апельсинами. Попросил найти работу. Я пообещала. Он ушел пружинящей походкой баскетболиста, легкий, легковесный, как воздушный шарик. Или мыльный пузырь.
Когда за ним закрылась дверь, я его забыла.
Иллюзии кончились. Жить без романов тоскливо, а с романами – йок, как говорят татары. Поколение сменилось. Земля повернулась на сколько-то градусов: Солнце светит другим. А мы – в тени.
Говорят, в Америке возраст женщины не имеет значения. Важна личность, которая видна в любом возрасте. А в России возраст имеет определяющее значение. Возрастная выбраковка – самая жестокая.
Если разобраться, я осталась такой же – нежной и самоотверженной. Мои ладони были по-прежнему шелковые, а глаза по-прежнему горячие.
Я хотела делиться собой, своими знаниями, мыслями. Во мне скопилось столько доброты и нежности, что было тяжело носить одной. Хотелось не страсти, как прежде, а понимания, растворенности друг в друге и уверенности в завтрашнем дне. Но вместо нежности и уверенности – тоска и отсутствие перспектив.
Бывали взлеты во время защиты. Я собиралась, красилась, как актриса перед выходом на сцену. И выходила – вдохновенная, яркая и молодая, и у всех, кто на меня смотрел, зажигались глаза. А я от этих глаз горела еще ярче.
Потом все кончалось. Я ехала домой. Из меня выходил воздух, как из проколотого первомайского шара. И вместо летящего и парящего я превращалась в бесцветную ошметку.
Что за жизнь? Однако и помирать не хотелось. А вдруг…
– Але… – обозначился мужской голос.
– Деничка, – спокойно узнала я.
– Ты меня узнала? – поразился он.
Действительно, пауза в пятнадцать лет – внушительная. Но у меня феноменальная память на голоса. Голоса не меняются в отличие от всего остального.
– Ну, как ты? – спросил Деничка.
– Симпатично, – сказала я.
– Симпатично? – поразился Деничка. Его поразила формулировка.
– Ну да, – подтвердила я. – Дети в порядке. Я работаю. Все живы, здоровы. А что еще?
– Ну да… – задумчиво проговорил Деничка и замолчал.
Я не понимала, зачем он звонит и что хочет. Но спросить об этом прямо было неудобно.
– А у тебя? – поинтересовалась я.
– Надя заболела, – тускло произнес Деничка.
Я знала, что Надька процветает и не вылезает из дорогих курортов.
– Моя жена, – уточнил Деничка. – Она ведь тоже Надя.
– А-а… – протянула я. Значит, Деничке нужно сочувствие. За этим и звонил.
– А что с ней? – спросила я.
– Опухоль в мозгу.
Напротив сидел клиент, который внес деньги в кассу юридической консультации. И личный телефонный переговор был неуместен. Однако положить трубку я тоже не могла. Невозможно в такой ситуации сказать: извини, я занята.
– Тебе нужен врач? – спросила я, чтобы вывести разговор в конкретное русло.
– Нет-нет… У меня все есть. Я связался по Интернету с лучшими специалистами мира. Они сказали, что возможны две программы: короткая и длинная. Короткая – это шесть месяцев. А длинная – шесть лет. Надя проживет еще шесть лет. Правда, будет лежать…
– А она хочет лежать шесть лет? – наивно спросила я.
– А как ты думаешь?
Я задумалась: что лучше? Уйти и никого не мучить или длить до последнего свое драгоценное пребывание на этом свете… Быть или не быть… Это становится ясным, когда сталкиваешься напрямую – лоб в лоб.
– Мы будем сражаться до последнего, – произнес Деничка. – Врач из Оклахомы предложил очень интересную методу. Рассказать?
Клиент барабанил пальцами по столу.
– Позвони мне домой, – попросила я.
– А можно? – с надеждой спросил Деничка.
– Вечером, – подтвердила я.
– Кстати, врач из Оклахомы – армянин, – поделился Деничка.
– А что тут особенного… Армяне есть везде.
Деничка стал звонить мне раз в неделю. Потом два раза в неделю. Он каждый раз аккуратно спрашивал:
– У тебя есть минутка?
Я отвечала:
– Позвони через два часа.
Я сдвигала нашу беседу на одиннадцать часов вечера, когда день кончался, все дела позади и посуда помыта, можно заняться осмыслением. Мы говорили, говорили, потом я замечала, что у меня щиплет глаза. Значит, я хотела спать. А потом глаза переставало щипать – значит, я перескочила через точку своего засыпания и теперь у меня будет бессонница.
О чем мы говорили? Обо всем. О том, что во второй половине жизни время убыстряется, за день меньше успеваешь, и год проскакивает очень быстро. Только что была весна – уже зима. А у Нади вообще все слилось в одну точку – окно. За окном то зеленая ветка, то снежная. И так шесть раз, шесть лет. И все.
– А что будет там? – спросила я. – Какая разница ТУТ от ТАМ?
– Это ОДНО, – ответил Деничка. – Как сутки. День и ночь. Жизнь и смерть.
– А если она уйдет, ты женишься? – прямо спросила я.
– Нет, – спокойно ответил Деничка. – Я уйду вместе с ней. Мы вместе с ней живем и умираем.
Я задумалась. Я представила своего мужа на месте Денички: он женился бы на следующий день, и его новая жена сняла бы со стен все мои портреты и называла бы меня «мадам». А муж бы не возражал. Он вообще неконфликтный.
В середине зимы Деничка заехал ко мне на работу и попросил разрешения просто посидеть в моем кабинете.
Я была безумно занята, но отказать не посмела. Я сказала:
– Ну, сиди… – и принесла ему чай.
Деничка к чаю не притронулся. Сидел на диване из кожзаменителя и смотрел перед собой. А я расположилась перед компьютером, спиной к нему, и занялась своими делами. И, странное дело, он мне не мешал. Как хорошая погода. Денички как будто не было за спиной, но он был. Я спокойно работала. Он держал в руках тяжелую керамическую чашку, на которой было написано: «Нью-Йорк».
В дверь сунулась секретарша Соня. Коротко глянула. Исчезла.
Позже спросила:
– Неужели с ним кто-то спит?
– А что? – не поняла я.
– Представляешь? Проснуться, а рядом на подушке такая голова…
– Он лауреат Нобелевской премии, – зачем-то соврала я.
– Тогда он должен носить на груди табличку: «Лауреат»…
– К форме привыкаешь, – сказала я. – Главное – содержание.
– Главное – гармония. Единство формы и содержания.
Деничка тогда посидел и ушел. И было непонятно – зачем приходил. Может быть, поменять обстановку, зарядиться от здорового человека, подпитать свой севший аккумулятор. Он от меня подпитывался, но, странное дело, – от меня не убывало. Я тоже каким-то образом исцелялась, становилась легче. Может быть, я скидывала на него свою нерастраченную нежность, и он ее пил. А я освобождалась, как корова от избытка молока.
Я привыкла к его звонкам. Я их ждала и смотрела на часы.
В одиннадцать вечера звонил телефон, и я уже знала, что это Деничка. Я брала с собой спички, сигареты и шла как на дежурство. Однажды я спросила:
– Сколько ты зарабатываешь? – Это был не американский вопрос. В Америке считается неприличным говорить о зарплате. У нас тоже.
– Пятьсот долларов, – легко ответил Деничка. У него не было от меня тайн. – Но четыреста уходит на сиделку. У меня работает медсестра из реанимации. Карина. Вечером я прихожу с работы, и она уходит.
– А если ты захочешь в гости или в театр…
– Я не захочу.
– Тебе тоскливо?
– Нет. Я так привык. Я люблю работать за компьютером. Сижу, работаю, потом прихожу к Наде и рассказываю, что я придумал.
– Она понимает?
– Ну конечно. Все понимает.
– Навестить вас? – спросила я.
Он замолчал, как споткнулся, и я сообразила, что навещать не надо.
– Нам никто не нужен на самом деле, – сказал он. – У нас свой мир. Постороннему он кажется ужасным. А нам хорошо.
У меня все наоборот. Со стороны я – в полном порядке. А внутри – пустыня. Я часто заводила беседы сама с собой, была одновременно и пациенткой, и врачом-психоаналитиком в одном лице. Я спрашивала себя:
– Чего тебе не хватает?
И сама себе отвечала:
– Меня не любят, а только используют.
– Ты им не нужна, но ты им необходима.
– Я старею…
– Если бы вечную молодость давали по талонам: кому-то дали, а кому-то нет. Тогда обидно. Почему не мне? Но природа уравняла и умных и дураков, и бедных и богатых, достойных и недостойных. Даже гении не имеют привилегий…
– Но одиночество…
– А кто не одинок?
– Надя, жена Денички.
– Хочешь на ее место?
– Нет. Жизнь больше, чем любовь. Любовь – это только составляющая.
– Значит, ты хочешь быть здоровой, преуспевающей и любимой одновременно.
– Да. А разве нельзя?
– Здоровье – это образ жизни и наследственность. Твои родители. Корни. Преуспевание – это ты сама, твой труд. А быть любимой – это надо вложиться: любить самой. Ты сама любила? Или только потребляла чужую любовь?
Я молчу. Я не знаю, что сказать резонеру внутри меня. Значит, одиночество – наша расплата за наши грехи.
Однажды Деничка позвонил и сказал:
– Я сделал ей замечание – она заплакала. Она плакала одним глазом.
– А второй? – не поняла я.
– Второй парализован. Плакал только один глаз, и слезы шли по одной щеке.
Деничка замолчал, как провалился.
– Ты плачешь? – догадалась я.
– Нет, – сказал он.
Но я не поверила. Он плакал.
– Ты выпей, – предложила я.
– Я выпиваю каждый день, – сознался он. – У меня везде бутылки рассованы.
– Смотри не спейся.
Он молчал. Плакал.
Шла шестилетняя программа профессора из Оклахомы. Надежда перепутала день с ночью, как грудной ребенок. Днем спала, а ночью оживала. Ей хотелось есть, мыться, смотреть телевизор, беседовать…
Деничка днем бегал на работу, и ночное бдение возле жены было второй сменой. Он перестал спать. У него могла съехать крыша. Он звонил подавленный. Рассказывал о том, что наступила стойкая ремиссия. Здоровье Нади стабилизировалось. Это может длиться несколько лет.
– И ты несколько лет не будешь спать? – спросила я.
– Ну при чем тут я? – удивился Деничка. – Главное, что Надя не движется к концу.
– По-моему, ты первый помрешь, – предположила я.
– Это было бы неплохо, – серьезно сказал Деничка.
Он боялся остаться без нее. Он не умел без нее.
– Найми тетку на ночные дежурства, – посоветовала я.
– Надя не хочет ночью чужих людей. Я ее понимаю.
Все, кого я знаю, были способны на сочувствие – месяц. Ну два. А из года в год, изо дня в день, сделать это своей жизнью… Это просто подвиг сродни религиозному. Я не знала Надю, видела только один раз, но я готова была послужить ей тем, что поддерживала Деничку. Как могла. Я не просто говорила с ним, а вникала в тему. Я делала нашу беседу искренней и интересной. Как будто раздувала огонек милосердия. И он светил в ночи.
Если раньше мы скакали на ухабах в счастье, то теперь брели в ночи, спотыкаясь и держась друг за друга.
И если кто-то нес свой тяжелый крест, то другие обязаны были его поддержать. Или хотя бы стоять рядом.
Моя подруга Надька звонила мне время от времени. Когда я заводила разговор о Деничке – она обрывала меня. Отмахивалась:
– Не надо, не надо, не надо…
– Почему?
– Потому что я ничем не могу помочь, а погружаться в чужой стресс я не в состоянии. Я потом оттуда не вынырну…
Ну что ж… Есть и такая позиция. Зачем разговаривать, разводить ля-ля-тополя, если ничего нельзя сделать.
Я не осуждала Надьку. Однако если один не захочет сопереживать, другой, третий, то Деничка останется один, как в лесу. А если один бросит камешек сострадания, другой, третий, то Деничка, как мальчик-с-пальчик, по камешкам сможет найти дорогу обратно. Из отчаяния в жизнь.
Деничка снова пришел ко мне на работу. Посидел полчаса и ушел.
– А что он ходит? – спросила Соня.
– Отмокает, – сказала я.
– Планирует, – уточнила Соня.
– Что ты хочешь сказать?
– То самое. Не будет же он один, как анахорет.
Я перестала жевать овсяное печенье и некоторое время сидела с полным ртом. Потом проглотила.
– А кто такой анахорет? – спросила я.
– Не знаю, – ответила Соня. – Если он тебе не понадобится, отдай его мне.
– Зачем?
– Надоело биться за мужика. Хочется свободного, без жены, без детей. У него ведь нет детей?
– Нет, – вспомнила я. – Но у него есть жена.
Соня промолчала. Есть вещи, о которых можно думать, но нельзя произносить. О Деничке нельзя было сказать: вдовец. Но он был «перспективный вдовец», а значит – жених.
– Он же тебе не нравился, – напомнила я.
– Мне уже сорок лет, – созналась Соня. – Копалась в женихах, как в мусоре. И осталась на бобах. А этот все-таки лауреат. Духовный человек…
Соня приготовила растворимый кофе. Разлила по чашкам.
Посетителей не было. Начальство задерживалось. Редкая минута тишины и независимости.
– Я уже не хочу бешеных страстей, ревности, перетягивания каната – кто главней… Я хочу обыкновенную жизнь: с утра на работу, вечером домой. Ужин со свечами. Походы в театр… А можно и без свечей и без театра – просто у телевизора, сидеть и комментировать властей предержащих. Совпадать во мнениях или спорить…
Соня смотрела перед собой в одну точку, и казалось, что она грезит наяву.
Я вдруг вспомнила, как Деничка смотрел на меня в театре, будто ловил лицом солнце… А вдруг действительно – планирует, хотя Деничка не плановый, не практичный и не прагматичный. И все же: почему не я? Почему не он?
Ночью мне приснилось, будто мы с Деничкой идем в обнимку по старинной узкой улочке, а на его груди висит табличка: «Лауреат».
Значит, меня все-таки смущала его внешность.
– А что ты ешь? – спросила я в очередной раз. – Как ты питаешься?
– Нормально, – сказал он.
– А кто тебе готовит?
– Иногда на работе. А иногда Карина, медсестра. Она ведь Наде готовит…
– А что она готовит? – поинтересовалась я.
– Ну, так… – Деничке была неинтересна эта тема. Он любил есть вкусно, но мог наесться чем угодно. Даже просто хлебом и луком.
– А хочешь, сходим в казино? – пригласила я.
Деничка подумал, потом сказал:
– Зачем мне казино? Я лучше на компьютере поработаю.
– Не хочешь или не можешь? – уточнила я.
– И то и другое. Можно, я тебе почитаю, я тут кое-что набросал.
Деничка начал читать шутливое приветствие к чьему-то юбилею. Текст был набит шутками типа: менестрель – значит киллер, экстаз – значит бывший таз.
Я слушала и отмечала: Деничка трезвый и адекватный и даже в состоянии написать спич к чьему-то юбилею.
Зима тащилась долго, и казалось – ей не будет конца. И даже в апреле лежал снег.
Деничка позвонил в непривычное время, в два часа дня, и проговорил непривычно официальным тоном:
– Моя жена Надя умерла. Прощание состоится завтра в морге девятой больницы.
Он назвал улицу и дом. И положил трубку.
Я чувствовала: его как будто разрезало пополам. Одной половины нет. А другая действует, говорит, мыслит и плачет.
Я стояла возле телефона, склонив голову. Как бы ни болела Надя, но она БЫЛА. А сейчас ее нет, и где она – знает один Бог.
К моргу я опоздала, совсем немного, на двадцать минут. Заезжала на базар за цветами. Я была уверена, что двадцать минут – не срок на фоне вечности. Но оказывается, панихида уже началась.
Морг был крошечный, отдельно стоящее одноэтажное строение. Провожающие не уместились в нем, и небольшой хвост вылезал из дверей.
Я подошла и скромно остановилась, не пытаясь протиснуться. Передо мной возвышалась молодая брюнетка с распущенными волосами, без шапки, но в дубленке. Девушка была высокая, грудастая, груди – как футбольные мячи. Дубленка – в талию, подчеркивала все это роскошество. Высокий рост спасал положение.
Она обернулась и посмотрела на меня спокойным карим взором, и я почему-то подумала, что это медсестра из реанимации, которая работала у Денички. Карина. Общий облик был приятным. Иначе, наверное, и не может быть у медсестер из реанимации.
Постепенно толпа ужалась, как в переполненном автобусе, и я оказалась в зале прощания, если, конечно, это можно назвать залом.
Гроб стоял в середине, засыпанный цветами. Усопшая была не видна мне, и я дала себе слово: не заглядывать в гроб. Я знала, что мертвое лицо отпечатается в моей памяти навсегда и я ничего не смогу с этим сделать. Так и буду ходить, есть, спать с этим отпечатком. Я не то чтобы боюсь мертвецов. Больше. Я от них цепенею. Нервная система живого не приемлет, отторгает, отмахивается.
Быть спокойным и участливым с мертвыми может только верующий человек. Или близкий. Я – ни первое, ни второе.
Деничка увидел меня и быстро, энергично протиснулся. Стал рядом. Пожал мою опущенную руку.
Выглядел он собранным. Это не значило, что Деничка был целым. Конечно же, разрезанный пополам. Но действующая половина была мужественной и благородной.
Один за другим выходили люди и говорили прощальное слово.
Я никого не знала, только догадывалась: родственники, друзья, коллеги. Говорили то, что говорят в подобных случаях: смерть забрала лучшего из нас… Как будто это имеет значение. Как будто худшие имеют меньше права на жизнь. Надя не дожила по крайней мере лет тридцать, преждевременно ушла из такой прекрасной жизни, в которой ее все любили.
Деничка не мог сосредоточиться на горе. Ему надо было все обеспечить и проследить: и денежные расчеты, и автобус, и прочие житейские мелочи, которые тянет за собой смерть.
Он постоял возле меня и куда-то испарился.
Я была душевно признательна ему за то, что прощание происходит искренне и естественно, без наигрыша и театра.
Потом все задвигались. Надо было пройти мимо гроба. Положить цветы. Я оказалась в текущей людской цепочке и положила в ноги желтые розы, и тут – не выдержала – посмотрела. Лицо – как гипсовая маска, разрисованная ритуальным гримером: тон под загар, аккуратно покрашены губы. Грим подчеркивал отсутствие жизни. Как бы сказал Довлатов: «Мертвее не бывает». Вот во что превращается живое, что «пело и рвалось». На меня дохнуло неотвратимостью.
Я вышла из морга. Снег вокруг осел и был спрессован в лед. От земли несло холодом. Но солнце светило по-весеннему, было настойчивым и наглым, если можно так сказать про солнце.
Я подняла лицо к солнцу, чтобы почувствовать себя причастной к теплу, к весне. К жизни. Я стояла, закрыв глаза, и осознавала: надо благодарить Бога за каждый прожитый день, а не предъявлять счет за свои пустые, несбывшиеся надежды. Похороны существуют для того, чтобы остановиться, оглянуться… Встать в конец пути, пусть даже чужого, и оттуда оглянуться.
Подошел Деничка и сказал, что если у меня есть время и желание, то я могу проводить Надю в крематорий.
– Ну конечно, – сказала я.
Я не брошу его в этот день. Такой день у человека бывает раз в жизни. Я подставлю плечо. Тогда его ноша будет не столь тяжелой.
«Если у тебя есть время…» Деничка деликатен, как всегда. Деликатный человек – тот, который может проникнуть в чужие интересы и поставить их вровень со своими.
Чем больше я узнавала Деничку, тем больше он мне нравился.
Я села в похоронный автобус. Скамейки вдоль стен, как в учебном самолете. Гроб – на полу, сдвинут вправо. Автобус походил на маленький прощальный зал. Деничка сел рядом со мной.
Народу было немного. Лавка напротив – пуста, потому что гроб сдвинут в эту сторону и некуда поставить ноги. Не опустишь ведь ноги на гроб. Единственное удобное место – в углу. Там сидела грудастая брюнетка и смотрела перед собой. Выражение лица у нее было очень хорошее, соответствующее моменту. Она была далеко, в светлой искренней печали. Карий бархат глаз, персиковая нежность кожи. Нос – великоват, но он не мешал. Он был ни при чем. Главное – чистота молодой души, не искореженной жизненным опытом.
Тронулись. Путь был неблизкий, через всю Москву. Видимо, в близлежащих крематориях все время было занято. Заранее ведь не запишешься.
Деничка тихо рассказывал мне, когда у Нади появились первые признаки болезни. Мы не виделись с ним пятнадцать лет. И до этого встречались крайне редко. Строго говоря, мы были с ним почти не знакомы, если не считать телефонных звонков. И вместе с тем – никого я не знала и не чувствовала так близко, как этого мужчину-ребенка, осиротевшего и потерянного.
Деничка сидел в спортивной шапке, натянутой на уши. Точки глаз под линзами очков смотрели одиноко и затравленно. Одинокие точки. Мне хотелось взять его за руку, чтобы перекачать в него немного своей энергии. Но я стеснялась. Не так поймут.
Деничка тихо рассказывал о первой операции, на которую они с Надей пошли легко и почти с воодушевлением. Казалось, немного мучений – а дальше здоровье и прежняя жизнь. Но через полгода после операции обозначился рецидив и встал вопрос о новой операции. И вот тогда их обоих охватила паника. Голова ведь не ящик, который можно вскрывать раз за разом… Они собрали все силы и пошли на вторую операцию. А потом понадобилась третья… Неизменный вопрос: ЗА ЧТО? И выясняется – ни за что. Такая твоя участь.
У Денички на щеку выползла одинокая мутная слеза. А Надя с равнодушным мертвым лицом в цветах, как невеста, под крышкой гроба, на холодном полу.
Мне мысленно захотелось проводить Надю, сдать ее в руки вечности. А потом поехать с Деничкой к нему домой, налить полную ванну горячей воды, раздеть его и усадить в горячую воду. Пусть отмокнет и отогреется. Он будет сидеть долго, пока из него не выйдет его внутренний холод.
Мы молчали. Каждый думал о своем.
Деничка наклонился ко мне и тихо сказал:
– Извини, пожалуйста, я должен уделить немного внимания Карине.
– Ну конечно… – согласилась я.
Я знаю, что во время высоких приемов хозяин по протоколу уделяет время важным гостям, переходя от одного к другому.
Деничка решил подойти в Карине, но не знал, как это сделать. Она сидела в противоположном углу за гробом, и попасть к ней можно было только ползком по лавке. Деничка так и сделал. Он обошел гроб со стороны кабины водителя, встал на скамейку коленями и пополз к Карине, передвигаясь на кистях и на коленях. Я с удивлением смотрела, как ловко он переступает руками. Как в мультфильме. Его лицо было приподнято, обращено в сторону Карины и светилось, как люстра Большого театра. Глаза, как казалось, выдвинулись вперед от нетерпения. Счастливый волчонок полз и звенел от внутренней музыки.
Брат Нади, седой, но крепкий мужик, наклонился ко мне и задал вопрос о разделе имущества. Видимо, знал, что я юрист. Я грамотно и обстоятельно стала отвечать на его вопрос. А Деничка полз. А Надя – под крышкой.
Наконец Деничка добрался и опустил ноги. В углу было место для ног. Он что-то шептал Карине на ухо. Карина слушала и реагировала только уголками губ.
Наверное, он шептал ей о том, что они вернутся домой и в четыре руки вымоют полы, чтобы смыть следы чужого страдания и угасания. Карина – молодая и сильная, вымоет полы не шваброй, как это делала бы я, а руками и тяжелой тряпкой, крепко прижимая тряпку к полу.
Автобус остановился перед крематорием. Крематорий был выполнен из бетона, как все современное строительство. Неподалеку виднелась деревня, и солнце светило по-деревенски – просторно и простодушно. Ему здесь ничего не мешало. Надвигалась весна. Еще одна весна в моей жизни.
Подкатил второй автобус. Из него стала выходить основная масса провожающих – друзья Нади и Денички, ученые-шестидесятники.
Поношенные лица, поношенные одежды. На фоне яркого неба и снега они выглядели как кучка человеческого хлама. Но глаза – молодые. Они, наверное, не заметили, что постарели.
Ко мне приблизилась одна из них, в джинсах. Студентка, пожилой курс.
– Меня зовут Света, – представилась она. Я ждала отчества, но его не последовало. – Я работаю с Денисом в одной лаборатории.
У Дениса, между прочим, тоже есть отчество. Ну да ладно.
– Мы знаем, что Денис разговаривал с вами по телефону…
Я кивнула. Значит, приходил и докладывал. Делал достоянием общественности.
– Вы знаете, он просто расцветал после ваших бесед… Он становился совершенно другим… Вы ему очень помогали. Спасибо вам от нас всех.
– Пожалуйста…
Мы замолчали. Свете что-то мешало.
– Извините… – решилась она. – Но вы не могли бы и дальше разговаривать с нашим Денисом?
Я сделала плавный жест в сторону Карины. Карина стояла в трех шагах, подставив лицо солнцу. Южные люди особенно скучают по теплу.
Света посмотрела в сторону Карины, подумала и сказала:
– Это совсем не то…
– Ну почему же? – спокойно возразила я. – Она может дать гораздо больше.
– Вы меня не поняли.
– Поняла.
Химия и физика. Интеллект – это химия. Химические процессы в мозгу. А тело – физика. Ее груди как тугие шары. Она может родить ему ребенка, и Деничка познает чудо отцовства.
А поговорить… Подумаешь… Можно и не говорить.
Подошла наша очередь. Точнее, очередь Нади.
Зал крематория с высокими потолками, наподобие церковных. Женщина – ритуальный работник – тактично руководила прощанием.
Света подошла к гробу, наклонилась к уху Нади и стала что-то нашептывать. Что она говорила? Может быть, успокаивала: все проходит хорошо, много цветов и людей, Надя в гробу выглядит замечательно… Может быть, убеждала Надю не волноваться за оставшихся. Денис ухожен и присмотрен. Не пропадет.
А может быть, Света советовала Наде быть эгоисткой: сбросить все земное, приготовиться к трудностям нового пути и выдержать их.
Света шептала, шептала, и я видела: лицо Нади становилось светлее, спокойнее, как будто она все слышит и приемлет.
Света отошла. Створки под гробом раздвинулись, пахнуло жаром.
Гроб стал медленно опускаться в адскую топку.
Деничка качнулся, как будто хотел упасть на гроб. Я инстинктивно схватила его за руку. Рука крупно дрожала. Казалось, Деничка был подключен к высокому напряжению. Это и было ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ. Я посмотрела в его лицо. На нем было такое горе, из которого не всплыть.
Я заразилась его горем и заплакала. Все стояли и плакали по Наде, по Деничке и по себе.
Когда я вернулась домой, муж уже спал. Я раздевалась в прихожей и слышала, как он ворочается. Скрип пружин был недовольным, как ворчание…
Муж повертелся, потом встал. Нарисовался в дверях.
– Надю похоронили, – объяснила я свой поздний приход.
Муж промолчал. Причина была уважительной.
– И чего? – спросил он.
– Мы думали, ее муж помрет от горя, а он все это время спал с медсестрой.
– Ну и что? – спокойно отреагировал муж. – Можно умирать от горя и спать с медсестрой. Одно другому не мешает.
– Мешает, – не согласилась я. – Взаимоисключает.
Я вспомнила два лица Денички. Одно – возле Карины, светящееся счастьем, другое – у гроба, под высоким напряжением горя. Деничка был подлинным тут и там. Одно другому действительно не мешало, как будто находилось на разных сторонах одной монеты. Денис действительно умирал от горя, но живой в могилу не полезешь, и он спал с медсестрой. Он так выживал. А еще ему нужен был человек, с которым можно было бы все озвучить и осмыслить. И все его преданное окружение заботилось, чтобы у Денички была физика и химия. Можно понять…
Понять можно, а принять нельзя.
– Тебе звонили, – сказал муж.
– Кто?
– Клиенты. Кто же еще…
Действительно. Кто же еще? Но ничего, я буду тщательно расследовать каждое дело и восстанавливать справедливость. А из многих маленьких справедливостей складывается одна большая.
Я скинула с себя всю одежду и отправилась в ванную. Встала под горячую струю. Вода омывала мое поднятое лицо, плечи, руки, стекала к ногам и уходила в маленькое отверстие, в черную дыру. Как в преисподнюю.
Я грохнулась в постель и заснула еще до того, как голова коснулась подушки. Мне не снилось ничего.
Я проснулась от запаха кофе. Муж варил кофе. Нездешний аромат плыл к моему лицу. Это был запах Бразилии, кофейных плантаций, испанского языка. У языка тоже есть свой запах: английский пахнет туманами, финский – молоком, а испанский – кофе. «Из Ливерпульской гавани всегда по четвергам суда уходят в плаванье к далеким берегам, плывут они в Бразилию, Бразилию, Бразилию, и я хочу в Бразилию, к далеким берегам…» Как хорошо эту песню пел Деничка, высоковатым голосом, а Надя вторила низким, а Надька стучала ладонями по столу, а я танцевала – пластично, как кошка, а Ромео с гитарой в обнимку чесал струны в определенном ритме. Это был ритм молодости, надежд на счастье. Казалось, что счастье – вот оно, надо только дотянуться рукой… «Только Дон и Магдалина, только Дон и Магдалина, только Дон и Магдалина ходят по морю туда».




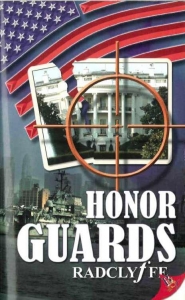



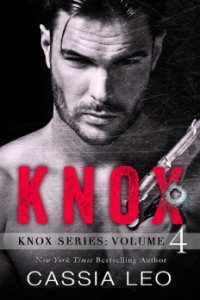

Комментарии к книге «Мужская верность (сборник)», Виктория Самойловна Токарева
Всего 0 комментариев