В САДАХ ЧУДЕС
«ВОСТОЧНАЯ КРАСАВИЦА» — единственная уникальная серия романов. Пески Иудеи и пирамиды Египта, дворцы Стамбула и цыганские шатры — всё это — «ВОСТОЧНАЯ КРАСАВИЦА». Коварные колдуньи и чарующие волшебницы, прекрасные принцессы и страстные любовницы — это тоже «ВОСТОЧНАЯ КРАСАВИЦА». Утонченная мистика, изощренный психологизм, необычайные приключения — и это тоже «ВОСТОЧНАЯ КРАСАВИЦА».
Следите за серией «ВОСТОЧНАЯ КРАСАВИЦА».
Жанна Бернар
ОТ ПЕРЕВОДЧИКА
Жанна Бернар (1901–1957) — французская писательница, автор сборников рассказов: «Памяти Шарля Перро», «Разыскивается мадам Лебуэн»; романов «Платье цвета луны», «Лукреция Борджа», «Маргарита».
Платье цвета луны
— Мне кажется, тебя раздражает все, что имеет отношение к моей матери! — Молодой человек нервно пригладил ладонью темные волнистые волосы.
— Меня раздражает этот странный культ! — Выпуклые нежные губы девушки сжались почти злобно.
— Какой несправедливой ты можешь быть! — В его голосе послышалось непритворное страдание.
Юноша встал с кресла, сделал несколько шагов, словно бы намереваясь начать прохаживаться по комнате, но внезапно снова сел. Он внимательно посмотрел на девушку. Совсем не похоже на то, как женщины обычно капризничают, утверждая свою деспотичную власть над мужчинами. Нет! В ее голосе — искренняя тревога, вид унылый.
— Но скажи мне, Анна, скажи откровенно и просто, что тебя так беспокоит? Неужели эти несколько платьев и этот портрет? Но ведь это единственные наши семейные реликвии! И наконец, это жестоко, теперь, когда мамы нет, ненавидеть ее!
Анна сидела у стола, худенькая, светловолосая, тонкие черные брови над ярко-голубыми глазами придавали ее лицу выражение странности и своеобразия.
— Я хочу, чтобы ты понял меня, Поль! — Она заговорила чуть глуховато и взволнованно. — Я знаю, какой ужасной и мелочной я выгляжу со стороны! Невестка, ненавидящая свекровь! Особенно теперь, когда твоей матери уже нет в живых. Но я хочу, чтобы ты понял меня! Без этого наша дальнейшая жизнь станет просто невозможной! И… я буду откровенной: я не уверена в том, что ты поймешь меня. Твоя мать не любила меня! Я не знаю, как она относилась к твоей первой жене.
— Я не хочу, чтобы ты упоминала о Катрин! — сердито перебил Поль.
— Но меня это мучает — почему вы расстались?
— Потому что она лесбиянка! — Поль почти кричал. — Мама тут ни при чем!
— А Мишель? Ведь это твой сын! Мальчику уже четыре года, а вы оба, ты и Катрин, не хотите его видеть!
— У него слабое здоровье! Деревенская жизнь ему полезна. Барб любит его, как родного.
— Барб — его кормилица, но у него нет матери! Я могла бы…
— Не нужно этой сентиментальности, Анна!
— Твоя мать хотела, чтобы мы расстались! Она что-то знала! И Катрин знает! А я… я не знаю!
Поль начал уставать. Это бессмысленное женское упорство, эти страхи, смутные предчувствия. Да, он не был слишком уж любящим отцом. Но в конце концов ребенок ни в чем не испытывал недостатка. А близость, желание общаться — это еще придет. Ему всего двадцать четыре года.
— Девочка моя! — Поль шумно вздохнул. — Ну чем тебя пугают эти тряпки? — Он снова поднялся и резко выдвинул ящик комода. Анна вздрогнула.
— Ну, посмотри! — Поль развернул перед ней материю.
Это были два платья в античном стиле, модном в восемнадцатом веке, и длинная накидка-плащ. Анне давно уже казалось, что ткани, из которых все это сшито, гораздо старше самих нарядов. Атлас и шелк? Или… Какие-то странные ткани ручной выделки. И цвета: желто-золотистый и серебристый цвет платьев и голубоватый — плаща. Но эта странная игра оттенков, превращавшая обычную цветовую гамму во что-то, чему Анна не находила названия. Она и сейчас все это видела. Но если Поль ничего не замечает, стоит ли его мучить своими предположениями и домыслами!
— Да, милый, — тихо произнесла девушка. — Все это глупо, нервы! Спрячь!
Поль громко задвинул ящик комода. Она почувствовала, что говорит как бы вопреки собственному желанию молчать.
— Поль, давай снимем и этот портрет!
— Хорошо!
Ее мучительно резанула легкая холодность, прозвучавшая в его голосе. Неужели он разочаровывается в ней? Накатило отчаяние, она снова заговорила быстро, почти лихорадочно.
— Этот мальчик на портрете, он так похож на Мишеля!
— Зачем ты ездила к Мишелю?
— Нет! То есть да. Но это было совсем не так, совсем не то, что ты думаешь. Катрин позвонила мне. Мы говорили. Мы вместе ездили, видели ребенка, издали. Она любит сына. Но она тоже заметила…
— Говори все! Что она тебе наплела? Может быть, пыталась соблазнить? Вполне в ее стиле.
— Она несчастный человек, Поль! Она… Она давно заметила, что мальчик очень похож на этот портрет.
— И потому она исковеркала мою жизнь?
— Но Поль, вглядись! Это больше, чем простое сходство. Это… это портрет Мишеля!
— Это портрет, — Поль заговорил преувеличенно внятно, словно объяснял ей что-то простое и естественное, — это портрет, выполненный в XVIII веке, возможно, Луи Давидом или кем-то из его учеников. Это портрет моего прапра… боже! Одним словом, моего предка! Впрочем, здесь что-то из времен революции. Но нет, никто из нашей семьи не был казнен. Они погибли во время пожара, замок сгорел.
— Это там, где сейчас твой загородный дом?
— Да. В живых остался лишь этот ребенок, его воспитали дальние родственники.
— А скажи мне, скажи, возможно ли такое, чтобы в вашем роду периодически рождался один и тот же человек и чтобы это совпадало с какими-нибудь страшными историческими событиями, потому что только этот человек может уцелеть! И Катрин это знает! И это знала твоя мать! И мне, мне грозит опасность, я чувствую!
— Боже, Анна, какая ты фантазерка! Опасность, исторические события! Это все отец внушает тебе, он никак не может забыть эту вашу, как она называется, Западную Галицию, что ли; эти страшные погромы! Гражданскую войну! Но то была дикость, почти Азия! И о каких исторических событиях может идти речь? Разве мировая война ничему не научила человечество? Сейчас двадцать пятый год! И после изобретения авиации исключена сама возможность войны. Ведь бомбардировки с воздуха моментально уничтожат всех!
Нет, она не в силах противопоставить свою интуицию его логике. Если они и дальше будут говорить на эти темы, она его просто потеряет! Надо отбросить все это, вышвырнуть из своего сознания!
Анна подошла к мужу, положила руки ему на плечи, вдохнула странный волнующий запах, нежный и теплый запах любимого тела. Возбужденный разговором, он еще успел подумать о капризности женщин, о нелогичности и непредсказуемости их реакций. Он сжал ее в объятьях. Жадными пальцами откинул юбку, возбуждение нарастало, пока он стягивал тонкие трусики. Ее слабый вскрик, такой уже знакомый, привычный, снова напомнил ему о его мужской силе. Он удовлетворенно закрыл глаза. Она ощутила его учащенное, но ровное дыхание. Словно странное, сросшееся снизу, раздвоенное сверху, но все же гармоничное существо, они чутко замерли у стены. В свете слабой лампы единая тень отражала размеренные движения…
В день рождения Поля Анна решилась на этот поступок. Они задумали отметить праздник в узком семейном кругу — она, Поль, ее отец. Анна накрыла небольшой круглый стол на веранде пестрой скатертью. Салат, легкое вино, жареный цыпленок, пирожные. Поль после концерта заехал за ее отцом. Они вошли вдвоем. На секунду она представила себе, какой эффект производит скромное авто Поля на тесной гористой улочке ее детства. Должно быть, привратницы и соседки все еще судачат! Как не похож их уютный дом на тесную квартирку ее отца! И быть второй скрипкой в ансамбле самого С. — это совсем неплохое начало для недавнего выпускника консерватории! Впрочем, не исключено, что и она еще вернется в университет. Возможно, из нее мог бы получиться неплохой преподаватель математики. Анна засмеялась негромко. В сущности, они познакомились странно. Запыхавшийся, в концертном фраке, он ждал ее у дверей зала и отдал ей букет.
— Вы всегда преподносите цветы слушателям?
— Нет. — Он отвечал с такой обезоруживающей искренностью, что ее всегдашняя ершистость, желание острить, иронизировать улетучились. Отец оставил ему и матери небольшую ренту. Отец Анны был владельцем небольшой галантерейной лавочки, где продавались ленты, нитки, канва. Далее, по логике воспоминаний, Анна припомнила мать Поля, Катрин… Молодая женщина нахмурилась. Лучше не думать обо всем этом!
Отец был, как всегда, в черном и черная шляпа. Анна прижала к груди цветы, поданные мужем.
— Подождите меня! Я сейчас переоденусь и поставлю цветы в вазу!
И тогда она решилась! Душу переполняла такая любовь к Полю, такое желание доставить ему радость! Надо показать ему, что она не придает значения… Она потянула медную ручку, поспешно выдвинула ящик комода. Сбросила сорочку и надела платье на голое тело. Распустила волосы, тронула помадой губы.
— О! — Глаза Поля блеснули. Она поймала его благодарный взгляд.
Он, конечно же, узнал платье!
— И это моя дочь? Такая красавица? Быть того не может! — Отец хлопнул себя по колену раскрытой ладонью.
Совсем стемнело. Темные ночные бабочки кружились над лампой. Как-то внезапно взошла луна — огромный светлый, чуть затененный темными смутными пятнами диск.
— Полнолуние! — Анна немного выпила и ощущала странную разнеженность, чувствовала нежную звонкость своего голоса.
— Никогда еще не видел такой огромной луны! — Поль осторожно привлек жену к себе на грудь. Они были молоды, счастливы, и все вокруг было чудесно!
— А у твоего нового платья — лунный цвет! — Отец, сощурившись, глядел на дочь.
— Платье цвета луны, платье цвета солнца, плащ цвета времени! — продекламировал Поль.
— Откуда это? — Анне вдруг сделалось не по себе. Два платья и плащ! Неужели он ничего не замечает? Какими невнимательными, небрежными могут быть мужчины!
— Из какой-то сказки! Что-то из детства! Может быть, это даже Шарль Перро! — Молодой человек сохранял беспечность.
Анна подумала о том, что должна беречь этого человека, такого беспечного и любимого! Надо научиться таить свои странные чувства. Откровенность порою вредит семейным отношениям, даже мешает близости.
— В самых простых сказках иногда скрыт странный глубокий смысл! — Отец потеребил бородку, тонкую и светлую от седины. — Когда меня в четыре года посадили изучать Талмуд, я, кажется, понял именно это — странный смысл, скрытый в сверхъестественном.
Поля всегда несколько раздражали воспоминания тестя: начавшиеся вполне невинно и безобидно, они доходили непременно до страшных событий — до убийств, грабежей, погромов. Это портило Полю настроение, вызывало какое-то затаенное чувство страха и тревожного ожидания несчастий. Но Поль не хотел огорчать жену ссорой с ее отцом и теперь громко и оживленно заговорил о сегодняшнем концерте. Разговор пошел немного бессвязный, почти веселый. Анна откинулась на спинку стула и опустила глаза. Ткань цвета луны серебряно обтянула колени, легко волнилась у подола. Платье словно бы придавало телу нежную теплоту. Хотелось легко смеяться, запрокидывать голову, встряхивать распущенными пышными волосами, ощущая их силу и нежность.
Отец хотел уехать на автобусе. Поль уговаривал его остаться ночевать, обещал утром отвезти на автомобиле. Отец согласился остаться.
— Я приготовлю тебе постель, папа, — Анна приподнялась.
— Я сам это сделаю, дорогая, — Поль остановил ее жестом.
Она снова опустилась на стул, засмеялась.
— Ты совсем опьянела, — Поль улыбнулся лукаво.
Несколько минут Анна сидела одна. В темноте летней ночи кустарники сада казались совсем черными и бесформенными.
Анна встала. Ее чуть качнуло. Неужели она и вправду пьяна? Но ведь она выпила совсем немного. Молодая женщина пошла в дом. В спальне она даже не стала снимать с широкой кровати покрывало, не сняла и платья, легла, сбросив лишь туфли; с наслаждением вытянула ноги, серебряная ткань снова блеснула. Она не будет раздеваться, дождется Поля. Анна давно заметила, что ей доставляет особое удовольствие, когда его немного неловкие, нетерпеливые мужские руки раздевают ее, обнажая самые потаенные уголки тела. Она закинула свои тонкие руки за голову. Голова закружилась, но было приятно. Анна закрыла глаза.
Лампа на веранде погасла. Сразу возникло ощущение ночного неуюта, пугающей таинственности. На веранде остановилась высокая тонкая фигура. Женщина? Кажется, длинные волосы.
Яркий диск луны начал медленно тускнеть.
Приготовив постель тестю, Поль вошел в скромную гостиную. Присел у пианино. Захотелось откинуть крышку, тронуть клавиши. В сущности, он собирался с силами. Он чувствовал, что Анна ждет, и подавлял в душе какую-то нервную мелочную боязнь обмануть на этот раз ее ожидания.
Он заметил темную фигуру на веранде. Очертания виделись смутно. Значит, Анна еще не вошла в дом. Странно! Ведь он отчетливо ощущает, что она в спальне, она ждет. Было странное чувство: ту Анну, которую он представлял себе лежащей на постели, ждущей, он ощущал более реальной, чем эту, реальную, странно и смутно замершую на веранде.
Анна очнулась в темноте. Наслаждение было пронизано такой темной болью, что она даже не в силах была вскрикнуть. Ей казалось, она в каком-то безвоздушном и жестком пространстве. Мужская плоть жгучими жесткими толчками резко входила в ее тело. В темноте движения были резкими, прыгающими. Поль молчал, она не слышала его дыхания, не чувствовала своего мужа, будто он вдруг сделался таинственным и непонятным. Она не могла позвать его, окликнуть по имени. Такое бывает в страшном сне, когда кричишь и какая-то тяжесть не дает прорваться крику. «Сон?» — смутно подумалось молодой женщине.
Солнце ослепило раскрытые глаза. Она невольно прищурилась. Она лежала нагая на постели поверх покрывала, лунное платье сбилось в ногах. Этот комок ткани, при дневном ярком свете казавшийся серым, вдруг вызвал у Анны раздражение. Она вскочила и бросила платье в ящик комода. Вошел Поль. И вновь она удивилась: он как будто застыдился ее наготы, застыдился, сам того не сознавая. И она ощущала какой-то провал, словно бы этой ночью они не были вместе. Поспешно накинула халатик. Заговорили о самом обыденном.
— Завтрак…
— Да, да.
— Я отвезу отца?
— Нет, нет, ты опаздываешь на репетицию.
— Поторопись, Поль, а я поеду на автобусе. Проводи меня до остановки, Анна.
Но она с отцом вышла раньше. Поль искал ключи от машины.
— Выпей апельсинового сока, Поль.
— Анна, я действительно опаздываю!
Когда она вернулась, проводив отца, и вошла в калитку, ее охватила давящая вязкая тишина. Детский необъяснимый страх не пускал в дом. Она пересилила себя. Вошла.
На веранде неприбранный стол. Зажужжала оса. Чирикнул вспорхнувший воробей. Она обрадовалась этим живым обыденным звукам.
Машина.
Поль не уехал.
Ключи, небрежно брошенные на скатерть. Нашел! Но не уехал! Почему? Он хочет поговорить с ней?
Боже! Снова, снова это странное состояние, когда волной накатывают предчувствия, страхи.
Анна увидела мужа!
Это было омерзительно!
У этой женщины было какое-то длинное тело, всклокоченные волосы, пустые глаза, как две темные дыры. Она стояла на четвереньках, выпятив зад, и Поль… позорно взмокший… Он посмотрел на Анну чужими глазами. Она бросилась на веранду, машинально схватила сумочку. Побежала.
За калиткой стало легче. Исчезло это тревожное, полное безысходности ощущение чего-то неотвратимого, сверхъестественного. Осталось нормальное чувство отвращения.
Она добежала до остановки автобуса. Накатила тошнота. Ее вырвало.
— Анна! Анна! — Мадам Шатонеф, владелица крохотной кондитерской, округлив любопытные глаза, уже в третий раз вбегала в галантерейную лавчонку. Поль звонил ей, когда-то Анна оставила ему телефон соседки. Теперь он умолял позвать жену, говорил, что «все объяснит».
— Скажите, что меня нет! Скажите, что меня нет! — со слезами в голосе повторяла Анна.
Мадам Шатонеф разрумянилась и даже выглядела похорошевшей в свои шестьдесят пять. Удивительно омолаживает причастность к чужим семейным драмам.
Отец подошел к дочери.
— Что за истерика, Анна? Пойдем! — Он сильно потянул ее за руку, крепко зажав тонкое запястье в своих сильных еще пальцах.
Анна, уже уставшая, готова была подчиниться. Но при одной мысли о том, что она услышит голос мужа, ею овладел детский беспредельный ужас.
— Нет! Нет! Не-ет! — с неожиданной силой она вырвала руку.
Мадам Шатонеф смотрела с любопытством. Отец махнул рукой. Они вышли. Анна положила голову на стол, покрытый старой клеенкой с застарелыми разводами пролитого кофе, и тихо, по-детски обиженно заплакала.
Поль громко кричал в трубку. Говорил, что не виноват, что произошла случайность. Но чувствовалось, что он чего-то не договаривает, и не потому, что хочет что-то скрыть, утаить, а потому, что произошло что-то действительно странное, напугавшее его. Он не хочет рассказывать об этом страхе, он просто хочет вытеснить этот страх из своего сознания, из своей души.
Старик задумался. Нет, не просто банальная случайная измена Поля разделила молодую пару; их разделяет сейчас что-то страшное, что выше их понимания, что-то неотвратимое и пугающее.
— Я передам Анне, чтобы она позвонила тебе. Я попытаюсь уговорить ее. Попробуй встретиться с ней. Женское упрямство можно переломить.
«Что я говорю? — думал отец Анны. — Все не то, не то. Кажется, мы не можем словами, простыми человеческими словами высказать правду, потому что… потому что в данном случае правда — это что-то бессмысленно-неотвратимое».
Море, огромное, иссине-голубое, лежало светлой недвижимой массой. Ясное солнце сделало голубой небосвод светлым. Это голубое небесное пространство казалось в сравнении с неподвижной водной массой таким смягченным, живым, глубоким и нежным. Вокруг не было ни души.
Она сделала несколько шагов по мягкому песку. Песок был такой белый! Такой чистый! Она почему-то знала, что этот песок — белый и чистый, что эта водная гладь — море. Она знала, что она — это она. В сознании роились странной смесью воспоминания, сны, слова, жесты и движения. Это все происходило с ней. Наяву? Чувство свободы было ей приятно. Внезапно пришла в голову мысль: если она испытывает чувство свободы, значит, она знает, что существует несвобода. Она удивилась своей способности мыслить. Чудесно было вдыхать чистый воздух, видеть море и небо, ступать босыми ногами на песок, осязать легкий ветер, словно бы играющий с ее телом, то овевающий, то отлетающий. Но еще чудесней была эта способность думать, пытаться найти всему окружающему объяснение, это желание обнаружить противоречивость бытия.
И еще она знала, что красива. Она ощущала приятную тяжесть сильных, темных и густых волос, откинутых на спину; она склоняла голову и видела свои руки, округлые груди, нежный живот, темный треугольник внизу… Она почему-то знала, что у нее красивое лицо, большие глаза.
Она снова оглядела свои груди, осторожно взяла их в ладони — какая приятная тяжесть! Маленькие, нежно-розовые соски почему-то вызвали у нее жалость, как будто они были живыми маленькими существами, слабыми и нуждавшимися в ее защите. Как странно!
Она почувствовала (и это тоже пришло «вдруг»), что она — удивительное существо, тонкое, странное существо, суть которого состоит из переплетения различных начал: каких-то властных животных желаний и одновременно какой-то способности безгранично и бесконечно жертвовать собой и находить в этом самопожертвовании болезненное наслаждение!
— Это я! — произнесла она громко. — Это я!
Она почти испугалась, услышав свой голос. Так нежно, с таким количеством музыкальных оттенков звучал этот голос!
Она стояла на песке, опустив руки и думала. Что же ее пугает? Да, да, она кажется себе слишком богато одаренной. Возникает предчувствие, что за это богатство придется платить! Но что означает это — «платить?» Это значит, что она будет несчастна! А теперь? В эти минуты? Счастлива ли она?
Она не знала. Кажется, скоро последуют какие-то события и поступки, которые и будут ее жизнью. Жизнь!
Она оглянулась. И это странное ощущение, что кто-то властен над нею! Властен беспощадно! Он причастен к ее одаренности! Но в чем-то она свободна! Способность мыслить, интенсивно осмысливать, искать противоречия, эта способность делает ее свободной! Нет, не совсем свободной! Но во многом! Тот, кто властен над ней, тоже наделен этой способностью, он в этом превосходит ее неизмеримо. И он… он, кажется, недоволен ею!
Она почувствовала, что гордится собой. Она знала, что в сравнении с ним она хрупка, мала. И вот она как бы бросает ему вызов.
И тут ее пронзил страх. Она огляделась по сторонам. Тихо. Она знала, что он — всего лишь мышление, беспредельное, беспрерывное. А она… Она — не только мысль, она еще и это тело. И вот откуда понятие несвободы в ее сознании, это оттого, что она — и мысль и тело! А он свободен!
Ей показалось, что тишина стала тревожной. Он наблюдает. Он недоволен. В ней возникло желание неподчинения и досада на это тело-тюрьму. Она заметила, что эти чувства — гордость, непокорство, досада на себя — подавляют страх.
Страх исчез. Ей захотелось каких-то действий. И тело и сознание жаждали действовать, жаждали напряжения, движения.
Нагая девушка легко ступала по горячему песку.
Эти гористые окраинные улочки Парижа всегда напоминали ему Средиземноморье. Завитки плюща на балконах еще усиливали сходство. Мелкие булыжники мостовой, перебегающие добродушные псы, распахнутые окна, уютные кошки на подоконниках. Запах воскресного жаркого с пряностями. Толстые женщины, громкими голосами окликающие друг дружку. Мужчины в кепках.
Те дни, проведенные в Греции, были приятными. Солнце, море, виноград. Ему было десять лет. Отец был молод. Они плавали наперегонки. Они бегали по горячему песку.
Уже после смерти отца Поль нашел в его бумагах небольшой даггеротипный портрет молодой женщины. Ее прямой острый нос, черные глаза, продолговатые, с выражением упрямства и какой-то чуть бессмысленной ласковости, сразу воскресили в памяти поездку в Грецию. Кто эта женщина?
Он спросил мать. Но мать, взбалмошная, истеричная, принялась за что-то бранить сына. Поль поспешил уйти. После он никак не мог снова отыскать даггеротип и подумал, что мать уничтожила портрет. Возможно, так оно и было, скорее всего! Однажды за завтраком мать была в хорошем настроении. Вдруг Поль вспомнил портрет.
— Мама, ты помнишь тот странный даггеротип, который я нашел в бумагах отца? — осторожно спросил он.
— Да, да, фотография твоей бабушки!
— Такое греческое лицо! Не была ли она гречанкой?
— Не знаю!
— Я потом не мог найти эту фотографию.
— Я сожгла ее, — спокойно ответила мать и отпила кофе.
— Но почему?
Она в обычной манере бессвязно заговорила, упрекая его в том, что он поздно возвращается, оставляет ее в одиночестве…
Позднее тайну даггеротипа удалось узнать его первой жене, Катрин. У Катрин установились с его матерью довольно странные отношения дружбы-вражды. Каким-то образом Катрин узнала от свекрови, что бабушка Поля покончила с собой. Но что ее побудило к такому поступку? Этого Катрин не знала. Впрочем, и его мать могла не знать этого!
Поль подошел к скамейке у входа и присел. Отец Анны предупредил его, что она выйдет из дома где-то около полудня. Вот она спустится вниз по мостовой и увидит ждущего Поля. Он смотрел на играющих малышей. Дети ударяли о стенку тряпичный мячик, подбрасывали, ловили, что-то ритмически приговаривали. Молодой человек подумал о маленьком сыне. Он давно не навещал Мишеля. А что если Анна права? Пусть мальчик живет в семье! Тут мысли Поля смешались. Он увидел Анну.
В знакомом темном жакетике она шла быстро, светлые волосы подрагивали в такт шагам.
— Анна!
Он увидел, как она сильно вздрогнула и ускорила шаг. Он нагнал ее, пошел рядом.
— Анна! Я должен все тебе объяснить. Это недоразумение!
— Оставь!
— Анна, это… Я сам не знаю, что произошло со мной… Когда я вошел в спальню…
— Прошу тебя, не надо подробностей!
— Но я…
Она побежала, вскочила в дверцу автобуса…
Нагая девушка отошла уже довольно далеко от моря. Босые ноги шагали легко. Пахнуло теплой зеленью. Она вступила в рощу высоких деревьев с широкими листьями. Гроздьями свисали темные плоды. Они казались такими сочными. Она почувствовала, что кто-то следит за ней. Но это был не тот, всевластный и недовольный ею. Это был другой, такой же, как она сама, человек!
Впервые она испытала совсем новое чувство. Ей хотелось говорить с ним, смотреть на него. Он казался ей и сильным и слабым… Она поняла, что полюбила его.
На репетиции Поль молча стерпел несколько грубых замечаний дирижера. Он думал об Анне, о себе. Что-то странное, тягостное существует в его семье. Этот портрет мальчика, так похожего на Мишеля, эти платья и плащ — скудные семейные реликвии. Эти недомолвки. Самоубийство бабушки, она была еще молода. Отголоски каких-то семейных преданий о пожарах, предательствах, таинственных убийствах. Странная жизнь, которую ведет Катрин. Но можно ли считать, что он сломал судьбу Катрин? Нет, ему не в чем обвинить себя!
И все же! Все же!..
— Я не хочу думать о нем! Не хочу! Я не вернусь! — Анна ударила тонкой ладошкой по столу.
— Подожди, подожди! — Отец вскинул руки, согнутые в локтях. — Во всем этом есть что-то нелогичное, нелепое. Допустим, тебе не привиделось. Ты действительно видела ту женщину…
Лицо Анны исказила болезненная гримаса.
— Допустим! — повторил отец. — Но кто она? Как вошла в дом?
— Я прекрасно помню, что не заперла калитку.
— Ты пошла провожать меня. Вернулась примерно через двадцать минут. За это время…
— О боже! Я не знаю! У него мог быть уговор с ней!
— Но Поль знал, что ты скоро вернешься!
— Когда речь идет о Поле, нормальная логика теряет свой смысл! — резко воскликнула Анна. — Я все больше чувствую, что вся история семьи этого человека — что-то иррациональное!
— Тогда ты тем более должна простить его! — заметил отец мягко.
— Ах, ты ничего не понимаешь! Простить! — В голосе молодой женщины отчетливо зазвучала горечь. — Иногда мне кажется, что я просто должна бежать от него! Ведь Катрин сделала это! Возможно, это с моей стороны малодушие! Но порою меня охватывает такой панический животный страх! Это как у животного, которое бежит, спасаясь от пожара, бросив детенышей! Это звериный инстинкт, инстинкт самосохранения!
— Хорошо! Поступай, как найдешь нужным!
Анна поняла, что отец прочувствовал ее страхи, всерьез отнесся к ним. И, поняв это, она почему-то ощутила себя совсем беззащитной, почти обреченной…
Юноша ловко карабкался по высокому стволу. Она смотрела, закинув голову. Ей было хорошо, нежно, легко. Но она не переставала анализировать свои ощущения. Ей приятно, что он восхищен ее красотой, что он покорно выполняет ее маленькие просьбы. Но именно эта ее способность мыслить мешала ей предаться игре — то и дело о чем-то просить, притворяться то капризной, то слишком слабой, нарочито смеяться…
Он спустился с гроздьями сладких темных плодов в руке. Начался день, с этими такими значимыми короткими фразами, с этими касаниями. И это изнуряющее и сладостное их единение, когда вершинный миг восторга обрывал ее мысли; когда они перекатывались по траве, крепко обхватив друг друга; стройными ногами, согнутыми в коленях, она сжимала его бедра…
Он положил ей в рот маленький продолговатый темно-красный финик.
— Вкусно?
Эта его покорность, готовность служить пугали ее. Все казалось, что покорность может мгновенно смениться безудержной злобой. И его досада на самого себя, на его прежнюю любовную покорность еще будет усиливать, увеличивать эту злобу.
— Хочешь, я покажу тебе одно дерево? — спросил он.
— Покажи. — Ей хотелось, чтобы ее голос зазвучал естественно.
Они быстро шли, углубляясь в чащу. Ему явно нравилось шагать впереди, держа ее за руку, ведя за собой.
Дерево не было высоким. Оно было даже каким-то подозрительно невысоким, это дерево: И ветки были унизаны плодами, большими, круглыми, светло-алыми. И само дерево как бы манило: подойди, сорви! Они остановились чуть поодаль.
Девушка посмотрела на юношу. Он не спускал глаз с дерева, словно забыв о ней. Она поняла разницу между ним и собой. Оба они почему-то знают, что подходить к дереву нельзя. Но для него это просто запрет, который интересно и страшно нарушить. А для нее? Для нее это прежде всего раздражение против того, властного, который предвидит их чу ства, мысли; прогнозирует… И, возможно, что бы она ни сделала, все это будет исполнение его замыслов. И, значит, все равно, сорвет ли она манящий плод или гордо отвернется. Что же она должна сделать?..
Сунув ладони в карманы клетчатого пальто, Катрин свернула на бульвар. Сколько она, еще недавно талантливая начинающая художница, а теперь всего лишь машинистка в большом издательстве, сколько она успела пережить за эти годы! Любовь к Полю и его любовь к ней, ссоры с его матерью, эта мелочность быта, от которой не было спасения… Катрин остановилась и закурила сигарету… Сын!.. И на все переживания в конце концов наложилось одно тяжелое — бежать! И она убежала! Убежала от Поля, от ребенка, от самой себя прежней. У нее никогда больше не будет мужчин! Женская взаимная любовь легка, тонка, изящна — так могут любить друг друга две женщины. Отношения мужчины и женщины всегда тяжеловесны, грубо-драматичны…
В этом кафе Катрин уже знали. Она не спеша допивала свой кофе с коньяком, когда девушка, стоявшая за стойкой, попросила ее подойти к телефону.
Зазвучал глуховатый спокойный женский голос, говорившая назвалась дочерью консьержки, привратницы.
— Мадам Катрин Л.? (Катрин сохранила фамилию Поля.)
— Да, это я!
Анна просит ее прийти! Катрин нервно заколебалась. Когда-то Анна сама разыскала ее. Анна чувствовала себя виноватой. Катрин успокоила ее. Катрин нравилось покровительствовать этой хрупкой девушке. Ее даже умиляла любовь Анны к Полю. В свою очередь, Анна уговорила Катрин поехать в деревню к сыну. Странно (или не странно!), но когда она приехала в деревню вдвоем с Анной, то пугающее чувство чуждости, которое она прежде испытывала, глядя на сына, показалось ей нелепым, словно рассеялись тучи и взошло солнце!..
Девушка поняла. Она сидела на траве, обхватив колени тонкими руками, и всматривалась в спящего юношу. Она поняла. Она должна уйти. От него, перестать жить его жизнью. Это! Она это сделает! И тогда она освободится! Тот, властный, утратит власть над ней. Она будет свободна!
Девушка поднялась, легко и осторожно. И тихо ушла.
— Здравствуй, Катрин!
— Что произошло?
— Ничего! А впрочем… Ты знаешь, ты и вправду знаешь?
— Объясни, Анна. Ты просила меня прийти?
— Нет! — Анна схватила Катрин за руку. — Нет, нет, нет! Я клянусь! Но я поняла! Кто-то сказал тебе, что я просила тебя прийти. Кто? — Анна напряженно подалась вперед, прижала ладони к груди.
— Мне позвонили. В кафе. Женский голос.
— Кафе, где ты часто бываешь?
— Да.
— Ты не давала мне телефон!
— Но ты знаешь, где оно, это кафе?
— Нет.
— Но я могла тебе сказать… Ты могла забыть…
— Нет, Катрин! Ты и сама знаешь!
— Послушай, Анна, есть еще один путь, один выход — надо забыть.
— Ты… забыла?
— Да!
— А Мишель?
— Почему ты спрашиваешь о нем?
— Нет… Просто… Все эти три месяца… Я вижу Поля!
— Что ты хочешь сказать? — Катрин казалась испуганной.
— Не бойся! Это не галлюцинация! Просто он приходит. Стоит в конце улочки. Он уже не подходит ко мне. И не окликает. Он ждет. И ведь он не виноват!
— Анна, ты очень бледная! Ты…
— Да, у меня будет ребенок! Так просто, не правда ли?
— Прости меня за прямоту, но ты хочешь оставить?
— Конечно! — Анна вдруг заговорила быстро. — Это — решение. Это — развязка. Это…
— Мне кажется, ты решила, что если ты оставишь ребенка, то сможешь больше не возвращаться к Полю и при этом не чувствовать себя виноватой, — докончила Катрин.
— Ты говоришь верно!
— Анна, ты… не скажешь Полю?
— Нет! И ты не говори ему.
— Излишняя просьба! Я не вижусь с ним и не хочу видеться.
Совсем стемнело. Анна не задергивала занавеску. По стеклу узкого окна как-то слезно текли струйки дождя, слабые, извилистые. Обе женщины молчали. Анна зябко куталась в шаль. Катрин сидела сгорбившись, небрежно набросив на плечи свое клетчатое пальто. Она машинально достала из кармана пачку сигарет и зажигалку. Затем, поспешно взглянув на Анну, снова сунула все это в глубокий карман пальто. Анна слабо улыбнулась.
Нагая девушка снова вышла к морю. Наступил вечер. Она не знала, что же ей делать. Нет, она не чувствовала себя свободной. Тот, всевластный, может быть, и сейчас он предусмотрел все возможные ее действия? Темнеет. И в этой темноте она ощущает какую-то тревожность. Надо решиться на какие-то действия! Она побежала. Упала на песок. Стало прохладно. Песок остыл. Вскочила. Побежала дальше. Успела подумать: «Странно, я бегу, тороплюсь, как будто кто-то ждет меня!»
Она еще никогда не видела этих мест. Море здесь делалось живым, плескалось, накатывалось на берег. Волны были темно-синими, нет, темно-лиловыми. В этом плеске и движении таилась какая-то угроза.
Она пробежала еще немного. И увидела их, этих существ. Первое чувство было — страх. Оно толкало, звало бежать дальше, бежать, не разбирая дороги, бежать без оглядки.
Они были страшны, их звериные лики и человечьи тела. Но они не были людьми. Она поняла это. И в них не было той унизительной зависимости от всевластного, которую она заметила в юноше.
Она приблизилась к ним…
В ту ночь она узнала много новых понятий, слов, ощущений… «Вино», «сладость», «пряности», «остроумие», «издевка»…
Они были похожи на нее (или она — на них!) этой развитой способностью анализировать, мыслить, быть ироничными…
Она пила этот напиток — «вино», такой несхожий с терпким соком плодов или с пресной водой ручьев…
Они тоже были нагими, тела их были темно-смуглыми…
— Вы… все… — Она чувствовала головокружение. — Вы говорите… Как смешно! И ему и ей придется прятать тело… в какие-то тряпки… — Она расхохоталась. — Прятать!.. — Она поднялась, ее чуть качнуло. — Я тоже хочу спрятать тело. — Она вновь залилась смехом…
Они развернули перед ней что-то странное, светящееся, похожее на водную поверхность.
— Что это? — спросила она.
— Ткани для твоей одежды! А те — он и она, — им никогда не прикрывать свои тела такими тканями!
«Те!», «Он и она!» И еще одно новое чувство — ревность! И злоба!
И в тот же миг, в миг, когда всю ее захлестывали волны злобы, ревности, она каким-то уголком сознания уловила: она не обрела свободу! Да, она уже не зависит от всевластного, но эта независимость черна и безысходна, как сама пустота!
Звучали голоса существ с человеческими телами и звериными ликами. Они предсказывали ей, что она бессмертна, а те, он и какая-то «она», умрут, умрут, умрут! И в голосах перемешивались ирония, злоба, торжественность, глумливость…
В дверь комнаты постучали. Дверь приоткрылась. Вошел отец Анны. Как-то боком. Смущенно.
— Папа, это Катрин. — Анна уже приготовилась что-то скучно объяснять отцу, выслушивать в ответ какие-то банальности.
Но старик посмотрел на молодых женщин и внезапно сказал:
— В квартиру мадам Шатонеф позвонили. Из больницы. Телефон нашли в записной книжке Поля. Сегодня его сбила машина. Он без сознания…
— Мадемуазель Л., вы невнимательны, как всегда! Повторите доказательство!
С последней скамьи поднялась тринадцатилетняя девочка, еще худощавая, но высокая и сильная. Темные волосы связаны на затылке темной ленточкой; темные глубокие, чуть впалые глаза глядели пристально и немного пренебрежительно на учительницу. Девочка спокойно повторила доказательство теоремы, кое-что добавив от себя. Остальные ученицы с любопытством переводили глаза с отвечающей на учительницу. Вероятно, поединок, за которым они наблюдали, длился уже не первый день.
— Ах, Марин, ко всем вашим способностям — если бы еще чуточку смирения!
Оставив без внимания эту реплику учительницы, девочка села и отвернула голову к окну.
Учительница с чрезмерной строгостью обратилась к остальным, как бы стремясь загладить впечатление от своего очередного мелкого поражения.
Поскрипывали перья, занудно жужжал голос учительницы. В окне колыхались зеленые ветви. Совсем немного дней остается до каникул. В это лето она должна одолеть Монтеня, она так решила! Она вспомнила, как вошла в гостиную, прижимая к груди два толстых тома, купленных у букиниста. И тотчас они все встрепенулись и принялись унижать и изводить ее на все лады.
— Боже, девочка моя! — воскликнула мать. — И ты все это собираешься читать?
— Девочкам вредно много читать! — протянул дед.
— Да разве она сможет это одолеть! Это же философия! — насмешничал Мишель. — Она просто будет смотреть на эти фолианты и повторять: «Ах, Монтень!»
Бешеная злоба захлестнула ее сознание. Книги уже лежали на столе, отец только начал перелистывать страницы…
Марин метнулась к брату и ногтями вцепилась в его щеки. Мишель вскрикнул. Отец бросился разнимать их, но без трости не удержался на ногах и упал. Мать схватила Марин за руки, трясла ее и кричала:
— Сумасшедшая! Сумасшедшая!
Марин вырвалась и убежала в свою комнату.
Мишель вернулся из ванной с мокрым лицом, на щеках алели царапины.
Анна уже остыла. Она считала, что виноват Мишель. Свою иронию он мог бы приберечь для сверстников, а не тратить на хрупкую чувствительную девочку. Но Анна ему не мать, она не имеет права. Но Поль, неужели Поль ничего не скажет сыну?
Мишель с мрачным лицом подошел к двери, за которой скрылась его младшая сестра. Испуганная Анна шагнула следом, но старый отец удержал ее.
Юноша осторожно постучал в дверь костяшками согнутых пальцев. За дверью молчала девочка. Мишель опустил руку и громко произнес:
— Марин, прости меня, я был неправ!
Анна улыбнулась и вздохнула.
Мишель открыл дверь и вошел. Марин сидела на постели, опустив голову. Юноша осторожно погладил ее по темным, небрежно причесанным волосам. Девочка уткнулась лицом ему в грудь и заплакала…
Вечером она слышала из своей комнаты, как отец, мать и дед говорили о ней.
— Это беспрерывное чтение. Эти философские книги. Это ненормально!
— Она отказывается от новых платьев!
— Девочке нужны подруги! Она всегда одна!
— Все это — переходный возраст! Не надо ей ничего навязывать!
Фу! Какое болото банальностей!
Все это так ярко вспомнилось девочке. И тут же она поймала себя на желании съесть порцию мороженого. Она любила сладкое. Но когда ее одолевали подобные желания, ей всегда делалось смешно. Монтень и мороженое! Она улыбнулась.
Через несколько дней она уже будет в деревне. Не будет больше этих несносных девчонок с их вечной болтовней о платьях, о мальчишках. И какие у них глупые круглые глаза, когда они зачитывают до дыр какой-нибудь глупый роман, где героиня беременеет. Как все это пошло и противно! Никогда она не будет жить такой жизнью!
Марин стояла на ступеньках школьного здания и щурилась от солнца. Мишель обещал зайти за ней. Сегодня концерт, отец будет играть соло.
— Марин!
Отец прихрамывая, опираясь на трость, поднимался к ней.
Неожиданное несчастье, случившееся с Полем, странным образом сплотило семью. Выздоровев, он продолжал работу в оркестре и даже давал сольные концерты. Казалось, он привык к своей хромоте. Когда маленькой Марин исполнился год, исполнилось желание Анны — они взяли в свою семью Мишеля. Отец Анны, совсем состарившийся, тоже теперь жил с ними. А когда они на лето переезжали в деревню, туда приезжала Катрин. Она привозила с собой краски, этюдник, много рисовала. Видимо, от этого пошло пристрастие к живописи и у Мишеля. Нынешней осенью этот длинноногий, чуть сутуловатый и мрачнолицый девятнадцатилетний юноша намеревался стать учеником одного из художников, известных своими оригинальными композициями.
Поезд стрелой летел вдоль зеленых лугов. Марин не отходила от окна. Настроение у нее было ровное, даже веселое.
— Зачем ты это позволила? — Поль отставил трость.
Он сидел рядом с женой за маленьким столиком, накрытым к ужину. С этой открытой веранды их загородного дома открывался чудесный вид — широкая лужайка, вдали опушка дубовой рощицы. Но сегодня Поль предпочел бы парижскую веранду, маленький огороженный сад. Ему почему-то было не по себе.
— Не могла же я запретить ей! — сказала Анна.
— Ты могла намекнуть. Ты могла наконец сказать, что здесь наша дочь. Девочке тринадцать лет!
— Она не в первый раз видит тетю Катрин.
— Я предпочел бы, чтобы она никогда не видела ее.
— Что за преувеличения, Поль! Катрин приезжает каждое лето.
— Лучше бы она не приезжала вовсе! Я уверен в ее дурном влиянии на нашу дочь!
— Но Марин мало времени проводит с ней. И потом Катрин — мать Мишеля. Как можно препятствовать тому, чтобы она виделась со своим единственным сыном!
— Но ты ведь знаешь, Катрин — лесбиянка! И эта ее так называемая подруга! Совершенно ясно, каковы их отношения!
— Поль, милый, успокойся! Не надо делать трагедию из мелочей. Катрин захотела приехать с подругой. Что здесь такого страшного? Я не первый день знаю Катрин. Она никогда не позволит себе ничего дурного; ничего такого, что могло бы плохо повлиять на нашу дочь.
Она говорила мягко и даже чуть смешливо. И, не дожидаясь очередных возражений Поля, прошла в дом. Завтра утром приедут Марин и Мишель, за ними — Катрин со своей подругой. Надо приготовить комнаты.
За эти годы Анна из худенькой нервной девушки превратилась в цветущую, еще молодую женщину, изящную и уверенную в себе. Долгое выздоровление после катастрофы, несколько тяжелых операций преждевременно состарили Поля. Теперь казалось, что он намного старше своей жены. На щеках и на лбу пролегли глубокие морщины, глаза впали и выцвели, волосы поредели. Но он чувствовал, что Анна по-прежнему любит его. Ведь, несмотря на перенесенные несчастья, он оставался мужчиной, сильным и нежным, ее единственным мужчиной!
Анна открыла дверь кладовой — надо отобрать свежее постельное белье. В углу стоял старинный деревенский сундук. Прежде, давно, в таких сундуках хранили приданое. Анна подняла тяжелую резную крышку. Дерево ссохлось и потемнело от времени. Анна уже не помнила, что же в этом сундуке. Она вспомнила, как Поль рассказывал, что этот сундук куплен его отцом на какой-то распродаже.
Что же она сюда положила? А ведь что-то положила! Анна увидела содержимое сундука.
Два платья и накидка. Разом припомнились все ее тревоги. Платье цвета луны, платье цвета зари… или солнца? Плащ цвета времени! Но ведь все хорошо! С теми предчувствиями, смутными предощущениями чего-то ужасного покончено навсегда! Она живет полной жизнью любящей и любимой женщины. У нее есть дочь! Нет, двое детей. Ведь и Мишель ей — как сын. Боже, какие странные переливчатые ткани! Кем и когда они сработаны? В памяти всплыла та далекая ночь, когда Поль был таким резким и молчаливым, ночь зачатия ее девочки. Анна откинула ткани. А вот и портрет Мишеля. Темная бронзовая рама, мелкие трещинки холста. Теперь Мишель старше, чем этот мальчик на портрете, одетый по моде начала девятнадцатого века. Да, удивительное сходство. Анна решительно опустила крышку сундука. Затем, собрав белье, чистое и пахнущее лавандой, вышла из кладовой.
Утро было таким, каким и полагается быть летнему утру, то есть ясным, погожим. В кухне суетилась толстуха Барб, кормилица Мишеля. Несколько лет тому назад Барб овдовела и теперь была в деревенском доме Поля кем-то вроде домоправительницы. Анна не терпела прислуги, предпочитала делать все сама. Но с Барб они ладили. Летом к толстухе Барб наезжал ее младший сын, молочный брат Мишеля. Он работал в Париже механиком. Долговязый хрупкий Мишель и приземистый, крепко сбитый Дени представляли собой несколько комическую пару. Деревенские девушки хихикали, когда эти двое молодых людей направлялись через деревню к реке — поудить рыбу. Впрочем, рыболовы они были не очень удачливые. Им, как говорил Мишель, «доставлял удовольствие сам процесс ужения».
Марин бегом бежала по лужайке навстречу огромному кудлатому псу, заливавшемуся добродушным звонким лаем.
— Мук! Мук! Старый дружище!
Девочка присела на корточки, обхватив пса за шею, и целовала его прохладный нос. Почувствовав на себе чей-то взгляд, она смутилась. Отпустила собаку, поднялась и произнесла чуть нарочито небрежно:
— Привет, Дени!
— Здравствуй, Марин.
— По-прежнему собираетесь с Мишелем отсыпаться у реки с удочками в руках?
— Кажется, у Мишеля на это лето другие планы. Он собирается основательно заляпать красками холсты.
Марин фыркнула, но сдержала смешок и, свистнув собаке, с независимым видом пошла через лужайку на шоссе — встречать отца. Он поехал на станцию — привезти Катрин. Когда при ней говорили «тетя Катрин», «скажи тете Катрин», «позови тетю Катрин», губы девочки кривила ироническая улыбка. Если кому прямо противоположно наименование «тетя», так это Катрин!
Поль сосредоточенно вел машину. «Он никогда не остается со мной наедине, — думала Катрин. — Боится? Если бы он знал, как он мне безразличен! И он, и все мужчины! Отвратительные существа с грубыми телами и бедными эмоциями!» Катрин покосилась на молодую девушку, спокойно сидевшую у поднятого стекла. «Да, женская любовь — это совсем другое!»
Катрин выбралась из машины. В бриджах, стриженая, пожалуй, слишком коротко, с сумкой через плечо. Кое-что у этой Катрин можно позаимствовать! Марин приветственно замахала рукой. Например, бриджи; но короткую стрижку Марин не любит!
Следом за «тетей Катрин» из машины появилась незнакомка в легком летнем платьице, милая, с темной челкой, одна из тех девушек, которые бог весть почему кажутся загадочными и тонкими, хотя, в сущности, никаких достоинств, кроме миловидности, у них нет. Ей было лет восемнадцать. Марин машинально одернула подол своей плотной юбки, скосила глаза на грудь под светлой летней блузкой. Ей казалось, что груди у нее слишком большие. «Я никому и никогда, должно быть, не покажусь тонкой и загадочной!» Марин испытывала к незнакомке смесь интереса и неприязни. Подойдя к машине, Марин помогла выйти отцу. «Кто это?» — спросила она громким шепотом. Поль нахмурился. Почему-то его раздражали в его рослой и умной дочери именно какие-то проявления детскости.
— Это знакомая тети Катрин, — тихо сказал Поль, — они вместе работают в издательстве.
Девушка приблизилась к ним и, приветливо улыбнувшись, протянула руку Марин.
— Я — Мадлен, Мадо, а вы — Марин? — Она снова улыбнулась.
Марин понравилось это «вы». Они поздоровались.
Мадо заговорила легко и мило. Марин было приятно поддерживать разговор. Мадо расспрашивала об окрестностях и очень обрадовалась тому, что здесь есть прекрасные места для купания, можно собирать ягоды в лесу.
В сущности, при все своем раннем развитии Марин еще оставалась наивной чистой девочкой, она ничего не знала о том, какую жизнь ведет Катрин, и даже не подозревала, что за отношения могут связывать Катрин и Мадо. На этот раз Катрин не привезла с собой принадлежности для рисования, и, когда Поль спросил ее, почему она без этюдника, женщина ответила с чуть преувеличенно независимым видом: «Ах, это поприще живописи! Я оставляю его Мишелю. По крайней мере на это лето».
Поль шел медленно, опираясь на трость. Он видел перед собой высокую Катрин, юные фигурки Мадо и дочери. Они двигались так легко! Ушли вперед, не думая о нем. Он вдруг почувствовал себя одиноким.
Жизнь в загородном доме текла по раз и навсегда заведенному порядку. Утром добродушная Барб подавала завтрак. Затем до обеда все расходились по окрестностям. Мишель рисовал. Юная Мадо не заинтересовала его. И когда Поль, оставшись наедине с сыном, полюбопытствовал, какого он мнения о Мадо, Мишель ответил с некоторой юношеской заносчивостью:
— Она — пустышка, флакон из-под дешевых духов!
Впрочем, Дени этого мнения явно не разделял, несколько раз он приглашал Мадо на танцы. Но Катрин избегала отпускать девушку одну, и это казалось естественным — забота старшей по возрасту. Поль, Анна, отец Анны гуляли только вблизи дома. Марин, Мадо, Катрин и Дени составили компанию, вместе купались, собирали ягоды, бродили по лесу, разбредались и снова сходились.
Анна проворно шила на швейной машинке. Ее отец покачивался в кресле-качалке. Из отдаленной комнаты доносились звуки скрипки. Вот они смолкли. Через некоторое время постукивание трости возвестило о приходе Поля. Он присел на канапе, Анна улыбнулась ему. Завязался разговор. Они уже успели просмотреть утренние газеты и теперь говорили о возможности гражданской войны в Испании. Отец Анны был совершенно уверен в том, что это скоро произойдет; Поль возражал тестю, Анна не высказывала своего мнения, осторожно пытаясь уберечь двух близких ей людей от ссоры.
Подойдя к окну, Анна заметила стремглав бегущую дочь. Анна встревожилась. Вышла на лужайку, пошла навстречу девушке. Отец и дед выглянули в окно. Закрыв лицо ладонями, Марин пронеслась мимо матери, влетела в дом и заперлась у себя.
Анна вернулась к мужу и отцу.
— Что с ней? — спросил Поль.
— Не знаю. — Анна медлила садиться снова за машинку.
— Марин — трудный ребенок, — заметил отец Анны.
И тут в комнату, шумно переводя дыхание, перебрасываясь несвязными репликами, вошли возбужденные, взъерошенные Мадо, Катрин и Дени. На правах старшей Катрин решительными шагами двинулась к Анне.
— Анна, я должна поговорить с тобой!
— При всех? Это что, судилище, допрос? — Анна встала.
— Только что прибежала Марин, — вмешался Поль. — Кажется, это все имеет прямое отношение к ней!
— Хорошо! Я пока промолчу! — резко бросила Катрин. — Пусть начинает Дени.
— Ну я… — Парень замялся. — Наша компания разделилась. Катрин и Мадо ушли к реке. Я просто шел наугад. Марин мы потеряли. Я выбрался на поляну к большому вязу…
И тогда, среди обыденного дня с его обыденными заботами и ощущениями, на обычного парня снизошел ужас. Горло забил комок, Дени хотел закричать, крик не вырывался из сжатых мышц глотки. Наконец ему все же удалось крикнуть, сильно и сдавленно. Затем еще раз…
Затрещали сучья, послышалось учащенное дыхание, голоса:
— Дени! Марин!
Это спешили на его крик о помощи Катрин и Мадо.
Мадо истерически взвизгнула. Катрин резко повернула девушку и прижала ее лицо к своей груди. На лице самой Катрин отразился не страх, но отвращение.
Часть травы на поляне была выжжена, и в центре образовавшегося круга кто-то установил три креста, связанных из веток. На этих трех маленьких крестах корчились три ящерицы. Это были сравнительно большие ящерицы, водившиеся в здешней местности. Ящерицы были распяты. Привязаны травинками за лапки к трем крестам из веточек.
Теперь Дени несколько пришел в себя.
— Странно, что мы не почувствовали запах паленой травы, — сказала задумчиво Катрин.
— Мы все были далеко от этого места, — предположил Дени.
Мадо дрожала.
Катрин нагнулась и освободила ящериц. Они упали на землю.
— Мертвые! — тихо констатировала женщина.
Внезапно Мадо судорожно вцепилась в рукав ее блузы.
— Там кто-то есть! — Девушка указывала на шевельнувшуюся листву кустарника.
— Не бойся! — Дени подошел к Мадо поближе.)
Катрин подалась вперед, вгляделась. Ей показалось, что она различила очертания знакомой рослой девчоночьей фигурки, длинные темные волосы…
— Ты видела? Кто это? — пугливо спросила Мадо.
— Я не разглядела! Пойдемте отсюда!
Когда они вышли на лужайку, Катрин медленно остановилась, вывернула карманы своих модных бриджей.
— Как видите, спичек у меня нет. А у вас?
— Вот! — У Дени спичек тоже не оказалось.
А у Мадо не оказалось карманов.
Они медленно шли по направлению к дому, когда их нагнала Марин. Они обменялись с ней несколькими фразами. Катрин почувствовала, что голоса Дени и Мадо потеряли естественность, и поспешно обернулась к Марин:
— Марин, у тебя случайно не найдется спичек?
— Да. А зачем? — Девочка вынула из кармашка юбки коробок.
Катрин взяла его, открыла, там было много обгорелых спичек.
— Зачем они тебе? — спросила Катрин.
— Зачем? Сама не знаю. Просто иногда ночью в темноте вдруг хочется зажечь, а после кладу обгорелую спичку назад в коробок, чтобы не сорить, не сердить маму. — Девочка усмехнулась. Но наступившее молчание… И эти трое, они окружили ее…
— Что? — Марин казалась растерянной. — Что-то произошло?
— Мы все видели! — начала Катрин. — Зачем ты это сделала?
— О чем вы?
— О ящерицах! О ящерицах, распятых на поляне!
— При чем тут я?
— Но ты видела?
— Да! Ну и что? И видела, как вы стояли на поляне!
— Почему же ты не подошла к нам?
— Я должна была подойти? Во что бы то ни стало?
— Ни у кого из нас троих нет спичек!
Марин повернулась и побежала в дом…
Дени, Катрин и Мадо все еще рассказывали о происшествии, когда в комнату вошел Мишель с этюдником, в заляпанной красками блузе.
— Кажется, проводится очередное судилище над Марин?
Перебивая друг друга, Катрин, Мадо, Дени начали рассказывать сначала. Анна, Поль, отец Анны вставляли какие-то свои взволнованные возражения и несвязные версии.
Мишель демонстративно зажал уши ладонями. Все примолкли.
— Значит, — Мишель воспользовался паузой, — спички были только у Марин?
— Да!
— Конечно!
— Тише! — Энергичным жестом юноша снова водворил тишину. — Но из этого совсем не явствует, что именно она выжгла траву и распяла ящериц! Кроме того, спички могли оказаться у Дени! После выжигания травы он мог выбросить коробок в лесу.
— Может быть, прочесать лес? — Поль заговорил иронически.
— Спички могли оказаться у Катрин! — продолжил Мишель. — Ведь она курит!
— Благодарю! — отозвалась Катрин. — У меня бензиновая зажигалка.
— А кто сказал, что траву выжгли именно с помощью спичек? — не растерялся Мишель.
— Короче! — Катрин скривила губы. — Ты хочешь сказать, что это сделала я?
— Я только хочу сказать, что можно подозревать не только Марин!
— Мы все так кипятимся, — зазвучал старческий голос отца Анны, — как будто расследуем убийство!
Анна поежилась.
— Я предлагаю, — Поль тяжело поднялся, — забыть об этом неприятном случае. В конце концов отец прав. Это не убийство. Марин была испугана не меньше, чем остальные. И незачем оскорблять ее! Забудем! И пора обедать! Дени, сбегай на кухню, скажи матери, чтобы подавала обед!
Но совсем забыть странное происшествие с ящерицами не удалось никому. Атмосфера какой-то гнетущей тревожности водворилась в доме. Эту атмосферу усугубляли споры о политике, в которые теперь втянулись Мишель и Катрин. Газеты доносили до загородного дома тревожные вести.
Марин помрачнела, замкнулась. Целый день проводила в своей комнате за книгой. Когда мать особенно допекала ее уговорами пойти погулять, девочка молча уходила одна в лес, она ни слова не говорила с Катрин, избегала Мадо и Дани и даже своего защитника Мишеля. Единственным ее приятелем оставался пес Мук.
Помогая матери, Дени заметил из окна кухни Марин и Мука, идущих по направлению к лесу. Он подумал, что ведь своим подозрением они обидели девочку, испортили ей летний отдых! Да, Марин — странная девчонка, но это совсем не значит, что она способна на такую бессмысленную жестокость. Она любит животных. Если бы можно было восстановить прежние отношения…
Дени выглянул из окна и дружески окликнул девочку:
— Привет, Марин!
Она обернулась.
— Привет, Дени!
И пошла дальше, сопровождаемая собакой.
Дени подумал, что с недавнего времени Марин обрела какое-то странное спокойствие, как будто ей все стало безразличным. Ни с кем не спорит, не острит… Странно…
А может быть, не отступаться, догнать ее, поговорить… Ведь жаль девчонку!
— Мама, я ухожу!
Но Барб решительно преградила сыну дорогу из кухни.
— Нет уж, сначала отбей баранину. У меня такие колики в сердце!
Только через полчаса Дени пошел в лес. Покружив немного, он вышел на ту самую поляну, где были распяты те самые ящерицы. И снова его сковал ужас… Он услышал звуки собственного голоса и слышал, что именно ему ответили…
Не разбирая дороги, спотыкаясь о выступающие корни, царапая лицо о колючие ветки, он бежал…
Марин вернулась домой поздно. И не обращая внимания на материнские упреки, спокойно сказала:
— Мук пропал! Я целый день ищу его!
— Завтра поищем вместе! — предложил Поль.
Но собаку так и не нашли.
В лесу Поль наткнулся на выжженную поляну. Она произвела на него странное мучительное впечатление мертвой земли. Он поспешил уйти.
А через несколько дней, когда Анна помогала Барб на кухне, они заметили, что пропал большой нож, исчез и топорик для рубки мяса.
Собравшись в очередной день на рыбалку, Дени обнаружил, что из сарая кто-то унес лопату, и ему нечем накопать червей.
— Надо все запирать! Все двери! — решила Анна. — Барб, проследите!
Но в глубине души угнездилась уверенность, что это сделал кто-то из домашних. Но кто? Что он замышляет? Анна не знала. Назойливо стучалась мысль: «Это Марин! Это она!»
«Боже! Неужели я способна подозревать собственную дочь, бояться своего ребенка?!»
Ночью Анне не спалось. Осторожно, чтобы не разбудить спящего Поля, она поднялась и, накинув шаль поверх ночной сорочки, вышла на веранду.
В темноте смутно мерцал огонек. Анне стало страшно. Но она взяла себя в руки. Конечно, это огонек сигареты!
— Катрин?
— Да, это я, Анна!
Женщины сидели рядом и молчали. Катрин продолжала курить.
— Катрин!
— Да.
— В сущности, я хотела поговорить с тобой.
— Говори.
— Ты помнишь то, давнее? Мать Поля… Ведь ты что-то узнала от нее?
— Не столько узнала, сколько сама домыслила логически.
— Я думаю, Катрин! Мне начинает казаться, что все это взаимосвязано!
— Что именно?
— Все! Те два платья и накидка из каких-то странных тканей. Ты, конечно, их помнишь! И портрет — портрет Мишеля! И то странное утро, когда я увидела Поля с какой-то женщиной! — Анна передернула плечами. — А перед этим мы провели с ним такую странную ночь! И эти несчастные ящерицы, исчезновение собаки — все, все связано между собой!
— Возможно. — Катрин выдохнула дым и снова затянулась.
— Ты говоришь так спокойно! Но вспомни, разве не ты намекала мне, да что намекала, почти открыто говорила, что появление в роду Поля того самого человека, того существа, изображенного на портрете, знаменует страшные события, несущие гибель всем в роду, кроме этого существа? А вспомни самоубийство бабки Поля!
— Ты в чем-то права. Но Мишель всего лишь обычный заурядный человек. Мне кажется… Мне кажется, Анна, что это твое определение «существо» можно скорее отнести к Марин!
Анна встрепенулась.
— Катрин, мы становимся смешными. Две матери. И каждая пытается обвинить ребенка другой. Трагикомедия!
— Ах, Анна, я тоже чувствую: все связано! Но как? Где та нить, ухватившись за которую мы выйдем на свет? Да, кстати, ты заметила, что Дени ходит как в воду опущенный? Парень нервничает. Это на него не похоже. Барб говорила, что он собирается вернуться в Париж. Я думаю, надо поговорить с ним!
— Ты права! Прости, Катрин, но я хочу спросить тебя: эта молоденькая Мадлен, ты давно знаешь ее?
— Нет, она в издательстве недавно. Приехала в Париж из провинции, откуда-то из Бордо… или нет, с моря, из Бреста… Не помню точно… Ты хочешь сказать, что мы и ее должны включить в число подозреваемых?
— Катрин, мы должны включить и самих себя. Мы никого не можем исключить. Мы все — под подозрением у самих себя. И неясно, что же мы совершили и что еще можем совершить!
Вечерело. Дени возился под навесом со своими рыболовными крючками. Почувствовав, что за ним наблюдают, он разогнулся и поднял голову. Катрин и Анна стояли, словно бы выжидая.
— Нам бы хотелось поговорить с тобой, Дени. — Анна подошла ближе.
— Твоя мать говорила, ты собрался в Париж? — подхватила Катрин.
— Да, мадам. — Он распрямился. — Я уезжаю через два дня. О чем вы хотите говорить со мной?
Помолчали. В воздухе разносилось тонкое зудение комаров.
— Как сыро, — тихо произнесла Катрин.
— Это из-за того, что река близко, — сказал Дени.
— Дени, — Анна робела, — нам кажется, тебе есть что сказать нам. Ты мог бы помочь нам.
— Я в этом вовсе не уверен, мадам.
— Так ты ничего не хочешь нам сказать? — тихо спросила Катрин.
— Ничего интересного, мадам.
— Что ж…
Обе женщины ушли.
Юноша снова занялся своими крючками. Лицо его было хмурым и замкнутым…
В столовой пробило на больших напольных часах полночь. Марин машинально считала удары.
Тишина.
Марин повернулась на правый бок, поудобнее пристроила том Монтеня. Она еще не хочет спать!
Вдруг ей сделалось не по себе. Темноту в незанавешенном окне девочка ощутила каким-то живым и враждебным существом. Вот-вот это существо примет очертания другого, еще более страшного существа.
Однажды в детстве такое уже было. И было здесь, в загородном доме. Пятилетняя Марин сидела одна в столовой. Летние сумерки перетекали в ночь. Девочка увидела возле часов смутный абрис женщины, детские глаза ухватили: козлиные шерстистые ноги, копыта, темные провалы глаз, темные длинные волосы, странная, какая-то «пустая» улыбка… Марин выбежала из столовой… После она почему-то ничего не рассказала взрослым, никак не объяснила им свой испуг. И они не придали особого значения обычному детскому приступу необъяснимого страха.
И сейчас Марин, охваченная страхом, откинула книгу на постель и выбежала в коридор. Здесь было не так страшно. Марин глянула в настенное зеркало. Теперь страх был легкий и перемешанный с удивлением. Какая она! В этой белой сорочке, с всклокоченными волосами, с этими темными провалами глаз! Ведьма! Но это она! Она узнала себя! Она не больна. Нет никакого раздвоения личности, никакого неузнавания себя!
Девочка прошла по коридору. Дверь в комнату Мадо была незаперта. Марин осторожно поскреблась ногтем. Хорошо бы немного поболтать с Мадо перед сном. Это прогонит все страхи. Марин решилась и чуть приоткрыла дверь. Никого нет. Марин постояла, подождала, Мадо не возвращалась. Марин снова ощутила страх. Все эти ужасные происшествия. Эти ящерицы. Исчезновение Мука. Тогда в лесу пес вдруг кинулся прочь с громким лаем. Она бегала, искала, звала Мука. И странно, ей казалось, — нет, это так и было! или все же казалось? — будто она движется по кругу и не может отойти, не может свернуть!
Послышались тихие голоса. Женские. Вроде бы знакомые, но какие-то жутковатые. Подслушивать всегда неприятно, но, кажется, у нее нет другого выхода.
Голоса шли из-за приоткрытой двери Катрин. Странно, и Катрин не прикрыла свою дверь.
— Девочка моя!
— Катрин!
— Тебе хорошо?
— Ах, еще, еще!
— Ныряй ко мне под сорочку, голенькая!
— Ты царапаешь меня, Катрин!
— Это раны любви, глупышка!
— Ах… А… А-а!..
Собственное любопытство было неприятно Марин. Но она не сдержалась и заглянула в дверь.
Голые, растрепанные, сплелись голыми ногами, как лягушки лапами! Фу!
Марин, не оборачиваясь, рванулась по коридору, захлопнула свою дверь, выключила свет, плашмя кинулась на постель, столкнув книгу на пол. Сердце колотилось…
Катрин потянулась за сигаретой.
— Это была девчонка, — произнесла Мадо, в ее тонком голосе звучали страх и неприязнь.
— Да. — Катрин спокойно курила, обняв одной рукой хрупкую Мадлен. — Но даже если она и скажет что-нибудь, ей не поверят!
Мадлен промолчала.
— Ты очень странная, Катрин! Очень сильная! Иногда мне кажется, ты способна на преступление!
— Возможно, такими были женщины с древнего острова Лесбос. Например, поэтесса Сафо!
— Ты умная! Но мы должны были прикрыть дверь!
— Меня нервирует эта обстановка, эта всеобщая слежка друг за другом, эта подозрительность! Я знаю то, что я знаю! И знаю, что не следует бросать вызов судьбе!
Катрин мрачным, почти мужским взглядом смотрела перед собой. Ее сильные пальцы сжимали нежное плечо девушки…
За ужином Мишель сказал, что Дени уехал в Париж вечерним поездом.
Анна опустила вилку.
— Он уехал вместе с Мадо? — громко спросила Марин и пристально посмотрела на «тетю Катрин».
— Почему ты так решила? — Поль приподнял брови.
— Потому что ее нет! Очень просто! Может быть, Катрин знает, где она?
Анна тоже была удивлена. Почему отсутствие Мадо не волнует Катрин? Или нет… Катрин подавлена, нервна, она, кажется, что-то скрывает… Нет, Катрин не союзница!
— Надо пойти поискать Мадлен! — решил Мишель.
— Ты никуда не пойдешь! — крикнул Поль. — Пусть ищет полиция! Дело явно пахнет чем-то скверным! Катрин, когда ты в последний раз видела Мадлен?
— Тогда же, когда и все остальные, за обедом! — резко ответила Катрин. — И прошу не устраивать домашних расследований в духе плохих детективных романов!
Она бросила салфетку и выбежала из-за стола.
В столовую, ломая руки, вбежала неуклюжая плачущая Барб. Слезы крупными горошинами катились по ее полным отвислым щекам.
— Девушка!.. Вашу девушку нашли в реке. Ах, господи! Должно быть, полиция сейчас будет здесь!.. Хорошо, хоть мой Дени успел уехать!
— Дени здесь не при чем! — заявил Мишель.
— Здесь может оказаться при чем каждый из нас! — Анна с тихой твердостью поднялась из-за стола.
Полицейский следователь и деревенский врач осмотрели тело девушки.
— Я бы это назвал «никаких следов насилия», — резюмировал медик. — Такое ощущение, будто она сама легла на воду вниз лицом и просто-напросто перестала дышать.
— Ее так и нашли в реке местные парни-рыболовы. Плавала кувшинкой на воде.
— Это нельзя назвать естественным!
— Какова же ваша медицинская версия?
— Я не могу найти естественных объяснений для неестественного!
— А эти царапины?
— Вы легко обнаружите подобные у вашей супруги или, простите, у любовницы.
— Она, стало быть… То есть, вы хотите сказать, вскрытие показало, что она не девица?
— Во всяком случае, перестала ею быть. Впрочем, полагаю, это произошло не в это лето! — Врач хохотнул. — Провинциалка в Париже! Наверняка, любовное разочарование!
— Кажется, здесь на нее глаз положил один бывший местный парень, Дени!
— Ну, это не объясняет ее странной смерти.
— Однако следует допросить его.
Узнав о том, что Дени уехал вечером в день гибели девушки, следователь окончательно уверился в том, что Дени следует задержать.
Дени был задержан в Париже и привезен обратно в деревню. Барб заливалась слезами.
— Еще бабушка-покойница меня предупреждала: «У этих Л. в семье нечисто!» А я-то дурочка!..
Были допрошены Катрин, Дени, парни, обнаружившие труп Мадлен. В сущности, ни у кого не было алиби! Но заключение врача лишало смысла любой вариант судебного расследования. Смерть девушки не была насильственной. Самоубийство! Впрочем, оставалась еще загадка того, каким образом Мадлен удерживалась лицом вниз на поверхности воды. Отсутствовали и многие другие признаки утопления. Но это уже могло заинтересовать медицину, но не полицию! Впрочем, деревенский врач удовлетворился тем, что признал свои познания ограниченными. Тело Мадлен пока оставалось в морге. У девушки не оказалось родных, кроме тетки, очень старой женщины, кажется, святоши и нелюдимки.
За окном равномерно шумел дождь. В гостиной собралась вся семья. Все были подавлены случившимся. Особенно Катрин. На ней лица не было. Марин тоже сидела насупленная. Пристроившись у лампы, Мишель что-то набрасывал в своем альбоме. Старик, отец Анны, и Поль играли в шахматы, подолгу обдумывая ходы. Всем непривычна была Анна, сидевшая, безвольно опустив руки на колени, без всякого дела, без шитья, вышивания или вязанья. Было уже не рано. Но сегодня вечером семья Л., казалось, опасалась разойтись — каждый к себе.
— Так дальше не может продолжаться! — раздался в тишине, нарушаемой лишь плеском дождевых струй за окном, голос Анны. — Мы должны начать говорить правду! Мы все чего-то не досказываем, не договариваем!
— Анна, если бы ты знала, о чем ты просишь! — Катрин была совсем сломлена.
— О правде, Катрин!
— Правду знаю я! — хрипло произнесла Марин.
В глазах Катрин заплясали злобные огоньки.
Марин выдержала ее взгляд.
Мишель не отрывался от альбома.
— Правда заключается в том, — неестественно резким голосом заговорила девочка и вдруг резко осеклась, но, справившись с собой, продолжала: — правда заключается в том, что Катрин, «тетя Катрин», — она иронически усмехнулась, — Катрин — гомосексуалистка! Мадлен была ее возлюбленной! Я это видела. Ночью!
— Марин! — воскликнула Анна.
— Уж не хочешь ли ты сказать, что шпионила за Катрин, девочка моя? — протянул дед.
— Я не шпионила, — ответила Марин с неожиданным спокойствием, — я читала ночью в своей комнате. Вдруг испугалась. Наверное, это случилось от темноты и одиночества. Я выбежала из комнаты и постучалась в комнату Мадлен. Да, я заглянула. В комнате было пусто. Из комнаты Катрин доносились голоса. Она и Мадо были там. Все!
— Я не убивала Мадлен! — сказала Катрин. — Я бы не хотела говорить правду. Но я скажу. Прежде всего: то, что сказала Марин, верно. Но я не убивала Мадлен.
— Катрин, — вступила Анна, — я помню твое странное спокойствие, когда обнаружилось, что Мадлен исчезла, не пришла к ужину. Ты была спокойна. И в то же время чем-то испугана, подавлена. Почему?
— Мне тяжело говорить, Анна! — Катрин замолчала. — Ты помнишь, каким подавленным и испуганным казался нам, мне и тебе, Дени? Помнишь, как мы пытались расспрашивать его? Я понимаю теперь, что Дени видел то же, что видела я! Поэтому он молчал. — Она обернулась к сыну: — Мишель, позови Дени. Возможно, на это раз он заговорит!
— Нам просто нужно уехать отсюда! — Мишель поднялся. — Мы сходим с ума! Я должен бежать, тащить сюда Дени, которому, должно быть, и так не по себе после допроса в полиции. И почему только все мнят себя домашними детективами, этакими Шерлоками Холмсами?
— Мишель, я прошу тебя, — Поль говорил с неожиданной мягкостью.
Мишель посмотрел на отца.
— Иду! Но если в ближайшие дни вы не уедете отсюда, уеду я!
Все молча ждали, когда придут Мишель и Дени.
В прихожей Мишель схватил черный зонтик, раскрыл его, выбежал из дома и, пригнувшись, быстро пошел к пристройке, где жили Барб и Дени. Маленькие окна пристройки светились. А вокруг была темнота, заполненная дождем…
Когда Барб узнала, что Дени зовут в дом, она было принялась говорить Мишелю, что сын устал и отдыхает. Мишель кивал. Но тут из соседней комнаты вышел Дени, потягиваясь (он и вправду дремал), и согласился идти с Мишелем. Барб засуетилась и все пыталась надеть сыну на шею какой-то шнурок.
— Что это? — полюбопытствовал Мишель.
Барб показала.
Это оказалась золотая таблетка с рельефным изображением мадонны.
Дени внезапно почувствовал какую-то неловкость за мать, этот шнурок, эти причитания о кознях дьявола. Ну не будет же он, какой-никакой, а уже парижанин, уподобляться старой суеверной деревенской женщине! Дени раздосадовано отвел руку матери.
— Ни к чему это мама! Посмотри, ведь у Мишеля ничего такого нет!
— Может, Мишелю и не надо беречься! Может, его и без того берегут!
— Не надо этих пустых разговоров, мама! Я скоро вернусь!
Барб подала сыну дождевик.
Она стояла на пороге и вглядывалась в дождь, пока две юношеские фигурки не отдалились в сторону дома…
Дверь открылась. Все разом вздрогнули. Мишель и Дени вошли в гостиную.
— Итак, — насмешливо начал Мишель, — заседание судебной коллегии продолжается! Свидетель доставлен!
— Мишель, это не смешно! — крикнула Катрин.
— Свидетели, они же и подозреваемые, несколько истеричны; поэтому, дамы и господа, прошу прощения за некоторую эмоциональность!
— Садитесь, Мишель и Дени. — Поль сурово посмотрел на сына. — И пусть говорит Катрин. Что ты хотела сказать, Катрин?
Юноши присели у стола. Катрин стояла, опустив руки, видно было, что она заставляет себя говорить.
— Слушайте. И заранее прошу у вас прощения. — Катрин наклонила голову и продолжала, глядя в пол: — В тот день мы с Мадлен решили искупаться. Как обычно, впрочем. Мы немного поплавали, затем прилегли на песке. Я задремала. А когда очнулась, меня поразило, что вокруг стоит странная, давящая какая-то тишина. Тело словно свинцом налилось. Я с трудом подняла голову, подперлась локтем. Тишина была страшной. И воздух струился густым маревом.
— Я помню тот день, — перебил мать Мишель, — я не заметил ничего подобного. А ты, Дени?
— Я хотел бы дослушать!
— И я… — Катрин нервно скрестила пальцы, — я увидела Мадлен! Она медленно шла к воде в своем купальном костюме, в том самом, в котором ее нашли. Так медленно, будто плыла по воздуху. Я раскрыла рот, хотела окликнуть ее, но осязаемый, плотный воздух забился мне в горло, заполнил рот. Появилась потребность резко выдохнуть, что я и сделала. Но я не сводила глаз с Мадлен. Она вошла в воду и секунду держалась на воде, словно бы на гладкой поверхности, потом ее тело начало клониться, и вот она уже лежала на воде вниз лицом. Я не могла броситься к ней, не могла позвать на помощь…
Катрин скрестила руки на груди. Старик, отец Анны, сидел задумчивый и спокойный. Казалось, он думал о чем-то занятном и не имеющем отношения к реальной жизни. Поль страдальчески нахмурил брови. Анна была очень бледна. Марин, напряженно вскинув голову, смотрела в темное незанавешенное окно, в дождь. Дени, мрачный, слушал Катрин. Ироническое и чуть растерянное лицо Мишеля выделяло его из всей группы. Катрин внезапно глубоко вздохнула и продолжила:
— Медленно рассеялась давящая тишина. Я почувствовала, что могу двигаться более свободно. Я хотела побежать к воде. Но, подняв голову резко вверх, я увидела…
В несколько широких шагов Мишель пересек комнату и встал рядом с матерью.
— Я увидела Марин! — докончил он раздраженно и с недоброй насмешкой. — Ну, я верно угадал? Верно?! Что происходит, мама?
Катрин сильно вздрогнула, Мишель обычно избегал называть ее «мама».
— Не надо этих театральных эффектов, мама! Ты убила девушку? Я не спрашиваю, зачем! При той жизни, которую ты ведешь, ответ на такой простой вопрос заведет тебя бог знает в какие дебри неестественности! Я знаю одно: мы все должны уехать отсюда! И мне бы не хотелось встречаться с тобой!
Первым побуждением Катрин было: кротко склонить голову еще ниже, тихо пойти к себе, собрать чемодан и ускользнуть в ночь. Но горделивость одержала победу над смирением. Когда сын замолчал, Катрин несколько секунд выжидала. Эти секунды показались всем, кто находился в комнате, какими-то невыносимо долгими. Мишель не был готов к этому внезапному молчанию матери. Откровенно говоря, он ожидал какой-то иной реакции: вспышки гнева, например, или каких-то лихорадочных оправданий.
— Ты мне позволишь докончить? — Катрин язвительно обернулась к Мишелю.
Юноша нервно передернул плечами.
— Итак, — спокойно продолжила Катрин…
Дождь за окном усилился. Шум тяжелых струй, казалось, вот-вот заглушит голоса.
Разумеется, спокойствие Катрин было мнимым, вымученным. Она посмотрела на Анну и всхлипнула.
— Мне все — все равно! Да! Да, Мишель! Я видела Марин! Да! Да! Да! — Катрин перестала владеть собой. — Анна, прости меня! Она… Она стояла на берегу, в кустах, довольно высоко… Она была в золотистом платье! Ты понимаешь меня, Анна!.. Мне, мне было страшно смотреть на нее!.. Я не могу описать этого страшного выражения ее глаз — темные глубокие провалы вместо глаз!.. Вы все можете не верить мне!.. Я схватила свою одежду и бросилась бежать! Я решила тогда, что буду молчать…
— Вероятно, сейчас ты выполняешь именно это свое решение! — холодно заметил Мишель.
— Я все сказала!
Марин равнодушно смотрела в окно.
— Катрин все сказала нам, — зазвучал чуть дрожащий голос Поля, — а теперь я бы хотел услышать Дени!
В эту минуту Дени выглядел мужественным и сильным.
— Я говорить не буду. Все, что я увидел тогда, в лесу, я записал. Поэтому сейчас я просто сбегаю, принесу тетрадь.
— Я с тобой! — Мишель и сам не понимал, почему вдруг какое-то странное чувство тревоги не дает отпустить приятеля одного.
— Нет, пусть Мишель останется! — произнесла Катрин почти со злобой. — Он не верит! Вернее, не хочет верить! Он способен уговорить Дени изорвать записи.
— Останься, Мишель, — тихо проговорила Марин. — Меня уже никто не защищает, никто не верит мне! Я совсем одна. Останься!
— Сумасшедший дом! — Мишель сел и несколько демонстративным жестом схватился за голову.
— Не забудь дождевик, Дени! — крикнула Анна.
Эта заботливость, такая обыденная, всем вдруг показалась неуместной до смешного. На лица выплыли невольные усмешки…
Укрывшись плащом с головой, Дени выскочил под дождь. Окна пристройки светились: мать не ложится, тревожится за него! Он пробежал несколько шагов, споткнулся, вытянул вперед руки… Что-то острое, резко блеснувшее, взметнулось с земли…
Анна лихорадочно размышляла. Нет, не надо предупреждать… Она сама…
— Это невозможно — так терзать себя! Я сварю кофе!
Не дожидаясь реакции остальных, Анна поспешно покинула комнату.
Прошла по коридору. Свернула… Кладовая!.. Темно!.. Анна побежала в спальню, быстро перебрала какие-то брошенные на столике предметы. Вот он, карманный фонарик Поля! Она бросилась назад в кладовую. Откинула крышку сундука. Сейчас! Ведь она совершенно точно помнит: портрет лежал сверху! Сверху! А снизу — плащ и платья! Свет! Неестественно замерцали странные ткани! Сверху было брошено золотистое — цвет солнца! Оно скрывало лицо портрета!
Анна двигалась, как человек, уже уверившийся в том, что он обречен, и спокойно относящийся к своей обреченности. Аккуратно сложила платье и накидку-плащ, сверху уложила портрет. Лицо мальчика, такое славное, обыкновенное, лицо Мишеля, успокаивало. На мгновение Анна замерла: некто не следил за ней? Прислушалась… Нет!
В кухне Анна приготовила кофе, поставила чашки и кофейник на поднос. Потом, чуть поколебавшись, поставила блюдо с печеньем.
— Прости, Дени, я прерываю тебя… — начала Анна, входя.
— Мальчик еще не вернулся, — сказал ее отец. — Спасибо, Анна. Давайте и вправду выпьем кофе!
— Это странно, что он так долго! — Мишель прихлебнул горячий напиток и хрустнул печеньем.
— Прошло меньше десяти минут! — Катрин сняла чашку с подноса. — Возможно, он просматривает свои записи. Может быть, что-то вымарывает! — Она искоса глянула на Мишеля.
Сын не смотрел на нее.
— Если бы я была на его месте, — равнодушно начала Марин, — я бы сейчас просто собрала чемодан и убежала бы на станцию!
— Такой вариант не исключен! — Поль попытался улыбнуться дочери, но улыбка вышла болезненной.
Внезапно Катрин поднялась.
— Куда ты? — Мишель подался вперед.
Но Поль и старик прыснули. Мишель смутился и по-детски покраснел.
Анна почувствовала, что кофе обжег ей губы… Карманный фонарик Поля!.. Наверняка Катрин пошла в кладовую, она ведь знает, что там хранятся платья и накидка! Анна порывисто поставила чашку на поднос и побежала в коридор. У двери в кладовую она столкнулась с Катрин. Та молча протянула ей карманный фонарик. Анна почти выхватила его.
— Что тебе нужно, Катрин? Я — мать! И… мы ведь ничего не можем сказать! Мы ничего не знаем! — Ее несвязные слова будто ударились о молчание Катрин и сникли, повяли…
— Анна, ты ходила в кладовую! И ты поняла, что Марин надевала платье!
— Платья лежали не так, как я их уложила! Это я готова признать! Но ты… Ты уверена, что видела именно Марин?!
— Это была она!
— Ты хочешь сказать, что она — убийца?!
— Нет! Потому что она не убивала Мадлен теми способами, которыми обычно убивают. И все же она причастна к смерти Мадлен. Но объяснить я ничего не могу!
— Думаю, и Марин ничего не сможет объяснить. Она ведет себя совершенно естественно.
— Мы запутались!
— Возможно, записи Дени что-то прояснят… — В голосе Анны не было уверенности…
Они ждали уже более получаса.
— Парень сбежал! — Отец Анны улыбнулся с каким-то странным удовлетворением.
— Я иду к Барб! — Мишель уже распахивал дверь в коридор.
— Подожди! — крикнул Поль с неожиданной тревогой.
— Подождем еще, — сдержано уронила Катрин, она говорила мягко. Прошло еще минут пятнадцать…
Истошный женский вопль, полный исступленного отчаяния, протяжный, перешедший в какой-то захлебывающийся слезный вой, заставил всех вскочить.
Как были, без плащей, без зонтов, они кинулись наружу.
Дождь не переставал.
Неподалеку от дома выло, рыдало и билось странное бесформенное существо…
Это была Барб, рухнувшая на тело своего сына Дени!..
Поль и Мишель с неимоверным трудом оторвали несчастную мать от трупа сына. Она не подымалась, им пришлось волочить ее по земле…
Тем самым карманным фонариком, которым только что освещала странные ткани и портрет, Анна высветила мертвого юношу. Страшная кровавая зияющая рана почти отделяла его голову от туловища. На земле валялась коса…
Измученная ночной страшной суматохой, Анна боролась с дремотой у стола в гостиной. Катрин, Поль и Мишель были в пристройке у Барб.
Чье-то прикосновение заставило ее широко раскрыть глаза. Прикосновение было знакомым, но каким-то полузабытым. Марин робко коснулась локтя матери, почти свисающего со стола.
— Что, дочурка? — спросила Анна, усталая, убитая.
— Мама! — Марин громко шептала: — Мама, я боюсь! Я… Сейчас я шла мимо зеркала, — она с неподдельным испугом глянула на дверь, — и я… я увидела свое отражение! Но, мама!.. Я не могла его увидеть! Я еще не поравнялась с зеркалом! А отражение уже было! И это было мое лицо! Я боюсь! — Эти последние слова девочка прошептала совсем по-ребячески беззащитно.
Анна не стала успокаивать, разубеждать дочь, только усадила рядом с собой и крепко обняла… Марин прижалась к матери и снова зашептала:
— Мама! То, что случилось с Дени!.. Я ведь и раньше видела эту косу. Он скашивал траву на лужайке перед домом. Но… то, что она вдруг оказалась на его пути… вряд ли это случайно!
— Земля сильно размокла от дождя… Он наступил…
— И ты думаешь, коса поднялась и лезвие ударило его в шею? Это могло быть? Ты думаешь?
— Ах, я ничего не знаю, Марин! Пусть в этом разберется следователь!
— Мама, давай уедем! Мама!
— Солнышко! Я тоже больше всего на свете хочу уехать отсюда и никогда больше не возвращаться сюда! Но ведь сейчас нельзя! Как мы можем оставить несчастную Барб! Похороны! Приедут старшие братья Дени! — Она тихо заплакала.
Тетка Мадлен решила, что девушка должна быть похоронена на местном сельском кладбище.
— Это странно! — заметил Поль.
Он, Мишель и Анна наспех обедали. Они чувствовали, что очень проголодались, и в то же время как бы стыдились того, что не потеряли аппетит.
— Не так уж это странно! — Мишель, низко наклонясь, вытирал кусочком хлеба тарелку из-под рагу, прежде чем положить на нее сыр. — Я и не полагал, что бедную девчонку увезут в фамильный склеп! Такового, по всей видимости, не имеется!
— А впереди у нас еще похороны Дени! — Анна откинулась на спинку стула.
— А впереди у нас, — Мишель произносил почти раздельно, и очень четко, — впереди у нас — отъезд отсюда навсегда!.
Господин Буасье из местного полицейского управления пытался проанализировать ситуацию. Откровенно говоря, ему не так уж часто приходилось заниматься расследованием преступлений. В тех считанных убийствах, которыми ему довелось заниматься, расследовать было нечего: муж из ревности пырнул ножом неверную супругу; в драке пьяных поденщиков один был убит. Все ясно! Как на ладони! Но все истории в семействе Л.!
В деревне старожилы рассказывали, что когда-то эти Л. были маркизами, им принадлежал замок, который сгорел в XVIII веке! Как-то так сложилось, что титул перешел к боковой ветви. Да, эти Л. не сохранили свой титул!
Буасье ущипнул себя за ус и насвистел короткую мелодийку на мотив «Все хорошо, прекрасная маркиза!»
Допустим, смерть девчонки — самоубийство. Но зачем? Почему? Кто-то довел ее? Например, эта Катрин замечает, что ее протеже (он хмыкнул), как бы это поточнее, изменяет ей с Дени. И попреками доводит девчонку до самоубийства. Да, но как быть с мнением доктора о странности этого самоубийства? Впрочем, сельский лекарь, можно ли его считать таким уж авторитетом!
Значит, доводит до самоубийства! Так!.. А парень?.. Явно несчастный случай! Ну, попробуем мыслить логически! Дени расстроен, растерян. Ему жаль Мадлен. И, кроме того, он боится, что его заподозрят. Из-за всех этих неприятностей он забывает убрать косу. И вот — несчастный случай! Логично!..
И вдруг Буасье пришла в голову довольно странная, хотя также логичная догадка: их кто-то убрал, парня и девчонку! Но кто? Буасье вовсе не был трусом. Но сейчас у него возникло ощущение: лучше держаться от этого дела подальше! Тем более, что формально нет никаких поводов вгрызаться во все это. Безупречное чувство, инстинкт самосохранения, подсказывало, что лучше держаться подальше!..
Буасье посмотрел на лежавший на столе протокол вскрытия тела Дени и машинально вновь засвистел «Прекрасную маркизу»…
Откуда это новое ощущение, будто не он сам логически (подчеркиваю: логически!) решил, что надо держаться подальше, а кто-то ему это внушает, грубо вбивает в голову?
Нет, чушь! С этой семейкой Л. можно сойти с ума!
— Все хорошо, прекрасная маркиза!.. Все хорошо, все хорошо!..
Тетка Мадлен, худая, высокая, в длинном черном платье, в шляпке с густой темной вуалью, казалось, явилась из монастыря XVII века, с его понятиями о чувстве долга и стойкости духа.
Она отказалась ночевать в доме, где гостила покойная племянница, и остановилась в небольшой местной гостиничке.
Мишелю, отправленному к ней «для переговоров», она явно и твердо дала понять, что не желает присутствия кого-либо из его семьи на похоронах Мадлен. Никто, впрочем, не обиделся. Все сочли, что этой женщине вполне могут быть неприятны люди, как бы не сумевшие уберечь ее молодую родственницу.
На следующий день хоронили Дени. Отчаянный плач его матери, молчаливое горе старших братьев. Они сказали Анне, что на время увезут мать. Анна удивилась деликатности этих простых людей. Они извинились перед ней за то, что ей теперь придется самой справляться с домашним хозяйством.
В церкви служили мессу. Заплаканную Барб под руки повели, усадили в скромный автомобиль Поля. С ней сели оба ее старших сына. Поль повез их всех на станцию.
— Мама! Мишель! Я хочу вам что-то сказать! Идемте! — Марин тянула за руку Анну в черном платье. — Это важно! Я знаю, что это важно!
Девочка тащила их за руки на дальний конец лужайки перед домом. Она казалась очень возбужденной, и это не нравилось ее матери и брату.
— Не надо так возбуждаться, Марин. Успокойся! Ну вот, дальше мы не пойдем! Говори! Что ты хочешь нам сказать?
— Я хочу сказать о тетрадке! О тех записях Дени! — Она сглотнула. — Ведь он не смог принести эту тетрадку! Но она, конечно, существует! А вдруг Барб увезла ее! Нам надо обязательно найти эту тетрадку! Мишель! У тебя есть ключ, мама? Надо обязательно найти! Может быть, тогда мы все поймем!
— Успокойся, Марин! — Мать осторожно пригладила растрепанные волосы дочери.
— Она права! — сказал Мишель. — Я и сам удивляюсь, как мы могли забыть! Хотя, впрочем, смерть — это такая скверная штука!.. Они не увезли вещи Дени. Я думаю, что найду эту тетрадь. Но, конечно, нам нужен ключ!
Анна поспешно вынула из сумочки связку ключей.
— Я отлично помню, что сыновья Барб оставили мне ключ от пристройки! Но где же он?
— Мама, ты где-нибудь оставляла эти ключи? — спросила Марин.
— Я… не помню!.. Могла оставить… Этот ключ от пристройки Барб… Он не мог соскользнуть…
— Надо его найти, — сказал Мишель.
— Он может и не найтись! — пробормотала Марин и пугливо огляделась по сторонам.
— Ну, сестричка! — Мишель ободряюще подмигнул девочке. — Даже если ключ потерялся, я открою окно и влезу.
— В самом крайнем случае можно взломать дверь, — нерешительно произнесла Анна.
— Пока надо поискать ключ! — Мишель стоял прямо против солнца и невольно прищурился. Эта лужайка, освещенная ярким летним солнцем, была такой реальной и простой. Мишелю показалось странным: как сосуществуют с этой простотой те странные события, та пугающая жизнь, которую в последнее время ведет их семья.
Анна серьезно отнеслась к поискам ключа. Осматривали комнаты, копались в шкафах и комодах. Ключа от пристройки Барб не обнаруживалось. Анна сообразила, что ищет хаотически, бессистемно. Стала вспоминать, что было после того, как один из сыновей Барб отдал ключ. Ничего особенного не произошло. Ровным счетом ничего!
— Поль! — Анна решительно вошла к мужу. — Исчез ключ от пристройки, где жила Барб!
— Он мог потеряться. Ты могла слабо закрепить его на кольце для ключей!
— Поль, после всего того, что было, я вижу лишь одно объяснение: ключ украден!
— Но какой смысл… — Поль осекся.
Он все понял!
— Ключ украден, потому что в пристройке — записи Дени!
— Разумеется!
— Но я опять теряю смысл! Ведь можно открыть окно, взломать дверь наконец!
— Мишель так и сделает. Но пока записи, вероятно, находятся в пристройке. Ключ украден для того, чтобы оттянуть время.
— Допустим! Но, Анна, как ни странно, это даже успокаивает меня.
— Прости! На этот раз я не понимаю тебя.
— Милая, но ведь эта кража ключа с очень простой целью — чтобы подольше не входили в пристройку — ясно доказывает: преступление совершено обычными людьми.
— Но почему ты так подчеркиваешь голосом это «обычными людьми»? — Анна говорила немного смущенно.
— Потому что мне кажется, и ты, и Катрин, вы обе почти уверены в том, что всем этим трагическим событиям нет реального объяснения.
— Будем откровенны друг с другом! — Анна села. — Начнем с этих ужасных распятых ящериц. Дени, Мадлен и Катрин нашли их на поляне. В кустах они видели Марин. Но… я не думаю, что это действительно была она! Смерть Мадлен была странной. Врач утверждает, что впечатление такое, будто девушка сама, по своей воле перестала дышать. И то, что она держалась на воде. Это неестественно!
— Врачу могло просто не хватить знаний для точного определения причины смерти Мадлен.
— Но, Поль, подобные псевдообъяснения превращают жизнь в какую-то цепь бессмысленных случайностей.
— А разве жизнь и в самом деле не такова?
— Дорогой, не будем сейчас увлекаться отвлеченной философией. В нашем случае трагических случайных совпадений слишком много!
— И, по-твоему, это означает, что мы должны воскресить в себе дикарскую веру в сверхъестественное?
— Марин видела в зеркале свое отражение, но она еще не подошла настолько близко, чтобы отражаться в зеркале.
— Марин просто испугана и взвинчена.
— Катрин утверждает, что видела Марин высоко на берегу, в момент смерти Мадлен, на Марцн было золотистое платье.
— Снова платья! Платья, накидка, портрет!
— Поль, я уложила платья и накидку в сундук. Портрет лежал сверху. Как только Катрин сказала о платье, я побежала в кладовую. Сундук кто-то открывал!
— Но для преступника целесообразно было бы привести все в прежний порядок.
— А если не было времени?
— Тогда это обычный человек.
— А если преступники хотели, чтобы подозрение пало на нашу дочь?
— Ты подозреваешь Марин?
— Поль, иногда мне кажется…
— Нам надо уехать! Как можно скорее!
— Это разумно.
Анна пошла в деревню пешком, купить консервов к ужину. На обратном пути решила заглянуть на почту. Почтальон сказал, что она зашла очень кстати. Для Поля есть письмо! Может быть, мадам Л. возьмет его сейчас. Анна охотно взяла письмо. Оно было адресовано в их загородный дом, Полю. Отправителем оказалась некая Жюли К. Интересно, кто это? Поль никогда не давал жене поводов для ревности.
— О, если бы это письмо никакого отношения не имело ко всему тому ужасному, что произошло! — Анна невольно произнесла это вслух…
Открыть дверь в пристройку оказалось легко. Мишель воспользовался обычной отверткой. Здесь еще ощущались чистота и уют, на которые еще не наложила свой когтистый отпечаток происшедшая катастрофа. Прежде всего Мишель раскрыл ящики старого пузатого комодика. Безупречно чистое белье… Сонник… колода карт для гадания… Старые кружева… Никакой тетради не было! Не нашлась она и в чемодане Дени. И на полке над ею кроватью тетради не оказалось…
Мишель задвинул ящики. Вышел, прикрыл за собой дверь.
Возможно, никакой тетради, никаких записей просто не существовало! Дени, вероятно, надоела вся эта цепь трагических нелепостей. Он решил уехать, никого не предупредив. Тетрадь была выдумкой. Что ж, он, Мишель, понимает Дени. Пожалуй, на его месте Мишель поступил бы точно так же. Все равно они все скоро уедут отсюда!
Этот отъезд был таким желанным, что на миг показался юноше каким-то ирреальным.
Поль никогда не любил анализировать события. Вить из фактов логические цепочки — это его утомляло. Он был совершенно уверен в том, что семья оказалась в водовороте трагических случайностей. Но скоро они уедут отсюда! Вероятно, надо прекратить отношения с Катрин. Мишель помирится с ней, но в семью Поля она более не войдет! Это желание Анны быть доброй во что бы то ни стало! Это иногда просто нелепо и тяжело! А если Мишель тоже больше не захочет общаться с матерью? Ну, это его дело! Он уже взрослый. Однако, ужасное лето! После такого «отдыха» жаркий летний Париж покажется блаженной обителью.
Опираясь на трость, Поль дошел до середины лужайки. Внезапно ему в голову пришла мысль: хорошо бы полежать на траве! Как давно он этого не делал! Осторожно вытягивая негнущуюся ногу, он сначала сел, затем прилег, положил рядом трость, закинул руки за голову… Эти простые действия дались ему не так-то легко. После того, как тогда, давно, вечером, в сумерках, его сбила машина… Каким он был тогда нервным, ему казалось, что разрыв с Анной — самое ужасное, что может произойти в его жизни! Но с тех пор, как Анна вернулась, он обрел какую-то уверенность в себе и в окружающей реальности. И можно ли полагать, что она пожалела его, калеку? Нет! Сколько ночей они с той поры провели вместе! Он чувствовал, что жена получает наслаждение от близости с ним. Он не обманывался! И он сам! Это обоюдное наслаждение стало острее, слаще, чем до его увечья!..
Что-то пощекотало его щеку. Муравей! Он осторожно повернул голову. Ящерица проскользнула…
Ах, это нынешнее лето!.. Кажется, все началось с каких-то распятых ящериц на поляне. Но в жизни бывают совершенно странные ситуации. Например, у совершенно здорового человека может возникнуть галлюцинация. Такое однажды случилось и с ним. Позднее он даже обратился к психиатру, рассказал об этом странном случае. И оказалось, что эпизодические расстройства могут быть и у здорового человека. И правда, больше никогда не происходило ничего подобного. И как хорошо, что Анна в конце концов все поняла! У нее хватило такта, она больше не спрашивала…
В то далекое утро Поль проснулся в их маленьком парижском гнезде, в гостиной, у пианино. Он уснул одетый. Сон, впрочем, освежил его. Но, боже! Как объяснить Анне? Она ждала его? Возможно, она не заснула. Возможно, выходила из спальни, видела его в гостиной, решила, что он нарочно избегает ее. Он так холодно говорил с ней, когда она нервничала из-за этих платьев и портрета! Но ведь они помирились! И надо же, ведь вчера она как раз надела одно из этих платьев, серебристое, лунное! Конечно, хотела доставить ему удовольствие! А он?..
Поль вошел в спальню. Анна ни о чем не спросила. Они оба чувствовали себя как-то неловко. Поль отложил объяснение на вечер. Анна ушла провожать своего отца. Поль заспешил, стал искать ключи от машины. Нашел. Затем быстро вошел в спальню — взять чистый носовой платок…
На постели лежала, вытянувшись, молодая женщина, она прикрылась одеялом, но груди были открыты, длинная, тонкая, темные волосы всклокочены, глаза впалые темные. Она глядела как-то бессмысленно, словно слабоумная. Как она прошла в дом? Впрочем, совсем просто — через незапертую калитку! Возможно, она просто бежала из психиатрической больницы. Поль ощутил испуг, но это был вполне конкретный страх. Больная женщина могла напасть на него. Иногда такие больные могут отличаться необычайной силой. Но случилось совсем другое.
Поль хотел позвать соседей, чтобы они помогли отправить странную гостью в больницу. Но женщина, не подымаясь, вытянула голые руки. И внезапно в нем проснулось отчаянное желание. Это было грубое телесное желание, хотелось ее, эту женщину, немедленно, сию же минуту… Однажды в детстве, за городом, он заблудился. Долго бродил по лесу, а когда прибежал наконец-то домой, ощутил страшное желание что-нибудь съесть, и жадно принялся поглощать хлеб… Теперь он чувствовал такую же странную необоримую жадность к этому женскому телу. Это желание как бы навалилось на его мозг, смяло малейшую возможность мыслить логически… Он поспешно, лихорадочно расстегивался… Шагнул к постели… Странно, что женское тело, казалось, не обладало запахом… Все заволоклось какой-то мутью… Осталось лишь бешенство удовлетворения желания… Как? Этого он не помнил… Явилось смутное видение Анны… Затем исчезло… Обессиленный, весь в поту, он лежал на ковре у постели… Женщина стояла, распрямившись… Он оглядел ее… Так вот с кем он имел дело!.. Ему сделалось неприятно!.. Она не обращала на него внимания. Встала на четвереньки и побежала к двери… Это голое существо с растрепанными волосами бежало как-то очень естественно, как будто этот бег на четвереньках был ему привычен… Вот оно пробежало в дверь… Поль выбежал следом… То, что он заметил у калитки, поразило его… Но этого не могло быть! Это была галлюцинация!..
Катрин чувствовала себя отверженной. Эти две страшные смерти — одна за другой — Мадлен и Дени… Мадлен!.. Девушку не вернуть!.. Нет, не надо было говорить о Марин! Поль, Анна, Мишель — все они теперь избегают Катрин. Не надо было!.. Но ведь это была Марин! Марин в том золотистом, солнечном платье!
«А почему ты так уверена?» — Катрин задала себе этот вопрос.
А если не девочка? Кто же? Кто-то мог маскироваться, подражать жестам, движениям Марин? Какая-то девушка, соучастница преступления… А как же те странные ощущения в момент гибели Мадлен? А существовали ли они в действительности?..
Марин сидела у письменного стола в своей комнате. Кто-то враждебный действует здесь, проникает в дом. Но почему этот кто-то пытается сделать так, чтобы ее, Марин, подозревали в каких-то гадких поступках, чуть ли не в преступлениях?.. Это женщина! Может быть, даже девушка, девочка, ее ровесница!.. Но иногда… Иногда Марин кажется, что это она сама! Будто какая-то материализовавшаяся частица ее души, всего ее существа совершает какие-то странные, непонятные действия! И Марин чувствует себя виновной!..
Девочке стало страшно. Она выбежала из комнаты. Скорей! На веранду… Мишель! Вот кто успокоит ее!.. Вернулась в дом, постучалась в комнату брата.
Мишель укладывал свои вещи.
— О, Марин! Входи!
Он старался быть с ней помягче. Ему было жаль эту девочку. При ее характере и способностях, конечно, ей предстоит нелегкая жизнь!
Марин села у окна. Мишель продолжал перебирать свои вещи, что-то пробормотал…
— Мишель! Что ты обо всем этом думаешь? Только честно?
Он обернулся к сестре. Впервые она спрашивает его…
— Что думаю? Думаю, все это — цепочка странных совпадений.
— Но смотри! Сначала — эти ящерицы! Катрин, Дени и Мадлен видели в кустах меня. Но это была не я! Ты веришь мне?
— Нет никаких доказательств того, что они вообще кого-то видели в кустах.
— Но вот еще, Мишель! Предположим, они действительно кого-то видели. И с ними даже говорили. Их запугали, шантажировали. Они нарочно сказали об этом мне! Потом Медлен и Дени решили сказать правду. И тогда их убрали с дороги!
— Тогда легче предположить, что это сделала Катрин. Ведь теперь она — единственная из тех, кто якобы видел тебя, осталась в живых!
— Но ведь она — твоя мать! И она никогда не относилась ко мне плохо!
— Ты могла случайно чем-то помешать ей.
— Да, ты прав!
— Ну и, наконец, это может быть и не Катрин. И тогда, возможно, Катрин станет следующей жертвой.
— Ты так спокойно говоришь…
— Потому что ни во что подобное не верю! Но, откровенно говоря, с матерью мне больше не хочется общаться!
— Но ведь у тебя тоже есть ощущение, будто Дени и Мадлен нарочно убрали?
— Я уже все сказал, Марин.
— Ты знаешь… — Девочка помолчала, потом решилась: — Иногда мне кажется, будто все это зачем-то сделала я! Будто та я, которую знают все, это всего лишь частица моего истинного существа, а настоящая я — какая-то странная, даже злая! Или только кажется злой!..
— Ты просто устала! Нам всем надо уехать отсюда. Как можно скорее! Дома ты забудешь это ужасное лето.
— Не знаю… Папа говорил, что мы уедем на днях…
— И ты все забудешь! Все пройдет!
— Если бы!.. Можно я еще побуду у тебя?
— Конечно! Помоги мне укладываться.
— Ты же знаешь, я плохая помощница!
— А свои-то книги ты уложила?
— Одежду сложит мама. А из книг я взяла сюда только Монтеня!.. Знаешь, однажды на уроке рукоделия — вот мучительный урок! — учительница смотрела, как я с отвращением втыкаю иголку в лоскут. И вдруг она сказала: «Марин, вам чуждо все человеческое!» Правда, так и сказала! Мне стало обидно, я убежала из класса и заплакала. Но потом я утешила себя, я решила, что мне действительно чуждо все глупое и пошлое, из чего во многом состоит человеческая жизнь.
— Твоя учительница была просто глупым и бестактным человеком!
— Но иногда… Иногда мне очень одиноко!
— Не думай так! У тебя есть я, твой брат. И что бы ни случилось, я тебя не оставлю.
— Спасибо тебе, Мишель! О, гляди, у тебя не хватает пуговицы на рубашке! Значит, и тебе чуждо все человеческое!
— А почему бы нет! Эх, Барб в одно мгновение пришила бы!
— Я опять подумала обо всем этом. Когда ты сказал: «Барб». Подумала о смерти Мадлен и Дени.
— Ну прошу тебя! Не думай об этом! Погоди! — Мишель вынул из чемодана шкатулку с шахматами. — Хочешь сыграем?
— Хочу! Но ты ведь укладываешься!
— Еще успею!..
Еще совсем недавно, до всех этих событий, Анна спокойно и просто, при всех отдала бы Полю письмо. Но теперь ей не хотелось, чтобы это видела Катрин. Зачем эти излишние вопросы, ненужные слова…
— Поль, тебе письмо. — Она отдала мужу конверт поздно вечером в их семейной спальне. Почему-то она говорила тихим голосом, как будто ее мог услышать кто-то враждебный.
— От Жюли К.! Кто это?
— Вскрой конверт!
Поль надорвал уголок и протянул конверт Анне.
Как всегда, ее обрадовало доверие мужа. Щеки ее по-девичьи вспыхнули.
Письмо было написано аккуратным женским почерком. Кажется, рука писавшей чуть дрожала.
— Но, Поль, странно как-то…
— Последнее время вся наша жизнь состоит из одних странностей!
Это даже и не было письмо — записка. Незнакомая Жюли К. просила Поля Л. о встрече.
— Она предлагает тебе встретиться послезавтра в деревне, в кафе при гостинице.
— Стоит ли идти? Мы уже собирались уезжать.
— Днем раньше, днем позже — какое это имеет значение! Меня другое беспокоит: вдруг эта записка имеет отношение к всему происшедшему? У нас уже две жертвы!
— Анна, умоляю! Я так устал от этих домашних расследований и судилищ!
— Тогда совсем коротко: я пойду с тобой! Надеюсь, ты не против? Ты не сочтешь меня навязчивой или ревнивой? — Анне вдруг все представилось в комическом свете, она едва сдержала смешок.
Видимо, это передалось Полю.
— Анна, не смеши меня! — Он усмехнулся. — Разумеется, ты можешь сопровождать меня. Встретимся с этой таинственной незнакомкой!..
Девушка очнулась на берегу моря. Впервые она испытала холод.
Светало. Зловещие существа с человеческими телами и звериными ликами исчезли. Она одинока. Совсем одна. Может быть, это одиночество и есть бессмертие? Ведь ей пообещали, предрекли бессмертие!
Она лежит на чем-то мягком. Те, звериноликие, назвали это мягкое красивым словом «ткань». Ткань! Золотистая, как солнце; серебристая, как месяц, и голубоватая… Ткань!.. Она почувствовала, что ей неловко без одежды. Встала, подняла с песка ткани и закуталась в них. Стало тепло. Хорошо быть одетой в ткани!..
Она шла по берегу. Потом углубилась в пальмовую рощу. Знакомый путь!..
Юноша и светловолосая девушка были вдвоем. Это он, и та, которую звериноликие звали «она»!
Они сидели под деревом и ели странные алые плоды. Так просто!
Они уже тоже не были нагими. Но то плетеное, лиственное, травяное, чем они прикрыли свою наготу, не могло сравниться с ее прекрасными тканями.
Светловолосая посмотрела на нее, приоткрыв рот.
«Светловолосая лгунья!» — подумала она.
— Что тебе нужно от него? — закричала светловолосая.
Она не ответила, повернулась и пошла к ручью. Солнце уже взошло, согрело землю, накалило листву. В тканях сделалось жарко. Она принялась из разматывать.
— Бесстыдница! — закричала светловолосая.
Тогда она обернулась и посмотрела на него и на его светловолосую.
— Что значит это слово — «бесстыдница?»
Но светловолосая не ответила. Светловолосая обернулась к нему и закричала:
— Посмотри на нее! Она — урод! Она — и мужчина и женщина, она — двупола! Пусть она уйдет! Она принесет несчастье нашей семье!
Все это были какие-то странные, душные и скучные слова: «урод», «семья», «мужчина», «женщина»…
А ей было все равно. Она была другая, не то, что эти двое! И напрасно светловолосая боится ее!
Она завернулась снова в свои ткани и пошла дальше.
Вокруг все изменилось. Живые существа, птицы, звери, насекомые стали какими-то сторожкими, пугливыми. Она услышала позади вскрик и оглянулась. Он и светловолосая бежали, спасаясь от какого-то косматого зверя… Но она знала: ей ничего не грозит! Она — другая!
Она решила найти тех, с человеческими телами и звериными ликами… Она почему-то знала, что они все объяснят ей, все скажут…
Мальчик позировал спокойно. Одетый по-взрослому, он смотрел куда-то мимо художника, в окно, в сад за стеклом, где зеленели деревья и перелетали птицы…
Маркиз Л. вошел в комнату и спросил, как подвигается работа над портретом, послушен ли ребенок. Художник заверил отца, что мальчик ведет себя прекрасно. Ребенок действительно не капризничал. У него были светлые, чуть дыбом волосы, немного вздернутый нос, темные глаза, карие… Но в целом его лицо отличалось своеобразием — живое, с яркой сменой выражений — от смешного надувания губ до холодной досадливости…
— А ведь я уже видел изображение, удивительно похожее на вашего сына.
— В Париже?
— О нет! В Италии!
— Работа какого-нибудь знаменитого итальянца?
— Отнюдь нет! Это был экспонат из коллекции антиков графа Ч. Довольно большой черепок; вероятно, остаток какого-то большого сосуда. И на нем — рельефное изображение юношеского лица. Право, это было лицо вашего сына! Думаю, таким он станет лет через десять!
— И как попало это изображение в коллекцию графа?
— Он рассказывал, что черепок был ему продан каким-то испанцем. То был старинный, древний восточный сосуд, откуда-то из Древнего Египта.
В кафе за столиком Поль и Анна пили оранжад. Незнакомка запаздывала.
— Знает ли она меня в лицо? — озабоченно спросил Поль у жены.
— Полагаю, что да! И, кроме того, в письме она не сообщает никаких своих примет. Значит, она знает тебя и первая к нам подойдет!
Днем в кафе не было особенно людно. В темном углу Анна разглядела тетку покойной Мадлен. Приподняв темную вуаль, та пила кофе. Видно было, что у нее худое морщинистое лицо, скорбный рот.
Анна снова принялась поглядывать на дверь. Поль зевнул.
— Прошел час! Сколько можно ждать! Пойдем, Анна!
У двери они почти столкнулись с теткой Мадлен.
— Поль Л.?
— Да. И в таком случае вы, должно быть, Жюли К.?
— Вы не ошиблись, это я. Вижу, вы получили мое письмо.
Она обращалась только к Полю, не глядя на Анну.
— Я хотела бы поговорить с вами наедине.
— Нет! — вмешалась Анна. — Простите! Но это невозможно! За последнее время в нашей семье произошло столько…
— Хорошо! — перебила старуха. — Тогда я просто предупреждаю, попробуйте уехать отсюда! Не медлите! И возьмите вот это! — Она раскрыла старомодный ридикюль из черного плотного шелка. — Когда-то моя дальняя родственница служила в семье Л., она была чем-то вроде компаньонки. Это ее дневник! Когда-то, когда он еще только достался мне по наследству от матери, я хотела передать его кому-нибудь из семьи Л. Но, прочитав, я поняла, почему даже моя щепетильная мать не сделала этого! — Старуха замолчала. — И вот теперь… это несчастье с Мадлен! Она была последней! Теперь я совсем одна! После своего бегства в Париж (а это было именно бегство!) Мадлен не писала мне. Я даже не знала, что она жила в вашей семье. А узнав, решила, что это истинный перст судьбы! И когда поехала на похороны, захватила с собой… — Она протянула Полю старинный альбом с застежками.
— Благодарю вас! — Поль осторожно взял альбом. — Мы совершенно подавлены происшедшим… Мы бы хотели…
— Ничего не нужно! — Старая женщина чуть повела рукой. — Моей Мадлен всегда казалось, что жизнь ее скучна и неинтересна. Она очертя голову бежала от этой жизни. И вот… Я сейчас уезжаю! Не ищите меня!..
Она резко повернулась и пошла к двери…
Теперь Марин боялась углубляться в лес. Бродя по лужайке перед домом, она часто вспоминала свою собаку, славного пса Мука, чудесное существо, веселое и верное. Мук! Когда она приезжала сюда летом из Парижа, он узнавал ее! Значит, не забывал за все то время, что она жила в городе!.. Почему-то иногда ей теперь кажется, что прошлое больше не вернется! Не будет больше ни Парижа, ни школы, ни этих летних поездок… Она не знает, как все кончится сейчас, но обыкновенный отъезд кажется ей каким-то ирреальным. Она мечтает о таком отъезде домой, как о чем-то несбыточном…
Вот уложены чемоданы. Отец за рулем. Они едут на станцию. Подходит поезд… Поезд трогается… Мимо окна потянулись зеленые поля… И почему все это кажется ей таким невероятным?..
Это исчезновение Мука!.. Как он тогда рванулся от нее!..
Анна поймала себя на том, что не чувствует любопытства. Она не испытывала желания прочесть дневник, полученный от тетки Мадлен. Поль же, напротив, казался очень заинтересованным. Снова присев у столика, он начал было листать плотные страницы.
— Поль, мне кажется, это лучше сделать дома. Сядешь спокойно и прочтешь.
Он поднял глаза на жену.
— Да. Пожалуй, ты права. Но я хочу это прочесть как можно скорее. Это поможет нам что-то прояснить!
Анна сдержалась и не возразила мужу.
«Прояснить! — с горечью подумала она про себя, не решаясь говорить вслух. — Боюсь, нам уже ничего не поможет! Мы в западне! Мы все больше и больше запутываемся. И новые звенья, возникающие внезапно, ведут нас не к просветлению, но все дальше в темноту!»
Анна застала отца на веранде. Как это часто бывало, он углубился в газету.
— Что-то интересное, папа? — машинально спросила она.
В самое последнее время ей стало казаться, что ее отец равнодушен к происшедшим трагическим событиям… Ему как будто все равно, он не мучается сомнениями, догадками. Именно это вызывало у дочери легкое раздражение. Впрочем, Анна вполне отдавала себе отчет в своих чувствах.
Отец поднял голову и посмотрел на дочь. Потеребил седую бородку.
— Все то же! Австрия! Испания! Думаю, что идет к мировой войне.
— Поль считает, что это невозможно. При нынешнем развитии техники! Человечество просто уничтожит себя само!
— Что ж, и Поль по-своему прав.
— Папа! Я давно хочу спросить тебя. Что ты можешь посоветовать нам?
— Надо пытаться сохранить спокойствие. Все эти метания, отчаяние — все это ничего не даст нам. Надо попробовать уехать отсюда.
— Попробовать! И ты говоришь: попробовать! Я уже слышала это «попробуйте уехать!» И теперь ты!..
— Уже слышала? От кого?
— Мы с Полем встречались с теткой Мадлен. Та девушка, приятельница Катрин… — Анна почувствовала, что краснеет. Ей не хотелось говорить отцу о дневнике. Возможно, им вовсе не следовало брать этот дневник…
— И она, эта женщина, сказала вам, тебе и Полю: попробуйте уехать!
— Да, она это сказала. И вот теперь и ты говоришь!
— Это интуиция! Интуиция старых людей! — произнес чуть хрипловатый девчоночий голос.
— Ты, Марин! — Анна обернулась. — Я и не заметила, как ты подошла.
Девочка стояла на деревянной ступеньке. Анна поразилась. Волосы дочери были распущены, она надела длинное платье, то самое, серебристое, цвета луны. Платье было слишком длинно, подол волочился по земле. Анна заметила, что девочка босиком.
— Марин! Зачем ты это надела? Прошу тебя! — Анна не хотела быть резкой с дочерью. — Сними, пожалуйста! И причешись!
— Интуиция, — тихо повторила девочка.
Женщина и старик даже не заметили, как она убежала…
Анна готовила обед, раздумывая об отъезде. Непременно завтра! Наспех уложиться и уехать! Пусть они даже забудут что-нибудь из вещей. В конце концов, можно потом вернуться, съездить сюда ненадолго!.. Но теперь — уехать!..
— Мама, сделай мне бутерброд с салатом. Я ужасно проголодалась! — Марин тронула ее за локоть.
Анна вздрогнула.
— Ты меня напугала!
— Почему?
— Погоди, сейчас покормлю тебя! — Анна принялась готовить бутерброд. — Марин, зачем ты сегодня надевала то старинное платье? Не надо его трогать! Это семейная реликвия! Эти два платья и накидка достались твоему отцу от его предков. Лучше не трогать… — Анна чувствовала, что ее слова не наполнены смыслом. И это потому, что она не хочет сказать дочери всю правду! Но, с другой стороны, зачем зря тревожить девочку, пугать рассказом о странных тканях, о мучительных предчувствиях Анны?
— Мама, я никаких платьев не надевала!
Анна оперлась обеими руками о столешницу.
— Марин, вспомни! Ты стояла на нижней ступеньке лестницы на веранду. Я говорила с дедушкой. Я сказала ему, что тетка покойной Мадлен посоветовала нам уехать отсюда. Я вспомнила ее совет, потому что дедушка тоже сказал об отъезде. И тут появилась ты. И заговорила об интуиции. Что-то ты сказала об интуиции, свойственной старым людям!..
— Мама, этого не было!
— Ты была в серебристом платье, волосы распущены!
— Мама, этого не было! — Девочка подбежала и порывисто обхватила мать, прижалась, словно ища защиты.
— Успокойся, милая, успокойся! Я верю тебе!
— Мама, я боюсь! Я боюсь быть одна! Здесь ходит кто-то страшный! Пусть это нелогично, невозможно! Пусть! Но ведь это существует! Кто-то, кого все принимают за меня! Кто-то страшный! Он совершает убийства, в которых могут обвинить меня! Мне страшно! Мама! Вдруг мне начинает казаться, что я на самом деле он, оно, то самое, то страшное существо!..
— Нет, нет, нет! Успокойся! — Анна крепко прижимала дочь к груди. — Мы уедем сегодня! За вещами я съезжу после! Где Мишель? Катрин?..
— Они в доме… — Девочка заплакала, но Анна поняла, что дочери стало легче…
Поль дочитал странный дневник.
Значит, то, что он когда-то увидел, не было галлюцинацией! Но, если не галлюцинация, то какое другое реальное объяснение? Что это было?..
Молодая женщина, исписавшая когда-то давно, еще в начале второй половины XIX века, эти плотные страницы своим аккуратным тонким почерком, вероятно, какое-то время наслаждалась возникшей ситуацией, ведь это делало интересной ее невеселую жизнь неимущей барышни; но постепенно ситуация сделалась тягостной для Габриэль (так ее звали)…
После монастырского пансиона Габриэль столкнулась с весьма грустной обыденностью. Старшая из трех дочерей небогатого нотариуса, она должна была как-то позаботиться о себе. Замужество оказалось не таким уж легким делом. Не очень привлекательная внешне, Габриэль не была наделена искусством кокетничать, располагать и привлекать к своей особе представителей сильного пола. Бесприданница и дурнушка, она вступила на обычный путь бедной, но честной девушки. Вначале были уроки музыки, когда ей приходилось в любую погоду носиться по улицам небольшого провинциального города, обходя дома своих учениц. Порванные туфельки, страдающий от суровости мостовой подол нижней юбки, усталость, неловкие детские пальчики, растопыренные на клавишах. Сплетни. Бестактность… Однажды ей предложили пообедать вместе с прислугой!..
Музыку сменило новое занятие. Габриэль стала гувернанткой в семье барона О. Но и это поприще оказалось не по ней. О. был удивлен, когда новая гувернантка на его скромные домогательства ответила таким раздраженным отказом! Он-то полагал скрасить жизнь дурнушке! Разумеется, после отказа последней он осведомил свою супругу о том, как дурно обращается Габриэль с детьми. Фактически, мадам О. выгнала Габриэль, даже не дав ей рекомендации!..
Впрочем, это не совсем точно. Поскольку, с легкой руки мадам О., вскоре весь город и окрестности прослышали о Габриэль как о вздорной особе, которая нигде не может ужиться!
Некоторое время Габриэль сидела дома. Отец угрюмо отмалчивался. Мать смотрела на нее, как на врага. Сестры дулись. Они полагали, что именно Габриэль мешает им выйти замуж…
Но вот однажды в дождливую погоду в дом явился скромный приятный человек лет тридцати. Нежданный гость назвался господином Л. Он объяснил, что здесь он проездом в Париж. Он возвращается из путешествия. Супруга его не француженка, и для того, чтобы ей было легче усвоить язык и привыкнуть к местным нравам, а также для того, чтобы она не чувствовала себя одинокой, он желал бы взять ей компаньонку, скромную молодую особу, достаточно образованную… Чтобы дела повернулись таким образом, Габриэль и во сне присниться не могло! Она будет жить в Париже! Она избавится от тирании матери, от надутой физиономии отца, от раздражения сестер! Господин Л. предложил ей довольно скромную плату, но девушка поспешила согласиться. По городу, разумеется, поползли слухи о неблагополучии в семействе Л., якобы вследствие этого неблагополучия Л. и взял в свою семью такую особу, как Габриэль. Впрочем, Габриэль уже не касались подобные объяснения. Запряженная быстрыми лошадьми карета мчала ее в Париж…
Супруга господина Л. действительно нуждалась в компаньонке, и, надо сказать, он проявил незаурядную проницательность, поняв, что именно Габриэль, в сущности, скромная, образованная и добрая девушка, как нельзя лучше подходит для роли, соединяющей в себе функции подруги, учительницы, домоправительницы и компаньонки.
Габриэль скоро подружилась с мадам Л. и узнала ее историю…
После смерти отца и дяди молодой Л. остался владельцем значительного состояния. Тогда ему и пришло на мысль исполнить свою детскую еще мечту о путешествии. Еще мальчиком, разглядывая в книгах рисунки, изображающие античные древности, он мечтал увидеть Италию и Грецию и теперь решил осуществить эту мечту.
Л. был еще достаточно молод для того, чтобы не замечать обычных неудобств поездки по странам, еще не вполне приобщившимся к благам цивилизации. Тряские почтовые кареты, неуютные гостиницы, дурно приготовленная пища — на все это он не обращал внимания. Перед глазами одинокого юноши проходили прекрасные пейзажи, расстилалось море, зеленели деревья. Он видел людей в необычной одежде. Но самым удивительным были остатки древнего, античного мира. Как удивительно ступать по ступеням амфитеатров, которые видели римских императоров! Колонны, мраморные статуи, пестро раскрашенные, не потускневшие от времени огромные кувшины; развалины античных зданий, удивительные лица на фресках…
Италию сменила Греция. Филипп Л. решил подняться в горы. Он уже мог объясниться на греческом языке и заметил его сходство с языком древних греков. Пришлось ехать на лошади, но Филипп обучался верховой езде и любил риск. Местные жители все более интересовали юношу. Их лица, жесты, движения удивительно напоминали ему античные изображения. Еще не Покинув этот новый для него и в то же время такой знакомый ему мир, он уже мечтал о возвращении сюда.
Как всякого молодого и склонного к восторженности человека, Филиппа в этом мире античности и экзотики раздражали его соотечественники и вообще европейцы. Ему было стыдно видеть их уверенность в том, что именно они являются представителями истинной цивилизации; их сюртуки, куртки и шляпы казались ему верхом безвкусицы. Их жены и дочери раздражали юношу своей неестественностью.
В сущности, отправляясь в горы, он хотел остаться наедине с природой и местными жителями. Он даже рискнул переодеться в местный костюм — темные шаровары, толстые носки из цветной шерсти, мягкие туфли, белая рубаха и черная безрукавка, на голове юноши красовалась небольшая вишневого цвета шапочка в виде усеченного конуса.
Филипп ехал верхом, чуть отставая от своего проводника. Филипп вспомнил, как в гостинице один его соотечественник, коммивояжер, предупреждал его, что нужно был осторожным с местными жителями, что они стремятся всеми возможными способами обобрать путешественников, заламывая неимоверные цены за самые ничтожные услуги. Тогда Филипп выслушал эти предупреждения с нескрываемым презрением. Подобная мелочность была противна молодому человеку.
Мы виноваты перед этими людьми! Ведь они прямые потомки тех, кто заложил основы нашей цивилизации! Разве, пользуясь каждодневно достоянием предков, мы имеем право презирать потомков?!
Коммивояжер лишь усмехнулся. Оба тогда замолчали. Филипп испытывал приятное ощущение одиночества, отверженности; он чувствовал, что он выше всех этих мелких людишек с их мелочными предупреждениями!..
Но, будучи умным юношей, Филипп Л. смутно понимал, что мелочность помыслов, узость взглядов можно встретить решительно повсюду. И теперь он в глубине души, сам того не сознавая, опасался столкнуться с этой пресловутой мелочностью, прикрытой экзотическим бытом и окруженной античными развалинами.
Оба, и путешественник и проводник, ехали молча. Возможно, проводнику, человеку лет сорока, Филипп Л. казался странным, но во всяком случае не смешным!
Горный воздух поражал изумительной чистотой. Каждый вдох, казалось насыщал, питал тело. Журчали прозрачные потоки. Небольшие деревца, притулившись на склонах, цепко держались корнями за скудную почву гор. Они въехали на округлую небольшую вершину. Внизу, в лощине, угнездилась деревушка — белые домики с плоскими кровлями, белый куб церквушки. Это было родное селение проводника.
Проводник Филиппа Л., Костандис, вовсе не промышлял ремеслом проводника; он владел приличным земельным наделом, и, кроме того, ему принадлежала сельская лавка, в которой он торговал нехитрым товаром, интересующим крестьян. Костандис согласился сопровождать Филиппа в горы, потому что им было по пути, однако сразу заговорил о плате, потребовал деньги вперед. Филипп поспешно согласился. Впрочем, Костандис не счел его глупцом, быстро понял, что именно может быть привлекательным в горах для молодого француза, и стал рассказывать о старом кладбище, расположенном близ селения.
— Бог знает, сколько ему тысяч лет! Уж давно на нем не хоронят. Но случается, что в полнолуние на кладбище можно увидеть чудеса.
Древнее кладбище возбудило любопытство путешественника. Он решил остановиться в деревне Костандиса.
Впервые за все время своего путешествия Филипп собирался жить в семье местных жителей. Он боялся разочароваться и в то же время ожидал увидеть много интересного и яркого.
Большой дом — кухня с лавками, устланными коврами, медная и глиняная посуда; лампады перед старинными иконами в комнате, кувшины с зерном, так живо напоминающие античность, — все ему понравилось. В доме было чисто; все, что ему прежде говорили о неопрятности местных жителей, не подтвердилось. В семье Костандиса было всего три человека. Он сам, его жена, хрупкая и болезненная, она была из богатой семьи, отец ее владел мельницей в соседней деревне; сумрачная и, кажется, недобрая молодая женщина, впрочем, имела причины быть такой — даже Филипп понял, что Костандис женился на ней из-за ее приданого; кроме того, ее, конечно, угнетало отсутствие детей — должно быть, следствие ее слабого здоровья. Третьим членом семьи была младшая сестра Костандиса, она явилась плодом второго, позднего брака его отца, и теперь он не любил эту девушку, ведь в случае ее замужества ему пришлось бы отдать ей часть земли, сделать приданое. Ей уже минуло восемнадцать лет, и, согласно местным обычаям, ее считали чуть ли не старой девой. Не желая расставаться со своим имуществом, брат не спешил выдавать ее замуж. В этих местах не принято хулить близких, особенно умерших, но Костандису случалось говорить об отце с некоторой досадой, он сердился на покойного за его поздний брак, в результате которого явилась на свет лишняя наследница.
Не так уж трудно предположить, что в конце концов младшая сестра Костандиса заинтересовала Филиппа Л. Это была девушка худенькая по-девичьи, но стройная, с длинными черными косами, белозубая, а взгляд ярких черных глаз, какой-то безоглядно-нежный и даже казавшийся чуть безумным, напоминал взгляд древнейших скульптур Акрополя — мраморных девушек в длинных платьях, изящно вскидывающих свои милые головки в локонах.
Одетая в синюю юбку и светлую блузку с красным передником, Мария вместе с женой старшего брата целыми днями хлопотала по хозяйству. С утра она доила коз и приносила Филиппу кружку парного молока. Она стояла у двери в его комнату, скромно склонив голову, и молча протягивала глиняный сосуд, наполненный как бы дымящимся козьим молоком.
Все местные женщины казались Филиппу необычайно красивыми, но к этой красоте он относился так же, как относился к очарованию статуй и фресковых изображений. Все это предназначалось для бескорыстного любования. Первое время он так же относился и к сестре Костандиса.
Филиппа давно уже заинтересовали ожерелья, которые носили девушки и молодые женщины. Эти ожерелья были явно сделаны из настоящих монет. Хорошо бы их рассмотреть поближе.
Однажды, когда Мария, как обычно, принесла ему утром молоко, он пересилил смущение и спросил, нельзя ли посмотреть ее ожерелье. Жестом, исполненным дружелюбия, девушка сняла с шеи снизку монет и подала молодому человеку. Он осторожно принялся поворачивать ожерелье, разглядывая монеты. А монеты эти были достаточно примечательны. Самыми новыми были, пожалуй, два венецианских дуката, несколько монет были явно арабскими, две или три — римскими; с радостью заметил Филипп древнюю афинскую монету с изображением священной совы. Здесь было еще несколько древнегреческих монет и несколько монет, видимо, очень древних, но Филипп не мог определить их происхождения. Девушка вела себя так дружески и скромно, без тени кокетства, что юноша перестал смущаться. Он принялся расспрашивать юную гречанку, как попала в ее ожерелье та или иная монета. Оказалось, что почти все они достались ей в наследство от покойной матери, кроме афинской монеты с совой и нескольких монет неизвестного происхождения.
— Эти монеты я сама нашла.
— Где же?
— На старом кладбище.
— Но ведь там уже давно никого не хоронят, Костандис говорил мне. Как же ты не побоялась туда пойти?
— Если пойти туда в полнолуние, совсем одному, можно увидеть чудеса!
— Костандис и это мне рассказал! Но что же можно увидеть?
— Может прийти душа умершего и предсказать будущее.
— И это случилось с тобой?
— Да.
— Ты для этого пошла на кладбище?
— Да. Я хотела увидеть покойную маму.
— И тебе это удалось? — Филиппа удивило, что девушка с таким достоинством и спокойствием говорит о самом для нее сокровенном.
— Да, я видела ее.
Девушка подняла голову и посмотрела на молодого человека. Взгляд ее черных глаз был чистым и прямым.
— Сейчас я не смогу вам ничего рассказать. Скоро жена брата позовет меня. Но приходите на старое кладбище после заката. Я все расскажу вам.
Она быстро ушла. Филипп взволнованно сделал несколько шагов по своей маленькой комнате. Он почувствовал, что увлекается, это и радовало его и пугало. Он вел всегда довольно скромную жизнь и даже подумывал о том, не остаться ли холостяком: женщины казались ему лживыми, неумными, докучными созданиями, и тот небольшой опыт, который он успел приобрести, совсем не разубедил его, напротив, еще более убедил в правильности его суждений о женщинах. И вот, эта девушка! А ведь он, кажется, просто-напросто влюблен!
Филипп едва дождался вечера. Он обошел деревню и приблизился к старому кладбищу. Однажды он уже осматривал это кладбище. Он зарисовал несколько надгробных плит, переписал надписи. Здесь были трогательные рельефные изображения похороненных мужчин, юных женщин, детей, их имена, и каждую плиту украшала прелестная надпись «хайре». Его всегда очаровывал смысл этого слова, оно означало и «радуйся» и «прощай»!
Тонкая фигурка девушки показалась из-за дерева. Мария! Филипп подошел к ней.
— Здравствуй, Мария. Я уж думал, ты не придешь.
— Я обещала вам. — Она произнесла эти слова с таким чувством достоинства, что юноше сделалось стыдно за свой неуместно шутливый тон.
— Прости. Я вижу, ты умеешь держать слово.
— Здесь, в полнолуние, можно увидеть душу покойника.
— Я не совсем понимаю тебя. Ведь тех, кто похоронен здесь, никто не знает. А ты говорила, что видела свою мать, но ведь ее могила на другом кладбище.
— Вот что надо сделать для того, чтобы вызвать душу. Надо прийти сюда в полнолуние, но перед этим обязательно снять с шеи нательный крест и весь день не креститься, если случайно перекрестишься, никого не увидишь. На одной из могильных плит надо зарезать собаку и громко позвать по имени того покойника, которого ты хочешь видеть. И он придет, на каком бы кладбище он ни был похоронен, он придет на твой зов! И предскажет будущее!
— И ты на это решилась?
— Да, я зарезала собаку, и, когда потекла кровь, я громко назвала по имени мою покойную мать!
— А что это была за собака? Бродячая?
— Нет. — Девушка чуть удивилась направленности мыслей своего собеседника и слегка передернула плечами. — Это была собака Эвдокии, жены Костандиса, она привела ее из своей деревни, такая же злая, как хозяйка! — Брови девушки сдвинулись.
Филипп воспринял это внезапное озлобление как признак ребяческой еще беззащитности.
— И что же, Эвдокия не искала свою собаку?
— Искала! И даже на меня косилась. Но я сказала, что я здесь ни при чем! Однажды эта собака укусила меня. Бросилась и укусила. И Эвдокия не отозвала ее, а ведь все видела!
— Но прости, я прервал твой рассказ. Что же было дальше, после того как ты позвала мать?
— Я боялась! Старухи говорили, что теми, кто вызывает души умерших, может овладеть злой дух! Но я решила твердо. И вот громко выговорила имя матери. Потом я увидела бледную туманную фигуру вдали. Но я узнала, это была мама. Но она словно не смела приблизиться ко мне! И вдруг из-за дерева вышла мама, живая! А та, бледная, вилась вдали. Не знаю, что значило такое раздвоение. Бледная не была тенью живой, не повторяла ее движений, но казалась очень испуганной и робкой. Когда я увидела маму, я совсем перестала бояться, радостно вскрикнула и обняла ее. Она взмахнула рукой, плита вдруг очистилась от крови, и тело собаки исчезло. Мы сели на эту плиту. Я стала рассказывать маме о том, как обижают меня Костандис и его жена. Мама слушала и гладила меня по голове. Потом сказала, и голос у нее был обычный человеческий, ее живой голос! И она сказала мне, что уже недолго им осталось издеваться надо мной, что я выйду замуж и буду счастлива. И тут она протянула мне эти монетки, ту, где сова, и эти, которые вам показались такими непонятными и старыми. И она еще сказала, чтобы я украсила этими монетами свое ожерелье и чтобы в тот день, когда меня поцелует тот, кто станет моим женихом, я бросила эти монеты в реку, чтобы все ожерелье бросила вместе с нательным крестом! Так она сказала! И пропала! Я даже не успела с ней проститься. А та, другая, бледная, еще видна была вдали, но как будто не смела приблизиться ко мне и как будто ломала руки и была в тоске!..
— А река здесь близко? — спросил юноша; эта девушка, нежные и твердые интонации ее голоса — все это заворожило его. Он прислушался и явственно расслышал журчание.
— Да, река близко. Можно услышать, как она журчит.
Он пошел к ней. Естественным жестом защиты она выставила вперед ладони. Он остановился. И тогда девушка резко опустила руки, сама шагнула к нему навстречу, и через мгновение они уже слились в поцелуе, замерли, сжимая друг друга в объятиях…
— Река!.. Река!.. — Мария тянула его за руку вниз к воде. Мелкие камешки осыпались под ногами. Он чуть не упал. Вот она остановилась, сорвала с шеи ожерелье и крестик и кинула, размахнувшись, в быструю воду…
Позднее ему иногда приходило в голову, что не следовало позволять девушке бросать в воду крест. Но, впрочем, он не был религиозен и не задерживался на этой мысли подолгу.
— Ты думаешь, Костандис согласится выдать тебя замуж за иноземца?
— А если не согласится, я убегу с тобой!
— Но это не так просто!
— Я не заставляю тебя жениться на мне, ты как был свободным человеком, так и останешься свободным!
— Погоди, Мария, не сердись! Я только хотел сказать, что и мне и тебе для того, чтобы уехать из этой страны, нужны разные бумаги, в которых будет написано, что нам разрешается уехать. Ведь это очень большая страна, та, где ты живешь, и правит ею султан. А ты не знала?
— Мне все равно, — равнодушно ответила девушка.
— Ты сердишься, Мария? Не сердись! Я могу навсегда остаться здесь, я готов на все ради тебя!
— Нет, — девушка помолчала, — я не хочу жить здесь. Я хочу уехать с тобой. Я хочу жить в твоем большом городе, где никто не будет знать меня!
— Отчего так, Мария?
— Сама не понимаю. Просто мне так хочется!
— Я думаю, Костандис отдаст тебя мне, я ведь не попрошу приданого!
— О, тогда он будет даже рад и поблагодарит тебя!
— Я хочу поговорить с ним как можно скорее! Завтра!
— Нет, надо подождать; Эвдокия, его жена, она болеет.
— Что с ней?
— Говорят, чахотка.
— Но тогда ты должна быть осторожна, это заразная болезнь!
— Нет, я не боюсь! Я знаю, что со мной ничего не случится! Мамина душа предсказала, что я выйду замуж и буду счастлива! Я верю! А ты? Веришь?
— Как я могу не верить, Мария!
Болезнь жены Костандиса обострилась, она уже не вставала с постели. Несмотря на все опасения и предупреждения Филиппа, Мария преданно ухаживала за женой своего брата.
Однажды ночью поднялась суматоха. Филипп понял, что Эвдокия скончалась.
Спустя три дня были похороны. Филиппу очень хотелось понаблюдать местные похоронные обряды, но он побоялся показаться бестактным и не выходил из своей комнаты.
В доме хозяйничали какие-то старухи, родственницы Костандиса. Они громко разговаривали между собой и, должно быть, не подозревали, что молодой иноземец хорошо понимает их слова.
Из разговоров старух Филипп узнал, что отец и мать Эвдокии обвиняют Костандиса в том, что он дурно обращался с их дочерью, заставлял выполнять непосильную работу. Это не было правдой, но легко было понять родителей умершей: мало того, что они потеряли дочь, их раздражало и то, что зять остается сравнительно еще молодым и богатым вдовцом. Нападали они и на Марию, говорили, будто она дурно ухаживала за больной…
Близилось полнолуние. Филипп твердо решил поговорить наконец с Костандисом. Ему захотелось сделать это именно в полнолуние, он знал, как чтит полнолуние Мария!
Филипп намеревался поговорить с Костандисом утром, прежде чем тот уйдет в свою лавку.
Но на рассвете юношу разбудили громкие крики во дворе. Он поспешно оделся и вышел. Во дворе и за калиткой толпились крестьяне. Они шумели, окружив родителей Эвдокии, Костандиса и Марию. Отец покойной крепко держал Марию за руку. Костандис сдерживал разъяренную тещу, которая рвалась к Марии, растопырив пальцы, будто хотела исцарапать девушке лицо.
Мария стояла, выпрямившись, с выражением горделивости и деланного равнодушия.
— Вчера в полнолуние я пошла на старое кладбище! — выкрикивала мать Эвдокии. — Я видела мою дочь! Она мне все рассказала! Эта тварь, — она замахнулась на Марию, Костандис едва успел сдержать ее руку, — эта тварь всегда хотела, всегда желала смерти моей дочери! Злой дух обещал этой твари умертвить мою дочь! И вот она умерла, моя Эвдокия! Нет больше на свете моей доченьки! Я проклинаю тебя, гадкая тварь, проклинаю! Колдунья! Злая колдунья! Креста на ней нет!
Филипп увидел, как при этих словах девушка сильно задрожала. Он быстро, но спокойно прошел сквозь толпу и громко заговорил:
— Мария не сделала ничего дурного! Эта женщина ходила на кладбище, чтобы вызвать дух своей умершей дочери — поступок языческий, а не христианский! Она не имеет права обвинять девушку. Никто не повинен в смерти несчастной Эвдокии. Теперь же я обращаюсь к вашему односельчанину Костандису и в присутствии всех вас прошу у него руки его сестры!
На миг воцарилось молчание. Затем все снова зашумели.
Филипп поднял обе руки, жестом призывая к молчанию. Он и не ожидал, что его послушают так быстро.
— Костандис, я прошу руки твоей сестры, но отказываюсь от ее приданого! У меня достаточно денег!
Снова усилился шум. Плакала мать Эвдокии, но уже не смела тянуть ногти к лицу Марии.
— Я согласен! — произнес Костандис, перекрывая шум голосов…
Хотя Филипп и объявил, что отказывается от приданого, Костандис отдал сестре все вещи, что когда-то принесла в дом ее мать. Откровенно говоря, Филипп был вовсе не против того, чтобы взять с собой этот сундук, наполненный оригинальной одеждой, но Мария решительно отказалась.
— Нет, нет, Костандис! Мы благодарим тебя, но Филипп дал слово, что возьмет меня без приданого!
Когда все формальности были соблюдены и они стали мужем и женой, вечером, в отеле, Мария сказала мужу:
— Филипп, это не был злой дух! Это была душа мамы! И я не просила о смерти Эвдокии, а только жаловалась на то, что Эвдокия и Костандис плохо обращаются со мной! И мама сказала, что все это кончится и я буду счастлива! Но я не просила о смерти Эвдокии! Мама всегда была добрая, она не могла убить Эвдокию! Ты веришь мне?
— Я всегда буду верить тебе, Мария!..
Европейское платье не нарушило обаяния Марии. Филипп Л. был совершенно счастлив. Когда они приехали во Францию, молодой супруг решил, что жене будет одиноко, и взял ей компаньонку, уже известную нам Габриэль…
Габриэль прожила в семье Филиппа Л. почти десять лет. Она очень сблизилась с Марией. Обе они были религиозны. После замужества Мария перешла в католичество, поскольку формально ее муж был католиком, хотя фактически Филипп не проявлял интереса к религии. Он по возвращении во Францию продолжал заниматься античной культурой и написал несколько интересных и дельных книг. Значительное состояние, которое он унаследовал, пока позволяло ему и его семье жить безбедно, но он тратил деньги, не считая, и, вероятно, его детям уже предстояло узнать, что такое нуждаться в деньгах…
Поль с легкостью разбирал аккуратный почерк Габриэль… Мария рассказала ей историю своего замужества и девическую жизнь. Габриэль пришла в ужас от рассказа о брошенном нательном кресте, она считала, что Мария должна замолить этот страшный грех. Обе прилежно посещали мессы, Мария делала щедрые пожертвования. В семье было уже двое детей — умный, не по годам развитый мальчик и прелестная девочка. Замкнутая по натуре, Мария не расставалась с Габриэль, во всем ей доверяла и, считая ее образованной женщиной, передала в ее руки воспитание своих маленьких детей. Впрочем, когда сыну исполнилось девять лет, Филипп поместил его в одно из самых дорогих закрытых учебных заведений. Дочь воспитывалась дома. Родители очень привязались к девочке и уже решили, что она получит домашнее образование…
Из записей Габриэль Поль узнал, что Мария, его бабушка, часто надевала доставшуюся мужу от отца и матери дорогую одежду. Это были два платья, золотистое и серебристое, и голубоватая накидка. Особенно любила она серебристое, лунного света платье, сшитое в античном стиле, — платье удивительно шло к стройной фигуре и своеобразной внешности молодой женщины. Однажды Мария уговорила Габриэль надеть золотистое платье, уверяя, что оно пойдет к ее светлым волосам. Они стояли, смеясь, у большого зеркала в спальне. Но Габриэль как-то неловко чувствовала себя в старинном платье, о чем и сделала запись в своем дневнике…
Поль был погружен в чтение, перед ним вставали картины жизни прошлого века. Было странно думать, что он сейчас читает о жизни семьи своего деда. О многом узнавал впервые. Но почему отец в свое время так мало рассказывал ему? А он сам? Много ли он рассказывает Мишелю и Марин об истории семьи? Пожалуй, совсем немного… Но почему? Поль нахмурился… Потому что эта история содержала в себе что-то странное, неестественное. Взять хотя бы эти пресловутые платья и накидку. Вот Анну они пугали, а Марии, оказывается, нравились. Но вот Габриэль тоже почувствовала себя неловко, надев одно из этих платьев. Семейные реликвии! А с какой легкостью бабушка рассталась со своим приданым! Если бы он мог с такой же легкостью… Но что он мог сделать? Сжечь эту таинственную одежду? Это был бы совершенно нелепый поступок.
Поль нашел и запись о портрете. Впрочем, в то время в семье не было мальчика, похожего на портрет своего предка. Портрет висел в гостиной. И однажды… Но ведь это именно то, что Катрин рассказала когда-то Анне. А сама Катрин узнала это от его матери!
И вот перед глазами Поля воскресает картина: Филипп с маленьким сыном на руках остановился у портрета, рядом с ним Мария и Габриэль. Габриэль спрашивает Филиппа о портрете. Ребенок тянется к мальчику, изображенному на холсте, и смеется. И тогда Филипп говорит, с легким оттенком несерьезности, как бы почти в шутку:
— Отец рассказывал мне, будто на этом портрете изображен человек, который рождается в нашем роду как некий вестник грядущей катастрофы. Представляете себе, всегда рождается один и тот же человек, вне зависимости от того, кто его родители. Это обычный человек, он примечателен лишь тем, что только ему суждено выжить после катастрофы и продолжить наш род! Забавно, не правда ли?
— Вовсе не забавно, скорее жутко! — откликнулась Габриэль.
— Какое счастье, что наш мальчик не похож на этот портрет! — воскликнула Мария.
«А мой сын — живая копия этого портрета! Не стану же я лгать самому себе!» — подумал Поль.
Кажется, ни Мишель, ни Марин никогда не видели портрет. А эти злосчастные платья? Катрин что-то говорила о том, будто бы его дочь надевала платье лунного цвета или другое, золотистое. И все это было похоже на бред!
Странности в семье Филиппа Л. начались года за полтора до рождения второго ребенка. Филипп завел собаку, очень умную, темную, и сильно привязался к ней. Когда Мария и Габриэль спрашивали, откуда у него этот пес, Филипп отвечал, что собака приблудилась вечером, бросилась ему под ноги, когда он выходил из фиакра. Он было хотел отогнать ее, но пес поднял морду, и в свете уличного фонаря, зыбком и смутном, Филипп был поражен тоскливым, человечьим взглядом собачьих глаз. Умная и добрая, собака приглянулась всей семье. Малыш охотно играл с ней. Филипп еще только подходил к дому, а она уже стояла у двери, скреблась и подвывала. Филипп дал ей имя Геката.
— Зачем? — удивилась Габриэль. — Ведь это черное имя. В греческой мифологии так звалась богиня луны, колдунья, которой ночами приносили в жертву собак. Зачем такое жуткое имя?
— Ну, я не так суеверен, как ты, милая Габриэль! Геката, на мой взгляд, вполне подходящее имя для этакой черной псины.
Впрочем, жене он сказал другое:
— Я назвал собаку Гекатой, потому что вспомнил свое путешествие в Грецию, твою юность и твой рассказ о том, как ты принесла в жертву собаку на старом кладбище…
— Я не хочу об этом вспоминать, — перебила мужа Мария.
Однако женщины не смогли переубедить Филиппа, и собака сохранила имя Гекаты.
Вскоре Мария стала жаловаться Габриэль на то, что собака, кажется, дурно влияет на Филиппа. Теперь во время работы он зачастую запирал свой кабинет. Иногда оттуда доносились смех Филиппа, подвывания собаки. Вероятно, собака шумно каталась по ковру. Слышно было, как Филипп ласкал ее: «Геката, девочка моя… Геката!»
Мария доверилась Габриэль и рассказала ей о том, что ночами происходит что-то странное. Она не узнает Филиппа, он часто бывает таким жестоким и сладострастным, прежде он всегда был добрым и нежным. Впрочем, подробности Габриэль не решилась доверить дневнику, о чем и записала.
Филипп стал странным, перестал быть откровенным с женой, сделался задумчив, никому не позволял входить в свой кабинет. Он выписывал новые книги и не позволял в них заглядывать ни Марии, ни Габриэль. Однажды Габриэль с опаской заглянула в приоткрытую дверь его кабинета. Она заметила на канапе книгу и даже смогла разглядеть текст. Это была книга о том, в виде каких животных представляют себе демонов. Габриэль подошла поближе к приоткрытой двери, но тут ее испугало злобное рычание Гекаты. Она не узнавала кроткой собаки в этом существе с вздыбленной шерстью и горящими глазами. Геката стояла у двери и рычала некоторое время, хотя Габриэль уже отошла от кабинета.
Однако не прошло и года, как стало заметно, что собака досаждает и Филиппу. Однажды, вернувшись с прогулки, он сказал, что Геката вырвалась и убежала. Он долго звал ее, но она не вернулась. Ее не нашли и на следующий день. Странно, но никто не видел, не встречал эту большую приметную собаку. Она исчезла, как в воду канула.
Через два месяца, окончательно уверившись, Мария сказала Филиппу о своей беременности. Отношения между супругами снова стали прежними — добрыми и доверительными. Они с радостью ждали второго ребенка. Все осталось по-прежнему и после рождения дочери. Однажды Филипп смущенно признался жене, что появление собаки совпало с каким-то нервным расстройством, которым он страдал некоторое время. Кажется, это расстройство сопровождалось галлюцинациями.
Но Мария скрыла от Габриэль подробности этого признания Филиппа. А может быть, Габриэль просто не решилась их записать.
Поль снова отложил дневник и задумался. Должен ли он сказать Анне правду? И что такое в данном случае правда? И как нужно трактовать галлюцинации? Как истинное происшествие? И, в сущности, что доказывают записи Габриэль? Только то, что его дед страдал одно время галлюцинациями так же, как и он. Впрочем, у него это был лишь эпизод, у деда же, кажется, галлюцинации были продолжительными.
Габриэль спала в другой половине дома вместе с няней и маленьким сыном супругов Л. Но однажды она записала, что ночью до них доносился странный и сильный шум, она и няня, обе проснулись. Это было, когда в доме еще жила Геката. Вероятно, шумела собака, и супруги успокаивали ее.
После рождения дочери Филипп начал проявлять признаки религиозности. Посещал церковь вместе с женой. Исповедовался.
Постепенно странная история с собакой забылась. Дети росли здоровыми. Семейство Л. жило спокойной, несколько замкнутой жизнью.
Однажды, войдя в комнату девочки, Габриэль увидела, что малышка сняла нательный крестик и бросила его на ковер.
— Зачем ты это сделала, голубка? — спросила Габриэль.
— Мне от него душно! И он мне не нравится! — ответил ребенок.
Габриэль рассказала об этом Марии. Вдвоем они попытались уговорить девочку надеть крестик.
— Вот посмотри, я сама тебе надену! — ласково приговаривала Мария, надевая девочке на шейку мягкий шнурок.
Но ребенок схватился обеими ручками за шейку, появились все признаки настоящего удушья, личико посинело. Перепуганная мать поспешила снять крестик. Малышка мгновенно успокоилась. Расстроенная Мария не решилась надеть дочери крестик.
С того дня Мария стала задумчива, стала менее откровенной с Габриэль.
Как-то раз за обедом, когда Филипп похвалил какое-то кушанье, Мария спросила его, помнит ли он парное козье молоко, маслины, пилав с бараниной, которыми кормили его в доме ее брата Костандиса.
— Ну как же я могу все это забыть! — улыбнулся Филипп.
— Я чувствую себя виноватой. Я должна была писать брату.
— Но, Мария, ведь и Костандис не послал тебе ни одного письма, хотя я оставил ему наш адрес в Париже.
— А почему бы нам не написать Костандису вновь? — предложила Мария.
Письмо было написано и отослано. Однако Костандис не отвечал. Возможно, он не считал нужным возобновить отношения с сестрой. Может быть, чувствовал какую-то обиду на нее. Наконец-то пришло письмо, и все прояснилось.
Костандис не мог бы написать сестре, даже если бы очень того пожелал. Ведь спустя несколько дней после ее отъезда его нашли мертвым. Он утонул в реке. Должно быть, во время купания в холодной воде горной реки у него сделались судороги. Так во всяком случае объясняли его гибель дальние родственники, приславшие ответ на письмо Марии. Тело Костандиса увлекло течением, и нашли его лишь несколько дней спустя, у старого кладбища, там, где течение замедляется.
Марию огорчила смерть брата. Теперь она вспоминала, что он не был таким уж плохим. Когда она была совсем маленькой девочкой, он искренне любил ее. И он хотел дать ей приданое. Она сама отказалась. Родственники писали, что оставшееся после Костандиса имущество они поделили поровну, а Мария ведь когда-то сама отказалась от своей доли. Между прочим, сообщалось, что свою долю взяли и родители Эвдокии, жены Костандиса.
— Возможно, они и убили его, — взволнованно заметил Филипп. — Ведь отец Эвдокии был мельником, хорошо знал реку.
— Они побоялись бы взять такой грех на душу! — возразила Мария.
Спустя некоторое время Мария заговорила с мужем о поездке в Грецию. Она сказала Филиппу, что ей хотелось бы побывать на могилах брата и родителей, да и ее детям хорошо бы увидеть родину матери.
— Помнишь, Филипп, как ты любил наши горы, наслаждался чистым воздухом!
— Да, это чудесная идея! И, кроме всего прочего, я наверняка найду новые материалы для иллюстрации моих теорий происхождения некоторых средневековых культов.
— Что ты имеешь в виду?
— Расскажите подробнее, Филипп, — присоединилась к разговору Габриэль.
— Хорошо. Дело вот в чем: в греческой мифологии ночным божествам были посвящены животные, ведущие более или менее ночной образ жизни. Например, считалось, что Гекату — богиню луны сопровождают волки, собаки, совы и филины. По ночам на перекрестках дорог ей приносили в жертву собак.
— Это я знаю, — заметила Габриэль.
Мария нервно сжала пальцы.
— Ну вот, — продолжал Филипп, — а в средние века, уже в мифологической системе христианства, волки, собаки, совы, кошки считались животными, в облике которых может предстать людям дьявол!
— Как легко ты говоришь обо всем этом! — грустно произнесла Мария.
— Это тема моей новой работы, — Филипп помолчал. — Впрочем, я давно хотел написать об этом…
Габриэль почувствовала, что всем им хочется теперь упомянуть собаку Гекату, которая так внезапно появилась в семье Л. и столь же неожиданно исчезла. Но какой-то страх, какое-то ощущение неловкости мешало им заговорить о собаке. Казалось, с этим животным было связано что-то странное, необъяснимое и пугающее в своей таинственности.
В тот же день семья Л., включая Габриэль, отправилась в церковь к пасхальной службе. Внутренность храма была красиво убрана. Горели свечи. Было много цветов. От пестроты, сильного аромата цветов и многолюдья у Габриэль слегка закружилась голова. Дети стояли рядом с матерью. Внезапно малышка подняла ручки, Мария взяла дочь на руки. Вышел священник, началась служба. Но при первых же звуках голоса священника девочка вскрикнула и потеряла сознание. Филипп и Мария поспешно понесли побледневшего ребенка к выходу. Габриэль и старший мальчик последовали за ними.
На улице девочка открыла глаза.
— Я не должна была вести ее в церковь! С того самого дня! Не должна была! — повторяла Мария.
Габриэль поняла, что она имеет в виду тот день, когда девочка пожаловалась на то, что не может носить крестик. Усадив семью в фиакр, Филипп бросился за врачом.
Когда семья возвратилась домой, Филипп и врач уже ждали.
Врач внимательно осмотрел ребенка.
— Но девочка совершенно здорова! Это случайный обморок, вызванный, конечно, теснотой, громкими звуками, сильными запахами. Я всегда считал, что таких маленьких детей не следует водить в церковь! Странная торжественность пугает их.
Филипп согласился с доктором.
Вскоре после обморока, случившегося с дочерью в церкви, Мария вновь, и еще более настойчиво, заговорила с мужем о поездке на ее родину.
— С нами поедет и Габриэль, ей необходимо развлечься, она отдает нашей семье всю свою жизнь. Мы все окрепнем, наберемся новых впечатлений. Ты закончишь свою работу.
— Ту самую, о демонических животных? Порою у меня совершенно пропадает желание работать над этим материалом. Но ты права. Возможно, поездка в Грецию наведет меня на новые мысли. — Он задумался, затем улыбнулся: — Как весело и интересно будет показать детям Акрополь, Коринф! Если бы мы могли поехать на Крит!
— А почему мы должны лишать наших детей такого удовольствия?
— Решено! Едем!
Как это часто бывает, серьезным препятствием оказалось отсутствие денег. Филиппу пришлось залезть в долги. Но какое-то внутреннее убеждение подсказывало ему, что его жена не сможет жить дальше, если не совершит эту поездку.
Они плыли морем. Дети прекрасно переносили путешествие. Особенно девочка. Она нисколько не боялась открытого водного пространства, тянулась к воде и, выбегая на палубу, радовалась, когда корабль чуть покачивало.
Однажды вечером Филипп и Мария были в каюте. Габриэль с детьми вышла на палубу, они подошли к борту. Чуть отойдя, Габриэль глаз не спускала с детей, любующихся волнами. Внезапно мальчик повернулся к ней:
— Тетя Габриэль! Мари, — он указал на девочку, — Мари сказала, что видит каких-то людей в море!
Габриэль наклонилась к малышке. Девочка вытягивала указательный пальчик:
— Там люди! Они улыбаются мне! Они говорят, что я скоро буду с ними! Они плещутся в воде! Смотри, тетя! Они такие смешные! У них ушки, как будто у котят, и маленькие круглые рожки!
Усилием воли Габриэль заставила себя быть спокойной:
— Тебе просто показалось, маленькая.
— Нет, нет! Я вижу! Они зовут меня! Они говорят, что с ними мне будет хорошо!
— Пойдем, маленькая. — Габриэль осторожно взяла девочку за ручку. Малышка упиралась, оглядывалась на море.
— Тебе просто показалось, милая.
На следующий день за завтраком глаза у Марии были заплаканны. Габриэль ни о чем не спросила ее. Но позднее Филипп отвел Габриэль в сторону и заговорил сам:
— Мария расстроена. У девочки явно были галлюцинации, она видела в море каких-то странных существ и утверждает, что они разговаривали с ней. Мы очень опасаемся: вдруг это первые признаки душевной болезни… И тот обморок в церкви…
— По-моему, вы преувеличиваете! Мари просто очень впечатлительна. Ребенок впервые увидел море, эту живую водную поверхность. У девочки разыгралось воображение, и, как многие дети, она не видит разницы, не проводит границы между своей фантазией и реальностью.
— Ты действительно так думаешь, Габриэль? — Он пытливо посмотрел на нее.
— Я убеждена! — В эту минуту Габриэль и вправду говорила убежденно и верила своим словам.
Филипп с благодарностью пожал ей руку.
Но, оставшись наедине со своим дневником, Габриэль утратила прежнюю уверенность.
«Со всеми нами происходит что-то странное, чему не подобрать названия, — записывала она. — Порою мне кажется, что каждый из нас мог бы многое рассказать. И, возможно, эти признания прояснили бы происходящее. Но какая-то неуверенность сдерживает нас. В сущности, все мы боимся, что наши возможные взаимные признания нарушат привычную картину обыденного мира, в котором мы существуем!»
Вслед за этой записью следовали рассуждения Габриэль о религии. Далее она записала, что даже на исповеди трудно многое сказать о себе.
Поль снова отложил дневник. Все это было так похоже на то, что сейчас происходит с ним и с его семьей! Да, кажется, необходим откровенный разговор! Но ведь такие попытки были. Катрин пыталась что-то рассказать. Бедняга Дени собирался сделать какое-то признание. А если он сам попробует сказать Анне… Сам!.. Поль снова потянулся за альбомом.
Семейство Филиппа Л. прибыло в Грецию, и вскоре забылись все тревоги, все страхи и предчувствия. Очарование земли, на которой некогда возникла одна из величайших цивилизаций, захватило всех! Даже Мария немного развеселилась.
Целыми днями бродили они по окрестностям Афин, любуясь колоннами, статуями.
У поросшей травой тропинки дети заметили каменную плиту с выбитыми на ней надписями и принялись громко звать родителей.
— О, — воскликнул Филипп, — а ведь это жертвенник Гекаты! — Он нагнулся, разбирая почти совсем стершиеся буквы. — Здесь ночами молились ей и приносили жертвы!
Габриэль показалось, что вокруг воцарилась странная тишина, и голос Филиппа звучит необычайно громко. Это длилось какое-то мгновение, затем тишина прервалась стрекотом цикад, шумом шагов.
— Уйдем отсюда! — попросила Мария.
В отеле она напомнила мужу о том, что пора съездить в ее родную деревню. Филипп, разумеется, поддержал ее намерение.
Они двигались целой кавалькадой. Филипп не мог отказать себе в удовольствии надеть местный костюм, как когда-то в юности. Мария и Габриэль были в нарядных амазонках. Они наняли пятерых местных жителей, двое из которых несли носилки. В носилках сидели дети. Мальчику очень хотелось ехать верхом, но родители не позволяли ему.
Все были в прекрасном настроении, шутили, с наслаждением дышали чистым горным воздухом.
Со дня отъезда Филиппа и Марии из ее родной деревни прошло почти десять лет. Но время, казалось, не имело власти над этим уголком древней земли. Филипп увидел все те же обычаи, те же дома, пасущихся коз; женщин, прядущих на ходу свою пряжу.
Они остановились в доме сельского старосты. Мария сразу поняла, что ее не могут узнать, и шепотом попросила Филиппа не раскрывать бывшим односельчанам, кто она такая. Филипп улыбнулся этой женской причуде и, разумеется, пообещал жене не раскрывать ее инкогнито. Никто не узнал и его.
Несколько дней они бродили по окрестностям, наслаждались парным молоком, вкусными овощами и фруктами, всеми прелестями мирного сельского бытия. Но Габриэль заметила, что Марию тревожат какие-то мучительные раздумья. Габриэль совсем было решилась сказать о своем наблюдении Филиппу, но затем передумала. В конце концов, это будет напоминать какое-то доносительство!
Филипп выбрал время и навестил старое кладбище. И здесь все осталось по-прежнему — древние плиты, полустершиеся надписи, цикады в густой траве…
В деревню Филипп вернулся к обеду. Ему попался сын старосты. Юноша пожаловался на то, что нигде не может найти дворовую собаку.
— Ума не приложу, куда подевалась! А ведь нынешней ночью полнолуние!
— И что же? — спросил Филипп, хотя уже все понял.
— Да есть тут у нас обычай: если, мол, в полнолуние прирезать собаку на старом кладбище, явится душа мертвеца! Уж сколько священник уговаривал не делать этого, а все находятся такие отчаянные, и все больше бабы! И ведь не боятся! Я бы ни за что не пошел на старое кладбище в полнолуние! Эх, как бы не прикончили нашу псину нынче ночью!
«Мария!» — подумалось Филиппу.
За обедом Мария была необычайно весела и приветлива. А после обеда предложила сварить кофе. Обычно кофе варила сама хозяйка. В ответ на предложение жены Филипп кивнул. Но Габриэль ощущала какую-то непонятную тревогу и принялась искоса наблюдать за Марией.
Мария подлила в две чашки жидкость из пузырька.
Ароматный дымящийся кофе явился на подносе. Филипп немедленно прихлебнул. Габриэль осторожно принюхалась. От горячего темного напитка исходил запах макового отвара.
«Она хочет нас усыпить, меня и Филиппа! Но зачем?»
— Какой горячий! — Габриэль взяла чашку и снова поставила на поднос. — Пусть остынет!
Габриэль лихорадочно пыталась сообразить. Филипп углубился в газету, привезенную старостой из ближайшего городка. Мария была напряжена.
— Мари! — воскликнула Габриэль и бросилась к двери, схватила на руки малышку. — Нельзя, моя маленькая, нельзя выбегать во двор. Там отвязалась собака. — Габриэль обернулась к Филиппу и Марии, чтобы сказать им о пропаже хозяйского пса, и как бы случайно задела локтем свою чашку. Чашка опрокинулась, кофе разлился, начались обычные в таких случаях охи, ахи, возгласы, извинения… Другой кофе для Габриэль Мария не приготовила. У Марии был вид человека, окончательно на что-то решившегося и махнувшего рукой на некоторые меры предосторожности.
Ночью яркий лунный диск осветил все. Габриэль не спала, чутко прислушиваясь. Она встала, тихо оделась. Она была уверена в том, что Мария что-то хочет предпринять.
Шаги. Мария!
Мария вышла во двор. На руках она держала спящую девочку. Габриэль прокралась следом.
Мария спешила. Если бы не луна, Габриэль просто не могла бы поспеть за своей хозяйкой-подругой.
Ночь была тихая. Габриэль поняла, что они направляются к старому кладбищу.
Они вышли на дорогу. Мария свернула в придорожную рощицу. Под одним из деревьев лежало что-то темное. Это оказалась собака старосты. Мария отвязала веревку и повела собаку за собой. Пес казался полусонным. Должно быть, Мария и его поила маковым отваром.
У Габриэль тревожно колотилось сердце. Она остановилась поодаль, в тени деревьев.
Мария бережно уложила спящего ребенка в траву. Ввела собаку на могильную плиту. Что-то блеснуло. Нож! Габриэль увидела, как хлынула кровь. Лапы несчастного пса судорожно вытянулись. Мария прижала к груди ребенка, который так и не проснулся. Габриэль пришло в голову, что Мария и девочку поила снотворным питьем. Много лет прожила она рядом с этой женщиной, была ее наперсницей, но теперь Мария казалась такой чуждой и пугающей!
С ребенком на руках Мария опустилась на колени. Что-то произнесла тихим голосом. Чуть поодаль заклубился в ярком лунном свете туман. Медленно свиваясь, он принял очертания смутной женской фигуры. Фигура виделась все ясней. Габриэль отчетливо различала изможденную женщину в местной одежде, черты лица ее выражали отчаяние, она ломала руки.
— Мама! — проговорила Мария на своем родном языке.
Раздался тихий, слабый, тонкий, как паутинка, голос. Фигура заговорила. Это звучание совершенно потустороннего голоса произвело на Габриэль пугающее впечатление. Она не так хорошо понимала греческий язык, но одно выражение повторялось часто в речи призрака — «злой дух»! Тонкая прозрачная рука простерлась и указала на ребенка, снова прозвучало это «злой дух»! Мария страдальчески вскрикнула. Фигура снова растеклась туманом и совсем исчезла.
Мария вскочила и бросилась бежать. Габриэль почувствовала, что должно произойти что-то ужасное. Она побежала следом. Стала звать: «Мария! Остановись!» Мария оглянулась, явно узнала ее и побежала еще быстрее. Габриэль не отставала. Но догнать бегущую ей не удалось. Мария легко взбежала на высокий берег реки и бросилась в воду. Габриэль не смогла удержаться от криков ужаса. На ее глазах быстрое течение уносило женщину и ребенка. Габриэль упала ничком на холодную землю и отчаянно зарыдала.
Наплакавшись, она хотела было приподняться, но потеряла сознание.
Когда Габриэль очнулась, должно быть, близился рассвет. Она поднялась и побрела назад в деревню. Тихо скользнула в свою комнату, разделась и погрузилась в тяжкий сон.
Ее пробудила суматоха во дворе, голоса людей.
На могильной плите нашли труп несчастной собаки. Филипп не находил себе места. Он сразу связал жертвоприношение на старом кладбище и исчезновение Марии и ребенка.
Габриэль так и не решилась сказать Филиппу о том, что видела ночью. Филипп ушел к себе. Кажется, он не хотел, чтобы заметили его тревогу. Жена старосты приготовила завтрак, удивляясь, почему Мария и ребенок не возвращаются; она думала, что они, как обычно, гуляют по окрестностям.
Днем тело Марии нашли женщины из соседней деревни, расположенной ниже по течению реки. Они спустились к реке стирать белье и увидели прибитую к берегу утопленницу. Ребенка с ней не было, хотя руки судорожно сжимали накидку, в которую ребенок был завернут. Обычно Мария брала с собой эту накидку, когда прогуливалась с детьми, и заворачивала девочку в эту накидку. Это была голубоватая старинная накидка — семейная реликвия Филиппа. Странно, но ткань, казалось, нисколько не пострадала от воды. Местные жители говорили, что ребенка, должно быть, унесло сильным течением в море.
Когда труп Марии привезли в ее родную деревню, односельчане вдруг сразу узнали ее. Но странное молчание окружило утопленницу. Люди хмурились, женщины отворачивались. Марию похоронили быстро, чуть ли не наспех, рядом с могилой ее матери. На Филиппа и его сына было больно смотреть.
Габриэль чувствовала, что никогда не расскажет Филиппу о происшедшем. Она покинула семью Л. Теперь у нее имелись небольшие сбережения, и она вернулась в свой родной город, где повела скромное существование одинокой набожной старой девы. Родители ее давно умерли. Сестры вышли замуж. Изредка ее навещали племянники. Она переписывалась с Филиппом и его сыном. Мальчик рос, учился, превращался в славного умного юношу. Спустя некоторое время Филипп женился на уже не очень молодой, но состоятельной даме, вдове. Это была женщина доброжелательная. Однажды Габриэль навестила семью Л. в Париже. Детей у Филиппа больше не было.
Из последних записей Габриэль Поль узнал, что к ней приезжала его мать, которая вначале понравилась Габриэль, затем показалась взбалмошной и вздорной. О своем разговоре с молодой женщиной Габриэль писала как-то глухо. Вероятно, она что-то доверила ей и после сожалела об этом.
«Бедная мама! — подумал Поль. — Быть может, ее вздорность, истеричность были всего лишь некоей формой приспособления ко всему тому странному, что содержится в истории нашей семьи!»
Поль снова задумчиво перелистал плотные листы дневника. Итак, он должен рассказать Анне о том давнем происшествии, о том, что случилось с ним самим… Но, в сущности, о чем? О чем говорит дневник этой женщины? Что подтверждают ее записи? В роду Л., несомненно, гнездится психическое заболевание. Бабушка так и осталась до самого трагического конца своей жизни экспансивной дикаркой из экзотической деревни. А странно, отец никогда не рассказывал ему о своей маленькой сестре! Но теперь понятно, почему! И все они — больной Филипп, экспансивная Мария, нервная восприимчивая Габриэль, в сущности, мало контактировали с окружающим миром, и это, конечно, усугубляло их предрасположенность к странным реакциям… Но ведь и семья Поля живет достаточно замкнуто…
«Надо вести более активный образ жизни! Следующим летом отправимся куда-нибудь на людный курорт. Если, конечно, не будет войны». — Поль досадливо сдвинул брови.
«А собака? Как быть с этим?» — Поль начал подыскивать реальные основания случившемуся когда-то с ним и, оказывается, уже случавшемуся с его дедом. Но нить его мыслей была резко прервана вторжением Анны.
Анна, растрепанная, повязанная кухонным передником, влетела в комнату.
— Поль! Мы едем! Сейчас же! Ни секунды промедления! Никаких объяснений! Я не хочу, чтобы моя дочь сошла с ума! За вещами заедем после!
Взглянув на жену, он понял, что все возражения, доводы, сомнения следует оставить.
Разумеется, нечего было и думать о том, чтобы добраться до Парижа на машине Поля. Хотя такое намерение и было, но автомобиль оказался не в очень хорошем состоянии. Мишель и Катрин решили добираться до станции на велосипедах. В машину сели Анна, ее отец и Марин. Поль поместился за рулем. Они решили оставить автомобиль у начальника станции и вернуться за ним позднее.
На вокзале Анна хотела купить билеты на поезд, отходивший через час, но Поль удержал ее, надо было дождаться Мишеля и Катрин: уезжать, так уж всем вместе!
Они сидели на жесткой деревянной скамье. Марин прижалась к матери. Анна ласково погладила дочь по темным густым волосам. Девочка успокоилась. Теперь они непременно уедут. Осталось потерпеть совсем немного! Марин вынула из своей дорожной сумки, которую захватила с собой, том Монтеня и принялась за чтение. Ей было приятно читать, потому что она ощущала, как бережно и внимательно относится к ней мать. Поль вспомнил о том, что захватил с собой дневник Габриэль, и раскрыл его.
— Библиотечный зал! — улыбнулся старик, отец Анны.
«Итак, — Поль снова размышлял, — собака! Каким образом объяснить?.. И портрет! Но, господи, ведь это так просто! Это поразительное сходство с определенным типом лица, периодически встречающимся в нашей семье, и породило легенду о человеке, рождающемся накануне катастрофы, о том, кто должен выжить… Да, кажется, с этим все ясно!»
Внезапно стеклянные двери распахнулись так резко, что все сидевшие в зале ожидания невольно подняли головы. К скамье, на которой расположилась семья Л., порывисто приближалась пожилая худая женщина в черном. Это была Жюли К., тетка покойной Мадлен. Она запыхалась, тяжело переводила дыхание.
— Мне сказали, что вы едете! Я тоже еду, сейчас, поезд отойдет через двадцать минут! Поль Л., я прошу вас, верните мне дневник! Я ничего не могу объяснить! Но верните дневник! Мне было предупреждение! Странное! Я не могу сказать! Верните дневник!
— Я действительно захватил с собой дневник вашей родственницы, — начал Поль. — Совершенно случайно, впрочем. Прошу вас! — Поль вручил ей толстый альбом. — И попытайтесь успокоиться, присядьте!
— Нет, нет, я спешу! Благодарю вас за то, что вы не задаете излишних вопросов! Прощайте!
То, что произошло в ближайшие полчаса, напоминало кадры приключенческого фильма. Старуха исчезла за дверями. Вскоре раздался гудок тронувшегося поезда. Стук колес. И тотчас вслед за этими обыденными звуками — грохот взрыва.
Поднялась суматоха, все бросились к дверям.
— Сидите! Не двигайтесь! — кричала Анна. Она не хотела, чтобы ее старый отец, Марин и хромой Поль оказались в гуще растерянной толпы. Ведя велосипеды, к ним пробрались Мишель и Катрин, они только что доехали до станции и видели, как столкнулись два поезда. Это было очень страшно!..
«Дневник погиб! — думал Поль в состоянии какого-то отупения. — Нет в живых Жюли К., то есть еще одного человека, причастного ко всему этому странному…»
Железнодорожное полотно было основательно повреждено. Теперь не представлялось возможным уехать раньше, чем через неделю. Обратно в загородный дом возвращались унылые, измученные. Анна обнимала за плечи плачущую дочь.
Комнаты и лужайка показались всем какими-то заброшенными, одичавшими, хотя ведь они отсутствовали всего каких-то несколько часов!
— Уедем через неделю, — заговорил Мишель с несколько наигранной бодростью.
— Мы никогда отсюда не уедем, — понурилась Марин.
— Сейчас нам надо подкрепиться! — Анна уже взяла себя в руки. — Марин, я буду спать в твоей комнате, можно?
— Спасибо, мама, с тобой я не буду бояться!
Снова появились все признаки обыденного бытия: ужин, зажженные лампы. Но что скрывалось за этой реальностью?
После ужина тихо сидели в гостиной, как обычно. Катрин читала. Марин и Мишель играли в шахматы. Старик задумчиво молчал. Анна пристроилась рядом с креслом Поля и вязала. Поль и Анна разговаривали так тихо, что никто не мог их услышать.
— То, что произошло сегодня, ужасно! — проговорил Поль, склоняясь к жене. — Для меня страшнее всего то, что, в сущности, я думаю о катастрофе лишь как о событии, помешавшем нашему отъезду! Погибли люди, много людей, они даже не подозревали о существовании нашей семьи! Но почему же, спрашиваю я себя, почему же мне порою кажется, что крушение произошло специально для того, чтобы воспрепятствовать нам…
— Мне кажется, это обычные человеческие мысли. — Спицы быстро двигались в проворных пальцах Анны. — Чаще всего мы просто не замечаем их. Но сегодня ты все воспринимаешь обостренно, потому и сумел сформулировать трагическую суть этой обыденности.
— Ты умница!
— Осторожно, не наклоняйся слишком низко, уколешься!
— Я просто хочу поцеловать тебя!
— Но мы не одни!
— Я совсем незаметно! — Поль осторожно откинул светлые волосы жены и поцеловал ее в висок.
— Знаешь, Поль, эта катастрофа с поездами почему-то напомнила мне о смерти Дени. Бедный юноша! И Барб! Это был ее любимец, младший сын.
— Ты веришь, будто он наступил на косу и его ударило лезвием?
— Я уже ничему не верю!
— Скажи, Анна, отчего ты не спросишь меня о дневнике?
— Да, как-то совершенно вылетело из головы! Но ведь и ничего удивительного! Ты успел дочитать?
— Дочитал. Это история семьи моего деда. Бабушка была гречанкой, звали ее Мария. Я еще помню ее даггеротипный портрет. Мать уничтожила его. Но теперь я, кажется, могу ее оправдать!
Поль начал пересказывать жене содержание записей Жюли К. Он сам не мог бы объяснить, почему, он утаил от Анны то, что призрак на старом кладбище, указав на маленькую дочь Марии, говорил о «злом духе».
— Все это довольно жутко! — Анна поежилась.
Поль помолчал.
— Ты знаешь, Анна, я давно хочу тебе сказать, признаться… Только что я рассказал тебе, что, судя по дневнику Жюли, мой дед страдал галлюцинациями, и это было как-то связано с его собакой… Ты помнишь ту нашу размолвку? Но это глупый вопрос. Разумеется, помнишь! В то утро я вошел в спальню и увидел на постели женщину, совершенно незнакомую! С всклокоченными волосами, с темными провалами безумных глаз! Вероятно, она убежала из какой-то лечебницы! Она лежала на нашей постели, прикрывшись одеялом! И вдруг… Мною овладело постыдное желание! Сознание заволоклось какой-то мутью! Происходило что-то странное, страшное, мучительное! Смутно припоминаю, будто видел тебя… как в тумане… А потом я понял, что она… оно… это существо — гермафродит! Мне стало противно! Существо опустилось на четвереньки и побежало к двери… Оно превратилось в собаку, Анна! На моих глазах! Но это, конечно, была галлюцинация! Такие же галлюцинации, кажется, бывали и у моего деда! Ты должна простить меня! В ту ночь ты ждала меня, а я уснул одетый в гостиной. А утром… ты видела меня и это…
Анна сидела в оцепенении.
Та ночь! О, она все помнит! Она помнит, каким странным был Поль, ее Поль! Он мог забыть! Прошло столько лет. Нет, незачем лгать самой себе! Он прекрасно все помнит! Он не был с ней в ту ночь! Кто же был? Марин! Конечно же, девочка была зачата в ту ночь! Кто ее отец?
— Забудь обо всем этом, Поль, — ровным голосом произнесла Анна, — забудь, если сможешь! Я люблю тебя, и мы всегда будем вместе!
Поль снова поцеловал жену.
Утром Мишель съездил на велосипеде в деревню, привез газеты. Старик, отец Анны, просматривал заметки о крушении.
— Что они пишут, папа? — спросила Анна.
— Что-то странное! Крушение произошло вне всякой логики. Поезда двигались точно по расписанию. Пути были в полной исправности!
— А по-моему, — заметил Мишель, — не стоит видеть сверхъестественное там, где оно и не ночевало! Разумеется, служащие железной дороги не спешат предать гласности свои упущения и ошибки!
Никто не ответил Мишелю. От этого общего молчания юноше сделалось немного не по себе. Наконец старик, казалось, сжалился над ним:
— Возможно, ты и прав!
— А возможно, что Мишель не прав! И все мы правы! Или не правы! И все это никогда не кончится! Или кончится очень плохо! — Марин расплакалась.
— Девочка моя, успокойся! — Анна бросилась к дочери.
— Успокойся, сестричка!
Марин оттолкнула руку Мишеля.
— Не надо успокаивать меня! Мы не смогли уехать! И все мы знаем, что крушение произошло только для того, чтобы помешать нам уехать! И никаких других причин нет и быть не может! Не может! И погибли люди! И никто не знает и не будет знать, что все это из-за нас, из-за нас! И нам самим никого не жалко! Потому что все мы знаем, что мы обречены! И мы умрем!
— Марин, перестань! — воскликнул Поль.
— Нет, не перестану! Мы умрем! Мы все погибнем! Наша смерть будет страшной! Страшнее, чем крушение! Страшнее!
— Тише, голубка, тише, — испуганно бормотала Анна.
— Я не хочу умирать, не хочу! — выкрикнула Марин.
Внезапно девочка замерла с широко раскрытыми глазами, глядя прямо перед собой.
— Нет, — тихо заговорила она, — то, что случится со мной, это будет не смерть! Страшнее смерти! Бессмертие, да? Бессмертие? — Было непонятно, кого спрашивает Марин. — Бессмертие страшнее смерти! Я боюсь! Спасите меня! За что мне все эти муки?! Я не злая! За что?!
Девочка с плачем упала на пол. Анна опустилась рядом, обняла дочь, нежно гладила ее по голове и тоже плакала.
— Нужно быть спокойными, — раздался голос старика. — Мы ничего не можем изменить. Ничему не можем помешать! Мы должны просто жить! Жить и думать о том, что через неделю мы непременно уедем отсюда!
Катрин, до сих пор молчавшая, нервно что-то процедила сквозь зубы и быстрым шагом вышла на лужайку перед домом.
Она увидела, как Мишель ведет велосипед.
— Куда ты? — с беспокойством окликнула сына Катрин.
— Прокачусь в деревню!
— Мишель, будь осторожен!
— Разве ты не слышала, что сказал дед! Надо просто жить! Жить и ждать! И ездить на велосипеде!
Он вскочил в седло и педали завертелись.
Катрин глядела на удаляющегося сына, курила и думала. Что-то происходит с ней. Еще недавно ей казалось, что она нашла в жизни свой путь. Любовь молодой девушки, например, такого существа, как Мадлен, в этом Катрин видела смысл жизни. Она поморщилась. Как все было глупо! Глупо и противно! И эта смерть Мадлен! Ей показалось, будто она видела на берегу Марин. Да, видела! Это не была галлюцинация! Но это не была Марин! Кто же это мог быть?
Но странно! После смерти Мадлен она, Катрин, не может без стыда подумать о женской любви. Как она могла жить этой жизнью?! Глупо! Отвратительно! Пошло!
Кто виновен в смерти бедной Мадо? Она, Катрин, кто же еще! Зачем она соблазнила ее? Зачем внушала, будто женская любовь может заменить все — мужа, детей, дом? Зачем она привезла девушку сюда? Это было самоубийство, то, что произошло с Мадо!
Она, Катрин, она могла привезти сюда эту девушку! Сюда, в семейный дом Поля и Анны! Какой стыд! Какие они терпеливые люди! А Марин? Марин все поняла! Какой пример она подавала Марин! И Анна! Катрин виновата перед Анной. Зачем надо было рассказывать дурное о Марин! Бедная девочка! Это была не Марин! Кто же это был? Боже! А не все ли равно! Что за нелепая страсть расследовать, разбирать, пытаться понять! А нужно одно: попытаться разобраться в себе! Вот что нужно!
И в этот миг Катрин изумилась. Ей показалось, будто она явственно услышала, как тихий чужой голос произнес, словно бы внутри ее сознания: «Поздно».
Катрин невольно оглянулась. Конечно, она была одна на лужайке.
Сын! Как она могла так мало думать о нем? Он — единственное, что у нее есть! Этот худощавый парнишка с чуть вздернутым носом и дыбящимися на макушке светлыми волосами. Быть рядом с ним, помогать ему…
Как она виновата перед сыном! Она не растила его!
Барб! Бедная кормилица! Несчастная мать!
Анна! Они растили Мишеля!
Конечно, он никогда не простит Катрин! Да ей и не нужно. Только бы видеть его, хотя бы иногда. Знать, что он здоров. Помогать ему, если он позволит! Ей больше ничего не нужно!
И снова ей показалось, будто она слышит тихий чужой голос внутри своего сознания: «Поздно».
Она закурила новую сигарету.
Когда все началось?
Может быть, все это — какое-то странное, неизученное влияние. Например, странное взаимодействие местности и нервной системы людей, поселившихся в этой местности. Нет, что за глупости у нее в голове!
Так с чего же все началось?
Она припомнила летний день. Это было давно, сто лет назад, а ведь на самом деле недавно, совсем недавно.
Поляна в лесу. Три маленьких креста, связанных из веток. Три ящерицы корчатся на крестах, распятые… Или они уже были мертвы? Или умерли, когда она их освободила?
И Марин! Как нелепо было подозревать Марин!
Надо попросить прощения у Анны!
Катрин бросила окурок и пошла в дом.
В доме царила тишина. Поль был у себя. Отец Анны дремал в своей комнате.
Анны и Марин нигде не было. Может быть, они в пристройке?
Катрин вышла на веранду. Нет, похоже, и в пристройке никого нет. Она приложила ладонь козырьком к глазам. Ей показалось, в пристройке кто-то есть! Она никого не заметила, но возникло ощущение, что кто-то есть! Но ведь Барб увезла ключ! Ах да, Мишель открывал дверь, искал записи Дени. Не нашел! Бедняга Дени! Откуда она знает о том, что Мишель открывал дверь в пристройку? Кто ей сказал? Где она слышала? Да все равно! Так можно с ума сойти! Скорее бы уехать!
Но если в пристройке кто-то есть! Она вздрогнула. Нет, это правда! Человеческая фигура вихрем пронеслась к лесу. Выскочив из пристройки!
Не раздумывая, Катрин побежала через лужайку. Рванула дверь. Дверь легко отворилась. Никого! И никаких следов того, что здесь недавно кто-то был!
Может быть, Анна и Марин на кухне? Последнее время Марин не отходит от матери! Бедная девочка! Она напугана!
Катрин вернулась в дом.
Тишина.
Прошла по коридору. Дверь в комнату Марин была открыта.
За дверью — голоса.
Слава богу, это Марин и Анна!
— Можно? — Катрин остановилась.
— Да, заходи! — Анна посмотрела на нее приветливо. — Ты очень кстати!
— Почему же?
— Я решила принести сюда из кладовой сундук, тот самый, с платьями и портретом. Но он тяжелый. Может быть, мы с тобой вдвоем справимся?
— Я помогу! — вмешалась Марин.
— Не надо! — откликнулась мать.
— Попросим Мишеля! — предложила Катрин. Ей хотелось о чем-то попросить сына, о каком-нибудь незначительном одолжении.
— Ах нет! — Анна покачала головой. — Я не знаю, но мне почему-то кажется, что ему не нужно слишком много знать обо всем этом!
— Анна! Анна! Ты — настоящая мать! А я такая нечуткая! Я обидела тебя и Марин! Я ведь сейчас пришла, чтобы попросить прощения!
— Забудем, Катрин! Мы ведь близкие люди и никогда не оставим друг друга!
— Забудем, тетя Катрин! — Марин сидела на своей постели, чуть сгорбившись. За последнее время в ней появилось много чисто детских черт. Вероятно, это произошло под влиянием всех ее страхов и мучительных переживаний, от которых она нашла защиту у матери. Отношения матери и дочери теперь сделались нежными и добросердечными.
— Знаешь, мама, — Марин тронула мать за плечо, — давай просто перенесем портрет и платья и ту накидку в комнату. А сундук оставим в кладовой! Он тяжелый!
— Моя умная девочка! — Анна вздохнула. — А ты видела эти платья и портрет?
— Не помню! Но мне кажется, что я никогда их не видела!
Обе женщины и девочка отправились в кладовую и принесли оттуда портрет, платья и накидку.
— А куда мы их спрячем? — спросила Марин.
— В шкаф? — Катрин посмотрела на Анну.
— Да, конечно, в шкаф. Но прежде, Марин, я хочу рассказать тебе кое-что об этих предметах! Ведь это семейные реликвии!
Произнеся это, Анна вдруг смолкла и опустила голову. Семейные реликвии! Но кто отец ее дочери? О боже! Не следует обо всем этом думать!
— Что же за реликвии, мама?
— Эти два платья, серебристое и золотистое, и этот голубой плащ остались твоему отцу после смерти его родителей. А его родители унаследовали это от своих родителей.
— И так далее, в глубь веков! — Марин улыбнулась.
Анна обрадовалась тому, что у дочери выровнялось настроение.
— Да, милая, в глубь веков!
— Но все это сшито по моде восемнадцатого века. Античный стиль. Тогда именно это было в моде, — добавила Катрин.
— Однако сами ткани явно сделаны гораздо раньше! — заметила Анна.
— Да, очень старинные и очень странные ткани! — Катрин погладила серебристую поверхность. — Платье цвета луны!
— А портрет никого тебе не напоминает? — спросила Анна у дочери.
— Ну, мама! Как можно спрашивать с такой неуверенностью? Конечно же, этот мальчик страшно похож на Мишеля!
— А у тебя не возникает ощущения, будто это и есть наш Мишель? — осторожно полюбопытствовала Анна.
— Но ведь этого не может быть! Или нет! Теперь я отвечаю, не подумав, слишком легкомысленно. Вот почему я не могу представить себе, что это Мишель! Потому что и этот мальчик на портрете, и Мишель, они оба слишком простые, славные, обычные; трудно себе представить, чтобы с такими людьми было связано что-то сверхъестественное! Правда, тетя Катрин?
— Да, и у меня такие же ощущения! — ответила Катрин. — А у тебя, Анна?
— Теперь и у меня. Но так было не всегда. Ты это помнишь, Катрин? И с тобой ведь было так?
— Было!
— Наверное, это было очень давно, когда Мишель был совсем маленький и вы редко видели его! — сказала Марин.
— Как ты права! — воскликнула Катрин.
— Ведь когда часто видишь Мишеля, говоришь с ним, такие ощущения просто не могут возникнуть. — Марин говорила свободно и с интересом.
— Моя умная девочка! — Анна подошла к дочери и обняла ее.
Мишель ехал на велосипеде по шоссе.
Эх, если бы вот так докрутить педали до самого Парижа! Но ничего! Еще несколько дней, и они уедут! И вся бессмыслица кончится! Бред какой-то! Находит же на людей! И все такие нервные — мать, Анна, Марин, да и отец не лучше!
Жаль беднягу Дени! И Барб!
Нынешнее лето пропало! А ведь с осени он собирался начать серьезно учиться живописи. И начнет, несмотря ни на что! Только бы не было войны! В газетах пишут черт знает что! Но ведь это невозможно! Эти бомбежки с воздуха! Ведь так люди в два счета уничтожат друг друга. Вот и отец говорит.
Мишель поехал быстрее.
Хорошо! Ветерок свистит в ушах!
Неохота возвращаться домой!
Скорее бы уехать!
Они уедут, уедут! Нечего тревожиться!
Дорога была пустынной.
Еще быстрее!
Мишель пригнулся к рулю.
Ветер совсем вздыбил его волосы.
И вдруг… резкий толчок… Кажется, удар…
Он лежал рядом с велосипедом на земле…
— Анна, мне показалось, я видела, как из пристройки выбежала человеческая фигура и понеслась к лесу.
— По логике, этого быть не может! — безмятежно откликнулась Анна. — Но у нас теперь может случиться решительно все!
Втроем они сидели на веранде и пили кофе с булочками.
Погода была чудесная!
Им казалось, что впервые за много дней они освободились от мучительного предощущения грядущих несчастий.
— И, конечно, эта фигура была похожа на меня! — Марин засмеялась и надкусила булочку.
— Если честно, то как раз этого я не заметила! — призналась Катрин.
— Жалко! — Марин по-детски надула губы.
Теперь засмеялась Анна.
И вдруг они увидели Мишеля.
Юноша влетел на веранду.
— Все! Конец всем мучениям! Я нашел объяснение всему! А вы все думали, что это что-то сверхъестественное, ведь так? Ну? Анна, мама? Ведь так? Ну? Марин, я нашел объяснение! Но скорее! Бежим! Объяснение там, на краю лужайки, и оно нуждается в помощи!
Обе женщины и девочка побежали вслед за ним.
Тогда, очутившись на земле, рядом со своим велосипедом, Мишель почувствовал легкую боль от ушиба.
Падение немного оглушило его.
Но молодой человек тотчас пришел в себя.
Оказывается, он не просто упал вместе с велосипедом. Он сбил человека.
Неловко откинув тонкие руки, на земле лежала цыганская девочка. В длинном платье, пестром, темном и явно не очень чистом. Черные волосы растрепаны. Лицо бледное. Глаза крепко закрыты. Крови не было. Но, господи, что за невезение! Она, кажется, стукнулась затылком о придорожный камень! Сотрясение мозга? Треснул череп? Он взял запястье тонкой руки и пощупал пульс. Слабый. Что делать? Везти в деревню к врачу? Далеко! Проще привезти домой и затем съездить за врачом. Так он и сделает!
Мишель встал. Совсем не больно! Он почти не ушибся. Может, и синяка не будет — отлично!
Он посмотрел на девочку. Кого-то ему напоминают эти черты — продолговатое лицо, черные волосы. Должно быть, он встречал ее раньше в деревне. Впрочем, о цыганском таборе никто вроде не говорил. Бедная девчонка! Бродит одна! И никого у нее нет на свете! Странные люди, эти цыгане!
Она не открывала глаз, губы тоже были крепко сжаты. А вдруг прикусила язык? Надо скорее везти ее! Он уже нагнулся, чтобы взять девочку на руки… Сколько ей лет? Лет двенадцать-тринадцать, должно быть… И тут он заметил чуть поодаль темную холщовую сумку на холщовой лямке. Это, конечно, ее сумка! Отлетела в сторону, когда он сбил бедную девчонку! Что бы могло там быть? Какие-нибудь хлебные корки, милостыня? Или там она хранит свое имущество?
Он не выдержал, и заглянул в сумку. То, что он увидел, очень удивило его…
— Да! А мы-то, умные головы! А все так просто! Элементарно! Ну и ну!
Он осторожно поднял девочку, пристроил сумку и медленно, чтобы не растрясти цыганочку, так и не пришедшую в себя, поехал по направлению к дому.
Анна, Катрин и Марин подбежали к девочке, лежавшей на траве. К стволу дерева Мишель прислонил велосипед, на земле была брошена холщовая сумка — настоящая нищенская сума!
— Кто это, Мишель? — Анна наклонилась к девочке.
— Она без сознания! — Катрин тронула тонкую руку цыганочки.
— Мишель, она какая-то странная, мне страшно! — Марин ухватила брата за рукав.
— Ну, не будь глупышкой, Марин! Это всего-навсего цыганская девочка! Самая обыкновенная!
— Надо отнести ее в дом, — заметила Катрин.
— Лучше в пристройку. Кто знает, кто она, чем больна? Может быть, у нее вши, — сказала Анна. — А в пристройке ведь сейчас никто не живет!
— Именно в пристройку! — Мишель казался возбужденным. — Ведь это помещение ей знакомо!
— Что ты хочешь сказать? — Анна распрямилась.
— Я должен спешить, надо привезти врача! Но перед этим я вам кое-что покажу! — Мишель взял сумку и повернул.
Содержимое сумки высыпалось на землю.
— Любуйтесь! — Мишель сделал приглашающий жест.
Женщины и девочка наклонились.
— Ох! — Анна приложила ладони к щекам. — Золотая цепочка, запонки, серьги, еще серьги… Ведь это все принадлежит нашей Барб!
— Ну! — Мишель торжествовал. — Вот кто похитил ключ от пристройки!
Он снова пристально поглядел на цыганочку.
— Посмотрите, ведь она похожа на Марин!
— Не надо! — вскрикнула Марин.
— Но это ведь не какое-то мистическое сходство! Просто тип лица, рост, волосы… Ну, не обижайся, Марин!
— Но ты лучше не говори!
— Я только хотел сказать, что это сходство объясняет многое. Вот кто проникал в дом! Вот кого видела Катрин!
— Ты думаешь, она распяла ящериц? — Катрин зябко повела плечами.
— Думаю, что исчезновение нашего пса Мука — тоже ее рук дело!
— Может быть, она — всего лишь помощница взрослых бандитов? — предположила Катрин.
— Но мы еще успеем наговориться! — Анна снова вошла в свою привычную роль хозяйки: — Мишель, помоги нам перенести эту красавицу в пристройку и поезжай за доктором!
Мишель поехал на своем велосипеде в деревню. Марин пошла в дом. Анна и Катрин остались в пристройке.
Цыганочка лежала на постели Дени. По-прежнему лицо ее было бледно, губы сжаты, глаза крепко закрыты. Она и вправду немного напоминала Марин. Обе женщины внимательно осмотрели девочку. Вшей у нее не оказалось.
— Надо бы ее искупать, — сказала Анна.
— Лучше не трогать ее до приезда доктора! Пусть он решит, что с ней, потом будем думать, как быть дальше!
— Ты права!
— Но неужели все это так элементарно? Неужели?
— Катрин, однажды я говорила с отцом на веранде, вдруг я увидела Марин в платье… ты знаешь… Она стояла на нижней ступеньке и произнесла какую-то странную фразу об интуиции, свойственной старым людям. Да, что-то об интуиции…
— Это не была Марин!
— Но откуда такие слова? Цыганская девочка и слово «интуиция»!
— Что ты хочешь сказать, Анна? Что это все же была Марин?
— Нет, исключено! Я просто пытаюсь понять!
— Что мы знаем о цыганах, об этой девочке? Думаю, она сознательно изображала Марин, подражала ее движениям, жестам, выражению ее лица.
— У девочки-подростка такие способности?
— Цыгане — странные существа. Мне приходилось с ними общаться. Помню, мне позировала молодая цыганка. Помимо простого мошенничества, в их поведении можно заметить истинное умение влиять на людей, быстро определять характер собеседника. Цыганские гадалки — настоящие знатоки психологии.
— Хорошо, допустим, меня убедил твой панегирик цыганкам. Но, все же, зачем, зачем?
— Причина ясна — ограбление. Смотри! Дом находится в довольно пустынном месте. И ведь у нас есть ценности. Скрипка Поля — дорогой инструмент! А платья, накидка, портрет — мы так привыкли к этим вещам! А знаем ли мы, сколько все это может стоить? И вспомни, Анна, мы ведь уже хотели уехать, бросив имущество!
— Да, ты снова права! Но тогда мы по-прежнему в опасности! Бандиты могут явиться ночью!
— Надо вызвать полицию.
— Почему мы не догадались сказать об этом Мишелю!
— Он сейчас вернется и снова съездит, на этот раз — за полицией.
— Бедный мальчик! Совсем загоняли его!
— Тише! Она, кажется, шевельнулась!
— Тебе показалось.
— Но почему Мишель задерживается?
— Может быть, он не застал доктора?
Однако причина промедления Мишеля была иная.
Отъехав подальше от дома, он остановил велосипед и вынул из-за пазухи небольшую тетрадь. Это была тетрадь покойного Дени, та самая, которую он хотел принести, чтобы показать свои записи. Тетрадь тоже обнаружилась в холщовой сумке цыганской девочки. Может быть, она просто, не думая, взяла ее. А может быть, умела читать и заинтересовалась записями. Но Мишель решил, прежде чем он объявит о своей находке, о тетради, он сам прочтет записи Дени.
И теперь, опершись о седло велосипеда, он поспешно перелистывал тонкие страницы. Вероятно, записи оказались интересными. Мишель морщил нос, покачивал головой, хмурил брови. Затем снова спрятал тетрадь за пазуху, сел на велосипед и быстро поехал в деревню.
Рассказав врачу, в чем дело, Мишель спросил между прочим:
— Может быть, в окрестностях появился цыганский табор?
— Экзотика, милый мальчик! Скорее всего, это просто несчастная бродяжка!
«Или сообщница бандитов!» — подумал Мишель. Он ничего не сказал врачу о краже украшений из пристройки Барб.
Пока врач в пристройке осматривал цыганочку, Мишель прошел в столовую. Стол был накрыт, но застал он только старого отца Анны.
— Слышал уже, знаю! — встретил его старик. — Ну расскажи мне! Расскажи подробнее!
— Что рассказывать! — Мишель присел к столу. — Я просто сбил ее. Чистая случайность! Лежу рядом с велосипедом, прихожу в себя. Смотрю — она! — Он отрезал кусок хлеба, намазал маслом, положил сверху сыра и сунул в рот. — Да! И сумка! Такая нищенская сума! Понимаете? Ну а в сумке…
Вошел Поль, как обычно, он опирался на свою трость, но старался идти быстро.
— Ну как она, отец?
— Доктор считает, что опасности нет, но случай интересный.
— Да уж, чего интереснее! — Мишель фыркнул с набитым ртом.
Отец о чем-то заговорил с дедом. Мишель уже не слушал. Он досадовал. Вначале все складывалось так хорошо! Он застал старика одного! Но ведь нельзя было так сразу, сходу начинать спрашивать! А, собственно, почему нельзя было? Сколько они еще будут разговаривать, отец и дед! Потом еще кто-нибудь явится сюда, Анна, мать, Марин, доктор! О-о! Как быть?
— Пойду отнесу поесть в пристройку! — сказал Поль, вставая. — Кажется, сегодня никто не придет в столовую!
Он взял нож, хлеб и сыр.
— Я помогу тебе? — Мишель приподнялся.
— Оставь! Ты и так сегодня весь день носишься, как угорелый! — Поль захромал к двери.
Откровенно говоря, Мишель с удовольствием остался наедине с отцом Анны. Теперь он твердо решил спросить сразу, сходу.
— Помните, вы говорили, что когда-то изучали Талмуд, еврейскую священную книгу?
— Изучал. Давно. В детстве. Но кое-что помню!
— Я тут, — Мишель покраснел, лгать было неприятно, — я тут читал одну книгу. Знаете, эти современные романы о дьяволах и ангелах. Анатоль Франс, и разное такое!
— Откуда мне знать Анатоля Франса? Я не знаток литературы! И что же он пишет о дьяволах и ангелах?
— Ну это, конечно, все выдумки! Но мне попалось там одно женское имя! Что-то из религиозных книг… («А, кажется, я и на самом деле встречал это имя в одной из новелл Анатоля Франса!» — подумал Мишель)… Только вот не могу вспомнить точно, откуда — то ли из Талмуда, то ли из Евангелия, а может, из Библии…
— Богатый выбор! — усмехнулся старик.
— Ну, не надо иронизировать! — попросил Мишель и тоже улыбнулся.
— Так что же это за имя?
— Лилит!
— Лилит? Такое имя я знаю! Оно действительно из Талмуда! Талмуд, видишь ли, делится на две части: Галаха — разные там умные рассуждения, которые я, к стыду своему, давно перезабыл, и Агада — вот это занимательно! Агада — это свод притч, сказочных таких историй! Кое-что я помню до сих пор! И, конечно, Лилит! Еще мой покойный дед в Галиции рассказывал мне сказки о Лилит.
— Кто же она?
— О, это любопытная история! Видишь ли, вначале Бог решил, что первенствовать на земле будет женское начало. И вот он сотворил женщину, Лилит. И вложил он в ее совершенное и прекрасное тело разум и душу по образу и подобию своему! И ради нее создал он первого мужчину, Адама! Но вскоре Господь увидел, что из Лилит и Адама не получится пары, ибо Лилит была… как бы тебе это сказать… слишком уж… не то чтобы умна… но самолюбива и горда… Но и умна, конечно, умна!
— А женщине вредно быть умной! — насмешливо произнес Мишель. — Любопытная сказка! Только вы не рассказывайте ее нашей Марин! Это ведь она у нас и самолюбива, и горда, и умна!
— Да, ты прав! Марин, пожалуй, обиделась бы!
— Ей не рассказывайте, а мне хочется дослушать до конца.
— Что же! Господь стал думать, как быть дальше! А между тем, Лилит вдруг исчезла! Адам не мог ее найти! Но Господь увидел ее, она пировала с демонами на берегу моря! И вот она сама сделалась демоном! А для Адама Господь создал истинную жену, Еву, из ребра его!
— Ни за что бы не хотел жить с такой женщиной, я бы предпочел Лилит!
— Ну-ну! Пустая бравада! Не зарекайся!
— И это вся история?
— Вроде бы… Или нет, господи! Я вспоминаю еще какие-то страшные сказки! В наказание за то, что Лилит не могла ужиться со своим богоданным супругом Адамом, Бог сделал ее двуполым существом, гермафродитом. Но по виду она осталась женщиной! От Адама у нее родился сын! И будто бы потомки этого ее сына и до сих пор живут на земле и она им покровительствует! Да! И еще одно страшное предание: проклятие двуполости снимется с Лилит, когда она вступит в брак с кем-нибудь из своих потомков и с его женой, и от этого брака родится существо, с которым Лилит сольется и снова станет женщиной. И, совершив последние свои демонические преступления, она будет жить среди людей, забыв о своем прошлом! Но к добру это свершится, или к худу, никто не знает!
— Занятно! И все же, мне бы хотелось стать мужем Лилит! Серьезно!
— Мужем гермафродита?
— Нет! Когда она сольется с этим существом и станет женщиной!
— Чудак!
— Предпочитаю быть чудаком!
В столовую вошел доктор.
— А мы уже думали, вы не придете! — приветствовал его Мишель.
— Ничто человеческое мне не чуждо! Решил перекусить!
— Что больная? — полюбопытствовал старик.
— Опасности нет. Но, кажется, случай интересный! В Париже ныне процветает мой бывший однокурсник, некий Данкр! Боюсь, вам обоим это имя ничего не скажет, вы ведь, кажется, не подвержены нервным припадкам!
— Кто знает! — заметил Мишель, приняв насмешливо-загадочный вид.
— Хотел бы показать эту цыганочку Данкру, — продолжал доктор, — пусть видит, что и у нас, в провинции, попадаются небезынтересные случаи! Дать ему, что ли, телеграмму?
— Дать! — Мишель кивнул.
— Беда в том, что от вас я должен ехать к другому пациенту.
— Ну так я могу дать телеграмму! — охотно вызвался юноша.
— Ты не устал? — спросил старик.
— Нисколько! Могу еще десять раз прокатиться туда и обратно! Давайте адрес!
На почте Мишель дал телеграмму доктору Данкру в Париж и собрался было ехать назад. Он все же немного устал. Но тут хлынул ливень. И нечего было и думать о том, чтобы возвращаться домой на велосипеде.
Вечером к доктору явился Мишель, ведя свой велосипед.
— Дороги нет. Все развезло. Грязь непролазная. Примите меня на ночевку!
— Охотно!
— Дома, конечно, будут беспокоиться! Но пешком я не доберусь, а поехать нельзя!
— Думаю, к утру все подсохнет!
— Будем надеяться!
После ужина, во время которого доктор развлекал своего юного гостя жалобами на провинциальную скуку, Мишель прошел в комнату, где ему предстояло провести ночь.
Он вынул тетрадь Дени и снова перечитал его записи.
Это не был дневник. Дени просто записал странный случай или, вернее, странное зрелище, свидетелем которого невольно стал.
Мишель отложил тетрадь и задумался. Он представил себе, как все это было.
Дени вышел на поляну и увидел Марин. Она стояла на коленях спиной к нему. Сначала он не мог понять, что она делает, но разглядев ужаснулся. Девочка зарезала своего верного пса Мука и разделывала его на плоском камне.
— Зачем это, Марин? — в ужасе воскликнул Дени.
Она медленно повернула голову.
Он увидел, что ее глаза — сплошные огненные, без зрачков.
Странным потусторонним голосом она произнесла:
— Не тревожь Лилит! Ступай! И молчи, если хочешь жить!
На ней было платье цвета луны!
«И эта цыганская девочка сумела загипнотизировать Дени! И мою мать! И Анну! — раздумывал Мишель. — Интересно бы пообщаться с ней!»
Поль присел у кровати. Анна, Катрин, Марин ушли поесть. Доктор уже уехал. Он предписал больной покой и обещал заехать завтра.
Девочка лежала по-прежнему — глаза закрыты, губы сжаты.
Поль стал смотреть на нее.
Чем дольше он смотрел, тем знакомее делались ее черты.
Это лицо взрослой женщины. Она лежит под одеялом, нагая, тонкая. Глаза ее открылись, темные глубокие; волосы всклокочены. Это она!
— Поль, — тихо произносит она. — Поль, — повторяет она.
— Это ты? — спрашивает он, словно во сне.
— Я, — отвечает она, — ты узнал меня? Ты помнишь нашу близость?
Поль не испытывает страха, но какая-то странная скованность движений, мыслей, чувств одолевает его.
Он встает, он хочет уйти…
Сильные руки охватывают его шею…
Когти вонзаются в кожу…
Он видит перед собой искаженное нечеловеческой злобой лицо, волосы стоят дыбом, лицо дьявола!
Последняя смутная его предсмертная мысль: «Анна!..»
Труп мужчины переброшен за окно.
— Пора сменить Поля! — заметила Катрин.
— Попозже! — сказала Анна.
— И Мишель запаздывает!
— Думаю, он не приедет вовсе! Такой ливень! Останется ночевать у доктора!
— Марин уже спит?
— Да, она легла пораньше!
Но Марин не спит. Она не может уснуть. Еще совсем недавно ей казалось, что она очень устала, что она уснет, едва коснувшись головой подушки. И вот она не может уснуть. Вертится с боку на бок. Наконец понимает, что не уснет. И вдруг чувствует небывалый прилив бодрости. Встает и, накинув поверх ночной сорочки материну шаль, босая выходит в ночь.
На лужайке сыро. Мягкая земля налипает на босые ноги. Растрепанная девочка бежит к пристройке.
— Папа!
— Он ушел домой.
— О, ты очнулась! Как ты себя чувствуешь?
— Хорошо, — тихо отвечает цыганочка.
Марин уже не понимает, как она могла бояться этой девочки.
«И вправду похожа на меня, только хрупкая, худенькая и… кажется красивая…», — думает Марин.
Она наклоняется, поправляет одеяло и садится у постели.
— Посидеть с тобой или лучше уйти?
— Посиди. Мне скучно лежать одной.
— Ты бы поспала, ведь ты больна.
— Не хочется спать.
Марин чувствует к этой хрупкой девочке такую нежную приязнь. Никогда и ни к кому она не испытывала подобных чувств!
— Ты совсем одна? У тебя нет родителей?
— Нет.
— Прости меня за то, что я спрашиваю тебя о таких вещах, но это ты распяла ящериц?
— Да, — голос звучит мягко, тихо.
— Это какой-то цыганский обряд?
— Да, это обряд!
— А кто украл моего Мука, ты знаешь? Он был такой славный пес!
— Я принесла его в жертву!
— Ах, зачем?
— Я убила Дени и Мадлен.
— Зачем? Зачем?
— Они могли помешать нам, тебе и мне.
— Кто ты?
— Я? Твой отец! Твой настоящий отец!
Марин становится страшно.
— Что это?
Она встает и хочет уйти, но не может.
— Отпусти меня! — тихо просит Марин.
— Не одну тысячу лет я ждала этого часа! Мы с тобой должны слиться в одно, единое существо!
— Я ничего не понимаю!
— Много раз я пыталась создать тебя! И вот наконец мне это удалось! Я избавлюсь от проклятья!
— Отпусти меня! Я не хочу!
— Ты избавишься от скучной жизни. Тебе станет хорошо!
— Но это останусь я?
— Нет! Ни тебя, ни меня больше не будет! Возникнет новое существо!
— Но я не хочу! Не хочу! Не хочу! А!.. А-а!..
Голос девочки переходит в слабый вскрик, прерывается и замирает…
— Надо сменить Поля! — решает Катрин.
— Подожди, я зайду к Марин!
Спустя несколько минут испуганная Анна возвращается.
— Катрин, ее нет! Где она?
Измученная всем пережитым, Анна плачет громко, как ребенок. Катрин тоже встревожена. Из своей комнаты отец Анны сонным голосом спрашивает, что случилось.
— Все в порядке! Спи, папа! — Анна усилием воли заставляет себя замолчать.
— Пойдем! — Катрин сама не знает, почему, но уверена, что они должны идти в пристройку.
Анна спешит за ней. Катрин спотыкается о что-то. Наклоняется. Это трость Поля!
Цыганская девочка стоит на пороге пристройки. Нет, это Марин!
— Доченька! — выкрикивает Анна и бежит, увязая в размокшей земле.
Марин медленно поднимает руку и произносит странным потусторонним голосом:
— Я — Лилит! Не тревожьте меня!
Доктор считает, что Мишелю необходимо позавтракать перед возвращением домой. За завтраком он замечает:
— Кажется, Европу ждет очередная катастрофа. Я уже успел просмотреть свежие газеты! Война! В Испании! Но я уверен, это начало мировой войны! Приедет ли Данкр? Однако, сейчас мы поедем в моем авто. Интересно, как там наша цыганочка!
Когда Мишель, молодой солдат армии де Голля, в 1944 году встретил Жанну, он сразу понял, что это та, кого он, казалось, ждал всю жизнь! Во время страшной войны она потеряла близких, была участницей движения Сопротивления. В Европе еще шли бои, а юноша и девушка шагали по улицам Парижа и держались за руки.
Как и все влюбленные, Мишель много говорил.
— Нет! Мои родные погибли в тридцать девятом году. Так страшно и нелепо. Нападение бандитов. У отца был загородный дом… И вот… Но ты понимаешь, мне тяжело говорить о подробностях… В сущности, я уцелел случайно… Ночевал у деревенского врача… Отец был задушен… Моя мать Катрин, Анна, вторая жена моего отца, ее старый отец… Их постигла страшная участь… Их нашли распятыми на крестах… Когда их освободили, они были мертвы… Тело моей сестры Марин так и не было найдено!.. К берегу прибило ее одежду… Ее, должно быть, бросили в реку… и течение унесло ее в море… О, Жанна!.. Дом был сожжен… Я застал лишь груду дымящихся развалин!.. Сгорело все! В том числе и какие-то семейные реликвии, старинные платья, портрет, похожий на меня… Представляешь себе?.. В сущности, больше всех я любил мою младшую сестренку Марин!.. Она была странная девочка… необычная… Ты очень похожа на нее! Глаза, черные волосы… Я так счастлив, что нашел тебя! И теперь, когда человечество пережило эту страшную войну, все в мире должно измениться! Правда? Скажи мне! Ты веришь мне? Ты… любишь меня?
— Правда! Правда, потому что я верю тебе и люблю тебя!
Клари Ботонд
ОТ ПЕРЕВОДЧИКА
В 30-е годы на страницах литературной периодики Будапешта стали появляться стихи и проза молодых авторов — Михая Киша и Марии Варади. Произведения отличались смелым полетом фантазии и заслужили одобрение критики. Затем наступили тяжелые времена, после восстания 1956 года Киш и Варади, эмигрировавшие из Венгрии, оказываются в Лондоне. Оба начинают писать на английском языке, но безвестным эмигрантам закрыт доступ в «большую литературу». Далекие от политики, Михай и Мария не находят себе места и в эмигрантских кругах. Тогда возникает идея: вдвоем написать остросюжетный роман. Вскоре эта идея претворяется в жизнь. Но непрактичным интеллигентам, выходцам из обеспеченных буржуазных семей, не удалось организовать своему детищу коммерческий успех. В 1961 году, не выдержав одиночества, сломленные материальными трудностями, Мария Варади и Михай Киш покончили с собой.
Действие романа «Любовники старой девы», изданного под звучным псевдонимом «Клари Ботонд», происходит в Венгрии XVI века, но это то, что можно назвать «сказочным историзмом». Много странных приключений переживают герои романа, много тайн раскрывается перед ними.
Clary Botond «The old maid dreams…» London, Elder, 1960.Любовники старой девы
Глава 1
— Но разве Господь не…
— Господь говорил о другой нищете! — Жигмонт резко сдвинул брови.
В сущности, ему вовсе не хотелось, чтобы старый капеллан увлек его в лабиринты богословского спора. К чему все это? Одно толкование следует за другим!
— Блаженны нищие духом! — значительно произнес священник.
В просторном покое, стены которого были увешаны огромными гобеленами, тихо разговаривали двое мужчин. Один из них, в темном облачении священника, был уже далеко не молод. Лицо его, изборожденное крупными морщинами, выражало ум и силу воли; маленькие глазки темно поблескивали. Это был патер Иероним, исповедник венгерского короля.
Второй собеседник отличался от первого разительно! В самом расцвете мужских сил, высокий, прекрасно сложенный, он, казалось, уже позабыл о своей минутной досаде и улыбался смешливо и задумчиво. Его чуть продолговатое смуглое лицо, черные брови и волосы, изящно подстриженная черная борода — все говорило о благородном происхождении и незаурядной красоте. Особенно хороши были его глаза — большие и темные, опушенные длинными ресницами.
Человек этот звался рыцарем Жигмонтом. Ему минуло сорок лет. Судьба его отличалась некоторой причудливостью. Жигмонт приходился младшим сыном известному Ференцу Запольи. Отец Жигмонта отличался безрассудной храбростью, вспыльчивостью и полным неумением льстить и рассчитывать. Юный сирота, владелец нескольких замков и богатых угодий, он позволял себе быть независимым даже, когда сделался придворным. Впрочем, история появления такой личности при королевском дворе тоже оказалась достаточно странной. Когда юному владельцу Гезале, родового замка Запольи, принесли весть о том, что охотники короля приближаются к старому дремучему лесу, окружавшему замок, юноша заколебался — вначале ему показалось, что поспешить навстречу королю — означает унизить свое достоинство рыцаря и дворянина; но затем он принял другое решение: выразить королю свое почтение, ведь в этом не было ничего унизительного, более того, разве не в этом состоял долг верного подданного. И вот Ференц оседлал коня и, доехав до широкой дороги, стал ожидать королевскую охоту. Участники пышной кавалькады немедленно заметили нарядно одетого юношу. Он спешился и отдал поклон королю и наследным принцам. Дальнейшее можно было предугадать с большей или меньшей точностью. Ференц держался с горделивой скромностью. Когда лесную чащу огласили громкие звуки рогов, звонкий лай собак, топот копыт, когда был загнан огромный клыкастый кабан, владелец Гезале внезапно услышал крик о помощи и пустил коня вскачь. На поляне старший принц отчаянно отбивался от яростно нападавшего кабана. Ференц соскочил с коня и одним прыжком очутился рядом с принцем. Удар кинжала — и разъяренное животное забилось в агонии. Эта меткость и смелость имели для Ференца определенные последствия. Оба юноши тотчас почувствовали взаимную симпатию. Когда подскакали другие охотники, принц указал на своего спасителя. Ференц очутился в центре всеобщего внимания. Теперь он счел возможным и неунизительным для себя пригласить короля и его свиту в замок. Приглашение было принято. Юноша был достаточно богат, чтобы оказать знатным охотникам роскошный прием. Король несколько дней оказывал честь замку Гезале своим присутствием. За это время между Ференцем и старшим сыном короля завязалась искренняя дружба. Разумеется, принцу особенно нравилось то, что его новый друг ни о чем не просил его. Результатом этой дружбы явилось прибытие Ференца ко двору. Конечно, он мечтал о блеске, о славе и любовных приключениях. Однако опытные придворные набросили на юношу сеть наветов и подозрений. Вскоре он был оклеветан. Дружеские отношения с принцем расстроились. Но интриганы недооценили характер Ференца Запольи. Если они являлись мелкими кровососущими насекомыми, то перед ними был благородный олень, и, пожалуй, им не стоило разъярять его. Двор сделался ареной отчаянной борьбы. И спустя какое-то время Ференц вернул себе расположение наследного принца. Странное дело, Ференца оставили в покое. Но причина заключалась вовсе не в том, что противники его сдались на милость победителя. О нет! Они просто поняли характер Ференца, раскрыли его слабости. Честность, прямодушие, сила — все это было в нем, но кроме этого природа наделила его страстностью, неумеренными желаниями. Вино, женщины, азартные игры увлекали Ференца Запольи. Придворные интриганы постигли, что этот человек не представляет для них никакой опасности. Между тем, состояние его таяло. Пришлось расстаться даже с гнездом предков — замком Гезале. К этому времени принц стал молодым королем. При дворе о Ференце Запольи были вполне определенного мнения, его считали добрым малым, но никчемным и пустым. Король это мнение разделял. И все это только из-за того, что Ференц не был способен к придворным интригам и предпочитал наслаждаться жизнью. Будь он интриганом, его сочли бы весьма целеустремленной личностью!
Под стать всей жизни Ференца была и его женитьба. Вероятно иной она и не могла быть! Обольстив дочь знатного, но бедного дворянина, Ференц вынужден был жениться на девушке. Об этом браке говорили как об очередном нелепом поступке Ференца. Наделенный телесной красотой, он мог бы жениться куда более выгодно! Но тогда он не был бы самим собой! Конечно, он вскоре начал пренебрегать своей юной супругой, и даже рождение сына не заставило его измениться. По-прежнему кутежи, по-прежнему жалобы горожан и окрестных трактирщиков, долги, приятельство бог знает с кем.
Предмет особенной гордости Ференца составляла его мужская сила. О нем ходила молва, будто он может за одну ночь взять женщину десять или даже двенадцать раз. Однажды в мужской компании его спросили, правда ли это. Он ответил, что это лишь половина правды и что, сойдясь таким образом с одной женщиной, он может приняться за следующую! Да, многие знатные дамы, горожанки и публичные девки могли бы рассказать о том, как удовлетворил их Ференц Запольи; но подобное его хвастливое заявление встретили хохотом. И тогда он предложил им устроить испытание. Вспомнили об одной девке по прозванию Железная Кобыла. Вместе с десятком девиц такого рода проживала она у некоей процветающей сводни. В ее-то притоне и состоялось знаменитое испытание. Не один силам уходил от Железной Кобылы взмыленным и ослабевшим. Но только не Ференц Запольи! Загнав Железную Кобылу до такой степени, что несчастная девка сама попросила пощады, Ференц принялся за ее товарок. Ночь выдалась воистину знаменательная! Слава неукротимого Запольи заблистала яркой звездой. Но завершилось это крайне дурно. Спустя год после знаменательной ночи Ференц почувствовал себя больным. Слабость и странные пятна, покрывшие кожу, обеспокоили его. Он обратился к придворному лекарю и узнал от него, что болезнь эта очень опасна, он нее отнимаются ноги, вместо носа образуется черная дыра и под конец человек теряет рассудок.
— Ты уверен, что это та самая болезнь? — побледнев, спросил Запольи.
— Да, теперь у меня нет сомнений!
На другой день Ференц Запольи оборвал нить своей жизни, заколовшись кинжалом.
Он оставил после себя вдову, рано увядшую и склонную к меланхолии, а также — единственного сына Жигмонта.
В год смерти отца Жигмонту минуло десять лет. Мать и добродушная бабка не знали, к какому образу жизни готовить юношу. Они приглашали монахов из городского монастыря, чтобы юный Жигмонт мог обучиться письму и счету. Мать слезно упросила супругу одного из богатых и знатных приятелей покойного мужа, и та позволила Жигмонту обучаться вместе с ее собственными сыновьями верховой езде и владению оружием. Таково было образование Жигмонта. Юноша вырос задумчивым, нелюдимым, но унаследовал от отца его замечательную красоту. В возрасте восемнадцати лет он влюбился в девушку незнатного происхождения. Мать не смогла воспрепятствовать этому скоропалительному браку. Молодая жена скончалась спустя несколько месяцев после рождения сына Михала. И тогда Жигмонт принял довольно странное решение — оставив ребенка на попечение своей матери, он уехал из столицы. Долгое время никто ничего о нем не знал, но вот он вернулся, похоронил мать и заново познакомился со своим семнадцатилетним сыном. Вскоре Жигмонт и его сын Михал очутились в числе приближенных короля. Король, новый король, жаловал их. Он предоставил семейству Запольи обширные и богатые покои во дворце. Дело шло к возвращению родовых угодий. Жигмонт был человеком сдержанным, но веселым, и необычайно много знал. Король мог часами слушать его занимательные рассказы. Жигмонт увлек короля шахматной игрой. Расположена к семейству Запольи была и королева. Впрочем, при дворе, кажется, ясно видели причину подобного благоволения. Да и Жигмонт характером пошел не в отца. Несколько придворных, попытавшихся интриговать против него, как-то незаметно для себя были удалены от двора, высланы в приграничные местности, где и сложили свои не вполне разумные головы.
Глава 2
Вот какой человек сидел теплым вечером в 1500-е лето от рождества Христова в покое, увешанном гобеленами, и вел несколько странную беседу с придворным священником. Поводом для разговора о нищете явился один случай.
Жигмонт и капеллан проезжали верхом по рынку. В крытой галерее теснились по своему обыкновению нищие и калеки. Они окружили двух благородных господ, голосили, причитали, демонстрировали свои язвы. Их наглое поведение было явно неприятно Жигмонту. Он даже не мог ехать быстрее. Внезапно он резким движением выхватил меч и взметнул его над головами убогих. Путь очистился, как по волшебству!
Жигмонт и священник молча выехали из галереи, в молчании миновали рынок. И лишь после совместной трапезы священник счел необходимым осудить поступок рыцаря.
— Господь говорил о другой нищете! О нищете смиренной, кроткой, не взыскующей! А не об этих наглых попрошайках!
— Не знаю, не знаю! — капеллан коснулся четок, прикрепленных на поясе.
Темнело. Очертания предметов смутно различались.
Внезапно комнату озарил мягкий свет. Блеснула флорентийская мозаика, украшавшая столешницу небольшого столика. Засверкали золотые нити гобеленов. Высветились дорогое убранство покоя и одежда хозяина — щегольские сапоги, темный камзол. Но ярче всего заблестели его глаза, они вспыхнули безоглядной нежностью.
Капеллан опустил голову, лицо его выразило строгость. Он принялся перебирать четки.
В комнату, удерживая в правой руке точеный изящный подсвечник, вошла молодая женщина.
Красота ее была поразительна. Это не была прелесть едва расцветшей юности, это не было зрелое очарование плодоносящей женственности. Красота вошедшей, казалось, не ведала тягостной власти времени. Должно быть, именно такой явилась из волн морских Венера Киприда! Возраст? У нее не было возраста, как не может быть возраста у богини любви и красоты. Задумывались ли мы о том, сколько лет Венере Милосской или Сикстинской Мадонне? Впрочем, озарившая комнату красавица еще и не подозревала об этих чудесах человеческого гения, которым еще только предстояло появиться! Пышное платье из нарядной ткани цвета алого вина подчеркивало нежные линии ее стана. Она была как раз такого роста, что пропорционально сложенный мужчина ощущал рядом с ней свою мужественность, но она вовсе не казалась хрупким беззащитным существом. Длинные волосы, темно-каштановые, тяжелые, были распущены по плечам, падали ниже гибкого стана, ничем не украшенные, они сами казались дорогим убором. Нежное лицо, темные ресницы и брови, темные нежные глаза, свежие выпуклые губы, точеные кисти изящных рук. Поистине она казалась чудом!
Вот стан ее чуть изогнулся — подсвечник оказался на столике. Хозяин открыто любовался ею.
— Принеси нам вина, Маргарета, — тихо попросил он.
Неужели меч этого человека сегодня перепугал толпу несчастных и ничтожных?
Женщина кротко покинула комнату.
Хозяин и гость молчали.
Жигмонт в задумчивости поглаживал черную бороду.
Глава 3
Смиренная, ничего не взыскующая нищета!
Верховой сразу выделялся в шумной суматохе порта. На нем дорогая и странная в этой местности одежда. Его манера держаться в седле, убранство его коня, вооружение — все выдает одинокого независимого искателя приключений. Он едет шагом, неспешно. Конь ступает на булыжники узкой улочки. Задумчивого всадника окружают тотчас дешевые продажные женщины, нищие, мелкие торговцы. Но и эти подонки мира ощутили в незнакомце сдержанную силу. Они боятся хватать его коня за узду, касаться рук путника. Они лишь теснятся вокруг него, нестройно выхваляясь, жалуясь, призывая. Изредка он спокойным жестом чуть приподымает руку и серые фигуры пугливо отбегают, толкая друг друга.
Это Жигмонт!
Он выезжает на площадь. Это маленькая площадь южного приморского города, известного всему Средиземноморью, одна из многих площадей этого города, не самая красивая, но есть в ней что-то тихое и уютное. В этот утренний час площадь пустынна. Только горлицы перепархивают по холодным каменным плитам, и воркование их кажется на диво громким. Посреди площади — старинный фонтан, возможно, это работа древних римлян — первых здешних горожан. Со стороны фонтан видится каменной колодой, массивной и темной. Бока его украшены полустершимися изображениями, некогда рельефными, а теперь как бы вдавившимися в камень. Фонтан молчит, не бьют струи. Позеленелая стоячая вода плещется в его бассейне. Всадник подъезжает ближе и склоняется, желая рассмотреть, что же изображено на каменных рельефах. Он различает контуры женских фигур в длинных одеяниях, волосы уложены узлом на затылке. Он один на этой пустынной площади. Но вдруг ему показалось, что здесь есть кто-то еще. Жигмонт резко подымает голову.
На краешке низкого каменного ограждения присела женщина. На ней широкое рубище, но от этого рубища не исходит характерный неприятный запах старческой гнилостности, хотя женщина стара. Лицо у нее очень смуглое, очень сморщенное, рот запал, глаза потускнели и ввалились. Лежащие на коленях руки — тоже сморщились и покрылись темными пятнами — знаками старости. Женщина не протягивала ладонь за подаянием, но сидела, грустно сгорбившись, и во взгляде ее потускневших темных глаз читались тоска, покорность.
На какое-то мгновение Жигмонту почудилось, будто это одна из нечетких фигур, высеченных на старых камнях колодца, вдруг ожила!
Зрелище одинокой изможденной старости тронуло всадника. Он невольно подумал о своей дальнейшей участи. Кто знает, где и как завершится его жизнь!
Конь тихо заржал. Жигмонт натянул поводья. Он хотел было кинуть старухе на колени какую-нибудь мелкую монету. Но почему-то подумалось, что это обидно! Повинуясь внезапному чувству, он подъехал ближе. И вдруг снял с пальца золотое кольцо и, склонившись с седла, положил старухе на колени, скрытые грубым одеянием.
Женщина не произнесла ни слова. А он резко тронул коня и поскакал через площадь.
Жизнь его была более, чем бурная. После он не мог вспомнить, откуда у него это кольцо. Подарок возлюбленной? Плата за услугу? Дар друга? Кольцо с печаткой. Рисунок на печати изображал мужскую фигуру, по обеим сторонам которой остановились две девушки с телами птиц. Отъехав довольно далеко от площади, он вспомнил, как получил кольцо. Воспоминания нахлынули на него волной. Но в жизни он так много терял и находил, что только рукой махнул, отгоняя волну досадных воспоминаний, и она сникла, растаяла в бесконечной почве памяти.
Город просыпался.
На улицах и площадях плотно воцарялось движение, на первый взгляд хаотическое, слагающееся из тысяч мелких целей самых различных людей.
Одинокий всадник продвигался медленно. Он уже четко ощущал, что за ним следят. Он знал, почему следят. Ему трудно было определить, с какой стороны придет опасность. Кто знает о нем? Кому поручат уничтожить его?
Миновал полдень.
С раннего утра всадник разъезжал по городу, его успели заметить многие. Одежда его бросалась в глаза. Да и сам он не прятался. Словно бы даже нарочно старался держаться на людях.
Жигмонт спешился у небольшого кабачка, показавшегося ему чистым. Подбежавшему слуге приказал поставить коня на конюшню, поводить, обтереть и накормить.
— Приду посмотрю!
Слуга почтительно кланялся, вслушиваясь в странные интонации говорившего. Было ясно, что человек — из далекой страны!
Жигмонт вошел вовнутрь. Заказал обед. Выпил вина. После вышел, проверил, как обошлись с конем. Остался доволен, бросил слуге мелкую монету.
К обеду приготовили жареное мясо, вино, хлеб. Жигмонт принялся за еду.
В комнату с низким сводчатым потолком вошел слуга. Жигмонт посмотрел на него с досадой. Слуга остановился у самой двери, всем своим видом стремясь показать, что беспокоит трапезничающего, да, беспокоит, но отнюдь не по своей воле!
— С вами желают говорить, господин!
— Кто? — голос Жигмонта звучал резко, сам он нетерпеливо хмурился. Ему казалось, что беспокоят его напрасно, из-за пустяка.
— Женщина, господин!
— Кто она? Ты знаешь ее?
— Нет, господин! А, может быть, и да, господин! Я не знаю, не могу знать всех городских служанок, господин!
Жигмонту почудилась насмешка. Он метнул на парня взгляд, исполненный такой силы, что тот приметно вздрогнул.
— Стало быть, это служанка? — спросил Жигмонт.
— Служанка, господин! Она одета, как служанка знатной госпожи! Она желает говорить с вами с глазу на глаз!
— Хорошо! Впусти! И ступай!
Слуга поклонился низко, как только мог, и скрылся за дверью.
Спустя совсем короткое время дверь приотворилась. Вошла молодая женщина. Слуга верно определил, кто она. Явно это была служанка дамы богатой и высокородной. И не простая служанка, но близкая доверенная прислужница, которой можно поручить самое рискованное дело.
Они приблизилась к Жигмонту, изящно склонилась и вынула из-за корсажа маленький плоский сверток.
За дверью слуга навострил уши. Однако его ожидания были обмануты. Мужчина и женщина говорили тихо.
Жигмонт развернул сверток. Это было письмо, послание, короткое и гласившее:
«Ждите в полночь у Северных ворот. Моя служанка проводит вас. Это письмо сожгите».
Лицо читавшего выразило удивление.
Письмо написано на его родном языке!
Ловушка! Или?..
Он зорко глянул на женщину. Она ждала, кротко опустив ресницы. Ему вдруг показалось, что где-то он ее уже видел. Но где? Когда?
Он поднялся из-за стола и подошел к ней. Взял ее за локоть. Она ощутила его мужскую силу и потупилась. Конечно, она притворялась, но за этим притворством какая-то глубина чувствовалась, не было это обычным женским кокетством.
Он обратился к женщине на своем родном языке:
— Ты понимаешь меня?
Она сделала утвердительное движение головой.
— Если понимаешь, то передай той, что послала тебя, я буду в условленное время на условленном месте!
— Не забудьте сжечь письмо! — одними губами прошептала служанка.
— Иди и передай госпоже мои слова!
Она улыбнулась, и, кажется, это и вправду была невольная улыбка. Но Жигмонта эта улыбка все же насторожила.
Женщина скользнула к двери, почти бесшумно.
Раздался вскрик боли! Подслушивающий слуга не успел отскочить! Прижав ладони к лицу, он грохнулся на пол. Женщина исчезла. Жигмонт расхохотался.
Он снова захлопнул дверь. Задумчиво посмотрел на огонь очага за темной закопченной решеткой. Подошел к очагу. Постоял. Затем решительно спрятал письмо за пазуху. Снова уселся за стол. Выпил стакан вина. Залпом!
— Я где-то видел ее! — пробормотал он. — Где? Должно быть, очень давно!
Глава 4
Оставшееся время тянулось томительно. Он кликнул хозяина, приказал приготовить постель. Лег. Задремал после сытного обеда. Пришли сны. Сны были странные. Снилось детство. Он что-то говорил во сне. Произносил какие-то отрывочные фразы.
Некрепкий сон резко перешел в бодрствование. Он сел на постели.
«Я говорил во сне! Проклятье! Нельзя так расслабляться! Даже во сне нельзя забываться настолько!»
Снаружи темнело.
«Как медленно темнеет!»
Он натянул сапоги. Подошел к двери. Потребовал умыться.
Давешний слуга принес оловянный таз.
— Что? — спросил Жигмонт. — Кое-кто наказан за излишнее усердие?
У парня основательно вспух висок.
Но незнакомый господин смотрел так смешливо и по-доброму, что незадачливый слуга усмехнулся.
Взгляд Жигмонта тотчас сделался суровым. Сколько раз так бывало в жизни, что его доброту немедленно принимали за слабость, и тогда приходилось быть излишне жестким, наказывать наглецов.
— Ты что же, так, по глупости подслушивал или шпионишь? Может быть, кто-то приплачивает тебе за твое шпионство?
— По глупости, господин!
— Что ж, оттого что ты расскажешь о солнце днем и о луне по ночам, мало для тебя в жизни изменится!
Слуга передернул плечами.
— Ну, что застыл, как статуя? Иди!
Слуга не заставил просить дважды.
Жигмонт посмотрел на воду в оловянном тазу. Отошел к постели. В ногах он бросил небольшую сумку, кожаную, красиво выделанную, он приторачивал ее к седлу. Теперь вынул из сумки небольшой коврик, расстелил на полу. Видно было, что коврик покрыт сложным, красивым узором.
Глава 5
Право передвигаться по городу верхом ночью имел только ночной дозор.
Жигмонт шагал по темным улицам к Северным воротам. Он был вооружен мечом и кинжалом. Внезапного нападения он не опасался. Он чутко прислушивался к ночным звукам и знал, что исподтишка подкрасться к нему невозможно.
В сущности, в этом городе было сравнительно безопасно по ночам, что, однако, совсем не исключало нескольких еженощных убийств, ограблений, похищений девиц, не говоря уже о поединках дворян.
Северные ворота охранялись стражей. Ночью нельзя было покидать город без особого на то дозволения властей. Жигмонт тихо приблизился и остановился подальше от факелов стражников.
Он пришел чуть раньше назначенного срока.
Женщина явно желала подойти к нему совсем бесшумно, ошеломить внезапностью своего появления. Но он заметил ее. Собственная зоркость порадовала Жигмонта. Женщина скрывала свою неудачу, она напустила на себя робкий смиренный вид. Но Жигмонт великодушно не дал ей почувствовать свое превосходство. Она сделала знак рукой, он шагнул к ней.
Они стояли рядом.
— Следуйте за мной и не удивляйтесь! — шепнула она, почти не размыкая губ.
Пригибаясь, она пошла вдоль кирпичной кладки. Остановилась, принялась вынимать кирпичи. Жигмонт понял, что здесь специально устроен лаз. Женщина пригнулась сильнее и двинулась вперед. Жигмонт последовал за ней.
Так легко они очутились вне городских стен. Теперь их окружал пустырь, вытоптанный копытами многочисленных лошадей. Ведь целыми днями к воротам спешили всадники, повозки. Полной грудью Жигмонт вдохнул ночной воздух. Здесь дышалось гораздо легче, чем в городе, где на рассвете из окон на мощеные улочки выплескивались ночные посудины, выливались помойные лохани.
Сильно потянуло свежестью соленой воды. Совсем недалеко шумело море.
Женщина огляделась, поджидая кого-то. Жигмонт притронулся к рукоятке кинжала. Ощущая под подошвами сапог твердую, вытоптанную копытами землю, он невольно пожалел о своем коне, оставшемся в конюшне в городских стенах.
Вдруг женщина встрепенулась. Раздался тихий нежный свист. Она ответила таким же свистом. Как-то странно звучали в темноте эти богатые нежностью звуки. Но еще прежде, чем кто-то неведомый приблизился, Жигмонт понял, это ведут его коня! Поступь знакомых копыт он ни с чем не мог спутать!
Из темноты выступил незнакомец. Приблизился. В поводу он вел двух коней. Один из них оказался конем Жигмонта. Жигмонт шагнул к верному животному, обнял точеную голову. Затем обернулся, хотел спросить, кто привел коня, но не произнес ни слова, замер изумленный.
Перед ним стоял слуга из кабачка!
— Так! — Жигмонт одной рукой держал уже за повод своего коня, другой — нащупывал кинжал. — Стало быть, вы в сговоре! Одна шайка! Кто и зачем послал вас?!
Мелькнула мысль о том, что, может быть, их целью является именно удаление его из города!
Заманивают в ловушку?
— Простите, господин! — слуга отскочил. — Я не виноват, господин! Она, — парень ткнул пальцем в направлении женщины, — она заплатила мне за то, чтобы я вывел сюда вашего коня, она и дорогу мне указала!
Жигмонт слушал гораздо более внимательно, чем можно было слушать обычные оправдания труса! Что-то смущало его в голосе говорившего. Казалось, слуга старательно копирует собственные давешние интонации, подражает самому себе! Странно!
— Едете ли вы? — спокойно и кротко спросила женщина.
— Да! — сухо отвечал Жигмонт. Он о чем-то напряженно думал.
Слуга меж тем уже скрылся в темноте.
Женщина вскочила на лошадь. Жигмонт сел на своего коня.
Они поскакали прочь от городских стен.
Сначала они ехали быстро. Затем женщина поехала медленно.
Жигмонт решил заговорить с ней.
— Далеко ли мы едем?
— Путь неблизкий!
— Сколько еще скакать?
— Да уж не меньше двух часов!
— Хорошо!
Жигмонт поспешно приводил в порядок свои скудные впечатления от внезапного появления слуги. Нет сомнений, это был тот самый парень, и висок вспухший от удара дверью был заметен. Но голос его! Его ли это голос? И этот странный нежный и тихий свист! Парень утверждает, что женщина просто подкупила его! Но кто выучил его так по-особенному свистеть? Не означает ли этот свист, что оба они — в сговоре, а Жигмонт — в ловушке…
— Послушай! — Жигмонт снова обратился к служанке. — Отчего этот парень так ловко свистит? Не ты ли выучила?
— У нас многие умеют так свистеть, — ответила женщина с тихим достоинством. — Это наше, местное!
— Не слыхал!
— Юноши и девушки так пересвистываются, это вместо разговора!
— Что ж!
Он подумал, что эти объяснения можно счесть правдоподобными. И вправду, где ему было услышать такой свист? Звуковой знак, предназначенный для бессловесного разговора двоих? Так могут пересвистываться в укромных внутренних дворах. Мысли Жигмонта приняли иное направление. Он невольно вспомнил свои любовные похождения. Иное воспоминание было приятно, иное — вызывало досаду. Он вздохнул и посмотрел на свою спутницу. Женщина сидела в седле по-мужски. Он ясно различал это, ночь не была темной «хоть глаз выколи».
«Странная женщина!»
Жигмонт принялся исподтишка разглядывать ее. С виду это и есть та самая женщина, что приходила днем. Но она ли это? На всякий случай Жигмонт снова спросил ее:
— Далеко еще?
— Уже скоро! — тихо отвечала она.
Вроде ее голос! Впрочем, такой тихий, словно бесцветный голос не так уж трудно изобразить.
Но будь что будет!
Глава 6
Его начинало увлекать новое приключение!
Они подъехали к развалинам старого замка. Полностью уцелела лишь одна из башен, высокая, широкая, с бойницами, настоящая башня для обороны.
К этой-то башне путники и направились. Служанка вынула из-за пояса ключ и отперла тяжелую, окованную железом дверь.
Они очутились в просторном внутреннем дворе. Посреди двора, вымощенного обтесанными плитами, находился колодец.
Они стояли посреди двора, держа в поводу коней.
— Ступайте к моей госпоже! — тихим голосом произнесла женщина. — Коня вашего я обихожу! Не тревожьтесь!
Доверительным жестом она протянула ему связку ключей.
— Будете отпирать двери! Сперва вот этим — самым большим, после другим — поменьше, и так — до самого маленького!
Жигмонт принял ключи.
— А коня я обихожу на нашей конюшне, не тревожьтесь! — повторила она.
Он кивнул.
Женщина, легко ведя в поводу коней, пошла в сторону строения, несомненно являвшегося конюшней. Жигмонт посмотрел ей вслед. Как умело она обращается с лошадьми, как хорошо держится в седле! Знать бы, кто она! Куда он попал?
Он позвенел ключами. Приподнял двумя пальцами связку за кольцо. Ключи были разной величины и изготовлены из разных металлов, первый ключ — железо, далее шла медь, затем серебро, и наконец — золото.
Жигмонт повернулся к двери, почти такой же прочной, как и входная, и пустил в дело первый ключ.
Дверь отворилась со скрипом. И, едва он успел оказаться внутри, гулко захлопнулась. Он инстинктивно обернулся с мгновенной тревогой. На миг им овладел испуг, почти животный. Но он не устыдился, ведь это была всего лишь естественная реакция человека, внезапно оказавшегося в ловушке.
Значит, все-таки ловушка!
И эта дверь обита была железом. У него хватило силы воли не впасть в безумное отчаяние, не отбивать в кровь кулаки, колотя отчаянно и бессмысленно по железу! Он только резко обернулся и уперся ладонями в холодной металл.
Что ж, он попробует двинуться дальше!
Кто знает, быть может, и следующий ключ ему пригодится!
Жигмонт ощупью двигался по темному переходу. Что-то мягкое, остро пахнувшее, задело его щеку. Летучая мышь! Он сразу понял это и не дал безумному испугу снова овладеть его сердцем.
Жигмонт вытянул руку, нащупал шершавую зернистую поверхность. Это был длинный коридор, выложенный кирпичом. Но такой ли уж длинный? Возможно, Жигмонту лишь кажется, ведь он движется медленно и не знает, когда и как завершится его путь.
Но вот нога коснулась твердой поверхности. Жигмонт не утратил присутствия духа, принялся осторожно, вершок за вершком ощупывать. Да, кажется, его путь и вправду закончен.
Неужели он замурован здесь? Неужели его ждет мучительная смерть от голода и жажды? Эти вопросы возникали в сознании машинально, как что-то необязательное. В сущности, он не верил в свою смерть! Он, разумеется, знал, что он смертен, но ему казалось, уже давно, с самого детства, что когда смерть действительно настигнет его, он это почувствует и встретит ее спокойно, без сожалений о жизни. Но сейчас он не чувствовал этого ощущения неминуемой гибели. Сейчас он не умрет! Значит, нужно действовать. Он терпеливо ощупывал кирпичную кладку. Сделал несколько шагов вдоль стены. Пока ни малейшего намека на дверь! Да, надо двигаться вдоль стены! Еще! Еще!
Наконец-то! Ладонь Жигмонта ощутила холод металла! Дверь!
Теперь — нащупать замочную скважину! Вот!
Он сунул в скважину второй ключ — медный. Ключ вошел легко. Вероятно, дверь часто отпирают и запирают вновь. При этой простой мысли Жигмонту вспомнилась его недавняя спутница. Где она? Быть может, следует за ним? Он перестал поворачивать ключ и прислушался. Прислушался чутко, как он умел, различая в темноте малейший шорох. Нет, шагов не слышно.
Последний поворот ключа. Дверь отперта.
Он осторожно надавил плечом. Просочился слабый свет.
Жигмонт увидел, что вторая дверь сделана из меди.
Сверкающая отполированная медная поверхность отразила его.
Яркий солнечный свет. Это был дневной свет.
Жигмонт, прежде чем увидеть, куда же он попал, невольно оглянулся. Медная дверь захлопнулась. Но он уже не думал об этом. Его влекло вперед, в тот новый мир, куда он попал.
Это была опушка леса. В отдалении вздымали зеленые кроны темные странные деревья. Трава была яркой. Изумительной чистоты воздух. Даже в горах он не дышал таким воздухом. На тонких стеблях изящно покачивались цветы. И цветы здесь отличались необыкновенной яркостью и странной формой — искусное сочетание лепестков казалось делом рук человека, а не природы. Над цветами медленно порхали большие бабочки. И бабочки были необычайны, как цветы. Жигмонт почувствовал, что эти яркие краски, этот чистейший прозрачный воздух — все это вызывает легкое головокружение. Ему почудилось, будто все вокруг закружилось в движении медленном, очень-очень медленном. Это ощущение не было ему неприятно, скорее, наоборот. Он постоял немного, свыкаясь с этим новым ощущением, затем двинулся вперед, легко ступая по яркой траве.
Резкий топот в тишине. В чаще промелькнул олень. Жигмонт снова остановился, задумался. Затем решил углубиться в чащу. Он повернул к лесу и прошел немного. Но вскоре заметил, что лес остается на прежнем расстоянии. Попытался снова повернуть. И снова лес не приблизился. Повернул снова. Все то же! Куда бы Жигмонт не пытался свернуть, он все равно продолжал двигаться вдоль темной стены странного леса, по опушке.
Он сознавал, что идет уже долго. Это сознание было тем более удивительно, что время как бы не имело власти над таинственной местностью. Странный солнечный летний день, казалось, царил здесь вечно! Жигмонт ощутил сильную жажду. И словно бы в ответ на это его ощущение, забил чуть поодаль ручей. Вода пенилась чистая, как воздух, прохладная, нежно-блескучая. Он опустился на одно колено, зачерпнул обеими горстями, смочил лицо, начал пить. Было приятно. Но ощущение свежести во рту утрачивалось очень быстро; пожалуй, слишком быстро!
Страшное рычание заставило его замереть, как был, склонясь к ручью. Он узнал это леденящее кровь рычание у себя за спиной. Это был львиный рык. Рык истинный и грозный! Раздумывать было некогда. В крови Жигмонта таились инстинкты быстроты, сейчас они мгновенно залили костер сознания и погасили его. Жигмонт молниеносным движением вскочил, выхватил меч, повернулся лицом к зверю. И вправду казалось, будто в светлом воздухе на земле пронеслись зигзаги молнии. Хрипя в агонии, животное забилось у ног своего победителя. Жигмонт рванул меч. Окровавленная сталь очищалась на глазах, красный след исчезал, и это было странно, неестественно. Жигмонт, вскинув меч, смотрел на него. Затем быстро опустил глаза, желая взглянуть на убитого зверя. На траве была расстелена выделанная львиная шкура. Она словно бы манила накинуть ее на плечи. Но Жигмонт и не подумал сделать такое. Эта внезапная схватка с могучим зверем и победа — все это имело в себе нечто странное, ирреальное. А в этой маняще раскинутой пышной шкуре заключалось даже и нечто издевательское. Жигмонт поднял голову и улыбнулся открыто и смешливо, улыбнулся кому-то неведомому, кто, быть может, являлся хозяином этих странных чудес. Затем спрятал меч в ножны, присел на львиную шкуру и задумался. Он поймал себя на том, что ему хочется сорвать какой-нибудь маленький цветок или травинку и чуть покусывать. Но здешние травинки или цветы никто не решился бы сорвать. Сорвать хотя бы вон тот алый цветок, да это же все равно, что сломать прекрасную дорогую игрушку. Жигмонт снова улыбнулся. Если ручей явился ответом на его жажду, если нападение льва было чем-то вроде испытания, то почему бы не проверить, насколько дружественно относится к нему хозяин этих мест. Жигмонту давно хотелось есть, но он всячески подавлял это желание, не давая ему разрастись. Но теперь он отпустил это желание на свободу. И спустя несколько минут голод стал мучить его.
Сначала — тишина. Кажется, никто не собирался накормить его. Но Жигмонту показалось, что кто-то колеблется — исполнить его желание или не исполнить. Жигмонт невольно рассмеялся. Затем притих и вновь пустил в дело свою чуткость. Нет! Причина здесь не в тех или иных колебаниях, просто это желание Жигмонта трудно исполнить!
Однако через несколько минут рядом с сидящим на шкуре победителем льва явились стакан вина, ломоть хлеба и сыр. Все это появилось внезапно, будто сгустилось из воздуха, и выглядело очень ярким и красивым. Секунду Жигмонт полюбовался всем этим. Затем подумал, что, должно быть, создать более обильную трапезу таинственный чародей не в состоянии. Но эта мысль не вызвала в Жигмонте презрения к способностям неведомого волшебника; напротив, Жигмонт проникся к нему уважением.
— Благодарю! — жестом почти инстинктивным Жигмонт прижал ладонь к груди.
Он принялся за еду. Сыр с хлебом и вино оказались весьма приятными на вкус, но вкус их как бы мгновенно испарялся во рту.
После еды Жигмонта стало клонить в сон. Он уже понимал, что пока опасность, в сущности, не угрожает ему. И вот он спокойно растянулся на львиной шкуре и уснул легким здоровым сном сильного и уверенного в себе человека.
Глава 7
Из всех многочисленных покоев своего обширного дворца герцог приморского города предпочитал небольшую комнату на втором этаже. Там он устроил свой кабинет и теперь сидел в резном деревянном кресле, опершись на подлокотники. Распущенные длинные светлые волосы, казалось, облепляли вытянутый череп. Утиный нос подавался вперед, тонкие губы были крепко сжаты, узкие глазки-щелочки также отнюдь не красили герцога.
Напротив него сидел на высоком стуле задумчивый старик с большими, неправдоподобно светлыми голубыми глазами и длинной седой бородой. Старик был в темном кафтане. Герцог — в домашнем легком камзоле.
— Вы получите замок своих предков! — тихо говорил герцог. — Более того, я выплачу вам кругленькую сумму — золотом! Вы отстроите и заново отделаете замок! Я прощу ваш род! Я призову вас ко двору! Вы станете моим приближенным! Ну?!
«Торгаш! — брезгливо подумал старик. — Торгаш на престоле истинных владык, которым служили мои предки!»
— Все, что принадлежало моим предкам, по праву принадлежит и мне, — меланхолически начал он. — А для того, чтобы эта груда развалин предстала перед всем приморьем в своем прежнем блеске, не хватит вашей казны, милый герцог!
Герцог поморщился.
— Нам незачем притворяться друг перед другом, — продолжал старик ровным спокойным тоном. — Золота вашего мне не нужно. От суетного существования при дворе я устал еще в юности. Единственное, чего я хочу, — это уединиться с несколькими преданными мне слугами в дорогих моему сердцу развалинах, провести там, на свободе, в покое и тишине, остаток своей жизни, и там умереть, внимая гулу морских волн. Пусть этот долгожданный покой моих последних лет и явится наградой за ту услугу, которую я окажу вам!
Герцог слушал настороженно и недоверчиво. Маленькие узкие глазки излучали коварство, тщетно он изо всех сил старался придать им иное выражение — внимательности, например, или ума.
— Да, — сказал герцог, когда старик замолчал. — Вы стары и не так уж глупы. Но для того, чтобы вполне доверять потомку рода, известного своей строптивостью, я хочу знать, как вам стало известно о моем желании.
— Ничего нет проще! — воскликнул старик. — Я знаю этого человека! Мне пришлось с ним столкнуться однажды. Тогда я не сумел одолеть его! Но с тех пор я несколько поднабрался ума! Однако меня удивляет другое: почему он еще не убит!
— Если бы это было так легко и просто! — в голосе герцога послышалась горечь. — Каким-то чутьем он распознает отравленную пищу! Втравить сто в уличный, якобы случайный поединок, так ведь он непременно выйдет победителем!
— Но можно просто-напросто бросить его в тюрьму под любым, пусть самым нелепым предлогом! — старик усмехнулся. — Можно казнить без суда!
— О нет! — маленькие глазки герцога блеснули злобой. — Я хочу показать тем, кто его послал, что я не боюсь их! Пусть его гибель будет случайной! Или еще лучше — пусть он совершит какое-нибудь преступление, чтобы я мог казнить его! Да, казнить, но на законном основании!
— Вы опасаетесь тех, кто послал его? Со мной вы можете не таиться!
— Да! Они — сила! А этого человека знаю и опасаюсь не я один! Он является открыто! Их корабли уже бороздят моря! Опасность грозит моему герцогству!
— Но ведь он — не лазутчик!
— Он — вестник! Он вселяет страх в сердца властителей, парализует их волю!
— Что ж, я помогу моей родине! Он будет казнен на законном основании!
«О, глупый торгаш! Нелепая кукла на троне благородных владык! Да, этот человек будет казнен, но вовсе не потому что таково твое желание! Это мой звездный час! Теперь или никогда!»
Глава 8
Жигмонт потянулся на львиной шкуре. Сон освежил его. Вокруг — все тот же солнечный полдень. Яркая зелень, недвижные цветы, медлительные бабочки. Жигмонт продолжил путь.
Ему показалось, что цветущая опушка странного леса начала сужаться. Эта перемена обрадовала его. Значит, впереди его ожидает нечто новое!
Опушка леса, прежде довольно широкая, сузилась в узкую дорожку. Несмотря на свою наблюдательность, Жигмонт не успел заметить, каким образом дорожка превратилась в узкий, выложенный кирпичом коридор. Он ускорил шаг. Что впереди?
Осторожно коснулся прикрепленного к поясу кольца с ключами. Ключи тонко прозвенели. Он увидел легкое излучение, сияние.
Перед ним была серебряная дверь. Она была отполирована также, как и предшествовавшая ей медная. Если медь отразила Жигмонта ярко-алым, как бы в пламенеющей заре, то серебро сделало его светло-спокойным, холодным. Он подумал, что отполированный металл отражает совсем иначе, нежели тихая водная гладь. Взял в свои сильные гибкие пальцы серебряный ключ и вставил в ясно видимую замочную скважину.
Серебряный покой оказался почти квадратным. Но, возможно, ото ощущение было вызвано тем, что и стены, и пол, и потолок странной комнаты были из отполированного серебра. И удивительно было видеть себя во множестве отраженных обликов.
Отражения повторяли каждое движение Жигмонта, лица их делались то невольно-улыбчивыми, то выражали тревогу, то глядели задумчиво. Жигмонт наблюдал с интересом, поворачивался в разные стороны.
Эти отражения напомнили ему о свойственной женщинам страсти видеть себя как бы со стороны. Ему вспомнились девушки, глядевшиеся в спокойные озерные воды, побросавшие на берегу кувшины и невыстиранное белье; затем в памяти всплыло видение юной женщины, склонившейся при свете оплывающей свечи над широкой тарелкой с водой.
Задумавшись о женских прихотях, Жигмонт вспомнил свою спутницу. Где она сейчас? И кто она?
В квадратной серебряной комнате стены были гладкими. И ни следа двери! Но Жигмонт верил в то, что ему суждено идти дальше!
Он вначале приблизился к одной стене, ощупал ее. Но стена оказалась совершенно гладкой! Он подошел к другой стене. И снова — ни единой выпуклости, ни одного выступа, на который можно было бы надавить, нажать! Третья стена повторяла первые две. Значит, четвертая? Но и четвертая стена обманула его ожидания!
Жигмонт в задумчивости остановился посреди комнаты. Страшно ему не было. Это приключение уже давно развлекало его, а не пугало. Он постоял короткое время. И вдруг улыбнулся. Затем сделал несколько шагов, как человек, принявший неожиданное решение и теперь пусть усомнившийся в нем, но усомнившийся лишь на миг!
Может быть, все же дверь находится в полу? Или даже в потолке? Но его уже охватывало нетерпеливое желание сделать именно то, что так внезапно пришло ему на ум! Да, да, да! Ему снова показалось, будто кто-то ждет его решения, кто-то наблюдает! Этот кто-то не был враждебным, но не был и доброжелательным; должно быть, он наблюдал за Жигмонтом, как иной человек наблюдает за муравьем, карабкающимся по носку его сапога. Конечно, такое наблюдение было не так уж приятно Жигмонту. Но в конце концов разве не от него самого зависит дальнейшее?
Все! Он решился! Но это оказалось не так-то легко!
Он стоял посреди комнаты и собирался с силами. Полированное серебро отражало его многажды.
И вдруг он ясно ощутил, что ответом на его нерешительность становится враждебность. Самая простая презрительная враждебность, грозившая его жизни самой что ни на есть простой и потому еще более грозной опасностью. И это ощущение решило все!
Жигмонт резко и быстрыми шагами двинулся вперед, не выбирая стену. Вот он подошел к той, что была напротив него и не приостанавливаясь, не сбавляя шаг, двинулся сквозь стену!
Отполированная серебряная стена раздалась, словно воздушное пространство, покорно пропуская его.
Глава 9
Теперь он сразу попал в иной мир. Здесь, в мареве жары, он увидел дом своей матери. Этот мир был совершенно реален. Воздух здешний пропитался дорожной пылью. Мошки неприятно кусали. Деревья и трава были многооттеночными и естественными. Жигмонт теперь стоял на твердо утоптанной тропинке. Было очень жарко. И это была естественная летняя жара. И дом матери был таким, каким он запомнился с детства.
Но видя, слыша и ощущая все это, Жигмонт уже не изумлялся, не пугался. Он испытывал уважение к неведомому чародею. И в то же самое время ощущал — ведь это благодаря ему, Жигмонту, волшебник сумел перейти от ирреального леса к такому естественному пейзажу! Что-то, какая-то сила, исходящая от Жигмонта, странным образом помогает, содействует всем этим превращениям!
Жигмонт шел по тропинке к дому. А если колдовство и вправду настолько сильно, что он вернулся в детство, и сейчас увидит свою молодую мать, и, быть может, навеки останется здесь! Но в такое колдовство Жигмонт никак не мог поверить! Нет, нет! Здесь что-то другое. Но что же, что?!
Все верно! Таким был в детстве его дом, дом его матери! Он смотрел и узнавал. Вспоминались все эти живые подробности, детали. И все было именно таким! Но то, что в детстве казалось ему просторным и высоким, теперь виделось узким и тесным.
Дверь, как всегда, была распахнута. Он уже стоял на пороге. В пустой горнице он увидел свою мать! Это была она! Вот ее привычно склоненная голова. Он был удивлен и тронут — какая она еще молодая, но уже увядшая, исхудалая.
В этот миг он позабыл обо всем! Осталось только одно стремление — подбежать к ней, обрадовать ее, броситься на колени, взять ее худые родные добрые руки в свои сильные пальцы.
Радостной добротой блеснул ее взгляд! Вскинулись руки в широких пестрых рукавах — обнять сына!
Вот ее руки, материнские руки, уже касаются его плеч. Он быстро склоняется, преклоняет колени. Мать вскрикивает.
Ее крик звучит все громче. Это уже невероятно, неприятно громкий крик. В этом крике слышится что-то резкое, каркающее, визгливое.
Все это заняло какую-то долю секунды.
Тонкие материнские руки покрываются отвратительной грубой темной чешуей, вместо нежных пальцев — кривые когти. С ревом раскрывается огромная пасть. Мерзкая морда вытянута в длину. Над склонившимся чернобородым человеком взметнулось жирное туловище гигантского ящера. Ящер удерживается на двух коротких толстых задних лапах — это выглядит пародийно-человечески. Странное, парадоксальное сходство с человеком делает ящера совершенно чудовищным и отвратным.
Теперь Жигмонтом движет лишь инстинкт, самый сильный из инстинктов — инстинкт самосохранения. Мгновенно распрямившись, Жигмонт отпрыгивает. Вот он уже на порядочном расстоянии от разъяренного чудовища. Выхватить меч — дело одной секунды.
Но гигантское темное существо не успевает двинуться. Оно медленно тает в воздухе. Вот исчезла ревущая пасть. Вновь окружает Жигмонта тишина. Исчезают передние когтистые лапы, растворяется в воздухе туловище, исчезли задние лапы.
Жигмонт в полном одиночестве стоит на пустыре. Ни следа родного дома! Реальный пустырь, заросший сорными травами. Возможно, так теперь выглядит то место, где некогда был дом его матери. Возможно, именно так!
От внезапно пережитого он не утратил способности думать! Кажется, неведомый чародей преследует вполне определенную цель: ему нужно, чтобы Жигмонт отвечал на все его каверзы искренними чувствами! Страх, радость, любовь, гнев! Неужели все эти чувства излучают нечто материальное, нечто, питающее его способность творить чудеса? Жигмонт ощущает, что произошло новое превращение. Вокруг него пустырь, поросший сорняками, и знойный воздух, словно бы рвутся, как холст с нарисованным пейзажем. В прорехи уже видна яркость, свежесть. Еще минута — и Жигмонт вновь на опушке леса. Цветут цветы, перелетают бабочки, журчит ручей.
Но львиной шкуры уже нет здесь. Вместо нее Жигмонт видит маленький ковер из своей сумки. Ковер расстелен у ручья. Как это расценить? Дружественный жест? Волшебник признает его равным себе? Или новое испытание? Как поступить? Жигмонт задумывается. В конце концов он выбирает самое простое решение: он поступит так, как ему хочется! И Жигмонт делает отрицательный жест головой и поводит рукой — нет, нет! Зачем среди всех этих наваждений появляется нечто дорогое и важное для его души? Такую игру он не приемлет! Маленький ковер исчез.
Надо продолжить путь!
На этот раз протяженная светлая опушка темного леса довольно быстро сменяется кирпичным коридором. Жигмонт идет уверенно. Вскоре он видит прямо перед собой новую дверь.
Последняя дверь!
Золотая!
Глава 10
Эта дверь не отполирована, как предыдущие, но вся покрыта изящной чеканкой, тонкими переплетенными извилистыми линиями сложного узора.
Жигмонт вставляет ключ в замочную скважину.
Дверь открывается с легким музыкальным звуком.
На этот раз Жигмонт оказывается в опочивальне. Ковры на стенах, мягкие подушки на полу, аромат женских притираний и настоек. Низкий круглый стол уставлен блюдами — фрукты, сладости. В золотом кувшине — вино.
Дверь тихо закрылась. Жигмонту приходит на ум, что это самое приятное из его нынешних волшебных приключений. Он смешливо улыбается.
Полог из легкой светлой ткани раскинут над роскошным ложем.
Только теперь Жигмонт заметил, что в этой комнате он не один.
Неподалеку от стола сидит хрупкая девочка. На вид ей не дашь больше пятнадцати лет. Теплый жгут каштановых волос, стянутый на затылке красной лентой, рассыпается по плечам. Тоненькие руки обнажены. Девочка одета в сорочку, почти прозрачную. Нежные маленькие груди напоминают пугливых округлых птиц.
Жигмонт тотчас вспоминает одно из самых удивительных своих похождений. Это она!
Девочка вскочила. Раскинув руки, она очаровательным жестом прижала к груди ладони. Затем вдруг опустила руки, прижалась к стене, глядя с испугом на нежданного гостя. Теперь он видит нежность живота и мягкие очертания бедер. Стебельки тонких ног венчает округлый темный потаенный живой цветок.
«Что бы там ни было! — смутно проносится в мозгу. — А такого наслаждения я не упущу!»
Жигмонт давно знает женщин. Они не имеют власти над ним. Иметь дело с женщиной — для него все равно что выпить хорошего вина, вкусно поесть. Но зачастую женщина слаще вина, сытнее самой доброй еды. Жигмонт никогда не был женат. И всего лишь раз в своей жизни брал девственницу. Да, единственный раз, наспех, второпях. И много раз после того единственного раза он в дорогих и дешевых притонах требовал, чтобы ему привели девственницу. Он обещал заплатить. Сводни угодливо спешили угодить гостю. Но все кончалось скандалами и побоями. Девственность оказывалась мнимой — старушечьи блудливые пальцы изготовляли ее красными нитками. А память о том единственном наслаждении прочно угнездилась в сознании.
— Кто вы? — проговорила девочка нежным голосом.
Да, кажется, так оно и было, тогда, давно. Память о наслаждении вытеснила воспоминания о подробностях.
— Не бойся! — отвечал он машинально.
Он удивительно легко овладевал языками. Свободно объяснялся на всех итальянских диалектах; знал и тот язык, на котором говорила девочка, отвечал ей на ее родном языке, даже находил в этом языке некую близость к своему родному языку.
Но разве имели значение слова, если оба они уже были охвачены взаимным тяготением, бурно сметающим все на свете различия. Так было тогда, давно, так было и теперь!
Он поднял ее на руки, упиваясь легкостью ее полудетского тела, впивая нежный аромат ее волос. Розовые бутоны приоткрывшихся губ манили к бесчисленным поцелуям, но он не давал себе воли. Эти мучительные, до содроганий, до боли, ощущения, когда оттягиваешь блаженство. О! в этом таится бездна удовольствия! Перейдя за грань мальчишества, обретя мужскую зрелость, он перестал быть нетерпеливым, осознал сладость нарочитого промедления.
Девочка восприняла его страсть, заразилась ею, как внезапной болезнью. Но она еще не знала терпения, свойственного зрелости. И вот, с детской нетерпеливостью она уже царапала его щеки тонкими ноготками, уже кусала его темные крупно-выпуклые губы, уже вцеплялась в душистую черную бороду.
На постели он покрыл ее хрупкое тело горячими поцелуями. О, наконец-то! Она всхлипывала совсем по-ребячьи. Она училась ответным поцелуям. Гибкий его язык скользнул в ее детский рот, она застонала, не сознавая, больно ей или сладостно.
— О-о! О-о!
Но вот небывалая боль пронзила междуножье. И чем больнее и острее делалась эта боль, тем желаннее она делалась!
О, сладостная, чудесная, чудесная боль!
Он, содрогаясь всем телом, ощущал преодоление преграды.
Глубже, глубже!
Он тоже вскрикнул.
Наслаждение было полным, единым, взаимным!
Затем пришло расслабление. Юное тело девочки доверчиво прильнуло к его мускулистому мужскому телу. Легкое дыхание возвестило о сне усталой любовницы. Она уснула крепким детским сном.
Удовлетворенный Жигмонт тихо размышлял.
«Что все это значило? Конечно, похоже на тот случай с матерью! — на мгновение ему стало противно. — Значит, он материализует то, что хранится в моей памяти! Но зачем! Что ему нужно? Убить меня? Но какая ему от этого польза? Что ему в моей смерти? Быть может, он испытывает меня? Но для чего? Дружба? Не знаю. Вряд ли я захочу иметь другом волшебника! Ученичество? Ему нужен такой человек, как я, не слабый духом и телом! Но я не пойду в ученики к чародею! Будь я зеленым мальчишкой, я бы еще подумал, а теперь, в зрелые мужские годы, нет, не пойду!»
Он ощутил голод. Вспомнил о вкусных яствах на столе. Хорошо бы выпить вина.
Жигмонт осторожно высвободился из объятий девочки, бережно укрыл ее покрывалом. Поднял брошенную в беспорядке одежду, оделся. Натянул сапоги. Он чувствовал себя в безопасности, но на всякий случай прикрепил к поясу меч, проверил, при нем ли кинжал. Приподнял и опустил полог. И уже собрался подойти к столу. Но замер, не в силах шевельнуться, не в силах вскрикнуть. На этот раз волшебнику удалось по-настоящему испугать и потрясти своего гостя.
Жигмонт бессмысленно смотрел прямо перед собой. Он почувствовал, что губы его невольно и неприятно подрагивают.
Вот сейчас из горла вырвется вопль, позорный знак страха.
Жигмонт взял себя в руки. Глотнул слюну.
Человек, сидевший на подушке у стола, отставил золотой бокал, из которого пил, и посмотрел на Жигмонта.
Жигмонт посмотрел на Жигмонта. Потому что человек, сидевший на подушке и пивший вино, был Жигмонтом.
Остановившийся у полога Жигмонт узнал себя. Да, это он! Никакое зеркало не могло бы скопировать его точнее, не говоря уже о портретах и скульптурах! Это он!
Сидевший у стола любезно поздоровался с Жигмонтом, назвав его по имени, он говорил на родном языке Жигмонта.
Жигмонт ответил, не называя своего двойника своим именем. Затем решительно приблизился к столу, опустился на подушку, взял один из бокалов, налил себе вина, прикусил яблоко.
Но, конечно, на душе у него было неспокойно.
«Кому не случалось порою часами беседовать с самим собой? Даже как бы спорить при этом, обвинять и осуждать самого себя! Но это беседы и споры с чем-то бестелесным, бесплотным и потому послушным, не имеющим собственных желаний. Но вот он, мой двойник во плоти! Впрочем, кто из нас чей двойник? — Жигмонт мотнул головой, стряхивая наваждение. — К чему эти бесплодные умствования? Я знаю, что это я! А этот человек, сидящий напротив меня и в точности повторяющий мой облик, всего лишь наваждение! А, может быть, это сам волшебник? Надо признать, кое-чего ему удалось добиться! Я изумлен! Пожалуй, я даже был испуган! Что же дальше? Но пока надо поесть!»
Еда и питье в этой комнате были такими же, как на поляне, таяли во рту, не оставляя следов.
«Наваждение! Одно лишь наваждение!»
Оба Жигмонта ели и пили в молчании.
Глава 11
Двойник вынул из-за пазухи тонкий платок и утерся. Жигмонт узнал свой платок.
Двойник улыбнулся смешливо. Жигмонт узнал свою улыбку. Улыбка была хороша. Человек, который так улыбается, не предаст.
«Да, ни малейшего различия! Я — это он! Он — это я! Но зачем? Зачем?»
— Ты давно здесь? — спросил двойник.
— А ты?
— Можно сказать, что недавно!
— Как ты попал сюда? — Жигмонту сделалось любопытно — что же расскажет о себе его двойник.
— Я остановился в небольшом кабачке. Перекусил, отдохнул. Там еще был слуга, забавный малый. Он провел ко мне женщину с письмом, а сам пристроился подслушивать наш с ней разговор! — Двойник хохотнул. — Ну и поплатился опухшей физиономией! Здорово его хлопнуло дверью! Женщина назначила мне встречу у Северных ворот. Давешний слуга привел моего коня. Мы с ней доехали до каких-то развалин. Она вызвалась обиходить лошадей, а мне дала ключи. За железной дверью меня ждал темный переход. За медной я прикончил льва. За серебряной дверью чудовище прикинулось моей матерью — при этих словах двойник Жигмонта вздрогнул. — Ну а дальше была золотая дверь. Вхожу — никого! Сел к столу, вдруг из-за полога выходишь ты! Но ведь ты — мой двойник!
— Скорее, ты — мой двойник! — невольно вырвалось у Жигмонта. В душе нарастало ощущение, что этот человек — не он, что этот человек — враждебен!
— О нет! Я — это я! Я хорошо знаю себя! А вот ты появляешься впервые! Хотел бы я знать, откуда ты взялся?
— Но если мы повторяем друг друга, — начал Жигмонт. — Если мы — двойники, тогда откуда у меня ощущение твоей враждебности мне?! А ты не испытываешь ничего подобного?
— Я не нахожу в этом ничего удивительного! Ведь каждый из нас — сам по себе! У каждого — свое тело, свои желания!
— Но ведь это одни и те же стремления, одни и те же общие желания! — воскликнул Жигмонт.
— Но в таком случае мы тем более можем мешать друг другу! Например, мне хочется съесть вон то яблоко! А тебя разве не влечет к нему? Оно такое спелое, нежно-алое!
— Да, — немного помолчав, ответил Жигмонт. — Мне тоже хочется съесть это яблоко! Но я… — он примолк, затем решительно произнес: — Я уступаю это яблоко тебе! Ешь!
Двойник взял яблоко и неспешно захрустел. Жигмонт заметил, что двойник с любопытством оглядывает комнату.
«В этом есть что-то нарочитое! Ведь сразу ясно, что это спальня женщины! Однако! Здесь нет никакой женщины! Только девочка! Но это не ее спальня! Это спальня взрослой женщины, владеющей искусством накладывать на лицо краски, умеющей душиться и помадиться. Кто же эта женщина? Уж не она ли послала ко мне служанку? Неужели девочка — дочь этой госпожи? Скверно! Но нет, такого быть не может! Девочку я вспомнил! Она — из моей памяти, из моего прошлого!»
Двойник доел яблоко. Снова обтер платком губы и пальцы.
— Что там, за пологом? — спросил двойник.
— Но если ты проделал тот же путь, что и я, то должен знать!
— Я и знаю!
— Стало быть, ты нарочно спрашиваешь? Ты издеваешься надо мной?!
— Да!
— Но зачем?
— Неужели не ясно? Ты мешаешь мне! Ведь ты не хочешь, чтобы я совершил то, что так недавно совершил ты?
— Не хочу! Потому что ты — не я! Или нет, не поэтому! Просто потому что ты — зло!
— Злом мы именуем все то, что служит помехой осуществлению наших желаний! — заметил двойник.
— Ты не войдешь за полог!
— Я войду!
— Нет!
Жигмонт почувствовал, как им овладевает бессмысленное упрямство. Он всегда считал это состояние опасным для себя. Но что сделать теперь? Уступить? Жигмонт понимал, что не уступит.
Двойник поднялся из-за стола.
Жигмонт встал следом за ним.
Двойник приблизился к пологу и медленно обнажил меч.
Жигмонт узнал свой меч!
— Я не буду драться с тобой! — внезапно произнес Жигмонт.
— Ты уступаешь мне? — в голосе двойника послышалась глумливость.
«Нет, это не я!»
— Ступай, — Жигмонт заставлял себя говорить спокойно. — Сделай то, что желаешь!
«Все это — всего лишь наваждение!»
Но двойник раздумал идти за полог.
С мечом в руке он наступал на Жигмонта.
«Все же меня поймали в ловушку!» — подумал Жигмонт. Ему пришлось тоже обнажить меч.
«Теперь у меня нет выбора! Придется драться!»
Жигмонт следил за каждым движением противника.
Один и тот же человек, единый в двух лицах, вступил в бой с самим собой. Это было более чем странное зрелище!
Из-за полога не доносилось ни звука!
«Бессмысленный поединок! Ведь наши движения совершенно одинаковы! Значит… Остается одно: мы убьем друг друга! Одновременно!»
Жигмонт увернулся от выпада противника.
— Послушай! — крикнул Жигмонт. — Кто бы ты ни был! А я знаю, что ты не я! Не повторяй моих движений! Мы убьем друг друга!
Но двойник продолжал наступать.
«Мне остается лишь одно: попытаться стряхнуть с себя все это наваждение! Именно сейчас попытаться! Этот человек — не я! Он просто повторяет мои движения и жесты. Подражает мне. Я поддался внушению и вижу в нем себя! Но сейчас, сейчас я сброшу все это! И я увижу его настоящим! Увижу!»
Жигмонт с радостью заметил, что движения противника все более отличаются от его собственных движений!
«Сейчас! Еще немного! Я увижу его!»
Острая боль в плече заставила Жигмонта отпрянуть.
Это была настоящая боль. Показалась кровь.
Теперь все сделалось простым и понятным. Это поединок! Если Жигмонт не станет нападать, он будет убит!
Жигмонт ощутил, как ярость овладевает им. Драгоценное чувство для человека, решившего во что бы то ни стало остаться в живых!
Он обрушил на двойника град ударов. Он рубил, как в бою в открытом поле!
Когда Жигмонт очнулся, двойник, изрубленный и недвижимый, лежал на ковре. Мертв!
«Что же теперь?»
Жигмонт внимательно смотрел на лежащего. Тот упал навзничь, раскинув руки.
«Наваждение, однако, не отпускает меня! Я вижу в нем себя! Я вижу свое лицо! Но ведь я знаю, что на самом деле это не так! Это не я!»
— Это не я, не я, не я! — повторил он громко, как заклинание.
Затем, вспомнив о девочке, отдернул полог.
На постели никого не было.
Впрочем, это уже не удивило его!
Он решил во что бы то ни стало увидеть настоящее лицо убитого. Он напрягся, собрал всю свою волю. Он победит наваждение!
Стоять наклонясь было неловко. Голова кружилась от потери крови. Болело плечо. Он сел и продолжал неотрывно смотреть на убитого.
Еще немного!
«Я выберусь отсюда не через все эти серебряные и золотые двери, а самым что ни на есть простым способом!»
Жигмонту показалось, что он побеждает.
Вот уже начала таять опочивальня, краски ковров стали размытыми.
Еще немного!
Но боль одолевала, мешала сосредоточиться.
Угол ковра позади сидящего Жигмонта отогнулся. Показалась женская фигура. Если бы Жигмонт обернулся, он бы узнал служанку, ту самую.
Бесшумно подкравшись босыми ногами, женщина вытянула руки над головой Жигмонта. Лицо ее выражало сильнейшее напряжение.
Жигмонт вздрогнул. Он хотел встать, хотел повернуть голову и не мог. Темная пелена заволокла сознание.
Но в этот последний миг он ясно увидел, как изменяется лицо лежащего.
Глава 12
Жигмонт открыл глаза. Он ощутил, как стекают по щекам капли холодной воды. Кто-то смачивал его лицо.
Попробовал пошевелить рукой. Понял, что рана перевязана. Плечо тупо ныло. Но он и не к такой боли привык.
Он лежал навзничь. Оперся ладонью о твердую поверхность — утоптанная земля. Немного приподнялся. С губ чуть не сорвался обычный вопрос: «Где я?» Но местность он узнал.
Северные ворота!
Голова еще кружилась. Жигмонт сел с усилием.
Вокруг него толпились люди.
Совсем близко сидела женщина, прикрыв колени заношенной одеждой. Он сразу узнал — старуха у фонтана! Она отставила щербатый кувшин, руки ее были мокры. Стало быть, черпала из кувшина воду и смачивала ему лицо. На этот раз ее взгляд не показался ему отрешенным. Она смотрела с искренним сожалением.
— Вам полегчало, господин? — произнесла она тихим тонким голосом.
Жигмонт вдруг заметил на ее пальце то самое кольцо, что он ей кинул. На золотой печатке — изображен немужской фигуры, по обеим сторонам которой — две птицы с человеческими ликами. Ему почему-то показалось смешным, что кольцо пришлось ей впору, что она носит его кольцо. Он улыбнулся.
Вокруг него толпились еще люди. Здесь были горожане, жившие поблизости; пригородные крестьяне с осликами в поводу. Стражники, нищие. Пестрели платья женщин. Шныряли мальчишки. Глаза девушек были грустны. В толпе тихо переговаривались и чего-то ждали.
— Это чужеземец!
— Но ведь и тот был чужеземцем!
— Они не могли не знать!
— Быть может, это месть?
— Надо бы установить, знакомы ли они друг с другом!
— Не тревожься понапрасну! Это сделают и без тебя!
— Какое красивое лицо!
— Человек, который так улыбается, не мог совершить ничего дурного!
— Это благородный господин!
— Но ведь поединки запрещены!
— Смотрите, того уже уносят!
Взгляды обратились в сторону.
Жигмонт тоже обернулся.
Несколько стражников поднимали с земли убитого, чтобы уложить его на грубые деревянные носилки. Жигмонт внимательно смотрел. Тело было сильно изрублено. Он узнавал эти раны. Двойник! Но теперь это был человек, не похожий на Жигмонта, хотя, пожалуй, что-то общее в них можно было подметить. Должно быть, они были одногодки, оба прекрасно сложены. Лицо мертвого, с красивыми чертами, с крепко сжатыми губами и закрытыми глазами, несло печать серьезности и таинственности. Так же как и Жигмонт, его бывший двойник носил чужеземную одежду. Жигмонт узнал покрой, в той стране, где так одевались, ему приходилось бывать.
«Я был прав. Это было действие внушения! Это наваждение! И даже что-то издевательское в этом есть — мы явно похожи немного. Должно быть, и образом жизни он напоминал меня — искатель приключений! Волосы у него светлые. Все это было бы даже забавно. Значит, это его решили убрать, уничтожить моими руками? Досадно, что мне пришлось сделаться чужим орудием! Я этого не люблю! Но все же! Почему-то меня не покидает ощущение, что дело не в нем, а во мне! Самомнение, однако!»
В толпе снова зашумели, загомонили.
— Начальник стражи! Начальник городской стражи!
— Где?
— Не толкайся!
— Убери осла!
— Начальник стражи собственной персоной!
— Дело серьезное!
— А ты, бабка, ступай-ка прочь отсюда! — какой-то мужик тряхнул за плечо старуху, все еще сидевшую подле Жигмонта.
— Оставь ее! — засмеялась женщина с корзиной. — Приятно посидеть у ног благородного господина!
— Должно быть, это напоминает ей молодость! — набавила другая. — Разве вы не видите, что когда-то и она была красива!
— И не милостыней зарабатывала себе на жизнь! — хихикнул парень в одежде слуги из богатого дома.
— Оставьте ее! — вступилась пожилая горожанка. — Она хоть и бедна, да честна! Не сводничает! Не попрошайничает нагло!
— Оттого и бедна! — вставил слуга.
— Ступай, бабушка! — продолжала горожанка. — Видишь, начальник городской стражи идет сюда!
— А, может быть, она первая нашла обоих!
— Да нет, я уже все знаю! Их нашел дозор на рассвете. Оба лежали вон там!
— Что ты болтаешь! Совсем не так все было! Слушайте меня! Дозорные заслышали шум поединка и бросились. А этот чернобородый красавец уже рубил своего приятеля в капусту! Стража приказала им остановиться! Чернобородый обернулся. Тут-то приятель его изловчился из последних сил и рубанул ему плечо! Оба рухнули на землю!
— Откуда ты все так знаешь? Уж не сам ли видел?
— Знаю, потому что Канио мне рассказывал, мой двоюродный брат, эту ночь он был в дозоре!
— А старуха?
— Старуха вместе со мной подошла! — сказала женщина с корзиной. — И грех смеяться над ней! Она оказалась милосердней всех нас! Сбегала за водой. Отодрала клок от своего рубища и перевязала плечо раненому!
— Ну, могла бы и побольше отодрать! Никто ее не изнасилует! Лилейное тело в прореху не проглянет!
— Начальник стражи! Начальник стражи!
— Вот он!
Раздались крики:
— Дорогу!
— Дорогу!
Стражники отталкивали любопытных, расчищая путь начальнику стражи.
Жигмонт оглянулся. Старуха уже скрылась в толпе.
Блеснули нарядные золоченые доспехи. Начальник городской стражи, на вид еще совсем молодой воин, встал перед Жигмонтом.
— Можете ли вы подняться? — был его первый вопрос.
Жигмонт оценил благородство и человечность этого вопроса. Он склонил голову, словно бы заранее выражая покорность любому справедливому решению своей участи.
— Да, могу.
Он встал и, несмотря на легкое головокружение, удерживался на ногах. Неподалеку он заметил одного из стражников, державшего его меч и кинжал. Другой стражник держал оружие его противника-двойника. Оба меча были окровавлены.
— Вы обвиняетесь в убийстве! — четко произнес начальник стражи. — Я должен препроводить вас в тюрьму! Согласны ли вы следовать за мной добровольно?
— Дадут ли мне возможность оправдаться и все объяснить или же казнят без суда и следствия? Я чужеземец и еще не так хорошо знаком с вашими обычаями и порядками!
— Вас подвергнут герцогскому суду, как человека благородной крови, и выслушают ваши оправдания!
— Что ж, я готов следовать за вами!
Толпа, восхищенно притихнув, слушала этот диалог. Благородный чужеземец снискал общие симпатии. Мужчин привлекала его горделивость, они уже готовы были преклониться перед его видимым бесстрашием. Женщины тайком вздыхали, чутье подсказывало им, какого замечательного любовника видят они перед собой.
— Дорогу!
— Дорогу!
Предводительствуемый начальником городской стражи отряд двинулся к дворцовой тюрьме. В середине, окруженный стражниками, шагал чужеземец.
Часовые впустили отряд. Начальник стражи пересек широкий, вымощенный каменными плитами двор и направился к приземистой башне. Он что-то сказал часовому, затем подошел к Жигмонту.
— Ступайте за мной!
Следом за начальником стражи пленник зашагал к башне. Начальник стражи сделал повелительный знак рукой — спутники его остались на месте.
Они поднимались вверх по винтовой лестнице. Жигмонт, шагая следом за молодым воином, развлекался игрой слабого света на позолоченных доспехах. Всякий раз, когда, казалось, что положение безвыходное, Жигмонт предпочитал не впадать в отчаяние, а просто отвлечься, вглядеться в какую-то мелкую черту, передохнуть, и тем временем обдумать и решиться на какие-либо действия.
Внезапно начальник стражи резко обернулся.
— Вы следуете за мной и не пользуетесь этим преимуществом!
— Не ждете же вы, что я ударю вас в спину! — Жигмонт засмеялся.
— Разумеется, не жду! Ведь я узнал вас! Вас трудно забыть и легко узнать! И этот смех, вселяющий такую бодрость и веселье, я уже слышал! Я даже запомнил ваше имя! — он назвал Жигмонта по имени. — Это ваше настоящее имя?
— Да!
— Но вы, должно быть, не помните меня? Вглядитесь!
Молодой человек в золоченых доспехах вскинул фонарь. Высветилось юное лицо с пышными усами, яркими губами, благородной формы носом. Юноша смотрел на Жигмонта с неподдельным восхищением.
Память у Жигмонта была не то чтобы хорошая, но скорее ее можно было бы определить как своеобразную, или, если угодно, избирательную. И сейчас он не мог вспомнить этого человека. Должно быть, не было особой нужды запоминать его.
— Нет, я не могу вспомнить вас! Мне жаль! Кто вы? Где вы меня видели?
Они стояли на лестнице. Свет фонаря рассеивал темноту.
— Я был тогда еще мальчиком! Мне и четырнадцати не минуло!
— Расскажите мне, где это было? Есть ли у нас время?
— Времени достаточно!
— Тогда садитесь на ступеньку! — Жигмонт снова улыбнулся.
— Но вы ранены, вы устали, — смущенно произнес юноша.
— У меня достанет сил выслушать интересный рассказ!
— Но часть этого рассказа, наверняка, знакома Вам!
Они по-приятельски уселись рядом на ступеньку, ступенькой ниже молодой начальник стражи поставил фонарь. Неяркий свет озарял сидящих мужчин и уходящую вверх лестницу.
Юноша начал свой рассказ.
Глава 13
Когда я родился, герцогством нашим правил отец нынешнего герцога. Правлению его предшествовала длительная борьба за трон. Я полагаю, и сегодня в наших землях найдутся сторонники прежней династии. Но семью, в которой мне суждено было увидеть свет, все это не так уж занимало. Дед мой был в порту переводчиком. Он прекрасно знал арабский и турецкий, а также греческий языки, и помогал чужеземным купцам в их торговых переговорах. Сына своего, то есть моего будущего отца, он мечтал видеть искусным врачом. И вот он отправил его в Парижский университет, снабдив определенным количеством золотых монет превосходной чеканки, а также изрядной долей наставлений.
Будущий мой отец учился прилежно, избегал дурных компаний и домой вернулся обладателем обширных познаний в лекарском искусстве. Кроме того, он умел составлять всевозможные мази и притирания, изготовлять духи и ароматические пастилки. Все это снискало ему в короткое время довольно много клиентов. По достижении зрелого возраста тридцати лет отец мой владел несколькими домами в городе, а также тремя-четырьмя загородными усадьбами. Тогда он решил, что пришла пора обзавестись семьей. Выбор его пал на девушку из богатой купеческой семьи, скромную и хорошо воспитанную. Спустя год после заключения брака явился на свет мой старший брат Грегорио, за ним последовал я, Романо. Славный старик, наш дед, еще успел порадоваться семейному счастью единственного сына. Он не стал свидетелем печальной участи, вскоре постигшей нашу несчастную семью, ибо тихо скончался в преклонном возрасте, окруженный заботами близких.
Начальник стражи прервал свой рассказ и посмотрел на Жигмонта с улыбкой.
— Вы, должно быть, удивляетесь тому, что из памяти моей совершенно изгладилось точное число городских домов и пригородных усадеб, которыми владел мой отец! Но тяжкий гнет бедствий…
— О, я не из тех, кто живет прошлым! — Жигмонт улыбнулся своей смешливой улыбкой. — Я столько всего перезабыл! Вот и вас никак не могу вспомнить! Но рассказывайте дальше!
— Слушайте! — Романо переставил фонарь поближе. — Итак, после смерти деда достояние моего отца еще приумножилось, потому что дед за свою долгую жизнь успел кое-что скопить, и, разумеется, все это унаследовал его единственный сын.
Мы с братом росли в богатстве и холе. Многочисленные слуги и служанки, прекрасные лошади, дорогая одежда. Отец и особенно мать радели и о нашем образовании. Нам нанимали учителей, родители желали видеть меня не менее, чем доктором права, а брата Грегорио — таким же уважаемым и искусным лекарем, каким был наш отец.
Но одно дело — полет мечтаний, и совсем другое — земная жизнь! Оба мы не оправдали надежды родителей. Мне была скучна юриспруденция, еще в детстве я пристрастился к оружию разных видов и бредил битвами и походами. Брат Грегорио не проявлял ни малейшей склонности к медицине! Сумрачный и нелюдимый, он любил деревню и в сельской местности чувствовал себя куда привольнее, нежели в городских стенах.
Разумеется, я, почти ребенок, не смел ослушаться родителей и покорно корпел над постылым Кодексом Юстиниана, постылые учителя порою больно шлепали меня корешками ненавистных мне книг.
Что до моего брата, то он проявил упрямство и в конце концов отец просто вынужден был уступить ему. Отец предоставил в распоряжение Грегорио самую дальнюю свою усадьбу, где брат мой и зажил по своему усмотрению.
Но случилось так, что спустя некоторое время управляющий имением привез моему отцу письмо. В этом неприятном для отца послании дворянин, живший по соседству с усадьбой, где поселился Грегорио, уведомлял отца о том, что брат мой ведет себя крайне дурно и, в частности, соблазнил трактирную служанку из ближнего городка и сожительствует с ней бесстыдно и напоказ, нимало не заботясь о добром имени семьи, а также о мнении окрестных дворян и горожан.
Все эти сведения крайне опечалили отца. Он скрыл их от матери и решил сам поехать и узнать все на месте; так сказать, убедиться собственными глазами в семейном нашем позоре.
Сейчас вы узнаете, почему мне так хорошо запомнилось то, что произошло вслед за получением рокового письма.
Лето выдалось погожее, теплое и светлое. Отец сказал матери, что поедет проведать Грегорио. Мать, ни о чем дурном не подозревавшая, принялась уговаривать его, чтобы он и меня взял с собой за город. Зная причину своей поездки, отец противился уговорам супруги, как только мог! Но испугавшись, что она что-то заподозрит, обещал взять меня с собой. Он собирался выехать рано утром в собственной повозке в сопровождении нескольких слуг. Я думаю, он ничего не имел бы против того, чтобы я проспал назначенное время. Но я вовсе не прочь был от прогулки за город и пробудился ни свет нм заря!
Мы двинулись в путь. Должно быть, мне и прежде случалось бывать за городом, но запомнилась именно эта поездка. Светило солнце. В полях колосились, наливаясь зрелостью, хлеба. Сельские девушки в своих грубоватых, но ярких одеждах казались естественной частицей окружавшей их природы.
К полудню мы добрались до городка, в котором находился трактир, откуда мой брат сманил служанку. Мне было свойственно обычное мальчишеское любопытство и проще всего было удовлетворять это любопытство, прислушиваясь к болтовне слуг и служанок из нашего дома. При отце, а особенно при матери они побаивались распускать языки, но меня не стеснялись, воображая, будто я еще слишком мал для того, чтобы понять, о чем они сплетничают. Таким образом, я уже знал, зачем отец отправился в деревню.
Трактир представлял собою двухэтажное строение с наружной лестницей. На втором этаже помещались комнаты для приезжающих. Видимо, трактирщика уже осведомили о приезде моего отца. Едва мы подъехали, как поднялась заметная суматоха, прислуга заметалась по двору, из окон выглядывали женские лица. Все это я с интересом разглядывал.
Наконец к отцу выбежал сам трактирщик, толстый, как и подобает трактирщикам, с хитрой физиономией.
— Добро пожаловать, мессир Джакомо! Я сейчас приготовлю вам комнату! А это ведь ваш меньшой? — он указал на меня. — Славный мальчуган!
— Благодарю! Комнаты нам не нужно, — сдержанно ответил отец. — Я надеюсь засветло добраться до усадьбы!
— Тогда, быть может, желаете отобедать?
— Нет. В усадьбе мы и пообедаем! Но я желал бы побеседовать с тобой наедине.
Отец говорил спокойно, но даже я, ребенок, заметил, что это спокойствие стоит ему значительных усилий.
Трактирщик закивал понимающе, пожалуй, слишком понимающе, как я теперь думаю, и, суетливо кланяясь, повел отца вверх по лестнице. Слугам и мне отец приказал подождать внизу, во дворе.
О чем беседовал мой отец с трактирщиком, я догадываюсь, хотя слышать их беседу мне не довелось. Зато я беспрепятственно вслушивался в разговоры трактирных слуг и служанок с присевшими на скамью у стены слугами моего отца.
Как сейчас вспоминаю яркий солнечный день и молодую женщину, выплеснувшую помои из лохани прямо во двор. Совершив сие полезное деяние, она сочла необходимым для себя передохнуть с полным на это правом. И вот, оперев пустую лохань о бедро, она остановилась перед нашими слугами. Я почувствовал, что мне и стыдно, и приятно глядеть на ее обнаженные до локтей сильные, привыкшие к черной работе руки, на полные сильные бедра, ясно видимые под юбкой. Должно быть, она заметила мое смущение, потому что потрепала меня по волосам и в этот простой жест вложила всю развращенность женщины, то что называется, видавшей виды. Меня смутила эта ласка, я отбежал в сторону и притворился, будто внимательно разглядываю кучу песка, выискивая мелкие цветные камешки. Но уши я навострил.
— Ты давай полегче! — добродушно заметил один из наших слуг постарше, обращаясь к трактирной прислуге. — Не видишь разве, молодой господин еще дитя!
Служанка заливисто расхохоталась.
— Такое же дитя, как его старший брат! — звонко произнесла она.
Слуги посмотрели на женщину выжидательно, им хотелось услышать более или менее правдоподобный рассказ о любовной связи моего брата Грегорио.
— Да уж! — служанка присела на край скамьи. — Сыновья у мессира лекаря, что малые дети!
— Особенно старший! — фыркнул наш молодой слуга.
— Видели бы вы, как он приезжал сюда каждый божий день! Коня загонял!
— Будто и загонял! — пожилой слуга напустил на себя равнодушный вид.
— Загонял, загонял! А было бы из-за кого!
— Из-за кого же? — не выдержал молодой слуга. — Ты уж расскажи, не томи!
— Не томи, давай! — поддержали еще двое слуг. Один из них подскочил к женщине, наклонился и обнял ее. Она притворно взвизгнула. Они оба принялись в шутку бороться.
— Бросьте вы эту чертову возню! — приструнил их старый слуга.
Наконец служанка трактирщика смогла начать свой рассказ. Она была раскрасневшаяся, запыхалась, будто бежала.
— Кларинда эта, ну, которая приглянулась старшему лекарскому сыну, — девка, видать по всему, себе на уме! Слухами земля полнится, вот и о ней кое-что рассказывали! Говорили, будто приплыла она в город на чужеземном корабле и была вроде как невольницей у какого-то греческого купца!
— Так уж и невольницей? — недоверчиво спросил наш старый слуга.
— Невольницей, невольницей! — служанка сама уверилась в своих словах. — Грек ее в кости проиграл в портовом кабаке!
— Вовсе нет! — неожиданно вмешался молодой слуга.
— Ты-то откуда знаешь? — женщина обиделась.
— Да просто я был в том кабаке!
— Вот тебе и раз! — встрепенулись остальные.
— И, не таясь, скажу, — продолжил молодой слуга. — Если речь идет о той самой девке, завидую я старшему сыну нашего хозяина, и еще как завидую!
— С чего бы это? — недоверчиво спросила женщина.
— А вот с чего! День у меня был свободный, хозяин отпустил, ну я и засел в кабаке! Где-то ближе к полуночи приходит этот грек, с ним женщина, вся закутанная в темное длинное покрывало, а все равно видать, что молодая и красивая! Света в кабаке немного, она присела на пол в углу, поджала ноги под себя, и тихо-тихо так сидит. Грек спросил вина. Должно быть, камень какой-то лежал у него на сердце, потому что выпил он много. Тут горбатый Анджело и его компания приманили беднягу играть в кости. А уж кто садится с горбатым Анджело, непременно проиграет! Ну, грек и проигрался. Вдруг встает, пошатываясь, и говорит по-нашему:
— Я, — говорит, — предлагаю вам такое дело: если я сейчас выиграю, то все свои деньги верну, а если проиграю, то можешь провести вон с ней ночь, — обращается он к нашему горбуну. — А цену пусть она сама назначит!
— Нет уж, ночь пусть будет даровая! — скалится горбун.
— Даровая?! — у грека глазищи кровью так и налились. — Да ты хоть посмотри, какая это женщина! Для твоего ли она вонючего… — он выкрикнул площадное название мужского члена. Затем ласково обернулся к своей спутнице. — Покажись, жизнь моя!
И тут раздался ее голос. Никогда не слыхал я таких голосов! Должно быть, у русалок, что рыбаков пением своим манят на острые скалы, вот такие голоса!
— Закариас! — говорит она этим своим голосом. — Ты все помнишь? Все понимаешь?
— Да помню, помню! Понимаю! — отмахивается он. — Не оставаться же мне без гроша!
Тогда она медленно откинула покрывало. И будто небесным светом осветило комнату! Такая красавица!
— Что ж, мечи! — говорит Анджело греку.
Тот кинул — вышло девять.
Анджело кинул — двенадцать!
— Ну, — хихикает горбун. — Пусть твоя красотка назначает мне цену!
Красавица поднялась, подошла к своему греку, а тот сидел, как потерянный. Она же, отстраняясь от него как-то брезгливо, вытянула у него из-за пояса кинжал, положила на стол и говорит:
— Вот моя цена! — тот, кто решится провести со мной эту ночь, утром пусть выплатит тысячу золотых вон ему, — она указала на грека. — А как выплатит, получит удар вот этим кинжалом. От меня! В сердце!
И повернула к нам лицо. А какое лицо! А глазищи!
Все примолкли. Кому охота сдохнуть из-за девки, пусть даже самой раскрасавицы! Да и тысяча золотых — немалые деньги! Не у всякого найдутся! А у грека, гляжу, руки дрогнули, от жадности, должно быть!
А красавица ждет!
И тут наш горбун сгреб со стола проигранные греком деньги, а как раз и было — тысяча золотых — швырнул в мешок, и мешок тот — греку — к ногам! А тишина — слышно, как мешок загремел!
Красавица шагнула к Анджело. Тот даже немного попятился. Но никто не рассмеялся.
Горбун взял красавицу за руку и повел в пристройку во дворе.
Мы решили не расходиться. Очень любопытно было узнать, как закончится ночь! Спросили вина и стали ждать. Долго ждали. Рассвело. Все вино выпили. Наконец появляется Анджело. За ним тихими усталыми шагами движется красавица, снова закутанная в покрывало. Прошла в угол и села тихонько, как прежде сидела. Так жаль мне ее стало, хотелось погладить ее, как ребенка какого, по голове. Все молчали. Анджело глядел, как пьяный, после облизнул губищи длинным языком и смачно так пробурчал:
— Сладкая, как персик! Виноградина! У-у! И вроде бы девственница, братцы!
И снова никто не хмыкнул, не захохотал.
— Расплачивайся! — грек внезапно подскочил к Анджело, не выпуская из рук мешка с деньгами. — Расплачивайся, будь ты проклят! Где кинжал?!
Красавица легко встала и подошла к столу. Взяла кинжал.
— Не-е-ет! — горбун завизжал, как недорезанный поросенок.
Он хотел было сбежать, да мы не дали, окружили его кольцом, сжимаем. Он визжит, слюни распустил.
Красавица подошла, вскинула кинжал и зажмурилась. И такая она милая была с этими зажмуренными глазами, а ресницы длинные. Замахнулась, ударила. В сердце!
Горбун дернулся, обмякшее тело мешком свалилось на пол. Тут кое-кого потянуло на свежий воздух. Ведь убийство все же! А в герцогской тюрьме сидеть за соучастие никому неохота! Я решил остаться. Сам не знаю, почему!
— Дозор! Стража! — крикнул кто-то.
Слышно было, как во дворе спешиваются дозорные. Я вскочил, какой-то парень помог мне. Вдвоем мы потащили тело Анджело в самый дальний темный угол.
Девушка стояла, закутанная в покрывало. Кинжал остался в ране горбуна.
— Что здесь у вас? — крикнул старший дозорный. — Драка? Поединок? Эй, хозяин, почему до света держишь кабак отворенным? Штраф хочешь заплатить? Давно плетьми не стегали на главной площади?!
— Я… у меня… — хозяин начал заикаться. — Это так, приятели самые близкие собрались! Вот… Немного вина выпили! — он вдруг замолчал и тотчас раздался его дикий вопль. — А-а! А-а-а!
Хозяин остановившимся взглядом смотрел прямо перед собой.
— А-а! А-а-а!
Я и не думал прежде, что мужчина так орать способен!
Тут мы и сами поглядели туда, куда, не отрываясь, глядел хозяин. Чудо еще, что и мы не завизжали!
В кабак вошел… горбатый Анджело!
Кое-кто из его компании робко перекрестился, а были парни отчаянные, не из пугливых! Я, пригнувшись, будто брюхо у меня схватило со страху, кинулся в угол.
Тело Анджело лежало в углу. Его изуродованное горбом туловище, его уродливо оскаленные зубы!
— Эй, хозяин, чего орешь? — спросил вошедший живой Анджело. — Чокнулся, что ли? Дай-ка мне вина с утра! А ото что за баба? — он уставился на девушку под покрывалом.
Грек схватил ее за руку и пошел прочь. Дозорные пропустили его. Они снова пригрозили хозяину штрафом и поркой, сели на коней и поехали.
Живой Анджело сидел за столом и выпивал. Мертвый Анджело валялся в углу! Но я не стал дожидаться, чем все это кончится. Я выбрался следом за греком.
Девушка высвободила свою руку из его руки.
— Прощай, Закариас! — тихо произнесла она. — Ты все знал, ты знал, на что идешь!
Она говорила по-нашему.
Грек что-то залопотал по-своему. Пытался удержать ее. Но робко как-то. Она повернулась, и не успел я решиться пойти за ней, как ее и след простыл.
С тех пор никто не видел ее в городе. Говорили, старикашка какой-то голубоглазый искал ее в порту. Но я врать не стану — не видал его!
— А чем дело кончилось с этим, с горбатым? — боязливо спросила служанка.
— Да ничем! — молодой слуга пожал плечами. — Хозяин втихаря кинул его на помойку!
— Но как же это так вышло, что он раздвоился? Что-то такое я слыхал… — пожилой слуга глянул на молодого.
— Должно быть, показалось нам с пьяных глаз, — беспечно отвечал молодой. — Хозяин кабака не очень-то об этом говорит, убийство есть убийство. Хотя нам что — мы нс убивали, убивала она. И таких, как этот горбун, не особо ищут и не скоро хватятся! Живут ведь они без дома, без роду-племени!
— Хозяин-то кабака молчит, зато у тебя язык без костей! — заметил другой слуга.
— О чем речь? — к нашей компании приблизился один из трактирных слуг, с явным намерением присоединиться.
— О Кларинде, — ответила служанка.
— Девка хороша! — трактирный слуга одобрительно щелкнул языком.
— Таким всегда везет! — служанка, конечно, завидовала. — Года не прошло, как нанялась к нам, и глядь — окрутила приличного господина!
— Что, тебе небось так не повезет! — насмешливо кинул трактирный слуга. Должно быть, у него со служанкой были свои счеты. — Кларинда была, по всему видать, из благородных! С нашим братом не путалась!
— Из благородных, как же! — недовольно пробурчала служанка, но видно было, что возразить ей нечего.
— Мессир Грегорио сюда ездил каждый день, с тех пор как увидел ее случайно, — задумчиво сказал трактирный слуга.
— Такое случайно не бывает! — служанка скривила губы. — Она сама попалась ему на глаза!
— Не думаю! Она ведь, когда уехала с мессиром Грегорио, даже денег не взяла у хозяина! А ведь жалованье ей причиталось!
— Да на что ей грошовое жалованье! — перебила служанка. — У мессира Грегорио денег куры не клюют! Она…
Однако докончить свою обличительную речь бойкой служанке не довелось. На лестнице показался мой отец. Он выглядел еще более сдержанным и строгим, чем обычно, и я понял, что он весьма огорчен. Хозяин трактира шел следом за ним с печальной и серьезной миной. Мне вдруг пришло в голову, что, возможно, теперь я знаю даже несколько больше о похождениях брата, чем суровый мой отец, эта мысль заставила меня улыбнуться.
Отец приказал нам собираться. Вскоре мы уже снова были в пути.
Усадьба, которую отец отдал Грегорио, имела вид очень привлекательный. Близлежащая деревня выглядела вполне зажиточной. Всюду чувствовалась рука рачительного хозяина. Дом был чисто побелен. А когда мы прошли вовнутрь, стало ясно, что в доме живет женщина. Отец с досадой смотрел на дорогие занавеси, новые кресла и шкафы красного дерева. Должно быть, он подумал: «Вот на что Грегорио тратит деньги!»
Отец распорядился и вскоре пришел управляющий.
— Где молодой хозяин? — спросил отец одного из слуг.
— Хозяин и госпожа отправились на прогулку, — в голосе слуги, когда он произносил «госпожа», ощущалась почтительность.
Отец переглянулся с управляющим.
Затем они ушли в кабинет брата и заперли за собой дверь.
Отец позволил мне прогуляться по окрестностям.
Я решил встретить брата и его возлюбленную и посмотреть на нее.
Места были очень красивые. На лугу я заметил извилистый поток и пошел вдоль него. Не помню почему, но я срывал цветы и составлял букет. Думаю, меня взволновала предстоящая встреча с молодой незнакомкой. Незаметно для себя я оказался под сенью зеленого леса. Сквозь тонкую ткань светлой листвы просвечивало голубое небо, озаренное ярким солнцем. Пятна солнечного света играли на траве. Вокруг чувствовалось что-то праздничное, я невольно связывал эту праздничность с моим предчувствием необычной встречи.
Я услышал звонкие веселые голоса. Прячась в густых кустах, я пробрался вперед.
Я сразу увидел их:
Брат, похорошевший и возмужавший, с улыбкой протягивал руку юной красавице. Она, смеясь нежным смехом, балансировала на перекинутой через ручей дощечке. Одну руку она вытянула, другой рукой приподняла юбку. Я и сейчас помню, как увидел ее. Да, она была изумительна! Главное, что очаровывало в ней, это пропорциональность сложения, чистота кожи, яркость и сила волос. И, должно быть, она была наделена своеобразным умом, иначе как могла бы она разглядеть в моем замкнутом нелюдимом и неловком брате того сильного и красивого юношу, которого я теперь видел перед собой.
— Грегорио! — я невольно окликнул брата.
Молодая женщина отпустила юбку и спрыгнула в ручей. Брат оглянулся. Я вышел из кустов.
— Романо!
Между тем, красавица уже стояла на траве. Она улыбнулась мне улыбкой чистой и нежной.
— Грегорио, это твой младший брат Романо?
Конечно, у нее был прелестный голос!
Я почувствовал странную гордость оттого, что она знала обо мне, назвала меня по имени; гордость и смущение. И тут я решительно подошел к ней и подал ей цветы. Ни она, ни мой брат не рассмеялись над этим мальчишеским жестом. Оба улыбнулись мне с нежной благодарностью. И тогда я понял, что любовь может облагораживать человеческие чувства.
Красавица наклонилась и ароматная волна каштановых волос легко скользнула вдоль моей заалевшей щеки. Затем щеки моей коснулись губы, такие нежные и сладкие! С тех пор я целовал многих женщин, и меня целовали, есть у меня и молодая жена, которую я люблю, но такого мне больше не доводилось переживать!
Через несколько минут мы весело и непринужденно болтали, как будто были знакомы уже давно.
— Значит, отец приехал? — спросил брат.
— Да! Но когда он увидит Кларинду… (Я уже знал, что ее зовут Клариндой.)
— Откуда ты знаешь ее имя? — спросил брат.
Я ответил, что слышал в разговоре слуг у городского трактира. Брат нахмурился. Но Кларинда снова улыбнулась и погладила меня по голове. Я не знал прежде, что бывают такие ласковые чуткие ладони. Лицо брата разгладилось. Мы приближались к дому.
В столовой нас ждали отец и управляющий. Босая Кларинда подошла к моему отцу с таким кротким величием, что я заметил его смущение. Думаю, заметил и брат. Она склонилась и поцеловала руку моему отцу. Затем сказала:
— Пора обедать. Я сейчас распоряжусь.
Отец молчал. Я подумал, что, возможно, он просто не желает говорить при мне.
Накрыли на стол. Подали козий сыр, суп, ягнятину, изготовленную под разными соусами, приправленную пряностями; вареные овощи. Пищу мы запивали домашним вином. Чистота посуды, белизна скатерти — все говорило о женском участии. Отец ел задумчиво. Ведь он предполагал, что брата опутала простая служанка, грубая и жадная. А все оказалось совсем иначе. Кларинда была само благородство.
После трапезы отец и брат удалились в кабинет. Но вскоре Грегорио вышел и позвал Кларинду и управляющего. Я не мог узнать, о чем они там говорили. Ужин прошел спокойно, отец и брат беседовали о домашних городских делах, о деревенском хозяйстве. После ужина мы вышли в сад. Кларинда оделась скромно, но со вкусом.
— Расскажи нам о себе! — попросил отец Кларинду.
Он произнес эту фразу мягко, я понял, что милая Кларинда уже успела очаровать и его. Прелестным движением она оправила волосы и начала свой рассказ.
— Я — благородного происхождения. Родилась я довольно далеко отсюда, в стране, принадлежащей и Западу, и Востоку. Еще будучи совсем ребенком, я потеряла мать. Отец вскоре женился на молодой и красивой даме. Она не родила ему детей, но оказалась столь суетна и расточительна, что спустя несколько лет семья наша была на грани нищеты. Вдобавок ко всему мачеха имела совершенно превратные представления о супружеской верности. Проще сказать, она изменяла моему отцу. Но, разумеется, отец ничего не подозревал. Впрочем, ко мне ее отношение было достаточно странное. Много позже я поняла, что она всего лишь пыталась развратить меня. Она покупала мне дорогие платья и украшения, кормила сластями, потворствовала моим детским прихотям. Многие ненаблюдательные люди (и в их числе — увы! — мой бедный отец) сочли, что она стала мне второй матерью, и хвалили ее.
Отец обратился за помощью к королю и, благодаря древности своего рода, был зачислен в особый отряд личной королевской охраны, состоявший из высокородных дворян, отлично владевших оружием. Теперь мы жили в столице, и мачеха предалась душой и телом всем удовольствиям столичной жизни. С праздника — на бал, с бала — на званый вечер — она порхала, как мотылек. Отец же только и мечтал, что о возвращении к мирной сельской трапезе; охотиться, надзирать за хозяйством — вот к чему тянулась его душа. Наивный — он полагал, что и жену сумеет убедить, и та добровольно покинет королевский дворец.
Я уже подросла и начала понимать, какой образ жизни предпочла моя мачеха. Мое понимание был тем более удивительно, что я пришла к нему сама, некому было наставлять меня, ведь у меня не было ни матери, ни подруг, ни доброй кормилицы. Я чувствовала, что совсем одинока и могу полагаться лишь на себя. Отца я любила, но понимала, что он слишком мягкосердечен и слишком влюблен в свою вторую жену. Обычно маленькие дети, прознав о чем-то дурном, случайно сделавшись свидетелями скверного поступка или страшного происшествия, спешат поделиться со взрослыми. Я давно знала, что мачеха изменяет отцу, но ничего не хотела ему говорить. Я часто задумывалась над своей дальнейшей судьбой и мне почему-то казалось уже в детстве, что дальнейшая моя жизнь не будет связана с родительским домом. Мачеха приглядывалась ко мне и наконец решила, что я целиком на ее стороне, тогда она стала относиться ко мне еще более благосклонно.
Отец же все мечтал о покупке имения и пытался изыскать к этому средства. Один из его приятелей увлек его азартными играми. Сначала мой бедный отец уверял себя, что преследует единственную цель: выиграть деньги и купить на них дом и хозяйство; но постепенно он втянулся в игру и все вечера проводил за карточным столом или за игрой в кости. Мачехе это было только на руку. Ибо как раз в это самое время она, оставив свои многочисленные интрижки, завела серьезный роман, вступила в любовную связь с одним дворянином из свиты французского посла. Рослый, сильный мужчина, он не отличался красотой, но в нем было что-то пугавшее меня, при нем я старалась казаться совсем тихой, неприметной девчушкой. Надо сказать, мне это удавалось.
Среди придворных выделялся один весьма необычный человек, прямодушный, легкомысленный и вспыльчивый. О нем рассказывали, что он спас от клыков разъяренного кабана во время охоты нашего короля (тогда еще наследного принца). Этот человек также был предан азартным играм и всякого рода разврату. Но именно он, сам того не желая, стал причиной исполнения давнишней мечты моего отца и гибели нашей семьи.
Началось все с того, что этот бедняга проиграл моему отцу свой родовой замок. Итак, теперь отец мог наконец-то вернуться к спокойной жизни в глуши. Когда он с восторгом сообщил об этом мачехе, у меня тревожно забилось сердце. О, конечно, она сделала вид, будто ей очень приятна такая новость; но я-то заметила, как она разъярилась. И эта ярость была тем страшнее, что женщине приходилось скрывать свои подлинные чувства под маской любезности и доброты.
Отец спешил уладить все свои дела в столице и поскорее уехать в замок. Свои встречи с возлюбленным мачеха держала в такой глубокой тайне, что никто не знал о них, ни служанки, ни я.
Что сказать обо мне? Я чувствовала себя совсем одинокой, беззащитной, непонятной, рядом со своей коварной развратной мачехой и недалеким отцом.
Мы переехали в замок, где мне вначале понравилось. Замок был обширный, старинный, с многочисленными пристройками. В одном крыле хранились семейные реликвии прежних владельцев. Мой честный отец обещал сохранить все в целости и сохранности, поскольку разорившемуся владельцу-игроку даже негде было развесить все эти портреты предков и старинное оружие.
Целыми днями я бродила по темным коридорам и переходам, переходила из покоя в покой. Жизнь моего отца казалась мне скучной, а тайны мачехи — зловещими и опасными. Мне все сильнее хотелось зажить своей собственной жизнью, завести свои тайны. Я была еще девочкой, не думала о замужестве и потому мечтала о далеких путешествиях и занимательных приключениях.
Но как скоро прервалась эта детски-беспечная жизнь!
Однажды вечером я услышала крики и плач. Я в это время прогуливалась в крытой галерее. Испуганная, я побежала узнать, что же произошло. А произошло ужасное! Отца моего привезли с охоты мертвым! Взбираясь на холм, он сорвался в овраг и разбился насмерть! Ужас охватил меня, когда я увидела его мертвое лицо! Черты были страшно изуродованы! Но совершенно ужасное впечатление произвела на меня плачущая мачеха. Едва взглянув на нее, я догадалась, что именно она — виновница смерти моего отца! Мне сделалось очень страшно, все силы своей души я направила на то, чтобы не выдать себя! И все же выдала!
— Я хочу видеть то место, где разбился отец! — воскликнула я невольно и расплакалась.
Мачеха бросила на меня взгляд, исполненный змеиной злобы. Я совершенно растерялась. Мне казалось, что все кончено, что я погибла. Плача, я повторяла:
— Хочу видеть то место! Хочу видеть!
— Покажите сироте место гибели ее отца! — приказала мачеха слугам отца, обычно сопровождавшим его на охоту. Голос ее прерывался. Все решили, что это от глубокого горя, но я-то знала, что это от затаенной злобы на меня!
— Не плачь, маленькая Кларинда! — сказала мачеха. — Завтра тебя поведут на тот холм!
Служанка увела меня. В замке поднялась суматоха. Обмыли тело, пригласили священника. Готовились к погребению. Слуги разъехались по окрестностям, развозили приглашения соседям.
В тот день, измученная горем, я рано легла. Но уснуть я не могла и лихорадочно размышляла, лежа в постели без сна. Я думала о том, что сама не отыщу место гибели отца, а никому из слуг довериться не могу. Что же делать? Не завтра, а сегодня я должна увидеть! И тут ход моих мыслей обрел ясность.
Мачеха виновна! Конечно, ее напугало мое желание увидеть место смерти отца. Что же дальше? Догадаться нетрудно! Прежде она поедет сама! Замести следы — вот ее задача! Сегодня ночью!
Я вскочила и поспешно оделась. Я очень боялась, что мачеха уже уехала. Но было еще слишком рано. Еще не все слуги улеглись. Я заметила, как мачеха прошла в зал, где было положено тело отца. Она распорядилась, чтобы не забыли принести поесть священнику, которому всю ночь предстояло читать молитвы.
Я чувствовала себя очень неуютно. Может быть, именно тогда мне впервые в жизни показалось, что у меня нет и никогда не будет того, что принято называть «родным домом».
Я поняла, что мачеха должна поехать верхом. Тогда я побежала на конюшню и спряталась там. К счастью, мачеха не спрашивала обо мне; служанка сказала ей, что я уже уснула.
Лошадей я не боялась. Мне было три года, когда отец в первый раз посадил меня на коня. С тех пор я вместе с ним и мачехой часто ездила верхом. Но одно — дневные прогулки в сопровождении взрослых, и совсем другое — ехать ночью, следом за своим врагом (а мачеха несомненно являлась моим врагом!). Мне едва минуло семь лет!
Совсем стемнело. А вдруг я ошиблась и мачеха не придет? А вдруг она — не убийца? Мне так хотелось, чтобы это было так! Но я знала, что это не так, не так!
Я чуть не задремала, сморенная теплом, исходившим от конских тел. И вдруг — шаги. Я сжалась. Это была она, мачеха!
Она вошла, одетая в длинное платье для верховой езды. Вывела коня. Перед этим она огляделась. Неужели почувствовала, что здесь кто-то есть? Я знала, что надо делать дальше!
Снаружи донесся стук копыт. Она едет. Теперь надо пропустить ее вперед и ехать следом. Еще в городе специально для меня выездили кровную кобылу. Прекрасная лошадь привыкла ко мне, я тоже полюбила ее. Я назвала ее Белянкой, она была белая.
— Выручай, Белянка! — прошептала я.
Я взобралась на лошадь, выехала из конюшни. И тут вспомнила о воротах! Вдруг они заперли ворота? Было уже совсем темно. Мачеха могла знать какой-то потайной путь! Но к моему счастью, ворота были распахнуты настежь. В общей суматохе по случаю гибели хозяина никто не позаботился запереть их.
Я сидела в седле на высокой лошади. Мои маленькие ноги свисали вниз. Я чувствовала себя беспомощной, слабой. Я натянула поводья и Белянка послушно остановилась. Я прислушалась. Вдали отчетливо раздавался стук копыт. Мне предстояло нелегкое дело! Надо было держаться на порядочном расстоянии и одновременно не отставать. Удивительно, что я справилась с этой задачей, казалось бы, непосильной для семилетней девочки!
Мачеха поехала по дороге. Я догадалась, что она хочет ехать кружным путем, а не напрямик через лес. Должно быть, и она побаивалась. А мне было очень-очень страшно! Холодный воздух вызывал у меня озноб. Я была слишком легко одета. И, как назло, я припомнила одну страшную сказку, которую слышала от старой служанки. Быть может, и вам эта сказка знакома.
Некая деревенская женщина слыла колдуньей. Однажды она тяжело заболела и вскоре стало ясно, что ей не миновать смерти. Тогда она попросила кузнеца выковать ей железные башмаки. И просто умоляла обуть ее, когда она умрет, в эти башмаки и в них положить в гроб. Просьбу умирающей исполнили, ведь это было ее последнее желание! А на другую ночь после ее похорон некий рыцарь ехал ночью через лес близ деревни. И вдруг увидел бегущую женщину. За женщиной гнался черный всадник. Раскинув руки, она бежала прямо к рыцарю и кричала:
— Помогите! Помогите!
Рыцарь вскинул меч. Но тут черный всадник подъехал совсем близко. Рыцарь увидел, что глаза всадника горят, как угли, на черном угольном лице.
Женщина взвизгнула и кинулась бежать дальше. И тут с ее ног свалились железные башмаки.
— Она моя! — воскликнул дьявол (ибо это он и был!), и с этими словами догнал ее, схватил за волосы и отсек ей голову. И в тот же миг на глазах изумленного рыцаря всадник и обезглавленная женщина исчезли.
Рыцарь добрался до деревни и поведал о случившемся. Раскопали могилу колдуньи, открыли гроб и увидели, что она без головы. И железных башмаков не было у нее на ногах.
Вот эта сказка и преследовала меня всю дорогу. То я вспоминала, как жужжит веретено и горит свеча в кухне и звучит убаюкивающий голос служанки; то мне виделся черный всадник с горящими глазами и убегающая от него лохматая колдунья. Сколько раз я была готова закричать от страха, спрыгнуть с лошади, броситься ничком на траву и прикрыть руками затылок; но я сдерживалась и продолжала путь.
Наконец мачеха свернула в лес. И мне волей-неволей пришлось последовать за ней. Теперь под копытами Белянки иной раз похрустывали сухие ветки. Расстояние между мной и мачехой сократилось. Она вдруг оглянулась. Я увидела, что она боится. И когда я это увидела, угадала по ее испуганным жестам, мой страх уменьшился.
Мачеха выехала на поляну. Конечно, ей и в голову не могло прийти, что за ней следует ее семилетняя падчерица. На краю поляны возвышался холм. Крутой склон завершался глубоким оврагом. Мачеха остановилась у подножья холма и спрыгнула с коня. Я замерла поодаль, не решаясь слезть с лошади, тихо поглаживая Белянку, боясь, что она ударит копытами или выдаст меня ржанием. Но умная кобыла все понимала и стояла спокойно.
И тут навстречу мачехе вышел человек с факелом.
Ах, то был для меня первый урок, данный мне жизнью! С тех пор я знала, что правда может быть немыслимей самого странного вымысла, а человек, казавшийся обыденным и скучным, может вдруг обнаружить и проявить совершенно необычайные черты характера.
— Жильбер! — окликнула мачеха подошедшего незнакомца.
Значит, все-таки правда! Они — убийцы! Меня охватило отвращение, мне было противно видеть их!
Человек с факелом приблизился к мачехе. Я вскрикнула, но мой детский вскрик уже не имел никакого значения, ибо заглушен был отчаянным женским воплем мачехи. Она бросилась было бежать, и это снова напомнило мне сказку о черном всаднике и колдунье. Растерянная мачеха запуталась в складках своего длинного платья и упала на землю. При этом она кричала, не умолкая. Но мой страх совсем прошел. Потому что в человеке с факелом я узнала моего отца!
Мне совсем не показалось удивительным то, что отец жив и здесь; ведь у того мертвеца, который лежал в замке, было так страшно разбито лицо. И все же… Ведь отец и его соперник отнюдь не были похожи!
Отец стоял над мачехой.
— Замолчи и встань! — сурово и четко произнес он.
Я впервые видела своего отца таким. Я и не подозревала, что он может быть таким!
Мачеха смолкла и неуклюже поднялась. В дальнейшем я много раз была свидетельницей тому, как женщины, видя, что их кокетство, нарочитый испуг или столь же нарочитые слезы, не достигают цели, мгновенно успокаивались.
— Ты… Ты жив, — произнесла мачеха хриплым некрасивым голосом.
— Да, я жив! А твой любовник мертв!
— Но… Но как это? Ведь это был ты!
— Я знал, что он направляется сюда, для того, чтобы втайне подготовить и совершить убийство! Я был предупрежден! Я выехал ему навстречу и как бы случайно увидел его на дороге. Я сделал вид, будто весьма обрадовался, затем пригласил его принять участие в охоте. И ему ничего не оставалось, как согласиться. Мы поехали рядом. Я болтал, шутил, смеялся. Вскоре я заметил, что он также в хорошем настроении. Еще бы! Он собирался подкараулить меня во время охоты, зная мое пристрастие к этой благородной забаве, и столкнуть с крутого склона в овраг. Он не знал, сколько времени ему пришлось бы выжидать! Но вот, кажется, судьба к нему благосклонна, я — в его руках! Охотники рассеялись по лесу. Мы остались вдвоем. Мы поднялись на холм. Это предложил он! На холме я схватил его, связал ему руки. Я заставил его признаться во всем! Он оказался трусом, твой любовник! И я швырнул его в овраг, как швыряют груду мусора!
Мачеха слушала молча. Она уже окончательно пришла в себя.
— На нем было твоя одежда, — тихо сказала она. — И у него было твое лицо. Это был ты! Я ничего не понимаю!
— Тебе и незачем понимать, змея! И эту женщину, эту гнусную тварь я любил больше жизни! Я противен тебе? Ну, так ты больше никогда никого не увидишь, кроме меня! Всю свою дальнейшую жизнь ты будешь заперта в дальних покоях замка. Я сам буду приносить тебе пищу! А теперь…
Он вдруг с яростью рванул ее платье и разодрал Затем повалил мачеху на землю, набросился на нее, как дикий зверь. Они покатились по земле.
Мне сделалось не по себе. Я поворотила верную Белянку и помчалась домой.
Может быть, это и не странно, но дорога домой далась мне легче. Ворота по-прежнему были отперты. Я поставила Белянку в конюшню, пробралась к себе, упала на постель и уснула, как убитая.
Проснулась поздно, чуть ли не после полудня. Служанка, пришедшая помочь мне умыться и заплести косы, рассказала, что же произошло, пока я спала.
Во-первых, священник, вглядевшись в лицо и в одежду мертвеца, увидел, что это не хозяин замка. Все растерялись и засуетились. И тут (во-вторых) появляется хозяин! Оказалось, что во время охоты погиб один из его городских друзей, а сам он заблудился в чаще и не сразу нашел дорогу.
Я равнодушно выслушала эти бредни, я ведь знала о случившемся гораздо больше.
Меня позвали к отцу. Он и мачеха сидели вместе, как ни в чем не бывало. Отец поднялся, взял меня на руки, усадил к себе на колени и нежно смотрел на меня.
— Как ты похожа на свою мать! — наконец вымолвил он. — Зачем, зачем она умерла?! Бедная моя девочка! Какую дорогую цену плачу я за возможность быть отмщенным! Ты никогда не простишь меня!
Я ничего не понимала. Но когда отец сказал о дорогой цене за мщение, я заметила злобный блеск в глазах мачехи.
— Он скоро придет! — отец теперь говорил, как бы ни к кому не обращаясь, сам с собой. — Зачем, зачем я решился на это? Зачем я полюбил эту змею! О, я сделаю ее жизнь огненной геенной! Бедная моя девочка!
Постепенно я начала тревожиться.
Слуга доложил о том, что отца желают видеть. Отец побледнел. Казалось, он заколебался, ему хотелось не исполнить какое-то обещание.
— Скажи ему… — обратился он к слуге. — Скажи ему, что я готов! — резко закончил отец.
Слуга вышел. Вскоре в комнату вошел пожилой человек, в котором я не заметила ничего примечательного, кроме очень светлых голубых глаз.
Отец любезно приветствовал его и предложил ему сесть. Незнакомый старик сел в кресло.
— Вот, — отец повернулся к мачехе. — Этот человек помог мне вывести тебя на чистую воду! Благодаря ему, я смог отомстить! Он ждал в деревне, там, где должен был ждать твой Жильбер! Но вот она, цена мщения, — я должен отдать ему свою дочь!
Лицо мачехи выражало неприкрытую злобу. Старик был спокоен.
— Не думай! — отец по-прежнему обращался к мачехе. — Не думай, что тебе удастся тешиться своей злобой, радоваться моему горю! Ты еще будешь ждать смерти, как избавления от мук!
Мачеха опустила голову.
Отец поднялся, держа меня на руках.
— Соберите Кларинду в путь, — обратился он к служанке. — Положите в сундук все необходимое!
Наверное, меня можно счесть бесчувственной, но я не имела привязанности к родному дому. Сбывалась моя мечта о путешествиях и приключениях. Мне даже стало стыдно. Я боялась, что отец подумает, будто я совсем не люблю его! Я поцеловала его в колючую щеку и тихо сказала:
— Я обязательно вернусь и мы снова будем вместе. Я буду рассказывать тебе о далеких странах!
Отец заплакал, не стыдясь своих слез.
Я обхватила его за шею обеими руками и зашептала ему на ухо:
— Не убивай мачеху! Лучше отошли ее в монастырь! Пусть она живет там! Там она замолит свои грехи! А у тебя грехов не будет.
— О, моя умница! — воскликнул отец. — Ты видишь, старик, какое сокровище я тебе отдаю!
Затем отец приказал мачехе собираться и как можно быстрей.
— Клянусь тебе, моя милая Кларинда, еще до того, как ты покинешь этот дом, мачеха твоя уже будет на пути к монастырю!
И вправду мачеху увезли раньше, чем уехала я. Во все это время мачеха не проронила ни слова. В окно я видела, как отъезжала простая крестьянская повозка, увозившая ее.
— Отец! — тихо призналась я. — Ночью я следовала за мачехой! Я все видела и слышала! Только когда вы покатились по земле, как звери, я испугалась и помчалась домой!
— Так вот почему, — отец даже улыбнулся. — Вот почему Белянка была вся в мыле. Конюх решил, что ночью лошадь мучили злые духи! О, старик, эта девочка не только умна и добра, но и храбра! Умоляю тебя, береги ее!
Старик посмотрел на меня своими голубыми глазами и кивнул отцу.
Вез меня старик в крытой повозке, напоминавшей цыганскую кибитку. Он показался мне добрым, говорил, что я увижу далекие страны, красивые города и много разных чудес. Кроме того, он обещал, что многому научит меня, что жизнь моя будет полна необычайных приключений. Я слушала и по-детски радовалась. Ах, если бы я знала, как страшно сбудутся его слова!
Никаких вещей у старика не было, только мой сундук. Мы ехали долго, ночуя часто в поле или в придорожных гостиницах. Я выучилась сама умываться, причесываться, стирать свою одежду и даже готовить кое-какое кушанье. После мне все эти уменья пригодились.
Что же до приключений, то и их я скоро дождалась. Мы уже ехали по земле, где говорили на непонятном мне языке. Старик начал учить меня этому языку. Оказалось, что я легко и быстро запоминаю слова и целые фразы. В будущем и это мне пригодилось.
Однажды я проснулась от какого-то необычного шума. Я откинула полог и увидела что-то большое, синее, голубое. Я пригляделась — это была вода! И она так странно шумела! Старик сказал, что эту воду зовут «морем». И по этой воде, по морю, плыл дом, красивый дом с яркими занавесками. Я вскрикнула от восторга и захлопала в ладоши. Оказалось, что этот дом называется «корабль», а занавески — «паруса». Я приближалась к вашему городу! В светлой роще, среди бела дня, на нашу повозку напали какие-то оборванные люди. Они окружили нас, размахивали дубинками. Старик заговорил с ними. Кончилось все тем, что они забрали мой сундук. Но я об этом не пожалела. Я была еще не в том возрасте, когда жалеют об утраченном имуществе! А старик был даже рад, что я ни о чем не жалею и что не надо меня утешать. Он часто хвалил меня за ум и сообразительность, это наполняло мою душу гордостью, мне нравилось, что он меня хвалит.
Старик обещал показать мне порт, место, откуда отплывают в открытое море корабли. Он говорил, что мы поселимся в этом городе и он скоро начнет учить меня разным наукам и искусствам. Я радовалась и мечтала о том, как буду учиться очень-очень хорошо, а он будет хвалить меня. А после… вернусь к отцу! Но с тех самых пор я так и не попала на родину, и не знаю, жив ли мой отец.
Старик привел меня в порт, показывал мне и объяснял, как устроены корабли. Внезапно из толпы вынырнул какой-то смуглый человек с белыми блестящими зубами, на нем совсем не было одежды, только пестрая тряпка, намотанная на бедра. Он стал предлагать старику покататься на лодке. Старик отказывался. Смуглый человек сделался навязчивым, хватал старика за руку. Старик вырывался. Вдруг полуголый смуглый человек схватил меня в охапку и побежал. Старик поспешил за ним, крича:
— Спасите ребенка! Похитили мою дочь! Спасите! Помогите!
Но угнаться за моим похитителем он никак не мог. Мне очень не понравилось, что он кричит «помогите! спасите!», я тогда считала, что храбрый человек не должен так кричать.
Кое-кто, впрочем, обратил внимание на крики бедняги. Но похититель мой уже успел добежать до моря, прыгнул в лодку и отчаянно греб. Я сидела в лодке. Ничего я не испугалась. И тотчас же принялась мечтать о том, как поплыву по морю на большом корабле. Мне только немного было жаль, что не придется учиться у старика.
Лодка выплыла в открытое море. Волны раскачивали ее и от этого мне сделалось совсем весело. Гребец с любопытством смотрел на меня. Должно быть, ему стало странно, похищенный ребенок, к тому же девочка, не плачет, не зовет родных.
Наверное, я казалась забавной малышкой — в холщовом платьице, в потертых башмачках из коричневой кожи, с длинной каштановой косичкой, в которую сама вплела красную ленту.
Гребец улыбнулся мне и спросил, кивнув в сторону порта, а тем временем порт сделался маленьким, точно муравейник, и это тоже забавляло меня.
— Там твой отец?
— Нет! — ответила я. — Он просто один старик! Он увез меня от отца, чтобы научить разным наукам!
Гребец от душа расхохотался и вдруг запел. Он то нагибался вперед, то откидывался назад, и песня следовала за ритмом его движений. Это мне тоже понравилось.
Лодка подплыла к большому кораблю. И вот мы уже на палубе.
На самой верхушке мачты развевалось большое полотнище с полумесяцем. На палубе ходили люди. На головах у них были намотаны куски цветной ткани, после я узнала, что это тюрбаны. Один из этих людей был самым главным. Он что-то закричал на непонятном языке и сразу полуголые матросы начали поднимать паруса, а коричневые от солнца гребцы ударили веслами по воде.
Мой похититель повел меня к капитану. Они о чем-то поговорили, затем капитан дал ему золотую монету, которую смуглолицый тотчас же попробовал на зуб.
Капитан нагнулся ко мне. Взгляд у него был какой-то странно-пристальный. Но что-то подсказывало мне, что бояться не надо.
— Не тревожься, маленькая красавица! Плохо тебе не будет! — произнес он.
Речь была певучая, с гортанными переливами.
Я не помнила, называли ли меня прежде красавицей. Может быть, и называли, шутливым тоном, как говорят о хорошеньком ребенке. Но впервые человек всерьез сказал обо мне — «красавица»! Это не то чтобы обрадовало, не то чтобы напугало меня. Нет! Это лишь усилило мое одиночество и еще… я почувствовала что-то вроде жалости к себе.
Капитан взял меня за руку, повел вниз по узкой лесенке. Я легко переступала маленькими ногами, отъединенная от людей этим гортанно-певучим «красавица».
Мы вошли в комнату, красиво и пестро убранную. На стенах висели ковры, на полу лежали подушки, на маленьком резном столике в глубоком глиняном блюде лежали какие-то яркие плоды, круглые, покрытые пушком, румяно-золотистые. Мне очень захотелось попробовать такой плод. От блюда приятно пахло.
Но тут же я испугалась и, не выпуская руки моего капитана, прижалась к его ногам.
Я увидела толстую черную женщину. Одета она была в пестрое широкое платье, яркое, под стать всему остальному убранству, а на голову накрутила пышно большой кусок красной ткани. Круглое лицо ее лоснилось. Она улыбалась, глядя на меня, ее зубы и белки черных глаз были очень-очень белыми!
Круглой черной рукой она взяла с блюда персик и, держа румяный душистый плод на раскрытой ладони, указала пальцем другой руки на меня, затем на персик, и прищелкнула языком.
Капитан громко засмеялся. Я поняла, что эта черная женщина сравнивает меня с красивым плодом. Неужели я такая красивая? И вдруг мне показалось, что я, которая думает, видит, говорит, — это настоящая я; а мое лицо, глаза, волосы, — то, что эти люди считают красивым, — это как платье, это вроде одежды, в которую одета настоящая я.
Черная женщина очистила персик и протянула мне. Плод оказался необычайно вкусным.
— Это Айша, — капитан небрежно махнул рукой в сторону черной женщины. — Она будет прислуживать тебе, маленькая красавица! Ты с этого дня зовешься Седеф — «перламутр», потому что сама природа наделила тебя твердостью и чистотой!
Он даже не спросил, как мое настоящее имя. Впрочем, должно быть, я и не сказала бы ему.
Произнеся это, Кларинда покраснела. Эта легкая краска, внезапно выступившая на нежных щеках, придавала ее совершенному лицу особенное очарование.
Кларинда едва приметно вздохнула и продолжила свой рассказ.
— Меня поразило то, что оба моих имени, в сущности, означали одно и то же, ведь «Кларинда» — это «светлая»!
Негритянка Айша заботилась обо мне. Можно сказать, что впервые после смерти матери я попала в заботливые и добрые женские руки. До этого мачеха иной раз играла со мной, как с куклой, да торопливые служанки обихаживали наспех.
С Айшой было совсем иначе. Она полюбила меня. Я тоже привязалась к ней. Я почувствовала себя защищенной и любимой, и в моем характере начали проявляться детские черты, которых прежде я за собой не замечала. Я шалила, убегала на палубу, пряталась от моей черной няньки, бегала с ней наперегонки. Негритянка оказалась проворной и всегда ухитрялась догнать и поймать меня. Мы обе громко смеялись. Вскоре я уже понимала все, что говорили вокруг, и сама выучилась говорить. Я узнала, что моего похитителя зовут Хасаном. Сама не знаю, почему мне запомнилось его имя, ведь после мне не доводилось встречаться с ним. Имя капитана было Омар.
По вечерам господин Омар иногда спускался в нашу с Айшой каюту. Он садился на подушку, делался задумчив, затем брал длинную флейту и начинал играть. Играл он все печальные мелодии. Негритянка сидела напротив него, держа меня на своих толстых, обтянутых пестрой тканью платья коленях, и одной рукой прижимая к груди. Другой рукой она смахивала слезы. Слезинки у нее были такие же круглые, как ее лицо. За время путешествия с моим стариком я кое-что видела и узнала. Объятия, поспешные поцелуи, небрежно поднятые подолы юбок; мужчина и женщина, припавшие к стене и трясущиеся, как двухголовое чудовище. Все это казалось мне гадким. Я твердо решила, что со мной никогда не случится ничего такого. Мне почему-то очень не хотелось, чтобы это проделывали Айша и капитан. Однажды я спросила мою няньку напрямик:
— Почему господин Омар никогда не целует тебя?
Заливисто расхохотавшись добродушным смехом, она легонько шлепнула меня.
— Ах ты, круглая заднюшка! Знала бы ты, на чьем корабле ты плывешь! Дом у господина Омара — настоящий дворец! У господина Омара — четыре жены, одна красивее другой, и у каждой — свои покои! Что ему бедная негритянка!
— А тогда зачем ты с ним плывешь?
— Разве не видишь? Я готовлю ему кушанье и стираю белье. Да я ведь уже стара, девочка милая, прошла моя молодость!
Слова негритянки о красивых женах господина Омара дали моим мыслям новое направление. Мне очень захотелось задать моей няньке один вопрос, но я стеснялась. Затем все же почувствовала, что она существо низшее и потому не надо ее стесняться.
— Айша! — решилась я. — А я тоже буду женой господина Омара, когда мы приплывем?
Она засмеялась.
— А ты хочешь?
— Не знаю, — я потупилась. — Только ты никому не говори, а то я убью тебя! — странно, как это у меня вырвалось.
И негритянка перестала смеяться и почтительно ответила:
— Никому не скажу, маленькая госпожа, никому!
Мне нравилось видеть капитана, но видеть его подолгу я не хотела. Каждый раз, когда я его видела, мне делалось как-то мучительно, как будто я переставала быть свободной. Мне еще и восьми лет не минуло, а любовь мужчины и женщины я мыслила как нечто грязное и тягостное. Я еще не знала, что любовь может доставлять радость.
Мы плыли в открытом морс. Солнце светило ярко и мягко грело. Голубые волны качали корабль, голубое светлое небо поднялось высоко и было веселым. Айша говорила, что это я даю всем хорошую погоду и счастливое плавание. Мне такие речи были приятны.
Глава 14
Романо, молодой начальник стражи, прервал свой рассказ.
— Когда прекрасная Кларинда повествовала своим милым голосом о морском путешествии, я еще не ведал, что и мне вскоре придется отправиться в открытое море при обстоятельствах довольно неприятных, и плавание мое будет странным образом напоминать плавание Кларинды!
— Эта история все больше занимает меня! — заметил Жигмонт. — И судьба красавицы, такой необычной, меня даже тревожит! Но как занятно: мы сидим на ступеньке лестницы, ведущей в башенную тюрьму! Ведь ты, мой добрый Романо (позволь мне так называть тебя!), должен отвести меня в тюрьму! Так веди же! Надеюсь, в камере найдется охапка соломы! И ты продолжишь свой занимательный рассказ в покое и уюте!
Романо засмеялся.
— Я узнал вашу смешливость! Я ведь помню, она никогда не изменяла Вам! — сказал он.
— Тем лучше! Итак, веди меня в мою темницу. И охраняй!
Они пошли по лестнице, а когда подошли к темной двери, Романо вынул ключ и отпер ее.
Жигмонт поставил на пол фонарь. Обстановка в его камере оказалась более, чем скромной! Но охапка соломы действительно нашлась. Жигмонт с удовольствием растянулся на этом убогом ложе и закинул руки за голову.
— Садись и продолжай рассказывать! — кивнул он юному начальнику стражи.
Романо сел рядом.
— Боже! Что я делаю?
— Охраняешь меня! — Жигмонт улыбнулся.
— Да, я стал тюремщиком человека, который в свое время спас меня! Я должен помочь вам бежать!
— Что за горячка! Ни в коем случае не должен! Немедленно поймут, что именно ты помог мне бежать! И тебя казнят! Только и всего! Я совершенно не помню, как и когда я тебя спас! Но я вовсе не желаю теперь губить тебя! Рассказывай! Мне нравится вживаться в чужую жизнь! Я просто должен время от времени вживаться в чужую жизнь, отвлекаясь от своей собственной!
Романо невольно усмехнулся и пожал плечами.
— Ладно! Я буду продолжать! Итак, мой отец, мой старший брат Грегорио и я, тогда еще мальчишка, сидели в саду и слушали прекрасную Кларинду.
— Ей было семь лет и она плыла на корабле! — Жигмонт снова улыбнулся.
— Наконец наше приятное путешествие подошло к концу, — рассказывала Кларинда. — Мы приплыли в большой восточный город-порт. Снова я увидела множество самых разнообразных кораблей, шумную суетню людей, пестроту и яркость; услышала крики, песни, смех. Айшу и меня посадили в крытые носилки. Я слышала стук копыт по мостовой и понимала, что нас сопровождают всадники. Господин Омар и его слуги ехали на лошадях.
Но вот носилки и всадники остановились. Айша вышла, держа меня на руках. Всадники спешились. Мы стояли у ворот большого дома. Ворота были резные, темного прочного дерева; а стены — совсем белые, и вместо окон — белые ниши, продолговатые, с белым узором.
Ворота открылись. И мы с Айшой пошли через сад. Господин Омар и остальные куда-то потерялись. Сад был очень большой. Громко и мелодично пели птицы в листве деревьев. Мы вошли в дом. Долго шли по переходу. Затем оказались в богато убранном покое. Здесь тоже было много ковров, но я сразу увидела, что здешние ковры гораздо красивее и драгоценнее корабельных ковров. У моего отца тоже не было таких дорогих ковров. На возвышении сидела старая женщина, смуглая, волосы были закручены на затылке узлом, на плечи накинута белая шаль, вышитая золотом, платье было красное. Моя негритянка простерлась на ковре перед этой госпожой. Я стояла спокойно, только голову чуть склонила в знак почтения.
— Встань! — сказала госпожа тихим голосом. — Ты останешься при девочке! Как ее зовут?
Должно быть, ей уже кое-что сказали обо мне, но не все.
— Седеф, — ответила я.
— Она говорит на нашем языке! — госпожа была несколько удивлена.
— Она очень умна! — моя негритянка уже поднялась и стояла, согнувшись в раболепном поклоне.
— Скажи ей, кто я!
— Это госпожа Мюннере! — негритянка обернулась ко мне, не меняя позы, и было смешно глядеть на нес. — Госпожа Мюннере — мать господина Омара! Ее следует почитать!
Я снова чуть наклонила голову, в глаза мне бросились длинные пальцы госпожи Мюннере, унизанные золотыми кольцами, в кольцах сверкали драгоценные камни — алые, лиловые, желтые. Я следила, как солнечные лучи отражаются в них. Окна в этой комнате были тоже продолговатые, но это были настоящие окна и выходили в сад.
Старуха заметила, что я спокойно разглядываю ее украшения. Ей понравились мои смелость и спокойствие, и, должно быть, поэтому она вдруг улыбнулась мне заговорщически.
С тех пор я жила в покоях госпожи Мюннере. Меня поселили в отдельной комнате, у порога этой комнаты спала моя Айша. Покои матери господина Омара были совершенно отделены от остального дома. Похоже, она не желала видеть никого из своих невесток и внуков. Даже ее сад был огорожен белыми стенами. Несколько раз она при мне принимала господина Омара. Капитан шутил со мной, спрашивал, хорошо ли мне. Я смущалась и отвечала утвердительно. Впрочем, старуха быстро высылала меня из комнаты, она хотела беседовать с сыном наедине. Возможно, приходили к ней и другие домочадцы, но я не видела.
Госпожа Мюннере расспросила меня о моей прежней жизни.
Она с интересом слушала мои рассказы и хвалила мой ум. Я заметила, что мое благородное происхождение не произвело на нее впечатления. Кажется, в том мире, куда я попала, это для женщин не имело значения, здесь в женщинах ценили не голубую кровь и не богатое приданое, но красоту и ум.
Любимым занятием моей хозяйки было чтение стихов и трактатов по математике и медицине. У нее была обширная библиотека. Она принялась учить и меня. Особенно по душе мне пришлись стихи. Я и сегодня могу продекламировать немало персидских и арабских поэм о страстной любви. В этих певучих строках любовь представала настолько прекрасным и возвышенным чувством, что трудно было даже вообразить, будто подобное чувство может существовать в обычной жизни. И я постепенно стала относиться к обыденной действительности весьма и весьма неприязненно. Госпожа Мюннере поощряла меня в этом. Она тоже, казалось, не столько жила, сколько пряталась от жизни. Кроме чтения, госпожа Мюннере была пристрастна к нарядам. Несколько раз в день она переодевалась, меняла драгоценности. Она научила меня украшать лицо и холить тело. При этом она часто говорила:
— Это следует делать ради себя! Никто так не оценит, не поймет тебя, как ты сама!
У госпожи Мюннере было удивительное стекло, широкое, оправленное в золото, это гладкое стекло отражало все вокруг лучше, чем застывшая в безветренный день водная поверхность. Я приучилась разглядывать себя, узнала свое лицо и свое тело. Но у меня по-прежнему не было ощущения, что мое лицо и мое тело — это и есть я; я не могла себе представить, что эта телесная я каким-то образом связана с моей душой, с моими мыслями.
Я привыкла к своему затворническому существованию. Немного огорчало меня лишь то, что я не слышала музыки. Госпожа Мюннере считала, что человеческие мелодии и инструменты грубы, и потому нет музыки лучше, нежели пение птиц, шелест листвы, шум дождя.
В баню мы отправлялись в закрытых носилках. В те дни, когда мы посещали баню, туда не пускали других женщин. Служанки расплетали мне косы, раздевали меня, нежно терли душистым мылом. Госпожа Мюннере любовалась мной и тихо говорила, что я — истинное совершенство и потому следует беречь меня, чтобы я оставалась чистой, незапятнанной.
Это существование не казалось мне однообразным, оно несло меня медленно, словно воды спокойной глубокой реки. Иногда я смутно припоминала отца, мачеху, странного старика, собиравшегося чему-то учить меня; и тотчас забывала. Я была вполне довольна своей жизнью. Более того, я и теперь полагаю, что госпожа Мюннере была права и я создана именно для такой жизни, а все остальное — ошибка, но ошибка непоправимая.
Моя негритянка Айша свободно ходила по всему дому и порою пыталась сплетничать, но я все эти попытки безжалостно пресекала. Впрочем, о нашей госпоже она мне кое-что рассказала, и я с интересом выслушала.
Госпожа Мюннере была дочерью знатного и богатого человека. Родители души в ней не чаяли, ни в чем не отказывали, баловали, задаривали дорогими подарками. Она росла гордой и капризной. Когда ей исполнилось лет двенадцать, зачастили в дом свахи, но Мюннере не желала выходить замуж. Кончилось все это тем, что она увлеклась одним из слуг своего отца, молодым человеком, на первый взгляд ничем не примечательным. Родители снова не смогли отказать любимой дочери. Однако вскоре после свадьбы выяснилось, что едва ли молодые супруги будут счастливы. Отнюдь не богатство тестя, не возможность получить выгодную должность привлекали юношу. Ему захотелось сломать гордую девушку, подчинить ее себе. Возможно, это было бессознательное мщение за все годы предыдущей жизни, когда его унижали, попрекали. Увы, супруг Мюннере просчитался. Через несколько месяцев после свадьбы его нашли мертвым неподалеку от большой базарной площади. Полагали, что он стал жертвой ночных грабителей. Вскоре по городу пошли слухи, что убийство подстроил тесть. Но доказать ничего нельзя было. Не было у юноши и родных, никого не беспокоила его участь. Постепенно о нем забыли. Молодая вдова жила уединенно, воспитывала сына. Дед нарадоваться на внука не мог. Умный и храбрый юноша посвятил свою жизнь морю, унаследованное от деда богатство он приумножил и стал одним из самых видных горожан. Он рано женился. Мать радовалась своей искренней привязанности к невестке, но молодая женщина рано умерла. С той поры госпожа Мюннере совсем замкнулась к себе.
Вот какую историю поведала мне моя черная нянька. Я очень привыкла к Айше, но все же считала ее олицетворением скучной и досадной обыденности. Она же, рискуя навлечь на себя гнев госпожи, все чаще говорила мне о жизни, призывала меня подумать о будущем.
— Зачем брать пример с нашей хозяйки, сладкая моя девочка! Госпожа Мюннере богата и потому может чудить, сколько пожелает! А ты бедна! Вот умрет госпожа, и что ты станешь делать? Надо нам позаботиться о твоем замужестве, дорогая моя!
Но одна только мысль о замужестве, о том, что рядом со мной всегда будет мужчина, была мне противна. Ведь он будет своими глупыми речами обрывать нить моих мыслей, будет докучать моему совершенному телу своими грубыми поцелуями и ласками. Даже моя детская привязанность к господину Омару давно изгладилась под влиянием постоянного общения с его матерью.
Мне уже минуло четырнадцать лет. Я превратилась в настоящую девушку. Однажды в полдень, когда госпожа отдыхала, мы с Айшой сидели в саду у небольшого фонтана, негритянка вышивала, я рассеянно следила за игрой солнечных лучей в тихо плещущих струях. Нянька моя завела свой любимый разговор — о моем будущем, о замужестве. Эти ее речи раздражали меня, казались мне унизительными.
— Оставь! — прервала я ее. В конце концов госпожа Мюннере выделит мне какую-то небольшую долю имущества и денег, и мы с тобой сможем жить, как жили до сих пор.
— Наивная моя девочка! Да можно ли надеяться на такую причудницу, как наша госпожа?!
Я засмеялась.
— Что ты знаешь обо мне, Айша? В сравнении с теми причудами, что таятся в моей душе, причуды госпожи Мюннере не более, чем скромные отсветы солнечного света в плеске широкой реки жизни!
— Голубка моя, потому-то я и боюсь за тебя! Быть богатой причудницей — одно, но быть причудницей бедной… Ах! И говорить страшно мне о твоей судьбе!
— И не говори! — Я опустила пальцы в воду. — Лучше расскажи мне что-нибудь по-настоящему страшное и таинственное!
Айша знала такие истории и сказки, а я любила их слушать днем, при свете солнца, когда нельзя испугаться.
— Что же тебе рассказать?
— Расскажи о ветрах!
Айша уже рассказывала мне, что в тех краях, откуда она родом, поклоняются ветрам. Люди верят, что ветры могут принимать человеческое обличье. Тот, кто увидит ветер в человеческом обличье, сделается одержимым.
На этот раз Айша рассказала историю о том, как несколько ее односельчан (она тогда была еще ребенком) отправились в лес за хворостом для костров, потому что деревня готовилась к празднику. Они вышли к большому высокому холму и вдруг увидели, что на вершине холма сидит, сгорбившись, одинокая старуха с растрепанными волосами. Парень, который был похрабрее остальных, окликнул ее громко: «Кто ты? Что ты там делаешь?»
— Я ветер! — отвечала старуха. — И теперь вы будете одержимы мной до конца жизни!
И вправду бедняги до конца своей жизни все влюблялись в старух, словно пытались отыскать ту, что их околдовала.
Конечно, я не верила в эти сказки. В саду было так хорошо. Легкий ветерок доносил аромат роз.
— А этот ветерок, — спросила я. — Такой легкий, душистый. Как ты думаешь, Айша, чье обличье он может принять, если пожелает явиться человеком?
— Обличье красивого юноши! — Айша фыркнула и ниже склонилась над работой.
— Не дразни меня, старуха! — я с досадой плеснула в лицо негритянке воды.
— Издевайся, издевайся над единственным человеком, который тебе предан! — говорила она, притворно сердясь.
Тут к нам подбежала служанка и сказала, что госпожа зовет меня. Я не спеша поднялась.
На другое утро в саду, должно быть, распустились все розовые кусты. Я проснулась от этого прелестного запаха роз. Накинула голубое платье и подошла к окну. Зрелище, представшее моим глазам, совершенно захватило меня.
Не так уж далеко от моего окна стоял юноша, немного постарше меня, в светлых шароварах, в белой сорочке, поверх которой была надета светлая атласная безрукавка. Он стоял с непокрытой головой, темноглазый и темноволосый, еще по-мальчишески худощавый. Он протянул руки к цветущему розовому кусту и на миг нежно прижал к груди цветок, не срывая. И цветок в его ладонях показался мне маленькой нежной розовой птицей. Юноша повернул голову и я увидела его улыбку. Он так удивительно улыбался — смешливо, нежно, безоглядно и самозабвенно.
Какое-то мгновение мне казалось, что это не человек, а дух сада, ветер цветущих розовых кустов. Но тотчас я поняла, что это человек. И тогда мне почему-то стало больно видеть его очарование. Я отошла от окна, присела на постель и заплакала.
Но едва отойдя, я вновь ощутила желание видеть юношу. Я снова подошла к окну. Юноши уже не было.
И снова я вернулась на постель, спрятала лицо в подушку, чтобы Айша не слышала, как я плачу.
С тех пор я думала только о незнакомце. Госпожа Мюннере никаких перемен в моем настроении не замечала. Но от внимательных глаз Айши ничего не могло укрыться. Она пыталась понять, что со мной. И я думала, что ей этого не понять никогда!
Я считала, что мне ничего не нужно от моего незнакомца, только видеть его! Я все воспроизводила в памяти черты его лица и мне казалось, что я уже видела его прежде. Но где и когда? И вот у меня появилась задача, цель жизни — увидеть его! Но если я видела его здесь, в саду госпожи Мюннере, значит, он — один из домочадцев. К госпоже приходит только сын. Может быть, это один из его слуг? Но как же мне увидеть его? Конечно, на каком-нибудь семейном празднике!
Вскоре, когда Айша завела свой обычный разговор о том, что я нарочно сторонюсь жизни, и, мол, не следует так себя вести, я перебила негритянку:
— Вместо того, чтобы ворчать, ты бы лучше помогла мне увидеть какое-нибудь семейное торжество! Ты ведь знаешь, как я тоскую без музыки, без песен!
Круглое лицо няньки расцвело улыбкой.
— Милая моя девочка! Конечно же, мы это устроим! Как жаль, что такая красавица должна тайком слушать пение, не может открыто появиться, чтобы все завидовали ее красоте! Но ничего! Скоро…
Она говорила таким тоном, будто я только что в ответ на ее увещевания наконец-то согласилась выйти замуж! Мне стало неловко. Как глупо я все придумала! Вдруг, ни с того, ни с сего — тоскую без песен! Прежде я не тосковала! Ах, все равно! Лишь бы увидеть его! Я повернулась к негритянке спиной и сделала вид, будто усердно разбираю книги. Неужели она догадалась? Пусть! Лишь бы увидеть его!
Мне казалось, что все стихи говорят о нем, о моей любви к нему! Порою мне казалось, что и он любит меня! А разве это невозможно? Разве я нехороша собой? А вдруг и он видел меня и полюбил?
Миновало два томительных дня. Мне они показались годами! Айша ничего не говорила. Меня начало терзать раздражение. Неужели она забыла? Этого не может быть! Или она просто сочла мою просьбу очередной ребяческой причудой, не стоящей внимания?!
На третий день утром Айша расчесывала мои длинные волосы. Кажется, мое раздражение достигло предела. Гребень на мгновение запутался в пышных прядях и причинил мне слабую боль. Этого оказалось достаточно! Я зарыдала.
— Мне больно! Ты видишь, мне больно!
Я уже не владела собой. Я резко обернулась и с силой ударила старуху прямо в грудь.
Тотчас мне сделалось стыдно. С распущенными волосами я выбежала в сад, добежала до фонтана, опустила руки в воду, потом прижала к пылающим щекам мокрые ладони.
Зачем? Зачем все это случилось? Я ударила беззащитную старуху! Как же теперь я, загрязненная этим поступком, смогу думать о том юноше, таком прекрасном и чистом?! О, я никогда, никогда не посмела бы ударить госпожу Мюннере! От нее я буду таить свое раздражение! А старую няньку, которая обещала мне помочь, я ударила! Сдержит ли она теперь свое обещание? О боже! О чем я думаю, вместо того, чтобы раскаиваться!
Айша с гребнем в руке, запыхавшись, подбежала ко мне.
— Давай же я расчешу твои волосы! Ведь сегодня вечером…
Я тотчас все поняла. Я кинулась обнимать и целовать негритянку. Она в ответ обнимала и целовала меня. Кажется, мы обе плакали.
— Потерпи, девочка моя! Впереди еще целый день! Нельзя, чтобы госпожа Мюннере заметила…
Весь день я была рассеянна, не слышала обращенных ко мне вопросов, улыбалась невпопад. Госпожа Мюннере спросила, не больна ли я. Я отвечала, что, наверное, простудилась в саду, у меня головокружение, я бы хотела, если можно, несколько дней провести в постели. И — о радость! — она позволила! Отпустила меня!
Я пошла в свою комнату и действительно легла в постель. В постели приятнее было мечтать! Отпустив на волю воображение, я видела, как мы, я и он, вместе сидим у фонтана, беседуем, он улыбается мне своей чудесной улыбкой, он любит меня! Но тут я вспоминаю о том, что ничего этого быть не может! Он не увидит меня, ведь никто не должен видеть меня, я тайком иду на праздник! Может быть, я и не увижу его! Может быть, он вовсе не из нашего дома! Нет, этого не может быть! А если и он ищет меня? Если он догадается… И я снова предавалась сладким мечтам…
Айша едва уговорила меня поесть. Мне почему-то казалось, что совершая такое обыденное действие, как принятие пищи, я предаю свою любовь! Я тщательно оделась.
И вот переходами, долгими коридорами, отпирая и запирая двери, негритянка повела меня на домашний праздник.
Мы вошли в маленькую и узкую, неосвещенную галерею. Айша велела мне спрятаться за колонну, и сама притулилась рядом.
На нижних галереях, под нами, сидели нарядные, щебечущие женщины и девушки, прикрывая лица дорогими нарядными покрывалами. Во дворе, на деревянном возвышении, устланном коврами, сели мужчины. Они тоже были нарядно одеты. Они играли на разных музыкальных инструментах и пели. Я узнала господина Омара с его длинной флейтой. А рядом с ним… я увидела моего незнакомца! И я сразу поняла, кто он! Единственный в мире, он был все же похож на своего отца, обыкновенного человека, и даже очень похож!
Юноша поднялся и запел. Он пел о любви! Мне стало так больно! Я почувствовала, что сейчас зарыдаю в голос!
— Уведи меня, Айша! Уведи! — шепотом молила я сквозь слезы.
Снова мы прошли кружным путем в покои госпожи Мюннере, где царила ночная тишь. Я поспешно легла в постель, приказав Айше оставить меня. Слезы утомили меня, я уснула.
А когда открыла глаза, комната уже купалась в солнечном свете, и на краю моей постели сидела верная Айша!
— Девочка моя дорогая, помнишь я тебе рассказывала, что у господина Омара от его первой жены, от той, что рано умерла, остался сын?
Я этого не помнила. Но негритянка продолжала, как ни в чем не бывало:
— Его зовут Реджеб! У господина Омара есть и другие дети, но этот старший и самый любимый! И бабушка, и отец не станут перечить, если мальчик захочет жениться по любви! А где он сыщет другую такую красавицу и умницу?! Но он и сам неплох! Отец уже несколько раз брал его с собой в плавание! Парень храбрый и сметливый! Теперь одно осталось — чтобы он тебя увидел! Потерпи еще немного, моя перламутровая красавица!
Я быстро села в постели, обхватила негритянку за шею и поцеловала в щеку. Потом бросилась лицом в подушку.
Пришла служанка от госпожи Мюннере, узнать, как я себя чувствую. Я притворилась спящей. Айша ответила, что я еще слаба, но скоро поправляюсь, лекарств, изготовленных лекарем, не нужно, домашние средства скоро поднимут меня на ноги!
Когда служанка ушла, я села и звонко расхохоталась.
— Тише, услышат! — прошипела Айша и замахала на меня платком. Я прикрыла рот ладонью, но глаза мои смеялись, я знала!
Казалось, вот-вот исполнятся мои мечты! Но жизнь рассудила по-иному. И вот, вместо цветущего сада любви и счастья передо мной раскрылась пустыня бесплодного ожидания!
Вечером того же дня огорченная Айша сказала мне, что юноши уже нет в доме, отец снова взял его с собой в море, а вернутся они не раньше, чем через пол года!
Сердце мое замерло от боли. Я ощутила холод в груди. Мне показалось, что это не случайность. Это подстроено нарочно! Госпожа Мюннере узнала о моей любви и услала внука! Воистину влюбленные безумны! Я пришла в себя и отбросила нелепые мысли! Надо быть терпеливой! Я буду ждать! Полгода — не такой уж большой срок!
Но через полгода Реджеб не вернулся. Прошло еще полгода. Знакомый купец привез весточку госпоже Мюннере от ее сына. Господин Омар писал, что и он, и Реджеб здоровы и скоро будут дома. Об этом письме я узнала от Айши. Сама госпожа Мюннере не стала бы со мной говорить о семейных делах, и не потому что не доверяла мне, просто ей и самой это было скучно. Она предпочитала беседы о поэзии.
Мне уже исполнилось пятнадцать лет. Я чувствовала, что сделалась еще красивее. Я не переставала думать о Реджебе!
Он вернулся, но, не заезжая домой, уехал в столицу. Говорили, что он принят при султанском дворе. И когда Айша пересказала мне это, я загордилась так, как будто Реджеб уже стал моим женихом!
Теперь Айша должна была улучить момент, поговорить с ним обо мне, и тогда…
Теперь надо было ждать возвращения Реджеба из столицы домой. Скоро мне исполнится шестнадцать лет! Меня начали томить телесные желания. Я ощущала, что мои груди наливаются жаркой тяжестью.
Наконец Айша смущенно сказала мне, что ей удалось побеседовать с Реджебом. Он сказал ей, что еще молод, не интересуется женщинами, и тем более не желает огорчать бабушку, лишать ее любимой наперсницы.
— Так он сказал тебе? — тихо спросила я.
— Да, — негритянка опустила голову.
— Быть может, ты уговаривала его жениться на мне! — я пыталась сдержать слезы. — Скажи ему, что я согласна на все! Хотя бы один раз увидеть его, встретить взгляд его глаз, пусть это произойдет, где ему будет угодно! Ради него я готова прийти в притон, в любое, самое дурное место! Один лишь раз! И после я никогда не обеспокою его! Я исчезну из его жизни! Ступай, найди его! Скажи ему!
Верная Айша стояла молча.
— Чего же ты ждешь?
Старуха молча бросилась к моим ногам.
— Накажи меня! Избей! Убей! Я обманула тебя!
— Ведь он даже не видел, даже не видел меня! — повторяла я, как в бреду, не слыша слов Айши.
— Я обманула тебя! Я показала ему тебя! Он видел тебя!
— И после этого он сказал тебе, что еще молод и не хочет огорчать госпожу Мюннере?
— Да. Избей меня! Палкой!
— За что? Ты ни в чем не виновата. Все кончено. Будем жить по-прежнему.
Но я знала, что уже никогда не буду я жить прежней жизнью. Я следила за тем, как меняется мой характер и поражалась этим изменениям. Я сделалась лживой, холодно-лживой. Я притворялась, будто мне по-прежнему интересно в обществе госпожи Мюннере, а сама уже ненавидела эту докучную старуху, моя зависимость от нее уже терзала меня. Айша пыталась утешать меня, убеждала, что первая любовь редко выдается счастливой, что я молода и хороша, что стоит мне только захотеть, и она выдаст меня замуж, я буду счастлива… Эти речи бесили меня! Какое она имеет право сравнивать меня с другими, обыкновенными женщинами, я странная, необычная, вся моя жизнь об этом свидетельствует, и любовь моя необычна! Так я полагала. А на самом деле становилась все более мелочной, злой и подозрительной. Я уже винила во всем Айшу — ведь это она показала ему меня исподтишка, тайком от меня самой! Если бы он посмотрел мне в глаза, увидел бы, как я люблю его; может быть, все завершилось бы совсем по-иному!
Я перестала смотреться в зеркало. Мне казалось, я увижу там перезрелую старую деву. Я чувствовала, что теперь мое телесное «я» похоже на мои мысли, и это раздражало меня!
Временами я уже ненавидела себя!
И Реджеба я начинала ненавидеть. У меня возникало неверное, несправедливое ощущение, будто он предал нашу любовь. Хотя ведь любила одна я, он никогда не любил меня и значит, не мог предать!
В таких мучениях протекли два томительных года. Теперь мне было уже восемнадцать. Я начинала думать о самоубийстве. Только мысль о страшной греховности такого поступка удерживала меня.
Айша называла госпожу Мюннере «богатой причудницей». В определенном смысле Айша была права, моя простодушно-мудрая негритянка. Но госпожа Мюннере не сознавала себя причудницей, она считала свое поведение естественным. Богатство давало ей независимость, ей не приходилось подстраиваться, угождать. А я совсем забыла о своем зыбком положении полувоспитанницы-полупленницы. Хозяйка начала в конце концов замечать, что я отношусь к ней достаточно прохладно, множество мелочей — различные проявления невнимания, порою бессознательно резкие мои ответы на ее вопросы, должны были обижать ее. Она стала думать о том, как бы избавиться от меня. При этом она вовсе не желала мне зла и как бы искренне хотела, то что называется, «устроить мою дальнейшую судьбу». Но, сама того не сознавая, госпожа Мюннере, в сущности, желала наказать меня за то, что я не оправдала ее надежд, не привязалась к ней всей душой. Она заботилась обо мне, любила меня и ожидала в награду ответной любви. И, не получив этой любви, она рассердилась на меня.
Я сидела в своей комнате, когда вошла растерянная Айша. Она принялась сбивчиво говорить, что госпожа Мюннере решила выдать меня за одного из друзей своего сына. Человек этот отнюдь не был беден, но не был и богат. Айша смотрела на меня просительно и особенно напирала на то, что я буду единственной женой господина Карима. Но именно это и пугало меня! Он будет трогать и хватать мое тело своими пальцами! Он будет говорить со мной, будет спрашивать, о чем я думаю. Я буду зависеть от него. Впрочем, Айша сказала, что госпожа Мюннере намерена дать мне приданое, чтобы и у меня было какое-то достояние.
Я твердо решила, что ничего этого не будет! Меня охватило странное спокойствие, я чувствовала равнодушие к себе самой и ко всему на свете. Даже о Реджебе я думала спокойно. Я только знала, что не покорюсь!
Я представила себе, как прихожу к госпоже Мюннере в роли униженной просительницы, я ей докучаю, она досадливо отказывает мне. Мы с ней произносим множество пустых слов. Она призывает меня к благоразумию. В этом ее месть мне, в том, чтобы я жила жизнью, которая противна моей душе! Слова о благоразумии особенно издевательски звучат в ее устах! Она словно показывает мне, что только она, богатая и независимая, имеет право быть неблагоразумной, а такие, как я, должны знать свое место!
Нет, я не пойду к госпоже Мюннере!
Никакого плана действий у меня не было. Я сидела, уронив на колени руки, а моя старая нянька все говорила, говорила и смотрела на меня. Я подняла глаза. Мне стало ясно: Айша понимает меня. Она вдруг замолчала, потом заговорила, не глядя на меня:
— Завтра отплывает корабль Реджеба…
— Значит, завтра, — спокойно сказала я. — Завтра я уйду. Одна. С собой ничего не возьму. Благодарю тебя за все, что ты сделала для меня! Госпоже Мюннере я оставлю письмо.
Айша слушала, не возражала мне, только молча кивала. То, что я говорила, вовсе не было разумно, но моя негритянка каким-то чутьем понимала, что прежде всего неразумно отвращать человека от его судьбы!
Я написала письмо госпоже Мюннере.
«Благодарю Вас за все, что Вы для меня сделали. Я ухожу тайком, не ищите меня. Простите меня за то, что я не оправдала Ваших надежд. Мне хорошо известны Ваш ум и Ваши чувства. Я верю: Вы поймете меня».
Меня все тревожила участь моей Айши. А вдруг госпожа Мюннере разгневается на нее?
— Отдай это письмо госпоже Мюннере, — сказала я негритянке. — Посмотрим, как она поведет себя. Когда будешь отдавать письмо, скажи, что меня уже нет в доме. На самом деле я уйду вечером, когда стемнеет. Так что если даже госпожа Мюннере пошлет людей — искать меня, они не найдут меня днем. А искать меня вечером в порту никто не решится. — Вечерний порт — не самое безопасное место, это я знала!
Я собралась быстро. Ни нарядов, ни драгоценностей я не стала брать с собой, хотя и в этой гордости не было ни капли благоразумия. Я надела одно из самых простых своих платьев, приготовила темное покрывало. Ни серег, ни колец — только одно золотое колечко, оно досталось мне после смерти матери, сначала я носила его на шнурке, под одеждой, потом стала носить на пальце.
— Это оно? — Грегорио нежно взял руку Кларинды.
— Да. Оно не покидает меня! — Кларинда улыбнулась, продолжила свой рассказ: — Айша провела меня на чердак. Я осталась в полумгле, среди каких-то сломанных, потерявших прежний свой облик предметов. Сердце тревожно билось. Негритянка пошла отдавать мое письмо госпоже Мюннере. Я ждала.
Наконец Айша вернулась. Я заслышала ее шаги и обрадовалась, но тотчас подумала: а вдруг это кто-то другой, и испугалась, но это была она, моя верная Айша. Госпоже Мюннере она сказала, что я исчезла, но оставила письмо. Прочитав мое короткое послание, госпожа Мюннере некоторое время молчала. Айша боялась ее гнева. Затем госпожа отложила письмо и тихо произнесла:
— Так лучше!
Значит, и она поняла меня! В сущности, если бы не мой побег, она выдала бы меня замуж, и после мучилась бы сознанием того, что просто-напросто отомстила мне за свои обманутые надежды.
Итак, я была свободна! Корабль Реджеба отплывал ночью.
Айша вывела меня из дома. Я обняла и поцеловала ее. Какое счастье, что она молчала! Я тоже не могла говорить. Я закуталась в покрывало и быстро пошла прочь. На глаза навернулись слезы. Я уже чувствовала себя совсем беззащитной, обреченной. Но возвращаться я не хотела ни за что!
Я не знала города, в котором прожила почти десять лет. Но я правильно рассудила, что в портовом городе в порт ведет не одна дорога.
Вечерний порт испугал меня и поразил. Темнота, прорезанная светом факелов, зловещие шумы. Странные, пронизанные какой-то зловещей свободой, движения, жесты, голоса.
Несколько раз я замечала закутанных женщин. Я поняла, что они торгуют собой. Мне показалось, что и они заметили меня и даже следят за мной. Темные улочки пугали меня. Я почти бежала. Уже слышался плеск моря, тяжелый сильный. Я еще ускорила шаг.
Внезапно меня грубо схватили за плечо. Это было неожиданно и страшно. Я не привыкла к такому. Хриплый грубый женский голос спросил:
— Что ты шляешься здесь? Это наша улица!
Я вовсе не предполагаю, будто портовые проститутки приняли меня за конкурентку. Наверняка они чутьем, которое подобным женщинам свойственно в высшей степени, угадали во мне совсем неопытную девушку и решили поиздеваться. Они видели, что я беззащитна. Оскорбляя меня, они как бы мстили всем тем, кого зовут «порядочными женщинами».
Женщины окружили меня, толкали. В тусклом свете уличного фонаря я различала их лица, страшные какой-то животной грубостью или животной же мелкостью черт. Щеки были густо нарумянены, губы толсто накрашены, глаза подведены. Они тянули меня за одежду, дышали, обдавая мое лицо зловонным дыханием, щипали меня. Одна из них вдруг вытянула руку быстрым обезьяньим движением и схватила меня между ногами. Этого я не могла перенести. Я ударила ее.
— Акрам! Убивают! — завизжала она.
— Пустите! — крикнула я. — Пустите!
Но тут появился огромный грубый Акрам. Это был один из тех, кто околачивается в притонах, гонит нежеланных гостей, собирает с проституток дань. Я увидела тупое, скотское выражение столица и помертвела. Я поняла, что пощады не будет!
Акрам поволок меня в дом под улюлюканье женщин. Втащил в какую-то каморку, захлопнул дверь и вышел.
Я вскочила с грязного, заплеванного пола. В комнате отвратительно пахло чем-то кислым. О боже! Это были запахи женских выделений, мужского семени и немытых потных тел.
Я попыталась понять, откуда в это помещение проникает свет. Заметила, что лишь занавес-ширма отделяет эту каморку от другой, более обширной комнаты, на цыпочках приблизилась к этой ширме и робко отогнула уголок.
В большой комнате было чуть почище, стояло несколько низких столиков, на которых теплились светильники. Какой-то человек выбивал на бубне монотонную мелодию. Несколько женщин грубо и открыто любезничали с посетителями — сидели у тех на коленях, целовали, как-то утробно урча, говорили грязные слова. Посетители, впрочем, не уступали своим ночным подругам. Остро пахло виноградной водкой. Я вспомнила этот запах. В доме моего отца пили и вино, и водку. В доме госпожи Мюннере не пили.
Еще несколько мужчин вошло в большую комнату. И одного из них я узнала. Это был Реджеб! Он возмужал и он показался мне еще чудеснее. Он держался свободно и уверенно. Легко опустился на маленький круглый стул. Прозвенело оружие, столкнувшись с резным деревом стола. Одна из женщин подскочила к нему. Чмокнула в щеку. Он взял ее за руку, жестом дружеским и мягким. Мне было больно видеть это.
Мне было странно: он, которого я люблю больше жизни, покупает здесь дешевые ласки! Тогда я мало знала мужчин! Продажные ласки, должно быть, тем и привлекательны, что за них дают вполне реальную, видимую плату, а за свою, якобы бескорыстную любовь я вымучивала бы у Реджеба душу!
— Господин Реджеб! — обратилась к нему женщина. — Сегодня для вас есть кое-что! — она указала на занавеску и хихикнула. — Новенькая! Красавица!
Я стояла, вытянув руки вдоль тела, замерев.
— Нет, Анор, — спокойно ответил он. — Сегодня не хочу. Скоро мне на корабль. Не хочется сегодня. Дай лучше вина.
Он улыбнулся своей прежней, смешливой и доброй улыбкой. Душа и тело мои слились в единстве отчаянной мучительной боли. О, если бы он держался гордо и надменно! Но эта дружественность, эта добрая смешливость надрывали мне сердце!
Снова меня назвали «красавицей»! Неужели моя хваленая красота годится лишь на то, чтобы торговать ею или восхищаться, как восхищаются совершенством красивого цветка? Неужели я никогда не узнаю блаженства взаимной любви?
Но испытания этой страшной ночи еще не завершились!
Я поняла, что Реджеб — один из тех, немногих, которые не боятся поступать, как им вздумается, вовсе не заботясь о том, что скажут другие. Ему не хотелось женщины и он спокойно сказал об этом, не опасаясь, что его посчитают слабым. Но я и сама всегда стремилась к независимости. Почему же мы не вместе? А если сейчас я выйду к нему?
Но я боялась! Я боялась, что он посмотрит на меня равнодушно! И тогда все кончится! А так… Если бы я могла до бесконечности надеяться на то, что, когда он посмотрит в мои глаза, он полюбит меня!..
— Реджеб не желает, зато желаю я! — раздался дребезжащий голос.
Я опустила занавеску и отпрянула. Поднялось женское гадкое хихиканье. По полу зашаркали, зашлепали ноги. Ко мне вошел человек.
— Убирайтесь! Не смейте подсматривать и подслушивать! Убью! — крикнул он визгливо и опустил занавеску.
Я поняла, что он труслив и робок, что он может быть наглым и дерзким только с теми, кто окажется слабее его. Теперь мне не было страшно. Я откинула покрывало на плечи. Он увидел мое лицо. Он вовсе не был умен. Но понять, что я не из числа продажных женщин, было совсем легко. Лицо его приняло растерянное выражение. Моя красота, моя гордая осанка подействовали на него.
— Кто вы? — тихо спросила я.
— Закариас, купец, — он отвечал покорно и испуганно.
— Меня держат здесь против моей воли! Помогите мне уйти!
— Не могу, не могу! — он попятился. — Нельзя! Здесь и прикончить готовы!
— Стойте! — теперь я заговорила властно. — Скажите вашему другу, что вы хотите увести меня! Ему не посмеют перечить!
Он, конечно, понял, что я говорю о Реджебе!
Я снова прильнула к ширме, отогнув угол занавески.
Закариас подошел к Реджебу, они тихо заговорили.
Вот Реджеб встал. Каждое его движение, каждый жест были исполнены такой естественности, такой свободы!
— Эта женщина за занавеской, она сейчас пойдет с нами, — начал он. — Она не из ваших и с нами уйдет по своей воле. Денег платить не будем.
Никто не посмел роптать, противоречить Реджебу. Впрочем, я объяснила это не только трусостью: должно быть, Реджеб нередко бывал здесь и обычно платил щедро, не имело смысла ссориться с ним.
Я закуталась в покрывало так, чтобы не видно было лица. Раздался легкий стук. Стучали костяшками пальцев по деревянной рамке ширмы. Я быстро вышла, склонив голову. Через две-три минуты мы уже шли по улице.
Оба моих спутника молчали.
Сбылась моя мечта! Я была так близко от Реджеба!
Что же мешало мне откинуть покрывало, взглянуть в его глаза, заговорить с ним? Я мало знала себя. Основными чертами моего характера и сейчас остаются робость и упрямство. И тогда я робела. Как я уже говорила, меня страшило возможное равнодушие Реджеба. Затем я вдруг вспомнила — ведь Реджеб сказал Айше, что не хочет огорчать бабушку, лишая ее любимой наперсницы. Увидев меня сейчас, он может просто отвести меня домой. Я чувствовала, что он благороден и добр, но странно, когда я шла рядом с ним, мне вовсе не казалось невозможным такое насилие с его стороны.
Мы приблизились к морю. Сильное шумное дыхание волн уже захватывало меня, манило, тянуло вдаль, влекло к бездумным и мне самой непонятным поступкам.
Мы приблизились к темной плещущейся воде. Реджеба ожидала лодка. Он резко обернулся ко мне. Я чуть отпрянула от неожиданности.
— Не бойтесь, — произнес он мягко. — Кто вы? Где ваш дом?
Боже! Какое мучение — слышать его мягкий участливый голос! Опустив голову, я молчала.
— Вы хотите уйти с ним? — он указал на Закариаса. Реджеб спросил это все с той же мягкой почтительностью. Со мной часто бывает такое — в момент, когда надо действовать решительно и разумно, я вдруг совершаю какой-нибудь глупый, нелепый, не приносящий мне никакой пользы, а лишь один вред, порою даже откровенно дурной поступок. И теперь в ответ на вопрос Реджеба я быстро кивнула.
Тотчас Закариас взял меня за локоть. Я не воспротивилась, прикосновение теплых мужских пальцев было даже приятно. Я стояла рядом с человеком, которого любила больше жизни и словно бы нарочно делала все возможное, чтобы отдалить его от себя! Случайный человек сжал мою руку и это было мне приятно! Не было сил разобраться в себе! Я не понимала себя!
Мы сели в лодку. Гребец налег на весла. Снова, как в детстве, меня качали волны. Мне вдруг показалось, что море — это живое существо, оно жалеет меня, понимает, но не может мне помочь!
Лодка подплыла к кораблю. Закариас оказался проворным, через минуту он уже был на палубе. Реджеб не смотрел на меня. Мне спустили лестницу. Я поднялась, Закариас протянул мне руку. Мне хотелось скорее удалиться от Реджеба и быстрыми шагами двинуться навстречу неведомой судьбе. Я чувствовала себя невероятно одинокой.
Лодка, в которой сидел Реджеб, поплыла прочь от корабля. Должно быть, он возвращался на свой корабль. Его корабль отплывет сегодня ночью. Нам суждено плыть в разные стороны.
В тесной и темной каюте Закариас положил мне руку на грудь. Этот жест вызвал во мне отвращение. Я резко отбросила его руку.
— Не прикасайтесь ко мне!
Он послушно отошел.
— Чего же вы хотите? — спросил он с некоторой досадой.
— Куда плывет корабль?
Закариас назвал город. Бог знает почему, я обрадовалась. Это был тот самый город, куда меня когда-то привез голубоглазый старик.
— Мне нужен этот город!
Закариас помялся.
— Я думал, ты… вы… останетесь со мной…
Сама не понимаю, почему я отвечала так, а не иначе!
— Это будет зависеть от многих обстоятельств. Возможно, я останусь с тобой. Но если ты допустишь малейшую подлость по отношению ко мне, ты навсегда потеряешь меня!
Он пожал плечами. Затем поспешно и неискренне откликнулся на мои слова:
— Да, да! Конечно!
Я понимала, что ему нельзя доверять. Но он трус. Посягнуть на мое тело он не посмеет. Его подлые поступки (а я не сомневалась в том, что они будут!) будут совсем в другом роде.
— Я скажу, что со мной сестра! — сказал Закариас.
— Да, это хорошо.
Я заметила — ему доставило удовольствие то, что я согласилась с ним.
— Я хотела бы остаться одна.
Сначала он пожал плечами, дернул головой, затем согласился, но снова поспешно и неискренне.
Неделю мы были в плавании, может быть, чуть больше. Я была в каюте одна. Закариас приносил мне еду и воду для умывания и был почтителен. При дневном свете он хорошо разглядел меня и наговорил мне много комплиментов по поводу моей красоты.
— Ты, видно, благородного происхождения?
— Да, — отвечала я.
— Вряд ли ты захочешь остаться со мной!
— Это будет зависеть от многих жизненных обстоятельств и от твоего поведения, — спокойно сказала я.
Я пыталась понять ход его мыслей. Он мог подумать, что такую красавицу ему не удержать, и тогда… Ну, конечно же своей выгоды он не упустит — он захочет просто продать меня! Как странно, я думала обо всем с таким спокойствием. Я заставила себя не думать о Реджебе. Я боялась, что если стану думать о нем, впаду в такую тоску, в такое отчаяние!..
Наконец мы приплыли. Я уже немного разобралась в себе. В сущности, я сама выбрала ту жизнь, которой ныне живу. В этой жизни мне странным образом необходимы обстоятельства тяжелые, давящие и стесняющие меня, иначе я буду себя чувствовать дурно в этой жизни. Я предпочла бы жить по-другому. Но как этого достичь, я не знаю. И нынешнюю свою жизнь я предпочитаю той, какую вела в доме госпожи Мюннере.
Мы с Закариасом сошли на берег. Город разочаровал меня. Я вспомнила свое детское восхищение кипучей жизнью порта, ярким морем. Теперь ничего этого не было. Я тупо и печально завидовала себе прежней, маленькой девочке, радостной и преисполненной смутных надежд; тогда мне было хорошо, тогда я еще не знала Реджеба, теперь же меня все более охватывает чувство безысходности.
Закариас прошелся по лавкам. Он спросил, не надо ли мне чего, даже приценился к суконному теплому плащу, но услышав от хозяина лавки цену, поспешно повел меня на улицу. Видя это, я спокойно сказала, что мне ничего не нужно. Мы пообедали в харчевне. Да, он был прижимист, деньги тратить не любил. Думаю, он понял, что я с ним не останусь. Он и сам этого уже не хотел, я казалась ему странной, а все странное отвращало его. Но я почувствовала, что он хочет отомстить мне за то, что я не буду ему принадлежать. Казалось бы, это нелепо — мстить другому за то, что он или она не любит, не может полюбить тебя! Однако люди, даже отнюдь не такие мелочные, как Закариас, мстят за это, и мстят жестоко! Особенное раздражение вызывает человек, который прежде любил тебя, а нынче не любит!
Таким образом рассуждала прекрасная Кларинда о любви.
Внезапно Грегорио схватил ее руку и покрыл поцелуями нежную ладонь. Естественным движением красавица наклонилась и нежно поцеловала его в губы. Отец улыбнулся. Кларинда продолжала свой рассказ.
— Угроза мести мелочного подлеца представляет собой одну из самых страшных опасностей. Я это чувствовала, я ощущала свою беззащитность; но я ведь могла просто-напросто уйти куда глаза глядят! Думаю, Закариас даже не решился бы удерживать меня. А я не уходила. Да, я немного узнала себя и, если бы я могла, я бы сторонилась, избегала себя, я была такой странной, мои действия не подчинялись нормальной, обычной логике, я почему-то стремилась нанести вред, причинить зло себе самой!
Темнело. Закариас привел меня в какое-то подозрительное портовое заведение. Он сел к столу, спросил вина и стал играть в кости. Я сжалась в углу, закрывшись покрывалом. На меня поглядывали. Темное помещение с низким потолком было пропитано грубостью и похотью. Не надо думать, будто вся эта ситуация доставляла мне хоть малейшее удовольствие! И мучительное ощущение собственной беззащитности, и страх, и безысходность тоже не доставляли мне удовольствия! И все же я не уходила, не пыталась направить свою судьбу в другое русло, я тупо и странно продолжала мучить себя.
Потом я ощутила, что один из сидящих, юноша с простецким лицом, по виду слуга, испытывает ко мне нежное чувство. Тогда я впервые поняла, что самое мучительное и неприятное для меня, это когда меня любит человек, которого я не могу полюбить.
Между тем, Закариас проиграл свои деньги. На короткое время я даже испытала к нему что-то вроде интереса и уважения. Да, на очень-очень короткое время! Но как забавно (именно забавно!) сочетались в его натуре мелочность и широта; не противоречили друг другу, нет, но сочетались!
Человек, выигравший деньги Закариаса, был очень некрасив, даже уродлив, горбатый, с торчащими зубами, напоминавшими клыки. Но глаза его, чуть раскосые, блиставшие неприкрытым коварством, злобой и мужской силой, таили в себе определенную привлекательность. Странно, что я не помню его имени! А почему это странно, вы сейчас поймете!
Закариас поднялся, пошатываясь, и предложил горбуну сыграть в последний раз. При этом весьма оригинальное условие поставил Закариас — в случае выигрыша он получает назад свои деньги, а в случае проигрыша я отдаюсь тому, кто этого пожелает, и сама назначаю цену!
Я не могу сказать, что эти слова Закариаса были для меня неожиданностью! Я ждала чего-то подобного! Но до сих пор я мучила свою душу, а не тело! Неужели теперь у меня возникло бессознательное желание терзаний для своего тела?
Я спокойно спросила Закариаса, помнит ли он о своем обещании не поступать со мной подло. Он просто-напросто отмахнулся от меня и сказал, что должен вернуть свои деньги.
Почему же я не уходила? Ведь я еще могла уйти!
Но вместо того, чтобы уйти, я спокойно поднялась и сказала, что тот, кто сблизится со мной, должен будет отдать Закариасу тысячу золотых, а затем получить от меня удар кинжалом, прямо в сердце!
Наступило молчание. Такая перспектива никого не привлекала. Но и насильно никто не пытался овладеть мною. Я было подумала, что вот оно, ситуация разрешилась, кончился этот эпизод моей жизни, сейчас я уйду навстречу новым событиям, страдать суждено только моей душе, тело же останется нетронутым!
Но судьба распорядилась иначе!
Горбун согласился, принял мои условия. И вот я поднялась и пошла за ним. Я сознавала, что это дурной поступок, что я действую себе во зло, что я отдаляю себя от Реджеба на расстояние немыслимое! И я шла.
Где все произошло? Кажется, это была какая-то темная пристройка во дворе. Я поняла в ту ночь, какую силу имеет мужская телесная любовь, как, поднявшись на самую высокую грань, любовь эта одухотворяется.
Горбун принадлежал к разряду людей, телесно талантливых. Его тело, нежное, жесткое, страстное, было умным! И этот телесный ум бросал свой отблеск и на душу горбуна.
Сначала мое нетронутое тело лишь безвольно предавалось его страсти. Но уже через несколько мгновений исчезли тяжесть и неудобство, и боль, и осознание некрасивости, непристойности того, что происходило. Я стала отвечать на его страсть. Мы дышали единым дыханием. Мои ноги, руки, губы осознанно двигались, доставляя мне удовольствие. Мои ощущения отличались болезненностью, но это была сладкая мука. Мое тело обрело странную свободу и одухотворенность. Я не испытывала ни стыда, ни угрызений совести.
Мы оба молчали, не произносили ни слова. Но мне казалось, что мы высказали друг другу самое сокровенное, раскрыли самое чистое и прекрасное…
Мы поднялись. В темноте смутно светились наши тела. Посмотрев на него, я вспомнила древнюю легенду о существе, наделенном бычьей головой и человечьим телом; оно, это существо, вышло из моря, и царица могучего островного государства полюбила это странное существо…
Мы оделись молча. Молча он возвращался, я молча следовала за ним.
Вдруг я ясно ощутила, что с каждым шагом чары любви, облагородившие этого человека, спадают с него. Но я забыла о мною же поставленных условиях. Я шла, снова пытаясь разобраться в себе.
Остальные ждали.
Что произошло дальше?
На моих глазах горбун превратился в то, чем и являлся изначально, в грубого порочного человека. Я по-прежнему сжалась в углу, кутаясь в покрывало. Горбун что-то говорил обо мне. Потом Закариас получил свои деньги. Да, кажется, так и было. Я уже помнила, что должна убить горбуна. Это ведь было мое условие. Но мне казалось, что это не случится.
Закариас стал требовать, чтобы я убила горбуна. Да, кажется, так. Я взяла кинжал Закариаса. Горбун визжал и пытался убежать. Было ли это проявлением его природной трусости, или он, так же как и я вначале, не верил в саму возможность такого убийства, не знаю. Мне постепенно сделались докучны и Закариас, и горбун, и эта грязная комната. Горбуна держали. Я подошла, держа кинжал. Я знала, где у человека сердце. Я все еще не сознавала, что сейчас произойдет убийство. Я замахнулась, зажмурила глаза и ударила. В сердце!
Я знала, что убила человека. Но появилась смутная мысль, что это как бы не настоящее убийство и потому и нет у меня сожаления или угрызений совести. И еще мне казалось, что то, что произошло между мной и горбуном, как бы дало мне право убить его, но только не думайте, будто это было нечто вроде мщения за поруганную честь! О, только не это! Подобное толкование моего поступка показалось бы мне просто смешным! Нет, нет! Убийство горбуна, то, что именно я убила его, явилось как бы продолжением, логическим завершением нашей с ним близости. Я не знаю, насколько ясно мне удается объяснить, понимаете ли вы меня…
Но все происшедшее утомило меня. Голова кружилась, я уже не могла наблюдать и понимать. Застучали копыта. Приехал ночной дозор. Почему-то завопил хозяин. Закариас повел меня на улицу. Рассветная прохлада освежила меня. Я простилась с Закариасом, не слушая его оправданий, впрочем, достаточно вялых.
И снова я шла по улице в порту, одна, кутаясь в свое темное покрывало. Эти узкие портовые улочки, эти люди, толкущиеся на них, уже начали раздражать меня. Мне хотелось уйти подальше от этих мест. Это был большой город. Я шла быстро. Солнце начало припекать. Мне захотелось есть. Здесь теснились прилавки и лавчонки. Мешались теплые душистые запахи свежеиспеченного хлеба и аромат фруктов — с влажным дыханием овощей, с терпкой вонью мяса, козьего сыра. В темноте лавчонок внезапно вспыхивали пленительные отсветы шелка, горячим светом полыхал благородный блеск золотых украшений. Стоял ровный гомон зазываний, обычный шум торговли.
Быстрым шагом я несколько раз обошла рынок. Я внимательно наблюдала. В сущности, я искала возможность незаметно взять с какого-нибудь прилавка хлебец, яблоко или орех. Улучив момент, я осуществила свой замысел. И, спрятав добычу под покрывалом, свернула в переулок. Мне было стыдно красть, но я утешила себя тем, что взяла совсем немного — два хлебца, яблоко и горсть гороха.
Переулок вывел меня на небольшую круглую площадь. Посредине площади был установлен фонтан. Я не стала разглядывать его внимательно, заметила только, что он, должно быть, очень старой работы, и что вода не взмывает вверх светлой струей, а застыла зеленоватой жидкостной массой внизу.
Я присела у фонтана и позавтракала. Разумеется, после такой насыщенной переживаниями ночи все мне показалось превкусным — и хлебцы, и яблоко, и горох!
Никто не обращал на меня внимания. Городские улицы и площади я уже начала воспринимать, как некий лабиринт, по которому я кружусь бесплодно и утомительно. Я решила идти за город. Никакой определенной цели у меня не было. Я просто делала то, что мне хотелось делать.
Я шла по дороге, мощенной большими каменными плитами. Должно быть, эту дорогу замостили в стародавние времена. Плиты выглядели совсем древними. Вдоль дороги росли оливковые деревья. Потом я увидела виноградник. Среди зеленых узорных листьев красовались черные гроздья. Я увидела девушек, они собирали виноград. Я подошла к ним и спросила, куда ведет эта дорога. Но названия, которые я услышала, ничего мне не говорили. Одна из девушек сказала, что я очень красива и угостила меня виноградом. Мне понравилась эта простодушная похвала. Я откинула покрывало и принялась ощипывать большую гроздь, поданную мне девушкой. Солнце осветило мои волосы. Раздались новые похвалы моей красоте. Я спросила девушек, не могу ли я помочь им. Они охотно согласились. Мне дали плетенку и я стала собирать виноград. Потом поела вместе с девушками. Можно было сказать, что эта еда была моим заработком. И мне было приятно, что я смогла что-то заработать честным трудом.
Я попросила девушку, которая первая восхитилась мной, обменяться со мной платьем. Я сказала, что мне это нужно, что я иду издалека и хочу быть одетой, как местные жительницы. Девушка удовлетворилась этими нехитрыми объяснениями. Я говорила с ней свободно. Оказалось, я не забыла язык, который мне довелось слышать в детстве. Девушка повела меня в деревню. В маленьком беленом доме, увитом плющом, она взяла мое платье и дала мне свое. Мое платье показалось ей дорогим, хотя среди платьев, которые я носила в доме госпожи Мюннере, это могло считаться самым скромным. Славная девушка увязала мне в узел сыра, хлеба, яблок и заплела волосы в две косы, так заплетали все здешние девушки. Я поблагодарила ее. Она вывела меня на дорогу и я пошла дальше.
Мысль о том, чтобы жить своим трудом, занимала меня все сильнее. Я вспомнила, что в детстве, странствуя с голубоглазым стариком, я научилась стирать одежду, а в доме госпожи Мюннере овладела искусством вышивания. Может быть, я смогу зарабатывать себе на хлеб…
Было тепло. Идти мне нравилось. Просто идти вперед, без всякой цели. Я не думала ни о том, что произошло ночью, ни о Реджебе. То все было из другой какой-то жизни и как будто и не имело никакого отношения ко мне, к девушке в голубом платье, с узелком в руке, с двумя длинными косами…
Изредка мимо меня проезжали повозки, груженые виноградом. Возницы пошучивали со мной безобидно. Я шла с открытым лицом, перекинув через руку свое темное покрывало.
Вечерело. Девушки и молодые женщины с песнями потянулись из виноградников. Я задумалась о ночевке. Хотела было попроситься ночевать в какой-нибудь деревенский дом, но после решила, что лягу спать на воздухе.
Я свернула с дороги в рощу. Села у ручья, перекусила. Постелила на траву свое покрывало, завернулась в него и вскоре крепко уснула.
Несколько раз просыпалась ночью, открывала глаза и видела высоко, среди слабо колышущейся древесной листвы, яркие звезды в темном небе. Ночные шорохи не пугали меня; а рано утром разбудило меня громкое пение птиц.
Так я пришла в тот самый городок, где после встретилась с Грегорио.
Я увидела придорожный трактир, и он показался мне чистым. Переговорила с хозяином и его женой, и они взяли меня на кухню — мыть посуду. Может показаться странным, что я, молодая женщина, уже успевшая немало испытать, повидавшая грязные комнаты портовых притонов, придавала такое значение порядочности, чистоте, опрятности. Но я не нахожу в этом ничего удивительного, по натуре я вовсе не обитательница узких улочек и подозрительных каморок.
Хозяйка отвела мне небольшую комнату, где жила еще одна служанка, немолодая, но пытавшаяся казаться еще достаточно молодой. Одно обстоятельство порадовало меня — и хозяева трактира, и слуги, и служанки относились ко мне почтительно. И ведь это странно — почтительное отношение к бедной одинокой девушке. Была ли тому причиной моя красота? Думаю, что нет. На свете немало красавиц, которых мучат грубостью. Просто мне хотелось, чтобы со мной обращались почтительно. У меня было такое желание. Разумеется, вы можете сказать, что у каждого из нас множество желаний, на которые ни малейшего внимания не обращают окружающие. Но я уверена, что существуют желания, настолько захватывающие твою душу, что и окружающие тебя люди невольно повинуются этим твоим желаниям. К сожалению, мы над своими желаниями не властны, оттого многие из них не исполняются вовсе, а иные исполняются совсем не так, как нам бы хотелось.
Я работала с удовольствием, мыла тарелки, чистила медную посуду. Было приятно видеть вокруг чистоту, созданную собственными руками.
Однажды хозяйка позвала меня — принести чистые тарелки. В комнате за столом сидел молодой человек. Это был Грегорио. Первое чувство, которое я испытала к нему, было — досада. Я подумала — вот юноша, уже готовый влюбиться в меня, а я никогда не полюблю его, он примет вид мученика, а я невольно буду чувствовать себя виновной.
Но если я за что и люблю жизнь, так это за то, что не успеешь облечь ее уроки в некие твердые заповеди, как она сама уже спешит их опровергнуть, именно это в жизни и прелестно!
Бережное внимание, которым окружил меня Грегорио, искренность этого юноши — постепенно покорили меня. Я почувствовала себя любимой человеком, к которому и сама неравнодушна. Я приняла предложение Грегорио переселиться к нему. Так, впервые я сделалась хозяйкой дома. Теперь я могла убирать комнаты по собственному вкусу, заказывать кушанье. Но самое чудесное — это исполнять желания человека, любящего тебя!
Многое из того, о чем я сейчас вам поведала, Грегорио уже знает!
Глава 15
Романо, молодой начальник стражи, получал явное удовольствие, ведя рассказ от имени прекрасной Кларинды, воспроизводя ее интонации, сам строй ее милой речи! Вот он вздохнул, поудобнее устроился на соломе рядом с Жигмонтом и продолжил.
— Кларинда замолчала. Отец не торопился говорить. А я, мальчик, услышал столько нового в тот вечер, что еще должен был осмыслить все это.
Мы сидели молча, глядя на темную садовую зелень.
Наконец отец заговорил, он обратился к старшему брату.
— Что ты скажешь, Грегорио?
Грегорио поднялся, в волнении сжал пальцы и ответил следующим образом:
— Отец! Я уверен, что то, что ты сейчас услышал, показалось тебе по меньшей мере странным! Я даже не удивлюсь, если узнаю, что многое в рассказе Кларинды возмутило тебя! Но мне кажется, что я понимаю эту удивительную девушку лучше, чем кто бы то ни было! И это потому, что я люблю ее! Когда любишь человека, тогда не испытываешь желания наставлять, исправлять его, нет, тогда просто понимаешь мотивы его поступков, жалеешь его, пытаешься помочь ему! В сущности, Кларинда очень беззащитна и чиста! Она похожа на оба своих имени — «Кларинда» — «светлая» и «Седеф» — «перламутр». В ней есть какая-то извечная свободность ребенка! Я не могу назвать ее женщиной, в ней сильно какое-то странное ощущение девственности — цветение, чистота, радуга надежд!
Отец с явным удовольствием слушал старшего сына.
Кларинда вздрогнула, когда Грегорио сказал о двух ее именах. А когда он заговорил о девственности, она нежно засмеялась и очаровательным движением взяла его руки в свои.
— Ах, Грегорио, милый, по твоим словам выходит, что я всего лишь — несчастная старая дева, весь свой век живущая несбыточными надеждами! Что ж, возможно, ты и прав! — она посерьезнела.
Грегорио порывисто прижал к губам своим ее ладони.
— Я не знал прежде, что у меня такой умный старший сын, — тихо проговорил отец. — Признаюсь, я почитал моего Грегорио неудачником. Или это любовь так умудрила тебя, Грегорио?
— Любовь, — произнесла Кларинда, — явилась всего лишь ключом, мессир Джакомо, ключом, отворившим сокровищницу, в которой хранились тонкий ум и нежные чувства вашего сына!
Грегорио склонил голову.
— За чем же дело стало! — воскликнул отец. — Надо готовиться к свадьбе! Мы удивим весь город! Пусть увидят, какая невестка у лекаря Джакомо! Какому королю, какому герцогу доставалась подобная супруга!
Грегорио и Кларинда смущенно молчали.
— Что же вы? Грегорио! — отец недоумевал.
— Мне трудно говорить об этом, — начал Грегорио. — Если я просто скажу, что Кларинда не хочет быть моей женой, ты подумаешь, будто можно уговорами добиться ее согласия. Но я давно уже понял, что это не так. Она желает быть свободной! Ведь ее любовь и меня сделала свободным, как бы высвободив мою подлинную природу!
— Ну, поступайте, как знаете! — отец насупился.
— Дорогой мессир Джакомо! — Кларинда встала перед ним. — Грегорио знает, узнайте и вы! Я не могу стать его женой, потому что люблю другого человека! Я люблю его и предчувствую — когда-нибудь мы соединимся и не разочаруемся друг в друге! Я откровенна с вами! Мне больно, что он не может насладиться моим юным расцветом! Я не понимаю, почему судьба наша такова, но она именно такова! Простите меня!
Я подумал об этом таинственном Реджебе, которого любит такая удивительная девушка, и позавидовал ему!
Отец развел руками.
— Кларинда — это Кларинда! Она — единственная! — Грегорио улыбнулся грустно.
От меня не укрылось то, как вздрогнула Кларинда при слове «единственная».
Глава 16
Итак, мой брат и прекрасная Кларинда решили остаться в усадьбе. Отец объехал нескольких соседей, сельских дворян и вскоре распространилась весть о том, что Грегорио женат на девушке благородного происхождения, которая после смерти родителей вынуждена была пойти в услужение. Но насколько Грегорио превосходит ее богатством, настолько она превосходит его знатностью. А по характеру они схожи, оба немного нелюдимы, потому и предпочли жить замкнуто. Так говорил соседям мой отец. Уж не знаю, насколько они ему поверили, но брата и Кларинду оставили в покое.
Я не переставал думать о Кларинде. Часто я пытался представить себе ее приключения. Более того, я полюбил бродить в порту и все засматривался на корабли, прибывающие с Востока. А вдруг на одном из этих кораблей приплывет Реджеб? Когда отец случайно узнавал о моих прогулках, мне от него доставалось на орехи, он считал портовые улочки самым неподходящим для меня местом, и в общем-то был прав! Может показаться странным — неужели я хотел, чтобы Грегорио и Кларинда разлучились? Разумеется, нет! Просто Грегорио для меня был обычным человеком, а Кларинда и ее таинственный Реджеб являлись в моем воображении какими-то сказочными героями, которым суждено воссоединиться после долгой разлуки!
Однажды Кларинда в сопровождении Грегорио посетила наш городской дом. Они провели у нас целый день. Помню, что со мной она беседовала о конях и оружии; оказывается, она и в этом знала толк! Ее заинтересовало приготовление лекарств, и отец с удовольствием показал ей свой кабинет и лабораторию. Вдвоем с матерью она распорядилась приготовлением обеда, и кушанья в тот день отличались необычайно тонким вкусом.
Когда Грегорио и Кларинда уехали, мать в задумчивости сказала:
— Не знаю, радоваться мне за моего старшего сына или пожалеть его…
— За что же его надо жалеть? — удивился я.
— Пожалеть его можно, потому что эта красавица едва ли долго пробудет с ним, и какова-то будет его дальнейшая жизнь… Но все-таки я рада за него, ведь он счастлив, и думаю, мало кому выпадало такое счастье — соединить свою судьбу с судьбой удивительной и странной девушки; она, как волшебная птица! Но когда она покинет моего сына, не помешает ли ему память о ней жить дальше? Нет, милый Романо, для тебя я не хочу подобной судьбы!
А я подумал о том, что никогда прежде моя мать не говорила так красиво! И в этом я увидел влияние, воздействие Кларинды! Человек, очарованный ею, обнаруживал черты благородства, совершал неожиданно для самого себя странные поступки. Такова была она, наша Кларинда! Я искренне гордился ею и считал себя близким ей человеком, ведь ее любил мой брат!
Прошло какое-то время. Однажды отец вернулся домой огорченным и встревоженным.
— Сегодня в городе два случая лихорадки! У обоих больных тело покрыто пятнами, темными и горячими. Боюсь, не чума ли это?
— Должно быть, это какая-то чужеземная болезнь, — сказала мать. — Не проводили ли заболевшие много времени в порту?
— Ты права! Оба — купцы и то и дело ездят в порт за товаром!
— Ты и в самом деле полагаешь, что это чума? — мать испугалась.
— Полной уверенности у меня нет! Пока что обоих трясет лихорадка, пульс учащенный, сильный жар.
— И что ты сделал? — спросил я.
— Пустил кровь, — ответил отец. — Сейчас приготовлю микстуру и буду их поить.
— Дай бог, чтобы они поправились! — искренне пожелала мать.
В тот вечер я скоро позабыл об этом разговоре. На следующий день отец рано ушел из дома. Возвратился он позднее обычного. Позвал мать к себе в кабинет и запер дверь. Конечно, я знал, что подслушивать дурно, но подкрался к запертой двери и припал ухом к замочной скважине.
— Дело плохо! — говорил отец. — Один из тех двоих умер! Второму хуже! Первый умер, как мне кажется, от сильного поноса, который вызвал необычайную слабость. К моменту смерти темные пятна сошли, жар спал.
— Но, может быть, это случайная смерть? — предположила мать.
— Не думаю! В доме умершего, похоже, тоже не думают так!
— Но второй еще может поправиться!
Отец ничего не ответил.
Поздно ночью меня разбудил громкий стук в дверь. Я выбежал из своей комнаты, полуодетый. Встревоженная мать провожала отца. Чьи-то чужие слуги торопили его. Оказалось, жена одного из купцов, заболевших странной болезнью, тоже чувствовала себя плохо. Послали за моим отцом.
Мы с матерью не ложились, ждали его.
Отец воротился лишь под утро. Он был мрачен и встревожен более обычного.
— Умер второй больной. Его жена больна той же болезнью. Заразилась и служанка, — коротко бросил он матери и быстро прошел в лабораторию — готовить лекарство.
Глава 17
Через несколько дней стало ясно — город охвачен эпидемией. Заразная болезнь со смертельным исходом косила людей.
По настоянию матери наш старый слуга отвез меня в усадьбу, где жили Грегорио и Кларинда. В письме к ним мать писала об эпидемии, охватившей город, просила приютить меня и объясняла, что сама не приедет, поскольку не хочет оставлять отца. Прочитав это письмо, Кларинда и Грегорио немедленно отправились в город. Они отказались взять меня с собой, несмотря на все мои просьбы, и приказали слугам хорошенько присматривать за мной, чтобы я не сбежал в город.
В городе Кларинда и Грегорио тотчас взялись самоотверженно помогать отцу. Они вместе с отцом готовили лекарства, посещали больных, ухаживали за ними.
Особенно отличалась Кларинда. Она проявила удивительные способности и легко овладела многими тайнами лекарского ремесла. После мне рассказали, как выглядел наш город в те страшные дни. В порту горели костры. Черные столбы дыма поднимались к небу. Это значило, что город охвачен болезнью. Корабли не смели заходить в порт. Опустела рыночная площадь. Люди бежали из города, опасаясь заразы. В обезлюдевшие дома забирались шайки грабителей. Могильщики в черных балахонах с капюшонами подбирали на улицах трупы, сваливали в повозки и увозили на кладбище, где хоронили в общих могилах — огромных ямах, залитых известью.
Страшная болезнь не пощадила и нашего дома. В живых осталась лишь старая служанка да слуга, вместе со мной уехавший в усадьбу.
Когда я вернулся в город и вошел в дом, навстречу мне вышла Кларинда. Я обрадовался. Она одна не изменилась, осталась все такой же красивой и милой. Она не выглядела усталой или изможденной, но лицо ее было серьезным. Дом показался мне непривычно пустым. Кларинда спокойно взяла меня за руку и повела в комнаты. Мы с ней обошли дом. Не было ни прежних слуг и служанок, ни отца и матери, Грегорио я тоже не видел. Кларинда накрыла на стол. Мне было приятно обедать вдвоем с ней. Чувствуя себя взрослее, чем на самом деле, я немного робел. Когда мы поели и служанка убрала со стола, Кларинда немного посидела молча, затем спокойно сказала:
— Романо, отца и матери больше нет. Ты и Грегорио, вы остались одни. Будь внимателен к брату.
Кажется, она больше ничего не сказала, но у меня было ощущение, будто она произнесла длинную разумную речь. Когда я узнал о смерти отца и матери, мне захотелось плакать, но серьезность и спокойствие Кларинды не дали мне заплакать. Она говорила просто, не утешала меня, но почему-то слезы вдруг показались мне чем-то неестественным. Я печалился тихо. Я поднялся из-за стола и сказал Кларинде:
— Я должен побыть один.
Она кивнула.
Я долго сидел в своей комнате, вспоминал родителей, думал о брате, о том, как сложится моя жизнь. Меня больно кольнуло то, что Кларинда не упомянула о себе. Она сказала «ты и Грегорио». А разве она не с нами?
Из своей комнаты я слышал, как брат спросил Кларинду:
— Ты сказала ему?
— Да.
— Как он принял?
— Как сильный человек.
— Что бы я делал без тебя!
Они прошли в другую комнату и я не знаю, о чем они говорили дальше. Я немного гордился собой, Ведь Кларинда назвала меня сильным человеком! Эта гордость отвлекала меня от тоски по родителям.
После я узнал, что и отец и мать заразились, помогая больным, которых лечил отец. Мои родители скончались на руках у Грегорио и Кларинды, которые не оставляли их до самого последнего их вздоха. Кларинда и Грегорио похоронили отца и мать честь-честью, в нашем семейном склепе.
Эти тяжелые дни очень изменили брата. Грегорио похудел и снова стал выглядеть мрачным и нелюдимым. Но если прежняя его нелюдимость была нелюдимостью замкнутого юноши, то теперь это был мужчина, много переживший и явно чем-то обеспокоенный.
Но причина его беспокойства недолго оставалась для меня тайной. Кларинда!
Она по-прежнему оставалась спокойной и серьезной, вела хозяйство, заботилась о нас, но я все время ощущал, что душой она отдалилась от нас, что она не с нами.
Как-то раз во время обеда Грегорио обратился к ней:
— Может быть, нам всем вернуться в деревню?
— Думаю, этого делать не следует. Ты должен позаботиться о том, чтобы Романо получил образование.
— Да у него только оружие и кони на уме, — невесело усмехнулся мой брат. — Этому молодцу одна дорога — в солдаты!
Я шумно прихлебнул суп.
Кларинда склонила голову над тарелкой.
Грегорио поднялся со стула.
— Кларинда, скажи, что я должен делать?
— Ничего не нужно.
— Но я не могу так! Это невыносимо! Дай мне слово…
— Это невозможно! — перебила она.
Грегорио с шумом отбросил стул и вышел из комнаты.
Глава 18
В доме у нас после смерти родителей оставалось всего двое старых слуг — слуга и служанка. Никому из нас не хотелось, чтобы новые слуги распоряжались мебелью, предметами домашней утвари, всем тем, к чему прикасались руки отца и матери, руки умерших слуг. В доме было мало людей, поэтому казалось, что в комнатах пусто, просторно.
В тот день я ушел рано, долго бродил по улицам, заглянул к знакомому оружейнику. Город постепенно принимал свой обычный вид. Открылись лавки, зашумел рынок, оживился порт, нарядные дамы и кавалеры появились у окон старинных дворцов.
Когда я вернулся домой к обеду, мне почудилось, будто произошло нечто ужасное. Все оставалось по-прежнему, но от всего веяло запустением. Старая служанка подала еду. Она была чем-то расстроена, украдкой смахивала слезы. Я подумал, что брат и Кларинда все-таки уехали в деревню. Но почему так внезапно? Почему без меня? Хотя, впрочем, понятно — Грегорио решил, что в усадьбе они скорее помирятся, вот и увез Кларинду. И, конечно, ему легче объясняться с Клариндой наедине, без меня! Поэтому я не особенно тревожился, только спросил служанку:
— Они уехали? — имея в виду Грегорио и Кларинду.
— Твой брат у себя в комнате, — ответила бедная старуха. Слезы градом покатились по ее лицу.
Я испугался.
— Где Кларинда? Она жива?
— Кто знает! — старая служанка громко расплакалась.
Я бросился к брату.
Он лежал на своей постели неподвижно, уткнувшись лицом в подушку. Правая рука была откинута, пальцы судорожно сжались. Вся его поза выражала глубокое отчаяние.
— Грегорио! — крикнул я. — Грегорио!
Я подбежал к брату и тряс его за плечо.
— Встань! Встань! Надо найти Кларинду! Ты не знаешь! Может быть, она в опасности!
Грегорио поднял голову.
— Оставь меня! Она сказала мне, что скоро уйдет, но не сказала когда, потому что боялась, что я не выдержу и буду следить, стану искать ее! Она ушла сегодня, тайком! В опасности она или нет, я уже не существую для нее! Все кончено.
Я вернулся к себе и задумался. Кларинда ушла. Куда и зачем? Или вернее спросить — к кому? Я быстро взрослел и уже многое понимал. Быть может, она наконец-то встретила своего Реджеба? Нет! Тогда она не стала бы уходить тайком, она привела бы своего возлюбленного к нам в дом и, простившись с моим братом, ушла бы открыто. Что же случилось? Какая-то новая встреча? Это показалось мне наиболее вероятным.
После ухода Кларинды Грегорио сначала был в отчаянии, целыми днями лежал ничком на постели, отказывался от еды. Но однажды поднялся, вялый и равнодушный, вышел, зевая, к завтраку. С тех пор он, казалось, успокоился. Ел, пил, много спал. Прогуливался у моря, на пустынном каменистом берегу. В деревню он не возвращался. Он, как и я, конечно, чувствовал, что Кларинда где-то здесь, в городе, и надежда снова увидеть ее, должно быть, не покидала моего бедного брата. Мною он совсем не занимался. Знакомый оружейник учил меня владению мечом, кроме того я стал брать уроки верховой езды. Мы с братом не испытывали недостатка в средствах, ведь после отца нам досталось значительное состояние.
Я удивлялся тому, как быстро перестали сплетничать о Кларинде. Ее забыли. Но у меня было такое ощущение, словно какая-то неведомая сила заставила горожан забыть об этой странной девушке.
Вскоре брата попытались сватать. Зная, что он богат, многие стремились породниться с ним. Но он отказывал грубо, и постепенно его оставили в покое. Мы вели замкнутую одинокую жизнь, в гости никого не приглашали да и сами не бывали в гостях.
Но однажды в столовой я застал гостя. Это оказался молодой торговец, живший, как после оказалось, по соседству с нами. Он изготовлял красивые деревянные цепочки. Наша старая служанка давно хотела иметь такую цепочку, она собиралась подарить это недорогое, но изящное украшение своей племяннице. Когда старуха разглядывала товар, случайно пришел на кухню Грегорио. Из праздного любопытства он принялся разглядывать цепочки, стал расспрашивать, как они делаются. Торговец отвечал охотно и разумно. Брат мой нашел, что говорить с ним приятно и занятно, и пригласил его на следующий день к обеду. Торговца этого звали Дзало. По годам он приходился ровесником моему брату. Ничего примечательного в наружности Дзало я не находил, разве что волосы у него были рыжие. Дзало был женат. Жену его звали Сандра, она слыла недурной пряхой, ей часто заказывали спрясть шерсть на платье и она с такой работой хорошо справлялась. Был у них и маленький сын, лет четырех. Жили они, конечно, довольно бедно.
Вот с этим Дзало мой брат и свел знакомство. Дзало стал часто бывать у нас. Оказался он сметливым, умел болтать легко и весело. Я понимал, почему брату нравится общество этого человека. Легкая веселая болтовня отвлекала Грегорио от печальных мыслей о Кларинде. Что же касается Дзало, то ему, конечно, было выгодно бывать у нас. Он сытно обедал, Грегорио дарил ему одежду со своего плеча. Я относился к Дзало равнодушно.
В один теплый майский летний день Грегорио с Дзало только что отобедали и сидели за столом, запивая яблоки прохладным вином.
— Отличное вино! — Дзало отпил очередной глоток.
— Это с наших виноградников! — ответил брат.
И вдруг Дзало предложил пойти поудить рыбу.
Как я уже сказал, я мало обращал внимания на Дзало, и уж конечно не вникал в его интонации! Но позднее, когда я вспоминал тот день, мне казалось, что голос Дзало звучал как-то ненатурально.
— А ты, Романо, не хочешь пойти с нами? — спросил брат.
Я уже встал из-за стола и, остановившись у окна, раздумывал, чем бы заняться. Я понимал, что брат приглашает меня просто так, опасаясь, как бы я не почувствовал себя совсем заброшенным и одиноким. Но мне не хотелось удить рыбу.
— Да нет, — протянул я, по-прежнему стоя спиной к столу.
— Чем это ты любуешься? — поинтересовался Грегорио.
Он и Дзало подошли ко мне.
За окном во дворе кошка подкрадывалась к воробью.
Едва увидев это, Дзало отвернулся с какой-то странной поспешностью.
Не помню, чем я занимался в тот день после обеда, но Грегорио и Дзало пошли к морю. Я еще расслышал, как Дзало оживленно рассказывал моему брату о каком-то удилище, которое недавно смастерил.
Но вот голоса смолкли. Солнце стояло еще высоко. В доме воцарилась дремотная тишина. Даже кошка задремала, пригревшись на солнце.
Глава 19
Помню, что к ужину Грегорио не вышел. Это немного насторожило меня.
— Где брат? — спросил я служанку.
— Он у Сандры, у жены Дзало. Да нет, теперь уж у вдовы! Бедная! Такая еще молоденькая!
— Что случилось?
Оказалось, что поудив немного без особого успеха, Дзало и брат надумали купаться. Решили состязаться, кто глубже нырнет. Завершилось это весьма плачевно — Дзало ударился головой о подводный камень, потерял сознание и захлебнулся. Грегорио поспешно вытащил его из воды, пытался привести в чувство, но все усилия оказались тщетны. Дзало был мертв. На этом пустынном берегу никого не оказалось, некого было позвать на помощь. Мой брат на спине снес Дзало подальше, вниз по берегу, туда, где сидело еще несколько удильщиков. Позвали рыбаков с окраинных улиц. Грегорио заплатил им за то, чтобы они доставили Дзало домой. Молодая вдова подняла крик. Грегорио пообещал устроить похороны Дзало и помочь Сандре, его вдове.
Следующие дни прошли несколько странно. Я почти не видел брата. С утра он отправлялся в церковь, к утренней службе. Не одну мессу заказал он за упокой души несчастного своего приятеля. Он сделал церкви богатые пожертвования. Он послал деньги вдове усопшего. Завтракал, обедал и ужинал Грегорио в своей комнате. Все это мне казалось прихотью. Даже после смерти родителей, даже когда нас покинула Кларинда, такого не было!
Постепенно, впрочем, брат приходил в себя. Однако к прежнему образу жизни не вернулся. Я с удивлением узнал о том, что он, щедро вознаградив за верную многолетнюю службу, отпустил наших старых слуг — слугу и служанку. Он нанял новых слуг. Затем пригласил обойщика и мебельщика, совещался с ними о новой отделке комнат. Никто из соседей не удивлялся такому поведению. Все сочли, что внезапная гибель приятеля явилась для Грегорио потрясением, разом изменившим его образ жизни.
Я заметил, что брат избегает меня. Порою он казался мне совершенно чужим, сторонним человеком. Я не мог объяснить себе, откуда взялось это ощущение. Я видел брата и чувствовал, что это чужой человек, что он не знал наших родителей, что он никогда не любил Кларинду!
Слуги и соседи начали сплетничать о том, что брат зачастил к Сандре, молодой вдове Дзало. В конце концов и в этом ничего удивительного не заключалось. Если Грегорио мог подружиться с Дзало, почему он не может влюбиться в Сандру, тем более, что женщина, наверняка, сама всячески соблазняет его. И все же… все же… Все жесты, все движения брата оставались его движениями, но когда я смотрел на него, у меня возникало ощущение пугающей какой-то механичности, словно в теле моего брата со всеми его жестами и движениями, столь знакомыми мне, отныне была заключена чья-то чужая душа!
Наконец в церкви состоялось оглашение. Грегорио решил вступить с вдовой Дзало в законный брак!
Я не знал, что делать! Может быть, просто покинуть родной дом? Но нет! Я хочу знать, что за существо поселилось в наших комнатах под видом моего старшего брата! Но доказать я ничего не мог!
В те дни я особенно много думал о Кларинде. В памяти воскресли разные мелочи, имевшие отношение к ней. Я вспомнил, как впервые увидел ее, как впервые услышал о ней.
Я снова видел себя мальчиком, видел слуг, собравшихся во дворе придорожного трактира, слышал, как они перемывают косточки Кларинде.
Я многое вспомнил. Я вспомнил, как слуга говорил, что в порту Кларинду разыскивал какой-то голубоглазый старик. Несомненно тот самый старик, что когда-то увез ее из замка. Кларинда рассказывала, что он каким-то образом помог ее отцу. В замок привезли мертвое тело ее отца, а потом почему-то все узнали в мертвеце другого человека, того любовника ее мачехи, а отец Кларинды оказался жив! И еще — слуга говорил о горбуне, которого Кларинда пронзила кинжалом. Уже после его смерти в комнату вошел его двойник…
Мне пришло в голову, что этот таинственный голубоглазый старик и сейчас здесь, что именно он похитил Кларинду и держит ее в плену! Как найти их? Как освободить Кларинду? Я бродил по городу, дневал и ночевал в порту, но не обнаружил ничего! Кларинда исчезла бесследно!
Глава 20
День свадьбы Грегорио и Сандры близился. В городе заговорили об этом. Наш дом был заново отделан. Бедные родные Сандры получили богатые подарки. Шили дорогое подвенечное платье. Грегорио вынул из шкатулки драгоценности нашей покойной матери. У меня защемило сердце! Но что я мог сделать? Потребовать, чтобы он не трогал драгоценностей? Это навлекло бы на меня подозрения! А я вовсе не хотел, чтобы это существо подозревало меня. А если бы я сказал, что драгоценности покойной матери принадлежат, как, впрочем, и все остальное, не только ему, но и мне, он затаил бы злобу и попытался бы уничтожить меня. Но ведь, так или иначе, я стоял у него на пути! Рано или поздно он захотел бы избавиться от меня! Я снова и снова все обдумывал… И не мог ничего придумать!
Надо сказать, что эту свадьбу в городе запомнили надолго!
С утра в кухне закипела работа. Новая кухарка распоряжалась служанками. Жарили, варили, пекли. Комнаты богато убрали. Нарядные жених и невеста в сопровождении гостей и родных Сандры отправились в церковь. Я шел вместе со всеми. Внутри церкви, да и снаружи собралось много народа. Перешептывались о том, что Грегорио собирается усыновить сына Сандры и Дзало и сделать его своим наследником!
— Покойный мессир Джакомо был добрый человек! Он даже завещания не успел составить! Не подумал, видно, о том, что не век его сыновья будут в дружбе! А теперь старший обездолил младшего!
— И все из-за этой вдовы! И откуда только берутся такие бесстыжие бабы!
Мне больно было слышать все это! Я уверен был — на моего старшего брата возводят напраслину! Но как доказать его невиновность?
Жених и невеста остановились у алтаря. Священник начал читать молитву.
И вдруг…
Я до сих пор со страхом вспоминаю то, что произошло.
Тело Грегорио судорожно изогнулось. Он как-то странно взмахнул руками. Резко опустился на корточки, уткнул голову в колени.
Невеста растерялась.
— Худо! Жениху худо! — пронеслось по церкви.
Грегорио внезапно упал на пол, плашмя, всем своим согнувшимся туловищем. Теперь голова его ткнулась лицом в пол.
Несколько человек, из числа родственников Сандры, бросились к нему. Но тотчас церковь огласилась возгласами страха и изумления. Изумлен был и я.
На наших глазах странная вычурная поза человека, скорчившегося на полу, преобразилась в естественную позу сидящей собаки. Вот только что это был человек, ему явно было больно, и вдруг на нас черными поблескивающими глазками глядела черная кудлатая собака. Она глядела прямо, затем приоткрыла пасть и слабо взвизгнула.
Невеста упала без чувств.
Собака залаяла заливисто и звонко, подбежала ко мне и тыкалась носом, потом вцепилась зубами в полу плаща и потянула меня вперед. Я перестал бояться и последовал за ней. Она отпустила меня и бежала, громко лая. За ней побежал я, за мной — еще люди.
Помню, как мы легко сбежали вниз по гористой улочке. Пересекли пустырь. Я увидел надгробия. Это было кладбище. Собака остановилась у могилы Дзало и залаяла настойчиво и злобно.
Все стояли вокруг, не зная, что делать. Наконец я понял.
— Надо разрыть могилу! — закричал я.
Удивительно, но никто ни слова не сказал о святотатстве. Уже нашли лопаты. Полетели в разные стороны земляные комья. Собака притихла и нервно виляла хвостом.
Мы спрыгнули в яму вдвоем — я и еще какой-то человек.
— Поднимайте гроб!
— Поднимайте!
Гроб укрепили на веревках и подняли. Открыли. Лицо, уже тронутое тлением, можно было узнать. Грегорио! Грегорио в могиле Дзало!
— Наш склеп! Теперь вскроем склеп! — я был очень возбужден.
И, конечно, в склепе мы обнаружили труп Дзало.
Я оглянулся, отыскивая собаку. Ее не было! Тут я ощутил всю странность, весь ужас происходящего. На меня накатила дурнота, меня отвели домой.
Когда я пришел в себя, моя комната была ярко освещена теплыми лучами полуденного солнца. Но мне почудилось, что есть и еще один источник света. У моей постели на высоком резном стуле сидела печальная и серьезная Кларинда. На миг возникло ощущение, будто все происшедшее — смерть родителей, гибель брата, ужасные превращения — было всего лишь тяжелым сном. Но тотчас же я осознал, что не во сне все это пережито, а наяву. Но появлению Кларинды я обрадовался необычайно.
— Кларинда! — я протянул руки.
Она наклонилась и бережно уложила меня в постель.
— Во всем можно обвинить меня, — задумчиво произнесла Кларинда.
— Кто посмеет обвинить тебя?!
— Но я всему причиной! И я все расскажу тебе. Я облегчу душу. Ты умен и поймешь меня, — она коротко вздохнула. — Однажды во время эпидемии я, проходя мимо полуразрушенного дома, услышала слабые стоны. Я поспешила войти. Должно быть, ветхая постройка служила пристанищем бродяг. Несколько трупов, одетых в лохмотья, лежали неподвижно. Но один несчастный оказался жив. Он стонал и пытался приподняться. Я склонилась над ним. И узнала голубые глаза! Глубоко запавшие на старческом лице, они все же светились прежним светом. Голубоглазый старик! Тот, кто увез меня от отца! Тот, кто обещал научить меня какому-то странному знанию! Странно, но и он узнал меня! Во мне нынешней он узнал семилетнюю девочку! Он стонал, хватал меня за руку потной костистой рукой и шептал:
— Кларинда! Ты! Нашел!
Со мной была корзина, в которой еще оставались склянки с лекарством. Я дала старику лекарство, оставила ему свой теплый плащ, чтобы ночью ему не было холодно, и обещала вернуться на следующий день. Он едва выпустил мое запястье из своих цепких пальцев.
На следующий день я пришла к нему, накормила его, снова дала лекарство. Он начал поправляться. Теперь мы много говорили. Я узнала, чему же он собирался учить меня. И перед лицом этого необычайного знания та жизнь, которую я вела, показалась мне никчемной и пустой. Я поняла, что должна оставить Грегорио! Все оборачивалось против меня. Умерли ваши родители. Покидать возлюбленного в такое время, конечно, это был дурной поступок. Но я больше не могла! Грегорио спрашивал меня, что со мной, просил, делал какие-то предположения. Все это было мне докучно! Я ничего не хотела объяснять, не сказала Грегорио о своей встрече со стариком. Я хотела просто уйти! И я ушла. Не могу тебе сказать, где мы скрывались — старик и я. Я редко бывала в городе, среди людей. Но однажды на рынке услышала о будущей свадьбе Грегорио. Я решила взглянуть на невесту. Я увидела, как подходил к ее дому Грегорио! О боже! Я все поняла!
Вечером я прямо спросила старика:
— Вы владеете столь удивительным знанием, отчего же вы проявляете такую мелочность и злобность? Неужели вы боялись, что я оставлю вас и вернусь к несчастному Грегорио?
— Да, — сухо ответил он. — Боялся. И могу тебе сказать, почему боялся! Потому что ты сильна и свободна! Только такую тебя я могу учить! Но я не властен над тобой! Я легко могу потерять тебя!
— Вы употребили свое знание во зло! — сказала я.
— Но, в сущности, начало этому злу положила ты, когда покинула Грегорио!
На это я ничем не могла возразить!
— Старик — злой волшебник? — я подался вперед и не сводил глаз с этого милого печального лица нашей Кларинды.
— Нет, — ответила она. — Он владеет знанием. И даже можно сказать, что это простое знание, любой из нас, как мне кажется, мог бы овладеть этим знанием, если бы захотел. Самое трудное — научиться хотеть по-настоящему! Но, впрочем, я не могу много говорить об этом. Лучше расскажу тебе, как же все произошло.
Старик боялся потерять меня. Он не знает, что еще может со мной случиться, кого я встречу, — над всем этим он не властен. И вот он решил устранить Грегорио, человека, к которому я могла бы вернуться, если бы мне пришла в голову такая фантазия. Но старик вовсе не желал просто убивать Грегорио. Старик — художник, умеющий воплощать свои знания в живую жизнь утонченно и изящно. И вот что он сделал.
Когда Грегорио свел дружбу с этим Дзало, старик тоже познакомился с Дзало. Конечно, он явился в дом Дзало не в своем подлинном облике.
— Значит, он все-таки колдун? Он умеет превращаться в кого хочет?
— Нет, он не превращается. Просто его желания настолько сильны, что он может внушить другим все, что угодно! Вначале я думала, что человек, способный на такое, должен быть величайшим злодеем или, наоборот, отличаться невиданным благородством. Но это вовсе не так! По сути своей старик — очень заурядный человек, и желания его — обычные желания мелочного человека. Но почему мы думаем, будто знания и таланты обязательно делают людей великими? Прекрасный флейтист или удивительный рисовальщик могут оставаться во всем, что не касается их талантов и знаний, грубыми, злыми, мелочными. То, что старик проделал с Грегорио и Дзало, напоминало то, что он когда-то проделал с моим отцом и любовником моей мачехи. И вот ирония судьбы! Одно время старик часто появлялся в порту в облике того горбуна, о котором я, помнишь, рассказывала. Для него это было просто развлечением. В ту ночь, когда я убила горбуна, старик случайно пришел в его облике, ничего не зная об убийстве. Старик заметил меня. Последний раз он видел меня маленькой девочкой, но он узнал меня. Я быстро ушла и он искал меня, не мог найти.
Ты понимаешь, Романо, что такому человеку легко было явиться в любом обличье.
Каким он показался Дзало, я не знаю. Но Дзало доверился ему. Старик сказал, что ему нужна смерть Грегорио. Если Дзало убьет Грегорио, то примет его облик, унаследует его имущество, заново женится на своей жене и будет жить счастливо и безбедно. Дзало соблазнился подобной перспективой. Они решили, что лучше всего будет убить Грегорио в пустынном месте у моря. Дзало и Грегорио пришли на берег. Старик уже ждал, спрятавшись за каменной грядой. Но вышло все немного иначе, чем он полагал, то есть совсем иначе. Грегорио и Дзало принялись состязаться, кто глубже нырнет. Под водой Дзало схватил Грегорио за шею, пытаясь задушить его. Но Грегорио оказался сильнее, высвободился. Обоим уже не хватало воздуха. Обессиленные схваткой, они уже не имели сил выплыть. Оба захлебнулись.
Старик вытащил на берег два мертвых тела. Казалось бы, желание его было исполнено — перед ним лежал мертвый Грегорио. Но как я уже тебе сказала, Романо, старик — человек искусства! Постояв немного над мертвецами, он оттащил их за камни, чтобы не нашли раньше времени. Затем ушел и вскоре вернулся, подсвистывая кудлатую собаку. Он манил кудлатого пса тихим свистом и пес бежал за ним.
То было пустынное место и никто ничего не мог видеть. У воды лежали мертвые тела двух молодых людей. В сущности, на самом деле все осталось как было. Но старик пожелал — и люди стали видеть все иначе. Мертвый Грегорио принял обличие Дзало. Пес вначале принял облик Дзало, затем — Грегорио. А тело Дзало старик унес и тайком захоронил в вашем склепе. Но я, уже овладевшая немного знанием, ясно видела пса.
Старик уверил меня, что справедливость будет восстановлена. И вот во время свадьбы все узналось. А собака убежала куда-то, она ведь ни в чем не повинна!
— Кларинда, — начал я. — Этот старик — злой колдун, мучающий людей и животных. Он — существо извращенное, желания его подлы! Ты не должна оставаться с ним!
— Нет, Романо! Я останусь и овладею знанием! Я пришла к тебе только для того, чтобы ты узнал правду, ничего не боялся и не верил ни в какое колдовство! А теперь я уйду!
Я хотел было начать уговаривать ее, но вдруг понял, что этого делать не нужно.
— Хорошо, Кларинда, — тихо сказал я. — Не знаю, встретимся ли мы еще. Я буду думать о тебе. Буду помнить тебя. Поцелуй меня на прощанье!
Она наклонилась и поцеловала меня в губы!
Затем поднялась и ушла.
Я лежал молча. Не было отчаяния, не хотелось плакать. Сделалось какое-то странное состояние — какое-то молчаливое приятие жизни.
Кларинду я больше не встречал.
Глава 21
Что дальше рассказывать о себе? Я поступил, быть может, необдуманно, зато так, как мне хотелось. Распродал имущество, снарядил вооруженный отряд и, встав во главе его, служил в наемных войсках различных городов, враждовавших между собой. Это занятие было как раз по мне.
— Но где же ты, Романо, встретил меня? — спросил Жигмонт.
Ему явно нравилось лежать на соломе, закинув руки за голову, и слушать длинное повествование молодого начальника стражи.
— Встретил я вас в море. Корабль морских разбойников подплыл к тому кораблю, на котором я перевозил своих воинов. Разбойники пустили в ход крючья и уже прыгали на нашу палубу. В это время подошел еще один корабль и вступил в бой против разбойников. Вас я впервые увидел на капитанском мостике. И мне почудилось, будто я вас уже видел прежде. После я понял, откуда взялось это странное чувство. Похожим на вас я представлял себе таинственного возлюбленного Кларинды, Реджеба. Как жаль, что у вас другое имя! Но это и в самом деле ваше настоящее имя?
— У меня все имена настоящие!
Оба рассмеялись.
— Уже летели стрелы из арбалетов, сверкали мечи. Взметнулось пламя поджога и поплыл удушливый дым. И посреди всей этой кровавой суматохи стоял на возвышении веселый стройный человек, натягивал арбалет и стрелял без промаха! Вы были без доспехов, с непокрытой головой, развевались белые рукава рубахи и алела безрукавная куртка. До того, как я увидел вас, мне порою казалось, что этот прекрасный и таинственный возлюбленный существует лишь в воображении Кларинды. Но если существуете вы, значит, возможно и его существование!
— Думаю, ты был прав! И он существует лишь в воображении этой странной девушки.
— То есть она выдумала его?
— Ну-у… Вся наша жизнь — не более, чем столкновение различного рода выдумок!
— Вы отрицаете реальность?
— Что может быть реальнее выдумки! Вот ты сейчас рассказываешь обо мне, а я себя таким не вижу! Я вижу себя другим. Но кто из нас прав? Кто из нас двоих придумал меня?
— Вы рассуждаете интересно! Однако теперь я понял, почему вы не запомнили меня! Наверняка, в вашей бурной жизни было слишком много подобных случаев! Короче, вы заметили, что я отбиваюсь от нескольких разбойников с мечами. И вы уложили их несколькими меткими выстрелами! Бой завершился. Разбойники были побеждены. Я вскинул руки, выражая свое восхищение вами. Вы заметили меня. С какой-то покоряющей сердечностью и сдержанностью вы приложили ладонь к груди и склонили голову. Но вы, конечно, не можете этого помнить!
— Да, у меня скверная память! — Жигмонт улыбнулся.
— Но, скажите мне, быть может, во время ваших странствий вам приходилось встречать Реджеба?
— Если быть совершенно откровенным, то действительно приходилось.
— И вы молчите!
— Но мои впечатления отличаются от впечатлений Кларинды! Он не показался мне таким удивительным и прекрасным! Простите и не сердитесь! И ты и Кларинда, вы должны простить…
— Нет, нет, мне кажется, я понимаю вас. Вы сами относитесь к тому же типу, что и Реджеб. Не знаете ли вы, что с ним сталось?
— Не знаю точно. Слышал, будто он вернулся в свою страну. А чем завершилась твоя история, Романо?
— Не думаю, что она завершилась окончательно! Покамест, я вернулся в родной город, где застал очередной виток борьбы за престол. Во главе своего отряда я оказал определенные услуги нынешнему герцогу. Он сделал меня начальником городской стражи. Я удачно женат. Пока что, моя жажда жить прежней жизнью воина и одновременно желание спокойной жизни в семье, как бы обрели некоторое равновесие. Вот и все обо мне!
— Чудесная история! Ты великолепный рассказчик! Я забывал о том, что я в тюрьме, слушая тебя! Я слышал, как звучат голоса прекрасной Кларинды, твоего отца и брата, перед моими глазами наяву прошли картины жизни всех этих странных людей, о которых ты говорил!
— Это вы — странный человек! Я хочу освободить вас, вы не соглашаетесь!
— Потому что не хочу неприятностей для тебя! Впрочем, едва ли казнь за содействие побегу преступника можно назвать неприятностью!
— Ваше преступление, на мой взгляд, весьма обыденное. И кому придет в голову, что именно я содействовал вашему побегу?
— Боюсь, ты ошибаешься! Кому-то нужна моя смерть! И если я ускользну, то со всей вероятностью можно предполагать, что гнев обрушится на тебя. Ты окажешься весьма подходящим козлом отпущения! Ах, ты и сам — странный человек! Кажется, ты собирался подробно говорить о той нашей встрече на корабле, рассказать о своем плавании, но…
— Меня самого вновь увлекла история Кларинды! — Романо усмехнулся.
— В сущности, ты — странный человек!
— Пожалуй, в некоторой степени!
Глава 22
Жигмонт отказался от побега. Повернулся ключ в замке. Молодой начальник стражи ушел. Ему пришлось унести фонарь, камеру не полагалось освещать. Вскоре Жигмонт услышал шаркающие шаги у двери. Тюремщик! Но раздумывать о своей дальнейшей участи Жигмонту не хотелось. Через несколько минут его сморил крепкий сон.
Наутро тюремщик в сопровождении стражника принес Жигмонту хлеба и воды. Жигмонт уже успел проголодаться и охотно занялся этой скудной трапезой.
Тюремщик и стражник молча ждали, пока он кончит есть. Затем явился еще один стражник. Эти трое приказали Жигмонту следовать за ними. Впереди шел тюремщик, стражники не спускали глаз с узника.
Его привели в длинное с низким потолком помещение. Кирпичные стены казались темными и кровавыми в мрачном свете нескольких факелов. Жигмонт заметил козлы, наковальню, палача в кожаном фартуке.
«О, здесь пытают!»
Но он не стал сосредотачиваться на этой мысли, а подумал о том, что здесь жарко и душно. Вялые размышления о скучной духоте успокаивали его.
Допрос вел человек в черном. Другой человек в черной одежде, сидя за столом, записывал ответы Жигмонта.
Жигмонт сказал, откуда он родом; сказал, что едет далеко и решил по пути осмотреть этот старинный и красивый город.
— Почем вы убили… (было названо имя убитого Жигмонтом человека). Тело опознано. Как и вы, он чужестранец. Он находился на герцогской службе. Вы знали его прежде?
— Нет, не знал.
— Почему вы убили его?
— Он напал на меня! Возможно, он принял меня за кого-то другого!
— Что вы делали ночью у городских ворот?
— Днем, в трактире, служанка знатной дамы передала мне записку с просьбой прийти ночью на условленное место.
— Вы можете это доказать?
Жигмонт молчал, затем воскликнул:
— О да! Могу! — он вынул из-за пазухи крохотный сверток. — Записка написана на моем родном языке! Но ведь нет ничего удивительного в том, что в большом портовом городе нашлись люди, владеющие моим родным языком!
Жигмонт положил записку на стол.
Вдруг он вспомнил, что ведь записку велено было сжечь. Он не решился это сделать. Служанка смотрела на него как-то странно. Может быть, все же записку следовало сжечь?! Но теперь поздно думать об этом!
— Да, — значительно произнес человек в черном. — Люди, владеющие вашим родным языком, в этом городе найдутся!
Он дважды громко хлопнул в ладоши. Вошел скромно одетый человек. Ему подали записку.
Человек громко прочел записку.
— Он правильно произносит слова вашего языка? — спросил Жигмонта одетый в черное.
— Да.
— Переводи! — одетый в черное обратился к вновь пришедшему.
— «Ждите в полночь у Северных ворот. Моя служанки проводит вас. Это письмо сожгите».
— Перевод верен? — одетый в черное снова обернулся к Жигмонту.
— Слово в слово!
— Поднесите бумагу к огню! — распорядился одетый в черное. — Но осторожно, чтобы не сжечь письмо!
Переводчик поднес письмо к огню, ярко горевшему в камине. Подержал немного. Затем молча подал одетому в черное. Тот внятно прочел:
— «Тонкогубого прикончат в постели. Ваше дело — маяк».
Одетый в черное опустил письмо и замолчал. Затем, не выпуская из рук, показал письмо Жигмонту.
— Эти слова проступили под воздействием тепла! Они написаны на вашем языке!
— Об этих словах я ничего не знал! — ответил Жигмонт.
Все замолчали.
— Кто этот тонкогубый? — спокойно спросил Жигмонт. — Мне неизвестен человек, которого бы называли так!
— Узурпаторы, претендующие на престол, зовут этим гнусным прозвищем нашего герцога, — тихо пояснил одетый в черное.
— Не знал!
— Что вы должны были совершить на маяке? Подать сигнал мятежным кораблям?
— Или это письмо адресовано не мне, или это ловушка, чтобы погубить меня!
— Кому нужно губить вас? Эти люди —… граждане нашего города?
— Не знаю.
— Вы разденетесь сами или палач поможет вам?
— Разденусь сам!
Жигмонт начал раздеваться. Страх не овладел его душой.
— Я хотел бы говорить с герцогом!
— Это невозможно и нужды в этом нет! Все, что вы желаете сказать герцогу, вы можете сказать мне!
Жигмонт почувствовал, что перестает владеть собой, его охватило естественное желание сказать что-то насмешливое, дерзкое. Он стянул рубаху через голову. Его смуглое тело, тонко мускулистое, сильное, округлая впадинка между ключицами, открывшиеся мужские соски и пупочная ямка — производили впечатление какой-то беззащитности красивого нагого мужского тела. Он ощутил на себе пристальный взгляд палача. Эта беззащитная нагота соблазняла, она могла доставить порочное наслаждение терзать красоту, терзать с самой искренней жалостью! Вся соль в том, чтобы терзать и жалеть, жалеть терзаемого и себя! Все это явно читалось во взгляде палача и ничего хорошего не предвещало!
— Что бы я мог сказать герцогу? — нагой человек остановился посреди комнаты с такой спокойной естественностью, как будто в обнаженном теле не заключалось ничего греховного. — То, что я скажу, ничего не изменит! Герцог стремится укрепить свою власть! Кто может запретить ему это! Я не лазутчик! Герцогу и это известно! Возможно, он казнит меня, желая показать, что не боится меня! Пройдет несколько лет и его герцогство будет захвачено воинами моей страны! Это будет наша земля, частица великого и обширного государства! В служении этому великому государству объединятся люди разных вероисповеданий и званий, будут едины, словно лепестки одного цветка! Это государство просуществует почти тысячу лет! А те маленькие царства и княжества, что возникнут на его обломках, будут мелочными, смешными и грызущимися между собой! Хорошо все это или дурно, не нам, людям, судить! Больше я ничего не скажу!
Эта странная речь захватила тех, кто ее слушал. Невольно пропало у них желание спорить, возражать, оскорблять говорившего. И когда тот замолчал, человек в черном, молча, дал знак палачу начинать…
Глава 23
— Вы ничего не объяснили мне! Вы снова солгали! — женщина в отчаянии прижала ладони к щекам. — Откуда в вас эта злобность? Вы не должны быть таким! Не должны!
— Не притворяйся! Ты знаешь, что я не колдун, а всего лишь самый обычный человек! И мои желания — желания обычного человека! И жесток я не более, чем любой другой человек! Но свою жестокость ты всегда сумеешь оправдать, а чужую осуждаешь!
— Я умоляю вас, спасите его! Я навсегда останусь с вами! Я не уйду с ним!
— Я не верю тебе! Когда ты захочешь обмануть меня, ты сумеешь себя оправдать!
— Я попала к вам против собственной воли!
— Новая попытка оправдать себя! Вначале ты, как все дети, была подвластна воле отца. А потом ты пришла ко мне сама, я не заставлял тебя!
— Вы могли бы приносить людям радость!
— Не говори лживых слов! Чаще всего люди радуются, когда мучают друг друга! Это взаимное мучительство составляет соль бытия! В государстве, построенном на началах так называемой справедливости, было бы тошно и страшно, как в здании образцовой тюрьмы!
— Спасите его!
— Но я не могу потерять тебя!
— Я останусь с вами! Клянусь!
— Хорошо! Но с этого дня он всегда будет видеть тебя такой, какой он увидел тебя в тот день, когда дал тебе кольцо! И не воображай, будто после моей смерти он сможет увидеть твою красоту! Это мое желание обладает страшной силой, оно — навсегда! Так что, если ты убьешь меня, моя смерть нисколько тебе не поможет! А вот если он увидит тебя мертвой, он снова увидит тебя прекрасной. Но, кажется, в свое время твоя удивительная красота не произвела на него впечатления! Мне известно — почему! Ну что, будешь умолять, просить, чтобы я открыл тебе тайну?
— Не глумитесь надо мной! Я согласна. Я принимаю все ваши условия. Все равно я не буду видеться с ним, потому что останусь с вами! Только спасите его!
— Спасти его легко! Ты сама спасешь его! Слушай…
Глава 24
Самое главное — внушать себе, что боль скоро пройдет, верить в это! Глаза целы, переломов нет. Так и надо лежать на боку, с закрытыми глазами, и терпеть. Больно дышать, тело все в кровоподтеках и ссадинах, синяки и ушибы распухли, но это ничего, это можно вытерпеть. Такое и прежде случалось. Пытки уже позади — это хорошо! Можно спокойно лежать на соломе… Хорошо, что темно — глаза болели бы от яркого света… Конец ли это? Такого ощущения нет! Значит еще не конец? Надо терпеть!
Дверь отпирают! Снова будут пытать?
Нет, это тюремщик! Принесли воду и хлеб! Тоже хорошо! Надо собраться с силами и заставить себя поесть! Лежа… протянуть руку… Вот так!.. Приподнять голову… отпить из кружки… Рука болит и затылок ноет… Но это и прежде бывало… Не стоит думать об этом… Никто не мешает… Надо спать…
Глава 25
Стражники оцепили эшафот на главной площади. Люди теснились вокруг, как всегда в подобных случаях. Палач ждал. Топор спокойно лежал на дубовой колоде. Большое лезвие поблескивало зловеще.
Вывели осужденного. За ним шли люди в черном из герцогской канцелярии. Один из них зачитал приговор. За преднамеренное убийство дворянина, состоявшего на герцогской службе, чужеземец приговаривался к смертной казни через отсечение головы.
Осужденный стоял, глядя на толпу. В его позе не было ни горделивости, ни упрямства, ни слабости; только кротость усталого измученного человека. Он невольно вызывал сочувствие.
Его спросили, хочет ли он помолиться, примет ли последнее напутствие священника.
— Не нужно, — кротко ответил он. — Господь уже простил меня.
Ударили барабаны.
Осужденный опустился на колени с некоторым усилием, видно было, что он измучен пытками.
И тут к эшафоту подбежала, задыхаясь, старая женщина. Она бросилась к Романо, начальнику городской стражи, он пропустил ее. Она не переставала повторять одно слово — «обычай!»
— Обычай!.. Обычай!..
Люди поняли ее.
— Обычай! Обычай! — зашумела, заволновалась толпа.
— Пусть исполнится обычай!
— Нельзя отступать от обычая!
— Пропустите старуху!
— Пустите ее!
Осужденный по-прежнему стоял на коленях. Палач оперся о топор и ждал.
Старуха поднялась на эшафот. Кое-кто узнал ее. Иногда ее видели на городских площадях. Она сидела тихо. Когда ей подавали милостыню, тихо брала, но сама не просила, не навязывалась, как это обычно делают профессиональное нищие.
Старуха была одета в длинное рубище, в котором как бы терялось ее худое тело. Руки у нее были тонкие смуглые, испещренные темными пятнами, как бывает у старых людей. Лицо сморщенное, ссохшееся, глаза ввалились. Конечно, у нее не хватало зубов и говорила она не совсем ясно, но понять ее было можно.
— По обычаю города, — надрывно закричала женщина, — осужденного должны освободить, если найдется девственница, согласная вступить с ним в брак! Я никогда не была замужем, я не вела себя дурно! Я прошу позволения взять в мужья этого человека!
Она замолчала и судорожно вздохнула.
Осужденный улыбнулся.
Одетый в черное служитель из герцогской канцелярии обратился к осужденному:
— Ты согласен стать мужем этой женщины?
— Этой девицы! — смеясь поправил кто-то из толпы.
— Этой девицы, — серьезно повторил одетый в черное.
— Да. Я согласен, — кротко ответил осужденный.
Люди на площади развеселились по-доброму.
— Эх, Марианна, и почему только ты не девственница! Какого красавца обнимала бы нынче ночью!
— Господь воздаст этой старухе за то, что она спасла такого красивого и благородного человека!
Между тем, старуха помогла осужденному подняться.
— Опирайтесь на меня, прошу вас!
— Да. Придется. Я немного устал, но это пройдет.
— Сейчас вы отдохнете!
Они спустились по ступенькам. Многие пошли за ними. Кто-то подвел коня, они забрались. Человек повел коня.
Старуха сидела позади осужденного, обнимая его за пояс.
— Потерпите, скоро вы отдохнете.
— Благодарю тебя! Куда мы едем?
— В тот кабачок, где вы остановились, помните? Там ваш конь, ваша сумка. И тот маленький ковер, который вам так дорог, тоже там! Я упросила, чтобы все берегли. Я знала, что вы вернетесь! Вы помните меня? Вы подарили мне кольцо!
— А… да, помню.
— Я утомила вас! Мы скоро приедем!
Народ постепенно разошелся и когда они доехали до кабачка, их сопровождало всего несколько человек. Им помогли спешиться. Они поблагодарили. Хозяева и слуги разглядывали их с любопытством. Жигмонт узнал комнату, в которой остановился. Прошло не так уж много дней, а казалось, это было уже очень давно. Жигмонт уснул, едва коснувшись головой подушки.
Когда Жигмонт открыл глаза, старуха сидела в ногах его постели.
— Вы хотите пить, есть?
— Да, немного вина и хлеба. Пока больше ничего не нужно.
Старуха ушла и сама принесла на подносе хлеб и стакан вина.
Жигмонт поел и выпил. Силы возвращались к нему.
— Ты спасла меня! Как мне тебя отблагодарить? Ты действительно желаешь, чтобы я сделался твоим мужем?
— Да, — ответила она кротко и потупилась.
— А ты знаешь, как это делается?
— Я не знаю, как это делаете вы! — она покраснела.
Такой ответ ему понравился. Его смешливые глаза блеснули. Он привлек ее к себе и поцеловал влажными и сладкими от вина губами…
— Хорошо тебе со мной?
— Никогда в жизни так не было! Я даже и не знала, что может быть так чудесно, так сладко!
— И мне хорошо! И даже чудится, будто я давно знаю тебя и люблю!
— Вы не можете любить меня, я стара и безобразна!
— Я никогда не любил ради молодости, красоты, доброты или ума! Я люблю, потому что люблю!
— И я люблю вас! И мне кажется, будто я давно знаю вас!
— Кто ты?
— Моя история и странная и простая. Я родилась в бедной семье, рано осталась без родителей, стала служанкой в доме одной вдовой госпожи. Однажды, когда я, еще девочкой-подростком, шла с кувшином на плече от фонтана, меня увидел некий человек…
— Погоди… А, впрочем, нет, продолжай!
— Это был странный человек. Старик с удивительно яркими светлыми голубыми глазами… Но вы снова о чем-то хотите спросить меня?
— Нет, нет. Говори.
— Я стала часто встречать его. Сначала он просто смотрел на меня, потом стал заговаривать. Я было подумала, что он хочет соблазнить меня, но он рассказал мне, зачем я ему нужна. Только поверь мне, когда я (зуду говорить! Он владеет удивительным искусством — когда он того желает, люди воспринимают действительность так, как он того желает! Ты испытал это на себе…
— Скажи мне свое имя!
— Меня зовут Маргарета, что значит «жемчужина».
— Это твое настоящее имя?
— Настоящее, клянусь памятью матери!
— Ты знала девушку по имени Кларинда?
— Да! — Маргарета вздрогнула. — Мы были подругами.
— Подругами? Но ведь ты намного старше. Мне всегда казалось, что для женщин это имеет значение!
— Сейчас я расскажу тебе, как это получилось.
— Где она теперь?
— Она умерла.
— Как жаль! — невольно вырвалось у Жигмонта.
— Ты знал ее?
— Нет. Мне рассказал о ней один юноша. В свое время он был по-детски влюблен в нее. Как она умерла?
— Случайно. Мы были у моря, купались. К вечеру у нее сделался жар, а утром ее уже не было с нами.
— Вы жили у старика вдвоем с ней?
— С нами был еще один человек, чужеземец, твоего возраста. И его уже нет в живых. Но подожди. Я все расскажу. Старик сказал, что у меня сильная воля и потому он хочет передать мне свое знание. Я согласилась учиться у него. Все мы жили за городом в развалинах старого дворца. Когда-то дворец принадлежал семье старика. Они были знатны и богаты. Кажется, какое-то время они даже правили этим герцогством. Но в борьбе за власть они потеряли свое состояние и сами погибли. Старик остался в живых, потому что долго жил в далеких краях, где и овладел своим знанием. Я и Кларинда, мы постоянно жили в развалинах дворца. А тот чужеземец состоял на герцогской службе и только приходил к нам тайком.
— Подожди! Я убил этого человека?
— Да. Но ты не виноват! Я все расскажу тебе! Когда умерла Кларинда, мы остались втроем. Ты приехал в город вскоре после ее смерти. Старик показал мне тебя и сказал, что и ты обладаешь сильной волей и должен стать учеником его. Я поверила. Старик часто заставлял нас совершать странные, порою необъяснимые поступки. Мы должны были повиноваться ему, иначе ничему нельзя было бы научиться…
— И ты чему-то научилась? Ты можешь внушать свои желания другим людям?
— Нет. Но воля старика не властна надо мной. Он не в состоянии внушить мне свой взгляд.
— Рассказывай дальше.
— Я полюбила тебя. Ты и есть то, что люди зовут «добрым человеком». Я не знала, что старик задумал убить тебя. Ты наделен очень сильной волей. Сам того не желая, ты мешаешь ему. На свете очень мало людей, способных помешать ему. Они и не подозревают о своих способностях. Но старик стремился подчинить таких людей себе или уничтожить! Это я пришла к тебе с письмом. Я была собою, но по желанию старика и ты и все видели меня в другом обличье. А в обличье слуги перед тобой предстал тогда ночью у Северных ворот чужеземец, ученик старика. А все твои приключения во дворце, все эти чудеса, и золотые и серебряные двери — ничего этого не было!
— Но я видел мать! Я вновь испытал то, что испытал когда-то давно!
— Я не знаю, что ты мог испытать и не спрашиваю тебя! Меня там не было. Там были лишь старик и чужеземец. Мне даже страшно себе представить — если бы кто-то увидел тебя и их в ту ночь! Он увидел бы, как ты проделываешь странные движения, будто ешь, сражаешься, обнимаешь женщину. А те двое движутся около тебя и тоже странно машут руками, касаются твоего лица! Ты был в их власти. Они говеем парализовали твою волю. Они уже все знали о тебе, все твои тайны. Ты видел и ощущал так, как им того хотелось! Но ты и вправду наделен сильной волей! Мне казалось, никто не может вынести появления двойника! — Маргарета снова вздрогнула. — Увидев себя самого в телесном обличье, человек много раз на моих глазах терял разум! Ты выдержал это испытание! Твоим двойником был чужеземец. Ты вынужден был убить его! Должно быть, в ту странную ночь ты встречал и женщин, обнимал, целовал их. На самом деле ты обнимал и целовал старика, шептал ему ласковые слова, был с ним телесно!
— Не говори! Не хочу слышать! — Жигмонт отвернулся.
— Прости!
— Жаль, что я не убил старика! Но рассказывай все же!
— Все это происходило в развалинах, в уцелевшей комнате с полуобвалившимся потолком.
— Но я столько ощущений испытал… О Боже! Зловещее знание…
— Утром я отыскала тебя у городских ворот. Ты лежал рядом с трупом убитого. Я уже поняла, что старик хочет погубить тебя. Но я ничего не могла сделать! Я стала умолять его, просила, чтобы он спас тебя! Он согласился. Это он рассказал мне о старинном городском обычае, благодаря которому я спасла тебя. Но он поставил условие — я должна остаться с ним!
— Мне было бы жаль потерять тебя!
— О, ты не знаешь! Я молода и красива! Я красивее Кларинды! Но старик хочет, чтобы ты всегда видел и чувствовал меня старухой! Только в день моей смерти ты увидишь мой истинный облик! Остальные скоро увидят меня! Он обещал! А я дала ему слово остаться с ним!
— Я бы не хотел этого! Но мне трудно понять, каким образом желания могут столь странно претворяться в жизнь! Каждый из нас чего-то желает, порою очень сильно! Но как можно заставить другого человека…
— Мы не умеем сосредоточиваться на наших желаниях! В сущности, мы никогда не знаем, чего же мы в действительности хотим! Мы любим и ненавидим одного и того же человека! Мы приходим к человеку для того, чтобы что-то получить от него, а уходим, поссорившись с ним насмерть! Уметь хотеть — это великое искусство! Старику оно ведомо!
— Но я бы не желал овладеть этим искусством, я предпочитаю оставаться обычным человеком, раздираемым противоречиями!
— Это потому, что ты очень сильный, очень необычный человек!
— А что тебя заставило, голубка, уйти к этому старику?
— Теперь я думаю, что то была робость, неуверенность в себе. Ах, мы ведь бедно жили. В обличье старухи я уходила в город за подаянием. Он может заставить человека ощутить вкус самой прекрасной еды, но он не может никого накормить, даже себя!
— Я не хочу, чтобы ты оставалась с ним! Теперь ты — моя жена, не так ли?
— Нет, ты свободен по-прежнему! Я очень хочу остаться с тобой, но я дала слово!
— Мы пойдем к нему вместе! Я уеду отсюда и возьму тебя с собой! Я не стою не его пути! Пусть он живет своей жизнью и оставит нас в покое!
— И тебя не отвращает мое обличье?
— Нет! Мы пойдем к твоему старику! Утром. Сегодня я должен отдохнуть. И ведь сегодня — наша первая брачная ночь!
— Но мы ведь уже были вместе! Значит, ночью все будет не в первый раз!
— Бедная девочка, то была лишь короткая ласка. А ночью у тебя со мной по-другому будет! Но ты попроси, чтобы нам принесли еды и вина! Понадобится ночью подкреплять силы!
— Я не знала прежде, что может быть так хорошо! Но если бы ты мог видеть и осязать истинную меня!
— Не думай об этом! Думай о том, что я люблю тебя!
Глава 26
Утром Жигмонт проснулся и увидел подле себя Маргарету, она куталась в покрывало. На лице ее ясно виделись тревога и растерянность.
— Что с тобой, голубка?
— Не сердись на меня. Но у меня такое ощущение, что люди уже могут видеть меня настоящую. А ты не можешь! Горе! И еще… Мне кажется, что-то случилось со стариком! Ты своим сопротивлением его воле отнял у него часть его сил, а свои оставшиеся силы он вложил в это страшное желание, чтобы я для тебя всегда оставалась старухой! Теперь он слаб. А жить смиренной жизнью слабого он не привык.
— Не тревожься, милая Маргарета! Я попытаюсь узнать, жив ли он.
— Я должна увидеть его. Ведь я дала слово!
— Ты придешь к нему со мной и он отпустит тебя!
— Принеси мне воды. Я не хочу, чтобы меня сейчас видели. Станут удивляться — куда девалась старуха, откуда взялась девушка? Могут обвинить тебя в колдовстве! В этом городе уже случалось много странного, благодаря старику! Об иных событиях он заставил горожан забыть, но много осталось в их памяти.
— Я принесу тебе воды.
— Принеси и для себя. И расстели ковер.
— Ты знаешь, зачем он мне?
— Это тайна?
— Нет. Я получил это ковер по наследству, когда-то он принадлежал моему деду, отцу моей матери. Дед был беден, но он был набожным человеком.
Маргарета улыбнулась, скрывая смущение.
Они вышли на улицу. Маргарета куталась в покрывало, чтобы никто не мог разглядеть ее.
Было шумно. Люди собирались кучками.
— Мне тревожно! — прошептала Маргарета.
— Ступай в дом, — тихо ответил Жигмонт. — Я все узнаю и вернусь.
Он проводил ее обратно в кабачок, а сам отправился в цирюльню. Обычно в цирюльне можно узнать последние новости и сплетни.
— Подстриги мне бороду! — приказал Жигмонт цирюльнику.
Когда тот принялся за работу, Жигмонт спросил:
— Что за суматоха? Что случилось?
— Да в общем-то ничего особенного! Такое случалось и прежде! — цирюльник наклонился к уху господина. — Хотели отнять престол у герцога. Очередная попытка!
— Это что, часто бывает? — спросил Жигмонт, сидевший с запрокинутой головой.
— Часто — нечасто, а случается! Но тут уж больно все странно! Утром выбежал на площадь перед герцогским дворцом какой-то безумный старик. Одет он был в немыслимое рубище, волосы нечесаны, борода нестрижена. Он двигался какими-то дикими прыжками, как ребенок, играющий в лошадки, и при этом громко подбадривал невидимую свиту. Люди побежали за ним. А он подбежал к дворцу, сделал вид, будто спешился, и, подражая осанке герцога, пытался войти во дворец. Странно было смотреть на это! Стража тотчас схватила его. Обо всем донесли герцогу. Тот проявил милосердие и приказал отправить несчастного безумца в дальний монастырь, где монахи содержат приют для подобных умалишенных. А ведь мог бы отправить старика в тюрьму! Впрочем, старик до монастыря не добрался! Хотел бежать, вырвал меч у одного из стражников. Пришлось его убить! Бывает!
— Я помнится, видел на рыночной площади странного нищего. Еще глаза у него были такие ярко-голубые!
— Да, да! Голубые большие глаза! Все поняли, кто он! То есть, не все, конечно! Но многие, кто постарше. Он из рода… — цирюльник назвал громкое имя. — Когда-то они правили герцогством. После — были первыми приближенными правителей. Бывает! Они гордились своими голубыми глазами. У них и на гербе изображалось что-то вроде глаза, и надпись была — что-то вроде — «чисты, как небо»!..
Когда Жигмонт вернулся, Маргарета бросилась к нему. Он бережно обнял ее за плечи, усадил на постель.
— Теперь нам нет нужды идти к старику! Его нет в живых!
— А ты никогда не увидишь мое истинное лицо! Он сказал, что его воля будет тяготеть над нами и после его смерти! Если бы он остался жив, он мог расхотеть…
— Хорошо, я сам захочу увидеть тебя!
— Ты не сможешь сосредоточиться! И ты знаешь, мне порою кажется, что ты и не хочешь увидеть меня юной и прекрасной!
— Возможно, ты права! Я ведь полюбил тебя иной! Но не печалься! Для всех и для себя самой ты будешь красавицей! А для меня ты будешь любимой!
— Как он умер?
Жигмонт передал ей рассказ цирюльника.
— Я чувствую жалость к нему, — тихо проговорила Маргарета.
— Ты была права. Он утратил силу! Он хотел, чтобы его видели герцогом на коне во главе свиты, а люди видели безумного старика, кривляющегося и играющего по-ребячьи в лошадки! Напрасно он решил бороться со мной! Он не смог наказать меня, он убил себя!
— Неужели его целью была — власть? — задумчиво произнесла Маргарета.
— Если так, то он избрал неверный путь! К власти надо идти обыденными, проторенными путями. Нельзя проявлять своеобычность!
— Знаешь, я чувствую, и ты мог бы достичь высот власти! Но ты не хочешь!
— Я хочу быть свободным!
Глава 27
Жигмонт и Маргарета покинули приморский город и двинулись в путь. Они долго были в пути. Всюду Жигмонт слышал похвалы своей красавице жене. Они прибыли в королевство венгерское. Когда Жигмонт был принят при дворе, у него появились деньги, он накупил для Маргареты нарядов и драгоценностей. Все восхищались ее красотой. А он видел старуху с распущенными посекшимися волосами, исхудалую, с лицом сморщенным и темным, во рту у нее не хватало зубов и потому речь ее звучала не совсем внятно. А всех поражал ее мелодичный прелестный голос, четко произносивший певучие фразы. Особенно забавлялся Жигмонт поведением своего приятеля, духовника королевы. Когда они сидели за шахматной доской и в комнату входила Маргарета, священник принимался перебирать зерна четок, ему неловко было восторгаться красавицей, но Жигмонт видел его восторг.
Жигмонт играл с королем ежедневную партию. Король пристрастился к шахматам благодаря Жигмонту. В уединенном покое было жарко натоплено. Король страдал приступами внезапного озноба. Оба игрока медленно передвигали фигуры, подолгу раздумывая над каждым ходом.
— Королева желает видеть тебя! — король нарушил молчание. — Зайди к ней перед вечерним приемом! Откровенно говоря, я предпочитаю, чтобы она почаще видела тебя, а не своего духовника!
— Что смущает вас? Шах, ваше величество!
— Что смущает? А сегодня я продержался довольно долго! Но тебя обыграть невозможно!
— Это потому что я играю без горячности, ваше величество!
— Меня смущает влияние священника на королеву! Я подозреваю, что он сторонник Габсбургов!
— О, тогда вы можете быть покойны! Я полагаю, Габсбурги будут править Венгрией лет через триста-четыреста.
— Но будут?!
— Я не могу предсказывать, я лишь предполагаю!
— Но, должно быть, ты прав! Сегодня гораздо больше следует опасаться нашествия татар!
— Вы имеете в виду османов, воинов, завоевавших Византию?
— Да, этих завоевателей! Что ты скажешь о них?
— Ничего, ваше величество! Спокойно правьте страной.
— Разве я не должен собирать войска?
— Зачем, ваше величество? Войска следует собирать лишь для нападения, а не для защиты! А в вашем случае нападать предстоит вашим противникам. Пусть они и собирают войска!
— Люблю парадоксальность твоих суждений!
— Благодарю!
— Кстати, я хотел бы вернуть тебе Гезале — твое родовое поместье!
— Да, да, то самое, которое отец когда-то проиграл в кости. Кажется, так? Или в другую азартную игру, не припомню…
— Ты не похож на своего отца!
— Вы так думаете, ваше величество?
Маргарета в своей спальне одевалась, готовясь к вечернему приему у королевы. Две служанки помогали ей. Маргарета была молчалива и сосредоточена.
В отличие от других придворных дам, да и от самой королевы, Маргарета тщательно мылась два раза в день. Жигмонт любил в своей жене эту черту, он говорил, что это напоминает ему Восток, где он долго прожил. Большая деревянная бадья, наполненная специально нагретой водой, все еще стояла в комнате. На полу возле бадьи лежал в большой золотой мыльнице кусок мыла, душистого и мягкого, изготовленного на острове Крит, это невиданное снадобье стоило немалых денег.
Пристально вглядываясь в полированную поверхность медного зеркала, установленного на столе, Маргарета не спеша расчесывала свои пышные волосы. Казалось, она была недовольна своим нечетким отражением и чуть хмурила прелестные брови, напоминавшие тонкий серп молодого месяца.
Уложив косы в сложную прическу, Маргарета, не глядя, протянула точеную руку. Служанка подала золотую коробочку. Маргарета осторожно коснулась кончиком указательного пальца содержимого коробочки, нанесла на веки тончайший слой золотой пыльцы. Эта деталь тотчас придала ее красоте какую-то сказочность.
Служанки уже держали наготове нарядное платье из тяжелого алого бархата. Золотое ожерелье с драгоценными рубинами — подарок самой королевы! — довершило наряд красавицы. Среди дорогих колец, унизавших тонкие пальцы Маргареты, терялось золотое колечко с печаткой, на печатке изображалась мужская фигура, по обеим сторонам которой замерли две птицы с девическими головками.
Маргарета заперла шкатулку с драгоценностями и величественно покинула спальню.
Жигмонт два раза постучал костяшками пальцев в тяжелую, мореного дуба, дверь, и, не дожидаясь ответа, вошел в покои королевы.
Простоволосая, в широком темном одеянии, накинутом поверх сорочки, уже не первой молодости, худощавая женщина протянула порывисто обе руки.
— Я заждалась!
— Прости, дорогая, шахматы!
— Мне кажется, ты нарочно обучил его этой игре, чтобы как можно реже видеться со мной!
— Ты ревнуешь?
— Смешно ревновать мужа такой красавицы!
— Да, Маргарета — существо необычайное!
— Зачем ты дразнишь меня?
— Я всего лишь говорю правду!
— Поцелуй меня! В губы!..
Спустя два часа Жигмонт стоял у двери, собираясь уходить.
— Кстати, — королева подошла к нему снова. — Он не говорил с тобой о Гезале?
— Король?
— Кто же еще!
— Говорил!
— Пора тебе вернуть родовое поместье!
— Кому оно сейчас принадлежит?
— Каким-то Шомеги!
— Это многочисленное семейство?
— Нет, нет, я даже не знаю точно, сколько их. Кажется, в живых остался один старик… или старуха…
— Мой сын Михал недавно охотился в окрестностях Гезале.
— Он мог бы заехать в замок!
— Он говорит, что был далеко от замка и предпочел остановиться в деревне.
— Он любит охоту?
— Да, он, должно быть, унаследовал эту страсть от деда!
— Я подарю ему нового сокола!
— Воля твоя!
— А ты не любишь охотиться?
— Нет! Предпочитаю развлечения, менее кровожадные!
— Я тоже ненавижу охоту! В год твоего приезда в Гезале случился пожар?
— Выгорело дотла именно то крыло, где хранились семейные реликвии — оружие, портреты…
— Это могли сделать нарочно?
— Думаю, это была случайность. Никто не мог знать о том, что я приеду!
— Маргарета украсит своим присутствием сегодняшний прием?
— Да, она будет.
— Она — чудо!
Глава 28
Маргарета остановилась перед ним.
— Тебе, должно быть, всегда странно и неприятно видеть меня в дорогих нарядах? Я смешна, скажи мне правду?
— Разве тебе не говорит правды зеркало? А восхищенные взгляды? А слова любви?
— Для меня существует лишь одно зеркало — ты!
— Я люблю тебя! Сегодня королева назвала тебя «чудом»!
— Когда говорила с тобой наедине…
— Она знает, что я люблю тебя!
— Ты хочешь вернуть Гезале?
— Пусть Михал получит обратно свои родовые земли и замок.
— Королева естественна, а я… И она — королева…
— Я уже не в том возрасте, когда влюбляются в пожилых женщин! И, кроме того, одна старуха у меня уже есть!
— Давай уедем!
— Погоди немного!
— Ты все еще любишь меня?
— Люблю. Потому что ты моя беззащитная девочка!
— Твоя старуха! Твоя старая дева!
— Люблю!
— Поклянись!
— Чем?
— Моей жизнью!
— Не буду. Это грешно! Хочешь, поклянусь своей?
— Нет. Скажи просто, что любишь меня. Скажи еще раз!
— Люблю, — отвечал Жигмонт тихо и серьезно.
Жигмонт отдал несколько распоряжений конюхам. Затем вышел из конюшни на широкий зеленый двор. Здесь выезжали кровных коней. Издали Жигмонт заметил своего сына Михала. Жигмонт замахал рукой, привлекая внимание юноши, но тот не видел его. Тогда Жигмонт приложил ладони ко рту и громко позвал:
— Эй! Михал!
Молодой человек услышал, потрепал лошадь по холке, кинул повод слуге и побежал к отцу.
Прежде всего Михал отличался от отца светлыми волосами. Юноша не был очень высокого роста. В коротком камзоле, стянутом поясом, в сапогах для верховой езды, он остановился перед отцом и улыбнулся. Лицо его, когда он улыбался, производило чуть комическое впечатление, должно быть, из-за выступающей нижней челюсти. В его фигуре ощущалась еще некая юношеская незавершенность, но зоркий глаз подметил бы, что с возрастом лицо огрубеет, ляжки и бедра раздадутся, и светловолосый юноша превратится в плотного, склонного к полноте мужчину. Сейчас ему было девятнадцать лет. Он не был красив, но женщинам нравился, опытные угадывали в нем сильного любовника. Очень хорош был у него голос — звучал мягко, доброжелательно и умно. На первый взгляд Михал, впрочем, производил впечатление вполне заурядного молодого человека, увлеченного охотой, соколами и конями; но он очень недурно рисовал, играл на лютне и сочинял любовные стихи. Отца он узнал, уже будучи совсем взрослым. До этого Михал находился на попечении бабки и нескольких ее доверенных слуг. Нельзя было сказать, что его образованием много занимались; все его умения были, то что называется, делом его собственных рук. С отцом у него установились дружеские отношения с оттенком почтительной насмешливости. Удивительная красота мачехи смущала молодого человека, он старался избегать эту странную женщину.
— Как твоя новая птица — королевский подарок? — спросил Жигмонт.
— Э! Совсем еще дикая! — Михал сделал движение рукой.
— Все вспоминаешь охоту в Гезале?
— Лес там — сказка! А кабаны здоровенные, как быки! — юноша широко развел руки, показывая, какие в Гезале водятся кабаны.
— Будь осторожен! Береги себя!
Юноша дернул уголком рта, это на миг придало его лицу выражение надменности.
— Да! — вдруг воскликнул он, — чуть было не забыл! Сегодня утром тебе привезли письмо! Представляешь, из Гезале, из старого замка!
— Уж не свел ли ты знакомство с хозяевами?
— Особого желания не имею! Настоящие хозяева этого замка и всех угодий — мы — ты и я! Толкуют, будто король решил вернуть нам Гезале! Может быть, и до старого замка докатились эти вести?
— Надо прочесть письмо. Оно адресовано мне?
— Да, в собственные руки!
— Где оно?
— Я сам отнес в твою комнату!
— Кто привез письмо?
— Какой-то парень, по виду — деревенский! Вчера вечером, когда вы с Маргаретой были во дворце. Он спешил по каким-то своим делам, даже не пожелал остаться ночевать. Судя по всему, это не слуга господ Шомеги, а просто сельчанин, отправившийся в город и заодно вызвавшийся доставить письмо.
— Ты знаешь, что замком владеют эти Шомеги?
— Да, это все знают!
— Когда ты останавливался в деревне после охоты, о них говорили деревенские?
Михал помолчал мгновение.
— Да, говорили, будто в замке лишь выжившая из ума старуха, да несколько слуг — вот и все семейство Шомеги! Не знаю, правда ли это! Там, в этой семье, когда-то случилась беда — муж сослал жену в монастырь, потом умерла маленькая дочь… Кажется, так…
— Что ж, я прочту письмо!
Жигмонт вернулся в конюшню. Михал возбужденно и весело подбежал к лошади, оставленной на попечение слуги, обнял ее за шею и вдруг принялся насвистывать веселую мелодию.
Глава 29
Домашний обед в семействе Жигмонта Запольи представлял собою зрелище небезынтересное. Маргарета распоряжалась накрывать стол камчатной скатертью, столовые приборы из золота и серебра, дорогие стеклянные бокалы и тарелки из Венеции, кушанье, приготовленное необычайно вкусно. Хозяйка покупала редкостные припасы, которые привозились в столицу королевства из далеких стран, — рис, пряности. Сегодня ее мужа и пасынка ждал сюрприз — у каждого перед тарелкой лежала золотая двузубая венецианская вилка.
— Что это? — спросил Михал. — Он держался с Маргаретой сдержанно, даже несколько натянуто, и порою казался грубоватым.
— Это вилки, — спокойно и дружелюбно сказала Маргарета. — Они нужны для того, чтобы поддевать мясо и не пачкать пальцы.
— Попробуем! — Жигмонт улыбнулся своей смешливой улыбкой.
Мужчины осторожно пустили в ход вилки, Маргарета ела уверенно и изящно.
Некоторое время обед протекал в молчании.
Михал изредка бросал на отца короткие выжидательные взгляды.
Подали яблоки.
Жигмонт прикусил румяный плод.
Маргарета пила из прозрачного стеклянного бокала.
— Я получил странное письмо, — начал Жигмонт.
Михал встрепенулся.
— От кого? — спокойно спросила Маргарета.
— Представь себе, от хозяев Гезале!
Жигмонт вынул письмо из-за пояса и прочел. Оно было коротким и его можно было счесть странным. Нынешние хозяева Гезале просили Жигмонта Запольи как можно скорее прибыть в замок!
Маргарета опустила глаза. Она отставила бокал и нервно постукивала по стеклу тонким ногтем.
— Любопытно, — продолжал Жигмонт, — письмо написано левой рукой!
Михал подался вперед.
— Посмотри! — отец подал ему письмо.
Юноша некоторое время держал его перед глазами, затем вернул отцу.
— Может быть, писал левша? — предположил Михал.
— Нет, — возразил Жигмонт. — Писал человек, который боялся, что его узнают по почерку! Левая рука — известный старый трюк!
— Письмо написано при дворе! Тебя, как всегда, пытаются заманить в ловушку! — Маргарета обратилась к Жигмонту с напряженной улыбкой.
— И, как всегда, их постигнет неудача! — отвечал Жигмонт с видимой беспечностью.
— А можно ли определить, кто написал письмо — мужчина или женщина? — спросил Михал.
— Вот этого я определить не могу! — Жигмонт пристально посмотрел на сына.
Михал снова принялся за еду, орудуя вилкой с некоторой неловкостью.
— Ты поедешь в Гезале? — Маргарета откинулась на спинку резного стула.
— Да.
— Я не отпущу тебя одного! — бросил Михал почти сердито.
— О, с таким спутником мне не будет страшно! — засмеялся Жигмонт.
— Я бы тоже поехала с вами, — тихо произнесла Маргарета.
— Конечно, поедем вместе! — обрадовался Жигмонт.
Михал поморщился.
Ночью в спальне Маргарета и Жигмонт тихо беседовали. Широкая постель без балдахина была застлана зеленым покрывалом, зеленым шелком были обтянуты подушки. Огонек свечи в золотом подсвечнике трепетно озарял два прекрасных обнаженных тела, выхватывал из полумрака изящные черточки красивых лиц.
— Ты знаешь, я раздумала ехать в Гезале.
— Почему?
— Мне кажется, это не очень нравится Михалу. Возможно, он хочет побыть с тобой вдвоем. Я не хочу мешать вам.
Жигмонт задумался.
— Возможно, ты и права.
— Когда вы едете?
— Думаю, завтра соберемся и выедем послезавтра, на рассвете.
— Так скоро! А не мог бы ты сначала проводить меня?
— Проводить? Куда?
— Когда вы уедете, мне не хочется оставаться здесь одной.
— Опасаешься докучных гостей?
— Да. Особенно опасаюсь твоего друга, духовника королевы. У меня нет никакой охоты заводить любовную интригу, приправленную раскаянием, осознанием собственной греховности и прочими пряностями в подобном роде!
— А какую интригу тебе хотелось бы завести?
— Жигмонт! Ты не думаешь о том, что обижаешь меня!
— А ты не знаешь о том, что я шучу!
— Не надо таких шуток!
— Но куда я должен проводить тебя?
— Ты помнишь Илону Мольнар?
— Кто это?
— Какая у тебя память! Разве можно так забывать влюбленных в тебя женщин!
— Горлинка моя, их нужно забывать!
— Это очень славная дама, вдова. Ты ее совершенно пленил, разбил ее сердце, и потому она была внимательна и добра со мной, совсем как наша королева! — Маргарета тихо засмеялась и поцеловала Жигмонта в плечо.
— Вот видишь, как ты несправедлива ко мне! А ведь благодаря мне, такому беспамятному, знатные дамы, и даже сама королева, прекрасно относятся к тебе!
Он засмеялся дробным юношеским смехом.
— Если бы они знали, какою меня видишь ты!
— Я вижу единственную! А ту, другую, мы оставляем лицезреть священнику и гостям королевы, ту Маргарету, красавицу!
— Ты снова дразнишь меня! Но послушай, эта Илона Мольнар приезжала ко двору в прошлую зиму. С тех пор она прислала мне несколько писем. У нее загородное поместье, где она и живет почти безвыездно. Она приглашает меня погостить. Вот я и поеду. Но мне не хочется уезжать после твоего отъезда, как будто бы ты бросаешь меня! Ты сначала проводи меня, честь по чести, как достойную супругу, а после поезжайте с Михалом. И не тревожься! Я вовсе не требую, чтобы ты провожал меня до самого поместья Илоны Мольнар, проводи до большой дороги. Дальше я доеду.
— Хорошо! Если таково твое желание! А кого из слуг ты берешь с собой?
— Знаешь, никого. Мне хочется поехать одной, вспомнить то время, когда у меня просто не было никаких слуг! На дороге спокойно. Я выеду завтра утром, верхом, и доберусь засветло.
— Я все сделаю, как ты хочешь!
— Благодарю!
Маргарета что-то тихо шепнула на ухо ему. Смуглое его лицо озарилось нежной смешливой улыбкой. Он оперся на локоть, склонился, припал губами к смутно белеющему в полутьме округлому бедру…
Когда они лежали, уже успокоившись, тихо следя за тем, как занимается за окном рассвет, Маргарета внезапно спросила:
— А ты помнишь Кларинду?
— Помню.
— Ты ведь слышал о ее странной жизни…
— Знаешь, все слилось… Кажется, она плыла на корабле с отцом и голубоглазый старик похитил ее, затем ее похитил какой-то разбойник… Смутно помню подробности… Но общее впечатление чего-то странного и красивого… А ты почему вспомнила?
— Я часто вспоминаю ее на рассвете. Она рассказывала, что долго жила в одной восточной стране, в доме, где был сад. На рассвете распускались цветы и птицы начинали петь… А ты, бедный мой, беспамятный, не помнишь?
— Очень-очень смутно, горлинка!..
Глава 30
Еще до полудня Маргарета и Жигмонт выехали на большую дорогу.
Маргарета собралась быстро, уложила все необходимое в дорожную сумку. Жигмонт умело приторочил сумку к седлу.
Они ехали шагом, неспешно переговариваясь.
— Значит, вы с Михалом едете завтра?
— Завтра днем выезжаем. Я тоже решил не брать с собой никого из слуг.
— Почему?
— Сам не знаю. Нет желания.
— А Михал как посмотрит на это?
— Он согласен.
— Но дороги в Гезале пустынные!
— Кому придет в голову напасть на двух мужчин, отлично вооруженных к тому же! Да и не слышно, чтобы в Гезале шалили разбойники!
Они доехали до развилки.
— Ну вот, я должна с тобой здесь проститься!
— Мы скоро увидимся!
— Я знаю. Но почему-то не хочется расставаться с тобой.
— Вернись и поезжай с нами. Михал стерпит, нечего баловать взрослого парня.
— Нет! Поезжайте вдвоем. Молодые люди часто бывают беспощадны. Я не хочу, чтобы из-за такой, в сущности, мелочи, как поездка в Гезале, Михал сделался моим врагом.
— Мне тоже почему-то не хочется отпускать тебя.
— Но простимся, наконец!
Он подъехал совсем близко и поцеловал ее.
Жигмонт и Михал уехали на следующий день после отъезда Маргареты в усадьбу Илоны Мольнар.
Время было подходящее для поездки. Ясное, солнечное. Осень, тихая и погожая, позолотила листву придорожных деревьев, сбрызнула охрой и багрянцем. Золотые с алым оттенком рощи замерли в безветренной прозрачности светлого дня.
Оба всадника были в хорошем настроении. Михал то и дело пускал коня вскачь и обгонял отца, затем вновь возвращался, весело насвистывая. Они не спешили. Говорили мало. Обменивались короткими незначительными репликами. Очарование чудесной природы захватило обоих. Дышалось легко. Хотелось много двигаться, ощущая силу и мужество здорового тела.
Вечер застал их в лесу. Можно было свернуть в деревню, но они предпочли ночевать на свежем воздухе. Развели костер, поужинали захваченными из дома припасами. В темноте леса слышались шорохи и шумы.
— Кабаны! — Михал привстал, на лице его отразился юношеский азарт.
Жигмонт глядел на него с улыбкой.
Спали на опавших хрустких листьях, завернувшись в плащи.
Жигмонт проснулся первым. Рядом по-детски сопел Михал. Во сне его лицо с чуть оттопыренными губами казалось совсем ребяческим, чистым и беззащитным, светлые волосы упали на лоб.
В свете наступающего утра лес виделся торжественным, прозрачно-золотым, словно прекрасная, отделанная золотом чаша из венецианского драгоценного стекла.
Приподнявшись на локте, Жигмонт задумчиво глядел прямо перед собой.
Было очень тихо.
Внезапно Жигмонт ощутил, что юноша рядом с ним открыл глаза. Но они ничего не стали говорить друг другу. Обоим жаль было нарушить чудесную тишину.
К вечеру оба всадника выехали на дорогу, ведшую к старому замку. Вот уже показались вдали темные массивные, казавшиеся бесформенными, крепостные башни. Красная полоса вечерней зари медленно разливалась вдоль неровных зубцов полуразрушенной стены.
— Гезале! — тихо произнес Михал. В голосе его послышалось нескрываемое волнение, ведь он подъезжал к своему родовому гнезду, в этих стенах родились, выросли, провели всю жизнь многие поколения его предков. Сюда привозили они своих невест с богатым приданым, отсюда отправлялись в походы и выезжали на охоту.
Жигмонт и Михал подъехали к широкому пересохшему рву. Кони осторожно пробовали копытами пологий спуск. Виднелись остатки подъемного моста.
Все вокруг дышало запустением, вымороченностью.
Ворота стояли нараспашку.
Всадники пересекли широкий, заросший сорными, по-осеннему увядшими травами двор.
Внезапно кони заржали. И в ответ донеслось ответное ржание.
— Вон то строение, вероятно, конюшня, — Жигмонт подъехал поближе.
Конюшня тоже не была заперта. Впрочем, две лошади, находившиеся там, хотя и не отличались хорошей породой, но выглядели вполне ухоженными.
Жигмонт и Михал поставили в конюшню и своих лошадей, положили им сена.
У огромной высокой входной двери, обитой листовым железом, пришлось простоять довольно долго. Они били в дверь каблуками, Михал, оглядевшись, подобрал во дворе деревянный кол и принялся громко колотить по двери.
— Да, не очень-то мы похожи на долгожданных гостей! — заметил Жигмонт.
Михал пожал плечами и отвернулся.
Наконец за дверью явственно раздались шаги.
— Кто там? — произнес хриплый старческий голос.
— Рыцарь Жигмонт Запольи с сыном! Отворите!
— Этот замок принадлежит Шомеги!
— Мы не собираемся посягать на чужие владения! Мы прибыли по приглашению хозяев!
— Ложь!
— Оскорблений мы не потерпим! — крикнул Михал.
— Отворяйте! Иначе мы разнесем дверь! — вторил Жигмонт.
За дверью подошел еще один человек. Голоса о чем-то совещались.
— Послушайте! — спокойно заговорил Жигмонт. — Нам доставили письмо от хозяев замка! Мы можем показать это письмо! Мы не разбойники! Мы благородной крови! Рыцарь Жигмонт Запольи и его сын Михал! Отворите нам!
Воцарилось короткое молчание. Затем дверь медленно, с тяжким скрипом начала отворяться.
Жигмонт и Михал вошли.
Старый слуга и старуха-служанка, высоко поднимавшая светильник, встретили их. И мужчина и женщина были одеты очень бедно и казались испуганными и встревоженными.
— Не бойся, Чоба! — прошамкала старуха. — Это и вправду благородные господа! — Она взглянула на Михала, поднесла светильник поближе и осклабилась.
Михал отстранился.
И тут Жигмонт заметил, что старый Чоба, с усилием распрямившись, вскинул зазубренный меч. Это могло показаться комичным, но Жигмонт не стал смеяться.
— Да ты настоящий воин, старик! — сказал Жигмонт.
— Случалось бывать в походах! — Чоба опустил меч.
— Вот письмо! — Жигмонт показал письмо, не выпуская из рук. — Есть ли кто в замке?
— Сейчас доложу госпоже! — засуетилась старуха. — Стало быть, Михал и…
— Жигмонт! — Жигмонт улыбнулся. — Ступай, уведоми госпожу!
Чоба запер дверь. В помещении было почти темно. Старуха, удерживая светильник, прошла вперед, к лестнице. Остальные медленно продвигались за ней.
И вдруг на лестнице, на верхней ступеньке, вспыхнул яркий свет. Жигмонт и Михал невольно вскинули головы и посмотрели вверх.
На верхней ступеньке лестницы остановилась девушка со свечой в руке. Пламя большой, оплывающей в простом железном подсвечнике свечи слегка подрагивало. Видно было, что девушка высока ростом. Лицо ее белело светлым пятном. Но сама она казалась темной из-за темного платья и темных волос. Едва взглянув на гостей, девушка со свечой отступила назад, в темноту верхней галереи. Михал запрокинул голову и смотрел на незнакомку. Вскоре раздался голос девушки, звонкий и раздраженный.
— Кто эти люди, Мария?
Казалось, девушка бежала и теперь чуть задыхалась.
— Они с письмом! — крикнула Мария. — Письмо госпоже!
— Тетя уже ушла к себе! Ты же знаешь, она не любит, когда ее тревожат понапрасну! Устраивай гостей, как знаешь! Я запираю верх!
— Не назвал бы такой прием гостеприимным! — смешливо пробормотал Жигмонт.
Они отчетливо услышали, как поворачивается ключ в замке. Девушка запиралась от них.
— Пойдемте, господа, — сказал Чоба. — Мария приготовит вам ужин, а я пока приберу комнаты. Придется вам дождаться утра. Госпожа и вправду не любит, когда ее беспокоят!
— А кто эта девушка? — Жигмонт обернулся к служанке.
— Ивана, племянница госпожи, дочь ее покойной сестры!
— В письме ваша госпожа не назвалась по имени, — заметил Жигмонт.
— Кларинда Шомеги — имя нашей госпожи! — откликнулся старый слуга.
Внезапно Жигмонт слабо вскрикнул и прислонился к стене.
— Что, отец? Что с тобой? — Михал искренне встревожился, взглянув на бледное лицо Жигмонта.
— Сам не пойму, — тихо заговорил Жигмонт. — Старею, должно быть. Вдруг под сердцем кольнуло. Когда-то меня ножом ударили… Ну и вдруг…
— Ты устал. Тебе надо поесть и отдохнуть.
— Спасибо, мальчик мой! Нет, не поддерживай меня, я дойду сам.
Глава 31
Кухня в замке оказалась воистину гигантской. Высокий потолок чернел над головами. Копоть нескольких столетий въелась в стены. В огромном очаге можно было зажарить целого быка. А вертел казался могучим оружием великана.
И среди этих останков былого величия сиротливо ютился ничем не покрытый деревянный стол, окруженный четырьмя простыми скамьями.
Жигмонт и Михал уселись друг против друга. Старая Мария подала две оловянные кружки кисловатого пива, черный хлеб, полголовки жесткого сыра.
— Да, гостей здесь не балуют! — Жигмонт улыбнулся. Он выговорил эту фразу тихим голосом, наклонясь к Михалу. Но служанка, кажется, расслышала и посмотрела на них.
Вначале Жигмонту, да и Михалу казалось, что Мария в кухне разговорится, как все старые служанки, и много чего расскажет о семействе Шомеги. Но старуха была на редкость молчалива. Поставив еду на стол, она скрестила руки на груди и прислонилась к притолоке, словно бы ожидая дальнейших приказаний.
Жигмонт и Михал быстро прикончили скудный ужин и сидели за столом, молча. Говорить при служанке им не хотелось. В кухне было сумрачно и тоскливо. Жигмонт почувствовал, что и вправду устал, нетерпеливо ждал он, когда же придет старый Чоба и проводит их в комнаты. Михал тоже сидел понурившись, о чем-то напряженно раздумывая.
Наконец слуга явился. Должно быть, комнаты находились в таком запустении, что пришлось долго приводить их в относительный порядок.
Жигмонт и Михал поднялись из-за стола. Чоба, держа светильник, пошел впереди. Мария осталась в кухне.
Старик провел их по темному коридору, подвел к двум соседним дверям и подал ключи.
— Вот, господа, ваши комнаты! Завтрак у нас ранний. Госпожа выходит на кухню.
— Благодарю. Возьми! — Жигмонт протянул ему мелкую монету.
Чоба поклонился, поблагодарил в свою очередь, и заковылял по коридору.
— Думаю, завтрак ни в чем не уступит ужину! — Жигмонт улыбнулся Михалу.
Вдвоем они осмотрели комнаты. Убранство этих комнат смело можно было назвать аскетическим. Это скорее напоминало монастырские кельи или темницы, но отнюдь не комнаты для гостей в старинном замке. В каждой комнате стояла узкая деревянная кровать. Тюфяки, подушки и одеяла оказались жесткие, серые, вытертые. На подоконниках узких зарешеченных окон теплились свечи. Никакой воды для умывания гостям не полагалось.
— Интересно, где здесь отхожее место? — заметил Михал.
— Вон там. — Жигмонт указал рукой. — Коридор упирается в стену и там, видишь, поставлена лохань.
— Это называется скромная жизнь! — Михал усмехнулся.
— Подождем до утра. Я действительно устал и мне хочется спать.
Они разошлись, каждый — в свою комнату.
Жигмонт лег и задул свечу.
Из темноты огромного строения доносились шумы, шорохи, невнятные звуки.
Как это часто бывает ночью, из глубины памяти ярко всплывали живые картины воспоминаний. Жигмонт знал этот замок.
В кухне мирно беседовали старые слуги семейства Шомеги, Мария и Чоба. По сравнению с тем ужином, которым Мария попотчевала гостей, угощение, разложенное на столе теперь, могло считаться даже роскошным. Сметана, масло, деревенская колбаса приятно разнообразили утомительную обыденность вечерних часов.
— И, значит, ты узнала его… — нерешительно начал старик, продолжая разговор.
— Сразу же! И будь я проклята, если госпожа Кларинда посылала ему письмо!
— Да, это на нее не похоже! Хотя… Может быть, она решила наконец-то устроить судьбу девочки.
Мария фыркнула.
— Что ты фыркаешь, как дикая кошка? Неужели девчонке оставаться в старых девах и целыми днями молиться да поститься, как ее преподобная тетушка, наша госпожа Кларинда…
Мария перебила его резким хохотом.
— Нечего скалиться! Я говорю дело!
— Может, ты и прав, — Мария вдруг посерьезнела. — А только глупы вы, мужики! Куда как глупы!
— Зато вам, бабам, где господь ума недодал, там дьявол подбавил!
Глава 32
Жигмонт и Михал поднялись рано. Нашли выход во двор, посмотрели коней в конюшне, напоили их, поводили, потом сами умылись у колодца.
Когда они вошли в кухню, там за столом уже сидела Ивана, племянница хозяйки. Стол на этот раз выглядел более пристойно и чисто. При дневном свете они могли разглядеть девушку. Должно быть, ей уже минуло двадцать лет или даже немного больше. Высокая, стройная и тонкая, она все равно производила впечатление сильной. Темные, распущенные по плечам волосы, густые темные брови оттеняли приятно ее нежно-смуглое лицо. Особенно хороши были у нее глаза — темные, глубокие, большие и как-то безоглядно сияющие. Крепко зажав деревянную рукоять ножа в своих длинных, тонких и сильных, но чуть загрубелых пальцах, девушка резала на ровные ломти ковригу ржаного хлеба. Пальцы ее украшало несколько дешевых серебряных колечек, в уши были вдеты большие круглые серебряные серьги. Одета она была в темное синее платье из холста деревенской выделки. В этом странном жилье, где гостям не подавали воду для умывания, девушка выглядела чистой, нежной и доброй. Михал то и дело заглядывался на нее и лицо у него делалось умиленно-мечтательным и немного смешным, как у ребенка, который собирается просить взрослых об исполнении какого-то своего детского желания.
И Жигмонту и Михалу казалось, что они видели эту милую девушку прежде, но где и когда — не припоминалось.
Девушка улыбнулась и пригласила гостей к столу. Они назвали друг другу свои имена. Девушка извинилась за свое вчерашнее поведение — они с тетей живут очень замкнуто, никаких гостей у них не бывает, вот она и испугалась. Нет, о письме она ничего не знает.
— Но тетя Кларинда сейчас спустится и будет говорить с вами.
— Она уже знает о нашем приезде? — спросил Жигмонт.
— Нет, — Ивана покраснела. — Она с вечера не выходила. А я не беспокою ее, у нас так заведено. Но она скоро выйдет! — Девушка глянула на дверь с некоторым беспокойством, затем позвала служанку. — Мария!
Мария тотчас вошла в кухню.
— Мария, принеси молока для тети Кларинды! Скорее! Она скоро выйдет! Я совсем забыла о молоке!
Служанка принесла с ледника небольшой кувшин с молоком.
— Тетя Кларинда любит холодное молоко! — пояснила Ивана. И тут же смутилась тому, что посвящает гостей в столь интимные подробности тетиных вкусов и привычек.
Таким образом, завтрак проходил довольно приятно. Но тетя Кларинда все не являлась.
Наконец все уже открыто томились ожиданием. На лице Иваны появилось выражение испуга. Михалу стало жаль ее.
— Она, наверное, привыкла поздно выходить, — предположил юноша своим мягким доброжелательным голосом.
— Нет, нет! — поспешно и пугливо возразила Ивана. — Она всегда выходит рано!
— Ну, значит, она совсем скоро выйдет! — Михалу было немного досадно на себя — он так неудачно попытался успокоить девушку.
Подождали еще.
Хозяйка не появлялась.
— Надо бы сходить, посмотреть, что с ней! — уронила подошедшая близко к столу Мария.
— Нет, нет! — встрепенулась Ивана. — Я боюсь! Она не любит, когда ее тревожат!
— Мария права! — спокойно вмешался Жигмонт. — Пусть она и поднимется к госпоже. Думаю, та не рассердится на старую служанку!
Ивана сидела, как на иголках, все порывалась что-то сказать, возразить, но Жигмонт делал вид, будто не замечает ее волнения.
— Ступайте, Мария, — сказал он. — Мы будем ждать у лестницы.
Его тон и манера держать себя внушили почтение старой служанке.
Все собрались у лестницы, где уже ждал Чоба. Мария поднялась наверх. Ивана не находила себе места. Она опустилась на ступеньку и закрыла лицо ладонями.
— Это камень, — мягко произнес Михал. — Вы простудитесь!
Она отняла ладони от лица, посмотрела на юношу и вдруг послушно встала.
Страшный протяжный визгливый женский крик заставил всех невольно вздрогнуть.
Кричала Мария.
Вот она появилась на верхней ступеньке, лицо искажено от ужаса, вскинутые руки дрожат.
— Сюда! Сюда! Помогите!
В два прыжка Жигмонт очутился рядом с ней. За ним поспешили остальные.
Они подбежали к двери в спальню. Мария, дрожа, припала к стене. Жигмонт рывком распахнул дверь.
Глазам их открылась широкая с высоким потолком комната. Когда-то потолок украшала лепнина, но теперь многие завитки осыпались, углы затянула паутина.
В комнате царил беспорядок. Широкая постель неприбрана.
На полу лежала женщина. Она пышно раскинулась в этой неуютной комнате. Пальцы ее были унизаны перстнями, на шее сверкало драгоценное ожерелье; алое бархатное платье казалось пылающим костром. Густые темно-каштановые волосы лежащей сбились. Золотая тончайшая пыльца на веках полузакрытых глаз придавала этой удивительной красоте некий сказочный оттенок.
Женщина была мертва!
Жигмонт узнал ее наряд! Он вспомнил слова Маргареты о том, что лишь после ее смерти он увидит ее истинный облик. Но не только красота мертвой поразила его, поразило его и что-то другое. Опустившись на колени, он тихо произносил невнятные слова. Неподдельную горечь выражали его черты.
Михал посмотрел на мачеху. Она лежала сказочно-прекрасная и совсем чуждая, как статуя святой Девы, украшенная для праздничной процессии. Невольно он испытывал жалость к этой мертвой красоте.
— Маргарета, — шептал он. — Маргарета!
Ивана громко плакала.
Мария и Чоба не решались войти.
Жигмонт решительно поднялся.
— Вы знали эту женщину? — он обернулся к слугам.
— Знаю, — Чоба отвечал тихим голосом.
— Знаю, знаю! — Мария подалась вперед. — Это наша госпожа Кларинда Шомеги! Но сроду я не видела у нее такого платья! Ох, красавица моя!
— Ее убили? — Михал подошел ближе.
— Не знаю, — отвечал Жигмонт. — Похоже, она упала и ударилась о выступ камина. Видишь, одна лишь капелька крови, на виске! Бедная! — его голос дрогнул.
Ивана перестала плакать и смотрела на них испуганно.
— Должно быть, это случилось утром, — сказал Михал. — Когда она одевалась, чтобы сойти вниз. У нее могла закружиться голова…
— Нет, Михал! Посмотри на труп! Окоченение было и миновало. Это случилось не сегодня! Возможно, вчера днем!
— Но как она оказалась здесь? — спросил Михал.
— Не знаю, — отвечал Жигмонт с какою-то беззащитной задумчивостью. — Не знаю… Она могла вести двойную жизнь, — он говорил нерешительно, затем обернулся к служанке. — Ты и вправду утверждаешь, Мария, что это твоя госпожа?
— Как на исповеди! — старуха перекрестилась. — Только я и не знала, что госпожа сохранила такие наряды и драгоценности! Вы говорите, она письмо прислала вам! Может, для вас и нарядилась, бедняжка!
— Она не отлучалась из замка?
— Она здесь сызмальства безвыездно живет!
— Вы каждый день видели ее?
— А то!
— Нет, отец, это невероятно! — вмешался Михал. — Ведь и мы видели Маргарету ежедневно! И еще! Смотри! Вот шкатулка с драгоценностями! Разве ты не узнаешь? Ты сам подарил ее Маргарете! А вот что я только что подобрал на полу! — Михал показал отцу двузубую золотую венецианскую вилку. — И эта вещь принадлежала Маргарете! Служанка лжет! Эта женщина — Маргарета, и никем иным быть не может!
— Ты не совсем прав, Михал, — грустно сказал Жигмонт. — Я знал Маргарету и под другими именами! Одно время она называла себя Клариндой! Но так зовут хозяйку этого замка! И Мария, как ты уже слышал, утверждает, будто мертвая женщина — это хозяйка замка, Кларинда Шомеги.
— Служанка может и лгать! — заметил Михал.
— Хорошо! Пока оставим эту загадку! Я хочу побыть наедине с Маргаретой! Выйдите все! И ты, девочка, иди! — обратился Жигмонт к Иване, глядевшей на него с каким-то горестным изумлением. — Уведи ее, Михал!
Михал осторожно взял девушку за руку и повел к двери.
Жигмонт остался в комнате один.
Он присел на неприбранную постель и задумался, подперев ладонью подбородок.
Значит, Маргарета, Кларинда, старуха, та девушка, которую он полюбил в юности, — одно и то же лицо! Маргарета солгала, когда говорила ему о смерти Кларинды! Она сама была Клариндой! Зачем она солгала? О, но ведь это так просто! Она узнала его! И она не хотела, чтобы он узнал в ней ту, которую видел в юности! И те воспоминания, что связывают его с замком Гезале! Значит, все случилось в замке Гезале! Он вспомнил о кольце. Взглянул на руку Маргареты. Вот оно, кольцо, которое он ей подарил!
Он встал, наклонился и подержал руку мертвой женщины.
На какой-то миг ему показалось, будто она жива. И тотчас же он понял, откуда такое ощущение! На столе лежали ее надушенные перчатки и золотой флакон с ароматной водой. Эти запахи, исходившие прежде от живой Маргареты, снова создали мгновенную иллюзию жизни!
Он подошел к столу! Понюхал перчатки, флакон. Взял шкатулку. Ему почудился шорох за спиной. Рука дрогнула.
Шкатулка опрокинулась. Высыпались и блеснули мелкие звенья золотых цепочек, разноцветные камешки серег. Но что это?
Жигмонт увидел знакомое кольцо! То самое, что он когда-то подарил Маргарете! Только что оно было у нее на пальце!
Он быстро наклонился к мертвой.
Сличил кольца.
Одинаковые!
Та же знакомая печатка — в центре — мужская фигура, по обеим сторонам от нее застыли птицы — две — с девичьими ликами!
Что это значит?
И та девушка, давно, тогда, та девочка… И она была все тем же лицом, все той же Клариндой-Маргаретой.
Но нет, он знал, что это не так! Та давняя телесная близость и близость с Маргаретой — это было совсем по-разному! Да, но она хранила обличье старухи! Но если бы не обличье, ничего бы не могло быть!..
Маргарета могла заказать точно такое же кольцо! Зачем? Ну, хотя бы для подарка ему! Что же, это объяснение.
Но кто же она, мертвая красавица, лежащая перед ним?
Она не может быть одновременно его подругой, девушкой, испытавшей в жизни столько приключений, придворной дамой, и… старой девой, всю жизнь проведшей в заброшенном замке в глуши! Тогда…
… остается единственное объяснение — двойничество! То самое, которому Кларинда-Маргарета училась у голубоглазого старика! Значит, она лгала, когда уверяла, что так и не выучилась создавать иллюзии? Прекрасно выучилась!
Хозяйки замка нет! Значит, она-то и была искусственно созданным двойником! Маргарета мертва и — нет иллюзии! Исчез двойник!
Как погибла Маргарета? Не выдержала напряжения? Столько лет…
Но то, давнее, что оно было?
Нет, не сходится.
Жигмонт посмотрел на раскинутую перед ним пышную мертвую красоту. Была в этой пышной раскрытости какая-то щемящая беззащитность!
Он наклонился, поднял ее на руки, уложил на постель. Присел рядом… И снова явственно расслышал громкий шорох за спиной.
Глава 33
— Я, пожалуй, спущусь в кухню, — нерешительно сказала Мария.
— Обожди! — Чоба прислонился к стене. — Господин Запольи сейчас выйдет! Он велел дожидаться!
Мария растерянно кивнула и остановилась рядом с ним, теребя передник.
Михал и Ивана стояли внизу.
Они продолжали оживленный разговор.
— Отец сейчас выйдет!
— Он, должно быть, очень любил ее?
— Думаю, да!
Девушка вздрогнула.
— Тебе холодно?
— Нет, нет! — быстро проговорила она.
— Ты дрожишь!
— Я просто хочу, чтобы все скорее кончилось!
— Ты что-то знаешь?
— Нет, нет!
— Я сделал это из-за тебя! Конечно, это глупость, мальчишество! Теперь я понимаю!..
— Не надо, не надо ни о чем говорить! Я хочу, чтобы все скорее кончилось!
— Тише!
— Мы и так тихо говорим! Наверху не слышно!
— Ты понимаешь, все дело в том, что я люблю тебя!
Жигмонт резко обернулся.
Хлопнула дверца.
А, вот оно! Ниша в стене!
Ему захотелось стучать, бить кулаками в дверь. Но он быстро подавил это желание.
— Выйдите! — тихо и внятно произнес он.
За дверцей молчали.
Он вдруг ощутил, что там — женщина! Почувствовал какое-то волнение.
— Выйдите! Я не причиню вам зла!
Дверца отворилась. Женщина скользнула к нему. Двойник!
В темном холщовом платьице, похожем на одежду Иваны, она казалась более худощавой, более хрупкой, по сравнению с Маргаретой. Темные волосы густым жгутом падали на плечи, на затылке были стянуты витым красным шнурком. Она немного горбилась, казалась робкой, неуверенной, растерянной.
Жигмонт вспомнил давнюю сцену у Северных ворот. Тогда двойник слуги из кабачка поразил его тем, что казался человеком, изображающим самого себя. И теперь?..
— Кто ты на самом деле? — быстро спросил он и шагнул к ней.
— Прости меня, — она отступила назад. — Я — это я! Это вправду я сама. Я — Кларинда! Вспомни меня! Я всю жизнь… Я всегда тебя помнила!.. Я не виновата!.. Это случайно… Только поверь мне!.. Я — это я!..
Но Жигмонт уже знал — она говорит правду! Он почувствовал знакомое волнение, то, давнишнее. Забилось сердце, телесное возбуждение начало овладевать всем его существом. Сейчас он перестанет владеть собой. Так было однажды — тогда, давно. Он посмотрел на нее. Кажется, она испытывала то же, что и он. Казалось, она вот-вот потеряет сознание. О, она осталась все той же, давнишней, прежней девочкой! Но он уже много лет, как был не юношей, почти подростком, но взрослым зрелым мужчиной, который умел справляться с собой!
— Успокойся, — он по-прежнему говорил тихо. — Я верю тебе. Я помню тебя.
Он взял ее за руку, потянул к постели, но она упиралась, как перепуганный ребенок. Ну да, ведь на постели лежала мертвая!
Он посмотрел на мертвую Маргарету, после — на Кларинду. Они были отражением друг друга! Разница в одежде и, вероятно, при жизни Маргареты, в манере держать себя, лишь подчеркивала их необычайное сходство.
Он отпустил руку Кларинды.
Снова присел на постель рядом с мертвой. Покачал головой. И вдруг тихо засмеялся.
Кларинда замерла, глядя на него.
Как все просто! Ни двойников, ни иллюзий! Самая обычная, самая заурядная игра, вялая привычная забава старушки-природы — близнецы!
Жигмонт распахнул дверь.
— Входите все!
Михал, Ивана и слуги вошли. У старой Марии подкосились ноги, она бессильно опустилась на пол.
Ивана мгновение стояла на пороге, затем бросилась к испуганной Кларинде, обняла ее, нежно прижалась, обернулась к Жигмонту, крикнула:
— Не мучайте ее!
Михал нахмурился и мрачно глянул на Жигмонта.
— Ну! — бросил Жигмонт старым слугам. — Вы знаете эту женщину?
— Думаю, это госпожа Кларинда, — пробормотал Чоба и потер ладонью лоб.
— Госпожа Кларинда, — тихим эхом отозвалась Мария.
— Ничего не бойтесь! — продолжал Жигмонт. — Никакого колдовства здесь нет! Эти женщины — близнецы! Имя мертвой — Маргарета, она была моей женой! Должно быть, их разлучили еще в детстве!
Мария перекрестилась.
— Произошло убийство или несчастный случай! — Жигмонт вышел на середину комнаты. — Я здесь — в сущности, единственный представитель королевской власти! Я хотел бы прояснить дело!
— Ну, вот и мы под властью! — хмыкнул Михал. — Сначала — убийство, потом — власть! И никогда не бывает так, чтобы власть пришла первой и предотвратила убийство!
— Михал, хочешь знать, в чем разница между мной и тобой? — глаза Жигмонта смешливо блеснули.
— Допустим, хочу!
— Ты все чего-то хочешь, чего-то требуешь от людей! А они, конечно, не подчиняются твоим желаниям! Тогда ты сердишься на них и считаешь их очень плохими существами! Себя ты иной раз считаешь несправедливо обиженным, а то ищешь оправдание своим дурным поступкам в природе человека, якобы весьма дурной. А со мной все иначе! Я от людей ничего не хочу, никогда не сержусь на них!
— Будто тебе не приходилось мучить, убивать людей! — перебил Михал.
— Разумеется, приходилось! И еще много раз придется! Но я все равно ничего от людей не требую и не считаю их гадкими и порочными. Я только радуюсь, когда люди ошеломляют меня внезапной добротой, любовью или милосердием! А больше всего я радуюсь, когда мне самому удается быть таким — добрым, милосердным, когда я люблю и мое тело дает радость женщине!
Михал пожал плечами и улыбнулся. Улыбнулась Кларинда.
— Теперь один простой вопрос! — Жигмонт обернулся и глянул на Кларинду, указав на нее рукой. — Я знаю, что Маргарета была прекрасной наездницей! Сюда она, конечно, приехала тайком. Значит, ей не было смысла оставлять лошадь в деревне. В конюшне тоже нет ее лошади!
— Она могла в пути сменить лошадь, — робко сказала Ивана.
— Не могла, — Жигмонт покачал головой. — Это не игрушка, а живое существо, любимое притом! Где же лошадь Маргареты?
— Привязана у старой коновязи на заброшенном пастбище, — произнесла Кларинда ровным голосом. — Там и вода для нее, и корм.
— Верю! — Жигмонт кивнул. — А теперь я хочу знать, что же все-таки произошло?
Этот вопрос был задан именно Кларинде.
Она осторожно отвела руки Иваны, выпрямилась и заговорила все тем же ровным, без всякого выражения, голосом:
— Маргарета — моя сестра. Мы — близнецы. В детстве нас и вправду разлучили. Она приехала сюда тайком и встретилась со мной. Мы говорили ночью, в моей спальне. Многое вспомнили, а о многом я узнала впервые. Мы поссорились. Мы грубо набросились друг на друга, такая жестокость свойственна женщинам. Я толкнула Маргарету. Она упала и ударилась о выступ камина. Я наклонилась над ней. Но она уже была мертва. Я не хотела убивать ее. Правда — не хотела. Это случайность.
— Это — вся правда? — спросил Жигмонт.
— Это — моя правда о смерти моей сестры, — отвечала Кларинда. — Каждый из нас знает и какую-то другую правду.
— Надо, чтобы каждый из нас рассказал свою правду! — внезапно воскликнула Ивана.
— А ты не боишься? — теперь Жигмонт смотрел на девушку. — Встреча наша — случайна. А то, что принято называть «правдой», это ведь почти всегда нечто не очень приятное! Впрочем, я охотно расскажу о себе. Теперь, после смерти Маргареты, я снова хочу изменить свою жизнь, и, должно быть, скоро покину эту страну!
Кларинда кусала губы.
— Ты предлагаешь начать с тебя? — спросил Михал.
— Нет. Я полагаю, мой рассказ слишком смутит всех. Лучше приберечь его к концу! А начать хорошо бы с человека, чья правда, наверняка, проста и скромна — с Чобы!
— Я готов! — сказал старый слуга.
Жигмонт сидел на постели рядом с мертвой Маргаретой. Михал пристроился на широком подоконнике. Кларинда и Ивана сели на стулья у стола. Мария так и осталась сидеть на полу, поджав ноги под платьем. Сидевший рядом с ней, тоже с поджатыми ногами, Чоба хотел было встать, но Жигмонт махнул рукой.
— Рассказывай сидя. Так тебе будет удобнее!
— Моя правда и вправду больно проста, — начал Чоба. — Мы с Марией из одной деревни. Деревня наша — далеко, в горах. Мы были еще молоды, когда пришли в город — наниматься в услужение. Мы стояли на рынке, в крытой галерее, где обычно и стоят те, кто хочет наняться. Нам повезло. Нас взял в слуги господин из замка Гезале. Здесь, в этой глуши, мы и жили. Отсюда до ближайшей деревни — не рукой подать. Кое-какие слухи до нас доходили. Говорили, что господин сослал в монастырь свою жену, за измену. У него было две дочери. Старшую он будто отдал на воспитание. После она вроде бы вышла замуж, а, может, и нет, но это уже не моя правда, ее расскажут другие. Знаю я еще и правду Марии и простил ей эту ее правду, но пусть она сама скажет, коли захочет! Вот и все! О том, что дочери господина — близнецы, я узнал лишь сегодня!
— Теперь мой черед? — спросила Мария.
Жигмонт кивнул.
— Чоба уже часть моей правды сказал. А то, что он простил, я и это вам открою, раз уж так странно свела час судьба. Много лет я делила с господином постель, это, правда, было. Но он не сделал меня своей доверенной, ничего мне не рассказывал. Был он человек очень уж мрачный, нелюдимый. Всегда ли он был таким, не знаю!
О близнецах и я узнала лишь сегодня. Знаю я и одну тайну госпожи Кларинды, но это уже не моя правда, и пусть эту правду рассказывает та, которой она принадлежит более, чем мне!
Господина Михала я видела прежде и тотчас узнала, когда он приехал в замок с отцом, но и эту правду те, которым она принадлежит более, чем мне, расскажут лучше меня!
Мария замолчала.
Глава 34
— Благодарим тебя, Мария, — спокойно произнес Жигмонт. — А теперь, я думаю, пусть скажет Михал.
Юноша чуть подался вперед.
— Хотите знать мою правду? Я скажу! Хотя рискую показаться глупым, не по возрасту глупым!
— Зачастую глупостью именуют многие проявления душевной открытости, страстности и чистоты! — вставил Жигмонт.
— Нет, отец, моя глупость — самая обыкновенная глупость! Письмо, якобы посланное из Гезале, написал я! Никто, никакой посланный, конечно, не привозил это письмо, я сам запечатал его и отнес в твою комнату!
— Я знал, что это твоих рук дело! — Жигмонт улыбнулся.
— Как ты догадался?
— Я человек невнимательный и не могу назвать себя догадливым, сметливым! Но здесь мог догадаться даже я! Помнишь, я подарил тебе печать?
— О! — Михал покраснел и спрятал лицо в ладони, пригнув голову.
— Да! То самое! Ты запечатал письмо этой печатью! Конечно, ты сделал это вовсе не по глупости, а по рассеянности! Не тем были заняты твои мысли!
— Ты сказал Маргарете? — Михал отнял ладони от лица.
— Нет! Зачем было выставлять тебя в смешном виде! Но теперь я жалею о том, что не сказал! Быть может, все сложилось бы иначе, и сегодня она была бы жива!
— Ты можешь предположить, зачем она поехала тайком в Гезале? Ведь она говорила, что уезжает гостить к своей приятельнице, ты сам проводил ее до большой дороги!
Все молчали, глядя на Жигмонта.
— Теперь я кое-что понимаю! — начал он. — Но это еще не вся моя правда, предупреждаю вас, свою правду я берегу до конца! Итак, Маргарета хотела увидеться с сестрой. Должно быть, она колебалась и все откладывала исполнение этого своего намерения. Но они ведь не виделись с детства и Маргарету можно понять! Узнав о письме, она заволновалась, начала строить предположения, домыслы. Сначала хотела ехать с нами, со мной и Михалом! Затем, видимо, решила, что этого делать не нужно, и поехала в Гезале тайком! Она знала, когда мы собираемся выехать и опередила нас. Но возникает естественный вопрос — зачем понадобилось Михалу писать это странное письмо?
— Я отвечу на этот вопрос. — Михал оперся растопыренными пальцами обеих рук о подоконник. — Когда…
— Прости, что перебиваю тебя — вступил вдруг Жигмонт. — Ведь незадолго до написания письма ты охотился в Гезале, в лесу. И, конечно, письмо связано с этим. И теперь я даже догадываюсь… Но лучше объясни сам, ведь эта правда принадлежит тебе.
— Когда я ехал в Гезале на охоту, я хотел увидеть замок моих предков. Да что говорить, я из-за этого и затеял ехать, а вовсе не из-за кабанов, хотя таких кабанов мало где найдешь — свирепые, как волки!
Ивана быстро улыбнулась и тотчас сжала губы.
— Отец знает, что я поехал не один, со мной было несколько приятелей и слуги. Приятели мои знали, что Гезале — старинное гнездо рода Запольи. Мы славно поохотились. Спутники мои и слуги отправились в деревню — решили разделать и приготовить кабана и устроить небольшую пирушку…
Этот рассказ о веселье и забавах молодых людей вызвал невольные грустные улыбки у всех, ведь так далека была эта беззаботная жизнь от всего, что происходило сейчас, в неуютной сумрачной комнате.
— Друзья понимали, что мне хочется увидеть замок, и увидеть его одному, чтобы никто не был свидетелем моего волнения. И когда я сказал, что вернусь в деревню кружным путем, все охотно согласились.
Я пошел в лес напрямик. Выбрался на поляну, потом чуть не свалился в овраг с холма. Наконец вдали показались смутно видимые башни замка. Я решился приблизиться. Теперь я шел медленно. Я хотел увидеть замок, но одновременно мне хотелось длить ожидание.
Вдруг до моего слуха долетели звонкие женские голоса. Я прошел еще немного и, стоя в кустах, раздвинул ветки. Открылась поляна, усеянная ягодами. Три женщины весело собирали ягоды, то и дело с удовольствием кидали горсточку в рот, пересмеивались. Одна из них была уже стара и по виду служанка. Вторая, крепкая и круглолицая, должно быть, из той самой деревни, куда я собирался пойти к приятелям. Третья была одета скромно, но вся ее повадка выдавала благородное происхождение. То, как изящно она наклонялась, как откидывала на плечи пышные пряди… Вот она распрямилась и улыбнулась. После эта нежная смешливая улыбка мне все время снилась!
— Эй! — крикнул я.
Конечно, это тоже было глупым мальчишеством. Следовало просто выйти, поклониться и назвать свое имя!
Женщины испугались моего крика и побежали.
— Эй, стойте! — я уже понимал, как глупо все вышло, но продолжал делать глупости, почему такое бывает — начнешь делать глупости, уже все понимаешь, но остановиться не можешь…
Видя, как они побежали, я выскочил из кустов и погнался за ними. Не похоже было, что они испугались всерьез. Я слышал их смех. Круглолицая девушка из деревни бежала с двумя корзинками в руках — она несла корзинку моей красавицы. Вот молодая крестьянка споткнулась о выступающий корень, и тут я крепко ухватил ее за руку, пониже локтя.
— Пустите, господин, пустите! — закричала она и выронила корзинку. Ягоды рассыпались.
До меня донеслись голоса ее спутниц, я понял, что теперь они немного встревожились.
— Я тебе зла не сделаю, — сказал я девушке. — Ты только скажи мне, кто это с тобой?
Я уже встречал таких женщин, которые чутьем угадав чужую влюбленность, делаются наглыми и насмешливыми; вот и эта девица была из таких. Она посмотрела на меня дерзко и расхохоталась. И вдруг подставила мне ножку. Я шлепнулся, а она крикнула, убегая:
— Это племянница госпожи Шомеги из замка Гезале!
Конечно, я тотчас вскочил. Я понимал, что я смешон, но что мне было делать!
— А я — Михал Запольи! — крикнул я в ответ.
Еще некоторое время до меня доносились голоса и смех. Я не стал преследовать их. Да и в замок я теперь раздумал идти. Повернул назад и скоро был в деревне. Хотел было расспросить местных о Гезале и его нынешних владельцах, но смущался и спрашивать не стал.
Теперь я знаю, что в лесу тогда встретил Ивану и Марию!
Наверно, от любви глупеют! Я ломал голову — как увидеть мою красавицу? Хотя, казалось бы, чего проще — я всегда мог поехать в Гезале. Но я что-то такое нелепое и странное придумывал. Теперь-то я понял: я просто стеснялся, страстно хотел ее увидеть и в то же время боялся ее увидеть. Короче, если бы вдруг явился волшебник — исполнять мое заветное желание — он бы просто не знал, как быть со мной.
— Должно быть, эта неопределенность желаний — самая отвратительная и самая очаровательная человеческая черта — задумчиво произнес Жигмонт.
— И вот, — продолжил Михал, поудобнее усаживаясь на подоконнике. — Я выдумал эту глупость — написать письмо от имени хозяев Гезале с приглашением отцу приехать. Мне показалось, если я приеду с отцом, я не буду робеть и… она не поймет, что я приехал из-за нее. Хотя… я желал, я жаждал, чтобы она все поняла!
Ивана наклонила темноволосую голову. Кларинда посмотрела на девушку и улыбнулась.
— Когда я подал тебе, — помнишь, за обедом, — это письмо, написанное левой рукой, ты серьезно взял его и некоторое время рассматривал, словно изучая. — Жигмонт засмеялся. — Но я заметил, что ты держишь письмо вверх ногами и сам понимаешь это. Я об одном жалею — зачем я не сказал обо всем Маргарете. Если бы она узнала, что это странное письмо — всего лишь уловка влюбленного, она бы не испугалась и не поспешила бы тайком в Гезале. Но я не хотел выставлять тебя в смешном виде. Я поступил дурно. Маргарета все могла бы понять, она умела чувствовать так тонко и красиво.
Кларинда тихо заплакала. Ивана нежно гладила ее руку.
— Ну вот, — Михал вздохнул. — Кажется, я все сказал — он помолчал, перевел дыхание. — Я хотел бы жениться на Иване. Если она согласна.
— Думаю, согласна, — лукаво заметил Жигмонт.
— Я еще ничего не сказала! — девушка резко вскинула голову, голос ее звучал звонко и открыто.
— Тогда, стало быть, твоя очередь говорить — Жигмонт повел рукой.
Глава 35
— Моя правда, — начала Ивана, — простая правда! Хотя не знаю, захочет ли Михал взять меня в жены, если узнает все — она говорила быстро, словно боялась, что юноша перебьет ее и станет уверять в своей любви. — Я знала, что мои родители умерли, когда я была совсем маленькой. Сначала я жила в городе с кормилицей. Иногда меня навещала Мария. Она говорила, что у меня есть тетка, которая возьмет меня. Потом меня увезли в деревню. Я увидела свою тетку, она, казалось, очень любила меня, даже какой-то болезненной любовью. Но в замок меня не взяли; Мария сказала, что дед не хочет видеть меня, потому что моя мать вышла замуж против его воли.
В деревне было тоскливо. Я часто плакала, тяготилась жизнью. Я знала, что красива. Мне хотелось полюбить. Хотелось, чтобы меня полюбил тот, кого полюблю я. Мне было пятнадцать лет, когда я подумала, что люблю одного из деревенских юношей. Мне было стыдно, но я открылась ему. И в ответ получила лишь презрительный отказ и грубую насмешку! После я поняла: ведь все знали, что я знатного рода, и боялись; тот, кто решился бы любить меня, мог понести наказание. Но год спустя нашелся такой мальчик. Он был сыном кузнеца. Не стану лгать, мне было хорошо. Я уверяла себя, что влюблена. Кажется, и он полюбил меня. Я узнала, что такое поцелуи и мужские ласки, но принадлежать ему душой и телом я не решалась, что-то удерживало меня. Мне казалось, что этого делать не следует. А потом случилось несчастье. Юношу нашли на берегу лесного озера. Он, должно быть, купался и захлебнулся. Его выбросило на берег. В тот день было ветрено, озеро волновалось. Я плакала, мне думалось, что жизнь моя кончена, ничего больше не будет. Вскоре за мной пришли из замка, Чоба и Мария. Поначалу в замке мне было совсем плохо, я не должна была попадаться на глаза деду, за мной следили все — тетка, Мария, Чоба. Дверь моей комнаты запирали. После смерти деда стало немного легче. Я постепенно успокоилась, перестала жить надеждами и ожиданием. Я помогала Марии вести хозяйство, беседовала с тетей. Она рассказала мне о том, что они с сестрой рано осиротели, потеряли мать. Мачеха изменила отцу и с тех пор он вел тоскливую жизнь одинокого чудака. О моих родителях тетя не рассказывала. Я подумала, может быть, она была с ними в ссоре…
— Все это ничего не значит! — с горячностью произнес Михал. — Мне приходилось уже любить женщин и сближаться с ними. То, что произошло с тобой, случается с каждой девушкой. Не думай об этом!
— Михал еще не знает всего, — Ивана отвела глаза.
— Никто не знает всего — вдруг раздался сумрачный голос Чобы. — Ивана, ведь это я утопил парня. Твой дед мне приказал. Но если ты сегодня узнаешь обо всем, ты поймешь…
— Я понимаю все больше и мне все тяжелее — девушка вытерла слезы тыльной стороной ладони. — Видишь, Чоба, я даже не изумилась, не вскрикнула… Но я должна говорить дальше!
Та случайная встреча с Михалом в лесу, словно пробудила меня от заколдованного сна! Вновь расцвели надежды и мечты. Ведь этот человек был мне ровней! Я думала: пусть я даже незаконнорожденная, все равно мать моя была знатного рода. Но тотчас я принималась бранить себя за глупость, я говорила себе, что это смешно — воображать, будто человек может влюбиться в девушку, которую он и не разглядел, должно быть, толком. Но все эти пустые слова захлестывало одно чудесное ощущение — я чувствовала себя любимой!
И еще — прежде, чем я расскажу о самом странном и страшном, — Михал признался мне, что письмо написал он! Я не думаю, что ему было легко это сделать, никому не захотелось бы признаваться в подобном, ведь я могла счесть его просто глупым мальчишкой. Я ведь старше его. Правда, на немного… — она смутилась и покраснела.
Кларинда отвернула лицо, чтобы девушка не заметила ее улыбки.
— Нет! — воскликнул Михал. — Мне было легко признаваться тебе во всем. Потому что я уже знал — ты любишь меня. Я это почувствовал!
Я буду говорить дальше, — Ивана не смотрела на юношу. — Моя комната — наверху, рядом — спальня тети. В ту ночь меня разбудили голоса. Я удивилась, испугалась. Даже Мария никогда не входила в тетину спальню. Я тихонько встала и вышла из своей комнаты. Из-под соседней двери пробивался свет. Я знаю, что поступила дурно, но я наклонилась, потом встала на колени и припала к замочной скважине.
В комнате ярко горели два светильника. Рядом с тетей Клариндой я увидела красавицу в таком нарядном платье, какое мне и присниться не могло! Они сидели рядом на постели. Но вот я пригляделась. Чудо! Это была одна и та же женщина в двух обличьях! То же лицо, те же движения и жесты! Я услышала их голоса — то был один голос! Они шутили, смеялись. Потом обменялись платьем. Потом снова оделись — каждая — в свою привычную одежду. Я услышала их беседу, узнала столько удивительного! Но это — уже не моя правда, эту правду расскажет та, которой она принадлежит более, чем мне!
— А где же кольцо? — спросила красавица.
— Я потеряла! — ответила сестре Кларинда. — Я все расскажу…
Но Маргарета ласково прервала взволнованную сестру и заговорила о чем-то другом — об одежде и украшениях. Маргарета взяла со стола шкатулку и раскрыла ее. Она достала странный золотой предмет, похожий на маленькие вилы, и протянула сестре. Та отказывалась, затем приняла подарок. Маргарета стала уговаривать ее принять все, что было в шкатулке. Кларинда смеялась и качала головой. Потом принялась перебирать содержимое шкатулки. Я видела, как блестит золото и сверкают драгоценные камни. Но вдруг Кларинда вскрикнула. Она держала маленькое колечко и показывала сестре. Та побледнела и стала говорить, что заказала это кольцо для своего мужа.
— Нет! — закричала Кларинда. — Это он дал тебе! Он… Он — твой муж!
Они заговорили, перебивая друг друга. Потом бросились друг на друга. Это было страшно — видеть борьбу двойников. Маргарета схватила золотые вилы и пыталась выколоть глаза сестре. Должно быть, обе уже не владели собой. Кларинда вырвалась и с силой толкнула Маргарету. Та упала и ударилась о каменный выступ… Я зажала рот ладонью — боялась закричать. На память мне приходили все страшные сказки, слышанные в детстве в деревне.
Я не выдержала и вбежала в комнату. Маргарета была мертва. Мы растерялись. И тут — ваш приезд! Я узнала Михала! И еще… я скажу… Мы заперлись наверху… Утром я спустилась… Я уже успокоилась и во всем положилась на волю Бога. Я знала, что Кларинда — невиновна… Я не стану говорить чужой правды, но в ту ночь я узнала, что Кларинда — моя мать, а вы — девушка указала на Жигмонта, — мой отец!
— Сестра! — убитым голосом выговорил Михал. — Сестра!.. Он чуть не заплакал. Затем вдруг прижал ладонь ко лбу. — Так вот на кого она похожа! — Юноша обращался к отцу. — На тебя и на Маргарету. Она и улыбается, как ты.
В его отчаянии ощущалось что-то преувеличенное, неестественное, как во всяком искреннем отчаянии. Выражение притворных чувств всегда выглядит гораздо естественнее. В покрасневших глазах, наполнившихся слезами, в дрожащих по-детски губах, в унылом лице — было даже что-то комическое.
— Однако, подобные утверждения следует доказывать! Иначе у меня будет слишком много детей! — Жигмонт оглядел всех, улыбаясь своей смешливой улыбкой, сияя нежными глазами.
В сущности, не происходило ничего смешного. На постели лежал труп. Делались мучительные унизительные признания. Но когда этот человек улыбнулся, все остальное вдруг показалось нереальным, почти несуществующим. Первой улыбнулась Ивана. За ней — Кларинда. Сквозь слезы усмехнулся Михал. Хихикнула Мария. Хмыкнул Чоба.
— Теперь позвольте мне рассказать мою правду — сказала Кларинда, все еще улыбаясь.
— Говори! — произнес Жигмонт уже серьезно.
Она немного помолчала.
Все ждали.
— Итог моей жизни — бескрайнее раскаяние, — заговорила Кларинда. — Я чувствую себя виновной. Я не прошу простить меня. Я сама никогда не прощу себя. Мы были две сестры — близнецы. Странные девочки мы были. Когда тяжело заболела наша мать, она просила отца беречь нас. По ее указанию были сделаны для нас два колечка с печаткой, изображавшей мужскую фигуру, а по обеим сторонам от нее — двух птиц с девичьими ликами. Бедная мать считала, что это символизирует нашу семью — отца и двух дочерей. Но как странно все обернулось! Это изображение сделалось символом нашего горя. Сейчас одно из этих колец — на пальце моей сестры, другое — в ее шкатулке. Пусть оба они теперь принадлежат ей. Пусть ее похоронят с ними, пусть с ними она обретет вечный покой!
Маргарета была бойчее, смелее меня. Отец больше любил ее. Это мучило меня. Мачеха изменила отцу и он отправил ее в монастырь. Тогда мы уже поселились в этом замке. Кажется, отец выиграл его в кости у прежнего владельца, пристрастного к азартным играм. Ночью Маргарета одна отправилась верхом в лес, чтобы выследить мачеху после того, как отца принесли мертвым с охоты. Но утром отец вернулся. Оказалось, что, упав в овраг, разбился другой человек, — любовник матери. Кажется, отец устроил все это нарочно. Все это мне рассказывала сестренка, горячась и путаясь по-детски. Мы не были привязаны друг к другу. Нам казалось несправедливым, что мы так похожи, так повторяем друг друга. Каждая из нас мечтала о том, чтобы остаться одной!
Человеку, который помог ему расправиться с любовником жены, отец обещал отдать одну из нас. Я не знаю, как он на это решился. Должно быть, мучительные страсти одолели его. Этот человек явился в замок. Он был уже немолод. Я запомнила его необычайно яркие голубые глаза. Он посмотрел на нас и предоставил отцу выбирать. И отец выбрал меня!
— Возьмите Кларинду! — сказал отец.
Старик согласился.
Сколько раз мы мечтали о том, как избавимся от взаимного унизительного сходства, превращающего нас в какой-то курьез, в игрушку природы. Мы хотели жить, существовать каждая — сама по себе, а не в роли близнецов, интересных лишь тем, что они — близнецы. Когда мы вошли в свою комнату и стали переодеваться, Маргарета уговорила меня остаться в замке.
— Когда меня не будет, отец полюбит тебя! А я так хочу путешествовать!
Я колебалась. Пожалуй, мне хотелось остаться. Но почему Маргарета не хочет остаться? Может быть, это скучно, плохо? Но в конце концов сестра уговорила меня. Она назвалась моим именем и старик увез ее. Она долго называлась моим именем, и когда рассказывала о своем детстве, рассказывала так, будто меня и не было никогда. Об этом я теперь знаю. Она пережила много приключений. От нашего двойничества она избавилась, но сама мысль о двойничестве бессознательно влекла ее. Старик счел, что мы наделены сильной волей. Одну из нас он решил научить странному ремеслу создания иллюзий. По его желанию люди видели все в том виде, в каком ему хотелось. Такой силой обладали его желания. Людей опасных ему он подчинял себе, делал своими учениками или убивал. Он часто забавлялся тем, что показывался людям в обличье их двойников. Немногие это выдерживали.
После отъезда сестры я осталась в замке. Я не стала выдавать себя за Маргарету и честно все рассказала отцу. Я видела, что он скучает по ней. Я стала задумываться — значит, отец видит нас разными! Для него мы не были двойным изображением одного и того же предмета. Постепенно мы с отцом подружились, много говорили. Я стала думать о сестре, я все острее ощущала, что она совсем не такая, как я. Я начала скучать о ней, представляла себе ее путешествия и завидовала ей.
Я была почти подростком, когда случилось то, что я не могу назвать никаким именем — если это горе, то почему я была наперекор всему так счастлива; а если это счастье, то почему я и теперь страдаю от этого!
В моей спальне есть маленькая дверца. Она ведет в подземный ход, прорытый давно, прежними владельцами. В эту комнату я переселилась уже после отъезда Маргареты и, кажется, только я знаю о подземном ходе. Часто я приоткрывала дверцу и вглядывалась в темный коридор. Я воображала, будто смело пускаюсь в путь навстречу приключениям, но совершить такой поступок в реальности я не решалась. Боясь, что Мария, служанка, раскроет мою тайну, я выпросила у отца ключ и запирала дверь.
Однажды я сидела в своей комнате и перебирала оставшиеся после матери вышивки. Это было после полудня, было тепло по-летнему. Отец пропадал где-то на охоте. Мария и Чоба занимались хозяйством. Солнце мягко грело. За окном жужжали пчелы в ветвях цветущих лип. Я любила перебирать материны вещи. Это давало мне иллюзию дела, а мне кажется, что когда человек занят каким-то необременительным для его сознания делом, ему легче мечтать.
Внезапно дверца в стене тихо отворилась. Почему-то я не почувствовала испуга. В комнату вошел юноша, чуть постарше меня. Он был одет в чужеземную одежду, изорванную, запачканную землей и песком. Он показался мне очень усталым, измученным. Солнечный свет в комнате ослепил его усталые глаза. С закрытыми глазами он бессильно прислонился к стене. Я смотрела на него. Черты лица у него были правильные, красивые. Я очень хотела помочь ему, но что-то смущало меня. Внезапно глаза его открылись. Он улыбнулся и шагнул ко мне. Очарование его улыбки заключалось в какой-то нежной смешливости и безоглядности. Я не могу понять, что случилось с нами. Мы даже не спросили друг друга ни о чем. До этого я даже и не думала о том, чтобы влюбиться в кого-нибудь. Я не знала, как любят телесно. Но в тот день я все постигла. Мы были едины, одно существо! Я поняла, почувствовала, зачем даны мне губы, руки, язык, междуножье, груди. Я не боялась и не стыдилась. А он… Он, казалось, наслаждался с какой-то странной бережностью, предавался каждой частице моего тела.
После мы сидели друг против друга на полу и глядели друг на друга с изумлением, молча, усталые и счастливые. Юноша улыбнулся и чудесным жестом приложил указательный палец к приоткрытому рту, чуть запрокинув голову. Я поняла, что он просит пить. Я схватила свое брошенное платье. Он тоже поднял свою одежду.
— Ты хочешь пить? — спросила я. — Сейчас я принесу тебе пить. И поесть — я уже стояла у двери.
Он внимательно слушал, пока я говорила. Он протянул руку и произнес медленно, чужой язык затруднял его:
— Да. Принеси.
На кухне я наполнила разной снедью корзину, с которой Мария ходила в лес за ягодами и грибами. Нашла и большую флягу с вином. После поднялась к себе в комнату. Мы стали есть и пить. Я называла разные предметы, бывшие в комнате, он повторял за мной новые для него слова. Мы смеялись. Затем он поднялся. Лицо его сделалось серьезным. Он приложил ладонь к груди. Я не удерживала его. Почему? Это было бы все равно, что пытаться удержать солнечный свет или край голубого неба в окне. Я даже не могла понять потом, тоскую ли я. Но я почувствовала, что это странное любовное наваждение возможно только с ним! Это странно, но, должно быть, и вправду бывают люди, созданные друг для друга. И как редко, должно быть, им удается встретить друг друга. Я протянула ему корзину с еще оставшейся едой, он помедлил, посмотрел как-то испытующе, но взял. Вот он уже шагнул к дверце в стене. И тут я подбежала и протянула ему кольцо, то самое. Я взяла его за руку и надела кольцо ему на палец. Он улыбнулся, словно прося прощения, и тихо проговорил:
— Нечего мне тебе подарить.
Он обнял меня свободной рукой, на пальце которой уже блестело мое колечко, и нежно поцеловал в губы.
Кажется, Мария все искала корзину и припасы, и флягу с вином, и грешила на бедного Чобу.
Я не буду говорить подробно, но прошло какое-то время и я стала замечать в себе некие перемены. Я подумала, что я больна и испугалась. Мария тоже заметила мое состояние и однажды, когда мы были в кухне вдвоем, она обняла меня и объяснила, что у меня будет ребенок. Она принялась осторожно расспрашивать. Я рассказала ей о незнакомце, но о дверце, ведущей в подземный ход, я не сказала ничего; я говорила, что встретила юношу в лесу. Мария поверила мне, но удивилась, что мы даже не назвали друг другу наших имен. Мне стало жаль ее. Она, бедная, не знает, что такое любовь, когда нет нужды в именах. Но она очень помогла мне. Она сказала отцу, что я стала жертвой насилия. Огорчению его не было предела. Он не хотел видеть меня. А мне было хорошо. Я почувствовала движения ребенка, такие чудесные, от которых у меня сердце билось нежно и тревожно, и мне казалось, будто я уплываю в море на лодке, волны меня несут… Я не испытывала никакого нетерпеливого ожидания. Мое единство с этим маленьким существом, защищенность моего ребенка моим телом наполняли меня спокойной радостью. Мне казалось, что после рождения ребенок станет совсем беззащитным, я не смогу защитить его. Моя девочка сразу, когда Мария впервые показала мне ее, была прелестна. Крохотные согнутые сладкие пальчики, милое личико, маленький нежный носик. Но мой отец приказал удалить ее. Мария увезла ее. Мне думалось, я умру от тоски. Мария перетянула мне грудь куском полотна, и молоко, предназначенное для моего ребенка самой природой, сгорало с болью. Я очень тосковала. У девочки даже имени не было. Мария сказала, что кормилица назвала ее Иваной в честь своей умершей дочери. Мария навещала ребенка. Потом отец разрешил привезти девочку в деревню. Теперь я могла ее видеть. Было удивительно — неужели это то самое крохотное существо, что показала мне когда-то Мария, то самое существо, что жило у меня под сердцем! Я привыкла к девочке, к ее имени, к ее страстному нраву. Потом она стала жить в замке. Я страдала, думая о ее будущем! Неужели эта страстная девушка обречена будет проводить свои дни в монастыре? На этом настаивал ее дед, мой отец. Я не знала, как мне устроить ее судьбу, сделать ее счастливой.
Теперь расскажу о Маргарете. Она приехала тайком и подстерегла меня, когда я прогуливалась в одиночестве. Обе мы обрадовались, почувствовали себя родными. Теперь мы были совсем разными. Видя ее такой нарядно одетой, я подумала об Иване. Не поможет ли мне Маргарета? Она сказала, что после объяснит, почему приехала тайком, и просила пока никому не говорить о ней. Я проводила ее в мою спальню. От волнения я даже забыла запереть дверь. Маргарета рассказывала о себе, о своем муже. На пальце ее я увидела кольцо, она сохранила материнское кольцо! Мне стало как-то неловко и я позавидовала ей. Не знаю, почему. Она заметила, что у меня нет кольца. Я смутилась и сказала, что потеряла свое кольцо. Она стала дарить мне драгоценности. И вдруг в шкатулке я увидела… то самое кольцо! Значит, одно из этих колец — мое! Это кольцо подарил Маргарете ее муж, которого она любила! Да и он любил ее! Я вспомнила все так живо — тот летний светлый день, того юношу, мое кольцо. Мучительная обида захватила сердце! Я стала говорить сестре обидные, несправедливые слова. Я упрекала ее, я говорила, что она отняла отца у моей дочери! Сейчас мне стыдно рассказывать обо всем этом. Сестра заразилась моей горячностью. Что случилось потом, вы знаете… Мне тяжело повторять… Когда я взглянула на Жигмонта, я сразу узнала того юношу! Нельзя не узнать эту улыбку… Я спряталась за дверцей, ведущей в подземелье… Дальше вы знаете…
Кларинда замолчала.
Жигмонт что-то произнес тихо и грустно, на непонятном языке. Все посмотрели на него с удивлением.
Глава 36
— Если спросить любого из нас, — начал Жигмонт, — любит ли он правду, ответ будет бездумный и быстрый — да, очень люблю правду и ненавижу ложь! Что она такое, эта самая правда, или, как ее красиво зовут иной раз — истина? В каком отношении к нам, людям, она обретается? Мы редко задаемся подобными вопросами. Я вижу эту самую истину в обличье старой девы, сосредоточенной на каких-то своих раздумьях, и никак, никоим образом не могущей понять нас хотя бы в самой малой степени. А мы лжем, будто любим ее. Бедные мы! Любовники старой девы! Странно, да?
Сейчас я скажу вам, как назвали меня при рождении. Мое имя — Реджеб из рода Нешри!
Глаза Михала широко раскрылись.
— Татарин! — произнес он с враждебным каким-то изумлением.
— Нет, мальчик мой, — улыбнулся Реджеб. — Мои единоплеменники не зовутся «тартарами» — выходцами из адской тьмы, но зовутся они «османами» — небесными!
Я родился и вырос в большом приморском городе. Отец мой был мореплавателем, а мать происходила из бедной семьи. Она рано умерла. Дед мой по матери был известен своей набожностью. От него я получил в наследство молитвенный коврик, ибо я всегда сохранял приверженность к вере отцов! — Реджеб смешливо улыбнулся и развел руками. — Маргарета знала об этом. Сколько раз бывало, после дружеского диспута на богословские темы с моим приятелем, духовником королевы венгерской, я после его ухода расстилал в своей комнате дедовский коврик, омывал руки, становился на колени и прижимался лбом к нежно-голубым, туго переплетенным шерстяным нитям.
Отец рано стал брать меня в море. А его мать, моя бабка, славилась как ученая женщина. Она собрала большую библиотеку, годам к двенадцати я уже мог толковать священную книгу — Коран, и знал наизусть огромное количество стихов. Позднее меня заинтересовали книги христиан и язычников, особенно труды старых греческих философов. Не знаю, каким образом, но я, кажется, постиг искусство оставаться свободным. Хотя мне приходилось быть в числе придворных у королей, шейхов, султанов…
— Ты — лазутчик! — воскликнул Михал.
— Не надо, мой милый, — ласково сказал Реджеб. — Не настраивай себя на дурное отношение ко мне. Я лазутчик не более, нежели туча — вестница дождя! Потерпи немного, я дам тебе повод ненавидеть меня.
Итак, я часто отправлялся в плавание с отцом. Его корабли перевозили купцов, а порою нападали в открытом море на другие корабли!
Однажды наш корабль потерпел крушение. Мы — отец, несколько гребцов и я — спаслись в одной лодке. Выгребли в устье большой реки. Выбрались на пустой берег. Я пошел на разведку. Добрался до холмов. Увидел пещеры. Этого не следовало делать, я мог заблудиться в пещере и погибнуть без пищи и воды. Но я не подумал и смело пошел вперед. Отец никогда не удерживал меня, ни о чем не предупреждал, не пугал. Я с детства привык сам за себя отвечать, сам с собой справляться. Что было дальше, вы, должно быть, догадались. Я попал в подземный ход. Случилось то, о чем Кларинда уже рассказала. Скажу только, что никогда в жизни не было у меня такого тяготения к женщине и никогда я так не ощущал телесное единение двоих в любви, одухотворяющей души. Никогда в жизни не было, как в тот раз.
Длинную историю того, как я выбрался из подземного хода, не нашел своих, скитался один в чужой стране и все-таки вернулся домой, эту длинную историю я опускаю. Я мог бы немало подобных историй рассказать о себе. Но это уже другая моя правда. А пока продолжу.
Наши обычаи семейной жизни таковы, что ты можешь быть самым почетным гостем, самым дорогим другом, и не знать, сколько у твоего хозяина жен и детей. Я нахожу, что это дает известную свободу. Я знал, что у моей бабки есть воспитанница, но не интересовался ею и никогда ее не видел. И вот как-то раз негритянка Айша, старая прислужница, украдкой провела меня к бабкиным покоям и показала мне эту девушку. Айша сказала, что девушка видела меня и умирает от любви ко мне. Такие признания мне уже делались. Я уже не верил в смерть от любовной лихорадки. Я был в том возрасте, когда юноша перестает верить в саму возможность существования в этом мире бескорыстных и возвышенных чувств, и даже гордится этим своим неверием. После снова начинаешь верить, но уже не так, как в юности, не так горячо и мягче что ли. Девушка была красива необыкновенно! Но она очень напоминала ту девочку из комнаты в замке, куда меня привел подземный ход. И, глядя на красавицу, я понял, что единый раз больше не повторится, и если мы будем вместе, мысли о том единственном дне не оставят меня, а я уже почувствовал, что с этой не может быть, как с той, единственной! И постоянно видеть это внешнее сходство, и помнить, и разочаровываться, не находя сходства в главном… Нет! Я дал понять Айше, что мне не нужна эта девушка!
Кларинда слушала, прижав ладони к груди. Реджеб посмотрел на нее.
— А кольцо я подарил ей, — сказал он тихо. — Когда она сидела на пустой площади, в рубище, в обличье одинокой беззащитной старухи, и ничего не просила. И вдруг мне захотелось отдать ей кольцо!
Это обличье старухи она принимала по желанию творца иллюзий, того самого голубоглазого старика, о котором вы уже слышали сегодня. И последним его желанием было, чтобы даже после его смерти я мог видеть и ощущать ее лишь в этом обличье! И лишь когда она умрет, я смогу увидеть ее подлинный облик! Так и случилось! Но с этой красавицей я не смог бы оставаться! Она снова и снова мучила бы меня внешним сходством с той единственной девочкой! Маргарета узнала меня. Но я не знал, что она и Седеф, воспитанница моей бабки, — одно лицо! Она это скрыла! Я знал, что другое имя Седеф было — Кларинда, знал кое-что о ее жизни. Маргарета сказала, что вместе с Клариндой училась у старика, а потом Кларинда умерла. Все видели, как прекрасна Маргарета, и только я видел и любил старуху! И она это знала и страдала.
— Если бы я знала, — горестно шептала Кларинда. — Она пришла ко мне с добром, а я обидела ее! Я увидела нарядное платье и блестящие драгоценности, и не заметила горя. Я оказалась бездушной, завистливой, злобной!
— Не мучай себя. Не могу смотреть на твои мучения. — Ивана наклонилась к матери.
— Сестренка моя, бедная беспокойная девочка, такая умная и храбрая! — Кларинда рукавом утерла слезы.
— Пусть он рассказывает! — мрачно произнес Михал.
— Да, я хочу окончить свой рассказ. — Реджеб кивнул. — Я мешал мастеру иллюзий. То есть я нисколько не интересовался им, не стоял у него на дороге. Да я и не подозревал о его существовании! Но я оказался в городе, где он жил и действовал. И моя сильная воля, мое постоянное стремление, желание быть свободным — мешали ему. Сам того не зная, я мешал ему. Но это не все. Он давно мечтал одолеть такого человека, как я. Я понимаю, может показаться, что я льщу самому себе, но я говорю, как есть. Помимо Маргареты-Кларинды, у него был еще ученик, чужеземный дворянин, служивший герцогу, правителю того города. Вначале старику удалось подчинить меня, по его желанию я увидел его ученика своим двойником. Двойник напал на меня, мне пришлось защищаться, я убил его. Меня хотели казнить, но Маргарета в обличье старухи спасла меня, изъявив желание стать моей женой. По обычаю того города девственница может спасти преступника от казни, если согласится выйти за него замуж.
— Она была девственницей? — спросил Михал с иронией.
— Видишь ли, она не была замужем и никто не знал за ней дурного поведения. Она спасла меня. Но и старик истощил свои силы в борьбе со мной и погиб. Последние его силы ушли на то, чтобы я всегда видел Маргарету старухой, до самой ее смерти. Но разве можно сказать, что осуществилось его желание причинить нам зло? Нет! Мы были по-своему счастливы. Я, знаете ли, делю женщин на «единственных» и «многих», так вот и Маргарета в обличье старухи сделалась для меня единственной.
Но это еще не конец!
Человек, которого я убил, оказался соплеменником Маргареты. Я взял себе его имя и отправился вместе с Маргаретой на ее родину. Это входило в мои планы…
Михал слушал с напряжением, сжав кулаки.
— Я недолгое время выждал, пока не скончалась мать этого человека. Я многое знал о нем. Он давно покинул родину, а до этого жил замкнуто, мало кто видел его. В его родовом замке жили другие владельцы. Я устроил на всякий случай пожар в нежилом крыле замка, где хранились семейные реликвии — портреты, в частности. Его единственный сын не видел отца с младенчества. Маргарета все знала обо мне. Она знала и о настоящей Кларинде, о своей сестре. Возможно, она знала и о нашей дочери. Я хотел вернуть замок юноше, единственному потомку древнего рода. Возможно, Маргарета хотела устроить судьбу своей сестры и племянницы. Маргарета была доброй.
— Убийца! — воскликнул Михал. — Я не приму от тебя ни услуг, ни подачек! Я отомщу за отца!
— Вы, конечно, уже поняли, — продолжал Реджеб, не обращая внимания на слова юноши, — имя того человека, чьим невольным убийцей я стал, — Жигмонт Запольи! Это отец Михала. Они очень похожи, — Реджеб улыбнулся.
— На этот раз тебе не вывернуться! — Михал соскочил с подоконника и подошел быстрыми шагами к тому, кого еще недавно звал отцом. — Ты умрешь!
— Если ты собираешься вызвать меня на поединок, — Жигмонт пожал плечами, — то я драться с тобой не стану. А если ты задумал подослать наемных убийц или сам прикончить меня из-за угла — так это замысел недостойный, однако отговаривать я тебя не стану. Только вряд ли тебе удастся меня убить. Пока еще это никому не удавалось.
Молниеносным движением юноша выхватил из-за пояса кинжал и ударил…
Раздался слабый вскрик…
Кларинда бросилась к дочери и подхватила ее…
Девушка заслонила отца, а Михал уже не мог остановиться. Кровь, проступившая на плече, промочила платье. Ивана потеряла сознание. В комнате поднялась суматоха. Явились вода и чистое полотно. Мария перевязала рану. Девушка была без сознания. Реджеб взял дочь на руки и перенес в ее спальню. Все вошли следом. Ивану уложили на постель. Смуглая рука отца гладила ее темные волосы. Михал невольно заметил, что пальцы у отца и дочери похожи — длинные, тонкие и сильные.
Глава 37
Маргарету похоронили тихо, в старом склепе.
Дня через два после похорон Михал осторожно постучался в дверь комнаты Иваны.
Родители сидели у постели дочери. Она уже чувствовала себя лучше.
— Войди, Михал, — спокойно произнес Реджеб.
— Как ты узнал, что это я? — сумрачно спросил юноша.
— А я решил, что ты должен стучать очень тихо.
Ивана повернула голову:
— Пусть он уйдет! Я не хочу говорить с убийцей!
— Теперь, — лицо Михала совсем помрачнело. — Теперь я тебе не ровня. Теперь думаешь, тебе найдут мужа побогаче, а, может, и познатнее. Там, откуда твой отец родом.
Слово «отец» он произнес почти примирительно.
— Ты бы лучше ушел, Михал, — сказала Кларинда. — Она еще слабая, ты мучаешь ее.
Михал молча отвернулся и хотел было выйти. Голос девушки остановил его. Реджеб улыбнулся.
— Твой отец был убит в честном поединке, — начала Ивана. — И я сержусь на тебя вовсе не за то, что ты хотел отнять отца у меня, когда я только нашла его. Пусть ты не думаешь обо мне. Пусть! Но за что ты хотел наказать мою бедную мать, отнять у нес человека, которого она любит!
— Я ни у кого ничего не хочу отнимать, — произнес Михал беззащитным от кротости голосом.
— У меня вот какая мысль, — безразлично заметил Реджеб, отвернувшись к окну. — Мы вернемся в город. Никто ничего не скажет, ни о чем не догадается! Я вернусь с женой. Моя жена — законная владелица Гезале! Но после свадьбы во владение замком и угодьями вступят Михал и Ивана. А мы уедем. Вероятно, на мою родину.
— После чьей свадьбы? — иронически полюбопытствовал Михал.
— Твоей, разумеется! Я как-то привык обходиться без свадеб!
Спустя примерно двадцать пять лет после описанных событий, армия Сулеймана разбила под Мохачем венгерскую армию, которой командовал Януш Запольи. Буда и Альфельд попали под власть османов. И долго еще мятежный полководец вел борьбу за целостность венгерского государства, распавшегося на отдельные княжества и провинции. Пока не сложил свою буйную голову.
В музеях Будапешта можно увидеть несколько портретов Януша Запольи.
В то же самое время молодой чиновник султанской канцелярии Мехмед Нешри начал работу над выдающимся произведением османской историографии, хроникой становления и расцвета великой империи, — «Зерцало истины».
Сохранились два портрета Мехмеда Нешри. Один из них находится в Истанбульском дворцовом музее, второй — в частном собрании в Венеции. До сих пор неясно, какой их них является подлинником, а какой — всего лишь копия. Потому что фактически это один и тот же портрет.
И если сравнить портреты Януша Запольи и Мехмеда Нешри, видно, как они похожи! Но, разумеется, в этом нет ничего удивительного, когда…
…когда восстание подавлено и на улицах еще стреляют И женщины бегут из магазина в магазин и кошельки сжимают в потных кулачках На мусорных бачках соседские играют дети изображая танки и танкистов А я вхожу с тобой в кафе на Пашарете пока еще открыто «Девушка, а вы еще не закрываетесь, а?» будем кофе пить с пирожными Вот это прежний я Мой галстук Узел завяжи стяни широкий пестрый Ты видишь, в галстучной булавке стеклянный шарик Посмотри, в нем, словно в маленьком окне, ты видишь, человек в чалме он скачет на коне Вот… видишь… Он скачет в объемном крохотном пространстве, где, молча, действует закон, неограничивающий его свободу А здесь, во мгле реальностей, свободен только он который никакому не принадлежит народу Он — сказка вот и все! О философии, свободе и пирожных мы поговорим на Пашарете. Провода висят Автобусы не ходят Выбитые стекла Кого-то убили у консерватории О-о! И мальчики в перчатках из нейлона смущенно держат сигарету до конца А критик Виллибальд Алексис говорит о ранних пьесах Гейне «У господина Гейне — все мавры — евреи!» Нет, не прощайте, критик вас не быть не может иначе жизнь преснятина Прощайте, комната студента, девочка моя, где мы где я, зажмурясь, постигал твой алфавит и сладко проникался литерой «А» которая дворец Нам все же остается пух твоих подмышек и запах — как ты говоришь? — каштановый? — мой тополиный ствол… Купи шубку и закажи меховые сапожки А кровать — возможно, в стиле Бидермейер — продается Возможно, нам еще пешком идти придется проводнику все деньги отдавать А вы, похожие на кротов, хотите выдумку предать огню А я бездумно сочинять готов и нелепые сказки ценю! Шагайте в том или в другом строю на тот или другой собирайтесь бал Я жизнь в лицо не узнаю зато я все читал! Я втаскиваю чемодан в вагон Ау, носильщики! Наперченная колбаса на станции, прощай! «Эй, эмигранты, покрепче держитесь на поворотах!» — кричит проводник Пошел, пошел вагон! Последний — на перрон — окурок Прощай, мой город! В последний раз Прощайте, город австрийских Фердинандов, русских танков и трансильванских турок! И только критик Виллибальд Алексис, не прощайте нас! Хлещите нас веревкой жгите нас огнем, чтобы отчаяньем пылали наши строки!.. Я говорю душе: Не прекословь уйдем от времени впадем в моря Со мною светлая со мной любовь Со мной жемчужина моя! Из мрака, из тьмы уносимся прочь А там впереди все та же ночь А небо, а море, а солнца свет? Во времени? В пространстве? О, нет! И разом от слов родных отвык мой гибкий бездумный язык И бредет в одиночестве наша судьба по улице Гюль-баба Никто на заметил, никто не спас Безумная, ищет нас Одна, без нас, наша судьба О, одинокая наша судьба О, улица Гюль-баба!Якоб Ланг
ОТ ПЕРЕВОДЧИКА
Якоб Ланг (1900–1948) — немецкий писатель. В конце тридцатых годов вынужден был эмигрировать. Покончил с собой в Нью-Йорке в 1948 году. Автор более двадцати авантюрных и фантастических романов, среди которых выделяются — «Тайна магического знания», «Крыса», «Странная история Мальвины», «Наложница фараона», «Ведьма». Якоб Ланг также является автором нескольких сборников стихов — «Караван», «Рисунок свадьбы», «Видения маленького мальчика», «Книга моей Сибиллы». В 1928 году Якоб Ланг опубликовал научную работу «Частная жизнь древнего египтянина».
Jakob Lang «Das zauberhafte wissen». Berlin, Leipzig und Stuttgard, 1952.Тайна магического знания
Глава первая Пробуждение
Первое утреннее ощущение, когда открываешь глаза, — холод. Тонкое одеяло (впрочем, фрау Минна уверяет, будто оно из верблюжьей шерсти) воспринимаешь как единственную защиту от этого равнодушного холода. Именно равнодушного. Не злого, нет, но равнодушного. Торопишься сжаться в комок, подтянуть к груди руки и ноги. Одна только мысль об умывальном кувшине, наполненном, разумеется, опять же ледяной водой, ужасает. Хорошо бы закрыть глаза и снова заснуть. Но спать уже не хочется. Во рту тошнотворный привкус. Вчерашний коньяк? Если это можно назвать коньяком!
Эти обои — продольные полосы, прореженные ромбами, чуть темнее общего бледно-зеленого фона. И все это вместе — холодный воздух, холодная вода в кувшине, зеленоватая твердость стены, все это почему-то наводит на мысль о стерильном жестком равнодушии больницы. Да, да, да.
Хотя, в сущности, такая квартирная хозяйка, как фрау Минна, разве это не находка? Идеальная чистота, умеренная плата, не досаждает разговорами, советами, расспросами, воспоминаниями о покойных мужьях, и так далее. Он здесь уже два месяца, а ведь он ничего о ней не знает. Кто она? Плотная женщина с этими какого-то стального оттенка, коротко остриженными седыми волосами, с этими равнодушными серыми глазами.
Будильник молчит. В полуприкрытое шторой окно просачивается серый смутный свет холодного городского утра. Еще рано. Часов шесть, наверное. Можно лежать, привыкая к холоду, и думать.
Значит, какова ситуация на сегодняшний день? Тебя зовут Пауль Гольдштайн. Двадцать три года. Университетское образование. Филолог. Диссертация — «Особенности творчества Вильгельма Гауфа как представителя немецкой позднеромантической традиции». Сегодня эта диссертация не нужна никому, и прежде всего — тому, кто ее написал.
История Пауля Гольдштайна — по сути дела, очень обычная история. После окончания университета в Берлине — возвращение в родной Айзенах, где отец считается лучшим практикующим акушером-гинекологом. Но что делать в провинции молодому человеку, пишущему стихи с тринадцати лет? Конечно, в Айзенахе когда-то родился Бах. Но все равно Айзенах — это провинция. И Паулю Гольдштайну там делать нечего. А что делать в Айзенахе Паулю Гольдштайну? Давать репортажи в местную центральную газету в отдел происшествий? Или писать в две другие местные (нецентральные) газеты рецензии на концерты классической музыки в Рококо-зале? И вот Пауль Гольдштайн возвращается в Берлин. Скромное денежное пособие, ежемесячно высылаемое отцом, поддерживает его силы; а несколько научных статей и опубликованные в берлинских газетах заметки дают иллюзию, будто он сам себя содержит.
Как все поэты, чье отрочество пришлось на годы Первой мировой войны, Пауль одержим идеей Апокалипсиса. Об этом, а также о далеких бразильских пальмах повествуют шесть стихотворений Пауля Гольдштайна, напечатанных в одном поэтическом альманахе, в редакции которого Паулю доброжелательно намекнули на то, что фамилия «Гольдштайн» — недостаточно арийская, и предложили придумать псевдоним. И Пауль придумал себе псевдоним — «Кениг». Если «Гольдштайн» — это «слиток золота», то «кениг» — это «король». Звучит достаточно вызывающе.
Паулю много раз говорили о том, что стихи его талантливы. Приходилось ему слышать и слово «гений», но он не из тех, кто склонен упиваться подобными эпитетами. Для Пауля главное — его внутренняя уверенность в том, что его стихи — настоящие.
Михаэлю Пауль доверяет, и вовсе не только потому, что Михаэль высоко оценивает стихи Пауля, но потому что Пауль чувствует — суждения Михаэля точны и оригинальны.
— Когда читаешь стихи Кенига, — задумчиво говорит Михаэль, — возникает странное ощущение… я бы назвал это уверенностью… уверенностью в том, что романтические стихи Пауля Кенига — отнюдь не есть некая компоновка деталей, вольно надерганных из книг, как это обычно бывает. Нет, когда я прочитываю уже первые три-четыре строки, мне начинает казаться, будто поэт…
— Все это видел на самом деле! — издевательски доканчивает резкая угловатая Рената, пишущая короткие новеллы о женщинах из рабочих кварталов.
— Оставь этот издевательский тон! — вмешивался Александер, еще один прозаик в этой компании молодых писателей. — И мне тоже всегда кажется, будто Пауль описывает то, что он действительно видел!
— Я только хочу добавить, — подытоживает Михаэль, — что мне совершенно безразлично, каким способом достигается этот необычайный эффект подлинности, мне важно, что он существует. И при этом под этим понятием «подлинности» я подразумеваю вовсе не какое-то плоское жизнеподобие, но это ощущение яркости, свежести…
Тут вступает в разговор еще кто-нибудь, и еще, и еще…
Пауль и сам о себе знает, что у него, то что называется, богатое воображение. Порою он чувствует, что все эти каждодневные впечатления обыденной жизни, все прочитанное и услышанное, все, что заполняет мозг и затрагивает душу, всего лишь не допускает туда какие-то иные ощущения и картины и впечатления. Когда Пауль отвлечен от всей этой многообразной обыденности, особенно часто это, конечно, случается по ночам, тогда его сознание заполняют странные видения. Иной раз он задумывался о том, является ли это аномалией? Для поэта, разумеется, нет. И, кроме того, Пауль Гольдштайн отнюдь не производит впечатления безумца. Это спокойный, в меру общительный юноша, довольно высокий, стройный, темно-каштановые пряди спадают на лоб, лоб у Пауля высокий. Карие глаза глядят доброжелательно. Короче, вид у него располагающий.
Но вот этой ночью… Он снова видел. И он не может сказать, что это было во сне. Правда, медики пишут о просоночном состоянии — что-то промежуточное, какое-то пространство между сном и бодрствованием. Но Пауль готов поклясться, что все это происходило наяву. Наяву, но… Он одновременно был там, в той другой действительности, и здесь — лежал на постели в холодной комнате, словно загипсованный, не в силах шевельнуться, ощущая свое тело каким-то бесформенным камнем.
Он ощущал тепло. Одновременно — в одной действительности, где его тело было странно-окаменелым, ощущал холод; в другой, где тело было живым, подвижным, но призрачным каким-то, ощущал тепло. Но это было не то тепло, не настоящее. А какое должно было быть настоящее? Он не знал.
А это было тепло костра. Это было за городом. Но это было довольно давно. Он был одет в пальто, и шляпа на голове. И он полагал, что это, должно быть, где-то середина девятнадцатого века. Но тот, другой «он», в «другой действительности», отлично знал, какой это год и как называется пальто, и все это было для него обыденной действительностью, но Пауль на постели в холодной комнате ничего этого не знал.
Город был — Берлин. Пригород? Обширный, наводящий уныние пустырь. Снег неопрятными клоками покрыл редкие, торчком стоящие голые черные кусты. Земля тоже была черная и вытоптанная. Потрескивал костерок. Горсточка красноты на черно-белой земле. Поодаль остановилась цыганская кибитка. Конь был впряжен и переступал с ноги на ногу, насторожив уши, потом выронил комья навоза. Они задымились на холоде. Несколько цыган, мужчин и женщин, жались у костра. Пауль остановился поодаль. Он был чужим для этих людей. Чего он ждал? Он видел их не в первый раз. Припоминалось другое — комната с высоким сводчатым потолком, столы. Трактир? При свете свечей он тогда различал их лица. Крупные черты, отчужденное очарование Востока, которое, конечно же никак не соответствовало внутренней сути этих людей. Он знал, что они грубы, примитивны, что напрасно толкуют об их свободе пресловутой; грубейшая и примитивнейшая субординация царит в их среде; если они от чего-то и свободны, так только от тех понятий гуманизма, что составляют смысл европейской культуры. С детства им внушено, что все люди (то есть большинство людей), не принадлежащие к их клану, существа низшие и потому всех людей можно обманывать и презирать. И сейчас, стоя у костра, поодаль от Пауля, они видели его и презирали. Но у него-то откуда бралось это раздражение? Что он хотел загасить, разжигая в душе именно это чувство?
Они кутались в какое-то темное тряпье. При дневном свете их лица казались менее таинственными. На самом деле он знал, что это все из-за нее. Он нарочно повернулся спиной. Он знал, что она среди них, она родилась среди них и всегда жила. И то, что ему показалось, будто она не похожа на них, то — иллюзия.
Он резко обернулся. Он не мог смотреть на нее непрерывно, делалось слишком больно. Длинная темная юбка скрывала ее маленькие ступни в темных, немного великоватых ей башмаках. Она куталась в коричневый платок с кистями. Было больно видеть ее черные волосы, свободно падавшие на плечи и на щеки, светло-смуглое лицо, оттененное черными бровями, нежные глаза и губы. И все это выражение нежности, мягкости и беззащитности. И вся, какая она была, худенькая и высокая, с чуть широковатыми плечами, с какой-то открытой порывистостью жестов и с этой по-детски наклоненной черноволосой головой.
Затем он очнулся. На самом деле (впрочем, где оно существовало — это «на самом деле» — здесь, в комнате с холодными стенами, оклеенными бледно-зелеными обоями, или там, на заснеженном пустыре у костра?), на самом деле он этой девушки не знал, никогда не видел ее. И влюбленность, которая его терзала в «другой действительности», не была такой мучительной для молодого поэта, жившего сегодня… А то, значит, было вчера, давно, когда-то? И все равно влюбленность была. Но все должно было произойти иначе. Как? Он не знал.
Он не мог сказать, что его стихи, то, что называется, замечены критикой, если не считать нескольких строк в одной из статей Михаэля. Хотя… о Пауле Кениге говорили, многим его имя было известно.
Ему нравилась эта жизнь, эта сосредоточенность на литературных сплетнях, на мнениях о своих и чужих стихах и прозе. Все остальное в жизни — политика, быт — воспринималось как нечто вспомогательное, служащее лишь почвой для создания истинного бытия, то есть литературы.
Ему нравилась вся эта беготня по редакциям и издательствам, шумные и, наоборот, тихие компании; кафе, кабаки, ни к чему не обязывающие, быстро прерывающиеся любовные связи. Нравилась даже неустроенность, нехватка денег. Интуитивно он чувствовал, что все это даже подстегивает его талант, но все это должно быть ограничено известными пределами, переход за которые уже будет означать отчаяние, отупение и полную невозможность работать, писать.
Комнату у фрау Минны ему устроил Александер. Александер одно время сам занимал эту комнату, и честно предупредил Пауля о том, что несмотря на дешевизну, лично его Александера, не устроил мрачный характер хозяйки, она производила на него гнетущее впечатление. Пауль поблагодарил. Он считал, что не отличается подобной нервностью, но, честно говоря, фрау Минна, когда он познакомился с ней, и его чем-то даже напугала.
После не особенно чистой лестницы стерильная чистота ее квартиры казалась странной. Паулю почему-то пришло в голову, что эта женщина должна ходить по своей квартире в белом медицинском халате. Алекс представил его. Она посмотрела на своего потенциального жильца равнодушно, плотная, с этой стальной стрижкой, кивнула, сказала свои условия. Внезапно Паулю пришла в голову еще одна, совершенно четкая мысль. Он даже как бы увидел это — как фрау Минна предлагает Алексу съехать, называет какую-нибудь ничтожную причину, какой-нибудь поздний приход домой или беспорядок в комнате. Но на самом деле причина вовсе не в этом. А в чем?
Квартирная хозяйка была равнодушна, но в этом равнодушии Паулю порой ощущались какая-то услужливость, даже заискивающее что-то. Иногда ему казалось, что фрау Минна приглядывается к нему. И вдруг возникало ощущение, что она радуется ему какою-то странной радостью.
Но на подобных ощущениях он старался не сосредотачиваться, слишком уж это… нелепо как-то. И когда Алекс спросил его, как ему комната и хозяйка, Пауль ответил, что хозяйка и впрямь мрачновата, но терпеть можно.
— А кто она, в сущности?
— Не знаю, — Алекс пожал плечами, — меня познакомила с ней Берта.
— Так она и девушкам сдает комнату?
— Ну да. А что в этом такого? Почему ты так встрепенулся?
Пауль и сам не мог понять, почему задал этот вопрос, что удивило его. Сдает. Комнату. Девушке или юноше, не все ли равно.
— Кем может быть квартирная хозяйка? — продолжил Александер. — Вдовой, скорее всего, которой не хватает пенсии покойного супруга.
Тема фрау Минны неожиданно была исчерпана и разговор перешел на другие темы. Но…
Резкий звонок будильника прервал размышления Пауля. Теперь надо было быстро откинуть одеяло и решительно приступить к умыванию холодной водой.
Глава вторая Книги и картины
Пауль был одним из тех (вероятно, все же таких людей следует называть «посвященными» или «немногими»), кто приходит в музей или в библиотеку просто потому что хочется, а вовсе не потому что «так принято» или нужно подготовиться к экзамену или музей является достопримечательностью, включенной в непременный туристский маршрут.
В музее Пауль, минуя группы, старательно слушавшие гидов, направлялся в тот зал, который его интересовал сегодня. Молодой человек останавливался против той картины или скульптуры, которая его привлекала сегодня, сию минуту, и подолгу рассматривал это произведение искусства. Он смотрел на картину или статую, потому что ему этого хотелось, а не потому что данная картина или статуя считалась выдающейся. Пауль и сам сознавал, что таких наслаждающихся внутренней свободой счастливцев не так уж много.
Сумрачным утром, холодным и сырым, Пауль заглянул в музей ненадолго. После очередного визита в редакцию газеты, где должны были опубликовать его короткое эссе об общих направлениях развития современной поэзии, Пауль собирался прямиком направиться в библиотеку. Но вдруг изменил маршрут.
Что потянуло его в музей? Какое-то подсознательное стремление к поиску истинного тепла. Уже неделю примерно он ощущал это стремление — отыскать некое тепло. Это было немного странно, но он как-то даже не очень задумывался над тем, что бы это могло значить. Человек искусства имеет право на самые странные, необъяснимые ощущения и стремления.
Пауль прошелся быстрым шагом по залам, не находя того, что могло бы заставить его почувствовать удовлетворение. Это стремление к поиску сделалось сильным и навязчивым, он уже ощущал его как нечто независимое от его личности, нечто привнесенное. Пауль немного встревожился. Подобные ощущения — не признак ли нервного расстройства? Но тут он почувствовал желанное тепло, близость успокоения. Он вошел.
В зале египетских древностей ему показалось, что все встало на свое место, всему нашлось объяснение. В комнате, где он спал, было холодно. Ночью ему несколько раз снились цыгане у костра. Вероятно, этот сон — реакция на холод. Цыган в Европе еще зовут «египтянами», хотя они выходцы из Индии, должно быть, а не из Египта. И вот возникло подсознательное желание как бы прикоснуться к египетскому теплу. Почему Египет, цыгане? Но ведь он занимался немецким романтизмом. Значит, повесть Ахима фон Арнима «Изабелла Египетская» — о цыганке, о магических действиях; значит, Гофман и гравер Калло с его циклом гравюр, изображающих цыган.
Итак, все стало понятно, все соединилось в одну вполне четкую цепочку логических взаимосвязей. Только где-то в самой глубине души осталось ощущение, что истина — вне этой логики. Но Пауль подавил это ощущение усилием воли, ему не хотелось снова упереться в хаос и непонимание. Ведь хаос и непонимание закономерно порождают страх.
В зале доминировали голубой и коричневый цвета. Казалось, все здесь излучает тепло, то самое тепло, к которому так стремилась душа Пауля. Все выставленные предметы виделись маленькими или, во всяком случае, небольших сравнительно размеров. Вынесенные бурными волнами времени из какой-то давней далекой-далекой действительности, где они жили естественно и обыденно, теперь все эти предметы так хрупки, так беззащитны. Такое чувство одиночества и пережитой катастрофы излучает каждый из них; такая усталая отрешенность и дряхлость чувствуются в камне и темном дереве, из которых все это сотворено. Грация полуобнаженных, оцепенелых фигур, очарование глиняной и деревянной простой посуды. А вот и копия известной настенной росписи — девушки с черными косичками, спускающимися на плечи. Огромные продолговатые глаза, черные зрачки, открытые руки и ступни. Пауль ощутил особенную нежность к этим изображениям, они напоминали цыганскую девушку из его сна. Это тепло, разлитое в воздухе, было, должно быть, теплом земли, где все произрастает легко, где голубизна и чернота и охра — иные, чем здесь, в нашем холодном сумеречном времени — иные — легкие, пронизанные светлым открытым солнцем.
«Надо будет заглянуть сюда еще раз», — подумал Пауль.
На улице его встретила сырость поздней затянувшейся осени, никак не желающей переходить в морозную зиму. Юноша поднял воротник пальто, сегодня он забыл дома шляпу. Все наводило тоскливую неудовлетворенность — сырость и промозглость, стальные трамвайные рельсы, и сам трамвай, подошедший с этим вульгарным раздражающим звоном. До библиотеки надо было проехать несколько остановок. В толчее серых помятых физиономий и серых плотных и неуклюжих одеяний, прикрывающих неуклюжие бледные тела, которые даже ночью обнажают со стыдом. Пауль отвернулся к окну. Уныние шиферных крыш, окон и мостовой все же лучше унылого вида всех этих людей.
В библиотеке надо было оставить пальто в раздевалке, взять книгу, сесть за стол. И… наконец-то отключиться.
Сегодня он взял несколько книг, посвященных Древнему Египту. Но не хотелось вникать в подробные скрупулезные профессорские описания. Тотчас забывались сведения, прочитанные на аккуратных страницах, вылетали из памяти факты и точные цифры. Но нарастало ощущение. Комплекс ощущений, сложных, разнообразных. Снова и снова он любовался всеми этими странно пластичными в скованности фигурами, продолговатыми глазами, черными зрачками, повернутыми в профиль лицами. Многочисленные контурные изображения хищных птиц, коз, быков, гиппопотамов были исполненны странного таинства. Он осознал — почему. В этих существах ощущали божественное начало. Трогательны были маленькие жуки с растопыренными согнутыми лапками, замершие в окружении иероглифических значков.
Но чудеснее всего оказались женщины. Мучительное умиление охватывало Пауля вновь и вновь. Ему не хотелось отрываться от всего этого. Все это было каким-то сладостным, наркотически-сладостным, дурманящим. Он ощущал свое тело, всего себя неуклюжим, тяжеловесным. И некая частица, невесомая, но значимая, его существа, словно бы отделялась в стремлении слиться с этим миром, открывавшимся в книгах.
Пауль просто заставил себя подняться. Все это становилось слишком уж мучительным, похожим на странно затянувшийся оргазм.
И, очутившись снова на улице, он почувствовал уже не раздражение, а даже какую-то благодарность к этой окружившей его обыденности.
Глава третья Вечерние размышления
Вечерний город, сбросивший с себя бремя дневной, трудовой суеты, казался принарядившимся, легким. Выступающий из тумана свет фонарей наводил на мысли о загадочных женских лицах, празднично-вечерне припудренных матовой пудрой, с подведенными темными глазами. Люди теперь спешили не на службу, не за покупками, но в рестораны, театры, кино. Было приятно идти среди всех этих людей и в то же время не сливаться с толпой, быть иным. От женщин пахло духами. В соединении с пронизавшей вечерний воздух сыростью этот аромат приятно волновал, будоражил воображение.
Пауль шел наугад и размышлял о книгах, которые он просматривал сегодня. Разумеется, текст и иллюстрации содержали в себе определенные знания, некую сумму знаний. Знания, как правило, черпаются из книг, будь-то учебники математики и физики или научные труды по истории Древнего Египта. Правда, существовало еще и то, что принято было определять как «знание жизни». Но к чему это знание жизни сводилось? Фактически к тому, чтобы увериться, что люди часто лгут, говорят одно, думают другое, поступают, руководствуясь третьим; эгоистичны, преследуют свою выгоду. Немного же стоит это хваленое знание жизни! А прочитать гору книг и в результате что-то узнать о дифференциальном исчислении или о династии Рамзесов — боже! Что за насмешка, что за издевательство над неутолимым человеческим стремлением к Познанию с прописной буквы, к тому Познанию, которое должно явиться внезапно и сразу и округло, полно, и в результате некоего волшебного таинственного действия. Так явилось Познание к Адаму и Еве, когда они отведали известный плод. Но, должно быть, такого рода Познание, полученное таким способом, вне длительного изучения каких-то скучных материй, когда насилуешь свой мозг, запихивая в него все эти знания, пытаясь все их запомнить, трудясь в поте лица своего; такого рода Познание, таинственное, цельное, запретно человеку, по-видимому. И только тень, отсвет от этого Познания — в искусстве — в картинах, статуях, стихах.
Пауль остановился, надо было перейти улицу. Мысли прервались. Он вдруг ощутил, как волнительны и мучительны ему все эти размышления. Они мучили и возбуждали. Они требовали пространства более обширного, нежели пространство его комнаты в квартире фрау Минны. И движение по такому пространству должно было быть естественным. В переводе на более простые понятия это означало, что Паулю сейчас необходимо идти вперед по вечерней улице, а не шагать из угла в угол по комнате.
Пережидая вереницу темных автомобилей, Пауль додумал свою мысль о познании. Основное, таинственное, сильнейшее Познание запретно человеку. Кто запрещает? Как именуется этот (или это) кто-то? Высшая сила? Природа? Бог? В данном случае не так уж важно. Важен запрет. Всякая серьезная попытка нарушить запрет должна автоматически вызывать наказание. Как это? А, вот, часы! Его будильник. Стрелки движутся, тиканье равномерно звучит. Но сколько раз, в детстве, он разбирал часы. Он не умел этого делать. Он ломал и портил какие-то детали, пока разбирал. Потом он не знал, как вновь сложить часовой механизм из этой кучи пружинок. И он находил им новое применение: мастерил из них волчки. Волчки получались отличные, кружились подолгу. Ребенок — не часовщик, а человек — не Бог, не высшая сила, не Природа. И вот поэтому…
Поток автомобилей поредел. Пауль зашагал на другую сторону улицы.
Глава четвертая Происшествие
Это обрушилось на него внезапно. Ударило по нервам истерическим визгом клаксона, скрежетом тормозов. Раздались женские крики. Люди мгновенно стеснились поодаль у фонаря. Другие бежали туда же.
Пауль принадлежал к числу тех, которые не любят поддаваться стадному чувству. Этих людей отвращают зазывания бойких продавцов. Эти люди спешат в сторону от любой толпы. И сейчас Пауль остановился в нерешительности. Он уже догадался, что скорее всего это кого-то сбил автомобиль. Пауль не любил происшествий, при виде крови его мутило. Кстати, именно поэтому он и не стал учиться медицине, что очень огорчало его отца. Филологию, поэзию отец считал достаточно легковесными занятиями.
Пауль хотел было отойти подальше от места происшествия и перейти улицу в другом месте. Но вдруг ему стало так физически худо, что пришлось остановиться. В глазах потемнело. Перехватило дыхание. Сердце сжалось от боли, почти невыносимой. Он ощутил головокружение, почувствовал, как подгибаются ноги. Это состояние прошло так же мгновенно, как и началось. Пауль вдруг понял, что эта телесная боль как бы заместила боль души, которую он бы перенес гораздо тяжелее. Его охватила тревога, он почувствовал желание броситься туда, где уже толпились прохожие.
Он опомнился посреди дороги. Загудело авто, объезжая его. Какая-то бледная лягушачья лапка, величиной с человеческую руку, цепко схватилась за рукав его пальто. Он вздрогнул, едва сдержался, чуть было не вскрикнул, не вырвался резко. Но уже в следующий миг ему стало ясно, что это всего лишь тонкая худенькая кисть руки с длинными пальчиками, заканчивающимися наманикюренными ноготками. Еще через мгновение он уже знал, что рука принадлежит худенькой бледной девушке в зеленом пальтишке. Из-под белого берета выбивались тонкие колечки светлых волос. Губы казались яркими, но видно было, что это действие помады. Светлые голубовато-серые глаза округлились от страха. Девушка слегка дрожала и, встретив взгляд Пауля, явно смутилась.
— Простите, — проговорила она чуть хриплым, прерывающимся голосом. — Так страшно! Я видела, как ее сбило! Ох!
— Не говорите! — должно быть, Пауль оборвал ее слишком резко. Она смолкла. Он чувствовал, как она дрожит.
Теперь эта испуганная девушка на вечерней берлинской улице казалась ему такой обыкновенной, лишенной какой бы то ни было таинственности. И ощущения сделались обыденными. Боль ушла куда-то в недосягаемую глубь души. Чуть ныло сердце, как после болезненного приступа. А, может, это и был болезненный приступ? Во всяком случае, Пауль уже не испытывал желания оказаться на месте происшествия. Ему стало жаль девушку. Она, кажется, не притворялась, не пыталась таким образом заигрывать, кокетничать с ним. Она и вправду сильно испугалась.
Он посмотрел на нее. Увидел ее всю, дешевое пальтишко, берет, газовый шейный платочек, дешевая сумочка на цепочке. Кто она? Начинающая проститутка? Какая-нибудь машинистка или почтовая служащая, решившаяся на поиски приключений? Видно было, что она робка, неуверенна в себе и даже не пытается казаться иной. Подкрашенные губы и глаза, припудренное лицо, маникюр — все это не воспринималось как знаки обычного женского кокетства, но скорее как признаки бездумного подчинения условностям. Действительно, какая женщина в наши дни рискнет показаться на улице без этого грима; пожалуй, это все равно что рискнуть выйти голой.
— Давайте я помогу вам, — предложил Пауль уже более мягким тоном.
Она кивнула. Пауль заметил, что она чуть высунула кончик языка. Должно быть, губы у нее пересохли от страха, она хотела их облизнуть, но тотчас вспомнила, что губы накрашены и, не решаясь слизнуть помаду, поспешно закрыла чуть приоткрывшийся было рот. Парадоксально, но это было своего рода проявлением стыдливости, страх оказаться на людях с ненакрашенными губами, все равно что неловкость от спустившегося чулка или нечаянно задравшегося подола.
Пауль осторожно взял ее под руку. Она отпустила его рукав, который судорожно сжала от страха. В обыкновенности этой девушки Паулю почудилось что-то привлекательное. Она была законченным воплощением определенного типа и это выделяло ее.
Они перешли на другую сторону улицы. Пауль понял, что она уже не боится, но не хочет уходить от него. Он, должно быть, казался ей вполне порядочным юношей для того, чтобы она не боялась его. Но в то же время он был олицетворенным приключением, приключением безопасным и романтическим, как раз таким, какого она, видимо жаждала. Но ведь и для Пауля это было приключение, чуть забавное, безопасное, не лишенное приятности. На секунду вспыхнуло и угасло странное ощущение, будто он кого-то предал. Пауль и незнакомка остановились. Посмотрели друг на друга. Она простодушно улыбнулась. Он невольно ответил ей дружеской улыбкой, чем, кажется, еще более расположил ее к себе.
— Как вас зовут? — спросил он.
— Регина Фосс.
В том, как она назвала свое имя вместе с фамилией ощущалась какая-то своеобразная наивность служащей девушки, привыкшей к тому, что ее именуют по фамилии — «фройлайн Фосс». Вероятно, ей не так уж часто приходилось знакомиться с мужчинами, просто так, в неофициальной обстановке.
«Одна из этой армии невольных весталок — наших служащих барышень», — подумал Пауль.
— А почему бы нам не пойти в кино? — внезапно предложил он вслух. — На последний сеанс. Потом я провожу вас. Надеюсь, вы не боитесь меня.
— Да. То есть, нет, не боюсь, — она снова улыбнулась какой-то немного жалкой, даже чуть заискивающей улыбкой.
— И вы согласны пойти со мной в кино?
— Да, — обронила девушка коротко и серьезно.
Они снова зашагали. Теперь он знал, куда направляется вместе со своей спутницей. К ближайшему кинотеатру.
— Меня зовут Пауль, — несколько запоздало представился он.
Девушка закивала.
Затем они пошли молча. Она, должно быть, стеснялась завести разговор. Он думал о том, что не назвал ей свою фамилию. Назваться псевдонимом — «Кениг» — казалось примитивно, хотя что она могла понимать в том, что примитивно, что — нет. А свою настоящую фамилию — «Гольдштайн» — он не назвал просто потому что ему не хотелось услышать в ответ, как она заверяет его, будто хорошо относится к евреям, или, наоборот, увидеть ее внезапное отчуждение. И то и другое было каким-то фальшивым, неприятным. И сам он казался себе мелочным, мещански-трусливым. В молчании они дошли до кинотеатра. Девушка казалась еще более смущенной и робкой. Возможно, она полагала, что незнакомец уже сожалеет о том, что пригласил ее в кино и размышляет теперь, как бы уйти. Пауль почувствовал, что ему жаль ее. Регина. «Регина» и «Кениг» — «королева» и «король». Забавное совпадение.
«А хорошо думать о чем-то таком обыденном, обычном», — эта его внезапная мысль удивила его самого.
Они остановились у афиши. Это была обычная афиша, плохо нарисованная, изображающая блондинку с запрокинутой головой, страстно прильнувшую к роковому брюнету в смокинге. Трудно было определить, имеет ли афиша хоть какое-то отношение к содержанию фильма.
Глава пятая Кино
— Надеюсь, вы еще не успели посмотреть этот фильм? — Пауль обернулся к девушке.
Она молча покачала головой и улыбнулась. Пауля раздражила собственная фраза, произнесенная и выстроенная с какой-то нелепой коммивояжерской претензией на шик. Нет, положительно, он становится слишком мнительным и нервным.
Они прошли к кассе. Пауль купил билеты. До начала сеанса оставалось несколько минут. Надо было поспешить. Пауль вел девушку под руку.
Но все же они немного опоздали. Билетер, светя карманным фонариком, провел их в зал и помог отыскать их места. Пауль заметил, что его спутница робко пригибается, боясь помешать другим зрителям. Эта робость трогала его.
Кинохроника никогда не интересовала Пауля. Он чуть скосил глаза. Регина держала руки на коленях. В бледном свете, идущем с экрана, тонкие бледные кисти снова показались ему какими-то неестественными — не то лягушачьими, не то даже кошачьими лапками. Сделалось неприятно. Желая подавить это неприятное чувство, Пауль протянул руку и осторожно коснулся одним пальцем тыльной стороны левой ладони своей спутницы. Кожа у нее была нежная. Девушка ниже склонила голову. Пауль убрал руку.
Начался фильм. Это была история девушки, которая оставшись без родителей, с младшим братом на руках, не имея средств к существованию, вынуждена была стать проституткой. Она встречает молодого человека, он влюбляется в нее. Он готов помочь ей. Но он не знает, чем она зарабатывает на жизнь. Он узнает об этом случайно, столкнувшись с ней поздним вечером на улице. Он оставляет девушку. Она снова ведет прежнюю жизнь. Этот простой и непритязательный сюжет был очень изящно подан. На экране возникало то, что принято называть атмосферой. Узкая улица, стиснутая рядами домов, уходящая вверх. Тесное, скудно освещенное жилище. Окутанный туманом порт. Крупный план встревоженных, сосредоточенных лиц.
Фильм подходил к концу, когда Пауль почувствовал прикосновение к своей руке. Тонкий девичий палец коснулся его запястья, выступившего из-под манжеты. Это робкое прикосновение было таким неожиданно целомудренным и кротким, исполненным какого-то странного понимания. Пауль бережно пожал тоненький палец. Накатила волна нежности. Ему стало хорошо, он уже благодарил судьбу за это приключение.
Нежные губы коснулись его уха. Он уловил сладковатый запах губной помады.
— Похоже на Достоевского, — прошептала Ретина.
Это проявление ее образованности явилось приятной неожиданностью, сулило не просто мимолетную связь, но и дружеский обмен сходными мыслями, который так оттеняет и украшает телесные отношения.
— Да, — дружески прошептал Пауль, склоняясь к ней.
Он думал, что после кино они еще прогуляются по ночному городу, он проводит ее домой, а там… как получится. По дороге она расскажет ему о себе.
Спускаясь вместе с другими зрителями по темноватой лестнице к выходу, они уже держались за руки, как старые добрые знакомые. У дверей возникло что-то вроде пробки. Люди стеснились. Пробравшись поближе, Пауль и Регина поняли, что произошло. Должно быть, на улице начался дождь. Маленькими черными куполами замелькали раскрытые зонты.
Но только оказавшись снаружи, молодые люди оценили по-настоящему внезапный каприз погоды. Вечерняя морось перешла в ночной дождь, смешанный со снегом. Сплошная пелена промозглой влажной крупы хлестала наискось. Пауль быстро расстегнул пальто, прижал к груди свою спутницу и укутал ее. Они побежали к трамвайной остановке. Успевшие насквозь промокнуть, забрались в первый же подъехавший трамвай. В вагоне почти никого не было. Они перевели дыхание, глянули друг на друга и засмеялись. Оба запыхались, у обоих растрепались волосы. Эта общность сближала их.
Девушка сняла берег и тряхнула коротко стриженными светлыми волосами. Пауль пригладил свои волнистые каштановые пряди.
— Где ты живешь? — спросил он.
— Я покажу, — она уклонилась от прямого ответа.
Они проехали несколько остановок. За окном чернела пронизанная дождем ночь. Оба молчали. Только смотрели друг на друга и смешливо улыбались. Девушка вскинула руки и нежно коснулась пальцами глаз Пауля. Векам стало чуть щекотно. Прикосновение было таким нежным, милым и дружеским. Пауль взял ее запястья и поцеловал ладошки.
— Нам выходить, — тихо сказала Регина.
На улице их встретил все тот же смешанный со снегом дождь. Пауль тщетно пытался сориентироваться. Конечно, он не разглядел номер трамвая, на котором они ехали.
— Что это за улица?
Регина что-то неразборчиво пробормотала в ответ.
Теперь она вела его. Эта узкая улица была ему странно знакома, он пытался вспомнить ее название и не мог. Регина потянула его в подворотню, где было еще темнее, чем на улице.
— Подожди меня. Здесь. Я сейчас, — возбужденно зашептала девушка.
Пауль остановился. Он тоже ощутил нарастающее возбуждение. Регина, пригибаясь, пробежала немного. Он чутко вслушивался. Легко зашуршала приподымаемая поспешно одежда — пальто, платье, отстегнула резинки пояса. Капельный звук тонкой струйки заставил его улыбнуться. Он украдкой обернулся и разглядел, как она, опустив голову, быстро застегивает какие-то крючки. Натянула трусики, в темноте чуть очерчивались стройные икры. Кажется, она красива. А на первый взгляд воспринимается такой невзрачной. Заметив, что она приподнимает голову, он снова отвернулся.
— Пойдем, — она подбежала к нему. Сейчас в ней было что-то от озорной девчонки-подростка.
Глава шестая Ночной дождь
Подворотня не кончалась. Пауль шел следом за Региной. Она озорно тащила его за руку. Иногда он в шутку замедлял шаг, притворяясь, будто упирается. Тогда она тянула его руку, оборачивалась и смеялась.
Наконец они нырнули в темный подъезд. Пауль уже догадался, что они пройдут в дом черным ходом. Ступеньки были деревянные. Остановившись у двери, Регина ловко приподняла полу пальто и вынула из кармана кофточки ключ.
«Мансарда, чердак», — подумал Пауль, — «Классическое приключение!»
От этого внезапно пришедшего в голову определения «классическое приключение» захотелось громко, по-мальчишески смеяться. Он с трудом подавил этот напиравший изнутри смех.
Они миновали крохотную темную прихожую, где Пауль успел разглядеть примус; вошли в комнату. Регина включила свет.
Здесь оказалось довольно уютно. Круглый стол, покрытый старомодной плюшевой скатертью в крупных розовых пионах по бордовому полю. Венские стулья на тонких ножках. Трельяж с полкой, уставленной туалетными принадлежностями, выглядел скромно. Неширокая кровать была аккуратно застлана покрывалом.
Свет электрической лампочки под красным абажуром вспыхнул под потолком и сделал обстановку еще более уютной.
Они обменивались короткими несвязными словами, вроде:
— Да…
— А, конечно…
— Мокрый…
— Ну и пусть…
— Дай мне пальто…
— Хочешь причесаться?…
— Ужасный дождь!..
Регина унесла в прихожую и пристроила на вешалке свое и его пальто. Потом вернулась в комнату. Пауль вспомнил о кашне, снял, отдал ей. Она пошла снова в прихожую, он почему-то суматошно — за ней. Она сунула его кашне в рукав пальто. Потом они вернулись в комнату.
— Чего бы тебе хотелось? Чай или кофе? — спросила девушка.
— Кофе. Чтобы ночью не заснуть, — он усмехнулся.
— А ты из тех, кто засыпает? Или ты думаешь, я дам тебе заснуть?
Вслушиваясь в ее озорные интонации, он ощущал легкость и веселье. При всем при этом в ней не было и тени вульгарности, мещанской пошлости. Замечательная девчонка!
Вскоре на столе задымился кофейник, появились две простенькие фарфоровые чашки. Регина вынула из буфета небольшую стеклянную вазочку с пирожными. Буфет был красного дерева, одно из этих деревянных сооружений, напоминающих старинные средневековые башенные замки.
— Садись. Хватит хлопотать, — он потянулся и обхватил ее за талию.
Но девушка вырвалась. В светлой кофточке и бежевой, чуть расклешенной юбке она выглядела очень милой.
— По-моему, здесь чего-то недостает! — она прищурилась, нарочито склонила голову и посмотрела на стол.
Пауль посмотрел на нее и засмеялся.
Она метнулась снова к буфету, снова распахнула дверцу и с торжеством подняла маленький графин с ликером.
— О! — Пауль вскочил и подбежал к ней, раскинув руки, будто собираясь схватить ее и отнять графин. Она со смехом увернулась.
— Разобьем! Разобьем! — повторяла она сквозь смех.
Но, кажется, она вовсе не опасалась, что графин может разбиться.
Пауль ударился коленкой о выступ кровати.
— Ох! — он поморщился.
Регина тотчас поставила графин с ликером на стол и наклонилась к своему гостю.
Но Пауль мгновенно распрямился и схватил графин.
Снова смех, вскрикивания.
Наконец, раскрасневшиеся, они оба уселись за стол.
Регина уже успела поставить и две маленькие рюмки.
— Ну! — ее голубовато-серые глаза блеснули мягким блеском, она разлила ликер по рюмкам.
Пауль невольно залюбовался нежностью ее кожи, такой детски-светлой, мягкостью волос, очарованием глаз.
— Эт ток-ток-ток! Эт ток-ток-ток! Эт ток-ток-ток!
— Эт чин-чин-чин! — подхватил Пауль.
Они чокнулись.
— Кажется, мы неправильно произнесли тост, — улыбнулся Пауль.
— Ну и что! Мы ведь не итальянцы, — беззаботно бросила она.
Говорить о национальностях Паулю не хотелось. Он пригубил ликер. Она тоже поднесла рюмку ко рту и на лице ее промелькнуло выражение чуть хищного женского наслаждения.
Они сделали несколько глотков в молчании.
Пауль отчетливо расслышал шорохи, постукивания, равномерный шум за окном с опущенной оранжевой шелковой занавеской.
— Что это? Слышишь, шумит? — тихо спросил он, держа рюмку в руке. Он и сам не понимал, почему эти смутные шумы тревожат его.
— Ничего! — она сидела напротив него, тоже держа рюмку у губ. Теперь во взгляде ее появилось что-то женское, что обычно именуют русалочьим. — Ничего, — повторила она. — Это дождь за окном. И ветер. И мыши. Мы ведь на чердаке.
Он снова отпил из рюмки. Должно быть, это был ликер домашнего приготовления. Во вкусе его ощущалось нечто терпкое, диковатое, несоразмерное, пощипывающее язык. Единое ощущение сладости, острой пряной горечи и одновременно крепости было очень сильно.
— Колдовское зелье! — Пауль посмотрел на Регину. — Откуда у тебя такое?
Ему вспомнился юный Генрих Гейне на свидании с дочерью палача.
— Привезла летом от бабушки, — просто ответила она.
— И где живет твоя бабушка, которая настаивает такие напитки? — он почувствовал, что захмелел. Странно, от нескольких глотков домашнего ликера. А, может быть… Но ведь у него нечего взять. Глупо было бы заманивать в ловушку такого, бедного, как церковная крыса, субъекта.
— Бабушка? — видно, девушка и сама захмелела, теперь она как-то издевательски-певуче растягивала слоги, и это тоже было странно. — Бабушка? Где живет? Конечно, на Брокене, на горе ведьм. Где еще может жить моя бабушка?!
Они смотрели друг на друга и смеялись. Она потянулась через стол руками. И снова ее руки показались ему какими-то нечеловеческими, непомерно длинными и гибкими в неестественно ярком и в то же время смутном свете электрической лампочки из-под красного абажура под потолком. Он невольно откинулся. Она встала из-за стола, приблизилась к нему. Снова ее нежные пальцы легли на его глаза. Она, казалось, нежно, умело и уверенно массировала ему веки. Было приятно.
— Хорошо? — спросила она полусонным голосом.
— Меня нет, — ответил он, прикрыв глаза.
И тотчас понял, что что-то произошло. В сущности, это была самая обычная фраза из нехитрого лексикона любовников. «Мне так хорошо, что я как бы уже не существую!» — вот и все.
Пауль открыл глаза. Ее руки, оторвавшись от его глаз, повисли вдоль тела, странно распрямившегося, оцепеневшего. С ее лица сбежало мгновенно это выражение сонливого блаженства. Явилась какая-то мрачная сосредоточенность. Широко раскрыв серьезные серые глаза, она вытянула губы трубочкой, затем высунула кончик языка, потянула носом, будто принюхивалась. Теперь она была какая-то совсем странная — смешная, беззащитная, напоминала насекомое или лягушку, когда их поймаешь, вырвешь из привычной среды и положишь на стол в комнате, и бедные существа недоуменно не находят привычных звуков и запахов. Что-то нечеловечески-жалкое ощутилось в ней.
«Опьянела», — подумал Пауль.
— Ну, ну, глупенькая, — он успокаивающе похлопал ее по щеке. — Куда же я денусь от тебя? Конечно, я здесь!
Она вздохнула глубоко, почти всхлипнула.
— Никогда больше не говори так! Не говори, что тебя нет! Я боюсь!
В этих коротких фразах с их детской интонацией он почувствовал что-то родное, еще более сблизившее их.
«Кто знает, что она пережила в своей жизни».
Словно желая поскорее изгладить из памяти впечатление от этого странного эпизода, девушка всячески старалась вернуть его к обыденной действительности. Они обменялись еще несколькими фразами о крепости ликера. Затем стали пить кофе.
Теперь сознание у обоих было ясным. Пауль интуитивно почувствовал, что девушка обладает определенным опытом. Кажется, суть ее очарования в том и заключалась, что будучи умелой любовницей, она сохраняла характер девчонки-подростка, скрывающей под робостью озорство. Но и это еще, явно, была не вся она. Как она в кинозале шепнула ему, что фильм напомнил ей сюжеты Достоевского… Да, кажется, так и шепнула. И, значит, существовала еще и другая она, та, что читала романы Достоевского… Занятно!
Ему хотелось показать ей, что и он не новичок в любви, не грубиян и простак, знает кое-какие тонкости. Когда они встали из-за стола, Пауль медленно подошел к девушке сзади, нежно коснулся губами шеи под завитками светлых волос. Регина зябко повела плечиками. Стоя сзади, Пауль перекинул руки ей на грудь, расстегнул верхнюю пуговку кофточки. Она, не спеша, принялась расстегивать остальные пуговицы. Пауль чуть сжал пальцами ее нежную шею. Потом осторожно, не торопясь нащупал крючки на юбке, юбка упала на пол.
Все так же стоя сзади, чтобы она не видела его, чтобы его прикосновения казались ей анонимными, немного таинственными, Пауль отстегнул резинки пояса. Отвел руки, чтобы не мешать ей. Она сняла пояс. Оказалось, она не носила ни лифчика, ни комбинации. Это подтверждало его мысли о ее опытности. Он снова поднял руки, некрепко обхватил ее за талию. Девушка извернулась в кольце его рук сильным гибким движением. Он снова понимающе отвел руки. Она чуть откинулась назад, отдалилась, переступила несколько мелких шажков.
Теперь она стояла прямо перед ним. В тонких шелковых чулках телесного цвета, в маленьких туфельках. Свет лампы падал на нее как-то сбоку. И ее лицо, еще недавно обычное личико светловолосой берлинской машинистки из какой-нибудь конторы, теперь обрело четкие точеные черты мраморной римской статуи. Светлые завитки волос, казалось, отяжелели, и плавно оттеняли изгиб изящной шеи. Маленькие округлые груди с нежно-розовыми крохотными сосками, упругий нежный выступ живота, руки, точеные ноги. Треугольник внизу живота был нежен, каштановая поросль на нем и под мышками придавала девушке с ее внезапным видом мраморной богини какую-то очень живую, нежную и беззащитную черточку.
Нагая, она, в свою очередь, вскинула руки и расстегивала пуговицы на его рубашке, пальцы ее скользнули вниз.
Без одежды они опустились на застланную покрывалом постель и начали целоваться, стараясь растянуть состояние мучительного изнеможения, болезненного нетерпения, вскоре овладевшее ими.
Две пары стройных ног откинули покрывало. Оно соскользнуло на пол. Пауль ощутил знакомое напряжение, напряглись и вытянулись ноги. Сильная нагая мужская фигура мерно двигалась, прикрыв собой нагую девушку, руки которой то в изнеможении вздымались, то крепко обхватывали шею и плечи юноши.
Глава седьмая Ночь
Пауль проснулся. В сущности, его разбудили уже слышанные им однажды в этой мансарде звуки — топотанье маленьких лапок — мыши, равномерный шум дождя за окном. Комната погрузилась в темноту и тишину.
«Должно быть, часа четыре утра. Теперь поздно светает».
Он осторожно отодвинулся на край узкой постели. Тонкое свечение в темноте — девушка лежала спиной к нему. Он бережно, боясь разбудить, натянул на нее одеяло. Спать уже не хотелось. Ночь он провел удивительную. Но, кажется, и он оказался на высоте. Хотя она, конечно… Такая любовница — и прозябает здесь, под самой крышей какого-то явно нефешенебельного дома. Странное существо. Таинственное. Но, откровенно говоря, сейчас Регина вовсе не казалась ему таинственной.
Он закрыл глаза и попытался снова заснуть. Но сон больше не приходил. Вместо сна пришло то самое, знакомое состояние, когда он как бы раздваивался и видел странные вещи и сам существовал в какой-то иной реальности.
Сейчас он погрузился в черный мрак. Это был именно мрак, а не темнота комнаты. Он погрузился вниз, надолго повисая в пространстве. Затем раздались голоса. Голоса были незнакомые. Но не потому что это были голоса незнакомых ему людей, нет, но из этих голосов как бы было выхолощено, удалено все, что делает голос голосом конкретного живого человека. Голоса произносили фразы на обычном немецком языке, но это не были голоса людей. Какие-то существа (именно существа) почему-то говорили человеческими голосами, не сходными с обычными человеческими голосами.
— Он слышит… — произнес мужской голос.
Пауль понял, что говорят о нем. Но он не испытал страха. Не возникло ощущения, будто эти голоса враждебны ему, они просто были органичной частицей некоей реальности.
— Я ничего не могу здесь поделать, — отвечал женский голос.
Голоса понизились до неразличимого шепота. Только иногда до Пауля долетали отдельные слова, отрывочные фразы.
— А если он не… — начал мужской голос.
— Это невозможно! — прервал женский.
— Ты уверена, что он придет в состояние?
— Я ручаюсь…
— Нет, это невозможно, он все слышит, это действует мне на нервы. Сделай же что-нибудь.
Женский голос не ответил, но Пауль ощутил, как движется вниз во мраке. Пространство под ним раздалось, раскрылся странный сумеречный свет. Пауль увидел забетонированную площадку. Стеснившись, блеяли овцы и козы. Подъезжали темные грузовики. С грузовика спускали деревянную пологую дорожку. Рослый черный козел с бубенцами на шее поднимался первым, за ним, толкаясь, устремлялись овцы и козы из стада. Затем козла незаметно спускали вниз, по такой же дорожке, открывавшейся у другого борта. Грузовики отъехали. На площадке появились высокие волки, двигавшиеся по-человечьи на задних ногах. Козел тоже поднялся на задние ноги. Волки начали гоняться за ним. Он убегал от них. Все это происходило в молчании. Козел убежал, волки — за ним, площадка опустела. Пауль увидел себя обнаженным, стоящим на этой площадке. Это было неприятно. Но тут же пришло в голову, что он явно играет здесь роль козла, а не волка. Ему почему-то сделалось смешно. Он рассмеялся громко. Чернота сгустилась. Все исчезло. Он перестал сознавать себя.
Глава восьмая Утро
Солнце ярко било в глаза. Оранжевая шелковая занавеска была отдернута. В комнате было тепло тем особенным теплом, какое бывает, когда на улице холодно, когда уже зима, городская малоснежная зима, а в комнате тепло. Тепло исходило от высокой металлической печи. Вчера он даже не заметил ее. А сегодня Регина уже успела затопить ее.
— Привет любителям утренней спячки! — она стояла у печи, раскрасневшаяся, одетая. Должно быть, уже успела побывать на улице. Пауль увидел на столе хлеб, молоко, масло.
О ночных видениях не хотелось и думать. Сейчас он воспринимал их как обычную игру воображения. Он рывком отбросил одеяло, вскочил обнаженный, привлек ее на постель.
— Нет, нет, не теперь, — смеялась она.
— Теперь, теперь, — шептал он.
Пока она надевала снова трусики, застегивала резинки пояса, оправляла чулки и юбку; он тоже почти оделся. Умывшись в крохотной прихожей, где кроме примуса, оказалось, помещался еще и рукомойник с тазом; Пауль вернулся в комнату и сел к столу.
— Тебе нужна квартира, — заметил он с набитым ртом.
— Господин король желает предоставить мне одну из своих резиденций?
«Господин король»! Пауль невольно вздрогнул. Впрочем, а вдруг она знает его стихи и, соответственно, его псевдоним — «Кениг»? Он посмотрел на нее и осторожно спросил:
— Почему «господин король»?
Она беспечно рассмеялась.
— А! Если я Регина — королева, значит, ты можешь быть моим королем!
И вправду, такое шутливое соответствие само напрашивалось. Пауль ничего не ответил и сосредоточенно жевал хлеб с маслом. Зачем он сказал эту глупость о квартире? Разве он может предложить ей нечто подобное? Незачем было говорить! Но еще и еще раз — странно — такая удивительная женщина — в такой дыре!
После завтрака она заспешила. Но в этой поспешности не было никакого желания выпроводить его. Должно быть, она опаздывает на службу.
— Торопишься в контору? — спросил он. И тотчас мысленно выругал себя за бестактность.
Девушка покраснела и быстро кивнула.
— Да, — теперь она снова стала робкой и скромной. — Мне надо бежать, — она осеклась. — Я провожу тебя.
В прихожей Пауль торопливо натянул пальто. Она шла впереди в накинутом на плечи пальтишке. Они спустились по деревянным ступенькам, вышли из подъезда. Девушка указала рукой под арку.
— Там уже улица.
Снова странность — вчера вечером ему показалось, что они шли долго, петляли, а сегодня путь оказался таким простым.
Но неужели все так и кончится? В конце концов сейчас он спросит, когда они встретятся вновь. Но спросить он не успел.
— Мы можем встретиться сегодня, — нерешительно предложила она.
Он обернулся, смеясь, подхватил ее под мышки и покружил.
— Ну пусти, пусти! — отбивалась она по-детски.
Пауль поставил ее на землю. Глаза ее блестели, и он знал, что так же блестят и его глаза.
— Сегодня вечером, — произнесла она.
Он закивал, держа ее ладони в своих пальцах.
— Где? Когда? — спросил он.
— На площади, возле оперного театра? — в голосе ее снова послышалась нерешительность. Кажется, она заволновалась.
— Ты любишь оперу? — невольно вырвалось у него.
— Да! — искренне ответила она.
— Тогда, тогда, — он махнул рукой. — Тогда сюрприз!
Она догадалась и обрадовалась. Но тут же спросила:
— А у тебя хватит денег?
— Вечером мы идем в оперу!
Она по-детски захлопала в ладоши. Он шутливо высунул язык. Они решили встретиться пораньше, чтобы успеть прогуляться перед началом спектакля.
Вчерашний дождь окончательно перешел в снег, и сегодня утром снег покрывал мостовую, подоконники и крыши домов. Зима сменила позднюю осень. Паулю стало холодно. Он поднял, как обычно, воротник пальто — не помогло. Он догадался, в чем дело. Ведь он забыл кашне. Как же это могло случиться? Вчера Регина сунула его кашне в рукав пальто. Да, но, видимо, не его, а своего пальтишка. Потом, когда вышла утром за покупками, отложила его кашне. Теперь оно, должно быть, лежит в крохотной прихожей на полке над рукомойником. Вернуться? Ему неудержимо захотелось вернуться. Он поколебался немного и зашагал назад.
Кажется, он только что вышел из-под арки на улицу. Сейчас. Где же арка? Подворотня? Прошел вперед — ничего. Свернул наугад — нет, не здесь. Поплутав еще немного, он понял, что поиски ни к чему не приведут. Ладно, у него еще будет время взять свое кашне.
Пауль снова вышел на улицу. Вот тебе и раз! Да ведь он совсем рядом с домом. Вон, на другой стороне улицы его окно в квартире фрау Минны, знакомая штора. Уму непостижимо!
На лестнице сегодня утром пахло кошками. Поднимаясь, он вспоминал, как Регина сама предложила встретиться. Кажется, она волновалась. Значит, ночью он произвел на нее впечатление. И не из тех она, кто разыгрывает роль соблазненной невинности. Нет, ему везет! Теперь — вопрос о деньгах. Вечером он должен ждать Регину на площади с двумя билетами.
Он, стараясь не шуметь, отпер дверь своим ключом. Да, надо предупредить фрау Минну, что сегодня он снова не будет ночевать у себя. Как бы это сделать?
Он посидел за пишущей машинкой, размышляя, у кого бы занять денег. В дверь постучали.
Хозяйка!
— Войдите, — вежливо откликнулся он.
Фрау Минна плотно заняла дверной проем.
— Будете завтракать?
— Да, да, — он вышел к ней.
На кухне, выпив кофе и съев крутое яйцо, он заговорил с хозяйкой серьезно и официально.
— Я хотел бы вас предупредить. Вероятно, теперь я иногда буду ночевать у моего друга. Мы работаем над совместным исследованием. В частности, сегодня…
— Я поняла, — перебила она с этим своим видом холодной непроницаемости. — Вы забыли у вашего друга кашне, — продолжила она. — Я могу одолжить вам денег на покупку нового.
И снова Пауль ощутил какое-то странное заискивание в ее равнодушном голосе.
«Черт! Неужели я ей нравлюсь? Этой полярной мамонтихе! Бред какой-то!»
— Деньги? — он постарался, чтобы и его голос звучал равнодушно. — Не знаю. Да, пожалуй. Я должен получить гонорар. Я непременно верну…
Сердце радостно заколотилось. Проблема денег была решена.
Он еще немного поработал. Затем оделся и вышел побродить по улицам. Заглянул в несколько книжных магазинов, пообедал в дешевом ресторанчике. Забежал в редакцию альманаха, поболтал с редактором и договорился об авансе. Смутное промелькнуло воспоминание о тепле, которое влекло его совсем еще недавно. Но теперь показалось, что это происходило очень давно.
Глава девятая Опера
Регина ждала его на площади. Она принарядилась. С плеча свешивалась чернобурка, немного, впрочем, потертая. Белый берет сменила черная шапочка с вуалеткой. Теперь перед ним была не девчонка, но молодая женщина, чье очарование мог оценить знаток.
Когда Пауль покупал билеты, он был несколько разочарован. Сегодня давали «Аиду». Ему никогда не нравилась эта поздняя опера Верди, она казалась ему примитивной, напыщенной, а местами попросту скучной. Да и как всерьез воспринимать всю эту итальянскую слащавость, когда существует музыка Блоха, Сати, Равеля… Но делать было нечего. Ведь он обещал Регине.
Он взял ее под руку. Они пошли.
— Идем в ногу, — засмеялась она.
Он тоже рассмеялся. Приостановились. Снова пошли по каменным плитам площади.
Внезапно она осторожно высвободила свою руку. Он посмотрел недоумевающе.
Она щелкнула замочком сумочки.
— Твое кашне, Пауль.
Она сама расстегнула верхние пуговицы его пальто, заботливо по-женски укутала его шею.
— Вот так. А ты, кажется, о чем-то хотел спросить меня?
Это новое женское изящество очень шло ей. Сегодня она нравилась ему даже больше, чем вчера.
— Спросить? Ну да! Сегодня мы будем слушать «Аиду». Как это тебе?
— Я так давно не была в опере! — уклончиво ответила она.
Ему послышалась в ее голосе легкая ирония. Но в конце концов разве он виноват, что сегодня дают именно Верди, именно «Аиду»!
— Но в этой легковесной классике есть свое очарование, — продолжила Регина.
Некоторое время они шли молча.
— Да, я бы хотел тебя спросить, — начал он. — Собственно, кто ты? Откровенно говоря, ты удивительная женщина, самая удивительная из всех, какие мне встречались! Я говорю это прямо, потому что не опасаюсь ответного кокетничанья…
— Кто я? Должно быть, у нас много общего. Ведь и ты из провинции?
Он кивнул, немного смутившись. Стало быть, у него все же вид провинциала.
— Я и сама не знаю, чего я ищу в Берлине, — Регина, казалось, не заметила его смущения. — Пожалуй, свободы.
— Но ты могла бы иметь все! — он почувствовал, что говорит с горячностью. — А ты ютишься на чердаке…
— Все? Да, пожалуй. Могла бы, — он явственно расслышал горечь в ее голосе. — Может быть, я и буду иметь все, — лицо ее снова обрело отчужденное выражение — лицо ночной мраморной богини.
— Прости, если я обидел тебя.
— Что ты. Мне хорошо с тобой.
— И мне. А кстати, сегодня утром я хотел вернуться к тебе за этим злосчастным кашне и, представь себе, не мог найти твоего дома.
Она пожала плечами.
— Мой дом в глубине задних дворов, у самой набережной. Вроде бы и нетрудно пройти, но надо запомнить дорогу, — снова в ее голосе зазвучали вчерашние интонации девочки-подростка, такие трогательные для него.
Они вступили в аллею бульвара. Почернелые ветки прикрыл тонкий снежный покров. Под подошвами слабо похрустывала ледяная корочка.
— Я пишу стихи, — рассказывал о себе Пауль. — Подрабатываю в редакциях…
— А я, — озорно заговорила она, — служу. И угадай где?
— Не знаю, — он улыбнулся, очарованный ее непосредственностью.
— Исполняю стриптиз, раздеваюсь на публику, в одном притоне! За это неплохо платят и, как это ни странно, меня уважают там. Знаешь ли, я люблю, когда меня уважают.
— С тобой ничего не странно! Удивительная женщина! Невольно я думаю: что она во мне нашла?
— Просто мне хорошо с тобой.
— Ты позволишь мне увидеть, как ты работаешь? — спросил он осторожно.
— Нет, — она покачала головой. — Это — нет. Это просто работа. И ничего интересного.
Снова эта детская интонация! Пауль поцеловал девушку.
Когда в фойе театра он помог ей снять пальто, она предстала перед ним в скромном шелковом черном платье, отделанном парчовыми вставками. Крохотные голубоватые камешки серег подчеркивали изящество ушей, оттеняли голубизну глаз. На нее обратили внимание, но ей это, казалось, не доставило удовольствия. Паулю передалось ее недовольство и вместо того, чтобы испытывать гордость оттого что рядом с ним красивая женщина, он почувствовал тревогу и какую-то неприязнь ко всем окружающим их людям.
Зазвучали первые такты увертюры. Затем поднялся тяжелый бархатный занавес. Сцена, декорированная пальмами, задник, изображающий пустыню, все это вновь пробудило в его подсознании то стремление к теплу. Стремление это, ровное и даже приятное, осталось и не исчезало. Даже нелепые костюмы, итальянская певучесть арий, знаменитый марш, напоминающий о ресторанной эстраде в дорогих ресторанах, — ничто не могло погасить, уничтожить это стремление.
В антрактах он сознавал свое раздвоение — он снова существовал как бы одновременно в двух плоскостях — Пауль здесь, в театре, с Региной, и Пауль — там, в теплом мареве, еще не могущем воплотиться в четкие очертания. Это мучило его. Он боялся, что Регина заметит это и неверно истолкует как равнодушие к ней. Он сжал ее руку, в буфете они выпили шампанского (денег фрау Минны хватило).
Затем был обратный путь — трамвай, чернота ночи, проход по задним дворам. На этот раз с ним была не озорная и робкая девчонка, но молодая женщина, своеобразная, уверенная в себе и немного загадочная.
В ее комнате он отказался от ужина. Вслед за теплом, охватившим его, явилась мысль о девушке из того, повторявшегося сна. Он ощутил досаду и раздражение.
Но близость с Региной прогнала все Иные, сторонние чувства. Он ощущал только прелесть ее тела, блеск ее глаз, тонул в мучительном блаженстве.
Сон без сновидений унес его в темноту. Но проснулся он, как и в прошлую ночь, еще до рассвета.
Глава десятая Разговор
Все то же состояние странного бодрствования. Все те же шумы. Топотанье, равномерный плеск струек, шорох сыплющейся снежной крупы. Но ведь сегодня ночью за окном нет ни дождя, ни снега. Рядом спокойно дышала Регина.
Как и в прошлую ночь, он услышал те же голоса, странные, нечеловеческие.
— Он слишком много думает о тебе! — произнес мужской голос.
— Тогда попробуй проделать все это без меня, — откликнулся женский.
— Пока я не вижу никаких результатов.
— Ты полагаешь, это так просто? Результатов придется ждать.
— А твое блядство, это что, тоже обязательно?
— То, что ты называешь таким словом, непременный фактор. Без него невозможно достигнуть должной степени возбуждения.
— Говоришь гладко!
— Твое нетерпение, твои оскорбления в мой адрес…
— Да, где уж тебе понять человека!
— Бывшего человека!
— Но все-таки человека, а не нечистую силу, заведшуюся в старой церкви от заплесневелых облаток!
— Не теряй контроля над собой! Ты можешь сказать лишнее. Он слышит. Будь терпеливым.
Снова Пауля понесло куда-то вниз, во мрак. Он ожидал вновь увидеть забетонированную площадку. Но увидел какое-то обширное помещение вроде тюремной камеры и барака. На нарах сидели и лежали мужчины в полосатой одежде. Но приглядевшись, он понял, что это не люди, а козы и овцы с человеческими жестами и движениями. Но они не говорили, а блеяли. При этом они, кажется, о чем-то спорили и было страшно слышать это блеяние на разные лады, с разнообразными интонациями. Пауль ощущал себя в черном воздухе над ними. Но он не хотел спускаться. Он сделал несколько сильных резких гребков руками и ногами, как при плавании, и поднялся вверх.
Он поплыл вверх и выплыл в ту реальность, где он лежал рядом с Региной в ее комнате. Но возникло ощущение, что можно плыть дальше, что есть еще одна, еще более реальная реальность. Но плыть уже не было сил. Что-то сковывало волю. Пауль уснул.
Проснулся он утром. Наклонившись над ним, Регина нежно массировала его веки. Они позавтракали вдвоем.
— Не забудь, — в прихожей она подала ему кашне.
— Регина, куда ты спешишь по утрам?
— Я не хочу, чтобы мы сковывали, связывали друг друга, — она слегка нахмурилась.
Он понял.
— Хорошо. Считай, что я ни о чем не спрашивал тебя.
Они условились о новой встрече, на этот раз — через день. В программу входил ужин в ресторане, прогулка, и, конечно, ночь в комнате Регины.
Снова она проводила его и указала дорогу под аркой.
— На этот раз, может быть, ты запомнишь, — она улыбнулась своей детской улыбкой.
— Постараюсь.
Пауль дошел до угла. Вдруг им овладело любопытство. Он повернул назад и попытался, как в прошлый раз, отыскать дом Регины. Так. Под арку. Немного пройти. Вот он, обшарпанный серый дом. Окно с оранжевой занавеской под самой крышей. Пауль испугался — если Регина выглянет и подумает, что он следит за ней. Он поспешно ушел.
Регина живет совсем близко от него.
Но он не пошел домой, а отыскал в одном из пригородных кабаков Александера и сумел заставить того вернуть ему долг, несмотря на пьяные протесты. Затем отправился домой, часть денег отдал фрау Минне, остальные оставил на ресторан.
— На лестнице пахнет кошками, — заметила хозяйка.
— Да, я тоже почувствовал. Должно быть, в подъезде завелась кошка, — рассеянно проговорил Пауль.
Фрау Минна кивнула с каким-то странным удовлетворением.
Глава одиннадцатая Ресторан
Регина снова была в своей вечерней экипировке — чернобурка, черная шляпка под вуалью, черное платье с парчовыми вставками.
— Куда бы ты хотела пойти?
Он взял ее под руку и повел по улице мимо прохожих, которые вдруг показались ему статистами в театральном представлении, где он и Регина исполняли главные роли.
— Сейчас в городе много русских эмигрантов, — начала она.
— С некоторыми я даже знаком, — заметил Пауль. — Среди них есть несколько интересных поэтов и литературных теоретиков.
— О, Пауль, только не взбирайся на своего конька! Ну, не сердись, мальчик мой. Сейчас меня интересует возможность интересно провести вечер. Я слышала о ресторане в русском стиле. Там, говорят, можно послушать настоящее цыганское пение.
Пауль почувствовал укол ревности. С кем эта необыкновенная женщина ведет беседы с ресторанах? Но ревновать ее — глупо. Надо подавить это в себе в самом начале.
— Да, я знаю этот ресторан. Ты хотела бы на такси или пройдемся?
— Я предпочла бы идти пешком.
Он оценил ее деликатность, поездка на такси создала бы для него еще один виток в его запутанных денежных проблемах.
Было чудесно идти с ней рядом, болтать о каких-то ничего не значащих пустяках. Но что-то царапало душу. В начале он не понимал, что именно, потом понял — цыганское пение. Снова вспомнилась девушка у костра на пустыре, ее склоненная черноволосая головка. Он попытался разобраться в своих чувствах. То, что он испытывал к Регине, было, в сущности, обыкновенным любовным влечением молодого полноценного мужчины к молодой, красивой и интересной женщине. А девушка, цыганочка с пустыря, существо из иной реальности, то ли создание его воображения, то ли… бог весть! Но она была его недугом, его болезнью… Но, может быть, болезнью, от которой не следует излечиваться?
В зале ресторана Регина умело выбрала столик подальше от эстрады. Но зато оттуда все было отлично видно, а пение не гремело в ушах, а звучало естественно.
Он заказал шампанское, белое вино, черную икру, рыбу, фаршированную грибами, фрукты. Он смотрел, как Регина изящно орудует ложкой, вилкой, столовым ножом. Она уверенным элегантным жестом подносила бокал, наполненный шипучей светлой жидкостью, к изящно очерченным губам. Его охватывало странное чувство, что-то вроде пресыщения.
Значит, — размышлял он, — она, в сущности, существует в двух ипостасях — девчонка-конторщица и женщина-вамп. И это, кажется, все. Больше ничего нового она ему не продемонстрирует. И почти ежевечерне швырять на ветер такие деньги…
На эстраде появились цыгане. Впрочем, они не так уж походили на цыган из той другой реальности. Женщины с пестрыми шалями на плечах и мужчины в русских костюмах с гитарами, укрепленными на лентах, перекинутых через плечо. Зазвучало протяжное, чуть гортанное, чуть диковатое пение. Нет, все это было совсем не то, не то. Но пародоксально напоминало ее, ее.
Песни на русском и цыганском языках сменяли одна другую. Регина откинулась на спинку стула и словно бы позабыла о своем спутнике. Он видел ее профиль, улавливал что-то знакомое, но не мог вспомнить, где он ее видел прежде. Разумеется, не в притоне, где она якобы… или на самом деле… раздевается перед публикой. Бывать в подобных местах он считал проявлением вульгарности и низменного вкуса. Хотя, быть может, это снобизм…
Потом они снова шли пешком. Черное небо расцвело яркими брошками ночных звезд.
— Чудесный вечер, — тепло произнесла Регина. — Я так благодарна тебе!
— Это я должен благодарить тебя, — ответил Пауль задумчиво.
В ее комнате его ждало привычное уже наслаждение. Он сам себе удивлялся: еще недавно он чуть с ума не сошел, готов был благодарить судьбу, пославшую ему такой подарок, и вот… привык… Кажется это сказал опять же Достоевский: «Подлец-человек, ко всему привыкает!» Впрочем, он, как всегда, имел в виду что-нибудь ужасное, к чему привыкать не следует. А вот то, что человек привыкает и начинает воспринимать как нечто обыденное удивительную женщину, дарящую ему необыкновенное наслаждение… вот это как?…
Затем его снова охватило знакомое состояние. Он увидел себя в зимнем городе, это была середина прошлого столетия. Был канун Рождества. Все казалось сумеречным и праздничным одновременно. Окна в домах ярко светились. Он шел по заснеженной улице, в пальто с меховым воротником, в каракулевой шапке пирожком. Она стояла у стены. С непокрытой головой, кутаясь в темный платок, в башмаках, чуть великоватых. Черные волосы рассыпались по плечам. Она не просила милостыню. Просто куда-то шла и приостановилась. Потом пошла дальше, чуть приволакивая маленькие ступни в больших башмаках.
А он был в просторной гостиной. Посреди комнаты установили высокую елку, нарядно украшенную. Его окружали какие-то люди, дамы в декольтированных платьях, мужчины во фраках, дети в матросских костюмчиках, в локонах и бантах. Он что-то говорил, кому-то любезно отвечал. Он тоже был во фраке.
Но думал он о ней. Он сознавал, что это безнадежность, болезнь, тоска. Но он не мог избавиться от мыслей о ней.
Потом он снова повис в черном пространстве.
Туши овец и коз лежали во рвах. Его затошнило. В сумерках слетались вороны. Над сумерками расстилалась чернота. В черноте был он. Вороны раскрывали клювы и каркали. Он вгляделся, вслушался. Они словно бы декламировали, закидывая головы, каркали торжественно и напыщенно. Он почувствовал, что губы его кривит горько-ироническая улыбка.
Снова раздались уже знакомые голоса.
— И сегодня — нет, — мужской.
— Я не устаю повторять о терпении, — женский.
— Но почему это? — мужской.
— Это прошлое и будущее, это он должен миновать, — женский.
Затем — глубокий сон.
После сна последовало пробуждение. Снова Регина массировала ему веки. Было приятно.
— Зачем ты это делаешь? — тихо спросил он.
— Тебе не нравится?
— Нет, наоборот. Просто я хотел бы узнать, это что-то вроде оздоровительной процедуры?
— Нет, ничего особенного. Просто, чтобы стало приятно.
— Действительно приятно.
Он вспомнил, как в первую ночь сказал, когда она, кажется, вот так же массировала ему веки; да, кажется тогда, сказал, что-то вроде: «Меня нет». Она почему-то страшно испугалась, изменилась, сделалась такая жалкая. И просила его никогда больше не произносить таких слов. Ему вдруг захотелось произнести снова. Но он тотчас же устыдился такого желания.
Если бы объяснить себе самому все эти голоса и сны! Право, неплохо было бы!
Теперь они договорились встретиться через два дня.
— Отчего так долго? — спросил он скорее из вежливости, нежели искренне.
— Я буду занята.
«Может быть, и ей уже поднадоела наша связь?»
Глава двенадцатая Кладбище
Встретились в парке, прогулялись. Регина предложила пойти к ней раньше обычного. Он согласился.
Комната казалась прибранной, принаряженной. На столе был сервирован ужин.
— Сегодня какой-то праздник? — полюбопытствовал Пауль. — Может быть, день рождения?
— Нет, нет. Просто мне отчего-то с утра празднично.
— Отчего же?
— Сама не знаю. Кажется, что скоро исполнится одна моя заветная мечта.
— И, конечно, нельзя узнать, какая?
— Нельзя, — озорно улыбнулась Регина.
— И никогда нельзя будет?
— Я не люблю это слово — «никогда». И отчего же никогда? Возможно, когда-нибудь и узнаешь.
— О, я вижу на столе ликер нашей первой ночи.
— Тебе это неприятно?
— Конечно, нет. С удовольствием выпью. У тебя действительно есть бабушка?
— Которая приготовила этот ликер? Да, есть.
— И она живет на горе ведьм — Брокен, там, где происходят шабаши у престола колдуньи?
— Боже, что за поэтический бред ты несешь!
— Но это примерно то же самое, что ты мне сказала о ней в ту нашу первую ночь.
— Должно быть, я опьянела. Она живет в Вернигероде. Такой небольшой городок у подножья средневекового замка.
— Не знаю такого города.
— Ну уж в твоем незнании я не виновата, — она снова засмеялась. — Выпьем, как тогда? — теперь ее глаза заблестели заговорщически. — Я заметила, что ты охладеваешь ко мне…
— Регина!
— Не спорь. Я вижу. Но мне бы не хотелось терять тебя так рано. Я откровенно признаюсь в этом.
— Мне бы тоже не хотелось терять тебя. Мне кажется, мы должны быть более откровенными друг с другом. Настало время. Наверное, я многое расскажу о себе. Возможно, ты поможешь мне. Ты ведь очень умна.
— Выпьем за нашу будущую откровенность.
— За раскрытие сокровенных тайн! — подхватил Пауль с энтузиазмом.
Они чокнулись небольшими рюмками. Он почувствовал, как небо и горло обожгло горячечной сладостью ликера. Голова отяжелела, потемнело в глазах, стало холодно ступням.
«Что это? Неужели все же — ловушка? Но зачем?»
Он уже ничего не видел перед собой. Все покрыл мрак. Сердце чуть замерло от ощущения полета вниз.
Затем он увидел себя на каком-то заброшенном кладбище. Это был он, сегодняшний. Была ночь. Подняв воротник пальто, он бродил между каменными плитами. Смутно вырисовывались рельефные кресты, выбитые на камнях. Он, кажется, что-то искал. Но вот он дошел до каменного склепа. Кажется, это и была цель его поисков. Он приблизился к двери склепа. Дверь была отперта. Из темноты тянуло холодом.
У двери он заметил одинокую человеческую фигуру.
Прежде Паулю казалось, что он знает, что такое страх и умеет преодолевать его. Но теперь воскресли давние детские ощущения, когда ночью, охваченный страшным сном, он ощущал, как хочет закричать и не может, хочет бежать, но не в силах шевельнуться.
Именно таковы были его ощущения и теперь. Этот человек… Нет, это существо у двери… Из рукавов помятого пальто выглядывали раздвоенные копыта, сплюснутая кепка прикрывала голову. Подвижные черты — лица или звериной морды? — колебались студенисто, перетекали, сжимались, вытягивались. Вот одна половина носа сделалась пятачком, другая — острым изогнутым клювом. В пасти заблестели острые большие зубы. Щеки по-свиному округлились. Существо чавкнуло и обернулось к Паулю.
Оно заговорило. И это было еще ужаснее. Оно произносило слова, глумливо растягивая их, подхихикивая, пофыркивая, нарочито утончая голос. Это было немного похоже на то, как говорила Регина, в ту первую ночь, когда они пили ликер.
— Знание! — с пародийной вежливостью произнесло существо. — Его можно получить из книг. Можно проштудировать и вызубрить горы учебников и будешь знать… хик-хик!.. что-нибудь о дифференциальном исчислении…
«Но ведь это мои мысли! Это я думал…»
— Существует еще знание жизни… ме-е!.. — существо высунуло из медвежьей пасти раздвоенный змеиный язык. — Знать жизнь, это, значит, знать, что все люди порочны… и-и-и!.. — завизжало существо. — Лживы и нечисты! А что? А что? — рявкнуло оно.
Пауль не мог пошевельнуться, не мог крикнуть. Он был охвачен безумным страхом, ужасом. Он сходил с ума.
— Ну-у, му-му-му, — пародийно замычало существо, и внезапно запрокинув большую мышиную голову, защелкало соловьем. — Грош цена этому пресловутому знанию жизни!
«Все мои слова! Боже!»
— Но есть и другое знание. Знание с прописной буквы, — р-р-р! — существо оскалило собачьи зубы на птичьем лице. — Это Знание дается один раз посредством магического действия! Да-а, дети мои! Мяу-мяу!
Набычив крупную скотскую башку, существо двинулось на Пауля.
Наконец-то у него вырвался крик, короткий и сдавленный. Ноги обрели способность двигаться. Но почему-то он рванулся в открытую дверь склепа, подумав в последний миг, что это нелогично. Следовало бы кинуться прочь с кладбища.
Глава тринадцатая Тростниковая флейта
Пауль бежал по темному коридору. От стен, сложенных из цельных каменных плит, исходил сильный запах плесени. Сильно тянуло сыростью.
Никто не гнался за ним. Не слышно было ни топота копыт, ни стука когтей. Страх медленно проходил, разжимал свои тиски. Вдали уже брезжил свет. Снова явилось желание тепла, стремление к нему. Оно было близко. Оно было настоящее, истинное. Он побежал быстрее.
Его вынесло теплым ветром на простор, на свет и чистый воздух. Понесло ласково, баюкающе. Глаза закрылись. Уставшее от напряжения тело расслабилось. Он уснул.
Это пробуждение было самым неожиданным из всех пробуждений. За окном звучали странные нежные прерывистые звуки. Но они вовсе не были для него странными, тотчас ощутил он. Они были его действительностью, его обыденностью, он слышал их часто. Это пела тростниковая флейта.
Он лежал на тюфяке, от которого пахло травами, на чистом льняном полотне. Подушка была мягкой; должно быть, набитой мелким птичьим пером. Кровать была деревянная и, кажется, легкая. Он открыл глаза и увидел стены, обмазанные глиной, чистые. В открытое окно, без рам и переплетов и стекол, влетал легкий ветерок. Это был речной ветер. Поблизости протекала огромная река. Так было всегда в его жизни. Сначала он знал эту реку, потом увидел ее. А сейчас он слышал ее плеск, она медленно катила свои воды. И вдруг резко всплескивалась волна. В окно он сейчас не видел реки, но видел голубое небо, чистое и высокое. И все это было то самое — желанное тепло, истинная его жизнь. Другой жизни быть не могло.
Он чувствовал себя, как в детстве, когда лежал в постели солнечным днем, выздоравливая после тяжелой болезни. Может быть, он болен и потому лежит?
Флейта за окном пела приветливо. Он знал, что это играет какой-то близкий ему человек, даже больше, чем друг.
Но вот над всем этим нависла чернота. И голоса из черноты заговорили снова.
— Получилось, — женский.
— Ты уверена? — мужской.
— Теперь осталось ждать развития событий, — женский.
— Снова ждать! — мужской.
— Надо быть терпеливым, — женский.
И снова — сон. Пауль уже не мог понять, кто он, где он засыпает. Сон унес все впечатления и ощущения.
Глава четырнадцатая Двойное бытие
Пауль проснулся утром. Было холодно. Светло-зеленые обои фрау Минны излучали холод. Холодное солнце заглядывало в окно, штора была приподнята. И голубой фаянсовый умывальный кувшин был наполнен, конечно же, холодной, ледяной водой.
Но Паулю было плохо не только от холода. Болела голова, стучало в висках, чуть подрагивали пальцы. В сущности, это состояние он знал. Такое и прежде случалось. Если с ночи много выпить в компании, то естественно, утром…
Он порывисто сел на постели. Одеяло сбилось в ногах.
«Регина!»
Удивительно, что он мог забыть…
Да нет, он прекрасно все помнит. Ночью он был у Регины. После того, как она угостила его ликером, начались все эти его обычные штучки подсознания. Затем…
Он не помнил. Но ясно было одно: в ту ночь между ними ничего не произошло. Пауль ощутил жгучий стыд.
Но как он оказался у себя?
Возможно, об этом знает квартирная хозяйка. Возможно, это было связано для нее с каким-то шумом и беспокойством. Возможно даже, что сейчас она все ему выскажет и просто выставит из квартиры.
Пауль умылся. Тревога поглотила ощущение холода в комнате. Сейчас у него даже горели щеки. Он привел себя в порядок и вышел на кухню.
В стерильной кухне фрау Минны тикали часы. Какой-то немолодой обрюзгший человек, одетый однако аккуратно, сидел за столом и пил кофе.
Вошла хозяйка.
— Доброе утро, фрау Минна, — поспешил поздороваться Пауль.
— Доброе утро.
В голосе ее чувствовалась странная уверенность, даже что-то радостное. Или ему просто кажется? Нервы?
— Вы будете завтракать? — спросила хозяйка.
Пауль энергично закивал.
Масленка и хлебница уже были на столе. Фрау Минна подала крутое яйцо и отошла к плите — варить кофе.
— Познакомьтесь, — произнесла она, стоя спиной к завтракающим мужчинам. — Господин Пауль, студент. Господин Оскар, коммивояжер.
Пауль подумал о том, что, кажется, никогда не говорил хозяйке о своих литературных занятиях. Она сама решила, что он — студент. Должно быть, она часто сдавала комнаты студентам.
— Гофф, — представился обрюзгший мужчина. — Новый здешний жилец.
— Кениг, — Пауль пожал протянутую руку.
Ему показалось, будто на лице Оскара Гоффа промелькнула ироническая улыбка.
«И кой черт несет меня называть псевдоним вместо фамилии! Идиотство! А где-то я видел этого типа. Но… не помню».
К счастью, коммивояжер Оскар Гофф оказался таким же равнодушным и молчаливым, как и квартирная хозяйка. Он допил свой кофе, встал из-за стола, подошел к фрау Минне и что-то сказал относительно обеда. Она что-то, в свою очередь, ответила. Это звучание мужского и женского голосов напомнило Паулю его ночные кошмары. Два голоса во мраке странно перекликались с двумя голосами в светлом холоде утра в стерильно чистой кухне.
«Нет, положительно, у меня расшатались нервы».
Оскар Гофф, новый жилец, покинул кухню. Фрау Минна подала кофе. Пауль раздумывал, как бы половчее выведать у нее, что же произошло ночью, то есть как он оказался здесь, в своей комнате, ведь он был у Регины.
Гм! Что же придумать? Ясно одно, он был пьян. Но как же спросить у нее? Как начать? Он медленно прихлебывал кофе.
Как же начать? Например, так: «Простите, фрау Минна, вчера я был пьян, как свинья. Не могли бы вы мне подсказать, каким образом я оказался у себя?» Он представил себе, как произносит все это и невольно фыркнул. Хорошо еще, что кофе не брызнул на безупречно чистую скатерть фрау Минны. Но хозяйка обернулась к нему. Он поспешно уткнулся в чашку, нахмурил брови.
— Вам плохо? — спросила она.
— Нет. То есть, да немного. («А что, вдруг она сама расскажет, по собственной, так сказать инициативе?»).
— Вчера вам оставили письмо. Ваша знакомая. Она привезла вас на такси. У вас был обморок. Она сама ухаживала за вами, — фрау Минна говорила в своей обычной равнодушной манере. Но не похоже было, что она сердится или упрекает его, или намеревается выставить на улицу.
— Благодарю вас, фрау Минна. Прошу прощения за беспокойство. Мне, право, так жаль…
— Я принесу письмо, — она уже стояла у двери, обернувшись к нему всей своей плотной, несколько неуклюжей фигурой.
— Да, если вас не затруднит.
— Не затруднит.
В этом коротком ответе ему почудилась странная ирония.
«Сегодня утром я вижу и ощущаю странное в каждом заурядном действии, в каждой обыденной фразе. Нервы, нервы».
Хозяйка вернулась с конвертом. Обычный почтовый конверт не был надписан, но был заклеен.
— Благодарю вас, — Пауль взял письмо.
— Вы будете к обеду?
— Да.
— Сегодня гороховый суп.
— Это хорошо, благодарю.
Пауль закивал с вежливой рассеянностью и прошел в свою комнату.
Ему одновременно хотелось и вскрыть письмо как можно быстрее и длить ожидание, держа в руке заклеенный конверт. Он надорвал кончик.
Это даже нельзя было назвать письмом. Скорее запиской. Разумеется, у Регины оказался изящный почерк. Буквы чуть клонились вперед, тонкие, немного вытянутые. Бумага благоухала тем сладковатым запахом, который он уже привык воспринимать как запах Регины. Какое-то причудливое смешение простенькой губной помады, чего-то мускусного, почти животного и в то же время — какой-то тяжелый аромат — словно бы неведомых сильных благовоний.
«Милый Пауль, — начинала Регина. — Я благодарна тебе за все. Что бы там ни было, но мое чувство было искренним. Помнишь, ты говорил, что я бы могла иметь все? Я и хочу иметь все и иду по этому пути. Не ищи меня.
Твоя Р.»Разумеется, Пауль перечел простую записку несколько раз. Картина прояснилась. Регина просто подпоила его этим своим зельем и в бессознательном состоянии привезла сюда. Откуда она узнала, где он живет? Могла проследить. Ведь это почти рядом с ее домом. Кто знает, возможно, и встреча их не была случайной. Кто она, эта женщина? С кем она связана? Он подумал, что, может быть, его намеревались использовать в каких-то целях, заманивая в ловушку с помощью Регины. Но он чем-то задел сердце этой женщины, такой странной, и она спасла его от неприятностей. На свой манер!
Но в глубине души Пауль во все это не верил. Из глубины души поднимались испарения панического страха. Он чувствовал, что его пугает все — эта комната, и вся квартира фрау Минны, и она сама, и новый жилец Оскар Гофф, и улица перед домом, и весь этот квартал. Хотелось бежать отсюда, просить помощи. Но какая помощь была ему нужна, он и сам не мог бы объяснить. Иногда ему вдруг начинало казаться, что уже поздно и что никто ему уже не в состоянии помочь. А то вдруг возникало ощущение, что помощь еще может прийти, но он не знал, не мог понять, куда идти в поисках этой помощи, кто ее подаст.
Снова забилось сердце, его стало мутить.
«Надо держать себя в руках».
Он вспомнил о враче по нервным болезням, старом знакомом его отца. Правда, есть некоторое опасение: вдруг врач напишет отцу и тот будет обеспокоен состоянием Пауля? Впрочем, можно попросить его не извещать отца. В конце концов два взрослых человека всегда могут договориться… Решено, он все же обратится к врачу.
Пауль оделся и вышел на лестницу. Сегодня там не пахло кошками. Должно быть, поселившаяся было в подъезде или на чердаке кошка, все-таки убежала куда-то в другое место.
Стоя на лестничной площадке, Пауль вынул из кармана пальто записную книжку, полистал, нашел адрес врача. Затем расстегнул пуговицы, переложил книжку в карман пиджака — так надежнее. Он уже отдавал себе отчет в том, что хочет оттянуть визит к врачу. То есть он решил пойти, но будет всячески этот визит оттягивать.
На улице ему стало легче. Он вдохнул полной грудью сырой зимний городской воздух. С минуту наслаждался свободой, он мог пойти куда угодно. Но он знал, что эта свобода — на самом деле — мнимость. Потому что никакого выбора на самом деле не было. Он отлично знал, куда он пойдет.
Он перешел на другую сторону улицы, свернул несколько раз, углубляясь. Вот и арка, вот и подворотня. Все на месте, все реально существует. Вот и дом. Знакомое окно под самой крышей, оранжевая занавеска. Немного поплутав, он отыскал черный ход и начал подниматься по деревянным ступенькам.
У знакомой уже двери его снова охватил страх. Снова захотелось бежать. Но он не дал этому чувству разрастись. Сжал пальцы, легонько постучал кулаком в дверь. Послышались шаги. Снова — мгновенный страх. Дверь отворилась. На пороге стояла пожилая неряшливая женщина с растрепанными грязно-седыми волосами. В одной руке она держала мокрую тряпку. Дверь, ведущая из прихожей в комнату, тоже была открыта. Пауль видел царивший в комнате беспорядок.
Женщина походила на самую заурядную наемную прислугу. Страх прошел.
— Я ищу фройлайн Фосс, — все же Пауль говорил нерешительно. — Регина Фосс…
Услышав ответ, он был даже несколько разочарован. Подсознательно он ожидал совсем другого ответа. Например, что никто здесь не знает Регину Фосс, что никогда она здесь не жила…
— Вы опоздали, — бесцветным голосом произнесла прислуга. Чуть раньше бы пришли. Фройлайн Фосс переехала нынче утром.
— Она не сказала, куда? Не оставила адреса? Ничего не передавала?
— Нет. Съехала и все. Торопилась очень. Да ей просто съезжать, вещей у нее немного.
— А мебель?
— Мебель хозяйская. А вы кто, ее знакомый?
— А что, — спросил Пауль, сам стыдясь своего вопроса, — у нее было много знакомых?
— Вроде бы нет. Я никого не видала.
— Ну что ж. Прощайте.
— До свидания.
Пауль спустился по лестнице, выбрался, миновав арку, на улицу. Что у него сегодня? Ах да, визит к врачу.
Может быть, вначале отыскать Михаэля или Алекса, поговорить о том, о сем, и только потом отправиться к врачу?
Нет, он сделает наоборот. Сначала покончит с врачом, а когда будет свободен, разыщет Михаэля или Алекса.
Пауль вышел на трамвайную остановку и дождался трамвая.
Пока он ехал, начало нарастать раздражение, чувство неудовлетворенности. Хотелось закрыть глаза и не видеть людей и не смотреть на дома и улицы в окне трамвая.
Он добрался до двери с табличкой «Гоц». Прислуга открыла и объявила ему, что доктор Гоц теперь не принимает на дому, только в клинике. Да, и сегодня. Еще можно успеть. Пауль получил от нее адрес клиники и вписал в записную книжку.
Эта неожиданная трудность немного выбила его из колеи. Но переносить визит к врачу на какой-нибудь другой день уже не хотелось. Уже сложилось ощущение, что этот предстоящий визит — некая неприятная повинность, которую непременно нужно исполнить.
Сидя в кресле у двери, за которой шел прием больных, Пауль жалел о том, что не взял с собой ни газеты, ни книги. Смотреть по сторонам, видеть перед собой это обычное помещение перед кабинетом — стол, несколько кресел — все это почему-то раздражало невыносимо.
Из кабинета вышла пациентка. Пауль вошел.
— Не знаю, помните ли вы меня, я сын Якоба Гольдштайна…
Доктор Гоц не помнил его, но отца прекрасно помнил.
— Что же вас беспокоит, молодой человек?
Пауль начал рассказывать о беспричинном раздражении, о перепадах настроения…
— Вы, кажется, литератор?
— Да. («Я только что сказал ему, кто я, — подумал Пауль. — И вот он уже не уверен в том, что я ему действительно говорил это».)
— Нерегулярно питаетесь?
— Напротив. Весьма регулярно. Столуюсь у квартирной хозяйки. Очень аккуратная особа.
Доктор Гоц пошевелил пухлыми пальцами, поросшими мелкими светлыми волосками, и посмотрел Паулю в лицо через большие очки в роговой оправе. Паулю было неприятно. Доктор заставил его положить ногу на ногу, постучал молоточком по колену, затем велел Паулю встать, вытянуть руки. Затем снова велел сесть. Вид у доктора был несколько озабоченный.
— Есть какие-нибудь беспокоящие симптомы? — спросил Пауль.
— В том-то и дело, что нет. А что еще вас беспокоит?
В сущности, Пауль мог бы подробно описать являвшиеся ему картины, голоса; рассказать обо всем, что он видел и слышал. Но какой-то стыд мешал ему сделать это. Странно!
— Иногда по ночам мне снятся кошмары. («Но ведь это ложь. Ничего мне не снится, все происходит наяву».)
— Вы чего-то не договариваете. Женщина?
— Нет. В этом отношении — ничего особенного.
— Что ж, давайте пропишу вам микстуру — бромистый препарат. Успокоительное. Это безвредно. И — в случае чего — я к вашим услугам.
У двери Пауль задержался.
— У меня к вам просьба, доктор.
— Да?
— Я попросил бы вас не извещать моего отца о моем визите к вам…
— Разумеется, нет. К тому же ваше здоровье не внушает никаких опасений. Юношеская нервозность, помноженная на занятия литературой. Не тревожьтесь. И в случае чего — я к вашим услугам.
Пауль отдавал себе отчет в том, что даром потратил время. Или он должен был откровенно обо всем рассказать, или вовсе не приходить сюда. Но рассказать он не мог. Почему? Конечно, то, что он испытывает, с точки зрения обыденного сознания — аномалия. А писание стихов разве не аномалия с точки зрения все того же обыденного сознания? Тогда к чему все ото — врач, микстура?
Был и еще один разочаровывающий момент. В глубине души он смутно надеялся на банальное и невероятное: на то, что врач окажется не только врачом, но и… знатоком чего-то… Пауль и сам не знал, чего именно… Ну, чего-то такого, что позволило бы ему помочь Паулю… И тогда… он все бы рассказал врачу и тот нашел бы выход… Но ничего подобного не произошло. Да и не могло произойти.
И никакая микстура ему не нужна. Он знает. Тем не менее, Пауль пошел с рецептом в аптеку и приобрел лекарство.
Можно было еще побродить, отыскать Алекса или Михаэля, но не хотелось. Паулю вдруг показалось, что он знает наперед, что ему могут сказать его друзья и что он им может сказать.
Он проголодался. Посмотрел на наручные часы. Время обедать. Ну, гороховый суп фрау Минны. Надо бы все же прийти домой и пообедать. За одним столом с коммивояжером Гоффом, новым жильцом? Нет ни малейшего желания. Но все-таки его потянуло домой. В городе ему показалось неуютно, холодно, уже по-зимнему рано смеркалось.
Квартира фрау Минны была непривычно теплой. За столом Пауль сидел один. Почему-то это очень обрадовало его, как могло бы обрадовать какое-то волшебное исполнение желаний.
После обеда Пауль ушел к себе в комнату. Какая-то внутренняя усталость, опустошенность, отупение одолевали его. Он поймал себя на мысли о том, что душевная боль, конечно, мучительное чувство, но остаться без нее и просто тупеть в пресной пустоте — гораздо хуже.
Читать не хотелось. О писании и речи быть не могло. Он тихо постучал в комнату фрау Минны, предупредил, чтобы она не звала его к ужину. Вернулся к себе. Томительное безделье вызвало усталость. Решил лечь.
Раздеваясь, вдруг бросил случайный взгляд на флакон с микстурой.
Принять?
Собственно, зачем принимать ненужную ему микстуру? И зачем было покупать ее в аптеке? Но, бог знает почему, для какого-то успокоения совести что ли, он решил принять.
Лекарство было прохладным и чуть горьковатым.
Пауль не мог определить, сколько же он проспал. Почему-то показалось, что уже полночь. Было очень темно. Но это не была обычная темнота ночи. Это был тот мрак из его кошмара.
Во мраке раздавались знакомые голоса, шум, напоминающий шум дождя, топотанье мышиных лапок. Все это мучительно напоминало о Регине. Боль, свойственная ощущению полноты бытия, на миг захватила Пауля, вытеснила отупение и страх. Но лишь на миг.
— Я вижу, что все снова откладывается, — произнес мужской голос.
— Надо терпеть, — ответил женский. — Это все микстура.
— Сегодня микстура, а завтра возникнет еще что-нибудь.
— Сама по себе микстура не может помешать, мешает его подсознательное желание. Вернее, нежелание.
— После стольких попыток! Ты уверяла, что этот — единственный, подходящий.
— Я и теперь так считаю. И нас еще ждет успех.
— Надо вылить к чертовой бабушке эту микстуру!
— И вызвать у него новые подозрения!
— Ты думаешь, он подозревает?
— Он неспокоен.
— Что же делать?
— Снова ждать. Это нежелание пройдет.
— Когда?
— Через один, два дня.
Пауль широко раскрыл глаза. Ему почудилось, будто во мраке проступают контуры каких-то двух отвратительных чудовищных тел. В тот же миг шорох усилился.
— Он увидит, — произнес мужской голос.
— Нет, он сейчас заснет, — тихо сказала женщина. — И завтра…
Глава пятнадцатая Брат
Наутро Пауль рассуждал, лежа в постели, заложив руки за голову, поглядывая искоса на флакон с микстурой.
«Предположим даже, что это всего-навсего галлюцинации. Но ведь это развивает мое воображение, стимулирует творчество. И, разумеется, творчеству вреден бром, как вредна любая пресная обыденность».
Умывшись и одевшись, Пауль решительно вылил бромистую микстуру в унитаз и вернулся к себе. Некоторое время он посидел над чистым бумажным листом, написать ничего не удалось, но сам процесс мышления был приятен.
Когда фрау Минна позвала его завтракать, Пауль с досадой подумал о том, что не хотел бы завтракать вместе с новым жильцом Гоффом. И снова произошло детски-радостное исполнение маленького простого желания — когда Пауль входил в кухню, Гофф как раз уходил, окончив свой завтрак. Они вежливо поздоровались.
После завтрака Пауль снова уединился у себя. Он почувствовал, как нарастает то, прежнее, стремление, влечение к теплу. Он уже не искал объяснений. Он знал, что этого состояния можно достигнуть, что оно само придет, идет к нему навстречу. Он, не раздеваясь, лег на застланную постель.
Иная реальность, другая действительность спустилась, окутала своим теплым облаком, подхватила…
Он лежал на льняных простынях, на легкой деревянной кровати. Он был еще слаб. Должно быть, болел. В чистом пространстве окна — без стекол, без переплета — нежно голубело яркое небо. Прерывисто и нежно-весело пела тростниковая флейта за окном… Он знал, что это играет близкий ему человек, даже больше, чем друг. Но как-то забыл, как бывает забываешь самое обычное и присущее тебе, собственное имя, например.
Он приподнялся и, опершись на руку, осматривал комнату. Внимание его привлек небольшой открытый деревянный шкафчик, разрисованный пестрыми птицами. На полках он увидел какие-то свертки, странные, удлиненные, с тростниковой прокладкой, тонкой и узкой, чтобы легче было держать в развернутом виде. Он попытался вспомнить, что же это. Он знал, знал.
Слово пришло, как всякая отгадка, неожиданно. «Папирус»! Египет! А плеск волн за окном — это плеск Нила. Потолок комнаты поддерживали несколько деревянных круглых колонн, оканчивающихся капителями в виде цветков лотоса, изящно вырезанных и раскрашенных.
Он лежал под простыней совсем нагой. Но он ли это был? Или какой-то совсем другой человек, чьи ощущения и мысли сделались доступны, открыты ему? Кто он, этот человек? До конца ли Пауль проникся его мыслями и чувствами?
Флейта притихла. Пауль услышал шлепанье босых ног. Ему стало радостно. Это шел кто-то близкий ему, кого он любил нежно и трогательно, кто был мил его сердцу.
Колыхнулась занавеска, сделанная из пестро раскрашенных тростниковых прутьев, она закрывала дверной проем. В комнату вошел юноша лет пятнадцати, светло-смуглый, с черными, коротко остриженными волосами, босой, полуобнаженный. Одеждой ему служил кусок ткани в виде холщового передника или трусиков, закрепленный у пояса металлической застежкой. Шею и запястья юноши украшали голубые бусы. Юноша был круглолицый, глаза миндалевидные, с черными зрачками, выпуклые розовые губы. В руке он держал тростниковую флейту. Светлая смуглота его кожи, оттененная белым холстом передника и голубыми мелкими бусами, казалась очень теплой и чистой.
Юноша посмотрел на человека, мыслями и чувствами которого проникся Пауль, и глаза юноши просияли смешливой лаской. Губы его задвигались, он заговорил. В первый миг Пауль услышал звучание непонятного языка — птичье щебетанье, легкие придыхания. Но тут же его сознание сроднилось с этим языком, он стал воспринимать его слова и звуки как нечто естественное, единственное, как воспринимают слова и звуки родного языка.
— Тебе лучше, Сети? — спросил юноша.
И Пауль вдруг каким-то непонятным образом узнал, что лежащий молодой человек — Сет Хамвес — старший сын управляющего храмовым хозяйством, а юноша-подросток — младший брат Сета — Йенхаров.
Пауль видел руки лежащего молодого человека, такие же светло-смуглые, как и руки его брата, но лицо лежащего было скрыто от его взгляда. Ведь он находился как бы внутри сознания Сета Хамвеса и не мог его видеть, то что называется, со стороны.
— Да, мне лучше, — Пауль услышал голос. Это был не его голос, не голос Пауля Гольдштайна. Но если в первый миг Паулю вдруг показалось, что он заговорил чужим голосом, то уже через секунду он сроднился с этим звучным теноровым голосом и стал воспринимать его своим.
— Мне лучше, — ответил Пауль. — Что со мной было, Хари?
Юноша подошел к постели, присел на край, скрестив ступни опущенных ног, и вертел в руках тростниковую флейту.
— Ты, наверное, простудился в храме, там ведь так холодно. У тебя сделалась лихорадка. Ты бредил. Говорил что-то такое странное, какие-то бессмысленные звуки, как будто на непонятном языке.
Пауль подумал, что Сет Хамвес в бреду говорил по-немецки и, должно быть, бред его касался каких-то обстоятельств жизни Пауля.
— Отец сердится, — продолжал юноша немного озабоченно. — Он говорит, что мы с тобой — неудачные дети. И мама сердится. И приезжал старый Дутнахт…
Пауль нахмурился. Это имя было ему неприятно.
— Не будем говорить о неприятном, — решил Пауль. — Такое славное утро, Хари. Мне кажется, что если я подкреплюсь, то смогу встать. И хорошо было бы нам с тобой вдвоем пойти искупаться.
— Непременно! — воскликнул Йенхаров.
— Я бы хотел посмотреть на себя, — сказал Пауль, — садясь снова на постели. — Сильно я похудел за время болезни?
— Нет, нет, почти совсем не похудел. Но погоди!
Йенхаров вскочил, выбежал в дверь, всколыхнув тростинки пестрой занавески, и тотчас вернулся. Тростниковая флейта осталась на постели Сета Хамвеса.
Йенхаров принес полированный бронзовый диск, протянул брату.
Пауль увидел свое теперешнее лицо, лицо Сета Хамвеса. Плотный нос — широковатое переносье, закругленный кончик. Глаза такие же миндалевидные, с выпуклыми черными зрачками, как у Хари, его младшего брата. Такие же розовые выпуклые губы, нет, темнее. Такие же волосы, черные и коротко остриженные.
— Как ты разглядываешь себя! — рассмеялся Хари. — Как будто в первый раз видишь!
— После болезни, как в первый раз, — задумчиво произнес Сет.
— Вчера мама сказала, чтобы принесли в жертву того быка, знаешь, с черной отметиной на лбу. Отец не хотел. Он говорил, что твоя болезнь пустяковая. Но ты же знаешь маму. Настояла на своем. Надо ей сказать, что ты очнулся. Вот она обрадуется! И уж все уши отцу прожужжит о том, как вовремя велела принести в жертву быка.
— Больше ни слова о быках и жертвах, Хари! Иначе я тут же, не сходя с этого места, умру от голода.
— Ты хочешь есть?
— Умираю!
— Погоди, я сейчас!
Йенхаров снова выбежал из комнаты. Пауль прилег и пытался анализировать свои ощущения. В некотором смысле он чувствовал себя самозванцем. Как все странно, как странно!
В комнату вошла немолодая женщина в свободном платье из белого льняного полотна, платье было без рукавов и держалось на бретельках, сколотых у плеч золотыми застежками. Черные волосы женщины были причесаны на прямой пробор и спускались, не доставая до плеч. Она ускорила шаг, почти бегом подбежала к постели, протянула руки и обняла Сета Хамвеса. Внешне мать очень походила на обоих сыновей. То есть это они походили на нее.
Чувство, которое испытал Пауль, когда мать обняла его, затем озабоченно приложила ладонь к его лбу, было знакомое чувство. Всегда, когда мать ласкала его, он испытывал это чувство — неловкость, потому что ему было неприятно прикосновение ее рук; стыд, потому что он не мог любить ее, как она любила его, и от этого ему делалось стыдно, и сильное желание, чтобы все скорее кончилось, чтобы она ушла.
Мать присела на край постели. Она тоже была босиком. Ступни у нее были широкие, плотные и сильные. Служанка-негритянка, одетая примерно в такое же платье, что и мать, держала в руках деревянный поднос. Мать подвинула к постели столик, служанка поставила поднос и вышла.
От расставленной на подносе глиняной посуды исходил соблазнительный аромат. Мать снимала крышки с судков. Здесь было вареное и обжаренное гусиное мясо, пшеничные лепешки, что-то вкусное и густое, вроде сметаны. Пауль отпил из глиняной чашки. Напиток был темным, довольно крепким, освежающим.
«Ячменное пиво» — догадался Пауль.
Он принялся за еду. Мать говорила, не умолкая, о жертвоприношении, о каких-то праздниках, из-за которых у отца столько хлопот, несколько раз она упомянула имя Дутнахта, но всякий раз сын прерывал ее.
Сквозь прутья тростниковой занавески просунулась и тотчас спряталась голова Йенхарова.
— Хари! — окликнула мать.
Но младший сын, конечно, не спешил откликаться.
Мать взяла с постели и повертела в руках тростниковую флейту. Затем заговорила о том, что Йенхаров уже достаточно взрослый для того, чтобы помогать отцу по хозяйству, но вместо этого целыми днями бездельничает, и виноват в этом, конечно Сет Хамвес…
— Мама! — начал Сет с набитым ртом.
И тут раздался стук. Стук был громкий, раздражающе-грубый. Сета поразило, что мать словно бы и не слышит этого стука. Но тотчас он понял. Это стук не отсюда, это стук из другой действительности, из действительности Пауля Гольдштайна.
Все вокруг уплощилось, начало рваться, словно бумажные декорации на дешевой сцене. Пауль почувствовал легкое замирание сердца, как во сне, когда снится, будто летишь стремглав вниз.
Теперь он знал, что лежит на своей постели в квартире фрау Минны. Глаза его были закрыты. Он ощущал свое тело тяжелым и неуклюжим. В дверь стучали. На самом деле это вовсе не был грубый стук, скорее — деликатное постукивание.
— Войдите, — отозвался он, не открывая глаз.
Потом услышал, как открывается дверь, и открыл глаза.
— Вас спрашивают, — в двери остановилась фрау Минна. — Я говорила, что вы заняты, но они настаивают…
Спрашивают? Регина? Они? Кто с ней? Или… полиция?
— Это господин Александер и с ним еще один ваш друг, — продолжала фрау Минна.
— Да, да. Конечно, пусть войдут. Я тут немного вздремнул, устал, — ему показалось, что квартирная хозяйка тоже почему-то огорчена или недовольна приходом Алекса.
Алекс и Михаэль ворвались в его комнату, принеся с собой сырой запах промозглого зимнего вечера.
— Ты что, — встревоженно начал Алекс, присаживаясь на край постели, — заболел?
— Где ты пропадаешь? Нигде тебя не видно! — Михаэль остановился у письменного стола.
«Чудесная мизансцена! — пришло в голову Паулю. — Жаль только нет подноса с жареной уткой и ячменным пивом! Или это была жареная гусятина?»
Ему уже казалось, что вся эта тяжеловесная неуклюжая действительность, всегда окружавшая Пауля Гольдштайна, теперь, когда выход в иную реальность так облегчился, сделалась ему совершенно невыносимой. Он чувствовал, что вот-вот утратит контроль над собой и попросту выгонит приятелей. Но, конечно, он этого не сделал. Он сел на кровати, спустил ноги вниз.
— Я здоров. Совершенно здоров. Только… Вы-то поймете. Пишу тут одну вещицу… Занятную… Честно, я бы угостил вас кофе, но не могу отрываться. Вот даже сейчас сижу, говорю с вами, а все куда-то улетучивается, — он пошевелил пальцами, чуть приподняв правую руку.
Оба приятеля смотрели на него с любопытством.
— Послушай, Пауль, — заметил Алекс. — Ты не пробуешь ли ширяться морфином? Не советую, друг. Тебе, во всяком случае, не советую. У тебя не тот тип характера.
— Тип характера! — Михаэль усмехнулся. — А в самом деле, ничего такого, Пауль? Может быть, нужна помощь?
— Да нет же! — Пауль, изнемогая, откинулся к стене. — Я ведь все вам объяснил. Ну, не сердитесь! Правда, лучше оставьте меня сейчас. Когда закончу, вы все увидите. И… за мной бутылка шампанского.
— Пойдем, — сказал Алекс, решительно поднимаясь. — Вероятно, это называется приступом вдохновения. Но, кажется, наша помощь здесь не требуется.
— Позвони мне, когда придешь в себя, — бросил Михаэль в дверях, поглядев на Пауля немного насмешливо.
Испытывая чувство вины, Пауль вопреки своему желанию проводил их в прихожую.
Попрощавшись с друзьями, он вернулся к себе и плотно прикрыл дверь.
Лег на постель с колотящимся сердцем. Даже не стал раздеваться. Стало немного страшно. Он просто лежал на постели с закрытыми глазами. Та, желанная реальность не желала нисходить на него. Он готов был заплакать. Ему казалось, что если это не произойдет, он покончит с собой, перережет себе вены, решится на все.
Но оно пришло. Он ощутил блаженное расслабление тела. Темноту комнаты заполнял теплый свет солнечного нездешнего дня.
Глава шестнадцатая День
Они, Сет Хамвес и Йенхаров, стояли на холме. Белый холщовый передник-повязка подчеркивал юношескую стройность Сета. Внизу величаво катил свои воды могучий Нил. Они готовились спуститься.
— Сети, если отец спросит, где я был, — Йенхаров тронул брата за локоть, — скажи, что мы читали папирусы в храме Тота, в том, что на Южном холме. Ладно?
— Да ну, Хари, зачем нам лгать по такому незначительному поводу! В конце концов я только что поправился от тяжелой болезни и могу себе позволить немного отдохнуть. А ты имеешь полное право сопровождать меня. А ложь мы припрячем про запас. Должна пригодиться! Согласен? — Сет засмеялся.
— Согласен! — Йенхаров засмеялся в ответ.
Они побежали с холма наперегонки. Прыгнули на песчаный берег. Вдали виднелись корабли под яркими пестрыми парусами. Сет Хамвес знал эту реку. Он знал, что у него с Хари есть свое местечко для купания; знал, что вон та отмель опасна, там бывают крокодилы; а вон то место — слишком глубокое.
Они сбросили передники и пустились вплавь, сильно загребая руками, отворачивая голову от волны. Потом вернулись на уединенный берег и разлеглись голые на песке. Никогда и никого Пауль не любил так, как этого мальчика Йенхарова. Он рос единственным ребенком, вечно раздраженным тревожными заботами о нем многочисленных родственников. В сущности, единственное чувство, которое он испытывал к отцу и матери, было чувство вины. Они любили его и заботились о нем, он не любил их, не мог заставить себя любить их, и потому чувствовал себя виноватым. Потом пришла первая влюбленность, потом многочисленные любови и увлечения. Но сейчас он понимал, чего ему не хватало — бескорыстия. Своего младшего брата Йенхарова Сет Хамвес любил бескорыстно. Можно ли испытывать такую любовь к женщине?
Сет закрыл глаза. На теплом песке, овеваемое приречным ветерком, тело дышало каждой своей клеточкой.
Бескорыстие… Возможно, это такая же тайна, как и познание. Знания Сета Хамвеса и Пауля Гольдштайна не совпадали. Пауль знал много такого, о чем Сет и понятия не имел. Но и, напротив, многие познания Сета не были известны Паулю. Но главное — их обоих мучила одна и та же мысль о странности самого процесса познания.
«Что толку с того, что я целыми днями развертываю папирусы и читаю, читаю, читаю. Я исходил все храмы в округе, прочел все надписи. Но что же я узнал? Сказания о древних божествах, занимательные истории, описания того, как надо излечивать недуги… Но где же огромное всеобъемлющее знание? Знание, которого жаждет моя неспокойная душа… Или, быть может, я спесив и заносчив? Ведь есть и еще познания, которыми овладевают руки человека, когда научаются строить плотины, лечить, ковать железо… Ах, но ведь и эти познания — всего лишь малая частица чего-то большого…»
— О чем ты задумался, Сети? — теплая, с налипшими песчинками, ладонь младшего брата легла ему на грудь.
— Так, лежу и думаю.
— Ты такой умный. Так много всего знаешь. Ты был во всех окрестных храмах. А я лентяй, мне бы только играть на флейте, купаться в реке да бродить…
— Возможно, ты избрал лучшее, что есть в этой жизни, — не открывая глаз, проговорил Сет Хамвес.
— Ты даже защищаешь меня так по-умному!
— Такой уж я! — Сет улыбнулся.
По шороху песка он понял, что Хари поднялся.
— Вон корабль Дутнахта отплывает, — раздался его звонкий голос.
— Не говори мне об этом человеке, — Сет открыл глаза.
— Ты считаешь его дочь некрасивой?
— Какое мне дело до его дочери!
— Но ведь еще когда вы были маленькие, отец и Дутнахт договорились, что вы поженитесь, когда вырастете.
— Но ведь нас самих тогда не спрашивали, ни меня, ни ее.
— По-моему, она согласна. Ты ей нравишься.
— Она тебе это говорила?
— Нет, я слышал, как Дутнахт это говорил нашему отцу.
— Но сколько таких детских помолвок расторгается и никто не делает из этого большого горя.
— Отец не захочет ссориться с Дутнахтом. Дутнахт богатый. У него шесть кораблей плавают по Нилу, перевозят дерево пальмовое и страусовые перья и благовонную смолу.
— Речь не об отце, а обо мне!
— Ренси тебе не нравится? Разве она не красивая?
— Дело не в этом. Понимаешь, она обыкновенная. А я бы хотел жениться на необычной девушке.
— Трудно понять, — признался Йенхаров, садясь на песок у ног лежащего Сета, и обнимая руками приподнятые колени. — Что значит — необычная?
— Непохожая на других.
— Ну вот, крокодил тоже не похож на человека. Значит, крокодил — необычный?
— Но крокодил похож на всех остальных крокодилов. Крокодилов много.
— А если бы этот крокодил говорил, как человек?
— О, тогда он был бы необычным крокодилом! — Сет улыбнулся.
— А если бы этот говорящий крокодил был девушкой, он был бы очень необычным и ты бы на нем женился!
Сет вскинулся, притворяясь рассерженным, но Хари уже бежал к воде. Старший брат догнал его, обхватил, пригнул к воде. Они смеялись, боролись и наконец оба шлепнулись в воду, подняв тучу брызг.
Они снова поплыли вперед.
— Ты ведь очень умен, Хари, — Сет перевернулся на спину, — почему ты не любишь читать?
— Сам не знаю, почему. Не тянет как-то, — Йенхаров медленно плыл рядом с братом.
— Жаль, — Сет Хамвес говорил нарочито вяло и спокойно. Но вдруг улучил момент, схватил Йенхарова за шею и нырнул с ним. Оба тотчас вынырнули и вновь принялись, хохоча и визжа по-детски, бороться.
Обедали всей семьей, рассевшись у низкого широкого столика. Сегодня были поданы жареные цыплята, пиво в глиняных кружках, яблоки и финики. Инпу, старый управляющий храмовым хозяйством в храме верховного бога Ра, отец Сета Хамвеса и Йенхарова, сидел во главе стола, рядом разместились остальные. Комната в глинобитном доме с белыми стенами, украшенными изображениями птиц и диких кошек в тростниковых зарослях, выглядела просторной, светлой и чистой.
— Дутнахт снарядил сегодня новый корабль, — начал Инпу, выразительно посмотрев на старшего сына.
Сет Хамвес притворился, будто не замечает пристального острого взгляда отца, и спокойно обгладывал крылышко цыпленка, нарочно пригнув голову.
— Я говорю! — Инпу повысил голос, — я говорю, что перед отплытием Дутнахт был у меня, — и он сделал паузу, дожидаясь чьего-нибудь вопроса. Но сыновья молчали. Разумеется, нарочно. И только жена поспешно спросила:
— И что же он сказал тебе?
— Он сказал, что не намерен дальше терпеть. Он сказал, что если свадьба не состоится через три месяца, он будет считать себя и свою дочь несправедливо оскорбленными, и прервет всякие отношения с нашей семьей!
Сет Хамвес с самым серьезным видом пил пиво. Йенхаров очищал гранат, старательно высвобождая алые сияющие зернышки.
— Что же ты молчишь, Сети? Разве это все не касается тебя? — укоризненно произнесла мать.
Инпу, рослый в своем белом одеянии, качнул бритой головой.
— Какое им дело до отца, до его стараний обеспечить их будущее! — он махнул рукой. — Вот когда останутся нищими и одинокими, тогда поймут. Но будет уже поздно!
Паулю сделалось смешно. Все это так напоминало разговоры, которые вели отец и мать у него дома, в Айзенахе. И странно и смешно было слышать те же плоские мысли, высказываемые на экзотическом щебечущем и вздыхающем языке древности, в египетском доме, людьми, одетыми, как изображения в музеях!
— Посмотрите на него! — мать всплеснула полуобнаженными смуглыми руками. — Он еще хихикает! Чем тебе не нравится Ренси? Все говорят, что она красавица!
— Я еще не хочу жениться, — наконец выговорил Сет Хамвес.
— А чего ты хочешь? — накинулась на него мать. — Чего ты хочешь? Читать ночи напролет? Портить глаза? Бегать по храмам не для того, чтобы благочестиво молиться и просить богов о милости, но для того, чтобы переписывать все эти надписи со стен! А, может быть, это грех!
Йенхаров во все глаза смотрел на родителей и брата, задумчиво жуя.
— Мама, — начал Сет Хамвес, — в Мемфисе будут выбирать лучшее толкование сказания о путешествии богини Исет, супруги доброго Усира. Я отослал свой папирус и жду ответа.
— Я не могу понять, что это меняет! — сухо произнес Инпу. — Я дал слово Дутнахту и если это слово будет нарушено, все мы будем опозорены. Дутнахт — влиятельный и богатый человек.
— Так чего же ты собственно боишься, — саркастически обратился Сет Хамвес к отцу, — того, что наша семья будет опозорена, или просто того, что влиятельный и богатый Дутнахт может сделать нам немало гадостей?
— Что с тобой говорить! — отец снова махнул рукой.
На этот раз в его голосе послышалась та простая житейская мудрость, рожденная опытом, которая, конечно же, скучна и мелочна, но чаще всего оправдывает себя. Усталый голос отца смягчил сердце старшего сына.
— Хорошо, через три месяца я женюсь на Ренси. И если до этого придет положительный ответ, я поеду в Мемфис и увезу и ее с собой. Такое решение вопроса вас устроит? — Сет Хамвес посмотрел на отца, после — на мать.
— Ты даешь слово? — строго спросил отец.
— Да.
— Но помни, нарушать слово в нашей семье не принято!
— Я не для того дал слово, чтобы нарушить его!
Глава семнадцатая Светильник
Скрестив ноги, Сет Хамвес сидел на циновке. Перед ним на низком столике стояла чернильница, лежало перо, сделанное из тростникового стебля. Несколько развернутых папирусов было разложено здесь же. Теплые солнечные лучи озаряли комнату.
Сету казалось, что никогда он с таким жаром не перечитывал Книгу мертвых и толкования к ней, никогда не вникал с такой страстью в историю возникновения вселенной, в описание деяний величайшего из богов — Ра…
Пауль не мог бы сказать, что прежде как-то особенно увлекался историей и культурой Древнего Египта. Но сейчас, через пальцы этого человека, он прикасался к подлинным папирусным свиткам, иероглифы были его родной азбукой, он верил в то, о чем читал, он задумывался всерьез о смысле прочитанного.
«А правы ли мы в нашем снобистском убеждении в том, будто люди древности знали меньше, потому что не ездили в автомобилях и не посещали прилежно кинематограф? Разве не исполнена глубокого смысла идея праокена, одушевляемого лишь одиноким богом Нуном? И разве так уж легко понять возникновение из предвечных вод сияющего бога Ра, явившегося в виде огромного скарабея, священного жука, который сам себя порождает?»…
«Три месяца, — думал Сет Хамвес, — три месяца… А после… А если придет ответ из Мемфиса?.. Но это уже ничего не изменит. Или все равно изменит? Но почему я не хочу связать свою судьбу с этой юной и привлекательной девушкой? Надо быть откровенным с самим собой. Меня пугает, что я сделаюсь таким же, как отец: буду думать лишь о чем-то обыденном, погрязну в тине повседневного тоскливого существования. Я боюсь, что утрачу свое неутолимое стремление к познанию, ибо разве может найтись женщина, способная понять и разделить это мое стремление. Да, именно это, мне страшно жить рядом с женщиной, которая не будет понимать меня. О чем я стану говорить с ней? Неужели телесные наслаждения могут заменить близость родственных душ?».
Пауль изумился, поняв, что этот красивый и здоровый восемнадцатилетний юноша еще не познал женщины. Пауль почувствовал, как передает, вдыхает в его сознание свою мысль: «Нет, не могут телесные наслаждения заменить близость душ. Нет!».
— Нет, — вслух произнес Сет Хамвес, — не могут, я чувствую, не могут! Но за три месяца что-то должно произойти. В крайнем случае я сяду на корабль и отплыву в неведомые страны. Я оставлю письмо отцу. Виновен буду я один. И позор не покроет нашу семью.
Заметив, что говорит вслух, Сет Хамвес испуганно прикрыл рот ладонью.
Затем склонился к развернутому папирусу.
Сознание Пауля отключилось от сознания древнеегипетского юноши.
«Странно. Все это очень странно. Такая яркость, такая четкость мыслей и ощущений. Неужели это всего лишь творческий процесс, развертывающийся в моем подсознании? — размышлял Пауль. — А те голоса во мраке? Они явственно говорили о том, что кому-то, то есть не кому-то, а именно им, необходимо, чтобы я пребывал в этом состоянии. Но зачем все это? Зачем? Как понять? Как найти разгадку?»
Сет Хамвес поднял голову. Сознание Пауля вновь соединилось с его сознанием. Смеркалось. В комнате стемнело. За окнами, за стенами глинобитного дома вступал в свои права теплый вечер, исполненный тихого шелестенья и стрекота насекомых, мгновенного пропархиванья ночных птиц и летучих мышей, разлитого аромата цветов и плодовых деревьев.
Внезапно в комнате посветлело. Вошла мать, неся бронзовый светильник.
Чашка, наполненная маслом, фитиль. Пауль и не думал, что это может давать такой яркий свет. Интересно, из чего сделан этот фитиль? Из волокна конопли? Или из чего-то другого, из какого-то другого материала?
Мать наклонилась и поставила светильник на столик. Теплая волна выплеснулась из души Сета Хамвеса.
— Спасибо, мама.
Да, так бывало, когда после буйных и утомительных ссор и споров Пауль вдруг обнаруживал, что родители, в сущности, понимают его и даже готовы поверить в то, что из их сына выйдет поэт. Какая-нибудь мелочь — подаренная нужная книга, вовремя зажженная над столом лампа. Да, в глубине души родители готовы были поверить в то, что жизнь их сына не будет такой скучной, тягостной и будничной, как их собственная жизнь, хотя логика им подсказывала, что чудес на бывает.
— Ты не должен портить глаза.
— Я уже кончаю, мама.
— Ты и вправду послал папирус со своим толкованием в Мемфис? — мать прислонилась к деревянной колонне у входа.
— Да, послал в главный храм. Я ведь несколько раз говорил об этом. И сегодня за обедом сказал.
— И ты веришь, что придет ответ?
— Не знаю.
— Но как ты сам чувствуешь, тебе удалось сказать что-то новое, серьезное и важное в твоем толковании? — тихо спросила мать.
Этот вопрос изумил Сета Хамвеса. Неужели мать понимает его?
— Ты знаешь, — заговорил он взволнованно, — пожалуй, да. Удалось. Да, удалось. Пока я работал, мне казалось, что я многого добился, но теперь, когда работа кончена, папирус отослан; теперь мне кажется, что это было не совсем то, что я могу пойти дальше, могу добиться большего.
— Пусть боги сохранят тебя! Ах, Сети! — мать подошла к нему и погладила по черным, как птичьи перышки встопорщенным волосам. — Что-то Хари долго не возвращается. После обеда он как всегда пошел побродить и вот уже стемнело, а его все нет.
— Наверное, заночевал в усадьбе Зеземонеха. Он ведь и раньше оставался у кого-нибудь из соседей, случалось такое.
— Может быть и вправду заночевал у Зеземонеха, — нерешительно повторила мать.
— Там ведь готовятся к пиру. Приезжает из Мемфиса брат жены Зеземонеха. Хари все хотел заглянуть туда, послушать о жизни в Мемфисе, поглядеть на гостя.
— Да, наверно, ты прав. Но все же раньше он ночевал у соседей только в дождливую погоду. А сегодня вечер такой ясный.
— Это все из-за гостя, из-за брата жены Зеземонеха.
— Но Хари ничего не сказал нам.
— Я думаю, это вышло случайно. Он зашел в усадьбу, задержался, а после уж Зеземонех сам не отпустил его на ночь глядя.
— Ты у меня умный, Сети, — задумчиво сказала мать.
— Ну и Хари у нас вовсе не глуп. Он еще покажет себя. Станет помогать отцу.
Мать тихо засмеялась и вышла.
«Почему я не завел речь о том, что не хочу брака с дочерью Дутнахта? Может быть, мать нашла бы выход? Редко удается так поговорить, чтобы понимать друг друга».
И тотчас Сет Хамвес понял, почему не заговорил о нежеланном браке. Именно потому, что жаль было нарушать мелочными дрязгами это драгоценное состояние взаимопонимания.
Глава восемнадцатая Поиски
Утром Сет Хамвес проснулся поздно. Солнце уже стояло высоко. Его тотчас же охватило ощущение неблагополучия. Почему оно возникло, это ощущение неблагополучия и какого-то запустения? С минуту он не мог понять. Затем мгновенно понял и сердцу стало больно.
Обычно его будил Йенхаров звонким окликом, или игрой на своей любимой тростниковой флейте, или просто подходил к постели старшего брата и щелкал, похлопывал по руке, а любитель поспать Сет Хамвес сердито жмурил глаза и натягивал льняную простыню на голову. Йенхаров всегда вставал рано.
Сегодня Йенхарова не было. Сет Хамвес вспомнил вчерашний разговор с матерью и встревожился. Неужели Хари еще не вернулся? Но он и сам чувствовал — нет, не вернулся.
Но почему такая странная тревога охватила его? Младший брат заночевал в соседской усадьбе, ну что здесь такого! Скоро он будет дома.
Но какое-то странное знание того, что с Йенхаровом что-то случилось, что брату грозит опасность, какое-то странное знание заставляет Сета Хамвеса тревожиться. Он снова подумал о странности познания. Вот он почему-то знает, что брату грозит опасность, хотя ведь это не написано четкими иероглифами на папирусе, это нельзя точно вычислить, как вычисляют направление ветра корабельщики с помощью своих инструментов. И тем не менее, он знает. Не к такому ли мгновенному, неясно как возникшему в твоем существе познанию он всегда стремился? Но теперь не время об этом рассуждать. Теперь такие рассуждения кощунственны. Теперь он должен спешить.
Сет Хамвес вышел во двор. Ни отца, ни матери, ни слуг не было дома. Все отправились на поиски Йенхарова. Сет Хамвес попросил старую служанку, чтобы она положила ему еды в корзину, и взяв корзину, пошел со двора.
Проходя лугом, он на ходу вынул из корзины лепешку и несколько фиников — он ведь не позавтракал. Конечно, можно было перекусить дома, но он решил взять с собой еду на всякий случай. Когда он отыщет Хари, вдруг тому захочется поесть… Сет не сомневался в том, что именно он отыщет брата.
Он остановился в раздумье. Идти в усадьбу Зеземонеха? Но наверняка родители уже побывали там. Наверняка они туда прежде всего и направились. Возможно, слуги Зеземонеха тоже ищут Хари. А заглядывал ли Хари к Зеземонеху? Скорее всего, да. Ведь у Зеземонеха и в самом деле приезжает брат его жены из Мемфиса. Может быть, уже и приехал. Нет, вряд ли, иначе Хари задержался бы в усадьбе Зеземонеха.
Стало быть, Сет Хамвес пойдет не в саму усадьбу, а обыщет окрестности усадьбы. Решено.
Сет прочесал все лужайки, пустыри, огороды и виноградники вокруг усадьбы Зеземонеха. Никого! Его несколько удивило, почему он не встретил никого из остальных, отправившихся на поиски; но он тут же догадался, что все пошли к Нилу — боятся, что Йенхаров утонул. Но Сет почему-то был твердо уверен в том, что брат не спускался к реке.
Куда же еще мог вчера после обеда направиться Хари? Сет Хамвес присел на траву, вынул из корзины глиняную флягу с пивом, глотнул. Стал вспоминать, какие же разговоры велись вчера за обедом. Да особенно нечего и вспоминать, он и так не успел забыть. Теперь у них в доме только и разговору, что о Дутнахте и его дочери.
«Хари все уговаривал меня жениться на Ренси, дочери Дутнахта. Может быть, это проявление его симпатии к ней? Может быть, он даже немного в нее влюблен? Если бы Ренси и Хари полюбили друг друга… Но, кажется, этого ждать не приходится, оба они слишком любят… меня. Но вполне возможно, что вчера после обеда Хари решил побродить вокруг усадьбы Дутнахта. Но посмотрим!».
Сет Хамвес поднялся и зашагал в сторону усадьбы Дутнахта. Юноша выбрался на прямую проезжую дорогу. Теперь его то и дело нагоняли повозки, на которых крестьяне везли в город на продажу овощи и фрукты.
— Это старший сын Инпу, храмового управляющего, — донеслось с одной повозки, где на куче капустных кочанов сидела женщина.
Крестьянин, ее муж, погонявший смирных волов, впряженных в повозку, окликнул Сета Хамвеса:
— Ну что, нашли твоего младшего брата?
— Пока нет, — отозвался Сет, — а ты не встречал его случайно?
— Нет, не встречал.
«Уже вся округа знает, что пропал Хари», — подумал Сет, сворачивая к усадьбе Дутнахта.
Большой дом терялся в зелени обширного сада. Сет Хамвес снова задумался. Куда же направиться теперь?
И вдруг он почувствовал, что на него смотрят. Он оглянулся.
В ограде открывалась узкая калитка. Девушка лет шестнадцати остановилась в проеме среди зелени кустов. Сет Хамвес узнал дочь Дутнахта.
Все говорили, что она походила на свою мать, покойную жену корабельщика, которую он привез откуда-то из-за моря. От местных девушек Ренси отличалась более высоким ростом и чуть вьющимися каштановыми волосами, стянутые красной лентой, они тяжелым жгутом, падали ей на плечи. Она стояла в нарядном голубом платье, немного смущенная, не решаясь заговорить с юношей.
— Здравствуй, Ренси, — первым приветствовал ее Сет Хамвес.
— Здравствуй, Сет, — ответила она скромно, но с достоинством.
Сету захотелось показать ей, что он не питает к ней никаких враждебных чувств.
— Я думал, ты уехала вместе с отцом, — дружелюбно сказал Сет Хамвес.
— Нет, — коротко произнесла она и посмотрела на него своими темно-карими глазами. Кожа лица у нее тоже была светлее, чем у местных девушек, и губы не такие пышные.
Она замолчала. Сет Хамвес подумывал, как бы уйти, что сказать ей на прощанье, когда девушка заговорила снова.
— У нас служанки говорили, будто пропал твой младший брат. Это правда?
«Ого, как слухи летят!».
— К сожалению, правда. Вот ищу его.
— Я видела его вчера. Он проходил мимо нашего дома.
— Ты не запомнила, куда он пошел, в какую сторону? — взволновался Сет Хамвес.
— Туда, на гору, — Ренси указала рукой, — но потом он мог сменить направление…
«А она не глупа!».
— Я думаю, — продолжала девушка, — он мог пойти к храмам. Ты ведь часто ходишь в храмы, а он, по-моему, любит подражать тебе, — она покраснела.
— Благодарю тебя, Ренси, это хорошая догадка! Попробую поискать в той стороне. Прощай!
— Прощай. Но нет, погоди! Будь осторожен, — она снова покраснела, — там овраг и дальше заброшенная дорога, по которой никто не ходит…
— Я буду осторожен, — Сет Хамвес усмехнулся, — еще раз спасибо тебе!
Он повернулся и зашагал к храмам.
Разумеется, там Хари не оказалось. Но служители храма Исет вспомнили, что видели его вчера. Куда он пошел, они, конечно, не запомнили, просто не обратили внимания.
Теперь оставалось одно: идти к оврагу, к заброшенной старой дороге.
Время было, прямо сказать, не самое подходящее. Погода начала портиться. Белые облака сгущались в темные тяжелые тучи. Ясное голубое небо потемнело и низко нависло над головой Сета Хамвеса. Ему снова захотелось есть. Ведь он сегодня без завтрака и без обеда.
«Как бы не остаться и без ужина!».
Сет Хамвес вынул из корзины еще одну лепешку и кусок козьего сыра.
Он ел на ходу и когда доедал, упали первые капли. Может быть, это даже хорошо. Если бы не дождь, Сет, наверное, немного побаивался бы в этом запустелом месте. А так ему некогда было бояться, надо было спасаться от холодных струй. Он кубарем скатился в овраг и присел среди разросшихся листьев лопуха. Теперь дождь не замочит его. Он сидел на корточках, обхватив свою корзину. Внезапно хлынувший дождь так же внезапно и прекратился.
Сет Хамвес выбрался из оврага. Темнело. Похолодало. Он подумал о родителях. Теперь они будут тревожиться еще и за старшего сына. Он и сам встревожился: найдет ли он Хари? Но нечего предаваться пустым рассуждениям, надо идти.
Глава девятнадцатая Заброшенный храм
Сет Хамвес сошел с дороги и наугад углубился в кустарниковые заросли. Он и сам не мог понять, что заставляет его продираться сквозь эту бурную, ничем не сдерживаемую растительность. Он упорно продвигался вперед, отводя листья, отталкивая так и норовившие ударить его ветки.
Зарослям конца не видно было. Порою Сету казалось, что он застрял безнадежно, и нет пути ни назад, ни вперед. Но он шел. Шел, потому что крепла его уверенность в том, что где-то здесь — его брат.
Наконец заросли поредели, пробираться стало легче. Сет Хамвес вышел на обширный пустырь.
Уже совсем стемнело. Юноша смутно различал на краю пустыря какое-то строение.
«Значит, и здесь жили люди!»
«Или живут и сейчас, — откликнулся внутренний голос, — и что это за люди, ты не знаешь. Возможно, лучше держаться от них подальше».
Сету Хамвесу вспомнились страшные истории о разбойниках, нападающих на одиноких путников.
«Но что у меня можно отнять? Разве что корзину с остатками еды!».
Сет Хамвес приблизился к строению. Даже в темноте он теперь мог различить — это храм. Но очень старый, такой же заброшенный, как и все здесь. Интересно, можно ли войти? В храме ведь можно помолиться, можно попросить бога о помощи.
Деревянная дверь давно сорвалась с петель и лежала на черной, уже начавшей подсыхать после недавнего дождя земле. Сет Хамвес вошел. Толстые каменные колонны, поддерживавшие свод, то ли само время выщербило и избороздило, то ли на них виднелись остатки старинных изображений. В помещении царил сумрак.
Но, несмотря на запустение, это все же был храм. И Сет Хамвес ощутил ту доверчивость, ту чистоту души, то желание исповедоваться и просить о прощении, которые всегда охватывали его в храмах. Он разглядел алтарь, затем приблизился к нему, поставил на алтарь корзину с едой и тихо произнес:
— О неведомый мне бог, прими мое скромное подношение. Я верю в твою доброту к людям. Помоги мне. Я не хочу ничего дурного. Я хочу найти моего младшего брата, которого искренне и бескорыстно люблю.
Сет Хамвес перевел дыхание. Ему казалось, что в храме возникла некая исполненная напряжения тишина. Будто слова его слышали какие-то разные… Кто? Люди? Существа? Божественные начала? Разные, не связанные друг с другом; быть может, даже враждебные друг другу.
— Я еще вернусь сюда, — продолжал Сет Хамвес, — я стану чтить тебя, о добрый бог. Ты будешь моим богом.
В тишине послышались странные звуки — мерный шум, напоминающий шум дождя, топотанье мышиных лапок. Но словно некая мощная сила смяла, смела прочь все эти звуки. И снова — тишина, тихо дышащая, задумчивая.
И вдруг робкий, прерывающийся от страха голос позвал:
— Сети! Ведь это ты, Сети?
— Хари!
— Да, Хари, это я, я! Где ты? Иди ко мне! Это на самом деле я, это не какой-нибудь злой дух!..
— Я иду, Сети!
Какой-то миг, прежде, чем послышалось знакомое шлепанье босых ног, Сет Хамвес испытывал невольный, но сильный страх. А вдруг этот знакомый любимый голос, окликнувший его, на самом деле принадлежит злому духу, который лишь прикинулся его братом?
Но вот руки Йенхарова крепко обхватили Сета за шею.
— Сети! — дыхание мальчика прерывалось. — Сети! Как ты нашел меня? Было так страшно!
Теперь Сет Хамвес не сомневался в том, что это и вправду его младший брат.
— Подожди, Хари, подожди! Бедный! Ты, наверное, проголодался. Я взял с собой еду, но принес ее в жертву богу этого храма. И, видишь, он вернул мне тебя! Хотел бы я знать, какому богу посвящен этот храм.
— Он очень старый. Здесь нет жрецов.
— Но я еще вернусь сюда. Я поклонюсь богу и исполню его повеления.
— Здесь так темно!
— Но мы должны идти, Хари. Отец и мать, наверное, сходят с ума от страха за нас.
— Мы не сможем отыскать дорогу в этой темноте.
— Мы попытаемся. Оставаться нельзя. Отец и мать ждут.
Осторожно, ощупью, юноши двинулись к черному провалу выхода. Снаружи их окружал мрак. Сет Хамвес обнимал младшего брата за плечи.
— Темно, темно, — повторял Йенхаров, ему было страшно.
— Не бойся, мы же вместе, — успокаивал младшего брата Сет Хамвес.
Они сделали несколько шагов, но внезапно Сет Хамвес остановился.
— Хари, мы забыли проститься с богом этого храма…
Сет Хамвес склонил голову и поднял кверху ладони согнутых в локтях рук. Йенхаров повторил жест брата.
— Благодарю тебя, добрый бог. Я скоро вернусь, чтобы почтить тебя.
Едва юноша успел договорить, как всплыла полная луна. Белая, круглая, огромная и сияющая, она ярко осветила все вокруг. Юноши разом простерлись ниц перед заброшенным храмом. Сердца их колотились взволнованно. Затем оба поднялись с земли и тихо пошли вперед. Луна разливала вокруг такой щедрый свет, что видно было каждую веточку, каждую травинку. Воздух все еще хранил дождевую свежесть. Некоторое время они двигались в молчании.
— Запомни этот день, Йенхаров, — наконец торжественно промолвил Сет Хамвес, — сегодня мы воочию узрели, сколь милостивы боги, сколь добры к нам, людям. Запомни этот день. Когда-нибудь ты расскажешь о нем своим детям.
Йенхаров молча склонил голову и пожал руку брата. А Сет Хамвес продолжал, сам увлеченный своими словами:
— И если когда-нибудь станут отвращать тебя от веры в божественный промысел, не поддавайся. Положись на милость божию и верь.
— Сети, — Йенхаров крепко держал брата за руку, — ведь обо всем, что случилось сейчас, ты напишешь на папирусе, правда? Ты просто должен написать! И тогда будут знать все, а не только наши дети. И пройдет много-много лет, а все равно будут знать!..
— Ах, Йенхаров, сколько тонкости и ума вложили боги в твою милую голову! Я напишу, напишу непременно!
Они вышли на дорогу. Обратный путь оказался куда легче. Сет Хамвес старался запоминать дорогу, ведь ему еще предстоит вернуться сюда.
Садовая калитка была заперта. Они принялись стучать в ворота.
— Откройте! Это мы! Мы вернулись. Сет Хамвес и Йенхаров. Откройте!
Вскоре раздались крики, топот бегущих ног. Ворота широко распахнулись. Замелькали факелы и светильники. Мать обнимала сыновей; обхватив обеими руками их черноволосые головы, пригибала их к груди, целовала теплые маковки.
— Боже! Голодные… Какие грязные… Где вы так выпачкались?
Отец топтался рядом, неуклюже и взволнованно:
— Где, где вы были? Почему вы так долго не возвращались?
Когда юноши чисто умылись над кадкой, вытерлись чистыми льняными полотенцами и надели чистые передники, им ужасно захотелось есть. Но перед тем, как войти в комнату, где уже был накрыт стол, Сет Хамвес потихоньку предупредил брата:
— Сейчас отец и мать начнут расспрашивать тебя. Не говори им о храме. Расскажешь только мне. Мы ведь пока не знаем, хочет ли бог, чтобы мы разгласили тайну его одинокого храма.
— Ладно, — кивнул Йенхаров.
Как и предполагал Сет Хамвес, за поздним ужином отец и мать наперебой расспрашивали сыновей.
Хари рассказал, что, бродя, как обычно, по окрестностям, заблудился.
— Удивляюсь, — заметил отец, — кажется, никто не знает окрестностей лучше тебя. Как ты мог заблудиться!
— Сам не знаю, — смутился Йенхаров.
Сет Хамвес пришел на помощь брату:
— Я нашел его у задней стены храма Тота. И ты напрасно удивляешься, отец, такое бывает. Теряешь дорогу, не узнаешь знакомых мест. Особенно если устал, отчаялся и напуган.
— Больше никуда я не буду отпускать вас! — воскликнула мать.
— Ну, это уже лишнее, — Инпу поморщился, — не забывай, Тейя, они мужчины. От жизни ты их не спрячешь под подолом своего платья.
Хари прыснул и тотчас прижал ладонь ко рту.
Глава двадцатая Ночная беседа и дневные бдения
Сет Хамвес и Йенхаров легли в комнате Сета на одной постели. Сет погасил светильник, натянул до подбородка простыню, Йенхаров завернулся в свою.
— А теперь — рассказывай, — попросил Сет Хамвес.
Йенхаров лег поудобнее.
— Ну вот! Вначале я просто бродил… Без всякой цели…
Сет Хамвес понял, что младший брат не хочет рассказывать о своей прогулке вокруг усадьбы Дутнахта и тоже решил умолчать о своем разговоре с Ренси, дочерью Дутнахта.
— Ну… я бродил… брел наугад. И незаметно оказался у заброшенной дороги. Помнишь, еще когда мы были маленькие, нас ею пугали. А тут было светло, день, совсем не страшно. Я и решил пойти посмотреть, что же это такое — заброшенная дорога. Ничего интересного не увидел, пока не дошел до того самого строения. Я тоже догадался, что это храм. Но я не решился туда войти, а хотел пуститься в обратный путь. И тут потерял дорогу. Тщетно я поворачивался то в одну сторону, то в другую — куда бы я ни шел, я снова и снова выходил к храму. Я уже отчаялся, уже чувствовал, как слезы застилают глаза.
— Бедняга мой!
— Да, можно было смело назвать меня беднягой. Я уже не сомневался в том, что меня никогда не найдут. Я думал, что или чем-либо прогневил богов или попал под власть злых духов. Наступила ночь, но я боялся войти в храм и устроил себе постель из листьев и веток на земле. Наутро я отыскал в овраге ручей и напился. Есть было нечего, чтобы хоть как-то утолить голод, я жевал стебельки дикого чеснока. Так проходило время. Потом хлынул дождь и я все же решился укрыться в храме. Стало темно, еще темнее, чем прежде, и я уже совсем ничего не мог рассмотреть внутри. Я ощупью нашел алтарь и притаился за ним.
Слышался шум дождя и будто мыши перебегали. После мне стало казаться, что я слышу чье-то злобное издевательское хихиканье. Мне стало страшно. И тут я услышал твой голос, ты просил бога помочь тебе найти меня. Но я был так испуган, что в первый момент подумал, уж не злой ли это дух, принявший твое обличье… Но голос был настолько твой, настолько твои слова, чистые, искренние, что я уже не мог сомневаться дальше. Я позвал тебя…
— Ну а дальше я и сам знаю, что произошло, — тихо засмеялся Сет Хамвес и тут же посерьезнел. — Завтра утром я отправлюсь в храм. Надо почтить бога. И при свете дня я увижу, какому богу посвящен храм.
— Я пойду с тобой!
— Но мать будет тревожиться, а отец снова будет бранить тебя за то, что ты не помогаешь ему.
— Но мы ведь пойдем рано и вернемся засветло…
— Ну хорошо. В конце концов я не вправе отказывать тебе, ведь именно благодаря тебе мне открылся этот храм.
— Вот видишь, — прошептал Йенхаров, засыпая.
Ночь пролетела быстро. Утром Йенхаров, как всегда, проснулся раньше и принялся будить старшего брата. Сначала Сет Хамвес отбивался, мычал, натягивал на голову простыню.
— Ну Сети! — в отчаянии воскликнул Йенхаров. — Сети! Мы же хотели утром идти в храм. Ты же собирался почтить бога. Он может разгневаться за нарушенный обет! Вставай, вставай, Сети! — он почти сердито потянул брата за обе руки и сильно дернул.
Сет Хамвес сел на постели. Но тотчас все вспомнил. Они быстро умылись и оделись.
В саду старый раб поднимал воду из колодца, чтобы полить деревья.
— Сенеб, — обратился к нему Сет Хамвес, — передай господину и госпоже, что мы вернемся к обеду. Не забудь!
Сенеб обещал передать.
Братья прошли в дальний конец двора. В длинном строении, где помещалась кухня, несколько рабынь уже мололи зерно на каменных зернотерках. Доверенная служанка матери надзирала за ними.
— Дай-ка нам еды на дорогу, Байя, — сказал Сет Хамвес.
— Куда это вы оба собрались ни свет ни заря?
— Скажешь матери, что мы к обеду вернемся. И поторопись наполнить корзину.
Служанка подняла крышку ларя, взяла корзину, сплетенную из крепких тростниковых стеблей, и принялась наполнять ее разной снедью.
— И вчера унесли из дома хорошую крепкую корзину. Так не напасешься корзин.
— Та корзина осталась на храмовом алтаре в дар богу, — строго произнес Сет Хамвес, — или ты пожалела одну корзину для алтаря?
— Я чту богов, — коротко откликнулась служанка.
Она подала Сету корзину. Сет кивком поблагодарил ее.
Вместе с младшим братом Сет прошел через сад. Из садовой калитки они вышли на дорогу.
В то утро дорога к храму показалась обоим совсем простой. Без всяких приключений они добрались до усадьбы Дутнахта. Там, должно быть, все спали, ворота были накрепко заперты. Не желая смущать брата, Сет Хамвес сделал вид, будто эта усадьба, мимо которой они прошли, нисколько не интересует его. Но он заметил, что Йенхаров немного покраснел.
Они вышли на заброшенную дорогу и спокойно дошли до оврага. Спустились вниз и выбрались наверх. Пройдя еще немного, братья увидели заброшенный храм.
Ярко светило солнце. Юноши подошли к алтарю, простерлись ниц. Когда они поднялись, Сету Хамвесу бросилось в глаза, что оставленные им вчера припасы исчезли. И совсем не было похоже на то, что их утащили мыши или крысы или дикие кошки. Не осталось никаких крошек, никаких разбросанных кусков.
— Смотри! — прошептал Йенхаров.
Сет Хамвес увидел, что его вчерашняя корзина стоит посреди алтаря. Теперь в ней не осталось еды, но она не была и пустой. Кто-то красиво расположил в ней травы и дикие цветы.
Братья разложили на алтаре то, что они принесли теперь, оставив немного себе для еды.
— Я пришел, как обещал, — громко произнес Сет Хамвес, — я и мой младший брат, мы снова благодарим тебя, о добрый бог. Позволь нам совершить нашу скромную трапезу в твою честь и осмотреть твой храм? Подай знак.
Братья замерли со скрещенными руками. Оба искренне верили в то, что знак будет подан.
И вдруг в храм влетела маленькая серая кустарниковая птичка. Покружилась над алтарем, опустилась на него, клюнула лепешку. Затем быстро слетела с алтаря, покружилась над головами братьев и вылетела наружу.
— Знак, — прошептал Йенхаров.
— Да, — тоже шепотом откликнулся Сет Хамвес.
Они сели у подножья алтаря и принялись за трапезу.
Они ели медленно, ощущая, как обоих их охватывает торжественное настроение.
После еды стали осматривать храм.
— Как странно! — воскликнул изумленный Йенхаров. — Здесь нет никаких изображений. В других храмах я такого не видел.
В храме действительно не было изображений богов. Стены и колонны были украшены лишь волнистыми линиями. Вдоль линий тянулись ряды иероглифов.
— Написано как-то непонятно, — заметил Йенхаров и посмотрел вопросительно на старшего брата.
Сет Хамвес внимательно всматривался в надписи, покрывшие стены.
— На каком это языке? — спросил младший брат.
— Это наш родной язык. Таким он был в древности.
— Ты можешь понять, что здесь написано?
— Думаю, что со временем смогу. Со следующего раза я начну переписывать надписи и дома буду заниматься их расшифровкой. Пока же я понимаю одно: этот храм посвящен Нуну, богу предвечного океана.
— Потому все эти волнистые линии?
— Да. Океан и порождаемое им бытие, оно выходит из волн в виде божественного слова.
— Благодарю тебя, добрый Нун, за то, что ты помог моему брату найти меня, за то, что ты укрыл меня от непогоды и за то, что ты осветил нам путь во мраке, — искренне и звонко воскликнул Йенхаров, — но желаешь ли ты, чтобы мы раскрыли тайну существования твоего храма людям? Хочешь ли ты, чтобы сюда пришли жрецы и паломники? Если ты того желаешь, подай нам знак!
Сет Хамвес подавил невольную улыбку. Он чувствовал, что на этот раз не будет знака. И действительно, братья долго стояли, молитвенно скрестив руки, чутко прислушиваясь, вглядываясь. Но в храме воцарилась ничем не нарушаемая торжественная тишина.
— Позволяешь ли ты мне приходить сюда, о добрый бог? — наконец произнес Сет Хамвес.
Легкий шелест пронесся под самой кровлей. Увядший древесный лист слетел на самую середину алтаря.
— Добрый Нун благосклонен к тебе, — зашептал горячо Йенхаров на ухо старшему брату.
— Тише, тише. Не следует хвалиться и гордиться, когда божество снисходит к нашим смиренным мольбам.
Они снова простерлись ниц у алтаря. Затем покинули храм. Дорога снова показалась им совсем нетрудной. Они уже знали все ее изгибы и повороты.
— Ты завтра снова хочешь прийти сюда? — спросил Иенхаров.
— Да, но один. Мне придется работать — списывать надписи со стен и колонн.
— Но ты расскажешь мне, что тебе удастся узнать?
— Непременно, если, конечно, на то не будет запрета бога.
По пути домой они заглянули в храм бога Ра, хозяйством при храме управлял их отец. Отца братья нашли в храмовой кладовой.
— Что это с вами? — Инпу подозрительно вгляделся в сияющие лица сыновей. — Отыскали клад или… или… — лицо отца сделалось серьезным. — Пришел ответ из Мемфиса? — глухо произнес он.
«Значит, и отец ждет этого ответа и верит в меня!».
— Нет, ответа еще нет, — опустил голову Сет Хамвес, — просто сегодня хорошее утро. Мы немного прогулялись.
— Ну и полно бездельничать. Ступайте к матери, поешьте. А потом ты, Хари, приходи ко мне, поможешь сосчитать и записать присланные сегодня утром кувшины с медом. А ты, Сети, не забывай, через три месяца истекает срок, назначенный Дутнахтом.
— Я помню.
— Вот и хорошо!
— Вечно отец все испортит! — сердито сказал Хари, когда они входили в дом.
— Не надо сердиться на него, — мягко заметил Сет Хамвес.
— Прежде ты сам на него сердился!
— А теперь мне кажется, я стал как-то лучше понимать его. Должно быть, я и сам старею.
Йенхаров засмеялся.
На другое утро Сет Хамвес снова отправился в храм Нуна. Дорога уже казалось ему привычной. Он снова захватил с собой еду, в также решил возложить на алтарь один из своих лучших, собственноручно переписанных папирусов, где излагалась история возникновения вселенной, начинавшаяся с описания предвечного океана Нуна.
В храме его встретили свежие цветы и травы на алтаре. Сет Хамвес разложил еду. Затем поднял вверх папирус и также возложил его на алтарь. Легкий приятный ветерок задувал в просторном зале. Но Сету Хамвесу не был странен этот ветерок, словно прилетевший сюда неведомым путем с далекого речного берега; Сет понимал, что это выражение благосклонности божества.
Перекусив у подножья алтаря, юноша поспешил приняться за работу. Он подошел к одной из стен, макал тростниковое перо в чернильницу, пристроенную у пояса, и тщательно копировал на чистом папирусном листе знаки, испещрившие стену.
Время текло незаметно. Только через несколько часов юноша почувствовал усталость. Тогда, не забыв выразить благодарность доброму Нуну, Сет Хамвес отправился домой.
Изо дня в лень он приходил в храм Нуна и переписывал надписи со стен и колонн. Но все попытки расшифровать их — пока оставались тщетны.
— Ну, Сети, о чем же говорят надписи в храме? — спросил однажды Йенхаров.
— Пока я не сумел их разобрать, — отчужденно ответил Сет Хамвес.
— И ответа из Мемфиса так и нет. И целый месяц уже прошел, через два месяца вернется Дутнахт, — Йенхаров понурился.
«Как летит время! — подумал Сет Хамвес. — Прошел месяц, а я и не заметил».
— Но тебе, кажется, теперь все равно, — продолжал Йенхаров, искоса поглядывая на старшего брата, — ты теперь думаешь только о надписях из храма Нуна.
— Не смейся надо мной, Хари, — ответил Сет Хамвес с какою-то странной беззащитностью.
Йенхарову сделалось неловко, хотя он и не думал смеяться над старшим братом.
— Я вовсе не смеюсь над тобой, Сети!
Глава двадцать первая Жрец
В один из обычных теплых и светлых храмовых дней Сет Хамвес, как всегда, переписывал надписи. Вдруг ему почудилось, что кто-то наблюдает за ним. Было так тепло и светло. У входа реял светлый столбик солнечных пылинок. Какая-то атмосфера спокойной доброты разливалась в воздухе. И, должно быть, именно поэтому, почувствовав на себе чей-то пристальный взгляд, Сет Хамвес не испугался.
В первый миг ему пришло в голову, что это Йенхаров или даже отец, случайно нашедший дорогу к храму. Но нет, юноша чувствовал, что на него смотрит незнакомец.
Сет Хамвес обернулся.
У алтаря стоял красивый высокий старик в темном одеянии, крупные черты его лица и глубокие темные глаза лучились добротой и пониманием, он был бос, на голове серебрился ежик седины, темная клинообразная бородка чуть подавалась вперед и придавала лицу немного смешное выражение. Никакого страха старик не вызывал.
— Приветствую тебя, о юный ученый, — произнес он мягким звучным голосом, увидев, что Сет Хамвес обернулся.
— Я еще не достоин того, чтобы меня так называли, но я благодарю вас и приветствую, — скромно отозвался Сет Хамвес.
— Не позволишь ли ты мне вкусить от этой чудесной трапезы, что приготовлена на алтаре?
Юноша немного смутился.
— Это мое приношение богу Нуну и позволения следует спрашивать у него.
— Но я надеюсь, бог Нун милостиво дозволит своему бедному жрецу вкусить от сих плодов земли и труда человеческих рук…
Старик молитвенно сложил руки. Не успел он сотворить этот жест, как солнечный столбик у входа вытянулся, переместился в воздухе и озарил старика. Тот некоторое время постоял, окруженный танцующими солнечными пылинками, затем слегка повел руками — пылинки послушно вернулись на прежнее место у входа.
— О юноша, считаешь ли ты, что добрый Нун подал знак?
— О, да, да! — воскликнул Сет Хамвес. — Простите меня. Мне следовало понять…
— Раздели со мной трапезу. Мне так долго приходилось питаться в одиночестве и скудости. Но благодаря тебе, вот уже целый месяц, как я вкушаю свежую и вкусную пищу.
— И цветы в корзине… Это вы их меняете?
— Кто же еще?
— Простите, я до сих пор не сказал вам своего имени. Меня зовут Сет Хамвес, я старший сын Инпу, управляющего храмовым хозяйством при храме бога Ра.
— А я бедный старый жрец всеми забытого древнего бога. Но присядем же.
Они сели у алтаря и принялись за еду. Сет Хамвес обратил внимание на то, как изящны и просты жесты старого жреца. Тот ел и пил неспешно, с каким-то приятным спокойствием.
— Вы живете в храме?
— Уже много, много лет. Еще мой дед служил доброму древнему Нуну и завещал это служение моему отцу, а тот — мне. Я прожил свою жизнь здесь, в одиночестве.
— Как я завидую вам! — невольно вырвалось у юноши. — Удалившись от мирских тревог, вы, должно быть, счастливы.
— Счастье разлито повсюду в нашем бытии, — улыбнулся старый жрец. — Надо только уметь ощутить его.
— То есть — найти?
— Нет, искать не надо. Оно всегда с нами, наше счастье. Надо лишь ощутить его.
— Я буду думать об этих ваших словах.
— Если желаешь. А пока не хочешь ли побывать в моем жилище?
— Да, да, очень хотел бы!
Старый жрец направился в противоположный конец зала. Сет Хамвес последовал за ним. Подойдя к стене, так же, как и остальные стены и колонны украшенной изображением волнистых линий и испещренной иероглифами, старик поднял руку и коснулся подушечкой указательного пальца самого верхнего иероглифа, изображавшего священного жука — скарабея. Тотчас же часть стены повернулась, подобно открывающейся двери. За дверью открылся проход, ведущий вглубь. Старик и юноша вошли. Дверь тотчас задвинулась за ними. Но Сету Хамвесу не сделалось страшно. В узком проходе не было темно, откуда-то из глубины шел свет.
— Иди за мной, — велел старик.
Сет Хамвес послушно последовал за ним. Вскоре проход расширился и они очутились в скромной жилой комнате. Здесь не было окон, но прохладный свет, чуть зеленоватый, мягко освещал все. Пол был устлан аккуратными циновками, в кувшинах и мешках, которых было немного, хранились, должно быть, скромные припасы. С потолочных балок свешивались связки лука, чеснока, сушеных трав и плодов. Сета Хамвеса немного удивило отсутствие письменных принадлежностей, но спрашивать он пока не решался. Не было также стола и постели, старик, должно быть, так и спал на циновках.
— Вот моя обитель, — произнес он. — Я долго размышлял над тем, открыться ли тебе, и лишь когда добрый Нун послал мне знамение, я явился тебе.
— Меня радует ваше доверие.
Они присели на циновки и начался разговор. Вскоре Сет заметил, что, в сущности, говорит он один. Старик молчал и лишь изредка вставлял короткие вопросы, а Сет Хамвес рассказывал о своей жизни, о младшем брате, о своих занятиях. Никогда в жизни ему не приходилось говорить о себе с таким удовольствием. И, несмотря на то, что старик ничего не произносил в ответ, юноше казалось, что еще никто не понимал его так хорошо. Собираясь проститься со стариком, Сет Хамвес не преминул спросить:
— Могу ли я рассказать о вас моему младшему брату Йенхарову и привести его к вам?
— Нет, — мягко ответил старый жрец. — Пока не следует делать этого. Но я непременно скажу тебе, когда это будет можно.
— А завтра вы позволите мне прийти?
— Охотно. Ты найдешь меня в зале у алтаря.
По тому же проходу они подошли к стене. Сет увидел, что и та сторона стены, что была обращена к жилищу старого жреца, покрыта волнообразными линиями и письменами. И здесь имелся верхний иероглиф, изображающий скарабея. Старик снова коснулся его и дверь отворилась. Старик проводил Сета Хамвеса до алтаря в зале и пообещал, что будет ждать его завтра.
Это новое знакомство взволновало юношу.
«Если бы он согласился помочь мне расшифровать древние письмена! Конечно, ему нетрудно было бы это сделать. Я уверен. Но почему в его жилище нет ни папирусов, ни принадлежностей для письма? Странно. Попробую завтра попросить его помочь мне».
Дома младший брат тотчас заметил необычайное волнение, охватившее старшего.
— Что случилось, Сети? Что-нибудь в храме?
Сету Хамвесу не хотелось обманывать Йенхарова и поэтому он решился на полуправду.
— Знаешь, кажется, я приблизился к разгадке древних надписей.
— На самом деле?
— Ты мне не веришь?
— Что ты! Я жду-не-дождусь, когда же ты мне все расскажешь!
— О, не сомневайся, Хари, я многое расскажу тебе.
На другое утро Сет Хамвес позаботился о том, чтобы корзина была наполнена самой вкусной пищей, он собственноручно положил туда сладкие вяленые финики, медовые лепешки, глиняную флягу с вином. Захватил он и кое-какие свои записи, касавшиеся поисков верного способа расшифровки храмовых надписей.
Сердце юноши радостно забилось, когда он увидел, что старик ждет его у алтаря, как обещал.
— Сегодня, — робея начал Сет Хамвес, — я хотел бы отпраздновать свое знакомство с вами и отблагодарить доброго Нуна за все, что он сделал для меня. Я принес праздничное угощение.
Вдвоем они возложили часть принесенного угощения на алтарь бога, остальное с удовольствием съели сами. Сету нравилось видеть, что старик ест с удовольствием. Сет заметил, что у него целы зубы и подумал, что это следствие умеренной и спокойной жизни.
После еды они снова прошли в жилище жреца. Сет сначала хотел было спросить о том, почему здесь нет ни папирусов, ни принадлежностей для письма, но после решил, что такой вопрос может показаться невежливым. Поэтому с трепещущим сердцем он заговорил о другом.
— Простите меня. Быть может, я поступаю дурно. Но вы ведь и сами видели, я переписываю надписи со стен и колонн храма. Мне хотелось бы соприкоснуться с мудростью древних. Я не дерзаю постичь ее целиком, но могу ли воспринять хотя бы частицу этой мудрости? Вы, я полагаю, давно постигли ее. Не поможете ли вы мне расшифровать письмена древних почитателей бога Нуна?
Юноша опустил голову и с трепетом ждал ответа.
— Когда я прочел переписанный тобою папирус, на котором излагалась история возникновения вселенной, я понял, что в душе твоей живет неутолимая жажда познания. Этот папирус я оставил на алтаре, но стоило мне лишь на миг отвернуться, как он исчез, лишь столбик солнечной пыли реял над алтарем. Тогда я понял, что ты угоден богу. Я мог бы просто перевести тебе все, о чем повествуют надписи на стенах и колоннах храма Нуна, но я полагаю, тебе не это нужно. Тебе не нужно, чтобы я прошел твой путь за тебя, но чтобы я лишь направил тебя по верному пути.
Покраснев, Сет Хамвес кивнул.
— Покажи мне, чего ты уже успел добиться.
— О, я не сделал и нескольких шагов по необъятной дороге, — юноша развернул перед старым жрецом свои записи.
Тот внимательно прочел их.
— Ты, я вижу, на верном пути.
Вдвоем они склонились над записями Сета Хамвеса.
А через несколько дней Сет Хамвес уже понимал, о чем говорилось в многочисленных надписях, испещрявших стены и колонны храма. Теперь осталось прочесть их все, от начала до конца. Он готов был посвятить этому всю свою жизнь.
Но и то, что он уже успел прочесть, было удивительно. Надписи рассказывали о странных божествах будущего, о том, что из города Ура выйдут почитатели нового бога по имени Ягве, а спустя много-много лет часть из них поверит в богочеловека, рожденного от женщины и птицы. И многие тысячи лет будет длиться вера в этого богочеловека по имени Ешуа, а старых богов Египта станут считать сказкой, а веру в них — ребяческим заблуждением…
Сет Хамвес ужаснулся и посмотрел на своего наставника, ища у него поддержки.
— Что означает все это? Кто заблуждается? Мы? Сейчас? Или те люди, что будут жить после нас? Скажите мне. Вы должны знать правду!
— Я не хочу, чтобы ты думал, будто я кощунствую. Истины о Ягве, Ешуа, о Нуне и Ра, о Зевсе и Афине — божествах далеких и неведомых тебе эллинов, а также истины еще о тысячах божеств — не противоречат друг другу.
— Стало быть, все эти боги существуют? Все?
— Или не существуют.
— Тогда что же существует? Что простирает над людьми покров милосердия?
— Боги и сами люди.
— Но неужели наших богов станут считать пустой сказкой?
— Да, неразумные так и станут думать. Но ведь будут и разумные люди на земле. И они вспомнят наших богов, почтят их и разгадают их тайны, как ныне ты почтил старого Нуна и внимательно читаешь письмена на стенах его храма.
— И все же мне тяжело думать обо всем этом.
— Существуют тягостные знания.
— Это я давно уже понял. Знание несет много мучительных мыслей и чувств. А возможно ли существование радостного знания?
— Я мог бы просто ответить тебе — нет, или наоборот, да. Но я не хочу произносить легковесных слов. Я вижу, что пришло время для серьезного разговора. Мы будем говорить завтра.
Глава двадцать вторая Тайна
Сет Хамвес и старый жрец сидели в зале у алтаря.
— Я давно хотел обратиться к тебе с одной важной для меня просьбой, — тихо говорил старик. — Я вижу, тебя удивляет то, что в моем жилище нет ни папирусов, ни принадлежностей для письма. Между тем, ты видел у меня съестные припасы. Это оттого что я больше не хочу питать мою душу знанием, тело же мое слабее души и постоянно нуждается в пище.
За эти дни ты узнал много нового. Но все это всего лишь обычные человеческие познания. Да, да, — старик остановил протестующий жест юноши. — Обычные человеческие познания. Но возможно и другое знание и ты, я знаю, часто думаешь, мечтаешь о нем…
Сознание Пауля Гольдштайна пробудилось и дрогнуло: «И я мечтаю, и я!»…
— Вчера ты, Сет, спросил меня, возможно ли существование радостного познания? Да! Оно существует, Познание, не несущее с собой горечь и разочарование; Познание, не требующее от человека многочисленных усилий, именуемых учением. Радостное Познание! И я даже могу открыть тебе, почему оно недоступно людям. Причина в том, что этим познанием не может владеть один человек. Едва овладев им, он должен передать это Познание всем без исключения людям, а не тем лишь, кого он любит. Но как это сделать и возможно ли это, я не знаю, и, должно быть, никто не знает.
Но одно мне ведомо. Всякий раз, когда человека искушают возможностью подобного Познания — это действия злых духов…
— Но откуда берутся злые духи? — перебил Сет Хамвес. — Давно я хочу спросить у тебя.
— Зависть, злоба, презрение людей друг к другу, злобная уверенность в истинности лишь тех богов, в которых он сам верит, все эти и еще многие чувства, свойственные человеку, возбуждаемые, как это ни странно, верой в самых что ни на есть добрых богов, оседают в храмах и делаются видимыми, преображаются в плесень. И из этой плесени зарождаются злые духи. Они соблазняют людей. И стоит человеку перейти предел, как он сам превращается в злого духа. Но никто не знает этого предела, для разных людей он, должно быть, разный…
Пауль вспомнил ночной диалог:
«— Да, где уж тебе понять человека!
— Бывшего человека!
— Но все-таки человека, а не нечистую силу, заведшуюся в старой церкви от заплесневелых облаток!»…
— Все это страшно, и мучительно, и грустно, — проговорил Сет Хамвес. — Все это отбивает охоту жить. Но скажите мне, велики ли возможности злых духов?
— Да, увы. Они способны обращаться в животных и насекомых, им ведомы многие магические действия, свойственные добрым богам. Но эти действия злые духи обращают во зло. Злые духи способны менять облик.
— А зачем они соблазняют человека возможностью великого радостного познания?
— О, при этом они лгут, будто радостное познание может обрести один человек и передать своим любимым. А лгут и соблазняют они потому, что сами желают овладеть этим Познанием. Такого произойти не может. Но они упорно стремятся и будут стремиться, причиняя людям зло. Они воображают, что если обретут это познание, им станет хорошо. Бедные злые духи! Это все равно, что человек вообразил бы, будто ему станет хорошо, если он будет питаться огнем.
— И все же мне грустно. Знать о существовании великого радостного Познания и не познать…
— Ты забываешь о том, что познать могут лишь все люди, все сразу. А люди на это неспособны.
— Но тогда, быть может, следует думать о том, как бы изменить людей?
— А подобные мысли всегда выливаются в идею самой обычной власти над людьми. Ты хочешь властвовать? Ты утверждаешь, что будешь делать людям добро? Но ведь найдутся и другие, желающие властвовать и творить добро. И вот уже исчезает добро и остается лишь одна борьба за власть!
— Страшное вы говорите. Но что же мне делать?
— Сейчас я попросил бы тебя исполнить мою просьбу…
— Я все сделаю для вас!
— Сейчас я раскрою тебе возможность радостного Познания, потому что я знаю, ты не поддашься соблазну. Познание запечатлено словами на писчем материале. Каждому человеку, что возьмет в руки эту материю, она будет казаться тем материалом для письма, к которому он привык, — деревянной или глиняной табличкой, или папирусом, или каким-нибудь иным, неведомым нам с тобой материалом. И каждому покажется, что на этом материале написаны слова на его родном языке. Всего два слова. Прочитав первое, человек поймет небо и землю, постигнет язык земных зверей, и небесных птиц и морских рыб. Прочитав второе, он увидит тайны мироздания и бессмертия. Но достигнуть бессмертия, человек не успеет, ибо последует наказание.
Слушай меня и не удивляйся.
Тебе предстоит увидеть запечатленное Познание.
— О! — тихо вскрикнул Сет Хамвес.
— Да. Ты увидишь его. Тебе оно явится в виде папирусного свитка, ибо это тот писчий материал, которым ты привык пользоваться. Ты должен будешь взять этот свиток и, не разворачивая, не читая, принести его мне сюда.
— Вы обретете великое радостное Познание?
— Нет, нет. Я всего лишь спрячу этот свиток так далеко и глубоко, чтобы никто не мог найти его, чтобы злые духи ничего не узнали о нем и не искушали бы людей.
— Но где же он, этот свиток Познания?
— Сейчас ты узнаешь.
Я живу на свете уже много лет, гораздо больше, чем ты можешь себе представить. Не всегда я был одинок. Много, много лет тому назад у меня был сын. Злые духи искусили его свитком познания, и он погиб. Тогда я удалился в этот храм, где в далекой моей юности меня учил еще мой дед. Я много знаний передал сыну, но знания эти не спасли его. Злые духи не знали, где искать свиток Познания. А он был погребен вместе с телом моего сына. Злые духи поселились в этом храме вместе со мной. Они не могли причинить мне зло, но караулили каждый мой жест, каждое слово, надеясь, что я случайно выдам тайну. Они знали, что одинокий человек часто говорит сам с собой. Но я говорил лишь с богом. Однако я не знал всей силы злых духов. Они околдовали воду, в ручье на дне оврага, эту воду я пил. И вот выпил воды и у меня сделалась лихорадка. В бреду я сказал, где хранится свиток.
Я бы молчал и в бреду, но злым духам ведомы многие свойства человеческой натуры. И вот, пока я лежал и горел в лихорадке, вдруг мне явился призрак моего сына. Я увидел его, как живого, юного и веселого, сердце мое сжалось от боли. Смутно я сознавал, что не его я вижу перед собой, не его чистую душу, но призрак, сотворенный волею злого духа. Но я был ослаблен болезнью и внешние впечатления воздействовали на меня сильнее внутреннего убеждения.
Сын присел возле меня на циновке и тихо стал жаловаться на свое бытие, на то, как тяжко не видеть дневного света. Эти жалобы надрывали мне сердце. Но вот он поднялся, собираясь исчезнуть. И, сломленный, измученный, я невольно выкрикнул:
— Верни мне свиток! Принеси его и тебе полегчает!
Тотчас же призрак исчез. Раздался злобный издевательский хохот. Глумливый гнусавый голос тянул, искажая мои интонации:
— Ве-ерни сви-иток! Те-ебе по-олегча-ает! Бе-е! Р-р-р!
Я понял, что злые духи узнали мою тайну.
— А почему же вы погребли свиток вместе с телом вашего сына? — спросил Сет Хамвес. — Но простите, я, быть может, причиняю вам боль этим вопросом?
— Нет, это логичный вопрос. То было предсмертное желание, последняя воля моего сына, переданная мне верным нашим слугой.
— Но говорите же, расскажите, что было дальше.
— Была ужасная ночь. Злые духи издевались надо мной. Голоса их не смолкали…
Пауль вспомнил, что этот глумливый тягучий голос он слышал из уст чудовища на заброшенном кладбище. Чудовище повторяло, издевательски-глумливо растягивая, его слова о познании… И до этого он слышал голос, говоривший с такими же интонациями… Регина! Тогда, в их первый вечер!..
— Мне страшно, — произнес Сет Хамвес. Должно быть, ему передались ощущения Пауля…
— Может быть, не следует мне рассказывать все в подробностях? — задумчиво и озабоченно спросил жрец.
— Нет, расскажите. Я хочу знать о той ночи.
— Я лежал на циновке навзничь. А надо мной разверзлась чернота. Сполохами проносились в ней глумливые свиные рыла и кошачьи морды и чудовищные лица. Подмигивали, высовывались раздвоенные жала.
Я закрыл глаза, но это не принесло спасения. Тогда я нашел в себе силы и стал просить бога о милости. И добрый Нун прогнал злых духов и ниспослал мне сон. Наутро я проснулся здоровым.
— Но почему же добрый Нун позволил духам выведать тайну?
— Злые духи сильны и хитры. А боги честны и прямодушны, и не могут быть иными, и не должны быть иными. Поэтому и нелегка борьба со всеми этими злыми духами.
— Этот свиток и сегодня в погребении вашего сына?
— Да, он там. Но злые духи не могут сами взять его. У них есть лишь один путь — соблазнить человека и хитростью отнять у него свиток. Так что, берегись искушения. Не раскрывай свиток, не читай слова, написанные там.
— Я должен взять этот свиток из могилы? — голос Сета Хамвеса дрогнул.
— Да. Тебе предстоят нелегкие испытания. Злым духам подвластны пространство и время. Но и ты не безоружен. Ты наделен силой воли. И если ты откажешься, я не стану принуждать тебя, не рассержусь и не обижусь.
— Я исполню вашу просьбу. Но где погребен ваш сын?
— Отсюда до того места семь дней плавания по Нилу. В самом устье найдешь ты пустынный маленький остров. Корабли никогда не пристают к этому острову, тебе придется плыть на лодке. Об этом острове идет дурная молва, говорят, будто там обитают злые духи. И это правда. Но некогда остров этот был прекрасным и цветущим. Я жил на этом острове. И звался этот остров Домом чародея.
В те времена храм Нуна славился далеко вокруг. Мой отец был верховным жрецом этого храма. Он многому обучил меня. Я не употребил полученные знания во зло, но и не принес много добра людям.
— Когда же это было? — спросил Сет Хамвес. — Я не слышал об этом ни от отца, ни от деда.
— Ты и не мог слышать. Ни отец твой, ни дед, ни даже прадед и прапрадед еще и не родились тогда.
— Сколько же вам лет? Впрочем, быть может, это излишнее любопытство…
— Я прожил на этой земле уже тысячу лет. В это трудно поверить, но это так.
— Я верю вам. Но говорите же, говорите. На что же вы употребили знания, переданные вам вашим отцом?
— В те далекие, незапамятные годы неподалеку от храма находилась старая гробница. Давным-давно спустились туда разбойники и вынесли все, что нашлось ценного. Не знаю даже, кто там был погребен. Должно быть, этот человек любил веселье или сам был музыкантом. Стены пустой гробницы были пестро расписаны изображениями танцоров и музыкантов. Я любил спускаться туда и разглядывать изображения. Постепенно я стал узнавать в лицо каждого изображенного. Разглядывая стены, я обнаружил, кроме музыкантов и танцоров, изображения пахарей и пастухов, и слуг и служанок, исполняющих разные домашние работы.
Особенно привлекло меня изображение одной девушки, играющей на арфе. Я выделил ее из всех остальных девушек, а их было много, по большей части танцовщиц. Часами я мог любоваться ею.
Легко понять, что случилось дальше. Я стал молить бога Нуна, верховным жрецом которого был мой отец, оживить мою красавицу. И, представь себе, мое желание исполнилось. Когда я в очередной раз спустился в гробницу, она ласково приветствовала меня.
Разумеется, я таился от отца, пока все не вышло наружу. Дело в том, что милые ласки моей красавицы начали надоедать мне. Не то чтобы я хотел совсем оставить ее, но возникло желание испробовать обычных земных объятий обычной земной женщины. И ведь с красавицей я мог встречаться только в склепе. Короче, однажды, купаясь в Ниле, я заметил молодую женщину, которая купалась чуть поодаль. Я приблизился к ней. Несколько мгновений притворной стыдливости, затем она заговорила со мной. Это была жена одного из небогатых торговцев, приютившихся при храме. Она пекла медовые лепешки, а муж ее продавал это нехитрое лакомство. Она знала, что я сын верховного жреца. Ее нагое тело показалось мне совсем свежим, сильным, тугим и соблазнительным. Я видел, что она и сама хочет вступить со мной в телесную близость. Но едва я хотел сказать ей об этом, как почувствовал, что у меня отнялся язык. Я отчетливо осознал, что не смогу приблизиться к этой женщине. Я отвернулся, вышел на берег, оделся и отправился домой. Позднее эта женщина распустила слух о том, что я святой подвижник. А я понимал, что бог Нун напоминает мне, что не должен я пренебрегать его дарами. Я решил получить прямой ответ. Пришел ночью в храм, возложил дары на алтарь и спросил бога, состоит ли его желание в том, чтобы я никогда ни с одной женщиной, кроме красавицы из гробницы, не вступал в телесную близость? И вдруг ночью стало светло, как днем. Это длилось лишь миг, но я понял, что таково желание бога, чтобы я довольствовался лишь одной женщиной, той, которую сам вымолил у него.
Тогда я дерзнул попросить бога о том, чтобы он оживил и все остальные изображения из гробницы и перенес меня вместе с ними на уединенный остров. И снова яркий свет на миг озарил храм и я понял, что и это мое желание будет исполнено.
Отчего был так внимателен к моим желаниям, глупым юношеским желаниям, добрый бог? Я думаю, он провидел сегодняшний день, провидел, что тебе и мне суждено будет спасти людей, отняв у злых духов свиток Познания.
Наутро я сказал отцу, что хотел бы поселиться в устье Нила на маленьком уединенном острове. Отец не возразил, не стал меня отговаривать, лишь спросил, не нужны ли мне деньги для того, чтобы заплатить корабельщику.
Мы стояли в одном из пределов храма. И вдруг, откуда ни возьмись, маленькая пестрая птица закружилась над моей головой. Отец замер, пристально посмотрел на меня, затем простился со мной, обняв и поцеловав меня. Едва он вышел из храма, как легкий ветер подхватил меня, кровля раздалась и меня вынесло вверх. У меня захватило дыхание и я закрыл глаза. А когда открыл, увидел себя на острове в прекрасной обширной усадьбе. Вокруг готовились к свадьбе. Это ожившие по воле бога изображения из гробницы собирались праздновать мою свадьбу с красавицей-арфисткой.
Я стал хозяином усадьбы и повелителем острова. Я воздвиг на острове храм Нуна и сам исправлял жреческие обязанности. Я допускал на остров лишь честных и порядочных людей. И остров мой процветал. Бог Нун наделил меня способностью исцелять многие болезни прикосновением руки и я многих людей исцелил.
Красавица-жена любила меня и была умна и добра. У нас родился сын, которому я дал имя Марйеб. И если бы мой сын не проявил слабость и не был бы соблазнен злыми духами, кто знает, может быть, и до сих пор, процветал бы Дом чародея — мой прекрасный остров…
— Я бы хотел знать, — задумчиво заговорил Сет Хамвес, — кто посылает наказание человеку, раскрывшему свиток Познания? Кто наказал вашего сына? Почему он умер? Не слишком ли жестоко это наказание? Да, он был соблазнен, но он никому не хотел зла.
— Ты задал интересный вопрос. Но мне кажется, боги не разгневаются на тебя. Ты чист душою. Я думаю, если бы было возможно мгновенно удалить из души, из сознания человека, развернувшего свиток и прочитавшего магические слова, все то Познание, которым он был так чудесно наделен, боги наверняка сделали бы это, оставив человека в живых. Но, значит, это невозможно. Не знаю, уместно ли тут слово «наказание». Ведь боги не наказывают этого человека, они всего лишь совершают то единственное, что можно совершить во имя спасения остальных людей. И они не виноваты в том, что спасение — в смерти этого человека. Представь себе, Познание, сосредоточенное в одном человеке, к чему это может привести! Он захочет безраздельной власти!
— Но если он будет творить добро…
— Я на своем острове творил добро, но были люди, которым вовсе не хотелось жить на моем острове. Я никого не заставлял насильно. Они покидали меня и уходили под власть других людей, которые, быть может, казались им более справедливыми и мудрыми, чем я. А куда уйти от человека, единолично владеющего целым миром? Некуда.
— Наверное, вы правы. Но мне следует еще обдумать ваши слова, проникнуться ими. Однако скажите же мне, что я должен делать на острове.
— Как я уже говорил, теперь этот остров — обиталище злых духов. Существует много способов обезопасить себя от их злобного воздействия. Всех этих способов я не знаю. Есть среди них и простые и сложные. На острове живут одичалые собаки, в камышах обитают дикие кошки. Когда причалишь к острову, не выходи из лодки. Движением руки очерти вокруг лодки круг, это сделает тебя невидимым, пока ты будешь в лодке. Сиди и жди. К лодке подплывет труп дикой кошки или одичалой собаки. Веслом подгреби его поближе. Возьми мертвое животное на руки и смело ступай на берег. Из камней сооруди жертвенник и оставь на нем мертвое животное. После этого злые духи не смогут причинить тебе вреда.
Отыщи старое заброшенное кладбище. На кладбище найди гробницу моего сына, спустись туда и возьми свиток. Если дух моего сына станет спрашивать, кто ты, ответь:
— Марйеб, я послан твоим отцом, чтобы успокоить твою душу.
Тогда он не тронет тебя.
Старый жрец замолчал.
— Я еще прошу прощения у вас, — начал Сет Хамвес, — я счастлив исполнить вашу просьбу. Но, я уверен, что вы поймете меня правильно, у меня невольно возникает одна мысль: отчего вы сами не возьмете свиток Познания из гробницы сына?
— Твой вопрос снова доказывает ясность твоего ума. Я не стал бы подвергать тебя опасности. После того, как я был вновь перенесен сюда со своего счастливого острова, я несколько раз пытался отплыть, вернуться на остров, но едва намеревался выйти из этого заброшенного храма, некая сила вталкивала меня назад. Прошло время и бог дал мне предсказание во сне, он говорил о твоем приходе, и о том, что когда я возьму в руки свиток, он тотчас перейдет в божьи руки, и тогда прервется нить моей жизни, от которой я уже устал, и тело и душа мои успокоятся в гробнице на моем счастливом острове, очищенном от злых духов.
— Тогда на острове снова станут жить люди? — помолчав, спросил Сет Хамвес.
— Нет, он сделается невидимым, — тихо отвечал старик, глядя прямо перед собой.
— А эти удивительные пророческие надписи на стенах и колоннах храма, сделаны ли они вашим отцом?
— О нет, они гораздо древнее. Бог знает, кто высек эти письмена.
Сет Хамвес замялся.
— Ты хочешь еще о чем-нибудь спросить? — улыбнулся старый жрец.
— Да. Скажите мне, ведь злые духи и сейчас обитают в вашем храме?
— Злые духи обитают повсюду. Но здесь они уязвимы. Их можно услышать. Я могу усмирить их.
Сет Хамвес поднялся.
— Я хотел бы прямо завтра отплыть на остров.
— Не торопись, мальчик мой. Завтра утром ты придешь сюда и приведешь своего брата. Ты ведь хотел показать ему меня?
Сет кивнул.
— Тогда жду тебя завтра!
И внезапно старик исчез, только голубоватая струйка ароматного дыма взметнулась вверх и растаяла в воздухе.
Сет Хамвес протер глаза. Ему показалось, что перед тем, как исчезнуть, старик как-то искривился, уплощился, словно был нарисован на стене. Сет вспомнил, однажды варили пиво и он поглядел на слугу — пивовара сквозь пар, поднимавшийся над котлом. Тогда тоже показалось, что человек, уплощается, вытягивается, сплющивается. Как все это странно!
Глава двадцать третья Плавание
За ужином отец похвалил Йенхарова.
— Парень взялся за ум наконец-то. Все эти дни не выходит из храмовой кладовой. Без него я бы не справился. Глаза у нашего Хари молодые, зоркие. Пока рабы таскали корзины, он ни одной не пропустил. Да и пишет и считает он куда быстрее меня.
— Помощник! — мать ласково положила на тарелку младшего сына грудку цыпленка — самое вкусное мясо.
Сет Хамвес подумал, что надо бы и ему сказать что-нибудь приятное по адресу Хари, но решил отложить разговор. Когда они останутся вдвоем, наверняка брату будет приятно узнать о том, что завтра он пойдет вместе с Сетом в храм.
А если и завтра Йенхарову придется помогать отцу? Нет, надо сейчас что-нибудь придумать.
— Отец, — Сет Хамвес кашлянул. — Не позволишь ли ты Хари завтра помочь мне.
— Это в чем же? — в голосе отца послышалась ирония.
— Хочется побродить по окрестностям, честно признаюсь, видишь. А вдруг придется отправиться в Мемфис, тогда надолго расстанемся.
— Что? Пришел ответ? — встрепенулась мать. — Сегодня утром, говорят, корабль из Мемфиса причалил в нашей гавани.
— Нет, ответа пока нет, — спокойно ответил Сет Хамвес. — Но я уверен, что будет, — Сет и в самом деле чувствовал эту уверенность. — Но так что же, позволишь Хари побродить со мной?
— Однако! — отец усмехнулся. — Сыновья становятся мужчинами, каждый по-своему. Ладно, — он обернулся к младшему сыну, — завтра ты свободен. Можешь сопровождать брата.
Сет Хамвес посмотрел на Хари и удивился — взгляд у того был недоумевающий и даже чуть обиженный.
«На меня обижается», — подумал Сет.
Он посмотрел прямо на брата, стараясь привлечь его внимание. Затем осторожно постучал по столу двумя пальцами и слегка поболтал ими в воздухе. Это с детства был их условный знак, означавший: «выйдем в сад».
Хари поглядел на брата, улыбнулся, потом снова надул губы. Должно быть, хотел показать, что так просто он Сета не простит. И Сет знал, за что.
Он первым вышел в темнеющий вечерний сад и остановился в тени ветвистой сикоморы. Вскоре подошел и Хари.
— Ты, должно быть, сердишься на меня. Хари?
— Нет, — Хари явно притворился равнодушным. — А за что я должен сердиться на тебя?
— Ты и сам знаешь. Последние дни я совсем не говорил с тобой…
— Я тоже был занят.
— Ну, Хари, не сердись и не притворяйся. Я как раз хотел предложить тебе кое-что…
— Не знаю, — пробормотал Йенхаров. — Пожалуй, лучше я и завтра буду помогать отцу. Тут как раз привезли съестное для храмового праздника. Надо все сосчитать, записать…
— Ты хочешь, чтобы я завтра один пошел в храм Нуна?
— Я… — Йенхаров хотел было что-то сказать, но осекся.
Сет Хамвес воспользовался внезапной паузой и обнял младшего брата за плечи.
— Завтра мы с тобой с утра пойдем в храм. И там ты поймешь, почему я молчал, и больше не будешь сердиться на меня.
— А эти древние письмена? Тебе удалось понять, что там написано? — Йенхаров перестал притворяться сердитым и равнодушным и сразу сделался прежним Хари, живым и восторженным.
— Говорю честно: все узнаешь завтра. И поверь, будет просто удивительно!
— Так ничего и не скажешь сегодня? Ну хоть чуточку!
— Не сердись, но нельзя. Завтра. Ты ведь знаешь меня, если бы можно было сегодня, я бы сегодня и сказал.
— Теперь я всю ночь не смогу уснуть! Все буду думать, думать.
— Ну нет, Хари! Кто же тогда разбудит меня утром, если ты и сам только под утро заснешь?
Братья засмеялись.
Но конечно, Хари утром проснулся как всегда рано, пошел в комнату старшего брата и разбудил его.
Они вышли из дома. Сет Хамвес нес обычную корзину с едой, Йенхаров держал свою тростниковую флейту.
Когда они отдалились от ворот, Йенхаров поднял флейту:
— Уже несколько дней не играю. Из-за тебя.
— Ну, не сердись. Теперь осталось совсем немного потерпеть и все узнаешь!
Хари, не отвечая, приложил флейту к губам и заиграл.
Хрупкая нежная мелодия полилась в тишину раннего утра. Сету сделалось чуть грустно. А вдруг он видит брата в последний раз? Вдруг не вернется с острова, прежде бывшего Домом чародея, а ныне ставшего обителью злых духов?
Юноша играл, выпячивая выпуклые губы. Флейта то жаловалась тонко, то тихонько смеялась, то звала потанцевать. Так они и шли по утоптанной дороге в тени высоких пальм — почти одного роста, черноволосые, перетянутые белыми передниками; флейтист чуть более хрупкий, молодой человек с корзиной — задумчивый, углубленный в себя.
Они миновали усадьбу Дутнахта. Флейта сыграла мотив веселой песенки. Сету вспомнилось детство. Он тихонько запел песенку о лисичке, которая состязалась с черепашкой — кто быстрее добежит до виноградника. Чьи-то темно-карие глаза следили за ними из-за ограды — это была Ренси, дочь корабельщика.
Вот и заброшенная дорога. Вот и овраг.
Юноши вступили в храм. Йенхаров перестал играть. Сет Хамвес оглянулся, ища глазами старого жреца. В храме никого, кроме них, не было.
«Что бы это значило?».
На алтаре стояла корзина, еще прежняя, наполненная свежими травами и цветами. Растения благоухали приятно и чуть диковато, садовые цветы так не умеют.
Сет Хамвес вздохнул, пожал плечами, поставил свою корзину на пол и принялся раскладывать на алтаре принесенную снедь. Затем молитвенно сложил ладони и произнес:
— Я пришел и привел брата. Мы ждем.
Йенхаров смотрел на старшего брата с нескрываемым любопытством. В руке мальчик по-прежнему держал флейту. Внезапно, словно бы легкое ароматное дуновение пронеслось вокруг обоих юношей. Это было приятно, совсем не страшно, невольно вызвало радость, почти восторженную улыбку. И тотчас в столбике солнечной пыли закружилась большая светло-охристая бабочка. Несколько быстрых промельков — и она скользнула книзу, к флейте, которую Йенхаров держал в руке. Он поднял руку с инструментом, как бы подчиняясь желанию хрупкого существа. Бабочка закружилась над вскинутой тонкой юношеской рукой, на какую-то долю мгновения даже спустилась на легкий ствол флейты. Юноши улыбались.
— Играй, — шепнул Сет Хамвес младшему брату. Сет Хамвес догадался, — играй. Жрец Нуна — бога предвечного океана — хочет, чтобы ты играл. Ты скоро все узнаешь.
На лице Йенхарова выразились изумление и восторженная веселость. Он поднес флейту к губам.
Ему захотелось сыграть что-то необычное. Он начал импровизировать. Теперь уже Сет Хамвес смотрел на младшего брата с любопытством. Никогда еще Йенхаров не импровизировал с таким старанием. Сначала мелодия как бы не могла определиться, затем основным сделался мотив призывности, флейта доверчиво звала, рассыпались нежные просительные трели. Но вот, взяв последнюю высокую ноту, Йенхаров смолк. И немедленно из-за алтаря выступил приветливый старик в темном одеянии.
— Здравствуй, Йенхаров, ты чудесно играешь, благодарю тебя. И тебя я приветствую, Сет Хамвес. Буду счастлив разделить с вами трапезу.
— Вы и есть жрец древнего бога Нуна? — спросил Йенхаров, и вопрос его прозвучал очень непосредственно и даже по-детски.
— Да, Йенхаров, это я, и я очень хотел встретиться с тобой.
Йенхаров почувствовал гордость, смутился и улыбнулся от смущения. Кажется, впервые в жизни он всерьез, и, должно быть, для какого-то важного дела, кому-то нужен.
Жрец не повел их в свою потайную комнату. Они сели у алтаря и принялись за еду. Сет Хамвес уже понял, что жрец хочет о многом рассказать Йенхарову, и не просто так, а потому что это связано с предстоящим путешествием Сета. Он еще только представлял себе, как может начаться такой разговор, когда Йенхаров, который уже чувствовал себя совсем свободно и проникся доверием к старику (хотя тот почти ничего не говорил), вдруг спросил:
— Вы, наверное, помогли Сету разобрать все эти надписи? — мальчик повел рукой, указывая на письмена, покрывшие стены и колонны, — Сет очень хотел разобрать их.
— Сет многое разобрал, — ответил жрец Нуна. — И я и вправду помог ему.
Йенхаров поглядел на обоих вопрошающе.
— Пусть лучше Сет сам тебе расскажет, — предложил старик.
Сет готовился к разговору, но все же это предложение застало его врасплох. Ведь все это было настолько мучительно, серьезно. Сет не знал, как сказать об этом младшему брату. В сущности, он отдавал себе отчет — его мучило именно то, что Йенхаров может все понять совсем иначе, чем сам Сет Хамвес, а ему, Сету, это иное понимание покажется непониманием, и это отдалит братьев друг от друга. Но странно, что старик, такой чуткий, не догадался об этом.
— Хари! — Сет невольно глубоко вздохнул. — Это необычные надписи. Прежде мне ничего подобного не доводилось читать…
Сет Хамвес ощутил сосредоточенность брата и говорить стало легче.
— Самое удивительное в этих письменах, Хари, то, что они предсказывают, будто в далеком будущем люди станут поклоняться странному богу Ягве. У него не будет ни лица, ни рук, ни человеческого или звериного облика, только странный, сильный и суровый дух. Посланец этого бога снизойдет в обличье птицы к женщине, и от этого союза родится богочеловек по имени Ешуа, и ему также станут поклоняться люди. И люди станут враждовать между собой и убивать друг друга, потому что одни захотят поклоняться только Ягве, а другие — Ягве и Ешуа. И еще много удивительного о будущем, пока я даже не в силах понять и поверить…
— А наши боги? — напряженно спросил Йенхаров.
Сет Хамвес вздрогнул, ведь и его самого, когда он впервые узнал о предсказании, взволновала судьба родных египетских богов.
— Я тоже сразу подумал об этом, Хари. Неразумные люди в будущем сочтут наших богов сказкой и ребяческой выдумкой…
Йенхаров сделал жест протеста и удивления, немного вытянув руки вперед.
— Да, Хари. Но люди мудрые вспомнят наших богов и станут стремиться разгадать их тайны…
— Как много ты узнал, Сет. Прости меня. Я сердился, мне казалось, что ты пренебрегаешь мной, но теперь я понял, как много ты трудился для того, чтобы добыть это знание.
— Ах, Йенхаров! Да, я много трудился и всегда человеку суждено трудиться для того, чтобы добыть знание. И никогда это знание не будет полным. А ведь существует совсем иная возможность познания, существует. Оно существует, Познание, нисходящее на человека магически, когда внезапно познается все, и это не приносит горечи и следом приходит бессмертие…
Йенхаров слушал зачарованно. Старый жрец молчал.
— Но такое Познание, величайшее и сладостное, запретно человеку…
— Почему? — перебил Хари.
— Потому что оно должно прийти сразу ко всем людям. Один человек не может…
— Но когда оно придет ко всем людям?
О, наверное, никогда; наверное, это невозможно!
— Я расскажу тебе, Йенхаров, о моем сыне, — внезапно вступил торжественный голос жреца.
Старик заговорил о своей юности, о своем браке с девушкой, изображенной на стене гробницы, о своем острове, прозванном Домом чародея. Сказал он и о таинственном свитке с начертанными на нем словами…
— И если прочитать эти слова, сразу обретешь то самое величайшее Знание? — Йенхаров подался вперед.
— Да. Но насладиться им не сможешь, потому что обретешь и свою смерть.
Йенхаров, казалось, хотел было еще о чем-то спросить, но раздумал и промолчал.
Старый жрец сказал о том, что сын его Марйеб был соблазнен злыми духами, прочел магические слова и погиб.
— Он пожелал, чтобы свиток покоился в его гробнице. Но Сет Хамвес должен взять оттуда таинственный свиток и принести мне.
— Вы будете хранить его? — спросил Йенхаров.
— Нет, я передам его в руки божьи.
На короткое время воцарилось молчание.
Йенхаров проглотил слюну и тихо произнес:
— Я бы хотел отправиться вместе с братом, — он осекся и тихо добавил, — если бы…
— Что же останавливает тебя? — ласково спросил старик.
— Отец и мать… они станут тревожиться…
Сет Хамвес почувствовал, что щеки его жарко краснеют — он ведь совсем не подумал об отце и матери.
— Йенхаров, — начал жрец, — я желаю, чтобы ты отправился в путь вместе с братом. А об отце и матери не тревожься. Смотри!
Он простер руку. Из-за ближайшей колонны медленно выплыло облако дыма. Оно было густым, серым, но не имело запаха. Оно все сгущалось и увеличивалось. Жрец опустил руку. Дымовая завеса начала таять. Мелькнули контуры человеческих фигур, показались лица. Дым рассеялся.
Йенхаров вскрикнул. Сет Хамвес на миг прикрыл глаза ладонью.
Они увидели своих двойников, стоящих у колонны. Это были Йенхаров и Сет Хамвес. Хари держал в руке тростниковую флейту. Двойники улыбались. Они были живые, но словно застывшие, и будто ждали повелительного сигнала, чтобы окончательно ожить, начать двигаться и говорить.
— Во все время вашего путешествия, в родительском доме будут жить ваши двойники, созданные магической силой. Отец и мать не заметят вашего отсутствия.
Сету показалось, что это прекрасный выход из положения. Он был рад, что отправится в путь не один, но вместе с младшим братом. Впрочем, смотреть на двойников ему было как-то неприятно.
Но Йенхаров решительно и даже с каким-то отчаянием в голосе обратился к старому жрецу:
— Сделайте так, чтобы их не было! Сделайте так!
Жрец испытующе взглянул на юношу, затем небрежно махнул рукой. Двойники мгновенно исчезли. Сет Хамвес и Йенхаров, то и дело отворачивавшие от них лица, даже не заметили, как это произошло.
— Я так не могу. Не могу, чтобы эти призраки говорили с матерью и отцом, и чтобы родители думали, будто это мы. Противно! — выпалил Йенхаров.
Сет Хамвес тотчас подумал, что, пожалуй, это верно. И еще подумал, что его самого так увлекает предстоящее путешествие, что невольно блекнет все: родители, ответ из Мемфиса, возможная женитьба на дочери Дутнахта.
«Мне чудится, будто путешествие на заброшенный остров изменит всю мою дальнейшую жизнь. Прав ли я в своих предчувствиях? Отчего же я не хочу спросить жреца? Должно быть, оттого что боюсь отрицательного ответа…» — подумалось Сету.
— Стало быть, ты не хочешь отправиться вместе с братом? — обратился жрец к Йенхарову, улыбаясь.
— Хочу! — горячо воскликнул Йенхаров, — но обманывать отца и мать колдовством мне не хочется.
Сет Хамвес немного испугался: а если жрец оскорбится? Ведь мальчик обозвал его действия колдовством.
Но жрец улыбнулся подростку.
— Что ж, Йенхаров, тогда скажи нам, как вы, ты и Сет, должны поступить?
Подросток задумался. Затем медленно заговорил.
— Просто рассказать отцу и матери обо всем нельзя. Сказать, что мы просто хотим уехать, тоже нельзя; нас не отпустят; еще запрут, пожалуй. Тогда… тогда… Я знаю, как надо нам поступить! Сет напишет письмо. В этом письме мы попросим прощения и, конечно, там будет сказано, что мы обязательно вернемся. Ведь так, Сети?
Сет кивнул. Он опасался, что письмо получится фальшивым и неискренним, но, кажется, другого выхода нет.
— Вот и хорошо, — жрец снова улыбнулся. — Вдвоем вам будет легче. Вы ведь любите друг друга.
Он снова повторил свои указания, как надо будет действовать братьям, когда они попадут на остров, и дружески простился с ними.
Выйдя на дорогу, юноши невольно оглянулись. Сами того не сознавая, они хотели увидеть что-нибудь волшебное. Но ничего волшебного не было. Старый жрец в своем темном одеянии стоял в дверях и дружески махал им рукой. Это простое зрелище наполнило их души бодростью и солнечным весельем.
Они дошли до поворота, скоро должна была показаться усадьба Дутнахта, когда Сет Хамвес вдруг спохватился:
— Деньги! Кто возьмет нас на корабль? Ведь у нас нет денег.
— Можно взять тайком у отца, — нерешительно предложил Хари, — я отработаю…
— Нет, — прервал Сет, — это будет скверно и недостойно. Лучше вернемся и попросим у жреца.
— Хорошо, — согласился Йенхаров.
Но внезапно Сет Хамвес ощутил, что пустая корзина, которую он нес, сильно потяжелела. Он вздрогнул и поставил корзину на землю, быстрым движением, словно в корзине пряталась змея. Но, конечно, змеи там не было. Братья склонились над корзиной. Там оказались съестные припасы и небольшой деревянный ящик-ковчежец, наполненный монетами.
— Но денег совсем немного, — заметил Йенхаров, — хотел бы я знать, почему?
— Думаю, это знак, указывающий на то, что мы должны сами действовать, полагаться на себя, а не на помощь извне.
— Значит, теперь надо добраться до дома. А по дороге ты обдумай письмо. Я уже начал думать, но, по правде говоря, ничего толкового не приходит в голову.
— Обдумаю, — пообещал Сет Хамвес, присев на корточки, и перебирая содержимое корзины.
— Как представлю себе, вот мы придем домой и придется о чем-то говорить с матерью и с отцом и как-то украдкой оставлять письмо. Не по себе становится.
— Я понимаю тебя, — негромко проговорил Сет Хамвес, — мне тоже неохота появляться дома. Мы ведь уже не принадлежим дому, наши души уже пустились в плавание.
— Да, да, — Хари распрямился и приложил флейту к губам.
— Тише, — попросил Сет Хамвес, — не мешай мне думать. Ведь я должен буду дома написать письмо.
Йенхаров отнял инструмент от губ и поглядывал по сторонам.
— Смотри, Сети, кажется, это выпало из корзины. Вон, видишь на земле.
Хари протянул руку и поднял с земли небольшой папирусный свиток.
— Нет, этого не было в корзине, — тихо произнес Сет Хамвес, — это появилось только что, — он не мог бы сказать, что удивлен, наоборот, это было то удивительное, волшебное, чего он ждал.
Сет развернул свиток.
— Это письмо, — он весело улыбнулся младшему брату, — то самое письмо, которое я должен был написать.
Йенхаров тоже развеселился и не выказал удивления.
— Прочти вслух, — попросил он.
Сет Хамвес начал читать:
— Сет Хамвес и Йенхаров,
почтительные сыновья.
Господину отцу и госпоже матери.
Не ищите нас и не тревожьтесь. В конце следующего месяца мы вернемся и вы вновь увидите нас. Мы поступаем так не по прихоти, но по велению богов. Принесите жертвы пресветлому Ра, доброму Усиру и древнему Нуну, богу предвечного океана, и спокойно ожидайте нашего возвращения.
— Но ведь это как раз то, что нужно! — радостно воскликнул Хари. — Еще одной заботой меньше. Теперь осталось только подумать, как передать это письмо отцу.
— Здесь сказано, что мы вернемся, — задумчиво проговорил Сет.
— Значит, мы непременно вернемся. Я чувствую, что этот жрец добрый и в словах его истина.
— Ты, конечно, прав, но все же… — Сет Хамвес замялся.
Йенхаров заглянул брату в лицо и взял его за руки.
— Ты не хочешь возвращаться, Сети? Это из-за Ренси, дочери Дутнахта?
— Да нет, она не виновата. Но мне так хочется, чтобы жизнь моя совсем изменилась, пошла совсем по иному пути. Меня как-то пугает сама эта мысль о возвращении, о том, что все в моей жизни будет по-прежнему…
— Я уверен, что все изменится, — Хари сжал руки брата в своих сильных юношеских пальцах, — и ты верь! Я почему-то думаю, что все изменится совсем неожиданно, не так, как ты ожидаешь. И я не знаю, как.
— Не устаю удивляться твоему уму, — Сет подался вперед и потерся подбородком о плечо брата, — будем ждать и исполнять свое предназначение.
— Знаешь, что я еще надумал, Сети?
— Что, умная голова?
— Давай не пойдем к отцу. Ведь если он нас увидит, он может о чем-то догадаться, ну, о том, что у нас есть какие-то замыслы. Начнет расспрашивать. И потом — кто передаст ему письмо? Поэтому я надумал другое.
— Что же? Не представляю.
Йенхаров чуть покраснел.
— Пусть наше письмо передаст Ренси.
— Ренси? Но почему? Послушай, Хари, да ты просто должен жениться на ней вместо меня, — Сет засмеялся.
— Какой ты иногда непонятливый! Я вовсе не хочу на ней жениться. Я еще не думал, какой должна быть моя жена. Но я тебе честно говорю, мне хочется видеть Ренси рядом с тобой. Я люблю ее, как люблю тебя. И я сам попрошу ее передать письмо нашему отцу. Думаю, никто не справится с этим поручением лучше нее.
— Ничего не остается, как послушаться тебя. Тогда я иду вперед, к реке, и буду ждать тебя на нашей отмели.
Йенхаров со свитком в руке уже повернулся, готовясь бежать, но Сет Хамвес задержал его, положив ему руку на плечо.
— Как все хорошо складывается, верно, Хари? У меня такое ощущение, будто наше путешествие уже началось и мы плывем, плывем…
Сет сделал несколько нарочитых гребков руками. Младший брат весело повторил его движения.
Глава двадцать четвертая Корабль и река
Пауль снова ощутил себя. Он лежал одетый на застланной постели. Голова немного кружилась. На твердую поверхность потолка, оклеенных бледными зелеными обоями стен набегали странные блики. Сначала было неясно, что же это. Затем пришло понимание: это от воды, от медлительных широких волн. Затем волны стали захлестывать комнату. Вода делалась все плотнее, зримее, ощутимее. Паулю показалось, что он тонет, захотелось перевести дыхание. Вода мягко обрушилась, покрывая с головой. Пауль широко раскрыл рот. Свежий чистый речной воздух наполнил легкие…
Сет Хамвес вынырнул и поплыл к берегу. В ожидании младшего брата он решил искупаться. Все вокруг казалось таким праздничным, словно бы принарядившимся ради предстоящего путешествия Сета Хамвеса и его брата Йенхарова. Под лучами теплого солнца влажная кожа легко обсохла, но сохранила свежесть купания. Сет оделся и присел на берегу. Думать о чем-то конкретном, предполагать, строить планы — не хотелось. Ощущение радостной приподнятости захватило душу юноши.
Йенхаров бежал легко, вскидывая босые стройные ноги.
— Отдал свиток? — спросил Сет Хамвес, когда брат остановился перед ним.
— Отдал, — коротко ответил Хари.
— Что ты ей сказал? — Сету Хамвесу показалось, что он спрашивает как-то грубо, — то есть это не допрос, просто мне любопытно знать, — быстро добавил он.
— Сказал, чтобы она сегодня передала письмо нашим родителям. Она ответила, что пойдет с кормилицей в храм Ра и отдаст свиток отцу.
— Обо мне спрашивала?
— Нет.
— Ладно. Идем в гавань.
В гавани они какое-то время побродили по берегу, потолкались среди матросов, гребцов, носильщиков. Торговцы следили, как носят на корабли полные корзины, и громко переговаривались. Осторожно, чтобы не привлекать излишнего внимания, братья справлялись о том, куда направляется тот или иной корабль. Пока им не везло. Наконец Сет Хамвес заметил двух бородачей в полосатой одежде. «Финикийцы», — сообразил юноша. Он знал их язык, поэтому приблизился и заговорил. Он спросил, как они — только приплыли или собираются возвращаться.
— Возвращаемся, — ответил один из них и внимательно оглядел Сета Хамвеса.
Сет узнал, что корабль плывет в нужном им направлении.
— А когда отплываете? — спросил он.
— А можно хоть сейчас отплыть! — цепкий взгляд финикийца охватил Сета Хамвеса с головы до ног, смерил и стоящего рядом Йенхарова.
— Вы могли б взять на корабль меня и моего младшего брата? — Сет старался держаться с достоинством; пусть не думают, будто они беглые преступники или что-то в этом роде.
— За плату вперед могли бы, — равнодушно ответил финикиец, — а впрочем, спрашивай капитана, — он кивнул на своего спутника.
Второй бородач прищурился, коснулся кончиками пальцев бороды, помолчал и протянул:
— Можно.
— Деньги — на палубе, — начал Сет.
Но первый финикиец перебил его:
— Плата — вперед!
Сет немного смутился. Притворяться бывалым и жестким было бы нелепо; откровенно спросить, не обманут ли его — собеседники могли оскорбиться.
— Не обманем, не бойся, — ободрил его первый финикиец, заметив, что юноша колеблется.
— Покажи деньги, — медленно проговорил капитан.
Они отошли в сторону. Сет Хамвес вынул из корзины ящичек с монетами, приоткрыл. Он заметил быстрые взгляды, которыми обменялись финикийцы. Капитан попробовал одну монету на зуб. Затем положил ее обратно в ящик.
— Идите за нами, — сказал он братьям. — Деньги отдадите на корабле. Весь этот ящичек. Это немного.
Сет Хамвес согласился. Он уже понял, что содержимое ящичка представляет значительную ценность. Промелькнула мысль — может быть, следует поторговаться? В сущности, Сету Хамвесу вовсе не хотелось торговаться, ему это было скучно, неловко как-то. Мысль о необходимости торговаться была из тех необходимых для скучной обыденности предписаний, которые Сет часто слышал в отцовском доме. Он сознавал их необходимость в той действительности, где ему довелось родиться и жить. Возможно, эти предписания годились для любой, действительности.
«Но тогда никакая действительность не годится для меня», — думал Сет.
Деньги, полученные от старого жреца, были волшебные, таинственные деньги. На них не могли распространяться все эти обычные предписания обыденной действительности. И Сет Хамвес с легким сердцем поступил так, как ему хотелось поступить: решил не торговаться.
Вместе с братом он пошел за финикийцами. У тех были длинные пышные, вьющиеся крупными кольцами кудрявые бороды; высокие шапки, немного похожие на кувшины; большие бронзовые серьги в ушах; ноги были упрятаны в длинные матерчатые футляры из простой ткани, не стеснявшие движений. Глаза были светлые, а волосы, выбивающиеся из-под шапок, и бороды — цвета темной охры.
На палубе Сет Хамвес отдал ящичек капитану. А тот немедленно дал приказ отчаливать.
— Не хотите ли пройти в каюту? — почтительно предложил капитан братьям.
— Нет, нет, — рассеяно ответил Сет Хамвес. — Нам интересно видеть корабль и отплытие. Откровенно говоря, мы впервые плывем на корабле.
— Ну, как знаете, — капитан улыбнулся.
Сет Хамвес подумал о том, что может быть и вправду лучше было бы пройти в каюту — вдруг их ищут… Да нет, корабль уже выплывает в широкое пространство речной воды. Полуголые гребцы налегают на весла, ободряя себя ритмической однообразной песней:
Медное сердце гребца — тан-тири… Крепкое сердце гребца — тан-тири… Плыви, корабль, плыви — тан-тири…Финикийский торговый корабль — большое поместительное судно. Йенхаров притронулся к прочному кормовому брусу. Вокруг все были заняты, суетились; поэтому он тихо спросил брата:
— Сети, ты знаешь, из какого дерева сделан корабль? Никогда не видел такого прочного дерева.
— Знаю. Это ливанский кедр, такие деревья растут в Финикии на склонах гор.
На широкой палубе вдоль бортов были укреплены решетки из прутьев, чтобы палубный груз не сваливался в воду. На палубе громоздились крепко увязанные корзины. К носовому брусу был прикреплен огромный кувшин из обожженной глины, в кувшине хранилась питьевая вода. Ветер надул парус, и парус выгнулся, полосатый, в продольных красно-белых полосах.
Йенхаров подумал о Дутнахте, отце Ренси. У Дутнахта есть корабли. Если Сет женится на его дочери, все они смогут плавать на его кораблях, и в Мемфис, и в разные далекие страны. Йенхаров чуть было не сказал об этом брату, но сдержался, подумав о том, что это нарушит их общее торжественное настроение. Ведь сейчас нет ни Дутнахта и его дочери, ни отца и матери Сета Хамвеса и Йенхарова, существует только река, только корабль, только плавание-путешествие.
Корабль держался середины широкой реки. Издали виднелись берега Нила. Видно было, как люди, казавшиеся совсем маленькими, работают на полях. Иные, разогнувшись, глядели из-под руки на большой прочный корабль, плывущий под выпукло выгнутым полосатым красно-белым парусом. Ячмень и пшеница созрели, пожелтели колосья. Крестьяне жнут. Сет Хамвес думает о том, как это хорошо — путешествовать. Смотришь на все как бы со стороны, и вдруг раскрывается какой-то простор и начинаешь любить все окружающее…
Пауль пытался определить свое состояние. Это были его мысли, его собственные мысли, но и мысли Сета Хамвеса. Сет Хамвес видел реальные картины. Пауль Гольдштайн видел реальность, существовавшую некогда. Значит, чувства Сета Хамвеса должны были быть проще? Сет Хамвес испытывал внезапную нежность к этой огромной реке, к ее берегам. Пауль тоже чувствовал щемящую нежность; он знал то, чего не знал египетский юноша; Пауль знал, что вся эта действительность давно исчезла. А, впрочем, что означает любить? Разве это не означает украсить в своем воображении некую реальность нарядными одеждами…
Корабль приближался к устью Нила. Сет Хамвес решил, что вместе с братом высадится на одном из островов, раздобудет лодку и на лодке они доберутся до заброшенного острова, именуемого обителью злых духов. Однажды он спросил капитана:
— Вы уже когда-нибудь проплывали здесь?
Финикиец ответил утвердительно.
— Мне рассказывали, — осторожно начал юноша, — будто где-то здесь, в устье Нила, есть странный остров…
— Да, заболоченный остров. Говорят, там поселились злые духи.
— Мы будем проплывать мимо этого острова? — вмешался Йенхаров.
— Не бойтесь. Не будем. Остров далеко в стороне.
Через несколько часов корабль должен был пристать к берегу, чтобы пополнить запасы питьевой воды. Сет Хамвес и Йенхаров решили высадиться на берег и раздобыть лодку.
— Только непонятно, как мы это сделаем, — Хари вздохнул, — денег у нас нет. Разве что украдем лодку. Но за кражу вообще-то полагается наказание. Надо было сохранить хоть несколько монет из тех, что дал нам жрец.
— Мне не хотелось торговаться, Хари, и я последовал своему желанию. Давай сначала высадимся на берег, а там будем строить планы и что-нибудь придумаем.
Между тем погода начала портиться. Небо потемнело. Задул холодный ветер. Капитан отдал какие-то приказания, матросы подтягивали парус. Сет Хамвес слышал, как плывший на корабле торговец говорил капитану:
— Сколько раз я плавал по Нилу, но такого не видал. Кажется, вот-вот буря начнется.
Капитан ответил, что на этом отрезке пути и вправду случаются бури, ведь здесь не так уж далеко от острова, прозванного обителью злых духов.
Торговец укрылся в каюте. Капитан предложил братьям сделать то же самое. Откровенно говоря, Сет с удовольствием пошел бы в каюту, ему вовсе не нравились накатывающиеся сильные волны, грозившие обрушиться на палубу. Но Йенхаров ухватил его за руку и заговорил просительно:
— Останемся еще ненадолго на палубе. Посмотрим на все это. Мы ведь никогда не видели бури.
Сета Хамвеса тронуло то, что брат упрашивает его и совсем не подозревает в трусости, побыть в опасности для этого мальчика удовольствие; Сет почувствовал себя взрослым и ему стало немного грустно. Но не было времени предаваться грусти. Братья взялись помогать матросам и гребцам. Ветер все усиливался. Хлынул проливной дождь. Сплошная струистая завеса упала с неба. Она скрыла небо, землю, воды реки. Стало трудно дышать. Волны бились о борта корабля и хлестали на палубу.
Сет Хамвес уже не видел брата. Юноша встревожился.
— Хари! — закричал он. — Хари! — он старался перекричать рев набегающих волн.
— Я здесь, Сети! Я здесь! — донесся ответный крик Йенхарова.
— Как мне добраться до тебя?
Но тут Йенхаров громко и отчаянно закричал:
— Сети! Сети!
Сет Хамвес узнал этот крик. Дома даже удивлялись тому, что в мгновения испуга Хари с младенческих лет звал не мать или няню, как другие дети, но старшего брата; мать даже немного ревновала младшего к старшему. И сейчас Сет Хамвес понял и почувствовал, что что-то случилось. Он, не разбирая дороги, кинулся на крик.
— Хари! Не бойся, Хари!
— Сети! Сети!
Бешеная вода с силой обрушилась на Сета Хамвеса, тело ощутило душащую боль. Теперь кругом была вода. Вода бушевала, бурлила, пенилась. Вода казалась злобным скользким животным. Но Сет Хамвес недаром слыл отличным пловцом. Он нырял и всплывал, держался на воде. Он выплюнул воду изо рта и снова позвал брата.
— Хари! Хари! — от громкого крика засаднило в горле.
Хари не откликался.
Кажется, с корабля тоже что-то кричали, но Сет Хамвес уже не понимал, что именно.
Внезапно (или это только так казалось, что внезапно) дождь перестал. Небо очистилось. Волны все еще плескались чуть сильнее обычного, но река уже успокаивалась, словно могучее гибкое разыгравшееся животное. Сет Хамвес осознал себя на спокойной воде. Он вдохнул воздух полной грудью, дышалось легко. В первые моменты только это и было: легкость дыхания, внезапная мягкость воды. Затем он увидел вдалеке корабль. Знакомый полосатый парус. На корабле, конечно, решили, что братья утонули. Кричать, звать? На таком расстоянии никто не услышит. Догнать корабль вплавь? Тоже невозможно — слишком далеко…
И тут…
Паулю передалось это мучительное состояние предощущения боли. Почти неосознанно он заерзал головой по подушке…
Боль ослепила, прервала дыхание, ударила в грудь. Прежде Сет Хамвес и не подозревал, что бывает такая боль. Обессиленное тело потянуло под воду. Но интуитивная воля к жизни заставила руки и ноги работать, вытолкнула юношу на поверхность. Он поплыл вперед, машинально загребая руками…
Хари!.. Хари!.. Хари!..
Отчаяние сменилось решимостью. Сет Хамвес оглянулся. Где я? Надо понять.
Корабль скрылся из виду. Не было видно и берегов. Один. На воде. Как найти брата? Сердце ныло, тупо и болезненно. Но что-то подсказывало: Йенхаров жив. Голос истины или же иллюзия?
Сет Хамвес лег на воду, вытянулся, заложив согнутые в локтях руки за голову. Отдыхал.
Да, кажется, что-то еще забыл, важное… Что же? И тотчас понял. Как же он мог забыть?
Сет Хамвес подавил в себе безумное отчаяние, желание проклясть все и вся. Сделал над собой усилие, почти заставил себя проникнуться смирением. Не раскрывая губ, про себя, поблагодарил богов за спасение. Просил о милосердии, о спасении брата.
Смешавшиеся мысли вновь обретали ясность и стройность. Нет, он не один. Милость богов — с ним. Он отыщет брата. Нельзя отказаться от достижения цели. Надо плыть к острову. Корабль должен был миновать остров. Значит, надо плыть вперед, туда, куда двинулся корабль.
Плыть было нелегко. Хорошо еще, что вода была теплой и солнце не слишком палило. Руки и ноги не сводило судорогой. Но Сет Хамвес плыл медленно. Ложился на воду, отдыхал. Но все равно усталость ощущалась все сильнее. Солнце покраснело, очертилось алым диском, начало клониться к закату. Скоро и вода сделается по-ночному холодной и тогда может случиться судорога. Главное, не терять присутствия духа, не поддаваться паническому страху.
Глава двадцать пятая Обитель злых духов
Сет Хамвес потянул носом. Не запахнет ли дымом или землей или густым травянистым духом растений? Кажется, издали доносит слабое древесное дыхание. Где-то там, в обозримом пространстве — берег. Тот самый ли это остров или другой остров — пока не имеет значения. Сейчас нужно добраться до берега. Теперь юноша в каждом дуновении ветерка ощущал отчетливо запахи твердой земли, ее растений. Он поплыл вперед с новыми силами. Близость желанного берега бодрила.
Наконец показалось впереди что-то темное. Нет, это не волна. Это плотная темнота твердой земли. Теперь уже он ясно различал землю.
Совсем стемнело. Опершись локтями о землю, Сет Хамвес только сейчас ощутил страшное истощение. Ноги все еще оставались в воде. Он опустил голову на руки, полежал с закрытыми глазами. Снова сделал над собой усилие, пополз, не было сил подняться. Вот он весь лежит на земле, на траве, кажется. Надо… Но где взять силы для того, чтобы мыслить? Глаза вновь закрылись. Сет Хамвес впал в забытье. Он даже не успел оглядеться, не знал, где же он находится.
Когда Сет Хамвес открыл глаза, усталое тело все еще немного болело, слабо ныло. Он проспал ночь. Солнце поднялось высоко. Конечно, это совсем другой остров. Никакого ощущения заброшенности. Гранатовые деревья. Вон вдалеке колодец. Сет приподнялся, присел. Там дальше — огород. Где-то близко — жилье. Очень хочется есть. Юноша встал, сделал несколько шагов. Его качнуло. Перед глазами простиралась красноватая пелена. Он снова опустился на землю. Возникло ощущение холода в висках. Посидел, переждал. Краснота рассеялась, полегчало. Вновь осторожно поднялся, постоял, сделал шаг. Еще шаг. Передышка. Вот оно наконец-то — гранатовое деревце. Оперся о ствол, тонкий, шероховатый. Сорвал одетый в охристую кожуру, круглый плод. Кожура была тоже тонкой. Надорвал кожуру. Открылись спелые нежно-алые зернышки. Жадно впился зубами. Боже, как сладостно!
Сет Хамвес съел один за другим два граната. Почувствовал себя бодрее. Теперь он отыщет жилье и узнает, куда же он попал.
Он пошел мимо грядок тщательно прополотого огорода. На полдороге между огородом и пальмовой рощицей юноша увидел скромный домик, глинобитный, чистый. Сейчас он увидит людей. Кажется, он целую вечность не встречал людей. Эта мысль о людях невольно оживила затаенные болезненные мысли о младшем брате. Нет, нет, надо взять себя в руки. Не следует показываться чужим незнакомым людям, отчаиваясь и плача. Он оглядел себя. Грязный мятый передник, руки и ноги тоже грязные, подбородок и щеки липкие от гранатового сока. Нет, прежде чем идти к незнакомым людям, следует умыться. Вернуться к реке? Или пойти к колодцу? Но возвращаться не хотелось. В пальмовых рощах обычно бывает ручей. Сет Хамвес ускорил шаг.
В тени пальм он нашел ручей с чистой холодной водой. Умылся, вымыл передник. Уже стало жарко и он скоро обсох.
Вокруг дома не было никакой ограды. Юноша деликатно постучал. Никого! На всякий случай постучал еще раз. Никто не появился. Может быть, хозяева работают где-то в поле? В это время из-за дома вышла женщина в темном платье. Платье было запачкано мукой, в руке женщина держала сито. Она, видно, просеивала муку, когда услышала стук юноши. Это была уже старая толстая женщина, темные с сильной проседью короткие волосы вились. На вид она казалась добродушной.
Прежде чем она заговорила, Сет Хамвес почтительно поклонился.
— Мое имя — Сет Хамвес. Отец, мой — жрец пресветлого бога Ра. Я плыл на корабле, началась буря и меня волной смыло за борт…
Он сказал женщине о своем брате и тотчас спросил, не прибило ли волной юношу. Женщина ответила, что ничего об этом не слыхала, но юноша мог попасть на берег с другой стороны. Она, в свою очередь, рассказала Сету, что это небольшой остров в устье Нила, на острове две деревни, иногда к острову причаливают корабли, а каждый месяц приплывает в ладье сборщик налогов с писцами, так что выбраться с острова Сет сможет. Юноша поблагодарил ее. Она пригласила его в дом и накормила. В доме было чисто, хотя и чувствовалась бедность. Женщина жила одна. Муж ее умер. Сыновья служили писцами далеко от родного острова. Звали ее — Алама. Сет Хамвес уговорился с ней о ночлеге, а пока решил осмотреть остров и поспрашивать о брате.
Остров и вправду оказался невелик. Сет Хамвес побродил по улочкам двух деревень, заглянул в гавань, тихую и пустую, только несколько лодок покачивалось у причала. В домах почти никого не было, одни маленькие дети да старики и старухи. Остальные жители острова трудились на полях. Проходя мимо, Сет Хамвес видел жнецов, ловко орудующих серпами. Он всех расспрашивал о Йенхарове, но никто ничего не знал о младшем брате Сета Хамвеса.
Вечерело, когда проголодавшийся и усталый Сет вновь подходил к дому Аламы. Он боролся с собой. Не надо давать волю отчаянию. Он еще найдет брата.
Алама вышла к нему, предложила пройти в дом и сказала, что скоро подаст ужин.
— Узнали что-нибудь о брате? — спросила она жалостливо.
— Нет, — коротко ответил ее гость.
— Бедный мальчик! — старуха вздохнула.
То ли это восклицание относилось к Йенхарову, то ли к самому Сету Хамвесу. Сет почувствовал, что очень устал и хочет спать. В комнате он сел у столика. Вошла старуха с подносом и принялась расставлять еду. Из соседней комнаты появилась молодая женщина и тоже села за стол.
— Это моя дочь Лия, — сказала старуха.
Сету Хамвесу дочь Аламы не понравилась. В своем слишком коротком, обнажающем ноги платье, молодая женщина увиделась ему порочной. Ее светлые с челкой, закрывающей лоб, волосы были, как и у ее матери, коротко подстрижены. Сету Хамвесу такая прическа казалась некрасивой. Лия глядела вокруг с выражением высокомерия, порочности и какого-то мелочного презрения к людям. Она была худощавой, но не производила впечатления хрупкости. Глядя на нее, Сет Хамвес подумал невольно о том, что бывают женщины, не вызывающие никакого желания. Весь вид Лии был достаточно странен для дочери бедной деревенской старухи, но Сет не сосредоточился на мыслях об этом. Глаза у него слипались, очень хотелось спать. За столом он, кажется, перекинулся всего несколькими словами с хозяйкой и ее дочерью. После ужина женщины убрали со стола. Алама постелила гостю постель на циновках. Хозяйка и ее дочь ушли в другую комнату и унесли светильник.
Усталый Сет Хамвес заснул почти мгновенно. Проснулся он, должно быть, поздно ночью, далеко за полночь. Крепкий сон совершенно избавил его от усталости, юноша чувствовал себя бодрым и хорошо отдохнувшим. В комнате, где он лежал, было темно, но из-под прикрытой двери соседней комнаты пробивался свет. Должно быть, женщины не спали…
Пауль подумал, что эти две женщины кого-то ему напоминают. Но кого? Внешне они не были похожи ни на кого из знакомых ему женщин… И все же… Но додумать он не успел…
Сет Хамвес прислушался. Из-за двери глухо доносились голоса. Почему-то ему сделалось жутко. Хотя, казалось бы, чего бояться в мирной деревне, в скромном доме двух женщин?.. Голоса в темной тишине зазвучали громче.
— Проклятая тварь! — раздосадовано говорила старуха. — Все не то, не то! Не та вышла девка! Пошла прочь, проклятая тварь! Пошла!
— Ну нет! — взвизгнула дочь. — Меня-то ты назад не загонишь! Я еще посильнее тебя стану!
— Рассейся! Освободись, животное, освободись! — забормотала Алама.
— Не получится? — издевательски спросила дочь, и сама себе ответила. — Не получится! Не видать больше старухе своей кошки, не видать!
— Рассейся! Освободись! — бормотала старуха.
Дочь нагло и порочно захихикала.
Сет Хамвес лежал, боясь пошевельнуться. Слышит ли он все это наяву или ему снится странный сон? Где он? Куда он попал? От страха сердце забилось сильно-сильно. Что же делать? Он ощутил холод, потянул одеяло и… неожиданно уснул.
Первым его ощущением, когда он проснулся, было ощущение того, что весь слышанный разговор (он почему-то запомнил этот разговор) ему приснился. Еще не открывая глаз, юноша почувствовал, что в комнате светло. Неужели уже утро? А почему бы и нет… Сет Хамвес открыл глаза. В комнате разливался какой-то странный свет — не сумеречный, но какой-то неестественный, гнетущий и не было ясно, откуда идет этот свет. Сет Хамвес, лежа, повернул голову…
На циновке у двери в соседнюю комнату сидели обе женщины. Обе взглянули на Сета с недовольством. Они сидели совсем голые. У молодой тело было какого-то неприятно-синеватого цвета. У старухи тело было одутловатое, с нездоровой желтизной, груди большие и отвисшие. Между ногами у обеих морщилось что-то противное, похожее на сырые куриные потроха и поросшее кудрявыми жестковатыми волосками. Все это было противно видеть. Сет Хамвес невольно вспомнил Ренси, дочь Дутнахта. Сейчас она показалась ему такой красивой, чистой и нежной, даже потянуло к ней.
Женщины, не говоря ни слова, поднялись и двинулись к нему. Ему сделалось не по себе. Чего они хотят? Быть с ним телесно? Этого ему совсем не хотелось, но вскочить, оттолкнуть их было как-то неловко, получится, будто он, мужчина, боится. Он лежал с открытыми глазами и молчал. Они, тоже молча, подходили к нему. Снизу от них пахло неприятно — чем-то вонючим, острым и в то же время приторным. Хотелось зажать нос пальцами. Обе как-то странно урчали и мурлыкали, словно большие кошки. Обе опустились у ног Сета Хамвеса. Молодая оскалила большие зубы на бледном лице, изогнулась и сунула в рот большой палец его правой ноги. Урча от удовольствия, она принялась сосать этот палец. Между тем старуха откинула одеяло, сняла с юноши передник и нагнулась. Толстый живот свис к одутловатым коленям. Пальцами протянутой руки она обхватила сильный упругий юношеский член и, припав к нему губами, также начала сосать.
Сет Хамвес ощущал, что не владеет своим телом, мышцы закаменели, не повиновались, он не мог повернуть голову, попытался закрыть глаза и не смог. Он почувствовал, как сильно брызнуло семя. Его тело ощутило потребность в содрогании, но не могло содрогнуться. Он чувствовал, как шершавый старухин язык лижет его член и яички, жадно слизывает семя. Язык был мокрый, слюнявый. Между тем, дочь старухи уже кусала его ногу, стало больно.
«Да ведь они просто съедят меня!» — пришло в голову страшное.
И невозможно сдвинуться с места, вырваться, сопротивляться.
— Дай мне! — Лия выпустила изо рта его ногу и толкнула мать в голую жирную спину. Та в ответ лягнула дочь пяткой. Дочь рассвирепела и вцепилась матери ногтями в шею. Ногти были длинные серые с красным, похожие на когти.
Сет Хамвес мучительно боялся, что старуха сожмет зубы. Было противно, унизительно. Старуха принуждена была отпустить его член, обернулась резко, бросилась на дочь. Визжащим клубком они покатились по полу. Сет Хамвес вдруг почувствовал, что его тело снова послушно ему. Он вскочил и обнаженный кинулся к двери. Дверь легко распахнулась. Он выбежал.
Но куда же исчезало все — пальмовая рощица, ухоженный огород? Кругом простирался жаркий песок. Нещадно палило солнце. Сет Хамвес оглянулся. Дом старухи исчез вместе с его обитательницами. Юноша начал понимать. Да, это тот самый остров. Неужели и Йенхаров здесь в плену? И его мучают, унижают? Жалость и тревога за брата вытеснили даже чувство отвращения к самому себе, охватившее было юношу.
Песок жег ступни. Стало больно подошвам ног. Нет, нельзя стоять на одном месте, надо идти. Но куда?
Огромный сине-черный жук на задних лапах надвигался на него. Юноша увидел гнусные распахнутые челюсти. Затошнило, началась рвота.
Чудовище склонило непропорционально маленькую по сравнению с гигантским неуклюжим телом голову набок, странным каким-то кокетливым движением. Рвота приносила облегчение.
— Сладостное единственное знание, — издевательски загнусавил жук.
— Не тот! — раздался каркающий голос.
— Не тот! — откликнулся гнусавый голос жука.
— Где же тот? Где он? — прокаркал первый голос.
— И-ищи! И-ищи! — протяжно завизжал жук.
Первого говорившего Сет Хамвес не видел. Рвота не унималась. Что… что же делать?
Вдруг ярко вспомнилось все, что говорил жрец. Каким давним и нереальным теперь казалось все прошлое — родительский дом, храм Нуна… Жрец говорил, что, попав на остров, нужно держаться в воде и очертить вокруг себя рукой круг… Да, он велел не выходить из лодки. Значит, вода… Значит, заклятие круга действует в воде. Что делать?
Чудовищный жук надвигался. Сет Хамвес резко повернулся и побежал. Кажется, он пробежал совсем немного, но пустыня исчезла. Он успел разглядеть болото, стволы деревьев. За спиной раздался топот, послышалось рычание. Погоня? Скорее в воду. В покрытой тиной воде мелькнула плотная морщинистая кожа, и еще, и еще… Крокодилы. Обычные обитатели болот. Но все равно ведь нет выхода! Сет Хамвес решительно шагнул в воду. Обеими ногами. Поспешно повел рукой, очерчивая в воздухе круг…
Внезапная тишина оглушила его. Крокодилы исчезли, как прежде исчезли дом старухи и песчаная пустыня. Сет Хамвес стоял по колено в темной зеленоватой воде болота. Кругом высились незнакомые деревья с темными и толстыми стволами. Листва закрывала небо. И эта оглушительная тишина.
Он стоял в воде грязный, измученный, оскверненный, исцарапанный.
— Я молю о прощении за все вольные и невольные прегрешения, о добрые боги. Даруйте милость, позвольте умыться и выпить чистой воды…
Сет Хамвес чувствовал, что голос его охрип, горло опухло. На острове злых духов он ел нечистую пищу. Кто знает, что это было на самом деле — гранаты с дерева и пища в доме старухи… Чем это могло быть? Насекомыми? Змеями? Жабами? Калом и мочой?
— Я не ведал, что творю. Даруйте же мне милость, позвольте очиститься от скверны, — молился юноша слабым голосом.
«Быть может, впервые за тысячу лет на этом острове раздается голос человека, призывающего богов, — подумал Сет Хамвес, — боги смилостивятся надо мной в этом царстве темного зла».
И как бы в ответ на его мысли, вода вдруг медленно начала светлеть. Светлый круг все ширился. Вот уже вода сделалась кристально чистой. Сет Хамвес сложил ладони вместе и прошептал благодарственную молитву. Присел в воду на корточки, наклонился и начал пить чистую воду. Это питье бодрило, успокаивало. Он начал медленно и тщательно мыться. Он увидел, как тут же, на глазах, заживают царапины, ссадины и ожоги, усеявшие кожу, и не удивился. Умывшись, он выпрямился, поднял руки и произнес благодарственную молитву. Вода начала медленно темнеть. Юноша стоял в одиночестве, по колено в воде, окруженный тишиной. Это было мучительно. Он решил передохнуть, немного забыться, постараться ни о чем не думать, а затем снова молиться. Внезапно он ощутил чей-то пристальный прямой взгляд. Сначала было только ощущение взгляда, но вот появилось лицо, только лицо, лицо человека, молодого, но старше Сета Хамвеса, волосы были темно-коричневые, волнистые, прядки спадали на высокий лоб, карие глаза смотрели с тоской, взгляд этих глаз выражал жалость и мучительное напряжение мысли. Сет Хамвес никогда не встречал этого человека, но не ощущал его незнакомым. Может быть, видел во сне? Сет Хамвес вспомнил о своей болезни; Хари говорил, что Сет бредил на непонятном языке. Не связано ли все это? Но в этом лице, которое смотрит на Сета Хамвеса, не чувствуется злого начала, только странная безысходность, тоскливое смирение, сломленность… Вот лицо словно бы растаяло в воздухе… Сет Хамвес начал молиться вполголоса и просил милости для всех тех, кому плохо сейчас или будет плохо когда-нибудь, для всех тех, кто беззащитен. Прежде он не просил богов ни о чем подобном…
Пауль смотрел на Сета Хамвеса, понимая, что быть может единственный раз они видят друг друга, до этого Сет не видел Пауля. Этот юноша, с чьим сознанием было связано сейчас сознание Пауля Гольдштайна, выглядел таким измученным, страдающим, щеки впали, выпуклые губы побледнели, темные глаза расширились. Но он страдал не так, как страдал бы на его месте Пауль или Михаэль или кто-нибудь еще из тех, кого Пауль знал. Но почему страдание этого юноши было иным? Почему? Через некоторое время Паулю показалось, что ответ найден. Как и все люди, Пауль жил в мире определенных данностей. Данности были мелкие и крупные. Данностью был водопровод. Возможность выйти из дома, бродить по улицам города — тоже была данностью. Вдруг Пауль осознал, насколько он, да и любой европеец, зависит от всех этих данностей, стоит лишить его записной книжки, возможности умываться утром или самое важное — свободы передвижения, и он испытает такие мучения, под гнетом которых душа его сломается, сникнет, или же очерствеет, ожесточится. Сет Хамвес тоже, разумеется, жил в мире данностей, он был сыном жреца, в доме имелись рабы и слуги; юноша чувствовал себя полноценным человеком, осуществляя определенные навыки и привычки; свобода передвижения, чтение и письмо были ему насущно необходимы. Но в отличие от Пауля и друзей Пауля, Сет Хамвес сознавал относительность всех данностей. Почти бессознательно он всегда был готов к превращению в нищего, в раба, в человека зависимого, мучимого. Значит, если бы в жизни все это на него обрушилось, душа его не сломалась бы и не ожесточилась. Что же могло питать подобную готовность? Быть может, вера в богов, в их конечное милосердие? Быть может, живое прикосновение к божественному промыслу, общение с богами через посредство постоянных ритуалов, жертвоприношений?.. Пауль подумал о том, что в древности, у египтян, греков, это было каким-то иным, они признавали всех богов; не считали, что боги, которым поклоняется противник на поле битвы, это дьяволы, и что поклонение им — заблуждение. А Пауль живет в мире религий враждебных друг другу. Для него и для его друзей сама возможность веры начинается прежде всего с выбора — протестант или католик, синагога или собор, и так далее. То есть прежде всего приходится выбирать что-то одно, а все остальное признавать враждебным и ложным. И, может быть, именно в этом корень (или, скажем, одни из корней) всеобщего зла?.. Пауль почувствовал тоскливое неизбывное предощущение каких-то бессмысленных мучений, грубых страданий… Захотелось уткнуться, как в детстве, лицом в подушку. Безысходность давила, душила. Но тут…
Сет Хамвес услышал нежное простое щебетанье — чудесные звуки доброй обыденности. Маленькая птичка вылетела из-за стволов высоких деревьев. Подлетела совсем близко, закружилась. В сущности, странно видеть ее на болоте. Этих темноперых птичек зовут «орешками», они гнездятся под кровлей дома, питаются мелкими насекомыми и крошками со стола человека. Сет Хамвес вспомнил родной дом, множество мелочей ярко представилось ему… Хари… Нет, не надо, не надо… Маленькая птица, маленькое живое существо… Старый жрец Нуна говорил, предупреждал, что подплывет тело мертвого животного — дикой кошки или одичалой собаки. Надо взять мертвое животное на руки и смело идти, а на берегу соорудить из камней жертвенник и оставить мертвое животное. Тогда злые духи не смогут причинить вред…
Глава двадцать шестая Спасение и поиски
Птичка опустилась на плечо Сета Хамвеса. Он осторожно повернул голову, боясь испугать маленькое существо. Может быть, эта маленькая птица голодна?..
Сет Хамвес снова подумал о наказе жреца. Пока все получалось как-то не так. Вот и сейчас — вокруг не видно ни собак, ни кошек, ни живых, ни мертвых. Что же делать? Ждать? А что еще ему остается? Но чего ждать? Какого-то знака? Птичка на плече забавно склонила округлую головку. А если эта маленькая птица и есть знак? Но тогда, что показывает этот живой знак? Что следует предпринять? Сет Хамвес задумался. Пожалуй, единственное, что он может сделать, — это идти вперед. Идти. Значит, надо идти. Сет Хамвес шагнул в воде. Он был немного напряжен, боялся спугнуть маленькую птичку. Но птичка и не собиралась улетать, щекотно переступала на человеческом плече, щебетала. Сет расслабился, пошел спокойно. Протянул раскрытую ладонь, птичка тотчас слетела к нему, он понес ее в ладонях.
Незаметно для себя он очутился на твердой земле. Земля была влажная — полоса среди болотной воды. Но все же идти стало легче. Слабое бледно-желтое солнце то выныривало из-за толстых высоких древесных стволов, то снова пряталась и лишь робкое свечение говорило о том, что день еще не завершился. Сет Хамвес увидел нагромождение каких-то плоских камней, в центре лежал большой плоский темный камень. Юноша хотел было пройти мимо, но смутная догадка остановила его. Боже, да ведь это жертвенник. Правда, жрец говорил, что жертвенник надо будет соорудить им самим, но ведь все идет немного иначе. А теперь? Как быть теперь? Возложить жертву на камень? Но у него нет жертвы. Мертвая собака или мертвая кошка — это была бы, наверное, жертва злым духам, чтобы успокоить их или как-то отвести от попавших на остров людей, но такую жертву он принести не может. Он голый, у него ничего нет. Только вот эта маленькая птица в ладонях. Но она не принадлежит ему, она свободное живое существо. Сет Хамвес наклонился и бережно поставил птицу на большой камень. Конечно, сейчас она улетит. Но пусть это его действие будет как знак его благодарности добрым богам, которые милосердны.
Голова сильно закружилась, глаза невольно закрылись, юноша опустился га землю. Но сразу его отпустило и он открыл глаза.
На большом плоском камне, сжавшись в комок, лежал Йенхаров, совсем обнаженный, с закрытыми глазами, он, казалось, спал. В руке спящий сжимал свою тростниковую флейту. Сет Хамвес тотчас понял, что это не мертвец, не дух, но спящий живой человек. И все же Сет бросился к младшему брату, положил пальцы на его запястье — жилочка билась. Губы чуть приоткрылись во сне — спящий дышал. Значит, маленькая птица… Это превращение. Так хотелось разбудить Хари, услышать его голос после мучительной разлуки. Но Сет недаром был сыном жреца. Юноша сдержался. Поднял руки, громко произнес благодарственную молитву. И лишь после того, свободно, с чувством исполненного долга, нежно погладил брата по голове, по черному теплому ежику волос.
Йенхаров проснулся, увидел склонившегося старшего брата, улыбнулся.
— Мы спаслись, да, Сети?
— Да, Хари, да.
— Совсем голые. Но здесь тепло. А корабль уплыл?
— Уплыл.
— Это ты спас меня?
Хари сошел с камня и огляделся.
— Посидим на земле, Хари. Камень это все же камень. Ты еще простудишься.
Йенхаров послушно сел рядом с братом.
— Я знал, что ты жив, знал, что найду тебя, — голос Сета прервался. — Я ведь потерял тебя в воде.
— А я ничего не помню, — перебил его Йенхаров. — Ты нашел и принес меня сюда?
— Да, — ответил Сет Хамвес. Это было правдой и он чувствовал, что всю правду брату не следует говорить. Почему? Чтобы не огорчать его, не вызывать у него прежде времени грустные и тревожные мысли.
— Где мы? — спросил Хари.
— На том самом острове, куда мы и хотели попасть.
— Чудесно! — воскликнул младший брат.
Сет Хамвес слабо улыбнулся.
— Мы что-то должны были сделать, Сети. Я не помню. Здесь должны водиться какие-то дикие собаки и кошки.
— Я уже все сделал. Кошек и собак пока не видал. Но кое-что интересное уже произошло. Когда я выбрался из воды, я решил, что это совсем другой остров. Все было так обыкновенно — огород, пальмовая роща. Я увидел людей, они работали на полях. Я побродил по деревне, спрашивал о тебе, ничто ничего не знал. Попросился переночевать к одной бедной старухе. А ночью она хотела съесть меня…
Глаза Йенхарова широко раскрылись. Сет Хамвес улыбнулся детскому изумлению и страху, отразившимся в этих глазах.
— Я выскочил из дома, видишь, как спал, так и выскочил, даже одеться не успел. И тотчас дом исчез. И дом, и деревня, и то, что старуха выглядела, как человек, все это было наваждением злых духов…
Сет рассказал брату и свои дальнейшие приключения, но о том, что Йенхаров явился ему в облике птицы, рассказывать не стал, подумал, что это может напугать мальчика, выбить из колеи. Ничего не сказал Сет Хамвес и о том, что делали с ним старуха и ее дочь. О дочери он вообще умолчал. Да и была ли это дочь? Кто знает, о каком дьявольском наваждении или превращении здесь шла речь. Но странно, Сет Хамвес почувствовал, что то, о чем он стыдится рассказывать брату, он мог бы поведать Ренси, дочери Дутнахта, почему-то именно ей, хотя по-прежнему он вовсе не хотел на ней жениться.
Но, кажется, Сет Хамвес недооценил младшего брата. Йенхаров пристально посмотрел на него, помялся и смущенно полюбопытствовал:
— Сети, а эта старуха, она не хотела… ну… побыть с тобой?
— До чего ты у меня умен, Хари, — Сет засмеялся. — Я иногда боюсь тебя.
— Но я угадал?
— Угадал, — признался Сет, но подробности раскрывать все равно не стал.
— Эх! — Йенхаров хлопнул себя по коленке.
— Теперь нам надо отыскать могилу Марйеба, сына старого жреца, — серьезно сказал Сет Хамвес. — А то, как бы нам не позабыть, для чего, в сущности, мы сюда явились.
— Немного странно — вот так идти, без одежды, — задумчиво произнес Йенхаров.
— Зато с флейтой, — усмехнулся Сет Хамвес.
— Да, с флейтой. И тоже странно — как она уцелела.
— Это знак того, что она тебе еще понадобиться здесь.
Сет Хамвес подумал о том, что на острове обитают не только злые духи, но и добрые боги простирают даже над этим страшным местом покров своего милосердия, потому Йенхаров и спасся. И старый жрец предвечного Нуна, конечно, надеется на помощь добрых богов, на то что они помогут братьям. Сет Хамвес вдруг подумал, что, должно быть, Йенхаров утонул и оживить его боги могли лишь превратив его мертвое тело в иное существо — в птицу — а эта маленькая птица уже могла вновь стать человеком, но уже не мертвым, а живым. От этой мысли, оттого что он мог потерять младшего брата, Сету Хамвесу на короткое время сделалось жутко, он обнял Хари за плечи.
— Теперь злые духи не страшны нам? Они нас не тронут? — тихо спросил младший брат.
— Да, теперь нам осталось одно — искать.
— Есть хочется, — смущенно пробормотал Йенхаров, — а тебе не хочется есть, Сети?
Сет Хамвес огляделся по сторонам. Разумеется, никаких съедобных плодов не видно. Можно было бы просто пожевать траву или какие-нибудь корешки, но, пожалуй, не стоит, все-таки это обитель злых духов. Молить богов о пище? Но дурно это — тревожить богов своими просьбами по любому поводу. Нет, надо просто потерпеть.
— Идем, Хари. Пока потерпим.
Йенхаров молча кивнул. Они зашагали вперед, то ступая по влажной земле, то шлепая босыми подошвами по лужам болотной темной воды. Сет Хамвес думал, что найти здесь заброшенное кладбище тысячелетней давности — дело нелегкое. Кругом, куда ни кинешь взгляд, простирались заболоченные земли, поросшие высокими темнолистными деревьями. Велик ли остров?
— Знаешь, Сети, — нарушил молчание Йенхаров, — ведь это остров. Значит, мы можем его обойти весь. Пусть даже на это понадобится много времени. И злые духи ведь не могут помешать нам.
— Мы так и поступим, — согласился Сет Хамвес.
Они продолжали идти вперед. Йенхаров предложил помечать дорогу, заламывая ветки кустов. Это было правильно, надо было следить за тем, чтобы не начать двигаться по кругу. Постепенно темнело. Наступила ночь. Сет Хамвес решил, что им следует отдохнуть. Уже не хотелось ни есть, ни пить, слабости они тоже не чувствовали, только скверный привкус во рту.
Вокруг по-прежнему было пустынно, беззвучно — ни птиц, ни животных. Наступившая ночь не полнилась обычными ночными звуками: шорохом крыльев птиц и ночных насекомых, их писком, уханьем и вскрикиваньями, кваканьем жаб, душераздирающими стонами влюбленных кошек. Нет, ничего этого не было. Братья легли на траве, обнялись. Холода они не чувствовали. В темной тишине их вскоре сморил сон.
За ночь не произошло никаких чудес. Бледный свет солнца, разлившийся высоко, проникший сквозь темную листву, разбудил юношей.
— Устал, Хари? — заботливо спросил Сет Хамвес.
— Нет.
Сет понял, что Йенхаров не решается говорить о том, что проголодался.
— Потерпи, Хари. Еще потерпим. Я верю: мы не умрем от голода.
— Может, поиграть? — Йенхаров улыбнулся и приподнял руки с флейтой.
— Нет, Хари, — серьезно возразил Сет Хамвес. — Побереги силы.
Они снова двинулись вперед, останавливаясь, чтобы присесть ненадолго на траву — передохнуть. Днем Сет Хамвес предложил поспать после полудня, что они и сделали. А когда проснулись, снова пошли. Однообразный пейзаж наконец-то начал меняться. Кустарниковые заросли поредели. Уже давно не попадались лужи болотной воды. Густо растущие высокие деревья тоже остались позади. Теперь они шли по обширному травянистому пустырю. На горизонте виднелись холмы. Было тепло, солнце по-прежнему давало бледный нежаркий свет.
— К холмам? — Сет Хамвес, шедший немного впереди, обернулся и поглядел на брата.
— К холмам, — согласно откликнулся Йенхаров и устало вздохнул.
— Бедняга ты мой! — Сет ободряюще сжал руку младшего брата. — Совсем измучился.
— Кажется, тысяча лет прошла с тех пор, как мы сели на корабль, — Йенхаров качнул головой. — А ведь для тех, кто остался дома, на берегу, прошло не так уж много времени. И они живут, как всегда, день за днем, в обычных своих занятиях, и им даже бывает скучно.
Сет Хамвес тихонько похлопывал брата по руке. Сет боялся, что разговор зайдет об их родителях и возникнет чувство вины, а сейчас совсем этого не нужно, это будет бесплодное мучение. Кроме того, Сету не хотелось, чтобы Хари говорил о дочери Дутнахта, а Хари мог заговорить. Раньше все было просто: Сет Хамвес не хотел жениться на Ренси, одна только мысль о том, что в его жизни появится определенность, какая-то устойчивость, какое-то «навсегда», он станет женатым человеком, человеком, имеющим семью, одна эта мысль вызывала у него раздражение и гнетущую тоску. В сущности, он и не знал, какова Ренси, какой у нее характер, она представлялась ему просто девушкой, молодой женщиной, которая стеснит его свободу, навяжет ему заботы о хозяйстве и детях. Но, кажется, внешне Ренси была совсем не такая. И теперь Сета странным образом тянуло к ней, и его самого это смущало.
— Пойдем, Хари, — попросил он. — Дойдем до холмов, пока не стемнело. Боюсь вспомнить о доме. Будем лучше думать о том, что нам предстоит.
И они пошли к холмам. Идти пришлось долго. Холмы оказались гораздо дальше, чем виделось в начале пути по равнине.
— Знаешь, — Сет Хамвес тронул брата за локоть, — я подумал о кошках и собаках. Ведь жрец предупреждал нас, что на острове много одичалых собак и диких кошек.
— Наверное, их и вправду много, — сказал Йенхаров, — просто мы их не видим. Мы защищены. Ведь жрец тебе говорил, что надо сделать, чтобы защититься от злых духов.
— Ты полагаешь, что это животные, одержимые злыми силами?
— Должно быть, так.
— Тогда деревня, которую я видел, была всего лишь наваждением. Это была не деревня с полями и огородами, но болото, заросшее тростником. А люди были на самом деле кошками и собаками. Я даже слышал какой-то странный разговор о кошке.
— А что говорили? — с любопытством спросил Йенхаров.
— Точно не помню. Кажется, что-то о превращении кошки в человека.
— О! — воскликнул Хари. Он явно хотел подробнее поговорить об этом.
— Но это я сейчас так думаю, — пояснил Сет Хамвес, — а тогда я и не очень понял и не вдумался.
Йенхаров помолчал. Наверняка Хари понимает, что брат чего-то не договаривает, что-то хочет скрыть. И Хари молчит, не выпытывает. Сет Хамвес подумал, что судьба оказала ему милость, послав такого чудесного младшего брата.
Разговор старухи и ее дочери о кошке Сет Хамвес хорошо помнил, и, кажется, теперь понимал суть этого странного разговора. Что такое была эта старуха Алама? Вероятнее всего, да нет, точно, она была злым духом. Каким-то образом она превратила кошку в молодую женщину. Зачем? Как-то собиралась с помощью этой превращенной кошки воздействовать на него, на Сета Хамвеса? Но в результате этого превращения получилось не то, что нужно было старухе. Вот почему она ворчала, что это «не та» девушка, и заклинала животное «освободиться», то есть хотела, чтобы девушка вновь стала кошкой. Но добиться этого старуха не смогла. Но в кого же она хотела превратить животное? В какую девушку? Ренси? Снова он подумал о Ренси! Сет Хамвес покраснел и оглянулся на брата, как будто Йенхаров мог догадаться, о чем подумал Сет. Но что-то подсказывало Сету, что превратить животное в какого-то конкретного человека невозможно. Тогда все же, в чем тайна подобных превращений? Как они происходят? Но на этот вопрос он не мог себе ответить.
Холмы приблизились. Теперь братья не могли сдержать возгласов изумления. Перед ними высилось несколько пирамидальных гробниц. Пирамиды были высоки и широки, словно гробницы великих фараонов. Сет Хамвес и Йенхаров увидели и другие гробницы, не такие роскошные, но также прочные и красивые.
— Кладбище! — произнес Йенхаров.
Кладбище вовсе не выглядело заброшенным. Должно быть, оно тянулось далеко в пространство. Особенно выделялись три пирамиды, сложенные из гранитных и алебастровых блоков.
Рядом с этими мощными сооружениями человек должен был чувствовать себя совсем крохотным.
— Представляешь себе, каким великолепием отличалось царство, сколько богатства и величия было на этом острове, когда он был Домом чародея! — Сет Хамвес посмотрел на брата.
— Сети, но ведь жрец Нуна о многом не сказал нам. Или… сказал совсем не так, как оказалось на самом деле. Почему?
— Не знаю. Вряд ли, потому что сам не знал, или потому что хотел ввести нас в заблуждение. Просто он сказал нам то, что надо было нам сказать. Вот и все.
— Это не объяснение.
— По-моему, стоит что-то оставить необъяснимым, Хари. Совсем-совсем необъяснимым. Просто сказать себе, что существуют необъяснимые явления, которые ничем нельзя и не следует объяснять — ни логикой, ни божественным промыслом, ничем! Согласен?
— Пока мне трудно сказать, — честно признался Хари.
Сет Хамвес рассмеялся. Йенхаров подхватил его смех.
— Вероятно, эти три пирамиды предназначались для старого жреца, его супруги и сына, — Сет Хамвес задумался и посерьезнел. — Но какая же из них принадлежит Марйебу? И как войти в гробницу? Я знаю, что пирамиды имеют потайной вход.
— А я слышал, — заметил Йенхаров, — я слышал о грабителях, которые находят эти потайные входы и выносят золото из гробниц фараонов.
— Ну, как бы там ни было, я помню слова старого жреца: он сказал, что эту фразу следует произнести, если дух его сына спросит, кто я. Тогда я должен ответить: «Марйеб, я послан твоим отцом, чтобы успокоить твою душу». Значит, сейчас я буду подходить к подножью каждой из этих трех пирамид и произносить эту фразу. Я думаю, мы сможем войти в гробницу Марйеба.
Было безветренно, тихо. Солнце мягко грело, но его лучи по-прежнему виделись бледными. Медленно переступая по светлому песку, братья подошли к одной из пирамид. Запрокинув голову, Сет Хамвес громко произнес:
— Марйеб, я послан твоим отцом, чтобы успокоить твою душу.
В ответ — тишина.
— Значит, не здесь, — уверенно сказал Сет, но на самом деле он волновался, не зная, правильно ли он действует.
Йенхаров молча следовал за братом. У подножья второй пирамиды Сет Хамвес повторил фразу. Но древние камни молчали.
Глава двадцать седьмая Гробница
Сет Хамвес решительно приблизился к третьей пирамиде. Йенхаров напряженно следил за братом.
— Марйеб, я послан твоим отцом, чтобы успокоить твою душу, — проговорил громко, чуть срывающимся голосом Сет Хамвес.
Йенхаров смотрел на запрокинутую голову брата, видел напрягшийся на смуглой шее кадык. Мгновения, казалось, длились бесконечно.
Раздавшийся скрип услышался очень громким в тишине. Мраморная темная плита повернулась, открылся узкий проход. В этом скрипе, в этом узком входе чувствовались странное какое-то величие и недовольство. Братья, не задумываясь, вошли, крепко держась за руки. И тотчас же плиты все с тем же скрипом сдвинулись. Стало немного страшно. Узкий, выложенный красным кирпичом коридор уходил вдаль. Здесь не было темно, но нельзя было понять, откуда проникает скудный свет.
Обнаженные юноши, выпрямившись, молчаливые, шли вперед. Все возможные слова казались им суетными, излишними. Оба обратили внимание на то, что в коридоре тепло. Йенхаров протянул руку и потрогал кирпич — тепло. Братья ощутили дуновение свежего ветра.
— Там дальше, наверное, вода, — тихо сказал Йенхаров.
Сет Хамвес не отвечал, только крепче сжал пальцы брата в своих.
Коридор, выложенный кирпичом, незаметно перешел в пещеру. Стены ее были каменные, шероховатые. Все яснее ощущался ветер, доносивший прохладу воды.
Должно быть, близился выход. Круто повернув, братья на миг очутились в темноте, но тут же вышли на скалу и вскрикнули от изумления.
Они стояли над водой. Это была бескрайняя вода, волнистая, голубовато-сине-зеленая. От нее веяло чудесной свежестью. Все было так просторно, чисто, радостно. Они стояли довольно высоко и невольно вдыхали полной грудью чистый свежий воздух.
— Наверное, это море, — полушепотом произнес Сет Хамвес.
— Смотри, в скале, будто ступеньки вырублены, — Йенхаров немного склонился вперед. Его качнуло.
— Осторожно! — испуганный, встревоженный Сет Хамвес подхватил брата.
— Сети, не сердись, не могу, снова очень хочется есть. Голова кружится.
— Я тебя держу, Хари. Наверное, уже недолго осталось терпеть. Но и вправду ступеньки. Означает ли это, что мы должны спуститься вниз?
Но Йенхаров не отвечал, глаза его были закрыты. Сет Хамвес присел, пристроив голову брата на своем плече.
И тут возникла ладья. Она не приплыла издали, но как бы сгустилась из воздуха. Она двигалась к скале, выгибался красный парус, работали веслами гребцы, но не слышно было плеска весел, не посвистывал в снастях ветер, не пели гребцы. Ладья двигалась бесшумно. Сет Хамвес уже различал гребцов. Их смуглые лица, казались одинаковыми, они одинаково сгибались и разгибались, двигая веслами. Выражение лиц этих гребцов тоже было странным, лица замкнутые, застылые.
Ладья подплыла к подножью скалы, гребцы опустили весла. Сет Хамвес понял, что надо спускаться. Он почувствовал слабость и усталость после всего пережитого. Он поднялся и, удерживая брата на руках, начал осторожно спускаться. За себя он не боялся, но боялся уронить свою ношу. Спустившись в ладью, он сел на деревянный настил и закрыл глаза. Ладья снова поплыла. Сет Хамвес открыл глаза и посмотрел вокруг. Ничего не было, кроме бескрайней воды. Вот ладья проплыла еще немного и снова остановилась. Воздух заколебался над морем, смутно замелькали неясные очертания. Сет Хамвес ощутил сильное головокружение, все начало расплываться перед глазами. А очнувшись, увидел себя сидящим на земле, теплой и пыльной, твердой, утоптанной; он по-прежнему бережно держал брата, а над ними высились гигантские каменные ворота, украшенные огромными рельефными изображениями. Сет Хамвес различал лапу, когти. Должно быть, это изображение льва, но какое же оно огромное. Высокие каменные воины-стражники из светлого камня застыли у ворот, скрестив копья. Копья тоже были из камня. Но вот стражники медлительно отвели тяжелые каменные руки, и ворота распахнулись. Сет Хамвес поднялся, держа на руках Йенхарова и чувствуя себя совсем беззащитным рядом с этим гигантским окружением. Он вошел и ворота закрылись за ним.
Он очутился в просторном помещении из светлого мрамора. Было пусто и светло. Отворилась небольшая дверь в стене и вошел смуглый человек в белом переднике, чем-то он был похож на гребцов, должно быть, этой застылой замкнутостью лица. Вошедший сделал Сету Хамвесу знак следовать за ним. Сет Хамвес чувствовал, что теряет силы. Но надо было идти и нести брата. Он сжал зубы, взял Йенхарова поудобнее и пошел за смуглым человеком в белом переднике.
Этот новый путь казался измученному юноше бесконечным. Они проходили огромные залы, вереницы комнат, шли коридорами и переходами. Было светло и тепло, как бывает в тихий солнечный полдень нежаркого лета. Стены были расписаны множеством изображений. Сады с прудами, охота на диких гусей в тростниковых зарослях, дворцовые пиры, землепашцы, жнецы, плывущие корабли, ремесленники, занятые трудом, музыканты, играющие на своих инструментах, пляшущие танцовщицы. А вот стройная, с грациозно вытянутым телом богиня небесного свода Нут, небесные ладьи и созвездия окружают ее. Неподалеку изображение суда Осириса в царстве мертвых. Великий бог Осирис восседает на троне из чистого золота в короне, украшенной страусовыми перьями. Рядом с ним Анубис, правитель царства мертвых, и Тот, покровитель мудрецов. Перед ними стояли золотые весы, на которых взвешиваются добрые и злые деяния умершего. Тот записывает, а Анубис произносит приговор. Умерший стоит в льняном одеянии. И все стихи из «Книги мертвых» были записаны на стенах. Далее пришлось идти анфиладой кладовых. Чего здесь только не было — парадные кровати, ложа для отдыха, колесницы, ладьи, кресла, оружие, украшения, посуда. Сверкание золота и серебра, мрамора и драгоценных камней слепило усталые глаза Сета Хамвеса. Ему казалось, он вот-вот упадет. Но он нес на руках брата, и ото поддерживало его самого.
Многие помещения были заполнены маленькими статуэтками, сделанными из глины, фаянса и бронзы. Фигурки изображали ремесленников, землепашцев, слуг и служанок. Сет Хамвес знал, что это были ушебти — «ответчики» — в загробном царстве они должны были ожить и служить хозяину, похороненному в гробнице. Сет Хамвес, глядя на эти изображения смуглых трудолюбивых человечков, подумал, что и гребцы, должно быть, были такими ожившими фигурками, и сейчас такой оживший «ответчик», долженствующий на призыв хозяина ответить: «Я здесь!», ведет его.
Они вошли в просторный зал, посредине которого находились два каменных постамента, помещенных совсем близко друг от друга. На одном из них помещался раскрытый прямоугольный каменный ящик, украшенный изображением богов. Подойдя ближе, Сет Хамвес увидел в каменном ящике саркофаг из черного гранита. Саркофаг тоже был открыт и в нем стоял серебряный гроб, а в гробу лежала мумия, нарядная, с золотой маской на лице. Это великолепие ослепляло. Сет Хамвес напрягал последние силы, следуя за своим провожатым. Юноша подумал, что, должно быть, это и есть мумия Марйеба, сына старого жреца.
Они пересекли и этот зал и оказались в небольшой комнате, за которой следовала еще одна комната, и еще, и еще. У Сета Хамвеса потемнело в глазах. Он крепко прижимал младшего брата к своей груди. Наконец они оказались в уютном жилом помещении. Оно состояло из двух комнат. В первой Сет Хамвес увидел две постели, чистую одежду, таз и кувшин с водой. В отдельном сосуде была приготовлена густая пенистая паста для мытья с добавлением золы. Пол был застлан чистыми циновками. Сет осторожно опустил брата на пол, смочил его лицо водой. Йенхаров с трудом открыл глаза и застонал.
— Еще совсем немного осталось потерпеть, Хари, совсем немного, — Сет Хамвес набрал в горсти воды из кувшина и напоил младшего брата.
Сет Хамвес тщательно вымылся и вымыл брата. Затем надел чистый передник и такой же белый передник надел на Йенхарова. Их провожатый молча ждал, а когда они совершили свой туалет, он сделал братьям знак пройти в другую комнату.
В этой комнате их ждал накрытый стол. Молоко, лепешки, фрукты. Сет Хамвес немного поел, накормил Йенхарова. Они вернулись в первую комнату, где он уложил брата и лег сам. Прикосновение усталого тела к чистой постели ощутилось как блаженство. Сет Хамвес уснул крепким, без сновидений, сном.
Проснулся он отдохнувшим, но все еще чувствовалась усталость. Сет Хамвес поднялся и подошел к постели брата. Йенхаров лежал с открытыми глазами и смотрел на него. Они ничего не сказали друг другу. Сет Хамвес молча гладил брата по щеке.
На этот раз им было приготовлено больше еды, появилось и пиво и жареная курица. Их таинственный провожатый исчез. Впрочем, они никуда не могли выйти из этих двух отведенных им комнат. Не было ни дверей, ни окон. Исчезла и дверь, ведущая в зал с мумией. Но все ото уже не очень занимало их. Юноши ощутили, что все пережитое как-то притупило их чувства. Ни о чем не хотелось думать, только есть и спать. Не хотелось даже говорить, произносить какие-то слова. Несколько раз в день они находили в комнате накрытый стол, ели, ложились отдыхать. Так миновало несколько дней.
Однажды Сет Хамвес проснулся оттого, что Йенхаров теребил его за руку.
— Хватит спать, Сети. Вставай.
Сет Хамвес легко откинул покрывало и вскочил.
— Смотри! — Йенхаров, засмеявшись, показал брату тростниковую флейту.
— Значит, она все время была с тобой, — Сет Хамвес тоже засмеялся.
Хари приложил инструмент к губам и заиграл. Сету приятно было слышать эти нежные и милые звуки, так напоминающие о жизни в родном доме. Кажется, они покинули родные места много лет тому назад, столько пережито с тех пор. И странно, на самом деле наверняка прошло совсем немного времени.
Братья умылись и позавтракали. Едва они кончили есть, как отворилась дверь в стене и вошел давешний их провожатый. Смуглый человек с застывшими чертами лица, он сделал юношам знак следовать за ним.
Снова пришлось долго идти по бесконечным коридорам с расписанными стенами. Сет Хамвес заметил две человеческие фигуры, изображенные во весь рост. Должно быть, это было изображение молодых супругов, она протягивала ему букетик из лотоса, папируса и мандрагоры, выражая свое желание иметь детей. Но рассмотреть это изображение Сет Хамвес не успел.
Небольшой пустой дворик, куда вышли все трое, был огорожен стенами из цельного гранита, в одной из стен была каменная серая дверь с выбитой надписью. Братья так и не сумели заметить, когда же исчез их провожатый. Но его уже не было. Они остались вдвоем. Впрочем, страшно им не стало. Сет Хамвес вслух прочел надпись:
«Я Бата, свободный человек, слуга и друг Марйеба. После моей смерти, где бы ни похоронили меня, пусть дух мой обретается вместе с духом Марйеба. Я призываю добрых богов отомстить злым духам, коварно умертвившим бедного, такого еще юного Марйеба».
— Теперь, — сказал Йенхаров, — надо или ждать или снова обратиться к этому Марйебу. По-моему, лучше первыми заговорить с ним.
— Хорошо, Сет Хамвес немного отступил от каменной двери и громко произнес, — Марйеб, я послан твоим отцом, чтобы успокоить твою душу.
Тотчас же дверь медленно отворилась и едва они вошли, затворилась вновь.
Теперь братья находились в небольшой комнате, похожей на ту, где они провели несколько дней. Голубые стены были расписаны узором, изображавшим вьющиеся растения. На гладком полу было расставлено несколько стульев с ножками в виде звериных лап и с мягкими подушками на сиденьях. На одной из стен оказалась короткая надпись, сделанная скорописью. Сет Хамвес подошел поближе, иероглифы виделись и знакомыми и одновременно странными, непонятными. Сет Хамвес начал было с увлечением расшифровывать надпись, но тут Йенхаров дернул его за руку. Сет и сам почувствовал, что в комнате, кроме них обоих, появился еще кто-то. Братья поспешно обернулись.
Перед ними стоял высокий худощавый, черноволосый и черноглазый юноша в простом переднике. Сразу было понятно, что это не оживший «ответчик», но живой человек, или, по крайней мере, дух живого человека.
Братья вежливо поклонились.
— Я Бата, — представился он, поклонившись им в ответ. — Вы уже знаете обо мне. Ждите. Господин примет вас.
С этими словами Бата подошел к стене и легко прошел сквозь нее.
Йенхаров присел на один из стульев.
— Садись, Сети. Может быть, придется долго ждать. Но как приятно видеть лицо обыкновенного человека и слышать живой голос, который произносит обыкновенные слова.
— Ну, не совсем обыкновенного и не совсем человека, — Сет Хамвес опустился на стул рядом с братом, сидеть было удобно, мягко. — Ведь с нами говорил дух некоего Баты, жившего тысячу лет тому назад. Ну да, где-то столько.
— А знаешь, я уже привык к тому, что мы общаемся с духами, и ко всем этим чудесам.
Сет Хамвес улыбнулся, затем вдруг попросил брата:
— Сыграй. Почему-то захотелось услышать твою флейту.
Йенхаров сыграл одну мелодию, но когда начал другую, послышались какие-то шорохи, шумы. Юноша отнял флейту от губ. Братья насторожились, чутко прислушиваясь. За стеной двигались и говорили. Женский голос долетал очень смутно, едва угадывался, не голос — тень голоса. Мужской голос делался все яснее. Приятный голос совсем молодого человека.
— Нет, ты не умеешь петь, — произнес этот голос, немного насмешливо, но в то же время с большой нежностью и мягкостью.
Сету почудилось, что женщина в ответ рассмеялась. Кажется, она тоже была очень молода.
Зазвучала арфа и приятный мужской голос запел стих из Книги мертвых:
Пусть оживет моя душа. О, Нут, богиня. Усира ты сотворила, отца моего небесного. Его наследник с крыльями всесильными Крылатый Хор. Его соколиные крылья и два пера на голове. Гляди! Он душу мою несет. Сильное слово произнеси. Место мое меж звезд недвижных Духи святые летят ко мне. Хор синеглазый летит ко мне…Женский юный голос что-то быстро проговорил. Мужской запел новую песню, которая показалась Сету грустной и трогательной:
Твои вечерние глаза в моей душе нашли приют. И золотая темнота судьбы скрывает светлый дар. Ночные птицы в темноте друг друга любят и поют. Сплетаясь, юные тела, как пчелы, пьют ночной нектар.Песня смолкла. Снова женский голос что-то проговорил, быстро и горячо.
Глава двадцать восьмая Марйеб
Братья снова не успели заметить, как же это произошло. Но прямо перед ними, чуть подаваясь вперед, стоял юноша, по виду ровесник Сету Хамвесу. Он шел босиком. Пышно-складчатая набедренная повязка сделана была из тонкой ткани ослепительной белизны. На плечи опускался воротник из золотых пластин, украшенный эмалевыми изображениями коршунов. Несколько ожерелий из голубых драгоценных камней сверкали на груди. Запястья, предплечья и лодыжки были охвачены золотыми браслетами.
Когда юноша делал какое-нибудь движение или жест, золото и драгоценные бусины чуть звенели, и перезвон этот казался легким и немного детским. Ничего величественного или пугающего не чувствовалось в этом молодом человеке. Подвижные черты его лица то и дело складывались в нарочито комическую гримасу, и тогда трудно было сдержать дружелюбную улыбку, глядя на него. Он немного походил на старого жреца и… еще на кого-то. Сет Хамвес покраснел. Наверное, мать юноши была родом из тех же мест, что и мать Ренси. Кожа у него светлая, коротко остриженные, но все равно пышные темно-коричневые волосы чуть вьются. Чуть заостренный нос заставляет вспомнить статуэтки божка Бэса, охранителя от злых сил, немного смешного на вид. Глаза под темными изогнутыми тонкими бровями широко раскрыты. Зеленоватые переливчатые зрачки с темными каплями райков посередке, словно бы окаймлены тонкими и слегка желтоватыми колечками. Губы совсем детские, выпуклые и темно-розовые…
Сознание Пауля внезапно, будто от резкого толчка, заработало сильно и странно. Он ощутил какую-то сильную приязнь, какую-то неловкую нежность к этому юноше. Новое, прежде незнакомое чувство. Он быстро осознал, что юноша чем-то похож на него, на Пауля Гольдштайна. Но Пауль не обладал такими подвижными чертами лица, никогда, даже в детстве, не корчил таких комических гримас, и даже самые злые недруги не находили в его внешности ничего смешного. А в этом юноше было что-то мило-смешное, входившее в забавный контраст с его нарядной набедренной повязкой и яркими блестящими украшениями. И вдруг Пауль совершенно ясно… нет, не понял, а ощутил, что таким будет его сын. То есть, разумеется, не в такой одежде, но таким. И еще… Пауль знал в этот момент, что никогда не увидит своего сына и потому надо всматриваться в этого юношу, в каждую его черту, движение, жест. Все эти новые ощущения захватили, закружили Пауля, убыстрились, слились во что-то неразборчивое… И вот уже вновь сознание Пауля снова стало сознанием Сета Хамвеса… Впрочем, Пауль еще успел подумать о том, что никогда ведь не хотел иметь детей, жениться, любая семья виделась ему затхлой и скучной, похожей на семью его родителей, где он вырос… И вот… Но Сет Хамвес уже поднялся навстречу вошедшему, то есть вернее, внезапно появившемуся юноше…
— Да не надо вставать, — юноша сделал движение рукой и сам сел на стул.
Сет Хамвес и Йенхаров тоже уселись снова.
— Я знаю, зачем вы пришли, — сказал своим мальчишеским голосом сын старого жреца.
Сет Хамвес почувствовал, что так просто дух Марйеба не отдаст таинственный папирус. Сет не мог пока понять, каков же характер этого юноши, но уже сознавал его странным.
— Да, — осторожно начал Сет. — Мы пришли за свитком, на котором начертаны слова Познания, — он хотел было продолжить в том же духе, но тут ему пришел в голову один вопрос. Сет оставил торжественный тон и спросил просто:
— Скажи, Марйеб, неужели твой отец вот так, нимало не колеблясь, исполнил твою предсмертную волю и скрыл свиток Познания в твоей могиле?
— Колебался, конечно, — Марйеб состроил смешную гримасу. — Бата уговорил его. Бата ему рассказал, как я просил не разлучать меня с этим свитком. Ну, отец заплакал и все исполнил, как я просил.
Сет Хамвес чувствовал, что ему нужно время на размышления, он уже бранил себя за то, что не обдумал заранее разговор с духом Марйеба, не подготовился. А теперь времени не было, надо было все решать быстро и быстро говорить. И Сет Хамвес решил, что в таком случае лучше всего будет говорить прямо.
— Твой отец послал нас к тебе, чтобы мы взяли свиток. Он передаст тайну Познания в руки богов.
— Разве здесь, в этой гробнице, свиток не в безопасности? — Марйеб поморщился.
Сет Хамвес не знал, что будет дальше. Он справедливо полагал, что своим вопросом Марйеб скорее всего просто возражает отцу, которого здесь нет, а вовсе не спорит с юношей, который сидит здесь.
— Эту гробницу устроил твой отец? — спросил Сет Хамвес, чтобы выиграть время. Пока Марйеб будет отвечать, можно попробовать обдумать свои дальнейшие действия.
— Да, три гробницы. В одной погребена моя мать, — голос зазвучал мягко. — Другая предназначена для отца. И третья — вот эта.
— Но ведь сюда и вправду трудно попасть, — робко вступил в беседу Йенхаров.
Сет Хамвес искоса глянул на брата. Не хватало еще, чтобы Хари встал на сторону Марйеба.
— Да, трудно попасть нам, людям, а злым духам, вероятно, гораздо легче, — спокойно возразил Сет Хамвес.
— Сюда никто не попадет, если я не позволю, — просто заметил Марйеб.
— Мы просто исполняем волю твоего отца, потому что мы верим ему, — сказал Сет Хамвес. — Мы знаем его как человека искреннего, доброго и мудрого.
Марйеб улыбнулся.
— Но зачем тебе этот свиток, Марйеб? — вмешался Йенхаров. — Сету сделалось досадно, ему показалось, что Хари вмешивается совсем некстати.
— Ведь ты же не бог и не злой дух, — горячо продолжал Йенхаров. — Ты просто дух человека. Я знаю, что ты не можешь воспользоваться этим удивительным даром Познания, я знаю, я догадался сам. Тогда зачем?
— Я всего лишь дух человека, правда, — заговорил Марйеб как-то отрешенно и с горечью. — И ни один самый сильный злой дух, ни один светлый бог не может взять у меня свиток. Это может сделать лишь человек, обыкновенный живой человек. Мой отец это знает. Но неужели он верит в то, что вы не соблазнитесь и не прочтете магические слова? Если бы не существовало людей, свиток Познания спокойно обретался бы в руках богов, злые духи не могли бы отнять его. Но люди способны обращать во зло дары богов, и люди поддаются соблазнам злых духов, — Марйеб внезапно смолк.
— Мы можем взять свиток? — спросил Сет Хамвес, стараясь говорить как можно спокойнее.
— Не-а, — ответил Марйеб, как-то по-детски замыкаясь в себе и детски сильно помотав головой.
Сет Хамвес ощутил в себе странную решимость, решимость взрослого, немного суховатого человека, противящегося капризам балованного ребенка.
— Мы не уйдем отсюда без свитка, — твердо произнес Сет Хамвес.
Марйеб, сидя, наклонился вперед, двинул локтями и слегка ударился локтем о стену.
— Ты! Ты что? — смешно и с нарочитой досадой обратился он к стене. — Убью!
Сет Хамвес невольно вздрогнул при этих словах, хотя сразу понял, что они обращены не к нему. Должно быть, Марйеб и хотел напугать своих гостей, показать им, что он здесь хозяин, и в то же время немного поиздеваться над ними. Сет Хамвес взял себя в руки и спокойно выпрямился. Он решил не смотреть на Марйеба, но когда отвел глаза, прямо перед ним оказалась странная непонятная короткая надпись, начертанная скорописью на стене. Марйеб проследил направление его взгляда.
— Уверен, что ты ничего не поймешь, — сказал Марйеб все с той же странной ребячливостью.
— Похоже на древние иероглифы, — Сет Хамвес пригляделся. — Я мог бы разобрать эти письмена. Нужно время.
— Конечно, это иероглифы, — Марйеб засмеялся. — Только немножко переделанные. Это я придумал, когда был маленький, чтобы никто не мог понять, о чем я пишу. Вот, смотри, — он стал объяснять Сету, по какому принципу созданы эти иероглифы.
— «Ми», — прочел Сет Хамвес.
— Это мое детское имя, — Марйеб посмотрел на него испытующе. Сет не понял, в чем может быть смысл этого взгляда, и продолжил чтение вслух.
— «Ми! Ты спал, а я смотрела на тебя. Ты в моем сердце. Будь со мной еще долго. Я хочу, чтобы ты был счастлив, облачко мое; мой маленький твердый орешек, в котором скрыто столько сладости. Целую тебя, мой маленький огонек и моя радость».
Сет Хамвес не знал, что на это сказать. Какая женщина могла так написать? Наверное, мать или возлюбленная. Может быть, душа матери Марйеба может проникать в его гробницу. Но ведь все это не имеет никакого отношения к свитку.
— Это написала та девушка, с которой ты говорил за стеной? Та, для которой ты пел? — спросил Йенхаров, посмотрев на Марйеба едва ли не с восхищением.
Сет Хамвес подосадовал на себя — почему он не связал эту надпись с женским голосом, и вправду донесшимся из-за стены.
— Да, — ответил Марйеб, — это она написала.
— Это имеет отношение к свитку? — Сет Хамвес старался, чтобы его голос звучал мягко. Конечно, не следует обижать Марйеба, а, кажется, Марйеб уже обижен. Но что должен сделать Сет Хамвес? Притвориться, будто он в восторге от этой надписи, будто надпись эта очень тронула его? Но подобное притворство унизительно. Ему вовсе не хочется притворяться, заискивать перед Марйебом.
— Ты ничего не понял, — Марйеб дернул плечом. — Даже он, — Марйеб кивком указал на Йенхарова, — даже мальчик понял, а ты — нет.
На лице Йенхарова выразилась досада, ему было неприятно, что его называют мальчиком.
Сету Хамвесу тоже было неприятно слушать упреки в непонимании. Зачем эта ложная многозначительность? Чего он не понял? Того, что какая-то девушка была влюблена в Марйеба и теперь ее дух находится здесь? Да он прекрасно понял это! Сет Хамвес на мгновение приложил ладони к щекам. Скверно, что у него складываются такие дурные отношения с Марйебом. И почему только сын старого служителя бога Нуна совсем не походит на своего отца? Ни мудрой доброты, ни спокойствия.
— Вернемся к вопросу о свитке Познания, — Сет Хамвес почувствовал, что не может сдержать раздражения, и тем самым раздражает Марйеба, заставляет его упрямиться и капризничать.
— Да, да, — откликнулся Марйеб с нарочитым пренебрежением, и, отвернув голову, позвал: — Бата!
Черноглазый худощавый Бата явился. Сет Хамвес заметил, что Йенхаров попытался проследить, каким же образом в помещении появилось новое лицо. Сам Сет Хамвес уже понял, что проследить за этим невозможно.
— Бата, — сказал Марйеб, не глядя на братьев, — принеси столик, доску и фигуры.
Бата поклонился и исчез.
— Если ты выиграешь, я отдам тебе свиток, — отчужденно и равнодушно обернулся Марйеб к Сету Хамвесу.
Сет Хамвес чувствовал себя униженным, но выбора не было. Он сдержанно кивнул.
Снова явился высокий Бата и принес столик с инкрустированной золотыми пластинками столешницей, позолоченную доску, разделенную на тридцать три поля и золотую шкатулку с белыми и черными деревянными фигурками. Он поставил столик, разложил доску, затем взял из шкатулки белую и черную фигурки, каждую зажал в кулаке и заложил руки за спину, после чего почтительно поднес сжатые кулаки гостю. Сет Хамвес выбрал левую руку, ближе к сердцу. Ему достались белые фигурки и выпало начинать игру.
После первых же ходов Сет Хамвес понял, что играет с настоящим мастером. Сет и сам играл неплохо и даже выигрывал порою у отца или у их соседа Зеземонеха, но Марйеб играл с подлинной виртуозностью. Еще несколько ходов — и партия проиграна. Марйеб с каким-то странным выражением на лице протянул руку.
— Не надо, — прошептал Йенхаров, напряженно следивший за игрой.
Марйеб грациозно развел руками, его чуть приподнявшиеся плечи и подвижные черты лица выразили насмешливую капризность ребенка, уверенного в своем праве защищать любимую игрушку.
Сет Хамвес ощутил странную тяжесть в ногах. Склонив голову, он увидел, что ступни его стали каменными, камень был серый, гладкий. Сделалось страшно, захотелось закричать, молить о пощаде, но внезапно вспыхнувшее чувство гордости не позволяло.
— Сыграем еще? — сдавленно произнес Сет Хамвес.
Марйеб молча расставил фигурки, предоставил гостю выгодную позицию. Снова начали игру. Несмотря на то, что ему угрожала страшная опасность, Сет Хамвес не мог не восхищаться сообразительностью Марйеба, быстротой его реакции. Кажется, и Марйеб это почувствовал и ему это нравилось. Сет Хамвес подумал, что они могли бы примириться. Но как это сделать, не унижая своего достоинства? Снова Сет Хамвес проиграл. Снова Марйеб протянул руку и тяжесть в ногах усилилась. Теперь ноги окаменели до колен. Сет Хамвес всем своим существом чувствовал мучительное напряжение Йенхарова.
Марйеб согласился сыграть еще раз. И снова после проигранной Сетом партии Марйеб протянул руку. Теперь Сет Хамвес стал каменным по пояс. Усилием воли он сдержал слезы отчаяния. Такую страшную несвободу он испытывал впервые в жизни.
И тут Йенхаров бросился к нему. Столик с доской опрокинулся, фигурки раскатились по полу. Йенхаров обнял брата. Сет Хамвес ощутил, как Йенхаров всеми силами души и тела сосредоточился на своем неизбывном неимоверном желании спасти его. Сила этого желания словно бы растапливала серый камень. Спустя несколько мгновений Сет Хамвес уже мог пошевелить пальцами ног.
Сын старого жреца быстро махнул рукой и тело Сета Хамвеса вернуло себе прежнюю гибкость. Марйеб не опускал руку и смотрел широко раскрытыми зеленоватыми глазами на Йенхарова, обессилено сползавшего на пол.
— Завтра! — коротко бросил Марйеб и исчез.
Сет Хамвес помог брату подняться.
— Сколько ты вытерпел из-за меня, Хари, — он прижал милую голову брата к своей груди.
— У тебя сердце сильно бьется, Сети. Ты успокойся. Я думаю, он отдаст свиток.
— Тише, Хари, тише.
За стеной смутно зазвучал юный женский голос, что-то говоривший быстро и горячо.
— Нет, солнце мое, нет, — с какою-то странной легкостью проговорил в ответ Марйеб.
И спустя мгновение:
— Нет, милая, — все с той же летящей какой-то интонацией.
Это был уже не тот Марйеб, с которым Сет Хамвес так странно беседовал, не тот, что одним мановением руки превращал живое тело в серый камень.
Сету Хамвесу пришло в голову, что сын старого жреца действительно умен и образован. «Странно, что я это понял сейчас, когда он о чем-то ласково говорит с женщиной. Интересно, он нарочно устраивает так, чтобы мы слышали его слова и пение, или это от него не зависит?» — подумал Сет. Также он подумал о том, что общение с женщиной, должно быть, и вправду каким-то образом утончает и обогащает человека. Если бы еще при этом ухитряться не попадать в зависимость от низменной женской природы! А, впрочем, в отношениях с женщиной, вероятно, нет возможности многое предусмотреть, предугадать, надо просто бросаться, как в неведомые воды, а там уж выплывешь или утонешь — как повезет. И, может быть, лучше и вовсе устранить женщин из своей жизни…
Глава двадцать девятая Бата
Размышления Сета Хамвеса были прерваны появлением Баты. Высокий худощавый Бата, быстро склоняясь и распрямляясь, принялся собирать игральные фигурки. Он сложил их в шкатулку, поставил столик, положил доску и на доску поставил шкатулку. Но, кажется, он не собирался уходить, и с добродушной усмешкой поглядывал на братьев.
— Ты отведешь нас в комнаты, где мы живем? — спросил Йенхаров.
— Идемте, — просто ответил Бата.
Они пустились в обратный путь. Снова очутившись в уже обжитых за несколько дней комнатах, братья почувствовали себя защищенными и спокойными. Это было что-то вроде дома. Стол был накрыт и им захотелось утолить внезапно давший знать о себе голод. Не хотелось отпускать Бату. Хотелось, чтобы еще остался здесь, чтобы возникла иллюзия общения, легкого и приятного, общения с чужим, сторонним человеком. Кроме того, братья чувствовали, что Бата может им рассказать что-то для них интересное и даже важное.
— Ты мог бы разделить с нами трапезу? — спросил Сет Хамвес.
Бата поблагодарил и занял место за столом. Все трое, не спеша, принялись за еду.
— А Марйеб, твой господин, знает, что ты сейчас с нами? — полюбопытствовал Йенхаров.
— Ему все равно, — улыбнулся Бата.
— Но если он вдруг захочет, он может узнать, где ты и услышать, о чем ты говоришь? — не отставал Хари.
— Марйеб — не соглядатай! — Бата покачал головой с видом превосходства. — Я не знаю, что наговорил вам старик о нем, но я знаю Марйеба с детства. Вы, конечно, полагаете, будто Марйеб захотел владеть свитком Познания из тщеславия и сейчас не желает отдавать вам свиток из каприза. Но это не так. Если вы хотите, я расскажу вам о Марйебе. Думаю, вы хотите. Я расскажу вам о нем по своей воле, не думайте, что это хитрость, ловушка.
— Вся эта история со свитком произошла из-за той женщины, чей голос мы слышали, для которой Марйеб играл и пел? — Йенхаров положил локти на стол и подпер щеку рукой.
— Мне трудно будет говорить с вами, — начал Бата, помолчав немного. — Там, где положено чувствовать, вы вообразили, будто знаете. Но существуют такие предметы и явления, знание о которых возможно получить лишь посредством чувства.
— Но мы готовы признать, что не имеем знания о любви, мы покорно и внимательно и с благодарностью готовы слушать тебя, — внезапно произнес Йенхаров.
Сет Хамвес посмотрел на брата с некоторым изумлением. Сета Хамвеса всегда приятно изумляло, когда в характере брата приоткрывались новые, казавшиеся странными грани и свойства. В сущности, радовала именно эта возможность окончательно узнать брата, самого близкого человека.
После еды они перешли во вторую комнату и уселись прямо на полу, поджав ноги на чистых циновках. Бата начал свой рассказ.
— Вы, конечно, знаете историю острова, названного Домом чародея. Я не знаю, назвал вам старый жрец свое имя или нет.
— Нет, не назвал, — быстро откликнулся Йенхаров, — а как его зовут?
— Его имя Неферкептах. Он стал правителем острова, населенного ожившими изображениями из древней гробницы. Среди других жителей острова был и мой отец — садовник. Неферкептах узнал о его умении разбивать красивые сады и пригласил его во дворец. И вскоре дворцовый сад изумлял своей обширностью и красотой. Изящные беседки, маленькие пруды, удивительные яркие цветы, аллеи стройных деревьев, жужжание хлопотливых пчел и нежное пение птиц — таким я помню дворцовый сад. Мне было тогда девять лет, а Марйебу — восемь. Когда отца впервые привели к Неферкептаху, тот стоял у пруда вместе со своим сыном и пускал маленькие деревянные кораблики, которые сам же для сына и вырезал. Отец вел за руку меня. Неферкептах улыбнулся, ласково ответил на приветствие моего отца и пристально посмотрел на него, должно быть, пытался вспомнить, каким же он видел моего отца на стене древней гробницы, но, кажется, не вспомнил, мотнул головой, словно отгоняя какие-то смутные мысли, и заговорил с моим отцом о дворцовом саде. Тем временем мы с Марйебом приблизились друг к другу. Мы тогда ходили совсем обнаженными, если не считать коротенькой набедренной повязки, головы нам выбривали и только с маковки свешивалась тонкая косица.
— Как тебя зовут? — по-доброму спросил Марйеб, поглядев на меня.
— Бата. А тебя?
— Ми. Хочешь пускать кораблики?
Мы очень увлеклись игрой и были огорчены, когда пришло время расставаться, отец позвал меня. Но расставались мы ненадолго, потому что вскоре мои родители поселились в одной из дворцовых построек. Целыми днями мы с моим новым приятелем бегали взапуски, прыгали друг через дружку, плавали наперегонки в широких прудах. Часто с нами играли и другие мальчики, дети служителей и придворных. Ми отличался добротой и кротостью, ему была свойственна мягкая смешливость, никто из мальчиков и не подумал бы заискивать перед ним, сыном правителя.
Вместе с моим другом я учился. Случалось, Неферкептах сам давал нам уроки. Мы обучались письму и счету, узнали многое об устройстве звездного неба, о лекарском искусстве, о повадках животных, о свойствах растений. Кроме того, Неферкептах часто занимался с сыном наедине, должно быть, преподавал ему магию и открывал тайны мироздания. Спустя какое-то время я понял, что Ми гораздо способнее меня. Он все усваивал легко, словно играючи. Ему в голову не приходило кичиться своими способностями, гордиться своими обширными познаниями. Он оставался добрым, веселым. Когда мы выросли, он полюбил пирушки, прогулки по реке в нарядно украшенной ладье, музыку, песни и танцы. Он легко и ритмично двигался, прекрасно играл на арфе, складывал песни, рисовал и даже, как вы знаете, усовершенствовал иероглифы, изобрел свою письменность-шифр. Но всем этим своим дарованиям он, казалось, не придавал никакого значения, не делал на них ставку, они были всего лишь частицей его гармоничного существа, стремившегося насладиться жизнью, никому не причиняя зла.
Мы подолгу и о многом беседовали с Ми и каждодневное наше общение не надоедало нам. Когда нам случалось разлучиться, мы принимались отыскивать друг друг…. Когда мне случалось увидеть, подумать или почувствовать что-нибудь интересное, мне сразу же хотелось поделиться с моим другом, полагаю, и ему также.
— Вот так и мы дружим с братом, — тихо сказал Йенхаров и с улыбкой посмотрел на Бату.
Бата дружелюбно улыбнулся ему в ответ и продолжил свой рассказ.
— Впрочем, надо сказать, я чуть ли не с самого начала нашей дружбы испытал чувство вины. Вы спросите, отчего. Была у меня одна тайна, которую я не смел открыть другу.
Еще девятилетним мальчиком, бродя по саду, я услышал пение, хлопки в ладоши, звонкий смех. Это были маленькие девочки, также дочери слуги придворных. Обычно мальчики и девочки не играют вместе, и я хотел было убежать, но почему-то остановился, спрятался в кустах и стал смотреть. Девочки стояли кружком, а одна из них, маленькая совсем, лет шести, танцевала посреди хоровода подружек. Она была одета почти как взрослая, в светлом обтягивающем тонкую фигурку, длинном платье; четыре яркие черные косички вились в такт ее легким движениям, к каждой из них она привязала маленький пестрый деревянный шарик. Девочка прыгала, кружилась, удерживая в длинных тонких пальцах своей худенькой руки маленькое бронзовое зеркало. Ее подруги пели песню о Хатхор, богине всех наслаждений. Такую неизбывную мягкую нежность выражало светлое лицо этой маленькой девочки, так чудесно сияли большие карие глаза, такие темные, что казались совсем черными в тени тонких загнутых ресниц и густых черных бровей. На кончике правой бровки я разглядел крохотную родинку и почему-то это странно растрогало меня. Я почувствовал, что слезы вот-вот навернутся на глаза, встревожился, смутился и убежал незамеченный.
И почему-то я сразу, почти бессознательно стал опасаться, что Ми тоже увидит эту девочку. И Ми, конечно, видел ее и видел не один раз, но я понял и почувствовал, что он даже не выделяет ее среди других девочек, игравших в саду. И я этому радовался. Но всякий раз, когда она случайно попадалась на глаза моему другу, я тревожился и думал, что он может полюбить ее, как полюбил ее я. А я уже знал, что люблю ее. Человек — существо противоречивое — это простая и банальная истина. Порою я даже огорчался тем, что Ми не обращает внимания на избранницу моего сердца. Как может он, наделенный столькими дарованиями и тонкостью чувств, не замечать ее?
Имя девочки было Ахура. В ведении ее отца находились дворцовые ладьи и съестные припасы. Этот плотный, черноволосый и смуглый человек любил веселье и красивых женщин. В нежных чертах его дочери порою проступало сходство с его крупными грубоватыми чертами. И чем старше делалась Ахура, тем больше походила на отца сильной страстностью, которая смягчалась и сдерживалась присущей этой девочке нежностью. Когда Ми увлекся прогулками по реке, нам частенько приходилось иметь дело с отцом Ахуры и мне всегда приятно было видеть его из-за его сходства с дочерью.
Прошло время. Мне исполнилось семнадцать лет, Ми — шестнадцать, Ахуре — четырнадцать. Мне уже приходилось разговаривать с ней и даже участвовать вместе в дворцовых пирах. Я почувствовал некую странную глубину ее души. Какие-то непонятные мне, смутные, и ей самой, быть может, неясные стремления таились в душе этой девочки. Несмотря на явные красоту и очарование, в ней ощущалась неуверенность в себе. Должно быть, именно эта неуверенность заставляла ее первой предлагать себя юношам. Она, кажется, всерьез полагала, что ее никто никогда не полюбит. Так она объяснилась в любви одному из наших приятелей, совершенно незначительному и заурядному человеку. Я узнал об этом от него самого. На ее нежные слова он ответил презрением. Он не понял, почему она, такая прелестная, объясняется ему в любви, и решил, что это признак испорченности, порочности. Но обмануть эту девочку, воспользоваться ее слабостью и доверчивостью он тоже не пожелал; впрочем, не потому что был благороден, а потому что боялся, вдруг отец ее и братья обо всем узнают и отомстят ему. Случайно он выбрал меня своим доверенным. Слушая его рассказ, я едва сдерживался, чтобы не заплакать и не избить его. Я понял, как она страдает в одиночестве, не находя, на кого излить переполняющие ее милую душу чувства, как она ждет человека, который бы ответил на ее любовь, и с каждым днем утрачивает веру в себя. И я твердо решился открыться ей. Пусть она отвергнет меня, но она должна понять, что достойна любви, достойна того, чтобы ее домогались, умоляли на коленях.
Тяжело вспоминать о пережитых счастливых днях. Поэтому я не буду говорить подробно. Скажу только, что Ахура не отвергла мою любовь. Более того, она была преисполнена такой благодарности ко мне. Я убеждал ее, что ей нет равных, но она лишь качала милой своей черноволосой головкой и смотрела на меня с неизбывной нежностью. Она доверчиво и безоглядно отдалась мне, она щедро вознаградила меня за ту любовь, что я принес к ее ногам. До нее я не знал женщины, а она не знала мужчины.
Я перестал опасаться Марйеба, я доверился ему и он был рад за меня. Он предложил мне обо всем рассказать своему отцу Неферкептаху, правителю острова, чтобы тот стал моим сватом. Мы с Марйебом так и сделали. Неферкептах сам попросил у отца Ахуры руки его дочери для меня. Семья Ахуры охотно согласилась породниться с моей семьей, мы были люди примерно одинакового достатка и во дворце не последние, хоть и не принадлежали к числу ближних советников правителя. Отец Ахуры собирался дать за ней богатое приданое. Свадьбу решили сыграть после моего возвращения.
Вы знаете, что женой Неферкептаха и матерью Марйеба была арфистка, изображенная на одной из стен древней гробницы. Она не походила на женщин Египта. Лицо у нее было светлее наших лиц, и волосы светлые и вьющиеся, и глаза не темные, а зеленоватые. Ми во многом был похож на нее. Она часто рассказывала ему о своей родине далеко за морями. Там, в греческих землях она родилась, а в Египет ее привез как рабыню торговец, мать продала ее в неурожайную осень. Но по происхождению они были не греки, а тракийцы. И вот Марйеб решил отправиться в путешествие за моря, увидеть родину матери, поучиться у тамошних жрецов. Но тут имелось одно препятствие. Никто из оживших изображений со стен гробницы и никто из их потомков не мог покинуть остров. К нам приплывало много кораблей, но те из нас, которые намеревались покинуть остров не могли подняться ни на один корабль. Словно какая-то сила невидимая и неведомая удерживала их. Какая-то воздушная неодолимая преграда. Зато разные другие люди часто селились на нашем острове, иной раз покидали его навсегда, иной раз возвращались. Если эти люди вступали в брак в кем-нибудь из оживших изображений или их детей и внуков, то потомство подобных супружеских пар уже могло свободно оставлять остров. Неферкептах полагал, что все его подданные должны пользоваться равной свободой. Он часто молил богов о том, чтобы ожившим изображениям и их потомкам была дарована эта возможность покидать остров, если они того пожелают, но боги оставались глухи к его мольбам. Тогда он понял, что есть в мире многое, желанное человеку, но невозможное к исполнению. И он попросил у богов прощения и перестал им докучать этой просьбой.
Значит и Марйеб не мог отплыть с нашего острова, он мог позволить себе лишь прогулку по реке вокруг острова.
— Но мы все равно поплывем, Бата, друг мой, — уверял он меня.
— Как же это произойдет? — спрашивал я.
— Увидишь.
Однажды, войдя в его покои, я нашел его в отдаленной комнате, служившей ему мастерской. А я забыл вам сказать, что в числе дарований Ми было и умение мастерить из дерева, камня и глины затейливые фигурки, модели кораблей, он изобрел также специальные блоки для подъема воды из колодца при поливе садов и огородов. Видел я на его столе и чертежи разных приспособлений для лучшей оснастки кораблей, для постройки домов и гробниц. Прежде зерно, очищенное от сора, ссыпали в каменную ступу, и двое-трое здоровых парней толкли его тяжелыми пестами длиной в два локтя. Думаю, у вас и до сих пор так размалывают зерно. Марйеб изготовил ступу, снабженную особыми прочными кожаными ремнями, крепившимися к пестам, с помощью рычагов песты приводились в движение, это облегчало работу мукомолов.
— А странно, что это изобретение не употребительно, — заметил Йенхаров.
— Думаю, неупотребительно все, что приходит к людям раньше положенного времени, — задумчиво сказал Сет Хамвес.
— И вот, войдя в мастерскую Ми, я увидел, что он занят раскраской деревянного корабля. Корабль был вырезан очень тщательно, со всеми снастями, с фигурками гребцов на веслах; он был совсем небольшой, его легко можно было удержать на раскрытой ладони. Ми услышал мои шаги и радостно поднялся навстречу мне.
— Посмотри, Бата, на этом корабле мы и поплывем.
Я смутился, и сейчас скажу, почему. Но Марйеб иначе истолковал мое смущение.
— Прости, я совсем забыл о твоей любви. Ты, конечно, не хочешь расставаться с Ахурой.
— Нет, нет, — прервал я его, — дело не в том.
Я решил быть откровенным.
— Если ты намереваешься увеличить и оживить этот корабль при помощи магии, уверен ли ты, что тебе окажут покровительство боги, а не злые духи?
— Вот и отец то же самое говорил мне. Но я успокою вас обоих. Сегодня ночью мы пойдем в храм Нуна, бога предвечного океана, и вы увидите, знамение покажет, что боги благосклонны к моему кораблю.
Ночью мы втроем отправились в храм Нуна. В храме было пусто, темно и тихо. Марйеб зажег светильник, принесенный мною. Слабый свет озарил внутренность величественного храма. Неферкептах, отец Марйеба, правитель нашего острова, грустно улыбался. Я чувствовал, что ему не хотелось идти. Но он очень любил своего единственного сына и ни в чем не мог отказать ему. Ми пошел к алтарю, держа свой кораблик на раскрытой ладони, возложил кораблик на алтарь и возвратился к нам. Пока он шел, его отец что-то шептал. Было очень тихо и я стоял близко. Я прислушался и понял, что Неферкептах, наш Чародей, просит богов пощадить и простить его сына, такого еще юного и ребячливого.
Кораблик стоял на алтаре, освещаемом тусклым светом небольшого светильника. Ничего не происходило. Никакого знамения боги не подали. Мы прождали довольно долго.
— Пойдем, — наконец ласково сказал Неферкептах, положив руку сыну на плечо. — Возьми свой корабль и пойдем.
— Но, отец, — принялся горячо умолять Ми, — разве это молчание не должно означать, что боги согласны? Позволь мне попробовать подняться на мой корабль. Если я не смогу взойти на палубу, я буду знать, что боги не дают согласия на мое путешествие.
— Идем, идем, — тихо и ласково повторял Неферкептах.
И мы ушли из храма. Но на следующий день Ми возобновил свои отчаянные просьбы и в конце концов отец позволил ему сделать попытку.
— Ты будешь со мной, Бата? — спросил меня мой друг.
— Я должен посоветоваться с Ахурой, — откровенно ответил я. — Она скоро станет моей женой и я не хочу принимать один такое важное для меня и для нее решение.
— Я буду ждать, что вы решите.
Когда я обо всем рассказал Ахуре, она задумалась. Ей не хотелось расставаться со мной, но не хотелось и стеснять меня. Она позволила мне сопровождать Марйеба, но попросила, чтобы свадьба была сыграна перед отплытием.
— Я хочу стать твоей настоящей женой и ждать тебя, как жена ждет мужа.
Мне очень не хотелось оставлять Ахуру, но в то же время я представлял себе, как увижу столько нового, какие привезу ей подарки. Но я подумал, что пробуду в пути, наверное, не меньше года.
— Я не хочу, Ахура, сковывать тебя брачными клятвами. Будь свободна. И если, когда я возвращусь, ты все еще будешь любить меня, мы станем мужем и женой.
Она немного поспорила со мной, но после согласилась, хотя одна только мысль о том, что она может разлюбить меня, сердила мою девочку. Она стала расспрашивать о Ми. Прежде она совсем не интересовалась им, но ведь путешествие затеял он, и ей захотелось узнать о моем друге подробнее. Я с восторгом описал ей разнообразные его дарования, его доброту и веселый нрав.
На рассвете мы пришли к тихой отдаленной гавани. Марйеба сопровождал его отец, со мной были Ахура, ее отец и братья. Марйеб вошел в воду, неся на ладони свой кораблик, и бережно опустил его. Легкая деревянная игрушка покачивалась в спокойной воде. Марйеб вернулся на берег, распрямился, чуть запрокинул голову и закрыл глаза. Неферкептах с тревогой следил за сыном. Чувствовалось, что нашему Ми нелегко дается то состояние напряженной сосредоточенности, в которое он стремился себя привести. Веки его сильно сжались, губы дрогнули и приоткрылись, лицо на миг исказилось гримасой боли. Ахура смотрела на него, широко раскрыв глаза, на лице ее выражалось нежное сочувствие. Неферкептах прижал ладонь к сердцу, видно было, что боль, испытываемую сыном, он переживает, как свою собственную боль. Я ждал и сам не мог понять, чего же я хочу — уплыть на корабле с Марйебом или остаться на острове с Ахурой.
Но вот воздух перед нами заколебался, как это бывает, когда смотришь сквозь подымающийся от кипящей воды пар. В колеблющемся воздухе корабль медленно начал увеличиваться. Затем быстрее, быстрее. Колебание воздуха прекратилось. Перед нами на воде замер большой красивый корабль, оснащенный и снабженный всем необходимым для дальнего плавания. Стройные смуглые гребцы спокойно и сосредоточенно ждали у весел. При общем молчании Марйеб протянул мне руку. Мы взялись за руки и ступили в воду. Беспрепятственно мы приблизились к нашему кораблю. Тотчас же спустилась веревочная лестница и мы по ней взобрались на палубу.
— Отец, не печалься, боги благосклонны. Я вернусь к тебе и к матери, к нашему острову я вернусь! — закричал Ми.
— Я возвращусь, Ахура, дождись меня! — крикнул я.
Ахура подняла к небу свои тонкие руки, моля о благословении. Гребцы налегли на весла. Корабль понесся стрелой и вскоре мы были уже далеко от берега.
Глава тридцатая Атина
На корабле не было кормчего, одни лишь молчаливые гребцы.
— Но как же мы определим направление нашего пути? — засомневался я.
— Корабль все знает и плывет, куда нам нужно, — улыбнулся Марйеб.
И вправду путешествие наше было на удивление приятным и безопасным. Мы плыли при чудесной погоде. Высокое ясное светлое небо гляделось в синюю прозрачную воду. Мы любовались морем. Корабль двигался быстро и легко. И уже через несколько дней мы встали на якорь в гавани у незнакомого берега. Здесь было совсем пустынно, никаких кораблей не было. Берег оказался каменистым, но вдали виднелась рощица невысоких деревьев.
— Это оливковые деревца, мать мне рассказывала о них, — сказал Марйеб, вглядываясь вдаль. — Из их плодов получают вкусное оливковое масло. Хорошо бы их выращивать и на нашем острове. Но подойдет ли им наш климат?
Я не ответил, оглядываясь по сторонам. Мне нравилась эта местность. Но я сразу предположил, что люди здесь не такие, как мы: не отличаются такой глубиной и стойкостью чувств. Впрочем это постыдно: думать так о людях, которых ты не знаешь.
Мы сошли в воду и по мелководью вышли на берег. Мы не были голодны, у нас на корабле все было. Мы не нуждались в отдыхе, потому что не успели устать.
— Как ты думаешь, — спросил меня Ми, — явиться нам к местным жителям пышно, со множеством слуг, или скромно, вдвоем?
— А откуда возьмется множество слуг? — в свою очередь поинтересовался я.
— Вот они, — Ми указал на гребцов.
— Давай покамест просто прогуляемся по берегу, а там решим, что делать дальше, — предложил я.
Мы направились к оливковой роще. Но вступить в нее так и не успели, потому что увидели людей, местных жителей. Это были — жилистый мужчина в короткой рубахе, в плаще и широкополой шляпе, и юная девушка, ровесница Ахуры, должно быть. Они возвращались со сбора оливок. Мужчина нес две полные корзины и, вероятно, собирался навьючить их на смирную лошадь, которая пощипывала чахлую траву, привязанная к невысокому каменному столбику, увенчанному мужской головой, видно, это было изображение какого-то местного божества. Девушка одета была в голубое складчатое платье, подпоясанное высоко под грудью, светлые мягкие волосы собраны на затылке в тяжелый узел. Брови у нее были темные, и глаза тоже темные и очень живые. Она, явно, делала вид, будто не замечает нас, а сама хотела, чтобы мы хорошо разглядели, какая она миловидная. Но вот нас заметил ее отец. Тогда она вскрикнула, притворяясь испуганной, схватила с земли покрывало шафранового цвета и поспешно закутала голову и обнаженные руки.
Мужчина обратился к нам на незнакомом языке. Я не понял, но Марйеб, которого отец многому обучил, ответил местному жителю. Позднее Марйеб сказал мне, что этот язык сильно отличался от родного языка его матери. Но в этом не было ничего удивительного, ведь прошло несколько веков. Отец девушки, разумеется, спрашивал, кто мы. Марйеб ответил, что мы чужеземцы, что мать его была родом откуда-то из этих земель, и он хотел бы увидеть родину своей матери. Мужчина, в свою очередь, рассказал о себе. Увидев нашу богатую одежду и украшения и узнав, что прекрасный корабль принадлежит Марйебу, он стал обращаться с нами очень почтительно. Его звали Филиппосом. Здесь, на этом берегу, он владел небольшим земельным наделом. Но был он горожанином, а не деревенским жителем. Филиппос указал вдаль, на холмы. Там теснились вокруг храма, украшенного наружной колоннадой, городские постройки. Филиппос сказал, что храм этот воздвигнут в честь местной могучей богини по имени Атина. Так же называется город, где они живут, и дочь Филиппоса тоже зовут Атиной. Сам Филиппос — гончар, изготовляет глиняную посуду и потому поселился в квартале гончаров под названием Керамик. Он человек небогатый, но он свободный гражданин города Атина. Пусть у него и немного имущества, зато его дочь очень умная и способная девушка, старая жрица богини приблизила его дочь и посвящает в тайны магического искусства прорицания. При этих словах девушка быстро глянула на Марйеба своими озорными живыми глазами. Ми поймал ее взгляд и скорчил забавную гримасу. Девушка снова закрылась покрывалом и видно было, что она едва сдерживает смех.
Мы поблагодарили разговорчивого Филиппоса. Он объяснил нам, что подальше расположена гавань, где причаливают корабли, и оттуда недалеко до города.
— Сейчас мы поплывем туда, — сказал Марйеб, — а остановиться мы хотим у тебя, Филиппос, если ты, конечно, не воспротивишься нашему желанию.
— Но мой дом беден и тесен, — замялся смущенный Филиппос, — не знаю, понравится ли у меня богатым чужеземцам.
— Не тревожься, Филиппос, — заговорил Марйеб с внезапной величественностью, — и прими пока вот этот скромный подарок.
Марйеб снял с себя золотое ожерелье с застежкой в виде скарабея — священного жука, выточенной из лазурита, и подал Филиппосу. Я заметил, каким восхищением вспыхнули глаза девушки.
Мы доплыли до гавани, где наш прекрасно оснащенный корабль очень всем понравился. Нескольких вооруженных гребцов мы оставили стеречь корабль, вставший на якорь, остальные гребцы, нарядно одетые, сопровождали нас. Мы не боялись, что наши гребцы совершат что-нибудь дурное, поссорятся с кем-нибудь из местных жителей, ведь гребцы наши были деревянными послушными фигурками, оживленными силой магии. Весь город сбежался на нас смотреть, когда пышной процессией мы прошествовали в Керамик — квартал гончаров и отыскали бедный дом Филиппоса. Наши слуги несли подарки для хозяина и его дочери и все необходимое для нас самих. Дом и вправду оказался мал и тесен, но двор при нем был довольно широк. Во дворе слуги разбили для нас широкую палатку из красивой прочной ткани.
Свободный гражданин Филиппос почтительно кланялся нам, а дочь его не сводила с Марйеба глаз, так и горевших восхищением.
Не знаю, как выглядит этот город сейчас, но в наше время Атина была бедным маленьким городком. В сравнении с великолепием острова, прозванного Домом Чародея, этот городок казался просто жалким и нищим. Управлялся город Атина не царем, не фараоном или правителем, которому власть даруют боги, но выборными лицами, которых взрослые мужчины периодически избирают или смещают нестройными криками, зовущимися у них голосованием. Собравшись на площади под названием Агора, мужчины — горожане принимаются громко кричать, вскидывая кверху руки. При таких условиях правят городом, разумеется, люди безумно тщеславные и властолюбивые. Тогдашний выборный правитель пожелал познакомиться с Марйебом. Это оказался нестарый еще человек с короткими кудрявыми волосами и кудрявой же короткой бородой. Он много рассуждал о благе свободных горожан и вообще о свободе. Тем не менее, в городе были рабы и неполноправные граждане. Вероятно, их не касались проблемы свободы. У нас на острове не было рабов и никто не рассуждал о свободе. Как звали этого поборника народных благ и свобод я не запомнил.
Мы побывали на холме, где были воздвигнуты храмы греков. Холм назывался Акрополь, а главный храм — Партенион, от слова «партенис» — «дева». Греки поклонялись девственной богине Атине. Они изображали ее в виде рослой девушки в шлеме и с копьем в руке. Статуи их были грубоваты и далеко не так красивы, как египетские. На том же холме мы посетили и другие храмы. Греки, как и мы, поклонялись многим богам. Нас учили с детства, что и чужих богов надо чтить, потому мы поклонились греческим богам и сделали подношения храмам.
Марйеб побеседовал с местными жрецами, в том числе и с той жрицей, у которой училась искусству прорицания дочь Филиппоса. Кое-что они, конечно, знали, но познания их были грубы, скудны и обрывочны. Марйеб мог бы их поучить, но не стал этого делать.
Мы много бродили по окрестностям и даже охотились на кабанов. Такого изобилия растений, как у нас, здесь не было, но все же в здешней природе было свое обаяние, она словно бы призывала человека: «Трудись, украшай меня, возделывай».
Можно было бы уже пуститься в обратный путь. Но мой друг медлил. И причиной тому была дочь гончара Филиппоса — Атина. Как я уже сказал, одна из скучных истин заключается в том, что человек — существо противоречивое. Наделенный многими дарованиями Марйеб сосредоточен был только на удовлетворении своих прихотей. Порою, как в случае с его изобретениями, это приносило пользу окружающим, но чаще всего, конечно, нет. Единственно к чему стремился Марйеб в своей жизни, это получить удовольствие. Думаю, таким он и остался. Впрочем, возможно, я ошибаюсь. Дальше вы увидите, что у меня есть причины быть пристрастным и несправедливым по отношению к моему другу и господину.
Я считал, что нам следует продолжить путешествие, посмотреть острова, но Ми увлекся дочерью гончара и желал оставаться в городе. Отец девушки знал о ее связи с чужеземцем, но предпочитал смотреть на это сквозь пальцы. Марйеб устраивал дорогостоящие пирушки и прогулки по морю. Самолюбивая Атина уже видела себя женой богатого и знатного юноши. Ми много рассказывал ей о нашем острове, о своем отце, и она возмечтала о том, чтобы покинуть родной город, где была всего лишь дочерью бедного гончара, и сделаться в дальнейшем правительницей чудесного острова.
Но Марйеб вовсе не собирался исполнять ее мечты. Он признался мне, что Атина слишком необузданна и нетерпелива, да и не хочется ему жениться на ней. Я знал, что прежде, у нас на острове, Ми уже вступал несколько раз в любовную связь с замужними женщинами, но никто при этом не пострадал, ни он сам, ни его возлюбленные. Но теперь то, что он сделал, не могло назваться иначе, кроме как соблазнением девушки, и еще в чужом городе. Ми уверял меня, что Атина отдалась ему, уже не будучи девственницей, но я возражал, что он этого никому не докажет, и кто знает, какое наказание нас ожидает, если девушка поймет, что у Марйеба нет никаких серьезных намерений, и натравит на нас отца, а тот, в свою очередь, пожалуется властям. Кончилось все тем, что Марйеб просто спросил меня, что же ему делать. И я ответил, что нам остается лишь одно: тайно покинуть город.
Я спал в шатре, когда Марйеб разбудил меня и велел идти за ним.
— Ты не боишься, что нас заметят? — шепотом спросил я.
— Мы невидимы, — спокойно отвечал Ми.
Он небрежно махнул рукой. Я даже не успел заметить, как исчез наш роскошный шатер. Не таясь, мы прошли по ночным пустым улицам города. Вдруг Марйеб резко крутанулся на одной ноге, на пятке, широко раскинув руки. Я почувствовал, что теряю сознание от головокружения. Это состояние длилось лишь миг. Очнулся я на палубе нашего корабля. Тотчас гребцы налегли на весла, и вскоре корабль уже несся среди бескрайних легких волн, далеко от берегов.
Не стану лгать, будто Ми сразу же забыл о девушке или считал, будто не совершил ничего дурного. Напротив, он часто вспоминал о ней и стремился оправдать себя, говоря, что с такой необузданной и нетерпеливой женой он никогда не мог бы сладить. Я отделывался короткими фразами, выражая свое согласие. В конце концов он сказал, что был бы счастлив узнать, что Атина вышла замуж. Но, на мой взгляд, случилось то, что случилось, и теперь он мог как угодно оценивать свой поступок, ничего уже не могло измениться.
Мы продолжали наше плавание, посетили разные острова, побывали в государстве спартиатов и на большом острове под названием Крит. Но об этом я сейчас рассказывать не буду, иначе никогда не кончу.
— А жаль, что мы об этом не услышим, — грустно заметил Йенхаров. — Разве что сами когда-нибудь побываем там.
— Может быть, и побываете, — Бата усмехнулся. — Вы живые, вам путь не заказан, — он вздохнул и продолжил, — я помню, как мы плыли домой. Наш корабль замедлил ход и величественно бороздил воды Нила. Оба мы необычайно обрадовались, увидев родной остров. Мы едва успели сойти на берег, а наши родные уже узнали о нашем возвращении и собрались на берегу. Родители обнимали нас. Помню, что пришел и отец Ахуры. Он сказал, что моя невеста ждет меня и что вечером он устраивает пир в честь моего благополучного возвращения. Затем должен был последовать еще более роскошный пир во дворце Неферкептаха, отца Марйеба. Почему-то я с тревогой ожидал встречи с Ахурой. Я даже не запомнил, когда Марйеб снова превратил большой корабль в маленькую игрушку. Но он это сделал.
В доме отца Ахуры царила предпраздничная суматоха. Забили быка. Готовили жаркое, тушеное мясо, всевозможные соусы. На вертелах жарили гусей. Теснились кувшины с вином и пивом. Стояли корзины, полные ароматными плодами. В сосудах из пористой глины охлаждалась вода. Слуги доставали из шкафов золотые и серебряные кубки, алебастровые вазы, глиняную расписную посуду. В комнатах чистили, мыли, натирали мебель особым составом, чтобы придать дереву блеск. В саду подметали аллеи. Кто-то звал хозяина — пришли музыканты и надо было распорядиться о том, чтобы накормить их.
Но во всей этой веселой суете я ощущал нечто гнетущее. И не мог понять, почему. Я сидел в комнате Ахуры, рассказывал ей о диковинках греческой земли. Я привез в подарок ей выделываемые там ткани и украшения. Но оба мы ощущали какую-то необъяснимую скованность. «Должно быть, мы просто немного отвыкли друг от друга», — пытался я успокоить себя. Я чувствовал, что и Ахура пытается найти объяснение и пробует успокоить себя, придумывая разные обыденные причины.
На пиру было шумно и весело, звучали арфы, цитры, барабаны и флейты. Девушки танцевали. И Ахура танцевала…
То, что случилось дальше, я помню отрывочно. Хорошо помню, как Ми смотрел на Ахуру. Лицо его сделалось ребячески-нежным и трогательным… Дальше…
Я помню, как я говорил с Ахурой наедине, в ее комнате. Она была такой искренне огорченной, нежной и порывистой. Она просила у меня прощения за то, что не может стать моей женой. Я ощутил в ней какую-то странную решимость, твердость и замкнутость. Прежде она такой не была. О своих чувствах к Ми она ничего не говорила. Я чувствовал свою мучительную скованность. Мне казалось, что тело мое и душа почти окаменели. Я ронял короткие фразы, говорил Ахуре, что я не держу на нее зла. После со мной долго и сумбурно говорил Ми. Он был мягок и тоже просил прощения. И его я уверял все теми же короткими фразами, что не держу на него зла и по-прежнему остаюсь его другом и слугой.
Помню шумную веселую свадебную процессию, из дома отца Ахуры ее приданое переносили во дворец. Неферкептах отвел молодой чете прекрасные, заново отделанные покои…
Я предупредил родителей через одного из слуг и отправился в противоположный конец острова, в дальнее наше поместье. Я поехал верхом, хотя верхом у нас ездили редко, предпочитали впрягать лошадей в колесницы.
— И теперь так, — вставил Йенхаров.
— Долго я прожил в одиночестве. Меня охватило какое-то безразличие, равнодушие ко всему. Я ел, спал, бродил по окрестностям, но не хотел видеть ни друзей, ни близких. В доме жили только двое слуг — пожилые супруги. Они были молчаливы и не стесняли меня.
Однажды, когда я вернулся с прогулки, слуга сказал, что меня ждет гость. Я подумал, что это кто-то из моих друзей и подосадовал. Мне вовсе не хотелось выслушивать утешения и сожаления. Но едва я вошел в комнату, как навстречу мне с циновки поднялся Ми. Он обычно не любил сидеть на полу, садился на стул, но сейчас он, должно быть, желал выглядеть смиренным, кротким. Я почти с ужасом подумал, что он снова начнет оправдываться или заговорит об Ахуре. Но он, стоя, спросил о моем здоровье, о том, охочусь ли я. Я ответил, что здоров, но пока как-то не думал о том, чтобы поохотиться на болотах на диких уток. Марйеб сказал еще что-то о наших общих приятелях. Мы пообедали вместе. Затем снова уселись в комнате на циновках. Я велел слуге принести пиво. Я отхлебнул из чашки, но заметил, что Ми не пьет.
— Бата, — произнес он с этой надрывающей мое сердце беззащитностью, — такого друга, как ты, у меня не будет никогда.
Кажется, я был тронут, но мое состояние безразличия не прошло.
— Ты знаешь, что я остаюсь твоим другом и слугой, — ответил я.
— Ты меня не прощаешь, — в голосе его слышались кротость и обреченность.
— Ты не виноват передо мной и не будем говорить об этом, — я чувствовал, что отвечаю коротко и равнодушно.
Он посмотрел на меня жалобно и испытующе, помолчал немного, после сказал:
— Бата, приплыл корабль из Греции, — он сделал паузу. Должно быть, ожидал какой-нибудь обычной реплики, вроде: «И что же?». Он не мог сказать все сразу, ему надо было, чтобы я прерывал его, показывал, как интересуют меня его слова. Но я ничем не заполнил короткую паузу, и он заговорил дальше.
— Мне передали несколько писем от Атины, — он снова замолчал.
На этот раз я пожалел его и бросил фразу:
— Я не знал, что она умеет писать.
Получилось как-то резко, жестко. Я увидел, что Ми смотрит на меня даже испуганно. Неужели я так изменился? Я сделал над собой усилие и спросил:
— Греки угрожали тебе? Что-то случилось?
— Нет. Я прочел эти письма. Я думаю, что теперь я проклят.
— Но почему же? — я попытался утешить его. — Если даже девушка и проклинает тебя, это проклятие легко снимет любой наш жрец. Да и ты сам… Но я не верю, чтобы она проклинала тебя.
— Ты прав, Бата. Она не проклинает меня. Но она все еще любит меня. Это ее чувство любви существует и будит силы, направленные против меня, — он вздрогнул. — И против тех, кого я люблю.
Я понял, что он имеет в виду прежде всего Ахуру.
— Что значит чувство? — заговорил я. — Мы испытываем множество чувств, порою противоречивых. Чувства исчезают без следа.
— Ты сам не веришь своим словам, Бата. Я знаю, что чувство Атины сильное и цельное чувство, и если она не разлюбит меня, это чувство будет существовать и причинять мне зло. Оно будет существовать даже когда Атины уже не будет в живых…
— Но я уверен, она разлюбит тебя, — прервал я Марйеба, она молода…
— Нет, — он покачал головой. — Этого уже не случится. Не случится, потому что ее больше нет в живых. Она умерла от какой-то заразной лихорадки. Многие жители города умерли. И она. Теперь я обречен.
Я вспомнил ярко Атину, ее светлые волосы, собранные узлом на затылке, ее живые темные глаза под темными бровями. Это была не грусть, а какое-то странное изумление, что вот, мертва такая живая юная девушка.
— Ты сказал?.. — я не хотел произносить имя Ахуры.
— Да, я ей все рассказал, — поспешно ответил он.
— А она?
— Говорит, что мы должны молиться об успокоении души Атины.
— Думаю, это так и должно быть.
Глава тридцать первая Письма
Пауль ощутил, что его сознание свободно от сознания Сета Хамвеса. Это уже воспринималось как неудобство, как нечто непривычное. Была какая-то пустота. Ни одной мысли, ни тени чувства, не на чем сосредоточиться, не на что опереться. Пауль ощутил себя блуждающим в этой пустоте.
Нарастало раздражение. Ему вновь хотелось стать Сетом Хамвесом.
Но вдруг пустота заполнилась. Пауль ожидал каких-то египетских картин, ведь это было то, чем он теперь жил. Но вместо этого увидел себя в полутемной комнате на застланной постели. Он лежал одетый и бережно обнимал незнакомую девушку. Кажется, она плакала. Юбка на ней была короткая, виднелись длинные ноги в чулках телесного цвета, очень тонких. Но лицо Пауль не мог разглядеть. Зато он видел свое лицо, выражение предельной нежности делало его немного комичным и похожим на лицо Марйеба.
Темноту прорезал яркий дневной свет. Девушка сидела на зеленой поляне светлым полднем. Она обхватила руками приподнятые колени, блузка на ней была светлая.
Теперь он узнал эту девушку. Светлые волосы забраны в тяжелый узел на затылке, глаза темные, очень живые под темными бровями. Такое лицо по описанию Баты имела Атина, греческая возлюбленная Марйеба.
Видение исчезло. Теперь в полутьме перед глазами Пауля начали высвечиваться исписанные крупным округлым почерком бумажные листки. Почерк был девичий, убористый почерк девушки, самолюбивой, нетерпеливой, немного самоуверенной. Письма написаны были на каком-то славянском языке. На чешском? Или на польском? Какой это язык, Пауль не знал, но сейчас, читая эти письма, понимал этот язык. Значит, ему предстояло этот язык выучить? Кто была эта девушка? В письмах она называла его на славянский лад — «Павел»…
«Привет, симпатяга!
Настроение ужасное! До полудня проторчала у зубного. Видела Даниэлу, она передает тебе привет. Спасибо за лекарства и открытку. Отец Милены считает, что наш переезд все-таки состоится. Представляю себе всю эту суету! А вообще-то у нас ничего интересного не происходит. Все интересное у тебя, в сказочном Нью-Йорке…»
(Пауль не удивился тому, что окажется в Нью-Йорке, хотя вовсе и не собирался в Америку; он почувствовал, как скривились губы в грустной саркастической усмешке. Нью-Йорк отнюдь не виделся ему «сказочным»; наоборот, в этом городе ему было неуютно, одиноко. Суть отчаянного положения заключалась в том, что с одной стороны надвигалась угроза физической гибели; и, кажется, именно от этой угрозы он и спасался; с другой стороны терзала безысходность. Сунув руки в карманы темного пальто, он остановился на узкой улочке возле переполненного мусорного ящика; улочку стискивали дома с маленькими магазинчиками внизу, вывески были на английском и на идиш древнееврейскими буквами. Это и был Нью-Йорк. И еще Пауль понял, что хотя он и старше этой девушки, она привыкла воспринимать его не как взрослого мужчину-покровителя, но почти как своего сверстника. Впрочем, это было ему даже приятно…)
«Я без конца сижу за книгами, папа грозился, что спрячет все книги, но вынужден был смириться. Мама уселась вязать мне кофточку и заявила, что если мне непременно нужна шаль, то пусть я тоже сяду за спицы. Так что, как видишь, я поставлена перед сложной проблемой. Юлия становится все красивее; кажется, я всерьез начинаю гордиться своей очаровательной сестрой. Сегодня вечером она на вечеринке, у кого-то из своих одноклассников. По радио передают „Кукушку“, только что отзвучала „Рио-Рита“, а мне грустно без тебя. Как ты? Пишу и не знаю, прочтешь ли ты мое письмо? Чао!
Твоя А.».(Теперь Пауль знал, что он почувствует и подумает, прочитав это письмо. Он знал, что ему поспешный его отъезд в Америку увидится напрасным. Он подумает: а так ли уж реальна эта угроза физической гибели, от которой он так позорно-панически бежал? Быть может, опасность преувеличена?..)
«Здравствуй, Павел!
Как всегда остаюсь твоей неуравновешенной А. Не успела я немного успокоиться после всех хлопот переезда и примириться с тем, что еще неизвестно сколько придется оставаться здесь, как вновь хлынула волна противоречивых слухов и предположений. Это настоящий кошмар, и конца не предвидится. Мы с Миленой ничего не можем понять. Вчера на грузовике привезли семью ее тетки. Все так ужасно! Я не знаю, что и думать, а тем более, что делать. Но определенно: с прежней жизнью покончено. И во всем этом ужасе меня огорчает еще и то, что прежде я была для своих родных предметом гордости, теперь я — сплошное разочарование. Боюсь говорить с мамой, мне даже страшно посмотреть ей в глаза. Мне хочется спрятаться от всех, как улитке в ракушку, и молча прозябать. Я чувствую, что потеряла тебя. Наверное, я глупа и уж, конечно, ты с полным правом можешь теперь называть меня „неисправимой пессимисткой“. Нет, как это глупо с моей стороны: надеяться на возвращение прошлого. Каждую свою ошибку, всякий свой неверный шаг человек искупает страданием. Но что же я такого сделала и сколько можно страдать? Неимоверная глупость — жаловаться именно тебе, но мне ведь некому больше пожаловаться. Ты-то уж точно ни в чем не виноват, и это нечестно — мучить тебя. Но, Павел, все так жестоко! И я чувствую, что это еще не конец, что еще должно произойти что-то ужасное. Я должна с кем-то делиться всеми своими мыслями, а Даниэлы рядом нет, и не знаю, где она теперь. Прости! Хотела написать тебе веселое жизнерадостное письмо, но видишь… Мне очень трудно писать тебе, или, если точнее, мне страшно писать тебе. Есть ли хоть какой-то смысл в том, чтобы описывать тебе весь этот здешний кошмар? Нет, дело совсем не в этом! Просто оборвалась какая-то нить, которая прежде связывала нас, что-то изменилось навсегда и я не смею тебе писать, как писала прежде. В Берлине я полагала, что даже если ты оставишь меня, мы все равно будем переписываться, и, то что называется, останемся друзьями; теперь я вижу, что все не так, и я ничего не знаю, не понимаю. Мне очень тяжело, ведь с тобой связано почти все в моей „взрослой“ жизни. Боясь, что не выдержу. Прошу тебя, сделай что-нибудь, помоги мне вырваться отсюда. Или все иллюзорно и бессмысленно? Я прошу тебя об одном: найди время и не лишай меня последней надежды.
А.».(В сущности, помимо чувства вины перед этой девочкой, в жизни Пауля до Америки существовали еще и какие-то давно прервавшиеся, перегоревшие отношения с другой женщиной, матерью его сына. Сейчас Пауль не знал, что это были за отношения, но знал, что тогда, в Нью-Йорке, он будет их хорошо помнить и воспринимать как стыдные и мучительные. Но и это было еще не все. Он пытался понять: что же все-таки произошло? Может быть, и он и многие другие просто обрекли себя из пустого панического страха на прозябание в чужой стране? Лишиться родного языка! И при этом не иметь имени, которое открыло бы ему двери в редакции эмигрантских газет и крупных издательств…
«Беспардонная ложь, просто ложь, и статистика». К этой триаде Дизраэли Пауль тогда в Америке с удовольствием добавил бы четвертый пункт: «информация», то есть радио, газеты, слухи. Возможно, они содержали какую-то истину, но хищнически подхваченная крупными и мелкими амбициозными политиканами, сотни раз разыгранная примитивно, словно крапленая карта; эта истина уже не могла восприниматься в качестве истины. Да и была ли это истина? Для Пауля и многих других в то время вопрос будет формулироваться не настолько отвлеченно, но гораздо проще: действительно ли их друзьям и близким, оставшимся в Европе, грозит смертельная опасность?..)
«Привет, Павел!
Половина третьего ночи. Самое время для письма. Я одна. Милена недавно улеглась, но мне совсем не хочется спать. Мне страшно. Может быть, это и глупо, но мне все равно страшно. Очень холодно. Вчера я проснулась ночью и меня одолели мысли и воспоминания. Пишу при свече. Не знаю, о чем тебе написать. Хочу написать, и не знаю, о чем. Ах да, пресловутое бодрое письмо, которого ты, кажется, всегда ждал от меня, и уже, видимо, никогда не дождешься. А если бы я собралась с силами и написала такое письмо, разве ты поверил бы мне? Я давно поняла: смех ты предпочитаешь слезам, и постоянство — переменам. Хорошо, я попытаюсь. Хочешь? Помнишь, как ты весело называл меня „лентяйкой“ и шутливо упрекал за то, что я мало пишу… А я тогда писала тебе письма каждый день, в том самом злополучном блокноте. Но теперь ты уже никогда не увидишь этих писем, полных муки и отчаяния, у меня так и не хватило смелости отослать их тебе…
Я знаю, я должна написать, что все хорошо, что я спокойна. Но разве ты поверишь? Милене легче, она все рассказывает Марку, он тоже здесь и потому все понимает. Прости! Если бы я знала, где сейчас мама, отец, Даниэла, Юлия! Если бы я могла написать Даниэле! У меня никого не осталось, только ты. Но я давно уже стала бояться тебя. Не знаю, почему. Нет, знаю, конечно. Это очень просто: потому что ты не любишь меня больше. Или нет? Пишу и не знаю. Все так жестоко, так глупо, и ничего нельзя изменить. Конец всему!..
Но, милый, не могу! Чувствую, что пишу глупости, но не могу не писать! Столько всего накопилось! Дело вовсе не в том, что мы далеко друг от друга, просто я не могу превратиться в ту веселую и верную подругу, какая тебе нужна. Но тогда зачем? Зачем все? Объясни мне, если можешь. Неужели я пишу тебе только потому, что все еще жду от тебя помощи? Как это унизительно.
А.».(Сейчас Пауль не знал, как звучал голос этой девушки; он знал только, что тогда, в Нью-Йорке, он будет помнить ее голос, и голос этот будет звучать в его сознании, когда он будет читать ее письма. Он знал, что он их получит и прочтет, хотя и не знал, каким образом это произойдет…
На короткое время он ощутил дневной солнечный свет и тепло, и связанность своего сознания с мыслями и чувствами Сета Хамвеса. Раздался голос Баты:
— Я тщетно пытался вспомнить, как же все это произошло; как случилось, что Ахура оставила меня и стала женой Марйеба. Я и сейчас не могу вспомнить. Должно быть, они что-то нашли, что-то открыли друг в друге, и для них это было неизбывно-радостно. А для (ценя все это было так жестоко, так глупо, и ничего нельзя было изменить…
Пауль вздрогнул всем телом…)
«Здравствуй, Павел!
Миновала полночь, не спится. Что-то должно произойти, я уверена. Каждый день уходят поезда. Наверное, увезут и меня. Оттуда нельзя будет писать, я знаю. Надеюсь, у тебя в Нью-Йорке все хорошо; со мной, как видишь, совсем иначе. В душе пустота абсолютная, не живу, а существую. Со стороны, впрочем, незаметно. Болтаю со всеми, кто еще остался, даже смеюсь. А внутри пустота и боль. Реальны одни лишь воспоминания, и больно вспоминать. Сейчас сижу и плачу. Что еще мне остается… Даниэла, наверно, сумела бы меня утешить, сама я уже не могу ничего для себя сделать. Все это я пишу совсем не для того, чтобы ты жалел меня, а просто потому, что быть может, ты еще помнишь, как мы были вместе. Забудь! Найди новых друзей и забудь о прошлом! Ничего не повторяется и мне не на что надеяться. Я убеждаю себя, что все так и должно быть; внушаю себе, что я сама этого хотела. Кажется, уже и не осталось боли, одно отупение. Прошу тебя об одном: забудь. Помоги мне выбраться отсюда и забудь. Ты еще встретишь девушку, которая сделает тебя счастливым. Ты забудешь меня. Возможно, уже забыл Пора кончать, Павел! Я первая должна остановиться. Нет смысла! Все равно все идет к концу, и меня скоро увезут отсюда. Все имеет свое начало, кульминацию и конец. Наверное, в Нью-Йорке много красивых и умных женщин. Надеюсь все же, что безлично-покорные существа вряд ли заинтересуют тебя. Желаю тебе счастья и успехов. Оставь мне лишь слабую надежду на то, что много лет спустя ты все-таки вспомнишь обо мне.
А.».(Пауль пытался знать (да, не вспомнить, поскольку невозможно вспомнить будущее, но именно знать), делал ли он какие-либо попытки помочь девушке. И вдруг понял, что, конечно же, нет; ведь он получил ее письма, когда все уже было кончено и она уже не нуждалась в помощи. И он уже знал, тогда знал, каким образом, как все было кончено…)
«Павел!
Я глупая, непостоянная, надоедливая, но я пишу тебе! Я совсем одна. Милену и Марка увезли в среду. Счастливые! Их везут в одном вагоне. Не знаю, получишь ли ты это мое письмо. А остальные? Получил ли ты их?..
Теперь живу в комнате еще с пятью девушками. Сегодня прибили полки. Я расставила уцелевшие книги и безделушки. А как ты? Как тебе живется? Какая у тебя комната? Нет, не могу! Помнишь, как мы устраивались на квартире в Вернигероде? Как ты, Павел? Я здесь тупею с каждым днем. Занятия танцами и английским давно прекратились. Не до того! Помнишь, как мы танцевали румбу „Инес“, а после — тот медленный нежный вальс, забыла, как он называется… Боже, как здесь кошмарно!.. Помнишь, как мы слушали „Волшебную флейту“? А Гершвина „Американец в Париже“, помнишь?.. Мне плохо, Павел, мне плохо… Как ты? Что сталось с Эрикой и Михаэлем? Они тоже в Америке? Если бы я могла получить письмо от тебя!.. Милены и Марка больше нет… Но мои письма, ведь это все же хоть как-то связывает нас, меня и тебя. Правда?
Целую тебя.
А.».(Но даже если бы он раньше получил эти письма, разве он мог бы помочь ей? Куда, к кому он мог бы обратиться? Все к тем же продажным политикам? (А непродажных не бывает.) Но ведь они и так все знали. Все все знали… И если ты не успеваешь, впиваясь зубами и царапаясь ногтями, взобраться на верхнюю ступеньку, твоя судьба, судьба «обыкновенного человека», никого не интересует; ты автоматически причислен к множеству, заталкиваемому грубыми кулаками в мясорубку истории… И вот для чего нужно оно, абсолютное, волшебное, сладостное познание; для того, чтобы тебя, личность, единицу, не смели причислять к множеству!..)
«Это невероятно, Павел! Я не могу, не могу тебе писать, но я все время пишу тебе. Если я вопреки всему останусь жить, я больше никогда не напишу ничего подобного. Мне так много нужно тебе сказать, но что-то останавливает меня. Что? Я не притворяюсь, я на самом деле не знаю. Не хочу ложиться, боюсь пробуждения; когда просыпаешься, это всегда так страшно и так неожиданно. Сегодня утром я проснулась и стала искать тебя, нет, ничего особенного, мне просто захотелось почувствовать, что ты рядом со мной, прижаться к тебе. Но тебя нет. Знаешь, это смешно, но я чувствую себя ребенком, которому подробно объяснили, что такое мороженое и какое оно вкусное, и дали попробовать, а потом вдруг отняли и больше не дают. Но ничего не случилось, просто существую дальше. Я, кажется, примирилась со своим жалким положением в этой жизни. Все равно дальше будет еще хуже. Здесь у нас сложился какой-то быт, странный, грубый, нелепый. Неужели там, куда нас увезут, и где будет еще страшнее, неужели и там сложится какой-то быт и станет привычным… Но некоторые говорят, что там нас сразу убьют… Выбора нет. А как мало нужно мне для того, чтобы быть счастливой, — просто, чтобы ты был рядом. Ведь это было единственное, что придавало смысл моей жизни, всем моим занятиям. А теперь… Павел, я не могу без тебя! Почему так? За что? Неужели я хотела в жизни слишком многого? Напоследок я часто спрашиваю себя, имеет ли смысл простое физическое существование, прозябание? Мы ведь люди, мы должны жить, а не просто так, день за днем… А, впрочем, разве это нормально, чтобы в девятнадцать лет жизнь казалась бессмысленной?.. („Именно в девятнадцать-восемнадцать лет это и возможно, — подумалось Паулю, — после просто начинаешь цепляться за свое существование, не предъявляя особых претензий“…) У меня остается все меньше сил, я плыву по течению, я превратилась в перепуганную зверюшку, все у меня свелось к одному — я боюсь! Боюсь мучений, издевательств, боюсь смерти. Увезут ли меня? Сколько еще продлится эта неопределенность? А время идет, идет… Наверное, это хорошо… В комнате все спят. Боже, Марго улыбается во сне!.. Как мне тебя не хватает, Павел!.. Я-то думала, что все кончено, а мне больно, мне больно сейчас!.. Я чувствую тебя, чувствую, что ты — частица моего существа, и мне хорошо. Я уже давно поняла, что человек в состоянии перенести все, даже то, что не снилось ему и в самых кошмарных снах. Я хочу быть с тобой. Если ты слышишь меня, не смейся надо мной, не надо презрительно кривить губы. Помнишь наши бесконечные разговоры в то последнее лето, когда я говорила тебе, что слишком много вложила в наши отношения, слишком много отдала тебе, и больше не смогу стать достаточно сильной для одиночества. Теперь я снова повторю: это правда. Я чувствую тебя, все в моей жизни связано с тобой. Может быть, это болезнь? Тогда вылечи меня. Было так хорошо, когда я могла заботиться о тебе, помогать тебе. Почему этого больше нет, ведь это так просто! Я никогда не была сильной, а теперь совсем ослабела. У меня дурные предчувствия. Как легко потерять смысл жизни. У меня осталось только одно — ты… Нужно дожить до завтрашнего утра…
Твоя А.».«Вот такое читал и Марйеб, — подумал Пауль неожиданно спокойно, — и эти чувства не исчезают со смертью их носителя, того, кто их переживал, чувствовал, продуцировал в этот мир. Эти чувства остаются. И кто же может воспользоваться ими и для чего?».
Смутно промелькнуло перед глазами — цыганская кибитка на пустыре, зимняя улица в канун Рождества — она, чужая, с темными нежными глазами. Неужели никогда? Потому что душа его так отягощена пережитым? Потому что над ним тяготеет чувство вины перед столькими людьми? Все вокруг виноваты во всем, но если ты тяжко переживаешь свою вину, твое страдание — единственное.
Глава тридцать вторая Свиток познания
«Будут существовать эта „А.“ и мать моего сына, — задумчиво рассуждал Пауль, — но кто же та, черноволосая, на пустыре, на зимней улице? Ведь она существовала прежде, задолго до… Она была, когда и я существовал прежде, в прошлых, прежних моих существованиях. Что она? Кто она? Кажется, невозможно даже заговорить с ней…»
Пауль ощутил вновь, что его сознание медленно преображается в сознание Сета Хамвеса…
«Значит, Марйеб решился прочесть таинственные слова в свитке Познания ради этой Ахуры», — размышлял Сет Хамвес…
Он честно пытался убедить себя в том, что любовь — удивительное, странное и даже, быть может, великое чувство, но он уже понял, что это именно чувство, или оно есть в тебе, или его нет. Сет Хамвес боролся с самим собой, но что-то в нем восставало, заставляло презирать человека, готового на самые рискованные поступки всего лишь ради женщины, ради того, чтобы она называла его «облачком» или как там, «сладким орешком» что ли… Например, Сет Хамвес не стал бы заглядывать в свиток Познания ради дочери Дутнахта… Ренси… Сет Хамвес почувствовал, как загорелись щеки… А ведь он вспоминает эту девушку и, кажется, скучает… Нет, ведь это хорошо, когда рядом с тобой женщина, которая заботится о тебе, которая выслушает написанное тобой и поймет даже когда не поймет никто, и при этом она добра, не спесива, не самолюбива. И она любит. И ты любишь ее. Но, конечно, чтобы никаких безумств, чтобы не быть ее рабом…
На мгновение охватило Пауля одно из этих ощущений, которые (он знал) ему предстояло испытать в будущем. Это была усталость, грустное примирение с жизнью, нет, он не сделается равнодушным и черствым, он просто простит всех, будет прощать и оправдывать всех, кроме себя самого…
И вновь трое юношей сидели в прибранной комнате на циновках. Бата продолжил свой рассказ.
— Марйеб посетил меня в уединенном поместье и поведал о смерти Атины. Мне показалось, он желает возобновить дружеские отношения со мной. Он прямо предложил мне вернуться вместе с ним во дворец. Я ответил откровенно, что не в силах вновь увидеть Ахуру. Лицо Марйеба приняло грустное выражение. Он положил руку мне на плечо, и я был благодарен ему за то, что он ничего не сказал.
Во дворец я не вернулся. Я чувствовал, что у меня все еще недостаточно сил для того, чтобы начать обычную, обыденную жизнь. Я решил пожить в одиночестве. Постепенно я успокаивался. Начал охотиться на диких уток.
Прошло еще какое-то время и меня навестил отец. Он привез письмо от Марйеба. Тот писал, что Неферкептах желает приобщить сына к делам правления нашим островом, и потому Марйеб хотел бы видеть меня в роли своего главного советника и приближенного. Я сказал отцу о содержании письма. Отец принялся горячо убеждать меня, говорил, что не следует пренебрегать такого рода предложениями из соображений ложно понятой гордости. Отец сказал, что со временем затянется рана, нанесенная моему сердцу, я полюблю, женюсь и все в моей жизни будет хорошо. К собственному моему удивлению, я подумал, что, в сущности, он прав. Его слова не вызвали во мне ни малейшего раздражения. Отец остался ночевать. Ночью я не мог заснуть. Мне вдруг показалось странным то, что Марйеб с такой настойчивостью приглашает меня вернуться во дворец. Да, разумеется, он ценит мою дружбу, но все же… И невольно я высказал себе свое сокровенное желание, я хотел, чтобы было так, я в глубине души мечтал о том, чтобы Ахура хотела моего возвращения! И даже не могу сказать, что я совсем не думал о дальнейшем. В моем сознании смутно мелькали мысли, рождались неясные надежды. Зачем лгать себе? Мне хотелось, чтобы Ахура снова полюбила меня.
Наутро я объявил отцу свое решение: я возвращаюсь во дворец. Отец искренне обрадовался. Мы отправились. Он — в колеснице, я — верхом.
Ми принял меня прекрасно. Все было правдой: Неферкептах действительно желал приобщить сына к делам и заботам правления, и оба они хотели именно меня видеть у самого подножья трона будущего правителя. Марйеб помнил высказанное мною желание не встречаться с Ахурой, и трогательно заботился о его исполнении. Сама же Ахура никаких вестей о себе не подавала мне. В конце концов новые заботы увлекли меня, я старался не думать об этой девушке и это мне почти удавалось.
Однажды вечером Марйеб спросил, не смогу ли я просмотреть за ночь недавно доставленные отчеты нескольких храмовых хозяйств. Это нужно было исполнить быстро. Я согласился. Жил я тогда в особых покоях. По указанию Марйеба слуги внесли деревянную подставку с папирусными свитками. Я приказал зажечь светильник и углубился в работу. Развернув очередной свиток, я прочел вместо скрупулезных подсчетов точного числа корзин с яйцами и гусиных тушек следующие строки:
На заре, когда так хрупко все, уходишь ты, чтобы в заречный мир вернуться свой. Уходишь ты туда, за пальмовые рощи. Я не тоскую о тебе. О нет! Тоскуют стройные стволы и осыпают листьями твой путь. Священные жуки тоскуют. Но не я. Когда-нибудь, должно быть, может быть, в дворцовые покои устремишься ты. Но я осталась в роще стройных пальм. И не найти дороги и сама та роща исчезла. Одиночества огонь меня палит и я скрываю раны под тонкой тканью из крапивы жгучей.Это писала Ахура. У меня не было сомнений. Она хочет видеть меня!
Но как это может сделаться? Впрочем, я быстро придумал. Утром, когда Марйеб пришел ко мне и я показал ему результаты моей ночной работы, он заметил, что у меня хорошее настроение. Я собирался, словно бы вскользь, сказать ему, что теперь уже в состоянии видеться с Ахурой и могу провести какое-то время в ними обоими. Но он, заметив, что я почти весел, сам деликатно предложил мне вечером навестить его и Ахуру в их новых покоях, где я еще не был. Я ответил согласием. Лицо моего друга просияло от радости. И увидев это, я на несколько мгновений отказался от мечты о том, чтобы Ахура вновь принадлежала мне. Но что могло означать ее письмо? Кажется, только одно: она хотела бы вернуться ко мне!
Вечером в уютной и отделанной с утонченным великолепием комнате меня ждали на маленьком столике охлажденное вино и фрукты. Мне показалось, что Ахура дивно похорошела за то время, что мы не виделись. Одета она была скромно, неброско, но ее украшения, ткань, из которой было сшито ее облегающее платье, были поистине драгоценны. Молодые супруги вели себя сдержанно и не оказывали друг другу при мне никаких знаков внимания. Мы беседовали о дворцовых и городских новостях. Я ждал, что Ахура незаметно передаст мне записку, назначит встречу. Так и случилось. Ее тонкие нежные пальцы мгновенно скользнули по моей ладони. Я ощутил клочок папируса и поспешно зажал его в руке. Мы пробыли вместе еще некоторое время, затем я простился с Марйебом и Ахурой.
Через сад я прошел к себе. Конечно, мне не терпелось прочесть, что же написала Ахура. Как и следовало ожидать, я нашел в записке лишь несколько слов: «В полдень у голубого пруда». «Голубым» именовался находившийся в самом дальнем конце дворцового сада небольшой пруд, окруженный бордюром из лазурита. В полдень Марйеб обычно отправлялся в одиночестве в загородный храм Нуна. Он совершал эти поездки несколько раз в неделю, должно быть, это было как-то связано с теми магическими знаниями, которые он получил от отца и всячески совершенствовал. Я знал, что завтра он как раз собирается ехать.
Разумеется, в полдень я ждал Ахуру у голубого пруда. Я пришел раньше часа, указанного ею. Но, подходя к пруду, увидел ее изящную фигурку. Я даже подосадовал на себя, мне очень хотелось прийти раньше, а получилось, будто я заставил ее ждать. Она стояла лицом ко мне. Она тревожно и робко вглядывалась в пальмовую аллею, она несомненно ждала меня. Мне это казалось странным. Невольно я сдерживал порыв безудержной радости, рвавшейся из глубины моей исстрадавшейся души.
Мы приветствовали друг друга. Оба мы волновались. Ахура предложила мне погулять по саду. Я молча склонил голову. Медленно, не касаясь друг друга, мы двинулись по аллее. Я чувствовал, что не могу говорить.
— Бата, — обратилась ко мне Ахура своим нежным голосом, — я хочу открыть тебе одну тайну. Я хотела было сказать, что сделаю это потому, что считаю тебя моим другом, но я не хочу лгать. Я сделаю это, потому что знаю, что ты все еще любишь меня.
Я кивнул.
Я всегда различал в ее характере, в ее сокровенной сути нечто странное и таинственное. А вот различал ли это Марйеб? Впрочем, конечно, различал, он был достаточно умен и тонок для того, чтобы различать. Но вот не пугало ли, не отвращало ли его то, что приводило меня в восхищение?
Вот о чем рассказала мне Ахура.
С недавних пор ее начали посещать странные мысли. Ей вдруг стало казаться, что одной лишь ее любви к Ми недостаточно для того, чтобы осмыслить ее существование. Она сама не понимала, чего же ей хочется. Ни пиры, ни прогулки по реке, ни беседы с Ми, полные нежности и остроумия, не приносили удовлетворения. То же происходило и с телесной их близостью (говоря мне об этом, она покраснела). Ахура и прежде не пренебрегала изучением древних папирусов. Часто перечитывала она таинственные и глубокие стихи из «Книги мертвых», а пока мы с Марйебом путешествовали, увлеклась лекарским искусством, многое узнала, училась у сведущей в искусстве врачевания жрицы богини Таурт, покровительницы материнства. Теперь она возобновила прекращенные было после свадьбы занятия. Но и это не приносило удовлетворения. В голову приходили странные, неведомые ей прежде мысли о возможности некоего абсолютного сладостного Познания, Познания, которое дается не целодневными занятиями и чтением, но нисходят мгновенно и радостно, озаряя и наполняя все твое существо…
Йенхаров подался вперед, чуть приоткрыв рот. Сет Хамвес слушал задумчиво.
— Эти странные мысли все более занимали сознание Ахуры, — продолжал Бата. — У нее появилась потребность в одиночестве. В дни поездок Марйеба в загородный храм Нуна Ахура прогуливалась по саду, выбирая самые отдаленные уголки. Так она набрела в огромном саду на голубой пруд и часто стала наведываться туда.
— Но, быть может, эти странные мысли Ахуры и были проявлением того самого проклятия, которого опасался Марйеб после смерти Атины? — осторожно спросил Сет Хамвес.
— Думаю, это так, — коротко откликнулся Бата. — Однажды в полдень, подойдя к пруду, Ахура увидела сидящую на гладком голубом камне девушку, светловолосую, в легкой белой одежде. Прежде Ахура никогда не встречала ее и теперь предположила, что это одна из многочисленных служанок матери Марйеба. Ахура подошла ближе и приветствовала девушку. Девушка мило и почтительно ответила. Ахура не стала спрашивать девушку, кто она, боясь обидеть ее. Как-то незаметно они разговорились. Незнакомка оказалась приятной и интересной собеседницей. Они уговорились встретиться вновь, и в полдень того дня, когда Марйеб поехал в храм Нуна, Ахура поспешила к пруду. Снова был чудесный разговор и снова уговорились о новой встрече. Ахура привыкла к своей приятельнице. Постепенно дошло дело до откровенности. Но, как позже подметила Ахура, девушка ничего не говорила о себе, говорила Ахура. Она рассказала девушке о своих странных мыслях. И та горячо ей посочувствовала и призналась, что с ней такое бывает. Ахура спросила, каким же образом ее приятельница избавляется от подобных мыслей. Та ответила, что ей помогает мать, старая женщина, сведущая в магии. Слово за слово, и вот уже Ахура стала просить повести ее к этой чародейке. Девушка охотно согласилась. И в следующий полдень, встретившись, как обычно, у голубого пруда, они вышли из сада через маленькую калитку. Дальше расположилось открытое пространство, а чуть поодаль — пальмовая рощица. Они увидели небольшой аккуратный домик…
Взгляд Сета Хамвеса сделался очень внимательным, он с интересом слушал Бату…
— В домике их встретила пожилая женщина. Она ласково приняла Ахуру и ничем не показала, что узнала молодую супругу сына правителя острова. Ахура поведала и ей о своих странных мыслях. Старуха велела дочери налить чистой воды в плоскую бронзовую чашу, и когда та исполнила повеление, старуха подозвала Ахуру поближе и попросила наклониться над чашей. Ахура послушалась. Несколько мгновений она видела лишь свое отражение, как это обычно бывает в гладкой воде. Затем отраженное в воде лицо странно и страшно вытянулось, скривилось, исказилось наподобие звериной морды, оскалились зубы, встали торчком уши, жирные губы растянулись в улыбке, исполненной коварства и злобы. И все же в этом чудовище Ахура узнавала себя, свои, пусть и искаженные черты. Ей стало очень страшно, но, словно неведомая сила приковала ее к воде, она не могла отвести взгляд от своего искаженного отражения. В ушах зашумело. Ахура сначала подумала, что это оттого что она стоит, наклонив голову. Но тут раздался странный шипящий голос, Ахура отчетливо расслышала слова:
— Сладостное абсолютное Познание снизойдет на тебя, как только ты развернешь свиток Познания и прочтешь слова Познания. Свиток этот далеко, в море. Муж твой может его добыть для тебя!
Ахура чувствовала, как зачаровывают ее этот голос, это ужасное отражение. Усилием воли она заставила себя распрямиться. И с испугом осознала, что стоит на берегу голубого пруда. Не было ни комнаты в домике, ни старухи и ее дочери. Ахура поняла, что ее морочили злые духи. Она побежала и, лишь увидев знакомых садовников, успокоилась. Но слова о свитке Познания запомнились и она никак не могла подавить в себе мучительное желание увидеть свиток, прочесть таинственные слова. Как ей хотелось попросить Марйеба добыть этот свиток, но она знала, чувствовала, что Марйеб откажет…
— Интересно, — тихо заговорил Сет Хамвес, — странная девушка и ее мать сказали Ахуре свои имена? То есть, это большого значения не имеет, но мне хотелось бы знать.
Йенхаров внимательно посмотрел на старшего брата.
— Да, — ответил Бата и усмехнулся. — Девушку звали Лия, а ее мать — Алама.
— Они и меня пытались сбить с пути, — сказал Сет Хамвес. — Алама — старый злой дух, а девушка, которую она выдает за свою дочь, вовсе и не дочь ей, да и не человек вовсе. Это всего лишь кошка. Злой дух Алама преображает животное в человека, потому что умеет вложить в то, что можно назвать сознанием животного, сильные человеческие чувства, оставшиеся как бы без хозяина после смерти того, кто эти чувства ощущал, испытывал. Как правило, это чувства женские. Они странным образом преобразуются в человеческом существе, возникшем из животного. Думаю, существо это искренне считает себя человеком или духом, и не подозревая о том, что оно всего лишь животное, околдованное злым духом. Мне кажется, это мое предположение верно.
Бата согласился с предположением Сета Хамвеса…
Пауль ощутил какую-то неприятную тревогу. То, что говорил Сет Хамвес, имело прямое отношение к жизни Пауля Гольдштайна, Пауль это понял. Но пока только это, ничего более…
— Ахура честно призналась мне, зачем она вызвала меня, — во взгляде Баты выразилась тоска. — Конечно, Ми очень хотел возобновить нашу дружбу, но и Ахура напоминала ему обо мне, говорила. И теперь она просила меня, чтобы я попытался уговорить Ми отправиться за свитком Познания. И дальше… Должно быть, вы полагаете, что я сразу согласился. Но нет. Я сказал Ахуре, что сам говорить с Марйебом о свитке не стану. Пусть она заговорит при мне, тогда я поддержу ее.
— Прости, Бата, — Йенхаров чуть приподнял кисть правой руки. — Я все думаю об этой Аламе. Давно ли она обитала на острове? Или она жила там всегда?
— Скорее всего, Алама смогла проникнуть на остров после смерти Атины, — предположил Бата.
— Тогда ты говорил об этом с Марйебом? — спросил Сет Хамвес.
— Нет, я не говорил. Он и сам все понял. Ахура заговорила с ним при мне. Она рассказала о старухе и ее дочери, о свитке Познания. Марйеб замкнулся, смотрел сурово. И тут я почувствовал, что желание Ахуры — не прихоть, не каприз. Да, это все были козни злых духов, но Ахура действительно страдала. Я видел суровое лицо Марйеба, понимал, что он должен отказать Ахуре, понимал, что так будет правильно, так будет лучше для нее самой, и не мог поддержать ее. Она уже не обращала на меня внимания. Она умоляла совсем по-детски, плакала. В ней не было никакой женской хитрости, она не задумывалась о том, что может показаться мужу надоедливой. Я глядел на нее с мучительной нежной жалостью и любил ее, кажется, даже более, чем прежде. И вдруг мне стало ясно, что и Ми испытывает к ней такие же чувства. Мы чувствовали вместе, как бывает люди вместе поют одну песню.
— Ми, — произнес я тихо. — Все безнадежно. Мы должны это сделать. Крылья судьбы уже над нами. Выбора уже нет, уйти, спастись уже нельзя.
Тогда заговорил и он:
— Я исполню твою просьбу, Ахура. Я верю, что и Бата будет с нами. Но прошу тебя об одном. Я хочу показать тебе тех, по наущению которых ты просишь меня. Если и тогда… Я исполню твою просьбу.
Ахура подняла на нас обоих свои милые глаза, полные слез. Она казалась ребенком, той маленькой девочкой, что танцевала когда-то в кругу старших подружек.
— Да, — прошептала она срывающимся от недавнего горестного плача голосом.
Ми нежно привлек ее к себе на грудь.
— Позови служанку, Ахура, — спокойно сказал он.
Он бережно расслабил объятия. Ахура оправила платье, вытерла глаза тонким платком и хлопнула в ладоши. Вошла тотчас служанка.
— Принеси зеркало, — велел ей Марйеб.
Вскоре девушка вернулась, держа обеими руками бронзовое, гладко отполированное зеркало. Марйеб приказал ей оставить зеркало и уйти.
Когда служанка вышла, Ми попросил Ахуру, а затем и меня посмотреться в зеркало. Затем он быстро повел рукой, резко, словно рубил воздух ребром ладони.
Мы думали, что увидим что-то страшное. И нам и вправду сделалось страшно, хотя и не так, как представлялось только что. Мы увидели темноту, черноту. Черная темнота клубилась облаком чуть в отдалении от нас. Это уменьшало наш страх. Но вот из черноты зазвучали громкие нечеловеческие голоса. Мужской и женский. Таким презрением к людям, таким издевательством звучали эти голоса, что были воистину нечеловеческими.
— Сла-а-достное, сладчайшее, а-абсо-о-лютное По-оз-нание! Бе-е! — гнусавил и блеял мужской голос.
— Ни-икак — хи-хи-хи — нельзя без э-этого! Хи-хи! — хихикал женский…
И тотчас все смолкло, тьма рассеялась мгновенно.
— Это они, — сказал Марйеб.
— Но я уже не могу, не могу. Я умру, — прошептала Ахура.
— Я исполню твою просьбу, — Марйеб распрямился величественно на сиденье деревянного стула, отделанного золотом…
Пауль вспоминал голоса, когда-то слышанные им в комнате Регины. Все было ясно. Возникало желание как-то действовать, спасаться, бежать. Но он и сам сознавал, что это всего лишь желание, не влекущее за собой никаких действий. Пауль сознавал, что его тело, тело Пауля Гольдштайна, сейчас не способно действовать. Паулю сейчас остается одно: следить за действиями Сета Хамвеса, жить его чувствами и мыслями…
Глава тридцать третья Золотая шкатулка
— И Марйеб исполнил просьбу Ахуры, — продолжал свой рассказ Бата. — Поздним вечером того же дня две повозки двинулись по направлению к загородному храму Нуна. Я правил повозкой, в которой находилось все необходимое для жертвоприношения и ритуальной трапезы. В другой повозке сидела Ахура. Марйеб, стоя, чуть наклонясь вперед, легонько подгонял коней.
Подъехав к храмовой ограде, мы спешились, Марйеб велел нам ждать у ограды, а сам внес съестные припасы в храм и совершил жертвоприношение. Ведь он решался на богопротивный поступок и потому молил богов о милости, о прощении.
После нашей ритуальной трапезы, которая проходила в молчании, Ми поднялся. Мы, Ахура и я, тоже поднялись. Марйеб казался спокойным, нам же было не по себе. Кусок не шел в горло и только строгий взгляд Марйеба заставлял нас покорно глотать, ведь не есть во время ритуальной трапезы — значит не чтить богов.
— Бата, — обратился ко мне Марйеб, — в повозке корзина, из которой я вынул яблоки. Возьми из нее то, что в ней осталось.
Я послушно поспешил исполнить приказание. В корзине оказался тот самый деревянный кораблик, на котором мы совершили свое путешествие в греческие земли. Я обратил внимание на то, что Ми не сказал просто: «Принеси корабль». Я подумал и понял, почему он так поступил. Дело в том, что злые духи верят словам, сказанное они воспринимают яснее, отчетливей, нежели увиденное. Значит, Ми не хотел, чтобы злые духи знали, что мы собираемся воспользоваться этим кораблем.
— Но как могли злые духи находиться в такой близости от храма? — спросил Йенхаров.
— Это случается, я знаю, — заметил Сет Хамвес.
— Все просто, — объяснил Бата, — мы все трое намеревались совершить богопротивный поступок и одно это наше намерение уже открывало злым духам доступ в нам. Даже близ храма могущественного бога Нуна мы не были в безопасности.
Я принес Марйебу корабль. Злые духи указали Ахуре место, где обретался свиток Познания, — море. Но какое из морей? Неферкептах, отец Марйеба, учил нас, что морей много. Возможно мы поплывем на корабле и снова, как во время первого путешествия, корабль сам будет знать дорогу по волнам.
Марйеб сделал свое обычное движение рукой. Кони и повозки мгновенно исчезли, словно сметенные бесшумным ветром. Ми наклонился и поставил кораблик на землю. Это немного удивило меня. Ведь отсюда до реки далеко.
Но корабль снова начал на глазах увеличиваться. Только гребцы, хотя и сделались ростом с людей, остались по-прежнему неживыми, деревянными фигурами.
С корабля сама собой спустилась лестница. Марйеб подал руку Ахуре. По веревочным ступенькам они взошли легко, словно те были из камня или другого прочного материала. Я тоже поставил ногу на первую веревочную ступеньку и ощутил, что ступня моя словно бы оперлась на невидимую твердь. Я беспрепятственно поднялся вслед за Марйебом и Ахурой. Но неужели корабль двинется по суше? Зачем? Я недоумевал.
Мы стояли на палубе. Но вдруг я почувствовал странное движение сердца в груди, оно будто бы чуть толкнулось вниз. На миг у меня перехватило дыхание. И сразу же я понял, что корабль поднимается в воздух! Спустя несколько мгновений мы уже летели далеко. Корабль поднялся так быстро, что мы не успели заметить, как уменьшаются люди, дома, деревья. Нас окутал прохладой голубоватый воздух. Я знал, что в горах, на высоте, обычно холодно. Сейчас, должно быть, мы летели выше иных гор, но холодно нам не было. Думаю, это благодаря магии Марйеба прохлада чувствовалась такой легкой и приятной.
Так мы летели довольно долго. Затем корабль начал снижаться. Я думал, что сейчас увижу море. Но открывшееся нам зрелище чаровало не менее, нежели вид морских волн. То есть перед нами и в самом деле возникало море, но море… песчаное. Безбрежное золотистое море песка, оно плавно холмилось, мерно волновалось. Нежные изгибы песчаных холмов, которыми я любовался с высоты, порою трогательно напоминали нагие, упругие и нежные женские груди. Корабль еще снизился. Теплые дуновения коснулись наших лиц. Я понял, что мы опускаемся в пустыню. Отец Марйеба рассказывал нам и о пустынях. Я знал, что в пустыне очень жарко. Но нам жарко не было. Теплота воздуха была даже приятна после небесной прохлады.
Корабль плавно приземлился. Он замер на песке, не погрузившись в золотые, чуть темнеющие волны. Марйеб приказал нам оставаться на палубе, а сам спустился вниз. Взгляд мой невольно обратился вначале на деревянные фигуры гребцов, они застыли с выражением серьезности на смуглых темных лицах, крепко держа в своих сильных руках весла. На Ахуру я боялся смотреть. Деревянные гребцы вселяли в мое сознание какую-то тоску, я чувствовал, как цепенею, обмираю. Я решил наблюдать за действиями Марйеба.
Он стоял прямо, но склонил голову и вперил в одну точку пристальный взгляд. Бедра его стягивала набедренная повязка в белую и голубую полосу, шею обвивала тонкая золотая цепочка. Песок вокруг него заклубился, заволновался медленно и величественно. Затем песок расступился, обнажив темно-влажную, похожую на морское дно землю. Земля эта отвратительно шевелилась. Вскоре я разглядел, что по ней извиваются, сплетаясь, шипя, борясь друг с другом, длиннохвостые с короткими лапами драконы, скользкие змеи, слизистые жабы и огромные скорпионы. Приглядевшись еще внимательнее, я увидел, что здесь существует некий центр притяжения для всех этих тварей. Это был небольшой железный сундук, обвитый сверкающей холодной лунным блеском змеей.
Марйеб продолжал неотрывно смотреть. Он не сводил глаз с железного сундука.
Прошло еще какое-то время. Змея вдруг свернулась клубком на крышке сундука и, вытянув маленькую голову, втягивая и вытягивая раздвоенное жало, прошипела человеческим голосом:
— Готовься к смерти, ты, осмелившийся взглянуть на бессмертную змею!
Марйеб молчал и смотрел, склонив голову. Я заметил, как панический страх постепенно охватывает всех этих ползучих и жалящих тварей. Они кинулись в разные стороны и почти мгновенно скрылись из виду. Осталась лишь одна говорящая бессмертная змея. Марйеб медленно приблизился к ней. Внезапно змея распалась на две половины, которые тотчас же соединились вновь. Но не успела змея вытянуть голову, как тотчас же распалась снова. Марйеб стоял недвижно, опустив руки. Змея начала растворяться в воздухе. Сначала исчезла голова, затем туловище, хвост.
Я посмотрел на Ахуру. Она широко раскрыла глаза. Легкий ветерок колыхнул подол ее белого платья. Меня поразило какое-то совсем новое для меня выражение ее глаз и всего лица. Мне даже стало страшно, такая глубина чувств и мыслей выразилась на этом милом лице.
Железный сундук замер одиноко на темной земле. Марйеб нагнулся и легко откинул крышку. Погрузил в раскрытый сундук обе руки и вынул другой сундук, поменьше, бронзовый. Раскрыв бронзовый сундук, он вынул оттуда еще меньших размеров деревянный сундучок. Затем явилась шкатулка из слоновой кости, следом — серебряная шкатулка. И наконец — золотая.
Марйеб подержал ее в ладонях, словно все еще надеялся на то, что Ахура раздумает. Во всяком случае, мне так показалось.
Я не заметил, как это произошло, но вот уже золотая шкатулка стояла у ног Марйеба, а сам он держал в руке папирус. Я понял, что это и есть свиток Познания. На вид он походил на обычный папирус. Он даже не казался очень старым. Позднее я узнал от Марйеба, что свиток Познания представляется людям, решившимся взглянуть на него и коснуться его, таким писчим материалом, к которому они привычны. И слова, начертанные на этом материале, видятся людям словами их родного языка…
— Но кто же скрыл свиток в песках, боги или злые духи? — снова задал вопрос Йенхаров.
— Вероятно, после гибели очередного соблазненного ими человека свиток оказался в этом пустынном месте. Злые духи не могли его взять, но сумели окружить мерзкими тварями, — ответил Бата.
— Зачем? — прервал его Йенхаров. — Ведь они хотят, чтобы свиток попал в человеческие руки. Ведь только из рук соблазненного ими человека они могут получить этот свиток?
— Думаю, им не нужно, чтобы свиток оказался в руках человека случайного, — вмешался Сет Хамвес.
— Да, — согласился Бата. — И я полагаю, что ты Сет, прав.
— Но все равно это не объяснение, — пробурчал Хари.
— Совсем не нужно, чтобы все в мире имело свое объяснение, — сказал Сет Хамвес.
Бата снова согласился с ним и продолжил свой рассказ.
— Марйеб молча подал знак нам, мне и Ахуре. С корабля спустилась все та же веревочная лестница, и мы легко сошли на песок. Ахура не приблизилась к своему супругу. Я тоже остановился поодаль.
Марйеб сделал несколько шагов, но и он не подошел близко к нам. Он протянул Ахуре свиток. Жест его выражал некую величественную покорность судьбе. На миг мне показалось, что еще не поздно, что Ахура не возьмет свиток, не решится прочесть роковые слова. Но я ошибся.
Она взяла свиток из пальцев Марйеба, развернула отрешенно, и на какое-то мгновение лицо ее было скрыто за развернутым свитком. Но вот свиток легко скользнул на песок. Я увидел лицо Ахуры… Не могу вам описать…
Она посмотрела на нас обоих, не произнося ни слова. И внезапно упала на мягкое песчаное ложе, словно стебелек, надломленный порывом ветра.
Марйеб не шелохнулся. Я бросился к Ахуре, склонился над ней, взял в свои дрожащие пальцы ее тонкое запястье, смотрел на ее лицо. Сердце не билось, глаза закрылись. Ахура была мертва.
Странно, но оба мы, и Марйеб и я, со стороны показались бы совсем спокойными. Никаких признаков бурного отчаяния. Никто из нас не плакал, не бил себя кулаками в грудь. Меня поразило то, что Марйеб молча подошел не к мертвой жене, но к свитку, свернул его, не глядя, вложил в золотую шкатулку, поместил золотую шкатулку в серебряную, серебряную шкатулку аккуратно вставил в шкатулку из слоновой кости, затем пошли в ход оба сундучка — деревянный и бронзовый, и наконец все было вставлено в железный небольшой сундук. Только после этого Марйеб обернулся ко мне и сделал мне знак приблизиться. Я подошел совсем близко. Марйеб отдал мне железный сундук. Я направился к нашему кораблю. Я понял, что надо оставить Марйеба наедине с мертвой Ахурой. Чуть позже я заслышал его шаги. Он ступал медленно, шел за мной. Тогда я обернулся. Марйеб нес на руках мертвую Ахуру. И вновь спустилась веревочная лестница. Я беспрепятственно взошел на палубу, за мной поднялся Марйеб.
Но корабль не взлетел, а наоборот чуть погрузился в песок. Марйеб молча сделал мне знак спуститься и оставить сундук на темной земле, которая все еще зияла, окруженная песчаными выпуклостями. Я так и поступил, затем снова поднялся на корабль. И снова корабль не взлетел, но погрузился в песок еще на локоть, примерно. Тогда спустился с корабля Марйеб, положил на песок мертвую Ахуру и рядом с ней — железный сундук. Но когда Марйеб поднялся на корабль, корабль вновь не взлетел и погрузился в песок еще глубже.
Тогда Марйеб сделал мне знак спуститься. Вдвоем, молча, мы вырыли деревянными веслами, взятыми из рук деревянных гребцов могилу в песке и погребли Ахуру в пустом продолговатом деревянном ящике, который нашли на нашем корабле. Тотчас же песчаные волны сомкнулись и скрыли от нас погребение. И стало так, словно бы никогда и не было на свете прекрасной Ахуры.
И снова мы взошли на палубу нашего корабля, я по-прежнему нес железный сундук. Наш корабль легко поднялся в воздух. Снова окружила нас приятная голубоватая прохлада. Не знаю, сколько времени миновало. Я ощутил тяжесть в груди и пустоту в душе. Раздавшийся внезапно голос Марйеба поразил меня, за время нашего общего молчания я отвык от звуков человеческих голосов. Но Марйеб еще не успел заговорить, когда я заметил, что корабль стремительно снижается. Голубоватая лента, вьющаяся среди зелени, обернулась нашей полноводной рекой. Мы приближались к острову, к нашему острову, к Дому Чародея.
— Бата, — сказал Марйеб. — Я виноват перед тобой.
Но после всего случившегося я не мог ни в чем его винить.
— Нет, нет! — поспешно и искренне возразил я.
Корабль опустился на воду. Тотчас же ожили гребцы и заработали веслами.
— Бата, — сказал Ми, — не отговаривай меня. Я и вправду не могу поступить иначе. Теперь не говори, не говори ничего. Свиток я оставлю тебе. Я знаю, ты не развернешь его. Если меня не будет, скажи отцу, чтобы он похоронил свиток вместе со мной.
И я ничего не сказал, не стал отговаривать, хотя уже понял, на что решается мой друг.
Он не стал раздеваться, встал на корме, поднял руки и чуть закинул их за голову. Я увидел, как мелькнуло тело, всплеснулась вода. И снова странно — я не заплакал. Только подумал, как же Неферкептах похоронит сына, как отыщет его тело. Я считал, что Марйеба и Ахуру погубили злые духи, что ни тот, ни другая ни в чем не повинны.
Но едва корабль вошел в гавань, как я услышал погребальный плач, увидел на берегу людей в траурных одеждах. Тело Марйеба нашли на берегу. Я сошел с корабля и увидел моего друга лежащим на берегу. Он был все в той же бело-голубой полосатой набедренной повязке, на шее золотая цепочка. Глаза его были закрыты. Лицо его уже стало лицом мертвеца с этим странным мертвым выражением. Отец и мать плакали над ним.
Корабль начал стремительно уменьшаться и вскоре превратился в деревянную игрушку. Я взял его в руки. Нес я и железный сундук.
Неферкептах поднял голову.
— Несчастье у тебя в руках, — хриплым от слез голосом обратился он ко мне. — Ты прижимаешь несчастье к своей груди.
Что-то он уже знал и сам, благодаря своему магическому искусству, остальное я ему рассказал.
Он долго отказывался похоронить свиток вместе с сыном. С трудом я разжалобил его.
Силой магии он воздвиг заколдованную гробницу, где и было погребено тело Марйеба.
После погребения я, измученный, с опустошенной душой, заснул в родительском доме. А когда проснулся, увидел себя лежащим у ворот какого-то незнакомого города. Одет я был в грязные лохмотья. Я понимал язык, на котором говорили люди в этом городе. Ни отца, ни матери, никого из близких и друзей я не мог найти. Я помнил, что многому учился и многое умею. И вдруг с ужасом обнаружил, что разучился читать и знания мои покинули меня. Нашел я рыночную площадь и сделался носильщиком, после нанялся в пекарню. И долго жил в бедности, терпел унижения, пока наконец не женился на дочери одного ткача. Отец моей жены обучил меня своему ремеслу. Я прожил на земле более сорока лет, у меня было трое детей. Своим близким я не рассказывал правды о себе, сказал только, что отец мой был садовником и состоятельным человеком, но разорился, когда ураган разрушил город, где жили мои родители и я.
Ежедневно я молился и просил богов о том, чтобы после моей смерти они позволили бы мне снова быть другом и слугой Марйеба. Однажды я тяжело заболел и понял, что болезнь моя смертельна. Жена моя к тому времени уже скончалась. Я не был особенно искусен в своем ремесле и жили мы в бедности. Перед смертью я попросил моего старшего сына не тратить много денег на мое погребение, похоронить меня скромно. Я почувствовал, что меня клонит в сон и закрыл глаза.
А когда пробудился, увидел, что лежу в комнате на чистой постели. Было какое-то странное ощущение. Я поднялся и оглядел себя, насколько это было возможно. Я чувствовал себя легким и сильным. Я понял, что дух мой обрел юность. На столике у постели я увидел бронзовое полированное зеркало и поспешил поглядеться в него. Полузабытое лицо девятнадцатилетнего Баты, мое лицо, совсем юное, глянуло на меня. Я знал теперь, что боги исполнили мое желание — я в гробнице Марйеба. Я пошел к двери, отворил ее и начал обходить все помещения гробницы, а их, как вы уже знаете, много. Войдя в широкий и длинный, с мраморными стенами переход, я вскоре услышал шаги. Шаги двигались мне навстречу. Я узнал шаги Марйеба. Вскоре мы встретились и крепко обнялись. Он сказал мне, что его познания в магии помогли ему переселить сюда и дух Ахуры. Но я не в силах был видеть ее. Почему? Лучше не надо спрашивать об этом.
— Но если я правильно понял тебя, Бата, — заговорил Сет Хамвес после недолгого молчания, — ни ты, ни Марйеб так и не прочли таинственных слов Познания?
— Ты правильно понял меня, Сет, ни я, ни Марйеб не читали этих слов.
— А старый жрец Нуна, отец Марйеба, знает об этом? Мне показалось, что нет.
— Ничего не могу сказать, — Бата пожал плечами. — Я никогда не мог понять, что знает и чего не знает Неферкептах.
— Марйеб и ты, Бата, — благородные люди, — тихо произнес Йенхаров.
— Марйеб сказал: «Завтра», — задумчиво проговорил Сет Хамвес. — Имел ли он в виду, что завтра решит, отдать ли нам свиток или оставить его здесь?
— Скорее всего, он именно это и имел в виду, — Бата улыбнулся. — Но, думаю теперь он будет иначе относиться к вам, да и вы к нему.
— Да, — чуть ли не в один голос сказали братья и засмеялись тому, что произнесли это «да» почти одновременно.
Глава тридцать четвертая Ахура
Ночью братья спали спокойно. А наутро, после завтрака, явился Бата и провел их в ту комнату с надписью на стене, где Марйеб принимал их в первый раз. Здесь стояли все те же красивые стулья, но шкатулка с белыми и черными фигурками для игры была уже убрана.
Марйеб вышел к ним. Бата скромно остановился в стороне. Сейчас Марйеб уже не казался тем ребячливым мальчиком, который так странно говорил с ними тогда.
— Я не хочу вас мучить, — спокойно начал он, жестом пригласив их присесть и садясь сам, — вы обратились с просьбой ко мне, я же обращаюсь с просьбой к вам. Здесь, в моей гробнице обитают духи моей жены и моего друга. Но тела их погребены не здесь и потому духи могут обитать здесь лишь до тех пор, пока здесь находится свиток Познания. Вы хотите передать этот свиток моему отцу. Я соглашусь, но лишь с одним условием. Вы найдете и доставите сюда тела моей жены и моего друга. Если их тела будут погребены в этой гробнице, и духи их смогут обитать здесь беспрепятственно.
Марйеб замолчал.
Сет Хамвес вспомнил все тяготы путешествия. Он чувствовал, что колеблется. Найти два погребения тысячелетней давности!
— Надо согласиться, — Сет Хамвес скорее почувствовал, нежели услышал, как Йенхаров шепнул ему это.
— Мы согласны, — ответил Марйебу Сет Хамвес. — Но можешь ты указать нам хотя бы приблизительно, где нам искать погребения твоей жены и твоего друга?
— Я это сделаю, — серьезно сказал Марйеб. — Но не желаете ли вы прежде взглянуть на ту, из-за которой, в сущности, вы и очутились здесь?
Сет Хамвес с изумлением отметил, что не испытывает ни малейшего желания взглянуть на эту юную прекрасную женщину, о которой с таким трепетом повествовал Бата. Почему-то вдруг сразу невольно вспомнилась Ренси, как она стоит среди зелени, в нарядном голубом платье, и чуть вьющиеся каштановые волосы, стянутые на затылке красной лентой, спадают на плечи. Он почему-то уверен, что Ренси никогда не потребует от него никаких свитков Познания. Сет Хамвес усмехнулся. Неужели в его жизнь вошла влюбленность? Но не успел он насладиться этой мыслью, как Хари в ответ на вопрос Марйеба, хотят ли они увидеть Ахуру, восторженно воскликнул:
— Да!
Марйеб поднялся и подошел к стене, на которой была надпись.
— А как же твои чувства к нашей Ренси? — шепнул Сет Хамвес брату.
— Это совсем другое! — успел прошептать в ответ Хари, — а если уж говорить о чувствах к Ренси, то, кажется, теперь лучше говорить о твоих чувствах.
Сет Хамвес шутливо погрозил брату кулаком.
В этот миг расступилась стена и Марйеб сделал братьям знак следовать за ним. Бата остался в комнате.
Они прошли короткий коридор и очутились прямо перед глухой стеной с небольшим оконцем. В оконце могли заглянуть двое.
— Смотри же! — повелительным тоном произнес Марйеб.
Братья подошли к маленькому окну. Обоим вдруг сделалось страшно.
Но то, что они увидели, превзошло все их ожидания.
В небольшом зале с беломраморными гладкими стенами и устланным светлыми коврами полом сидело на троне чудовище. Но нет, это было больше, чем просто чудовище. Это была какая-то ужасающая пародия на человека, на очаровательную женщину. Чудовище сохраняло осанку нежной красавицы, но было оно бесполым. Бесформенное туловище, покрытое слизистой чешуей, темное. Крохотные передние лапы с когтями. Огромные слоновьи сморщенные задние лапы. Скользкий змеиный хвост волочился по полу. Втянутое темное брюшко чуть колыхалось в такт мерному дыханию. Из щелистого рта торчали кривые желтые клыки. Уродливо-розовым хоботом свешивался нос. Выпученные темные жабьи глаза смотрели неподвижно. И вдруг эту ужасную физиономию на миг искажала странная ухмылка.
Сет Хамвес отшатнулся.
— Но ведь это ее голос мы слышали? — тихо спросил Йенхаров, отходя от оконца.
— Да, вы слышали ее голос, — спокойно ответил Марйеб. — Надеюсь, теперь вы все поняли. Пока здесь обретается свиток Познания, она со мной, хотя и не прежняя. Если я отдам свиток, я навеки лишусь ее. Но если в этой гробнице будет погребено ее тело, дух прежней Ахуры, юной и прекрасной, вновь будет со мной.
— Бата знает о том, какая теперь Ахура? — Йенхаров опустил голову.
— Нет, — быстро ответил Марйеб. — И не должен знать.
— Мы не скажем ему, — тотчас откликнулся Сет Хамвес.
— Как нам искать дорогу к погребениям Ахуры и Баты? — задал вопрос Йенхаров.
— Скажу позднее, — Марйеб шагал по коридору.
Когда они вновь очутились в комнате, где их ждал Бата, Йенхаров быстрыми шагами подошел к нему:
— Ради нее мы отыщем все, что нужно отыскать, — сказал Хари.
Бата улыбнулся. Сет Хамвес подумал, что человеку свойственно радоваться, когда другие люди восхищаются предметом его любви. А если бы кто-нибудь стал восхищаться красотой Ренси, как Бата восхищается Ахурой? Пожалуй, такой человек показался бы Сету Хамвесу неприятным и даже опасным безумцем. Потому что любовь Сета Хамвеса иная, нежели любовь Марйеба или Баты.
— Принеси нам вина, Бата, — велел между тем Марйеб.
Бата исчез, но вскоре появился снова. На подносе он нес кувшин вина и четыре золотых кубка. Все это он расставил на столике.
Они начали пить вино и вскоре развеселились. Сет Хамвес подумал, что вот он пьет вино вместе с духами давно умерших, погребенных в зачарованной гробнице, и ему стало смешно. Смех легко и свободно выплескивался из горла, плечи слегка подрагивали, голова кружилась.
Спустя еще немного времени у всех явилась потребность петь. Сет Хамвес почувствовал, как хочется ему обхватить за плечи Хари, Бату или того же Марйеба и запеть громким голосом, чуть покачиваясь, какую-нибудь легкую, как птица, песню о любви и разлуке. Такие песни поют в харчевнях и в портовых кабаках. О любви и разлуке, каких на самом деле не бывает.
И Марйеб, словно угадав желание своего гостя, первым затянул как раз такую песню. Голос у него оказался вблизи не очень сильным, но приятным.
— Облачко вдали белеет. Почему-то сердце млеет… — Полети, моя голубка,— подхватил высоким голосом Бата.
— В дом, где милая живет,— хором подтянули Сет Хамвес и Йенхаров.
Все четверо сидели, сдвинув тесно стулья, обхватив друг друга за плечи, и чуть покачиваясь а такт легкой летящей мелодии.
— Передай привет горячий. Обо мне пускай не плачет. Пусть кольцо мое не прячет. Пу-усть надеется и ждет…Кажется, они пели долго. Сет Хамвес после не мог вспомнить. И Йенхаров не мог. Затем они уже стояли посреди комнаты. И Марйеб передавал Сету Хамвесу маленький деревянный корабль. У всех еще сохранилось веселое, немного смешливое, чуть бесшабашное настроение.
— Вот этот корабль, — сказал весело Марйеб, — знает дорогу и приведет вас к цели! Вы — люди и можете воспользоваться этим кораблем, а я, увы, всего лишь дух…
Кажется, Йенхаров начал его утешать. Затем какое-то странное приятное кружение подхватило братьев. Они пришли в себя на равнине, поросшей мягкой и светлой, короткой весенней травой. Место было незнакомое. Вокруг жила и дышала весна. Юноши бодро вскочили на ноги. Вдали, очень далеко, виднелись три пирамиды, казавшиеся совсем маленькими, словно бы игрушечными. Воздух был прозрачный, легкий для дыхания.
— Интересно, как мы теперь найдем дорогу обратно в пирамиду Марйеба? — Сет Хамвес с удовольствием потянулся, как после долгого освежающего сна. Голова не гудела, ноги были легкие, будто он и не пил.
— Еще интереснее знать, как мы отыщем погребения Баты и Ахуры! — Йенхаров рассмеялся.
— Как ты себя чувствуешь, Хари?
— Замечательно! А ты?
— И я. Бодрость и уверенность в себе.
— И какая-то веселость. Хочется смеяться. И у тебя такое?
— И у меня.
Братья расхохотались.
— Смотри! — Йенхаров поднял с травы деревянный кораблик.
Корабль был сделан необычайно искусно. Корпус, носовая часть с резным завитком и корма, украшенная изящно вырезанным и раскрашенным голубой и желтой краской цветком лотоса. На палубе были устроены ограждения и полосатый, красно-белый тент. Смуглые гребцы держали в руках весла, также окрашенные в белое и красное. Парус был прямоугольный, широкий, ярко-оранжевого цвета.
— Ну что ж, — Сет Хамвес осторожно взял из пальцев брата кораблик и снова поставил на траву. — Должно быть, сейчас этот корабль увеличится и укажет нам дорогу. Подождем.
И вправду воздух прозрачно заколебался. Все вокруг сделалось зыбким и словно бы текучим. Очертания корабля начали легко увеличиваться, будто раздувались. Но вот все обрело прежнюю устойчивость, а на траве воздвигся большой корабль. Ветерок чуть полоскал оранжевый парус. Но гребцы так и остались деревянными. Они застыли с веслами в руках, серьезно глядя прямо перед собой.
— Это значит, мы полетим, а не поплывем, — Хари указал на деревянных гребцов.
Братья подошли к прекрасному кораблю. Тотчас опустилась веревочная лестница. Но подниматься было легко, как рассказывал Бата, ступени будто опирались о что-то твердое и устойчивое…
Пауль подумал, что обращенная в чудовище Ахура кого-то напоминает ему. Но кого?..
Глава тридцать пятая Голубая вода
Корабль медленно поднялся в воздух. Равнина все уменьшалась и наконец превратилась в смутное зеленое пятно. Сет Хамвес и Йенхаров ожидали, что будут видеть внизу крохотные дома, людей величиной с фигурки слуг-«ответчиков», которые кладут в гробницы. Но ничего не было видно. Корабль двигался в голубом, приятно-прохладном воздушном пространстве. И все же ощущение чуда не покидало братьев. И от этого ощущения чуда делалось им как-то щекотно по-детски весело. Радостные детские улыбки не сходили с их лиц.
Деревянные недвижные гребцы серьезно и сосредоточенно смотрели вдаль своими широко раскрытыми глазами с круглыми зрачками. И братья воспринимали их как занятные красивые игрушки, в которые можно и позволено играть.
Движение корабля было плавным, но чрезвычайно быстрым. Прошло, как показалось братьям, совсем мало времени, и корабль начал снижаться. Ниже и ниже. Легкое головокружение. На миг перехватило дыхание. На мгновение ушло сознание. Братья увидели себя стоящими на окраине какого-то города. Сет Хамвес нашел при себе сумку и раскрыл ее. Там оказались золотые монеты в мешочках и деревянный кораблик. Миновал полдень, было тепло и светло. Братья быстро пошли вперед. Здесь, на окраине, селились бедные люди.
— Я думаю, — тихо сказал Йенхаров, — это тот самый город, где жил Бата. Теперь нам надо отыскать кладбище, где его похоронили.
— Да, да, ты прав, — откликнулся Сет Хамвес, — конечно, это город Баты. Но как нам удастся через тысячу лет найти погребение безвестного человека?
— Наверное, эти деньги нам как-то помогут, — неуверенно предположил Йенхаров.
Местные жители говорили на неведомом братьям языке, но Сет Хамвес и Хари почему-то все понимали. Сет Хамвес остановил водоноса и спросил его, далеко ли отсюда старое кладбище. Водонос указал дорогу. Сет Хамвес отблагодарил его мелкой монетой.
Когда братья направились в сторону старого кладбища, Сет Хамвес заметил:
— У меня такое чувство, Хари, будто что-то мешает нам идти, что-то стремится повернуть нас в другую сторону. А ты ощущаешь ли это?
— Нет, — Йенхаров остановился, словно прислушиваясь к своим ощущениям, и снова повторил, — нет.
— Странно, — пробормотал Сет Хамвес.
Они добрались до старого заброшенного кладбища. Долго бродили среди запущенных могил и гробниц, но так и не нашли погребение Баты.
— Наверняка этому кладбищу не исполнилось тысячи лет, — решил Йенхаров.
— Тогда я просто не знаю, что нам делать, — Сет Хамвес присел на могильную плиту с полустершейся надписью.
Йенхаров постоял немного, затем опустился рядом с братом и задумался.
— Знаешь, Сети, — заговорил Йенхаров, помолчав. — Вот это твое ощущение, будто что-то не дает тебе идти, хочет повести тебя другой дорогой. Я понял, почему я ничего не чувствую.
— Почему? — Сет Хамвес с любопытством поглядел на младшего брата.
— Да потому что кораблик у тебя, а не у меня. Дай-ка мне его.
Сет Хамвес раскрыл сумку и подал Йенхарову кораблик.
— Ну вот, — сказал Хари, подержав кораблик на ладони и возвращая брату. — Теперь у меня было точно такое ощущение, как прежде у тебя. Мне казалось, будто что-то тянет меня вперед.
— И это может означать только одно, — Сет Хамвес поднялся. — Мы должны идти в том направлении, какое указывает нам кораблик.
Братья медленно двинулись вперед. Иногда Сет Хамвес приостанавливался, улавливая указания кораблика. Они покинули старое кладбище. Снова прошли уже знакомыми улочками и углубились в тупик, стиснутый с обеих сторон белыми безоконными стенами. В самой глубине тупика приютился маленький домик, довольно ветхий. Братья приблизились к деревянной резной калитке. Сет Хамвес осторожно постучал.
Калитка отворилась. Перед ними стоял молодой человек, постарше Сета Хамвеса. И в чертах улыбнувшегося им смуглого лица они легко узнали черты Баты.
— Кто вы, чужеземцы? — спросил хозяин маленького дома. — Вы одеты так, как одеваются люди у нас, но все же я чувствую, что вы прибыли сюда издалека. Желаете заказать какую-нибудь ткань? Я слыву искусным ткачом, многие в городе могут подтвердить мои слова.
— Благодарим вас, — учтиво ответил Сет Хамвес, — но у нас к вам иное дело. Меня зовут Сет Хамвес, а моего младшего брата — Йенхаров. Можем ли мы узнать ваше имя?
— Бата. Это старинное чужеземное имя. Род наш ведет свое начало от одного чужеземца, много столетий тому назад поселившегося в нашем городе.
Бата пригласил братьев к себе в дом. В доме и во дворе было тесно, но опрятно. Вместе с Батой жили его жена и двое маленьких детей, а также престарелая мать жены. После скромного угощения Сет Хамвес обратился к молодому ткачу с такими словами:
— Бата, мы родом из той земли, откуда пришел твой предок. Мы сведущи в искусстве магии, и мы узнали, что дух твоего предка неспокоен. Для его успокоения следует перенести его тело в гробницу, где погребен его друг. Нам ведомо также, что твой предок захоронен здесь, в южном углу твоего дома. Поверь нам. Мы заплатим тебе столько денег, что ты сможешь построить себе новый дом, гораздо лучше этого, и к тому же заживешь безбедно. Деньги эти даны нам духом твоего предка. Итак, мы сейчас же вручим тебе деньги, а ты позволь нам разрушить южный угол твоего дома и раскопать землю.
Бата задумался и долго молчал. Затем заговорил.
— Легче всего было бы принять вас за проходимцев или злых волшебников. Но, сам не знаю почему, я верю вам. Я согласен.
Сет Хамвес передал молодому ткачу деньги. Втроем они принялись за работу и к вечеру южный угол дома был разрушен, а земля раскопана. Женщины и дети сидели в другой части дома и не мешали им.
Копать пришлось долго.
— Неужели когда-то здесь было кладбище? — удивлялся Бата.
— Да, тысячу лет тому назад, — откликнулся Сет Хамвес.
Наконец они увидели простой каменный саркофаг. Счистили землю с крышки и на ней обнаружилось рельефное изображение. Бата склонился и как зачарованный вглядывался в черты своих предков. Молодой мужчина и улыбающаяся круглолицая женщина, босая, в платье до щиколоток, сидели рядом на небольшом возвышении. Мужчина скрестил пальцы, как для молитвы. Женщина держала его под руку и другой своей рукой ухватилась за его локоть. Рядом стояли трое маленьких обнаженных мальчиков.
Так жил Бата, друг Марйеба, в той своей жизни, где не было ни Марйеба, ни Ахуры, ни чудесного острова с его волшебными превращениями. И, должно быть, могло показаться, что все это было лишь во сне, лишь вообразилось, привиделось. И кто из нас может знать, что творится в воображении окружающих нас людей, чем живы их души.
Сын, заказавший это изображение на саркофаге, ничего не знал о другой жизни отца.
Ткач одолжил у одного из соседей повозку, в нее погрузил саркофаг. По темным улочкам выехали далеко за город. Здесь, в пустынном месте, сняли саркофаг с повозки и поставили на землю.
— Бата, — обернулся Сет Хамвес к молодому ткачу, — сейчас ты увидишь еще одно чудо, и это еще более убедит тебя в том, что мы не проходимцы.
— Но и не злые волшебники, — добавил Йенхаров.
Бата усмехнулся.
Сет Хамвес вынул из сумки кораблик, затем подал сумку ткачу.
— Это тебе еще подарок от духа твоего предка.
Бата взял сумку и повертел, разглядывая. Она была кожаная, старинной работы, крепкая.
Сет Хамвес поставил кораблик на землю и спустя несколько мгновений перед глазами изумленного ткача вырос большой прекрасный корабль. Вид серьезных деревянных гребцов заставил Бату улыбнуться по-детски. Эта улыбка очень понравилась братьям. Они почувствовали его близким и милым.
Сет Хамвес и Йенхаров попытались поднять саркофаг, но саркофаг был словно налит свинцом, они не в силах были сдвинуть его с места.
— Как же быть? Как поднять саркофаг на палубу? — забеспокоился Бата.
— Подождем, — ответил Сет Хамвес.
С корабля спустилась веревочная лестница. Братья немного заколебались, не знали, подниматься им или все же изыскать какой-нибудь способ для того, чтобы поднять саркофаг.
— Если спустилась лестница, мы должны подняться, — решил Сет Хамвес.
Он поднялся первым, за ним последовал Йенхаров. Бата стоял у повозки, запряженной мулами. Внезапно каменный саркофаг взлетел, как пушинка, и очутился на палубе. Корабль начал подниматься в воздух.
— Прощай, Бата! Прощай! — закричали братья.
— Прощайте, чужеземцы! Передайте мой привет духу моего предка! Скажите ему, что род его не пресекся! — молодой ткач замахал рукой.
Вскоре земля скрылась из вида и корабль полетел в голубом пространстве.
— Все же это странно, — тихо начал Йенхаров. — В одной своей жизни Бата — несчастный влюбленный, верный друг, и все это совсем сказочное, а в другом своем бытии — он простой человек и рождались от его семени простые, обыкновенные люди.
— Странно это, — согласился Сет Хамвес, — хотя кто знает, какие люди рождались и еще родятся в роду Баты.
Братья замолчали, с детской радостью наслаждаясь быстрым полетом. Они даже не заметили, что корабль начал снижаться. Вначале им показалось, что они просто опустились чуть ниже, и воздух сделался ярче. Но они быстро поняли, что корабль стремительно снижается и несется навстречу ярко-голубой воде.
Корабль приземлился на гладком выступе гранитной скалы. Братья поглядели вниз. Огромное озеро круглой чашей стояло внизу, ограненное темными скалами. Пронзительная голубизна спокойной воды потрясала. Сет Хамвес и Йенхаров замерли в восхищении.
— Ради того, чтобы это увидеть, я бы отправился куда угодно, за каким угодно свитком! — Йенхаров глаз не мог отвести от голубой чаши.
— Это удивительно! — Сет Хамвес полной грудью вдохнул чистый воздух.
Братья стояли на палубе, держась за руки, распрямившись.
— Должно быть, тот продолговатый деревянный ящик с телом Ахуры лежит на дне этого удивительного озера, — проговорил Сет Хамвес.
— Но ведь Марйеб и Бата похоронили ее в пустыне, — удивился Хари.
— Да, в пустыне, где когда-то давно было морс, а теперь — горное озеро. Тысяча лет — и все меняется. Дома на месте кладбища, озеро там, где расстилалась пустыня.
— Ты уверен, что она здесь?
— У меня такое чувство, — ответил Сет Хамвес.
— Тогда как достать?.. А, впрочем, я понял!
— Нырнуть, да?
— Ну, конечно!
— Мне даже вдруг показалось, что старый жрец послал нас на поиски свитка Познания именно потому, что мы с тобой хорошие ныряльщики. Он просто все предвидел, — Сет Хамвес пожал плечами.
— По-моему, это ты слишком, — прошептал в ответ Хари.
— Тогда почему ты шепчешь? Боишься, он услышит?
— Ну-у, — смутился Йенхаров. — Я ведь в точности не знаю…
— Ладно. Ныряем?
Хари кивнул.
Братья разделись и взошли на корму. Прямо под ними и перед ними пронзительно голубела вода.
Прыгнув разом, они долго летели вниз в чистом светлом воздухе, вытягиваясь легкими гибкими телами. Им вдруг показалось, будто они нырнули в небо.
Пронзительная голубизна взметнулась брызгами. Вода была прохладной, но не ломила тело, а лишь бодрила. Дно покрывал ровный чистый песок теплого желтого цвета. Поразило братьев то, что озеро было пустым, не водились в этой голубой воде рыбы, не ютились на дне рачки. Несколько раз дыхание прерывалось и приходилось всплывать, жадно хватая воздух широко раскрытыми ртами.
Но вот братья заметили выпуклость в подводном песке. Скользнули к ней, принялись отгребать песок, это оказалось совсем нетрудно. Вот и деревянный ящик. До чего же он легкий! Братья освободили ящик от песчаного покрытия. И тотчас ящик легко всплыл на поверхность. Сет Хамвес и Йенхаров устремились следом.
Вынырнув, они увидели ящик, летящий прямо к палубе. Они почувствовали, как их вскинуло вверх. И оба очутились на корабле, а рядом с ними — саркофаг с телом Баты и деревянный продолговатый ящик, в котором погребена Ахура.
Глава тридцать шестая Узнавание
В последний раз братья посмотрели восторженно на ограненную темными скалами голубую чашу озера.
Корабль стремительно взмыл в небо. На этот раз они летели еще быстрее. Такая быстрота поражала воображение, не хотелось говорить, произносить какие-то слова, после такой пронзительной голубизны, во время такого стремительного полета.
Братья ожидали чего угодно, но только не того, что произошло. Вдруг ожили деревянные гребцы. Оставив красно-белые весла, они поднялись на ноги и, будто не замечая Сета Хамвеса и Йенхарова, принялись громко петь и танцевать вокруг обоих гробов.
В свою сестру влюбился я. Девушка, стань моей женою. Как счастлив я, как счастлив я. Девушка, стань моей женою. Повозки, груженые добром, везут приданое в новый дом. Как счастлив я, как счастлив я. Девушка, стань моей женою!— Свободны!
— Свободны!
— Мы свободны!
Голоса оживших гребцов звучали нестройно и радостно.
Корабль начал распадаться. В разные стороны полетели парус, снасти, резной цветок, корма и нос. С веселыми возгласами кувыркнулись в голубое пространство гребцы. Вот и Сета Хамвеса и Йенхарова уже несет по воздуху. Знакомое уже головокружение, мгновенная потеря сознания…
Сет Хамвес и Йенхаров, чисто одетые, стояли в голубой, изящно обставленной комнате, где их принимал прежде Марйеб.
Появился Бата.
— Благодарю вас, — Бата поклонился братьям.
— Значит, тела уже здесь? — спросил Йенхаров.
— Да, торжественно ответил Бата. — И тело Ахуры, набальзамированное и в подобающем ей саркофаге, покоится рядом с телом ее супруга. И мой гроб здесь.
— Твой потомок, носящий твое имя, передает тебе привет. Он просил также передать тебе, что твой род не пресекся, он очень похож на тебя, — сказал Хари.
— Благодарю! — Бата снова склонился в поклоне. — А теперь я должен уйти. Сейчас вы увидите Ахуру, а у меня нет сил видеть ее. Прощайте и будьте счастливы!
С этими словами он исчез.
И тотчас в комнате появились Марйеб и Ахура. Ми нес небольшой железный сундук. Ахура ступала легко. Все ее движения и жесты выражали неизъяснимую прелесть. Воистину это была небесная, божественная женственность. Ни тени обычного женского кокетства, никакой хитрости, одна лишь нежность и безоглядная доброта и чистота, одухотворенные неким высшим началом. Нежностью мягко сияли ее продолговатые темные глаза под черными бровями, ее спускающиеся на плечи в затейливой прическе черные волосы. Черноволосую голову Ахуры украшал гладкий золотой венец, усаженный сверкающими пронзительной чистотой голубизны, словно голубая вода в чаше горного озера, яркими сапфирами. Легкое белое платье с тонкими, летящими до локтей, широкими, словно крылья, рукавами, стягивал на талии золотой пояс, концы которого спускались низко к изящным обнаженным ступням. Золотой узорный округлый воротник ниспадал на плечи. Гладкие золотые браслеты обнимали точеные запястья. Очаровывали нежная смуглость лица и белизна зубов, мгновенно раскрывшаяся в улыбке…
Пауль ощутил, что и Йенхаров и Сет Хамвес потрясены. Но их потрясение было совсем иным, нежели его потрясение. Им было удивительно и странно. Они, быть может, после часто будут вспоминать о том, что среди других чудес видели и это чудо. Но для него, для Пауля, это не было просто чудом, случайно явившимся на его жизненном пути, это было сутью, смыслом его жизни, чем-то мучительным, саднящим душу… Теперь он понял, кого напоминала ему обращенная в чудовище Ахура. Саму себя истинную! Пауль узнал ее. Это была она. Юная очаровательная принцесса, душа женщины, прочитавшей магические слова и открывшей для себя абсолютное сладостное Познание, он прежде видел ее на грязном пустыре, на зимней улице в канун Рождества. Но это его «прежде» произойдет в ее жизни позднее, сейчас он как бы вернулся назад. Но та девочка, нищая, чужая, это она…
Ахура нежно поблагодарила братьев.
— Теперь вы с ним уже не расстанетесь, — Йенхаров указал ей на Марйеба.
— Увы, нет, — лицо Марйеба чуть погрустнело. — Нашим душам еще придется разлучаться, для новых земных воплощений, для горестных странствий в мире живых, таком манящем и таком печальном. Но сейчас не будем об этом говорить, не будем омрачать сегодняшнюю радость…
«Вот почему я смогу ее увидеть», — подумал Пауль…
— Но когда-нибудь вы соединитесь навеки? — вдруг спросил Сет Хамвес.
— Да, — кивнул Марйеб. — Когда-нибудь навеки.
Марйеб величественно приблизился к братьям и протянул Сету Хамвесу железный сундук.
— Ты знаешь, что это, Сет Хамвес. Передай это моему отцу и скажи, что я по-прежнему остаюсь любящим сыном и помню все то, чему он учил меня. Прощайте, братья, и будьте счастливы!
— Прощайте и будьте счастливы, Сети и Хари! — прозвучал нежный голос Ахуры…
И все заволокло туманом, давящим, плотным, словно одеяло. Клонило в сон, слипались глаза…
Солнце стояло высоко. Сет Хамвес чувствовал, как жаркие лучи согревают веки закрытых глаз. Спать больше не хотелось. Юноша открыл глаза.
Он лежал под тентом на палубе. Корабль плыл вниз по реке. Эти берега он уже видел. Когда? Кажется, очень давно. Ему снился странный сон. Давно. Сет Хамвес узнал корабль. Вот и капитан, ироничный, с кудрявой бородой финикиец.
«Куда я плыву? Ах да, я плыву домой. Это ясно. И тогда — откуда же я возвращаюсь? Мне снился странный сон — какие-то странные приключения, превращения, какой-то жрец древнего заброшенного храма…».
Сет Хамвес потянулся и широко зевнул. Взгляд его случайно задержался на небольшом железном сундуке, стоящем рядом с ним на циновке. Что это? Он сел, наклонился над сундуком и раскрыл его.
На какой-то миг возникла мысль о младшем брате.
«Где Хари?» — подумал Сет Хамвес. Но мысль мелькнула и пропала.
Содержимое железного сундука оказалось странным. Сет Хамвес пытался понять, что же это такое, какую имеет ценность и как попало к нему…
Глава тридцать седьмая Вновь Регина
Пауль Гольдштайн откинулся на спинку стула. Голова разламывалась, как это часто бывает после долгого сна, застигшего тебя в сидячем положении. Да, он так и спал, сидя на жестком сиденье венского стула, положив голову на руки, опираясь на письменный стол.
Пауль словно бы медленно выплывал из глубины какого-то путанного тяжелого сна. Снилась какая-то чертовщина, древнеегипетская мистика. Это все, конечно, после музейных залов и библиотечного чтения. Но в который раз ему остается признать, что природа наделила его весьма богатым и крайне интенсивно работающим воображением. Попробовать записать, что ли? Пока не забылось. Или сначала выпить кофе? Нет, записать, а после выпить кофе.
Пауль принялся искать среди множества исписанной бумаги чистый листок. Ему показалось, что нашел. Он потянул листок из-под толстого орфографического словаря. Но нет, и здесь он уже успел что-то нацарапать. Пауль почти с отчаянием оглядел стол…
Громкие женские голоса неприятно удивили его. Здесь, в квартире фрау Минны такого не бывало. Голоса звучали все сильнее, все более раздраженно. Пауль поднялся из-за стола. Кажется, голоса приближались к его двери. Он узнал их. Сердитый, с провизгом голос принадлежал фрау Минне. Но прежде она таким голосом не говорила. Второй женский голос…
— Нет, — сердито говорила фрау Минна. — Нет, это невозможно. Моя квартира — не притон и не дом свиданий. Это бесстыдство! Я не позволю вам!
— Но я прошу вас! Это смешно, наконец! Это по меньшей мере странно! — умолял настойчиво второй женский голос.
Пауль узнал голос Регины!
Он поспешно распахнул дверь своей комнаты и вышел навстречу обеим женщинам.
— Фрау Минна, — обратился он к хозяйке. — Эта дама вполне порядочная особа, мы с ней давно знакомы. Впрочем, если вы желаете, мы сию минуту уйдем, чтобы не беспокоить вас, — Пауль едва сдерживал смех, произнося эти нелепые фразы, но все же, по его мнению, именно так следовало говорить с квартирными хозяйками типа фрау Минны.
Лицо фрау Минны приняло обычное равнодушное выражение. Плотная ее фигура отодвинулась в сторону, неохотно давая дорогу Регине. Регина быстрыми шагами вошла в комнату Пауля.
Только теперь, захлопнув дверь, он смог разглядеть ее. Да, это была она, Регина Фосс. Черная шапочка под вуалью, потертая чернобурка свесилась с плеча. Он невольно глянул на ее ноги, обутые в маленькие черные ботики. Из-под вуалетки блеснула ее женственно-кокетливая улыбка.
— Не ждал? — она снова улыбнулась.
— Честно говоря, нет, — он подошел, обнял ее за плечи, откинул вуалетку и поцеловал молодую женщину в нежный чувственный рот.
Едва их губы соприкоснулись, как Пауль ощутил знакомое возбуждение. Языком он раздвинул эти нежные влажные губы, чуть благоухающие помадой. Несколько минут они молча целовались.
— Тише! — Регина шептала, задыхаясь, запрокидывая голову, улыбаясь. — Твоя хозяйка услышит.
Пауль, не отвечая, расстегивал пуговицы на ее стареньком пальтишке. Рука его скользнула под платье. Он узнал его на ощупь — то самое, черное, с парчовыми вставками.
— Стоя? — задыхаясь прошептала Регина.
Он что-то тихо промычал, а рука привычно ощупывала… Он почувствовал, что нежные цепкие пальцы Регины уже овладели его телом…
Было какое-то странное, немного мазохистское удовольствие в том, чтобы проделывать это вот так, на скорую руку, стоя у неразобранной постели…
Когда все было кончено, оба быстрыми движениями, сдавленно смеясь, привели себя в порядок. Регина присела у стола.
Она сняла шляпку, озорно тряхнула светлыми волосами. Она сидела в расстегнутом пальто и глядела на Пауля чуть насмешливо и с каким-то радостным лукавством.
— Скучал? — тихо спросила она.
— Сходил с ума, — он улыбнулся в ответ. — Засыпал в горячечном бреду и видел во сне какие-то нелепости из жизни Древнего Египта. Представляешь?
Пауль произнес все это быстро, почти на одном дыхании и тотчас почувствовал, что лжет. Зачем он назвал все то, что он увидел и пережил, «нелепостями»? Это неправда. Он воспринимал все это вполне серьезно. Он отлично помнит их всех, Сета Хамвеса, Йенхарова, Бату, Марйеба. Он даже готов признать, что Регина напоминает ему Атину, греческую возлюбленную Марйеба, и еще… ту девушку, которая когда-нибудь, он и сам не знает, когда, будет писать ему, Паулю, письма. Ну да, все эти кошмары о будущем, которое ждет впереди… И сын… У него будет сын, с которым ему не суждено познакомиться… Этот сын будет похож на Марйеба, то есть, это и будет Марйеб, Ми…
Нет, это все хождение вокруг да около, а есть основное. Да, оно существует. Оно… Она!.. Ахура! Душа красавицы, обретшей Познание и погибшей. Цыганская девочка на пустыре, на зимней улице в канун Рождества. И что бы он ни делал, во все мгновения его жизни она всегда будет существовать в его памяти, в его сознании. В его сердце. Но об этом невозможно сказать Регине…
И откуда это ощущение опасности, мнимости, лживости… Сейчас, когда перед ним сидит Регина, эта, в сущности, очаровательная, немного взбалмошная молодая женщина, дитя большого города…
Нет, все фантазии, сплошные фантазии, поэтический бред, игра воображения…
— О чем ты думаешь? — спросила Регина, машинально перебирая наброски на столе.
Он не понимал почему, но возникло сильное желание остановить ее, сделать так, чтобы она оставила его бумаги в покое. Положительно, он сходит с ума!
— О тебе, — ответил он, чувствуя, что не сводит глаз с ее цепких женственно-гибких пальцев. — Думаю о тебе. Почему ты исчезла?
— Можно не отвечать? — голос ее звучал чуть вызывающе.
— Можно, — Пауль улыбнулся с мужской снисходительностью и пожал плечами.
— Вот и хорошо, — она потянулась к нему и потрепала его по волосам.
Он смешливо повел головой.
— У тебя не найдется чистого листка? — она прищурилась и оглядела стол. — Все-то у тебя исписано, исчеркано, исчерчено. Соскучилась по тебе ужасно!.. Да вот, кажется, чистый лист, — она указала на листок, который Пауль наполовину вытянул из-под толстого орфографического словаря. — Дай мне. Я напишу тебе свой новый адрес.
Пауль, почему-то с нелепым ощущением ужаса, приподнял словарь и взял листок.
— Нет! — внезапно крикнула Регина. — Нет! Дай мне!
Быстрые шаги раздались в коридоре.
Пауль прочел…
«ВОЗЬМИ ВСЕ».
… прочел Сет Хамвес, вынув из золотой шкатулки папирусный свиток…
На мгновение у него потемнело перед глазами…
Он стоял в обширном зале. Стены были расписаны изящными сложными рисунками. Он приблизился к окну. Глазам открылась широкая площадь. Окно было высоко. Люди, кони, колесницы казались маленькими. Сет Хамвес узнал эту площадь. Это Мемфис. Он не знал, как он очутился в Мемфисе, но знал, что он живет здесь, что сейчас он находится во дворце, принадлежащем ему. Прежде была какая-то другая жизнь. Он попытался вспомнить… и не смог…
Зрелище, открывшееся его глазам, заставило его сердце буйно забиться. Чувства его словно пробудились для новой полной и сильной жизни, и спешили наверстать упущенное. Лицо горело. Губы приоткрылись. Тело было охвачено сладостно-мучительным возбуждением. Как он мог жить прежде? Он жил как-то пресно, размеренно, скучно. Он не был мужчиной, не ведал, что такое страсть…
Глава тридцать восьмая Табубу
На площади, мимо дворца, двигалось прелестное шествие. Вереница нарядных рабынь и служанок окружала открытые носилки. Вооруженные рослые слуги охраняли девушек. А в носилках восседала роскошно одетая красавица в пышном светлом парике. То, как она повернула голову, как положила на чуть приподнятое колено изящную руку, ее подведенные золотым порошком глаза, окрашенные красным губы, припудренные щеки — все излучало женственную чувственность, сильную, коварную, властно влекущую. Глаза ее чувственно щурились, и ресницы казались острыми стрелами, черными, пронзающими сердце. Сету Хамвесу хотелось схватить эту юную женщину, смять ее прическу, броситься на ее тело, искусать ее губы и щеки… Желания томили и горячили кровь…
Сет Хамвес громко хлопнул в ладоши. Прибежал слуга.
— Ступай, узнай, кто это и где ее дом!
Слуга быстро воротился.
— Господин, это дочь верхового жреца богини Бастет из города Бубастиса.
Сет Хамвес вдруг ощутил странную широту, безоглядность. Он понял, что для него в этом мире мало невозможного. Это давало уверенность в себе. Но в то же самое время где-то в отдалении смутно маячили пресыщение и усталость. Но о пресыщении и усталости думать не хотелось.
Сет Хамвес приказал снарядить самый красивый и быстроходный корабль как можно скорее. Он взволнованно походил по залу, осмотрел несколько богато убранных комнат. Снова вернулся в зал. Через час слуга доложил, что корабль ждет в порту.
Сету Хамвесу принесли пару позолоченных сандалий. Он обулся, посмотрелся в огромное полированное бронзовое зеркало, вделанное в стену, увидел, что выглядит прекрасным и величественным. В первое мгновение он даже не мог узнать себя.
Сет Хамвес спустился по мраморным ступенькам парадной лестницы, прошел под высокими каменными сводами, мимо статуй божественных быков — хранителей входа. Он сел в колесницу и пустил лошадей вскачь. Следом верхами двигались его слуги. Сет Хамвес видел, как люди почтительно кланяются ему. Он величественно склонил голову в ответ. Но кто он и за что его так почитают, он не знал.
В порту он взошел на свой ослепительной красоты корабль и отплыл по Нилу в город Бубастис.
Когда корабль пристал к берегу, первое, что бросилось в глаза Сету Хамвесу, была шумная и веселая толпа паломников, направляющихся в храм богини Бастет. Торговцы продавали маленькие статуэтки этой богини веселья, танцев и любви. Ее изображали в виде молодой женщины в узком, в обтяжку, платье, лукаво склонившей кошачью свою головку. Богиня Бастет — женщина-кошка.
Один из слуг Сета Хамвеса спросил, как найти дом дочери верховного жреца. Ему указали дорогу. Сет Хамвес сел в открытые носилки. Слуги торжественно двинулись следом. Двое рослых черных рабов несли Сета Хамвеса.
Дворец красавицы Табубу терялся в роскошном густом саду. Такой сад Сет Хамвес видел впервые. Пальмы тихо покачивали огромными листьями. Зеленели тамариски. В зелени плодовых деревьев румянились персики, круглились гранаты. Медовыми гроздьями свешивались финики с верхушек финиковых пальм. Ветвистые сикоморы отбрасывали нежную тень на мягкую траву, душистым ковром устлавшую лужайки. Россыпями алых рубинов сияли пышные клумбы ароматных цветов. Дуновение ласкового благоуханного ветерка освежило пламенеющее лицо Сета Хамвеса.
На гранитной лестнице встретила Сета Хамвеса сама красавица Табубу, увешанная драгоценными украшениями, сверкающими золотом и дивными камнями. Она приветствовала гостя и каждый изгиб ее тела, чувственный наклон ее головы и гибкой стройной шеи, — все будило желания.
Табубу ввела Сета Хамвеса в покой, стены которого были облицованы лазуритом. Деревянные шкафы тонкой работы были инкрустированы крупными изумрудами. Тонкие прозрачные занавеси из драгоценного полотна чуть колыхались, оттеняя высоту и стрельчатые очертания окон. Табубу собственноручно наполнила вином золотую чашу. Поставила кувшин на столик черного дерева, а чашу поднесла Сету Хамвесу.
— Пейте, — она улыбнулась влекущей страстной улыбкой.
Сет Хамвес не в силах был сделать ни глотка.
Табубу снова улыбнулась и отошла к стене. Она тронула гонг. Раздался металлический гортанный звук. Тотчас вошла нарядная служанка, неся на вытянутых руках серебряный поднос. Поднос пестрел сладкими плодами неведомыми Сету Хамвесу яствами и напитками в открытых блюдах и кувшинах. Служанка поставила поднос на столик и тотчас удалилась.
— Отведайте, — Табубу с улыбкой указала Сету Хамвесу на принесенное угощение.
Сет Хамвес смотрел прямо на нее и взгляд его выражал открытое бесстыдное желание.
— Не могу, — произнес он голосом, преисполненным мужской силы.
Накрашенные губы красавицы снова чуть раздвинулись в лукавой и немного хищной улыбке.
— Стань моей женой, Табубу, — произнес Сет Хамвес.
Он чувствовал, что перед ним женщина властная, порочная и злая. Но он желал владеть ею, наслаждаться ее чувственностью, изощряться в наслаждениях. Он хотел быть ее рабом и господином, изнывать от страсти, мучиться подозрениями, терзать ее и терзаться самому.
— Я стану твоей женой, — Табубу склонила голову в притворной покорности, — но прежде пусть все, чем ты владеешь, станет моим. Перепиши на меня все твое имущество.
Она подняла на него глаза, черные стрелы ее ресниц пронзали сердце.
— Да, — сдавленно произнес Сет Хамвес, — пусть приведут писца.
Табубу снова отошла к стене и тронула гонг.
Явилась давешняя служанка. Табубу приказала ей позвать писца.
Когда служанка вышла, Сет Хамвес быстрыми шагами подошел к столику и жадно, в несколько глотков, осушил золотую чашу, полную сладкого вина. Не успел он поставить пустую чашу на поднос, как вернулась служанка в сопровождении писца.
Вскоре была составлена дарственная по всем правилам, согласно которой все имущество Сета Хамвеса переходило еще при его жизни к его супруге Табубу. Писец сидел на циновке, скрестив ноги, и пристально смотрел то на Сета Хамвеса, то на красавицу Табубу. Табубу хмурилась.
— Что с тобой? — спросил Сет Хамвес, встревожившись.
— Ничего, — холеное лицо Табубу помрачнело. — Ведь у тебя есть младший брат. Неужели ты забыл? Конечно, он попытается оспорить мои права.
Сет Хамвес вспомнил, что у него действительно есть младший брат по имени Йенхаров. Кажется, они дружили, в детстве. Он давно не видел Йенхарова и ощутил его чужим себе. Да, да, родной брат, он имеет какие-то права на имущество Сета Хамвеса; он будет помехой… Сет Хамвес досадливо сдвинул брови.
— Что я должен сделать? — он обернулся к Табубу.
— Решай сам, — плавным движением она заложила руки за спину.
— Пусть это сделает кто-нибудь из твоих слуг, — быстро произнес Сет Хамвес.
Табубу сдержанно кивнула.
Затем она приказала писцу и служанке удалиться.
Когда они ушли, Табубу приблизилась к одной из стен и провела кончиком пальца по едва приметному выступу. Отворилась дверь и показался человек в темной одежде. Лицо его было прикрыто черным платком. Он сделал шаг вперед и поклонился Сету Хамвесу и красавице Табубу.
— Можешь приказать ему; он исполнит все, что ты пожелаешь, — обернулась Табубу к Сету Хамвесу, — и будет молчать, — добавила она, зловеще улыбнувшись.
Не мешкая ни мгновения, Сет Хамвес обратился к человеку в темной одежде.
— Доберись до Мемфиса. Там отыщешь моего брата. Его имя Йенхаров. Сделай так, чтобы его на стало.
— Что же я должен сделать, — пришептывая по-змеиному, спросил человек в темном, — быть может, увезти его далеко и там продать в рабство?
— Нет, — быстро откликнулась Табубу.
— Нет, — как эхо, повторил Сет Хамвес.
— Быть может, я должен оставить его в пустыне или бросить в колодец? — продолжал спрашивать человек в темной одежде.
— Нет, нет, — раздраженно отвечала Табубу, — его могут спасти.
— Да, его могут спасти, — повторил Сет Хамвес.
— Что же я должен сделать?
Сет Хамвес облизнул пересохшие внезапно губы. На какое-то мгновение он почувствовал, что ему трудно высказать свое желание, облечь в слова, сказанные громким голосом. Он предпочел бы, чтобы его желание было угадано. Табубу и человек в темном ждали.
— Ты должен убить его! — быстро, как только мог, проговорил Сет Хамвес…
И сразу же тело пронизала мучительная боль, словно ожгли раскаленным железом кожу. В висках застучало. Страшный холод сковал члены.
Сет Хамвес открыл глаза.
Он лежал на горячем песке. Боль не отпускала. Он с трудом приподнял голову. Вокруг — безмолвная, жаркая, бескрайняя пустыня. Он помнил красавицу Табубу и помнил, что только что пожелал, чтобы умертвили его брата Йенхарова. Помнил он и о свитке Познания. Значит, он прочел таинственные слова. Но что это были за слова, он не помнил.
Значит, гибель. Но теперь, после того, как он хотел, чтобы убили Йенхарова, теперь все равно…
Сет Хамвес лежал ничком, обнаженный, на жгучем колючем песке. Он снова закрыл глаза…
Тихий голос старого Неферкептаха, жреца бога Нуна, заполнил гаснущее сознание юноши. Перед глазами прояснилось, силы постепенно возвращались.
— Сет Хамвес, ты спасен. Злым духам все же удалось соблазнить тебя, но ты не ведал, что творишь, ты не знал, что держишь в руках свиток Познания и читаешь магические слова. Ты прощен и спасен.
Сет Хамвес мгновенно припомнил себя на палубе корабля под тентом. Если бы он знал тогда!..
— Теперь ты видишь, — продолжил тихий мягкий голос жреца, — возможность властвовать над другими людьми и безоглядно предаваться плотским наслаждениям — вот что привлекает человека. И вот почему нельзя позволить ему овладеть абсолютным сладостным Познанием. Ты овладел им, сам того не сознавая. То, что произошло с тобой, — грубо и просто. Если бы ты овладел Познанием осознанно и не погиб тотчас же, сломленный его силой и чистотой, ты успел бы совершить много утонченного зла, прежде чем боги, спасая род человеческий, умертвили бы тебя. Но теперь ты все знаешь и обещаю тебе, ты сохранишь это знание. Ты прощен и спасен!
Глава тридцать девятая Кое-что проясняется
«Возьми все», — прочел Пауль на листке.
В первые секунды ему показалось странным само то, что он нацарапал на листке эти слова. Когда? Машинально, должно быть. А, впрочем, можно найти объяснение. Кажется, это Регина когда-то сказала ему, что она будет иметь все, или хочет иметь все. Да, что-то вроде того…
Дверь громко хлопнула. В комнату ворвались герр Оскар, жилец-коммивояжер, и фрау Минна.
Все трое, Регина, герр Оскар, фрау Минна, странно вытягивая головы, бросились к Паулю. Они вытягивали также и руки, явно стремясь вырвать из рук Пауля листок.
— Сам, сам, — кричал герр Оскар. — Он должен отдать сам.
— Он прочел, он прочел, — визжала фрау Минна.
— Мне, мне! — тонко вскрикивала Регина.
Тогда Пауль крепко зажал в пальцах листок, вовсе не собираясь никому отдавать его.
Коммивояжер, фрау Минна и Регина суетились вокруг него, но приблизиться не могли. Что-то не подпускало их к Паулю.
Паулю захотелось, чтобы они ушли. Он махнул в их сторону пресловутым листком. Они попятились к двери и, толкая друг друга, покинули комнату. Он подошел к двери и крепко, по-хозяйски, захлопнул.
Пауль вернулся к столу и сел. Ему не было страшно. Конечно, все это было невообразимо, фантастично, нелепо, но это было именно так. Он начал все понимать.
Эта бумажка, которую он держит в руке, и есть таинственный свиток Познания. Паулю он кажется обыкновенным бумажным листком, на котором по-немецки написаны два слова; Сету Хамвесу — папирусным свитком с иероглифами; еще кому-то — пергаментом, и так далее. Ибо человеку суждено видеть вместо истинного свитка Познания привычный писчий материал и привычные слова родного языка.
Сознание Пауля Гольдштайна магически сцеплено, скреплено с давно канувшим в прошлое сознанием Сета Хамвеса. Это стало возможным, потому что умирают люди, но не их чувства и мысли. Пауль был своего рода медиумом, через которого свиток Познания мог материализоваться здесь, в Берлине, в XX веке нашей эры. И вот, это произошло.
Что же теперь? Сет Хамвес прочел магические слова. И в тот же миг прочел их и Пауль. Но Сет Хамвес сделал это, сам того не сознавая, он не знал. И потому он прощен и спасен. Но ведь и Пауль полагал, что держит в руке обыкновенный бумажный листок с нацарапанными им самим каракулями. Значит, и Пауль не виноват и будет прощен!
Однако, кажется, нельзя выпускать этот листок из пальцев до тех пор, пока Сет Хамвес не передаст его старому жрецу.
Но кому понадобилось все это проделать с Паулем?
Пауль знал ответ и на этот вопрос.
Но ответить самому себе он не успел.
Привычным кружением подхватило сознание Пауля Гольдштайна и вот оно уже вновь преобразилось в сознание Сета Хамвеса.
Пауль ощутил теплоту и солнечный свет, и невольно улыбнулся радостно.
Глава сороковая Ренси
— Хари! Хари! — встревожено позвал Сет Хамвес, просыпаясь на палубе финикийского корабля. На циновке под тентом было хорошо. Приятно было дремать. Но Сет Хамвес должен был знать, что младший брат здесь, рядом. И что железный сундук в безопасности и никто кроме них двоих не возьмет его в руки.
Хари, дремавший на соседней циновке, присел, разбуженный голосом брата. Сундук стоял между ними. Оказывается, Сет Хамвес так и задремал, положив ладонь на его крышку.
Сет Хамвес помнил все.
— Тебе что, приснилось что-то страшное? — спросил Йенхаров.
— Да, мне во сне было предупреждение, что если я разверну свиток Познания и прочту магические слова, я причиню людям много зла и даже могу убить тебя.
Сет Хамвес сам удивился, как просто и правильно он сказал все это. А ведь опасался, что не в силах будет рассказать брату обо всем. Но теперь на душе полегчало. Сет Хамвес поведал Йенхарову о Табубу. Тот слушал с интересом.
— Мы должны беречь железный сундук, словно зеницу ока, — закончил свой рассказ Сет Хамвес. — Я не успокоюсь, пока не передам его старому жрецу.
— А я видел во сне Ахуру, — мечтательно произнес Йенхаров, вытягиваясь на циновке. — Она сказала мне, что по-прежнему дух ее владеет тайной абсолютного сладостного Познания и в наказание за это всякий раз, когда она будет возрождаться для земной жизни, она будет хранить в своем сознании, в своей душе смутную память о чем-то чудесном и страдать. Я хотел сказать ей что-то хорошее, утешить ее, но она исчезла. Я думаю, когда-нибудь мне встретится девушка, схожая с ней, и тогда я женюсь.
— Смотри, Йенхаров! Это ведь будет необыкновенная девушка!
— Значит, я женюсь на необыкновенной девушке, — Йенхаров закинул руки за голову.
— А как же Ренси?
— Не знаю, — Хари лукаво покосился на старшего брата.
— Вижу, что мне самому придется жениться на ней.
— Ну, если тебе очень хочется…
Сет Хамвес шутливо погрозил брату кулаком.
— Хотел бы я знать, как мы попали на корабль финикийца? — задумчиво произнес Хари.
— Магия, — Сет Хамвес пожал плечами. — За все это время я уже успел привыкнуть к магии. Трудно будет отвыкнуть, а придется. И вот интересно, что думает финикиец. Сможет ли он объяснить нам, каким образом мы снова оказались на корабле. Мы ведь плывем домой. А когда мы плыли к устью Нила, нас волной смыло за борт во время бури. Интересно, что он может сказать обо всем этом?
— А ты встань и спроси.
— Честно говоря, лень.
— Ну, тогда подождем, может быть, он сам заговорит.
— Вот это лучше.
Братья лежали на циновках, наслаждаясь плавным ходом корабля.
Финикийский капитан с кудрявой бородой заглянул под тент и спросил, не проголодались ли они.
— Пожалуй, — отозвался Сет Хамвес.
— Это и не удивительно. Я сам, когда выздоравливал от лихорадки, мучился зверским голодом.
— Мы были больны лихорадкой? — спросил Йенхаров.
— И еще какой! Бредили, кричали, рвались куда-то, толковали о бурс. Пришлось пристать к маленькому острову и снести вас на берег. А всего имущества у вас с собой — вот этот сундучок, — капитан указал пальцем на маленький железный сундук. Я думал, там золото. Хотел было открыть, чтобы заплатить хозяину харчевни, который вызвался приютить вас на время болезни и позвать лекаря, гляжу, а сундук не открывается. Пришлось дать свои деньги.
— Мы вернем вам эти деньги, — серьезно сказал Сет Хамвес. — Отец наш — Инпу, управляющий храмовым хозяйством бога Ра. Всякий укажет вам дорогу к нашему дому. Приходите и вы получите ваши деньги. Но что же было дальше?
— Да ничего особенного. Вас оставили на острове. Корабль мой отплыл к устью Нила, а на обратном пути, через несколько дней, мы решили взять вас. Вы были еще больны. Я не знал, куда вы желали плыть, и потому решил, что следует доставить вас обратно домой. Я ведь успел узнать, кто ваш отец, — капитан усмехнулся.
Братья переглянулись.
— Мы на вас не в обиде, — сказал Сет Хамвес. — Мы и сами предпочитаем возвращение домой опасному путешествию в неведомые страны.
Капитан велел, чтобы братьям принесли поесть. После еды Йенхаров обратился к Сету Хамвесу:
— И что ты думаешь о рассказе нашего капитана, Сети?
— Да ничего. Все та же магия. Как скучно будет жить без нее первые дни дома.
— На свадьбе развеселимся, — Хари скорчил гримасу.
Сет Хамвес невольно расхохотался.
Они благополучно пристали к берегу. Крепко держа небольшой железный сундук, Сет Хамвес пробрался сквозь обычную портовую толчею и направился к заброшенной дороге, к древнему храму Нуна, бога предвечного океана. Следом за ним поспевал Йенхаров.
— Нарви цветов, Хари, — велел Сет Хамвес. — Мы возложим их на алтарь.
Йенхаров послушно начал срывать придорожные цветы. Вскоре он уже нес целый букет скромных цветов.
— Конечно, это не то что садовые цветы или спелые плоды, а тем более, жареный гусь или бочонок пива, зато мы искренни в нашем преклонении перед милостью древнего Нуна, бога предвечного океана, — сказал Сет Хамвес.
Без приключений добрались братья до заброшенного храма. Тихо вошли и возложили на алтарь цветы.
Было так странно. Они столько пережили, столько чудес видели, а здесь по-прежнему тихо, покойно, словно бы и не было на свете никаких приключений, никаких страстей.
Сет Хамвес поднял повыше железный сундучок.
— О Неферкептах, жрец мудрейшего Нуна, мы принесли тебе то, о чем ты просил. Возьми! Твой сын шлет тебе привет. Он по-прежнему любит тебя и помнит все то, чему ты учил его. Он добр, благороден и ни в чем не повинен.
Голос юноши гулко отдавался под сводами древнего храма.
Сет Хамвес замолчал. Братья ждали ответа, но молчание царило вокруг.
— Мне кажется, мы должны открыть сундук, — прошептал Йенхаров, склоняясь к брату.
Сет Хамвес кивнул, соглашаясь.
Он поставил сундук на пол, взялся за крышку и она легко открылась. Но едва он вынул из железного сундука сундучок бронзовый, как железный тотчас растворился, растаял в воздухе. А когда в руках Сета Хамвеса оказался деревянный сундучок, исчез бронзовый. То же случилось со шкатулкой из слоновой кости и со шкатулкой из серебра. Наконец в руках Сета Хамвеса осталась заветная золотая шкатулка. Он почувствовал, как забилось сердце, когда он открывал ее. Ему казалось, что он может помимо своей воли развернуть свиток и прочесть роковые слова.
Золотая шкатулка исчезла. Сет Хамвес бережно удерживал на ладонях вытянутых рук свернутый папирусный свиток.
И вдруг он ощутил, как ладоням сделалось легко и свободно. Свиток Познания растворился в воздухе, как и вмещавшие его шкатулки и сундуки.
— Благодарю вас, Сет Хамвес и Йенхаров, — раздался голос старого жреца. — Благодарю вас за все. Теперь я покидаю этот храм. Прощайте и будьте счастливы.
Очертания храмовых колонн и сводов сделались зыбкими, призрачными. И вот уже братья стояли на широком лугу, поросшем чудесной зеленой травой, из которой выглядывали желтые сердцевинки нарциссов, окруженные белыми лепестками.
— Смотри! — Йенхаров вытянул руку.
На дороге, прижимая обеими руками к груди букет цветов, остановилась девушка в голубом платье. Ее каштановые волосы были стянуты на затылке красной лентой. Спокойное чистое лицо выражало детское изумление.
— Я бегу, — сказал Йенхаров брату. — Надо поскорее сказать родителям, что мы вернулись. Будем ждать вас.
Хари стрелой промчался мимо изумленной девушки и вскоре скрылся вдали.
Осторожно обходя цветы, Сет Хамвес пошел навстречу девушке.
— Здравствуй, Ренси! Ты шла сюда?
Она смущенно кивнула.
— Ты знала, что мы уже здесь?
— Да, я видела, как вы шли мимо нашего дома, — она немного осмелела. — Я хотела прийти раньше вас и возложить на алтарь цветы в благодарность за ваше счастливое возвращение. Но вы опередили меня.
— Ты отдала наше письмо родителям?
— В тот же вечер. Ваша мать приносила жертвы всем богам, молилась о вас. Но я думала, вы вернетесь позднее.
— Тебе так хотелось?
— Нет, нет. Просто я как-то настроилась на то, что тебя долго не будет и я все смогу обдумать. Понимаешь, когда ты был здесь, мне было больно, потому что… я знала, что ты не любишь меня. А когда ты уехал, я ждала тебя и мне казалось, что ты немного полюбил меня.
— Это правда, Ренси. Только не произноси этого слова «немного». Я просто полюбил тебя. Это правда.
Девушка протянула ему цветы. Он принял букет.
— И ты не побоялась прийти сюда, в этот заброшенный храм? — спросил он.
— Я ведь знала, что ты ходишь сюда. И однажды я решила прийти сюда одна. Это случилось вскоре после твоего отъезда. Я взяла с собой маленький кинжал, который мать оставила мне в наследство; наполнила корзину спелыми плодами, и в полдень, когда моя старая кормилица уснула, я отправилась сюда. Оказалось, что здесь совсем не страшно. Я возложила плоды на алтарь и помолилась богу, во имя коего был воздвигнут этот храм. Я не знала, что это за бог. И вдруг раздался мягкий голос: «Не бойся, Ренси. Здесь никто не причинит тебе зла». Я вздрогнула, обернулась и увидела старого человека с добрым лицом. Его звали Неферкептах. А храм этот был посвящен милостивому Нуну, богу предвечного океана. И Неферкептах был жрецом Нуна. Он много рассказывал о тебе. И о свитке Познания он мне рассказал. Я ему говорила, что ты не развернешь свиток, не прочтешь страшные слова, и он верил мне.
— Скажи, Ренси, а ты сама хотела бы увидеть свиток Познания и начертанные на нем письмена?
— Нет, Сети, не хотела бы, — серьезно ответила девушка. — Почему? Может быть, это дурно, но я не могу хотеть невозможного, мечтать о недостижимом.
— Значит, когда ты мечтала обо мне, ты верила в то, что я когда-нибудь полюблю тебя?
— Мне было все равно. Я просто привыкла любить тебя. Порою мне кажется, что я любила тебя всегда.
— А о своем сыне старый жрец рассказывал тебе?
— Рассказывал. Он очень любит его.
— И ты знала, что после нашего возвращения храм превратится в цветущий луг?
— Что ты, нет. Знаешь, по-моему, даже сам жрец Неферкептах об этом не знал.
— А твой отец здесь?
— Должен вернуться на днях. Может быть, даже сегодня.
— Что ж, пойдем, Ренси. Наверное, нас уже ждут.
Одной рукой удерживая букет, Сет Хамвес протянул другую девушке. Они медленно пошли по дороге, миновали усадьбу Дутнахта. Они шли молча. Изредка приостанавливались и смотрели друг на друга. И смешливо улыбались.
Они уже подходили к дому Инпу, отца Сета Хамвеса и Йенхарова, когда навстречу им кинулся нетерпеливый и радостно возбужденный Хари.
— Сети! Ренси! Вернулся Дутнахт! Твой отец, Ренси! Вернулся сегодня. Он привез добрую весть из Мемфиса. Сети! Твое толкование сказания о путешествии богини Исет признано лучшим! Дутнахт привез приглашение. Наверное, тебя включат в жреческую коллегию.
— Поедем в Мемфис, Ренси? — Сет Хамвес обернулся к девушке. — Поплывем на корабле твоего отца.
Девушка кивнула, покраснев.
— А как дальше, не знаю, — задумчиво продолжал Сет Хамвес. — В городе мне, честно говоря, не хочется оставаться. Там ссоры, козни, интриги. Каждый стремится что-то отнять у другого. Я предпочел бы сделаться жрецом отдаленного храма, изучать древние сказания и писать самому. А ты что скажешь, Ренси?
— Я согласна с тобой…
И тут Пауль перестал понимать их. Язык, на котором они говорили, снова сделался ему непонятен; странный, экзотический, птичий, щебечущий язык. Пауль уже не был Сетом Хамвесом. Пауль был только собой, Паулем Гольдштайном. И он уже не видел ни Сета Хамвеса, ни его брата Йенхарова, ни Ренси.
Он сидел в своей комнате за столом. Бумажный листок растворялся, таял в воздухе. Что же там было написано? Пауль уже на помнил…
Значит, конец. Так неожиданно. Он совсем не был готов к этому. Он даже не простился со своим Сетом Хамвесом, с милым Хари. Конец. Теперь он больше никогда не увидит их.
Как же он будет жить? Как Бата, друг Марйеба? Внешне, для всех, одной жизнью, бедной, скучной, порою тягостной, а в душе — совсем иной жизнью — бурной, яркой, счастливой, полной. Неужели будет так?
Надо все записать!..
Глава сорок первая Трое несчастных
Пауль схватился было за блокнот, но вдруг вспомнил, где он, собственно, находится, он Пауль Гольдштайн.
Ведь еще недавно он самому себе задал вопрос, кому и зачем понадобилось связывать его сознание, его чувства с чувствами и сознанием Сета Хамвеса, юноши, жившего, должно быть, в царствование одного из Рамзесов.
Пауль мог ответить на этот вопрос.
Вероятно, какое-то магическое знание было оставлено ему, и с помощью этого, почти интуитивного знания (а, может быть, оно только воспринимается как интуитивное) он что-то прояснил для себя теперь.
Сквозь плотно закрытую дверь он видел коридор. Увидел, потому что захотел увидеть. В коридоре поджидали три существа, достаточно необычных.
Фрау Минна. «Минна» — «горничная», «прислуга» и старинное поэтическое «минне» — «любовь». Занятное имя выбрала себе Алама для своего берлинского бытия. Впрочем, что такое «алама»? Конечно, тоже какое-нибудь древнее слово, принадлежащее языку, на котором уже давно никто не говорит. Теперь Пауль увидел ее подлинное обличье — жабоподобная, слизистая, с выпученными белесыми глазами, она колыхалась, словно студень, проволакивая по полу короткий толстый хвост.
Рядом потирал лапой членистое брюхо огромный жук — герр Оскар, коммивояжер, человек, переступивший грань и ставший злым духом. Недаром в тех ночных диалогах он напоминал фрау Минне-Аламе о том, что она всего лишь злой дух, возникший из храмовой плесени, порожденной враждебностью людей друг к другу и к чужим богам и верованиям; в то время как он некогда был человеком. Кто знает, когда и каким!
Третьим существом была хрупкая кошечка с головкой, напоминающей лягушечью. Это была Регина. Историю ее возникновения Пауль теперь тоже мог рассказать. В эту кошку, колдовством обращенную в женщину, Минна-Алама вдохнула чувства той девушки, которую Паулю еще только суждено встретить, которая будет писать ему те трагические письма. Та девушка еще и не испытала всех этих чувств, но они существовали, и Минна-Алама сумела распорядиться ими. Но Регина была обречена, сломлена, помочь ей нельзя. Она, бедняжка, воображала себя настоящим человеком, женщиной, красивой, сильной, загадочной, могущей многого в жизни добиться. А она всего лишь заколдованная кошка, которую подпустили к нему, Паулю, чтобы пробудить его сознание и чувства, возбудить их чувственной любовью сверхъестественного существа. Вот почему тогда на лестнице в этом доме пахло кошками. Бедная Регина. Теперь Минна-Алама, должно быть, уничтожит ее за ненадобностью. Как часто мы воображаем себя не тем, чем являемся на самом деле. Как просто считать себя удивительной красавицей или талантливым поэтом. Вот и Пауль думал, будто обнимает прекрасную загадочную женщину, а в объятиях его лежала жалкая заколдованная кошка. Что ж!..
Сначала его сознание под воздействием этого колдовства смутно потянулось к чему-то. Древнеегипетский зал в музее, книги в библиотеке — все это были неясные вехи, ступени. Подстегнутое плетью чувственности, сознание его заработало более интенсивно. Но надо было придать этой работе нужное направление. Вот зачем понадобились такие стимуляторы, как «Аида», ресторан с цыганами. Надо было снова заставить его смутно стремиться к Древнему Египту.
Но его сознание, его чувства не подчинились злой магии целиком и полностью. Ахура, девочка на пустыре, на зимней улице в канун Рождества, — этого они не предусмотрели, это было ненужное им, нежелательное. И, быть может, это спасло его, как Сет Хамвес был спасен силой своей воли, своей чистотой и честностью.
И в тот миг, когда далекое прошлое сомкнулись с настоящим, когда свиток Познания тонким бумажным листком очутился на столе в комнате Пауля, они не сумели, не успели овладеть свитком. Слишком неуклюжими и враждебными друг к другу они оказались.
Но они стерегут его. Они еще на что-то надеются? Как выбраться отсюда?
Паулю не было страшно, хотя, казалось бы, он попал в безвыходную ситуацию.
Что же делать? Сюда они войти не могут. Должно быть, существует невидимая преграда, воздвигнутая магическим знанием. Но кто же те божественные силы, что хранят свиток Познания? Впрочем, права была юная Ренси — не следует стремиться познать, понять, ощутить невозможное, овладеть им…
Вылезти из окна? Он подошел к окну, выглянул. Позвать на помощь? Закричать «Караул!» или «Пожар!»? Ну, допустим, он это сделает. Что дальше? Какие-то люди сломя голову несутся по лестнице, звонят в дверь. Им откроет спокойная фрау Минна с ее обычным выражением безразличия на плотном, округлом лице. Начинаются расспросы и фрау Минна уверяет, что ничего не случилось, просто у одного из ее жильцов умственное расстройство. На вид она такая аккуратная, внушающая доверие, как и положено злому духу. В то же самое время, о Пауле, орущем из окна, никто не скажет, что он внушает доверие. Нет, это не выход.
Существует много способов укрощения злых духов. Один из таких способов, например, старый Неферкептах рекомендовал Сету Хамвесу. Как там? Возложить на каменный алтарь дохлую кошку. Так, кажется. Но дохлой кошки у него в комнате не имеется, каменного алтаря — тоже. Паулю сделалось смешно, он фыркнул.
Надо подумать. Пауль прилег и задумался, глядя в потолок. Затем взгляд его зашарил по стенам. Эти ужасные зеленые обои, дышащие холодом. Надо закрыть глаза, чтобы не видеть их.
Вот оно! Не видеть.
Ведь и Бата и Марйеб знали, что злые духи больше верят словам, нежели глазам или осязанию или прочим чувствам.
Внезапно Пауль вспомнил свою старую бабушку, ее гладкое, почти без морщин лицо, причесанные на прямой пробор седые волосы, черную кружевную косынку, повязанную так, чтобы уши оставались открытыми, маленькие аккуратные уши.
Вот бабушка надевает очки в тонкой посеребренной оправе и подходит к постели маленького Пауля. Мягко светится лампа под теплым оранжевым абажуром. На маленьком столике, разбросаны пестрые солдатики. В сущности, болеть приятно. Освобождают от занятий с приходящими учителями, от этого противного утреннего обтирания холодной водой, когда горничная Ульрике растирает его жесткой банной рукавицей. Отец и мать делаются добры, перестают его воспитывать и наставлять, дарят игрушки и книжки с картинками. А то, что немного побаливает горло и трудно глотать — это вытерпеть можно.
Приятно болеть еще и потому, что тогда его обязательно навещает бабушка. Она привозит сладкое яичное печенье и другие подарки. Она никуда не спешит, садится у его постели и рассказывает длинные путанные сказки. А Пауль помогает ей, припоминает начало, когда бабушка добирается до середины, и помогает ей достигнуть счастливого конца.
Вот и сейчас бабушка подходит к его постели и обращаясь к темной стене, по которой гуляют смутные тени, громким голосом заклинательницы произносит, указывая на внука:
— Это не Паульхен! Нет, нет, это не Пауль. Пауля здесь нет! Это просто мешок муки мы положили в кроватку, а Пауля давно здесь нет!..
Эта картина ярко представляется глазам Пауля, вызывая в душе мгновенную тоску по той давно минувшей детской защищенности.
Но что означали тогдашние бабушкины слова? К кому она могла обращаться? Разумеется, она не всерьез заклинала злых духов, грозящих ребенку, просто повторяла слова, которые слышала, должно быть, еще от своей бабки или матери.
Так что же, злые духи так глупы, что не верят своим глазам? Но ведь, как правило, у тех или иных живых существ те или иные чувства превалируют над остальными. Например, человек больше верит глазам, нежели носу. Для собаки, наоборот, главное — нос. А вот для злого духа главное — это слово. Достаточно сказать, и у злого духа возникнет ощущение, что так оно и есть.
И ведь уже случалось с Паулем такое. Когда он в шутку, по-детски сказал Регине: «Меня нет!». И, конечно же, она тотчас перестала видеть его. А что она делала перед этим? Ах да, массировала ему веки. Зачем? Надо было усыпить бдительность его сознания. Ведь он ощутил в Регине нечто странное, тревожащее. А этого не должно было быть. Он должен был видеть вокруг плотную устойчивую реальность. И он видел ее. Хотя на самом деле (он в этом уверен), того дома, где в мансарде обитала Регина, просто не существует.
Но однако, ведь все просто, как пресловутое Колумбово яйцо с надколотым кончиком, поставленное стоймя. Сейчас он выйдет из этой комнаты и…
Но нет, прежде надо уложить вещи. Пауль уложил в чемодан книги и рукописи, а одежду связал в узел. Да! Выглядеть на улице он будет довольно забавно.
Прихватив одной рукой чемодан и узел, Пауль резко распахнул дверь.
Три ужасных существа яростно набросились на него, но не успели даже прикоснуться к нему.
— Меня нет! — громко и спокойно произнес Пауль.
И тотчас какими они сделались жалкими, словно вдруг ослепли. Неуклюже суетились, вытягивали морды, тыкались в стены. Искали его, Пауля.
— Когда еще выпадет такая удача! — ворчала жабоподобная Минна-Алама. — Такую девку мне уж больше не смастерить, — она показала лапой на кошку-Регину.
— Я останусь человеком, я добьюсь, — тонко вскрикивала Регина.
— Да замолчи ты, тварь! — Минна-Алама махнула лапой. — Сегодня же сдохнешь! Эх, невезучая я! Чтобы все так совпало — и парень и девка! И все упустить!
— Проморгали, — заквакал жук-коммивояжер, — прошляпили!
Паулю стало неприятно и скучно смотреть на них и слушать их жалобы.
Он спокойно вышел в прихожую, опустил на пол чемодан и узел, надел пальто и снова прихватил одной рукой и узел и чемодан. Он спокойно захлопнул входную дверь и слышал, как легко и аккуратно защелкнулся замок.
Пауль спустился по лестнице на улицу, где царствовал скучный городской полдень.
Глава сорок вторая Поиски и надежды
Прежде всего надо было пристроить свое нехитрое имущество. Пауль наугад позвонил Алексу. Тот ютился в неуютной комнатушке в меблированных комнатах.
— Ладно, приезжай. Все расскажешь на месте, — Александер повесил трубку.
Пауль представил себе, как его заспанный приятель с всклокоченной шевелюрой, в мятой пижаме с расстегнутым воротом стоит в длинном узком полутемном коридоре, наклонясь над круглым столиком, на котором установлен допотопный телефонный аппарат. Он бурчит в трубку хриплым после вчерашней допоздна затянувшейся вечеринки голосом, а квартирная хозяйка поглядывает на него крайне неодобрительно. Кажется, это и называется «реальной действительностью». Или еще лучше — «действительной реальностью».
Пауль поднялся по темной заплеванной лестнице. Вот где основательно пахло кошками, и притом без вмешательства сверхъестественных сил. Растрепанная сгорбленная старуха впустила его, что-то ворча себе под нос.
В комнате Александера как всегда все было в беспорядке, в самых неожиданных местах валялись скомканные носки, испуская острый запах лежалого сыра, так обычно пахнут потные ноги.
Алекс нашел место для чемодана и узла своего друга.
— Ну, сегодня ночуешь у меня, а завтра что-нибудь придумаем. А что, собственно, произошло? Допекла хозяйка?
— Допекла, честно говоря.
— Сочувствую и понимаю. Со мной было то же самое.
Пауль усмехнулся.
— Маниакальная чистоплотность — это тяжелая болезнь. Таких людей следует держать в лечебницах для хроников, — развил свою мысль Алекс.
— И тебя сделать директором одной из подобных лечебниц! — вставил Пауль.
— Не возражаю. А что! Кстати, главное — сегодня вечером собираемся у Михаэля. Скромное вечернее чтение с чаепитием и немного коньяка для разнообразия.
Пауль до вечера простился с Александером и отправился по своим делам.
Дела эти были следующие. Прежде всего Пауль отправился на поиски дома Регины. И, разумеется, не нашел никакого дома. Как и следовало ожидать, никакого дома не существовало.
Из любопытства Пауль прошел мимо дома фрау Минны. Там все было по-прежнему — скучная улица и клинически-стерильные занавески на окнах. Интересно, что творится в квартире? Никто и не подозревает, каковы ее обитатели.
Затем Пауль отправился в библиотеку. Он взял какое-то серьезное комментированное издание древнеегипетских мифов и принялся листать. Вскоре он нашел историю Сета Хамвеса и волшебного свитка. Значит, Сет Хамвес записал ее, кое-что, впрочем, изменив. Например, главного героя, то есть себя, он именовал царским сыном. Здесь же содержалась еще одна история о Сете Хамвесе и его мудром сыне Сиусире, о том, как они посетили царство мертвых. Что значила она? Какие события из жизни реального Сета Хамвеса скрывались за ней?
Паулю стало грустно. Эти строки древних сказаний, напечатанные в толстом фолианте, снабженные тяжеловесным академическим комментарием, были, словно отголосок до неузнаваемости искаженных слов дружеского привета. Впрочем, почему искаженных? Во всем этом было много правды. Но неужели это все, это единственное, что осталось от его, Пауля Гольдштайна, древнеегипетского бытия? Это и еще воспоминания, яркими картинами, объемными и движущимися, возникающие в памяти, прикрашенные воображением.
Выйдя из библиотеки, Пауль немного побродил по улицам. Ему нужно было отыскать одну из них. Ту самую, где он встретился впервые с Региной. В тот вечер кого-то сбил автомобиль на этой улице. Регина даже проговорилась, она сказала что-то вроде: «Я видела, как ее сбило». Ее! Паулю было больно в тот момент. Сегодня он все знал. Оставленные ему неведомой щедростью крохи магического знания позволяли ему угадывать и определять многое.
В тот вечер, на том самом перекрестке он мог встретиться с Ахурой! А вместо этого угодил в объятия заколдованной кошки, вообразившей себя человеком.
Наконец Пауль нашел эту улицу, этот перекресток. Он обратился к нескольким прохожим и один из них указал ему ближайшую больницу.
В просторном вестибюле больницы Пауль подошел к столику справок, сидя за которым дама в белом халате звонила по телефону. Пауль подождал, пока она положит трубку, и вежливо спросил, не привозили ли сюда примерно неделю назад девушку, пострадавшую в уличной катастрофе, брюнетку несколько экзотической внешности, и если привозили, то что с ней.
Он с волнением ожидал ответа. То опасался самого худшего, то полагал, что услышит грубую насмешку. И вправду, разве упомнишь всех поступающих больных.
Но ему, можно сказать, повезло. Женщина вспомнила.
— Да, брюнетка, черная такая густая челка, волосы коротко подстрижены. Красивые черные глаза и брови. А кем она вам приходится?
— Ну, это не так уж важно, — замялся Пауль.
— О, я понимаю! Но у нее не было ничего серьезного, легкий ушиб. Ее выписали чуть ли не на другой день. За ней еще заехали двое — один высокий, смуглый, другой с такими странными зелеными глазами. Брюнетка, да. Клетчатое такое зеленое пальтишко и шляпка черная с маленькими такими полями.
Разумеется, никакого адреса брюнетка не оставила.
Пауль поблагодарил и вышел.
Это была она. И ее сопровождали Бата и Марйеб.
Но ведь никто не знает, никто! И, может быть, встреча еще произойдет, вопреки всем кошмарам, которые, кажется, сулит будущее.
Пауль вдруг круто повернулся и снова вошел в вестибюль больницы. Подошел к столику и попросил у несколько изумленной женщины несколько листков бумаги и ручку. Получив все это, он присел на подоконник, выкрашенный белой масляной краской, и начал писать.
Глава сорок третья Стихотворение
Михаэль жил в просторной квартире, принадлежащей его жене, довольно бесцветной молодой блондинке, дочери владельца нескольких обустроенных на самый современный лад доходных домов, снимать апартаменты в которых не всякому было по карману.
В квартире Михаэля имелись украшенные бледной лепниной потолки и бархатные портьеры, аккуратная горничная и домашние печенья к чаю.
В тот вечер собралась обычная компания. Рената, Александер, Эрика, Ольга, Пауль и еще несколько человек.
Паулю нравилось бывать у Михаэля. Пауль всегда тянулся к уюту, чистоте, вкусной пище. Он понимал, что для того, чтобы иметь все это, надо чем-то поступиться. А поступаться ему не хотелось. И потому оставалось лишь завидовать и посмеиваться над собой.
Началось чтение. Первым сам хозяин прочел свое небольшое эссе о новых направлениях в современной поэзии. Затем прочла свой рассказ Рената. Несколько коротких иронических зарисовок зачел Александер. Когда предложили и Паулю прочесть что-нибудь новое, он вынул из кармана пиджака несколько исписанных листков и начал читать. На этот раз ему почему-то было неловко.
Руки его чуть дрожали. Он произносил слова срывающимся голосом и прикрывал лицо, поднося листки близко к глазам, хотя вовсе не был близорук…
Бросает солнце тонкие лучи, вытянутые на мостовых камнях… Мимо — резные решетки окон… Жара — и зарастают пересохшим илом каменные водостоки… Ее увозят — оба на конях — Светловолосый тот и тот высокий… Они ее увозят… Верблюд ступает, и раскачивает ее… И нежное ее лицо прикрыто широким головным платком, Закутана вся она… Она сидит — сжалась — девочка притихшая… Они ее увозят на родину свою, туда, к себе, в приморский город свой, назад… А я в отчаянии немом и замершем таком… Она стояла, помню, — деревце одно, — и тесный двор тоскливый прекращался в этот сладкий сад, звучащий, нежный, золотой, пчелиный мой цветущий сад… Ведь я тоскую без нее… меня охватывает стыд… измучен я… сам на себя сердит… Зачем не сделал ничего? Не смог… Тогда зачем я думаю о ней?.. Она так беззащитна… прижать ее к груди… она — частица тела моего и свет моей души… вся жизнь моя — она!.. Я — над книгой, буквы перед глазами сливаются, всплывает рисунок… Не принимаю новых толкований о богах и народах, чувствую дыхание безумных древних жарких строк… Я далеко в пустыню ухожу… Там, на стене расписанной, натянута на рамку деревянную певчая струна… Там — рисунки запретные на стенах подземной гробницы… Это она — ее тонкие руки, нежные губы ее, черные волосы; боком стоит она… Черный зрачок продолговатого глаза куда-то в бесконечную вечность глядит; а я помню живую ее, ее торопливую прелестную речь, улыбку привета, и нежные ресницы… Но если жизнь моя — всего лишь миг, а вправду — миг; лягушка и ворон, и дерево тысячелетий — они правы… И если жизнь моя — всего лишь миг, Я отдаю всю жизнь мою — лишь ей одной… Клянусь я: — нет разочарований и всю жизнь — искать, всю жизнь идти… Я не могу идти в эту мудрость рукотворных толкователь− ных книг; Я иду за ней… Она — мой маленький живой корабль — нить единственного, и только моего, пути… Я стою у городских ворот, я умоляю выпустить меня… Я прихожу в чужой город, а в городе — чума… И страшное метание злобных теней, и темнота ночей и солнце дня… Подземная тюрьма… Но я найду ее… Я никому не говорю о ней… и то, что в книге, — это ведь не ложь, — надежда… суждено… дано… Зачем себя мучить стыдом, тоской?.. Я — сильный. Я себе признался: — для меня она — одно… единственная суть… дыхание… покой… Я больше не стыжусь… Я знаю, для чего я одолел Отчаянье, смятение, нужду… Разомкнуто живое сердце, голос цел… Ищу ее… Найду… Летят песчинки на раскрытый мертвый белозубый юношеский рот… Развалины городов… Деревья зацветающие… смерть… деревья на ветру… И поразится тот, Неведомый, познает он, что для меня она — весь мир была… А, может быть, умру… Нет, не умру!..Пауль кончил читать, опустил листки на колени и почувствовал себя усталым.
Остальные заговорили, выражая на разные лады свое восхищение. Может быть, они это делали потому, что искренне восхищались стихотворением Пауля, а, может быть, просто потому, что питали к нему искренние дружеские чувства и хотели сделать ему приятное… Все они были молоды и находились в том возрасте, когда дружить и делать друг другу что-то хорошее, приятно…
«Ахура, — думал Пауль, — Сет Хамвес, Йенхаров, Бата, Марйеб, Ренси, старый Неферкептах… Неужели эта разлука — навсегда? Нет, нет. Но когда же мы встретимся снова, когда?»…





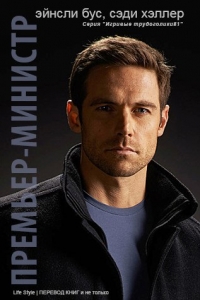





Комментарии к книге «В садах чудес», Жанна Бернар
Всего 0 комментариев