ДОЧЕРИ ЛАЛАДЫ. ПОВЕСТИ О ПРОШЛОМ, НАСТОЯЩЕМ И БУДУЩЕМ
Книга 3. Былое, нынешнее, грядущее
Аннотация: Третий том «Дочерей Лалады» дописан, но многое осталось за кадром. Есть в трилогии герои, о которых читателям хотелось бы побольше узнать, а автору - поведать. О них и будут наши повести... Это сборник рассказов о некоторых интересных персонажах трёхтомника «Дочери Лалады».
Одинокая яблоня
Злата возилась в цветнике – дёргала сорную траву, чтоб не отнимала земные соки у цветов. Больше всех девочка любила кошачью белолапку – горный цветок, который в далёких западных землях звали эдельвейсом. Рос он и у них с матушкой Искрой возле дома, неприхотливый и скромный. Ежели приглядеться, то белые лепестки его были словно серебристой шёрсткой покрыты... Злата зачерпнула ковш воды из бочки на углу дома и полила цветы. Давно дождика не было, а растениям влага нужна.
В доме послышался плач. Оставив возню с цветами и на ходу отряхивая руки, девочка поспешила к младшей сестрёнке Орляне, что лежала в люльке под вышитым пологом. Проверила – сухая. Значит, проголодалась, пора нести малютку к матушке Искре на кормление.
Матушка Искра посвятила себя служению богине земных недр Огуни, а потому носила причёску, как у всех кошек-оружейниц: голова – гладкая и блестящая, только с темени спускалась длинная косица. Трудилась она златокузнецом – мастерицей золотых и серебряных дел, и выходили из её искусных и вдохновенных рук удивительные белогорские украшения. При необходимости могла она и мечи с кинжалами ковать, и простую железную утварь, но делала это лишь изредка: основной её дар и искусство всё же лежали в иной, более изящной области.
Матушка Искра работала целый день, а Злата хлопотала по хозяйству: стряпала, стирала, убирала, рукодельничала. Жили они в горном домике, ни в чём не нуждаясь; ежели требовалось приготовить обед, Злата всегда имела под рукой всё необходимое. Конечно, бралось всё это не само по себе, о пропитании заботилась родительница, и цену пищи в своей тарелке Злата хорошо знала: как поработаешь, так и покушаешь. Было у них в долине небольшое поле, на котором они сеяли пшеницу да рожь с овсом, а в огородике у реки сажали овощи. Для пахоты нанимали соседей, матушка Искра охотилась и рыбачила, а молоко, коровье масло, сметану, яйца и творог приносили кошки-дружинницы: княгиня Лесияра заботилась о внучках. Летом ещё и черешню, и яблоки с грушами им доставляли из сада Светолики: это княжна Огнеслава баловала племянниц. А ягоды да грибы Злата сама в лесу собирала.
Работала матушка Искра много, и труд её оплачивался высоко. Могли бы они и богаче, и шире жить, но мастерица считала, что роскошь ни к чему. Тратила она немного, больше приберегала в кубышке – для дочерей.
Мастерская Искры пряталась на горном склоне, среди сосен. Рядом журчал родник, и Злата, поставив наземь корзинку со снедью, зачерпнула пригоршню чистой холодной водицы и промочила пересохшее от спешки горло. Другой рукой она прижимала к себе кричащую сестрёнку. А из каменной кузни слышался звон: матушка Искра работала. Однако шум не помешал ей услышать писк своей проголодавшейся дочурки, и она вышла из мастерской – ладная, стройная и сильная, в кожаном переднике и рабочих сапогах. Солнечные зайчики, пробиваясь сквозь сосновые кроны, заблестели на её голове.
– Матушка, Орляна голодная, – сказала Злата.
Родительница сбросила передник, помыла руки в струях родника, заодно и лицо освежила. Капельки воды повисли на её красивых тёмных бровях; намокнув, те приобрели грустноватый вид. Закатав рубашку, обмыла матушка и грудь.
– Сейчас, моё дитятко, сейчас, кровинка, – сказала она, протягивая руки к младшей дочке.
Усевшись на большой камень, она принялась кормить малышку, а Искра устроилась рядом на траве, дыша горьковато-хвойным, целебным воздухом гор и слушая перезвон птичьих голосов. Из корзинки, прикрытой чистым платком, вкусно пахло пирогами...
*
Как же вышло, что жили они в горном домике втроём – Искра, Злата и маленькая Орляна?
Рано потеряла Искра свою ладу. Радовались они, ожидая вторую дочурку, но недолго радость длилась: умерла Лебедяна, рожая Орляну, не выдержало надорванное лечением князя Искрена сердце. Когда начались роды, Искра была на работе, и Злате пришлось звать повитуху из села Сосновое, что располагалось в долине реки. Та пришла с девушками-помощницами. Они отвели Лебедяну в баню, а Злате велели не мешать и ждать снаружи.
Тихо рожала Лебедяна, и старшая дочка не услышала из бани криков. Когда же запищала, замяукала новорождённая, мать лежала на соломенной подстилке бездыханная – пуповину отрезали уже от мёртвой родительницы. Увидев лицо матушки Лебедяны – белое, неживое, с застывшим, далёким взглядом, Злата сползла по стенке.
Кто-то сообщил матушке Искре – Злата не видела, кто. Та примчалась прямо из мастерской, кинулась к телу супруги.
– Лада моя... Лебёдушка белокрылая... Взгляни на меня! Не верю, что ты меня покинула, – шептала она, гладя сильными рабочими пальцами лицо Лебедяны.
Не отзывалась та, не дрогнули ресницы, не ожили глаза, не подарили нежный взгляд. А у матушки Искры будто разум помутился: всё звала жену, пыталась светом Лалады поднять её, да только всё тщетно. Исцелял свет, но из мёртвых не воскрешал...
– Полно, мастерица Искра, опомнись, – тронула её за плечо повитуха, белогорская дева зрелых лет, статная и рослая, с большими ладонями и выпуклыми блестящими глазами. – Не вернёшь уже Лебёдушку твою, ушла она к Лаладе, а тебе жить завещала. Вспомни про детушек своих!
Услышав крик малышки, Искра встрепенулась, моргнула, протянула руки к живому, тёплому и родному комочку. Прижав дочку к груди, она покачивалась вместе с нею и не отрывала от её личика застывшего, пристально-влажного взора. А повитуха вздохнула:
– Видать, нельзя ей было рожать. Понадеялась, что сердечко зажило – ан нет... Не сдюжило, остановилось.
Злата так и сидела на корточках у стены, а по её похолодевшим щекам катились слёзы. Про неё все забыли, не до неё стало взрослым. К матушке Искре девочка и подойти сейчас боялась: такой страшный, недвижимый, полный горя взгляд был у неё.
Женщины из Соснового начали готовить тело к погребальному костру: обмывали, одевали, причёсывали, собирали цветы для украшения последнего ложа Лебедяны. В это время прибыли дружинницы от Лесияры – как обычно, с корзинами снеди. Одна из них, сероглазая, с короткой шапочкой льняных волос, спросила у Златы:
– Что стряслось, что за горе?
Девочка ответила:
– Матушка Лебедяна ушла к Лаладе.
Сказала – и не поверила самой себе... Чудилось ей, будто матушка Лебедяна сейчас выйдет на крыльцо и позовёт её обедать. Но сомкнулись её уста навек, и эта правда холодом давила на осиротевшее сердце. Хотелось побежать, прижаться к матушке Искре, но та сидела с новорождённой малышкой на руках и никому не отвечала. Её старались беспокоить пореже.
Только молчаливые сосны понимали и жалели Злату в её тоскливом одиночестве. Спасаясь от него, она увязалась за дружинницами, спешившими во дворец с горестной новостью. А княгиня Лесияра как раз лежала в опочивальне прихворнувшая: сердце вдруг зашлось жгучей болью, будто что-то почувствовав. Сейчас боль утихла, но правительницу Белых гор было велено не тревожить, с нею неотлучно находилась только Ждана. Дружинницы покорно ждали, а Злата, охваченная тоской, хотела только одного – прижаться к чьей-нибудь родной груди. И прошмыгнула в опочивальню к бабушке.
Лесияра полулежала на подушках, и её серебряные волосы волнами струились по плечам. Ждана, сидя рядом с нею, не сводила с супруги огромных, полных тревоги тёмных глаз.
– Злата! – Лесияра приподнялась от подушек, протягивая руки к внучке. – Иди ко мне, радость моя...
Очутившись в её тёплых, сильных объятиях, девочка мелко затряслась. Дрожь охватила и челюсти, и она долго не могла вымолвить ни слова в ответ на встревоженные расспросы княгини.
– Кровинка! Дитятко! – Лесияра заглядывала ей в глаза, смахивая пальцами слёзы со щёк. – Что стряслось? Говори, милая, моё сердце беду чует...
– Ма... матушка Лебедяна, – только и смогла выговорить Злата.
– Что? Что с нею? – заволновалась княгиня ещё сильнее, сжав личико внучки ладонями.
«Умерла» – это слово застряло глыбой льда в горле девочки, не могло сорваться с трясущихся губ. Лесияра всё поняла, и лицо её сразу посуровело, осунулось, а глаза стали такими же неподвижно-влажными, как у матушки Искры. Она поднялась с постели и велела подать ей одёжу. Но про Злату она не забыла – подхватила на руки:
– Идём, моя кровинка. Родительница твоя там, должно быть, тебя обыскалась.
Вместе с Жданой они шагнули в проход и очутились возле горного домика. Лесияра как в воду глядела: Искра, очнувшись, вспомнила о старшей дочке и хватилась её. Уже сменившая рабочую одёжу на строгий чёрный кафтан, она стояла на крылечке. Завидев Злату на руках у княгини, она дрогнула бровями, в соболином изгибе которых с этого дня залегла неизгладимая скорбь. Лесияра передала Злату в её объятия.
– Доченька! – с ласковым, печальным укором молвила матушка Искра, прижав девочку к себе. – Зачем же было убегать, не сказав мне?
В её глазах растаял тот страшный, отчуждающий лёд горя, а взор хоть и был ещё полон боли и слёз, но ожил, и уже от этого Злате становилось легче. Она обняла родительницу-кошку за шею и прильнула мокрой щёчкой к её лицу.
Матушка Лебедяна лежала на двух сдвинутых лавках уже в погребальном облачении – белой рубашке с богатой вышивкой, под складками которой ещё проступал немного опавший после родов живот, в жемчужном очелье на лбу и тонкой головной накидке. Вместо обуви ей надели вязаные носочки. «Наверно, в чертоге Лалады – сухо и чисто, – думалось Злате. – И иной обувки матушке и не понадобится».
Княгиня опустилась около дочери на колени – осела медленно, как тающий сугроб. Обняв её крыльями широких рукавов, она всматривалась в её лицо.
– Лебедяна, дитя моё... Как же так? – тихим, дрогнувшим голосом проронила Лесияра, гладя пальцами её белые щёки. – Ведь твоё сердце должно было исцелиться тогда... Видно, не до конца я тебя вылечила. Как ни старались мы с твоей Искрой жизнь тебе продлить, а всё оказалось тщетно... Ушла ты в чертог Лаладин прежде срока, прежде времени. Ах! – Княгиня измученно уронила голову на плечо бездыханной Лебедяны. – Да что же за доля моя такая – собственных детей переживать? Сперва Светолика, теперь ты, птица-лебёдушка светлая... Жить бы тебе и жить, счастливой быть. Зачем же вы, родные, спешите к Лаладе вперёд родительницы вашей? Куда же вы все так торопитесь?..
Ждана стояла рядом, с нежным состраданием положив унизанную перстнями руку на плечо супруги.
– Искрену надо сообщить, – сказала она негромко.
– Да, милая, надобно, – обернувшись к ней и смахнув слезу, отозвалась княгиня. – Хоть и разошлись их дороги, но всё же много лет вместе прожили они, сыновей родили. Искрен Лебедяне своей жизнью обязан... Не раз она его спасала, жизнь свою по капле отдавала. Да вот так после этого и не оправилась.
Злата знала, что князь Искрен – не родной её батюшка. Видела она его мало: не питал князь к ней привязанности, словно чуял чужую кровь в ней. И на него, и на старших братьев девочка смотрела, как на дальнюю малознакомую родню, когда они пришли проститься с матушкой Лебедяной. Погребальный костёр сложили на скалистой круче над рекой, а ложе выстлали, по обычаю, можжевеловыми ветками и цветами. Поднявшись по приставной лесенке, княгиня Лесияра склонилась над дочерью, долго смотрела ей в лицо с хрустальными капельками боли в светлых очах, с прощальной нежностью гладила белый похолодевший лоб, сомкнутые губы.
– Много у меня на сердце горького, запоздалого, дитя моё, – печальным ветром прошелестел её голос, а с ресниц упала блестящая капелька. – Многое я бы хотела сделать иначе, ежели б могла повернуть время вспять... Может, и сложилось бы всё тогда по-иному, и ты была бы с нами сейчас. Но какой прок каяться теперь? Вышло так, как вышло, не уберегли мы тебя. Ну ничего, родная, ненадолго прощаемся. Скоро, скоро уж мы с тобой увидимся в чертоге Лаладином...
Смутная горечь заныла в сердце Златы от этих слов, хоть и не всё сказанное она поняла. В чём каялась бабушка Лесияра, о чём сожалела? Неведомо было девочке, и только тёмные очи Жданы зажглись вещим блеском, замерцали тревогой и болью, затрепетали губы, и вся она подалась к супруге, будто птица, готовая взлететь. Дождавшись, когда княгиня спустится, она обняла её и прильнула к груди, заглядывая в глаза и вороша пальцами выбеленные инеем невзгод пряди волос белогорской правительницы. Лесияра улыбнулась ей, дотронулась нежно до лица.
– Ничего, моя горлинка, ничего... Не тревожься.
Князь Искрен, шагнув к повелительнице женщин-кошек, опустил руку на её царственное плечо и проговорил:
– Не в чем тебе себя упрекать, государыня Лесияра. Это мне впору казниться. Тяжко на сердце, да ничего не поделаешь. Ежели б мог, свою бы жизнь отдал, лишь бы она жила... В вечном долгу я перед ней, а вернуть тот долг уж не суждено.
Молча княгиня заглянула бывшему зятю в глаза – глубоко, проницательно, а тот стоял под её лучисто-мудрым взором поникший, опечаленный, с омрачённым тяжёлой думой челом. Коснувшись его плеча в ответ, Лесияра молвила:
– Не казнись, не кручинься, княже. Не держу против тебя ничего худого на сердце. И она, я знаю, не держала никогда.
Когда Искра со Златой на руках поднялась для прощания, девочка вскрикнула: по щеке матушки Лебедяны полз большой жук, попавший на погребальное ложе вместе с цветами. Родительница-кошка сбросила его пальцами и шепнула Злате:
– Поцелуй её на прощание.
Злата заглянула матушке Лебедяне в лицо и не узнала: смерть преобразила её черты, озарив их внутренним сиянием, разгладив и наложив печать неземного покоя. Отсвет Лаладиного чертога уже пребывал на нём...
– Это не матушка, – пролепетала девочка.
– Это она, милая, – вздохнула Искра.
Когда костёр подожгли, Злату охватил ужас. Огонь подбирался к можжевеловому ложу, грозя поглотить матушку Лебедяну. Девочка заметалась, закричала, кинулась к костру, но попала в объятия родительницы-кошки.
– Матушке будет больно, – рыдала Злата.
– Нет, моё сокровище, не бойся, – шептала матушка Искра, покрывая её мокрое личико поцелуями. – Ей уже не больно.
Вот так и получилось, что мастерица Искра осталась молодой вдовой с двумя дочками. В память о матушке Лебедяне они со Златой посадили яблоньку, удобрив землю её прахом с костра. Саженец сразу же взялся в рост, да так быстро, что к следующему лету стал уже почти взрослым деревом – Злате даже не пришлось вкладывать в него садовую волшбу белогорских дев. Раз в седмицу они с матушкой Искрой навещали яблоньку. В поминальный день родительница-кошка заканчивала работу пораньше, чисто умывалась, наводила на голову блеск бритвой, вплетала в косицу нить жемчуга, на кончик цепляла накосник с медовыми топазами, а в уши вдевала серьги с теми же камнями. Будничную одёжу она меняла на нарядный, расшитый бисером кафтан с алым кушаком и сапоги с золотыми кисточками. Злате тоже полагалось надеть всё самое лучшее. Они брали с собой корзинку со съестным и сидели под яблонькой; матушка Искра выпивала чарочку хмельного и оставляла под деревцем пирожок или блин. Когда они приходили в следующий раз, угощения там уже не было.
– Здравствуй, моя ладушка-Лебёдушка, – говорила матушка Искра. – Ну, как ты тут? Скучала? А вот и мы...
Родительница-кошка разговаривала с матушкой Лебедяной, будто с живой, рассказывала новости и целовала веточки молодого дерева. Порой в горле у Златы застревал ком, а в глазах всё плыло в солёной дымке, но плакать было нельзя.
– Не огорчай матушку Лебедяну, моё сокровище. Видя твои слёзы, её душа тоже плачет.
А малютку назвали Орляной.
– Пусть зоркой будет, как сия гордая птица, – сказала матушка Искра, всматриваясь в тёмно-карие, как у неё самой, глаза младшей дочки.
*
Покормив Орляну, матушка Искра передала её Злате: ей и самой нужно было подкрепиться, чтоб работать до вечера. Откинув с корзинки платок, она улыбнулась:
– Пироги с грибами? М-м, духовитые какие!
На похвалу она была скупа: всё, что Злата делала по хозяйству вместо матушки Лебедяны, принималось как должное, будто и не было в этом ничего особенного. Осиротев, Злата стала взрослой. Пироги у неё выходили знатные, совсем как у матушки. Для разделки мяса и рыбы ей, правда, силёнок ещё не хватало, и этим занималась родительница-кошка. Иногда Искра разрешала Злате побездельничать и жарила баранину на углях по-охотничьи, а рыбу она всегда солила сама – дочке оставалось только брать готовую из погреба и заворачивать в румяные и ноздреватые блинчики. Жито они убирали вместе, в огородике тоже возились вдвоём: матушка Искра копала грядки, а Злата сажала, полола и поливала. Тяжести ей родительница поднимать не давала и сама таскала воду в бочки для полива.
Получая похвалу лишь по действительно значительным поводам, Злата, тем не менее, никогда не испытывала недостатка в матушкиной любви. Она была всегда сыта, обута и одета, одёжу носила добротную, без единой заплатки; никогда родительница не допускала, чтобы сапожки дочери просили каши, или чтоб та мёрзла зимой. Украшения матушка Искра делала для Златы сама, а вплетая дочке в косу ленточку, шептала порой:
– Красавица моя... Сокровище моё бесценное! Как же ты на матушку Лебедяну похожа... Лишь глазки у тебя мои, а волосы, личико, походка – всё её, Лебёдушкино. Когда говоришь ты – чудится мне, будто её голос слышу. Даже пахнешь ты, как она. Цветами и мёдом...
И, надев Злате новое колечко, она принималась покрывать ей поцелуями все до единого пальцы. От ласки и нежных слов родительницы Злата расцветала и ходила счастливая очень долго – целый день, да и в последующие дни тоже.
Сейчас она сидела у ног матушки Искры и смотрела, как та обедает, а годовалая Орляна ползала по травке.
– Ты сама-то кушала, голубка? – спросила родительница. – Возьми пирожок.
– Я обедала, матушка, – сказала Злата, хотя на самом деле выпила только кружку простокваши. Толком поесть было некогда: много дел по дому, да и за младшенькой глаз да глаз нужен.
Но матушку Искру не обманешь. Чутьё у неё было звериное, а может, мысли дочери читала... Нахмурив тёмные, теперь всегда немного печальные брови, она велела:
– Возьми, кому говорю! За день, поди, не присела ни разу...
Пришлось вытащить из корзинки мягкий и ещё тёплый пирожок с грибами и луком – большущий, с матушкину ладонь. А родительница-кошка поднесла ко рту Златы крынку:
– Испей-ка... Для тебя ж твоя бабушка молочко присылает, а ты его мне скормить хочешь. И творог зачем весь притащила? Я пирогами сыта, а ты кушай, тебе – надо. Чтоб росла у меня хорошо, здравия да красоты набиралась.
Круглый, как сырная головка, комок творога они, впрочем, поделили пополам: одну половину съели, а другую оставили на ватрушки.
– Ну, ступай, – сказала матушка Искра, вставая с камня и отряхивая крошки с колен. – Береги сестрицу. Вечером дома буду. Погоди, – остановила она собравшуюся уходить Злату, присела и расцеловала её в лоб, глаза и щёки, поцеловала и младшенькую. – Всё, теперь бегите, пташки мои.
Подросшая Орляна была уже тяжёленькая, но Злата привыкла её таскать. Дома она усадила сестрёнку в огороженный деревянными перильцами угол: там девочка-кошка ползала по мягкой подстилке, играла с погремушками, а иногда и спала. Она уже ела кашу и протёртые овощи, пробовала мелко рубленное мясо, и матушка Искра теперь кормила её грудью не так часто, как сразу после рождения. Хлопотливый день продолжился: поиграв с сестрёнкой и убаюкав её, Злата взялась за стирку. Стирала она в корыте во дворе, а полоскать надо было на речке. Но это уж вечером, когда матушка Искра домой придёт.
Орляна проснулась, и Злата дала ей молочную кашку. И опять – игры и агуканье: сестричка, подрастая, становилась непоседливой и не терпела одиночества. Стоило Злате отлучиться ненадолго во двор, как из дома донёсся рёв. Пришлось бежать и успокаивать сестрёнку. Может, Злате и самой ещё хотелось побыть ребёнком, но со смертью матушки Лебедяны детство кончилось, на смену ему пришли взрослые хлопоты и забота о младшей. Родительница целый день работала, и нянчиться с крошкой в её отсутствие приходилось старшей сестре.
Все дела Злата сделала, ужин состряпала. Матушка Искра пришла с работы, когда солнце уже садилось, озаряя цветник косыми густо-розовыми лучами. Окинула взором дом – убрано, принюхалась – стряпнёй пахнет. И ещё одно дело вымотавшейся за день Злате придумала:
– Ужин подождёт. Пойдём-ка, огород полить надобно.
Она взяла на руки младшую дочку, и они перенеслись в долину. На огороженном деревянным плетнём клочке земли у них росла капуста, морковка, лук, репа, огурцы и тыквы; на дальнем конце, ближе к реке, кучерявились кусты чёрной смородины.
– Сорняки вылезли, – окидывая хозяйским взором грядки, заметила матушка Искра. – Польём сейчас, а утром прополешь, покуда я на работу не ушла. Из влажной-то земли траву легче дёргать.
Это означало, что встать Злате предстояло чуть свет, в синей предрассветной дымке сумерек. Пока она поливала грядки, родительница кормила Орляну на свежем вечернем воздухе, а потом, отдав малышку Злате, принялась таскать воду в изрядно опустевшие бочки. Уже глаза слипались и ноги подкашивались у девочки, а ведь ещё выстиранное прополоскать и развесить надо... Матушка Искра осталась дома с Орляной, а Злата – на реку. Солнце уже спряталось, только вершины гор ещё горели закатным румянцем.
Вернувшись с реки, Злата поставила корзину на крыльцо и заглянула в дом: матушка Искра поужинала, но не ложилась спать, ждала её, а Орляна уже сладко посапывала в люльке.
– Я прополоскала, матушка, – пробормотала девочка, еле ворочая языком от усталости. – Как развешу – можно идти спать?
Её качнуло – хорошо хоть дверной косяк не дал упасть. Сильные и ласковые руки родительницы подхватили её и отнесли на тёплую печную лежанку.
– Спи давай уже, хлопотунья моя. Сама развешу.
Сквозь дрёму Злата слышала, как скрипнула дверь. Ходила матушка Искра бесшумно, только воздух колыхнулся... Одним кошачьи-мягким прыжком вскочив на лежанку, она улеглась рядом со Златой, сгребла её в крепкие объятия и замурлыкала.
– Умница моя. – Лицо девочки защекотали поцелуи, мурчание убаюкивало, уносило в чертог снов. – Уморилась... Отдыхай, спи сладко, горлинка моя милая, лебёдушка белокрылая. Сердце моё, душа моя, кровинка моя...
Только матушку Лебедяну она звала лебёдушкой белокрылой. Ресницы сонной Златы солоновато намокли, но дыхание родительницы грело и сушило их.
* * *
Уверенно, мягко ступала молодая женщина-кошка по узорчатым коврам княжеского дворца. Поблёскивали золотые кисточки на её чёрных сапогах с тугими, изящно подчёркивающими красоту ног голенищами; переливалась бисерная вышивка на нарядном кафтане, алел туго затянутый кушак. Длинноногая, тонкая в талии, излучала эта кошка спокойную и тёплую белогорскую силу. На её голове красовалась чёрная барашковая шапка, надетая щеголевато, чуть набекрень. Казалось бы, вспотеть можно в таком уборе в летний знойный день, но изящный череп белогорской жительницы от жары не страдал. Руки выдавали в ней служительницу Огуни, оттого и бритым был висок, видневшийся из-под шапки. Женщина-кошка несла резную шкатулочку с дарами земных недр, которые превращала волшбой своих искусных рук в украшения.
Князь Искрен в окружении дружинников пил мёд, закусывая жареным лебедем. Неспешно текла застольная беседа, обсуждались дела земли Светлореченской: князь любил соединять приятное с полезным. Отрок, войдя вперёд гостьи, доложил о её приходе князю.
– Белогорская мастерица золотых дел? С товарами? – оживился Искрен. – Пусть заходит, поглядим, что у неё за товар!
Мастерица вошла. Держалась она прямо, смотрела смело, головы не гнула – знала себе цену и перед князем с его дружинными мужами не трепетала, не заискивала. Впрочем, остановившись в нескольких шагах от стола, она сняла шапку и с должной учтивостью поклонилась. Гладкая голова блеснула, на плечо упала тёмная шелковистая косица с вплетённой нитью мелкого бисера. Темноглазой была гостья, пригожей, с тонкими чуткими ноздрями, брови – соболиными гордыми дугами. Не смущаясь, завела она речь:
– Привет тебе, княже! И вам, мужи славные, процветать и здравствовать! С Белых гор я, звать меня Искрой, а пришла я, чтоб мастерство рук своих показать. Не желаешь ли, владыка Светлореченский, взглянуть?
– И тебе здравия, гостья. О белогорских мастерицах всегда слава добрая идёт, – молвил Искрен, поглядывая с любопытством на шкатулочку. – Доложили мне, что ты – златокузнец. Украшения, стало быть, делаешь?
– Точно так, княже, – кивнула Искра, ставя шкатулочку на стол и открывая. – Изволь сам увидеть. Может быть, что-то приглянется тебе. Или княгиня твоя что-нибудь выберет.
Разложила она на скатерти серьги, ожерелья, запястья, перстни да очелья. Самоцветы белогорские богато засияли, соблазняя своей чистотой и искусной огранкой, тончайшее золотое и серебряное кружево поражало сложностью и затейливостью рисунка. Сразу видно: не ремесленница их делала, а настоящая художница, чьи вдохновенные руки питала сила Огуни. Блеск украшений отражался в глазах князя, придавая им алчный вид, дружинники тоже рассматривали драгоценный товар и дивились его красоте. Уж таково свойство золота да камней – чаровать сердца и заставлять руки людей к ним тянуться.
– Да, красота и впрямь неописуемая! – проговорил Искрен, то беря в руки ожерелье и смотря камни на просвет, то примеряя перстень, то с удовольствием любуясь серёжками. – Знатная ты мастерица! А дорого ли за свой товар просишь?
Искра назвала цены выбранных князем украшений. Тот крякнул, огладил усы с бородкой.
– Гм, да, дороговато! Но оно и стоит того. А ежели учитывать, что украшения сии – не простые, а белогорские, цены им просто нет! И что ж, большую прибыль с них имеешь?
– Мне идёт лишь пятая часть выручки, – ответила мастерица. – Остальное – в государственную казну земли нашей. Но мне и этого хватает с лихвой. Холостая я, семью кормить не надо.
– Пятая часть от этих сокровищ – и то богатство немаленькое, – сказал Искрен, протирая камень перстня о рукав и наслаждаясь его блеском. – По нраву мне мастерство твоё, Искра. Достойная работа, просто бесподобная! А ну-ка, пойдём к княгине в покои, пусть посмотрит. Коли понравится – возьму для неё. За такую красоту белогорскую ничего отдать не жаль!
Сказано – сделано. Искра собрала украшения в шкатулку и последовала за князем, а мужи дружинные всей гурьбой – за ними. Любопытно им было поглядеть, какой из этих драгоценных даров Белогорской земли владыка Светлореченский своей супруге преподнесёт.
Лебедяна тем временем в своей светлице вместе с девушками-служанками за рукоделием сидела. Одна девушка, пощипывая гусельцы, сказки да былины о временах стародавних да героях славных сказывала, тем остальных развлекая. Ручейком струился её голос, и под его звук рождались из-под иголки княгини Светлореченской узоры: маки алые, чьи головки будто ветер всколыхнул, яркие рябиновые грозди, свежестью осени налитые, а меж ними она сажала пташек певчих, солнышко приветствующих... Голова Лебедяны клонилась над рукоделием, по-замужнему убранная в шитый бисером повойник и покрытая белой тонкой накидкой, а пальцы ловко сновали, орудуя иглой и кладя стежок за стежком. Не слышала княгиня о гостье с Белых гор и не подозревала, что сердце её отстукивало последние спокойные удары. Быть её душе растревоженной, словно берёзовой роще под грозовым ветром...
– Лебедяна, душа моя! – раздался за дверью голос мужа. – Прими гостью из Белогорской земли! Не с пустыми руками мы к тебе – с подарками!
Смолкли гусельцы, утихла сказочная песня. Отложила Лебедяна вышивку, поднялась с места и откликнулась приветливо:
– Входи, супруг мой, и тебе, гостья, добро пожаловать! Посланниц моей родной земли я всегда рада видеть.
Князь вошёл первым, за ним – женщина-кошка в нарядном кафтане, а следом и все мужи дружинные. Встретились глаза Лебедяны и гостьи, и сердце княгини затрепыхалось, точно пташка, которую ястреб-охотник закогтил, а по жилам будто мёд горячий потёк – сладкий, хмельной, напитанный светом Лалады. И впрямь ястребиный взор был у темноокой гостьи с Белых гор, пронизывал он Лебедяну испытующе, серьёзно и вместе с тем ласково, будто спрашивал без слов. Защемило сердце княгини по-весеннему, согрелось лучами белогорского солнца, но тут же его охватила светлая, пронзительная горечь. «Отцвели сады мои, – вздохнуло оно, – отпели соловьи, миновала пора вешняя... Откуда же ты взялась на мою беду, гостья пригожая? Запоздало стучишься ты у моего порога, взглядом смелым смущаешь женщину замужнюю».
– Это Искра, золотых и серебряных дел мастерица, – представил князь женщину-кошку. – Предлагает она нам свой товар – произведения своих рук искусных. Эти украшения достойны, чтоб их носили княгини. Взгляни, Лебедяна, что за красота!
Вспыхнули золотые узоры и белогорские самоцветы. Искра раскладывала их на рукодельном столике, а сама то и дело вскидывала жгучий, сверкающий взор на княгиню. А та, не чуя под собою ног, провалилась в терпкую и тёплую, как отвар яснень-травы, глубину очей женщины-кошки, рванулось сердце из груди, взгляд звёздная пелена застелила, а из светлицы будто весь воздух улетучился. Девушки едва успели подхватить Лебедяну под руки.
– Что с тобою, моя княгиня? – встревожился Искрен. – Захворала ты?
Он сжимал её похолодевшие руки, а Лебедяна не могла понять, что вдруг накатило на неё. Что за беспамятство, словно у девушки-невесты на Лаладиной седмице? Давно она выбрала свою тропинку и шла по ней рука об руку с мужем, родила ему сыновей. Выпорхнули отроки-княжичи из-под её материнской, женской опеки, воспитывались дядьками-пестунами, учась всему, что мужчине княжеских кровей знать и уметь должно. Состоялась Лебедяна и как супруга, и как мать, уж давно прятались её косы в сеточке-волоснике под тонкой накидкой; отчего же ей казалось, будто чья-то дерзкая и ласковая рука тянулась к ним, чтоб выпростать на свободу, расплести? И то не мужнина была рука, отнюдь, а пушистая кошачья лапа.
– Да духота здесь, воздуха не хватает мне, должно быть, – пробормотала Лебедяна в ответ на обеспокоенные расспросы супруга. – Всё хорошо, Искрен, мне уже полегчало, не тревожься.
Князь тут же распорядился распахнуть окна, чтоб впустить свежий воздух. В покои проникло сухое, густо-знойное дыхание летнего дня, но даже в струях тёплого ветерка Лебедяна зябла, покрываясь мурашками. А Искра стояла перед нею, внезапно посуровевшая, со сжатыми губами и выворачивающим душу наизнанку пристальным взором – ни дать ни взять посланница судьбы, пришедшая, чтоб отворить сердце княгини для тоски и сладкой муки, а покой навсегда забрать.
– Легче тебе дышится, душа моя? – заботливо спросил Искрен.
– Да, супруг мой, мне лучше, – чуть слышно проронила Лебедяна.
– Ну, тогда взгляни-таки на сии вещицы, ладушка. – Князь окинул движением руки разложенные на столике украшения. – Превосходная работа белогорской мастерицы! Будто для тебя и деланы! Примерь, перед зеркалом покрутись... Что тебе больше всего по нраву придётся, то и подарю тебе.
Лебедяна протянула дрожащие пальцы к ожерелью с ярко-зелёными смарагдами. Камни заискрились тёплым, летним светом, белогорская волшба грела руки, струилась по жилам... А глаза мастерицы влажно блестели: в них стояли слёзы. Не сводя пронзительно-печального взора с Лебедяны, она шевельнула губами.
– Лада моя... Как же так? – не услышала, а скорее угадала княгиня.
Горечью листопада коснулся этот тихий упрёк сердца Лебедяны, а в спину ей дышала холодом беда – огромная, как закрывшая солнце туча. Померк свет в окнах, посерел, нахмурился ясный день: шла следом за жарой освежающая гроза. Зашумели под порывами крепкого, сильного ветра деревья в княжеском саду, и беда встала перед Лебедяной во весь рост, заслонив собою всю её жизнь, навалилась на плечи, и под её тяжестью княгиня Светлореченская едва дышала. Примеряя ожерелье, видела она себя в медном зеркале: побледнели губы, пропал румянец, а в глазах расплескалась тёмная, ненастная ночь. Непроглядная тоска простёрла над ней крылья.
– А вот ещё серёжки такие же, – сказал Искрен. – Как раз к этому ожерелью!
Лебедяна примерила все украшения из шкатулки. Все вокруг восхищались и ахали, а для княгини существовал лишь взор Искры – влажный, полный тоски и боли, вопрошающий: «Как ты могла не дождаться меня, лада?» Всё накрыла собою эта беда – все годы, прожитые княгиней без этих очей, без уст, молчаливых и горько сжатых. Лишь казалось ей, что она жила, но не жизнь это была, а чужая тропинка, на которую Лебедяна свернула по ошибке. Заблудилась... А за окнами уже громыхало, и шлёпали по земле первые крупные капли.
– Ну так что же, душенька моя? – спросил князь. – Что ты выбрала? Что тебе по нраву?
– Труден выбор, – молвила Лебедяна, посмотрев на мастерицу и снова обжегшись сердцем о её пристально-горький взгляд. – Все украшения хороши. Но больше всех мне приглянулись эти смарагды...
Все согласились, что самое первое ожерелье с зелёными самоцветами и серёжки к нему были княгине более всего к лицу.
– Ну, тогда их и берём, – заключил князь. – Позвать ко мне моего казначея!
Он расплатился с Искрой и пригласил её отобедать. Та не отказалась. Остатки жареного лебедя убрали, внесли новые кушанья и напитки; Искрен был оживлён и весел, пил и ел с удовольствием, белогорская мастерица от него не отставала, опрокидывая в себя кубки, а Лебедяна сидела тиха и бледна, будто только что похоронила кого-то близкого и любимого... Дышала её грудь, видели глаза, но её не покидало чувство, будто жизнь вдруг кончилась, и не будет уже более ничего. Ни рассветов с закатами, ни цветения яблонь по весне, ни соловьиных трелей.
А князь между тем договорился с Искрой, что она станет делать украшения для княгини и далее. Договор скрепили пожатием рук и выпили за успех и процветание молодой, но чрезвычайно даровитой мастерицы. Если б глаза князю не застилал весёлый хмелёк, увидел бы он, как смотрела женщина-кошка на его жену – жадно, неотрывно, сквозь пелену горечи, а та под её взором застыла мраморной статуей. Не выдержав, княгиня закрыла очи: тошно ей стало смотреть на белый свет.
Князь велел звать музыкантов. Пошли пляски: лихо выбивали дружинные мужи каблуками дроби, встряхивая кудрями и подбоченясь, да и сам Искрен не удержался и тоже пустился в пляс.
– А ты чего сидишь, ладушка? – весело воскликнул он, подмигивая супруге. – А ну-ка, пойдём!
Поплыла княгиня по каменному полу, точно лебёдушка по глади тихого озера – не улыбаясь и ни на кого глаз не поднимая. Печаль таила она в душе, а все думали – скромничала.
Как коршун серую уточку, настигла её в пляске Искра, и Лебедяна вздрогнула. Всем взяла женщина-кошка – и станом стройным, и очами глубокими, а изгиб её бровей заставил бы сердце любой девушки ёкнуть. Но нужна ей была не любая, а только та, в поисках которой она и пришла сюда...
После застолья хмельной князь был добр и радушен. Он оставил мастерицу ночевать, отведя ей лучшую из гостевых опочивален. Княгине же этой ночью не спалось, в смятении пребывала её душа. Догадывалась она, что за беда её постигла, но горько и страшно было поверить, что прожила она не свою жизнь, согласившись выйти за князя Искрена. Неужели ошиблась она, толкуя знаки и сны, и вовсе не владыка Светлореченской земли был её суженым? Правильность выбора пары обычно проверялась светом Лалады, но мужчины в святилища не допускались: сосредоточенная там сила богини была слишком мощна и могла повредить их плодовитости, и свадьба обошлась без этого обряда. Брак освятили только водой из Тиши. Лебедяна полагалась на верность своего чутья, но, видно, оно подвело её.
Не спалось княгине, и она с тоской обращала лицо к луне, сидя в окружённой зарослями вишни беседке. Сад сумрачно вздыхал, освежённый грозой воздух струился в грудь сладко и пьяняще. Дивная ночь, ясная и лунная, казалось, старалась утешить Лебедяну объятиями ласкового ветра, но сердцу были нужны объятия любимых рук. Пролетели годы журавлями, и Лебедяна думала, что познала любовь, но всё оказалось лишь бледной тенью истинного чуда. А оно, настоящее, прошло стороной... Прожитая жизнь казалась сном, и пробуждение рвало сердце в клочья.
Услышав шорох, княгиня вздрогнула и плотнее закутала плечи в опашень, наброшенный на ночную сорочку. Вишнёвые кусты расступились, раздвинутые руками Искры, блеснула в лунном свете её изящная голова с косицей на темени, и женщина-кошка остановилась перед Лебедяной. В сумраке её глаза мерцали золотисто-янтарными звёздочками.
– И к тебе сон не идёт, княгиня... Мне почудилось, или ты плакала?
Этот голос ласкал пушистой лапой, мягко обнимал, раскидываясь бархатистыми складками и разворачивая перед Лебедяной всё несбывшееся – такое сладкое, нежное, недосягаемое... Хвостатой падучей звездой промелькнуло оно, показавшись лишь на миг на тёмном небосклоне, но и этого мига хватило, чтобы понять разницу между тем, что было, и тем, что могло бы быть.
– Я пришла сюда в поисках своей суженой, – молвила Искра, заглядывая в глаза Лебедяны с тихой, как отсвет угасшей зари, печалью. – Я искала мою ладу и нашла... А она уже не моя. Как же так, Лебёдушка?
Лебедяна всматривалась в эти окутанные лунным сумраком черты и узнавала в них своё, родное, единственно нужное, но – непоправимо запоздавшее. В этих очах ей хотелось тонуть всю свою жизнь, эти брови щекотать поцелуями, эти щёки ласкать пальцами... Эти наполненные горячей силой Огуни руки должны были обнимать её, и в этих объятиях у неё под сердцем должна была шевельнуться новая маленькая жизнь. Но ничего этого не случилось и, видно, уже не случится. Остался лишь этот полынно-горький вопрос, тяжестью всего небесного свода давивший на грудь Лебедяны: «Как же так?..»
– Я ошиблась... Заблудилась, – тихо, безысходно заплакала она, поникнув к ногам Искры надломленным цветком. – Имя... Имя должно было искриться, так выходило по знакам. Искрен... Искра. Как же я ошиблась...
– Княгиня, встань... Встань, прошу тебя!
Женщина-кошка мягко пыталась заставить Лебедяну подняться на ноги, но та обнимала её колени, гладила сапоги с золотыми кисточками. Тогда Искра подхватила её на руки, и Лебедяна беззвучно затряслась, уткнувшись ей в плечо.
– Ну... Ну, что ты будто мёртвую оплакиваешь, – сказала Искра. – Я же живая, с тобой.
– Что же мне делать-то теперь? Что нам делать? – Лебедяна гладила пальцами лицо Искры – брови, скулы, подбородок, скользнула ладонью на её затылок, на котором уже начинали колоться пеньки сбритых волос. Слёзы струились по щекам княгини и капали с подбородка.
– Поцелуй меня, лада, – бархатной лапкой коснулся её сердца голос женщины-кошки.
Если тьма неба была прохладно-лунной, то глубина очей Искры – тёплой, затягивающей, ласковой. Их лица сблизились, и княгиня Светлореченская ощутила живое, нежное касание губ белогорской мастерицы. Светлая стрела пронзила её сердце, и оно рассыпалось в груди мерцающими звёздочками, а влажно шепчущий сад поплыл вокруг неё... Или это голова сладко закружилась? Нежность губ Искры становилась крепче, горячее, уста прильнули к устам неразлучно. Они дышали, упивались друг другом, и щемящее единение окутало Лебедяну пониманием: вот оно, долгожданное и прекрасное, то, чего она ни разу не испытывала – лебединая песня истинно любящего сердца. Она приникала к устам Искры снова и снова, лаская её голову. Мужа она так никогда не целовала, Искрен вообще не любил поцелуев в губы, и только теперь княгиня распробовала сладость, которой была всю жизнь лишена. Всё в ней страстно откликалось на это щекотное, ласковое и трепетно-лёгкое, как крылья бабочки, чудо: по велению души и сердца руки Лебедяны сомкнулись в крепком и исступлённом объятии, а тело... Устыдившись телесного отзыва, княгиня жарко и глубоко дышала возле по-кошачьи заострённого уха Искры.
– Отпусти меня... Я не могу. Я должна быть верной мужу.
Эти слова рассекли холодным клинком тёплое единство, объятия распались. Очутиться на земле было странно: Лебедяна словно из родного дома попала на чужбину. Ноги подкашивались, и всем существом княгиня Светлореченская рвалась обратно – в руки Искры. Там было её истинное место, и отрываться от этих горячих, туго налитых силой Огуни рук – что за пытка, что за боль!.. Горло стиснулось слезами, Лебедяна тут же протянула дрожащие пальцы к Искре. Та коснулась губами лишь кончиков – уже без страсти, печально и учтиво.
– Прости, что растревожила тебя, нарушила твой покой, княгиня. Ступай к мужу, а я пойду. Через месяц приду исполнять договор. А ты к моему приходу придумай, какое украшение ты хотела бы.
С этими словами Искра направилась прочь из беседки, а Лебедяна, объятая холодом и бледная, стояла, глядя ей вслед. Едва она успела обрести родное, как опять его неумолимо теряла...
– Постой! – вырвалось у неё, и Лебедяна кинулась следом за Искрой. – Стой же...
Та остановилась среди влажных вишнёвых кустов, но не поворачивалась лицом. Лебедяна гладила ладонями её сильную осанистую спину, твёрдые плечи – жадно, безостановочно, с нежной тоской, словно желая напоследок впитать их земное тепло, их белогорскую гордую стать.
– Родная моя... Как же я дышать без тебя буду? – со скорбным надломом прошептала она, обнимая Искру и прижимаясь к ней сзади всем телом. – Сирота я без тебя... Горькая и бесприютная.
– Не рви сердце мне, ладушка, – глухо проговорила Искра. – И я не буду покоя знать, оставляя тебя здесь... Но уговор есть уговор, через месяц жди меня.
Кусты сомкнулись с шелестом, и ночь поглотила её, отделив от Лебедяны тёмным пологом тоски. Осталась Лебедяна одна, при живом муже вдова, при живой родительнице – сирота... Вспоминала она матушку Златоцвету, её грустноватое и родное тепло, и до слёз, до стона хотелось ей прильнуть к ней, спросить совета. Увы, давно ушла матушка в чертог Лалады, а родительнице Лесияре Лебедяна не могла простить её любви к другой женщине; именно это, как она была убеждена, и ускорило уход матушки Златоцветы. Ныло сердце горькой обидой, отдаляясь и отчуждаясь, и уже остывшими падали слёзы из глаз на сложенные на коленях руки.
Прожила она этот месяц, будто в дурном, мучительном сне. Поблёкли, выцвели краски, не радовало солнышко, рукоделие из рук валилось, иголка не слушалась, а нитка путалась. Сама не своя была Лебедяна. Ласка мужа стала нежеланна ей: изведав поцелуй Искры, ничего иного не хотела она. Разве сравнится кислый квас с мёдом хмельным, сладким и духмяным? Разве затмит бледная луна солнце яркое, полуденное? Глядя на сыновей, видела княгиня в них облик супруга, вдруг ставшего чужим ей... А может, никогда и не был он родным? Хмурясь, тут же корила себя Лебедяна, ругала себя кукушкой, и материнское сердце согревалось нежностью к отрокам-княжичам, вышедшим из её утробы. Но уже не льнули к ней мальчики, оторвались от матушкиного подола, и отроческие потехи им стали более любы, нежели материнская ласка. Даже погладить себя по головкам не давали: «Что мы, маленькие?» Подросли детки, а Лебедяне вдруг захотелось опять прижать к груди крошечный тёплый комочек, заглянуть в несмышлёные глазёнки, почувствовать объятия крошечных ручек... Но не мужнина кровь должна была течь в этом дитятке, а лады её запоздалой, темноокой.
Дивилась Лебедяна, как с одного взгляда, одного касания, одного поцелуя вспыхнула эта страсть, огромная, шириною в небосклон, и затмила собой всю её прежнюю тихую жизнь, подчинила себе все её помыслы. Сохло сердце в тоске, горели глаза от тайных слёз, и только вишнёвые кусты, блестя глянцевыми тёмно-зелёными листьями, ведали, что у Лебедяны на душе творилось. Только кудрявой калине бессловесно доверяла княгиня свои чувства, а та хранила её тайну ласково и сострадательно.
Миновал этот невыносимо долгий месяц, и снова сапог женщины-кошки ступил на узорчатые ковры княжеских палат. Прямо, с достоинством шагала белогорская мастерица, гордо неся изящную гладкую голову на длинной и сильной шее.
– Здравствуй, здравствуй, искусница, – приветствовал её князь. – Поджидали тебя. Ну, пойдём к княгине.
Задрожали ресницы и губы Лебедяны при виде Искры, переступившей порог её покоев, но лицо женщины-кошки оставалось непроницаемым, словно и не было между ними той ночью горько-нежных слов, жарких объятий и сладких поцелуев. Молча разложила Искра перед нею белогорские самоцветы.
– Выбирай, душенька, камень, какой угоден тебе, – сказал князь. – Яхонты ли лазоревые, яхонты червчатые или, быть может, адаманты – как слеза чистые и точно радуга яркие? Смарагды, помнится мне, уж есть у тебя.
Лебедяна совсем ослабела за своим рукодельным столиком, на руках и ногах точно гири висели, не давая двигаться. Сердце помертвело в груди, обескровленное нежной болью: не улыбалась Искра, не глядела ласково, тёмными и неприветливыми были её очи в эту встречу. Или, быть может, она просто не хотела обнаруживать своих чувств при князе? Лишь на это объяснение и надеялась Лебедяна, потому что поверить в то, что Искра к ней охладела, для неё было смерти подобно. Её пальцы потянулись к голубым топазам – гораздо более светлого оттенка, нежели сапфиры. Переливалась в них нежная летняя синева, прозрачная и лёгкая, как вода на отмели чистейшего озера.
– Вот эти камни хочу, – проронила она.
– Тумпазы? Хорошо, княгиня, будет сделано, – кивнула Искра. – А что за украшения тебе угодны? Ожерелье, серёжки или, может, перстень?
– Пусть будут два запястья и серёжки, – едва дыша, ответила Лебедяна.
– Да чего мелочиться, делай уж и ожерелье, – расщедрился Искрен.
– Как прикажешь, княже, – поклонилась мастерица. – Через месяц будет готово.
На том она хотела уже прощаться, но князь опять задержал её, устроив в честь белогорской искусницы застолье: любил Светлореченский владыка весёлые пиры, хлебосольным и гостеприимным был хозяином. Снова Лебедяна сидела за столом ни жива ни мертва, кусок в горло не лез, и жар с холодом попеременно терзали ей сердце. Как и в прошлый раз, князь оставил гостью ночевать.
Едва все во дворце уснули, Лебедяна бесшумной тенью в белой сорочке выскользнула в сад – лишь платок узорчатый на плечи набросила на бегу. Тёплая ночь благоухала цветами, кузнечики стрекотали свою усыпляющую песню, а шитые жемчугом башмачки княгини приминали росистую траву. Всё в той же укромной беседке среди вишнёвых кустов упала она на лавочку, прижимая руку к колотившемуся сердцу. Придёт ли Искра? Непременно должна прийти, Лебедяна верила в это непоколебимо. В ожидании вышла она из беседки, бродила вокруг неё и обрывала спелые вишенки.
– Опять не спится тебе, княгиня? – раздался знакомый, милый сердцу голос.
Лебедяна бросилась на звук и очутилась в крепких объятиях женщины-кошки. Как безумная, ласкала она ладонями родное лицо, в сумерках казавшееся до жгучей тоски грустным, прижимала пальцы к тёплым губам, шелковистым бровям, изучала ощупью изгибы гладкого черепа. Изящно-округлый затылок на сей раз не колол волосками.
– Родная моя, ненаглядная, – шептала Лебедяна, точно в бреду. – До сих пор я спала... И только теперь пробудилась! Но каким же горьким оказалось пробуждение...
Она таяла от силы рук Искры. Они легко могли бы её сломать, как тонкий стебелёк, но обнимали бережно, не причиняя боли. Услышав какой-то шорох, княгиня испуганно прижалась к груди женщины-кошки.
– Здесь кто-то есть...
Подхватив её на руки, Искра шагнула в проход, и они очутились в Белых горах: Лебедяна не могла не узнать родную землю, даже одетую ночной мглой. Вокруг молчаливо дремали снежные вершины, а впереди раскинулась долина, в которой серебристо мерцала лента реки. Искра опустила Лебедяну на живой, душистый ковёр из горных цветов. Платок упал с плеч княгини Светлореченской, и она осталась в одной сорочке. Тяжёлая и тёплая рука Искры ласкала её плечо, скользнула ниже, на бедро.
– Ты моя... Моя. Ладушка, лебёдушка белокрылая! – шептала женщина-кошка, касаясь горячим дыханием губ Лебедяны.
Голос её стал мурлычущим, бархатным, и опять тело Лебедяны заныло сладким желанием, но дальше поцелуев она не позволила зайти ни себе, ни Искре. Совестно ей было перед мужем. И ласков он был, и заботлив, и щедр на дары... Но разве купишь любовь подарками? И разве измеряется она в золоте да каменьях? Искра лишь вздохнула и мягко, целомудренно прижала княгиню к себе, поцеловала в лоб. Так и просидели они до рассвета, обнимаясь и рассказывая друг другу о себе. Семья Искры осталась на юге Белых гор: родительница-кошка, овдовевшая и взявшая себе новую супругу, две родные младшие сестры и две сводные. Родительница Искры тоже служила Огуни, но в каменотёсном деле. Хотела она и Искру на свою стезю привлечь, но у той проявился иной дар – не к камню, а к золоту, серебру и самоцветам. Выучилась она, нашла заброшенную кузню на склоне поросшей сосновым лесом горы и устроила там мастерскую. Поработала, нажила кое-какой достаток, встала прочно на ноги, построила домик в горах... Настала пора о своей собственной семье подумать.
– Привели меня знаки во дворец князя Искрена... Сперва думала я, что какая-то из девушек-работниц мне в жёны уготована, но как только тебе в глаза глянула – поняла всё. Как обухом меня по голове оглушило, а сердце, едва найдя свою ладушку, сразу разбилось. Ладушка-то моя и не дождалась меня, замуж вышла...
Искра вздохнула, а Лебедяна, пряча слезинки в уголках глаз, прижалась к её плечу. Даже запах родным был, и княгине хотелось вечно вдыхать его, прильнув к белогорской мастерице всем телом. Каждый вздох впитывать, каждое слово ловить, ресницы губами щекотать и по голове гладить...
– Прости меня, родная моя... У самой сердце рвётся и кровью исходит. И как теперь быть, не знаю.
– Не плачь, Лебёдушка. – Искра ласково мурлыкнула, прильнула щекой к щеке Лебедяны. – Буду любить тебя издали да украшения для тебя делать, только это мне и остаётся.
– А мне, мне что делать? – с подступившим к горлу горьким комом воскликнула княгиня. – Опостылел мне супруг, хоть и ни в чём не виноват он... Когда выходила за него – как будто люб был, но теперь понимаю: не любила его никогда. Не знала я, что такое настоящая любовь, как она выглядит и что с сердцем творит. Но не виноват он, что ошиблась я! Добр он ко мне, любит и заботится, как же я предам его? Да и не простые мы люди, а княжеская чета. Пример народу жизнью своей должны подавать... Тошно мне становится, Искорка, как подумаю обо всём этом!
– Попроси у мужа развод – небось, отпустит, ежели и впрямь добр и любит тебя, – сказала Искра. – Когда любишь истинно, счастья для любимого желаешь...
– Не знаю, Искорка, не знаю, – содрогнулась Лебедяна – то ли от свежего горного ветра, то ли от тревоги за свою судьбу. – Боюсь, так великодушно любить Искрен не умеет.
– Нешто жена его собственность? – нахмурилась Искра. – Чай, не купил он тебя. А ежели подарками попрекать станет – так отдай ему всё. Хоть голой-босой уходи – я тебя, как княгиню, одену. Не роскошествую я, мне одной много не надо, но для тебя ничего не пожалею. Нужды и отказа ни в чём знать не будешь.
– Ох, ладушка, – только и смогла вздохнуть Лебедяна. – Сердцем чувствую, не отпустит меня Искрен.
Посветлел восточный край неба, вершины гор озарились бледным светом, а они всё говорили. Лебедяна уж с ног валилась от усталости, ночь напролёт не спав, но и от Искры оторваться сил не было. Казалось, приросла она к ней душой и сердцем: попробуешь отнять – кровь хлынет...
– Уморилась ты, лебёдушка моя белокрылая, – с грустной лаской молвила Искра. – Спать-почивать пора тебе...
– Вставать уж скоро, – простонала Лебедяна, склоняясь на её плечо. Тело ломило от дремотной истомы, хотелось сжаться в комочек и спать, спать целую вечность...
Провалившись в сон, она уже не почувствовала, как Искра закутала её в свой кафтан, шагнула в проход и перенесла в её покои. Поутру князь так и не узнал, что его супруга всю ночь где-то пропадала.
Лебедяна не выдержала месяц до готовности заказа. Тоска по Искре звала её в Белые горы, и однажды ночью, когда все спали во дворце, она перенеслась в свой родной край – а вернее, к Искре. Кольцо открыло ей проход к домику в горах. В окнах света не было: видно, Искра уже давно отдыхала. Княгиня присела около мерцающего росой цветника, вдохнула чистый, тонкий запах, коснулась влажных чашечек рукой. Совестно было тревожить усталую после рабочего дня мастерицу, но желание увидеть её жгло сердце сильнее, и Лебедяна толкнула незапертую дверь.
В потёмках она тут же зацепила метлу, стоявшую у стены, и та со стуком упала. Лебедяна обмерла, зажав себе рот. Сердце рвалось из груди. В сумраке белела печь, на столе стояли миска и кружка, оставшиеся, по-видимому, с ужина. Лебедяна на цыпочках двинулась наверх по ступенькам, скользя пальцами по резным перилам. Едва она достигла тяжёлой деревянной двери, которая вела, судя по всему, в опочивальню, сзади её схватили и крепко стиснули сильные руки.
От неожиданности княгиня вскрикнула и забилась в прочных, как стальные обручи, объятиях, но родной голос со смешком промурлыкал:
– Не бойся, лебёдушка моя... Это я. Что ж ты, как тать, в дом пробираешься?.. Сердце моё ты и так украла – что ж тут ещё брать?
Ледяные иголочки испуга растаяли, и Лебедяна, обмякнув, прильнула к Искре, на ощупь ища её губы. Те мягко накрыли её уста, и в темноте раздался звук поцелуя, потом ещё одного. Искра щекотала княгиню жарким дыханием, шепча:
– Лада моя... Солнышко ясное...
– Истосковалась я по тебе, – всхлипнула Лебедяна от нахлынувшего сладко-солоноватого счастья, обвивая объятиями шею женщины-кошки. – Не утерпела, не дождалась срока...
– Да уж вижу, – ласково промурчала та, подхватывая княгиню на руки.
На столе мерцала масляная плошка, разгоняя мрак и озаряя лицо Искры, губы Лебедяны окунались в отвар горных трав, сдобренный мёдом. Потягивая его маленькими глоточками, она с пронзительным наслаждением любовалась дорогим сердцу лицом. Тёмные глубокие очи, бархатные брови, а в глубине зрачков – золотистые искорки.
– Я слышу – стукнуло что-то, – с усмешкой молвила женщина-кошка. – Думаю, домовой, что ли, расшалился? А тут – вон какая гостья пожаловала...
Их руки встретились на столе: Искра накрыла холеные, тонкие пальцы Лебедяны своей шершавой рабочей ладонью. Хмельной жар заструился по жилам, княгине вдруг стало душно, и она втянула воздух всей грудью. Взор Искры в ответ засверкал, ноздри дрогнули, словно чуя всё невысказанное.
– Что, моя ладушка? Что с тобою?
Лебедяна и рада бы сказать, но язык будто отнялся, охваченный сладостно-жгучей немотой. Искра, пересев к ней, нежно заключила её в объятия и довершила дело проникновенным поцелуем. Оборвались цепи, что сковывали и держали Лебедяну, смолкли совесть и голос долга, в ней звучала победная песнь любви. Она была готова на всё.
– Я твоя, – с трепетом прошептала она в губы Искры. – Возьми меня без остатка... Ласкай, целуй! Душой я уже принадлежу тебе, хочу принадлежать и телом...
– Как же ты пахнешь сладко... Желанная моя. – Бархатная глубина очей женщины-кошки окутывала княгиню теплом летней ночи; Искра щекотно, по-звериному обнюхивала её шею, уши, губы, грудь. – Но не будешь ли ты жалеть об этом, лада?
– Не хочу об этом думать! – Лебедяна запрокинула голову, подставляя шею поцелуям. – Будь что будет...
Сильные горячие руки Искры опустили её на набитый духмяными травами тюфяк, и по её телу бабочками полетели поцелуи – сперва лёгкие, как дуновение ветра, а потом влажные и жадные. Княгиня во тьме ласкала ладонями нагое тело Искры, изучала её твёрдые плечи, длинную шею и гибкую по-кошачьи спину, а когда пятернями обхватила ягодицы, та тихонько засмеялась и в ответ защекотала ртом её грудь. Эти ласки распаляли, и тело откликалось, горело и изнывало в предвкушении. Ощутив тепло дыхания между ног, Лебедяна застонала, пронзённая мощной стрелой чувственного наслаждения. А над нею нависла огромная кошка. Её широкие лапы мяли постель по обе стороны от Лебедяны, усатая морда щекотала шею, и княгиня сперва опешила, а потом засмеялась и поцеловала зверя в мягкий влажный нос. Кошка чихнула и низко, утробно заурчала. Лебедяна была совсем не против пообниматься с нею – тёплой, пушистой и очень сильной: под густым мехом гуляли тугие мускулы. Она покрыла морду зверя поцелуями, долго и ласково чесала за ушами, а кошка, обняв её тяжёлой лапищей, тягуче мурлыкала. Сердце ёкало от невыносимой нежности, а животная мощь кошки вызывала уважение и восхищение. Прижимаясь к её могучему телу, Лебедяна знала: этот зверь, способный одним ударом лапы убить горную козу, никогда не причинит ей зла и боли, напротив – будет для неё и тёплой, уютной подушкой, и защитой, и просто её любимой кисой. Кошка подставляла ласкам мохнатый живот, жмуря мерцающие во тьме янтарные глаза, и беспрестанно мурчала.
Вдоволь предавшись кошачьим нежностям, Искра ткнулась мордой в пупок Лебедяны, а в её взоре горела чувственная пристальность. Понимая, что она хочет сделать, княгиня открылась навстречу её широкому, как ладонь, языку. Сильный и горячий, он дарил ей обжигающую, солнечно-страстную ласку. Сперва он трудился снаружи, а потом, свернувшись трубочкой, вошёл в неё. Княгиня ахнула от пронзившей её сладости, которая толчками забилась внутри, доводя её до ослепительного исступления, до крика сквозь зубы. Ощущения хлынули водопадом, и Лебедяна растворилась в рвущей сознание в клочья невесомости.
Её родной зверь мурчал под боком, и Лебедяна, отдыхая после бурного наслаждения, ворошила и гладила густую шерсть. Уткнувшись в кошачий мех, она сладко уснула.
Разбудил её ласковый, урчащий голос возлюбленной:
– Ладушка, любушка моя, краса моя ненаглядная! Просыпайся, открывай очи ясные... Уж утро скоро, домой пора тебе. Хватятся ведь тебя!
Как ни хорошо было спать в обнимку с Искрой – теперь единственной, любимой и драгоценной, но и впрямь следовало возвращаться в свои покои. Эта необходимость печалью наваливалась на сердце, и Лебедяна не сдержала слёз. Женщина-кошка осушала их поцелуями, перебирала пальцами пряди её распущенных кос, утешала:
– Ну, ну, лебёдушка белокрылая... Не надо, звёздочка моя светлая. Свидимся ведь ещё, что ты!
– Невыносимо отрываться от тебя, – простонала княгиня, переплетаясь с нею в объятиях.
– И мне тебя отпускать не хочется, – шепнула Искра. – Но ничего не поделаешь.
Расставание застилало взор Лебедяны горько-солёной дымкой, тяжело висело в груди грызущей болью. Вернувшись домой и убедившись, что никто её отсутствия не заметил, она скользнула в раскрытую постель и до самого рассвета не смыкала глаз, воскрешая в чувственной памяти тела ласки и поцелуи возлюбленной. Вспомнив о горячем, мощном проникновении, она озаботилась: излила ли Искра семя в неё или успела вынуть? От наслаждения Лебедяна, кажется, потеряла сознание и совсем не помнила этого. Да и неважно, подумала она через миг, переворачиваясь на другой бок.
До чего же сладко было... С мужем княгиня Светлореченская ничего подобного не испытывала. Искрен был прост и грубоват на супружеском ложе, как ломоть ржаного хлеба. Он всегда торопился сам получить короткое удовольствие, а понравилось ли жене – это его мало волновало. Если в остальном он был добр и внимателен, то тонкостям плотских утех придавал мало значения. Когда она однажды попросила его поласкать её ртом, муж выгнул бровь:
– Вот ещё выдумала...
Было с ним пресно, скучно, коротко и привычно. Зарываясь пальцами в его светло-русые волосы, Лебедяна ловила себя на мысли, что ей больше нравилось ласкать гладкий затылок Искры. Ей не хватало этого плавного перехода длинной шеи в выпуклость изящного черепа, иногда колючего, но чаще шелковистого, с тёплой кожей... Да, голова женщины-кошки стала для неё отдельным, особым удовольствием. Княгине нравилось, когда Искра щекотала её кончиком косы по всему телу, не забывая про самые чувствительные местечки. Эти местечки сразу влажнели, готовые к более глубокой ласке.
Исчезать слишком часто Лебедяна боялась, поэтому встречалась с Искрой раз в седмицу. Порой она переносилась в Белые горы и днём; на это у неё было готово объяснение:
– Мне сила моей родной земли надобна. Гуляючи по ней, здравия набираюсь, тоску развеиваю.
Ещё не одно прекрасное украшение сделала для неё Искра по заказам князя, а тайно поднесла ей подарок от себя – ожерелье из кроваво-алых лалов, в волшбу которого, по её словам, она вложила всю свою любовь. Но милее всех каменьев и золота были для Лебедяны мгновения единения с возлюбленной. Лёжа в луговых цветах, она, как дитя, заворожённо слушала песни и сказки, которые женщина-кошка мурлыкала ей, и любовалась её сверкающей на солнце головой. Ночами при луне и звёздах она зарывалась в пушистый мех пальцами, восхищаясь звериной красотой и силой кошки, таяла в звуках мурлыканья – сладко до щекотавших глаза слёз.
– Люблю тебя, лада, – шептала княгиня, целуя бессчётно такие нужные и родные губы. – Единственная моя, бесценная, радость моя, сердце моё и душа...
– Горлинка, голубка, цветочек мой лазоревый, – вторила ей та, щекоча дыханием щёки Лебедяны. – И я люблю тебя, жизнь моя, небо моё, земля моя... Ты – мир мой... Лебёдушка моя...
В разлуке княгиня тосковала. В каждом вздохе ветра, в шелесте сада и пляске солнечных зайчиков жила память об их встречах, лунная дорожка на пруду звала побежать легкими шагами, едва касаясь воды... Нырнуть в проход – и вот они, желанные объятия. Видела княгиня и кузню своей лады – в светлом сосновом бору на склоне горы, поила мастерицу молоком из крынки, когда та выходила пообедать под открытым небом. Носила ей яства-разносолы с княжеской кухни и мёд хмельной, да и сама выпивала с нею чарочку. Счастье это было, но счастье урывками, тайком, с горчинкой и привкусом тоски. Ах, зачем же ты накрыла сердце безумием, любовь запоздалая?.. Но уж лучше полюбить вот так, отчаянно и безоглядно, чем всю жизнь провести в болотистом омуте покоя, так и не познав страсти, надрывающей грудь и доводящей до сладостных слёз.
Временами голос совести становился громче, и Лебедяне было тяжело смотреть в глаза мужу. А тут пришла беда: захворал Искрен, стали его мучить боли в желудке. Просветив его насквозь взором белогорской целительницы, Лебедяна ужаснулась тому, что творилось у князя внутри. В самом желудке она увидела тёмное пятнышко вроде язвы, от которого тянулись чёрные нити. Они прорастали в лёгкие, в печень и селезёнку, пробрались и к костям, рассеивая по всему телу маленьких «деток» того, главного пятнышка.
– Язва у тебя, княже, – сказали лекари, осмотрев Светлореченского владыку.
Но Лебедяна чуяла сердцем: это куда более опасный, смертоносный недуг. Веяло от него могильным холодом и тоской близкой утраты. Всю свою целительную силу она приложила, чтобы изгнать его, и «детки» исчезли, а пятнышко в желудке стало почти незаметным. Совсем его убрать у Лебедяны не выходило, но и после этого лечения Искрену стало гораздо лучше. Боли ушли, он даже сразу помолодел лет на десять, а вот у княгини засеребрились первые ниточки седины в косах.
Ниточки эти Искра заметила и принялась обеспокоенно расспрашивать:
– Что случилось, ладушка? Откуда это? Ты захворала?
– Не я, – вздохнула Лебедяна. – Искрен... Я лечила его, отдала много сил.
– Ничего, сил мы тебе сейчас добавим.
И княгиня попала в её любящие объятия. Свет Лалады струилась из рук белогорской мастерицы, вместе с лаской вливая в Лебедяну молодость и прогоняя первые признаки увядания. Озарённые луной, они переплелись на траве, и княгиня, запрокидывая в блаженстве голову, подставляла шею губам возлюбленной, а ладонью скользила по её затылку.
Но её стали одолевать невесёлые думы: уж не оттого ли супруг занедужил, что она неверна ему? Не в наказание ли ей? Громче и громче звучал голос совести, и вконец не вынеся угрызений, решила Лебедяна расстаться с Искрой. Тяжело далось ей это решение, много слёз она выплакала в подушку, так что потускнели её очи и пропала улыбка. А Искра принесла очередной заказ – перстень яхонтовый. Как всегда, гостеприимный князь накормил-напоил мастерицу и оставил ночевать.
Ночью они встретились в саду. Там Лебедяна со слезами поведала возлюбленной о своём решении. Искра слушала молча, и с каждым словом княгини её глаза темнели и холодели, а рот сурово сжимался. Навзрыд плакала Лебедяна: где взять сил, чтобы сказать своей ладе «уходи»? Но она сказала это.
– Нельзя так больше... Не могу я так! – всхлипывала она. – И мужа предаю, и с тобой нечестно поступаю: вместо того чтоб всю себя тебе отдать, лишь по крупицам, урывками любовь дарю... Не будем мы больше видеться, Искорка, прости уж меня. Сердце моё – в крови и вечно болеть будет по тебе, но иначе я не могу. Душит, давит совесть. Уж надумала я и вправду о разводе Искрена просить, но тут, как назло, захворал он. Не могу мужа оставить: а ежели его недуг вернётся? Кто его исцелять станет? Погибнет, пропадёт он без меня...
Во второй раз увидела она в глазах возлюбленной слёзы. Мерцали они в лунном свете, падая с ресниц женщины-кошки, и Лебедяна, встрепенувшись всем сердцем, хотела утереть их, но Искра отвела её руку.
– Как прикажешь, ладушка, – вымолвила она глухо. – Велишь уйти и не видеть тебя более – уйду. Но останусь верной тебе, жену в дом не приведу. Буду коротать остаток своего века одна. Никто мне, кроме тебя, не нужен.
С этими словами она ушла в свою опочивальню, а Лебедяна, не чуя под собой ног, побрела к пруду. Сев у воды, она роняла беззвучные слёзы, а в груди остывало пустое пепелище.
Мраморно-неподвижным было её лицо, когда она объявила князю, что более не хочет украшений от Искры. Тот удивился, но договор расторг. А вскоре Лебедяна почувствовала, что понесла дитя под сердцем. Вот только чьё – мужа или Искры?
В положенный срок родилась девочка – золотоволосая, но с глубокими карими глазами. Знала Лебедяна, чьи это очи... Князь же недоумевал:
– Что это у дитятка глаза тёмные? У нас же с тобою светлые!
– Вспомни бабку свою, Добраву, – сказала Лебедяна. – Она ведь темноглаза была, я слышала. Вот в неё дочка и уродилась.
Искрен сперва как будто поверил, но то ли потом его всё же одолели сомнения, то ли чувствовал он что-то – как бы то ни было, к младшей дочурке он относился прохладно. Через какое-то время хворь его разыгралась опять, и Лебедяне снова пришлось лечить его, отдавая свои силы, красу и молодость. Безутешно плакало её сердце, тосковавшее по Искре, но их встрече всё же суждено было состояться благодаря родительнице Лесияре – о том уж был наш сказ. Под видом целительницы Искра попала во дворец и влила в Лебедяну свет Лалады. Растаял в очах женщины-кошки ледок печали, когда она увидела дочку – Злату, названную так в честь бабушки Златоцветы.
После окончания войны с навиями Лебедяна стала женой Искры, и поселились они со Златой в горном домике, а Искрен нашёл себе новую супругу.
И вот в жаркий летний полдень Лебедяна спешила с корзинкой снеди к мастерской своей супруги-кошки, чтобы накормить ту обедом и сообщить радостную весть. Выйдя на порог и подставив лицо солнечным зайчикам, Искра с хрустом потянулась и встряхнулась, а завидев жену, сверкнула белозубой, клыкастой улыбкой. Подойдя и взяв у Лебедяны корзинку, она крепко прильнула к её губам.
– Сияешь, красавица... Отчего довольная такая?
– Пополнение в нашем семействе, радость моя. – Лебедяна прижалась к груди женщины-кошки, обнимаемая её сильной рукой. – Дитятко у нас будет.
Радостно шумели сосны, сверкали на солнце горные вершины, встречая зарождение новой жизни. Вдруг боль пронзила сердце Лебедяны, и она, тихо ахнув, прижала руку к груди.
– Что? Что с тобой, ладушка? – встревожилась Искра.
– Да что-то... в груди кольнуло, – пробормотала та. – Ничего, ничего... Пройдёт. Это я Искрена исцеляла – пропустила хворь через сердце, вот там рубец и остался. Но это не страшно, матушка Лесияра меня спасла и вылечила тогда.
– Пойдём-ка домой, родная, – сказала Искра, подхватывая жену на руки. – Беречься тебе надо, лебёдушка моя. На огороде не трудись сегодня, я приду вечером – сами со Златкой всё сделаем.
– Усталая ведь придёшь, – вздохнула Лебедяна, обвивая руками её плечи.
– Ничего, лада. – Искра шагнула в проход, и они очутились дома. – Главное – дитятко береги и себя.
Она уложила Лебедяну в постель и велела по дому не хлопотать, отдыхать. В груди у той ещё покалывало. Её сердцу оставалось биться недолго...
* * *
Злата таскала в огородные бочки воду из реки. К шестнадцатой весне она превратилась в статную девушку с золотой косой по колено, и молодые кошки-холостячки из Соснового увивались вокруг неё табунами: ещё бы, такая лакомая красавица! Только всех Злата отшивала, свою ладу ждала. Но кошки не теряли надежды, потому как кровь в них молодая бродила, особенно по весне – точно мёд хмельной, ударяла весна в головы. Вот и сейчас, шагая с коромыслом от реки, старшая дочь Искры неприступно гнала от себя рыжую, как огонь, Милушу, которой до брачного возраста оставалось ещё добрых лет десять.
– Ну, давай я воды тебе натаскаю! – не отставала та, то труся вприскочку позади, то забегая вперёд. – Сколько хочешь! Все бочки налью.
Злата шла с коромыслом степенно, осанисто, пшеничная коса вдоль спины покачивалась. Девушка хмыкнула:
– Не даром, небось?
– Само собой, не даром! – осклабилась в улыбке кошка. – По поцелую за каждую бочку!
– Ступай-ка ты отсюда, – смерив её колким взором, сказала Злата. – Знаю я вас, холостячек: сперва поцелуй, а потом...
– Что ты, что ты, голубушка! Никаких «потом»! – стала клятвенно заверять Милуша, встряхивая рыжими кудрями. – Всё по-честному!
– Я и сама справлюсь, – отрезала девушка. – Обойдусь без твоих услуг.
Несмотря на тонкий и гибкий стан, два больших ведра воды на коромысле она поднимала без труда. К работе Злата была привычна, могла и грядки вскопать, да и с разделкой мяса и рыбы теперь уже управлялась сама. Но Милуша всё не отставала. Перемахнув через прясло, она увязалась за девушкой в огород.
– Ну, давай хоть наливать помогу! – настойчиво предлагала молодая кошка. – Вёдра, поди, тяжёлые!
– Ничего, – крякнув, отвечала Злата. Поставив оба ведра наземь, она подняла одно и опрокинула в бочку. – Мне не в тягость.
С пустыми вёдрами она опять направилась к реке. Милуша, изловчившись, выхватила их у неё и сама набрала воду. Злата, возмущённая такой наглостью, упёрла руки в бока.
– Так, это ещё что такое? Я тебя просила? Дай сюда вёдра и ступай подобру-поздорову!
Кошка не восприняла её возмущение всерьёз и вскинула на плечи коромысло.
– Ничего, мне не трудно! – хохотнула она. – Для красивой девушки – всё, что угодно!
Она зашагала по тропинке, а рассерженная Злата только кулачками стучала по её спине: не отнимать же вёдра – расплещутся. Спина, кстати, у Милуши была красивая, сильная, стан – стройный, ноги – длинные, с выпуклыми икрами. Да лицом она вышла, только уж очень огненноволоса да конопата, а глаза – бледно-голубые, как выцветшее от жары небо. Руки крепкие: такие обнимут – не вырвешься. Перекидывалась она в рыжую кошку с белой грудью и носочками на лапах. Недурна, словом, но Злату её стати не прельщали.
– Так, я кому сказала! – бессильно сердилась она, шагая за кошкой. – Отдай вёдра! Не надо мне твоей помощи, отстань! А то родительнице скажу, она тебя проучит!
Но Милуша уже дошла до бочки и вылила воду. Поставив вёдра и отряхнув руки, она опять разулыбалась – рот до ушей, хоть завязочки пришей:
– Ну, видишь, со мной же лучше! Зачем тебе самой таскать? Ты только пальчиком помани – тебе кто угодно и воды наносит, и огород вспашет! – И спросила, лукаво подмигнув светлым, хитрющим глазом с рыжими ресницами: – Ну, а может, всё-таки поцелуйчик, а? Чтоб мне веселее работалось!
И потянулась к девушке губами. Злата шлёпнула её по лбу:
– Да отстань ты! Вот же прилипла, как банный лист!
– Оставь девицу в покое! – прогремел вдруг суровый голос.
У калитки стояла, сверкая кольчугой и шлемом, кошка-воин. Судя по красному плащу и того же цвета сапогам – из личной охраны самой княгини Лесияры. Её голубые глаза чуть более густого оттенка, чем у Милуши, показались Злате смутно знакомыми. Рыжая кошка попыталась показать норов, но у дружинницы был меч, который она грозно вынула из ножен на треть:
– А ну-ка, пошла вон!
Против оружия Милуша поспорить не могла, а потому живенько скрылась в проходе.
– Благодарю, госпожа, – сказала Злата с поклоном. – Ох уж эти холостячки – спасенья от них нет никакого!
– Я их понимаю, – улыбнулась кошка-воин, и её обычный, не повышенный голос прозвучал гораздо мягче и приятнее, без стального звона. – Такую девушку трудно не заметить.
Она сняла шлем и пригладила прямые белокурые волосы, остриженные коротко, как у всех рядовых дружинниц: сверху – круглой шапочкой, а на затылке и висках едва виднелась светлая щетина. Синева её глаз была ласковой, по-летнему тёплой.
– Не припоминаешь меня, милая? Ты ещё девчушкой была, я тебе зверей вырезала из дерева, помнишь?.. Мы тебя и твою матушку охраняли в горном домике. Бузинка я.
Те деревянные зверушки сохранились: часть из них лежала в сундуке, частью играла младшая сестрёнка Орляна. И ту охранницу Злата помнила, только имя из головы со временем вылетело, стёрлось, как старая надпись. Ягодное какое-то: то ли Калинка, то ли Малинка... Точно – Бузинка.
– Здравствуй, госпожа, – поклонилась Злата ещё раз.
Грядки закачались, поплыли вокруг неё. А Бузинка, всё так же ласково улыбаясь, ответила:
– Ну что ты, это мне тебя госпожой величать впору... Ты же, как-никак, нашей государыни внучка. Я тебя часто вспоминала, по сердцу ты мне пришлась.
Солнечный день невыносимо звенел, заливая лучами глаза. Дурнота сдавила виски, и Злата растянулась бы поперёк капустной грядки, если бы не Бузинка. В один прыжок очутившись рядом с девушкой, она подхватила её, обняла стан, прижала к себе.
– Тихонько, голубка моя, держись... А мне ведь очи твои снились. И золото вокруг. Золото – значит, Злата. Сердце к тебе привело.
– А мне ягоды бузины во сне виделись, – пробормотала Злата.
Зачерпнув воду из бочки, Бузинка осторожно и ласково умыла её: набирала пригоршню и тихонько плескала, обтирала лицо девушки ладонью.
– Пташка ты моя... Полегчало тебе?
Ветерок обдувал мокрое лицо Златы, холодил виски. Рука женщины-кошки поддерживала её крепко, но бережно, и была в этой бережности особая, тёплая, как её летние очи, нежность. Что-то родное, уютно обволакивающее чувствовалось в её объятиях – спокойствие и надёжность. Да, и в детстве Злате было с Бузинкой спокойно и хорошо – сидеть у неё на коленях и смотреть, как кучерявится стружка из-под ножа, как из деревяшки проступают очертания звериной фигурки... Рассказ про медведя, который отомстил хозяевам сада, сломав две яблони и накакав на крыльцо, она до сих пор помнила. Две другие охранницы остались в памяти в виде смутных безликих образов, а вот Бузинка отпечаталась ярко. И пепельно-белокурые волосы, и эта ласковая голубизна глаз...
– Да... легче, – пролепетала Злата, утираясь рукавом. – Голову обнесло маленько... Может, солнышко напекло.
Бузинка улыбнулась лучиками-морщинками у глаз.
– А может, и не солнышко, – мурлыкнула она, заправляя выбившуюся прядку девушке за ухо. – Кто бы мог подумать, что я свою невесту в детстве нянчила...
Злату обдало зябкими мурашками посреди жаркого дня. Невеста... Неужели – вот она, судьба? На Лаладиной седмице нынче она гуляла в первый раз, но никто её так и не выбрал. Матушка сказала: «Ну, какие твои годы, придёт ещё судьба. Всё будет». Миновали весенние гуляния, пришло лето, а вместе с ним – и эта гостья из детства. Впрочем, это пока – гостья. Зардевшись, Злата бросала робкие взгляды на женщину-кошку и пыталась понять, что творилось в сердце. Понять оказалось трудно, сердечко то колотилось бешено, то вдруг жутковато замедлялось, и грудь девушки вздымалась глубоко, неровно, прижатая к твёрдой белогорской броне, в которую была облачена Бузинка.
– Матушка на работе, – сказала Злата, щупая холодные стальные пластинки на кольчуге княжеской дружинницы. – Но пойдём в дом, гостьей желанной будешь... Попотчую, чем богаты. Хлеб да соль...
– Благодарствую, милая. – Бузинка окинула взором огород. – Но у тебя, вижу, ещё бочки не набраны и грядки не политы? Давай-ка помогу, раз уж пришла.
Скинув плащ и повесив его на плетень, женщина-кошка взялась за коромысло. Злата не возражала, только смущённо улыбалась, взволнованно дыша, и ходила следом за Бузинкой. Та усмехнулась:
– Что ты за мной хвостиком бегаешь, голубка? Присядь в тенёк, отдохни. Я мигом управлюсь.
Студёна была горная речка, сразу поливать из неё грядки не следовало, вот и прогревалась вода в бочках на солнышке. Черпая из бочки с уже тёплой водой, Бузинка полила все грядки, а Злата не могла оторвать от неё взгляда. Особой изысканностью черты лица женщины-кошки не отличались, простоваты были, грубой лепки, но небесное тепло глаз подкупало и брало душу в добрый плен сразу же. В свою личную охрану княгиня отбирала только самых рослых, великолепно сложённых кошек, и Бузинка соответствовала своей должности по всем статьям. Злата и сама была далеко не коротышка, но едва доставала ей макушкой до плеча. Белокурая шапочка волос кошки-воина пепельно серебрилась на солнце одуванчиковым пухом, сильные стройные ноги в красных сапогах ловко ступали по дорожкам меж грядок, а Злата любовалась ею с тёплым, светлым изумлением, и казалась ей Бузинка удивительной красавицей. Кошка-воительница в сверкающих доспехах поливала грядки у неё на огороде – ну разве не чудо?.. Злата почти беззвучно хихикнула от переполнявшего душу волнения, прикрыв губы пальцами. И вместе с тем она откуда-то знала: так и должно быть. Место Бузинки – здесь, рядом с ней.
Пока женщина-кошка поливала огород, Злата принесла ковшик воды из горного источника. Бузинка, поблагодарив, напилась и умыла чуть заблестевшее от пота лицо. Девушка проводила гостью в дом, где поднесла ей вышитое полотенце. Та утёрлась, огляделась:
– А тут ничего не изменилось с тех пор. – И спросила: – Ты сказала, твоя родительница на работе... А где госпожа Лебедяна? Здорова ли она?
– Матушка Лебедяна умерла, рожая сестрицу Орляну, – вздохнула Злата.
Бузинка нахмурилась, потемнела лицом.
– Вот оно как, – молвила она опечаленно. – Горько мне это слышать...
Молчание зазвенело тонко, грустно. Злата не знала, что сказать, но тяжкие, горестные думы хотелось гнать прочь. Бузинка заметила на полочке когда-то вырезанные ею фигурки, улыбнулась.
– Надо же, зверушки мои целы... – Она подошла, взяла медвежонка, подкинула на ладони и поставила на место.
В дом вбежала Орляна, которая с утра где-то пропадала – видно, носилась и играла со сверстницами из Соснового. Вернулась она, впрочем, не с пустыми руками, а со связкой рыбы.
– Сестрица Злата, ты же тесто ставила? – не заметив гостьи, с порога воскликнула девочка-кошка. – Вот, я наловила! Пирог с рыбой состряпай, так пирога охота!..
Увидев Бузинку около полочки со зверушками, она на мгновение притихла и смутилась. Злата представила ей женщину-кошку:
– Это Бузинка. Она зверей этих когда-то вырезала. Тебя ещё тогда на свете не было. – И засмеялась, взъерошив золотистые волосы сестрёнки: – Добытчица ты наша... Ну, давай сюда улов, будет тебе пирог! Заодно и гостью нашу накормим.
Пока она чистила рыбу и возилась со стряпнёй, Орляна знакомилась с Бузинкой.
– А ты на войне была? – спросила она, разглядывая с восхищением доспехи кошки-воина.
– Доводилось государыню Лесияру на поле сражения защищать, – ответила та.
– О, так ты у самой княгини служишь? – уважительно вытаращила тёмно-карие глаза Орляна.
– Служу, – улыбнулась Бузинка, привлекая девочку к себе поближе. – Похожа ты на свою старшую сестрицу... Как две капли воды вы с ней.
И она бросила задумчиво-ласковый взор в сторону Златы, которая как раз защипала края теста и собралась ставить пирог в печь. Тот вышел большим и пухлым, и женщина-кошка, встав, взяла у девушки тяжёлый противень:
– Давай, помогу...
Их руки соприкоснулись, и щёки Златы вспыхнули жаром. Приметливая и зоркая Орляна тут же лукаво прищурилась:
– Сестрица Злата, а чего это ты так покраснела?
– Не твоего ума дело, – напустив на себя сердитый и занятой вид, буркнула девушка. – От печки, наверно.
Но Орляна – даром, что дитя – уже про Лаладину седмицу и суженых знала.
– А-а, – протянула она догадливо, улыбаясь до ушей. – Поня-я-ятно всё с вами!
Хихикнув, она выскочила во двор, и запущенная ей вслед рукой старшей сестры морковка стукнулась о дверь и сломалась пополам. Бузинка тоже мягко засмеялась, легонько погладив пальцами горящие щёки Златы. У той и вовсе дыхание сбилось, разрывая грудь, и она широко распахнутым взором уставилась в приближающееся лицо женщины-кошки. Нутро то пламенело, то заливалось холодком волнения.
– Не целовалась ещё ни с кем? – шевельнулись губы Бузинки около её приоткрытых уст.
Едва дыша, Злата смогла только отрицательно качнуть головой. Хоть и увивались вокруг неё холостячки, но никому она поцелуя не дарила, берегла себя для будущей лады.
– Горлинка моя чистая, – тихо, ласково молвила Бузинка.
Она не поцеловала девушку, а только невесомо коснулась её щеки своею. Печь дышала жаром, пахло горячим мякишем и рыбой; Бузинка всего лишь нежно сжала руки Златы в своих, а у той уже и голова плыла, и сердце сладко зашлось биением. Казалось, колени вот-вот не выдержат, подкосятся...
Так матушка Искра их и застала – стоящими у печки и держащимися за руки. Из-за спины у неё выглядывала озорная мордашка Орляны: видно, младшенькая успела сбегать к родительнице в мастерскую и донести радостную весть. Заслышав о гостье, та оставила работу и немедля явилась домой. На память она никогда не жаловалась и сразу Бузинку узнала.
– А, помню тебя... Здравствуй. Так значит, это ты руки моей дочери просить пришла?
Бузинка поклонилась хозяйке дома.
– Точно так, госпожа Искра. Сердце меня к Злате привело. У неё знак тоже был.
Матушка Искра перевела глубокий, грустновато-внимательный и испытующий взор на Злату. Та, трепеща от волнения, точно былинка на ветру, только кивнула и опустилась на лавку: ноги совсем подгибались.
Матушка Искра не спешила отвечать. Она попросила воды – умыться, надела чистую рубашку взамен рабочей, сменила тяжёлые сапоги на мягкие кожаные чуни. Повела носом, учуяв рыбный пирог.
– Торопиться не станем, отобедаем сперва, – вымолвила она наконец. – Садись к столу и ты, любезная гостья.
Пирогу нужно было ещё постоять немного, отмякнуть, а пока Злата поставила на стол пшённую кашу, кисель с клюквой и оставшиеся с завтрака оладьи.
– Значит, по-прежнему у государыни на службе состоишь? – Матушка Искра отправила в рот ложку каши, отхлебнула простокваши.
– Точно так, – кивнула Бузинка. – С шестнадцати лет и по сей день – уж двадцать пять годков.
Злата посчитала в уме: значит, Бузинке сравнялся сорок один год. По кошачьим меркам это считалось молодостью; когда за сотню перевалит – зрелость, а те, кому уже за двести, слыли пожилыми.
– И живёшь, стало быть, при ней же, в казённых хоромах? Ну, а жену куда привести думаешь? – спрашивала матушка Искра неторопливо, деловито и сдержанно.
– Могу и в родительский дом, потому как своего у меня пока нет, – ответила кошка-воин, отведав оладий и киселя. Ела она опрятно и тихо, не жадно. – Родительницы мои большой сад держат и бортевые угодья. Мёд у них чистейший, липовый, на всю округу славится... Восемь веков уж наш род пчёл разводит – из поколения в поколение, и роща липовая столько же стоит. В доме, правда тесновато будет: три сестрицы-кошки у меня старших, все супругами и детками обзавелись. Одним большим семейством живём – в тесноте, да не в обиде. Только я одна отмежевалась, на службу ушла в дружину княгини.
– Мёд – это хорошо, это славно, – проронила матушка Искра. – Мёд всегда в цене. И сад, говоришь?
– Сад, верно. Яблони, груши, вишня и орешник.
Злата, слушая их разговор, представляла себе цветущую липовую рощу. Ей даже чудился сладкий дух, исходивший от старых благородных деревьев... Яблони, согнувшиеся под тяжестью зреющих плодов. Корзины, полные румяных яблок... Яблочная брага. Девушка встретилась взглядом с Бузинкой и опять смутилась до жара в щеках от её голубоглазой ласки.
А тем временем подоспел пирог, и хозяйка дома сама разрезала его на ломти, оделяя всех за столом: кусок – гостье, по куску дочерям и себе. После обеда она сказала:
– Ну что ж... Знаки знаками, но и подумать тут есть над чем. Приходи, любезная Бузинка, завтра на закате. Я как раз с работы вернусь.
Поднявшись, Бузинка откланялась. Злате очень хотелось бы снова ощутить её объятия, но женщина-кошка при родительнице своей избранницы держалась степенно и целомудренно – лишь поклонилась Злате, но взгляд её был нежен и глубок. Она ушла, матушка Искра вернулась на работу, а Злата принялась за обычные домашние дела. Но отлетел покой от её души, мысли бестолково носились птахами: появление Бузинки перевернуло в ней всё. Светлой, томительно-сладкой тревогой наполнялось сердце, и потому-то из рук девушки всё валилось. Бусы янтарные порвала, золу из печки выгребала – на пол рассыпала, села шить – иглу уронила да так и не нашла... А когда из рук выскользнул полный холодного молока кувшин, Злата присела около черепков, лежавших в огромной белой луже, заслонила лицо ладонью и завсхлипывала. Орляна подбежала, обняла её за плечи и принялась утешать:
– Ну, полно, сестрица Злата, не плачь! Было б из-за чего горевать... Бабушка Лесияра ещё молока пришлёт.
А Злата уже не всхлипывала – её плечи тряслись от смеха.
– Ох и растяпа же я сегодня, – укорила она саму себя. – Не знаю, что со мною творится...
– Так ясное дело – влюбилась ты, поди, – подмигнула сестрёнка.
Злата шутливо нахмурилась, потрепала её за ушко.
– И всё-то ты знаешь, умная какая!
Вечером вернулась матушка Искра. Она показалась Злате более усталой, чем обычно, и грустной. За стол она садиться не стала, сказала:
– Сходим-ка, проведаем матушку Лебедяну, пташки мои милые. Злата... Снедь, что ты на ужин приготовила, собери в корзинку.
Она умылась и удалилась в опочивальню переодеваться, а вскоре вышла в чёрном вышитом кафтане с алым кушаком, в новеньких сапогах – тоже чёрных, с загнутыми носами и золотыми кисточками, а косицу спрятала под барашковую шапку. Кивнула дочерям:
– Готовы, родные? Ну, идёмте.
Шаг в проход – и они очутились у одиноко стоявшей на полянке среди соснового леса яблони. Как и всегда, встретила их она приветливым шелестом, но вот чудеса: кто-то за ней поухаживал: убрал под нею траву, сделав ровный приствольный круг, а по кругу высадил белые, голубые и жёлтые цветы. На хорошо разрыхлённой почве виднелись следы граблей.
– Ну и дела, – нахмурилась матушка Искра, изумлённо и озадаченно потёрла подбородок, погладила затылок. – Кто-то тут побывал без нас!.. Кто-то с доброй душой и руками умелыми. – И спросила, обращаясь к яблоне: – Лебёдушка, кто же приходил к тебе? Кого нам благодарить за такую заботу?
Яблоня только тихо прошелестела листвой что-то нежное, успокоительное. Матушка Искра вздохнула. Некоторое время они молчали, думая о том, кому вдруг понадобилось ухаживать за одиноким деревом на уединённой полянке. Пахло смолой и хвоей белогорских сосен, травой и землёй, вольным и чистым ветром, свежестью вечерних небес... Матушка Искра присела у цветов, раскинула на траве небольшую скатерть и разложила ужин из корзинки.
– Садитесь, милые... Кушайте, – сказала она дочерям.
Злата с Орляной устроились рядом и задумчиво принялись за еду. А матушка Искра, помолчав, вскинула грустноватый взор к кроне яблони.
– Ну вот, Лебёдушка... Посватались к нашей Злате, невеста она теперь. Избранница славная. Ты знаешь её: это Бузинка, что тебя охраняла во время войны. И вроде радоваться надо, а кручина на моём сердце, грусть. Выпорхнет Злата из родного дома, и осиротеем мы с Орляной. Как же мы без неё?.. Как же мне отпустить её, лада моя?
Глаза матушки Искры печально и устало закрылись, а Злата, чуть не подавившись от солёного кома в горле, оставила еду и кинулась к ней. Ей и самой вдруг стало тоскливо от мысли, что придётся покинуть родительницу-кошку и сестрёнку, чтобы поселиться в доме, где жила пока незнакомая, чужая ей семья.
– Матушка Искра, – дрогнувшим от слёз голосом пролепетала она, обнимая ту за плечи.
– Сокровище моё, – улыбнулась та, целуя Злату в глаза.
Орляна, вдруг захлюпав носом, прильнула к старшей сестре с другой стороны, обхватила руками, прижалась к плечу щекой.
– Сестрица, не уходи от нас!
Не знала Злата, что ответить. На смену радостному волнению от встречи с Бузинкой пришла растерянность и пронзающая сердце печаль, а от ласкового шелеста яблони, в котором слышалось эхо голоса матушки Лебедяны, плакать хотелось ещё пуще. Посидев под деревом ещё немного, они собрали остатки ужина в корзинку. Как всегда, матушка Искра оставила яблоне гостинец – кусочек рыбного пирога.
На следующий день Бузинка пришла в условленный час, когда закатные лучи озаряли горные вершины розовато-янтарным светом. Явилась она не с пустыми руками, принесла гостинец из родного дома – туесок душистого липового мёда, смешанного с толчёными орехами. Нежно таяло это сладкое лакомство во рту, орешки похрустывали на зубах, а если ещё и со свежим пшеничным калачом и кружкой молока – так и вовсе не было ничего вкуснее на свете.
– Ну что ж, любезная Бузинка, бери Злату в жёны, – сказала матушка Искра. – Приданое за ней получишь хорошее: не зря я с рассвета до заката трудилась и копила добро.
Ласково засияв голубыми глазами, Бузинка взяла девушку за руки и сжала в своих. Однако от неё не укрылась кручина, снедавшая Злату со вчерашнего вечера: хоть и высохли слезинки, но грусть затаилась под ресницами.
– Что с тобой, голубка моя? – спросила она, встревоженно и нежно заглядывая невесте в глаза. – Ты будто не рада... Что тебя печалит?
Злата снова ощутила ком в горле. Он мешал говорить, делал голос глухим и тихим, но она выдавила:
– Ежели я уйду в твой дом, как же матушка и сестрица останутся тут без меня? Сердце моё рвётся на части...
Дыхание сбилось, горло стиснулось, и Злата разрыдалась так сильно и безутешно, что Бузинка растерялась. Она глядела на девушку огорчённо несколько мгновений, а потом прижала её к груди.
– Ну, ну... Милая, не горюй! Не плачь, звёздочка моя ясная, что-нибудь придумаем.
Кое-как уняв рыдания, Злата подала ужин, который старательно приготовила к приходу избранницы. Кусок не лез ей в горло, хоть она и пыталась улыбаться Бузинке. Белокурую кошку эта улыбка сквозь слёзы обмануть не могла, и в светлой лазури её взора светилось тёплое сострадание. После ужина она сказала:
– Вы погодите печалиться. Найдём выход, только дайте мне время. Посоветоваться с родными я должна и с государыней Лесиярой поговорить.
Её слова обнадёжили Злату, а нежное пожатие руки, которое Бузинка позволила себе на прощание уже на правах законной суженой, окутало сердце объятием незримых крыльев. Снова чувства пришли в волнение, поднялись стайкой птичек, заиграли, как пузырьки в воде...
Кошка-воительница вернулась спустя несколько дней. Она сказала, что готова поселиться в горном домике сама, дабы не разлучать будущую супругу с семьёй. С родными она всё обсудила, и те согласились.
– А о чём ты говорила с государыней? – спросила матушка Искра.
– Я оставляю службу, – ответила Бузинка. – Княгиня меня отпускает. Ежели ты согласна взять меня к себе, мастерица Искра, буду работать у тебя. Я ещё не слишком стара, чтобы учиться и осваивать новое дело.
– Ну что ж, коли так, то добро пожаловать. – Матушка Искра крепко и сердечно пожала руку будущей родственницы. – Учиться никогда не поздно.
Липы пышно цвели, наполняя рощу сладко-хмельным, тонким, щемящим духом. Гудели пчёлы, неустанные труженицы, перелетая с цветка на цветок – ни одного не пропускали, чтобы в сотах созрел прославленный мёд Ледяники Бортницы, родительницы Бузинки. Была Ледяника белокура и светлоглаза: очи – и впрямь будто льдинки голубоватые, острые и проницательные. Пока матушка Искра обсуждала с нею будущую свадьбу их дочерей, а Орляна уплетала блины со сметаной, испечённые супругой Ледяники, наречённые бродили по липовой роще вдвоём рука об руку.
– Неудивительно, что медведи к вам захаживают, – сказала Злата со смехом. – Медок-то сладкий им уж больно люб!
– Так и есть, – улыбнулась в ответ Бузинка. – Сестрицы мои и матушка Ледяника по очереди обходы делают, борти от зверей стерегут. Пусть косолапые диким, лесным мёдом лакомятся, а наш – не для них.
От густого запаха липового цвета у Златы кружилась голова, а когда Бузинка сжимала её руку, сердцу становилось тесно в груди. Лицо избранницы приблизилось, и девушка зачарованно растворилась в светлой нежности её глаз; миг – и губы Златы утонули в первом в её жизни поцелуе, сладком, как липовый мёд, и тёплом, как непоседливый солнечный зайчик.
* * *
Свадьба состоялась осенью, после сбора урожая. Лето Бузинка провела в доме Искры, трудясь вместе с нею в мастерской. Свои белокурые волосы она принесла в жертву Огуни; были они короткими, и на темени осталась совсем небольшая прядка, но с помощью воды из Тиши и отвара яснень-травы косица до пояса вырастала всего за год. Искра сама очистила голову своей новой ученицы – сперва ножом, потом огнём. После вступления в лоно Огуни Бузинка принялась постигать мастерство златокузнеца. Ученицей она оказалась довольно толковой, руки росли у неё из нужного места. Помогала она и в домашнем хозяйстве. Искра не жалела, что взяла её в дом. Её чувства к Злате крепли день ото дня, дочь тоже влюблялась в суженую всё сильнее, и на свадьбе они не размыкали рук, не сводили друг с друга нежного взора.
Между делами Искру по-прежнему занимал вопрос: что за неведомый добродетель ухаживал за яблоней? А уж вернее будет сказать – добродетельница. Конечно, это могла быть только белогорская дева: однажды Искра подобрала под деревом вышитый платочек. Поднеся его к ноздрям, мастерица уловила тонкий, тёплый и светлый, щемяще-нежный дух луговых цветов и молока с мёдом... Так не пахли кошки, то был девичий запах. Не раз пыталась Искра подкараулить таинственную незнакомку, но тщетно: круглыми сутками ждать около яблони она не могла, работы в мастерской и по хозяйству всегда хватало, а разве так кого-нибудь выследишь? Ей оставалось только время от времени находить следы изящных ножек, порой остававшиеся на земле под деревом, да подмечать, как растут и хорошеют посаженные вокруг яблони цветы. Даже в самый жаркий день земля под ними была влажной: кто-то их старательно и заботливо поливал, рыхлил почву и удалял сорняки.
«Кто же ты, милая девушка? – мысленно задавала вопрос Искра, задумчиво рассматривая следы этой бескорыстной и неустанной работы. – Зачем ты хлопочешь, трудишься тут, отчего не забываешь мою Лебёдушку? Чем она привлекла твоё сердце?»
Ей хотелось найти эту добрую незнакомку и поблагодарить её, глядя ей в глаза, но встретиться всё никак не выходило. Наконец она привязала к ветке яблони берёсту, на которой написала как бы от лица Лебедяны:
«Не знаю, кто ты, но благодарю тебя за твою заботу. Под корнями этого дерева покоится мой прах. Меня звали Лебедяной. Прошу тебя, напиши на берёсте своё имя, хочу его знать».
Ей вдруг пришло в голову: а если девушка испугается, решив, что усопшая расхаживает по земле, как живая, оставляя записки? И, подумав, Искра приписала:
«Не страшись ничего, зла тебе не причиню, потому как творишь доброе дело».
Привязав грамоту к ветке, Искра отступила от дерева, чтобы взглянуть, хорошо ли она видна. А то ещё не заметит её девушка... Берёста бросалась в глаза, и Искра ушла, удовлетворённая. Оставалось только ждать.
Придя в следующий раз, она сразу приметила, что записка висела немного иначе. Значит, её отвязывали и читали... А может, даже что-нибудь написали в ответ. Развернув скрученный трубкой кусок берёзовой коры, Искра прочла небольшую приписку:
«Меня зовут Купава».
«Ответила!» – согрелось сердце.
– Купава, – с улыбкой проговорила Искра это имя, вспоминая жёлтый цветок, чьи лепестки напоминали шарообразный сосуд или бубенчик.
Только бы не испугалась, только бы продолжала приходить!.. Увидеть бы её, заглянуть бы в очи... Может, в них удастся прочесть, почему Купаве захотелось ухаживать за яблоней, что её к ней так манит? Отыскав ещё одно свободное местечко на берёсте, Искра мелкими буквами втиснула строчку:
«Благодарю тебя, Купавушка. Не бойся. Приходи, всегда жду тебя с радостью».
Больше места на коре не оставалось.
Однажды Искре не спалось ночью. Большая яркая луна бросала лучи в оконца, а душа томилась тоской, рвалась куда-то... После рабочего дня мастерица устала, ей бы уснуть, как бревно, но отчего-то сон бежал от её ресниц. Думалось ей о Лебедяне, вспоминались её полуприкрытые очи, в которых уже угас свет жизни. Вся жизнь ушла в мяукающий комочек, который Искре вручила повитуха. Как у неё от горя молоко не перегорело – чудом, наверно. Душа лежала в руинах, была сплошным пустым пепелищем, и только дочки стали смыслом, ради которого Искра могла оставаться на земле. Без Лебедяны жить не хотелось, а хотелось пойти в Тихую Рощу и прислониться к сосне... Нет, нельзя! Как же Злата? Она ведь ещё мала, а Орляна и вовсе едва родилась.
Время пролетело быстро, вот уж Злата заплела две косы и покрыла голову, а Орляна подрастала. Она хотела стать мастерицей золотых и серебряных дел, как и родительница.
Купава... Какая она? В том, что она добрая, Искра не сомневалась, но очень хотелось увидеть её лицо, услышать голос. Её платочек Искра бережно хранила, порой зарываясь в него ноздрями, чтобы ощутить запах. А ещё у неё были маленькие изящные ножки: отпечаток на земле женщина-кошка могла накрыть одной ладонью. Наверно, совсем юная девочка-подросток. В сердце Искры шевелилось родительское чувство к ней – тёплое, покровительственно-ласковое. Может, она осиротела? Война унесла многих кошек, у которых остались семьи. Супруги, дочери.
Неслышимый голос луны звал Искру прочь из постели, душа рвалась к яблоне. Встав и одевшись, она открыла проход и перенеслась на знакомую полянку, чтобы обнять ствол и долго говорить с Лебедяной, но это место оказалось уже занятым. У подножия яблони стоял на коленях кто-то маленький и хрупкий, обнимая дерево и содрогаясь от тихих всхлипов, звук которых пронзил сердце Искры. Дунул ветерок и принёс ей запах, который она сразу узнала... Пропитанный им платочек лежал у неё за пазухой. Без сомнения, яблоню обнимала Купава: у такого изящного существа и ножка должна быть маленькой. Длинная тёмная коса спускалась вдоль спины, кончиком касаясь земли. Постояв несколько мгновений в молчании, Искра негромко и ласково спросила:
– О чём ты плачешь, Купавушка?
Послышалось тихое и серебристое «ах!» Купава обернулась, и Искра увидела огромные блестящие глаза и ручейки слёз на щеках. Цвета глаз в сумраке нельзя было разобрать.
– Ле... Лебедяна? – пролепетала Купава, дрожа от суеверного страха.
– Нет, милая, она была моей женой, – сказала женщина-кошка, помогая ей подняться с колен. – А я – Искра. И письмо на берёсте оставила здесь я. Прости, ежели напугала тебя... Ушедшие писем не оставляют, их пишут живые. Приходя к яблоне, я видела, что за ней кто-то ухаживает, но никак не могла застигнуть его за работой.
В лунном свете ей удалось рассмотреть Купаву лучше. Та оказалась вполне взрослой белогорской девой, просто очень невысокой и тоненькой – неудивительно, что Искра сперва приняла её за юную девочку. Под её вышитой рубашкой парой крупных наливных яблочек круглилась грудь, да и глаза были уже не детские, полные пронзительной печали. Треугольное личико с острым подбородком придавало ей робкий и кроткий вид.
– Так о чём или о ком ты плакала, моя хорошая? – снова спросила Искра.
– О Лебедяне, – вздохнула девушка. – Я только из берёсты узнала, что под корнями лежит прах...
– Почему ты решила ухаживать за яблоней? – Приподняв остренькое лицо Купавы за подбородок, Искра глубоко заглянула в её влажные очи.
– Я просто бродила по лесам, – ответила та. – И увидела её. Мне подумалось: откуда взялась яблоня здесь, где кругом одни только сосны? Самой собой, её кто-то посадил. А раз посадил, значит, надо ухаживать... А то она совсем одна тут стоит, бедняжка.
Родом Купава была из-под Заряславля, родилась в семье мастерицы-стекольщицы. Война унесла её избранницу, по которой девушка всё ещё горевала.
– Мы должны были сыграть свадьбу, но моя лада сложила голову в бою, погибла от оружия навиев. Вот... – Купава вытянула вперёд узенькую кисть с тонкими пальчиками, в лунном свете засверкал перстень с синим яхонтом. – Только колечко и осталось мне от неё. Её звали Лютвиной... Непростой был нрав у неё, жёсткий и буйный, как ветер в осеннюю непогоду. Но порой проглядывали и солнечные деньки, когда она бывала ласковой. Перед её уходом на войну мы поссорились, а поговорить и помириться не успели: убили её в первом же бою с навиями. Я звала её, просила хотя бы во сне ко мне явиться, но она не приходила... Тогда я пошла к девам Лалады, и они мне сказали, что душа того, кто убит навьим оружием, через сны разговаривать не может. – Девушка тяжело вздохнула, с её ресниц сорвалась слезинка, и она смахнула её пальцем. – Получается, что уж никогда нам не поговорить с ней... А та ссора так и жжёт, так и гложет сердце, не изглаживается из памяти. День и ночь вспоминаю, что мы друг другу говорили... Исправить уж ничего нельзя, прощенья не попросить. Не откликнется лада, не скажет, что не сердится... Что любит.
Ротик Купавы задрожал, и она прикусила губу, стараясь не расплакаться. Искре хотелось обнять её, прижать к груди, согреть, разделить скорбный груз, который девушка носила на сердце со дня гибели своей избранницы, но она не решилась.
– Думается мне, что твоя лада не сердилась на тебя, – сказала она, доставая платочек и вытирая им мокрые щёки Купавы. – Возьми... Это ты обронила. Хотела тебе вернуть, но всё никак не получалось тебя увидеть.
Узнав свой платочек, Купава улыбнулась.
– Ох, благодарю тебя... Растеряха я. – И добавила, кинув мерцающий лунными отблесками взор на яблоню: – О ладе своей я уж сколько лет слёзы лью... Захотелось и о твоей ладушке поплакать.
– Когда берёсту нашла, испугалась? – Искра всё-таки осторожно обняла Купаву за хрупкие плечики, которые зябко поёживались под её рукой.
– Немножко, – призналась та, грустно улыбнувшись одними глазами. – Но, наверно, больше удивилась, чем испугалась. Всё гадала, как такое возможно. Прах под корнями лежит, а кто же тогда письма пишет? Чуяла сердцем, что всё-таки живой рукой писано... Но когда тебя сейчас увидала, на миг подумала, будто и правда с усопшей разговариваю. Давно твоей лады не стало?
Искра рассказала свою историю. Купава, слушая, льнула к ней, и женщине-кошке до нежной щекотки в груди хотелось её оберегать, греть объятиями – такую хрупкую и маленькую, беззащитную.
– Отчего же ты по ночам гуляешь, милая? – усмехнулась она. – Ночью тебе в своей постельке лежать надобно, а не в лесу плакать...
– Наверно, оттого же, отчего и ты, – ответила Купава, и её тёплый вздох коснулся шеи Искры. – Печаль сердце грызёт, покоя и сна не даёт. Уж которую весну я без лады встречаю, но всё равно словно вчера это случилось. И всё корю себя, что поссорилась с нею тогда... Не уходит боль злая, горючая. Временами как будто отпускает, дела-заботы отвлекают, а потом опять тоска как навалится – света белого не вижу. А сегодня луна такая – хоть вой на неё...
Они вместе подняли взгляды к луне. Тонкая ручка Купавы лежала в руке Искры, синей звездой горел перстень – подарок Лютвины. Кольцо Лебедяны покоилось в шкатулке вместе с её любимым ожерельем из ярко-алых лалов, и никому после ухода владелицы к Лаладе не полагалось его надевать.
– Я поблагодарить тебя хотела, – проронила Искра, сжимая тонкие пальцы Купавы. – За то, что за яблонькой ухаживаешь. Я тут часто бываю, с Лебёдушкой разговариваю, да только, видать, в разное время с тобою... О тебе тоже думала, поглядеть на тебя хотелось. Свела Лебёдушка нас – две тоски, два горя, два сердца осиротевших.
Присев под деревом, они проговорили почти до самого рассвета. Уж луна зашла, звёзды побледнели на небосклоне, и густая ночная тьма поредела, став прозрачно-синей, а они всё изливали друг другу душу. Купава о своей Лютвине рассказывала, а Искра – о Лебедяне, и две печальных ноши, сливаясь воедино, отчего-то становились легче. Искра вкладывала своё сердце в изящные ладошки большеглазой кудесницы, и оно в них расцветало, как прихваченный морозом, но оживлённый белогорской волшбой сад. В свою очередь, Купаве она подставляла плечо, на которое та, измученная тоской, могла опереться. Искра рассказывала о своей встрече с Лебедяной, а Купава как будто дремала. Её ресницы были устало сомкнуты, но на самом деле она внимательно слушала. Воздушные пальцы вспорхнули, как бабочки, и стёрли со щеки женщины-кошки покатившуюся скупую слезу. А ведь девушка, кажется, даже совсем не смотрела Искре в лицо в этот миг...
– Ты устала, милая, – ласково шепнула Искра, склоняясь над нею и отводя с её лба прядку тёмных волос. – Ступай-ка ты домой и приляг хоть ненадолго.
Когда-то они и с Лебедяной сидели точно так же ночь напролёт, не в силах оторваться друг от друга. И точь-в-точь как Лебедяна, Купава сонно пробормотала:
– Вставать уж скоро... – И, зевнув, добавила: – Но ты права, пора домой. А то хватятся меня...
– Увижу ли я тебя снова? – вырвался из сердца Искры вопрос.
Усталые веки Купавы поднялись, и она улыбнулась – нежно, измученно, с манящей сладостью, от которой у Искры вдруг защемило в груди.
– Через три дня я приду поливать цветы. Через час после полудня я буду здесь.
Так они стали встречаться – иногда днём, иногда ночью. Встречи их были чистыми и целомудренными, и к каждому из этих свиданий у них всегда накапливалось, что сказать друг другу. А однажды, когда Искра навещала яблоню вместе с дочерьми и Бузинкой, Купава шагнула из прохода.
– Простите, что тревожу вас, – молвила она, смущённо потупив огромные серовато-синие глаза и теребя кончик толстой тёмно-русой косы. – Мне, наверно, среди вас не место... Но и мне эта яблоня стала родной.
Искра, поднявшись ей навстречу, взяла её за руку.
– Почему же не место? Это не так, голубка. – И представила девушку своей семье: – Родные мои, это Купава – та самая добрая душа, что ухаживает за нашей яблонькой. Мне наконец-то удалось её застать.
Она усадила Купаву за скатерть с поминальным ужином. В двух словах поведав её историю, Искра сказала:
– Раз уж матушка Лебедяна привела её к нам, пусть Купава будет желанной гостьей в нашем доме.
– Конечно, пусть будет, – отозвалась Злата с приветливой улыбкой. – Пусть приходит, когда ей вздумается, мы всегда будем рады.
– Ну что вы, – засмущалась Купава чуть ли не до слёз. – Я же никто вам... Ни сестра, ни кума.
– Добрым душам двери нашего дома всегда открыты, – мягко молвила Злата, и Искре на миг показалось, будто она услышала голос супруги. Да и лицом, походкой, движениями, смехом дочь была вылитая Лебедяна – до оторопи, до сладкой тоски в груди.
Глубокой осенью и зимой Купава к яблоне не ходила: в холода делать там было, конечно, нечего, дерево уснуло на заснеженной полянке, а сосны верными стражами стерегли его отдых. Искра заскучала было по хрупкой кудеснице, но та пришла в её сон. Там, во сне, была вечная весна, и яблоня стояла, одетая в душистое кружево цветения. Белые лепестки падали на плечи и волосы Купавы, и она вложила тёплые ладошки в протянутые руки Искры.
«Благодарю тебя, – прозвенел её голос нежным колокольчиком. – Ты – моя опора, моя родственная душа. Не знаю, что бы я без тебя делала. Наверно, завяла бы от тоски и ушла в чертог Лалады прежде времени».
«Не за что благодарить меня, – ответила ей Искра. – Ты – ясный луч в моём сердце, ты согреваешь его и приносишь свет и радость. И быть твоей опорой – счастье для меня».
В последний зимний месяц они не виделись даже в снах. Искра тревожилась, уж не случилось ли чего, но, не будучи знакомой с семьёй девушки, навестить её наяву не решалась. А весной, когда снег на полянке стал водянистым и заблестел на солнце, как хрустальная крупа, она пришла к яблоне. Целое войско подснежников дружными кучками поднимало белые головки к небу, пробивалось острыми листьями сквозь льдистый панцирь... А вот и пушистые тёмно-лиловые чашечки сон-травы раскрылись на проталинках. Улыбаясь, Искра склонилась к первоцветам, потом коснулась пальцами яблоневых веток. Скоро, совсем скоро набухнут почки и выберутся к солнцу крошечные листочки. А потом и зацветёт Лебёдушка.
– Она пережила эту зиму, – раздался тихий голос – точно шорох сухой листвы. – А мне временами казалось, что я не переживу.
Искра встрепенулась всем сердцем и обернулась. Купава, в белой шубке и красных сапожках, походила на вышедшую из сосновой чащи девочку-снегурочку, у которой от весны на лице разливалась болезненная бледность. Она и впрямь будто перенесла изнуряющий недуг: под глазами залегла голубизна, губы поблёкли, щёки осунулись.
– Купавушка! – Искра сжала её руки в рукавичках, заглянула в очи, в которых половодьем разливалась тоска. – Отчего ты не показывалась? На сердце у меня неспокойно было...
Веки Купавы устало сомкнулись, она подставляла лицо весеннему солнцу.
– Боль чёрная меня накрыла, – проронила она, едва шевеля бледными губами. – Не отпускает меня она. Всё нашу с Лютвиной последнюю встречу вспоминаю... Как поссорились мы, какие очи у неё стали тогда тёмные, чужие. Пытаюсь придумать другие слова – не те, что в тот день сказала. И её ответы тоже стараюсь представить себе. Но не выходит... Говорю сама, а её голос расслышать не могу. Не знаю, что она ответила бы мне на эти иные, новые слова. Невыносимо... Думала, лягу и не проснусь больше никогда. Но весна разбудила...
– Купавушка, милая, оглянись вокруг! – Искра обвела рукой полянку, полную первоцветов. – Разве ты не видишь? Каждую весну твоя лада тебе приветы шлёт. Смотри, сколько цветов! Это от неё подарок тебе. Чувствуешь, как солнышко пригревает? Тепло твоей щёчке? Это твоя лада тебя целует. А зацветут сады – это она тебе «люблю» говорит, лепестками белыми твоё личико ласкает. Везде, всюду, ежели присмотреться, можно знаки найти, которые она тебе подаёт. Прийти во сне не может, но всем небом, всей землёй, солнцем и ветром говорит с тобою, милая. Не думай о плохом, не вспоминай тех горьких слов, пусть они растают, как снег по весне. Почувствуй любовь твоей лады: она везде, она окружает тебя.
Осела девочка-снегурочка на стеклянно-зернистый снег, беззвучно затряслась, зажав рот ладонью, чтоб стон не вырвался. Градом покатились слёзы, сильными толчками вырывались из груди всхлипы, от которых она сотрясалась хрупкими плечами. Её дрожащие пальцы протянулись к белым головкам подснежников, гладили и ласкали их, а на губах то проступала, то исчезала улыбка.
– Ну, ну, голубка... – Искра помогла ей подняться на ноги, прижала к груди. – Поплачь, отпусти тоску. Пусть летит в небо. А ты оставайся на земле и живи. Тёплая моя, светлая, кудесница моя! Что я без тебя стану делать? Увянет моё сердце без твоих рук чудотворных...
Всхлипы понемногу стихли, Купава глубоко дышала, прильнув к груди Искры. Потом они бродили по тропинкам, проваливаясь в снег, Искра на руках перенесла Купаву по стволу поваленного дерева через ручей; гуляя, они набрели на цветущий островок: это был вход в пещеру с ключом, через который выходили на поверхность воды Тиши. На пороге показалась молодая жрица с пушистыми, как метёлочки, ресницами и улыбчивыми зеленовато-серыми глазами. Она ходила в одной подпоясанной рубашке: в пещере было тепло, как летом, а у входа вовсю зеленела трава. Тишь творила чудеса.
– Испейте. – Дева Лалады поднесла Искре и Купаве кубок с водой из подземной реки. – Пусть возрадуются сердца ваши, пусть из них уйдёт зимняя тень, и да наполнятся они любовью!
Искра выпила первой и передала кубок Купаве. Та, окинув взглядом солнечные сосны вокруг, закрыла глаза и с трепещущими ресницами допила остатки до дна. Лес зазвенел золотыми бубенчиками, наполнился птичьим гомоном, и Искра с Купавой очутились на поляне с яблоней. Будто и не было ни пещеры, ни жрицы, ни кубка... А на полянке бил из щели меж каменными глыбами новый родник, и горячая вода Тиши промывала себе в снегу русло, огибая яблоню. В лесу весна ещё делала первые шаги, а полянка уже стремилась к лету: снег от могучего дыхания подземной реки стремительно таял, и на прогалинах зеленела коротенькая травка.
– Ну, вот видишь, – шепнула Искра Купаве, затаившей дыхание от этого чуда. – Твоя лада шлёт тебе привет и говорит: «Я не сержусь. Я люблю тебя».
– А твоя говорит «люблю» тебе. – Голос девушки дрогнул от чувств, глаза влажно блеснули, но она не заплакала.
– Осталось сказать ещё одно «люблю», – молвила Искра, обнимая её за плечи.
– Кому? – вскинула ресницы Купава.
Женщина-кошка только улыбнулась.
Пролетели ещё несколько вёсен. Полянка благодаря роднику Тиши оставалась островком лета круглый год, как кусочек Тихой Рощи, а яблоня цвела и давала урожаи. Большой и раскидистой стала её крона, и нижние ветви приходилось подпирать, чтоб не сломались под тяжестью плодов. У Златы с Бузинкой родилась первеница, Орляна вступила в лоно Огуни и пошла к родительнице подмастерьем, а Искра сделала перстень с алым яхонтом. Она долго носила его с собой: ждала, когда яблоня зацветёт.
Белые лепестки осыпали плечи и волосы Купавы: она трудилась над приствольным кругом, вскапывая и разрыхляя граблями землю под яблоней. Увидев Искру, она распрямилась и с улыбкой ждала, когда та приблизится.
Искра протянула ей на ладони перстень. Камень сверкал на солнце, алый, как кровь, и тёплый, как сердце: в нём мерцала белогорская волшба, вложенная руками мастерицы.
– Это и есть ещё одно «люблю», – сказала Искра. – Помнишь?
Губы Купавы задрожали, глаза влажно блеснули.
– Помню...
Порыв ветра сорвал с веток целую метель лепестков, в которой затерялся вопрос, заданный Искрой, и ответ Купавы. Одной рукой та опиралась на черенок лопаты, а другой обвивала шею женщины-кошки. Перстень мерцал на её пальце с той же частотой, с какой билось сердце его носительницы, и всё вокруг дышало, бредило весной – от снежных вершин до травы у них под ногами.
Тропой любви
Солнечные лучи пронизывали сосновый лес золотистыми струнами, мерцая на вышивке чёрного наряда Берёзки. Словно лоскут мрачного ночного неба, скользил по траве край подола, поблёскивал речной жемчуг на широких накладных зарукавьях. Повойник и вдовий платок обрамляли лицо молодой кудесницы грустным, сиротливым треугольником. Но предаваться тоске ей было сейчас некогда: она собирала лесную землянику для Ратиборы. Из-за округлившегося животика ей стало неудобно наклоняться, а потому она ласковой волшбой пальцев выманивала к себе спелые ягодки, и те, срываясь со стебельков, сами стекались к ней в сложенные пригоршней ладони, а Берёзка ссыпала их в плетёное из ивовых прутьев лукошко. Сладкие, духмяные чары земляничной полянки окутывали её солнечным теплом, и Берёзка растворялась душой в приветливой улыбке белогорского лета. Сама земля исцеляла её, а мудрые сосны слышали даже беззвучный шёпот сердца. Время от времени Берёзка благодарно касалась смолистых стволов, отчего на её пальцах оставался горьковато-целебный запах.
Сосновый лес незаметно перешёл в смешанный, появился пышный подлесок: можжевельник, крушина, рябина, орешник. Там и сям попадались малинники и ежевичники, но ягодки были маленькие и зелёные: ещё не настала их пора. Берёзка уже почти набрала своё лукошко, когда увидела торчавший из зарослей лещины рыжий хвост – огромный, пушистый, с белым кончиком. Похоже, в кустах притаилась лисица, но каких-то невероятных размеров... Зачарованно затаив дыхание, Берёзка склонилась и протянула руку к мохнатому чуду. А хвост вдруг втянулся, и из шелестящей листвы показалась такая же рыжая острая морда с холодными синими глазами и оскаленными белоснежными клыками. В одно ошеломительное, леденящее мгновение перед Берёзкой вырос зверь ростом с Марушиного пса, но покрытый огненной шерстью. Широкие лапы в чёрных «носочках» мягко ступали по траве, а голубые ледышки глаз показались девушке до оторопи знакомыми. Зверь не нападал, не рычал, но его внезапное появление из кустов обдало Берёзку упругой волной испуга. Ягоды просыпались из лукошка, и в довершение несчастья она упала прямо на них, отпрянув от рыжего оборотня – бедром приложилась. А тот, перекувырнувшись через голову, превратился в Гледлид.
– Вот так встреча! – сверкнула навья смешливым оскалом белых зубов. – Прежде я почти не перекидывалась, а в Белых горах меня что-то потянуло к природе. Даже захотелось поохотиться. Я тебя, кажется, напугала... Прости, что так вышло с ягодами. Но их уйма в лесу, ты же ещё наберёшь. Не расстраивайся.
У Берёзки намокли глаза: было жаль раздавленных ягод и своих трудов. Задумав накормить Ратибору самой спелой и душистой земляникой, она обошла много полянок, и теперь её ноги гудели, а поясница ныла. От падения нутро сотряслось, и Берёзка, холодея, прислушивалась к ощущениям. От легкомысленного зубоскальства Гледлид к горлу подступил солёный ком обиды и негодования, а взгляд затянулся влажной дымкой.
– Над чем ты потешаешься? – сквозь стиснутые зубы процедила Берёзка, судорожно обхватывая руками живот. – Тебе смешно, что я упала? Я уже потеряла одного ребёнка...
Боль из прошлого захлестнула горло удавкой, слёзы неудержимо заструились по щекам горячими ручейками. Ухмылка сразу исчезла с лица навьи, и она бросилась к Берёзке, даже забыв о своей наготе.
– О нет... Нет! – Пальцы Гледлид быстро и ласково отёрли мокрые щёки молодой колдуньи, а потом ладони прильнули к её животу, осторожно поглаживая. – Ну что ты, с твоим ребёночком ничего не случится, вот увидишь! Всё будет хорошо, я знаю. Не плачь, пожалуйста...
– У тебя совсем ума нет? – не успокаивалась Берёзка. – У меня внутри всё сотряслось... И я не знаю, что теперь будет!
– Прости меня, – бормотала навья расстроенно, гладя девушку по плечам. – Я не хотела тебя пугать...
Она потянулась, чтобы обнять Берёзку, но та не далась, выставив вперёд руку.
– Оденься сперва, – буркнула она, чувствуя, как румянец смущения высушивает своим жаром слёзы.
– Ой, я сейчас! – спохватилась Гледлид.
Она снова нырнула в кусты и растворилась в летнем шелесте дня. Тревога понемногу отпускала: сколько Берёзка ни вслушивалась, ничего страшного или подозрительного внутри не ощущала. На платье осталось мокрое пятно от сока, опустевшее лукошко валялось на боку, а вся земляника, которую она так старательно и заботливо, ягодку к ягодке, собирала для дочки Светолики, превратилась в сплющенное месиво. Сполохи страха за ещё не рождённого ребёнка угасли, прогоняемые ласковым ветерком и солнцем.
Гледлид вернулась уже одетая – в своих высоких сапогах навьего покроя и вышитой белогорской рубашке с кушаком, на ходу стягивая волосы в конский хвост. Кончиком он достигал поясницы, а на висках и затылке навьи пробивалась короткая рыжая щетина.
– Как ты? – спросила она озабоченно, опускаясь на корточки около сидевшей на земле Берёзки. – Прости меня, всё и правда получилось донельзя глупо. Тебе, наверно, надо поберечь себя сегодня... Приляжешь, может быть? Пойдём, я провожу тебя домой.
– Да нет, всё обошлось. – Опираясь на руку навьи, Берёзка поднялась. – Земляники набрать снова надо. Я Ратибору накормить хотела, пока ягода лесная идёт...
– Ты слишком балуешь её, – усмехнулась Гледлид. – Отчего ты не взяла её с собой по ягоды? Она уже большая девица, могла бы и помочь тебе. Куда ж это годно?.. Ты хлопочешь, утомляешь себя, будучи в положении, а она сидит дома, ждёт, когда ты, как... гм... заботливая мама-пташка, принесёшь ей покушать в клювике...
Озорные лисята в глазах выдавали её с головой: пресловутой «клуши» Гледлид чудом избежала, в последний миг подобрав другое сравнение. На её счастье, поблизости не было колючек, но от взгляда Берёзки вспыхнула сухая опавшая хвоя под её ногами. Навья заплясала, притаптывая пламя, а Берёзка подобрала лукошко и принялась снова волшбой выманивать из травы только самые спелые и крупные ягодки.
– Когда мне потребуется твой совет касательно того, как мне о ребёнке заботиться, я сама у тебя спрошу, договорились? Ратибора дома не бездельничает, она вместе с дочкой сестрицы Огнеславы наукам учится и искусство ратное постигает.
– Да я уж поняла, что ты замечаний и советов не терпишь, моя прекрасная кудесница, – хмыкнула Гледлид, потушив колдовской огонь. – И иметь с тобой дело становится всё опаснее... М-да.
– Давать советы и делать замечания надо, когда об этом просят, – возразила Берёзка невозмутимо, бросая первую горсть ягод в корзинку.
Её ладонь сладко и щемяще-нежно пахла земляничными чарами лета. Губы Гледлид щекотно погрузились в неё поцелуем, и Берёзка вздрогнула: в памяти вспыхнул образ нагой навьи. Сильное и стройное, как у женщин-кошек, тело, длинные ноги с точёными щиколотками, высокая грудь с ярко-розовыми сосками, дерзко смотревшими вверх и в стороны... Берёзка встряхнула головой, прогоняя наваждение.
– Лучше помоги мне ягоды собрать, раз уж из-за тебя с ними приключилась беда, – сказала она, высвобождая руку из нежного пожатия.
– Своей вины не отрицаю, – поклонилась Гледлид. – Идём, я тут неподалёку видела полянку, на которой их просто тьма.
Пропитанное солнцем и земляничным духом небольшое открытое пространство обступали вековые сосны, в хрустально-прозрачной тишине раздавались далёкие голоса птиц. Гледлид присела на корточки, сорвала алую ягодку, подбросила её на ладони, как бусинку, и закинула себе в рот. Её пальцы раздвинули траву, открывая поражённому взгляду Берёзки вкусные лесные сокровища. Куда ни ступи – всюду ягоды, зелёные, созревающие и совсем спелые. Целое благоухающее море ягод...
– Вы мои хорошие, мои сладкие, – с улыбкой прошептала Берёзка, присаживаясь на нагретую солнцем землю. – Ягодки спелые, матушкой-землицей вскормленные, в пригоршню прыгайте да в лукошко моё падайте!
Земляника сама полетела к ней в руки, причём только зрелые ягодки, а зелёные оставались на своих стебельках.
– У меня не получается, как у тебя, – подмигнула Гледлид, собиравшая ягоды обычным способом – вручную. – Не научишь?
– Я уже поделилась с тобой своей силой, когда мы сажали розы. Пробуй, и всё получится, – отозвалась молодая ведунья.
Прозвучало это чуть строго – тоном терпеливой наставницы, которую то и дело заставляет огорчаться и сердиться нерадивая ученица. В глазах навьи замерцали лукавые солнечные искорки.
– Наверно, мне нужно ещё немножко твоей силы. – И с этими словами Гледлид склонилась и мягко поцеловала Берёзку пахнувшими земляникой губами.
Та вздрогнула от этой дерзости, точно от удара хлыстом по спине. И земля, и небо, и трава шептали ей о Светолике, но закрытое на замочек сердце дрогнуло, словно само лето приникло к её губам своими духмяными устами. Эта шаловливая нежность взывала к жизни, к радости, стучалась тонким ростком в створки скорбно замкнутой души... Слёзы вновь навернулись на глаза, и Берёзка прошептала:
– Больше не делай так... без моего разрешения.
– Прости, – обезоруживающе улыбнулась Гледлид.
Это слово часто и легко срывалось с ягодно-ярких губ навьи, но что толку, если она тут же продолжала свои нахальные выходки? То воровала поцелуи, то давала волю своему язвительному языку... Берёзке порой хотелось хорошенько оттрепать её за острые уши, покрытые рыжеватым пушком.
Горсть за горстью бросала Берёзка землянику в лукошко, а мысли снова и снова беспокойно вились вокруг звериного облика Гледлид. Любопытство щекотало её неугомонным пушистым комочком, хотелось разглядеть рыжего оборотня во всех подробностях, а пальцы сводило от желания зарыться в густой мех цвета жаркого пламени. Берёзка видела Марушиных псов: они своей наружностью походили на волков-переростков со смертоносными клыками, а у Гледлид даже в человеческой ипостаси проглядывало что-то лисье. А тем временем руки навьи высыпали ей в горсть кучку отборнейших ягод.
– В следующий раз всё-таки возьми Ратибору с собой, – сказала Гледлид с намёком на усмешку в уголках губ. – Не соломинка – не переломится, если поможет матушке хотя бы корзинку нести.
– Она ещё не зовёт меня матушкой, – сорвался с уст Берёзки вздох.
Пальцы Гледлид легонько тронули её щёку – и снова до сердечной дрожи. Почему Берёзка так трепетала от этих касаний, которые и возмущали её своей дерзостью, каждый раз заставая врасплох, и затрагивали какую-то глубинную струнку? Струнка эта отзывалась тихой песней горьковато-сладкой тоски.
– Ничего, привыкнет – станет звать, – улыбнулась Гледлид.
Улыбалась она по-разному: могла уколоть насмешливостью, обжечь небесным холодом глаз, а могла и согреть солнечными искорками в зрачках – как сейчас.
– Покажись в зверином облике. Мне хочется тебя получше рассмотреть. – Просьба вырвалась у Берёзки вместе с решительным выдохом.
– Чтобы ты снова испугалась? Нет уж, – криво усмехнулась Гледлид.
Берёзке почудилась в блеске её глаз и изгибе губ горечь, и ей всем сердцем захотелось исцелить эту горчинку, смыть своим теплом.
– Я не боюсь ни тебя, ни зверя в тебе, – сказала она, сердечно и ласково накрывая руки Гледлид своими. – Тот зверь – тоже ты. Это такая же твоя полноправная сторона, как и человеческий облик.
Руки навьи ответили на её прикосновение пылким пожатием. Склонившись, Гледлид покрыла пальцы Берёзки поцелуями.
– Тебе точно это нужно? – Её взгляд вскинулся из-под ресниц неуверенно, вопросительно. – Я правда не хочу тебя пугать.
– Точно, – улыбнулась девушка.
– Тогда лучше оставайся сидеть, – проронила навья, поднимаясь с травы. – На всякий случай.
Не сводя с Берёзки странного, то ли нежного, то ли насмешливого взгляда, она сперва сняла с себя сапоги и небрежно отшвырнула в сторону, потом развязала кушак и бросила его ей. Рубашка и портки тоже полетели Берёзке. Несколько мгновений Гледлид стояла перед ней обнажённая, одетая лишь в лучи солнца, озарявшие её со спины, а потом отступила назад на несколько шагов. Кувырок через голову – и перед лицом Берёзки очутилась мохнатая рыжая морда. На мгновение девушка вновь ощутила приподнимающую все волоски на теле волну холодка, но справилась с собой. Спокойной тёплой рукой она откинула страх со своего сердца, точно занавеску, и её взгляду в полной мере открылась красота этого зверя. Природе будто бы вздумалось пошутить и раскрасить Марушиного пса в лисьи цвета, сохранив при этом его огромные размеры и кряжистую мощь. Над сияющими голубыми топазами глаз нависали белые кустики бровей, а шею окутывала роскошная грива, белоснежная на груди.
– Так значит, ты у нас лисёнок, – с улыбкой шепнула Берёзка и сделала то, чего ей так хотелось – запустила пальцы в тёплый мех, почесав зверя за ушами. – Рыжик-пушистик!
«Ну уж нет! Я тебе не пушистик, а страшное, кровожадное чудовище!» – прохладно пророкотал в её голове знакомый голос – без сомнения, голос Гледлид, но более глубокий и раскатистый.
С горловым «гр-р-р» зверь оскалил пасть, полную огромных, смертельно острых зубов.
«Что? Боишься?»
В зверином облике глаза Гледлид приобрели поистине лютый блеск, обжигавший мертвенным дыханием мороза, но глубоко в зрачках притаились всё те же шаловливые лисята. Разглядев их, Берёзка рассмеялась, взяла морду оборотня в свои ладони и поцеловала в чёрный мягкий нос.
– Нет, нисколечко не боюсь.
Глаза зверя затуманились мечтательно-влюблённой дымкой, и он рухнул на бок, вытянув лапы и откинув хвост.
– Ты чего? – Голос Берёзки дрожал от смеха, а пальцы неудержимо тянулись, чтобы гладить и чесать эту лоснившуюся на солнце огненную шубу.
«Поцелуй моей прекрасной волшебницы пронзил мне сердце навылет», – томно мурлыкнул в её голове ответ Гледлид.
В следующий миг рыжее «чудовище» вскочило и прогнуло спину, вытянув передние лапы и вскинув кверху пушистый хвостище – совсем как обыкновенный домашний пёс в игривом настроении. Смех, закрутившись в груди Берёзки в тёплый шар, вырвался наружу сгустком света и озарил полянку звенящими золотыми искрами. Гледлид отпрыгнула вбок и несколько мгновений наблюдала за ним, напружинив лапы, а потом бросилась его ловить. Не тут-то было: сгусток, рассыпая по траве блёстки смеха Берёзки, летал, точно живая и разумная шаровая молния. Гледлид носилась за ним с уморительной щенячьей неугомонностью, подскакивая и щёлкая челюстями, а Берёзка вторила смешливым блёсткам – хохотала до слёз над ужимками навьи. Бегать ей в её положении было не с руки, а вот управлять этим вёртким шариком, сидя на травке – в самый раз. Она гоняла его от одного края полянки к другому, подбрасывала вверх и роняла на землю, и искрящееся веселье смешивалось в её груди с восхищением: быстрота и изящная сила движений Гледлид поистине завораживала. А навья изловчилась и в высоком подскоке поймала шар пастью – только зубы клацнули. Берёзка ахнула и всплеснула руками: сгусток света, исчезнув в глотке зверя, прошёл внутрь... Приземлившись на все четыре лапы, Гледлид утробно икнула. Берёзка сама не представляла, что этот шар мог натворить у неё в животе, и невольно прижала пальцы к губам, поймав ими вырвавшееся тихое «ой!» Глаза оборотня выпучились и округлились, а из брюха донеслись звуки, отдалённо напоминавшие ворчание грома. Навья снова икнула, подпрыгнула, и шар благополучно вылетел у неё из-под хвоста, в следующий миг рассыпавшись мерцающей стайкой огоньков. Гледлид встряхнулась с таким недоуменно-ошарашенным видом, что Берёзка в изнеможении распласталась от хохота на траве.
«Как я люблю твой смех... Я хочу, чтобы он звучал как можно чаще».
Берёзка приподнялась на локте и ласково погладила ладонью склонившуюся к ней морду. Закрыв глаза, зверь льнул к её руке, и Берёзка обняла его могучую шею. Большой, тёплый и совсем не страшный – таким она чувствовала его, смежив веки до солнечных радуг на ресницах.
А между тем набежали тучи, и в их серых животах заурчал настоящий гром. Подставляя лицо первым каплям, Берёзка раскинула объятия навстречу нахмурившемуся небу. Прохладные струйки потекли по щекам, но не могли смыть её улыбку.
«Ещё не хватало, чтобы ты вымокла... Идём, я знаю одно уютное местечко, где можно укрыться», – раздался голос Гледлид в её голове.
Подхватив лукошко и одежду навьи, Берёзка устремилась вслед за нею в проход: исцеляющий камень Рамут дал навиям способность передвигаться тем же способом, что и женщины-кошки. Шаг – и они очутились в пещере на склоне поросшей сосновым лесом горы. Вход окружали заросли можжевельника; повисая на серебристо-зелёной хвое, капельки дождя мерцали, точно алмазы.
– Придётся пережидать, – сказала Берёзка, ставя наземь корзинку, наполненную ягодами ещё только на две трети. – Лукошко-то добрать надо.
«А ты умеешь разгонять непогоду, моя кудесница?» – Гледлид улеглась возле входа, подставляя ухо под ласкающие пальцы Берёзки.
– Можно попросить Ветроструя тучи раздуть, но водица тоже земле нужна, – рассудила девушка. – Пускай дождик идёт своим чередом. А как кончится – наполним корзинку. Осталось совсем немного набрать. – И Берёзка бросила в рот пару ягодок.
Усталость снова вступала в поясницу и ноги: сказывалась долгая ходьба. Берёзке хотелось прилечь, вытянуться, но каменный пол пещеры был жестковат. Уложив голову Гледлид-зверя себе на колени, она гладила её морду, чесала и мяла большие чуткие уши.
– Лисёнок-пушистик, – шепнула она.
Её переполняла нежность – непрошеная, рыжая и нахальная, как сама навья. Свернувшись возле сердца солнечным зверьком, она окутывала Берёзку теплом. А грудь просила воздуха, и Берёзка зевнула – широко, сладко, до выступивших на глазах слёз.
«Устала?» – Гледлид приподняла голову, заглядывая девушке в лицо своими невыносимо синими, по-звериному пронзительными очами.
– Поднялась чуть свет, ходила много. – Берёзка поёжилась от задувшего в пещеру ветра, пропитанного лесной дождливой сыростью. – Прикорнуть бы хоть на часок...
Гледлид свернулась клубком, распушив мех.
«Ложись прямо на меня, – пригласила она. – И мягко будет, и тепло. Вздремни немного... Нельзя тебе переутомляться».
Берёзку не пришлось просить дважды: она с удовольствием устроилась в серединке этого живого мохнатого ложа, греясь теплом тела могучего зверя и вороша пальцами шерсть за его ухом. Гледлид ещё и прикрыла ей ноги своим огромным пушистым хвостом – чтоб не зябли.
«Отдыхай, моя родная волшебница, – слышала она сквозь шелест дождя. – Спи сладко, а я буду хранить твой сон. Сердце моё, душа моя... Милая моя Берёзка...»
А может, это уже снилось ей? Отяжелев во властных объятиях дрёмы, она не могла ни воспротивиться этим словам, ни возразить, ни заставить их смолкнуть... Она просто утонула в них, провалилась, но не в бездну, а в небо. Окрылённая светом, окутанная поясом облаков, Берёзка чувствовала присутствие кого-то родного, бесконечно нужного. Отзвук его имени – «светлый лик» – таял румянцем зари на облачных башнях, эхо голоса могучей птицей подхватывало её и нежно укачивало на волнах из белого шёлка... Пропитанное любовью и грустной нежностью пространство шептало – уху не разобрать слов, только сердце слышало и понимало. Бестелесные, невесомые объятия душ – вот что это было. Как бы хотелось Берёзке, чтоб они длились вечно!... Увы – петля-рука из белого шёлка рассосалась, растаяла, и Берёзка рухнула в явь лесной пещеры, сотрясаясь от всхлипов.
Слезинки упали в рыжую шерсть, и она встретилась с пристальным взором синих глаз – нет, не тех, что навеки закрылись, отдав свою лазурь небесам... Берёзка лежала в уютном меховом кольце свернувшейся клубком Гледлид – пушистой хранительницы её сна.
«Что такое? Отчего ты плачешь?»
– Уже не плачу, всё. – Берёзка улыбнулась солёными от слёз губами, торопливо вытирая глаза и щёки. – Ничего... Просто сон приснился.
И она с нежностью и благодарностью снова принялась гладить рыжую морду и чесать её за ушами. Если ей даже в голову не приходило прижаться к Гледлид в человеческом облике, то зверя хотелось тискать и ласкать, словно он не имел ничего общего с теми дерзкими губами и столь же нахальными глазами, то остро-насмешливыми, то туманно-влюблёнными.
– Пушистик мой рыженький, – сказала Берёзка, прильнув щекой к мохнатой морде.
«Твой... Весь, телом и душой твой, моя прекрасная владычица».
Такая неподдельная страсть прозвучала в этом ответе, что Берёзка, тронутая холодком смущения, чуть отодвинулась. Облик обликом, но сердце в груди этого зверя оставалось всё то же. Растаяв от грустновато-нежной благодарности за это чувство, Берёзка хотела вознаградить Гледлид хоть чем-то – хотя бы этой лаской. Но что ласка? Для Гледлид она как единственная капля воды для жаждущего среди пустыни. Могла ли Берёзка дать ей больше?
Дождь кончился, и мокрая хвоя можжевельника у входа сверкала, точно росой усеянная, а в расчистившемся небе вновь сияло солнце. Оно ласково целовало и сушило ресницы Берёзки, а Гледлид уже в человеческом облике натягивала свою одежду. Навья больше не улыбалась, не дурачилась, словно догадавшись, о ком был сон Берёзки. Сдержанно коснувшись плеча девушки, она остановилась в проёме входа и прищурилась навстречу солнечным лучам.
– Ну, вот и кончился дождик, – проговорила Гледлид задумчиво. И, скосив взгляд в сторону Берёзки, спросила: – Как ты? Отдохнула?
– Да... Можно и снова по ягоды идти. – Смущённая и огорчённая этой накатившей на навью грустью, Берёзка виновато скользнула по её плечу пальцами.
– Пойдём, – коротко кивнула Гледлид.
Они неторопливо шли по раскисшей от дождя тропинке. Навья заботливо поддерживала Берёзку под руку, чтоб та не поскользнулась. В воздухе пахло сыростью и мокрой древесной корой, а земляника в лукошке источала сладкий дух лета. Гледлид молчала, и Берёзке тоже взгрустнулось – и под влиянием сна, и от этой перемены в навье. От пригретой солнцем земли поднимался влажный и густой, банный жар. Свежее после дождя не стало, напротив, дышалось тяжелее.
– Уф, как в парилке, – пропыхтела Берёзка.
Она робко заглядывала Гледлид в глаза и улыбалась, пытаясь прогнать тень печали с её лба. Та, заметив, что девушка ловит её взгляд, расправила отягощённые думой брови и всё-таки приподняла уголки губ.
Лукошко они наполнили быстро: земля будто нарочно подбрасывала им полянки, полные ягодных богатств. Увенчав корзинку последней горстью ягод, Гледлид вздохнула:
– Ну, вот и всё... Давай, корми детишек, а меня работа ждёт. Как там у вас говорится?.. Делу время, потехе час.
Она сказала это с улыбкой, но грусть всё же проступала в её взоре, устремлённом на Берёзку с задумчивой нежностью. Девушка протянула ей руку, и навья, сжав её пальцы, долго не отпускала. Они никак не могли распрощаться – стояли и смотрели друг на друга. Наконец Берёзка приблизилась к Гледлид вплотную и быстро чмокнула в щёку. Это был дружеский поцелуй, но навья от него покрылась розовым румянцем.
– Э... м-м... Ну... До свиданья, – пробормотала она.
– До встречи, – улыбнулась Берёзка, но Гледлид её ответа уже не услышала, поспешно шагнув в проход.
Берёзка вернулась во дворец. Огнеслава, как и всегда в это время, занималась делами в Заряславле, Зорица сидела за шитьём в светлице, а Рада с Ратиборой, закончив свои уроки, увлечённо сражались во дворе на деревянных мечах – только стук стоял. Княжна распорядилась обучать их наукам сызмальства, чтоб они выросли такими же просвещёнными, как незабвенная Светолика; вся первая половина дня у девочек-кошек проходила в умственных занятиях, после обеда они могли порезвиться и отдохнуть, а вечер был обыкновенно посвящён чтению книг. Кстати, обед Берёзка, скитаясь по ягодным местам, пропустила, за что её Зорица незамедлительно и пожурила.
– Берёзонька, душа моя, ну разве можно так! Тебе теперь за двоих кушать надобно, а ты!..
– Ничего, Зоренька, сейчас наверстаем, – с улыбкой молвила Берёзка, ставя на стол тяжёлое, доверху полное земляники лукошко. – Глянь-ка, что я из лесу принесла! Зови Раду с Ратиборой, пусть полакомятся.
– М-м, духовитая какая! – Супруга Огнеславы склонилась к корзинке и с удовольствием вдохнула сладкий соблазнительный запах. – А непоседы наши хоть и отобедали, но от ягод, я думаю, не откажутся!
Они вместе перебрали ягоды, очистив от листиков, после чего Зорица велела подать пшеничных калачей, молока и простокваши для Берёзки: ту в последнее время тянуло на кисленькое. Простокваша была ядрёная и такая густая, что ложка в миске стояла.
– О, ягодки!
Девочки-кошки, побросав деревянные мечи, вбежали в трапезную. Они были как день и ночь: Рада – чёрненькая, как все в роду Твердяны, а Ратибора – с шапочкой золотых волос. Всякий раз при взгляде на дочку неугомонной княжны сердце Берёзки ёкало светлой болью, узнавая родные черты. С детского лица на неё смотрели глаза Светолики...
– Чай, ягодки не сами из лесу прибежали, – молвила Зорица, насыпая землянику по мискам. – Ну-ка, кого благодарить за лакомство-то надо, а? Кто ножки свои резвые утруждал, по лесам-полям ходючи? Кто не пил, не ел, ягоду сладкую рвал?
Девочки уже собрались живенько усесться к столу, но замерли и подняли глаза на Берёзку.
– Благодарим тебя за твои труды! – сказали они хором, одновременно отвесив ей поясной поклон.
– То-то же, – усмехнулась Зорица. – Ну, садитесь уж.
Получив разрешение, Рада с Ратиборой принялись за обе щеки уминать ягоды с молоком и калачом. Глядя, как они едят, Берёзка согревалась сердцем и душой; теперь можно было и самой насладиться этой вкусной и простой пищей. Белоснежная простокваша кисловато таяла во рту, смешиваясь со сладостью земляники и тёплым, земным духом хлеба.
– Ох и хороша ягода, слаще мёда! – нахваливала Зорица, воздавая почести стараниям Берёзки, которой пришлось набирать это лукошко дважды.
А Берёзка задумалась: ведь не только её следовало превозносить, Гледлид тоже приложила руку к сбору ягод; с другой же стороны, если б не она, первое лукошко не оказалось бы загубленным. Впрочем, девушка промолчала: когда речь заходила о рыжеволосой навье, взгляд Зорицы становился таким хитровато-ласковым, проницательным, понимающим... Супруге Огнеславы явно хотелось, чтоб Берёзка проявила к Гледлид бóльшую благосклонность. А Берёзка пока была не в силах распутать этот клубок чувств, что теснился под рёбрами и порой не давал дышать – до всхлипов ночью в подушку.
Она предпочитала сейчас думать о том, что у неё понемногу получалось нащупать дорожку к сердцу Ратиборы. Девочка попала в руки Берёзки словно бы скованной льдом, замкнутой в своём сиротстве; она и сейчас ещё не до конца оттаяла, но её глаза уже не были такими застывшими, опустошёнными горем. Ратибора начала улыбаться, вовсю играла со своей новообретённой сестрицей Радой, но слово «матушка» пока не срывалось с её уст. Она знала правду о том, что княжна Светолика – её настоящая родительница, и рассказы Берёзки о ней слушала очень внимательно. Увы, только по рассказам ей и приходилось теперь узнавать свою матушку... Огнеслава брала девочку с собой и в мастерские, и в Заряславскую библиотеку, чтоб Ратибора своими глазами увидела, чем её славная родительница занималась при жизни. Но как бы ни были велики дела неугомонной княжны и как бы ярко ни сиял её образ, не приходилось сомневаться в том, что в сердце Ратиборы ещё жива тоска по Солнцеславе и Лугвене, в доме которых она родилась и росла.
А тем временем миски опустели, и девочки сыто облизывались – совсем как маленькие кошечки. Зорица с усмешкой взъерошила им волосы, гладя по головкам.
– Наелись, котятки мои? Ну, бегите, играйте.
Берёзка, поднявшись из-за стола, смотрела вслед Ратиборе с щемящей сладкой тоской в сердце... И девочка обернулась. Не иначе, частичка души её родительницы в ней откликнулась на зов, подумалось Берёзке, и слёзы жарко защекотали своей близостью её глаза, а горло стиснулось. А Ратибора вернулась и крепко обняла её, прильнув всем телом. Как тут не размякнуть, не расплакаться? Но Берёзка держалась изо всех сил, улыбкой прогоняя слёзы.
– Хорошая моя, – прошептала она, целуя девочку в золотистую макушку. – Солнышко моё ясное...
– А скоро сестрица родится? – спросила Ратибора, подняв лицо и осторожно щупая живот Берёзки под чёрным одеянием.
– Скоро, моя радость, – улыбнулась та. – Этой осенью увидишь свою сестричку.
В лукошке оставалось ещё много ягод: они вчетвером не съели и третьей части. Половину из них Зорица смешала с прозрачным, как вода, тихорощенским мёдом и поставила в кладовку до зимы: всё, что обволакивал собой этот чудесный мёд, могло сохраняться в свежем и первозданном виде годами. Из оставшейся земляники Зорица решила напечь к ужину душистых пирогов. Берёзка хотела отправиться в сад, чтоб поколдовать над молодыми черешневыми деревцами, заняться несколькими заболевшими яблонями и повозиться в цветнике, но супруга Огнеславы, нахмурившись и грозно подбоченившись, загородила ей дорогу.
– Куда это ты? А ну-ка, живо отдыхать!
– Да я поспала немножко, когда от дождя укрывалась, – заикнулась Берёзка, тщетно пытаясь обогнуть её и каждый раз снова натыкаясь. – Зоренька, ну пусти меня, у меня там яблоньки хворают, помочь им надобно!
– С яблонями до завтра ничего не случится, – отрезала Зорица. – А тебе с дитём под сердцем отдыхать следует почаще! Ты и так с этими ягодами полдня на ногах, куда это годно!
Пришлось подчиниться. Зорица сама проводила Берёзку в её небольшую опочивальню, помогла разуться и раздеться и заботливо укрыла одеялом.
– Так-то лучше. Я пока тесто на пироги поставлю, а ты отдыхай.
Не привыкла Берёзка отлёживать бока днём, странно и нелепо казалось ей нежиться в постели, когда столько дел требовали её неотложного внимания... Впрочем, припухшие в щиколотках ноги всё-таки намекали, что отдых ей был необходим. Спать не хотелось, и Берёзка, найдя удобное положение, утопала в мягких объятиях перины и с тоской смотрела в окно. Небо сияло, день был ещё в самом разгаре – совестно валяться, а что поделать? С Зорицей не очень-то поспоришь. Поглаживая округлившийся живот, она улыбнулась. Внутри подрастала новая жизнь – ещё одна родная частичка Светолики.
В эту маленькую девичью спаленку она перебралась из большой опочивальни с широким ложем. На этом ложе с неё в первый раз упал вдовий платок, и руки неугомонной княжны расплели ей косы... Воспоминания о ласках будили в Берёзке горестно-сладкий отклик. Так и не познав с молодым неопытным Первушей настоящего удовольствия, к телесной близости она относилась прохладно – ровно до того мига, когда объятия Светолики перевернули всё. Тело откликнулось, чувственность пробудилась, а стыдливость вмиг испепелило золотое пламя волос возлюбленной. Их любовь ослепительно вспыхнула и росла, жадно захватывая собою каждую пядь пространства, каждое мгновение, каждый вздох и каждый взгляд – будто знала, что судьбой ей отведено очень мало времени. Их любви было суждено сгореть в пожаре войны, и за те недолгие дни, что Берёзка и Светолика провели вместе, она успела проделать в их душах работу, на которую обычно требовались многие месяцы и даже годы.
И теперь рука задремавшей Берёзки обнимала оберегающим жестом плод этой любви, покоясь на животе.
Не улежала Берёзка в постели и спустя час всё-таки встала: садовые дела взывали к её совести, и совесть не выдержала, не устояла перед этими призывами. Черешневые деревца в её питомнике подрастали хорошо, и настала пора им отправляться на север. Берёзка почти не сомневалась в том, что волшба сохранит их и поможет прижиться в более холодных краях, нежели Заряславль. Она уже договорилась с несколькими владелицами больших садовых хозяйств – те согласились посадить у себя по несколько деревьев на пробу. Согласию хозяек очень хорошо поспособствовало угощение из вкусных и сладких плодов черешни, которое Берёзка брала с собой всякий раз. Саженцы были привиты на корень местной вишни – для пущей стойкости.
Захворавшие яблони Берёзка подлечила волшбой, чему была очень рада дочь старшей садовницы Ярены, Бранка. Эта молодая кошка и сообщила Берёзке о том, что с несколькими деревьями что-то не так: листва желтела и опадала задолго прежде срока, ветки засыхали. Оказалось, что причина – в корнях, которые загнили и уже не могли питать яблони должным образом. Берёзка раскинула в земле сеть из нитей волшбы, которым предстояло вместо пришедших в негодность корней нести деревьям земные соки и влагу.
– К концу лета должны наши яблоньки полностью выздороветь, – сказала молодая колдунья, окидывая оценивающим взглядом свою работу.
Она ещё немного подпитала деревья силами, чтоб те поскорее начали поправляться, а русоволосая Бранка смотрела на рождение волшебства с восхищением в тёплом и добродушном, васильково-синем взоре. И было чему радоваться: прямо у них на глазах ветки оживали, почки пробуждались и выпускали новые зелёные листики взамен опавших.
– Какая же ты искусница, госпожа Берёзка! Низкий поклон тебе. Уж как жаль было эти яблоньки! Плоды они давали расчудесные, душистые да сладкие, с два моих кулака, а тут вдруг ни с того ни с сего – зачахли...
– Ничего, скоро выправятся, – улыбнулась Берёзка.
Между тем в семействе Бранки ожидалось пополнение: её молодая супруга пребывала на том же сроке, что и Берёзка. Смущённо теребя кончики алого кушака, женщина-кошка сказала:
– Госпожа Огнеслава нам передала, что тебе скоро потребуется кормилица... Думаю, молока у меня хватит и на мою дочку, и на твоё дитятко. С женой я поговорила, она согласна.
– Благодарю тебя, Бранка. – Берёзка взяла крупную рабочую руку молодой садовницы и тепло сжала. – Да, мы со Светоликой мечтали о том, что наша первеница будет кошкой.
Вечер подкрался на рыжих лапах солнечных лучей незаметно: в саду находилось то одно дело, то другое. Для отмывания рук Бранка поднесла Берёзке отвар мыльнянки, смешанный с глиной и золой; она долго и старательно оттирала тонкие пальчики девушки своими большими грубоватыми руками, заботливо вычищала заточенной палочкой забившуюся под ногти грязь.
– Что ж ты рукавиц не надеваешь, госпожа Берёзка? – приговаривала она, сияя тёплым отблеском заката в светлых, летних глазах. – Вон как ручки свои испачкала!.. Отмывай теперь...
– В рукавицах мне волшбу плести несподручно, – объяснила та.
– Вот и госпожа Зденка, помнится мне, тоже вечно голыми руками трудилась, – вздохнула Бранка.
Закатная грусть коснулась сердца Берёзки. Ходила она порой к одинокой иве, чтобы излить свою тоску... Казалось ей, что только это сиротливо и скорбно склонившееся над водой дерево и способно понять её боль в полной мере. А иногда она даже завидовала Зденке: ведь её душа, наверное, уже соединилась с душой княжны – там, за чертой земной жизни... Стали ли они частичкой света Лалады или, крылатые и свободные, улетели в какие-то иные миры?.. Теперь уж не узнать. Сидя в своей опочивальне у зеркала, Берёзка втирала в руки льняное масло для мягкости кожи, а Зорица уже подавала на стол духовитые и румяные пироги с земляникой. А княжна Огнеслава в кои-то веки не задержалась допоздна и ужинала вместе с семьёй.
– Здравствуй, Берёзонька... Ну, как твои дела сегодня?
Подставляя щёку и целуя княжну в ответ, Берёзка ощутила уже почти привычный трепет сердца от звука её голоса. Умом она понимала, что это лишь родственное сходство, но если закрыть глаза, то казалось, будто это Светолика говорила с нею. Но Берёзка свыкалась, училась жить с этой не проходящей болью. В круговерти дневных дел тоска пряталась в нору, но стоило остаться в одиночестве, как этот зверь тут же выходил на охоту...
– Всё хорошо, сестрица Огнеслава, – улыбнулась девушка.
– В самом деле? – Княжна приподняла бровь, ласково и крепко прижимая Берёзку к себе сильной рукой. – А между тем кое-кто сегодня к обеду не пришёл. Это непорядок! Мне что, охрану к тебе приставлять, м?
– Ну уж! – Берёзка шутливо надула губы и изобразила возмущение. – Ты ещё кольцо у меня отними и под замок посади...
– И посажу, если беречь себя и дитя не будешь. – Ладонь Огнеславы нежно скользнула по животу Берёзки, а губы снова прильнули к щеке.
Рада вскарабкалась на колени к родительнице-кошке, прильнула и в течение всего ужина не слезала: соскучилась. Что тут поделаешь? Так Огнеслава и ела – одной рукой обнимая дочурку, а другой поднося ко рту пирожки. Ратибора жевала, потупив взгляд: не у кого ей было посидеть на коленях... Места рядом с Радой ей, может, и хватило бы, но тогда Огнеславе станет не до ужина. Берёзка тоже не могла взять её к себе, но выход нашла – придвинулась к девочке вплотную и обняла за плечи, ласково вороша пальцами её вихры.
В вечерней тишине перекликались птицы в саду, а зеркало работы белогорских мастериц стало свидетелем превращения закутанной в чёрный платок вдовы в молодую девушку. Мрачная ткань соскользнула с головы, шелковисто переливаясь, и легла на лавку, туда же отправился и шитый бисером повойник. Освобождённые из сеточки пепельно-русые косы упали на грудь, а над землёй дотлевал закат.
От шороха и стука за окном Берёзка вздрогнула. Над подоконником показалась рыжая голова Гледлид – с нахальной клыкастой улыбкой от уха до уха.
– Ты совсем с ума сбрендила?! – вполголоса набросилась на неё Берёзка – этаким шёпотом-криком. – Ты что творишь? Это уже вообще никуда не годно...
– Прости, прости, моя волшебница, – зашептала навья, подтягиваясь и занося ногу на подоконник. – Я просто хотела взглянуть на тебя без этого кошмарного чёрного наряда, который тебя так портит... Просто взглянуть, ничего более!
– Ежели ты не заметила, я вдова, – процедила Берёзка, чувствуя, как сгусток негодования в груди обретает плотность и рвётся наружу. – Мне плевать, что ты думаешь о моём наряде. Нравится он тебе или нет, изволь его уважать!
Сгусток вылетел из её груди, но не золотистый, как днём на полянке, а гневно-красный. С сердитым треском он толкнул Гледлид в живот, и та, вскрикнув и взмахнув руками, потеряла равновесие и рухнула в прохладный сумрак сада. Берёзка испуганно кинулась к окну: да, Гледлид вывела её из себя, но при мысли о том, что навья могла покалечиться, её охватил ужас. Перегнувшись через подоконник, она выглянула...
Рыжая нахалка оказалась цела и невредима: она уцепилась за перекладину приставной лестницы. Берёзка облегчённо выдохнула.
– Убирайся отсюда, засранка этакая! – прошипела она.
Гледлид смотрела на неё снизу вверх с дурацкой ухмылкой и шальным блеском в глазах.
– Ты очаровательна... Особенно когда злишься!
– Я с тобой вообще больше не разговариваю, – отрезала Берёзка и со стуком захлопнула окно.
Она задула лампу и юркнула под одеяло, всё ещё подрагивая от возмущения. Ещё никто и никогда не вызывал в ней такое разнообразие чувств – от нежности до бешенства. Гледлид хотелось и убить, и обнять – и ещё неизвестно, что больше. Впрочем, сейчас Берёзка определённо склонялась к первому.
С этого дня она держалась с Гледлид подчёркнуто сурово и отчуждённо. Неуважительные слова навьи о её вдовьем облачении больно царапнули душу, и эта царапина ещё долго ныла, заставляя Берёзку при встрече с Гледлид поджимать губы и пресекать все попытки той завести разговор.
Огнеслава отправилась по делам в жаркие страны востока – на родину роз. Вернулась она спустя три седмицы и привезла оттуда диковинку – пару павлинов, самца и самочку. Павлиниха носила скромное серое оперение, лишь шейка отливала зелёным, а её нарядный супруг таскал за собой огромный яркий хвост. Только хохолки на головах у них были похожи.
– Хорош, правда? А между тем этот красавец – родственник обычному петуху, – сказала Огнеслава.
– Они же в тепле жить привыкли, – задумалась Берёзка. – А у нас в Заряславле зима хоть и мягкая, но всё же со снегом.
– На зиму поселим их в доме, – решила княжна.
Беременность Берёзка переносила хорошо: вода из Тиши и тихорощенский мёд гнали прочь любые недомогания. Высадка черешни в хозяйствах, расположенных к северу от Заряславля, прошла успешно, и теперь молодая кудесница наблюдала за ростом саженцев, наведываясь в гости к владелицам садов. В одном из сёл она увидела Гледлид, окружённую стайкой белогорских дев: та читала им огромную поэму, переведённую с навьего языка. Краем уха Берёзка слышала, что Гледлид составляет словарь пословиц и поговорок – сим обстоятельством, видно, и объяснялись эти её путешествия по городам и весям. Гордо и величественно восседая на каменном заборе, навья знакомила белогорских красавиц с древними преданиями своей родины, а те слушали, разинув рты и с любопытством разглядывая чужестранку. Что-то с детства до боли знакомое почудилось Берёзке в этой картинке... Поняв, что именно всё это ей напоминает, она чуть не расхохоталась: ну ни дать ни взять – петух на плетне и гуляющие по двору курочки. Вспомнились и диковинные птицы, привезённые Огнеславой, и ей померещился за спиной навьи этакий цветистый павлиний хвост. Этому впечатлению способствовал и броский голубой наряд навьего покроя – кафтан и портки с золотой вышивкой и галунами. Цвет этот, следовало признать, очень шёл рыжей исследовательнице устного народного творчества.
Обида ещё не отболела, цепляла сердце Берёзки незримым крючочком, но она не удержалась и подошла, встав за спинами у девушек. Селянки в заднем ряду шёпотом обсуждали навью, и до Берёзки долетали обрывки слов.
– А ничего, собою ладная...
– Да ну тебя... Глаза-то волчьи! Как зыркнет ими – у меня аж сердце в пятки...
– Да что бы ты понимала... Ну и что ж, что волчьи? А по мне – так она на кошек наших чем-то похожа. Вон и ушки такие же... А ежели она ещё и со лба волосы сбреет и теменную прядь в косицу заплетёт – ни дать ни взять наши оружейницы...
– Да не похожа она на кошек... Сравнила тоже – кошку и пса! У меня от её взгляда сердце инеем покрывается!
– Дурочка ты... Красивые у неё очи, синие, как небушко! И уста точно ягодки... Ох и сладко, должно быть, целуют они!
– С ума ты сбрендила – об её поцелуях мечтать?!
– М-м, девоньки, а я б с ней поцеловалась...
– Ага, ты ещё с нею в лес погулять сходи... Сожрёт и не подавится. Видала во рту у неё клычищи?
– И что? У кошечек ведь такие же.
Гледлид сидела на заборе, изящно согнув одно колено и небрежно опираясь на него рукой с бумажным свитком. Селянки в заднем ряду по достоинству оценили и длину её ног, и покрой сапогов, обсуждая всё до мелочей. Тут у Берёзки вырвался кашель, и все обернулись в её сторону, а Гледлид вскинула взгляд от поэмы. Поперхнувшись, она качнулась и сорвалась со своего «насеста» прямо в заросли подзаборной крапивы, мощные стебли которой грозно торчали, словно копья готового к бою войска, а сверху ей на голову шлёпнулся раскатавшийся свиток. Ахая и охая, девушки кинулись на помощь, но Гледлид сама с воплем подскочила. От крапивы пострадали не закрытые одеждой части – руки и лицо. Таким образом, в дополнение к пословицам навья продолжала познавать жгучие и колючие растения Яви, причём на собственной шкуре.
Летние дни сыпались из небесного лукошка спелыми ягодками. Когда в лесу подошла ежевика, Берёзка всё-таки решила взять себе в помощницы Раду с Ратиборой, понимая, что тяжёлые корзинки ей таскать не стоило. Во многих замечаниях Гледлид она находила правду – но, как правило, уже позднее, когда остывали чувства и успокаивалось взъерошенное самолюбие. Да, гладила навья против шерсти, но неизменно оказывалась права... И даже в том, что с головы до ног чёрное одеяние было Берёзке не к лицу, превращая её из девушки в маленькую старушку. Но о внешности она не задумывалась, меньше всего ей хотелось сейчас заботиться о собственной привлекательности, но обида на Гледлид растаяла, как ложка мёда в воде. Берёзка даже ловила себя на том, что ей чего-то не хватает. Да, рыжей морды и нахальных синих глаз... Разыскать Гледлид и признаться, что соскучилась? Хмыкнув, Берёзка отбросила эту мысль: гордость давила на плечи, как этот чёрный балахон.
Девочки-кошки в ответ на предложение отправиться в лес по ягоды состроили кислые рожицы: после учёбы им, конечно, хотелось поиграть.
– Тётя Берёзка, у нас и в саду полно всякой ягоды, – попыталась отвертеться Рада.
– Садовая ягода хороша, да только дикая и свободная впитала в себя всю силу батюшки-леса и матушки-земли, – терпеливо увещевала Берёзка.
– Чего это мы вас уламывать должны? – вмешалась Зорица. – Старших слушаться надобно: сказано – в лес, значит – в лес. Наиграетесь вы в любое время, а ягодная пора – короткая, успевай только собирать.
Она дала им с собой корзинку со съестным и наказала вести себя осторожно: коли зверь дикий встретится – сразу нырять в проход.
Впрочем, вскоре девочки поняли, что собирать ягоды – занятие не менее увлекательное, чем игра. Когда стебли ежевичных кустов зашевелились, как живые, приподнимаясь и показывая богатый урожай, они рты так и разинули. Невдомёк им было, что это Берёзка тихонько волхвовала у них за спиной.
Они собирали ежевику в два лукошка: девочки – в корзинку побольше, а Берёзка – в ту, что поменьше. Увлекшись сбором, она набрела на малинник... Ах, какие там висели ягодки! Одна сочнее другой, в рот так и просились. Берёзка пустила в ход чары, и малина, срываясь с плодоножек, сама полетела к ней в пригоршню. Предвкушая лакомство, молодая ведунья улыбнулась... Но насладиться им не успела: из кустов высунулось улыбающееся лицо рыжей навьи. В один миг Гледлид слопала горсть отборнейшей малины – всю до последней ягодки, да ещё и нагло облизнулась при этом. Несколько мгновений Берёзка ошарашенно смотрела на свои опустевшие ладони, рот её ловил воздух, но ни одного слова не срывалось с языка: все они улетучились от этого несказанного нахальства.
– Ах ты!.. – только и смогла она пробормотать.
Совпадением ли была эта встреча? Или, быть может, Гледлид читала мысли и знала, что Берёзка думала о ней не далее, чем сегодня утром? И что делать? Сердиться? Радоваться? Оттаскать за уши или прижаться к груди? Встрёпанный клубок чувств вырвался светящимся шариком, который отливал то золотом, то малиновыми сполохами. Он разорвался стаей суетливых искорок, которые бросились на Гледлид, будто туча голодной мошкары. Навья, отмахиваясь, отшатнулась в одну сторону, а Берёзка – в противоположную. А через несколько шагов остолбенела, едва не столкнувшись с медведем, который самозабвенно лакомился малиной.
«Девочки!» – леденящей молнией сверкнула мысль. Рада с Ратиборой собирали ягоды где-то неподалёку и могли наткнуться на зверя...
Из-за спины раздался громовой рёв – будто сто разъярённых медведей рявкнули в один голос. Обожжённая ужасом, Берёзка обернулась и увидела Гледлид – в одежде и без шерсти, но с жутким оскалом и полными синего холодного огня глазами. Навья смотрела на зверя. Медведь вскинул морду, и их взгляды встретились – скрестились, точно клинки. Мгновение пропело тетивой – и бурый хозяин леса сдался, отступил под испепеляющим лучом ярости. Неуклюже переваливаясь, он убежал, а Берёзка вдруг не нашла под ногами земли...
– Не бойся, родная, всё хорошо... Он ушёл.
Сильные объятия Гледлид подхватили её, помогли устоять. Испуг схлынул, оставляя после себя холодок и обморочную дурноту. Тут уж было не до гордости – руки Берёзки сами поднялись и обхватили навью, вцепились намертво.
– Родная моя, – шептала та, щекоча тёплым дыханием брови, нос и щёки девушки.
Их губы встретились – кратко, мягко, с малиновым привкусом. Берёзка дёрнулась, но слабо, и Гледлид прижала её к своей груди. Сдавшись, та склонила голову ей на плечо и закрыла глаза. А в следующее мгновение снова встрепенулась:
– Рада с Ратиборой! Они же там... Он мог на них наскочить!
Но девочки-кошки уже сами бежали к ним – целые и невредимые. Медведя они не видели, но слышали поистине незабываемый рык оборотня, распугавший птиц на версту вокруг.
– Так, не отходите от меня ни на шаг, – ещё немного дрожащим от недавнего ужаса, но уже набравшим твёрдость голосом сказала Берёзка. – Где лукошко?
Корзинку девочки оставили в ежевичнике, куда они все вместе и вернулись.
– Это не медведь, это тётя Гледлид показывала, как она умеет рычать, – успокоила Берёзка Раду с Ратиборой. – Зверей тут нет, мои хорошие.
Девочки согласились, что рычит тётя Гледлид здорово.
Стена молчания, которой Берёзка отгородилась от навьи, дала трещину, и вскоре за этой встречей последовала другая. Садовый малинник тоже ломился от урожая, и Берёзка, отдыхая после дневных хлопот, задумчиво пробиралась сквозь колючие заросли. Пуская пальцами волны волшбы, она ловила самые спелые ягодки и медленно, мягко, с наслаждением разминала их во рту языком. Столкновение с Гледлид опять было внезапным: сначала Берёзка увидела протянутую к ней руку с горстью прекрасной малины, а потом, вскинув взгляд, жарко ёкнувшим сердцем утонула в грустной нежности синих глаз.
– Это тебе... За те ягоды, что я у тебя съела в лесу.
Слишком поздно было изображать суровость: улыбка против воли Берёзки сама расцвела на её губах.
– Прости, если обидела тебя... Разлука с тобой невыносима. Я скучаю по тебе... Каждый день, каждый миг. – Гледлид смотрела без нахальства – с надеждой, виновато и смущённо.
Берёзка взяла одну ягодку из горсти, положила в рот, вдумчиво и до конца прочувствовала вкус.
– Ты меня всё время бесишь, – призналась она. – Но я не могу не думать о тебе. И я не знаю, что делать с этим.
Они съели малину вдвоём: ягодку – Берёзка, ягодку – Гледлид. Когда на ладони навьи осталась последняя, она сначала поднесла её к своему рту, но потом передумала и с улыбкой вложила Берёзке в губы.
– И я думаю о тебе. Всегда. С самого первого дня, как увидела.
Вечерняя синь неба окутывала Берёзку всепрощающей лаской родных глаз, теплом которых в этой жизни ей не суждено было согреться снова. Усталость и печаль опустились сумраком на сердце, и она вздохнула.
– Скажи, зачем я тебе, Гледлид? Зачем тебе вдова, чьё сердце ещё нескоро оттает и откроется? А то и никогда. Да ещё и с детьми... И в этом «кошмарном чёрном наряде».
Пальцы навьи ласково скользнули по её щекам.
– Я и сама не знаю, зачем. Так получилось. – Лицо Гледлид приблизилось с мягкой и светлой, чуть грустной улыбкой. – Прости меня за те слова о наряде, я уважаю твою скорбь. Когда-нибудь ты его снимешь... Но даже в нём ты прекрасна, Берёзка. Ты прекрасна каждый миг. Мне потребовалось время, чтобы понять и разглядеть это, и теперь уже никакое чёрное одеяние не сможет в моих глазах затмить твоего сияния.
Эти слова шли от сердца – всезнающее, всевидящее небо было тому свидетелем. Но что могла Берёзка на них ответить? Губы не размыкались, глаза щипало от близких слёз... А может, просто прохладным ветром надуло.
– Я вовсе не прекрасна. Белогорская земля полна по-настоящему красивых девушек, и ты в этом уже наверняка убедилась, когда собирала пословицы для своего словаря...
В глубине зрачков Гледлид опять взыграли рыжие комочки озорства.
– Ах, вот оно что... Так ты приревновала тогда, м? Сознайся, прекрасная кудесница...
Опять весы качнулись в сторону «убить», а чаша «обнять» взлетела безнадёжно высоко. В голосе Берёзки зазвенели льдинки.
– Вовсе нет. С чего мне тебя ревновать? Ты соединяла приятное с полезным.
Гледлид засмеялась добродушным, мягко-грудным, воркующим смешком.
– Опять я бешу тебя, да? Но и ты в долгу не остаёшься, моя милая колдунья: со мной то и дело приключаются неприятности в твоём присутствии. Ты не замечаешь закономерности? То в колючки вляпаюсь, то земля запылает под ногами, то с лестницы падаю, то в крапиву... Да, в той деревне я вряд ли решусь снова показаться после такого позора!
– В той деревне – да, вряд ли, – хмыкнула Берёзка. – Но есть много других мест, где можно начать всё с чистого листа. Надо сказать, девиц ты очаровываешь в два счёта.
Отвернувшись от навьи, она принялась рвать и есть висевшие в досягаемости ягодки, а те, до которых дотянуться руками не могла, подцепляла волшбой.
– Ревнивица моя, – нежно дохнула Гледлид Берёзке на ухо, окатив её тучей мурашек, легонько сжала её плечи. – Ну всё, всё... Не дуйся. Дались тебе эти девицы!.. Даже если собрать всю их красоту вместе, и то она не сравнится с твоей. О нет, не дёргай так своенравно плечиком, милая: это не лесть, это правда. Тебя нужно разглядеть... А когда разглядишь – пиши пропало. Раз и навсегда, бесповоротно и навеки. И другие становятся не нужны. Только ты. Ты разбудила моё сердце, Берёзка... И в твоей же воле его разбить.
Берёзка со вздохом повернулась к ней лицом.
– Ты слишком любишь радости жизни, чтобы вечно страдать от разбитого сердца, – улыбнулась она. – И я на твоём пути – лишь временная заминка.
Губы Гледлид остались печально сомкнутыми, взгляд померк.
– Не веришь мне? Хорошо, как скажешь. Больше я тебя не побеспокою.
С лёгким шелестом она исчезла в малиновой листве, а Берёзка осталась с холодным грузом огорчения и недоумения на сердце. От слов навьи повеяло утратой, а душа Берёзки так устала терять... Отыскав в саду старое черешневое дерево – из самых первых, посаженных ещё Зденкой, она обняла ствол и дала волю слезам.
– Что мне делать? – шептала она, обращаясь к темнеющему небу, на котором уже проступали блёстки звёзд. – Что мне делать, Светолика?
Небо молчало, и Берёзка прильнула мокрой щекой к шершавой коре. И вдруг, словно в ответ на её мольбы, позади раздался родной до боли в сердце голос:
– Берёзонька! Вот ты где... Уже поздно, пора отдыхать. Ратибора не хочет засыпать, тебя ждёт.
Чтобы спрятать слёзы, Берёзка уткнулась в грудь Огнеславы, но та заметила её заплаканные глаза и подняла её лицо за подбородок шершавыми пальцами. Хоть княжна и была правительницей Заряславля, но руки её оставались руками кузнеца.
– Родная, не плачь, – нахмурилась она. – Иди лучше к Ратиборе, сказку ей расскажи. Раду-то супруга уложила, а сиротку кто уложит, кто материнскую ласку подарит?
– У Зорицы ласки на всех хватит, – сквозь слёзы улыбнулась Берёзка.
– Может, и хватит, да только Ратиборе твоя ласка нужна, голубка. – Огнеслава мягко прильнула губами к виску Берёзки и обняла её за плечи.
– Я ведь ей даже не матушка, – вздохнула девушка. – Даже не знаю, получится ли у меня когда-нибудь завоевать её сердечко...
– Ты уже завоевала, милая. – Глаза княжны грустновато-ласково мерцали в вечернем сумраке – точь-в-точь звёздочки. – Может, она ещё и не скоро скажет это вслух, но ты полюбилась ей. Зорица уж и так с нею, и сяк, а та ей: «Пусть Берёзка придёт». Так и сказала.
«Что мне делать?» – спрашивала Берёзка у неба. Оно промолчало, но ответ всё-таки подсказало, и она всеми силами уничтожала следы слёз на лице: умылась водой из Тиши, приняла успокоительное – ложечку тихорощенского мёда с молоком, после чего принесла того же самого средства и Ратиборе. Рада уже видела десятый сон, а дочка Светолики сидела в постели, теребя в руках деревянную кошку и глядя в сгущавшийся за окном сумрак.
– Ах вы, глазки бессонные, чего ж вы не спите? – Берёзка присела рядом, поцеловала девочку в пушистые ресницы. – А ну-ка, живо под одеялко!
Ратибора тут же нырнула в постель. Высунув из-под одеяла только нос, она попросила:
– А расскажи ещё про госпожу Светолику.
Рассказы о княжне она предпочитала любым сказкам. Может, сердце Берёзки и омывали сейчас тёплые слёзы, но глаза её при девочке оставались сухими, спокойными и полными нежности.
– Про Светолику? Ну, слушай... Была госпожа Светолика высокая, ясноглазая и золотоволосая. У тебя, моя радость, и волосы, и глазки, и личико – точь-в-точь как у неё... Так вот, училась она разным наукам с малых лет. Училась и дома, и в далёких странах. Пять чужеземных языков она знала и книги учёные с них переводила. Видала в Заряславле книгохранилище? Это госпожа Светолика его построила и книгами наполнила. Имя у неё – говорящее: светла она была лицом. Но и ума она была светлого и большого. Мечтала она, чтоб все люди на свете были грамотными и учёными. Но так судьба распорядилась, что пришлось ей стать скалой над Калиновым мостом... Без этого не исчезли бы тучи, и не смогли бы мы победить врага. Все мы обязаны ей жизнью.
– А враг – это кто? – спросила Ратибора. – Навии?
– Не все из них, – подумав, ответила Берёзка. – Только злая Владычица Дамрад и её войско.
Ратибора задумчиво почесала нос деревянной кошкой.
– А тётя Гледлид? Она же навья?
– Да, моя радость. – Берёзка поднесла девочке ложечку мёда, а потом – кружку с молоком. – Но тётя Гледлид никому из нас не желает зла и никого в своей жизни не убивала. Она – не враг, а друг. Спи давай, непоседа моя... Закрывай глазки. Душа госпожи Светолики смотрит на нас вон с той звёздочки... Поэтому будь умницей, чтоб она могла радоваться за тебя.
* * *
– Великая благодарность тебе, красавица! Очень ты помогла мне, – поклонилась Гледлид, записывая новые пословицы и поговорки в свою книжечку.
Девица Томилка, с золотисто-русой косой и весёлыми конопушками, раскиданными по круглому, точно яблочко, личику, заулыбалась то ли смущённо, то ли игриво, теребя косу.
– Да что меня благодарить-то... Что знала, то и сказала. Ты лучше у пожилых поспрашивай, они поболее моего знают.
– Обязательно последую твоему совету, – улыбнулась навья.
Они шли по тропинке в светлой берёзовой рощице. Девица попалась смелая – не бросилась наутёк, завидев навью, и Гледлид удалось хорошенько попытать её насчёт изречений народной мудрости. «Улов» получился неплохой, хоть и встречались повторяющиеся пословицы, которые исследовательница уже занесла в свой будущий сборник. Гледлид замечала, что в последнее время ей всё больше попадались высказывания на тему любви и одиночества. «Одна пчела не много мёду натаскает», «семьёю и горох молотят», «одному и кашу есть не споро», «не мил белый свет, когда милой нет», «без солнышка не пробыть, без лады не прожить», «полюбится лупоглазая сова пуще ясного сокола»... И всё как будто нарочно – чтоб травить ей сердце, и без того измученное странной страстью к юной колдунье-вдове. А в пословице «бритва остра, да никому не сестра» Гледлид не без смущения и душевного ропота узнала себя. Как будто про неё сказано... Она и сама кляла свой язык-правдоруб, так и норовивший высказать своё ценное мнение, да не просто так – а с язвинкой, с капелькой яда. Во многом из-за него и не складывалась у Гледлид ни дружба, ни любовь. Как в своём мире она была по жизни волком-одиночкой, так и здесь не особо сходилась даже с соотечественниками-переселенцами.
Помимо преподавания навьего языка Гледлид работала в Заряславской библиотеке, переводя труды учёных своей родины, привезённые переселенцами. Об этом её попросила княжна Огнеслава – в надежде на то, что они могут оказаться полезными и для науки Яви. Паучок в ухе позволил Гледлид очень быстро освоить местную речь, а письменный язык не представил для неё трудностей. Во многом он был существенно проще навьего. В этой области трудились ещё несколько переводчиков, но даже с сёстрами по науке у Гледлид были суховато-натянутые отношения. Раскритиковать работу в пух и прах она умела – как она сама полагала, для пользы автора, но вот беда: указывая на недостатки, она нередко забывала упомянуть достоинства.
Решение о переселении в Явь Гледлид приняла, почти не колеблясь: ей казалось, что на родине её уже ничто не держит. Не было близких друзей, ради которых хотелось бы остаться, любовь не сложилась, а что до работы, то рыжеволосая навья полагала, что найдёт себе применение и на новом месте. Впрочем, это удалось ей только после окончания войны, когда её заметила княжна Огнеслава, наследница белогорского престола и правительница южного города Заряславля: она попросила Гледлид об уроках навьего языка, изучение которого она считала необходимым, раз уж выходцы из Нави стали жителями Яви. Чем больше Гледлид узнавала княжну, тем большим уважением проникалась к ней. Среди прочих соотечественниц Огнеслава выделялась особой причёской – выбритым до блеска черепом с длинной косицей на темени. Как навья позднее узнала, это было признаком принадлежности к сословию тружениц молота и наковальни. Руки княжны при первом знакомстве тоже поразили Гледлид: большие и грубые, с шершавыми пальцами, они мало походили на руки особы знатных кровей. Как же дочь белогорской княгини занесло в кузню? Гледлид узнала и эту историю. Сперва наследницей престола была сестра княжны-оружейницы, Светолика; пока она набиралась опыта в Заряславле и готовилась в своё время принять у своей родительницы бразды правления, Огнеслава нашла себе дело по душе и посвятила себя работе, не подозревая о грядущем повороте судьбы. Она вела жизнь обычной мастерицы кузнечного дела, с работы спешила домой, к семье – красавице-супруге и маленькой дочке. Но гибель Светолики на Калиновом мосту выдвинула Огнеславу из тени – ей пришлось занять место сестры, покинув родную кузню и воцарившись в Заряславле... За дела она взялась со всей серьёзностью и основательностью. Ей не хватало опыта и знаний, но она впряглась в работу и учёбу с рвением, не уступавшим по своему напору её предшественнице на этом посту – «неугомонной княжне» Светолике.
В своём обхождении Огнеслава была простой и скромной, приветливой и дружелюбной, совсем не заносчивой. Княжеским происхождением она не кичилась, рабского почитания собственной особы не требовала, а ждала от всех лишь достойной работы.
– Почему именно я, госпожа? – спросила Гледлид. – Отчего твой выбор пал на меня?
– Потому что отзывы твоих соотечественниц и сестёр по науке о тебе – самые нелестные, – засмеялась Огнеслава. – Ну, а ежели отбросить шутки в сторону – потому что ты не боишься прямо говорить то, что думаешь.
– Мой язык часто служит мне дурную службу, – усмехнулась навья. – Я не умею говорить приятных вещей, льстить и подхалимничать. Да и просто хвалить не умею, даже когда это нужно.
– Ну, умение льстить никогда не было залогом хорошей дружбы и успешного труда, – сказала княжна. – Не лесть мне от тебя нужна, а твои знания и твоё искреннее мнение. Ты умеешь указывать на недочёты, и это ценно. Быть может, твои слова и не звучат приятно, но в них есть зерно пользы. Ну, а оболочка этого зерна – для меня дело десятое. Я не из обидчивых, так что можешь не бояться. Если что, я и сама в долгу не останусь. – Огнеслава подмигнула и потрепала навью по плечу.
Уроки Гледлид давала не только в библиотеке, но и там, где княжне было удобно. Бывала она и у Огнеславы дома. Там-то она и увидела невысокую особу, одетую с головы до ног в чёрное... Сначала Гледлид показалось, что это пожилая женщина, и первые несколько встреч навья даже не присматривалась к ней, а потом за обеденным столом им случилось сидеть друг напротив друга. Один нечаянный и праздный взгляд прямо в лицо опроверг первое впечатление: особа в чёрном оказалась совсем молоденькой, просто мрачное одеяние прибавляло ей лет, а вернее сказать, превращало её в женщину без возраста. Даже искусная серебряная и бисерная вышивка не особенно смягчала общей угрюмости этого наряда. Он представлял собой просторное платье с широкими колоколообразными рукавами, из-под которых виднелись накладные манжеты рубашки, украшенные жемчугом – зарукавья. Впервые сердце Гледлид подало признаки чувств при взгляде на тоненькие запястья девушки. Ёкнуло, защемило, а потом и заставило навью всматриваться внимательнее. Под вдовьим облачением скрывалась хрупкая фигурка, совсем как у девочки-подростка. Из-под подола порой показывался крошечный башмачок, богато расшитый жемчугами... Звали девушку Берёзкой, и она была вдовой княжны Светолики. Из всех черт её лица Гледлид запомнились огромные серо-зеленоватые глаза, смотревшие испытующе и пронзительно – прямо в душу.
Сейчас Гледлид уже не помнила дословно их с Берёзкой самых первых разговоров. Кажется, навья выступала в своём обычном духе – язвительно-насмешливом. Берёзка не оценила её остроумия и отвечала без обиняков – серьёзно, резко и прямо, а потом и вовсе стала избегать общества Гледлид, держась подчёркнуто недружелюбно, а на её остреньком бледном личике всякий раз появлялось замкнуто-высокомерное выражение. В общем, всё как всегда. История повторялась. Гледлид видела подобное уже не в первый раз и ничему не удивлялась. Впрочем, судорожного стремления нравиться окружающим она за собой никогда не замечала, а потому даже и не думала огорчаться. Ну, не сошлись и не сошлись. Не она первая, не она последняя.
Однако Огнеславе почему-то было важно, чтобы Гледлид ладила со всеми членами её семьи.
– Гледлид, я прошу тебя быть... хм... поосторожнее с Берёзкой. Со мною ты можешь не стесняться, я и кое-что покрепче слыхивала, когда в кузне работала, но с ней надо... полегче. Понимаешь? Закрытие Калинова моста унесло жизнь её супруги, ей нелегко сейчас.
Оказывается, под просторным чёрным платьем скрывалось одно маленькое, но интересное обстоятельство – земное продолжение княжны Светолики, а попросту говоря, Берёзка готовилась стать матерью. Сама Гледлид обзавестись потомством не спешила, да и не мечтала об этом никогда, а потому общепринятого умиления не испытала, но не пойти навстречу просьбе княжны не могла – хотя бы из вежливости. А Огнеслава добавила:
– Было бы хорошо, если б вы с нею подружились. Берёзка... она чудесная. На её долю выпало много невзгод, а это накладывает свой отпечаток. Пусть это тебя не смущает. Если вы с ней узнаете друг друга получше, то и до дружбы недалеко.
Попытка – не пытка, решила Гледлид, хотя, если честно, не понимала: почему, если женщина беременна, то непременно нужно ходить вокруг неё на цыпочках и исполнять все её прихоти. Впрочем, в отношении Огнеславы к Берёзке проглядывало нечто большее, чем восхваляемая ею дружба...
Прекрасное, полное розово-янтарных лучей утро располагало к неспешным прогулкам и созерцанию природы. Бродя по огромному саду, Гледлид наткнулась на питомник с юными деревцами под стеклянным куполом. Озарённое рассветом и улыбкой лицо Берёзки преобразилось настолько, что Гледлид застыла: как она не видела этого раньше? Неужели она была так слепа, что не рассмотрела свежей прелести этого ротика? А глаза... Вся мудрость и нежность земли и неба скрывалась в этих зрачках. В них хотелось утонуть, а к этим губкам прильнуть поцелуем... Гледлид вздрогнула от чёткости и чувственной остроты этого желания. «Одумайся, – сказала она себе. – Это всего лишь красивое утро и улыбка. Улыбка украшает даже дурнушек».
Вздохнув, она шагнула вперёд и завела разговор. Берёзка сразу перестала улыбаться – точно солнышко за тучей спряталось. Слово за слово – беседа принимала всё более опасный оборот; Гледлид снова не удержалась от своей язвительности, за что и поплатилась: откуда же ей было знать, что эта невзрачная девушка в чёрном балахоне – самая настоящая колдунья?
– Тебе никогда не приходило в голову, что существование твоё – весьма ограниченное? – несло навью. – Разве это не скучно – дом, дети, пряжа, сад?.. Разум в таких условиях просто задыхается и голодает. Нет, я бы не выдержала! Такая жизнь домашней клуши – не по мне.
Гледлид никогда не считала себя приятной в общении, но в то прекрасное утро она узнала, что эта серая мышка – сама тот ещё «подарочек». Колючие кусты зашелестели и затянули навью в свои недра. Она отчаянно барахталась, стараясь выбраться, но ветки с острыми шипами вскидывались, как живые, цеплялись за её одежду и волосы, царапали руки и лицо... А потом куст стащил с её головы и сожрал шляпу-треуголку – только пёрышки жалобно мелькнули на прощание. О растительном мире Яви Гледлид знала ещё далеко не всё, а поэтому перепугалась не на шутку, приняв обыкновенный крыжовник за плотоядное создание, прикинувшееся безобидным кустом. А Берёзка торжествовала:
– Больно тебе, да? А скольким людям ты сделала больно своим языком?
С «клушей» Гледлид, пожалуй, хватила лишку... Но из того, что Берёзка рассказывала о своей жизни, лучших выводов сделать было нельзя. Не исключено, что она о многом умолчала; эта недостаточность сведений привела к плачевному исходу: исцарапанная Гледлид еле выкарабкалась из «живых» кустов. Лезть обратно в средоточие колючего ужаса за потерянной шляпой она не решалась, и Берёзка с торжествующим видом сама достала треуголку.
– Трусиха, – хмыкнула она.
Где был этот зелёный колдовской огонь глаз и вызывающий румянец насмешливо изогнутых губ в их первую встречу? Похоже, эта ведьмочка ловко умела прикидываться непримечательной невидимкой, а сейчас раскрыла свою суть во всей красе... Она дразнила губами, бросала вызов глазами, приводя Гледлид в бешенство и отравляя кровь ядом мести за попранное самолюбие. Так навью ещё никто не унижал! Как нашкодившего щенка мордочкой в лужу, так и её – задом в колючки... Но что за губки! У той старушки в траурных одеждах рот был бесцветным и тонким, сжатым в нитку – впрочем, навья уже не могла точно сказать, каким он был и имелся ли вообще. У ведьмочки ротик оказался до дрожи сладкий. «Трусиха», – презрительно изгибался он, обжигая Гледлид жаждой мести. Ещё не придумав, каким будет возмездие, навья бросилась на Берёзку – и угодила в очередную ловушку. Коварству колдуньи не было предела: ветки малины захлестали Гледлид по лицу, но это уже не могло её остановить. Продравшись сквозь взбесившийся малинник, исцарапанная до красноты и обезумевшая от ярости, она выставила вперёд скрюченные когтистые пальцы, чтобы схватить и стиснуть... А что делать дальше, она додумать не успела, потому что увидела чудо.
Берёзка кружилась и смеялась, и цветущий сад вторил ей, осыпая её снегом лепестков. Нежно-серебристые переливы смеха гуляли в кронах, сыпались с ветвей, сад дышал и разговаривал, наполнялся многоголосым перезвоном. Берёзка танцевала, порхала на весенних крыльях из лепестков, а они окутывали её голову короной, одевали плечи белоснежным плащом. Этот смех тоже был ловушкой – для сердца, и навья в неё с разбегу радостно влетела. А потом, остановившись, задалась вопросом: а как должна смеяться её любимая женщина? Самая прекрасная и нужная, за которую – хоть в огонь, хоть в воду, и без которой – ни жизни, ни дыхания, ни счастья? Наполненный весенним гомоном сад ответил: вот так.
– Что? Опять шляпу потеряла, смотри! – дохнула Берёзка Гледлид в лицо душистыми чарами весеннего ликования.
А та, шагнув вперёд на подгибающихся ногах, пробормотала:
– Да я согласна хоть голову на плахе потерять, только чтобы услышать вот это...
Она несла чушь, но это было уже неважно. Берёзка смеялась в ответ – самым прекрасным на свете смехом, от которого сердце сладко щемило и плакало глупыми, счастливыми слезами. Гледлид оступилась и опять навлекла на себя гнев милой колдуньи, отпустив едкое замечание насчёт Огнеславы:
– То-то я гляжу, она так задумчиво смотрит на тебя... А её супруга – слепая клуша-простушка, ничего в упор не замечает. М-м, да тут у вас, похоже, весьма занятный треугольничек вырисовывается! В тихом болотце, оказывается, кипят страсти!
Глаза Берёзки ответили не сердитым колдовским огнём, а тихой, как туман над ночным озером, печалью, и сердце Гледлид горько заныло от раскаяния.
– Уж такой у меня злой язык – не щадит даже тех, кто мне нравится, – вздохнула она.
– Мало тебе было уроков? – нахмурилась Берёзка.
Её сдвинутые брови грозили малиновым наказанием, глаза сверкали остриями крыжовниковых шипов... Самый очаровательный гнев, какой только существовал на свете.
– Нет, больше ты меня в колючие кусты не заманишь, – сказала Гледлид и осуществила своё возмездие.
Она накрыла этот дерзкий, манящий ротик губами. Несколько мгновений она наслаждалась его мягкостью, испуганной дрожью, живым теплом, а потом погрузилась в него глубже – властно, уверенно, но нежно. Да, Берёзка была до слёз хрупкая под этим балахоном, руки Гледлид чувствовали тонкие, лёгонькие косточки. Даже сжать покрепче в объятиях страшно – как бы не сломать что-нибудь...
Напрасно она это сделала: один раз попробовав эти губки, хотелось целовать их снова и снова. Но грустное, полное слёз «я не могу» останавливало пылкий напор навьи, разум с совестью подсказывали, что нельзя спешить, а мрак вдовьего облачения веял холодком одинокой ночи. Призрак княжны вставал на пути навьи, суровый и грозный, как застывшая над Калиновым мостом скала, и Гледлид терялась, не зная, как подступиться к Берёзке, что говорить. Очень хотелось хоть чуть-чуть приподнять чёрное покрывало неприступности, в которое закуталась юная колдунья, но... что, если она заплачет? Одна её слезинка – и навья, беспомощная и растерянная, стискивала челюсти от бешенства, потому что ничем не могла помочь. Не могла взять и вырвать из сердца Берёзки горе, оно должно было проделать свою работу и пройти своим чередом – и не ускоришь, не подстегнёшь. Ребёнок... Думая о крошечном существе, что жило и росло у Берёзки внутри, Гледлид пыталась понять, что она к нему чувствует. Это была частичка прошлого, которую не вычеркнешь, и даже ревновать к ней бессмысленно, поэтому оставалось только принять всё как есть. Умом Гледлид это понимала, но в чувствах пока разобраться не могла.
Одно она знала точно: в первую их встречу она была слепой, а сейчас прозрела. Тайком наблюдая за тем, как Берёзка возится в саду, Гледлид теряла своё сердце – оно нежно таяло в груди, расплывалось тягучим мёдом и шептало: «Прекрасная... Прекрасная...» Когда садовая кудесница взялась за лопату, чтобы выкопать старый, зачахший розовый куст, навья не устояла за деревом.
– Берёзка, ну разве можно в твоём положении? – бросилась она к девушке.
Кажется, она определилась со своими чувствами к ребёнку. Не имело значения, чей он; просто нельзя было допустить, чтоб с этим комочком у Берёзки внутри случилась беда: ведь она ждёт его рождения и, наверно, любит. От её слёз Гледлид трясло, а случись что – слёз будет море... Представив Берёзку убитой горем, навья сама содрогалась от пронзительной скорби. Нет, эта девушка должна смеяться и быть счастливой, а вот плакать – не должна. Ну, разве что от радости.
– А что такого? Мне вовсе не тяжко, – ответила Берёзка, решительно втыкая лопату под куст.
Пришлось отбирать у неё землекопное орудие и снова наблюдать на её лице выражение самого очаровательного возмущения на свете. Берёзка непременно хотела копать сама, и это притом, что в её распоряжении была целая куча садовниц, как нельзя лучше приспособленных для такой работы и, по счастливому совпадению, не беременных. Этого Гледлид никак не могла ни понять, ни одобрить.
– Ты хочешь выкопать этот куст? Хорошо, давай я сделаю это, – предложила она.
– А давай, – вдруг согласилась Берёзка, заблестев неожиданно тёплыми солнечными искорками в глазах сквозь улыбчивый прищур ресниц.
Гледлид диву давалась, как она не разглядела этих искорок в первую встречу. Беспомощная нежность защекотала сердце, но не помешала навье рьяно приняться за работу. Черенок лопаты натирал ладони, длинные волосы путались и мешали, пот лил ручьями, отчего рубашка неприятно липла к телу, но Гледлид старалась изо всех сил.
– Давай-ка гриву приберём, – деловито сказала Берёзка.
Гледлид даже зубами скрипнула и закрыла глаза, когда ловкие пальчики девушки заплясали в её волосах, заплетая их в косу. Щекотные, ласковые бабочки – так она ощущала их невесомые, быстрые касания.
– Обрезать бы их вообще, – подумалось ей вслух. – Жарко у вас тут – всё время будто в шапке меховой хожу.
Эта мысль Берёзке не понравилась.
– Ты что! Такая красота... Не вздумай! – нахмурилась она. И добавила: – Стой смирно, не верти головой.
Она вплела в косу нитку пряжи и закрепила её в узел, чтоб не болталась. Орудовать лопатой стало удобнее, но голова под волосами всё равно потела. Хоть волшебный камень Рамут и приспособил глаза Гледлид и прочих навиев-переселенцев к яркому свету, но лето в Яви казалось с непривычки очень жарким. Гледлид временами даже завидовала причёске Огнеславы.
Она стёрла себе ладони, сломала лопату, вспотела, изранилась шипами, но выковырнула этот проклятый куст из земли. Берёзка принялась рассаживать живые зелёные побеги с кусочками корней, и навья не удержалась – поймала её руки и накрыла своими. Губы Берёзки жалобно приоткрылись, в глазах опять застыло это влажное, солёное «не надо»... Но как Гледлид хотелось слиться с ней в этом садовом священнодействии! Красоту этих мягких губ, огромных растерянных глаз и искусных, колдовских рук нужно было читать, как поэму, смакуя каждое слово и ловя междустрочные смыслы... Не каждому она была доступна, но если уж открывалась, отказаться от неё было уже невозможно.
Берёзка творила свою волшбу, плела её тонкими пальцами пряхи, и ростки на глазах вытягивались вверх, выбрасывали новые листочки, а в груди у Гледлид рождалось другое чудо... Тёплый комочек нежности хотелось оберегать ладонями, прятать от чужих праздных взглядов и заботливо взращивать, питать.
– Научи меня садовой волшбе, а? – попросила она.
Берёзка удивилась этому желанию, но наколола себе палец и велела Гледлид вкусить выступившую красную капельку. Навья еле удержалась, чтобы не сгрести девушку в объятия целиком, и только облизала этот трогательно протянутый ей уколотый пальчик. Лба коснулось тёплое дуновение, сад поплыл вокруг Гледлид в солнечном перезвоне, а глаза Берёзки распахнулись чарующими омутами – до тесноты под рёбрами близкие, до нежного стона нужные.
– Пробуй. Просто дари этому росточку свою нежность.
Гледлид хотела бы отдать нежность Берёзке, которая сама была тонкой, как стебелёк... Пить поцелуями тепло её кожи, радоваться каждой её улыбке, блуждать по таинственным тропинкам её души. Беречь от холодного ветра, от огорчений и бед. Просто греть в объятиях её хрупкие плечики, хранить её сон, заслужить счастье и честь коснуться её кос и запутаться в прядях пальцами. Ведь Гледлид даже не видела под этим бисерным убором и платком, какого цвета у Берёзки волосы... Скорее всего, русые – этакого пепельного, «мышиного» оттенка.
Навья старалась изо всех сил, чтобы росточек подтянулся. «Расти, расти», – мысленно приказывала она ему, но тщетно. Холодок отчаяния уже было повеял ей в спину, но сердце вдруг толкнулось в груди: «Люблю...» Взгляд Берёзке в глаза перекинул мостик между ними, и с ростком начало что-то происходить. Он зашевелился, ожил, выбросил новые листочки, и Гледлид охватила тихая, тёплая радость. Точно такая же радость, только более мягкая, с материнским оттенком, сияла в глазах девушки.
– Твоё сердце оказалось плодородной почвой, – проронила Берёзка.
– Хотелось бы мне, чтобы оно когда-нибудь стало достойным тебя, – прошептала Гледлид, чувствуя, как чудо в груди растёт и крепнет, точно будущий розовый куст.
Она снова натолкнулась на «я не могу» в глазах Берёзки. Грея в руках дрожащие пальцы девушки, она поднимала чудо в груди на новую ступень.
– Ежели потребуется вывернуться наизнанку, перекроить себя и сшить заново, чтобы ты взглянула на меня благосклонно – я готова. Я готова умереть и восстать обновлённой. Я готова ждать столько, сколько потребуется.
Легко сказать: «Готова ждать», – но само ожидание было невыносимым. Лето дышало раскалённым пеклом и звенело гроздьями черешен; измученная шапкой волос на голове и их жаркой тяжестью, Гледлид созрела для решительных изменений в причёске. Ножницы у неё были, а вот за бритвой пришлось идти в ближайшую кузню. Сама мастерица, занятая работой, ни слова не сказала, а вот подмастерья оказались не в меру языкастыми.
– Госпожа, а она тебе, прости, для какого места?
– Для задницы, – процедила навья.
Брови помощниц поползли на лоб.
– О, у тебя там волосы растут?
Гледлид никогда за словом в карман не лезла. Она приготовилась заткнуть рты любительницам подколов, но мгновенно придуманный язвительный ответ пропал втуне: мастерица сама пресекла дальнейшие разговоры.
– Так, голубушки, хватит болтать, займитесь делом!
Получив в своё распоряжение новенькую, остро заточенную бритву, Гледлид закрылась в своей комнате и уселась перед зеркалом. Желание обкромсать всю свою рыжую гриву полностью было огромным, но навья поборола его. «Такая красота... Не вздумай!» – отдалось в сердце тёплое эхо слов Берёзки. Отделив верхнюю часть волос и закрутив их в узел, затылочные и боковые пряди она оставила распущенными. «Клац-клац», – щёлкнули в воздухе ножницы.
В дверь постучали. В комнату заглянула черноволосая и смуглая Рунгирд, соседка Гледлид, которая также теперь трудилась в Заряславской библиотеке.
– Прости, у тебя не найдётся... – начала она, но, увидев ножницы в руках Гледлид и лежащую перед ней на столике бритву, забыла, зачем зашла. – Ой, а что это ты собралась делать?
Гледлид устало закатила глаза к потолку.
– По-моему, Рунгирд, это очевидно. Я собираюсь немного подстричься.
– Прости, что помешала, – пробормотала соседка, намереваясь закрыть дверь.
– Погоди, а зачем заходила-то? – окликнула её Гледлид.
Рунгирд нужен был словарь редких слов и выражений под общей редакцией госпожи Морлейв.
– Он есть у меня, и я могу его тебе одолжить, если ты немного поможешь мне со стрижкой, – сказала Гледлид. – Самой, знаешь ли, несподручно.
Через час соседка ушла со словарём под мышкой, а Гледлид подошла к окну и распахнула его, встряхнув пучком оставшихся волос. Знойный воздух, врываясь в комнату, обдувал голову; навья пробежала пальцами по непривычно голой коже висков и затылка, погладила сзади ладонью. Шея длилась и длилась, изящно уходя в бесконечность.
Сняв волосы на тех местах, которым было жарче всего, Гледлид испытала облегчение. Но на этом её обновление не закончилось: она примерила белогорскую рубашку с кушаком, которую купила у одной хорошенькой вышивальщицы. То ли дело было в особой вышивке, то ли в свойствах ткани, но, выйдя под беспощадные лучи солнца, Гледлид ощутила желанную прохладу. Это было так удивительно, что она не удержалась от радостного смеха.
Черешневый поцелуй, который она сорвала с губ Берёзки в окружении скачущих детей, опять выбил из девушки слёзы и это жалобное «не могу» в глазах. Пришлось догнать, упасть на колени и просить прощения в садовой беседке. Она проклинала и ругала себя последними словами за эту спешку, но чудо в груди росло с каждым днём, стремясь заполнить Гледлид без остатка... Она поймала Берёзку в объятия, желая всего лишь подарить ей, как тому саженцу, нежность; кулачки плачущей колдуньи обрушили на навью град протестующих ударов, но потом Берёзка сдалась и затихла, прильнув головой к плечу.
– Позволь мне быть тебе другом, – шептала ей Гледлид. – Просто быть рядом, не требуя ничего. Лелеять твоё сердце, как вот эти розы... Беречь его и утешать, защищать. Всё, что мне нужно взамен – это твоя улыбка и твой животворный смех, от которого просыпается не только сад, но и сердца всех вокруг.
Потом был сбор земляники, дождь и отдых Берёзки в пещере; Гледлид боялась шелохнуться, чтобы не потревожить её сон, но Берёзка проснулась в слезах... Конечно, ей приснилась супруга. Чудо в груди Гледлид выросло слишком большим и, не находя выхода, разрывало навью изнутри, а каждое «не могу» в глазах Берёзки раз за разом вонзало в светлые крылья чуда по иголке. Берёзка захлопнула окно, сказав: «Я с тобой больше не разговариваю», – и Гледлид уткнулась лбом в перекладину лестницы, горько закрыв глаза... Но она успела увидеть косы своей ненаглядной волшебницы – пепельно-русые, как она верно догадалась.
Потом было падение в крапиву, встреча с медведем и разговор в малиннике, после которого навья, забравшись в укромный уголок сада и обняв ствол яблони, плакала. Берёзка не видела этих слёз, и никто не видел... Крылатое чудо в груди причиняло слишком большую боль, оно само истекало кровью, раненное словами Берёзки. «Временная заминка» – вот как она назвала его.
– Волшебница моя... Ты можешь тысячу раз сказать «нет», но ты понятия не имеешь, ЧТО живёт у меня вот здесь. – Гледлид, зажмурившись и закогтив пальцами грудь, сползла по стволу на корточки. – Да, я говорила тебе много недобрых, дурацких слов, делала глупости, была навязчивой, но... зачем ты так?.. Зачем, любимая?..
Никто не увидел этих мгновений слабости. Смахнув слёзы, Гледлид колко заблестела глазами и направилась к себе. Она не знала, что на другом конце сада Берёзка тоже плакала – под старым черешневым деревом.
Крылья чуду искорёжило отчаяние. «Она никогда не полюбит, смирись», – шептало оно, дыша в сердце Гледлид осенним холодом. Навья старалась не видеться с Берёзкой и проводить уроки где угодно, только не дома у Огнеславы. Впрочем, избегать встреч не всегда получалось, оставалось только не смотреть, не разговаривать, не улыбаться. Превращать любимые черты в размытый, смутный облик, мелькнувший мимо рассеянного взгляда.
– Скажи честно, что случилось? – спросила Огнеслава, когда Гледлид всё-таки открыто попросила её не назначать занятия дома, а проводить их, например, в библиотеке. – С кем из моих домашних у тебя нелады? Кого ты избегаешь?
Гледлид молчала, царапая ногтем кожаный переплёт книги. Княжна вздохнула.
– Ладно, можешь не отвечать. Всё с тобой ясно... – Её руки опустились на плечи навьи, дружески прижали их и погладили. – Но ты погоди отчаиваться. Дай Берёзке время. Надо просто ещё потерпеть, подождать... Такая девушка, как она, стоит того.
Гледлид уже тысячу раз проглотила те несправедливые и обидные слова про «ограниченный образ жизни». Берёзка слишком сдержанно рассказывала о себе, но навья хорошо умела расспрашивать других. Теперь она знала, как юная колдунья участвовала в защите своего родного города Гудка, какой проделала опасный путь в Белые горы, чтобы привести помощь... Смелости ей было не занимать. Она заслужила счастье и покой. Её неустанными трудами сад Светолики процветал, каждый куст и дерево, каждый цветок и травинка в нём были обласканы её щедрой заботой, и лишь теперь Гледлид начинала понемногу понимать, что это тоже огромная работа – не менее достойная, чем её собственные научные занятия. Навья стыдилась за своё былое высокомерие и пренебрежение к тем, кто трудился на земле.
Слова Огнеславы немного ободрили Гледлид, но ненадолго. «Она не полюбит», – снова завело свою унылую песню отчаяние, а чудо в груди сомкнуло крылья и чахло, страдало осенней хворью. Отошли ягоды, наступила яблочная пора, а потом и урожай хлебов собрали. Щедрое золото осени сменилось промозглыми дождями и распутицей. Сыро, прохладно и одиноко стало в лесах, но Гледлид, пристрастившись к прогулкам и охоте, неизменно проводила на природе два дня в седмицу. Она продолжала собирать пословицы и поговорки для своего словаря; немало белогорских красавиц прошли перед её глазами, некоторые девицы смотрели на неё с вполне определённым интересом, но в душе навьи царила только Берёзка. Овеянная листопадами, окрылённая осенними ветрами, бродила она одетым в траур призраком всюду, куда бы Гледлид ни шла. Навья встряхивала головой, тёрла глаза – и призрак исчезал, а в сердце оставалась ноющая, зовущая тоска. «Любимая, любимая», – бесслёзно плакало оно.
Однажды ночью Гледлид пробудилась от протяжного, полного боли и страдания зова. «Лисёнок... Лисёнок!» – стонал любимый голос, и навья подскочила в постели, унимая рвущееся из груди дыхание. Это она, Берёзка... Ей плохо, больно! Гледлид заметалась по комнате из угла в угол, не в силах ни заснуть, ни успокоиться. Лил холодный дождь, слякотный мрак чавкал под ногами... Гледлид помчалась к дворцу Огнеславы: у себя усидеть она не могла.
Ночная охрана не пропустила её во дворец. Этим дюжим кошкам в белогорских доспехах было невдомёк, что творилось у Гледлид в душе.
– Все спят уж. До рассвета никого пускать не велено, – последовал невозмутимый ответ.
Через пространственный проход мимо дружинниц Гледлид внутрь попасть не могла: скрещенное в дверях белогорское оружие временно отсекало все проходы в дом с любых сторон.
– Берёзка... Как там госпожа Берёзка? – допытывалась навья. – Она здорова?
– А что ей сделается? Жива-здорова... Ввечеру вот только рожать принялась.
Рожать! Гледлид осела на мокрые, холодные ступеньки крыльца. Так вот откуда этот стон, этот зов! «Лисёнок»... Пушистый комочек нежности прильнул к сердцу, а вместе с ним на Гледлид налетел ураган тревоги и страхов. Берёзка – такая маленькая, тоненькая, хрупкая... Как же она родит? А если что-то пойдёт не так? А если она умрёт в родах? От этой мысли навью охватил могильный холод, на сто вёрст вокруг раскинулась тьма одиночества и горя.
– Пустите меня, прошу вас! – снова кинулась она к охране. – Доложите о моём приходе! Я Гледлид, занимаюсь с княжной навьим языком...
Она требовала позвать Огнеславу, Зорицу – тщетно. Охрана стояла непоколебимой стеной. Отчаянную мысль перекинуться в зверя и пробить этот заслон Гледлид отбросила как слишком безумную и небезопасную: кошки всё-таки при оружии. Так она и слонялась по ночному саду, окутанному шелестом дождя, зябко поёживаясь под мокрым плащом – час, второй... А потом вернулась к охранницам.
– Скажите, кому у вас принято молиться, чтоб женщина благополучно родила? – огорошила она их неожиданным вопросом. – Я готова просить каких угодно богов об этом...
Охранницы переглянулись.
– Вообще-то, матерей и детей опекает Мила, супруга Лалады. Ей преподносят в дар вышитые подушечки, набитые сухими цветами.
– Благодарю, – пробормотала Гледлид. – Боюсь, с подношением у меня сегодня беда. Никак.
– Коли дара нет, можно и просто так Милу просить, – обнадёжили её кошки. – Мольба, идущая от сердца – самое главное условие.
Куда бежать, где преклонить в исступлённой молитве колени? Гледлид просто закрыла глаза и шагнула в проход наугад. Очутилась она в лесу, около пещеры, из входа в которую доносилось мягкое журчание воды и уютно лился золотистый свет. Ночной осенний лес дышал сыростью и холодом, струйки дождя обнимали тело навьи, но она не смела шагнуть в эту светлую обитель, даже к порогу приблизиться не решалась. Примут ли её здесь? Больше всего она боялась, что её прогонят взашей – с позором и проклятиями... Этого её душа не готова была вынести. Опустившись на колени на мокрую землю, она закрыла глаза.
«Мила... Прости, что к тебе обращаюсь, – устремилась она мыслью к дождливой бездне неба. – Я даже толком не знаю, как правильно тебе молиться... Просто женщине, которую я люблю, очень нужна твоя помощь. Помоги ей, прошу тебя. Пусть она останется жива и здорова... И её дитя – тоже».
– Ни Лалада, ни её светлая супруга Мила никогда не гонят того, кто к ним пришёл с открытым сердцем и искренней просьбой о помощи.
Перед Гледлид стояла невысокая, тоненькая девушка, одетая в долгополую подпоясанную рубашку. Она даже напоминала Берёзку – такими же русыми с пепельным отливом волосами, ясновидящими озёрами глаз и кротко, ласково сложенными устами. Её лоб охватывало очелье-тесьма с подвесками из деревянных бусин и алыми кисточками на концах. Свет из пещеры мягко окутывал её стройную, как юное деревце, фигурку, сияя на волосах золотым нимбом.
– Кто ты? – вырвался из груди Гледлид вопрос-всхлип.
Вместо ответа девушка мягко отёрла с её щёк смешанные с дождевой водой слёзы.
– Твоей ладушке и её дитятку ничто не угрожает, – прозвенел летним колокольчиком её голос. – Ступай и ни о чём не тревожься.
Тёмные стволы деревьев закружились вокруг Гледлид гудящим частоколом, и она будто в колодец провалилась...
Дождь хлестал ей в спину, под щекой была мокрая трава. Подняв голову, навья увидела перед собой садовую беседку. Где-то за деревьями маяками светились окна белокаменного дворца Огнеславы.
Шатаясь, точно пьяная, Гледлид поплелась под крышу и села на лавку. Сырая одежда неприятно облепила тело, но к холоду навья была равнодушна, да и почти не чувствовала его сейчас, всецело занятая мыслями о Берёзке. Понемногу начиналась дрожь. Нутро сжималось и каменело – не выдохнуть, не расслабиться, плечи сводило леденящим напряжением. Перед мысленным взором навьи стояла эта девушка в длинной рубашке – должно быть, служительница Лалады... В её успокоительные слова отчаянно хотелось верить.
Кто-то тронул Гледлид за плечо, и она встрепенулась, сбрасывая с себя панцирь оцепенения... Темнота – не разберёшь, то ли ещё ночь, то ли уже раннее утро. Дождь давно кончился, сад влажно вздыхал, а над навьей склонилась Зорица.
– Ты чего тут? Нам сказали, ты к Берёзке рвалась...
Гледлид вцепилась холодными пальцами в по-домашнему мягкую, тёплую руку женщины.
– Как она? Что с ней?
Зорица светло и ободряюще улыбнулась.
– Не тревожься, родила уже. Благополучно всё.
Каменное напряжение отпускало плечи. Гледлид выдохнула, провела ладонями по лицу.
– А... А можно к ней?
– Лучше её пока не беспокоить, умаялась она очень, спит теперь, – сказала Зорица.
– Я не стану её будить, ни слова не скажу, только взгляну на неё и уйду, – принялась уговаривать Гледлид. – Зорица, славная моя, добрая, пропусти меня к ней! Очень тебя прошу...
Всю свою измученную молчанием и разлукой нежность она вкладывала в эту мольбу, а усталое, озябшее чудо в груди ворохнулось, зашуршало крыльями. Оно распрямлялось, оживало, побеждая хворь и уныние, и рвалось к любимой, забыв обо всём. И Зорица услышала его тихий взволнованный голос, почувствовала его в пожатии руки и уловила в блеске глаз навьи.
– Ну хорошо, только ненадолго, – улыбнулась она, ласково накрывая пальцы Гледлид ладонью. – Да и промокла ты, озябла. Вон, руки-то какие ледяные...
Башенные часы пробили шесть раз. Значит, всё-таки утро... Гледлид была уверена, что не сомкнула глаз ни на миг; как же ночь так быстро промелькнула?
В сумраке тепло натопленной опочивальни мерцал огонёк лампы, бросая тусклый отсвет на усталое, но разглаженное покоем лицо Берёзки. Гледлид зорко всматривалась в каждую чёрточку, изучая и открывая эту скромную, одухотворённую красоту заново. На бровях и ресницах ещё лежала тень перенесённых родовых мук, немного жалобный их изгиб вызвал в сердце навьи острый и нежный отклик. Где-то за стеной попискивал младенец.
– Лисёнок...
Гледлид вздрогнула. Померещилось ли ей это или губы Берёзки всё-таки шевельнулись?.. Её глаза оставались закрытыми, но с уст слетал тихий, серебристый шёпот-шелест:
– Лисёнок... Лисёнок мой...
– Какой-то лисёнок ей снится, видать, – шепнула Зорица.
Берёзка застонала, и Гледлид снова содрогнулась всем нутром. Приблизившись к постели, она склонилась к лицу спящей колдуньи, ловила каждый вздох и трепет ресниц.
– Лисёнок, – опять позвала Берёзка.
Да, Гледлид обещала молчать, не будить её... Но как удержаться, когда чудо в груди тянулось крыльями, жаждало обнять, прильнуть?.. Склонившись ещё ниже, навья шепнула Берёзке в губы:
– Я здесь...
Послышался укоризненный вздох Зорицы, но Гледлид не обращала внимания. Сердце и душа были сосредоточены на задрожавших ресницах Берёзки, сквозь которые проступил сонный, туманный взгляд. Несколько звенящих мгновений – и в нём рассветным лучиком забрезжило узнавание, уголки губ приподнялись в улыбке.
– Лисёнок... Ты здесь...
– Здесь, родная. – Гледлид не смела прикоснуться, довольствуясь лишь общим воздухом с нею.
– Не покидай меня больше... – Во взгляде Берёзки мягко светилась грустная нежность.
Гледлид еле сдержалась, чтоб с рыком не сгрести её в объятия и не притиснуть к своей груди. Она лишь легонько, ласково скользила пальцами по щекам Берёзки.
– Я с тобой, волшебница моя... И всегда буду. Только позови – приду. Ночью ли, днём ли, в стужу или зной, живая или мёртвая – приду.
– Лучше приходи живая. – Берёзка прильнула щекой к пальцам навьи, закрыла глаза – то ли измученно, то ли с тихим блаженством. – Соскучилась я по тебе...
У Гледлид желваки на скулах заходили: она челюстями стискивала в себе жажду объятий.
– Я повторю то, что сказала тогда: ты пробудила моё сердце, – проговорила она. – Оно в твоих руках. Не разбивай его...
Ресницы Берёзки намокли, губы задрожали.
– Прости, лисёнок... Прости, ежели обидела. У меня сердце тоже в клочья рвалось...
Навья не сдержала рык – тихий, сдавленно-горловой. Эти слёзы жгучими каплями упали ей в душу, нутро будто когтистая лапа мяла, тискала и переворачивала. Бережно приподняв Берёзку от подушки, она прижала её к себе со всей осторожностью и мягкостью.
– Всё, всё, милая... Не думай об этом, забудь. Я уже забыла, – хрипло шептала Гледлид, вжимаясь губами в её лоб.
– Лисёнок... Рыжик мой, – всхлипнула Берёзка.
Её руки поднялись и обвили Гледлид за шею слабыми, мягкими объятиями, и она спрятала лицо у навьи на плече. Зорица с тихим смешком в ладонь молвила:
– Я тут, пожалуй, лишняя... Воркуйте, не стану мешать. Пойду покамест, посмотрю, как там дитятко.
Она вышла, а Берёзка спросила:
– Отчего ты вся мокрая?
– Дождь. – Заполучив наконец-то Берёзку в объятия, Гледлид чувствовала, что плывёт в усталой истоме. Слова вырывались скупо, коротко – лишь самая суть.
– Тебя Зорица позвала? – Берёзка потёрлась носом о щёку навьи.
– Нет, моя родная, меня никто не звал. – Гледлид поймала этот милый носик губами, расцеловала. – Вернее, ты сама и звала. Голос твой...
– И что мой голос говорил тебе? – Берёзка не уклонялась от поцелуев, только жмурилась, будто собираясь чихнуть или рассмеяться.
– Он звал: «Лисёнок, лисёнок». – В губы Гледлид её целовать пока не решалась, боясь снова увидеть в её глазах это жалобное «я не могу» – как толчок в грудь.
– Значит, у меня получилось... Ты услышала. – И Берёзка с устало-умиротворённой улыбкой опустила голову на плечо Гледлид.
Потом она захотела увидеть малышку, и новорождённую кроху принесла кошка с васильковыми глазами, одетая в рубашку с прорезями на груди. Не сказать чтобы Гледлид страстно любила детей, но у сердца шевельнулось что-то тёплое при виде маленького существа в объятиях Берёзки. В глазах кудесницы сиял новый свет – мягкий и мудрый, и крылатое чудо снова шептало: «Прекрасная... Прекраснее, чем прежде».
Заглянули Огнеслава с Ратиборой: девочке-кошке не терпелось увидеть сестричку, а княжна, встретившись взглядом с навьей, чуть заметно кивнула – понимающе и значительно.
– Ты уж на охрану не серчай, – молвила она, слегка потрепав её по плечу. – Они уже поняли, что были неправы.
– Я не в обиде, госпожа, – поклонилась Гледлид.
– Ну и славно. Тогда обсушись и милости прошу к столу, – радушно пригласила Огнеслава. – Что-нибудь горяченькое на завтрак тебе не повредит.
Горяченькому, а именно, блинам с пылу-жару со сметаной и рыбой Гледлид уделила самое пристальное и основательное внимание. Бессонная ночь, полная тревоги и напряжения, измотала её, выжала досуха, так что даже колени тряслись, а когда переживания схлынули, голод подал свой голос урчанием и жжением в животе. Восемь толстых, ноздреватых блинов с щедрой начинкой улетели в голодное нутро, как один. Осоловев от сытости, навья с удовольствием бы завалилась спать самое меньшее часиков на пять-шесть, но предстояла работа в библиотеке. Сейчас бы чашечку крепкого отвара тэи... Увы, тэя в Яви не росла. А на сердце разливалось тихое счастье по имени Берёзка – трудное, своенравное и непокорное, но теперь уже до мурашек близкое.
Отшумели сады и леса, схватилась инеем земля, по утрам становясь гулкой и твёрдой от мороза. Вдобавок к составлению сборника пословиц Гледлид пришло в голову начать собирать сказки и былины – как Белогорской земли, так и соседних княжеств, Воронецкого и Светлореченского. Не обнаружив в библиотеке письменно запечатлённых образцов изустного народного творчества, навья взялась исправить это упущение, а княжна Огнеслава одобрила её начинание. Она также попросила Гледлид об уроках навьего языка для своей дочки Рады и племянницы Ратиборы.
– Э-э... Госпожа, я не уверена, что знаю подход к детям, – пробормотала навья озадаченно. – Занимаясь преподаванием у себя на родине, я имела дело в основном с взрослыми учениками, а вот насчёт детишек... Не знаю.
– Вот и узнаешь, как оно, – подмигнула Огнеслава. – Никогда не поздно пробовать свои силы в чём-то новом, не так ли?
Княжна сама подавала тому живой пример, будучи вынужденной покинуть привычную кузню и взяться за управление целым городом. Глядя на неё, Гледлид постыдилась отказаться.
– А можно мне посидеть на уроках, послушать? – попросила вдруг Берёзка. – Я мешать не стану, буду тихонько прясть или шить...
– Кто же тебе запретит что-то делать в этом доме, сестрица? – улыбнулась княжна. – Ты вольна быть везде, где захочешь.
А Берёзка согрела Гледлид ласковым взглядом, от которого сердце навьи взбудораженно застучало, вспыхнуло сладким жаром. Да ради такого она не то что с двумя – с целой оравой детей была готова заниматься!.. Конечно же, Гледлид не шла – она бежала на эти уроки. Пока она разъясняла девочкам-кошкам азы навьего языка, Берёзка сидела в той же комнате с пряжей, шитьём или вышивкой, а вскоре для её удобства занятия стали проводить у неё в светёлке – чтоб не перетаскивать каждый раз прялку и рукодельный столик в другое помещение. Там поставили письменный стол для учёбы и повесили несколько полок для книг.
Сосредоточиться на работе в присутствии Берёзки оказалось не так-то просто: мысли навьи волей-неволей устремлялись к любимой, взгляд сам скользил в сторону дорогой её сердцу кудесницы, чьи чудотворные пальцы тянули и пропитывали волшбой нить тончайшей пряжи... Какая уж тут азбука, какая грамматика, когда чудо в груди пело и трепетало крыльями при виде ножки в крошечном башмачке, видневшейся из-под подола? Как-то раз услышав хихиканье, Гледлид опомнилась и нахмурилась: кажется, ученицы заметили, что она засмотрелась на Берёзку. Берёзка же, подняв взгляд от вышивки, ласково набросила на душу навьи тёплые чары своих глаз, а девочкам строго сказала:
– Это что за смешки? Ну-ка, делом займитесь!
Гледлид приходилось собирать всю волю в кулак, чтоб не расплыться в мечтательной задумчивости. Подчас удерживать внимание на уроке удавалось ценой неимоверных усилий, но если бы навье предложили перенести занятия в другую комнату, без Берёзки, она не раздумывая ответила бы: «Ни за что!» Берёзка освещала эти уроки, будто солнышко – ласковое и не жгучее, жизненно необходимое, без которого ничто не в радость. Когда она по какой-то причине не могла присутствовать, Гледлид хмурилась и грустила, весь мир вокруг казался пустым и осиротевшим, а в душу закрадывался холодок тоски.
Рада была спокойной, терпеливой, прилежной и старательной, но, как показалось Гледлид, слегка тугодумом. Ратибора же, напротив, ёрзала и частенько отвлекалась, но это восполнялось её цепким, быстрым и всё мгновенно схватывающим умом. Ей не приходилось объяснять одно и то же дважды, она понимала всё слёту – не ученица, а мечта, если б не её некоторая непоседливость. Когда ей становилось скучно, заставить её заниматься было очень непросто. Вот тут-то и пригодились Гледлид сказки: заранее переведя их на навий, она давала тексты ученицам. А потом девочки сами попросились вместе с ней их собирать по городам и сёлам: уж что что, а сказки слушать они любили. Гледлид их присутствие оказалось даже на руку: когда она была одна, люди порой смотрели на неё с недоверием. Навья, собирающая сказки? Странное явление. А вот когда рядом с ней появлялись две миловидные девчушки, черненькая и светленькая, всё шло как по маслу: люди улыбались, языки развязывались, и сказки-прибаутки лились рекой... На память навья никогда не жаловалась, будучи способной воспроизвести текст наизусть после одного прослушивания или прочтения, поэтому записывала она всё услышанное уже после возвращения домой. Ратибора оказалась обладательницей такой же цепкой памяти, даже более точной: порой она поправляла Гледлид, если у той случались ошибки или пробелы. Мало-помалу они начали сближаться. Однажды, неся домой уснувшую Ратибору на руках, Гледлид поняла, что дети уже не казались ей воплощением всех земных ужасов.
Как-то сами собой у неё начали складываться собственные истории в сказочном духе; сперва она записывала их просто так, для себя, а потом попробовала рассказывать девочкам. Вскоре они уже не засыпали без очередной вечерней сказки от тёти Гледлид.
– Ты настоящая сказочница, – сказала Берёзка однажды, когда урок закончился и Рада с Ратиборой убежали играть, а навья задержалась у стола, собирая книги и исписанные грамматическими упражнениями листы. – Хорошо у тебя выходит.
– Ежели сказать по правде, я всегда жутко боялась детей, – усмехнулась Гледлид. – Они мне казались просто крикливыми, проказливыми и шумными созданиями, от которых один сплошной беспорядок и усталость...
– А оказалось, что всё не так уж и страшно, да? – улыбнулась Берёзка.
Их руки встретились на книге. Гледлид накрыла искусные, волшебные пальцы Берёзки ладонями и сжала их со сладкой тоской в сердце. Её посетило странное видение: большой каменный дом с садом, играющие под деревьями дети и волшебница, сидящая в золоте закатных лучей на ступеньках крыльца – её, Гледлид, жена. Хотя почему странное? Навья лишь немного сомневалась в осуществимости этой мечты... Если дом можно построить, а сад вырастить, то возможно ли им с Берёзкой по белогорским законам стать супругами? В этих землях чтили Лаладу, а Гледлид родилась в мире, сотворённом Марушей. Как быть с этим? В её памяти жил образ той девушки-жрицы, которая в дождливую осеннюю ночь сказала ей: «Ступай и ни о чём не тревожься». Ясновидящие озёра её очей вселяли в навью некоторую надежду.
Весной она обратилась к Огнеславе за разрешением на строительство собственного дома в её владениях. Всех накоплений навьи хватало на оплату половины сметы, вторую половину княжна пообещала ссудить ей, а потом вычитать понемногу из её жалованья. К лету доставили камень, и строительство началось. Над домом работали две мастерицы – навья-зодчий по имени Леглит и кошка-каменщица Драгуля. Изнутри его решено было сделать белогорским, а за светящуюся по ночам внешнюю отделку отвечала Леглит. Таким образом, дом сочетал в себе два мира – Навь и Явь, а богини-сёстры соседствовали в нём, уживаясь вполне мирно. Располагался он возле речки, что огибала сад Светолики – на противоположном берегу. Будущий сад обнесли каменной изгородью весьма условной высоты – по грудь: такой бытовал обычай в Белых горах, да и на более высокую ограду у Гледлид не хватило бы камня.
Дом был готов к первому снегу, и зиму навья провела уже в собственном жилище. Когда по земле зашагала дева-весна, наполняя почки на деревьях клейким соком, пришла пора заняться садом. Навья возилась с ним сама, применяя полученные от Берёзки умения, а Огнеслава распорядилась предоставить ей для этого столько саженцев, сколько потребуется. «Получится ли?» – тревожилась Гледлид всякий раз, сажая новое деревце, но чудо в груди раскрывало сияющие крылья и творило волшбу спокойно и уверенно. Всё росло не по дням, а по часам. Сразу всё отведённое под сад пространство навья заполнять не стала, чтоб будущей супруге было где развернуться.
– Славно у тебя вышло, – похвалила заглянувшая в гости Огнеслава. – Впору уже и хозяюшку сюда приводить.
– Не знаю только, захочет ли она сюда прийти... – Гледлид, вздохнув, присела около небольшого цветника под окном, погладила молодой розовый кустик, и он выпустил несколько новых листиков.
– Это уж как её сердце решит, – улыбнулась княжна.
Они прогулялись к сверкавшей на солнце реке. Огнеслава всматривалась в противоположный берег, на котором раскинулся сад её сестры.
– Тут нешироко, можно и мостик перекинуть, – сказала она. – Пока деревянный, а со временем, быть может, и основательный, каменный поставим, коли потребуется.
Сжимая руку Берёзки и касаясь дыханием её губ, в её глазах Гледлид уже не читала больно ранящего, давящего на сердце отчаянием «я не могу». Между тем Светолике-младшей исполнилось три года, и она бегала хвостиком за старшими сестрицами, обожала черешню, а однажды Гледлид обнаружила её в собственном саду пробующей первый в его жизни урожай. Навья возилась в цветнике, когда сзади послышался подозрительный шелест. Так не мог шуршать в листве ветер; определённо, где-то возилось живое существо. Обернувшись, она разглядела за черешневым деревом кого-то низенького, в белой рубашке. Гледлид осторожно подкралась к дереву и, чтобы не напугать юную гостью, присела на корточки. Малышка ещё не носила портков, и солнце озаряло её пухленькие голые ножки в маленьких кожаных чунях. На коже трогательно розовели круглые пупырышки комариных укусов. Сияя золотой макушкой, дочка Берёзки рвала черешенки с самых нижних веток, до которых могла дотянуться; завидев навью, девочка на мгновение замерла с испуганно приоткрытым, красным от сока ротиком.
– Это что за незваная гостья ко мне пожаловала? В чужом саду всё вкуснее, да? – Гледлид подхватила Светолику на руки и подняла к верхним веткам, где черешенки висели тяжёлыми гроздьями. – Впрочем, угощайся. Кушай на здоровье, детка. Может быть, скоро этот сад станет твоим... Если, конечно, твоя матушка согласится.
А малышка звонко засмеялась, обняла навью за шею и чмокнула в щёку, оставив на ней отпечаток вымазанных соком губ.
В конце дня Гледлид отправилась к той пещере, около входа в которую когда-то жарко возносила молитвы к Миле. Пронизанный янтарными закатными лучами лес звенел вечерней песней птиц, ковёр из синих колокольчиков раскинулся везде, сколько было видно глазу. И посреди этого ковра уже знакомая девушка-жрица выпускала из ладоней золотое кружево сияющего узора. Гледлид застыла, заворожённая зрелищем; золотые завитки тянулись меж стволов мерцающей сетью, и лес дышал, точно живой, откликаясь на их касания. Заметив Гледлид, девушка сомкнула ладони, и узор растаял в воздухе.
– Знаю, зачем ты пришла, – сказала она.
Навья протянула ей корзину свежесобранных черешен:
– Вот... Это тебе.
– Благодарю за угощение, – засмеялась девушка. – Меня зовут Любуша.
– Гледлид, – представилась навья.
– Идём. – Любуша взяла её за руку и повела в пещеру.
Чертог золотистого света, порог которого Гледлид в прошлый раз не решилась переступить, оказался намного просторнее, чем казалось снаружи. Из расселины в стене бил родник, наполняя водой природное углубление. С потолка свисали каменные выросты, мерцая вкраплениями самоцветов, а золотое сияние шло как бы ниоткуда, пронизывая пространство пещеры струнами лучей.
– Это воды священной реки Тишь... В ней растворён свет Лалады. – Любуша зачерпнула пригоршню воды из каменной купели и вылила обратно, и капли, падая с её пальцев, сверкали золотыми искрами. – Знаю, есть у тебя ладушка-зазнобушка. Ты можешь назвать её женой и обвенчаться с нею по нашему обряду, потому что в тебе Лаладин свет уже поселился. Случилось это в тот миг, когда камень волшебный твоих глаз коснулся... Великая сила в нём заключена – сила обеих богинь-сестёр. Когда-то камень этот был сердцем... Сердцем, что познало великую любовь.
Золотой свет отражался в глазах девушки, наполняя их тёплым сиянием сродни тому, которое Гледлид видела у Берёзки.
– Сними одёжу и окунись в воды Тиши, навья. Да наполнится и твоё сердце любовью и светом.
Гледлид повиновалась. Вода оказалась тёплой, даже горячей, и в груди у навьи разлилось жжение. Дыхание стеснилось, но Любуша надавила ей на макушку, заставляя окунуться с головой. Вынырнув, Гледлид втянула воздух в лёгкие, и он хлынул внутрь, точно сладкое хмельное зелье. Искорки радости озаряли душу, вмиг опьяневшую от прилива какой-то небывалой, неземной благодати...
– Мать Лалада, прими в круг свой дочь новую, – прозвенел голос девушки, отдаваясь под сводами пещеры хрустальным эхом. – Проведи её тропой любви к чертогу своему...
Она коснулась губами мокрого лба навьи и выпустила её на берег. Поддерживая её под руку – Гледлид шатало, – служительница Лалады вывела её на колокольчиковую полянку, где навья и провалилась в объятия необоримой, сладкой, склеивающей веки истомы.
Пробудилась Гледлид, как ни странно, в собственном саду, под черешневым деревом. Полная отголосков золотого света, она смотрела на догорающий закат, после чего провела тихую, счастливую бессонную ночь. Но бессонница эта не изнуряла, не отнимала сил, и утром Гледлид чувствовала себя такой свежей, словно крепко проспала много часов подряд.
Работа над словарём пословиц и сборником сказок ещё шла, а историй собственного сочинения у Гледлид набралось уже сотни три. С одобрения Огнеславы она сдала их в набор: в дополнение к прочим мастерским в Заряславле открылся Печатный двор. Местные мастерицы освоили привезённый навиями станок и способ изготовления высококачественной бумаги, и выпуск книг нового вида уже начался. Гледлид теперь участвовала и в работе заряславской печатни: она входила в Книжный совет, решавший, какие труды будут выпущены в свет. Закончив дневные дела, навья заглянула в усадьбу княжны.
Сбор урожая черешни шёл вовсю. Кормилица Бранка поднимала малышку Светолику повыше, чтоб та могла достать до самых спелых, налитых солнечным светом плодов, а Берёзка сидела в тени деревьев возле полной корзины. Время от времени она клала в рот черешенку и сплёвывала косточку. Она показалась Гледлид задумчивой и грустной: солнце тяжёлым золотом повисло на её опущенных ресницах.
– Здравствуй, родная, – шепнула Гледлид, присаживаясь рядом и щекоча дыханием её щёку.
Берёзка сморгнула грусть, и в её глазах разлился уютный вечерний свет. Она всё ещё носила траурный наряд, лишь сорочка, рукава которой виднелись из-под чёрного летника, стала белой, а вдовий платок она сменила на узорчатую головную накидку.
– Здравствуй, лисёнок. – Ласковый шёпот коснулся уха Гледлид.
О, если бы этот взгляд остался таким же тёплым, когда прозвучат судьбоносные слова, которые навья готовилась произнести!.. Гледлид увлекла Берёзку за собой в проход, и та, ступив на мягкую траву перед домом, с любопытством осмотрелась.
– Это здесь ты теперь живёшь?
– Да, это мой дом, милая. Этот сад я вырастила сама – благодаря твоим урокам. А место оставила, чтоб и ты могла тут хозяйничать и сажать всё, что тебе захочется. Тогда это будет уже наш сад.
Дрогнувшие губы Берёзки не воспротивились поцелую, и Гледлид с острым наслаждением ощутила тёплое кольцо её объятий. Глаза колдуньи были немного ошалевшими, туманными, но больше не отталкивали навью мучительным «не могу» – в них разлилась истома вечернего сада и таяло медовое золото заката, а в смоле зрачков семечками застыли крошечные отражения Гледлид.
– Ты растормошила моё сердце, ворвавшись в него светлым чудом, – сказала навья, опускаясь на колени перед ней и скользя ладонями по очертаниям её тела под одеждой. – Я люблю тебя, Берёзка. И не встану, пока ты не ответишь мне. Ты согласна стать моей женой? Каков будет твой положительный ответ?
Сад задышал, ожил и зазвенел, наполнившись отзвуками смеха Берёзки. Деревья, посаженные Гледлид, шелестели, признавая в хрупкой волшебнице свою хозяйку.
– Неисправимая нахалка... А ежели я скажу «нет»? – Берёзка ловила руки навьи на себе, а та покрывала её пальцы поцелуями.
– Не верю.
Конечно, не могла она ответить «нет», потому что ласково смеющийся сад выдавал её с головой.
– Мордочка ты моя рыжая... Ну всё, всё, встань. Да.
Её ноги оторвались от земли: поднимаясь, Гледлид крепко обхватила её, приподняла и закружила. Когда та соскользнула вниз, обвив плечи навьи жарким кольцом рук, их губы снова встретились.
– Твоя, – прошептала Гледлид между поцелуями. – Обзывай меня, как хочешь, только не выпускай из объятий...
Огнеслава с Зорицей поздравили их с обручением, но оставался ещё один немаловажный вопрос: как воспримут эту новость матушка Милева и Стоян Благутич?
Семейство ложкаря теперь проживало в Белых горах. Дочки стали супругами кошек-оружейниц и выпорхнули из родительского гнезда, а Боско с Драгашем помогали Стояну в мастерской в Гудке, каждый день переносясь туда при помощи колец. Все были в сборе, когда Гледлид следом за Берёзкой переступила порог дома, миновав молодой сад с черешневыми деревьями и малинником. Некогда рыжий ложкарь был теперь сед как лунь, хоть и весьма поправил здоровье на Белогорской земле, а его супруга Милева раздобрела и округлилась.
– Матушка, батюшка, это Гледлид, я о ней вам рассказывала, – представила Берёзка навью. – Она предложила мне стать её супругой, и я ответила согласием. Сестрица Огнеслава нас благословила, девы Лалады тоже дают разрешение.
– Ну, а от нас ты чего хочешь? – сурово хмуря седые брови, спросил Стоян.
– Как – чего? – Берёзка переводила растерянный взгляд с ложкаря на его супругу, которая тоже радостью не сияла. – Вы ведь мне как родители... Как же без вашего благословения?
– Вот что я скажу, голубка, – молвил Стоян. – Ты ещё молодая, любви тебе хочется – это, конечно, понятно... Навеки во вдовстве запирать тебя было бы несправедливо. Только ежели б ты хотя бы с кошкой свою судьбу решила связать, мы бы даже слова супротив не сказали. Но навья... Ты уж прости, доченька, но в таком случае благословения не жди.
– Матушка Милева! – дрожащим от огорчения голосом обратилась Берёзка к супруге ложкаря. – Ну, а ты?..
– А что я? Я – как отец, такого же мнения, – ответила та, поджимая губы и бросая на навью колкий, недружелюбный взор. – Ты забыла, что было в Гудке? Запамятовала, какую цену мы заплатили, чтоб его отстоять?
– Матушка, батюшка, я ничего не забыла, только Гледлид-то тут при чём? – воскликнула Берёзка. – Она ведь даже не воевала. И никого пальцем не тронула. В чём она виновата? Родная, – повернулась она к навье, – мне надобно с батюшкой и матушкой с глазу на глаз словом перемолвиться. Сходи-ка ты в сад, прогуляйся, черешенками угостись...
– Как скажешь, – проронила Гледлид, чувствуя нарастающую тяжесть досады.
Она вышла в сад, но не стала притрагиваться к ягодам, которые там спели. Берёзка чуть не плакала, и сердце навьи переворачивалось. Она пришла сюда лишь потому, что Берёзка дорожила этими людьми, а в целом её не слишком волновало их мнение о ней. Всем мил не будешь. Если Ратибора и малышка Светолика были в её сознании неотделимы от Берёзки, и она даже не помышляла о том, чтобы взять её без детей, то родители первого мужа её избранницы не стояли для неё на первом месте.
Вскоре Берёзка показалась на крыльце – бледная, с залитым слезами лицом. Пошатываясь, она спустилась по ступенькам и, ничего не видя вокруг себя, чуть не прошла мимо Гледлид. Перехватив любимую на тропинке, та нежно заключила её в объятия и вытерла ей мокрые щёки.
– Кажется, матушка с батюшкой не очень-то жалуют нас? – усмехнулась она. – И виновата я лишь в том, что я навья...
– У них есть причина держать кровную обиду на твой народ, – всхлипнула Берёзка. – Первуша, их сын и муж мой первый, от навьей стрелы погиб... В столп ледяной обратился да так и растаял...
– И что же теперь? – Гледлид бережно кутала её в свои объятия и прижимала к себе. Вернуть улыбку на любимые уста – вот всё, чего она хотела, но не знала, как.
– Лисёночек, рыжик мой пушистенький, ну кому ж придёт в голову винить тебя в том, что сделали твои соотечественники? – Берёзка зябко ёжилась и дрожала, хотя день стоял тёплый. – У матушки с батюшкой просто предубеждение...
И она горестно всхлипнула, содрогнувшись всем телом. Навья нахмурилась, стиснув её ещё крепче и покрывая быстрыми лёгкими поцелуями всё её лицо.
– Ну-ну... Любовь моя, лада моя сладкая! Не расстраивайся. Что поделать? Обойдёмся без их благословения.
– Пушистик мой, не могу я так! – заплакала Берёзка, роняя голову на плечо Гледлид. – Они же мне родными стали... Сирота я, а они мне родителей заменили, когда я в их семью вошла. Они сказали, коли я твоей женой стану, они со мной больше разговаривать не будут... Что же нам делать теперь?
Она была так расстроена, так убита горем, что за обедом ей кусок в горло не лез, да и у Гледлид, сидевшей за столом рядом с нею, душу будто тучи затянули. Огнеслава спросила озабоченно:
– Берёзонька, что стряслось? На тебе лица нет!
– Матушка с батюшкой против нашей с Гледлид свадьбы, – севшим, бесцветным голосом проронила Берёзка. В её потускневшем, сумрачном взоре мерцала искорка слезы.
– Я поговорю с ними, родная, не тужи, – пообещала княжна. – Но не забывай, что ты вольна поступать по-своему: ты уже не дитя, да и Стоян с Милевой тебе не кровные родители. Но ссориться с ними нехорошо, я согласна. Попробую их убедить.
– Ох, сестрица Огнеслава, не знаю, послушают ли они тебя, – чуть слышно вздохнула Берёзка. – Они из-за Первуши на всех навиев крепко обижены...
На следующий день она слегла с хворью: подскочил жар, горло осипло и все кости в теле ломило.
– Да воды холодной, должно быть, выпила, – морщилась она, но ясно было, что болезнь сия – от огорчения.
Зорица хлопотала над нею: давала пить воду из Тиши и кормила тихорощенским мёдом, а Гледлид молча стискивала зубы, чтобы не зарычать на кого-нибудь. Она была готова душу из Стояна с Милевой вытрясти за Берёзку, но это, само собой, только усугубило бы и без того плохие дела. А тут ещё маленькая Светолика принялась вредничать – не хотела засыпать, а Берёзка, как назло, лежала пластом. Она со стоном всё же начала подниматься, чтоб заняться дочкой, и уже спустила одну ногу с постели, но Гледлид сказала:
– Не беспокойся, милая. Я сама её уложу.
У кормилицы Бранки недавно родилась вторая дочка, и теперь по вечерам она была занята. Светолика бегала по комнатам с визгом, а Рада с Ратиборой пытались её поймать, но водворить в постель не очень-то спешили: похоже, всем троим было весело. Увидев на столе большое блюдо с черешней, маленькая непоседа запрыгала рядом и потянулась к нему, а потом начала карабкаться на лавку, чтоб оттуда залезть на стол и таким образом добраться до желанных ягод.
– Это что за беготня? – сказала Гледлид, подхватив Светолику на руки. Она подцепила пальцем черешенки-близнецы на сросшихся ножках и подразнила ими малышку. – Кушать уже поздно, спать надобно. Вас это тоже касается, – строго добавила она расшалившимся старшим девочкам. – Устроили тут тарарам на сон грядущий... А между тем Берёзка лежит хворая. Не стыдно вам так себя вести?
Лица у обеих девочек-кошек сразу уныло вытянулись, и они, пристыжённые, побрели в опочивальню. Всё же позволив Светолике съесть несколько черешен, Гледлид отнесла её в постель. Убаюкивать детей мурлыканьем, как кошки, навья не умела, у неё был свой приём – завораживающий взгляд оборотня, от которого люди цепенели. Его она применила лишь совсем чуть-чуть, на несколько мгновений, чтоб не доводить малышку до испуга и полного обмирания. Светолика сразу стала тихой и задумчивой – из-под одеяла выглядывал только её нос и большие, неподвижно уставившиеся на Гледлид глаза.
– Вот, так-то лучше, – усмехнулась навья. – Слушай-ка, что я тебе расскажу. Жила-была девочка, которая очень любила черешню...
Она смолкла: Светолика уже посапывала, сомкнув пушистые ресницы.
– Это самая короткая сказка, которую мне только доводилось придумывать, – хмыкнула навья себе под нос.
Возвращаясь к Берёзке, она ещё за дверью слышала её кашель и сиплые всхлипы. Ей пришлось потратить несколько мгновений, чтобы унять жаркую волну негодования и войти к своей любимой волшебнице с мягким, ласковым выражением на лице. Семейство ложкаря сейчас, небось, преспокойно лопало блины да пироги, пока Берёзка тут изводилась; им и невдомёк было, до чего они её довели... Но какое право Гледлид имела высказывать им всё это? Для них она была просто навья – а значит, враг.
– Не убивайся ты так, – утешала Берёзку Зорица. – Успокоятся со временем, привыкнут – никуда не денутся...
– Я уж и сама не рада... – Берёзка промокнула платочком нос и покрасневшие глаза. – Гледлид долго этого ждала, но нужно ли это мне такой ценой?
Навья застыла в дверях. Мертвящая горечь разливалась в груди, сердце подёргивалось налётом инея, а все слова разбивались вдребезги, не достигая языка. Их с Берёзкой взгляды встретились... Та поняла, что навья всё слышала, закрыла лицо руками и затряслась в рыданиях и кашле.
Зорица догнала Гледлид уже на крыльце. Её мягкие руки легли на плечи навьи, своей тёплой белогорской силой заставляя её медлить.
– Ну куда ты?.. Неужто ты не видишь, что её душа в клочья рвётся?
– Они – её семья, – сказала навья глухо, поворачиваясь к ней. – А я – никто. Мне дорог её покой. И я не хочу, чтобы она приносила жертвы, с неё и так хватило в жизни потерь.
– Ты глупая совсем, да? – Зорица возмущённо засверкала ясными незабудковыми глазами и толкнула Гледлид в плечо. – Иди к ней сейчас же! Обними и не отпускай... Это самое правильное, что ты сейчас можешь сделать!
Гледлид спустилась ещё на два шага по ступенькам крыльца, но родной голос в её голове позвал: «Лисёнок...» – совсем как в ту осеннюю ночь. Мучительно зажмурившись, она постояла немного, а потом развернулась и устремилась обратно.
Берёзка сидела в постели, тяжело всхлипывая и кашляя. Губы Гледлид были сомкнуты горечью, и она молча прижала к себе хрупкую, измученную волшебницу – просто потому что не могла иначе.
– Пушистенький мой, – хрипло простонала Берёзка.
– Если тебе будет так спокойнее – я уйду, – сказала Гледлид, и её голос звучал бесприютно, мёртво, неузнаваемо. – Ты разрываешься между родными и мной, и я не хочу, чтобы ты теряла из-за меня тех, кем ты дорожишь. Я оставлю тебя в покое, если ты считаешь, что так будет лучше. Одно твоё слово – и меня здесь не будет. Я не могу смотреть, как ты мучаешься...
– Нет... – С протяжным стоном Берёзка обвила руками шею навьи, цепляясь за неё, точно утопающий – за соломинку. – Не уходи... Лисёнок мой...
– Скажи мне только одно: ты меня любишь? – Гледлид, всматриваясь в её заплаканные глаза, стиснула её – жёстко, требовательно, неистово, слишком больно для её хрупких плеч, но ей было важно это знать.
– Радость моя рыжая... Зверь мой родной... – Берёзка вжималась в её объятия так, будто мир вокруг рушился, накрывая их обломками. – Я не могу... Не могу, не могу без тебя!
Это маленькое дополнение – «без тебя» – превращало невыносимое «не могу» в самый сладкий бальзам для сердца навьи.
– Всё... Успокойся, счастье моё... Лада моя бесценная, – хрипло прошептала она, впившись крепким поцелуем в губы Берёзки. – Я с тобой. И всегда буду, ты же помнишь... В стужу и в зной, днём и ночью...
– Солнышко моё золотое... – Пальцы Берёзки бабочками порхали по рыжим волосам навьи, щекотали и нежно мяли ей уши. – Лисёночек мой маленький... Пушистик родной...
Этот исступлённый поток ласк будил в груди Гледлид утробное рычание. Каждое нежное слово с губ любимой волшебницы жгуче ударяло её, точно маленький хлыстик, и навья вздрагивала душой и телом в ответном порыве обнять, окутать собой, слиться в единое целое, прильнуть сердцем к сердцу. Рождённый в сумрачном мире зверь впитывал тёплые сгустки света, урчал и жмурился от счастья. Он боялся шевельнуться, чтоб не стряхнуть с себя объятия тонких, лёгких, ослабленных хворью рук.
– Скажи мне это, – сипло прорычала Гледлид, щекоча носом щёку Берёзки. – Скажи, что любишь...
– Люблю, ушастик мой рыженький, – проворковала та и снова атаковала нежностью острые звериные уши навьи.
Гледлид с урчанием прильнула губами к её горячей от болезненного жара шейке. Она сдерживала мощь своих объятий, чтоб не изломать этот хрупкий цветочек, доверчиво льнувший к её груди.
Огнеслава вернулась уже почти к полуночи: дела задержали. Узнав, что Берёзка захворала, она тут же устремилась к ней. Та уже дремала, сжавшись в пышном сугробе пуховой постели сиротливым комочком, и княжна шёпотом спросила у находившейся рядом Гледлид:
– Когда это началось?
– Сегодня утром, – ответила навья.
Берёзка, услышав голоса сквозь болезненную дрёму, простонала:
– Сестрица... Мне уже лучше, не тревожься...
– Ах ты, солнышко моё ясное, – вздохнула Огнеслава, прильнув губами к её лбу. – Прости, голубка моя. Поздно я сегодня дела закончила, беспокоить семью Стояна уж не стала в такой час. Но ты не думай, что я позабыла! Я обещание своё сдержу, поговорю с ними непременно. Пусть они покуда остынут, подумают. Всё равно на горячую-то голову разговоры толку не приносят, утро вечера мудренее... Худо тебе? Я помогу, милая. Сейчас полегчает.
Княжна накрыла большими ладонями худенькие плечи Берёзки, и её пальцы окутал золотистый свет – точь-в-точь такой, как в той пещере, где Гледлид окуналась в горячие воды Тиши. После этого Берёзка заснула крепко и сладко, ни разу не кашлянув до самого утра.
Хворь её быстро пошла на убыль, и уже наутро она чувствовала себя хорошо, лишь в глазах по-прежнему таилась грусть и тревога. Ещё спустя два дня, расправившись с неотложными делами, Огнеслава побывала в доме у ложкаря и вернулась с вестями.
– Берёзонька, я поговорила со Стояном и Милевой. Они высылают тебе своё благословение, но на свадьбу просят их не ждать.
Глаза Берёзки снова намокли, но она сдержалась при маленькой Светолике, вертевшейся у неё на коленях, и заставила себя улыбнуться – так солнце озаряет сверкающую каплями росы траву.
– Будь что будет, – проговорила она. – Пышного веселья я не хочу устраивать: я уж не юная невеста, которой всё в новинку. Обвенчаемся с Гледлид в святилище Лалады – а больше ничего и не нужно.
– Не забывай, что для твоей избранницы эта свадьба – первая в жизни, – заметила Огнеслава с улыбкой. – Может быть, ты не хочешь праздника, а она хочет?
Солёные капельки набрякли на ресницах Берёзки. Она вскинула виноватый, растерянный и грустный взгляд на Гледлид.
– Прости... Я не спросила, чего хочется тебе.
Её улыбка туманилась осенней усталостью, сквозь которую пробивалась приглушённым лучиком израненная, выстраданная нежность.
– Я просто хочу наконец быть с тобой. – Навья присела рядом и бережно обхватила её за плечи рукой, а чудо в груди нахохлилось пушистым шариком.
– Свадьба ваша – вам и решать, какой она будет, – подытожила Огнеслава. – Но помолвку отметить нужно, таков уж обычай.
Они выбрали для помолвки безмятежный, нежаркий день во второй половине лета, после поминовения предков в Тихой Роще. До этого Берёзка ещё пару раз побывала у Стояна с Милевой – уже без Гледлид.
– Ну, что? – спросила навья. – Всё ещё дуются матушка с батюшкой?
– Да вроде уладилось, не сердятся они и видеть меня не отказываются, – вздохнула Берёзка. – Но на свадьбу идти не хотят всё равно. Ты уж прости, что я всё по-скромному хочу устроить, не лежит моя душа к шумному празднику да пиру с гостями, лишний он будет... Может, ты повеселиться хотела, погулять?
– Да ничего мне не надо, ягодка моя, – усмехнулась Гледлид, чмокая её в нос. – Главное – нас объявят супругами и ты наконец переберёшься ко мне. Дом и сад уж заждались свою прекрасную хозяйку. – И добавила чувственно-бархатным полушёпотом, приблизив губы к уху Берёзки: – А моя холостяцкая одинокая постель – мою сладкую ладу.
Берёзка зарделась, прикрыла пальцами улыбку и махнула рукой, очаровательная в своём смущении, и Гледлид просто не могла не стиснуть её в объятиях и не расцеловать эти порозовевшие щёчки-яблочки.
День был полон мягкого, ровного тепла, а в тени даже тянуло приятной, освежающей прохладой. Перезванивались в лесу птичьи голоса, расстилался под ногами цветочный ковёр, а деревья молчали ласково и внимательно, позолочённые светлым, солнечным торжеством. По озарённой лучами тропинке к пещере Берёзка шла в белой опоясанной сорочке и красно-золотом платке: белый полагался бы, когда б у невесты это была первая свадьба и прощание с девичеством. Белогорский нарядный кафтан сидел на Гледлид превосходно, равно как и тугие сапоги с кисточками – ни дать ни взять женщина-кошка, если б не пронзительно-прохладные, волчьи глаза. Стянутые пучком волосы были сверху донизу перевиты жемчужной нитью; вискам и затылку она позволяла немного обрастать только зимой, а с весны по осень поддерживала их гладкость.
Любуша уже поджидала их в пещере. Велев им умыться водой из источника, она звонко и торжественно проговорила:
– Мать наша Лалада, благословляешь ли ты сих наречённых светом своим?
Стоя на коленях на твёрдом каменном полу пещеры, Гледлид с внутренним трепетом ждала... Какой знак должен был возвестить о том, что брак их возможен? А если всё-таки ничего не выйдет? Рука Берёзки ободряюще сжимала её пальцы.
– Всё хорошо... Ты здесь дома, лисёнок.
Золотой свет начал сгущаться в облачко, которое спустилось из-под потолка и зависло перед их лицами. Снова Гледлид ощутила пьянящий жар благодати в груди, от которого хотелось и плакать, и мчаться куда-то, и смеяться... Синим колокольчиком прозвенел голос Любуши:
– Свет Лалады снизошёл на вас! Быть вашему союзу благословлённым! Ступайте и радостно ждите дня вашей свадьбы.
Отблеск золотого света сиял в глазах Берёзки, милой и скромной, и сердце Гледлид сжималось от звенящей нежности, стучало и пело: «Любимая... Любимая!» Схватив возлюбленную в объятия, навья закружила её на руках, а та рассыпалась тёплыми искорками смеха. Так они и вышли из пещеры навстречу Огнеславе с Зорицей и трём девочкам-кошкам, которые провожали их к святилищу в этот важный и радостный день. Княжна с супругой переглянулись и улыбнулись друг другу, а к Берёзке прильнули с обеих сторон Ратибора и Светолика. Малышка протягивала своей матушке венок из лесных цветов. Глаза невесты засверкали хрустальными капельками, но на сей раз – от счастья.
На праздничном обеде были только самые близкие. А вечером Гледлид умыкнула Берёзку к себе – в своё «холостяцкое логово», которому вскоре предстояло стать семейным домом. Сад зашелестел, встречая их в тёплых лучах заката. Берёзка юркнула в заросли вишни, и ягодки повисли серёжками у её лица.
– Какая ты нетерпеливая, – засмеялась она, и листва вторила ей шаловливым шёпотом.
– Это я-то?! – вскричала навья, охотясь за нею в вишняке. – Ты смеёшься? Я три года ждала этого дня! И теперь ты никуда не спрячешься, ягодка моя, не отвертишься... М-м, съем тебя! – Это Гледлид проурчала уже в шею Берёзки, развязав платок и прильнув губами к тёплой коже.
Платок остался висеть на вишнёвой ветке, мерцая золотым шитьём, а навья расплетала косы Берёзки, сидевшей на постели. До долгожданного слияния оставалось совсем немного – гулкие, как сердцебиение, наполненные жарким волнением мгновения, и она наслаждалась каждым из них. Волосы окутали Берёзку плащом, и Гледлид пропускала их между пальцами, а губами щекотала скулы и брови любимой.
Даже после родов фигура Берёзки не приобрела сдобную пышность – Гледлид покрывала поцелуями торчащие ключицы с ямками и худенькие плечи с явно проступающими очертаниями суставов.
– Так, чтоб к свадьбе отъелась! – велела она.
– Я что тебе – поросёнок, чтоб меня откармливать? – выгнула бровь Берёзка, а глаза так и горели озорным огнём. – Ты меня после свадьбы слопать собралась?
– Дерзишь, милая, – рыкнула Гледлид, пресекая дальнейшие разговоры поцелуем.
Она набросилась на Берёзку с жадностью голодного зверя. Она и впрямь изголодалась и теперь хмелела от вседозволенности и свободы, а её любимая волшебница жалобно пищала от чересчур пылкого напора.
– Осторожнее, лисёнок, куда ты так спешишь?..
Гледлид повиновалась. Ей хотелось увидеть в глазах Берёзки блаженство, и если для этого требовалось утонуть в тягучих, медленных и основательных ласках на добрую половину ночи – она была готова. В её распоряжении имелись только губы и пальцы, а вот у Берёзки нашлись помощники – живые ползучие узоры волшбы, которые опутывали Гледлид и сладко щекотали – словно сотни маленьких, но горячих поцелуев танцевали по телу.
– М-м... Ягодка, ты волшебница во всём, – мурлыкнула навья.
Она ловила эти завитки пальцами, и они пели, точно струны, а Берёзка откликалась чувственными вздохами. Из её груди вырвался золотой сгусток света и по мановению руки начал вытягиваться, удлиняться. Поняв, к какой форме он стремится, Гледлид не сдержала урчащего смешка.
– Кажется, я догадываюсь, к чему ты клонишь, черешенка моя...
Это было ей знакомо: точно так же у себя на родине они использовали хмарь. И ощущения этот сияющий жгут передавал не хуже: на собственное наслаждение навьи накладывался отклик Берёзки, и слияние становилось вдвое слаще и жарче. Эта перемычка соединяла не только тела, но и сплавляла воедино души и сердца – в бесконечной, исступлённой ненасытности друг другом. Из глаз Берёзки катились слёзы, и навья вздрогнула.
– Лада! – Она оценила и краткость, и нежность этого слова – в самый раз для таких мгновений. – Ну что ты...
Но сквозь пелену слёз Берёзка улыбалась. Она обвила шею Гледлид тесным кольцом рук, и в сияющую точку чистого блаженства они влетели одновременно и в поцелуе.
– Моя... Ты моя, – как в полусне бормотала Гледлид, блуждая губами по вздымавшейся груди Берёзки, которая отдыхала в её объятиях. – Люблю тебя... Радость моя... Весна моя...
– Лисёнок мой, – светлым звоном берёзовых серёжек коснулся её сердца ответ.
– Лисёнка хочешь? – приподнялась Гледлид, вскидывая бровь и один уголок губ. – Ну держи...
Кувырок – и постель прогнулась под тяжестью рыжего зверя. Руки Берёзки зарылись в его мех, вороша и почёсывая, а он ткнулся носом ей в колени, прося впустить его. Берёзка ахнула от влажной ласки сильного широкого языка и, нащупав мохнатую морду, запустила пальцы за уши.
– Пушистик мой тёплый... Комочек родной... Мордочка ушастенькая, – шептала она.
Она была неустанна в изобретении прозвищ, одно уменьшительнее другого – это ему-то, огромному зверюге, который еле помещался вместе с нею в постели! Гледлид не умела смеяться в животном облике – только фыркала, запуская язык во все нежные местечки. Она добилась того, чего хотела – блаженства в любимых глазах.
Она свернулась в пушистое ложе-кольцо, и Берёзка раскинулась на нём, тоненькая и лёгкая, восхитительно нагая, с разметавшимися прядями волос. Звёзды в темнеющем небе смотрелись в чистое зеркало реки, вишнёвые ветви в саду клонились к земле, а ягодки так и просили сорвать их. Завтра, всё будет завтра. Берёзка проснётся, наберёт полную корзинку и отнесёт своим дочкам. С мыслями об этом светлом, радостном завтрашнем дне Гледлид и уснула, наслаждаясь ощущением почти невесомого тела любимой на себе.
Осенью вышла из печати её книга, «Сказки на ночь» – те самые, которые она придумывала и рассказывала девочкам-кошкам. Берёзка подарила по экземпляру дочкам Стояна и Милевы – Влунке с Доброхвой: у них с супругами уже были на подходе первые детки. Продолжая работать над «Сказаниями земли Белогорской, Воронецкой и Светлореченской», а также над словарём пословиц, на досуге Гледлид переводила свои старые стихи, написанные ещё в Нави. Когда они создавались, навье ещё даже не снилась её любимая кудесница, но теперь ей казалось, что эти строчки будто для Берёзки и были написаны. А если её милый облик недостаточно в них проступал, Гледлид прописывала его явственнее при переводе.
В ту же осеннюю пору тихим хороводом листопада прошелестела их свадьба – скромная и почти неприметная, но им и не нужны были пышные торжества. Супругами их объявили девы Лалады из общины Дом-дерева при Тихой Роще. Гуляя между чудо-соснами, Берёзка с Гледлид делились своим счастьем с этим царством покоя и вечного земляничного лета. Для Берёзки это счастье стало полным, когда у Восточного Ключа к ним подошли Стоян с Милевой, Боско и Драгашем.
– Главное для нас – твоё счастье, доченька, – сказала матушка Милева. – Мы тут с отцом тебе кое-какие подарки принесли...
Она вручила Берёзке целое приданое: вышитые полотенца, наволочки, платочки, сорочки – всего по дюжине. А ещё Стоян сделал для неё новую прялку и набор великолепной расписной посуды, которая так и сияла жаром осеннего золота и рдела брызгами рябиновых гроздей.
– Благодарю, матушка, благодарю, батюшка, – растроганно всхлипнула Берёзка, обнимая родных по очереди. – Я рада, что вы всё-таки пришли.
Видение Гледлид сбылось: земля вздохнула весенним ветром, оделась дымкой листвы и вспенилась кружевом цветения, и Берёзка вышла на крыльцо с начатой волшебной вышивкой. Подложив на ступеньку подушечку, она присела и принялась проворно класть стежок за стежком, время от времени вскидывая улыбающийся взгляд на играющих под деревьями детей. Подросшая Ратибора таскала младшую Светолику на закорках, катая её по усыпанным лепестками дорожкам.
По окончании дневной работы Гледлид вернулась домой. Пройдя по озарённому закатом саду, она вошла в дом и потянула носом: пахло вкусно, вот только любимая супруга отчего-то не встречала её... Поднявшись наверх, в светлицу, навья с улыбкой остановилась в дверях. Берёзка задремала за рукодельным столиком, склонив голову на почти готовую подушечку, которую она вышивала для подношения Миле – покровительнице матерей: у Огнеславы с Зорицей ожидалось пополнение в семье. Бесшумными шагами приблизившись к столику, Гледлид склонилась и поцеловала жену в тёплую щёку.
Тихий вздох – и Берёзка открыла заспанные глаза. Гледлид поцелуями помогала им проснуться окончательно, а супруга потянулась к ней губами. Навья нежно прильнула к ним.
– Здравствуй, моя радость... – Руки Берёзки скользнули по плечам Гледлид, обнимая. – Сморило меня что-то... Ужинать будешь?
– А как же, – усмехнулась навья. – Хм, как-то тихо дома... А дети где?
– Они к сестрице Огнеславе с Зорицей в гости с ночёвкой отправились, будут только завтра. – Берёзка, игриво прикусив губу, прошагала пальцами по плечу Гледлид и двинула бровью.
Та поняла намёк и с лукавым смешком чмокнула её в эту бровь. То-то Берёзка сегодня такая красивая: алые бусы, серёжки, очелье жемчужное, румянец на щеках, а глаза – ярче звёзд и самых дорогих самоцветов. Шелестели новые юные деревца, посаженные ею – две груши и три черешни, а два берега реки соединял мост – от сада к саду, от семьи к семье, от мира к миру. Ночью дом мягко сиял молочно-лунным светом, напоминая Гледлид о родине, а её новый сборник стихов, «Тропой любви», готовился этим летом выйти из печати. Каждая строчка в нём жила и дышала ею – милой кудесницей, теплом её чудотворных рук и чарами задумчивых глаз, и не было в нём ни одного стихотворения, в котором не проступал бы сияющий узор волшбы, вышедший из светлых глубин её сердца.
Всегда с тобой
Уйти хочу весною светлою:
На грудь мне лягут лепестки.
Ты прошепчи слова заветные
И помни их в часы тоски.
Споют мне песню погребальную
В дурман одетые сады.
А ивы тихую, прощальную
Слезу обронят у воды.
Ты не горюй: я верю, встретимся
В чертоге света и любви.
Зовут меня ступеньки лестницы...
За мной – не надо. Ты – живи...
Голос Дарёны, отзвенев последними хрустально-грустными, чистыми нотками, смолк, а гибкие пальцы простёрлись на струнах, и те тоже замерли. Зимний День Поминовения, тихий и торжественно-снежный, ласково обнимал землю белым покоем, уютно трещал огонь в печи, отражаясь в глазах Жданы печальными искрами. В горнице собралось всё большое и дружное семейство Твердяны: Горана – во главе стола, по левую руку от неё – её жена Рагна, в величавой дородности стана догнавшая незабвенную матушку Крылинку, далее – Светозара и Шумилка с супругами и дочерьми, сразу за ними – юная кошка Воля и её сестрица-близнец Горлица – дева, недавно вошедшая в круг белогорских невест. По правую руку сидели почётные гостьи – Ждана с Лесиярой, княжна Огнеслава со своей семьёй и княжна Любима со Звенимирой. Их дочурка, ещё слишком маленькая для походов в гости, осталась дома с няньками.
Была за столом и Млада, оставившая службу и посвятившая себя семье и хозяйству. Выстроив дом неподалёку от родительского, она переселила туда Дарёну с дочерьми, где они и зажили – вроде бы и отдельно, но в то же время в двух шагах от родичей. Горана одобрила решение сестры: старшие дети подросли, рождались младшие, семья разрасталась – тесно стало в возведённом Твердяной добротном доме. В чёрных кудрях Млады сверкали седые пряди – словно зима дохнула ещё не старой женщине-кошке в виски, густо высеребрив их. Но то не зима – то война свой след оставила. Мерцали холодными сапфирами её глаза из-под мрачных, тяжеловатых бровей, и казалась она замкнутой и нелюдимой даже в кругу семьи. Она и прежде словоохотливостью не отличалась, а теперь стала совсем молчуньей. Впрочем, жить с Дарёной в ладу и любви ей это не мешало, и живым свидетельством тому были их дети. Молодая кошка Зарянка – невысокая и коренастая, голубоглазой чёрной мастью уродившаяся в Младу, слушая песню, вращала перед собою на столе кружку с пенистым мёдом, а её сестра Незабудка, скромно потупив глаза, теребила бирюзовое украшение на тёмно-русой косе. Внешность свою, кроме голубых глаз, она унаследовала от Дарёны, а в этом году ей предстояло впервые выйти на гуляния, посвящённые Лаладиному дню. Зарянка молча завидовала младшей сестре: её-то собственный, кошачий брачный возраст был ещё далеко. А к Дарёне подбежала Боровинка – двухлетняя кошечка; портков ей ещё не полагалось, и она носила длинную рубашонку, шерстяные чулочки и валяные чуни. Мало малышка поняла из песни, лишь сердечком почуяла смутную тоску. Её незабудковые глаза наполнились слезами, и она уткнулась Дарёне в колени, обхватив их ручками.
– Ну-ну, дитятко моё... Ты чего? – Дарёна подняла её личико и с улыбкой заглянула в него.
Их с Младой четвёртая дочка была на подходе: под высоко повязанным передником у кареглазой певицы проступали округлые очертания живота. Покрытая бисерным повойником и перехваченная лентой платка голова Дарёны цветком клонилась на изящной шее, сзади её отягощал пышный узел из шелковистых кос в жемчужной сеточке, а приоткрытые мочки ушей оттягивали длинные янтарные серьги. По людским и женским меркам она вошла в зрелые годы, но любовный дар супруги-кошки – Лаладина сила – не давал морщинкам коснуться её лица, а седине пробраться в переплетённые под сетчатым волосником тёмные пряди. Она не раздалась чрезмерно вширь, как Рагна, но на смену девичьей тонкости в её фигуре пришла мягкая, наливная женственность. Округло, певуче двигались её руки над гуслями, с лебединым вдохновением тянулась в песне шея, обвитая двумя рядами янтарных бус... Задерживаясь на ней, взгляд Млады согревался, из морозно-сапфирового становясь летне-незабудковым.
– Ну, чего ты разнюнилась-то? – Усадив Боровинку на лавку рядом с собой, Дарёна поднесла ей ложку: – Давай-ка лучше кутьи с тобой покушаем, м?
Сладкая поминальная каша отвлекла и утешила малышку, и та зачмокала над заботливо подносимой ложкой, пока ещё великоватой для её ротика. Вцепившись в деревянную ручку, Боровинка заявила:
– Сяма!
– Ну, сама так сама, – засмеялась Дарёна, отдавая дочке ложку, но внимательно приглядывая за ней. – Ох, сейчас перемажешься кашей до ушей...
Вздох прошелестел ветерком по горнице: это Ждана уронила руку, которою подпирала щёку. Тлели отголоски песни в её зрачках тревожными угольками.
– Откуда столько тоски, доченька? – проговорила она. – Как у тебя только сложилось такое?
– Не знаю, матушка, само как-то вышло, – ответила Дарёна, держа сложенную горстью руку под ложкой, дабы Боровинка не уронила кашу себе на колени. – Что ты встревожилась, родная? Не обо мне ведь песня сия... Песни, что я слагаю, кто угодно петь может – всякий, кому слова на душу лягут, кто себя в них увидит.
– И всё равно рано тебе ещё такое петь, – хмурясь, молвила Ждана.
– Прости, что опечалила тебя, матушка, – отозвалась Дарёна кротко, вытирая краем передника измазанные кашей щёчки дочери. – Сегодня же День Поминовения... Я думала, что к месту моя песня будет.
Почти беззвучно шевельнулись губы княгини Лесияры, и не долетели её слова до слуха супруги – полуслова, полумысли.
– Кому рано петь... А кому – самая пора, – проронила седовласая белогорская правительница.
Роковым пророчеством прозвучала эта песня. Спустя годы аукнулся удар, что нанёс княгине одержимый Вуком Радятко: сердце Лесияры, задетое оружейной волшбой, время от времени отзывалось короткой болью, но правительница женщин-кошек не хотела тревожить этим супругу и молчала. Лишь изредка искажалось её лицо судорогой, когда в груди острой молнией вспыхивал отголосок той раны; Лесияра старалась не показывать этого Ждане, отворачиваясь, если это происходило при ней, и уже в следующий миг овладевала собой. Но она чувствовала: сердце отбивало последние удары.
Случилось это весной, последовавшей за тем самым Днём Поминовения. Отгуляла, отшумела Лаладина седмица, отплясала круговерть венков и лент, кому-то принеся судьбоносную встречу, а кого-то оставив ни с чем – ждать новых гуляний. Пышным цветом распустился княжеский сад, усыпая вешним снегом лепестков тенистые дорожки, и сладкий яблоневый хмель пропитывал воздух днём и ночью. Лесияра с Жданой прогуливались, любуясь душистым нарядом деревьев.
– Смотри-ка, лада. – И Ждана кивнула в сторону открытого окна, из которого им махала Златослава.
Их с княгиней дочка ещё не вошла в пору для поисков суженой, но на весенние гуляния всё равно рвалась – хотя бы посмотреть. Скучно ей было рукодельничать с горничными девушками в светёлке... От Жданы она взяла янтарно-карие глаза, а от родительницы-кошки – пшенично-русые волосы, нрава же была весёлого и озорного; не успела начальница дворцовой стражи Яромира отдохнуть от проказ княжны Любимы, как подоспела достойная смена. Сейчас Златослава уже подросла и не баловалась – строила из себя невесту.
Вскинув глаза к окошку, Лесияра улыбнулась младшей дочке. Стремясь наверстать время, упущенное со старшими, княгиня старалась как можно больше бывать с нею; она всё чаще перекладывала часть дел на советниц, чтобы освободить несколько часов в день для семьи. Мысль о том, что это – её последние годы, Лесияра старалась не облекать в слова даже в своей голове, но прощальная, щемящая нежность то и дело подкатывала к сердцу вечерами у дочкиной постели. Последние глотки жизни – самые большие, самые жадные и ненасытные...
Светлый весенний день рассёк жестокий клинок боли. Ясное небо, усеянная лепестками дорожка, цветник, белоснежная крона яблони – всё раскололось пополам, а солнце раскалённым шаром обрушилось на голову. Побледнев и ухватившись за плечо Жданы, Лесияра прохрипела:
– Ладушка... Отведи-ка меня к той лавочке.
– Что с тобой? – В медовой глубине очей супруги всплеснулся испуг, она с отчаянной силой обхватила княгиню за талию, стараясь не дать ей упасть.
Каким-то чудом Лесияра продержалась прямо и не пошатнулась на глазах у дочери. Каждый шаг отдавался в груди гулким грохотом, боль вонзалась в рёбра, наносила удар за ударом, но княгиня стойко, без единого звука сносила всё – только с лица сбегала краска. Лишь когда окошко светёлки скрылось из виду, она с хрипом рухнула на скамеечку под яблоней и откинулась затылком на ствол.
– Ладушка... Ждана... Позови кого-нибудь из Старших Сестёр, – прошелестели её мертвенно посеревшие губы. – И пусть вызовут Огнеславу из Заряславля... Мне надо отдать распоряжения...
Несколько советниц, по счастью, находились во дворце. Когда они обступили государыню, у той на лице уже не было ни кровинки, закрытые глаза ввалились, черты разом заострились и осунулись. «Всё», – тихо шептала яблоня, роняя лепестки ей на плечи... «Всё кончено», – вторил ей ветерок, с грустной лаской перебирая серебряные пряди волос княгини, но Ждана цеплялась за клочок надежды. Она не хотела верить ни яблоне, ни ветру.
– Что с тобою, госпожа? – спрашивали Сёстры.
Прижатая к груди рука Лесияры красноречиво указывала на очаг, в котором затаилась смертельная беда. Кошкам удалось снять боль светом Лалады, но ослабевшая княгиня не могла подняться, и её на руках перенесли в опочивальню. Ждана неотступно следовала за ними, а когда супругу уложили, присела рядом и сжала её похолодевшую руку.
– Лада... Лада моя, всё будет хорошо, – шептала она, не веря самой себе. – Сила Лалады тебя исцелит!..
– Лалада зовёт меня к себе, любовь моя, – шевельнула Лесияра бескровными губами. Её взор из-под полуприкрытых век мерцал усталой нежностью.
– Нет, – глухо от вмиг сдавившего горло кома сказала Ждана. – Нет, даже не думай! Не смей! Как же я останусь без тебя? Как же Златослава?
Веки Лесияры затрепетали, глаза начали закатываться, из горла вырвался хрип.
– У государыни сердце останавливается! – воскликнула Мечислава. – Расступитесь!
Её широкие, привычные к оружию ладони легли на грудь Лесияры и впустили внутрь сгусток золотистого света. Главная военная советница княгини была ещё и лучшей целительницей – после своей госпожи, конечно; именно она голыми руками обезвреживала оружейную волшбу, что впилась в сердце белогорской владычицы. На пальцах отважной военачальницы даже остались шрамы в память о той жуткой и переломной для хода всей войны ночи.
Свет Лалады помог – Лесияра вновь задышала ровно, но её веки оставались измученно сомкнутыми.
– Лада, лада моя, – только и могла шептать помертвевшая Ждана, прижимая к губам руку супруги. – Прошу тебя, молю тебя, выкарабкайся... Останься... Ты нужна мне... Нужна нам всем!
Лечения Мечиславы хватило ровно настолько, чтобы Лесияра смогла дождаться прихода княжны-наследницы.
– Матушка! – Огнеслава склонилась над княгиней, нежно касаясь шершавыми руками кузнеца лица родительницы. – Держись... Сейчас я помогу тебе.
Новый сгусток света – и Лесияра открыла глаза. Взгляд её стал совсем далёким, он будто видел за плечом дочери незримый чертог, в котором царила бесконечная любовь.
– Дитя моё, – до неузнаваемости тихо проронила она, накрывая руку княжны своею. – Ты наследница белогорского престола, тебе и править дальше нашей землёй... В Заряславле ты до сих пор управляла мудро и хорошо – верю, что и Белые горы целиком тебе можно доверить. Все наставления я написала подробно, свиток тебе даст письмоводительница моя, Липаня.
– Государыня матушка, погоди с жизнью прощаться! – Светло-русая оружейницкая коса Огнеславы соскользнула с её плеча, упав на грудь родительницы, и княжна взволнованно откинула её себе за спину. – Ты ещё и сама править сможешь! Мы поставим тебя на ноги, вот увидишь...
– Полно, дитятко, – устало улыбнулась Лесияра. – Ты и сама видишь, что всё уж... Отбегали мои ноги своё, отгуляли. На покой пора.
Смолкла Огнеслава, посуровев лицом и сжав губы, а Ждана в безумной, напряжённой надежде вперила в неё жадный взор: что-то она скажет? Неужели согласится с этим страшным, обречённым «всё уж», неужели сдастся? Только на целительный дар женщин-кошек и уповала Ждана, только они и могли спасти её ладу... Хотя почему только они?
– Как же я сразу не вспомнила! – встрепенулась она, и Огнеслава живо обернулась на её голос. – А «сердце матери»? Чудесный самоцвет обязательно должен помочь!.. Он спас Радимиру, вырвал её из когтей погибели, когда помощи ждать было уж неоткуда... Это единственное средство!
Окрылённая надеждой, она шагнула в проход, а её сердце билось: «Рамут, Рамут!» Навью-целительницу Ждана нашла на крылечке лесного домика – та сидела на ступеньках, пуская дым бакко колечками и задумчиво глядя на Севергу-сосну. С годами на прекрасном волевом лице синеглазой навьи всё более проступало сходство с её воинственной родительницей, особенно в суровых складочках у твёрдо сжатого рта, и лишь взгляд сиял не навьим, но белогорским светом – светом исцеления и любви.
– Рамут, дорогая моя, спаси Лесияру! – без предисловий и приветствий кинулась к ней Ждана. – Только самоцвет... Только сердце твоей матушки способно её спасти!..
Ноги подвели её, подогнувшись, но твёрдые руки навьи не дали ей упасть.
– Погоди, погоди, Ждана... Успокойся, – мягко молвила Рамут, обдав её терпким запахом бакко. – Что стряслось?
– Государыня Лесияра... Её сердце останавливается, – только и смогла выдохнуть Ждана, оседая на ступеньки.
Рамут вытряхнула трубку и спрятала в карман, поднесла Ждане ковшик с водой из источника на полянке. В её движениях не было суеты и бестолковой спешки, только чёткая, спокойная необходимость. Уже давно в этих краях не гремели битвы, но собранность военного лекаря всегда оставалась при навье.
– Вот так, выпей и переведи дух. – Одна её рука поддерживала ковшик, вторая – затылок Жданы. – Я сделаю всё, что в моих силах.
Не тратя более времени на слова, Рамут шагнула в проход, а скованная внезапной слабостью Ждана осталась на полянке. Её затуманенный солёной пеленой взор блуждал по озарённым солнцем сосновым вершинам, пока не остановился на суровом древесном лике, исполненном тихорощенского покоя. Одеревеневшие ноги плохо слушались, суставы не гнулись, но кое-как Ждана доковыляла до сосны и обняла её по-человечески тёплый, живой ствол.
– Северга... Прошу тебя, помоги, – зашептала она, прижимаясь мокрой щекой к коре. – Твоё великое сердце должно сотворить это чудо... Должно спасти мою Лесияру!
Не Лаладе молилась она, не Ветрострую или Светодару... Она молилась Северге, чей покой хранила эта тихая, укромная полянка.
– Ты, смертный воин! – ты сильнее всех богов, – роняла она тёплые слезинки на смолистые морщины, пропитанные лесным солнцем. – С силой твоей неугасимой любви не сравнится любовь всех нас, вместе взятых... Кто ещё поможет, ежели не ты?.. Только на тебя вся моя надежда...
Сосновые ветви ожили и подняли её в воздух, и Ждана увидела древесный лик прямо перед собой. Знакомые глаза-льдинки смотрели пристально, со знакомым стальным холодком Нави и тёплым светом Тихой Рощи одновременно – странное, удивительное сочетание, от которого сердце Жданы рванулось из груди со смесью исступления, восхищения и боли.
– Я люблю тебя, моя княгиня, – проскрипел сосновый голос. – Но твоё место – не здесь. Ты должна быть сейчас с ней, а не со мной.
– Прости, что побеспокоила тебя, – гладя деревянные щёки дрожащими пальцами, улыбнулась Ждана сквозь слёзы. – Прости, что разбудила... Благодарю тебя...
– Не за что меня благодарить, – скрипнула сосна, спуская её наземь. – Ступай.
Проход вернул Ждану в опочивальню княгини. На ходу смахивая слёзы, она шагнула в комнату, где они с супругой провели столько сладких и нежных часов вместе... Тут же солнечная радость встрепенулась в ней и расправила крылья: Лесияра явно чувствовала себя намного бодрее – полулежала в постели, опираясь спиной на подушки, и сама держала голову.
– Самоцвет сей великой силой обладает, – говорила она, по-родительски сердечно сжимая и поглаживая руку сидевшей у постели навьи. – Но, увы, судьбу он изменить не может... Коли жить суждено – и соломинка спасёт, а коли час пробил – и чудо не поможет.
Радость, едва расцветшая, тут же съёжилась, будто схваченный морозом бутон. Ждана шагнула к постели и присела с другой стороны, вглядываясь в сурово-сдержанное, но печальное лицо Рамут. Уловив её напряжённый, вопрошающий взгляд, навья подняла прохладно-синие, чистые, правдивые глаза. На не заданный, но повисший в воздухе вопрос она ответила, горьковато качнув головой.
– Я сделала всё, что могла, – молвила она. – Небольшое улучшение в самочувствии государыни есть, но полного исцеления я не вижу... Сколько это улучшение будет длиться, я не знаю. Ничего не могу предсказать.
– Не оправдывайся и не объясняйся, дорогая Рамут, – сказала Лесияра. – И не трать попусту ни время, ни силы... Мой путь лежит в Тихую Рощу. Думаю, благодаря тебе и твоему чудесному камню я смогу дойти туда на своих ногах. Вот за это я тебе очень признательна.
Будто безжалостным топором перерубленные, повисли смолкшие струнки надежды в душе Жданы. Горьким пеплом заносило её, и под его толщей ни руки не двигались, ни ноги...
– Ждана... Ладушка, иди ко мне, – донёсся до её слуха любимый голос.
Она сникла в раскрытые объятия супруги. Последнее чудо самоцвет всё же сотворил: в руках Лесияры и впрямь снова появилась сила, и Ждана, ласково окутанная ею, не смогла сдержать слёз.
– Лада моя... Что же мне делать, как жить без тебя? – шептала она, вороша серебряные пряди волос княгини. И снова встрепенулась, заглядывая ей в лицо: – Нет, я не верю, что тебе пора к соснам... Я ведь вижу, тебе лучше! Камень помог! А скоро ты и совсем поправишься и встанешь. Пусть только Рамут ещё немного полечит тебя сердцем своей матушки... У неё получится, я знаю!
– Всё, что она может – это лишь придать мне сил, чтоб я смогла сделать последние несколько шагов к своей сосне сама, а не на носилках, – защекотал лоб Жданы вздох Лесияры. – Мать Лалада не даст мне солгать: моё сердце полно любви – к тебе, к моим детям и внукам, к моей земле и моему народу... Но оно устало, радость моя. Вышел его срок.
– Тогда и мой срок вышел, – мёртво прошелестели губы Жданы. – Незачем мне жить на свете без тебя...
Лёгкие поцелуи бабочками заскользили по её лбу.
– О нет, горлинка моя... Твоя материнская любовь и поддержка ещё многим нужна. С кем Златослава разделит радость встречи с суженой? Кто поведёт её к святилищу на венчание светом Лалады, как не ты? Кто подскажет в нужный миг, кто даст мудрые советы о семейной жизни? А Дарёна? Она, конечно, сама уж скоро дочку поведёт к Лаладиному венцу, но и ей матушкино доброе слово ещё пригодится... Да и сыновья твои хоть и взрослые ребята, но и им матушка нужна. Живая и близкая. – Помолчав немного, Лесияра добавила тепло и веско: – И Белые горы в тебе нуждаются тоже, ладушка. Счастлива та земля, по которой ступают ноги величайшей и прекраснейшей из женщин.
– Матушка Лесияра! – Вбежавшая в опочивальню Златослава кинулась к княгине и, плача, уткнулась ей в плечо. – Скажи, что это неправда... Ты не уйдёшь в Тихую Рощу?
Лесияра, одной рукой обнимая Ждану, а другой – младшую дочь, не успела ответить на вопрос: в покои ворвался пёстрый вихрь, шурша юбками и звякая золотыми запястьями. Княжна Любима, сверкая алмазными капельками в больших серовато-зелёных глазах и тяжёлыми серёжками в ушах, застыла перед ложем.
– Мне сказали, ты собралась в Тихую Рощу, государыня матушка, – ломким, дрожащим голосом проговорила она, и её яркие и пухлые, как вишенки, губы тряслись от готовых вырваться рыданий. – Это, должно быть, какая-то злая шутка... Я рада видеть тебя живой и здоровой.
– Это не шутка, милая, – молвила княгиня, с грустной нежностью любуясь дочерью – молодой, нарядной красавицей.
Словно покойная супруга Златоцвета воскресла и встала перед Лесиярой... Лишь ростом Любима превосходила родительницу: Златоцвета была маленькой, хрупкой и хроменькой, а дочурка выросла статной и высокой, и не хромала, а плавала лебёдушкой.
– То есть как – не шутка? – Голос Любимы совсем осип и сел, слёзы градом хлынули по щекам.
Увы, у Лесияры не было третьей руки, и Ждана, совладав со своим горем, уступила место в её объятиях Любиме. Княжна сама недавно стала матерью, но её привязанность к Лесияре оставалась такой же неистовой, жадной и немного собственнической, как и в детстве.
– Матушка... Как же так? – всхлипывала она, обнимая родительницу за шею. – Как же я без тебя?..
– Как же мы без тебя? – вторила ей Златослава.
– Ну, ну... Доченьки, голубки мои, пташки мои родные, – целуя то одну, то другую, шептала Лесияра. – Выросли вы у меня... Любима уж сама матушка. А Златослава – тётушка. Устало моё сердце биться, пора ему на покой... А у вас ещё вся жизнь впереди. Много в ней будет счастья, любви, радости... Никуда я от вас не денусь, милые, не горюйте. Будете приходить в Тихую Рощу и рассказывать, как у вас дела... И радостями делиться, и горестями, а я вас всегда выслушаю. Не плачьте по мне так, будто я умираю... Смерти нет, горлинки мои. И в Тихой Роще я останусь живой. И ничто не помешает вам прийти и обнять меня, как сейчас.
Дочери завсхлипывали ещё горше, и Лесияра прижала их к себе крепче, поглаживая.
– Ну, ну, родные мои... Никто не вечен, и Тихая Роща – неизбежный итог. Примите это стойко и спокойно, как и надлежит принимать. Помните, что я всегда буду с вами. Жизнь продолжается – и ваша, и моя. С той лишь разницей, что у меня будет отдых, а у вас – ваш дальнейший путь. Со всеми его прелестями и трудностями.
Отпустив младших дочек – белогорских дев, княгиня обратила взор на стоявшую в стороне Огнеславу – рослую, сильную кошку-оружейницу с русой косицей на гладкой голове. Годы работы в Заряславле сильно изменили княжну, преобразили её, из простоватой, замкнуто-добродушной труженицы молота и наковальни превратив её в деятельную, мудрую правительницу с полной достоинства осанкой и стремительной поступью. Перед вступлением на белогорский престол Огнеслава получила хорошую выучку, набралась опыта и знаний, управляясь с городским хозяйством и делами ничуть не хуже своей неугомонной сестры Светолики. Нрава Огнеслава была более спокойного и выдержанного, и там, где Светолика торопилась и распыляла свои силы слишком широко, страстно и щедро, стремясь охватить вниманием как можно больше задач одновременно, княжна-оружейница действовала более последовательно и размеренно. На чуть меньших оборотах – да, но вполне разумно и успешно.
– Подойди, дитя моё. – Лесияра протянула руку к дочери.
Та приблизилась и почтительно приняла пальцы княгини на свою ладонь, накрыла сверху другой. Каждому слову родительницы она внимала с пристальным огнём в глазах, светлая грусть сделала её суровой и сдержанной, и ни одной слезинки не падало с её пушистых русых ресниц, кончики которых светились золотым ободком в солнечном луче.
– Огнеслава, на твои плечи ложится непростой и нелёгкий груз, но я верю, что ты справишься достойно, – молвила Лесияра. – Я отдаю в твои руки бразды правления Белогорской землёй со спокойной уверенностью в том, что ты поведёшь свой народ правильным путём. Сёстры станут твоими верными советницами и соратницами; к самым старшим и наиболее опытным из них постарайся почаще прислушиваться, но не забывай, что у тебя есть и своя голова на плечах – достаточно светлая и умная, чтобы наш край процветал год от года. На случай затруднений я составила подробные наставления, изучи их и обращайся к ним, ежели будешь в недоумении, как поступить. Ну а коли станет совсем туго – ты знаешь, где меня искать. – С этими словами княгиня улыбнулась дочери ласково и лучисто, с прощальной нежностью и родительским теплом. – Иди же теперь ко мне, дитя моё, и обними меня...
Огнеслава присела на край ложа и заключила родительницу в крепкие объятия. На несколько мгновений её губы задрожали, а из-под сомкнутых век просочилась предательская капелька, но княжна достойным образом овладела собой, подавая пример совсем размокшим от слёз младшим сестрёнкам: поднимаясь на ноги, Огнеслава снова была торжественно-сдержанной, с внимательным и ясным, чуть влажным взглядом.
Нежно-острая, материнская жалость овладела Жданой при виде убитой горем Любимы, и она обняла княжну, склонив её голову к себе на плечо, но та сейчас жаждала лишь ласки рук своей родительницы. Едва Огнеслава отступила от ложа, как Любима тут же прильнула к Лесияре снова, а Ждана перенесла всю силу своих крылатых, опекающих, защитных объятий на младшую дочку. Златослава затихла, спрятав лицо у неё на груди.
– Государыня! – Из прохода шагнула Звенимира – самая юная из Старших Сестёр, градоначальница Яснограда и супруга княжны Любимы. Слегка запыхавшаяся и взволнованная, она выпалила: – Прости, я только что узнала!.. И рада... застать тебя.
Пригожа собой и светла обликом была эта молодая кошка. «Умница, каких поискать», – отозвалась о ней пожилая и опытная Ружана, представляя княгине новую Старшую Сестру, только что унаследовавшую свой титул от матушки, ушедшей в Тихую Рощу. Скромная и учтивая в обхождении, весьма даровитая и способная к управлению, Звенимира чем-то напоминала Лесияре и Светолику, и себя саму в молодости. Золотисто-ржаные, вьющиеся крупными кольцами кудри падали ей на плечи, глаза цвета мягкого вечернего неба устремились взором на совсем раскисшую, заплаканную Любиму.
– Горлинка... – Звенимира протянула руки к молодой супруге.
– Иди к своей ладе, дитятко, – шепнула Лесияра дочери. – Пусть её объятия станут для тебя утешением, надёжной опорой и тёплым убежищем.
Заботливые руки супруги приняли Любиму и окутали лаской. Княжна, всхлипывая, всё ещё сиротливо оглядывалась на родительницу, но сладостная, уютная, крепкая нежность возлюбленной понемногу возымела своё действие. Прильнув к груди ясноокой женщины-кошки, Любима слушала успокаивающий стук её сердца. Не слезавшая в детстве с матушкиных рук, княжна своевременно перебралась в объятия любимой – немного другие, не такие, как у родительницы, но полные своей неповторимой прелести. Как кстати, как ко времени они оказались сейчас!..
– Я с тобой, голубка моя, – шептала Звенимира, нежно причёсывая пальцами выбившиеся из-под убора прядки волос молодой жены. – Ты не одна, я рядом... Я всегда с тобой, радость моя.
Со вздохом признавала Лесияра: хоть выросла и расцвела Любима, из маленькой озорницы превратившись в прелестную, невинно-обворожительную красавицу с пухленьким сочным ротиком и огромными, туманно-зелёными озёрами очей, но во многом она ещё оставалась избалованным матушкиной любовью ребёнком. Особенно это выражалось в острой потребности в ком-то сильном, заботливом и нежном рядом с нею. Сначала это была родительница, теперь на смену ей пришла супруга. Даже став недавно матерью, Любима ещё до конца не осознавала своей взрослости и самостоятельности; когда же завершится её внутреннее, душевное созревание – время покажет... Увы, этой поры Лесияре уже не суждено было застать.
Не раз пришлось Рамут прикладывать к княгине свой чудотворный камень: поток желающих проститься с белогорской владычицей не иссякал до глубокой ночи. Все Старшие Сёстры посетили Лесияру, со всеми она перемолвилась милостивым напутственным словом; всё семейство Твердяны по приглашению Жданы тоже навестило правительницу в её последние часы. У самой Дарёны градом покатились по щекам слёзы, когда Лесияра сказала ей:
– Провидицей ты оказалась, дитя моё, а песня твоя – пророческой. И вправду довелось уходить мне в светлую весеннюю пору... Ну-ну, только не вздумай себя в чём-то винить, голубка... – Пальцы княгини ласково вытерли мокрые щёки певицы. – Ты тут ни при чём, так уж судьба сложилась. Ежели не трудно тебе будет, милая, проводи меня до самой сосны и пой мне песню эту, пока я буду засыпать в Роще.
– Это великая честь для меня, государыня, – сквозь пелену слёз улыбнулась Дарёна.
При первых желтоватых проблесках утренней зари на чистом звёздном небосклоне Лесияра утомлённо откинулась на подушки, сомкнув веки.
– Что-то иссякают силы мои, даже камень Рамут уже мало помогает, – чуть слышно молвила она. – Не знаю, дойду ли сама до сосны...
Огнеслава попросила всех покинуть княжеские покои, остались только самые близкие. В предрассветной тишине слышалось лишь тяжёлое, усталое дыхание Лесияры, да долетал в приоткрытое окно шелест дворцового сада. Сладко пахло яблоневым цветом, но не радовал сейчас сердца этот пленительный запах, а наполнял острой и звенящей, но светлой и высокой печалью.
– Пора, – вздохнула княгиня. – Пора, мои родные. Надо спешить, пока я ещё дышу и могу двигаться... Помогите мне встать и облачиться. Ждана, Любима... Ладушки мои, подайте мне одёжу, – ласково обратилась она к дочери и супруге.
Ждана на миг усомнилась, сможет ли княжна исполнить эту грустную обязанность: у той на глазах снова набрякли тяжёлые капли, а губы затряслись. Но Любима, загнав слёзы в грудь глубоким вздохом, принялась прислуживать родительнице с нежностью и усердием. Её пальцы немного вздрагивали, и Лесияра на миг накрыла их своими.
– Ну-ну... Где бы я ни была, в Тихой Роще или на земле с живущими, я всегда останусь с тобой, дитя моё... Помни об этом. – Уже трудно ей было приподнять даже уголки рта, но она улыбнулась дочери, согрев её прощальными лучиками в глубине зрачков.
Когда ей подавали тяжёлую, расшитую золотом накидку, княгиня качнула головой:
– Не нужно нарядов, это лишнее. Чем проще и легче одёжа, тем лучше.
Опустело княжеское ложе: поддерживаемая Огнеславой и Жданой, Лесияра шагнула в проход. Тихорощенская земля встретила их мягкой, ластящейся к ногам травой и горьковато-смолистой, торжественной тишиной. Не успела княгиня с родными ступить и пару шагов, а им навстречу уже шли девы Лалады из здешней общины – будто знали и ждали давно... С зябким, пронзительным трепетом в сердце Ждана передала супругу в их заботливые, лебедино-гибкие руки: жрицы проводили княгиню в крошечный домик с соломенной кровлей, где её ждала купель с водой из Тиши и чистая простая сорочка. Одна дева омывала Лесияре плечи и грудь, другая причёсывала её, вплетая в волосы цветочки, третья держала наготове рубашку и помогала продеть руки в рукава. Жрицы не просто двигались – они словно пели каждым мановением своих мягких рук, каждым наклоном длинноволосых головок и шагом изящных босых ног. Лесияре тоже предстояло идти к сосне босиком, дабы тёплая земля Тихой Рощи наполнила её светом Лалады.
На пороге домика княгиня на миг задержалась, устремив взор к светлеющему небу, в котором уже бледнели и гасли под крепнущей силой зари звёзды. Ждана робко протянула руку, но не решилась коснуться локтя супруги: уже нездешняя стала Лесияра, не принадлежащая к суетливому миру живущих... Величественный покой тихорощенского неба подёрнул её взгляд паволокой умиротворения, искорки жизнелюбивой страсти гасли в них, уступая место мудрому, чуть отрешённому спокойствию. Уже не принадлежала княгиня Ждане и детям, её звали к себе сосны-прародительницы. Сиротливой дрожью отозвалось в сердце Жданы осознание этого лёгкого, не холодного, пахнущего хвоей и мёдом отчуждения, а Лесияра, будто почувствовав движение её души, опустила блуждающий среди звёзд взор и улыбнулась супруге.
– Я твоя, любовь моя. Навеки твоя. Как была, так и останусь, не сомневайся ни на миг.
Лишь колдовское молчание чудо-сосен сдержало готовое вырваться у Жданы рыдающее «не уходи...» А княгиня остановилась перед величаво-стройным, осанистым деревом – как раз ей под стать.
– Твоя сосна ждёт тебя, государыня, – серебряными бубенчиками прозвенели голоса дев Лалады.
– Вижу, – улыбнулась Лесияра, кладя ладонь на морщинистую кору и окидывая дерево тёплым, приветственным взглядом. – Здравствуй, сосенка моя... Вот мы и встретились.
Тугая струнка пропела и лопнула у Жданы в сердце, когда княгиня снова взглянула на неё перед последним шагом... Книга их любви прошелестела страницами за короткое мгновение этого взгляда, и самые яркие, самые пронзительные дни врывались в душу вспышками: вот первая встреча в лесу, когда юная Ждана ещё считала себя невестой Млады; вот горькое расставание в дождливом сне, затем – воссоединение и слияние под венцом света Лалады; тёплое единство над колыбелькой их общей дочки – склонённые головы двух родительниц, переживших много горестей до этого счастливого мига... Ещё чуть-чуть, ещё хоть немного подышать этим!.. Рука Жданы вскинулась к супруге, но последний шаг свершился – Лесияра встала у ствола, прислонившись к нему спиной и затылком.
Краткий всхлип нарушил тишину места упокоения дочерей Лалады: закрыв лицо ладонями, Любима развернулась и исчезла в проходе.
– Доченька, – встрепенулась вслед ей Лесияра. – Куда же ты...
Но её уже оплетали живые зеленоватые волокна, сливаясь в густую сетку и непреодолимо прижимая тело княгини к сосне от пяток до макушки. Открытым оставалось только лицо с печально устремлённым в сомкнувшееся за княжной пространство взглядом. Шагнувшая вперёд Звенимира тихо, учтиво молвила:
– Не огорчайся, государыня... Вступай в чертог своего покоя с лёгким сердцем: Любима обязательно придёт чуть позже. Ей нужно немного успокоиться.
– Что ж, пусть так, – глухо, с древесными скрипучими нотками в голосе молвила Лесияра. Зелёный пушок уже добрался до её ресниц и бровей, волокна прорастали жилками под кожей на скулах и лбу – быстро и необратимо. – Скажи ей, что я жду её... Я не смогу обрести полный покой, покуда льются её слёзы.
– Она придёт, государыня, обещаю, – кивнула Звенимира.
Зелень была уже в белках глаз Лесияры, когда её взгляд обратился на Ждану.
– Поцелуй меня, лада...
Пальцы Жданы трогали этот шершавый пушок, и живые волокна змейками двигались под ними, охватывая последние свободные участочки лица Лесияры. Ждана успела прильнуть к губам супруги – ещё мягким, человеческим, а через мгновение и те уже обросли мелкой зелёной сеткой жилок.
Уйти хочу весною светлою:
На грудь мне лягут лепестки.
Ты прошепчи слова заветные
И помни их в часы тоски...
Песня Дарёны зазвучала негромко, но чисто – словно серебристые пластинки весеннего льда перезванивались. Руки жриц мягко отстраняли Ждану от сосны:
– Отпусти её, госпожа... Позволь ей погрузиться в покой.
Тело княгини таяло под сеткой, становясь плоским, ствол дерева поглощал его. Сами волоконца тоже начали растворяться в коре.
– Идём... – Ждану легонько обняла сильная рука, очень похожая по своей тёплой тяжести на руку супруги... Нет, это была Огнеслава.
Каждый шаг по тихорощенской земле давался Ждане ценой кинжального удара тоски. Шаг – боль. Шаг – боль... Но она шла, поддерживаемая с обеих сторон Огнеславой и Дарёной, и уже не чувствовала биения сердца в своей опустошённой груди: оно осталось там, с Лесиярой...
– Матушка, смотри-ка...
Дарёна удивлённо смотрела куда-то под ноги. Преодолев взглядом затянувшую всё вокруг горькую пелену, Ждана увидела пробивающиеся из земли ростки. В считанные мгновения распускались на них поникшие чашечки белоцветника, колыхаясь и ласкаясь к её ногам... Дрогнуло сердце, заплакало тёплыми слезами: цветы вырастали там, где ступали ноги Жданы, даже чуть забегали вперёд, чтоб выстлать ей путь, а за нею от сосны тянулась целая дорожка из белых колокольцев. На высоте в два человеческих роста из коры проступал древесный лик.
– Лада... – Сухое, бесслёзное рыдание вырвалось из груди Жданы: она узнавала любимые черты, разглаженные неземным покоем.
Присев на корточки, Ждана ласкала пальцами цветы – прощальный подарок супруги, а они льнули к её рукам чашечками, даря ей росистые поцелуи. Больше не могли родные уста слиться с её губами, и вот так, посредством белых лепестков, посылала Лесияра ей свою нежность. Теперь Ждана понимала поступок Любимы всем сердцем: как тут не заплакать в голос, как не потревожить многовековой сон Рощи?.. Но нежность из золотистых цветочных серединок медовым теплом окутывала её, и скорбный стон растаял в груди, так и не вырвавшись наружу. Частичка тихорощенского покоя проникла и в её душу, помогла подняться на ноги и расправить плечи под грузом вдовства, сделав его почти невесомым.
– Спи спокойно, лада... Отдыхай, – с поцелуем послала Ждана сосне свой шёпот. – А я постараюсь достойно вынести разлуку с тобою. Даже не разлуку, а... не знаю, как и назвать это: ведь ты по-прежнему жива, хоть и поселилась теперь среди прародительниц. Но где бы ты ни была, ты всегда с нами... А мы – с тобой.
* * *
Не сняв одёжи и даже не разувшись, княжна Любима распласталась ничком на ложе в опочивальне. Тугой поясок давил, украшения впивались в тело, платок петлёй захлёстывал шею, но все эти неудобства отступали в тень: перед её глазами стояла разрывающая сердце картина – матушка Лесияра у сосны... Уже без своего княжеского венца, босая, с цветами в волосах и в простой длинной сорочке. Сейчас она, наверно, уже слилась с деревом... Не смогла бы Любима вынести этого зрелища, это было выше её сил, потому и кинулась она в проход – прочь из Тихой Рощи. Тишина спальни в доме супруги обступала её гулко, только слышался стук её собственного сердца. Хорошо, что дочкой занимались целых пять нянек: у Любимы не осталось сил ни на что и ни на кого.
«Одна, совсем одна», – горько сжималось осиротевшее сердце вопреки словам супруги: «Я всегда с тобой». Малышка Радяна, наверно, спала... Да и зачем ей сейчас плачущая матушка? Не понять крохе всей безысходности, всей бескрайней бесприютности, которая зимним ветром бушевала в душе Любимы. Мир рухнул, и она лежала, разбитая и придавленная обломками.
Бывая с детства в Тихой Роще по Дням Поминовения, княжна не могла себе представить, что когда-нибудь и матушка Лесияра уйдёт к соснам. Душа и сердце не вмещали эту мысль, от неё всё нутро страшно содрогалось и сжималось в комочек... Без матушки Лесияры не могла продолжаться сама жизнь. Любиме казалось: если родительница уйдёт в Тихую Рощу, Белые горы обрушатся, а её сердце остановится. Матушка Лесияра была целым миром, а княжна – его частичкой. Неотделимой, не мыслящей своего существования без целого... Так они и жили, соединённые невидимой пуповиной, и Любима ревновала матушку ко всем и вся, боясь потерять хоть крупицу её любви и внимания. Но в «мире» появились новые частички – сначала Ждана, а потом сестрёнка Златослава, и Любиме пришлось делить матушку с ними. Она почти свыклась, почти смирилась, подавила глухой ропот сердца доводами разума, но нет-нет да и взыгрывала в ней былая ревность. Но княжна обуздывала эти порывы. Глубоко врезались ей в память слова Правды, покрытой боевыми шрамами кухарки из крепости Шелуга: «Себялюбивая ты. Родительница твоя только тобою и дышала все эти годы, одна была, как перст. Любила тебя без памяти, вот и избаловала... И привыкла ты думать, будто весь мир вокруг тебя одной вертится и всё в нём только для тебя создано. А ведь не так это, моя милая. Не вечно тебе в родительском доме жить. Ну, сама подумай: большая уж ты, скоро совсем вырастешь, заневестишься, влюбишься... Станешь чьей-нибудь женою. А государыня? Одной ей горевать-вековать прикажешь? Она только о тебе, о твоём счастии и думает, а ты о ней подумать не желаешь...» Часто снилась суровая кухарка Любиме, да и в грёзах наяву нередко шагала рядом, как неотступный призрак – корила княжну за провинности и рубила колкую правду-матку в глаза. Такое уж говорящее имя досталось этой бывшей воительнице... То и дело ловила себя Любима на мысли: а что бы в том или ином случае сказала Правда? Одобрила бы? Или, нахмурив кустики грозных бровей, вынесла бы неутешительный приговор? Разбирая свои поступки, слова и чувства с точки зрения Правды, Любима почти всегда оставалась удручена и недовольна самой собою. Кухарка стала её совестью – незримым, самым суровым и беспощадным судьёй. Ох уж это ревнивое собственничество по отношению к тем, кто был ей дорог!.. Сие дурное и вредное качество княжна решила непременно искоренить в себе, и удавалось ей это с переменным успехом. И всё же тёплая и крепкая пуповина, связывавшая Любиму с матушкой Лесиярой, оставалась непобедимой.
Сейчас из этой пуповины хлестала кровь. Матушка ушла, покинула её, оставила... Комкая подушку и колотя её кулаками, Любима беззвучно кричала в немое и вязкое, как тесто, пространство.
– Горлинка... Ладушка... Ну, ну.
Руки супруги скользнули по её плечам, обхватили сжатые кулачки княжны и избавили ни в чём не повинную подушку от тумаков. Шмыгая носом и вздрагивая от всхлипов, Любима уткнулась в золотую вышивку на плече Звенимиры.
– Я знаю, что ты мне сейчас скажешь... Я знаю, что веду себя, как малое дитя. – Княжна морщилась от собственного голоса, ставшего гнусавым из-за распухшего изнутри, забитого слизью носа. – Но я не могла... Не могла видеть это. У меня сердце... остановилось бы.
– Твоя матушка ведь не умерла, радость моя... Уход в Тихую Рощу не должен быть горем для родных, – терпеливо утешала Звенимира, заключив Любиму в тесные объятия и игриво касаясь пальцами то её носа, то подбородка, то щёк. – Ты ведь знаешь, моя родительница тоже ушла к соснам... Я помню и люблю её, навещаю по Дням Поминовения и в другие дни, когда душа попросит. Но я живу дальше, милая! Причины для этого есть. И ты даже знаешь, какие... У меня есть моя служба – труд на благо города, есть моя любимая ладушка... – Женщина-кошка мурлыкнула, ткнувшись носом в щёку молодой жены. – И есть наша доченька. Что мне ещё нужно для счастья?.. Кстати, о счастье. Оно там, наверно, уже проголодалось.
Звенимира ненадолго вышла из опочивальни, а вернулась не одна. Любиме даже глаза не требовалось открывать, чтобы угадать, с кем именно она пришла. Постель качнулась: супруга присела, держа на руках кого-то маленького, смешно кряхтящего и ёрзающего.
– Матушка Любима сегодня грустная, плачет... Давай-ка её успокоим, м?
Княжна съёжилась от щекотки, ощутив на себе беспокойные, тормошащие её ручки. Они цеплялись за её серёжки, хватались за нос и щёки, и улыбка сама пробила тугую корку боли – проклюнулась подснежником и растянула уголки губ.
– Радяна, не тяни за серёжки, больно, – осторожно отводя эти нежные, хрупкие ручонки от своего лица, простонала Любима. То ли смешок у неё при этом вырвался, то ли всхлип. – Ты мне уши порвёшь...
– Ну, как же не подёргать за эти висюльки, они же такие красивые и блестящие! – добродушно посмеивалась Звенимира, склонившись над ними обеими. – Матушку Любиму хлебом не корми – дай украшениями обвешаться... Даже в постель легла в них – где ж такое видано?.. Сорока у нас матушка Любима – ох, и сорока же... Всё блестящее любит.
В шутку обидевшись, Любима надула губы и отвернулась. Боль отпускала сердце, теперь его щекотали крошечные лапки нежности. А Звенимира, распахнув парадный, расшитый золотом кафтан, который она носила на службе, открыла рубашку для кормления – с прорезями на груди.
– Ладушка, это ничего, если мы прямо тут покушаем? – обратилась она к Любиме. – Ну, молчание – знак согласия. – И женщина-кошка, подхватив малышку, приложила её к соску.
Радяна уже вовсю ползала и пробовала делать первые шаги, ела прикорм, но грудное молоко ещё сосала охотно и помногу. Звенимира, радуясь рождению первеницы, желала вырастить её непременно кошкой, а потому кормила сама. Глядя на кроху у груди супруги, Любима не могла удержаться от солоноватой, влажной от недавних слёз улыбки, но снова её обуревало странное чувство: в такие мгновения ей казалось, что Радяна – только Звенимирина дочка, а она отношения к этому чуду не имеет, хотя вроде сама выносила его и родила. Супруга, даже будучи очень загруженной делами, всегда вырывалась домой, чтобы покормить малютку и повозиться с ней.
– Работа не волк, в лес не убежит, – говорила она. – Работы всегда будет много, а детство у Радяны только одно.
Любима не смела мешать их счастливому единению, всякий раз ощущая это горьковатое, скребущее чувство, как будто она – ни при чём... Порой супруга замечала это и ласково звала её:
– Ладушка, ну что ж ты в уголке притулилась?.. Иди к нам.
Места у неё в объятиях хватало обеим. Одной рукой поддерживая дочку у груди, второй Звенимира обнимала Любиму, и обидное чувство у той потихоньку таяло от тёплого кошачьего мурчания. А глава Яснограда справлялась с двумя делами сразу: и дочурку кормила, и успевала ворковать и целоваться с прильнувшей к ней женой.
Вот и сейчас это ощущение проснулось и заворочалось под сердцем у княжны, но Звенимира, словно прочтя её мысли, бросила на супругу ласковый, искрящийся тёплыми лучиками ресниц взгляд. Любима вложила руку в её протянутую ладонь, и женщина-кошка, склонившись, поцеловала её унизанные перстнями пальцы.
– Мы с тобой, ладушка. Не кручинься, отпусти тоску, не плачь, а то твоя матушка не будет знать покоя. Её огорчил твой уход, но я пообещала ей, что ты придёшь позже. Надо сдержать обещание, родная... Когда успокоишься, обязательно навести родительницу. Она тебя ждёт.
– Да я сама не найду покоя от мысли, что покинула матушку в такой миг... – Любима судорожно вздохнула, снова ощутив колкие предвестники слёз в уголках глаз, а в груди воскресла тоскливая дрожь на грани дурноты. – Но мне казалось, что я умру на месте, ежели увижу это...
– Ну что за глупости, милая! – с ласковым укором молвила Звенимира. – Ничего страшного не случилось бы, поверь.
– А матушка уже... – Слова застревали в горле, и Любима с трудом выговорила: – Она уже стала сосной?
– Да, моя радость, – грустновато улыбнулась Звенимира. – Как же иначе? Всё хорошо, она упокоилась и теперь отдыхает в объятиях Лалады. Знаешь, когда Ждана уходила, под ногами у неё выросли белые цветы. Это государыня Лесияра так прощалась с нею... Она и тебе какой-нибудь подарок послала бы, ежели б ты осталась.
Любима зажала ладонью готовый вырваться всхлип и уткнулась в плечо супруги.
– Не напоминай... Я сама себя корю и каюсь. Не знаю, что на меня нашло...
– Ну, ну, ягодка... Не надо, не казнись. – Чмокнув Любиму в висок, женщина-кошка тепло щекотала её дыханием. – Матушка не осерчала на тебя, ей лишь тревожно за тебя, за сердечко твоё... Сходи к ней. Не тяни с этим, она тебя очень ждёт. Хочет убедиться, что ты не горюешь. Она ведь там каждую твою слезинку чувствует.
– Я не буду плакать! – Любима, горестно закусив дрожащие губы, решительно отёрла намокшие глаза. – Обещаю, лада, я не буду...
– Вот и хорошо. – Звенимира, одной рукой держа у груди Радяну, другой привлекла княжну к себе. – А теперь иди сюда и обними нас покрепче. Что ты каждый раз в сторонку тулишься, как неродная?
Любима, всё ещё чувствуя волны озноба и мурашек, какие бывают после обильных слёз, прижалась к супруге и осторожно обняла малышку поверх руки Звенимиры.
– Когда ты берёшь её к себе, я... боюсь вам мешать, – призналась она. – Мне кажется порой, будто я тут лишняя.
Хоть Любима постаралась смягчить свои слова смешком, будто бы в шутку, супруга посмотрела на неё серьёзно, удивлённо и огорчённо.
– Вот ещё выдумала! – сказала она. И вручила Любиме малышку: – Ну-ка, возьми её.
– Она же ещё не наелась, – пробормотала княжна.
– Наелась, наелась. – Звенимира запахнула кафтан, после чего заключила Любиму с дочкой в объятия.
Убаюканная кормлением и мурлыканьем, Радяна быстро уснула, и Любима боялась шелохнуться. Это было чудесное, щекотно-нежное чувство, пришедшее на смену тому, царапающему. Звенимира тепло дышала рядом, и в её руках княжне было спокойно и уютно – почти так же, как в матушкиных...
– Вот так... И думать не смей, что ты лишняя, – проговорила супруга, накрывая губы Любимы глубоким и жарким, сердечным поцелуем. – Как же ты можешь быть лишней, когда ты – наша, родная и любимая?.. Хотя – да... Замечаю я порой за тобою этакое... – Подумав мгновение, Звенимира невесело усмехнулась. – Вроде давно уж с тобою вместе живём, а ты всё как будто в гостях здесь.
Любима не сразу нашлась, что ответить. Попала Звенимира в точку: временами тосковала княжна по родительскому дому, да так, что хоть на луну вой. Не рвалась пуповина, не ослабевала связь с родительницей, но ведь не будешь же вечной маменькиной дочкой, этаким великовозрастным дитём!.. И Любима старалась привыкнуть, освоиться в новом доме, новом городе и новом положении – в положении матери и супруги. Порой ей казалось, что у неё неплохо получается, а иногда хотелось свернуться калачиком – и чтоб никто не трогал... А ещё лучше – к матушке, уткнуться в плечо и ощутить ласковые и крепкие объятия. «Ну чисто дитё малое – нюни распустила», – качал головой призрак Правды, и Любима сердилась на себя за эту детскость, за это вечное желание к матушке на ручки. Это самокопание подтачивало её уверенность в себе, и обычно живую и весёлую, как непоседливый солнечный зайчик, княжну порой внезапно подкашивали приступы угрюмости и замкнутости. Увидела б её родительница в таком настроении – не узнала бы родную дочку.
– Ну, раз уж сегодня такой день откровений... Мне временами до сих пор не верится даже в то, что ты меня любишь, – улыбнулась она горьковато дрогнувшими губами. – Уж не знаю, за что меня матушка любила... Я ведь только и делала, что огорчала её своими выходками. За что меня любить?.. Ничего хорошего во мне нет...
– Откуда в тебе такое, лада? – Звенимира приподняла горестно поникшую голову Любимы за подбородок, заглянула в глаза. Похоже, она и правда сегодня открывала свою молодую жену с новых, доселе не виденных сторон. – Что за сомнения? Не узнаю тебя, ягодка... Даже не подозревала, что ты можешь о себе так плохо думать и настолько низко себя ценить. Ты всегда была для меня солнечным зайчиком неугомонным, лучиком светлым и живым, пташкой звонкой. Ты – комочек радости у моего сердца! За это и полюбила тебя... Это и есть настоящая ты, а то, что ты сейчас говоришь... Вздор, родная! Даже слушать не хочу. Отбрось эти мысли и не вздумай... не смей ругать то, что я так люблю в тебе.
Любима не знала, то ли ей смеяться, то ли плакать. Нервный и мятущийся, взъерошенный ком спутанных чувств дрожал в груди, но нельзя было шумно их выражать: на руках у неё посапывала Радяна. Княжна лишь глубоко, до боли вздохнула, прикусив губу и чувствуя напряжение в ключицах.
– Лучик мой солнечный, ягодка сладкая, песенка звонкая, – шептала Звенимира, щекоча губами всё лицо княжны. – Мне невыносимо видеть тебя печальной... Ты будто сама не своя. Ни о делах не могу думать, ни о чём-то ином... К тебе одной все мысли летят. Что мне ещё сделать, чтоб твои очи сияли, чтоб ты смеялась и радовалась, чтоб мой дом стал для тебя родным?
– Ты и так всё сделала, ладушка, – ласково и виновато улыбнулась Любима, укоряя себя теперь уже за то, что взволновала и огорчила супругу своими глупыми откровениями. – Я счастлива с тобою, и иного мне не нужно. Ежели б не ты и не Радяна, разорвалось бы моё сердце на части... Вы с нею – мой воздух и моя пища, вы – кровь в моих жилах!.. Не тревожься за меня, лада, я успокоюсь и справлюсь, а Радянка не даст мне затосковать. Нынче вечером, вернувшись со службы, ты увидишь меня прежнюю, настоящую – ту, какой ты меня любишь.
– Будь какой угодно, радость моя, – вздохнула Звенимира, с грустноватой нежностью целуя Любиму в лоб. – Будь такой, какой хочешь быть. Постараюсь сегодня освободиться пораньше... Надеюсь, ты не заснёшь и дождёшься меня.
Губы Любимы накрыл многообещающий поцелуй. Они вместе уложили спящую Радяну в колыбельку и ещё некоторое время провели вдвоём, а потом Звенимира отбыла по делам. У молодой градоначальницы Яснограда было очень много работы.
*
Большие княжеские приёмы Любима всегда посещала: нравилось ей плясать и петь, в пляске она чувствовала огонь в жилах и жаркий стук сердца. Забывались сомнения и неуверенность, угрызения совести и муки ревности, которые Любима всё ещё время от времени испытывала. Разумом она понимала, что это плохо, суровая Правда давно открыла ей на это глаза, но сердцу не прикажешь, не заставишь чувствовать так, как «надо».
Малые собрания с узким кругом Старших Сестёр проходили чаще, но не так пышно и весело, плясок на них не было, только угощение, ложившееся тяжестью на желудок. На них Любима скучала, потому как разговоры там велись в основном о делах государственных. А нынче её душеньке было где разгуляться: гостей – тьма-тьмущая, одно блюдо сменяло другое без числа, музыка не смолкала, и каждые полчаса все поднимались из-за стола, чтоб утрясти съеденное и поразмять затёкшие руки-ноги в задорном танце. Притопы, прихлопы, дроби каблучками... Разгорячившись до огненных плит румянца на щеках, Любима дышала полной грудью и купалась в восхищённых взглядах... Да, плясать она любила и умела – что есть, то есть! То павушкой она плыла, мелко-мелко переступая ногами так, что даже подол не колыхался, то разражалась такими звучными дробями, что казалось, ещё посильнее притопнет – и каблуки прочь отлетят... Разошлась Любима, развернулась во всю ширь жаждущей веселья души и в пылу пляски не замечала, что одна молодая кошка, застыв на месте, уже давно не сводит с неё потрясённого, ласкового, затуманенного восторгом взора.
Ежели глянуть на эту гостью поближе, то становилось видно, что она – холостячка, только-только вошедшая в брачный возраст. Истомились и тело её, и душа в ожидании любви, а навстречу – такая красавица-плясунья... Щёчки рдеют, приоткрытые губки-вишенки жарко дышат, зеленоватые омуты глаз манят томностью, изящные ножки не знают покоя, а руки гнутся лебедиными шеями – как тут не залюбоваться? Но не просто так гостья задержала взгляд на самой яркой и красивой, самой подвижной и неутомимой девушке на этом пиру... Отнюдь не из праздного любопытства. И то, что произошло в следующие мгновения, только подтвердило, что встреча эта – судьбоносная.
Музыка притихла: пляска закончилась. Любима переводила дух, грудь её ещё вздымалась взбудораженно, жадными вдохами ловя воздух, а взгляд был слегка затуманен. По коже полз жар, сердце стучало громко и сильно, а гости уже расходились по своим местам, чтобы воздать должное следующему блюду. Окидывая взором трапезную палату, княжна застыла в странном, холодящем оцепенении: на неё неотрывно смотрела молодая незнакомка, которая замерла как вкопанная и не спешила возвращаться за стол. Пригожее, ясноглазое лицо было словно умелой мастерицей выточено из самого нежного и драгоценного розового мрамора – решительно, изящно. Смело навстречу жёстким ветрам и опасностям смотрело оно, не дрогнув и единым мускулом, скулы и подбородок являли собою линии силы, а широко распахнутый, пристальный взгляд оттеняли красивые густые брови и пушистые ресницы. Они смягчали его, внося в хлёстко-твёрдую, мужественную лепку этих черт задумчивую мечтательность. Цвет глаз? Пылкое, приметливое к мелочам и наблюдательное девичье воображение сравнило бы его с тёплым оттенком вечернего небосклона, озарённого летним закатом – тихим и ясным, полным ласкового ожидания. В светлых волнистых прядях, ниспадавших на плечи, золотилась солнечная рожь, и озябшие пальцы немедленно согрелись бы их шелковистым, обволакивающим теплом. Но отчего руки Любимы сковала эта зябкость?.. Отчего кровь словно загустела, почему так трудно ей стало течь по жилам, будто реке под зимним панцирем льда? Что случилось с ногами, которые приросли к месту, не в силах сделать и шага?..
Губы незнакомки приоткрылись и шевельнулись, но слетели с них не слова, а тёплый ветерок, беззвучно коснувшийся сердца княжны. Его будто мягкая ладонь нежно погладила, и оно бухнуло мощно один раз, а потом зачастило, забилось быстрее крыльев маленькой птахи. Слишком мало воздуха!.. А уста онемели, и Любима не могла даже на помощь позвать. Закачалась палата вокруг неё вместе со всеми столами, ломящимися от яств, с жующими и беседующими гостями, которым дела не было до того, что творилось с княжной... Кто-то смеялся, кто-то спорил, но ни единая живая душа не замечала, что Любима вот-вот упадёт замертво.
Нет, одна душа всё-таки видела – душа этой незнакомки, один взгляд которой натворил столько бед. Её длинные и сильные ноги, обутые в чёрные, расшитые жемчугом сапоги, наконец-то оторвались от пола и сделали несколько спешных широких шагов...
Пелена бубенцового звона медленно сползала с головы, и прояснившимся взглядом Любима обвела вокруг, силясь понять, что с ней не так. Тело обмякло и ослабело, но его держали на весу крепкие руки, не давая ему упасть. И ясные вечерние очи – ошеломительно близко, до жарких мурашек, до щекотного смеха под потрясённым сердцем... Приоткрытые губы будто собирались или что-то вымолвить, или поцеловать Любиму. Княжна приподняла руку, но на полпути нерешительно застыла.
– Ладушка... Коснись меня, не бойся, – сказала незнакомка негромко и ласково.
Пальцы Любимы дотронулись до сияющих прядей. Ржаные колоски обычно кололись, а эти крупные кудри мягко обволакивали руку, ласкались к коже, будто целовали её. «Ладушка»...
– Почему ты так называешь меня? – Любима неумолимо проваливалась в умиротворяющую глубь летнего заката в очах женщины-кошки.
– Потому что ты и есть моя лада долгожданная, – ответила та ещё тише, ещё проникновеннее и нежнее.
По мановению чьей-то властной руки музыка смолкла, и рядом послышался радостный, торжественный голос матушки:
– Ну, вот и свершилось... Нашла наша Любима свою суженую.
А княжна смотрела и не верила глазам: рядом стояла одна княгиня Лесияра, а на руках её держала вторая – только моложе, без снега седины в волосах. Сходство молнией поразило её сердце, и Любима переводила ошеломлённый взор с одного лица на другое. Её ноги ощутили пол: кошка бережно поставила её, поддерживая под руку с готовностью снова подхватить в любой миг.
– Ну что ж, Звенимира, я счастлива, что всё так сложилось, – сказала родительница. – И рада, что именно с тобой судьба свела мою дочь. Лучшей избранницы для неё и не выискать.
Матушка была довольна, хоть в глубине её зрачков и мерцала ласковая грустинка: выросла дочурка... Вот уже и невестой стала.
Несмотря на молодой возраст, Звенимира уже носила титул Старшей Сестры и занимала не по годам высокий пост – управляла новым городом Ясноградом. На эту должность Звенимиру выдвинула советница Лесияры Ружана: молодая кошка была дочерью её старинной подруги, недавно отошедшей в тихорощенский чертог покоя.
– До меня доходят лестные отзывы о твоей службе, Звенимира, – проговорила матушка. – Значит, не зря мы с Ружаной отдали тебе в управление Ясноград. Ну, поглядим, как дальше будешь справляться.
– Служу Белым горам и тебе, государыня, со всем усердием, – с поклоном отозвалась ясноокая градоначальница.
– Поздравляю тебя, Любимушка, – с улыбкой добавила Ждана, стоявшая под руку с супругой.
А Любима, слушая все эти речи, пыталась разобраться, что же такое свалилось ей на плечи и в сердце. Оно было слишком огромным, ослепительным и неясным – будто княжна само солнце силилась охватить объятиями, а оно жгло и наполняло глаза слезами потрясения и растерянности. Суженая... Это слово растекалось горьковатым мёдом на языке, обдавало мятным холодком новой жизни и грядущих перемен, ещё слишком смутно очерченных, чтобы Любима могла в полной мере понять, чем всё это для неё обернётся.
Брачный сговор состоялся незамедлительно, прямо на этом пиру, в присутствии множества свидетелей-гостей. Любима, стоя рядом с красавицей-кошкой – носительницей солнечно-ржаной гривы кудрей, сердцем чувствовала: это она, та самая, и другой – не надо. Проступало это осознание ещё туманно, будто бы всплывая из мутной воды, и княжна спрашивала золотистое пространство под сводами потолка: так и надо? Всё правильно? Она искала подтверждение в глазах матушки Лесияры, и в их глубине ей мягко сиял ласковый ответ: «Да, родная. Ты выросла. И ты вступаешь в новую жизнь».
Под конец пира, когда уже начало темнеть, княгиня предложила наречённым прогуляться в саду и пообщаться с глазу на глаз, дабы получше узнать друг друга. Вся огнедышащая, непобедимая уверенность, с которой Любима ещё недавно отплясывала посреди трапезной, улетучилась к чистому вечернему небу, с цветом которого сливались глаза её новообретённой избранницы. Они шагали рядом по садовой дорожке, и звёзды плыли в промежутках между древесных крон.
– Отчего ты примолкла, милая? – замедлив шаг, спросила Звенимира. – Робеешь? Не надо... Не бойся, голубка, взгляни на меня!
А княжна ощущала себя не лёгкой пташкой-попрыгуньей, превосходившей всех в искусстве пляски, а огромной, неповоротливой медведицей. Вместо приятных, умных и ласковых слов эта зверюга могла только нечленораздельно реветь. Внезапно отупев и безнадёжно растеряв дар речи где-то в садовых сумерках, Любима только улыбнулась невпопад, а женщина-кошка осторожно и нежно коснулась ямочек на её щеках.
– Какая ты светлая... Как солнечный лучик. Когда я увидела, как ты пляшешь, я сразу поняла: вот оно, моё счастье. Огонёк жаркий, который согревает сердце...
Мучительный жар вдруг прилил к щекам княжны. А заслужила ли она эти добрые, тёплые, хвалебные слова? Что хорошего разглядела в ней Звенимира? Неужто оно и впрямь в ней есть? Сумеречный ветерок холодил намокшие глаза, и Любима спрятала взгляд, опустив его долу: где-то среди цветов ползали букашки, и она старалась их разглядеть – до светлых точек перед глазами и изнурительной ряби.
– Ты совсем меня не знаешь, а уже превозносишь мои добродетели, – глуховато проронила она. И внутренне поморщилась: ох и неудачно прозвучал голос, так некстати охрипнув!.. Разве может он ласкать слух и чаровать? Рык звериный, а не речь человеческая...
Звенимира рассмеялась – будто бархат мягкими складками раскидывался, а из них сыпались переливчатые жемчуга. «Учись, как надо свой голос преподносить!» – попеняла себе с досадой Любима, а сердце затерялось в этом бархате и наполнилось странной и нежной слабостью.
– Вижу тебя в первый раз, а как будто сто лет знаю, – сказала женщина-кошка, мерцая в сумерках росинками-искорками в зрачках. – Не ищи в моих словах лести: говорю то, что чувствую. – И, окинув взглядом погружённый в синюю мглу сад, вздохнула полной грудью: – Хорошо тут... Но во сто крат прекраснее гулять здесь с тобою. Пройдёмся ещё!
Густела небесная синева, приближаясь оттенком к ночному мраку, всё отчётливее и острее проступали блёстки далёких звёзд. Колыхался и вздыхал шатёр яблоневых и кленовых крон над их головами, и с каждым шагом способность соображать возвращалась к Любиме. Всё время молчать и улыбаться – глупо, нужно было о чём-то беседовать; понемногу вспомнила княжна, что она вовсе не пустоголовая егоза, знающая толк только в плясках да в украшениях и нарядах. Ведь бывали в её руках и умные книги из княжеской библиотеки, учила она еладийский язык и читала на нём драмы, комедии и трагедии старинных писателей того жаркого приморского края. Глядя на звёзды, припоминала она труды по астрономии. Очерчивая в небе пальчиком созвездия, она называла их; даже откопала в памяти, как высчитывать по звёздам своё местоположение.
– О, да с тобой и в море не пропадёшь, – с теплотой в голосе улыбнулась Звенимира. – Знатным кормчим могла бы стать, коли б захотела!
В учёности она не уступала Любиме, а скорее всего, и превосходила её. Княжна чувствовала это в её речах, разумных и содержательных, но Звенимира вовсе не старалась хвалиться этим превосходством. Она могла поддержать разговор в любой области знаний, и суждения её звучали взвешенно и глубоко. Если ей случалось возражать княжне, то она старалась делать это мягко, дабы не обидеть и не смутить собеседницу.
– Кажется, мы загулялись, – молвила она наконец, сияя Любиме нежным взглядом сквозь толщу сумрака. – Не хватились ли нас во дворце?..
Её статная золотоволосая фигура, озарённая звёздным светом, чаровала и манила княжну, а сходство с матушкой завораживало до пронзительной дрожи в груди. У Звенимиры было всё, чтобы пленять сердца и завладевать девичьими помыслами: и яркая, притягательная наружность, и ум, и тёплый внутренний свет, на который хотелось лететь бабочкой... Но, ежели продолжить и развить это сравнение, свет сей не обжигал нежных крылышек, он мягко грел и пробуждал в душе ответные движения, искренние и чистые.
– Мне не хочется возвращаться, – призналась Любима, находясь под действием лёгкого и искристого хмеля, от которого ноги чуть подкашивались, но ступали легко, будто по облакам.
– И мне... – Звенимира завладела руками княжны и чуть сжала их – осторожно, будто крошечных хрупких птичек.
Они стояли на краю: ещё один шаг навстречу друг другу – и случится что-то сладкое, волнующее, жутковато-прекрасное... Шаг – и они уже не будут прежними, их души и сердца навек изменятся, озарённые и преображённые зарождающимся чувством. Но Звенимира медлила – наверно, не хотела напугать Любиму или смутить её слишком быстрым сближением.
– Всему своё время, горлинка, – сказала она, выпуская руки княжны и мягко беря её под локоток. – Мы с тобою уже обещаны друг другу – всё самое прекрасное у нас ещё впереди. Предвкушать это – не меньшее наслаждение, чем заполучить. Если не большее...
Они под руку неспешно зашагали к дворцу. Прохлада крепчала, становилась острее и пронзительнее, отрезвляя и возвращая с небес на землю, и Любиму вдруг охватила тревога. Проснулось это чувство писклявым комариком, потом выросло до бубенца, а потом натянулось через душу струной. Переступив порог трапезной и увидев матушку Лесияру, Любима ощутила отчаянное желание кинуться к ней в объятия. Она наконец поняла, что её так встревожило: впереди маячило расставание с родительским домом. Не станет ли матушка, отпустив княжну к супруге, любить её меньше? Не позабудет ли о ней в череде забот и государственных дел? Не завладеют ли Ждана и Златослава её сердцем полностью?
Опять это собственническое чувство... Любима нахмурилась, а призрак Правды хмыкнул: «Что за глупости ты выдумываешь? Приковала себя к матушке цепями, чем и создала себе повод для страданий. Дитё, как есть дитё. Может, тебе ещё грудь дать? Давай, взрослей уже!»
– А вот и наши наречённые, – засияла матушка Лесияра приветливой улыбкой. – Нагулялись, наговорились? Вижу, что нет... Молодость ненасытна!.. Ничего, ничего, – княгиня добродушно потрепала Звенимиру по плечу, – всё впереди!
При государыне и гостях женщина-кошка держалась чинно и учтиво, слегка отдалившись от Любимы, а та и сама не знала, чего ей больше хотелось: пересечь границу этого прилюдного, светского обхождения или убежать и кинуться на свою девичью постель, знавшую тяжесть только одного тела. Разрываемая противоречивыми, тянущими в противоположные стороны чувствами, она затосковала, растерялась и сама не заметила, как приналегла на хмельное. Когда она допивала уже третий кубок крепкого мёда, рядом раздался голос матушки – ласковый и чуть строгий:
– Что это с тобою, радость моя? Никак, напиться вздумала? Не дело это. – И матушка мягко забрала у Любимы кубок, поставила на стол.
Под внимательным, мудрым, как древнее звёздное небо, взором родительницы все сомнения и тревоги, все душевные метания Любимы прорвались наружу слезами. А может, и хмелёк своё дело сделал. Как бы то ни было, нос зашмыгал, в глазах поплыла солёная пелена влаги, и княжна, испугавшись, что со стороны выглядит нелепо, глубоким вдохом задавила в себе всхлипы.
– Уф, – выдохнула она, усиленно моргая и смахивая с ресниц капельки. – Прости, государыня матушка... Не знаю, что на меня нашло.
Взгляд родительницы стал глубоким, внимательным, заботливо-встревоженным.
– Что тебя печалит, родная? Ведь не за горами счастливое событие – твоя свадьба! Что тебе не по нраву? Что тревожит? – Нахмурившись и понизив голос, княгиня спросила: – Может, избранница тебя ненароком задела словом обидным?..
– Ах, матушка, зря я это... – Любима сморщилась, жалея, что дала волю чувствам и нарвалась на эти расспросы. – Забудь, это пустяки! Всё по нраву мне, всё прекрасно! И избранница не обижала меня, что ты... Это так... Причуды мои, и только. – И княжна заставила себя улыбнуться.
Но матушку не успокоил ни ответ Любимы, ни её вымученная, дрожащая улыбка. По-прежнему озабоченная, она покачала головой.
– Что-то не нравится мне это... Вот разойдутся гости – тогда и поговорим как следует. Ну, ступай покамест... А от хмельного держись подальше! – И Лесияра, отходя от стола, погрозила дочери пальцем.
Гости задержались до ночи, и Любима, отягощённая своими невесёлыми думами и не склонная далее веселиться, устремилась в тёмный сад. Забившись в самый далёкий и укромный уголок, она вволю наплакалась среди ив, а те только вздыхали сочувственно, но не могли утешить.
– Любима... Голубка моя, что с тобою? – раздался встревоженный голос Звенимиры, и её руки опустились на плечи княжны. – Отчего ты плачешь? Может, кто-то из гостей обидел тебя? Или я тебя чем-то расстроила? Скажи мне, не молчи!
«Какая она чудесная, как искренне волнуется за меня!» – подумалось Любиме с теплотой. Улыбнувшись, она накрыла руки избранницы своими.
– Что ты, никто меня не обижал, а уж тем более – ты... Просто сердце моё мечется, места себе не находит... Предсвадебное волнение.
Но всхлипы не хотели униматься, и её то и дело встряхивало до боли в рёбрах. Несколько мгновений Звенимира смотрела на состояние княжны с неподдельным огорчением и тревогой, а потом одним махом подхватила в объятия – та только пискнуть успела.
– Ну-ну, горлинка... Ни о чём не кручинься, отбрось все мысли печальные, – приговаривала женщина-кошка, шагая с Любимой на руках по тропинке среди густых зарослей вишни. – Успокойся, лучик мой ясный... Я с тобою. Не дам ни ветру на тебя повеять, ни пылинке сесть.
Уложив Любиму на скамеечку в резной беседке, она укутала её своим нарядным плащом с подкладкой из иноземного бархата, а сама присела рядом и устроила голову княжны у себя на коленях. Покрываясь тёплыми мурашками от лёгких, воздушных прикосновений её рук, Любима сладостно закрыла измученные слезами глаза, а вскоре к ласке рук добавилось мурлыканье. Матушка всегда так делала, когда Любима в детстве не могла успокоиться...
В сон она провалилась совершенно незаметно, а к яви вернулась с удивлением и беспокойным чувством, будто кусок действительности ускользнул от неё. Вокруг по-прежнему шелестел ночной сад, зябкая прохлада забиралась тонкими, бодрящими струйками под плащ с бархатной подкладкой, а хмель прошёл: видно, вытек вместе со слезами, оставив после себя сушь во рту и гложущий душу стыд. Стоило Любиме шевельнуться, как тут же ожили по-кошачьи ласковые руки, а потом прозвучал негромкий, заботливый голос Звенимиры:
– Как ты, моя ненаглядная? Легче тебе?
Поёжившись, Любима села. Её нутро пылало от смущения: вспоминая свои недавние возлияния и последовавшую за этим несдержанность, она хотела бы вырезать именно этот кусок действительности, а не тот, который она благополучно проспала на коленях у избранницы.
– Да, дорогая Звенимира, полегчало мне, – ответила она, уже не обращая внимания на голос, выгодная подача которого сегодня, видно, была обречена на провал. И добавила мягче и сердечнее, чуть дотронувшись до руки избранницы: – Всё прошло, ты не тревожься.
Ничего, кроме усталости, досады и стыда, она не испытывала. Вдобавок ко всему, теперь ныла шея от неудобного лежания. Ещё не хватало, чтоб Звенимира сочла её сумасшедшей чудачкой... «Позволь тебя спросить, отчего ты всё время беспокоишься о впечатлении, которое ты производишь на других? – хмыкнул вездесущий призрак Правды. – Почему бы тебе просто не быть собою?» «Коли я покажу своё нутро, боюсь, оно может многих оттолкнуть», – печально ответила ей Любима – так же мысленно.
Все разошлись, только Звенимиру матушка Лесияра пригласила остаться ночевать. Та с благодарностью приняла приглашение; они ещё немного побеседовали о делах в Яснограде, после чего гостья отправилась в отведённую ей опочивальню, а Любима ускользнула в свою девичью спаленку. Родительница не завела обещанного разговора, и княжна уже успокоилась было, решив, что неловких объяснений не будет, но слишком рано она обрадовалась: вскоре матушка вошла к ней и присела на край постели.
– Ну, что стряслось? – спросила она – скорее грустно, чем встревоженно. – Отчего ты стала сама не своя?
– Матушка, это в самом деле пустяки, – вздохнула Любима. – Не каждый ведь день свою суженую встречаешь... Вот и разволновалась чуток.
– А ежели правду? – Родительница заглядывала ей в глаза глубоко и проницательно.
Тяжко шли слова, комком рождаясь в горле, и княжна с трудом и с большой неохотой выговорила:
– Ты ведь знаешь, государыня матушка, что ты значишь для меня. От одной мысли о том, что придётся покинуть тебя, мне становится так... – Любима не справилась с окончанием, застряли слова, а глаза опять намокли колюче и нещадно.
– Вот оно что, – вздохнула родительница, склоняясь над нею покровительственно и нежно. – Ну, а как ты хотела, милая? Все взрослеют и создают свои семьи. Рано или поздно судьба должна была постучаться и к тебе. Но отчего ты вбила в свою милую головку, будто мы расстаёмся из-за этого навек?.. Родительский дом всегда будет открыт для тебя – и днём, и ночью, хоть каждый день приходи – я только рада буду. Ведь это так просто: шагнула в проход – и ты уже дома.
Любима съёжилась в постели несчастным комочком, и матушка добродушно, сочувственно и нежно погладила её через одеяло, легонько потормошила.
– Ну, ну, дитятко... Ты будто не свадьбы ждёшь, а войны. Ободрись, радуйся! Ты только посмотри, избранница-то тебе какая досталась! Всем на зависть... В объятия к такой славной суженой без оглядки бежать надо, а не за свою девичью светёлку цепляться.
Не выдержав и всхлипнув, княжна села и обвила матушкину шею цепкими объятиями.
– Ты не позабудешь меня, когда я из дома уйду?
От нежности, с которой Лесияра прижала её к себе, у Любимы солоновато-сладко защемило сердце. Вороша её волосы пальцами, матушка тепло прошептала ей на ухо:
– Ну что ты, доченька... Как тебе только могло такое прийти в голову! Ты всегда в моём сердце, и твоего места в нём не займёт никто и никогда. Ты – кровинка моя, сокровище моё бесценное... Ты стала светлой радостью моей и утешением, когда матушка Златоцвета покинула наш мир, и всегда останешься частичкой души моей, которую никому не под силу вырвать.
– Я люблю тебя, матушка Лесияра, – вжавшись в неё всей грудью, всем телом, простонала Любима сквозь исступлённо стиснутые зубы. – Я очень-очень тебя люблю...
– И я тебя люблю, родная моя. – Голос родительницы растроганно дрогнул, а в глазах блеснула влага.
После помолвки Любиму уже как законную невесту отпустили в гости к избраннице. Княжна дивилась облику Яснограда, столь не похожего на обычные белогорские города; широкие, как реки, улицы были наполнены солнечным светом, отделанные мрамором здания высились стройными, величественными глыбами, белизной своей похожие на горные шапки. Из всех наук Любиме более всего нравилось пространственное вычисление и зодчество, и её внимание сразу захватила необычная красота здешних построек. Она казалась холодноватой, рассудочной, но со второго взгляда затягивала и чаровала до восхищённой дрожи. Княжна отдавала дань уважения мастерам, разработавшим и создавшим всё это великолепие, отточенное и сложное, выверенное и вымеренное до вершка, безупречное... Просто невообразимо чудесное.
– Это всё построили навии? – спросила Любима, когда они со Звенимирой прогуливались по улице.
– Да, Ясноград создали зодчие из Нави, – ответила управительница этого завораживающего города.
– Они удивительные мастера, – молвила княжна, любуясь крошечными садиками с водомётами, расположенными вдоль улицы через равные промежутки.
Каждый садик украшали затейливо выточенные скамеечки из камня и дерева, а также статуи в задумчивых позах. Деревья и кусты были посажены с изящным расчётом, а небольшие цветники радовали взор яркостью и сочностью красок.
– Здесь всё такое... упорядоченное, – подобрала Любима слово, чтобы описать своё впечатление от облика города.
– Тебе нравится? – Звенимира ласково щурилась от солнечного света, щедро лившегося с небес и отражавшегося от белого мрамора зданий.
– О да! – молвила княжна, в упоении скользя взглядом по безукоризненно правильному, повторяющемуся рисунку перил набережной. – Наверно, оттого и нравится, что сама я такая... суматошная. Противоположности притягиваются.
– А я думала, город тебе покажется скучноватым и... очень уж причёсанным, что ли, – улыбнулась Звенимира.
– Скучноватым? Что ты! – Любима вскинула взгляд к вершине величественного здания с колоннами. – Эта упорядоченность не навевает скуку, отнюдь! Ежели вглядеться, тут можно найти такое разнообразие рисунков, что просто глаза разбегаются и словно в бездну проваливаются. Городом можно любоваться бесконечно, это никогда не надоест! И каждый раз открывается что-то новое, ускользнувшее в прошлый раз – вот что удивительно!
– Я рада, что тебе тут пришлось по нраву, – молвила женщина-кошка, легонько обнимая княжну за плечи. – Но ты ещё не видела ночного Яснограда. На это стоит взглянуть, поверь.
Ночью здания излучали мягкий свет, молочно-лунный и прохладный. Его однообразную белизну разбавляли цветные вставки, незаметные днём и неожиданно проявившиеся в темноте. Они составляли сложный, мастерски продуманный узор, от которого дух захватывало. Вне всяких сомнений, это создали творцы, наделённые величайшим дарованием – убеждённость в этом окрыляла душу Любимы мощным благоговейным трепетом.
– Стены покрыты особой краской, видоизменяющей свет, – пояснила Звенимира. – Днём она не видна, а вот когда солнце прячется, она и начинает делать своё дело.
– Это... Это чудо чудесное, – восхищённо прошептала Любима, окидывая взглядом город с высоты.
Они любовались Ясноградом с крыши дворца градоначальницы, стоя на огороженной перилами смотровой площадке. Любима перевела взгляд на Звенимиру и вздрогнула: лицо избранницы приближалось, а глаза застилала такая же восторженно-влюблённая дымка, с которой княжна только что взирала на городские красоты. Холодок пробежал по коже Любимы, обдал волной нутро: вот оно – то самое, до чего они не дошли в саду княжеского дворца в свою первую встречу... Они остановились тогда в одном шаге, а сейчас уже ничто не мешало сделать его. Губы Любимы накрыла тёплая, щекочущая ласка, и она замерла, не зная, впустить ли её глубже или отстраниться, перевести дух... Что-то подсказывало, что прерывать это не стоило, и она раскрыла губы. Поцелуй проник внутрь, проскользнул влажно и горячо, доводя её до сладковатой слабости. Несуразным комком подкатила к горлу стыдливость, но было уже слишком поздно уклоняться и что-то прятать. Городские огни поплыли вокруг Любимы, и она, ахнув, повисла на шее Звенимиры.
– Что-то голова закружилась, – прошептала она. – Мы упадём...
Высотный ветерок холодил влажноватые от поцелуя губы, им было неуютно выныривать из обволакивающего тепла. Объятия Звенимиры держали Любиму надёжно, а сама женщина-кошка стояла непоколебимо, как огромная статуя княгини Лесияры возле дворца.
– Не упадём, не бойся, – мурлыкнула она, щекоча кончиком носа щёки девушки. – Перила высокие и крепкие.
– Всё равно кружится... – Любима зажмурилась, вжавшись в Звенимиру всем телом.
Та с мурчащим смешком подхватила её на руки и усадила на скамеечку, поставленную вдали от края площадки на небольшом возвышении – видно, для лучшего обзора. Ласка её пальцев обожгла щёки Любимы будоражащими полосками, и глаза княжны распахнулись навстречу взгляду избранницы.
– И у меня кружится, – молвила та. – Но не от высоты, а от тебя, ладушка... От уст твоих сладких.
– Поцелуй меня ещё, – выдохнула Любима, сжавшаяся в комочек, окружённая со всех сторон гулкой высотой, обдуваемая ночным ветром и околдованная огнями. – Хочу распробовать...
Звенимира, спрятав полный блаженства взгляд в прищуре пушистых ресниц, с наслаждением исполнила её просьбу.
*
Возня с дочкой отвлекла Любиму от тоски. Кроха отнимала много сил, но взамен дарила радость – одним только сиянием своих круглых глазёнок, доверчивых и распахнутых с вниманием навстречу каждому движению матушки. «Ты – мой мир», – читалось в них. Не то чтобы Любима совсем уж не знала, как подступиться к ребёнку; вспоминая собственное детство, она придумывала шумные и весёлые игры, и покои оглашались визгом и хохотом мамы и дочки. Няньки потом жаловались, что после этих забав маленькую кошечку трудно угомонить: взбудораженное дитя подолгу не хотело укладываться на дневной сон. Пятеро девушек приглядывали за Радяной круглосуточно, сменяя друг друга на посту; ночью одна из них тихонько стучалась в хозяйскую опочивальню и подносила Звенимире дочурку на кормление. Любима даже не всегда просыпалась при этом.
Как не хватало ей Ясны!.. Одно молчаливое присутствие верной телохранительницы всегда успокаивало её. Княжна забрала её после свадьбы с собой в дом супруги: она любила эту дружинницу с детства, как родную, а та отвечала ей немногословной, но крепкой и преданной привязанностью. Какое-то время Ясна продолжала исполнять свои обязанности, как и раньше, а вскоре после рождения Радяны она, смущаясь, вдруг объявила, что нашла одну славную, добрую и милую, но засидевшуюся в девицах особу. К Звенимире с Любимой она церемонно обратилась за разрешением на брак; удивлённая княжна постаралась не показать виду, что новость эта её уязвила. «Что, променяли тебя на какую-то старую деву? – усмехался призрак Правды. – Ясна – не твоя личная вещица, не рабыня. Ты, вон, обзавелась семьёй, почему же она не имеет на это права?..» Далее Ясна недолго прослужила у Любимы: в считанные седмицы после свадьбы её супруга понесла под сердцем дитя. Служба телохранительницы совсем не оставляла времени на семью, и Звенимира милостиво приняла решение перевести Ясну на другую должность. Увы, теперь её служба проходила далеко от дворца, и виделись они с Любимой редко.
«Что же я наделала, как я могла уйти?» – казнилась княжна, с болью вспоминая свою сегодняшнюю душевную слабость, заставившую её покинуть таинство упокоения преждевременно. С горьковатой завистью она думала о белых цветах, которые матушка послала Ждане на прощание; даже сейчас треклятая ревность подавала голос... Когда же она окончательно её победит, когда вырастет из этого собственнического чувства, как из детских одёжек? Родительница уж в Тихой Роще, а Любима всё ещё не могла поделить её с Жданой.
«И это – твоя хвалёная любовь? – качал головой призрак Правды. – Клялась, что любишь матушку пуще жизни, а сама даже не осталась с нею до конца... А Ждана осталась. Она заслужила цветы, а ты – нет».
Любима провела рукой по глазам, смахивая образ покрытой шрамами кухарки из Шелуги. Не было никакой Правды на самом деле... Это она сама, надевая маску, шпыняла себя, корила и осуждала самым страшным, самым немилостивым и нещадным судом.
– Госпожа, ну вот, опять Радянушка не хочет спать! – пожаловалась нянька, остановившись перед Любимой с ёрзающей и хнычущей на руках девочкой. – Что делать прикажешь? Мы уж и так с нею, и сяк...
– Зачем вас только держим, коли впятером с одним дитём сладить не можете? – вздохнула княжна. – Ладно, давай её сюда.
Она устроилась с ребёнком на ложе, гладя Радяну по спинке и почёсывая за ушками. Малышка жмурилась и расплывалась в довольнёхонькой улыбке. Она ещё не перекидывалась в зверя, но мурлыкать уже научилась, и вскоре Любима услышала знакомое долгое «мррррр». Сердце сжалось от нежности, и княжна, обняв дочку, склонилась головой на подушку. Мурчание усыпляло, веки непреодолимо склеивались, и дрёма сладким киселём втекала под них...
Сквозь сон она почувствовала мягкие, ласковые прикосновения. Кто-то освободил её от этого несносного тугого пояска с врезающейся в тело пряжкой, расстегнул и снял серёжки, и мочки ушей ощутили блаженство свободы и лёгкости.
– Ах ты, дрёма сладкая, – нежно приговаривал мурлычущий голос супруги. – Угомонила обеих моих ягодок... А одна ягодка даже раздеться не смогла. Ух, какая дрёма могучая, всех поборола!..
Вспомнив своё обещание не засыпать и дождаться супругу, Любима с досадой застонала.
– Прости, сморило меня что-то, – зевнув, прошептала она, чтоб не разбудить Радяну, которая посапывала под боком.
– Спи, спи, ладушка. Спи, коль устала. – Губы Звенимиры невесомыми поцелуями защекотали Любиму. – Давай только одёжку снимем, в сорочку переоденемся – и дальше баиньки...
Сонная, вялая Любима повиновалась заботливым рукам супруги. И впрямь сморило её с какой-то неодолимой, сковывающей по рукам и ногам силой... Вскоре она, облачённая в ночную сорочку и укрытая пуховым одеялом, впитывала каждым изгибом тела сладостную мягкость перины, а Звенимира кормила на ночь пробудившуюся ненадолго дочку. Вскоре Радяна была уложена, и женщина-кошка, гибко скользнув в постель, обняла Любиму.
– Ну вот, все дела на сегодня сделаны, я дома, – шептала она, грея дыханием отсыревшие от нежных чувств ресницы княжны. – Отринь печаль-кручину, пускай ни грусть, ни тоска сердечная твоего сна не потревожит... Я с тобой, звёздочка моя ясная. Спи, отдыхай, сил набирайся... Завтра – новый день, солнышко встанет, глазки твои лучами поцелует, и высохнут твои слёзы. Отлетит тоска пташкой перелётной, и улыбнёшься ты так, как только ты одна умеешь, огонёчек мой жаркий. Без тепла твоего и улыбки и я затоскую, так что не горюй, не убивайся, а к жизни возвращайся.
Наставший день принёс и поцелуи солнечных лучей, и светлый дух весеннего цветения. Гуляя с Радяной в дворцовом саду, Любима подставляла лицо тёплой ласке солнышка, а яблони усеивали дорожку под её ногами белыми кружочками лепестков. Подаренные Ждане белые цветы вспомнились княжне, и сердце опять заныло, подкатила к нему волна острого, тоскливого холодка. Они с дочкой живут, новый день встречают, запахом цветущего сада наслаждаются, а матушке уж не погулять с ними вместе: навеки вросли её ноги в тихорощенскую землю, став сосновыми корнями... Ну что ты будешь делать! Снова глаза на мокром месте. А Радяна удивлённо трогала солёные капельки, вытирала их пальчиками со щёк Любимы и пробовала на вкус.
«Навести родительницу, не тяни с этим», – сказала Звенимира, но дни шли, а княжна всё никак не могла найти в себе силы посетить Тихую Рощу. Занятая делами супруга всё забывала ей об этом напомнить, а спохватилась уже летом, когда близился День Поминовения – первый для княгини Лесияры. Теперь не она сама отдавала дань памяти своим предкам, а её родным предстояло прийти к ней в этот грустновато-светлый и тихий день.
– Милая, а ты что ж, так к матушке и не сходила? – спросила Звенимира однажды вечером, вернувшись домой после трудового дня.
Горьким грузом на сердце повисла вина, и Любима вздохнула, опустив глаза долу: стыдно ей было встретить вопрошающий, пристально-ясный, озабоченный взор супруги.
– Нет, лада, – еле слышно проронила она. – Тяжко мне решиться... Всё кажется мне, что ежели я увижу матушку Лесияру обратившейся в сосну, не выдержит сердце моё, разорвётся. Страшно мне...
– Ягодка, ну что ж ты! – с мягким укором молвила Звенимира. – Я ведь обещала государыне, что ты придёшь. Матушке твоей в полный покой погрузиться давно пора, а она всё никак не может: тебя ждёт. Не мучь её и сама не мучайся. Ничего не случится с твоим сердечком, я рядом буду. Давай сходим вместе завтра, м?
– Нет, нет, только не завтра, я не смогу, – встрепенулась Любима испуганно. – Дай мне ещё немного времени с духом собраться, родимая.
Звенимира покачала головой.
– Ох, ягодка, ягодка... Ну хорошо. Силой тащить тебя я не могу, конечно. Давай, собирайся с духом поскорее. Уж на День-то Поминовения точно надо пойти.
– Я пойду, лада, – пролепетала княжна, дрожа на грани слёз. – Непременно пойду. Только ещё чуть-чуть успокоюсь.
– Горе мне с тобой, – вздохнула Звенимира, целуя жену и привлекая к себе в объятия.
– Прости, лада, – сдавленно, сквозь ком в горле сказала Любима. – Трудно мне с уходом матушки смириться. Не получается быстро душу в покой и порядок привести.
– Солнышко моё, так для этого и надо в Тихую Рощу сходить! – Звенимира приподняла ласково её лицо за подбородок, заглянула в печальные глаза. – И сразу душа и сердце на место встанут, вот увидишь. А ты всё боишься и тянешь. И зря!.. Говорю тебе: как только сходишь к матушке, так тоска и отпустит тут же.
– Ох, не знаю... – Любима съёжилась зябким комочком в объятиях женщины-кошки.
– Так и есть, ладушка, – твёрдо заверила та. – Правду тебе говорю, сама через это проходила. Иди без боязни, сила Лалады всю твою печаль-кручину вылечит. Медку там возьмём... Любишь же мёд тихорощенский?
– Угум, – отозвалась княжна, уткнувшись в плечо Звенимиры.
– Ну, вот и славно. И не страшись ничего, всё пройдёт хорошо. – И Звенимира поцеловала свернувшуюся в её руках в клубочек Любиму в ушко. – А пока на Нярину сходи, в источнике горячем искупайся. Может, поскорее успокоишься.
Любима последовала совету супруги, окунувшись в купель на пологом склоне Нярины. Чуть полегчало ей, но всё ж тоска ещё нет-нет да и трепыхалась в груди, вонзалась в сердце. А там уж и середина лета настала – пришла пора посещать прародительниц в Тихой Роще. У каждой белогорской семьи в ней кто-то покоился, не стало исключением и семейство княгини Лесияры...
Накануне Дня Поминовения Любиму опять охватил тоскливый страх. Вставали перед её мысленным взором те последние картины: матушка, становящаяся спиной к стволу, цветы в её просто и опрятно причёсанных девами Лалады волосах, чистая белая сорочка, босые её ступни, к которым ласкалась шелковистая тихорощенская трава... И воскресала тоска, как в первый день, с прежней силой, ничуть не ослабевшая, заставляя Любиму сжиматься и прятаться в уголок, словно испуганный зверёк в норку.
– Ладушка, ну что с тобою опять? – спрашивала Звенимира. – Что же ты трясёшься так?
– Я не смогу, родная, не смогу, – шептала княжна, роняя слёзы ей на рубашку. – Можно, я не пойду завтра?..
– Вот те раз, – нахмурилась женщина-кошка. – Нет, ягодка, нельзя так. Ты хочешь вечно матушку заставлять ждать? В который раз тебе говорю: всё хорошо будет. Ты сама своё исцеление оттягиваешь, понимаешь ты это, глупенькая?
Любима вроде бы и понимала, вроде и верила Звенимире, но стоило ей даже мысленно устремиться в сторону Тихой Рощи, как её охватывала холодная, каменная обездвиженность. Не было сил в теле, повисали руки плетьми, а ноги не несли её, превратившись в два одеревеневших непослушных обрубка. Утренние молчаливые поминки с кутьёй в родительском доме она кое-как выдержала, а когда настало время отправляться в Тихую Рощу, Любима застыла ледяным изваянием, будто примёрзла к лавке.
– Пойдём, ладушка, – шепнула Звенимира, мягко кладя ей руки на плечи и склоняясь к самому уху.
– Ноги не идут, – глухо, неузнаваемо обронила княжна слова – будто холодные дождевые капли упали с уст.
– Сестрица, голубушка! – Увенчанная княжеской короной Огнеслава присела перед Любимой, накрыв её безжизненно лежавшие на коленях руки своими неистребимо шершавыми рабочими ладонями. – Ты не одна, мы все рядом с тобою. Ежели хочешь, мы с твоей супругой возле тебя пойдём: она – по правую руку, я – по левую. Держись за нас и шагай.
Уже не нужна была Любиме маска Правды, чтобы презирать себя за эту слабость. Как глупо, как скверно всё это выглядело со стороны! Все уговаривали её, а она упёрлась – и ни с места. Но сердце билось тяжко, со скрипом, точно последние удары отсчитывая, и холодели душа с телом, будто бы чуя близкую погибель. Вздохнув, Звенимира переглянулась с Огнеславой.
– Может, мне её на руках понести? – устало и печально высказала она предложение.
– Нет, в Тихую Рощу только добром и по своей воле идти следует; силком тащить никого нельзя, неправильно это, – выпрямившись, качнула новая княгиня гладкой головой: причёску оружейницы она собиралась носить пожизненно, дабы не терять связи с Огунью. И добавила, снова склонившись к Любиме: – Сестрица, ну, может, ты хотя бы вечером, после всех уж, к матушке Лесияре сходишь? Не можешь сейчас – попозже иди.
Шевельнув сухими, горчащими губами, Любима выдавила:
– Простите меня все... Мне стыдно. – Трудно родились слова, раня горло острыми гранями, но были искренними. Что горело сейчас на сердце у неё, то и сказала Любима.
– Ну, ну, сестрёнка... – Огнеслава вновь присела, и руки княжны утонули в её огромных ладонях, привыкших к молоту и клещам кузнечным. – Никто тебя ни в чём не винит и не укоряет. Плохо только, что ты одна остаёшься... Лучше б вместе с нами пошла, но коли не можешь – не надо.
Любима не решалась поднять взгляд на Ждану. Они не встречались со дня упокоения матушки; княжна боялась увидеть на её лице отражение этого дня и с новой силой окунуться в пучину горя... Невыносимо, немыслимо. Она лишь вскользь отмечала присутствие Жданы, но лицо матушкиной супруги оставалось размытым. Отводя глаза, Любима старалась не допустить, чтоб оно проступило чётко и ранило её отголосками последних часов родительницы.
А Звенимира, поколебавшись несколько мгновений, сказала:
– Государыня Огнеслава, прости, но я тоже останусь. Не могу я Любиму покинуть.
– Поступай так, как тебе велит сердце, – молвила та. – Ежели оно решило, что твоё место – рядом с супругой, так тому и быть.
Любима жалобно, измученно вскинула глаза на Звенимиру и тут же сомкнула веки, но и этого мгновения хватило, чтобы пораниться сердцем об этот сдержанно-грустный взгляд. Осуждала ли её супруга или укор в её глазах только чудился Любиме? Острая нежность, благодарность и давящий стыд мешались в один комок чувств. Стыд и презрение к себе преобладали, княжна была сама себе противна. Теперь к этому добавилась ещё и вина за то, что из-за неё Звенимира не посетит свою родительницу в День Поминовения...
– Лучше б ты пошла со всеми, лада, – тихо молвила Любима, когда они остались наедине. – Оттого, что ты осталась, не легче мне. Только ещё горше...
– Ну, как тебя одну оставить? – вздохнула супруга. – Ежели б я пошла, душа б моя была не на месте, всё думала б, как ты там... Государыня Огнеслава верно сказала: моё место – с тобой. Ты не горюй и не казнись, лада, не бери лишний груз на сердце. Матушка моя на меня не обидится, что я тебя выбрала нынче, а не её.
Любиме оставалось только уткнуться в грудь Звенимиры и раствориться в её объятиях. С большого поминального обеда она отпросилась у сестры-княгини: это было б для неё уже слишком. Печалью давили на неё стены родительского дома, такого тихого и пустого без матушки Лесияры... Огнеслава отпустила её, на прощание прижав к груди.
– Родная, ты всё-таки сходи в Тихую Рощу, когда сможешь.
– Я схожу, сестрица Огнеслава, непременно схожу, – пообещала княжна.
Сомкнув вечером глаза в постели, она с удивлением открыла их в золотом от солнечных лучей сосновом бору. Каждая травинка словно ждала её уже давно и радовалась её приходу; хрустально перезванивались птичьи голоса в светлой тишине этого приветливого леса, наполненного живым, одушевлённым вниманием. Он незримо смотрел на неё, будто бы улыбаясь; Любима чувствовала эту улыбку солнечным теплом на коже, а ветерок касался её щёк, как чьи-то ласковые пальцы. Глянув себе под ноги, она беззвучно ахнула: из травы появлялись цветы с белыми чашечками – точь-в-точь такие, о каких рассказывала Звенимира. Горестно и сладко ёкнувшим сердцем Любима догадалась, кто ждал её здесь...
Цветы поднимались и поднимались из земли, но росли не просто так, а складывались в дорожку, которая звала Любиму за собой. Ещё недавно ноги княжны отказывались ей служить, а теперь сами несли её вперёд, пока не привели на полянку, залитую солнечным золотом. А белые цветы уже ласкались к чьим-то нарядным сапогам с кисточками... Подняв взгляд выше, Любима увидела матушку Лесияру.
Вся тёплая, древняя мудрость Тихой Рощи сияла в родных глазах, ставших ещё светлее, ещё прекраснее, чем прежде. Озарённая светом фигура родительницы плыла в дымке слёз, градом хлынувших из глаз Любимы.
«Доченька, отчего ты не хочешь прийти? – прозвучал ласковый голос, обнимая княжну струйками летнего ветерка. – Ежели б ты осталась тогда до конца, не было бы этой тоски, которая и твою душу тяготит, и до меня долетает отголосками. Я слышу, как ты плачешь, и твои слёзы обжигают меня. Неспокойно мне, болит душа о тебе... Приходи, дитя моё, и обними меня».
Кинувшись к родительнице, Любима гладила пальцами её щёки, целовала глаза и зарывалась носом в воздушные, колышущиеся пряди волос.
«Матушка, прости меня... Я такая глупая», – шептала она со слезами.
Проснувшись в тёмной опочивальне, Любима с судорожным вдохом вскинулась в постели и долго не могла перевести дух. Рядом спала Звенимира, разметав ржаные кудри по подушке, дочка видела десятый сон в своей колыбельке... Няньки заспанно приоткрыли глаза, услышав шорох шагов хозяйки, но заглянувшая Любима приложила палец к губам и шепнула:
– Тс-с... Спите, спите. Я так... Проверить просто, всё ли ладно.
Малышка мурлыкала во сне – неудивительно, что нянек сморило. Склонившись над Радяной, Любима с нежностью рассматривала острые кошачьи ушки, розовый ротик, пускающий слюнки, и пушистые щёточки ресниц. Дочка больше в Звенимиру уродилась, чем в неё, но княжна с теплом в сердце узнавала дорогие черты супруги в личике ребёнка.
– Спи, мой котёночек, – прошептала Любима, тихонько коснувшись пальцем завиточка светлых волос Радяны.
До полуночи оставалось полчаса, День Поминовения истекал, но ещё не закончился. Светлое потрясение только что увиденного сна наполнило Любиму решимостью, и она шагнула в проход.
Тихая Роща встретила её таинственным зеленоватым мерцанием сосновой хвои: здесь никогда не было полной тьмы. Любиме потребовалось привыкнуть к этой целебной горечи в воздухе и ещё какому-то тонкому, неописуемому запаху – духу грустноватого, благодатного покоя. Она маленькими глоточками вдыхала его, закрыв глаза: боялась обжечь матушку Лесияру слезами. В уголках глаз что-то назревало, но Любима плавным дыханием утихомирила эти ощущения. Воистину чудесное это было место: один только его воздух сразу настраивал душу на умиротворённый, мудрый, спокойный лад.
Наконец княжна открыла глаза и осмотрелась. Проход вывел её без промаха прямо к сосне, из коры которой проступал величавый деревянный лик – знакомый, родной... В груди ёкнуло, Любима задышала чаще и глубже, но струившийся со всех сторон медово-хвойный покой мягко смывал желание плакать, растворял слёзы ещё где-то на полпути к глазам. Вопреки своим страхам, княжна смогла всмотреться в это лицо, разглядев каждую его чёрточку, и её сердце не разорвалось, только щемило пронзительно-нежно, светло и тихо. Сама тихорощенская земля помогала ей, утешала и поднимала душу к высотам спокойной, ласковой мудрости и понимания. «Таков ход жизни, – молчаливо дышали невозмутимые лица сосен вокруг. – Таков её извечный порядок».
Шагнув к сосне, Любима приложила ладони к коре – тёплой, как человеческая кожа. Ей даже чудилось, будто дерево дышит незаметно. Да, жизнь не заканчивалась с уходом в чертог покоя, она просто принимала иной вид. Прикосновение ладоней перетекло в объятия: Любима обхватила мощный ствол и прижалась к нему щекой.
– Прости, матушка, – прошептала она. – Прости, что покинула тебя тогда и долго не приходила после. Меня держал страх перед болью... Теперь я понимаю, что он был напрасным. Прости меня, глупую...
Дерево ожило, его ветви зашелестели, и Любима ощутила, что поднимается в воздух. Сосновый лик очутился прямо перед нею, и с него на княжну смотрели открытые глаза – родные и любимые.
– Я рада, что ты пришла, – скрипуче прозвучал из глубины ствола голос, но даже сейчас Любима узнавала его. – Помни, о чём я говорила тебе: я всегда буду с тобой. На земле ли, среди живущих, или здесь, в месте упокоения – я с тобой вечно.
– Можно побыть у тебя, матушка? – спросила Любима, чувствуя солёную влагу в горле, но не допуская её к глазам.
– Оставайся, сколько хочешь, дитя моё, – был ответ. – Я буду хранить твой сон.
Живые ветки-руки образовали что-то вроде гнёздышка, в котором Любима устроилась вполне удобно. Ей было хорошо видно матушкино лицо, и она смотрела в него лёжа, пока её веки не начали склеиваться, словно тихорощенским мёдом намазанные.
Проснулась Любима от щекотной прохлады: она лежала в траве у подножья сосны, и её окружали белые цветы – те самые. Они льнули к ней, обнимали со всех сторон, нежно касались губ и щёк, будто целуя. «Пора просыпаться, – как бы говорили они. – Новый день настал, супруга с дочкой ждут тебя дома». Любима с улыбкой погладила белые чашечки в ответ на их ласку и села. Небо только начинало светлеть от первых проблесков зари, Тихая Роща была погружена в сладкий сон – даже птицы ещё не пели. Княжна потянулась и поднялась, ощущая свежесть и упругую силу и в теле, и в душе – никогда в жизни она так не высыпалась. Скользнув ладонью по стволу родной сосны, она шепнула:
– До встречи, матушка... Я непременно приду снова.
Она не стала сразу нырять в проход: ей хотелось немного пройтись по тихорощенской земле. Только сейчас Любима заметила, что не обута, а тело её покрывала только ночная сорочка. Этот пронзительный сон выдернул её из постели – в чём была, в том и бросилась она к матушке. Почувствовав босыми ногами знакомую щекотку, она остановилась с улыбкой, но несколько мгновений держала глаза закрытыми. Она знала, что там...
Белые цветы тянулись за нею от сосны дорожкой и льнули к её ногам чашечками, будто прохладными губами. Любима даже не думала их рвать, слишком живыми они были; опустившись на колени, она целовала их в головки и ворошила пальцами. После она поднялась и обернулась... Сосна спала в глубоком покое, капля которого росинкой упала в сердце Любимы. Послав ей воздушный поцелуй, княжна прошептала:
– Благодарю тебя, матушка... Ты всегда со мной.
Поцелуй, снявшись с её пальцев, полетел ветерком и легонько коснулся сосновой хвои.
* * *
Отложив бритву и проверив пальцами гладкость головы, Огнеслава надела перед зеркалом княжеский венец. Уголок рта дрогнул в усмешке: странно корона смотрелась на её блестящем черепе... Косица, ниспадая с темени, ложилась на плечо и спускалась до самого пояса. Впервые у Белых гор была княгиня-оружейница.
Девушка-горничная унесла использованную воду в тазике, а Огнеслава закончила приводить себя в порядок перед новым днём. Умытая и одетая, она летящими шагами покинула опочивальню и устремилась в трапезную: с некоторого времени она изменила свой обычай работать с утра натощак и стала всё же подкрепляться лёгким завтраком. Поднималась она раньше всех, а потому часто её утренняя трапеза проходила в одиночестве.
Но на сей раз её дожидались Мила и Леля – дочки-погодки пяти и шести лет, будущие белогорские девы.
– Матушка Огнеслава! – закричали они, соскальзывая с лавки и бросаясь к княгине.
– Вы мои красавицы... – Огнеслава, подхватив дочурок, крепко расцеловала обеих в щёчки и в чёрные, как у Зорицы, косички. – Чего так рано вскочили?
– Мы хотели с тобою утром увидеться, матушка! – сказала старшенькая, Мила.
А Леля добавила:
– Потому что в другое время тебя и не застать...
Огнеслава вздохнула. Нужно хотя бы в обед бывать дома подольше, решила она.
Дочки уплетали оладушки с мёдом и простоквашей, не слезая с её колен, потом княгиня с полчасика прогулялась с ними по саду, то и дело чмокая их милые синеглазые личики, а те и рады были ласке вечно занятой родительницы. Зорица, к слову, снова беременная, вставала позднее, и Огнеслава не стала тревожить её отдых – отбыла по делам.
Кузнец по призванию, с шести до девяти утра она обыкновенно посещала мастерские. Это было время отрады для её души и трудолюбивых рук. Отдав дружиннице дорогой, шитый золотом и жемчугами кафтан и княжеский венец, она переодевалась в рабочую одёжу и сама вставала к наковальне. Мастерицы дивились новой белогорской правительнице, которая мало того что носила такую же, как у них, причёску, так ещё и делом кузнечным владела искусно.
С девяти и до обеда Огнеслава занималась разнообразными государственными делами, разбирала бумаги, выслушивала доклады Сестёр, принимала посетителей и просителей. На обеде часто присутствовали советницы и велись деловые разговоры: как тут девочкам не скучать по родительнице... Надо что-то менять в распорядке, думала Огнеслава.
После обеда – короткий отдых с семьёй и снова дела. Княгиня посещала белогорские города – благо, проходы делали такие перемещения мгновенными. Не забывала она и Заряславль, где вместо неё главой осталась племянница Ратибора.
А что же Рада?.. Как и сама Огнеслава когда-то, дочь всей душой любила кузнечное дело, а к делам государственным оставалась равнодушна. И ум, и способности у неё были, княгиня знала это, но заставить её заниматься чем-то нелюбимым не представлялось возможным. Наукам их с Ратиборой обучали одинаково, только Рада всё больше пропадала в мастерской, а её сестра помогала Огнеславе, тогда ещё градоначальнице Заряславля. Пытались Раду звать на совещания, чтоб она хоть какое-то понятие имела об управлении городскими делами, но она скучала и считала птиц за окном. Когда же её спрашивали: «Ну, а ты что думаешь об этом?» – она отвечала неизменно:
– Вы всё верно решили. Зачем мне спорить?
Но вот за наковальней или за чертежом её глаза горели живой искоркой. Более всего любила Рада часовые механизмы; ещё будучи подмастерьем, она делала их с особой выдумкой и затеей – с движущимися механическими фигурками. Огнеслава, которая и сама с юных лет пребывала в лоне Огуни, с одной стороны, радовалась такому дару у дочери, а с другой – печалилась, что наследницы престола из неё, скорее всего, не выйдет. Не хватало у неё духу отрывать Раду от любимого дела, рука не поднималась толкать её на чуждую для неё стезю, но заранее ведь не угадаешь, как судьба вывернет. Сама Огнеслава когда-то тоже не мыслила себя правительницей, а вот пришлось стать... Сперва довелось ей занять место Светолики, а теперь и сменить матушку Лесияру.
Ратибора же пошла в родительницу свою – и наружностью, и нравом, и способностями. Училась она сперва при Заряславской библиотеке, потом отправилась на учёбу в Евнаполь. В деятельной, сметливой, любознательной племяннице Огнеслава узнавала сестру, и ёкало порой сердце – ну до чего на Светолику похожа!.. В пору, когда ушла матушка Лесияра на покой в Тихую Рощу, Ратибора уже была правой рукой градоначальницы Заряславля, и Огнеславе не оставалось ничего иного, как только оставить там вместо себя именно её. А кого ещё оставишь?.. Не Раду же. Рада – кузнец до мозга костей, да ещё и упрямая, как сто ослиц. Ежели чего-то не хочет – не заставишь. А давить и ломать... Нет, не могла Огнеслава так поступить. Светолика-младшая, дочка прославленной княжны от кудесницы Берёзки, была ещё юна и училась. Навья Гледлид увлекла её наукой о слове, и та мечтала остаться при библиотеке и выбиться в преподавательницы.
Но настала пора окончательно решить, кого назначить наследницей белогорского престола, и Огнеслава пребывала в нелёгких раздумьях. Выбрать Ратибору – обделить Раду... С другой стороны, Ратибора – тоже её родная кровь, дочь Светолики и внучка матушки Лесияры, да и пригодна она к управлению гораздо более, чем Рада. Уже давно все эти мысли посещали Огнеславу, но сегодня она решила, что день настал.
После обеда Мила с Лелей опять повисли на ней:
– Матушка Огнеслава, ну побудь с нами! Давай погуляем в саду! Там вишенки на верхних ветках поспели, а нам не достать...
– Вишни захотели, ягодки мои? – засмеялась княгиня, подхватывая дочек на руки. – Ну пойдёмте, коли так.
Зорица улыбалась, шагая за ними следом. Живот округло проступал под её просторным летником; Огнеслава старалась идти не слишком споро, чтоб не напрягать супругу. А дочки уже тянулись к ярким, блестящим на солнце вишенкам:
– Вон, вон они висят!
Огнеслава подняла девочек как можно выше, и те, счастливые, принялись рвать и есть сочные плоды – только косточки во все стороны летели. Порой они угощали и родительницу ягодкой-другой. Зорица, чувственно сорвав губами вишенку и не сводя с супруги пристально-ласкового взгляда, всё улыбалась, и Огнеслава, двинув бровью, усмехнулась:
– Что это ты, ладушка, вся такая загадочная? О чём задумалась?
– Вечером скажу, – ответила та, игриво прикусив губу.
– А сейчас нельзя? – Княгиня всматривалась в сияющее и красивое, нетронутое временем лицо жены, пытаясь угадать, что за мысли бродили за этим высоким, гладким лбом. – Я ж до вечера вся изведусь!
– Ничего, потерпишь. – И Зорица скользнула ладонью по рукаву супруги, окутав её незабудковыми чарами взгляда.
– Вот ведь какая! – озадаченно хмыкнула Огнеслава.
Отдохнув, она отправилась в Заряславль. Ратибора отлучилась по делам, и Огнеслава, попросив известить её о своём приходе, присела в беседке недалеко от дворца. Ей поднесли квас и блюдо огромных, кисловато-сладких вишен, и княгиня, наслаждаясь тенью и прохладным ветерком, опять задумалась...
– Государыня! Ты звала меня? Я здесь!
Сильный молодой голос вывел княгиню из вишнёво-летнего оцепенения. К ней спешила, стремительно шагая, юная Светолика... Нет, конечно, то была Ратибора. Ветер трепал её золотую гриву, солнце сверкало в глазах цвета голубого хрусталя, яркие губы подрагивали в готовой вот-вот расцвести улыбке, а на подбородке красовалась выразительная ямочка – та самая, знаменитая. Как у родительницы.
– Здравствуй, государыня Огнеслава, – шагнув в беседку, выпалила слегка запыхавшаяся от спешки Ратибора. – Слушаю тебя.
– Присядь, – кивнула княгиня.
Сперва они поговорили о делах в Заряславле; шли они ладно, племянница справлялась, что не могло не радовать Огнеславу. Бросив в рот вишенку, княгиня вымолвила:
– Вот что, голубушка моя... Настала пора выбрать мне наследницу, которая после меня Белыми горами править станет. Хоть я и недавно ещё совсем на престол вступила, а всё же дело это непростое, его далеко загодя решать надобно. У всякой правительницы наследница должна быть... Так вот. Подумала и решила я, что лучше тебя не сыскать никого. Дочь моя, Рада... Сама знаешь, какова она. Всё в кузне да в кузне – совсем как я когда-то, а к науке управления не проявляет ни рвения, ни прилежания. Пыталась я её хоть как-то к этому привлечь, да всё без толку. Принуждать её не стану, не хочет – не надо. Каждый на своём месте хорош... Сама-то я не совсем по своему желанию править Заряславлем стала – вместо родительницы твоей Светолики... Трудно мне пришлось, но выбора у меня не было. Хотелось бы мне, чтоб у вас с Радой этот выбор был – делать то, к чему и душа лежит, и способности есть. Вот так-то, милая. Таково моё решение.
Ратибора выслушала её внимательно, серьёзно, прохладный хрусталь её глаз блестел остро и вдумчиво. Когда Огнеслава смолкла, молодая кошка сказала:
– А может, всё-таки ещё подумаешь, государыня? Время пока есть. Что, ежели Рада обидится? Не хотелось бы, чтоб промеж нас из-за этого нелады начались...
– Не думаю, что Рада будет обижена. – Огнеслава съела ещё вишенку, кисловатый сок растекался по языку. – Она только кузнечным делом и горит, ничего другого ей не надобно. Да, судьба, конечно, может крутые повороты делать... – Княгиня вздохнула, думая о своём жизненном пути, о сестре, о матушке Лесияре. – Хотелось бы надеяться, что у вас с Радой всё ровно будет, без таких вот извилин. Я ещё с нею поговорю. Ежели что, дам тебе знать.
Она прогулялась с племянницей по городу, хозяйским взглядом подмечая, всё ли хорошо, нет ли где нужды какой-то или недоработок. Всё-таки немало времени Огнеслава посвятила Заряславлю, укрепляя его благосостояние, облик и богатство, и скучала теперь по этим местам, с которыми успела сродниться за годы своего правления здесь. Хорош, велик и красив был сад в столичной княжеской усадьбе, но с садом Светолики сравниться не мог.
– Люблю я сей город и окрестности его. – Огнеслава любовалась стройными, кудрявыми яблонями, жизнерадостными грушами, утопала взглядом в золотистой полутени тропинок, пестревших живым, меняющимся узором солнечных зайчиков. – Много лет ему отдала, родным мне тут стало всё.
– Государыня, приходи в любой день и услаждай свой взгляд и душу, гуляя здесь, – сказала Ратибора, шагая рядом по садовой дорожке. – Ты здесь дома, и мы всегда будем тебе рады.
После княгиня посетила кузню, где чаще всего трудилась Рада. Дочь как раз держала испытание на звание мастерицы, представляя наставницам свою работу – диковинные часы. Стояли они во дворе под стеклянным куполом, блестя золотом и самоцветами. Под собою они имели что-то вроде большой круглой столешницы с закрытым коробом, в котором прятался сам механизм, а сверху располагались все фигуры. Круглая пластина с цифрами и стрелками представляла собой лик небесного светила – то солнца, то месяца, в зависимости от времени суток, а фигурки, приходя в движение, сменялись четырежды: на утро, день, вечер и ночь был свой набор. Это было подобие городка с башенками, улочками и садом, жителями, зверьём и птицами, которые двигались по своим желобкам; люди ходили туда-сюда, поворачивались, встречались, кланялись друг другу, животные рыскали по окраинам, а птицы хлопали крыльями на ветках деревьев. В каждую пору у них были свои занятия: утром ходили на рынок, днём работали, вечером гуляли в своё удовольствие, а ночью удалялись домой на отдых. У механизма было два завода – большой, длиною в сутки, и малый, который прокручивал фигурки в ускоренном порядке, чтоб зрители в краткий промежуток времени увидели всё представление.
Молодая создательница этого чуда, в рабочих грубых сапогах и жёстком переднике, стоя рядом с часами, поблёскивала изящной гладкой головой с косицей, а закатанные рукава рубашки открывали её сильные умелые руки с упругими шнурками жил под кожей. Угольно-чёрная коса и пронзительно-голубые глаза под густыми и суровыми бровями были несомненными признаками её принадлежности к роду Твердяны Черносмолы. После того как фигурки завершили на повышенной скорости полный суточный круг, она открыла короб в основании часов и показала наставницам механизм, снова завела его уже в открытом виде и объяснила его устройство. Был он очень сложным, с множеством частей, которые двигались слаженно, каждая – в свой нужный миг. Наставницы смотрели внимательно, переглядывались между собой, порой шептались, а потом снова устремляли пристальные взгляды на представленную им для оценки работу.
Закончив показывать часы, соискательница вынула из деревянного ящика другие свои труды, позволявшие судить об уровне её мастерства. Меч трёхлетней выдержки сверкнул на солнце зеркальным клинком, а рукоятка его заискрилась отделкой из самоцветов; далее последовал затейливо украшенный кинжал, за ним – простой, но прочный и добротный охотничий нож, а также набор вышивальных иголок. Завершили показ знаменитые белогорские украшения – ожерелье и серёжки с синими яхонтами, выполненные в единообразном рисунке и с одинаковой обработкой камней – стало быть, носить их надлежало одновременно.
– Ну что ж, – молвила самая старшая из наставниц. – Мы увидели вполне достаточно, чтобы оценить твоё мастерство. Ты прекрасно владеешь оружейным делом, не менее искусно делаешь предметы обихода и украшения, но более всего нам пришлись по нраву часы. Это поистине великолепная работа, превосходящая все предметы этого рода по своей сложности и красоте. Она свидетельствует о том, что ты можешь считаться выдающейся мастерицей часовых дел, причём уже в столь молодом возрасте, что делает тебе немалую честь. От лица всех наставниц, которые обучали тебя все эти годы, я с радостью признаю тебя достойной звания мастерицы.
Соискательница выслушала сдержанно, не показывая чрезмерно своих чувств. Рот её остался сложенным спокойно и строго, на лице ничто не дрогнуло, но незабудковый огонь просиял в её глазах, озарив их радостью. Она с почтением поклонилась наставницам и произнесла слова благодарности.
Княгиня стояла среди зрительниц, облачённая в рабочую одёжу и без своего сверкающего венца, с виду – обычная труженица кузни. Удивительные часы, конечно, отвлекли на себя всеобщее внимание, а потому она до поры оставалась в тени, никем не замеченная. На мгновение настала тишина, и Огнеслава, улучив этот миг, выступила вперёд.
– Поздравляю тебя, доченька, – сказала она, с сердечным теплом сжав руку Рады, а другой ладонью потрепав её по плечу. – Всё увиденное наполнило моё сердце радостью и гордостью.
Двор кузни наполнился гулом: «Государыня... Государыня здесь!» Появление родительницы пробило крепкую броню спокойствия и выдержки, с которой новоиспечённая мастерица проходила защиту своего звания. Её брови дрогнули, вмиг потеряв свой сурово-сосредоточенный вид, строгие губы раздвинулись в белозубой улыбке, и разом преобразившееся, похорошевшее лицо молодой кошки засияло внутренним душевным светом. Суровость делала её старше, а улыбка разбила эту маску и открыла её истинный возраст – самое начало расцвета.
Рада не сразу нашла ответные слова. Смущённая, расчувствовавшаяся и счастливая, она провела по лицу ладонью, но эту торжествующую, искреннюю улыбку невозможно было ничем стереть. Огнеслава со смехом обняла дочь.
– Умница, – негромко и тепло молвила она. – Какая же ты у меня умница и искусница выросла... Преклоняюсь перед твоим мастерством. Это ж надо такое выдумать!.. Нет, я, конечно, тоже кое-что понимаю в часах, но это... – Княгиня окинула восхищённым взглядом творение дочери. – Это настоящее чудо. Слушай, а не могла бы ты сделать точное такие же часы, но побольше?.. Они достойны украшать столицу.
– Сделаю, матушка Огнеслава! – сверкнула улыбкой Рада. – Сделаю – и больше, и лучше прежних. У меня даже есть кое-какие мысли, как их дополнить и украсить.
– Вот и славно. Ну, считай, заказ тебе сделан, приступай к работе, – улыбнулась княгиня. И добавила чуть тише: – Мне надобно тебе ещё кое-что сказать. Но это – с глазу на глаз.
Рада снова посерьёзнела, подобралась – почувствовала, что разговор важный. Но Огнеслава сперва хотела немного поработать, раз уж пришла и переоделась, и они вместе отправились внутрь – в самое средоточие кузнечного жара и грохота.
Потом они вышли под открытое небо, остужая разгорячённые тела и подставляя лица ветерку, смыли рабочий пот водой из большого корыта под навесом, и княгиня сказала:
– Доченька, зная твою увлечённость кузнечным делом и нелюбовь к делам государственным, я решила тебя не принуждать к тому, что тебе не близко. Поэтому наследницей престола я выбираю Ратибору. Думаю, она справится, есть у неё к этому и склонность, и способность. Что скажешь?
Озарённое закатными лучами лицо молодой мастерицы не омрачилось ни малейшей тенью, летний вечер безмятежно отражался в её светлых глазах.
– Скажу, матушка, что ты всё верно решила. Каждый должен быть на своём месте. Это место – как раз для сестрицы Ратиборы. Ну, а насчёт меня ты права: кузнечное дело – то, к чему и душа моя лежит, и руки с головой приспособлены.
Грудь княгини задышала свободно и облегчённо, ощутив, как незримые ремни напряжения на рёбрах разжали свою хватку.
– Что ж, я рада, что мы пришли к согласию, – проговорила она. – Так тому и быть. – И добавила с улыбкой: – Ну, а от тебя я жду часы. Ежели что понадобится для их изготовления или будет чего-то не хватать – только молви слово, и всё будет.
– Хорошо, матушка. – И Рада обменялась с родительницей крепким пожатием рук, а потом и обнялась с нею сердечно.
Домой Огнеслава успела как раз к укладыванию дочек спать. Шлёпая по полу босыми ножками, Мила с Лелей запрыгали вокруг неё:
– Матушка, расскажи нам сказку...
Княгиня сгребла их в объятия, покружила и расцеловала, с нежным трепетом сердца чувствуя тепло их тонких ручек, обнимавших её за шею.
– Хорошо, расскажу. Но сперва лягте и замрите тихо, как мышки.
Сказка была немудрящая и не слишком длинная, но мурлыканье сделало своё дело безотказно: вскоре обе девочки сладко сопели, а Огнеслава, склонившись над ними, перекатывала в груди пушистый комочек нежности.
Супруга ждала её в опочивальне, сидя у зеркала и расчёсывая перед сном чёрные косы – целый шелковистый водопад волос. Остановившись у неё за плечом и запустив пальцы в лёгкие, щекочущие пряди, Огнеслава спросила с усмешкой:
– Ну, и что же такое важное ты хотела мне сказать, что пришлось аж до вечера томиться?
Зорица отложила гребешок и погладила свой живот, а потом скосила ласково искрящийся взгляд на княгиню.
– Двойня у нас будет, ладушка. Сон мне был... Да и чрево большое уж очень для своего срока. Может, одну дочурку я стану кормить, а вторую ты возьмёшь? У нас только одна кошка – Рада, неплохо бы вторую вырастить.
– Родная, пощади меня, – засмеялась Огнеслава, обнимая жену за плечи. – Я и так едва живая от работы, а ты хочешь, чтоб я ещё и кормила? Я же замертво упаду через месяц такой жизни!
– И всё-то ты в трудах, государыня, всё в трудах, как пчёлка! – Зорица обиженно надулась, отвернувшись и скрестив руки на груди. – Между прочим, матушка твоя Лесияра, уже будучи княгиней, тебя со Светоликой выкормила – и ничего, замертво не упала. Неужто ты не справишься?
– Ну будет, будет тебе, радость моя, не сердись только. Я подумаю. – И Огнеслава примирительно заскользила ладонями по спине супруги, лаская лопатки, захватывая плечи и щекоча длинную горделивую шею.
– Это не ответ, – всё ещё хмурясь, через плечо ответила Зорица.
– Ладушка, ну, не бери меня за горло. – Огнеслава издала стон-смешок, носом зарываясь в ночной шёлк её прядей. – Мне правда надо подумать.
– Ну ладно, подумай, – сказала жена, смягчаясь и расслабляясь от ласк: её отражение в зеркале уже не было таким обиженным, глаза томно прикрывались, веки трепетали от чувственных прикосновений. – Но только недолго. Сама видишь... – Она кивком показала на свой живот, намекая, что роды уж на носу.
Летний закат тепло обнимал последним багровым отсветом княжеский сад, далеко под Заряславлем фигурки на часах Рады расходились по домам, Мила с Лелей видели во сне продолжение сказки, а Ратибора стояла на крепостной стене, скрестив руки на груди и вскинув подбородок с ямочкой. Если посмотреть издали, то казалось, будто это Светолика окидывала взглядом засыпающую землю и стерегла её покой.
* * *
Башмачки Жданы мягко ступали по тихорощенской земле плавными, ласковыми шагами. С каждым прикосновением её ступней в траве распускались цветы, будто приветствуя дорогую гостью... Много-много белых цветов, и все кланялись ей, льнули к ногам всякий раз, когда она сюда приходила. Так встречала её самая родная, самая любимая сосна в Тихой Роще.
Ждана остановилась перед ней, с любовью глядя на застывший в вечном покое лик. Её собственное лицо уже тронули первые морщинки, но красота её не поблёкла, только стала точёной, сухощаво-пронзительной.
У сосны стояла высокая, могучая яблоня с широким стволом, одетая в кружевной свадебный наряд цветения. Ждана сама посадила её здесь и часто навещала, наблюдая, как она растёт. Живительная земля этого места питала дерево силой Лалады, оно быстро тянулось ввысь и раскидывалось, и со стороны казалось, будто оно пыталось достать сосновые ветки. Расстояние между их кронами год от года сокращалось, а сейчас до соприкосновения оставалось совсем чуть-чуть.
Присев на траву и лаская тянувшиеся к ней цветы, Ждана подвела итог. Сыновья выросли: Ярослав самостоятельно правил Воронецким княжеством, а Радятко с Малом были его левой и правой рукой. Дарёна с Младой жили в ладу и уже ждали первую внучку, которую им собиралась подарить Незабудка... Младшая дочка Златослава встретила свою суженую – северянку с пепельно-белокурой, как одуванчиковый пух, косой и глазами цвета мышиного горошка. Семейство её владело алмазными копями, а сама она была служительницей Огуни и непревзойдённой мастерицей по обработке этих твёрдых камней. Узнав, что дочурке предстоит переселиться в суровый край долгих снежных зим и тёмных ночей, Ждана забеспокоилась: не замёрзнет ли, не зачахнет ли её цветочек выпестованный?
– Не тревожься, матушка, – ответила белокурая кошка. – Любовь да еда сытная согреют дитятко твоё.
– Любовь любовью, а ещё пару шубок в приданое придётся добавить, – озадаченно молвила Ждана.
Сперва Златослава посмеивалась над северным выговором избранницы, а после нескольких лет супружеской жизни и сама так заговорила. И не только с тамошним произношением, но и словечки местные вворачивала: заслонку в печной трубе называла вьюшкой, мочалку – вехоткой, мусор – шумом, валенки – пимами, ватрушки творожные – шанежками... А родив, она стала как та шанежка: округлилась, из берёзово-тонкой девушки превратившись в ядрёную красавицу с фигурой, точно спелая груша. А что поделать? Таков уж богатый белогорский Север: худому да костлявому холодновато было там жить.
Ждана устало улыбалась цветам, целовавшим её пальцы. Все дела сделала, детей вырастила, а любила так, как мало кто под солнцем любил. Упокоилась её любовь в Тихой Роще, но и после этого не обрывалась золотая нить связи между ними.
– Ты всегда со мной, лада, – шепнули её губы, нежно склонившись к цветам и ловя их прохладные поцелуи.
«Всегда с тобой», – вздохом ветерка пролетело среди спящих сосен.
Ждана встала, сбросила платье и распустила волосы, оставшись лишь в нательной сорочке. Ощущая босыми ногами тепло этой земли, она прислонилась спиной к стволу яблони и с улыбкой закрыла глаза. Зелёная сеточка жилок начала оплетать её, поднимаясь от ног к голове; когда живой узор пополз по лицу, Ждана сквозь ресницы бросила последний взгляд на сосновый лик. И Тихая Роща, да и все Белые горы видели такое чудо впервые. Чудо, ставшее возможным благодаря великой любви.
На яблоневом стволе проступило спящее лицо, застывшее в светлом, ласковом выражении, а ветви двух деревьев наконец дотянулись друг до друга и переплелись, будто пальцы влюблённых. Ветерок носил по полянке чистую белоснежную позёмку опавших лепестков.
Слаще мёда
Потекли, запели серебряными голосами ручьи, ласковее заулыбалось солнышко, а на лесных полянках проклюнулись первоцветы. Больше прочих Мечислава любила даже не знаменитый и воспеваемый подснежник, а лиловую, покрытую седым пушком сон-траву. Присев около цветущего островка весны, окружённого хрусткой коркой тающего снега, княжеская советница и военачальница протянула руку к нежным, прохладным чашечкам. Крепкая, широкая кисть куполом накрыла цветы, погладила их. Сверкнул на солнце перстень с ярко-алым камнем – лалом. Нравился женщине-кошке цвет крови в жилах: и на вышивке по подолу её рубашки красовались яркие петушки, клюющие рябину, и сапоги она носила красные, расшитые бисером и золотом. Рождена она была в начале снегогона, второго весеннего месяца; сложились в ту пору звёзды на небе в очертания крутых бараньих рогов, наделив Мечиславу упрямым, сильным и горячим нравом. Бог Светодар наполнил её жилы жарким огнём, а мудрые знатоки-звездочёты из далёких краёв сказали бы, что ей покровительствовал Марс. Может, оттого ратное дело и стало её призванием.
Вместе с Лесиярой она давала отпор войскам князя Воронецкой земли – в той самой войне, которая и воздвигла между соседями стену отчуждения. Тогда плечом к плечу с белогорской повелительницей встали несколько Сестёр-советниц; их дружины вступали в схватки с людьми на юге и в средних землях, и только на севере противник не вёл наступления: холодно, воевать трудно и неудобно. Тогда-то Мечислава, ещё совсем молодая, и выступила с предложением обрушиться на врага там, откуда он не ждёт. Северянок не нужно было уговаривать. Вели они жизнь размеренную, нрав имели выдержанный, но когда дело доходило до драки, бились столь же яростно, как и более живые и пылкие южанки. Враг был отброшен от белогорских рубежей, а контрнаступление дочерей Лалады ударило по Воронецкой земле на всей протяжённости границы: со слабо защищённого севера, в средней полосе и на юге, заставляя противника распылять и растягивать силы на множество битв единовременно. Лесияра могла бы без труда стереть западного соседа с лица земли, но не стала этого делать. Белые горы лишь в очередной раз доказали свою силу и превосходство.
В той войне Мечислава и снискала особое расположение государыни: заметив её чрезвычайную способность к воинскому искусству, Лесияра сделала кареглазую женщину-кошку одной из своих главных советниц по вопросам обороны. Обороняться было от кого: кангелы то и дело тревожили южные границы Белых гор и совершали набеги на восточного соседа и союзника кошек – Светлореченское княжество. Вторгались они и в Воронецкую землю, но теперь тамошнему владыке приходилось справляться самому: после разрыва отношений с Белыми горами их военной поддержки он лишился.
А сейчас, щурясь от яркого солнышка, Мечислава пребывала в возбуждённо-мечтательном настроении. Отбросив дела и заботы, она бродила по полянке и любовалась первоцветами, а в её крови струился весенний жар. Пока не встретила женщина-кошка свою суженую, но это не мешало ей каждую весну влюбляться. Влюблялась она страстно и пылко, как и свойственно было всем, кого при рождении поцеловал Светодар, но недолго жили её чувства. Уже к началу лета две-три покинутые ею девушки проливали слёзы, и так – каждый год. Мечислава старалась не доводить дело до зачатия, но парочка её внебрачных деток всё же подрастала в семьях, с которыми она не сочла необходимым породниться. Впрочем, помощь им она оказывала – потихоньку, не привлекая к этому лишнего внимания. Знала Лесияра о проделках влюбчивой советницы и не одобряла этого, и порой Мечиславе приходилось выслушивать от неё выговоры и нравоучения.
– Что ж ты, любезная Мечислава, вытворяешь? Никуда не годно! – стыдила её княгиня. – Понимаю, холостая ты, ладу свою ещё не нашла, но разве можно разбивать сердца невинных девушек, свою судьбу также ещё не встретивших?
– Виновата, госпожа, – бормотала Мечислава, потупившись.
– Подумай, какими они своим будущим суженым достанутся! – продолжала Лесияра, расхаживая вокруг советницы. – Дева невинная – сосуд непочатый, сила Лалады в ней накапливается. Ежели она останется нетронутой до встречи со своей ладой, вся сила эта передастся их потомству. А с каждой пустой связью сила растрачивается. Пустой – то есть, не ведущей ни к чему хорошему и заканчивающейся разлукой, сердечной болью и слезами.
– Виновата, госпожа, – еле слышно срывалось с губ любвеобильной женщины-кошки.
– Уж в который раз говорю тебе: уймись! – воздев руки, увещевала белогорская правительница. – Не причиняй горя девушкам, не вынуждай их растрачивать себя впустую! В кои-то веки подумай не только о своих желаниях!
– Виновата, госпожа, исправлюсь! – Гаркнув, Мечислава вытягивалась в струнку.
– Ты неисправима, – горько вздыхала княгиня, качая головой.
Каялась Мечислава, клялась: «Больше никогда...» Но как совладать с бурлящим в крови жаром, который переполнял её каждую весну год от года? Как унять свой пыл, когда вокруг столько прекрасных девушек? Где же та единственная, которая затмит всех своей красой и отобьёт у неё желание смотреть на других?
– Где ж ты, ладушка моя ненаглядная, Лаладой мне назначенная? – вздыхала Мечислава. – Где ж ты ходишь-бродишь, судьба моя желанная?
Пристыжённая повелительницей, она изо всех сил старалась держать себя в узде, в прошлую весну даже умудрилась ни разу не влюбиться – обошлось без разбитых сердец. А на исходе нынешней зимы привиделись ей во сне серые очи с пушистыми ресницами, и затрепетало что-то в груди, ёкнуло в предчувствии судьбоносной встречи.
Присев на корточки, Мечислава гладила пальцами головки цветов, но не срывала их. Пусть живут, пусть солнышку радуются. Ведь этой ночью смутные знаки и намёки судьбы увенчались наконец кое-чем более определённым... Женщина-кошка увидела место, где её будущая ладушка живёт: городской дом с садом, цветник возле крылечка, а в зарослях вишни, в укромной тени – лавочка. На лавочке той, макая в тягучий мёд ломоть пышного калача и кусая его белыми зубками, сидела сероглазая красавица с тёмными бровями и русой косой. Ела, а сама смотрела на Мечиславу с прохладными искорками в зрачках – то ли насмешливыми, то ли вызывающими. Обжёг этот взор душу Мечиславы, огрел незримой плетью, и всё её пылкое нутро, которое она пыталась обуздать, встало на дыбы. Ни одни девичьи очи так не манили её прежде. Манили, а сами будто незлобиво потешались над нею... Это было чуднó и смехотворно: Мечислава привыкла главенствовать в любви, а тут вдруг ощутила себя крошечным котёнком на тёплой ладошке своей сердечной зазнобы. Охваченная солнечно-светлым ошеломлением, женщина-кошка присела у ног девушки с одним только желанием – принадлежать ей, быть в мягком плену её чар, баловать, любить, лелеять и выполнять малейшие прихоти... Тонкий пальчик с капелькой мёда протянулся к ней, и Мечислава с глубоким чувственным трепетом слизнула угощение.
И проснулась. Счастье солнечным лучом щекотало ей ресницы... Мечислава вскочила с постели, будто выброшенная оттуда хорошим пинком, и распахнула окно. Хотелось крикнуть на весь мир – просто заорать со всей дури от распирающего грудь непоседливого комка чувств.
– Эге-ге-гей! – во всю мощь своих лёгких выкрикнула женщина-кошка. – Ого-го-го-го!
Это была дурацкая, ребяческая выходка, не приличествовавшая образу Старшей Сестры и княжеской советницы по делам обороны... Но какое любви дело до того, кем Мечислава являлась? Ей покорялись все – и простые землепашцы, и владыки. А между тем силушка богатырская, заключённая в сём молодецком крике, наделала бед: шедшая из коровника девушка вздрогнула, споткнулась и уронила полный подойник молока; у стряпухи сорвался с ухвата горшок с кашей; петух, клюнув себя в зад, испугался и рухнул с насеста в пёструю толпу кур; на мельнице кошки, перетаскивавшие мешки с зерном, повалились друг на друга по цепочке вместе со своей ношей... Земля у всех под ногами дрогнула – вот какая силушка в том крике была! Мечислава же, не подозревая обо всех этих происшествиях, стояла у распахнутого окна и дышала всей грудью.
– Эх! Хорошо-то как! – с удовольствием потянувшись, воскликнула она.
До Лаладиных гуляний было ещё далеко, но решительная женщина-кошка не хотела ждать. Нетерпение бурлило в ней пузырьками радости, делая поступь пружинистой и наполняя Мечиславу солнечной силой. К чему ждать, если судьба – вот она, только руку протяни?..
Мечислава не стала собирать цветы: сорвёшь их – увянут. Вместо этого она взяла с собой другой подарок – туесок тихорощенского мёда: если верить сну, её суженая любила сладенькое.
Шаг в проход – и вот он, тот самый дом с садом. Цветник у крыльца ещё спал под снегом, но весеннее солнышко неумолимо будило землю. Поднявшись по ступенькам, Мечислава решительно и громко постучала в дверь. Она всё так делала – решительно, размашисто. Стучать – чтоб дом содрогался, а ежели уж любить, так чтоб голова кругом и сердце из груди вон...
Она застала семейство садящимся за обеденный стол. Его глава, светловолосая статная кошка в чёрном кафтане со скромной вышивкой, поднялась навстречу гостье, а её примеру последовали и все остальные – супруга, две старшие дочери-кошки и одна младшая – дева. Ястребино-зорким, жадным взглядом окинув девушку, Мечислава ощутила сердцем холодок разочарования: не те глаза. Совсем другими были очи у лады в её сне! Как же так?
– Желаю здравия, уважаемая госпожа, – с поклоном молвила хозяйка дома.
Мечиславе пришлось учтиво представиться и назвать цель прихода: раз уж зашла незваной гостьей, следовало соблюдать приличия. Глава семейства тоже назвалась: Владана, владелица ткацкой мастерской.
– Уж не за Дорожкой ли ты пришла, госпожа? – спросила она, бросая взгляд на младшую дочь.
Девушка вся трепетала от волнения: её розовые губки приоткрылись и подрагивали в готовой расцвести улыбке, а взгляд росисто сверкал. Недурна она была собою – стройна и тонка станом, с толстой русой косой и нежными, гладкими щёчками; Мечислава, пожалуй, приударила бы за такой милашкой, но сейчас ничто не шелохнулось у неё в груди. Не она, не лада – и всё тут. Хоть тотчас же поворачивайся и иди прочь из этого дома.
– Не знаю, что и ответить тебе, уважаемая Владана, – промолвила Мечислава. – И хотела б я обрадовать Дорожку, да не могу. Я сама в растерянности... Уж не ошиблась ли я домом?
Владана нахмурилась, а Дорожка сникла, огонёк радости в её взоре угас, личико вытянулось и погрустнело. Мечиславе даже стало жаль её, но увы – заглянув себе в сердце, не находила она в нём жаркого отклика. Не трепетало оно, не стучало, не замирало.
– А нет ли у вас другой дочки? – осенило её вдруг. – Чувствую я, что правильно пришла, что именно в вашем доме ждёт меня суженая... Но не Дорожка.
– Верно, есть другая дочка у нас, госпожа, но... – Владана замялась, замешкалась, переглядываясь с супругой.
– Так отчего же она не здесь? – встрепенулась Мечислава. – Отчего не выходит?
– Не может она выйти, госпожа, – мягко молвила жена Владаны, сероглазая и темнобровая, по-родственному схожая с девушкой из сна.
– Она нездорова? – Мечислава сдвинула брови, вздрогнув от холодящего дуновения тревоги.
– Нет, вполне здорова, – засмеялась женщина – будто ручеёк прожурчал. – Просто она у нас ещё не ходит. Изволь пройти со мной, я покажу тебе.
Оторопевшей Мечиславе не оставалось ничего иного, как только проследовать за нею в другую комнату, где под белым полупрозрачным пологом висела плетёная колыбелька. Из неё на женщину-кошку смотрели те самые очи, но – несмышлёные, младенчески-чистые и удивлённые. Огромные глазищи с пушистыми щёточками ресниц... Светлые, красивого жемчужно-серого оттенка. Ёкнуло сердце, отозвалось, сжалось от нежности: она... Её лада, но совсем ещё малышка.
– Рановато ты пришла свататься, гостья дорогая, – с мурлычущим смешком молвила мать крошки, вместе с Мечиславой склоняясь над колыбелькой. – Сама видишь: невеста твоя только-только на свет появилась.
Она не переспрашивала, не сомневалась, не уточняла, а просто смотрела Мечиславе в сердце и видела там ответ. Вынув дочку из колыбельки, она вручила её женщине-кошке, а та, прижав тёплое детское тельце к груди и поддерживая ладонью русую головку, не удержалась и поцеловала эти глазёнки.
– Милая ты моя, голубка моя, – прошептала она ласково. – Расти красавицей. Я буду ждать. А в урочный час приду за тобой. Как хоть звать тебя, звёздочка моя ясная?
За девочку с улыбкой ответила родительница:
– Беляной зовут звёздочку твою.
К столу они вернулись втроём – вместе с лепечущей и агукающей малюткой.
– Уж прости, родная, но обошла тебя младшая сестрица, вперёд тебя суженую встретила, – сказала мать Дорожке. – Но не кручинься: и ты непременно судьбу свою найдёшь.
Мечислава осталась на обед. Глядя на свою невесту, которую мать кормила с ложечки кашей, она усмехалась от тёплого, щекотного чувства в груди. Одна только беда: угораздило её явиться слишком рано в дом своей избранницы. Теперь предстояло набраться терпения и ждать положенные годы... Как долго, просто невыносимо! Но что ещё оставалось?
Свой подарок, узорчатый туесок прозрачного мёда из Тихой Рощи, Мечислава оставила семье Беляны. В следующий раз она навестила их уже летом, когда вишня в саду отцвела и покрылась зелёными завязями. Нашла Мечислава и то укромное местечко в её зарослях, которое она видела во сне, вот только лавочки там не было. Недолго думая, она велела своим дружинницам поставить лавку. Владана с супругой удивились, но возражать не стали.
А когда вишенки налились спелым соком, Мечислава ощутила сердцем грустный, жалобный зов... Почудилось ей, будто бы нежный девичий голос окликал её по имени. Действовала женщина-кошка всегда быстро и решительно, вот и сейчас – услышала и шагнула в проход без промедления. На той самой лавочке среди вишнёвых зарослей её ждала Дорожка – поднялась ей навстречу.
– Что ты тут делаешь? – нахмурилась Мечислава. – Мне послышалось, будто звал меня кто-то по имени...
– И ты подумала, что это твоя суженая тебя зовёт? – Дорожка, не сводя с Мечиславы пристально-нежного, влекущего взора, приблизилась и скользнула ладонью по её плечу. – Сестрица Беляна твоего имени ещё даже не выговаривает. Это я звала тебя.
– И зачем? – Мечислава стояла недвижимо, не отвечая на заискивающую ласку девичьей руки, которая скользила всё выше, пока не обвилась полукольцом объятий вокруг её шеи.
– А может, ошиблась ты? – Дыхание девушки коснулось уст женщины-кошки тёплым ветерком. – Может, не Беляна твоя суженая, а я? Запала ты мне в душу и сердце, все мысли только о тебе...
Прежде Мечислава не отказалась бы от такого подарка, который сам плыл в руки, но теперь что-то останавливало её, не давало обнять повисшую у неё на шее девушку. Мягко разняв цепкие объятия Дорожки, она отступила назад.
– Славная ты и собою хороша, да не моя ты избранница, – сказала она твёрдо. – Не твои очи я во сне видела, это я знаю точно, никакой ошибки тут нет. Да и у тебя разве знаки насчёт меня были? Иная у тебя судьба, не я тебе в супруги предназначена. Придёт ещё за тобой твоя лада, не горюй. А обо мне и думать забудь, не твоя это тропинка.
Лето миновало, зима ушла восвояси, и вновь первоцветы показались на проталинках... Но непоколебимо спокойным было сердце Мечиславы – не металось в поисках приключений, не томилось от чувственного голода. Если прежде она каждую весну будто с цепи срывалась, то теперь – как отрезало. Девушки стали вдруг не нужны, а всё потому, что бредила она во сне и наяву лишь своей сероглазой чаровницей, жующей калач с мёдом и мерцающей призывными искорками в зрачках. Одно только стояло препятствие, одна незадача всё портила – избранница ещё ходила пешком под стол и лепетала свои первые слова.
* * *
– Матушка Логода, а что такое Лаладина седмица? – спрашивала Беляна.
Матушка объясняла:
– Это такая пора, доченька, когда все молодые гуляют и веселятся. На гуляниях этих можно суженую свою повстречать – супругу будущую.
– А у меня суженая будет? – не отставала девочка от родительницы, раскатывавшей на столе тесто для пирога.
– Она уже есть у тебя, моя родная, – отвечала матушка. – Так уж вышло, что избранница твоя тебя нашла рано – ты ещё в колыбельке была.
Рассказывала матушка о снах, о знаках, по которым можно почувствовать приближение сладкой встречи со своей любовью. Беляна приставала к старшей сестре Дорожке:
– А тебе сны про суженую снятся?
– Уйди с глаз, не лезь ко мне, – бурчала та в ответ.
Беляна недоумевала, отчего сестра так неласкова с ней, пока матушка не шепнула однажды правду:
– Когда суженая твоя к нам домой пришла, Дорожка подумала, что это к ней судьба постучалась, обрадовалась было. А оказалось – к тебе. Вот она и завидует. Но ты на неё не сердись за это. Уж очень она хочет поскорее любовь свою встретить.
– А кто она – моя суженая? – захотела узнать девочка.
Но матушка покачала головой:
– Она не велела тебе сказывать прежде времени. Вот придёт пора – и сама её увидишь.
Таинственная суженая оказалась очень скрытной. Даже имени её Беляна не знала, только получала от неё подарки – то серёжки, то очелье, то сапожки, золотом и жемчугами расшитые. Неизменным подарком всегда был туесок тихорощенского мёда, который Беляна очень полюбила. Сидя на лавочке в вишнёвых зарослях, она наслаждалась теплом свежеиспечённого, душистого хлеба и обволакивающими чарами тягучего и прозрачного, как вода, мёда. Пробовала она и обычный мёд, но он не шёл ни в какое сравнение с тем, что дарила незримая избранница. Чудесным образом он всегда оставался жидким, но что более удивительно – тёплым, как живое существо.
– А почему суженая присылает мёд? – спрашивала Беляна у матушки Логоды. – Откуда ей ведомо, что я его люблю?
– Этим она хочет сказать, что любовь ваша будет так же сладка, как медок сей, – улыбалась та в ответ.
Склоняя голову на подушку, девочка мысленно просила избранницу: «Приснись мне... Ну приснись хоть разочек». Но суженая пряталась, не приходила даже в снах.
Так Беляна и росла – со знанием того, что будущая супруга уже есть и ждёт её. Много раз девочка пыталась представить её себе, рисовала в мечтах лицо этой загадочной женщины-кошки. И всякий раз – по-новому: то светловолосой, то рыжей, то тёмной... Не ловился образ, ускользал. Беляна пробовала выследить, кто приносит подарки, но всякий раз посланница оказывалась новой, ни разу не приходила одна и та же. На вопросы эти посредницы не отвечали, только кланялись.
Год за годом Беляна жила, не зная ни лица, ни имени будущей супруги, но мысль о ней всегда маячила где-то рядом, как тень. Девочка привыкла к ней, как привыкают к встающему по утрам солнцу или плывущим по небу облакам; невидимая избранница стала частью её жизни – как дыхание, как сердцебиение, как сон и пища. Но близился брачный возраст, Беляна из ребёнка превратилась в девушку и стала часто замечать на себе мечтательные взоры молодых кошек-холостячек. Ей однажды пришло в голову: а вдруг она встретит суженую... и не полюбит? Не застучит сердце, не застынет в сладостном обмороке душа? Что, если эта женщина-кошка ошиблась с выбором? Сомнения набегали, будто тучи, омрачая светлый день, и не милы становились Беляне все эти подарки, все эти весточки, которыми будущая супруга напоминала о своём существовании. Но любовь к мёду не охладевала ни на миг.
Тем временем сестрица Дорожка наконец повстречала свою ладу и весёлой пташкой выпорхнула из родительского гнезда. Долго ей пришлось ждать: под Лаладин венец она пошла без малого тридцати лет. Близилась Лаладина седмица – для кого-то очередная, а для Беляны – первая в её жизни в качестве невесты. Но вот беда – взбунтовалось её сердце, совсем запуталась она в раздумьях и сомнениях. А тут ещё Неделька – молодая кошка, трудившаяся в мастерской матушки Владаны наладчицей ткацких станков... Если что где ломалось – Неделька чинила, а в прочее время служила разнорабочей: это притащить, другое утащить, там убрать, здесь подмести. Девушки-работницы заглядывались на эту статную холостячку: пшеничные кудри вились золотой шапкой, очи цвета небесной лазури блестели по-летнему ласково и тепло, а наливные губы, полные чувственного сока, улыбались легко и беззаботно. За работой девушки часто пели, а Неделька была у них главной запевалой. Её сильный, чистый голос разливался, точно река в половодье, окутывал душу пушистой кошачьей шубкой. Чем больше Беляна слушала, тем бледнее становилась тень безликой избранницы, и тем отчаяннее восставало сердце против этой непонятной предопределённости.
– Давно ты люба мне, Белянушка, – шептала Неделька, поймав девушку в объятия за углом мастерской. – Много голубушек пригожих тут работает, но ты лучше всех.
Таяло девичье сердце от слов ласковых, а Неделька ещё и мурлыкала, тёрлась носом о щёку Белянки, и губы их дышали в хмельном миге от поцелуя...
Слияние уст не состоялось, его безжалостно оборвал окрик:
– Эй, Неделька! Ты куда запропастилась? Полотно надо отгружать!
– Прости, горлинка, работать надобно, – мурлыкнула золотоволосая кошка. – Но ежели хочешь, давай вечером встретимся.
Почуяв неладное, матушка Логода не пустила Беляну на свидание:
– Это что ещё за прогулки на ночь глядя? Нет, никуда не пойдёшь. Набедокуришь – и что мы с матушкой Владаной твоей суженой скажем? Прости, мол, не уберегли девку? Нет уж, сиди дома, голубушка!
– Да пропади она, эта суженая, пропадом! – вскричала Беляна. – Никогда не видела её и видеть не хочу!
Кинувшись на постель, она мочила слезами подушку, а матушка Логода, присев рядом, печально и сокрушённо качала головой.
– Слышала б суженая твои слова – разбилось бы её сердце... Зачем ты так говоришь, дитятко? Избранница тебе Лаладой дана, а ты хочешь её променять на какую-то лоботряску желторотую? Сознавайся, к кому на свидание идти хотела? – Матушка Логода, хмурясь встревоженно, затормошила девушку, встряхнула за плечо. – А ну-ка, не запирайся!
Беляна сперва молчала, отворачивалась, но потом призналась:
– Неделька мне в душу запала... И я ей тоже люба – так она говорит.
– Хах! Неделька! – воскликнула матушка Логода негодующе. – Да у этой Недельки таких глупышек, как ты – больше, чем пальцев на обеих руках! Ей бы о работе лучше думать, а у неё одни девки на уме.
– Не говори худого про неё, матушка, Неделька хорошая, – глухо, с горечью молвила Беляна.
– У тебя суженая есть! – отрезала матушка.
– Да в том-то и беда, что я этой суженой знать не знаю! – не вытерпев, выплеснула девушка наболевшее. – Ни в лицо её не видывала, ни голоса не слыхивала – всё равно что неживая она!
– Ничего, скоро и увидишь, и услышишь, – гладя Беляну по голове, ласково молвила матушка. – И поймёшь, что лучше неё никого на свете нет. Так всегда бывает. А о Недельке и думать забудь! Не твори глупостей, о которых потом слёзно жалеть будешь.
На следующий день Беляна снова увиделась с кошкой-певуньей. Та, упершись в стену ладонями и поймав девушку в ловушку своих рук, спросила:
– Почто вчера не пришла, м-м? Я ждала ведь.
– Меня матушка не отпустила, – вздохнула Беляна. – Понимаешь, Неделюшка, у меня с самой колыбели суженая есть... Вот так вышло.
– Хм, суженая? – нахмурилась Неделька. – Это что же получается – ежели я с тобою... кхм! Ежели я тебя хоть пальцем трону... или не пальцем, – молодая кошка ухмыльнулась кривовато и многозначительно, – то твоя избранница мне потом накостыляет?
Руки Недельки разомкнулись, выпуская девушку, и голубоглазая холостячка стряхнула со своего плеча несуществующую соринку.
– Вот что, милая моя, – прищурившись, молвила она. – Ты уж прости, что я с тобою вольности допускала. Сама понимаешь – до брачного возраста ещё далече, а любви-то охота... Скрывать не стану, нравишься ты мне, но ничего, переживу как-нибудь. Чай, на тебе свет клином не сошёлся, много ещё на свете хороших девок, а главное – свободных! Мне неприятности с твоей суженой не нужны.
В груди Беляны разливалась горечь разочарования. Права была матушка Логода, а она, глупая, не хотела верить!
– А ты ещё и трусиха, – процедила она. – Как про суженую услыхала – так сразу в кусты...
– Не трусиха, а благоразумная. Что зазорного в том, что я не хочу ходить с битой мордой? – усмехнулась молодая кошка. И добавила, отвесив витиеватый поклон: – Ну, желаю счастья в грядущей семейной жизни! Совет да любовь!
Уже через пару дней Неделька обхаживала одну из ткачих – пышногрудую и конопатую, налитую жизненными соками девицу, а Беляне всё опостылело. И солнышко не грело, и небо ясное, весеннее, не радовало. Висело сердце в груди камнем, не желая ни жить, ни биться. Даже к новому туеску любимого мёда Беляна не притронулась. И ещё одна странность: сниться ей стали сны об оружии – сверкающий меч, воздетый к небу сильной и уверенной рукой...
– Что закручинилась, родная? Лаладина седмица уж совсем скоро, ждёт тебя встреча с суженой твоей! – утешали родительницы.
А девушке белый свет стал не мил. Когда город забурлил, наполнившись весельем, песнями и плясками, она даже из дома выходить не хотела, но матушка Логода заставила её принарядиться и за руку отвела на главную площадь. Там, в толчее и людском гомоне, за которым почти не слышно было писка дудочек и щёлканья трещоток, Беляна ощутила себя никому не нужной и потерянной...
– Иди, попляши с девушками, – подталкивала матушка.
Не шли ноги в пляс, повисли руки плетьми. Больше всего Беляне хотелось очутиться в своей девичьей спаленке, а там уже припасть к родной и мягкой вышитой подушечке, которая берегла её сны и впитывала слёзы. Сколько она их в себя приняла – не счесть.
И вдруг, точно ветром прохладным, повеяло над площадью тишиной... Мягким лебединым крылом смахнула она беспорядочную россыпь звуков, и в хрустальном, как глоток свежей воды, безмолвии зазвучала песня.
Разыгрался ветер распоясанный,
Растревожил сердце по весне.
Лишь твои, голубка, очи ясные
Еженощно вижу я во сне.
Чуть твои уста прошепчут: «Ладушка...» –
И к ногам я припаду тотчас.
Лишь о нас поёт в ночи дубравушка,
И щебечут птицы лишь для нас.
Ожерельем яхонтовым катятся
У любви счастливые деньки...
Шьёшь-волхвуешь, гóрлинка-красавица,
Жизни нашей тёплые стежки.
Не играй ты, ветер распоясанный,
Улетайте, тучи, на восток!
Носит в чреве горлинка прекрасная
Жизни новой маленький росток.
Если голос Недельки ласкал кошачьей шёрсткой, то этот лился могучим водопадом. Бурным горным потоком подхватил он Беляну, увлёк и понёс – не выплыть, не выбраться на берег. Душа тонула в нём и захлёбывалась, лёгкие смыкались в сладком удушье – не вырваться на свободу, не забиться в тихий уголок. Не спрятаться от этого голоса: он нашёл бы её всюду.
Толпа расступалась, давая дорогу певице – рослой и статной женщине-кошке с пронзительно-пристальными, жгучими очами цвета тёмного янтаря. Кудри её, тоже тёмные, атласными волнами падали на плечи, золотая вышивка на кафтане искрилась в солнечных лучах, а стройные ноги в красных сапогах с кисточками ступали по-кошачьи мягко. Величаво шла женщина-кошка, осанисто, по всему видно – знатная госпожа. Блистательно-спокойная, горделивая и властная, одним своим видом она внушала трепет и уважение. Это по её требовательному взмаху руки смолкла музыка, а раскатистой, громовой силой своего голоса она затмила Недельку. Да что там затмила – просто бесповоротно уничтожила раз и навсегда.
Остановившись перед девушкой, темноокая незнакомка поклонилась.
– Здравствуй, милая Беляна. Долго же мне пришлось ждать нашей встречи! Всему виной моё нетерпение. Едва увидев тебя во сне, я поспешила на поиски... А ты была ещё совсем дитя.
С этими словами женщина-кошка поцеловала Беляну в лоб, ласково сжав её руки в своих. Живое тепло её ладоней обняло сердце девушки, взяло его в мягкий плен, и заколотилось сердечко, затрепыхалось пташкой, пойманной в силки. Лицо незнакомки, суровое и прекрасное одновременно, было бы значительно более пригожим и светлым, если б не мрачные брови и привычка к строго-надменному выражению; последнее, впрочем, смягчилось при виде Беляны, брови расправились, твёрдые губы дрогнули в улыбке. А земля под ногами у девушки закачалась, завертелась в весеннем переполохе, затрезвонили серебряные бубенчики в ушах, и ушёл ясный день за радужно-туманную пелену.
Лёгким поплавком вынырнуло сознание на поверхность яви... Беляна пришла в себя в своей опочивальне; любимая вышитая подушечка, служившая ей верой-правдой, заботливо поддерживала голову хозяйки и ласково обнимала, льнула к щекам. Обе родительницы сидели около девушки, но не встревоженные её беспамятством, а спокойные и радостные.
– Ну, вот и встретилась ты с судьбой своей, – молвила матушка Логода.
Образ сиятельной, великолепной госпожи вспыхнул в памяти, царапнул, взволновал сердце, и Беляна встрепенулась на постели.
– Кто это был?.. Это... Это она? Суженая?
– Да, доченька, – кивнула матушка Владана. – Это избранница твоя. Теперь, когда ты увидела её, можно и имя её открыть. Зовут её Мечиславой, она Старшая Сестра и военная советница государыни Лесияры.
– А... А где она? Она здесь? – приподнявшись на локте, пролепетала Беляна.
Дохнуло ей в душу светлым холодком озарение: вот к чему были её сны о мечах! Меч – Мечислава. А родительница ответила:
– Госпожа Мечислава придёт чуть позже. Ты переволновалась, и она милостиво даёт тебе время успокоиться и прийти в себя.
– Тише, тише, дитятко, – проворковала матушка Логода, мягкой рукой пригибая голову девушки к подушке. – Отдохни, пусть волнение сердечное уляжется.
Обняв и прижав к груди подушку, Беляна попыталась отдохнуть и успокоиться, но мысли и чувства не желали угомониться – всё кружились встревоженной стайкой, летели к Мечиславе. Она мысленно любовалась женщиной-кошкой, то отдаляя её образ-картинку, то приближая. Сказать, что она была ошеломлена встречей – ничего не сказать... Мечислава ослепила девушку, будто солнце, все прочие блёкли рядом с нею и отступали в тень. Неделька?.. Горько и смешно становилось при воспоминании о том бунте, который Беляна пыталась учинить против суженой. Её, прекрасную, несравненную, такую величавую – и променять на какую-то там Недельку, эту мелочь, это ничтожество?.. Всё равно что яхонт драгоценный отдать за медную пуговицу. Как Мечислава держалась, как говорила! Какое поистине княжеское достоинство сквозило в её осанке и движениях... А голос – точно гром весенний, от него всё нутро девушки вздрагивало в сладком волнении. Мурашками по коже прокатывались его отзвуки, замирая в уголках души звёздочками восторга. «Избранница тебе Лаладой дана», – сказала матушка, и эхо её слов, окутанных мудростью, мягко ложилось на сердце Беляны светлой правдой.
Так предавалась Беляна этой сумятице мыслей, и улыбка то расцветала, то гасла на её дрожащих губах, а скомканная подушка оказалась под животом. Подперев голову руками, девушка уносилась душой в светлый чертог грёз. То и дело вздох рвался из её груди, а ресницы трепетали и смыкались, пряча затянутый мечтательно-восторженной пеленой взор.
Она всё ждала, вздрагивая от каждого шороха и стука – не Мечислава ли идёт? За обедом Беляна пищу едва поклевала: кусок не лез в горло, желудок сжимался в комок и ничего в себя не принимал. А когда вечерние сумерки набросили на глаза поволоку усталости, девушка закуталась в узорчатый платок и вышла в сад.
Весна ещё привередничала, ещё меняла настроения – то солнышком пригревала почти по-летнему, то вдруг льдистым холодком дышала, прикинувшись зимой. Зябко ёжась, Беляна потуже обернула вокруг плеч платок, а ноги сами несли её к любимой лавочке среди вишен. Тонкой зелёной дымкой окутался сад: то пробивались из почек маленькие, клейкие и блестящие листочки. Совсем скоро должны были показаться цветы: сперва белые шишечки бутонов, а потом и сплошное душисто-пьянящее кружево.
Увидев около лавочки высокую фигуру женщины-кошки, Беляна вздрогнула и застыла. Чёрный плащ с алой подбивкой ниспадал с сильных плеч, богатая вышивка кафтана мерцала на груди, а ноги!... О, что за ноги – стройные, сильные, с выпуклыми икрами и точёными лодыжками. Из нарядных ярко-красных сапог Мечислава переобулась в чёрные, с жемчужными узорами и золотыми кисточками. Они смотрелись по-вечернему сдержанно, но не менее достойно и роскошно. Впрочем, этим прекрасным ногам шла любая обувь.
Слова застряли в горле, и Беляна только дышала взволнованно, трепеща под внимательно-ласковым взором тёмных очей. Поздороваться бы хоть, но бедный язык совсем онемел, а сердце стучало частой дробью, словно горошинки сыпало. Мечислава первая прервала сумрачное молчание сада:
– Слыхала я, что ты видеть меня не желаешь. Отчего, голубка?
Голос женщины-кошки звучал приглушённо, с бархатной мягкостью печали. Горячий ком чувств тотчас вздыбился в груди у Беляны, колкие предвестники слёз пробились к глазам.
– Тебе матушка Логода сказала? – только и смогла пробормотать она.
– Нет, никто не сказывал. Долетели твои горькие слова до меня, – молвила Мечислава. – Душой и сердцем услыхала. Что я сделала тебе худого, чем успела не угодить, что ты готова гнать меня прочь?
Вот, значит, как вышло... Беляна сгоряча брякнула, а суженая издалека услышала. Хотела бы девушка эти слова вырвать у себя из горла да втоптать в пыль дорожную, но сказанного не воротишь: слово не воробей.
– Ты прости меня, – проговорила Беляна, борясь с покаянным рыданием в груди. – По глупости я сказала сие... По неразумию. Мне родительницы с пелёнок всё твердили: суженая, суженая. А я ни в лицо тебя не видывала, ни голоса твоего не слыхивала. В детстве я мало что понимала, а подросла – и задумываться стала: как можно принадлежать тому, кого не знаешь? Восстало моё сердце мятежное, воспротивилось этому. Говорила мне матушка, что как только увижу я избранницу, так и пойму сразу, что лучше неё никого на свете нет, а я не верила, что такое может быть... Чуть с тропинки своей в сторону не свернула, но Лалада, видно, беду отвела, не дала оступиться. – Вспомнив не состоявшийся поцелуй с Неделькой, Беляна содрогнулась. – Ты прости меня, госпожа, за слова те горькие!
Рыдание всё-таки вырвалось солёным комом, тёплые капельки скатились по щекам, и Беляна прижала трясущиеся губы пальцами. Мечислава тотчас шагнула к ней, и девушка очутилась в тёплых и сильных объятиях. Но она не решалась прильнуть всем телом, сомневаясь, имеет ли на это право – заслужила ли ласку суженой, чьё сердце она задела и ранила теми глупыми словами. Твёрдые, точно из стали выкованные руки обнимали её нежно и жарко, как бы говоря: всё давно прощено.
– Лада... Ладушка, не плачь! Это ты прости меня, что пришлось заставить тебя ждать так долго. – Голос Мечиславы уже не гремел водопадом – он окутывал кошачьей лаской, грел меховой шубой, обволакивал бархатом ночи. – Не хотела я тебе прежде времени показываться, думала – ярче чувства твои вспыхнут при первой встрече.
– Они ведь и вспыхнули, госпожа, – сквозь пелену солёной влаги улыбнулась Беляна.
– Не зови меня госпожой, милая. Хочу услышать слово «лада» из твоих уст. – В глубокой прохладной тьме очей женщины-кошки мерцали искорки нежности.
Беляна и рада бы так её назвать, но робость лишила её дара речи – губы только дрогнули и сложились в мучительно-застенчивую улыбку. Мечислава прижала её к груди, и девушка вновь ощутила целомудренно-родительский поцелуй на лбу.
– Не буду тебя торопить, радость моя. Пусть всё идёт своим чередом.
А Беляна вспыхнула при мысли о том, каков же будет настоящий поцелуй суженой – в губы... Вспыхнула, а потом похолодела от щекочущего душу восторга. Слаще присылаемого в подарок мёда... Да, уж наверняка слаще.
* * *
Вот и закончилась холостяцкая пора в жизни, сбылось долгожданное счастье: Мечислава ввела молодую супругу в свой дом. Все годы ожидания женщина-кошка старалась блюсти себя в чистоте и целомудрии, и это удавалось почти без усилий. В самое сладкое и безумное весеннее время она всякий раз вступала не без тревоги: а если опять поднимется в ней эта жадная и неистовая страсть и повлечёт её на новые любовные подвиги с неодолимой силой? Однако Светодар щедро питал землю теплом, пробуждая всё живое, а в крови Мечиславы струилась только одна страсть – к сероглазой ладушке из сна. Не было никого среди земных девушек краше и лучше, меркли они все перед нею, точно звёзды ночные перед полуденным солнцем. Глядела на них Мечислава, перебирала мысленно, точно серую гальку речную, а Белянушка сверкала яхонтом чистым. Не беда, что наяву невеста ещё только делала первые шаги: в мечтах Мечиславы она уже цвела юной яблонькой.
На пятом или шестом году ожидания начало казаться Мечиславе, что туманится в её душе светлый облик лады, меркнет, затягивается осенней дымкой... Озверев от воздержания, вышла она на весеннюю охоту на девушек, настроенная беспощадно и готовая без жалости разбивать сердца направо и налево. Утоляла она свой чувственный голод жадными глотками – семерых девушек за весну соблазнила и покинула. (Хоть детей не получилось – и на том спасибо). Без зазрения совести, точно каким-то вечным хмелем одурманенная, предавалась она своим старым грехам, и ни на миг не пробуждалась её душа – не участвовала в этом разгуле. Тело шлялось где-то, удовлетворяя свои желания, а душа будто в спячку впала. А что до хмеля беспробудного, то пила Мечислава в эту пору и впрямь изрядно. Дошло до того, что на совет к Лесияре она однажды явилась с сильного похмелья. При Сёстрах княгиня ей ничего не сказала, а после совещания сделала с глазу на глаз такой выговор, что Мечислава выползла из княжеского дворца на полусогнутых ногах.
– Ты совсем совесть потеряла, голубушка моя? – обрушилась на женщину-кошку белогорская правительница. – Тебя суженая дожидается, а ты пьёшь-гуляешь, точно холостячка, которую вот-вот от собственного семени разорвёт! От родительниц одной из девушек мне поступила жалоба на тебя... Просят, чтоб я уняла твои бесчинства. Стыд-позор, дорогуша!
Мечислава стояла навытяжку под градом упрёков. Слова государыни падали в её помертвевшее нутро и гулко отзывались там горьким эхом.
– В общем, так, моя дорогая. Чтоб это был твой последний загул, а не то... – Лесияра сжала кулак и поднесла его к лицу провинившейся советницы. – А не то лишу тебя звания Старшей Сестры! Покроешь своё имя таким позором, что вовек не отмыться! А ежели услышу когда-нибудь, что супруге своей изменяешь... Будешь с земли Белогорской изгнана, так и знай.
Вернувшись домой после этого разноса, Мечислава напилась до беспамятства и рухнула на постель. Продрыхла она в хмельном угаре полдня, и пробуждение было не из лёгких. От отвара яснень-травы ей полегчало, похмелье отступило, но душа по-прежнему болела, будто кожу с неё содрали живьём.
В предутренней дрёме послышалось Мечиславе, будто кто-то всхлипывает тоненько, по-девичьи... Открыв глаза, очутилась женщина-кошка в саду, где на лавочке в вишнёвых зарослях горько плакала её ладушка.
«Позабыла ты меня, родная, – упрекала она Мечиславу жалобно. – Выбросила ты меня и из сердца, из и мыслей своих. К чему мне жить теперь, коли не любишь меня больше?»
Смертоносными медвежьими когтями рвануло душу раскаяние, разодрало, распустило на полосы, и Мечислава рухнула перед ладой, уткнулась ей в колени.
«Нет мне прощения, горлинка... Нет прощения! Но ежели сможешь простить, то знай: никогда не обижу тебя, слышишь? Никогда! Чтоб ты слёзы из-за меня проливала? Не бывать этому! Только ты одна в сердце моём, лада моя светлоокая... Лишь тобой живу и дышу, тебя одну жду. Но уж как тяжко ожидание мне даётся, счастье моё! Изголодалась я, вот и сорвалась. Так хочется поскорее обнять тебя, к устам твоим прильнуть, супругой назвать... Истосковалась я по тебе, сил моих нет!»
Лёгкие тёплые ладошки опустились ей на плечи.
«Крепись, родная. Шесть лет ждала ты – ещё десять осталось. Душа моя уже с тобой, хоть тело и разум ещё не созрели. Будь верна мне, лада моя, а ежели изменишь, разорвётся моё сердце в клочья и умру я, не дождавшись встречи с тобою наяву!»
«Буду! Буду верность тебе хранить, лебёдушка моя светлокрылая, – покрывая воздушные пальчики избранницы поцелуями, шептала Мечислава. – Клянусь жизнью своей... Да что моя жизнь – детушками нашими будущими клянусь! Только живи, только будь, ибо без тебя и мне нет смысла эту землю топтать!»
Проснулась Мечислава в слезах, что крайне редко с нею случалось. От мысли, что измена может убить ладу, душа подёргивалась мертвенным инеем, сжималась горестно, и женщина-кошка ругала и казнила себя ещё горше, ещё крепче, чем княгиня накануне. Да, гульнула она нынче весной с размахом, так что теперь от самой себя была в ужасе. Любимые серые очи смотрели на неё с укором, и Мечислава не знала, куда деваться от этого пронизывающего, кроткого и печального взора.
Сцепив зубы и завязав волю узлом, она вернулась к целомудрию; семьям брошенных девушек по распоряжению княгини пришлось выплатить возмещение ущерба. Нежно, любовно выбирала Мечислава подарки для лады: сапожки, ленточки, украшения, вышитую подушку... Не жалела она и хлеба из своих закромов, выменивая на него у жриц Тихорощенской общины чудесный прозрачный мёд – не только чтобы побаловать ладу сладеньким, но и ради укрепления её здоровья. Высылала Мечислава невесте и ещё одну целительную и чудотворную вещь – живицу тихорощенских сосен. Для её добычи не приходилось наносить деревьям раны: смола сочилась из естественных трещин, и девы Лалады собирали живую «кровь» упокоенных прародительниц. Служительницы Лалады не ели мяса, но от яиц и молока не отказывались; овощи для своих нужд они выращивали сами, а для хлеба земель общины уже не хватало, поэтому пшеницу, рожь и овёс они получали от белогорских жительниц в обмен на целебные дары Тихой Рощи.
Ещё десять лет прошло в ожидании. Держаться подальше от любовных приключений Мечиславе помогал страх потерять ладу: «Если изменишь, умру», – эти слова осенним ветром студили душу и мигом отрезвляли, отбивая малейшее желание вновь распоясаться. Терпение было вознаграждено: Беляна наконец-то переступила порог дома Мечиславы – уже не невеста, а законная супруга.
Её чистота и застенчивость умиляли Мечиславу. Стиснув зубы, она обуздала многолетний голод и не спешила набрасываться на жену в постели, чтоб не испугать эту невинную голубку своей ненасытностью. Между прочим, подарок Мечиславы, вышитую подушку, Беляна взяла с собой из родительского дома. Сердце женщины-кошки таяло от мысли, что эта подушка была у Беляны любимой: супруга с детства спала на ней, доверяла ей свои думы, а порой и проливала в неё слёзы.
Вымазав уста Беляны мёдом, Мечислава зацеловывала их до головокружения. Потихоньку, осторожно будила она в супруге чувственность, учила открываться и отдаваться бесстрашно и без остатка, и Беляна усваивала эту сладкую науку быстро, забывая первоначальную робость. В серых глазах любимой Мечислава узнавала те лукаво-смешливые искорки, которые так восхитили и ошеломили её во сне. Освоившись в новом доме и преодолев скованность, Беляна раскрывалась и расцветала, сияя всеми гранями своего живого и весёлого нрава. Язычок у неё не только оказался способным к глубоким сладким поцелуям, но и отпускал остроумные замечания и шуточки, над которыми Мечислава хохотала от души.
– Ты всегда такая суровая, лада, – прильнув к груди супруги, ворковала Беляна. – Любо мне, когда ты улыбаешься и смеёшься...
Могла сероглазая красавица игриво пройтись и по особе самой Мечиславы – беззлобно и не обидно, по-доброму, но самолюбие женщины-кошки не терпело на себя посягательств – даже в шутку. Мечислава ощетинивалась, но Беляна с покорно-смиренным лицом добавляла:
– Со всем к тебе уважением, моя госпожа.
Но из-под длинных ресниц у неё так и рвались, так и выпрыгивали озорные искорки, и взъерошенное самолюбие Мечиславы укладывало вздыбленную шерсть на загривке: озорство юной супруги заражало и её. Оно бесило, смешило и заводило её одновременно.
– Ах ты, шутница, – многообещающе прищурившись, цедила Мечислава. – Ну, сейчас ты у меня дошутишься, сейчас доиграешься!.. Я тебе покажу, как надо мною потешаться!
И, схватив любимую в объятия, она огромными скачками несла её в постель. Хохот, визг и писк Беляны, рык женщины-кошки – и тишина. Лишь звуки поцелуев раздавались в супружеской спальне.
Но между ними были не только искры и гром с молниями, любили они и проводить время в тягуче-ленивой, неспешной, обволакивающей нежности. Провожая летние закаты на берегу реки, они вслушивались в звенящую тишину покрытых сосновым лесом холмов, а холодные шапки гор, далёкие и до оторопи близкие одновременно, незримо улыбались в седые усы. Склонив головку на плечо Мечиславы, Беляна щекотала супругу сорванным цветком, а та, хмельная от этого тесного, тёплого единения, шептала:
– Оладушка моя медовая... Сладкая моя... Люблю тебя...
– И я люблю тебя, лада моя прекрасная, темноокая, – вторила ей Беляна своим нежно-серебристым голоском.
Повалив её на траву и склонившись над нею, Мечислава жарко дышала ей в губы:
– Правда любишь?
Белые пальчики супруги играли нависшими кудрями женщины-кошки, откидывали их, заправляя прядки за остроконечное кошачье ухо.
– Люблю, лада моя единственная, госпожа моя дивная, – ласковым ручейком журчал голос Беляны, а в улыбке растворялся румянец вечерней зари.
Мечислава, мурлыча, тёрлась носом о щёки молодой жены, трепетала полузакрытыми веками.
– Говори, горлинка, не умолкай... Голосок твой с ума меня сводит...
Никогда в жизни Мечислава так не любила – до ослепительного исступления, до бредового самозабвения, до стиснутых от наслаждения зубов. Её любовь зрела шестнадцать лет, и вот – распустилась огненным цветком, огромным, как этот летний закат в полнеба. Забылись все холостяцкие похождения: к чему они стали теперь, когда в доме Мечиславы поселилось сероглазое счастье? Живое и тёплое, озорное, ласковое и – хрупкое... Врезались женщине-кошке в память слова: «Изменишь – умру». Пойти на поводу у желаний и своими руками погубить этот лучик света, которого она ждала шестнадцать лет? Нет, на самом деле – гораздо дольше... Ответ напрашивался сам: ни за что. Да и все желания Мечиславы теперь сосредотачивались вокруг одной Беляны. Лада – лучшая, и никого другого ей было не нужно.
Три медовых года они наслаждались друг другом. Мечислава не могла надышаться, нарадоваться, натешиться, нацеловаться; если прочие девушки быстро ей надоедали, то лада казалась неисчерпаемой. Каждый новый день мерцал новым узором солнечных лучей, неуловимые перемены проступали и в самой Беляне. Она будто поворачивалась к супруге то одной гранью, то другой, и влюблённая Мечислава заново пыталась угадать, сколько же этих граней ещё осталось. Три сладких года пролетели лебединой стаей, а на четвёртый Беляна понесла дитя.
Мечиславе открылись очередные грани семейной жизни. По мере того, как у супруги рос животик, женщина-кошка ощущала странное ёканье под сердцем. Мягкая, но беспощадная лапа стискивала его, горло сжималось, и ночами Мечислава порой думала: рассказать ли жене о «подвигах» своего холостяцкого житья? Далеко, в семьях, так и не ставших Мечиславе родными, росли её дочки – теперь уже, наверно, совсем взрослые стали... Она лишь посылала им помощь, но не слышала их первого крика, не присутствовала при первых шагах, не внимала их первым словам. Никогда они не вспомнят её добром, не обнимут, не назовут матушкой...
Отчего же кареглазая женщина-кошка, никогда не отличавшаяся особой чувствительностью и щепетильностью в этих делах, вдруг так раскисла – даже слёзы в горле вскипели? Оттого ли, что рядом спала супруга с дитятком во чреве? Положив ей на живот руку, Мечислава могла ощутить толчки: это их родная кроха ворочалась, давая о себе знать. А тех, внебрачных, но таких же кровных, она вычеркнула из своей жизни... Уже не было смысла просить прощения: не примут они, не простят, не впустят в свои сердца непутёвую матушку – чёрствую, невоздержанную, способную думать лишь о себе и об удовлетворении своих прихотей. Ну и поделом ей, этой несостоявшейся родительнице... Теперь ей оставалось лишь жить с этим грузом.
Признаться – не признаться? Рассказать – не рассказать? Боясь потревожить сон Беляны, Мечислава не шевелилась и даже дышала тихонько.
По давнему обычаю первеницу растили кошкой, а это значило, что для Мечиславы наступала нелёгкая пора – пора бессонных ночей и рубашек с прорезями на груди. Никогда прежде не кормившая, Мечислава беспокоилась: а получится ли у неё совместить материнство со службой? Но ведь как-то выкормила женщину-кошку её собственная родительница, также служившая в старшей дружине у белогорской княгини – ничего, справилась. Больших войн сейчас не было, случались только мелкие набеги кангелов на южные рубежи Светлореченского княжества и Белых гор, но забот у Мечиславы всегда хватало. Даже в мирное время боеспособность войска следовало поддерживать – проводить учения, чтоб воины не расслаблялись и не теряли навыков.
– Ты справишься, лада, – подбадривала Беляна.
– Хорошо тебе говорить, – нервно ворчала Мечислава. – Родила – и всё, отмучилась, а мне ещё кормить!
– Ладушка, не тревожься, заботы о нашем дитятке не лягут лишь на твои плечи, – терпеливо успокаивала супруга, посмеиваясь. – Ты и я – вместе, не забывай. Вдвоём у нас всё получится. А ежели что – бабушки помогут, подскажут.
– Умница ты моя, – вздохнув, Мечислава привлекла супругу к себе и прильнула губами к её лбу. – Счастье моё... Ты уж прости меня за это нытьё. Конечно, всё образуется, никуда не денется.
Она была на учениях, когда из дома принесли весточку: роды начались. Немедленно отлучиться не получилось, но Мечислава успела к самому последнему мгновению: повитуха как раз приподняла скользкое, покрытое смазкой дитя с не обрезанной ещё пуповиной, чтоб показать Беляне.
– А вот и мы, – сказала она ласково, поворачивая кроху то одним боком, то другим.
Мечиславе не впервой было видеть кровь и самой её проливать на войне, но тут у неё отчего-то затряслись колени, и она села на дощатый пол бани. Подоспела матушка Логода и взяла всё в свои опытные руки; Мечиславу она выпроводила из бани, на что опомнившаяся женщина-кошка обиделась. Её бесило, когда что-то было ей неподвластно. Встряхнувшись, Мечислава вернулась к изголовью Беляны и покрыла поцелуями её влажное от пота, измученное лицо.
– Всё позади, ладушка, я с тобою, – приговаривала она. – Прости, что сразу прийти не смогла.
Когда ротик дочки приник к её соску, Мечислава ощутила мягкую, удушающую хватку безжалостной лапы на горле. Она могла испытать всё это раньше, но предпочла отстраниться. Посеяв семя, растить всходы она предоставила другим. Нет, никогда она не сможет решиться попросить у подросших дочерей прощения... Слишком поздно. Где она была, когда они в ней нуждались? А теперь уж – всё. Дочери могли лишь плюнуть в бесстыжие очи нерадивой матушки. И правильно сделали бы.
Так бичевала себя Мечислава, держа новорождённую малютку у груди. Отчего раньше она об этом не задумывалась, не беспокоилась, отчего спала её совесть беспробудно, а теперь вдруг всколыхнулась со дна души и повисла тяжестью на сердце? Может быть, сероглазая ладушка, придя в её жизнь, перевернула в ней многое... Всё, что творила Мечислава до неё, было похмельным бредом, чередой глупостей и ошибок, а порой и умышленных дурных поступков... Не она тогда куролесила, а кто-то другой. Не настоящая Мечислава.
Настоящая же, отдав дочку супруге после очередного ночного кормления, устало обхватила голову руками и закрыла глаза.
– Не могу больше в себе это держать, – глухо промолвила она. – Ты должна кое-что знать, ладушка.
Любимые серые очи блеснули тревогой.
– Слушаю тебя, родная.
– Боюсь, то, что ты услышишь, может тебе не понравиться, – горько усмехнулась Мечислава. – Узнав это обо мне, ты более не захочешь называть меня ладой...
– Что бы это ни было – расскажи, облегчи душу. – Убаюкивая дочку, Беляна придвинулась к супруге ближе.
В этом тёплом единении не было места прошлому, но раз уж Мечислава заикнулась...
– Горлинка, до тебя я вела дурную, разгульную жизнь. Соблазняла девушек и покидала их без жалости и зазрения совести. Не раз меня государыня за мои «подвиги» отчитывала, а я всё не унималась. Последний мой загул был уже после того, как я нашла тебя, моя голубка. Ребёнком ты ещё была, а я ждала, когда моя невеста вырастет... И вот, на шестом году ожидания не удержалась, ударилась опять в свою гульбу. Ох и стыдила меня тогда государыня Лесияра... – Вспоминая выговор княгини, Мечислава вздохнула: былая горечь ожила, поднялась глухой стеной. – А потом мне ты приснилась. Сказала ты тогда: «Коли изменишь – умру я». Вот с тех пор и боюсь я... Боюсь тебя потерять, лада моя, а потому на других даже не гляжу.
Мечислава смолкла, переводя дух. Горечь стояла в горле, заливала сердце, затянула ночное небо беззвёздным пологом.
– Хорошо, что ты поведала о том, что мучит тебя, лада, – молвила Беляна. Даже тени укора не было в её ясных очах. – Что было – то прошло, к прошлому возврата нет. А потерять меня не бойся: как любила я тебя, так люблю и любить стану до конца своих дней.
– Это ещё не всё, горлинка моя мудрая. – Мечиславе хотелось прижать к себе свою сероглазую ладушку, стиснуть исступлённо, до стона, но она не смела этого сделать, пока не вся правда была досказана. – Есть у меня ещё дети, вне брака рождённые. Не растила я их, не воспитывала, только помощь высылала до совершеннолетия. Теперь уж выросли они... И вряд ли захотят знать меня. Не простят, не примут, не нужна я им уже. Не осмелюсь я никогда предстать перед ними, потому что горьким будет их ответ.
Мечислава закрыла глаза, страшась встретиться взглядом с супругой. Тёплая ладошка коснулась её щеки.
– Ладушка, ты не знаешь, каков будет их ответ, – вкрадчиво-ласково прозвучал голос Беляны. Как и во взоре, не было в нём укора и осуждения. – Ты его сама за них придумала, а настоящего выслушать не хочешь. Нелегко это, лада, но ты сама знаешь, что должна с дочками увидеться. Ежели этого не сделать, ты так и будешь мучиться в неизвестности. А вдруг не держат они на тебя обиды? Вдруг простили давно, а ты всё казнишься?
Всё ещё держа глаза зажмуренными, Мечислава отчаянно замотала головой.
– Нет, нет, горлинка... Не смогу я. Выше это моих сил. Боюсь я... Боюсь, что сердце не выдержит и разобьётся. Не смогу я посмотреть им в глаза, и не проси!
– Подумай над этим, лада, – мягко молвила Беляна. – Пока просто подумай... А уж когда созреет твоё решение – это от тебя будет зависеть.
Надолго задавила Мечислава в себе это душевное сокрушение, не решаясь поступить по совету супруги и встретиться с покинутыми ею старшими дочерьми. Всякий раз, прикладывая маленькую Градинку к груди, ощущала она отголосок глухой боли: так старый шрам к непогоде ноет – тупо, изнурительно, нудно. Градинка подрастала, окутанная любовью и заботой обеих родительниц; навёрстывая упущенное и исправляя былые ошибки, Мечислава вкладывалась в воспитание дочки, как могла. Преподавала она ей искусство охоты и владения оружием, с малых лет юная кошка бывала с родительницей на учениях войска, а на шестнадцатом году, достаточно окрепнув, вступила в дружину Мечиславы.
К тому времени, когда вещий меч Лесияры предрёк скорое начало большого кровопролития, у Мечиславы с Беляной подрастали ещё две дочки – белогорские девы. Верность своей сероглазой ладушке женщина-кошка хранила свято, да это было и нетрудно: навек затмила любимая супруга всех прочих прекрасных дев. Случалось Мечиславе на княжеском пиру заглядываться на красавиц – по старой привычке, но серые очи были рядом; стоило пальчику супруги погрозить – и тотчас девицы оказывались Мечиславой забыты. А когда окончательно стало ясно, что войне – быть, княжеская военачальница ощутила, что решение созрело.
Сердцем чуяла она: побоище грядёт – не чета прошлым. Каркало вороньё, хриплыми голосами звало беду великую, а разлетевшийся вдребезги вещий клинок княгини указал на Мёртвые топи. Что за напасть грозила миру из этих заброшенных земель? Старые предания рассказывали, что давным-давно там полегла рать несметная – то боги остановили страшнейшую сечу, в которой схлестнулись пять войск, пять народов. Похоронило воинов болото, так и остались они там лежать и хмарью пропитываться.
Каркали вороны, призывали погибель на головы многих славных кошек-дружинниц... Предстояло их любимым супругам остаться вдовами, а деткам – сиротами. Как знать, суждено ли Мечиславе выйти из грядущей битвы живой?..
Вот оттого-то и вскинула она голову, склонённую старым грузом вины. Всё ещё пощипывала сердце горечь, но дальше откладывать было некуда. Разыскала Мечислава обеих внебрачных дочерей; не испив сразу после рождения молока кошки, обе выросли белогорскими девами. Одна из них, по имени Малиновка, жила хорошо: в положенное время встретив суженую, она создала семью и уже растила двух дочерей. С нею у Мечиславы разговора не получилось. Вышло как раз то, чего она и боялась: сердце дочери было ожесточено против родительницы-кошки.
– Ступай прочь, госпожа, не матушка ты мне и никогда ею не была, – только и сказала Малиновка. – Или, быть может, ты долг с меня спросить пришла? Ту помощь, что ты высылала, пока я была маленькой, я верну тебе, дай только время.
– Ничего ты мне не должна, – молвила Мечислава. – На внучек поглядеть хотя бы позволишь?
– Прости, госпожа, но не заслужила ты права видеться с ними, – ответила дочь непримиримо.
Тяжко кровоточило сердце Мечиславы после этой встречи, долго она приходила в себя, молчала и хмурилась. Беляна с расспросами не лезла, просто была рядом и согревала супругу мудрым, ласковым, ненавязчивым теплом.
Кричало вороньё, торопило Мечиславу. Ещё не вполне оправившись после короткого, но горького разговора с Малиновкой, она собралась с духом и отправилась к другой дочери. Ныло сердце, обливалось тоскливым холодом: что сулила ей эта встреча? Ещё одну пощёчину и заслуженную отповедь или, быть может, всё же надежду на примирение?
В отличие от сестры, у Влáнешки жизнь не складывалась. Была она уже в зрелых для белогорской девы годах, но суженая так и не постучалась у её порога, и жила Вланешка в родительском доме старой девой – вековушей. Родительницу её – ту самую девушку, которую Мечислава когда-то оставила – взяла в супруги пожилая кошка-вдова. Взяла с ребёнком и воспитывала Вланешку, как родную. Прожили они двадцать лет, после чего вдова ушла в Тихую Рощу, а вскоре и мать Вланешки угасла – рано, не дожив положенного для белогорской девы века. Сейчас Вланешка жила в семье Залюбы – сводной сестры-кошки, дочери своей приёмной родительницы, и помогала им с супругой нянчить деток. Славилась она как рукодельница-вышивальщица с выдающимся даром: работами её вся семья была одета, да и не только семья. Хоть умение вышивать для каждой девы в Белых горах разумелось само собою, но, как водится, были среди них и заурядные рукодельницы, и мастерицы знаменитые – как солнца среди звёзд.
Тихая, замкнутая и кроткая, Вланешка была словно не от мира сего. Огромные и светлые, странные её очи ни на кого не смотрели прямо, избегала она встречаться взглядом даже с родными, а когда сидела, то покачивала немного туловищем из стороны в сторону. Залюба пыталась избавить её от этой привычки, придерживая за плечо, и Вланешка на какое-то время замирала, но потом снова принималась качаться.
– Она как дитя, – сказала Залюба Мечиславе. – Беспомощная, не справится одна, вот и не бросаем её. Не сложилась до сей поры у неё своя семья, да видно, теперь уж и не сложится... Но мастерица она великая, даже издалече к нам приходят, чтоб ей вышивку заказать.
Вланешка сидела у окна с пяльцами. Под её иглой на ткани оживали горные цветы, пели птицы, сияло солнце, и даже казалось, что ветер вот-вот повеет летней свежестью снежных вершин... Многим умелым белогорским рукодельницам было далеко до неё. Стоило лишь раз взглянуть на эти живые, дышащие цветы, чтоб понять: не ремесленная это работа, а из области великого и вдохновенного искусства.
– Чудотворны твои пальцы, – молвила Мечислава, присев около вышивальщицы. – Но умелых рук мало. Чтоб творить такое, нужна светлая и ясная душа.
Пальцы Вланешки напряглись, игла вонзилась в ткань судорожно, взгляд погас и ушёл в сторону. Вкладывая в свой голос всю мягкость, на какую она только была способна, Мечислава накрыла ладонью руку дочери и осторожно повернула её лицо к себе.
– Не робей, милая. Ты знаешь, кто я?
Вланешка чуть кивнула.
– Да, госпожа, знаю. Ты – моя родительница.
Мечислава всё пыталась поймать её взгляд, но тот убегал пугливым зверьком. Оставив попытки, женщина-кошка просто улыбнулась. Не хотелось ей верить, что и в сердце этого чистого создания таилась непримиримая обида...
Она осталась на обед. Семья жила скромно, но не бедно, Залюба трудилась каменщицей. Земная твердь была во власти Огуни, а потому причёску глава семьи носила такую же, как у оружейниц. После обеда Вланешка ускользнула в светёлку, а от неё к сердцу Мечиславы тянулась струнка невысказанного. Не утерпев, женщина-кошка последовала за дочерью.
Вланешка села в креслице за рукодельным столиком, и её пальцы снова начали свою ворожбу: стежок за стежком проступали на ткани лепестки цветка. Мечислава уж забыла лицо той девушки, годы и череда забот изгладили его из памяти, но, всматриваясь в черты дочери, она понемногу вспоминала ту, чью судьбу она легкомысленно покорёжила волею своей прихоти. Печальным бубенцом в душу вдруг упала мысль: а может, и в том, что у дочери жизнь остановилась, едва начавшись, есть доля её вины. Тихо и однообразно шла эта жизнь; как ручеёк, впадающий в стоячее болото, без толку и пользы пополняет его своими чистыми водами, так и она текла. Ползла она сонно, без перемен, без радостей, без событий... Без счастья.
– Скажи, ты обижена на меня? – спросила Мечислава, присев на лавку и обводя взглядом комнату. Уютно здесь было, по-женски тепло. Прялка, небольшая печка с расписными блюдами на полочке, плетёные дорожки на полу и – вышивки, вышивки по стенам...
Ресницы Вланешки дрогнули, взгляд двинулся было в сторону Мечиславы, но опять замер на полпути, чуть косящий и странно задумчивый, застывший, точно у незрячей.
– Кто я такая, чтоб держать обиду на тебя? Ты поступила так, как считала правильным. Никчёмная я, оттого ты и не желала меня видеть. Ни на что я не годна, и никто не захотел полюбить меня.
Горько-солёный ком шершаво и болезненно встал в горле, отчего голос Мечиславы прозвучал хрипловато.
– Как – ни на что не годна? А это?.. – И она дотронулась до чудесного плетения нитей, в очертаниях которого проступала мягкая природная красота: листья, лепестки, стебли, даже капелька росы набрякшая и готовая сорваться...
Губы Вланешки чуть скривились в усталой усмешке.
– Это – пустяки. Вышивать всякий может.
– ТАК вышивать – не всякий, поверь мне! – от всего сердца воскликнула Мечислава.
– И какой в том прок? – Вланешка возобновила работу иглой, прерванную на произнесение слов.
– Это приносит людям радость, – назвала женщина-кошка первое, что пришло ей в голову при виде этой вышивки.
– Может, и приносит, – грустным эхом отозвалась дочь. – Да только мне счастья от этого нет. Не приходит ко мне лада моя: видно, нет её на свете. Жизнь – как лампа, а любовь – как масло в ней; светит лампа, покуда масло добавляют. А как закончится оно – гаснет. Так и я угасну: нет любимой руки, чтоб маслица подлить.
– Ты мне эти разговоры брось, – нахмурилась Мечислава. – Ты красавица, умница и мастерица. Всё у тебя будет.
Домой она вернулась в раздумьях. Что-то хорошее, отчаянно светлое и нежное зрело в груди, и вскоре Мечислава смогла облечь свои мысли в слова: сперва нужно было посоветоваться с супругой, спросить её мнения.
– Горлинка, хочу я забрать Вланешку к нам. Живёт она у сводной сестры, как сирота из милости – это при живой-то родительнице! Думается мне, что с нами ей лучше будет.
– Главное, лучше будет тебе, – улыбнулась Беляна, занятая шитьём детской рубашечки. – Душа твоя на место встанет. Ты, как я понимаю, мнение моё хочешь знать? Могла б и не спрашивать: я твоё решение могу только поддержать.
– Умница ты моя... Благодарю тебя. – Мечислава обняла жену за плечи, с нежностью целуя в лоб. И вдруг обратила внимание на рубашечку: – А это что? И по какому случаю?
А Беляна, сияя тёплыми звёздочками в зрачках, ткнулась носом в щёку супруги-кошки:
– Послала Лалада нам ещё одно дитятко, родная.
Улыбнулась Мечислава и жену к груди прижала, но каркало проклятое вороньё... В лихую пору предстояло родиться этому дитятку.
Когда женщина-кошка вернулась в дом Залюбы, её ждала тревожная весть: занемогла Вланешка. Ни жара, ни лихорадки, ни боли – только слабость, из-за которой она не могла встать с постели. Оставленная на рукодельном столике вышивка сиротливо ждала мастерицу, но та лежала с закрытыми очами, а её чудотворные руки, словно увядшие цветы, покоились на одеяле.
– Что с тобою, милая? – Присев на край постели, Мечислава с холодящей сердце тоской склонилась над дочерью.
Та приоткрыла усталые, отяжелевшие веки. Бледные сухие уста двинулись, и до слуха женщины-кошки донёсся шелест-шёпот:
– Угасаю я, госпожа. Кончилось маслице в лампе.
– Нет, даже думать не смей! – воскликнула Мечислава.
Она умела воевать, но как сражаться против незримого врага, который крал, высасывая по глотку, жизнь Вланешки? Каким оружием поразить его, какой силой обратить в бегство? Мечислава сгребла дочь в объятия, взяв на руки вместе с одеялом.
– Отставить, слышишь? Ты будешь жить и точка. Я так сказала!
Морозное дуновение зимы серебрилось нитями в русых волосах Вланешки. Поникшей чашечкой цветка лежала её голова на плече Мечиславы.
– Куда ты её, госпожа? – удивлённо поднялась на ноги Залюба, когда гостья проходила мимо неё с Вланешкой на руках.
– Я забираю её, она будет жить со мной, – коротко бросила Мечислава в ответ. – Позже я пришлю кого-нибудь за её скарбом и рукодельными принадлежностями.
Растаяла вечерняя заря, тревожная ночь окутала дом, всё смолкло, и только у изголовья Вланешки мерцала лампа, отбрасывая на стены тени сидевших около неё Мечиславы и Беляны. Глядя на золотистый огонёк, женщина-кошка мысленно молила: «Только не угасай...»
– Ты ведь целительница, лада, вспомни! – Беляна склонилась над Вланешкой, с тёплым состраданием всматриваясь в её осунувшееся, разглаженное мертвенным покоем лицо. – Влей в неё свет Лалады – может, и встанет она...
– Я попробую, горлинка. – И Мечислава, хватаясь за кончик хвоста птицы-надежды, простёрла над дочерью руку.
Живительный свет, вытекая из её пальцев, собирался в круглый, как солнышко, сгусток. Его лучики дышали и щекотали ладонь, и состоял он не только из Лаладиной силы. Мечислава вкладывала в него всё своё покаяние, всё сожаление о былых проступках, всю запоздалую нежность. Взгляд туманился скорбью: как можно было отказаться от этого хрупкого цветочка, доброго и чистого, неспособного таить злобу и не умеющего копить обиду? А Беляна, будто прочитав мысли Мечиславы, прильнула к её плечу:
– Ничего, родная... Лучше поздно, чем никогда. Ты успела вовремя.
Успела ли?.. Утопив сгусток света в груди Вланешки, Мечислава вглядывалась в её лицо и ждала появления хоть каких-то проблесков улучшения. Тревога высоко звенела, врезаясь в душу струной.
Грудь Вланешки приподнялась в глубоком вдохе, глаза открылись. Золотой свет ещё брезжил в глубине её зрачков, делая свою целительную работу, а её лицо уже озарилось жизнью. Вся мертвенность пропала, руки встрепенулись и заскользили по одеялу. Поймав их, Мечислава склонилась и крепко вжалась в них губами.
– Чудо ты светлое, – молвила она ласково дрогнувшим от глубокого волнения голосом. – Заря ты моя ясная... Живи, дитятко, не покидай меня! И я тебя больше никогда не покину.
Потеплевшие ладошки Вланешки щупали и гладили её лицо; ощутив слезинку, пальцы тотчас смахнули её со щеки Мечиславы. Вланешка вздохнула и сомкнула ресницы.
– Спать хочется, – прошелестел её шёпот.
– Отдыхай, милая... Набирайся сил. – И Мечислава защекотала поцелуями её лоб, брови, переносицу. От сердца отлегло, стягивавшие его ремни тревоги лопнули.
Дочь уснула глубоко и крепко, сон этот уже не походил на предсмертное забытье: он был оздоровительным. Разве умирающий поворачивается на бок и укладывается на подушке поудобнее, сладко сопя и подсовывая руки под щёку? Конечно, нет.
Мечислава не могла отойти от Вланешки, какая-то тёплая сила крепко держала её рядом с изголовьем. Ещё звякала струнка тревоги: а вдруг, если она отойдёт, жизнь Вланешки угаснет, как вот эта лампа?
– Она спит, родимая, и ты тоже иди отдыхать, – шепнула Беляна, обнимая супругу за плечи и целуя сверху в макушку. – Тревожиться уже не о чем.
– Ты ложись, горлинка, – ответила женщина-кошка. – А я побуду с ней.
Так она и просидела до утра, слушая дыхание дочери и обмирая при всяком его замедлении или намёке на остановку. Новый вдох – и Мечислава с облегчением расслаблялась. Целебное вмешательство уже не требовалось, Вланешка явно шла на поправку, но Мечислава всё бодрствовала над ней, не в силах уйти и доводя себя до изнеможения. Перед рассветом, сдавшись в плен мертвящей усталости, она уронила голову на подушку дочери.
Пробудилась она от лёгких и щекотных, как крылья бабочки, прикосновений к своим волосам. Мир вокруг тошнотворно колыхнулся, череп загудел колоколом, но Мечислава волевым усилием выпрямилась.
– Ты что же, совсем не ложилась, госпожа? – Вланешка смотрела на неё ясным, ласковым взором – уже не скованным, а живым, полным зрячести.
– Полегчало тебе, дитя моё? – Мечислава с чуть усталым теплом в груди любовалась её милым личиком и приятно удивлялась переменам, произошедшим с глазами Вланешки.
– Да, госпожа, я здорова. А где это я? – Дочь недоуменно оглядывалась по сторонам, обнаружив себя в незнакомой роскошной опочивальне.
– Ты дома, голубка моя, – улыбнулась Мечислава, скользнув пальцами по её бархатистой тёплой щеке. – Этот дом должен был стать твоим очень, очень давно.
– А Залюба с Пушинкой? А детки? – встрепенулась Вланешка.
– К ним ты можешь ходить в гости хоть каждый день. – Мечислава бережно держала на ладони лёгонькие и тонкие пальцы, шершавые от шитья. – А что до деток... Скоро у тебя родится сестричка. Будет с кем нянчиться.
Губы Вланешки дрогнули в робкой улыбке.
– Сестричка?..
– Да, доченька. – Мечислава осторожно обняла её, привлекла к себе и, не встречая сопротивления, прижала к груди. – У тебя много сестриц, а эта будет самой младшенькой.
Сёстры приняли Вланешку сперва сдержанно, но потом их сердца были покорены её милым и кротким светом. Беляна же, хоть и будучи младше падчерицы, окутала её поистине материнским теплом и заботой: этому способствовала невинная детскость Вланешки. Впрочем, порой за этой простотой проскальзывала отнюдь не детская печаль. Разум у неё был вполне развитым, а суждения – зрелыми, просто эта чистота и исключительная неспособность к злости, обиде и гневу делали Вланешку похожей на дитя. Поселившись в доме родительницы, она продолжала заниматься вышивкой, и скоро среди её заказчиц появились высокопоставленные и знатные особы – Старшие Сёстры, их супруги и дочери. За это следовало благодарить Беляну, которая то тут, то там показывала её работы. Так прошли последние мирные дни.
Не впустую каркало вороньё. Разразилась беда, грянула война, надолго унеся Мечиславу из дома. Но не с людьми пришлось на сей раз схлестнуться в бою: противник оказался силён и обладал смертоносным для дочерей Лалады оружием, сделанным из твёрдой хмари. А с востока двигалась Павшая рать... Там, где она проходила, оставалась мёртвая земля.
Женщины-кошки пытались остановить гибельное продвижение чудовищного войска по Светлореченскому княжеству. Поднявшиеся из Мёртвых топей твари шли не только по почве, но и плыли по рекам, пробивая лёд и ныряя под него. Как смертельная хворь растекается по кровеносным сосудам, так и Павшая рать ползла по жилам рек, заражая Светлореченскую землю. Кошки-воительницы лили в проруби отвар яснень-травы, чтобы выкурить тварей на поверхность, и те с рёвом выныривали, разбрасывая вокруг себя ледяное крошево.
Исполинский представитель этой нежити с грохотом пробил ледяную корку. Восседал он на жуткой смеси ящера и коня, а его правая рука заканчивалась огромным мечевидным выростом. Мечислава с обнажённым клинком выскочила ему наперерез, чтобы вонзить белогорское оружие между костяными щитками панциря; уродливая харя чудовища, издав мерзкий высокий клекот, оскалила пасть с множеством острых зубов-шипов, женщина-кошка рявкнула и показала клыки в ответ. Мечевидная конечность болотного гада отбила её клинок, а вторая ударом в грудь отбросила Мечиславу на несколько саженей. Откатившись по льду, воительница с хрипом поднялась на ноги... Кольчуга с пластинами брони приняла на себя этот страшный удар, и рёбра остались целы, а вот стальные колечки, из которых была сплетена защитная рубашка, потрескались и при малейшем касании легко расползались, будто связанные из ветхой шерстяной нити петли. Вот это беда так беда! Белогорская оружейная волшба не выстояла против многовековой тёмной силы Мёртвых топей... Но Мечислава, не обращая внимания на прореху в своих доспехах, уже устремилась на врага. Она целилась в небольшой участок мягкой плоти, открывшийся между костяными щитками.
Но прежде чем удар достиг цели, мечевидная конечность чудовищного воина со свистом рассекла кольчугу женщины-кошки, а под нею – стёганую куртку. Без труда взрезала, точно горячим ножом по маслу полоснув... Хлынула кровь, но в следующий миг белогорский меч глубоко вошёл точно между щитками. Павший ратник заверещал и взмахом клешневидной лапищи перебил поразившую его руку. Оба упали: у твари из раны хлестала зловонная и холодная тёмная жижа, а Мечислава обагряла лёд ярко-алой, как ягодный сок, тёплой кровью.
Соратницы оттащили её в сторону. Мечислава не чувствовала боли, рана подёрнулась холодным онемением, которое прорастало ледяными шипами всё глубже в грудь. Кишки не вывалились наружу?.. Кажется, всё на месте.
Свод походного шатра, отсвет жаровни. Дружинницы бережно разоблачили военачальницу и обмыли рану отваром яснень-травы.
– Шить надо, госпожа... Порез глубокий и длинный.
– Ну так шейте, – прохрипела Мечислава.
Её больше беспокоил этот мертвенный холод вместо живых толчков и укусов боли. Странное и жуткое чувство, словно сама смерть запустила пальцы в ещё дышащую грудь...
И вдруг:
– Я зашью, пустите меня!
Звонкий голосок ворвался струйкой свежего ветра и уколол Мечиславу светлой иголочкой изумления.
– Вланешка... Как ты здесь... Что ты здесь делаешь? – комком вырвались из осипшего, почти утратившего голос горла вопросы.
Блеск жаровни плясал в глазах дочери – бесстрашно-спокойных, сияющих отсветом чертога Лалады. Натужившись и приподняв голову, Мечислава бросила свирепый взор на дружинниц.
– Домой её... Немедля...
Кошки собрались было выпроводить Вланешку, но она вскинула изящную руку ладошкой вперёд. Откуда только взялась столь решительная властность в этой тоненькой большеглазой девочке!.. Дружинницы замерли, точно приказ остановиться им отдала сама княгиня.
– Я зашью твою рану. – Голос Вланешки дрожал от сострадания и нежности.
– Дочка... Тебе нельзя тут находиться, опасность близко, – простонала Мечислава.
Вместо ответа Вланешка засучила рукава и вдела в игольное ушко мерцающую золотым светом нить.
– Отваром уже промыли? – деловито осведомилась она.
– Так точно, госпожа, – ответили дружинницы.
Мечислава ощутила укол. Это было больше щекотно, нежели больно. Игла пронзала её плоть, нить стягивала края раны, и страшный холод отступал. Как тает снег под весенними лучами, так и эта мерзлота уходила под натиском победоносных рук Вланешки.
– Чем ты шьёшь? – Мечислава изумлённо всматривалась в нить, точно из золотого света свитую.
– Светом Лалады, – улыбнулась Вланешка. И добавила тише, чуть нагнувшись к лицу родительницы: – И любовью своей.
– Волшебница моя родная, – выдохнула Мечислава. – Люблю тебя...
С каждым стежком смерть отступала, отдёргивала свои загребущие пальцы от живого сердца. Вланешка работала ловко, и вскоре рана полностью сомкнулась, а все ледяные шипы растаяли. Мечислава чувствовала лёгкое жжение и покалывание, но не боль.
– Ну, вот и всё, – сказала дочь.
Разбитую вдребезги руку Мечиславы соратницы зажали в деревяшках и впустили в неё несколько целительных сгустков золотого света. Вланешка улеглась рядом и прильнула к родительнице, своим телом согревая её. Мечислава была раздета по пояс, и дружинницы прикрыли её обнажённое туловище плащом.
– Всё, всё, сейчас же домой, дитятко, – прошептала женщина-кошка, проваливаясь в блаженную сонливость. – Здесь опасно... Битва рядом.
– Я останусь с тобой, матушка, покуда ты не поправишься, – твёрдо ответила Вланешка.
– Не прекословь, это приказ! – Повысить голос толком не получилось, Мечислава уронила зазвеневший колоколом череп на подушку.
Глаза дочери наполнились слезами, она прикусила задрожавшую губку. «Что угодно, только не её слёзы», – застонало сердце раненой женщины-кошки. Ему стало жарко и больно, щемяще-сладкая нежность пронзила его.
– Целительница моя... Спасительница милая, – прошептала Мечислава, одеревеневшими от слабости пальцами смахивая тёплые капельки с ресниц Вланешки. – Уберечь ведь тебя хочу, а ты не слушаешься. Ну, что ж мне делать-то с тобою, а?
– Госпожа, мы не подпустим никого к шатру на полёт стрелы, – раздался голос одной из кошек. – Жизней не пожалеем, а убережём вас обеих.
Жизни им не пришлось отдавать: шатёр словно какая-то незримая сила охраняла. На совет к княгине Лесияре Мечислава явилась уже почти здоровой, только рука ещё висела на перевязи.
Белогорская правительница объявила, что настала пора пробудить Тихую Рощу: чтобы победить Павшую рать, нужна была столь же древняя и могущественная сила.
– Сами мы не справляемся, Сестрицы. Остаётся лишь позвать на помощь наших прародительниц.
Никто не оспорил решения княгини, и в войну вступило удивительное войско, состоявшее из живых сосен. Вооружено оно было древними мечами столетней выдержки, которые ушли на покой вместе со своими хозяйками, но ничуть не затупились и не потускнели от долгого сна внутри стволов. Государыня Лесияра вела эту светлую могучую рать в бой, разя врага Мечом Предков – величайшим из клинков, чья выдержка равнялась двенадцати векам.
Павшая рать уничтожила сама себя, после того как меткий выстрел повелительницы женщин-кошек разбил жезл мёртвого полководца, предводителя болотной нежити. Мечислава видела его – самого страшного из этих гадов; на грудных щитках его брони выпукло проступали очертания птицы с раскинутыми крыльями, похожей на ворона, а костяные выросты на голове образовывали подобие княжеского венца. Мечислава знала этот знак-птицу: он принадлежал князю Вранокрылу.
Это был переломный миг в войне – поворот к победе. После закрытия Калинова моста пелена туч рассеялась, но высокую и горькую цену заплатили за эту победу Белые горы и лично княгиня Лесияра: наследница белогорского престола, княжна Светолика, навеки застыла скалой над замурованным проходом между Навью и Явью.
Солнечным весенним днём Мечислава поднялась на крыльцо своего дома. На шаг позади за нею следовала её дочь Градинка – молодая дружинница, получившая в этой войне тяжёлый боевой опыт. Не волосы её, а взгляд словно бы подёрнулся сединой.
В дверях воительниц встречала Беляна с дочерьми. Сердце Мечиславы согрелось от весенних искорок в зрачках сероглазой ладушки, которая протягивала ей младшую дочку, ещё совсем кроху. Женщина-кошка прижала тёплый комочек к груди, а потом расцеловала любимые серые очи.
– Пташки мои, – обняла она двух других дочерей, нетерпеливо ждавших своей очереди.
Потом дочки кинулись обниматься с сестрицей Градинкой; молодая сильная кошка сгребла и со смехом закружила сразу обеих сестёр – белогорских дев. Вланешка, застенчиво улыбаясь, стояла чуть поодаль – вечная, неисправимая скромница. Мечислава раскрыла ей навстречу объятия:
– Ну, что же ты? Будто не родная...
Вланешка шагнула раз, другой, третий, замешкалась. Мечислава сделала последний шаг сама и прижала дочь к груди, на которой остался тонкий, едва заметный шрам от раны, зашитой волшебными пальцами мастерицы-рукодельницы.
– Самая... Самая родная, – шепнула Мечислава в порозовевшее ушко Вланешки.
А наутро женщина-кошка снова распахнула окно опочивальни и вдохнула полной грудью чистый, мирный воздух, свободный от военной горечи.
– Эге-ге-ге-гей! – пронёсся над землёй молодецкий крик.
У испуганных кур в курятнике градом посыпались яйца, нарядный петух – потомок того, первого – клюнул себя в зад и чебурахнулся с насеста; девушка с коромыслом расплескала воду, а кошки-носильщицы с мешками зерна на мельнице по цепочке повалились друг на друга. Стряпуха не рассчитала силы взмаха, и блин со сковородки, вылетев в окно, шлёпнулся на голову проходившей мимо кошке.
– Хорошо-то как! – потянулась Мечислава навстречу новому дню.
* * *
Беляна впустила гостью – молодую кошку со шрамом на щеке. Мягкие русые кудри золотились под солнцем, серовато-голубые глаза смотрели серьёзно и внимательно. Не было нужды спрашивать: конечно, шрам оставила война.
Стройный стан незнакомки опоясывал алый кушак, а плечи, рукава и полы кафтана переливались бисерным шитьём. Окинув доброжелательно-проницательным взором этот наряд, Беляна подумала с усмешкой: «Уж не свататься ли пришла?»
А гостья протянула ей платок с вышивкой изумительной работы: живые незабудки цвели и, казалось, даже пахли на нём.
– Не здесь ли живёт мастерица-вышивальщица? – спросила она.
– А, так ты заказать что-то желаешь? – Беляна была слегка разочарована, но постаралась не показать виду. – Да, есть у нас рукодельница. Ступай за мной, я провожу тебя к ней.
Беляна проводила кошку в светёлку к Вланешке. Жаль, жаль, что не свататься пришла пригожая гостья... Дочки уж давно поджидали своих суженых.
А гостья, остановившись на пороге светёлки, так посмотрела на мастерицу, что Беляна совсем растерялась, гадая, зачем же она явилась на самом деле. Если ради заказа, то взгляд у неё уж очень... не деловой. Когда по делу приходят, не смотрят так жадно, пристально и ласково. А если ради самой мастерицы... Но разве Вланешка – не вековуша, уже оставившая надежду встретить свою суженую?
– Ладушка, – позвала гостья негромко и нежно.
Вланешка, выпустив из рук работу, медленно поднялась из-за столика. На миг её глаза вспыхнули, озарившись радостным блеском, а потом потускнели и закатились. Гостья не дала ей коснуться пола: уже в следующее мгновение Вланешка сидела у неё на коленях.
– Здравствуй, лада, – тихо произнесла женщина-кошка, лаская рукодельницу тёплым взглядом. – Вот и нашла я тебя...
А Вланешка, очнувшись, ошеломлённо ощупывала лицо незнакомки, словно не верила, что видит её наяву.
– Кто ты? – пролепетала она.
– Мирена я, – улыбнулась кошка, бережно обнимая её и поддерживая на случай нового обморока. – Вышивки твои и привели меня к тебе, голубка.
Вланешка всё ещё не верила, мотала головой.
– Нет, не может этого быть, не ко мне ты... Ошиблась ты! Здесь две невесты живут, вон, – она кивнула в сторону Беляны, – матушка их. А я – дева-вековуша, одной мне мой век доживать суждено...
– Не нужны мне эти девушки, – сказала Мирена со смешком и ласковыми искорками в глазах. – Мне ты нужна! За тобой я пришла, колдунья-рукодельница моя милая.
Вырвавшись из её объятий, Вланешка выбежала из светёлки.
– Лада! Ладушка, куда же ты? – со смехом кинулась Мирена следом.
Беляна сама не знала, то ли смеяться ей, то ли плакать. Она нашла счастливую пару в садовой беседке: Мирена нежно и крепко прижимала Вланешку к себе, а та уже не вырывалась и не убегала, обняв кошку за шею.
– Не ждала уж я тебя, судьба моя, – всхлипывала и вздрагивала она. – Сколько же тебе лет, счастье моё запоздалое?
– Тридцать шесть исполнилось, – ответила Мирена, успокаивая эти вздрагивания всё более крепкими объятиями. – Ну, ну, горлинка... Что ж ты плачешь-то...
– Оттого и плачу, что ты ещё в колыбельке лежала, когда я уже надежду терять начала понемногу, – сквозь слёзы улыбнулась Вланешка. И рассмеялась: – Кажется, я знаю, в кого я уродилась такая «везучая». Матушке Мечиславе пришлось ладу свою ждать шестнадцать лет, а мне... Не будем считать, сколько.
– Прости, что так задержалась, – без улыбки, с серьёзной нежностью глядя на избранницу, молвила Мирена. – Я ещё в минувшем году к тебе пришла бы, если б не война.
Теперь и Вланешка посерьёзнела, осторожно тронув пальцами шрам на щеке женщины-кошки, а потом обняла её что было сил. Беляна, прикрыв пальцами улыбку, потихоньку удалилась незамеченной: в беседке начались поцелуи. Ей непоколебимо верилось, что Мирена не потеряет супругу слишком рано из-за того, что та старше. Раз уж судьба свела их таким образом, то непременно даст что-то взамен тех лет, которые Вланешка провела в ожидании. С сегодняшнего дня начнётся новый отсчёт её возраста, только и всего – простое и самое справедливое чудо. Верилось Беляне, что проживёт светлая рукодельница долгий век – гораздо более длинный, чем у иных белогорских дев, а поможет ей в том сила Лалады, которую избранница будет щедро дарить вместе со своей любовью.
Ну, а что же дочки? Встретят своих суженых, никуда не денутся. Раз уж Вланешка дождалась, то они – и подавно. Нужно только не терять надежды.
Лети, ласточка
Лети, быстрокрылая ласточка,
Лети над седыми вершинами,
Лети над полями, долинами,
Пусть ветер поможет тебе.
Неси быстрокрылая ласточка,
Ту песню, что в сердце рождается,
Что к небу стрелой устремляется...
Слезу я роняю в мольбе.
Умчись, быстрокрылая ласточка,
Туда, где мой братец сражается,
Мечом от врага отбивается –
Не дрогнет героя рука!
Смотри, быстрокрылая ласточка:
Вином станут грозди тяжёлые,
Рекой хлынут песни весёлые –
С родимыми встреча сладка!..
Скажите мне, шапки холодные,
Скажите мне, тучи свободные,
Быть может, напрасно я жду?
Не зря ли очаг дома теплится,
Впустую ли крутится мельница,
Плоды созревают в саду?
Дождусь ли я брата родимого?
Иль пологом холода зимнего
Укрыло его навсегда?
Лети же, о быстрая ласточка!..
Белеет волос моих прядочка,
Но песня моя молода*.
_________
*По мотивам грузинской народной песни «Чёрная ласточка»
Это сказание – простое и прямое, как клинок, выкованный славной белогорской мастерицей. Честность сверкающей стали – самая закалённая, самая твёрдая и бесхитростная, без прикрас и уловок. Начнём же нашу песнь...
Чернобровый воин лежал в траве на берегу реки, журчавшей спокойно и мирно. Её воды, отражавшие в себе прохладно-лунный отсвет горных вершин, сохраняли невозмутимость, хотя неподалёку от места, где лежал воин, гремела битва и лилась кровь. Река много видела – и хорошего, и дурного. И человеческую жестокость, и нежность, и глупость... Ничему не удивлялись и горы. Народ, населявший их, уже давно не знал мира и покоя.
Красивые, точёные черты воина белели мертвенным мрамором. Уже не суждено было с этих мужественных уст сорваться весёлой застольной песне, больше никогда не пить им вина... Но в зрачках ещё теплилась, угасая, последняя искорка жизни. Над умирающим воином склонился ясноглазый товарищ в чёрном плаще, под которым мерцала светлая кольчуга.
– Держись, Нугру́р, – сказал он смертельно раненому товарищу. – Выпей ещё водицы целебной.
Рука воина отклонила фляжку.
– Не будет толку, – прохрипел он. – Мне уже ничем не поможешь... Прошу тебя только об одном, Мирома́ри: найди мою сестру. Скажи ей, что её брат сражался достойно и пал в бою, не дрогнув перед лицом врага.
– Разве у неё могут быть сомнения в храбрости её брата? – Синеглазый воин по имени Миромари дрогнул губами в горьковато-ласковой улыбке.
– Скажи ей... – Голос Нугрура прерывался хрипами, на устах проступила кровь – он захлёбывался ею. – Скажи ей, что я любил её...
– Я знаю, дружище мой, знаю. – Рука Миромари сердечно, крепко сжимала руку умирающего. – Твоя любовь – больше, чем любовь всех братьев, сестёр, родителей и друзей, вместе взятых.
Нугрур уже не мог кивнуть, лишь его тяжелеющие веки дрогнули в согласии с этими словами, которые он сам не раз произносил, рассказывая товарищу о любимой сестре. В груди его влажно булькало. Уже не приносила пользы целительная сила рук Миромари: слишком поздно синеглазый боец нашёл друга. Если б это случилось чуть ранее, может, и не звучали бы сейчас на берегу горной реки слова последнего привета. Они разминулись в бою, и Нугрура ранили далеко от Миромари. Целебная вода из фляги лишь облегчала страдания, унимая мертвящую боль, но жизнь почти вся вытекла из воина, когда Миромари удалось протиснуться к нему сквозь гущу битвы. Увы, уже никакая волшебная сила не могла его спасти, смерть опередила помощь и успела взять своё.
С последним вздохом с окровавленных губ Нугрура слетело имя:
– Миринэ́... Моя Миринэ...
Вечерний отсвет горных шапок озарял его застывшее лицо суровым, чистым покоем – вечным и уже беспробудным. Незабудково-синие глаза Миромари не увлажнились слезой, просто стали жёсткими и пронзительно-холодными, как сталь меча. Склонившись над другом, витязь прикрыл ему веки.
Тело следовало вернуть на родину. Сражались они на побережье, далеко от дома Нугрура, и Миромари предстоял долгий путь. Но сначала нужно было закончить битву. Накрыв тело плащом, синеглазый воин выпрямился и шагнул в колышущееся, как потревоженная камнем вода, пространство.
Светлый клинок, выхваченный из ножен, снова обрушился на головы туркульских воинов. Он легко пробивал простые, не зачарованные доспехи людей, и туркулы падали один за другим от ударов стальной молнии. Миромари – это было не имя, а прозвище молодой женщины-кошки, только что потерявшей друга и побратима. На языке этой горной страны, Метебии, оно означало «доблестный воитель».
– Братцы, не робейте! – крикнула кошка-воин. – Бейте врага!
Удар – алые брызги... Ещё удар, и голова туркула с козьей бородкой и тонкими усами летела с плеч. Стрелы отскакивали от белогорской кольчуги, и Миромари невредимо прорубалась сквозь бурлящее войско туркулов. Её товарищи-метебийцы не обладали неуязвимостью тела, но неуязвимость духа порой значит гораздо больше. Воодушевлённые её примером, они взбодрились, собрались с силами и пошли на противника. Миромари сражалась с величественной, грозной непобедимостью, и туркульские воины в страхе бежали, едва завидев удивительного синеокого витязя, а кошка белозубо хохотала им вслед. Холодными раскатами горного грома нёсся её смех им в спины.
– Так их, братцы! Так их! – подбадривала кошка товарищей.
И те сражались с удесятерённой силой. Они были уже не кучкой измученных усталостью, отчаявшихся людей, а чудо-богатырями, полными гнева и достоинства. Они бились за свободу своей страны.
Но ещё немало крови пролилось и немало воинов полегло, прежде чем туркулы дрогнули и отступили. Дорого обошлась метебийцам эта победа. Рассвет застал Миромари одиноко сидящей на большом сером валуне под кривым, как горбатый жилистый старик, клёном. На её забрызганном вражеской кровью лице застыла усмешка, а глаза мерцали прохладными, безжалостными сапфирами.
Подошёл Звиямба – коренастый, с торчащим кривым зубом и смелыми янтарными глазами рысьего разреза. Что-то неуловимо кошачье было в этом воине – наверно, оттого Миромари с ним и сошлась. Они дружили втроём: она, Звиямба и Нугрур. Теперь их осталось двое.
– Где Нугика?
Впрочем, пристальные рысьи глаза воина уже знали правду... Догадывались.
– Нет больше Нугики, – всё-таки отозвалась кошка – коротко, сухо, но сдержанность её голоса ещё ничего не говорила о её чувствах, больно саднивших глубокой раной под сердцем. Только вот это «Нугика» – ласкательное от «Нугрур» – и выдавало привязанность обоих витязей к погибшему.
Звиямба опустил голову, потом вскинул разом посуровевшее и даже как-то постаревшее лицо по направлению к вершинам гор. Молчание почтило память их павшего товарища. Солнце вставало, заливая торжественным багрянцем зари сверкающие снежные шапки.
– Мы отомстим за Нугику, – тихо, но твёрдо сказал Звиямба и стиснул челюсти до желваков на скулах.
Рука женщины-кошки опустилась ему на плечо, и он, дрогнув бровями, на миг вышел из своего каменного оцепенения, полного ожесточённой решимости, и дружески накрыл её пальцы своей ладонью.
Туркулы пришли из-за моря. Это была могучая империя, честолюбивые властители которой стремились расширить свои владения и вели захватнические войны. Княжество Метебия первым приняло удар, а за ним и другие маленькие, но очень гордые страны Солнечных гор, забыв внутренние распри и усобицы, поднялись на бой с иноземным захватчиком. Мы ни в коем случае не хотим преуменьшить собственный подвиг солнечногорцев, мужественно защищавших свою землю, или принизить их военное искусство. Это были храбрые, опытные и бесстрашные воины, однако на сей раз им довелось столкнуться с бессчётным войском чрезвычайно сильного противника. Весьма гордые и независимые люди населяли этот край, и непросто им было решиться обратиться за помощью, но слишком многое стояло на кону, чтоб замыкаться в гордости. Солнечногорские князья, посовещавшись, решили обратиться к Белым горам. Уполномоченным вести переговоры послам пришлось преодолеть кангельские степи и пересечь земли Воронецкого княжества, прежде чем они достигли владений княгини Огнеславы. Трудный это был путь, но проделали они его не зря. Правительница женщин-кошек согласилась оказать военную помощь собратьям-горцам. Может быть, потому что один горный житель поддержит в беде другого, а может, и по иному соображению: ведь Солнечные горы располагались почти под брюхом Воронецкого княжества, отделённые от них полоской кангельских степей, и если туркульские полчища их заполонят, не двинется ли воинственный чужак далее – покорять новые земли?.. Также Огнеслава надеялась установить в Солнечных горах своё влияние и извлечь из этого союзничества немало выгод.
– Великая владычица кошачьего народа, да продлит богиня Лалада твои годы! Помоги нам дать отпор туркулам и сохранить наш край свободным и процветающим, – блестя тёмными очами, обратились солнечногорские послы к Огнеславе. – А уж мы в долгу не останемся! Мы умеем быть благодарными и храним верность данному слову. И вы, и мы – горцы. Белые горы – сестра, Солнечные горы – брат. Брат за сестру перегрызёт горло кому угодно и отдаст последнюю рубашку. Он хлебосольно примет её в своём доме и поделится всем лучшим, что есть у него. А если сестре понадобится помощь, брат сделает всё возможное и невозможное!
Впрочем, пока новоиспечённому брату самому требовалась поддержка. Посовещавшись с Сёстрами, Огнеслава дала ответ:
– Белые горы не покинут в беде своего соседа. Пять сотен кошек-воинов завтра же будут направлены в Солнечные горы вам на подмогу. Поверьте, эти пять сотен стоят пятитысячного людского войска. Но если потребуется, мы увеличим численность наших отрядов.
– Живи тысячу лет, великая княгиня! – радостно вскричали послы.
Не пять, а восемь сотен кошек-воительниц были посланы в Солнечные горы, а усталые послы, проделавшие долгий и опасный путь, ещё семь дней наслаждались белогорским гостеприимством, ни в чём не уступавшим по своей широте и щедрости их родному, солнечногорскому. Как следует употчевав и обласкав гостей, Огнеслава отпустила их на родину, но не одних, а в сопровождении охранного отряда из своих дружинниц. Домой послы добрались благополучно и с восторгом поведали своим повелителям о тёплом приёме и изобильных почестях, оказанных им белогорской княгиней.
Но мало принять иноземных послов с почестями и накормить их обещаниями, гораздо важнее оказать ту помощь, ради которой они прибыли. Слово Огнеславы не разошлось с делом, и восемь сотен кошек вскоре распределились между войсками солнечногорских князей. Казалось бы, что такое восемьсот воинов? Не так уж много, но воин воину рознь. Одна обученная кошка-ратница с белогорским оружием стоила дюжины человек, а позднее их количество в Солнечных горах возросло до пяти тысяч: туркулы давили числом, брали яростным напором, и требовались немалые усилия, чтобы отбросить их назад.
Дружба Миромари с Нугруром и Звиямбой началась со стычки. Эти молодые метебийцы знали о белогорских жительницах лишь по путаным и приукрашенным небылицами рассказам купцов, но никогда не видели их воочию. В сочетании слов «женщина-кошка» определяющим для них было первое.
– Ты замужем, женщина? – усмехнулись два приятеля-земляка, разглядывая синеглазую кошку. – И как твой муж отпустил тебя на войну? Или у вас воюют жёны, а мужья за домом следят и детей нянчат?
– В нашем народе нет мужчин, – спокойно удовлетворила кошка насмешливое любопытство горцев.
– Как это так? – удивились те. – А как же у вас на свет детишки появляются? Хотя купцы сказывали, что вы их с деревьев срываете... Или нет, нет, погоди, не с деревьев! – Звиямба смешливо толкнул друга плечом, как бы ища поддержки, и прыснул себе в ладонь. – Они на грядках растут, как чеснок!
– Купцы ваши малость привирают, – хмыкнула белогорская жительница. – Наши дети не растут на деревьях. И на грядках – тоже.
И она рассказала, как обстояли дела в её племени с деторождением. Чужие языки женщины-кошки усваивали быстро; если у навиев переводчиками служили паучки в ухе, то белогорянки обходились без таких ухищрений. Изъяснялась кошка уже сносно – с несколько ломаным произношением, но достаточно внятно, чтобы её правильно понимали.
Приятели, выслушав её и подивившись рассказу, начали отпускать шуточки. Похоже, они не верили своим ушам и смотрели на кошку как на чудо-юдо заморское.
– Ну, зачинать детей – это ещё ладно... Эту твою способность мы вряд ли сможем проверить прямо сейчас. А вот умеешь ли ты сражаться? Может, и тут купцы врут, а?..
– Ну, давайте проверим, коли вам так не терпится, – ухмыльнулась кошка, вынимая белогорский клинок из ножен.
– Хм, – с усмешечкой покривился Нугрур, окидывая воительницу пренебрежительным взглядом. – Кто ж так оружие держит? Нет, женщина-воин – это такая же чушь, как сладкая соль или горячий снег!
– А горячего пинка под зад ты не хочешь, балабол? – прорычала белогорянка, задетая за живое. Уж в чём в чём, а в неумении держать меч никто не смел её упрекнуть!
Клинки напряжённо зазвенели, ударившись друг о друга. Кошка отбивалась сразу от обоих горцев, вертясь волчком и ловко уклоняясь – только трава колыхалась, сминаемая быстрыми ногами. Запел, засиял на солнце белогорский меч, волшба оружейная в нём заиграла, и во время очередного нападения Нугрур вдруг вскрикнул и выронил своё оружие.
– Моя рука! – застонал он, припав на колено. – Ты сломала её, кошка! Как я теперь воевать буду?!
– Ничего с твоей рукой не случилось, целёхонька она, – ответила та невозмутимо. – Просто прыти у тебя поубавилось, вот и всё. Клинок белогорский тебя уму-разуму учит, спесь с тебя сбивает.
Звиямба от удивления допустил ошибку, чем кошка и воспользовалась, повалив его наземь и приставив острие меча к его горлу.
– Всё, дружок, ты побеждён, – беззлобно усмехнулась она.
Светом Лалады она сняла Нугруру боль в руке, и воин посмотрел на неё уже по-иному – с изумлением и проблеском уважения в непроглядно-тёмных глазах. Хорош собой был этот горец: брови соболями, нос точёный, с горбинкой, а во взоре – сдержанные горячие молнии.
– У тебя сестры случайно нет? – спросила кошка просто так, полушутливо, полусерьёзно.
А тот вдруг насторожился, нахмурился, даже побледнел.
– Зачем ты спрашиваешь?
– Да так... – Белогорская воительница помогла Нугруру подняться, с удивлением и любопытством наблюдая эту внезапную перемену в его настроении, это острое смущение, вдруг охватившее его. – Просто подумалось, что ежели б у тебя была сестрица, то была бы она весьма пригожа собою.
– Про сестру мою и думать не смей, не для всякого встречного она была рождена! – вспылил Нугрур, грозно сверкая молниями в очах.
Похоже, кошка попала ему в чувствительное местечко.
– Хм, ясно всё с тобой, ревнивый братец, – прищурила она холодные сапфиры глаз, но соблазнительные думы о темноокой деве заронились малым семечком ей в сердце...
Она уже успела заметить и оценить роскошную южную красоту метебийских девушек – терпкую, хмельную и бархатную, как тёплая солнечногорская ночь. Как цветы по весне, сияли в каждом дворе две-три пары томных девичьих очей в пушистом обрамлении длинных ресниц. Правда, от чужаков они прятались: девушек с детства приучали к скромности. Но какие рамки воспитания способны удержать юное сердце, жаждущее влюбиться?.. Однако не всем прекрасным дочерям Солнечных гор доводилось выходить замуж по любви. Частенько женихов им подыскивали родители. Ну, а если уж два любящих сердца таки встречались, никто не осуждал решительных действий, на которые зачастую шли влюблённые, покуда мать с отцом не нашли им пару по собственному усмотрению. Девушка могла убежать с понравившимся парнем, или жених крал невесту. Если вскоре после побега или умыкания между ними случалась близость, пара считалась мужем и женой без лишних разговоров.
Миринэ была светом очей Нугрура. Если бы и существовал на свете другой такой старший брат, сделавший младшую сестру главным и единственным сокровищем своей души, то и он не сравнился бы с Нугруром. Он ревностно берёг её с детских лет, одержимым волком бросался на любого, кто осмеливался устремить на Миринэ вожделеющий взгляд.
– Ты как собака на сене, – с усмешкой говорила ему кошка при этих рассказах. – Ты всех её женихов распугать хочешь? Гляди, останется твоя сестрица в девках с таким братцем-охранником!..
– Уж лучше пусть в девках останется, чем станет женой недостойного человека, – с мрачным огнём во взоре отвечал Нугрур.
– А кто, по-твоему, достоин её? – поджаривая на костре ломти баранины, спросила кошка.
– Пока такого человека я не встречал, – коротко ответил Нугрур.
– Он должен быть похожим на тебя самого, так ведь? – проницательно улыбнулась белогорянка.
Молодой воин ничего не сказал в ответ. Вместо него съехидничал Звиямба:
– Если бы Миринэ не была сестрой, наш Нугика сам женился бы на ней! – И многозначительно подмигнул, за что получил от друга подзатыльник. Потирая пострадавшее место, он хмыкнул: – Жениться тебе надо, брат, вот что. Женись и люби вот этак жену, как сестрёнку любишь, а то совсем уже помешался – Миринэ то, Миринэ сё!.. Одна Миринэ на уме.
– Погоди, Звиика, – мягко осадила его кошка. – Поучать легко: мол, делай так, не делай этак. Не был ты в чужой шкуре – так и не суди о том, чего сам не чувствовал.
Звиямба смолк, воздавая должное внимание жирному мясу, слегка подкоптившемуся дымом во время жарки, а Нугрур посмотрел на синеглазую кошку-ратницу с благодарностью – за понимание его чувств. После откровений о сестре он всегда испытывал неловкость, зарекался рассказывать о Миринэ, но через некоторое время её имя вновь срывалось у него с языка.
Своё прозвище кошка получила после первого же сражения, в котором ей довелось отличиться на глазах у боевых товарищей. Её белогорское имя было непривычным и неудобопроизносимым для них, вот они и стали звать её Миромари. После того боя Нугрур и Звиямба крепко зауважали её. Молодые горцы приняли её как друга и соратника, а женщину в ней не видели: слишком отличалась она от солнечногорских девиц – и обликом, и повадками. Она была воином, как они сами.
Однажды на ночном привале Нугрур сказал кошке:
– Пожалуй, ты единственная, кого я был бы не против видеть рядом с Миринэ.
Звиямба похрапывал, подложив под голову колчан со стрелами, чистые звёзды мерцали в бездонной глубине, горы дышали свежестью. Пронзительно дышали они, грустно, щемяще-сладко... Это была великолепная и величественная ночь – ночь накануне боя, ставшего для Нугрура последним.
– Если меня завтра убьют, отнеси Миринэ весть о моей гибели, – сказал он, задумчиво устремляя взгляд к звёздным россыпям над головой. – Дом наш найти нетрудно, его всякий знает. Это дом Темгу́ра Кривоносого, правой руки князя Астанму́ра. Темгур – наш с Миринэ отчим.
– Погоди хоронить себя, брат, – нахмурилась кошка. – Ты ещё потопчешь землю и выпьешь вина на свадьбе своей сестрицы.
Нугрур только усмехнулся невесело, и сердца Миромари коснулся звёздный холодок. Она спросила:
– Как я узнаю твою сестру?
– Не беспокойся, ты её узнаешь сразу, – тепло улыбнулся Нугрур. – Сразу поймёшь, кто перед тобой. Слышала бы ты, как она поёт! Нет другой такой певицы во всех Солнечных горах, клянусь памятью предков!
Не хотелось в такую ночь думать о печальном, и Миромари предложила набраться сил, выпив по глоточку воды из Тиши.
– У меня есть предложение получше. – И Нугрур достал оплетённую ивой фляжку, в которой булькало нечто более крепкое. – По чуть-чуть, чтоб согреться душой и телом.
Это была местная «живая вода» под названием таштиша – напиток убойной крепости, огнём обжигавший нутро и ударявший в голову с силой кузнечного молота. Помногу пить его не следовало; Миромари уже убедилась в этом, прочувствовав на себе валящее с ног действие винных паров сего могучего зелья. С этим серьёзным напитком её познакомили, конечно же, Нугрур со Звиямбой. Они нарочно напоили её до поросячьего визга – подшутили, называется. С таштишей шутки плохи – это она хорошо усвоила, с непривычки испытав все ужасы отравления и похмелья. Спаслась тогда женщина-кошка только чудесной белогорской водой. По какой-то своеобразной и странной шутке судьбы в названиях «Тишь» и «таштиша» слышалось некое созвучие. Отличались эти две водицы только тем, что вторая при неумеренном и неумелом потреблении становилась не живой, а поистине мертвящей.
Звонкий «чпок» вынимаемой пробки пробудил Звиямбу. Мгновенно, как по щелчку пальцев, подняв голову – как и не спал вовсе! – он укоризненно промолвил:
– Это что ж такое – вы без меня пить собрались? Это бесчестно! Друзья так не поступают!
– Выпьешь без тебя, как же, – усмехнулся Нугрур. – Ты звук пробки через все Солнечные горы услышишь. Давай уж, присоединяйся.
– Вот это другой разговор! – И Звиямба, в предвкушении потирая руки, быстренько уселся рядышком.
Напиваться до бесчувствия они, конечно, не стали. Каждый опрокинул в себя лишь пару-тройку глотков, используя в качестве рюмки колпачок, прикрывавший сверху пробку фляги – для пущей надёжности хранения живительной влаги. Закусив вяленым мясом, друзья провели остаток ночи без сна, в разговорах под звёздами. Что греха таить – выпили ещё по глоточку-другому... Но в меру – так, чтоб наутро голова не трещала и была ясной в бою. Нугрур негромко затянул:
Скажите мне, шапки холодные,
Скажите мне, тучи свободные,
Быть может, напрасно я жду?
Не зря ли очаг дома теплится,
Впустую ли крутится мельница,
Плоды созревают в саду?
– Да ну тебя, – махнул на него рукой Звиямба. – Свидишься ещё со своей сестрицей, куда ты денешься!
Но песня всё-таки прозвучала над погружённым в сон лагерем воинов. И оказалась пророческой...
* * *
Миринэ напевала «Ласточку», снимая тяжёлые, налитые соком виноградные грозди. Каждая ягодка – с еладийский орех, прозрачная, с дымчато-розовым румянцем восковой, тонкой кожицы... Изобильная осень горела багрянцем на листьях лозы. Многие мужчины ушли воевать, но сюда, вглубь страны, бои ещё не докатились: туркулы осаждали побережье, но вовремя подоспевшие отряды женщин-кошек отбрасывали врага назад снова и снова. Ещё ни одну белогорскую воительницу девушка не видела своими глазами, но рассказами о них полнилась земля Метебии.
Отщипнув виноградину, Миринэ отправила её в рот, а полная корзина стояла у её ног, обутых в мягкие кожаные чуни. Её чёрное одеяние пестрело многоцветной вышивкой, отчего совсем не казалось мрачным. Голову девушки венчала круглая, шитая бисером шапочка с накидкой-платком, под которым пряталась свёрнутая в тяжёлый узел чёрная коса. Огромный богатый сад влажно шелестел, капельки падали с листьев, сверкая в лучах проглянувшего сквозь тучи солнца, а большой каменный дом возвышался среди плодовых деревьев мрачноватой сторожевой башней. Далёкие горные шапки затянула серая дымка осенней хмари.
– Где же ты, Нугика? – чуть слышно вздохнула Миринэ, вскинув тёмные печальные глаза к молчаливым вершинам. – Уж поскорее б ты возвращался, хватит воевать!..
Матушка не дождалась сына: месяц назад они похоронили её, и в доме воцарилась угрюмая тишина. Сестрицы боялись слово сказать отцу, который возвращался каждый вечер усталым, раздражённым... Он не воевал: князь возложил на него на время своего отсутствия много обязанностей по управлению делами в Метебии. Не звучали песни, не звенел девичий смех и разговоры, лишь одиноко трещал вечерами огонь очага, у которого Темгур грел руки, опрокидывая в себя чарку за чаркой. Отяжелев от таштиши, он подзывал к себе Миринэ и подолгу молча смотрел на неё. От его затуманенного винными парами, пристально блестящего взгляда девушке становилось жутко. Темгур Кривоносый приходился ей и Нугруру отчимом, а младшие дети родились уже после того, как матушка вышла за него замуж, овдовев. Родного отца брат и сестра потеряли десять лет назад, во время другой войны.
– Ты похожа на свою мать, – только и говорил порой Темгур, вдоволь насмотревшись на Миринэ. – Только в десять раз красивее. Ступай.
Лицо отчима пересекал шрам. Он тянулся через выпуклый, изборождённый морщинами лоб и захватывал впалую щёку, заросшую седой щетиной. Серебряные усы почти скрывали жёстко сложенный рот Темгура, а крючковатый нос был свёрнут набок от полученного ещё в юности перелома – по нему его обладатель и получил своё прозвище. Суровое, грубо высеченное лицо редко освещала улыбка, но даже от неё у Миринэ холодела спина. Недобро улыбался отчим, хотя никогда ничего дурного не делал ни девушке, ни сёстрам. К Нугруру он был строг, даже излишне суров и, как только началась война, не замедлил отправить его сражаться.
«Ступай», – отпускал отчим, и, получив разрешение покинуть комнату, Миринэ устремлялась к себе, но ещё долго румянец не возвращался на её щёки, а сердце колотилось, как после долгого бега. Слабость сковывала тело: взгляд отчима будто высасывал из неё силы.
Дождусь ли я брата родимого?
Иль пологом холода зимнего
Укрыло его навсегда?
Нет, не отвечали затуманенные вершины, и напрасно летела к ним песня, одиноким сиротливым эхом растворяясь в пустоте. Подняв корзину, Миринэ направилась на кухню. Темгур владел обширными виноградниками, расположенными в долине реки, и всякий раз нанимал бедный люд для сбора урожая и изготовления вина. Платил он работникам жалкие гроши, но те и такому заработку радовались. Садовый же виноград, более крупный, красивый и сладкий, снимали домочадцы. Тяжёлыми гроздями лакомилась только семья и важные гости.
Бросив взгляд поверх изгороди, девушка вздрогнула: на неё смотрели ярко-синие, прохладные сапфиры незнакомых глаз. Очень красивых, пристальных, проникающих в самую душу... Всадник в чёрном плаще откинул наголовье, снял шлем с пучком конских волос на маковке, и на плечи ему упали иссиня-вороные кудри. Кольчуга на широкой груди светло мерцала, как начищенное серебро.
– Ты – Миринэ? – спросил незнакомец.
Его голос обрушился на сердце девушки бодрящим холодом горного водопада. Чувствуя, что колени непреодолимо слабеют, Миринэ из последних сил бросилась в дом. В кухне она почти уронила корзину с урожаем и сама осела рядом на пол... Пространство кружилось и качалось, сад дышал в открытую дверь дождливой сыростью. Что за дурнота овладела ею? Миринэ простёрлась на полу в каком-то светлом оцепенении. Рука откинулась и полуобморочно упала, из раскрывшейся ладони выкатилась смятая и раздавленная виноградина.
А к ней уже бежали сестрёнки:
– Миринэ, Миринэ! Что с тобою?..
Их руки тормошили её, поднимали, усаживали. Её напоили водой, обрызгали лицо, и девушка понемногу пришла в себя, но те невыносимо-синие очи стояли перед её мысленным взором. Эхо голоса отдавалось в каждом закоулке души: «Ты – Миринэ?» Нездешние глаза: такая синева не встречалась у жителей Солнечных гор. Чужестранец... Но откуда он знал её имя?
Сердце ёкнуло, облилось смертельным холодом: уж не о брате ли весть пришла? Не прислали ли горные вершины ответ на её песню? Эта мысль заставила Миринэ подняться на ноги. Ещё не вполне оправившаяся от слабости, она вернулась в сад. Спотыкаясь и поскальзываясь на мокрой дорожке, девушка поспешила отворить калитку в зелёной живой изгороди.
Синеокий незнакомец уже спешился и держал коня под уздцы.
– Госпожа Миринэ, назад! В дом! – прогремел суровый голос.
Это стражники торопились встретить чужака: в отсутствие хозяина женщины не могли принимать гостей. Впрочем, Миринэ сходило с рук многое. Отец баловал любимую дочурку и позволял ей всё... Ну, или почти всё. Она с детства ездила верхом, прекрасно стреляла из лука и знала толк в соколиной охоте. Отчим пытался набросить на неё узду строгости, но строптивая Миринэ всё равно рвалась на свободу. Сколько её ни запирали, она всегда ускользала – когда хотела и куда хотела. Вот и сейчас она ответила:
– И не подумаю. Я хочу знать, что за гость к нам пожаловал и какие новости принёс.
– Госпожа Миринэ, лучше ступай в дом, – настаивали стражники – впрочем, не очень-то твёрдо. Пока хозяина не было дома, они не имели на неё никакого влияния и сами это прекрасно знали.
Девушка и бровью не повела. Слабость уже прошла, и она смело взглянула в лицо незнакомца в чужеземной кольчуге. О, что за удивительные очи смотрели на неё с этого пригожего, гладкого лица без следа щетины! В них цвела вся синева весенних небес, распахивалась вся глубина горного озера, разливался весь холод сапфировых россыпей... Но, несмотря на свою прохладу, они не казались неприятными. Их взор будоражил, рождая в сердце рой мурашек, который расползался по телу Миринэ. У неё даже ладони заледенели.
– Меня зовут Миромари, я из народа женщин-кошек, – представилась, как выяснилось, обладательница этих ярких и незабываемых глаз, а отнюдь не обладатель. – Боюсь, госпожа Миринэ, я пришла в твой дом горевестницей. Твой брат Нугрур пал смертью храбрых в бою с туркулами.
Только небесный свет этих чудесных очей и спас сердце Миринэ – лишь благодаря их искренней, глубокой, тёплой поддержке оно и не разорвалось на части в тот же миг, когда прозвучала скорбная весть. Девушка не закричала, не разрыдалась, просто стала мраморно-бледной – белее своей головной накидки. Мертвенный холод охватил её, а душа улавливала далёкий печальный стон снежных шапок... Горы не решались ответить ей правду на её песню-вопрос, вот и послали синеглазую белогорянку. И поступили мудро.
– Твой брат был моим другом, мы сражались с ним вместе, – сказала Миромари. – Я присутствовала при его последнем вздохе. Последним, что он произнёс, было твоё имя.
– Это правда? – Голос Миринэ разом сел, прозвучав глухо и сипло – от невыносимой боли.
– Да, госпожа, – молвила кошка. – Он сказал: «Моя Миринэ». А ещё он просил передать тебе, что он любил тебя больше всех на свете.
– Я знаю. Спасибо тебе за его слова. Благодарю, что донесла их до меня. Я как будто слышу голос брата, произносящего их. – И тёплая слезинка всё-таки скатилась по бескровной щеке девушки.
Мудрые вершины вливали в неё гордость, величие и силу, своим дыханием выпрямляя её стан. Она зажала своё горе в кулак до поры, а пока распорядилась накормить и напоить женщину-кошку. Да, она не имела права сама принимать гостей, но плевать она хотела на обычаи и приличия. Голос гор велел ей взять в свои руки управление домом, стать хозяйкой, и уже никто не мог ей в этом помешать или одёрнуть – мол, ступай к себе. Воины отчима, сторожившие его дом, хотели было напомнить ей её место, но под её величественно-властным, влажно сверкающим взором не посмели открыть рот. Миринэ сама проследила, чтобы гостье подали всё самое лучшее – и угощение, и выпивку. Из погреба принесли пыльный сосуд с таштишей, а свежесобранные виноградные грозди на расписном блюде украсили стол.
– Благодарю тебя, прекрасная госпожа Миринэ, – поклонилась женщина-кошка. – Полагаю, я должна дождаться Темгура, чтоб лично сообщить весть и ему.
– Отчим будет вечером, – проронила Миринэ. – А пока чувствуй себя как дома и угощайся.
Новость облетела соседей с быстротой молнии. Не прошло и часа, как дом Темгура наполнился соболезнующими, которых тоже нужно было усадить за стол. Эту обязанность взял на себя дядя Камдуг – старший брат родного отца Миринэ и Нугрура. Он ни в чём не упрекнул девушку, лишь мягко молвил:
– Давай-ка я за хозяина побуду, детка. Ни к чему тебе брать это на свои плечи... Ты лучше сходи на кухню, проверь, всего ли достаточно.
Дядя Камдуг был единственным родным человеком после отца и брата, которому Миринэ верила, как себе, и любила. После гибели Алхада Камдуг хотел взять его вдову и детей в свою и без того большую семью, но Темгур, давно заглядывавшийся на Налму и досадовавший, что она в своё время выбрала Алхада, а не его, воспользовался случаем и предложил ей стать его женой. Был он старым холостяком и детей до той поры не нажил, но с Налмой у него пошли дочки – одна за другой, год за годом. Темгур хотел бы и сына, но долгожданный мальчик всё не рождался. А с пасынком Нугруром он так и не поладил. Брат и сестра часто гостили у дяди, проводя в его доме по десять дней и долее.
Миринэ хотелось прильнуть к дяде Камдугу, уткнуться в родное плечо, но при гостях она не позволяла себе так расклеиться. Дядя между тем уже познакомился с Миромари и расспрашивал женщину-кошку о подробностях боя и гибели Нугрура. Сам он не воевал: будучи на деревянной ноге, к военной службе он был не пригоден.
– Надо непременно доставить тело Нугики домой, – сказал дядя, поглаживая тёмные с проседью усы. – Что с ним, кстати?
– Я похоронила Нугрура во временной могиле, – ответила женщина-кошка. – А чтоб его тело не подвергалось тлению, обернула тканью, пропитанной нашим белогорским, тихорощенским мёдом. Этот мёд – вечный. Он сохраняет всё, что обволакивает собой.
– Отведёшь нас к месту его погребения, – кивнул дядя Камдуг. – Благодарю тебя, Миромари, за то, что сберегла его останки. Ты достойно и верно поступила.
Миринэ хотелось остаться наедине со своим горем, но в глубине души она понимала, что на людях легче держаться. К ней подходили с соболезнованиями. Многие семьи недосчитались сыновей, отцов и братьев, война осенила своим мертвящим крылом каждый дом. Эти люди не понаслышке знали, каково это – терять дорогих и близких. Вот, к примеру, дядя Нурги – седой, сухонький и щуплый, перепробовавший в жизни немало занятий, а на старости лет трудившийся пастухом. С ним вечно приключались истории: то он в дупле большого дерева умудрился уснуть и застрять, так что его двое суток искали, то перебрал таштиши и провалился в овраг, но ничего себе не повредил, а провёл время с пользой. Его опять все обыскались, супруга рвала и метала, а он отлично выспался и отдохнул. А однажды его так покусали дикие пчёлы, что он распух до неузнаваемости. Женился дядя Нурги поздно, в сорок восемь лет. Избранницей его стала одна засидевшаяся в девушках особа – тётушка Замия, приставленная к юным племянницам. Одну из этих девушек дядя Нурги помогал похищать влюблённому в неё молодому охотнику, но так уж вышло, что красть невесту пришлось вместе с этой незамужней тётушкой – чтоб шум не подняла раньше времени. В итоге счастливый охотник получил желанную девушку, а дядя Нурги влип по самые уши. Тётушка раскричалась: мол, украл – женись. Замуж её долго не брали оттого, что красотой её природа сильно обделила, а вот полноты дала сверх меры, но дяде Нурги выбирать не приходилось. Отвертеться он не смог, пришлось сочетаться браком: брат великовозрастной невесты был человек серьёзный, неприятностей с этим семейством дядя Нурги наживать не хотел. Ну а потом, пожив немного с тётушкой, он счёл, что не так уж она и плоха в общем и целом, и с женитьбой он не прогадал. Супруга оказалась весьма хозяйственной, кашу из топора могла сварить, ну а то, что толстая, некрасивая, вздорная немного и разговорчивая не в меру – не беда. Много приключений пережил дядя Нурги – и забавных, и не очень... Их единственный с тётушкой Замией сын, поздний и любимый, погиб на этой войне.
Казалось бы, что простые люди делали в богатом доме Темгура, княжеского помощника? Во-первых, не всегда он был таким высокопоставленным человеком. В большие люди он выбился благодаря деловой ловкости и воинской отваге – князь его приметил, приблизил к себе, и вот – Темгур стал тем, кем он стал. Но от старых знакомых он не отмахивался. Они же ему и домище этот помогали строить, так почему же теперь не имели права зайти и по-соседски пособолезновать? Дядя Нурги Темгура ещё мальчишкой помнил и на закорках катал. Впрочем, было ли такое на самом деле или же дядя Нурги всё выдумал и для красного словца приплёл – этого никто не знал толком, а сам Темгур предпочитал уклоняться от ответа. Но дядю Нурги он в своём доме принимал обходительно и с уважением – даже вопреки тому, что старик позволял себе порой пожурить его и всегда находил, к чему придраться: к примеру, если дядя Нурги считал, что Темгур слишком скупо платил работникам, он так и говорил княжескому помощнику прямо в лицо.
– Дядюшка Нурги, так ведь и мне самому достаток не с неба сыплется, – обыкновенно отвечал тот. – Сколько могу, столько и плачу.
Словом, Темгур выслушивал всё, но поступал так, как считал нужным. Непростой он был человек, упрямый, жёсткий, порою со странными замашками, но не спесивый – тех, кто знавал его ещё до его возвышения, княжеский помощник не чурался, хоть ни с кем тёплых дружеских отношений и не поддерживал. Никого он особо не выделял, ни с кем тесно не сближался, держался слегка отстранённо и ровно со всеми, никого к себе в душу не пускал. Холодком как будто веяло от него.
Печальное это было застолье, хоть и весьма обстоятельное. Ещё не привезли домой тело Нугрура, а его уже поминали все: и те, кто знал его лично, и те, кто только слышал о нём, и те, кто вообще понятия не имел, о ком речь. Миромари уже в десятый раз рассказывала о сражении, в котором он погиб, но поток вопросов не прекращался. Некоторые из них повторялись по второму-третьему кругу, но женщина-кошка терпеливо отвечала. Рассказывала она и о своём народе, о Белых горах, и к этим рассказам Миринэ прислушивалась с особым вниманием. Сквозь солоноватую пелену мертвящей боли в её груди ёкало что-то живое и тёплое, откликаясь на звук голоса женщины-кошки, на блеск её смелых глаз, на изгиб её тёмных, собольих бровей...
И всё-таки в какой-то миг девушке стало невмоготу. Гости хмелели, разговоры становились всё более бессвязными, и ей нестерпимо захотелось на свежий воздух. Когда она поднялась из-за стола, дядя Камдуг придержал её за руку твёрдой и сильной рукой:
– Куда ты, Миринэ?
– Я выйду в сад, душно мне здесь, дядюшка, – проронила девушка.
– Только ненадолго, милая, – сказал дядя Камдуг. Хмель чувствовался и в нём, но он всегда оставался разумным, сколько бы ни выпил. – Тебе лучше побыть вместе со всеми: сообща и бремя горя легче переносить.
– Ты прав, дядя Камдуг, – устало улыбнулась Миринэ. – Здесь просто дышать нечем, у меня уже голова кружится.
– Хорошо, хорошо, ступай, – отпустил её тот.
В саду Миринэ приложила к щекам прохладные листья лозы. Она закрывала глаза и видела лицо брата – живого, улыбающегося. Они скакали верхом наперегонки, и Миринэ обижалась, когда Нугрур пытался ей уступить. Он всегда был лучше во всём, и она стремилась достичь тех же успехов. Конечно, воином ей никто не позволил бы стать, но стреляла она метко. Страшно, дико было думать о том, что теперь Нугрур лежал в мокрой земле, пресыщенной осенними слезами дождя, завёрнутый в пропитанную белогорским мёдом ткань... Жутко до крика, невыносимо до стона сквозь зубы. Больше не поскачут они стремя к стремени, не отправятся на охоту в горы, не заночуют под звёздным небом. Не укроет Нугика её, озябшую, своим плащом, не обнимет за плечи, не расскажет страшную сказку про вурдалака. Сказок Миринэ не боялась, даже самых жутких. Жизнь, оказывается, могла быть во сто крат страшнее...
– Миринэ!
Девушка вздрогнула и открыла глаза. Перед ней стоял Энверу́ш – в кожаных доспехах, опоясанный коротким мечом. Его чёрные глаза пристальными буравчиками вонзились ей в душу, и она невольно отпрянула. Его ресницы горьковато дрогнули.
– Миринэ, ты же знаешь, что я не причиню тебе зла никогда... Всё, что ты прикажешь, я исполню. Ты велела мне уйти и не тревожить тебя – я ушёл. Я искал смерти на войне, но она обходит меня стороной как будто нарочно.
Девушка невольно прильнула к лозе, будто ища в её прохладных объятиях успокоение и защиту. Та матерински обвивала её, а молодой воин и поэт всё сверлил её пронизывающим взглядом, жадным и серьёзным, полным не то упрёка, не то ненасытного, неутолимого томления. С братом Миринэ состязалась в стрельбе и выездке, а с Энверушем – в стихосложении. Она пробовала силы во всём, и всё ей давалось с лёгкостью, но в душе она не могла не осознавать, что её стихам по сравнению со строчками Энверуша не хватало глубины. Она искала хлёсткие, яркие образы, но зачастую увлекалась внешней красотой и игрой в словесный бисер. Но она была начинающим стихотворцем, а Энверуш сочинял уже давно. Они не раз спорили о словах и строчках, не раз ревнивый Нугрур пытался отогнать «этого лукавого сочинителя» прочь от своей сестры.
– Добром это не кончится, так и знай! – внушал он девушке. – Что ему от тебя надо? Твои стихи? Да как бы не так!
– И что же, по-твоему, ему нужно? – подбоченившись, усмехнулась Миринэ.
– Всё то же, что и остальным твоим воздыхателям, – угрюмо сверкнул Нугрур глазами, в зрачках которых жарко дышала неусыпная ревность.
– Да что ты говоришь! Неужели! – язвительно прищурилась девушка.
Впрочем, брат был недалёк от истины. Не прошло и нескольких дней после этого разговора; однажды в конце очередного творческого спора Энверуш в бешенстве порвал в клочья свой новый стих, который девушка разнесла в пух и прах. Немного успокоившись, он приблизил лицо и коснулся прерывистым дыханием губ Миринэ:
– Мирика... Пташка моя певчая! К чему тебе это всё? Все эти игры – в стихотворца, в стрелка, в охотницу? Ты прекрасна... Почему бы тебе не быть просто женщиной?
Это задело Миринэ за живое.
– А давай, я сама буду решать, чем мне заниматься? – отрезала она холодно.
Напрасно Энверуш просил прощения, посвящал Миринэ новые стихи, один отчаяннее и пронзительнее другого – девушка крепко обиделась. Не помогло и прямое признание в пылких чувствах.
– Энверуш, я могу относиться к тебе только как к брату или другу, – сказала Миринэ.
– Я обидел тебя, поэтому ты так жестока и непреклонна, – горько покачал головой тот. – Но и у женской жестокости должны быть какие-то границы! Мирика, довольно мучить меня, довольно играть с моим сердцем в кошки-мышки! Просто ответь: ты станешь моей женой?
– Энверуш, это невозможно, – устало вздохнула девушка. – Дружба с тобой была мне приятна, пока ты не сказал те слова, тем самым открыв своё истинное ко мне отношение. Ты считаешь, что я занимаюсь не своим делом? Прекрасно! Продолжай считать, как тебе угодно. Мне больше ничего от тебя не нужно.
– Если ты не согласишься выйти за меня, я выкраду тебя, – сказал Энверуш мрачно, играя желваками на скулах и раздувая ноздри.
– Насильно ты не заставишь меня полюбить тебя, – твёрдо сказала Миринэ. – А если попытаешься заполучить меня таким способом, я не смогу уважать тебя. Тебе нужна презирающая тебя жена? Не думаю.
– Ты избалованная девчонка, Мирика, – процедил Энверуш. – Твои родители слишком много разрешали тебе и на многое закрывали глаза... И всё равно я люблю тебя. Угораздило же меня так!..
Миринэ долго не выходила из дома – боялась, что Энверуш приведёт в исполнение свою угрозу выкрасть её. А потом пожаром пронеслась весть о войне...
– Я вернусь, сестрёнка, – сказал Нугрур, садясь в седло. – Будь умницей, не связывайся со всякими прохвостами.
Под «прохвостом» он, конечно, подразумевал Энверуша. Но и пылкий поэт тоже собрался воевать. В отличие от Нугрура, вернуться он не обещал – молча проехал мимо сада, бросив на Миринэ поверх живой изгороди угрюмо-жадный, тоскующий взгляд, как бы говоривший: «Вот погибну я – и пожалеешь, что отвергла меня! Слезами умоешься, только будет слишком поздно!»
Но вышло наоборот: Энверуш вернулся, а Нугрур – нет. Обнимаемая ветвью лозы, будто матушкиной рукой, Миринэ стояла с болью во влажном взоре. Вздыхал сад, тоскливо кричали в сером небе птицы, а ветер шептал новые, ещё не написанные строчки стихов... Кто из них первым поймает и выведет рукой горькие, страстные слова – отголоски потерь? Миринэ не чувствовала в себе сил взяться за перо: надломленная, налитая болью душа не пела, и неподъёмными казались эти назревающие строчки. Не одолеть ей, не выразить словами всего величия этой боли... Слишком мал её дар, слишком слабо перо. Она была готова уступить первенство Энверушу: у него выйдет и сильнее, и лучше. Её детский лепет не мог сравниться с его зрелым голосом. Может, и в самом деле она не за своё дело взялась – лишь играла в поэта, но вместо стихов получались жалкие потуги. Может, и прав был Энверуш, а Миринэ возражала ему из пустого упрямства и уязвлённого самолюбия. Ведь так горько признавать свою бездарность!
– Что ты так смотришь на меня, Мирика? Ты как будто винишь меня в том, что я жив, а твой брат – нет, – горько проронил Энверуш. – Война забирает лучших. Она жестока и несправедлива. Я не могу ни вернуть тебе Нугрура, ни заменить его. Я не надеюсь заслужить место в твоём сердце, но если я могу что-то сделать для тебя, я готов. Мне ничего не нужно взамен... Пусть между нами останется стена молчания, которую ты воздвигла, пусть я не стану для тебя более желанным, пусть не стану значить для тебя более, чем вот эти опадающие листья. Пусть ничего не изменится, и ты по-прежнему останешься далека... Но и из-за этой стены я готов быть твоей опорой – тем, на кого ты можешь рассчитывать. Я готов быть твоей молчаливой тенью, хранителем твоим, и пусть на меня никогда не упадёт твой ласковый взгляд – я готов разделить твоё горе и нести бремя твоей боли.
– Не нужно громких слов, – прошелестели губы Миринэ. Слова, просачиваясь сквозь ком в горле, выходили сухими, выжатыми, вымученными. – Хотя то, что ты сейчас сказал, могло бы стать хорошим стихотворением. Напиши, Энверуш... Напиши о Нугруре. У тебя выйдет лучше, чем у меня. Тебе эта задача по плечу, твоё перо достойно справится, а у меня не достанет ни душевных сил, ни мастерства.
Руки Энверуша раздвинули преграду из ветвей лозы, и лиственная защита упала с плеч девушки.
– Я давно не писал, – печально улыбнулся молодой воин. – Мне кажется, я разучился облекать мысли в слова. Война иссушила меня, выхолостила. Я просто завидовал тебе, Мирика, когда говорил те слова, обидевшие тебя, потому что ты гораздо более даровитый стихотворец, чем я. Зависть жгла мне душу пополам с восхищением. Я столько лет писал, я считал себя мастером слова, а тут пришла ты – новичок, сущее дитя в стихосложении, да ещё и девушка... И заткнула меня за пояс играючи! Все годы моего выстраданного, вымученного творчества ты затмила одним своим стихом, написанным просто из любопытства... от нечего делать. «Разве это справедливо? – думал я. – Да как судьба может так жестоко насмехаться?» Нет, не из добрых побуждений сказал я те слова, совсем нет! Я хотел уязвить тебя, и мне это удалось, но после я сам был не рад и казнил себя дни и ночи напролёт. Мне печально видеть, что мои слова не остались без последствий. Я нанёс тебе рану, пошатнул в тебе веру в свои силы и заставил тебя усомниться в своём даре... И после этого ещё смел признаваться в любви и просить твоей руки! Я трижды недостоин тебя и недостоин писать о твоём брате. Ты сама сможешь сделать это наилучшим образом. Боль переплавится и станет клинком. Только твоя рука может и должна взять его и пустить в ход.
– «Боль переплавится и станет клинком», – задумчиво повторила Миринэ, почему-то вспомнив пронизывающие, острые сапфиры кошачьих глаз и великолепный белогорский меч на поясе Миромари. – Хорошие слова. Но какими бы ни были тогда твои побуждения, это уже не имеет значения. Идём в дом.
Дядя Камдуг встретил Энверуша приветливо и усадил за стол. Новому гостю тут же поднесли чарку таштиши, выпив которую, он задержал настороженный взгляд на женщине-кошке.
– А это ещё кто? – спросил он у дяди Камдуга вполголоса, кивком показывая в сторону синеглазой ратницы.
– Это Миромари из народа дочерей Лалады, – ответил тот. – Она воевала вместе с Нугруром и принесла нам весть о его гибели.
Женщина-кошка сидела далеко и не могла слышать этих слов. Однако, будто бы почувствовав, что говорят о ней, она посмотрела в сторону Энверуша с дружелюбным любопытством. Сердце Миринэ светло вздрогнуло от мягкой, ободряющей улыбки, которую белогорянка сдержанно послала ей через стол. Энверуш, перехватив их взгляды, нахмурился.
Темгур вернулся домой в сумерках, когда поминальное застолье уже угасало, а многие из гостей, отяжелев от выпитого, уснули прямо на своих местах. Хозяин окинул хмурым взглядом собрание, заметил дядю Камдуга и направился к нему, как к одному из самых трезвых. Тот в двух словах объяснил, в чём дело. Никаких особенных чувств не отразилось на угрюмом, заросшем серебристой щетиной лице Темгура при новости о гибели пасынка – отчасти потому, что оно вообще было маловыразительным и замкнутым, отчасти – оттого, что тёплых отношений с Нугруром он не поддерживал. Коротко и сдержанно поприветствовав Миромари, хозяин выпил с нею чарку таштиши – тем его поминки и ограничились.
С тем, что тело Нугрура нужно доставить домой и похоронить в родной земле, Темгур согласился. Дядя Камдуг хотел обсудить с ним это дело, но тот вяло поморщился.
– Завтра, Камдуг. Обговорим всё завтра утром, а сегодня все уже устали. Пора идти на отдых.
Он распорядился разместить гостей на ночлег – благо, места в доме хватало. На Миринэ он едва взглянул, удостоив её рассеянным сухим кивком. Девушка испытала облегчение: чем меньше внимания отчим уделял ей, тем свободнее ей дышалось. От его тяжёлого взгляда у неё леденела душа. Впрочем, поддержка синих белогорских очей женщины-кошки помогла ей и сейчас: с ними всё становилось легче и светлее.
Ночь прошла в болезненной, изматывающей бессоннице. Миринэ часто поднималась с опостылевшей постели и подходила к окну, слушала шелест дождя и думала. Днём она сдержала первый порыв в голос зарыдать о брате, а сейчас слёзы уже не шли, словно пересохли на полпути к глазам, только холодная, тоскливая боль давила на душу плотным пластом ночной тьмы – непроглядной, бескрайней. Младшие сестрёнки поплакали, перед тем как уснуть, но глаза Миринэ так и не дали себе волю, не освободились от солёной влаги.
Ей хотелось поговорить с Миромари. Образ белогорянки не отпускал её, стоял перед мысленным взором – в серебряном сиянии кольчуги, с копной мягких чёрных кудрей и этой ясной, как погожее утро, улыбкой. Никогда девушка не видела в своей жизни столь прекрасных существ. В Миромари сочеталась и мужская сила, и женская мягкость, и чарующее, мурлычущее кошачье тепло. Светлый, могучий витязь, к груди которого хотелось прижаться, почувствовав всем телом белогорскую силу объятий...
На исходе этой тяжёлой, печальной ночи Миринэ забылась зябкой, лихорадочной дрёмой. Ей приснилась огромная чёрная кошка с прохладными сапфирами глаз, сиявшими в шепчущем дождливом мраке; без страха, с удивлением и восторгом запускала девушка пальцы в мягкий густой мех, гладила и чесала пушистую и усатую морду. Низкое, утробное «мррр» ластилось к её сердцу, а потом кошачья морда под ладонями Миринэ превратилась в человеческое лицо. Девушка хотела отдёрнуть руки, но их накрыли сверху широкие тёплые ладони. Ощутив две мягкие выпуклости с сосками, прильнувшие к её груди, Миринэ уже не могла очнуться от наваждения. Её пальцы заскользили по шелковистой спине ночной гостьи; откинув голову, она ощущала выгнутой шеей щекотку горячего дыхания и касание губ – прикосновение-шёпот, прикосновение-ветерок.
Серый утренний сумрак пробился сквозь веки, вернув её в печальную действительность, тяжко давящую, как могильная плита. От сна остались лишь взволнованные мурашки и смущённый румянец. Откуда только взялись эти грёзы? Немало женихов увивалось вокруг Миринэ, но ни об одном мужчине она не мечтала, не бредила вот так отчётливо-сладострастно, ни с кем не желала слиться воедино, сплестись в объятиях, заблудиться в волосах и почувствовать горячую, влажную ласку губ.
Сестрёнки ещё спали. Миринэ умылась холодной водой и вышла в сад: ей вдруг так страстно захотелось винограда, что даже в горле пересохло. Под мокрыми листьями лозы пряталось ещё достаточно гроздей – тяжёлых, прохладных, в капельках ночного дождя. Девушка жадно приникла к одной из них, ртом срывая виноградины, а через несколько мгновений вскрикнула: с другой стороны той же гроздью лакомилась Миромари. Их губы едва не встретились.
– Не бойся, – улыбнулась женщина-кошка. – Я не сделаю тебе ничего дурного. Твой брат без умолку говорил о тебе. Мне хотелось хоть одним глазком взглянуть на тебя... Жаль, что повод для встречи выдался такой печальный.
Миринэ никогда не отличалась робостью, но тут её будто холодным панцирем стиснуло. По рукам и ногам опутанная смущением, она разозлилась на себя: Нугрур лежит в далёкой сырой могиле, а она предаётся таким легковесным мыслям и мечтам... Часть этой злости досталась и Миромари – за то, что белогорянка так взбудоражила все её чувства, ворвавшись в душу светлым синеоким вихрем. Ни к кому и никогда Миринэ не испытывала такого всеобъемлющего, непобедимого притяжения. Следовало вести себя сдержанно и строго, но она не могла, не могла... А кошка, сорвав виноградинку, поднесла её к губам девушки. Прежде чем опомниться, Миринэ ощутила во рту сладкий сок и спелую прохладу прозрачной мякоти. С точки зрения солнечногорских обычаев, они вели себя неподобающе, чуть ли не развратно, но на эту небесную синеву невозможно было сердиться за дерзость. Всё, что Миринэ смогла сделать – это спрятаться от Миромари по другую сторону лозы, вытирая с лица дрожащими пальцами падающие с листьев капли и укрощая разбушевавшееся дыхание. Хотя бы из уважения к памяти брата не следовало вести себя так вольно.
– Прости, если смущаю тебя и нарушаю ваши строгие обычаи, – сказала женщина-кошка. Миринэ по голосу слышала: та улыбалась.
– Расскажи ещё о себе, – пролепетала девушка, благодарная собеседнице за то, что та не пыталась её догнать. – На твоей родине все дочери Лалады – воины?
– Не все; есть среди нас и ремесленницы, и труженицы плуга и пашни, и прочие мастерицы. Но защищать родную землю умеет каждая женщина-кошка, независимо от своего основного занятия, – ответила Миромари.
– А почему ты решила стать воином? – Миринэ закрыла глаза, представляя себе вольную, прекрасную и изобильную, озарённую солнцем землю, светлый край с плодородными долинами и суровыми, поросшими лесом склонами гор.
– Просто почувствовала к этому призвание, – прозвучал голос Миромари совсем близко от уха девушки – их разделяли всего несколько виноградных листьев.
– А ты уже когда-нибудь... влюблялась? – повернувшись к лозе лицом и пытаясь угадать за листвой очертания белогорянки, спросила Миринэ.
И опять осудила саму себя за выбор вопроса. Ну отчего бы не спросить, к примеру, о каких-нибудь белогорских обычаях, о том, какие звери водятся в том краю, какие цветы растут, много ли солнца в той земле, хороши ли урожаи... Нет, именно про любовь нужно было спросить! Миринэ в запоздалой досаде прикусила губу.
– Даже не знаю, как ответить тебе, моя голубка, – ласково промолвила Миромари через листву. – В тридцать пять лет женщина-кошка начинает искать свою избранницу. Помогают ей в этом знаки, сны. А когда она встретит ту самую девушку, та падает в обморок. Это тоже знак – знак того, что они суждены друг другу. Мне снился горный край, в котором растёт сладкий виноград; виделись во сне тёмные очи, но покамест без лица... Оттого-то я и вызвалась отправиться в Солнечные горы, чтоб помочь вашему народу прогнать туркулов. Я чувствовала: где-то в этих краях живёт моя судьба.
С каждым её словом Миринэ переступала вдоль лозы – полубессознательно, влекомая звуком голоса, который струился тёплым потоком, золотистым и мягким, как тягучий мёд. Оказалось, что Миромари двигалась в том же направлении, и они встретились лицом к лицу у края лозы.
– То есть, ты пошла на войну, чтобы встретить свою суженую? – Миринэ, пылая румянцем щёк, рассматривала носки сапогов белогорянки: в глаза ей смотреть она боялась. Не сейчас, только не сейчас... Иначе сердце выскочит из груди и умчится в туманную даль, к горным шапкам.
– Получается, что так, – проговорила Миромари. – Иногда судьба готовит подарки там, где их, казалось бы, быть не может.
О чём ещё говорить? Мысли Миринэ путались в листве, прыгали пташками с ветки на ветку. Неловкое молчание затянулось, но женщина-кошка первая прервала его.
– А что это за парень вчера пришёл с тобой из сада? – спросила она.
– Это Энверуш, он... Он мой друг, – слегка споткнувшись, проронила Миринэ. – Он сочиняет стихи... Я тоже немножко пробую сочинять.
– Друг, значит. – Сапфировые глаза кошки прищурились с лучиками понимающей усмешки в уголках.
– Между нами ничего такого нет, если ты об этом подумала, – торопливо выпалила Миринэ, краснея и сердясь и на себя, и на Миромари оттого, что приходилось оправдываться. – Мы просто оба любим стихи, вот поэтому и...
– Ты не обязана передо мной ни в чём отчитываться, – мягко сказала белогорянка. – Друг так друг. Разве я против? – И добавила со смешком: – Вот только этот твой приятель вчера на меня так посмотрел... Кажется, я ему не понравилась.
– Да? – пробормотала девушка, со смущением догадываясь, о каком взгляде шла речь. – Я не обратила внимания. Энверуш славный, вы ещё подружитесь.
– Что-то мне подсказывает, что вряд ли, – усмехнулась женщина-кошка.
Вдруг из окна послышался глубокий мужской голос:
– Миринэ! Миринэ, детка, где ты?
Девушка вздрогнула и покосилась в сторону окна, невидимого за деревьями.
– Это дядя Камдуг... Я должна идти, – быстро сказала она. – Ты заходи в дом чуть позднее, как будто мы не были вместе.
Кошка усмехнулась таким предосторожностям, но согласилась немного побыть в саду в одиночестве.
Дядя всмотрелся в лицо Миринэ проницательно-ласковым, заботливым взглядом, взяв её за плечи и слегка сжав их с отеческой нежностью.
– Как ты, дитя моё? Мне почудилось, будто вчера ночью кто-то плакал в доме.
– Это девочки плакали, дядюшка, – ответила девушка. – А я... У меня всё хорошо, я в порядке. Подавать завтрак?
– Ещё мало кто проснулся, – вглядываясь куда-то за окно, сказал дядя Камдуг. – Погоди немного с завтраком. Хм, а наша белогорская гостья, оказывается, ранняя пташка! Кажется, ты разминулась с нею, когда гуляла в саду.
Последние слова он проговорил, многозначительно понизив голос, и в уголках его глаз проступили лучики такой же понимающей усмешки, какую Миринэ недавно видела у женщины-кошки. Бросив украдкой взгляд в окно, девушка увидела Миромари: та прохаживалась по дорожкам с задумчиво-скучающим видом. Не очень-то усердно она старалась не попасться никому на глаза!
Гости начали понемногу просыпаться. Встал и Темгур, и они с дядей Камдугом обсудили, кто поедет за телом Нугрура. Сам хозяин дома не мог отлучиться, будучи слишком занятым, но был готов послать своих людей. Вызвался ехать также и Энверуш; в его мрачно-тоскующем взгляде Миринэ читала отзвук вчерашних слов: «Я не надеюсь заслужить место в твоём сердце, но если я могу что-то сделать для тебя, я готов». Ну, а Миромари предстояло показывать дорогу к временной могиле, в которой Нугрур ожидал возвращения домой.
– Я тоже поеду, – сказал дядя Камдуг. – И своими руками подыму мальчика из чужой земли, чтобы перенести в родную.
Энверуш заикнулся было насчёт его деревянной ноги, но нахмуренные брови Темгура заставили его умолкнуть на полуслове. Дядя Камдуг ездил верхом и с одной ногой на небольшие расстояния, но такой долгий путь в седле ему предстояло проделать впервые.
– Дядя Камдуг, может, ты лучше на арбе поедешь, а не верхом? – осмелилась вставить слово Миринэ.
– А ты помолчи, – сурово оборвал её отчим. – Вечно лезешь не в своё дело.
Девушка вспыхнула и сжала челюсти, точно плетью по спине огретая, но огрызнуться в ответ не посмела – лишь хлестнула отчима враждебным взглядом. Дядя Камдуг ответил мягко, словно бы извиняясь за резкость Темгура:
– Не беспокойся обо мне, доченька. Как-нибудь доберусь.
* * *
В землях, где ещё недавно шли бои, понемногу налаживалась мирная жизнь. Селяне снимали урожай почти в срок – лишь с незначительным запозданием, и на полях почти ничего не пропало зря, а значит, голод Солнечным горам не грозил, хотя белогорская «сестра» была готова поделиться своими припасами в случае обширного голодного бедствия. Колёса повозки то вязли в раскисшей от дождей дороге, то постукивали по камням; вняв совету Миринэ, Камдуг ехал в крытой арбе, запряжённой парой мулов. Под кожаным навесом ему было сухо и удобно, а молодые спутники покачивались в сёдлах. В этих краях Миромари не всегда пользовалась кошачьим способом передвижения – иногда приходилось и верхом ездить, и пешком ходить, особенно когда требовалось отправиться в незнакомое место или двигаться вместе с людьми, которые, понятное дело, шагать через проходы в пространстве не умели. В дороге она нет-нет да и ловила на себе пристальный взгляд Энверуша – не то чтобы открыто враждебный, но и не очень-то дружелюбный. Женщина-кошка, показывая дорогу, ехала впереди, а молодой воин предпочитал держаться чуть позади, и белогорянка буквально спиной ощущала его взор. Это ей наконец надоело, и она с усмешкой спросила его напрямик:
– Ну, что ты на меня так уставился? Скоро дырку прожжёшь во мне!
Энверуш кашлянул в кулак.
– Ничего, – буркнул он хмуро.
– Ну, как же «ничего», – не отступалась Миромари. – Я лопатками чую, как ты меня сверлишь взглядом. Спросить о чём-то хочешь? Давай, не стесняйся, спрашивай, что хочешь знать.
– Да ничего я не хочу знать! – вспылил Энверуш. – Ты мне без надобности. С чего ты взяла, что я смотрю на тебя? Я по сторонам смотрю – может, туркулы где-то ещё шастают.
– Туркулов отсюда выбили наши белогорские отряды, – возразила женщина-кошка незлобиво. – Так что можешь не бояться.
– Ты оскорбить меня хочешь? – недобро прищурился Энверуш. – Я смотрел в глаза смерти дюжину раз, проливал кровь – свою и туркульскую!.. И ты ещё о страхе мне говоришь? Сама со страху не обделайся, ты, женщина!..
Миромари беззлобно хмыкнула.
– Я вовсе не хочу тебя оскорбить, храбрый воин, а вот ты меня сейчас поддеть как раз пытаешься. Только всё это напрасно, братец. Обижается тот, кто принимает в себя обиду, а я оставляю твои слова тебе. Да, я женщина, но не совсем такая, к каким ты привык.
Миромари держалась спокойно и добродушно-насмешливо, Энверуш же нервничал, сверкал глазами и раздувал ноздри. Люди Темгура слушали их перепалку равнодушно, пока Камдуг не подал голос из повозки:
– Друзья мои, не ссорьтесь. Энверуш, дочери Лалады помогли нашему народу выстоять против врага, поэтому не мешало бы тебе проявлять к ним чуть больше уважения... Наша белогорская гостья не заслужила, чтоб с нею так разговаривали. Она – друг Нугрура, а значит – наш друг. Помиритесь, я вас прошу!
– Прости, Камдуг, мы больше не будем пререкаться, – почтительно отозвалась Миромари, обернувшись к одноногому горцу. И устремила улыбчиво-искрящийся, шутливый взор на молодого воина-поэта: – Ну что, братец, мир?
Энверуш что-то пробурчал себе под нос, но протянутую руку не пожал – предпочёл дуться и дальше. До самого прибытия к могиле Нугрура он едва ли произнёс десяток слов. Молчание его было мрачным, выражение лица – кислым и хмурым. Остальные без особой надобности с ним тоже не заговаривали.
На могилу они прибыли холодной и сырой ночью. Неприятный, промозглый ветер швырял в лицо мелкую морось, землю озаряли мертвенно-бледные вспышки молний. Во время одной из таких вспышек показался большой валун под деревом у реки: им Миромари отметила место захоронения.
– Это здесь, – коротко сказала она, спешиваясь.
Печаль снова стиснула ледяной лапой её сердце. Живой, яркий и тёплый огонёк по имени Миринэ остался далеко позади, сейчас её обступал суровый, тревожный мрак ненастной ночи. Подойдя к сиротливо белевшему надгробию, женщина-кошка испустила вздох из тоскливо стеснённой груди.
– Ах, Нугика, Нугика... Как же так, дружище ты мой, как же так?..
Камдуг, кряхтя, слез с повозки и также приблизился к могиле. Положив обе ладони на камень, он долго молчал.
– Здравствуй, Нугрур, мой мальчик, – вымолвил он наконец тихо, с горьким надломом. – Вот и мы... Прости, что пришлось тебя здесь оставить. Но твоё ожидание окончено, сейчас мы поедем домой, и ты навек упокоишься в своей родной земле.
Они откатили валун. С тихим, влажным стуком падали комья почвы, отбрасываемые лопатами. Копали люди Темгура, а Камдуг стоял рядом, то и дело восклицая:
– Легче, ребятки, легче! Осторожнее... Не повредите тело.
Наконец показалась ткань. Тело Нугрура было завёрнуто в два войлочных плаща поверх тонкого савана, пропитанного тихорощенским мёдом. Плотный войлок предохранил его от влаги, и мёд не растворился в мокрой земле, а остался на коже. Вспышка молнии озарила бледное лицо Камдуга; он опустился на колено здоровой ноги над телом, неловко отставив в сторону деревяшку, большими жилистыми руками развернул липкий саван и открыл лицо племянника... Безжизненно-белое в отсвете молний, оно сияло снежным покоем горных шапок, прекрасное и полностью сохранное. Даже тяжёлого запаха тления не чувствовалось в воздухе, тело источало лишь медово-хвойный дух Тихой Рощи. Целую кадушку мёда Миромари потратила, чтоб покрыть его кожу и пропитать саван, но оно того стоило. Как живой Нугрур лежал, только очень бледный.
– Удивительный мёд, – проговорил Камдуг. И спросил, подняв величественно-строгое лицо к женщине-кошке: – Тихая Роща, говоришь? Что это за место?
– Это в Белых горах, – объяснила та. – Там дочери Лалады находят свой вечный покой, сливаясь с чудесными соснами.
Тело бережно перенесли в повозку, рядом сложили очищенные от земли и обвязанные тряпицами лопаты. Камдуг устроился подле, и Миромари прикрыла ему ноги медвежьей шкурой: с первого дня поездки сильно похолодало. Камдуг побледнел и осунулся, глаза его ввалились, окружённые тёмными тенями, и Миромари, беспокоясь о том, как бы дядя прекрасной Миринэ не захворал в дороге, напоила его водой из Тиши, которую носила с собой во фляжке. Она обещала девушке привезти дядю домой в целости и сохранности.
– Лучше бы таштиши глоточек, – вздохнул он. – Чтоб согреться...
Огненное зелье нашлось у Энверуша. Выпив, Камдуг крякнул и закутался в шкуру.
– Ну вот, так-то лучше... Оставь мне баклажку, Энверуш. Чувствую, она мне ещё понадобится.
И они, не отдыхая, тут же повернули в обратную дорогу. Путь занял несколько дней, и привалы им всё же приходилось делать. Порой они размещались под открытым небом, а иногда им давали кров добрые люди: всё-таки погода стояла зябкая и сырая, осенняя. Впрочем, Миромари солнечногорская осень напоминала конец лета в её родном краю. Эти места были гораздо теплее, снег выпадал только высоко в горах; когда в Белогорской земле ещё только ослаблял свою хватку мороз и начинало капать с крыш, здесь уже зацветали сады.
А ещё женщину-кошку грели мысли о Миринэ. Нугрур часто расхваливал её красоту в своих рассказах, но действительность превосходила все описания. Подъезжая к окружённому живой зелёной изгородью саду, Миромари услышала сильный и хрустально-чистый, привольно струившийся прохладным горным ручьём девичий голос... В нём перезванивались весенние льдинки, перекликались перелётные птицы, веяло дыхание снежных шапок. Это была «Ласточка» – та самая песня, которую напевал Нугрур в ночь перед своим последним боем. В ушах Миромари отдавалось эхо слов погибшего друга: «Ты её узнаешь сразу. Сразу поймёшь, кто перед тобой. Слышала бы ты, как она поёт! Нет другой такой певицы во всех Солнечных горах, клянусь памятью предков!» Белогорянка ещё не видела девушку, чей голос звучал за оградой, в недрах обширного сада, окружавшего богатый каменный дом, но сердце её уже знало: это Миринэ. Женщина-кошка улыбнулась: душу ей согрело воспоминание о голосе матушки, непревзойдённой белогорской певицы. Родительница и сейчас здравствовала, но уже не так часто радовала слушателей своим волшебным искусством. О ней говорили, что её горло выковано неведомой мастерицей с использованием златокузнечной волшбы.
Закрывая глаза у ночного костра, Миромари видела перед собой личико девушки. Тёплая глубина тёмных очей с пушистыми ресницами распахивалась колдовским омутом, в котором можно было навеки потерять сердце, ротик манил ягодной свежестью, а стан гнулся тонкой ивой. Лебедиными шейками тянулись её руки к виноградным гроздям, складывая богатый урожай в большую корзину с двумя ручками. Как же она подымет такую тяжесть? Охваченная желанием помочь, Миромари окликнула девушку, но та сама схватила корзину и испуганной ланью бросилась в дом – только белая головная накидка мелькнула яблоневым цветом среди гнущихся от плодов ветвей сада.
Потом женщина-кошка увидела Миринэ в доме. Молодостью свежего ветра веяло каждое её движение, от лёгкой плавной поступи сладко обмирало сердце; своенравно сверкали эти тёплые очи, а губки твёрдо поджимались, когда девушку пытались отправить подальше от незнакомой гостьи. Преступлением было держать эту певчую пташку в клетке суровых обычаев, и всякий, кто смел указывать ей, получал отпор в виде хлёсткого, как плеть, взгляда. Даже перед отчимом она не опускала смелых глаз, хотя и молчала, но самое её молчание было гордым и непобедимым. Дерзкий вызов звенел в воздухе, когда она вскидывала мохнатые опахала ресниц и смотрела прямо, пристально, без смущения.
Но так непримиримо и несгибаемо Миринэ держалась лишь с теми, кто давил на неё. Каким спелым яблочным румянцем вспыхнули её щёки тем ранним серым утром, когда они с Миромари встретились в саду у лозы! Какое чистое девичье волнение плеснулось в ночной глубине зрачков, когда их уста едва не соприкоснулись на виноградной грозди! Женщина-кошка могла бы вечно любоваться этим невинным ротиком, жадно обрывавшим крупные, восково-розовые ягоды, но чем дольше она смотрела, тем жарче жалило её желание впиться в него поцелуем. Однако белогорянка решилась поцеловать только гроздь, которой девушка лакомилась – с другой стороны. Лоза, роняя капли с листьев, дышала сырой прохладой, но голова Миромари налилась хмельным жаром. Она дерзнула вложить в губы Миринэ виноградинку – тоже подобие опосредованного поцелуя. Не ягодку обхватили мягкие уста красавицы, а сердце женщины-кошки зажали в своём тёплом и влажном плену.
Разговор через лозу... Миринэ смущённо пряталась за листьями, но никакие укрытия не могли приглушить блеск её глаз, полных жгучего любопытства: «А ты уже когда-нибудь... влюблялась?» Ну конечно, что же могло волновать юную деву, как не любовь?
«Неужели это ты – моя ладушка, моя судьба?» – вопрошала Миромари тёмное небо, которое жалили и обжигали взлетавшие от костра искры. Её смущало только одно – отсутствие у девушки знака, обморока.
– О чём ты думаешь, кошка? – раздался рядом голос Энверуша, вырвав белогорянку из волшебного морока этих сладких помыслов.
Камдуг спал в арбе рядом с телом племянника, люди Темгура дремали под открытым небом, закутавшись в войлочные плащи, бодрствовали лишь двое у костра – женщина-кошка и воин-поэт, всю дорогу смотревший на неё волком.
– К чему тебе мои мысли? – усмехнулась Миромари. – Ты же сказал, что я тебе без надобности.
– Если ты думаешь о Миринэ, забудь, – пристально сверля её взглядом, сказал Энверуш. – Она не для тебя.
– Почему ты решил, что я о ней думаю? – Белогорянка чуть улыбалась уголками губ, не отвечая на враждебность собеседника.
– Я видел, как вы переглядывались, – неприязненно кривя рот, ответил тот. – И слышал ваш разговор тем утром в саду. Мне тоже не спалось, и я вышел подышать воздухом. Я не подслушивал намеренно, просто так получилось. Вот что я тебе скажу, кошка: я не позволю тебе морочить Миринэ голову. Я вижу, что у тебя на уме.
– И что же, по-твоему, у меня на уме? – Белогорянка по-прежнему сохраняла незлобиво-спокойный, слегка насмешливый вид.
– Ты хочешь позабавиться с ней и улизнуть в свои Белые горы!.. – яростно припечатал Энверуш ладонь к валуну, на который опирался спиной. В свете костра его глаза бешено искрились, словно раскалённые угольки. – Но тебе не удастся спрятаться, я везде тебя найду, хоть на краю света! Поэтому по-хорошему тебя предупреждаю, кошка: лапы прочь от Миринэ!
– Остынь, братец. Ты ничего не знаешь ни обо мне, ни о моих намерениях, но уже второй раз пересекаешь черту дозволенного и нарываешься. – Улыбка слетела с губ женщины-кошки сухим листом, и рот сурово сжался, а от голоса повеяло холодом. – Позволь и мне тебя предупредить: если не успокоишься, то в следующий раз ты получишь то, на что нарываешься.
– Да когда вы наконец уснёте уже, а? – раздался недовольный голос из темноты. – Или хотя бы другим не мешайте... Вы тут не одни, между прочим.
– Извините, ребята, – отозвалась Миромари. – Всё, мы больше не шумим. – И добавила шёпотом Энверушу: – Ну вот, докричался – людей разбудил. Давай-ка и в самом деле на боковую: завтра рано выдвигаться в дорогу.
Всё заканчивается – подошёл к концу и этот невесёлый путь, овеянный ветром и оплаканный дождями. Пропитанный жиром войлочный плащ спасал женщину-кошку от сырости и прохлады, а за тело друга она не беспокоилась: о его сохранности заботился тихорощенский мёд, а кожаный навес повозки защищал от дождя. Вздох вырвался из её груди: о Нугруре можно было уже не тревожиться... Всё самое страшное, что могло случиться, уже случилось. Ему остался только светлый покой, а оставшимся на земле живым – добрая память о нём.
У ворот дома Темгура Камдуг выбрался из арбы – сутуло, устало. Эта дорога как будто состарила его, но он выдержал, не разболелся, вопреки опасениям Миромари.
– Отворяйте! – воскликнул он, постучав кулаком. – Нугрур вернулся домой.
Через несколько мгновений ворота открылись, и охранники впустили во двор утомлённых путников. Быстрыми пташками спорхнули вниз по каменным ступенькам крыльца расшитые бисером мягкие сапожки – и Миринэ застыла перед повозкой, не решаясь подойти вплотную. Её глаза влажно блестели, но она не рыдала, зажимая побледневшими губами стон, а вместо белой головной накидки с её шапочки спускалась чёрная.
– Твой брат дома, милая, – сказал Камдуг, подходя к девушке. – Он вернулся навсегда и больше никогда не покинет родных мест. Он с тобой. Теперь он всегда будет с тобой.
Короткий тоненький всхлип утонул в крепких отеческих объятиях Камдуга – только изящные плечики девушки несколько раз вздрогнули, и всё стихло. Сердце женщины-кошки рвалось и изнывало от желания прижать Миринэ к груди, но она не смела этого сделать на глазах у всех, да и наедине, наверное, вряд ли решилась бы прикоснуться к гордой красавице – во всяком случае, без её на то дозволения.
Темгура снова не было дома, и Камдуг опять взял на себя обязанности хозяина. Он отдал распоряжение готовить всё необходимое для похорон и сам рачительно следил за приготовлениями – чтобы всё было сделано должным образом, достойно и правильно. Тело требовалось обмыть, но возникло затруднение: тогда смоется тихорощенский мёд, а Камдуг не хотел, чтобы тление касалось покрытого славой чела Нугрура.
– Позвольте мне раздобыть ещё мёда, – вызвалась Миромари. – После омовения его снова можно будет нанести. Я скоро обернусь – одна нога здесь, другая там.
Шаг в проход – и женщина-кошка очутилась в Тихой Роще. Когда девы Лалады узнали, для какой цели ей требуется мёд, они дали ей целую кадушку даром, не взяв ничего взамен. Напоследок немного подышав светлым сосновым покоем и побродив по мягкой вечнозелёной траве этого благословенного места, Миромари вернулась в Солнечные горы.
– Мёда очень много, – сказал Камдуг, оглядев большую, тяжёлую, источающую особый, грустновато-сладкий тихорощенский дух кадушку. – Можно и на нужды живых чуть-чуть оставить. Должно быть, это поистине целебная вещь.
– Ты прав, Камдуг, – улыбнулась белогорянка. – Тихая Роща – источник света, любви и целительной силы Лалады. И мёд, который там делают, вобрал в себя эту силу.
Часть мёда перелили в небольшой глиняный горшок, который Миринэ унесла на кухню. Энверуш увязался за ней, но Миромари не довелось слышать разговора, который между ними там, должно быть, состоялся. Впрочем, она и так догадывалась, о чём тот толковал девушке... Наверняка предупреждал о коварстве белогорских кошек.
Нугрура похоронили на каменной круче, с которой открывался величественный вид на горную реку и поросшие буковым лесом склоны. Миринэ не рыдала: и в своём горе она держалась гордо. Лишь печальная бледность заливала её хорошенькие щёчки, а тёмные брови были сурово сдвинуты двумя шелковистыми собольими дугами. У белогорянки не получалось близко подойти к ней: Энверуш всё время ревниво охранял девушку, и женщина-кошка натыкалась на его колкий взгляд, не обещавший ей ничего хорошего. Потом прошло поминальное застолье. Правда, один раз Нугрура уже поминали, когда только пришла весть о его гибели, но то были первые соболезнования, а сейчас состоялись настоящие проводы. Одним словом, посидеть за столом и выпить под хорошую закуску в этих краях любили, будь на то печальный или весёлый повод. Дядя Нурги много рассказывал о Нугруре, которого он помнил с младенчества; прозвучали среди этих историй и до последнего слова правдивые, и приукрашенные рассказчиком, и от начала до конца вымышленные им, но и те, и другие, и третьи слушались гостями с одинаковым вниманием и удовольствием.
Под конец застолья дядя Нурги опять куда-то исчез, и тётя Замия искала его по всему дому. Каждый раз, возвращаясь на место, с которого начинались её поиски, она кланялась Темгуру и извинялась:
– Ох, господин, ты уж прости, что доставляю хлопоты и мельтешу перед глазами! Вот уж задам я дома этому старому пьянчуге! – И она пускалась в новый поисковый круг – увы, бесплодный.
К полуночи все разошлись на отдых. За время пребывания в Солнечных горах Миромари успела немного привыкнуть к местной выпивке, но таштиша всё-таки сильно ударяла ей в голову. Тяжёлый хмель выветривался медленно и мучительно, и женщина-кошка решила глотнуть свежего воздуха в саду: лёжа её тошнило, а на ногах хмельная истома переносилась лучше. Тучи рассеялись, и яркая луна заливала землю грустным серебристым светом.
Вот знакомая лоза... Гроздей на ней уже не осталось, всё собрали. Миромари насторожили тонкие девичьи всхлипы, и она устремилась на звук, догадываясь, кто мог здесь плакать, и от этой догадки её сердце сладко таяло, как кусочек масла на горке горячих блинов. Кстати, о блинах: по домашней стряпне женщина-кошка порядком соскучилась, хотя местные тонкие лепёшки тоже были недурны, особенно если заворачивать в них сочное мясо.
Прильнув к лону лозы, как к материнской груди, Миринэ всхлипывала горько и сдавленно. Слёзы она вытирала прохладными виноградными листьями, и лунный свет переливался на вышивке её туго подпоясанного чёрного кафтанчика. Мягких шагов белогорянки она не услышала и вскрикнула негромко, заметив её у себя за плечом.
– Прости, не хотела тебя пугать, – сказала Миромари, отступая на шаг. – Я просто услышала, что кто-то плачет...
– Тонкий у тебя слух, – смахнув слезинку, проронила девушка. – Ты меня не испугала, я просто от неожиданности... Я думала, все спят.
Она не убегала и не просила женщину-кошку уйти, её голос звучал грустновато, но дружелюбно. Миромари даже почудился намёк на приветливую улыбку в уголках её губ... Впрочем, скорее, это была игра лиственных теней и страстное желание самой белогорянки увидеть эти дивные уста улыбающимися.
– Так и есть. – Миромари, ободренная слегка затуманенной слезами благосклонностью красавицы, снова приблизилась на шаг. – Все спят, только я шатаюсь без сна... Тяжеловата для моей головы эта ваша таштиша, надо было пить вино.
– Давай, я разведу тебе белогорский мёд в воде, – предложила девушка. – Я уже пробовала его... Он и впрямь удивительный! Уверена, он и похмелье снимает.
– Он от многих бед помогает, – молвила Миромари, сократив расстояние между ними ещё на шаг. – Благодарю тебя, мёд не помешал бы.
– Подожди меня здесь, я сейчас, – сказала Миринэ.
Она упорхнула – только листья зашелестели, смыкаясь за нею следом, а женщина-кошка осталась у лозы, охваченная сладкой тоской и пронзительным желанием заключить этот ивовый стан в объятия и осыпать поцелуями щёчки-яблочки. Нет, это слишком большая вольность, это может всё испортить. Это хмель шутил с нею шутки, заставляя руки шалить, а другое место – стремиться на поиски приключений.
Снова зашелестела и раздвинулась листва: это возвращалась Миринэ – с большой глиняной кружкой в руках.
– Ты здесь? – серебристо прозвенел её голосок.
– Здесь, моя голубка, – отозвалась женщина-кошка. – Куда ж я денусь... Если ты прикажешь ждать, я готова ждать хоть вечность.
Похоже, вольность всё-таки сорвалась с хмельного языка, но слово – не воробей. Миринэ, впрочем, не рассердилась, её глаза окутывали Миромари отзвуком бархатной южной ночи и щекотали пристально-невинной нежностью ресниц.
– Вот, выпей... Я развела мёд в подогретом молоке. Кошки ведь любят молоко?
– Они любят всё, что подаётся столь прекрасными руками, – мурлыкнула белогорянка, принимая тёплую кружку и при этом слегка накрыв пальчики девушки своими – намеренно или нечаянно? Она сама не знала. Леший бы побрал эту таштишу!..
Миринэ потупилась, мягко высвободив пальцы и опустив эти сводящие с ума ресницы.
– Прости, я не вполне трезва, вот мой язык и плетёт околесицу, – пробормотала Миромари.
Чтобы снова не ляпнуть что-нибудь, она прильнула к кружке и не отрывалась, пока не выпила всё до последней капли. Вкусное, жирное молоко обволакивало горло домашним теплом и отдавало сладковатой печалью тихорощенского покоя.
– Благодарю тебя, – выдохнула она, облизнув губы. – Это было как раз то, что нужно.
– Тебе лучше? – спросила Миринэ.
Сама ночь смотрела на белогорянку из этих глаз – зовущая ночь-соблазнительница, пьянящая крепче, чем таштиша.
– О да... Гораздо лучше. – И Миромари кинулась в эти тёплые омуты с головой – склонилась и прильнула к мягким ягодно-спелым губкам.
Конечно, она всё испортила. Ротик Миринэ пискнул под поцелуем, и девушка убежала прочь, оставив женщину-кошку с пустой кружкой и печалью в сердце.
Бродя по саду и трезвея, Миромари до утра ругала и казнила себя. Нехорошо как-то вышло... Не успела могила сомкнуть свой влажный зев над Нугруром, а она уже набросилась на его сестру. Этак девушка ещё подумает, что Энверуш прав и женщине-кошке нужно от неё только одно – «позабавиться»... Нет, Миромари нужна была её ладушка, избранница, та самая, единственная – вот ради чего она вообще отправилась на эту войну. И без лады возвращаться не собиралась. Сердце пело вещей струной, птицей могучей билось, металось, не зная покоя, и хотело только одну Миринэ – и никого иного. Но обморок! Почему его не было?
Проходя мимо огромного старого ореха с дуплом, Миромари услышала гулкий рёв вперемежку с чмоканьем, доносившиеся из глубины ствола. От неожиданности она замерла на месте. Живое дерево? Ещё не совсем очистившиеся от винных паров мозги решили, что раз уж в Белых горах есть живые чудо-сосны, то почему бы в Солнечных горах не расти чудо-орехам? С этой мыслью женщина-кошка подкралась к дуплу поближе... И тут её чуткий звериный нюх уловил запах винного перегара. Живое дерево, да ещё и пьяное?.. Это уж слишком!
– Гррр-хрррр! – неслось из дупла. – Чавк, чавк, чмок, чмок...
Первый луч солнца осветил ствол. У Миромари невольно вырвался хрипловатый смешок: в дупле, свернувшись калачиком, на подстилке из прелых листьев спал щупленький дядя Нурги, отдыхая после обильных возлияний. Это он храпел и чмокал, а Миромари решила, что дерево ожило. Она затормошила пожилого горца за плечо.
– Дядюшка Нурги! Вставай!
– А? Что? Чего?
Тот недоуменно шевелил кустиками седых бровей, пытаясь сосредоточить взгляд на лице злодея, столь бесцеремонно прервавшего его сладкий сон. Глаза у него ещё слегка косили к носу, не вполне трезвые, и Миромари, видимо, двоилась, а то и троилась перед ними.
– Дядя Нурги, тебя твоя супруга обыскалась, – со смехом сказала кошка.
– М-м-м, да и пусть себе ищет, – промямлил тот, не расположенный подниматься. – Я ещё чуточку посплю, здесь так удобно, мягко, не дует...
И он, перевернувшись на другой бок, через мгновение снова начал сладко похрапывать.
Миромари позвали к завтраку за общий стол. Миринэ не поднимала на неё глаз, и душу женщины-кошки обдало дыханием зимы... Неужели тот поцелуй испортил всё настолько безнадёжно? Неужели он отпугнул девушку? Белогорянка изнывала от желания поскорее выяснить это, но встретиться с Миринэ с глазу на глаз ей всё никак не удавалось. Соседи Темгура, словно сговорившись, зазывали доблестную кошку-воительницу к себе в гости, и отказ расценивался как смертельное оскорбление. Везде желали её видеть и слушать её рассказы о Белых горах. Это была ещё одна небольшая слабость здешних людей, кроме застолий: они любили слушать истории – интересные, познавательные и хорошо рассказанные. Ну, а если обе радости совмещались – иными словами, сказания велись во время застолья, щедро сдобренные угощением и перемежаемые кубками с вином, – это вообще верх удовольствия. Белые горы, как известно, были неиссякаемым предметом для обсуждения. Когда Миромари поднесли огромный кубок с вином, она поняла, что крепко влипла.
Едва успев прийти в себя после похорон Нугрура, женщина-кошка оказалась вовлечена в длинную череду продолжений поминок по своему другу. Это была какая-то безумная круговерть из застольных речей, пространных и замысловатых, после которых кубок следовало осушить до дна; по окончании очередной речи всё внимание обращалось на гостью. Она рассказывала всё, что знала, щедро разворачивая перед благодарными слушателями полотно белогорской жизни. Деяния княгинь, искусство мастериц-оружейниц, былины о древних временах, предания охотниц-китобоев белогорского Севера, война с Навью – всего не счесть! Горячительное на первых порах помогало красноречию: мысль сверкала молнией, слова летели птицами, но после некоторого количества кубков язык начинал спотыкаться, а извилины тяжелели и слипались. Впрочем, мастерство застолья в Солнечных горах было поставлено умело. Видя, что гостья хмелеет больше, чем нужно для приятного времяпрепровождения, её отправляли немного проспаться, а потом снова сажали к столу. Если бы не отвар яснень-травы на воде из Тиши, помогавший протрезветь и справиться с последствиями опьянения, неизвестно, чем бы всё это кончилось для Миромари.
Эти посиделки не были легкомысленно весёлыми: задуманные как небольшие ответвления всеобщих поминок по Нугруру, они изобиловали речами, восхвалявшими воина-героя. За столами не звучал неуместный в этом случае смех, гости не плясали, но пели много героических песен, посвящённых ратным подвигам солнечногорского народа. Каждый второй солнечногорец обладал великолепным голосом, да что там каждый второй! В кого ни ткни, непременно попадёшь в замечательного певца или певицу.
– В этом наши народы очень похожи, – сказала Миромари. – Белогорская земля тоже изобилует песнями.
Разумеется, её попросили исполнить что-нибудь. Женщине-кошке пришлось вспомнить все песни, какие она только знала; после каждой из них белогорянка вкратце переводила, о чём там говорилось.
Урожай был собран, полевые работы закончены, а значит, люди имели полное право отдохнуть. Переходя с одних посиделок на новые, Миромари узнавала одни и те же лица, которые кочевали от одного стола к другому. Дядя Нурги был как раз из таких завсегдатаев. Всюду его принимали с почётом и просили сказать речь. Уж что что, а речи произносить дядя Нурги умел, равно как и рассказать хорошую историю. И неважно, что некоторые из них повторялись по седьмому разу – всё равно его слушали с удовольствием и щедро угощали.
Миромари уже потеряла счёт дням... или месяцам? Отпаиваясь отваром яснень-травы, чтобы прийти в себя после очередной пирушки, женщина-кошка лежала на сеновале и ломала голову над тем, как бы выкарабкаться из этой хлебосольной западни, чтоб и приличия соблюсти, и никого не обидеть. Может, придумать какое-то срочное дело? В конце концов, отпуск ей давали не навечно, в полку её уже, наверно, давно хватились. Но вот беда: любые попытки заикнуться об этом, увы, не срабатывали. Ей хором начинали обещать, что отпросят её у начальства ещё хоть на целый год и всё уладят наилучшим образом, и вот – она уже сидела у какого-нибудь дяди Батула или дяди Таргела, познавая на собственном опыте и собственной печени все тонкости солнечногорского застолья.
– Госпожа Миромари, ты здесь? – услышала она детский голосок.
Женщина-кошка приподнялась, проваливаясь локтем в душистое сено.
– Да, я тут, – отозвалась она. – А ты кто?
Лунный свет озарял фигурку девочки в дверях сарая.
– Меня послала сестрица Миринэ, – пропищала малышка. – Она хочет поговорить с тобой. Это очень важно, она просит тебя прийти немедленно к водопаду Тысяча Радуг.
– Погоди, погоди... – Миромари встрепенулась, ослеплённая звуком этого имени, точно вспышкой молнии. – Повтори, что ты сказала!
– Миринэ ждёт тебя у водопада Тысяча Радуг! Иди уже, не заставляй её слишком долго ждать! – засмеялась девочка и убежала.
В застольном угаре мысль о Миринэ освещала сердце Миромари ясной звёздочкой, манила маяком, до которого измученная белогорянка уже не чаяла когда-нибудь добраться. Беспощадное, убийственное солнечногорское гостеприимство засосало её, как болотная топь, она погрязла в нём, утонула по самую макушку и уже, честно говоря, света белого не видела. Она всю голову сломала, пытаясь придумать благовидный предлог, чтобы вырваться на трезвую свободу; от отчаяния Миромари уже хотела сказать, что у неё захворала родительница, и ей срочно нужно в Белые горы, но врать ей в итоге не пришлось.
Сердце стучало до головокружения, до нехватки воздуха; с перепоя или от волнения перед встречей – этого Миромари сама не знала. Возможно, по обеим причинам. Она немного привела себя в порядок, искупалась в ледяной воде горной реки, причесалась и с ещё немного влажными волосами перенеслась к водопаду. Она знала его: они проезжали мимо, когда везли тело Нугрура домой.
Красивое это было место, прямо-таки созданное для любовных встреч. Лесной ручей широко разливался зеркальной гладью и ниспадал серебристо-седой занавесью водяных струй, которые переплетались среди зелёных и скользких от водорослей камней, снова соединялись в общий поток и убегали дальше в чащу леса. Привязанный к кусту конь пощипывал листву, а Миринэ, присев у кромки воды, черпала её пригоршней и смачивала себе щёки и виски.
– Ты звала меня, голубка – я перед тобой, – проговорила Миромари.
Нерешительной была её поступь, а голос – тихим. Чувствовала она за собой вину за тот дерзкий поцелуй, после которого они даже толком не поговорили, а потом женщину-кошку унесло могучим разгульным потоком, а точнее сказать, винной рекой. Кажется, она выплыла на твёрдую землю... Но надолго ли?
Выпрямившись, Миринэ вперила в белогорянку пристально-вопрошающий, требовательный и вместе с тем нежный взгляд.
– Я хочу знать только одно, – молвила она без предисловий. – Что это значит для тебя? Кто я для тебя – мимолётное приключение на чужбине или женщина, с которой ты хотела бы соединить свою судьбу? Да, мы знакомы совсем мало и недолго, но у меня такое чувство, будто я всю жизнь ждала лишь тебя, синеглазая кошка...
Ну, вот и всё... Пропало сердце, пропало навек в ночной глубине этих очей – то неумолимо гордых, то печально-ласковых. Сквозь полчища туркулов прорубалась Миромари к путеводным звёздочкам этих глаз – лила кровь, рубила головы, сама получала раны, но поднималась, залечивала их и билась дальше. Для этих глаз она отвоёвывала свободу солнечногорской земли пядь за пядью – чтоб из них лились слёзы не горя, но радости. И ради их счастливого сияния она была готова сделать всё, что угодно.
– Милая Миринэ, не имеет значения, сколько мы знакомы, – молвила она, приблизившись к девушке вплотную. – Потому что я знаю тебя гораздо, гораздо дольше. Я скакала верхом рядом с тобой и Нугруром в вашем детстве; я ловила вместе с вами бабочек, купалась в реке, собирала орехи, ягоды и дикий мёд, играла на развалинах старых крепостей. Мне больше лет, чем тебе, но я росла вместе с тобой и готовила своё сердце к тому чувству, которое заполняет его сейчас без остатка. На устах твоего брата твоё имя звучало песней, и я полюбила его звук ещё до того, как впервые увидела твоё лицо и услышала твой голос. Это прозвучит смехотворно, но до сих пор я не понимала, что со мной творится... А теперь понимаю. Я очень, очень люблю тебя, Миринэ.
Миринэ слушала её с сомкнутыми, трепещущими ресницами. Когда она открыла глаза, в них сверкали лунные росинки слёз.
– Скажи это ещё раз, – грудным, медово-тёплым полушёпотом молвила она.
Расстояние между ними истаяло, истончилось до серебряной нити, до тонкого, как волосок, лунного луча.
– Я люблю тебя, Миринэ, – ласково дохнула ей в губы Миромари, осторожно смыкая вокруг неё объятия и до конца не веря в то, что они возможны, и что она имеет право на них.
– Если бы эти слова сказал мне кто-то другой, я не была бы так счастлива, – полной грудью вздохнула девушка, поднимая искрящийся взгляд к луне. – Счастье – это когда долгожданные слова говорит тот, кто нужен тебе больше всех на свете.
Губы сближались неумолимо, но их поцелую не дали сбыться: из-за деревьев шагнула тень с обнажённым мечом. Миринэ вскрикнула, а женщина-кошка заслонила её собой и положила ладонь на рукоятку своего клинка, готовая защищать девушку. Неведомый враг шагнул вперёд, и в лунном свете белогорянка узнала Энверуша.
– Я предупреждал тебя, кошка! Оставь Миринэ в покое, или я убью тебя!
– Энверуш, этим ты ничего не добьёшься! – пронзительно воскликнула Миринэ, и в её голосе натянутой стрункой звенело волнение. – Я не смогу полюбить тебя так, как ты того желаешь, никогда не соглашусь стать твоей женой! А если ты причинишь Миромари вред, я возненавижу тебя!
– Не слушай обольстительные речи этой кошки, в них нет ни капли правды, – прорычал Энверуш. – Ты ещё будешь мне благодарна за то, что я не позволил ей сделать тебя несчастной!
Когда на Миромари нападали, она защищалась, по возможности делая так, чтобы противник уже больше никогда не смог повторить свою попытку. Но если противнику-туркулу она просто рубила голову с плеч, то что делать с этим парнем? Он был несправедлив и предвзят к ней, но ей не хотелось считать его врагом. Он бросился на неё с занесённым мечом, и женщина-кошка отбила удар. Обыкновенный клинок, встретившись с белогорским оружием, жалобно звякнул и сломался, а его владелец зашатался и скорчился от боли в руке.
– Братец, я не хочу причинять тебе вред и уж тем более убивать, – сказала Миромари. – Если ты видел дочерей Лалады в бою, то и сам знаешь, что тебе против меня не выстоять. Не лезь на рожон, это бесполезно.
– Это мы ещё посмотрим, кто кого, – проскрежетал зубами Энверуш, пошатываясь, но готовясь к новому нападению.
У него ещё оставался кинжал – с ним-то он и бросился на женщину-кошку. Миромари свой белогорский кинжал в ход не стала пускать; шагнув в проход, она молниеносно очутилась у Энверуша за спиной, обхватила его сзади с медвежьей силой, стиснула и обездвижила. Оружие само выпало из его руки, а вскоре и он сам упал следом, полузадушенный. Кажется, Миромари сломала ему пару рёбер, но это ничего. Главное, она дала ему понять, что для человека схватка с женщиной-кошкой – дело заведомо безнадёжное.
– Я предупреждала, что в следующий раз ты получишь то, на что нарываешься, – усмехнулась она. – Пришлось сделать тебе больно, но уж не обессудь: я привыкла выполнять свои обещания. А чтобы ты убедился в чистоте моих намерений, завтра же утром я пойду к Темгуру и попрошу у него руки Миринэ.
Оставив полубесчувственного Энверуша приходить в себя у водопада, она провожала Миринэ домой – вела под уздцы её коня, а девушка ехала в седле. Всё ещё взбудораженная зрелищем схватки, время от времени та тревожно оглядывалась назад.
– Не волнуйся за своего неугомонного друга, он не слишком пострадал, – чуть насмешливо успокоила её Миромари.
– После того, что случилось, больше никакой он мне не друг! Я беспокоюсь не о нём, а о том, чтобы он не догнал нас и снова не бросился на тебя, – ответила Миринэ.
– Я надеюсь, у него хватит ума этого не делать. – Женщина-кошка ласково потрепала красавца-коня по шелковистой вороной шее. – В следующий раз он может так легко уже не отделаться.
Миринэ на несколько мгновений смолкла, и Миромари подняла на неё взгляд. Глаза красавицы снова бархатисто ласкали белогорянку пушистой нежностью ресниц и лунными блёстками восхищения.
– Как ты сильна! – молвила она с уважением и воркующей томностью в голосе. – С тобой не справится, пожалуй, даже самый умелый воин.
– А, вот что тебя так впечатлило, – усмехнулась женщина-кошка. – Так уж сложилось, что дочери Лалады наделены большой силой. Это сила богини и сила зверя-кошки внутри нас. Человеку женщину-кошку не победить в схватке.
– А расскажи про Лаладу, – попросила девушка.
– Лалада – это наша богиня, которой мы в Белых горах поклоняемся, – начала Миромари. – Она покровительствует любви, весне, плодородию и изобилию. Хочешь послушать сказание о том, как появились дочери Лалады?
– Конечно, хочу! – живо отозвалась Миринэ, которая, как и все её земляки-солнечногорцы, питала слабость к историям, преданиям, былинам и песням.
Женщина-кошка, неторопливо шагая, завела былину о пятидесяти прекрасных девах, которые плыли на корабле, чтобы стать жёнами одного конунга из северо-западных земель, но в итоге стали супругами Лалады и в единую ночь понесли во чреве пятьдесят дочерей. Сказанию немного не хватало звона гусельных струн, но неплохо его сопроводил и шёпот ветра в листве с мерным перестуком шагающих конских копыт.
– А как у вас появляются на свет дети? – полюбопытствовала Миринэ, и в лунном сумраке женщине-кошке почудился румянец смущения на её щёчках.
Миромари ласково ответила:
– Если согласишься стать моей женой – узнаешь.
Смех девушки рассыпался серебряными звёздными осколками, усеивая траву мерцающими блёстками света, а в следующий миг Миринэ смахнула с седла нетерпеливая сила объятий женщины-кошки. Остаток пути Миромари несла красавицу на руках, а конь послушно шагал следом.
– Так ты согласна? – спросила она, утопая взглядом в распахнутых ей навстречу глазах девушки – близких, почти щекочущих ресницами, дышащих отголоском летнего зноя, хоть и осень царила вокруг.
– А ты сама как думаешь? – рассмеялась Миринэ, цепко обнимая белогорянку за шею и гибко, страстно прижимаясь к ней всем телом. – Ах, конечно же, я тысячу раз согласна!
Уже никто не мешал им обмениваться поцелуями. Если бы луна умела краснеть, она стала бы пунцовой от обилия ласк, которые они дарили друг другу. Пальчики Миринэ блуждали в чёрных кудрях женщины-кошки, маленькие вишнёвые уста самозабвенно скользили по её лицу, обдавая горячим дыханием, и Миромари с наслаждением ловила и накрывала их своим ртом. Миринэ теребила кошачьи уши с кисточками шерсти на острых кончиках, нежно мяла их, чесала и целовала, а белогорянка отзывалась долгим мурлыканьем.
Когда впереди показалась озарённая луной усадьба Темгура с тревожными огоньками в окнах, девушка попросила женщину-кошку отпустить её домой одну – чтоб не злить отчима лишний раз. Но эта предосторожность была уже бесполезна: в доме никто не спал, а сам хозяин ждал Миринэ. Вид у него был грозный и гневный.
– Думаю, таиться уже не имеет смысла, ведь между нами всё решено, – шепнула Миромари девушке. – Не бойся, милая, я сама поговорю с Темгуром.
Тот вышел им навстречу, поигрывая плёткой. Неужели он собирался пустить её в ход для наказания Миринэ? Миромари сдвинула брови и прикрыла девушку плечом.
– Господин Темгур, не гневайся, – сказала она вежливо, но твёрдо. – Мои намерения – самые порядочные. Я прошу о чести получить руку и сердце прекрасной Миринэ. Если ты согласишься отдать мне её в супруги, я буду счастлива.
Ноздри крючковатого, кривого носа хозяина вздулись, глаза мерцали жёстко и холодно, ловя отблески масляных ламп.
– Вынужден ответить тебе отказом, – каркнул он хрипло и грубо. – Миринэ не пойдёт на чужбину, супруг для неё найдётся и в родном краю. А тебя я попрошу покинуть мой дом! Ты злоупотребляешь моим терпением и гостеприимством!
Чтобы в Солнечных горах хозяин выгнал гостя, должно было случиться нечто из ряда вон выходящее. Скорее уж гость с трудом мог вырваться из хлебосольного дома, нежели бы его выставили прочь. Миринэ встрепенулась в протестующем порыве, но Темгур хлестнул плетью – не её, а низенький резной столик, так что вся посуда на нём звякнула. Его остервенело округлившиеся, ледяные глаза предупреждали, что следующий удар получит уже она, если скажет хоть слово поперёк.
– Что ж, благодарю за ту меру гостеприимства, которую ты изволил для меня отмерить, – холодно поклонилась Миромари. – Сожалею, что вызвала твой гнев. Более не смею обременять твой дом своим присутствием.
С этими словами женщина-кошка развернулась и зашагала прочь, никем не задерживаемая. Лишь Миринэ хотела броситься за ней, но суровый окрик Темгура и его поднятая плеть остановили её. Девушка заслонилась вышитым рукавом, но отчим её не ударил – только занёс руку.
Миромари вернулась в дом Алгаса Трёхпалого: там проходило застолье, с которого её вызвала на свидание Миринэ. Пирушка уже закончилась, но хозяин ещё не ушёл спать.
– Прости, что отлучилась без предупреждения, любезный Алгас, – извинилась перед ним женщина-кошка. – Неотложное дело вынудило меня покинуть твой гостеприимный дом на время. Если позволишь, я заночую на сеновале.
– Отдыхай там, где тебе удобно, дорогая Миромари, – ответил хозяин. – А завтра к обеду тебя ждут в доме у Намура. Намур просил передать, что очень желает тебя видеть у себя.
Белогорянка пожелала Алгасу спокойной ночи и устало поплелась к месту ночлега. Значит, испытанию её печени на прочность суждено было продолжиться... Зарывшись в мягкое, пахнувшее летом и солнцем сено, она попыталась забыться сном, но на душе было так тяжко, что глаза её оставались открытыми до самого рассвета.
Сдаваться она не привыкла. Выход виделся только один: выкрасть Миринэ, раз уж тут водился такой обычай.
Подремать удалось, наверное, только полчаса, да и те промелькнули, как один миг. Едва веки Миромари сомкнулись, как её позвали к утренней трапезе. Завтракала она ещё у Алгаса, а обедала уже у Намура. И снова лились рекой вино и таштиша, и вскоре краткая полоса трезвости сменилась порядком утомившей женщину-кошку дымкой хмеля. Но это только сперва – дымкой, которая не мешала ей ни говорить, ни мыслить, а потом от досады она слишком быстро напилась: мало закусывала и часто прикладывалась к кубку. В таком отчаянном виде её и застала рыжая Жмурка, десятница из отряда кошек, которая пришла напомнить ей, что её отпуск закончился вчера.
– Загуляла ты тут, сестрица, как я погляжу, – усмехнулась она. – Но хорошего понемножку. Мы ещё не всех туркулов разбили, а посему изволь явиться в войско.
– Я бы рада, честно! – сказала Миромари. – Но только если ты сумеешь объяснить это моему хозяину.
На свою беду, Жмурка недостаточно хорошо знала местные обычаи. Миромари с мрачной усмешкой наблюдала, как та на ломаном метебийском пыталась втолковать хозяину и гостям, что белогорянке пора возвращаться к своей службе, и что это не обсуждается...
– Дорогая, она вернётся, обязательно вернётся! – ответили Жмурке. – Но сначала просим тебя выпить с нами один кубок этого тридцатилетнего вина, раз уж ты пожаловала к нам. Нет, отказ не принимается! Гость не должен уходить от стола ни с чем, так в нашей земле заведено.
– Благодарю, но я на службе, – пыталась отнекиваться десятница.
– Один кубок! Всего один! Не обижай нас!
Обидеть радушного хозяина Жмурка, конечно, не хотела.
– Что ж, если всего один, то можно, пожалуй.
– Ну вот и славно! – воскликнул хозяин. – Эй, Амга, неси гостье самый большой кубок! Да наливай полнее!
Когда Жмурка увидела этот, с позволения сказать, кубок, у неё вырвалось:
– Да в этой бадье можно ребёнка купать! Мне столько не выпить!
Хозяин сдвинул густые брови, следом за ним нахмурились и гости:
– Обидеть нас хочешь?!
– Нет-нет, что вы, – заверила Жмурка. И, нервно сглотнув, приняла объёмистый сосуд с вином.
Она устремила испуганный взгляд на Миромари, но та лишь развела руками: мол, я тут ни при чём, ты сама согласилась. А зловеще-насмешливый огонёк в её синих глазах, порядком затуманенных хмелем, как бы говорил: «Знала бы ты, сестрица, во что ты ввязываешься!»
Вскоре Жмурка на собственной шкуре узнала, отчего Миромари так задержалась. За вином последовала закуска, потом таштиша, потом снова закуска и опять вино... Уже поднабравшаяся в этом деле опыта Миромари шепнула изрядно окосевшей соратнице:
– Лучше пей что-то одно, мешать не советую.
– Где ты была со своими советами хотя бы час назад? – икнула та.
А ещё спустя час посланница, призванная вернуть Миромари на службу, сама свалилась под стол, и её с величайшей бережностью отнесли на сеновал, где и устроили с удобством. Миромари присоединилась к ней только вечером, а наутро обеих уже ждали у нового хозяина – Ардвада.
– Я... ик... должна быть на службе! – промямлила Жмурка, бледная и опухшая.
– Будешь, дорогая, непременно будешь! – заверили её. – Но на дорожку выпей ещё кубок, совсем маленький!
Десятницу трясло с вчерашнего перепоя, но после одного кубка, действительно небольшого, ей полегчало. А после чарки таштиши, выпитой «на старые дрожжи», ей так захорошело, что она уже и забыла о цели своего прибытия. Где-то в середине дня, немного проспавшись, Жмурка дохнула Миромари в ухо перегаром:
– Почто ты меня не предупредила, что это такая коварная западня?.. Ежели б я знала, я б и первого кубка пить не стала! Как теперь на глаза начальству показаться?
Дальше – больше. Выручать теперь уже двух кошек-забулдыг явилась ещё одна дружинница – белобрысая Легконожка. Когда ей поднесли кубок «за прибытие», у Жмурки затряслись губы, но сорвалось с них только невнятное мычание, а в полных муки глазах читалась бессловесная мольба: «Сестра, не пей...» Но Легконожка неосторожно выпила.
Ну что ж... Их полку прибыло. Теперь они бражничали втроём.
Неизвестно, сколько ещё невинных и неопытных кошек пали бы жертвами солнечногорского радушия, если бы сотница Дума, рассудительная, степенная и трезвая, не принесла письменный приказ о немедленной доставке трёх заблудших ратниц на место службы и последующем наказании.
– Уважаемая! Прошу, не надо наказывать моих гостей! – обратился к ней очередной хозяин. – Передай своей достопочтенной начальнице от нас небольшие подарки, дабы смягчилась её суровая душа.
И по его приказу появились дары: три барана (по числу провинившихся кошек), пять круглых головок сыра, три огромные золотые тыквины, мешок изюма, мешок сушёных персиков, бочонок вина и пузатый узкогорлый кувшин таштиши.
– Что? Взятка? – воскликнула сотница.
– Ай-ай, зачем взятка? Подарок! – ласково поправили её. – А это – тебе!
И два крепких горца внесли ещё один кувшин таштиши, держа его за ручки с двух сторон. Впрочем, с кувшином этот сосуд роднила только форма. Объёмом он был с добрую бочку, а горлышко его доходило до плеча доставившим его рослым и дюжим ребятам. Сотница где стояла, там и села от такой неслыханной щедрости.
– Ты с этим зельем поосторожнее, госпожа, – подмигнула ей Миромари. – Таким количеством можно всю сотню напоить в хлам.
– Гм, ладно, я попробую что-нибудь сделать, дабы смягчить участь этих гуляк, – сказала Дума хозяину, сглотнув и облизнувшись.
Она оказалась достаточно разумной и твёрдой, чтобы не попасться в ту же самую ловушку. Долг уважения застолью она отдала, выпив всего одну маленькую чарку огненного зелья и закусив мясом и сыром.
Вскоре Миромари вновь сидела на ночном привале у костра. Повидаться с Миринэ перед отбытием в войско ей не дали, но и наказания никакого не последовало. Плечом к плечу с нею сидел Звиямба, который не смог выбраться на похороны друга, о чём очень сокрушался. Зато он славно повоевал, воздав за гибель Нугрура двумя дюжинами убитых им лично туркулов. А Миромари была рада застать воина с рысьими глазами живым и здоровым.
– Ну что, видела ты сестрицу нашего Нугики? – спросил тот, отхлебнув из фляжки глоток горячительного. – Она и правда так красива, как он рассказывал?
– Нет, – улыбнулась женщина-кошка. – Она гораздо лучше.
– Ух ты, – мечтательно протянул Звиямба.
– Ага, – вздохнула Миромари.
Друг протянул ей фляжку, но резкий запах таштиши вызвал у белогорянки тошнотворное содрогание. Ещё свежи в её печени были воспоминания о разнузданных возлияниях, которые приключились с нею в этом отпуске.
– Благодарю, брат, не сейчас, – отказалась она.
* * *
– Не грусти, сестрица Миринэ, не плачь, – утешала семилетняя Сауанна. – Придёт за тобой твоя кошка, вот увидишь.
Это её девушка посылала к Миромари, чтоб позвать ту на свидание к водопаду. Сестрёнка с поручением справилась, и на сердце Миринэ обрушилось синеглазое, мурлычущее, чернокудрое счастье. Луна была свидетельницей тому, как женщина-кошка сказала те самые долгожданные слова... Всего лишь три слова, но каких!
Не рада была Миринэ этим словам из уст Энверуша, не трогали они её, не волновали душу, не заставляли сердце колотиться, кровь – приливать к щекам, а руки – холодеть от возбуждения. Напротив, на плечи девушки ложилось бремя грусти – оттого, что не сможет она ответить другу взаимностью и подарить ему счастье, которого тот жаждал и добивался.
Не знала Миринэ доселе, что такое любовь... Пустота стояла за стихотворными строчками, посвящёнными этим переживаниям, холостыми были слова, не прожитыми, не прочувствованными. Она лишь черпала вдохновение из того, что читала у других поэтов – ну, и немного своего воображения добавляла. Получалось красиво, но, увы – мёртво.
А сейчас не писалось ей... Теперь, когда её душа была переполнена, как налитый до краёв кубок, слова не шли на ум, и впустую жгла она масло в лампе, пытаясь создать что-то живое, дышащее, настоящее. «Ну что за ерунда творится? – хмурилась Миринэ и грызла перо. – Что со мной? Стихи всегда легко лились, а теперь я не могу выдавить из себя ни строчки».
Но когда обратилась она к другому предмету – ратному подвигу брата – в её голове и душе будто что-то щёлкнуло, и слова хлынули потоком. Он причинял боль, стеснял грудь, глаза Миринэ не просыхали, а буквы расплывались от падающих слёз. Она будто не чернилами писала, а своей кровью. Кровью Нугрура...
«Ты сама сможешь написать о брате наилучшим образом», – сказал Энверуш. Прав он был или нет, Миринэ пока не знала. Хорошо выходило или плохо? По той горячей, страстной силе, с которой её душа выворачивалась наизнанку во время творчества, она чувствовала: да, наверно, хорошо. Но это было содержание – то, что она вкладывала в свои слова. Перечитывая написанное, Миринэ мучительно сомневалась, настолько ли хороша форма у этого содержания, соответствует ли она ему, достойно ли выполняет свою задачу. Ей нужен был взгляд со стороны, взгляд поэта. Может быть, только Энверуш и смог бы должным образом оценить плод её стараний, но с ним она больше не разговаривала.
– Я, наверно, тоже хотела бы себе в супруги кошку, – сказала Сауанна. – А в Белых горах их ещё много?
– Не волнуйся, на всех хватит, – не удержалась Миринэ от смешка, смахивая с ресниц слезинки.
– А мы победим туркулов? Они не придут в наш дом? – хмурясь, задумалась вдруг девочка.
– Конечно, победим, – твёрдо сказала Миринэ, гладя сестрёнку по голове. – Они не придут, не бойся. Миромари этого не допустит.
Где сейчас сражалась синеглазая женщина-кошка? Думала ли она о Миринэ так же часто, как та думала о ней? Эти вопросы остались без ответа, потому что домой вернулся отчим и, как всегда, потребовал Миринэ к себе. Девушка торопливо сложила листки с поэмой о Нугруре и сунула себе в рукав, после чего направилась в большую гостиную.
Темгур, как обычно, грел руки у огня. Они у него почему-то всегда мёрзли, оттого он и любил протянуть их поближе к пламени, чтоб хорошенько прогреть все косточки. Кажется, у него болели суставы пальцев. Отчим считал себя неутомимым и непобедимым воином, а воина остановить могла только смерть. Признавать у себя человеческие слабости он стыдился, а уж такие, что говорили о признаках старения, и подавно. Он был ещё крепок в целом, а потому на такие мелочи, как суставы пальцев, не обращал внимания. Оружие он ещё мог держать, а это главное.
– Наполни мой кубок, – приказал он, когда Миринэ предстала перед ним.
Он вполне мог сделать это и сам: вино стояло на столике на расстоянии протянутой руки. Но девушка, зная его тяжёлый нрав, решила, что говорить ему об этом – себе же дороже, а потому послушно выполнила требуемое. Темгур пристально наблюдал за каждым её движением, словно желал найти изъян и придраться... Но Миринэ не уронила ни капли мимо, вся пьянящая виноградная влага попала в кубок в достаточном количестве. Сосуд наполнился почти до краёв, но в то же время его можно было поднести ко рту, не расплескав. Одним словом, безупречно.
– Прекрасна, как и мать, – проговорил Темгур, выпив половину единым духом. – Но во сто крат лучше. Другой такой женщины, как она, нет и не будет... Лишь ты превосходишь её, ты одна на всём свете.
Остаток вина в кубке он смаковал медленно, скользя взором по девушке. Миринэ старалась не смотреть ему в глаза, но чувствовала на себе движение этого взгляда, словно прикосновение жёсткой шершавой ладони.
– Ты, наверно, думаешь, что я был груб и неласков с твоей матерью, – осушив кубок и пальцем показав, что требует наполнить его снова, молвил Темгур. – Спорить не стану, может, я и не умею быть ласковым. Но я любил её!.. – Его глаза сверкнули, и одновременно с этой вспышкой огонь разгорелся ярче. Или Миринэ это померещилось? – Я любил её давно и безответно: она выбрала твоего отца. Уж чем он её так привлёк, не знаю. Уверен, что я был не хуже. Но кто вас, женщин, поймёт... Когда она осталась вдовой, я подумал: вот оно! Я сказал себе: «Путь свободен, Темгур, действуй!» Она согласилась стать моей женой... Но продолжала любить своего Алхада. Она молчала об этом, но всё было в её глазах. Она рожала дочерей – моих по крови, но даже они похожи на него! А ты – на неё... Ты одна из всех её детей похожа на неё.
Он выпил кубок до половины и жестом велел долить туда. Миринэ взяла кувшин, и в этот миг из её рукава выскользнули листки с поэмой. Шурша и покачиваясь в воздухе, как осенние листья, они опустились к ногам Темгура.
– Это ещё что за писанина? – нахмурился он. – Чьё-то любовное письмецо? Длинное, однако!
Миринэ, похолодев, хотела схватить листки, но отчим опередил её. Его рука жёстко, грубо сжала их, и они жалобно хрустнули в ней. Темгур поднёс поэму к глазам и принялся читать, а Миринэ стояла ни жива ни мертва.
– Хм, стихи, – хмыкнул отчим. – Признаться, я в этом ничего не смыслю, но тут упоминается твой брат... Твоего пера работа?
Горло Миринэ пересохло и слиплось, и она смогла только кивнуть. Она не сводила жадных, страдающих глаз со своего произведения, которое безжалостная рука Темгура мяла и тискала, и ей чудилось, что написанные кровью души строчки стонут от боли. А Темгур вдруг оскалился, смял листки в комок и швырнул его в огонь. Тот мгновенно вспыхнул и обратился в чёрный хрупкий пепел, а вместе с ним – и сердце в груди у Миринэ.
– Вздор, – бросил вслед сгоревшей поэме Темгур. – Туда этой писанине и дорога.
Хорошо, что у неё сохранились черновики... Темгур не задумывался об их существовании, а Миринэ предпочла защитить их покровом тайны. Не беда! Она всё перепишет заново, всё восстановит, и, быть может, это даже пойдёт поэме на пользу. Не исключено, что она найдёт какие-то другие слова – лучше, сильнее, ярче, правдивее. Ни единый мускул не дрогнул на лице девушки, и Темгур отметил её самообладание.
– И глазом не моргнула... Вся в мать! Ладно, ступай спать.
У себя в комнате девушка рухнула на стул у окна: колени подкашивались, как и всегда после разговоров с отчимом, но на сей раз эта опустошённость была куда больше, куда страшнее... Ещё не угасла лампа, при свете которой она поставила последнюю точку в поэме, но сам труд сгорел в огне. Да, она всё восстановит, но как больно было видеть его гибель!
– Сестрица Миринэ, на тебе лица нет! – подбежала Сауанна.
Другие сестрёнки уже улеглись спать, и только она дожидалась Миринэ.
– Отец ругал тебя? – спрашивала она, тревожно заглядывая старшей сестре в глаза. – Что он сказал тебе?
– Ничего особенного, всё как всегда, – едва слышно пробормотала девушка. – Он пил вино и говорил о матушке. Я просто устаю от разговоров с ним, вот и всё. Ничего, за ночь отдохну. Спи, моя родная, ни о чём не тревожься. Всё будет хорошо.
– Хочешь, я принесу тебе белогорского мёда с молоком? – предложила Сауанна, желая хоть чем-то услужить сестре, хоть чем-то порадовать. – Это поможет тебе уснуть крепче.
– Давай, пожалуй, – улыбнулась Миринэ одним взглядом: губы уже были не в силах шевелиться. – И себе возьми.
– Уж про себя-то я не забуду, будь спокойна, – засмеялась сестрёнка.
Чудесный белогорский мёд всколыхнул мысли о Миромари. Сауанна налила его в две плошки щедро, а молоко подогрела, и обе сестры принялись лакомиться тихорощенским сокровищем. Как Миринэ хотелось побывать в Белых горах, как её сердце рвалось туда, следом за Миромари!.. Наверное, небо там – цвета её глаз, и отражается оно в реках и озёрах, сверкающих на солнце.
Мёд и впрямь убаюкал Миринэ и успокоил, и во сне она бродила по прекрасным лугам, среди колышущихся цветов, а говорящие сосны звали её к себе – поесть земляники. На следующий же день она принялась переписывать поэму, попутно внося существенные правки. Работа спорилась, прерываться приходилось только на домашние обязанности. Ближе к вечеру Миринэ отправилась в гости к дяде Камдугу и там услышала радостные новости: туркулы отступали, а значит, до конца войны было рукой подать. Предвкушение скорой встречи с женщиной-кошкой наполнило сердце светом и радостью, и ноги девушки сами пустились в пляс. Дядя Камдуг считал, что неизбежную и близкую победу можно и нужно отметить прямо сейчас, и закатил весёлое застолье – вот на нём-то Миринэ и отвела душу, напелась и наплясалась досыта. Конечно, они помянули Нугрура, но память эта была светлой: душа брата летала орлом над горными шапками и радовалась, видя радость родных, а когда они плакали, печалилась.
– Будем радоваться, чтоб и Нугруру было хорошо, – сказал дядя Камдуг. – Это лучшее, что мы можем сделать. Нельзя скорбеть вечно.
И Миринэ соглашалась с ним всем сердцем. Вера в грядущую встречу с Миромари грела её ласковой зарёй, совсем не осенней. Над нею не властвовала земная погода, эта заря улыбалась и в дождь, и в холод, и в грозу; это был праздник, который Миринэ носила в себе всегда. Но беда грянула, когда она совсем её не ждала...
Ясным, но холодным вечером Темгур вернулся домой с каким-то особым, странным блеском в глазах. Подозвав к себе Миринэ, он объявил, что хочет сделать её своей женой.
– Мы не кровные родственники, хоть я и растил тебя, как дочь. Если бы я не был женат на твоей матери, можно было бы сказать, что мы совсем чужие друг другу люди. А это значит, что ты сможешь родить мне сына, о котором я так долго мечтал. Твоя мать не смогла подарить мне его, а ты сможешь, я верю!
– Отец, но... Это немыслимо! – вскричала девушка, ощутив в груди ртутно-тяжёлое, холодное, гадливое чувство. – Я всегда звала тебя отцом, пусть ты и не родной мне по крови. Как я могу назвать тебя мужем?!
– Ты никогда не видела во мне отца, – сказал Темгур, и огонь очага отражался в его глазах с какой-то горькой, сумасшедшей силой и страстью. – Ты всегда помнила и любила своего родного родителя, Алхада. Да, как и твоя мать! Она никогда не любила во мне мужа, а ты – отца. Я никогда не был счастлив и любим, но всегда думал, что и не нуждаюсь в этом. Я сам брал то, что мне нужно, не ожидая, когда мне это преподнесут. И я всегда добивался всего, чего хотел. И меня такое положение вещей устраивает. Устроит меня и твоя покорность. Тебе не обязательно любить во мне ни отца, ни мужчину. Так уж повелось в моей жизни, и пусть так останется до конца: мне не привыкать обходиться без взаимности.
Миринэ слушала его молча, с нарастающим потрясением. Перед нею был одинокий, ожесточённый, никем не любимый и, в сущности, несчастный человек, но давняя неприязнь ослепила её, не позволила ей разглядеть этого в нём раньше. После гибели родного отца всю свою дочернюю любовь она перенесла на дядю Камдуга, а Темгуру не досталось ни капли.
– Если бы ты позволял любить себя, разве бы мне пришло в голову обделить тебя сердечным теплом? – со слезами пробормотала девушка. – Но ты не подпускал к себе никого.
– Конечно, гораздо проще любить открытых, весёлых, добрых людей, – усмехнулся Темгур. – Их любить и легче, и приятнее. Но кому понадобится угрюмый ворчун, который делает вид, что ему самому никто не нужен?
– Я бы полюбила и угрюмого ворчуна, – сказала Миринэ, смахивая тёплые слёзы со щёк, – если б я знала, что ему так нужна моя любовь... Но никогда не поздно исправлять ошибки! Я готова полюбить тебя, как отца!
Усмешка растаяла на губах Темгура, его лицо снова стало жёстким, далёким, замкнутым.
– Я не хочу от тебя одолжений. И дочь мне не нужна, у меня их и так достаточно – целый выводок. Мне нужен сын, и ты мне его подаришь.
Его слова упали, как холодный топор, обрубив росточек чего-то тёплого, который проклюнулся было из души Миринэ. И всё в ней умерло.
– Но если ты так хочешь сына, почему бы тебе не взять в жёны любую другую женщину? – проронила она безжизненно.
Темгур, собравшийся уходить, обернулся в дверях. Его улыбка больше походила на волчий оскал.
– Любую?.. Нет. Мне всегда была нужна только твоя мать, но такой, как она, уже не будет. Есть только одна женщина на свете, которая лучше твоей матери – ты. До свадьбы я запрещаю тебе выходить из дома, даже в гости к дядюшке! А то знаю я тебя – вечно норовишь улизнуть!
Остаток вечера и ночь Миринэ провела в холодном оцепенении. Её будто горным льдом сковало – и мысли, и душу, и сердце занесло вьюгой. Но к рассвету тёплая путеводная звёздочка – Миромари – пробилась сквозь эту корку ясным острым лучиком и пробудила девушку. Сидеть, дрожать и ждать своей участи, как барашек, которого завтра зарежут? Ну уж нет.
Разумеется, она хотела отправиться к дяде Камдугу, наплевав на запрет выходить из дома, но наткнулась на заслон из охранников, которым было строго приказано не выпускать её. Ах, если бы она умела передвигаться через проходы, как женщины-кошки! Никто бы её не удержал. Подумав и обсудив это дело с сестрёнками, Миринэ додумалась до следующего. Они устроят небольшой пожар, но не в доме – дом поджигать жалко, – а в сенном сарае. Вся охрана кинется тушить огонь, и им станет не до Миринэ, а она в это время вырвется на свободу и доберётся до дяди Камдуга. Ну, а уж дядя что-нибудь обязательно придумает и защитит её.
Всё обмозговав и рассчитав, они взялись за дело. Изнутри поджигать не стали, вытащили несколько тюков сухой соломы и сена наружу и сложили что-то вроде внушительного костра: если бы заполыхал весь сеновал целиком, пожар мог получиться слишком большим и опасным. Пламя вспыхнуло быстро, дым повалил клубами, и охрана забегала с вёдрами и водой. С огнём справились, не дав ему распространиться на другие постройки, но когда охрана присела перевести дух, Миринэ уже и след простыл. В стойле отсутствовал её конь.
– Вот плутовка! – вскричали охранники. – Как пить дать, это она поджог и устроила, чтоб сбежать!
Но прежде чем они выудили из младших сестриц правду, Миринэ успела добраться до дяди Камдуга. Её юные сообщницы раскололись не сразу – тянули время, как могли.
– Неслыханное дело! – воскликнул дядя Камдуг, когда запыхавшаяся Миринэ рассказала ему всё. – Темгур, должно быть, тронулся рассудком, раз решил жениться на собственной падчерице! Ничего, доченька, не горюй. Я соберу старейшин, и они вынесут решение. Надеюсь, Темгур хотя бы отцов послушает и одумается. А пока оставайся у меня в доме, я не отдам тебя Темгуру, не бойся.
Взбудораженная, дрожащая Миринэ могла только измученно обнять дядю. Её тут же окружили заботой: накормили обедом, обласкали, подбодрили. Нервная дрожь девушки слегка улеглась, но она беспокоилась за сестриц: ох и влетит же им! И за поджог, и за её побег... А охранники уже кричали за воротами дома:
– Госпожа Миринэ, мы знаем, что ты здесь! Возвращайся домой, а то господин Темгур будет сильно гневаться!
– А нам его гнев не страшен, – ответил им дядя Камдуг. – Ступайте, ребятки, Миринэ останется здесь.
– Дядя Камдуг, не серчай, но мы обязаны вернуть Миринэ домой, – сказали те. – Даже если придётся применить силу.
– В доме достаточно мужчин, способных дать отпор, – спокойно отозвался хозяин.
У него было пятеро сыновей, трое из которых уже женились и жили своим хозяйством, но частенько бывали под родной крышей; дядя Камдуг всегда держал свои двери открытыми и для замужних дочерей с зятьями, и для прочих родичей. Сейчас в доме насчитывалось одиннадцать взрослых мужчин и два мальчика-подростка, и все они вышли навстречу людям Темгура, вооружённые кто охотничьим копьём, кто кинжалом, кто просто острым колом или дубинкой, а у кого и лук со стрелами имелся. Сам дядя грозно, решительно и непоколебимо стоял посередине, опираясь на крючковатый посох, которым он порой пользовался при ходьбе. Внутри этого посоха был искусно спрятан клинок. Вся большая, дружная семья сплотилась вокруг Миринэ, дабы не дать её в обиду.
– Дядя Камдуг, мы не хотим устраивать бойню, лучше отдай Миринэ миром, – увещевали дружинники Темгура.
Тот оставался непреклонен.
– Вот и не устраивайте – уходите. Миринэ останется здесь.
Дружинники мялись у ворот, не решаясь начинать кровопролитие. Дядю Камдуга они хорошо знали, не так давно ездили с ним за телом Нугрура... И вот теперь – поднимать на него и его семью руку?
– Хорошо, мы уйдём, – сказали они наконец. – Но когда вернётся господин Темгур, он может отдать приказ, которого нам нельзя будет ослушаться.
– Вот когда он вернётся, тогда и поговорим, – невозмутимо молвил дядя Камдуг.
Они ушли, а семейство дяди вернулось к своим делам как ни в чём не бывало. Миринэ трясло мелкой дрожью: из-за неё едва не началась резня... Мужчины стояли друг напротив друга, готовые схлестнуться, и только какое-то чудо удержало их от схватки.
– Дядя Камдуг, я не хочу ничьей гибели, – со слезами обняв хозяина дома, пробормотала девушка. – Я лучше вернусь домой...
– Ничего, милая, не робей, – сказал тот, поглаживая её по спине и плечам. – Всё обойдётся, вот увидишь. Не будем терять времени, надо собрать старейшин и как можно скорее вооружиться их решением против этой неуместной и непозволительной свадьбы.
Оставалось уповать на ещё одно чудо – чтобы Темгура что-нибудь как следует задержало.
И чудо случилось. Темгур к вечеру так и не появился, а потом стало известно, что его не будет дома целую неделю – какие-то непредвиденные важные дела вынуждали его уехать. За это время дядя Камдуг успел собрать старейшин и объяснить им суть вопроса. Степенные старцы рассудили: такой брак не должен заключаться.
Миринэ от всех этих переживаний прихворнула. Озноб и слабость охватили её, а чудодейственный белогорский мёд, как назло, остался дома. Её лечили, как умели, травяными снадобьями, но это слабо помогало. Чтоб хворь покинула её тело, требовалось восстановление душевного покоя – так рассудил мудрый дядя Камдуг, и девушка чувствовала его правоту. Но кто кроме Миромари мог принести её душе покой и счастье? Где же синеглазая кошка, когда же она вернётся? От тоски по ней гордые очи Миринэ украдкой мочили подушку слезами – когда никто не видел.
«Возвращайся скорее, радость сердца моего, – посылала девушка в небо отчаянную мольбу, и та чёрной ласточкой летела далеко-далеко – туда, где сейчас, должно быть, сражалась женщина-кошка. – Нет мне без тебя жизни...»
Миринэ была охвачена жаром и тяжкой головной болью, когда наконец вернулся Темгур. Она слышала голос отчима у ворот, требовавший отдать её ему, и сжималась в больной, измученный комочек.
– Да будет тебе известно, что старейшины наложили запрет на этот брак, – объявил дядя Камдуг, не пуская Темгура даже на порог дома. – То, что ты задумал, немыслимо и нелепо, а потому непозволительно!
– Да плевать я хотел на старейшин! – крикнул Темгур. – Я здесь власть, я! И закон – тоже я. Что хочу, то и делаю, на моей стороне сила. У меня – воины, у меня – оружие, я и прав. И никто мне не указ!
– Если для тебя даже слово отцов ничего не значит, дрянь ты, а не человек, – сказал дядя Камдуг. – Ни одного друга не останется у тебя, никто не примет тебя в своём доме и не подаст руки. Ты или безумец, или мерзавец, от которого отвернутся все, кто когда-либо знал тебя. Власть у того, кого уважают, а к тебе уважения быть не может.
– Власть у того, кого боятся! – залаял жутким смехом Темгур. – О каких друзьях ты говоришь, Камдуг? У меня их отродясь не было – и ничего, как-то обходился без дружбы и многого добился в жизни!
– Зря ты так думаешь, Темгур, – с глухим рокотом печали и негодования молвил дядя Камдуг. – Всё, что люди делали для тебя, они делали не из страха перед тобой, а по своей доброй воле. А добивался ты своих целей хитростью, изворотливостью и кривдой, нет света и благородства в твоей жестокой душе. Это давно было видно, но люди до последнего давали тебе возможность показать себя с хорошей стороны, верили и помогали тебе. Они заранее считали тебя достойным человеком, но ты не заслужил чести считаться таковым, не оправдал доверия. Больше его не будет. Что ж, если ты не уважаешь решение старейшин, мы обратимся к самому князю Астанмуру, чтоб он тебя приструнил! Найдётся на тебя управа.
– Князю сейчас недосуг, да и в чужие семейные дела он вмешиваться не станет. Довольно болтовни! – Темгур хотел возвысить голос до громового рёва, но недоставало ему благородной мощи – вместо львиного рыка получался хрипло-басовитый собачий брёх. – Отдайте Миринэ по-хорошему, иначе прольётся кровь!
Прихрамывая на своей деревянной ноге, дядя Камдуг вышел вперёд. Все мужчины его семьи спокойно и твёрдо ждали, готовые сражаться, и мгновения дрожали в воздухе, звенели тетивами, стонали натянутыми струнами нервов.
– Ребятки, – обратился дядя к дружинникам Темгура. – Неужели вы готовы лить кровь по приказу этого бесчестного человека? То, что он творит – зло, но я верю, что многие из вас оказались на его стороне по ошибке и заблуждению. Неужели вы согласны с ним? Или вам всё равно, и вы готовы убивать любого, на кого он укажет? Он платит вам, но деньги решают не всё.
– Хватит болтать, старик, – крикнул ему кто-то из тех, к кому его слова были обращены. – Отдавай девчонку, или вам всем конец!
– А вот ты выбрал этого человека господином сознательно, – сказал дядя Камдуг. – А значит, ты – такой же, как он. Подобное притягивается к подобному.
Больше Миринэ не могла смотреть на это, прильнув горящим лбом к окну. Она не могла допустить кровопролития. Охваченное жаром и лихорадкой тело плохо повиновалось, шаталось от стены к стене, ноги отказывались её нести и подкашивались, но Миринэ шла – падала, поднималась, но шла, держась за стены.
– Не надо, – прохрипела она, уцепившись за косяк открытой двери. – Не надо убивать друг друга из-за меня, я не стою того!..
– Детка, иди сейчас же в дом! – вскричал дядя Камдуг, обернувшись и сверкнув глазами.
– Нет, дядя... – Собрав остатки сил, Миринэ отпустила косяк и сделала несколько шатких шагов вперёд. – Если прольётся кровь, я не смогу жить с этим бременем на душе.
Всадники, факелы, частокол конских ног – всё сливалось перед её глазами в тошнотворную круговерть. Где-то там был Темгур, но она не различала размытых лиц. Силы иссякли, и она осела наземь, вцепившись раскрытыми пальцами в прохладную, сырую землю двора.
– Я возвращаюсь, – сказала она. – Не надо жертв ради меня.
– Благоразумное решение, – сквозь звон в ушах послышался голос отчима совсем рядом с ней.
Её подхватили и понесли, потом была тряска, скачка – всё смешалось в болезненном бреду.
* * *
Водопад Тысяча Радуг переливался в солнечных лучах, полностью оправдывая своё название: многоцветное сияние раскинулось над ним арками воздушных ворот – ворот в счастье...
Подставляя лицо шальной игре солнечных зайчиков, Миромари окидывала ищущим взглядом окрестности. Зов любимого голоса привёл её сюда, и в нём слышалась такая тоскливая мольба, что сердце женщины-кошки рвалось из груди от тревоги.
«Миринэ! Где ты, радость моя?»
Лёгким ветерком коснулся её щеки ответ:
«Здесь...»
Девушка сидела на земле с непокрытой головой, в одной лёгкой сорочке, и чёрная коса лежала своим шелковистым кончиком в траве. Белогорянку поразила бледность её щёк и голубые измождённые тени под глазами; бесконечная усталость и мука лежала на светлом юном челе Миринэ. Кинувшись к девушке, Миромари с нежным беспокойством приподняла её лицо, ощупала. Лоб красавицы горел сухим жаром.
«Да ты захворала, милая! Что с тобой?»
В глазах Миринэ мерцала тоска.
«Я так жду тебя, Миромари, свет души моей, – прошелестели её пересохшие губы. – Возвращайся скорее, спаси меня, укради меня!»
«Что? Что стряслось, ладушка моя?»
Женщина-кошка легонько встряхнула девушку за поникшие плечи, прижала к себе, и болезненно горячие руки Миринэ поползли вверх, обвивая её шею кольцом слабых объятий.
«Мой отчим обезумел, он хочет жениться на мне, – зашептала она, щекоча острое ухо кошки прерывистым, горячечным дыханием. – Он хочет, чтоб я родила ему сына... Дядя Камдуг попытался меня защитить, но тщетно... Отчим не признаёт даже решения старейшин, никто ему не указ. Я не хочу, чтобы лилась кровь моих родичей из-за меня! Помоги, Миромари, сделай что-нибудь... Только на тебя моя последняя надежда... Возвращайся...»
«Я не отдам тебя этому мерзавцу! – вскричала белогорянка, у которой от услышанного дух перехватило, а сердце тяжко набухло горячим гневом. – Ты моя, слышишь? Ты – моя лада, моя судьба, я знаю это. И никто не посмеет отнять тебя у меня!»
Глаза Миромари распахнулись навстречу ночному небу, усеянному звёздами. Костёр потух, дотлевая угольками, Звиямба похрапывал рядом. Война подошла к концу, туркулы спешно грузились на свои корабли и отплывали за море, восвояси – те, кто успел. Ну, а кто не успел, тот сложил голову на солнечногорской земле, удобрив её своей кровью, чтоб обильнее плодоносили виноградники.
Отзвуки сна щекотали душу крылышками мотыльков, теребили женщину-кошку за уши, звали, шуршали: «Спеши, спеши... Спаси, спаси!» Отхлебнув целебной воды из фляжки, Миромари перевела дух. Мускулы ещё гудели после недавнего боя: они гнали туркулов, а те улепётывали, отбиваясь. Натруженное в битве, гудящее тело просило отдыха, но Миромари преодолела усталую тяжесть и оторвалась от земли, пружинисто выпрямившись и устремив лицо к звёздам. Никакая усталость не оправдывала промедления: Миринэ была в беде.
Шаг в проход – и женщина-кошка очутилась во дворе знакомого дома. Из распахнутой настежь двери струился свет, который озарял две сражающиеся фигуры. В одной из них Миромари узнала Темгура, а его противником был Энверуш. Решив, видно, что он и один в поле воин, парень бросил вызов этому матёрому волку, дабы вырвать Миринэ из его лап.
Седоглавый и молодой воины бились яростно, ни один не уступал в силе и ловкости. Голова Темгура серебрилась инеем, больные суставы пальцев опухли, но в бою он был всё ещё хорош. Он наносил такие удары, что Энверуш еле отбивался. Седеющим волком Темгур бросался на него, отстаивая своё право сильного и защищая своё место под солнцем.
– Я сам расправлюсь с этим щенком! – крикнул он своим людям, которые спешили к нему на помощь.
Нога Энверуша подвернулась, и он пошатнулся. Темгур мгновенно воспользовался этим и нанёс ему удар кинжалом в бок. Кровь обагрила светлый кафтан молодого воина, и он упал, хрипя и корчась. Над его жизнью нависла смертельная угроза: клинок пробил печень.
– Ну вот и всё, – ухмыльнулся Темгур, торжествуя над поверженным противником.
Однако рано он праздновал победу: из сумрака ему навстречу шагнула женщина-кошка с обнажённым белогорским мечом.
– Ещё не всё, Темгур, – сказала Миромари.
Тот остолбенел на миг от удивления, и белогорянка воспользовалась этим замешательством, чтобы влить целебный свет Лалады в рану Энверуша, пока не стало слишком поздно. Сердце горько стучало: только бы не опоздать... Только бы не получилось, как с Нугруром! Но она успела как раз вовремя. Смертельная дымка рассеялась в открывшихся глазах поэта-воина, и он с удивлением узнал Миромари, склонившуюся над ним.
– Ты? – пробормотал он бескровными губами.
– Любишь ты всё-таки нарываться, – усмехнулась та. – Ничего, жить будешь.
Однако Темгур уже опомнился и отдал приказ своим людям:
– Взять её!
– Что, побоялся один на один со мной сразиться? – рассмеялась белогорянка, исчезая в проходе.
Сколько дружинники Темгура ни старались, они не могли схватить женщину-кошку: та двигалась слишком быстро, ныряя из прохода в проход. Но их было много, а она – одна, и приходилось ей весьма туго. А Темгур кричал:
– Убейте проклятую кошку! Она не нужна мне живой!
Неизвестно, чем бы эта схватка кончилась, если бы за воротами не заплясали огоньки – приближающиеся факелы. На помощь спешил Камдуг, собравший всех способных сражаться мужчин своего семейства, но и это было ещё не всё: следом скакали воины в шитых золотом кафтанах – двенадцать или четырнадцать всадников. Звякала богатая сбруя их коней, чернели пышные барашковые шапки, сверкали обнажённые сабли.
– Темгур, именем князя Астанмура приказываю тебе остановиться! – крикнул один из них – судя по всему, старший в отряде, стройный и осанистый, восседавший в седле величаво и прямо. – Его светлость призывает тебя к порядку. Прими решение старейшин, как тебе и надлежало сделать с самого начала. Ещё не поздно признать свою вину и раскаяться в проявленном тобой неуважении к закону. В этом случае ты будешь прощён, и твоим людям тоже ничего не будет. Но если ты продолжишь упорствовать, согласно приказу его светлости ты будешь взят под стражу и предстанешь перед суровым, но справедливым судом!
Дружинники Темгура, видя, что дела господина плохи, да и им самим грозит беда, предпочли сдаться. Темгур, по-волчьи оскалившись, метался по двору обложенным зверем, но то и дело натыкался на княжеских воинов, словно бы выраставших перед ним из-под земли.
– Вот видишь, Темгур, нашлась на тебя управа, – опираясь на с виду мирный, а внутри грозный и смертоносный посох, сказал Камдуг. – Ты возомнил, что можешь безнаказанно вытворять что угодно, но твоя власть не безгранична. Князю Астанмуру не всё равно, какие люди ему служат. Ведя себя недостойным образом, ты позоришь и его самого!
– Его светлость сам разберёт это дело, – сказал старший княжеского отряда. – Всех, кто здесь присутствует, попрошу никуда не уезжать и не скрываться в ближайшие десять дней – до приезда его светлости. Это касается и нашей белогорской гостьи... – Княжеский посланник озадаченно вскинул брови, осматриваясь. – А где она? Вечно эти кошки как сквозь землю проваливаются...
– Думаю, долго искать её не придётся, – усмехнулся Камдуг в усы.
Миромари устремилась к той, ради кого она сюда и примчалась. Она склонилась над Миринэ, которая лежала на одре болезни в тонкой вышитой сорочке – той самой, какая была на ней во сне женщины-кошки. Хворь заострила её прекрасные черты, а её грудь еле вздымалась: казалось, даже тяжесть косы, что покоилась на ней, была для неё слишком обременительна.
– Ты вылечишь Миринэ? – спросила Сауанна, глядя на белогорянку вопросительно-серьёзно и строго из-под сдвинутых бровей.
– Сейчас попробуем, – улыбнулась Миромари.
Золотой сгусток света из её ладоней проник в грудь девушки, за ним – ещё один и ещё... Женщина-кошка вливала в неё всю свою нежность, всё живительное тепло Лалады, всю силу Белых гор. Ресницы Миринэ дрогнули и поднялись.
– Миринэ, сестрица! Как ты себя чувствуешь? – сразу кинулась к ней девочка.
– Погоди, ей надо ещё немного времени, чтобы совсем поправиться, – мягко молвила Миромари. И, прильнув губами между бровями своей избранницы, шепнула: – Я с тобой, моя горлинка. Всё хорошо.
– Миромари, – пролепетала та.
Её голос звучал ещё слабо и чуть слышно, но в нём дрожала робкая радость, а взор из-под полуприкрытых век туманился влагой. Женщина-кошка дыханием и поцелуями осушала её намокшие ресницы.
– Ну-ну, ладушка... Всё, всё. Никто тебя не обидит, с Темгуром мы сладили. Война вот-вот кончится – да что там, уже, считай, кончилась. И теперь нас с тобой уже ничто не разлучит.
Она бережно приподняла любимую и чуть покачивала в объятиях.
– Мне приснился сон... Будто мы с тобой у водопада Тысяча Радуг, – проронила Миринэ, успокоенно закрывая глаза и прильнув головой к плечу Миромари. – Я так хотела, чтобы ты пришла... И ты пришла! Как мне сейчас хорошо...
– И мне виделся тот же самый сон, милая. И ты была в нём. – Женщина-кошка до мурашек наслаждалась живой, тёплой тяжестью её тела в своих руках – каждым мурлычущим мигом этого ощущения, каждым биением сердечка своей лады, которое выжило и не остановилось. – Мы, дочери Лалады, умеем проникать в чужие сны. Нас с тобою связывает ниточка любви, поэтому и у тебя открылась эта способность. Как говорится у нас в Белых горах, с кем поведёшься, от того и наберёшься.
Посланцы князя остались в доме Темгура, чтобы следить за порядком вплоть до прибытия его светлости. Миромари почти ни на миг не отходила от своей бесценной Миринэ, и никто им быть вместе не препятствовал. Уже на следующий день девушка чувствовала себя почти здоровой, и они с женщиной-кошкой гуляли в саду. Когда Миринэ, погрозив кому-то кулаком, со смешком утянула возлюбленную вглубь сада, та, проследив направление её взгляда, заметила в окнах дома исполненные шаловливого любопытства личики сестрёнок. Самой шустрой и предприимчивой из всех младших девочек была Сауанна. Ей очень хотелось попасть в Белые горы и найти там себе супругу-кошку.
– Кто знает, может, и впрямь твоя судьба лежит в наших краях, – улыбнулась Миромари.
Энверуш, получивший исцеление светом Лалады, тоже быстро поправился. Он долго хмурился и молчал, долго думал, но потом всё-таки принял протянутую ему руку женщины-кошки, которую он отверг когда-то. Миромари повторила слова, сказанные ею ранее:
– Ну что, братец, мир?
Тот, крепко пожав ей руку и глядя в глаза, кивнул:
– Мир.
Вскоре прибыл князь Астанмур – рослый, широкоплечий человек лет сорока с величавой осанкой, сверкающим орлиным взором и гордыми, внушительными дугами густых бровей. Его сопровождала довольно многочисленная свита. Темгуру пришлось разместить всех в своём доме. В первый день его светлость не приступал к разбирательству – отдыхал с дороги. Потом он вызывал к себе всех участников дела – кого-то по отдельности, кого-то вместе. Старейшин он принял в первую очередь, и седобородые горцы остались очень довольны его любезным и почтительным обхождением. Князь являл собой пример для своего народа – и для некоторых зарвавшихся и распоясавшихся подданных в том числе.
Миромари и Миринэ он вызвал вместе.
– Стало быть, вы хотите связать свои судьбы? – молвил он благосклонно. – Что ж, я не буду препятствовать вашему счастью. Желаю вам прожить в любви и согласии многие годы.
Миромари удостоилась от него особой награды – солнечногорской сабли в богатых ножнах и с усыпанной драгоценными камнями рукояткой. У женщины-кошки с собою было белогорское оружие – кинжал и меч. Последний она и преподнесла князю.
– Моя тётя – белогорская оружейница, – сопроводила она подарок пояснением. – Этот клинок – работа её искусных рук.
Метебийский владыка принял дар учтиво и со сдержанной, степенной благодарностью, но от Миромари не укрылся воодушевлённый блеск его глаз. Князь много слышал о белогорских клинках, видел их в деле и был рад заполучить таковой.
Выслушал князь и самого Темгура. Тот был, как всегда, угрюм, но как будто смирился и признал вину.
– Ты бросил на себя заметную тень своим поступком, – заключил Астанмур. – Пройдёт немало времени, прежде чем я снова смогу убедиться, что тебе можно доверять. И тебе придётся основательно потрудиться, чтобы вновь заслужить моё доверие, а главное – доверие и уважение людей.
– Я понимаю это, мой господин, – сказал Темгур. – И приложу все усилия, чтобы очиститься в твоих глазах.
Раскаялся ли он искренне или только изображал смирение? Этого никто не знал, ибо душа Темгура всегда была тёмным омутом для всех. Как бы то ни было, после отъезда князя между ним и Миринэ так и не наладились тёплые отношения – казалось, пропасть отчуждения стала только глубже и холоднее. Девушка поначалу не теряла робкой надежды стать для него дочерью, но Темгур ответил со своей обычной жёсткостью:
– Я не нуждаюсь ни в твоём сочувствии, ни в милосердии, ни, тем более, в жалости. Ты уже отрезанный ломоть и доживаешь в этом доме последние дни; иди к своей кошке, держать тебя я не стану. На свадьбе вашей позволь мне не присутствовать, у меня много более важных дел. Желаю счастья и всех благ. Больше мне нечего тебе сказать.
Миромари сказала опечаленной избраннице:
– Не всякую ожесточённую душу можно смягчить, ладушка. Быть может, разумнее всего оставить человека в покое, если он не желает сближения. Не забывай, у тебя есть кого любить дочерней любовью: это твой замечательный дядя Камдуг.
Взыскания за отлучку со службы везучая белогорянка снова не получила: сам князь Астанмур милостиво позволил ей сослаться на его особу и дал оправдательную грамоту. Война закончилась поражением туркулов и изгнанием их с Солнечногорской земли. Вскоре Солнечные горы принимали в гостях княгиню Огнеславу со Старшими Сёстрами, и те обсуждали с князьями-горцами условия взаимовыгодного сотрудничества и союзничества.
Когда волшебное колечко было готово, Миромари надела его на палец избраннице.
– Держись за мою руку и шагай следом. Через миг мы окажемся в Белых горах, и ты познакомишься с моими родичами. Ты им понравишься, не волнуйся.
Днём ранее её недоумение по поводу отсутствия знака-обморока разрешилось: Миринэ рассказала, что тот всё-таки был, но прошёл незамеченным кошкой.
– Когда я тебя в первый раз увидела, я еле до кухни добежать успела. Вот там-то меня и накрыло слабостью, и я растянулась на полу. Так это оно и было, то самое знамение?
– Да, – рассмеялась белогорянка с радостным облегчением. – Оно самое.
Впрочем, она и так крепко верила в душе, что Миринэ – её ладушка. Они вместе шагнули в проход, и по другую его сторону их встретил заснеженный сад. Девушка тут же съёжилась от холода, и женщина-кошка укутала её своим плащом – впрочем, уже через мгновение они вошли в домашнее тепло. Топилась печка, матушка ставила тесто для пирога, а при появлении Миромари радостно воскликнула:
– Боровинка, ты ли это?
Первые ниточки седины серебрились в тяжёлом узле её кос, прятавшихся в жемчужной сетке-волоснике, но лицо по-прежнему сияло молодостью.
– Я, матушка Дарёна, кто ж ещё? – засмеялась кошка. – А где матушка Млада?
– Она на озеро отправилась – рыбки свежей для пирога добыть, – ответила родительница, с доброжелательным любопытством поглядывая на девушку. – А это кто с тобой пришёл?
– Матушка, познакомься: это моя невеста Миринэ, – торжественно молвила Миромари или, как её звали на родине, Боровинка. – Она родом из Метебии, страны в Солнечных горах. Она пока не знает нашего языка, но быстро научится.
Матушка Дарёна вытерла руки передником, подошла и сердечно поцеловала красавицу в обе щеки. Окинув искрящимся теплотой взором обеих влюблённых, она с улыбкой проговорила:
– Ну, вот и ты у нас остепенилась, Боровинка. На очереди твоя сестрица Милунка.
Женщина-кошка, обняв смущённую и ничего не понимающую Миринэ за плечи, сказала ей:
– Это моя матушка Дарёна, знаменитая белогорская певица. Скоро ты и прочих моих родичей узнаешь: мою вторую матушку Младу, сестриц моих, мою тётушку Горану с Рагной, Шумилку и Светозару с их супругами и детьми – всех-всех! Семья у нас большая и дружная – совсем как у твоего дяди Камдуга.
Знакомство двух больших семейств вскоре состоялось. Сперва белогорские жительницы посетили хлебосольный дом дяди Камдуга, а когда были готовы кольца, солнечногорская половина новоиспечённой родни побывала в Кузнечном. Свадьба была назначена на весну, а пока две семьи навещали друг друга, состязаясь в гостеприимстве, щедрости и радушии. Впрочем, состязание окончилось ничьей: обе стороны оказались вполне равными.
За зиму перед свадьбой Миринэ окончательно восстановила свою поэму о брате. Она существенно переделала её и расширила, и у неё на родине её прочли многие. После перевода познакомились с этим произведением и в Белых горах. Забегая вперёд, скажем, что Миринэ продолжила заниматься творчеством и стала одной из немногих солнечногорских женщин-поэтов – по крайней мере, из тех великих и известных, чья слава не меркнет в веках, и чьи строчки перечитывают и изучают потомки спустя столетия.
Весной, среди белоснежного буйства цветущих садов, Миромари-Боровинка и Миринэ стали супругами перед лицом Лалады и людей. Звиямба оставил военную службу и женился. Энверуш пока ходил в холостяках, но, говорят, начал задумываться о семье. Мечта Сауанны побывать в Белых горах сбылась, но вот кого судьба готовила ей в супруги – это предстояло узнать лишь через несколько лет.
А на тихорощенской земле подрастали виноградные лозы, доставленные из Метебии. Круглогодичное тепло и плодородие этого светлого белогорского уголка создавали прекрасные условия для роста и вызревания тяжёлых, сладких гроздей, а садовая волшба позволила получить первый урожай уже через год после посадки. Так кроме мёда и сосновой живицы в Тихой Роще появился ещё один целебный дар – вино. У душистого тихорощенского винограда ощущался особый, солнечно-земляничный привкус, а напиток из него не вызвал похмелья и обладал такими же лечебными свойствами, как мёд и вода из Тиши.
Однажды на Севере
– Брана! Хватит на печке бока греть да в потолок плевать! Целыми днями лежишь... Иди уже, потрудись, а то всё мы да мы!
Молодая оружейница Тихомира отдёрнула занавеску печной лежанки. Её сестрица Брана, закинув одну руку за голову и покачивая ногой, лузгала орешки. До безобразия удобно ей было там, тепло на перине пудовой, на подушке пуховой! Уютненько устроилась, словом. Скосив лиловато-синие, цвета мышиного горошка глаза на сестру, она ответила:
– Я не просто так ведь лежу. Я, может, силы берегу.
– Для чего ж ты их бережёшь, лежебока ты этакая? – хмыкнула трудолюбивая молодая кошка.
– А вдруг война – а я уставшая?
Тихомира только покачала головой. Она собиралась на работу в кузню, а сестра оставалась на хозяйстве. Вернее, две сестры: Брана – кошка-лентяйка и юная Ягодка – белогорская дева. Последняя ещё в возраст брачный не вошла, а Брана покуда к поиску своей суженой и не приступала, хотя ей уж давно перевалило хорошо за сорок. По кошачьим меркам – молодость в самом соку. В таких летах холостячки обычно много трудились, зарабатывая достаток, на ноги становились, собственные дома строили, чтоб привести туда свою ладушку, а Брана и в ус свой кошачий пока не дула.
Их родительница-кошка, тоже мастерица-оружейница, отрабатывала в кузне последние свои годы – так она сама говорила. Овдовев, всё чаще она заглядывала в Тихую Рощу, сосну себе присматривала. Раньше всех в доме матушка Земеля поднималась, ещё до солнышка, и уходила огонь в мастерской раздувать, всё для работы готовить. Час спустя, позавтракав и захватив для родительницы каравай с киселём, рыбину или кусок пирога, к кузнечным трудам присоединялась и Тихомира. Ягодка с Браной дома оставались: сестрица-дева стряпала-пекла, стирала, убирала, а любительница орешков «копила силы» на печке. Лишь порой обращалась к ней Ягодка за помощью, когда что-то тяжёлое сделать требовалась: дров наколоть, воды натаскать, что-нибудь громоздкое поднять или передвинуть. Мясо и крупную рыбу, по обыкновению, тоже Брана разделывала.
Ох и долго приходилось кошку-лежебоку упрашивать слезть с печки! Не раз Ягодка подходила и ласково звала:
– Бранушка, сестрица, встань, пособи мне!
– Сейчас, погоди, – отзывалась та. – Вот только горсточку эту дощёлкаю...
Прикончив орешки, Брана, тем не менее, за дело браться не спешила. Перевернувшись на другой бок, запускала она в мешок руку и доставала новую горсточку...
– Бранушка, ну где ты там? – звучал тоненький голосок Ягодки. – Тяжко мне, подойди, пособи!
– А что мне за это будет? – хитро прищурившись, спрашивала кошка.
– А я тебе морошки с мёдом из погреба достану, – обещала сестрица.
Лакомства Брана любила, но и сестрёнку тоже. Не совсем уж беспробудно спала её совесть, и не могла она допустить, чтоб хрупкая девочка-подросток надрывалась. Тяжела была молодая северянка на подъём, долго раскачивалась, но если уж бралась за что-нибудь, то работа у неё в руках спорилась – с задором и без удержу.
Вот и сейчас, после ухода строгой сестрицы Тихомиры на работу, хрустнула Брана косточками, потянулась на лежанке, зевнула во всю клыкастую пасть и по-звериному мягко спрыгнула на пол. Издревле весь род Земели был белой масти – с льняными волосами и глазами цвета мышиного горошка, не стала исключением и Брана. Отлёживаясь на печке и поглощая горстями орехи, набирала она жирок на боках, округлялась лицом и животом, но скоро этим запасам суждено было сгореть без следа. Освободилось от льда Северное море, и охотницы видели вдали китовые струи. Киты приплывали сюда каждое лето откармливаться и нагуливать жир. Над водой показывались и их морды: животные осматривались, определяя своё положение.
Хоть и не прочь была Брана поваляться в тёплой постели, своим ремеслом она всё-таки владела, причём далеко не самым лёгким – китобойным. Кита северянки промышляли не круглый год, а только в летнюю пору – вот тогда-то эта светловолосая обжора и вставала с печи. Целое лето пропадала она на промысле, а возвращалась точёной и стройной, мышечно-сухой – загляденье, а не кошка.
Подпоясавшись, обув рыбацкие сапоги и накинув на плечи плащ из тюленьей кожи, кликнула Брана Ягодку:
– Давай, говори, что там по дому сделать требуется, чем тебе пособить. Сделаю, да и по своим делам идти мне надобно.
– На кита идёшь? – Сестрёнка подошла, вытирая руки передником; на пальцах её блестела чешуя: она чистила мелкую рыбу на похлёбку.
– Ага, – расправив плечи и хрустнув шеей, кивнула Брана.
Сделав всё необходимое по хозяйству, она перенеслась на берег Северного моря. Неказист он был, суров: из растительности – трава да мох, серый галечник у кромки прибоя да разбросанные там и сям хозяйственные рыбацкие постройки. Сети, развешанные для просушки, реяли и трепетали: денёк выдался ясный и звонкий, но весьма ветреный. Китобойный струг покачивался на воде, готовый к отплытию, а кошки-охотницы переговаривались, поглядывая в морскую холодную даль. Облачённые в непромокаемые высокие сапоги и плащи из кожи тюленя, они выглядели озабоченными.
– Что, сестрицы? Как вам погодка нынче? – подошла к ним Брана. – А чего хмуритесь? Неладно что-то?
– Да погода-то в самый раз, – ответили ей. – Но не в ней дело. Тут другое: нынче ночью недалече от берега видели Белую Мать.
Белая Мать показывалась нечасто, раз в год или два, но каждое её появление знаменовало беду: обязательно во время охоты кого-нибудь из кошек неведомая сила затягивала на дно, и не спасали из этой ловушки даже пространственные проходы. Такую суровую дань Белая Мать взимала с охотниц в обмен на право добывать кита и пользоваться прочими дарами моря.
– Кого-то недосчитаемся мы нынче, сестрицы, – вздыхая, поговаривали охотницы.
Настроение у всех было угрюмо-тревожное, но в море они всё равно вышли. Кит много значил для северянок, и от его добычи они отказаться не могли. Кто употреблял в пищу китовое мясо и жир, только тот и выживал на суровом Севере, а прочие хирели, хворали. Плохой была жизнь без кита. Могучий кит давал силу и здоровье, все части его туши использовались – до последнего клочка кожи, до самой мелкой косточки.
Морской ветер грубовато трепал светлую гриву Браны цвета белёного льна. Весть о Белой Матери смутила её, набросив тень на её обыкновенно безмятежную душу; кого заберёт нынче морская пучина, чья семья останется без кормилицы? Впрочем, северянки-китобои своих не бросали, помогали осиротевшим родичам погибших охотниц. Однако и без Белой Матери добыча кита была занятием опасным и трудным. Сколько раз Брана оказывалась в ледяной воде – не счесть. Но пока ей везло.
– Кит! – крикнул кто-то. – А вон ещё! Да тут целое стадо!
Охота обещала быть жаркой, у Браны все мускулы напружинились и горели в предвкушении дела, и оно началось хорошо.
В день один струг добывал не более одного кита, но трудиться для этого приходилось в поте лица. Обыкновенно неповоротливый морской зверь плавал медленно, но, будучи испуганным, ускорялся, а если принимался защищаться, то легко переворачивал лодки ударом морды или хвоста. Огромные голубые киты и целый струг могли запросто опрокинуть, но на них кошки не охотились. Целью их промысла был кит помельче – серый, длиною самое большее в десять саженей.
Кошки пользовались и парусом, и шли на вёслах. Догнав кита, они спускали со струга лодки, подплывали и били зверя копьями. Надо было хорошо знать место, в которое следовало наносить смертельный удар, а от бестолкового тыканья куда попало кит только свирепел и яростно отбивался. Брана видела со струга, как огромный хвост поднялся над холодно-стальными волнами. Хрясь! Лодка перевернулась, охотницы полетели в воду.
– Она – его мать! – закричала светловолосая кошка, махая руками. – Оставьте их!
– Это мать с детёнышем, их надо отпустить, – заговорили китобои на струге. – Другого кита найдём.
Самка защищала китёнка-подростка, для которого первый в его жизни заход на север чуть не стал последним. Бешено сражаясь, мать перевернула две лодки с охотницами, и мокрые, взъерошенные кошки через проходы вернулись на струг. К счастью, никто сильно не пострадал, всё обошлось только ушибами и купанием в неприветливой воде Северного моря. Охота на самок с молодняком была под запретом, а значит, им придётся гнаться за другим зверем.
И они нагнали новую добычу – взрослого самца, хоть и пришлось изрядно попотеть. Быстро кит мог плыть лишь на короткие расстояния, и охотницы, зная это, преследовали животное, пока оно не выбивалось из сил. Приходилось и самим напрячься, но гонка всегда заканчивалась победой китобоев. Брана прыгнула в лодку, сжимая в руке копьё; над волнами показалась буровато-серая, покрытая светлыми пятнами спина кита. Измученный гонкой, он вяло колыхался в толще воды и тяжело пускал струи, приподнимая над поверхностью своё дыхало.
– Ближе, ближе, – пружиня ноги перед ударом, цедила кошка сквозь зубы.
Но слишком близко тоже опасно было подходить. Когда до кита оставалась полоса воды шириною сажени в две, Брана метнула копьё что было сил – а силой она обладала недюжинной: иных в китобои и не брали. Острога вошла в тушу на всю длину зазубренного наконечника и застряла. С другой стороны к зверю подплыла ещё одна лодка, и раненый кит кинулся на неё, чтобы опрокинуть... Каким-то чудом охотницы увернулись, ловко сработав вёслами, а кит получил второй удар. Вода вокруг него покраснела от крови.
– Всё, он наш, – уверенно промолвила Брана, улыбаясь с тихим торжеством. – Раненым он далеко не уйдёт.
И вдруг над морской гладью чайкой пролетел пронзительный крик:
– Белая Мать!
Брана тут же вскинула острый взгляд, озираясь. Она ещё никогда не видела Белую Мать своими глазами, и её подбросило мощной волной возбуждения... А может, это лодка взлетела на воздух от удара? Кит бился из последних сил, истекая кровью.
Ледяная вода залила уши, обхватила Брану цепкими, мертвящими объятиями. Ещё чуть-чуть – и треснут рёбра от глубинного давления... Открыв глаза, кошка увидела что-то огромное, белое, похожее на исполинскую глыбу льда.
Но глыбы льда не движутся так плавно, так текуче и разумно... Они просто безжизненно плавают в воде по воле течения, а это создание жило, дышало и само властвовало над морем. Брана зависла перед ним в безвоздушной пустоте, глядя во все глаза... А оно смотрело на неё, озарённое призрачно-лунным сиянием. Плавники, голова, хвост – всё, как у кита, но что это был за кит!.. Он мог бы проглотить своей пастью их струг, как крохотного малька. Переливающийся всеми цветами радуги глаз приблизился и окинул Брану не то насмешливым, не то презрительным взором, а кошка, охваченная таким же лунно-белым, чистым, бесстрашным восторгом, протянула руку и погладила складку века на этом глазу. Веки дрогнули и зажмурились, потом глаз открылся, и в зрачке Брана увидела крошечную себя.
Вода заходила ходуном, неодолимой силы вихрь пузырьков захватил кошку. Шлёп! Наподдав ей под зад хвостом, белый кит вышвырнул её из моря, и Брана с диким воем и мявом пролетела по дуге над волнами. Она приземлилась на все четыре конечности на палубу струга. Потрясённые охотницы столпились вокруг неё, тормоша и осыпая вопросами, но у Браны с трясущихся губ срывалось только тихое и прерывистое «бы-бы-бы...»
Чуть погодя это «бы-бы-бы» преобразовалось: она наконец выговорила первое членораздельное слово.
– Бы-бы-бы-белая М-м-мать...
Охота была удачной, кита они забили. К торчавшим из туши копьям привязали поплавки и оттащили добычу на берег. Никто не получил увечий, никого не проглотила сегодня морская пучина, а Брана стала героиней дня: ещё бы – она удостоилась дружеского шлепка Белой Матери! От потрясения оправилась она быстро и вскоре уже участвовала в разделке туши, за работой рассказывая о своей невероятной встрече. Молодые охотницы слушали с жадным блеском в глазах, опытные – сдержанно. Они много в жизни повидали.
Китовое мясо хранилось в особых холодильных пещерах глубоко под землёй. Там стоял вечный мороз и даже летом не таяла бахромчатая, пушистая борода инея на потолке и стенах. Всё, что удавалось добыть за лето, складывали туда, чтобы потом подъедать в течение всего остального года. В вечной мерзлоте пещер ничего не портилось, но северянки любили также и мясо с трупным ядом и крепким душком. Для приготовления этого блюда требовалось только самое свежее мясо только что убитого зверя – моржа, тюленя, оленя или кита, а иногда – гуся или утки. Его охлаждали на льду, плотно зашивали в шкуру, выпустив оттуда предварительно весь воздух, и закапывали в землю – чаще всего близко к кромке прибоя или в торфяниках. Свёрток обычно придавливали гнётом, под которым его содержимое и «созревало» полгода. Называлось это своеобразное кушанье «шестимесячным мясом». Перед употреблением его подмораживали и стругали тонкими ломтиками, после чего ели с солью. Привычные с детства желудки северянок успешно справлялись с этим пахучим и ядовитым яством, а вот гостям из других земель пробовать его было крайне опасно.
С пещерами-складами всё тоже обстояло не так-то просто. Считалось, что вечный, не ослабевающий ни на день мороз там поддерживала сила подземного духа Морови – сестры Огуни. Описывали её как беловолосую деву в серебристом одеянии. Любила Моровь пригожих кошек, могла навести сонливость и морок, поэтому не следовало в пещерах задерживаться надолго, дабы не остаться в ледяных объятиях Подземной Девы навеки. За пользование пещерами ей платили небольшой частью добычи. Она же, по поверьям, становилась причиной сумрачных дней, когда солнце не поднималось из-за края земли целыми сутками – в одних местах мрак длился дольше, в других был менее продолжителен. «Моровь-дева опять осерчала, солнце спрятала у себя под землёй», – говорили северянки. Ничего с этим сделать было нельзя, только ждать, когда благоприятное и милостивое настроение вернётся к Подземной Деве, и она отпустит солнце на небо. Зато когда наставали светлые дни, и солнце вообще не заходило, северянки считали, что это Моровь, чувствуя вину за свои зимние причуды, отдаёт людям свет, который она им задолжала.
Стемнело, на берегу зажглись костры. Поджаривая ломтики мяса, охотницы курили северный мох – мовшу. Его терпкий дым согревал сердца и веселил душу, и после трубочки-другой Брана ощутила в груди искрящуюся, ликующую беззаботность. Непростой день выдался, и хорошо, что все остались живы. Натруженное тело гудело. А завтра будет новый день и, возможно, новый кит. Из уст пожилых охотниц звучали предания о подвигах прародительниц и их удивительных, а порой и жутковатых приключениях, а пламя костров плясало в их глазах, слегка затуманенных хмельным дымком мовши.
Много и тяжело приходилось работать кошкам-китобоям, оттого-то Брана уходила в море упитанной, а возвращалась поджарой, хоть и не голодала на охоте. Такого подхода к делу придерживались многие китобои: весь год хорошенько отдыхали, нагуливали жирок и набирались сил, а в охотничью пору выкладывались так, что к концу промысла их было не узнать. Ночевали тут же, в рыбацких постройках у моря, закутавшись в спальные мешки из шкур: печей в этих древних лачужках не было предусмотрено, но имелись обложенные камнями очаги, которые топились по-чёрному.
Быстро промелькнуло короткое северное лето, но много мяса добыли охотницы – достаточно, чтобы кормить весь Север в течение года. Не только кита они промышляли, но и моржа, и тюленя. Кошки-рыболовы тоже не бездельничали: добывали североморского лосося и прочую ценную рыбу. Изобильным и богатым было суровое Северное море, но кошки относились к водным угодьям бережно, дабы не истощить их – брали ровно столько, сколько нужно, чтобы прокормиться.
Дома Брану встретили хлебосольно и сердечно – тем более, что пришла она не с пустыми руками. Ягодка с раскрытым ртом слушала рассказы сестры о морских приключениях, о Белой Матери; она добрее и снисходительнее всех в семье относилась к Бране, а потому, когда та опять залегла на печку с мешком орехов, защищала её перед родительницей и сестрой.
– Матушка Земеля, сестрица Тихомира! Не будьте так суровы к Бранушке, не корите её, лежебокой не зовите. Она ведь в море без устали трудилась, чтобы мясо добыть – и для нас, и для всего Севера! Пусть теперь вволю отдыхает, она это заслужила. Хвала Лаладе, что вернулась она домой живая и здоровая, что Белая Мать её в пучину морскую не утащила!
При последних словах голос девочки задрожал, а глаза намокли. Брана, свесив руку с печной лежанки, растроганно погладила сестрёнку по льняной головке.
– Ты ж моя родная... Ну-ну, полно. Я дома, всё хорошо. Что со мной может стрястись? – И, чтоб подбодрить и развеселить Ягодку, с усмешкой добавила: – Меня, вон, даже Белая Мать не приняла – хвостом из моря выкинула!
Ягодка сквозь слёзы улыбнулась.
– А ты, Бранушка, кушай, – захлопотала она, намазывая любимое лакомство сестры, морошку с мёдом, на сдобный калач и подавая его с миской киселя Бране на печку. – Кушай, родная, а то вон как отощала!
– Да, похудела слегка, – погладив себя по впалому животу, хмыкнула кошка-охотница. – Но это ничего: зима длинная – отъемся. – И, принимая из рук сестрицы угощение, добавила вполголоса, ласково: – Благодарю, солнышко моё ясное. Только ты одна в этом доме меня любишь, только ты понимаешь!
– И балует тебя сверх меры, – усмехнулась матушка Земеля. – Ты б лучше, чем на печке бока отлёживать да чрево отращивать, сестрице любимой по дому помогала.
– Она и помогает! – с жаром заверила Ягодка, забираясь на лежанку к Бране. И, откидывая с её лба слегка влажные от щедрого печного тепла прядки волос, проворковала: – Она всё-всё делает, что ни попросишь! Золотые у Бранушки руки, яхонтовые!
Брана отзывалась довольным и сытым мурлыканьем, а сестрица чесала её за ушком да подсовывала куски повкуснее.
– Это ты у меня золотая да яхонтовая, – мурчала Брана, жмурясь. – Солнышко моё родное, голубка моя милая...
* * *
Треснула на земной груди корка льда, и наполнилась она весенним дыханием. Вылез зелёный пушок коротенькой травки, зацвели первые, самые ранние цветы, и Белые горы загудели от веселья: пришла Лаладина седмица – пора гуляний, пора судьбоносных встреч и молодой любви.
Солнце играло на рыжих волосах молодой кошки-холостячки Ильги медным блеском, медово-тёплым, задорным. Вокруг бурлили пляски, звенел девичий смех, пищали дудочки и сыпалось бряцанье бубнов, а Ильга стояла подбоченившись – стройная, статная, тонкая в талии, но исполненная пружинистой звериной силы. Её ладная, точёная фигура в нарядном вышитом кафтане с кушаком далеко виднелась у всех на обозрении и сияла самодовольством. Изящно выставив вперёд ногу в алом сапоге с загнутым мыском и золотой кисточкой на голенище, рыжая кошка как бы говорила всем своим видом: «А ну-ка, девушки, попробуйте-ка меня не заметить! Пожалеете, что не выбрали меня, такую удалую да пригожую!» Если б в человеческом облике у неё были видны кошачьи усы, она непременно их гордо покрутила бы, красуясь.
Бац! Обглоданная птичья кость возмутительным образом стукнула Ильгу по плечу, оставив на ткани кафтана жирное пятнышко. Кошка, негодующе фыркнув, принялась озираться.
– Это кто тут такой невоспитанный? – сверкая грозным взглядом, процедила она. – Кого в детстве мало уму-разуму учили? Чья наглая задница просит порки?
Блям! Вместо ответа на эти совершенно естественные с её стороны вопросы к ногам кошки увесисто шмякнулась баранья лопаточная кость – тоже чистенькая, старательно объеденная кем-то. Хорошо хоть, не по голове попала! Ильга подобрала улику и отправилась на поиски «преступницы».
Столы с угощениями стояли под открытым небом, ломясь от яств. Горы блинов, пирогов и ватрушек, жареной птицы, поросят и барашков, рыбы и дичи соблазняли и манили румяной корочкой и маслянистым блеском – ешь не хочу. Чем беззаботно и занималась белокурая женщина-кошка в красном кафтане с золотой вышивкой: взяв с блюда целую баранью ногу, она окидывала её искрящимся любовным взглядом и плотоядно облизывалась. Но острые хищные клыки не успели вонзиться в сочное мясо: Ильга подошла и помахала перед лицом светловолосой лакомки лопаточной костью.
– Кажется, кто-то пришёл на Лаладины гулянья не судьбу свою искать, а пожрать на дармовщинку! – язвительно воскликнула она.
– А как же, не без этого, – казалось, совершенно не уловив в словах и голосе Ильги обидную насмешку, простодушно отозвалась любительница угоститься за чужой счёт. И опять прицельно открыла рот, чтобы урвать самый жирный, самый лакомый кусочек мясца.
– Ты девушек-то вокруг себя вообще замечаешь? – хмыкнула Ильга. И добавила, кивая на баранью ногу, призывно истекавшую соками: – Хотя, судя по всему, у тебя есть дела поважнее. Встрече с ясноокой красавицей ты предпочитаешь свидание с бараньей ляжкой, да?
– Вот угощусь сперва на славу, а потом можно будет и на девушек поглядеть, – ответила светловолосая кошка. – Для всего найдётся своё время.
Судя по окающему, воркующему, мурлычуще-ласковому говорку, перед Ильгой была уроженка Севера. Её глаза цвета мышиного горошка мерцали на солнце лиловато-синими самоцветами, а расшитый бисером пояс с пряжкой поддерживал кругленькое и уютное, хоть и не очень далеко выступающее, но заметное брюшко. Хорошее, доброе такое, выдающее в своей обладательнице жительницу сурового северного края и большую любительницу вкусно покушать. Вообще это было обыкновенным делом у северянок – кряжистых, ширококостных, склонных запасать жир. Впрочем, крепкие руки и ноги у этой кошки излишней полнотой не страдали, только область пояса сыто расплылась – уж не затянешь на ней кушак до отказа. Ильга, обладательница осиной талии, хмыкнула, пренебрежительно окинув взглядом далёкую, по её мнению, от совершенства фигуру северной белогорянки.
– Да, по тебе и видно, что угощение у тебя стоит на первом месте, – сказала она ехидно. – Баранья нога хороша, вот только в супруги её не возьмёшь.
Северянка пропускала мимо ушей все её колкости, зато не упускала возможности побаловать себя жирной бараниной. Эта непробиваемая, непоколебимая невозмутимость бесила Ильгу: уж она и так, и сяк пыталась задеть эту обжору, а та – хоть бы хны. Слушает да ест себе, твердолобая!
– Ты, кусок сала бесчувственный! – не выдержала рыжая кошка, уперев руки в бока. – Когда с тобой разговаривают, надо хотя бы для приличия что-то отвечать! Ты вообще понимаешь, о чём я толкую? Или мозги у тебя тоже жирком заплыли?
Северянка хладнокровно расправлялась с бараньей ногой. Обгладывая кость, она подняла палец – мол, погоди, доем и сейчас ка-а-ак отвечу! Но ответ Ильгу обескуражил.
– М-м-рр, – проурчала жительница Севера, с чмоканьем обсасывая жир с косточки. – Ты чего такая злая, сестрица? Ты не проголодалась, часом? Вот, угощайся, тут много всяких яств, на всех хватит. Может, хоть подобреешь.
– Злая?! А потому что не надо швыряться объедками направо и налево! – окончательно рассердилась Ильга. – Тут, между прочим, люди ходят! Ты этой лопаткой меня чуть не убила, любезная!
– Ну, извини, сестрица, – улыбнулась северянка – широко, белозубо, обезоруживающе-лучисто. – Я не видела.
– Так смотреть надо, куда бросаешь! – кипятилась Ильга, возмущённо размахивая «орудием преступления».
И домахалась: скользкая от жира лопатка вылетела у неё из руки, описала хорошую дугу в весеннем чистом небе и приземлилась на высокую барашковую шапку какой-то богато одетой женщины-кошки – видно, знатной особы, близкой к княжескому двору. Ильга остолбенела, втянув голову в плечи и прижав пальцы к губам: у неё вырвалось тихое, сдавленное «ой». Северянка фыркнула и разразилась добродушным квохчущим смешком.
Не успела знатная кошка разглядеть, откуда преступно прилетела злосчастная кость, как две её молодые соотечественницы очутились под столом. Вернее, это северянка, проявив удивительную для своего пузика прыть и гибкость, юркнула туда первая и втащила за собой невольно набедокурившую Ильгу. Из-под края скатерти им были видны только ноги – множество ног, пляшущих и просто праздно гуляющих.
– Сыскать! Наказать! – сердито распоряжалась знатная особа, обиженная костью.
– Сей же час будет исполнено! – отвечали ей расторопные дружинницы.
А северянка под столом прошептала:
– Хорошо хоть не кабанья голова!.. А то рылом свинячьим знатной особе получать по шапке как-то неприлично и даже вполне оскорбительно для личности.
– А баранья лопатка, по-твоему, делает её личности честь? – также вполголоса раздражённо процедила Ильга. – Как бы то ни было, надо делать отсюда ноги.
Нырнув в проход, молодые кошки очутились на другом конце праздничного собрания. Всё так же весело и беззаботно пищали дудочки, пёстрым хороводом плясали девушки, степенно расхаживали женщины-кошки в нарядных кафтанах, зорко всматриваясь в девичьи лица в поисках той самой, единственной...
– Меня Браной звать, – представилась северянка. – А тебя?
– Ильга я, – нехотя назвалась рыжая кошка, озираясь по сторонам. – Не знаю, как ты, а я сюда за своей ладушкой пришла. Её поисками я и собираюсь заняться.
– Ну, я как бы тоже здесь за тем же самым, – усмехнулась Брана. – Вот только даже не представляю себе, как её искать-то, ладушку эту...
Ильга не успела ответить: мимо них плыла, едва приминая лёгкими ножками траву, дева неописуемой красы. Цветком покачивалась её увенчанная жемчужным убором головка, в очах отражалась прохладная голубая бездна небес, а ресницы были такой длины, что на них могла усесться птица. Посредством какой волшбы передвигалась она? Казалось, она скользила по воздуху, но нет – из-под края одежд показывался носочек шитого бисером башмачка.
– Подбери с земли челюсть, – вполголоса сказала Ильга Бране. – И слюни тоже.
Она пальцем надавила на подбородок северянки, и рот у той захлопнулся с клацаньем зубов. Пока светловолосая кошка хлопала глазами и туго, со скрипом соображала, что к чему, рыжая решила своего не упускать. Нагнав прелестную незнакомку и красуясь перед ней всей своей удалой статью, она мурлыкнула:
– Милая девица, не знаю, моя ли ты ладушка, но не откажи – позволь с тобою поплясать!
Обдав Ильгу голубой прохладой своих очей, девушка усмехнулась краем ягодно-алого ротика:
– Поплясать? Это можно; однако ж, я, кажется, и твоей подруге нравлюсь... – И она бросила насмешливый взор в сторону Браны, которая смотрела на белогорскую прелестницу очарованно и прямодушно-восхищённо.
– С какой стати ты взяла, что она – подруга мне? Знать её не знаю! – И Ильга осмелилась дотронуться до девичьего локотка – о, что за услада для души и тела ощущать его остроту и хрупкость под богатой тяжёлой тканью рукава!
– Ну, тем лучше, – томно проворковала девушка, уже давно привычная, видимо, к тому, что её неземная краса производит такое действие. – Вы обе славные, даже не знаю, кого из вас выбрать... Хм... Сразитесь за меня! Кто победит, с той из вас и пойду плясать!
На гуляниях происходили нередко и поединки между кошками – по большей части игривые, призванные дать волю весеннему жару в их крови, но порой дрались и всерьёз. Бились врукопашную, на длинных шестах, на деревянных мечах, боролись на поясах. Последний вид борьбы пришёл в Белые горы от кочевников-кангелов.
– Изволь, милая, потешим тебя, коли желаешь, – сказала Ильга.
Она выбрала шест и двинулась на северянку. Они схлестнулись; Брана, несмотря на свою кажущуюся неповоротливость в талии, двигалась неожиданно ловко и проворно. Удар у неё был такой силы, что шесты не выдерживали и не раз с треском ломались – приходилось брать новые. А потом северянка, ухватив шест, как копьё, метнула его в противницу. Тот был достаточно тупым, чтоб не вонзиться в тело Ильги, но прилетел ей довольно чувствительно в живот. Охнув, рыжая кошка согнулась в три погибели: от удара из неё со свистом вылетел весь воздух, а перед глазами заколыхалось зарево из искр.
– Уж прости, – беззлобно ухмыльнулась Брана, помогая ей подняться. – Это я по привычке. Потому как я – китобой.
– Предупреждать надо, – прохрипела Ильга, с горем пополам выпрямляясь.
Мельком ощупав твёрдые мускулы на руке северянки, она представила на месте лёгкого шеста настоящее, тяжёлое китобойное копьё и сглотнула нервно. Ей повезло, что все снаряды для ратных игрищ на празднике были тупыми и деревянными, без наконечников.
Девушка между тем наблюдала за поединком, жуя ватрушку с творогом. Вид у неё был величаво-скучающий, словно она уже насмотрелась в своей жизни таких кошачьих схваток и ничего нового и захватывающего от них не ждала. «Хорошо же! – подумала задетая за живое Ильга. – У меня найдётся, чем тебя удивить, голубка!»
И она бросилась на Брану, собираясь применить приём из борьбы на поясах. Однако повалить крепкую северянку оказалось не такой уж лёгкой задачей: светловолосая кошка стояла непоколебимо, как башня, и свернуть её с места не представлялось возможным. Сколько Ильга ни кряхтела, ей не удалось подвинуть Брану даже на вершок, зато та со смешком легко уложила её на обе лопатки.
– Извини, сестрица, ты, кажется, проиграла, – сказала она со столь раздражавшим Ильгу бесхитростным добродушием.
Рыжая кошка вскочила, отряхиваясь. И вдруг словно провалилась в колодец со стенками из звенящих бубенцов: её закачало, закружило тошнотворно, а простодушное лицо победительницы с лиловато-синими северными глазами ушло за мутную пелену.
Пришла в себя Ильга на земле; над нею склонилась эта несносная северянка. Набрав полный рот воды, так что даже щёки раздулись, она окатила Ильгу брызгами.
– Эй, эй! Ещё чего выдумала, – отирая рукавом мокрое лицо, возмутилась рыжая кошка. – Ты же меня с головы до ног вымочила!
– Зато ты опамятовалась, – усмехнулась Брана. – Вон, опять ругаться начала... Что ж ты такая вздорная, сестрица, а? То тебе не так, это не эдак... Вечно всем недовольна! Не угодишь на тебя...
– Да потому что... не нравишься ты мне! – пропыхтела Ильга, вставая. Смущённая и озадаченная своей внезапной слабостью, она щетинилась и огрызалась.
Неизвестно, как далеко завёл бы их этот разговор, если бы не подошедшая знатная особа – та самая, чья высокопоставленная шапка была оскорблена падением на неё бараньей лопатки. Она остановилась около красавицы, за право плясать с которой и сражались Брана с Ильгой. Родительски-нежно обняв девушку за плечи, эта госпожа спросила ласково:
– Ну что, доченька, уже нашла свою ладу?
– Ещё нет, матушка, – отвечала та. – Просто забавляюсь – смотрю, как кошки сражаются.
– Ну, забавляйся, дитятко, – сказала госпожа в шапке. – Смотри только, суженую свою мимо не пропусти! А у меня тут дельце образовалось, кое-кого отыскать надобно.
И с этими словами знатная кошка озабоченно и недобро прищурилась, будто кого-то высматривая в толпе народу. У Ильги похолодела спина: хоть бы она не заметила, хоть бы не заметила... Впрочем, госпожа не успела рассмотреть виновницу происшествия с лопаткой, а потому не узнала Ильгу и ушла. Красавица же обратила благосклонный взор на Брану.
– Ну что ж, победа за тобой, – мурлыкнула она, подавая северянке унизанную колечками руку. – С тобою мне и плясать!
Брана бросила на Ильгу извиняющийся взгляд – мол, прости, сестрица, так уж получилось, приняла на крепкую охотничью ладонь тоненькую девичью ручку и влилась вместе с её обладательницей в общую сутолоку танцующих. То там, то сям виднелся её броский красный кафтан, северянка то отпускала от себя красавицу, то снова подхватывала и кружила в пляске. Справедливости ради следовало признать, что не только сражалась, но и плясала она недурно. «Вот же нахалка белобрысая», – скрежетала зубами Ильга, следя за Браной взглядом.
Но что приковывало её взор к охотнице с севера? Рыжая белогорянка сама не могла толком понять, чем Брана зацепила её внимание. Странное чувство жгуче ворочалось под рёбрами, но Ильга принимала его за раздражение. Да, бесила её эта особа! Всё в ней было возмутительным: и волосы цвета белого золота, и синие с лиловым оттенком глаза, в которых жизненный опыт охотницы на китов смешивался с почти детским простодушием, и это пузико (чревоугодников Ильга не уважала), и этот вызывающий красный кафтан... Ох уж эти северянки! Любили они повыпендриваться, пощеголять богатством своего края – этого у них было не отнять. Но если ты живёшь там, где полным-полно алмазов – хоть палкой их из земли на каждом шагу выкапывай, это же ещё не значит, что можно вести себя вот так нагло?..
Внезапно накатившей слабости Ильга решила не придавать значения, хотя к обморокам она была, вообще-то, совсем не склонна. Чай, не белогорская невеста... Лишь в том беда, что выглядело это скверно – северянка с той девицей сейчас, должно быть, смеялись над нею. В горле клокотало рычание, но Ильга задавила его в себе и отправилась на поиски другой красавицы, с которой можно было бы поплясать. И таковая нашлась очень скоро.
Впрочем, с девицей ещё приходилось о чём-то болтать, что Ильге удавалось не без труда. Эта наглая северянка испортила ей всё настроение. Присев под необъятной старой сосной, Ильга услышала по другую сторону огромного ствола знакомый окающий говорок.
– Да, круглый год в этих пещерах лёд не тает. Это Подземная Дева стужу наводит. Но нельзя там долго мешкать – взять или положить, что надо, да и убираться поскорее.
– А почему? – спросил девичий голосок.
– Заморочить Дева может, сна нагнать. Ляжешь, задремлешь – и не проснёшься больше. Замёрзнешь.
Похоже, Брана была куда успешнее Ильги в развлечении своей девицы беседой. Рыжая кошка с возмущением поймала себя на том, что сама заслушалась этими северными преданиями: девушка, с которой она сюда пришла, уже поглядывала на неё удивлённо. Её взгляд как бы спрашивал: «Ну, что же ты? Так и будешь молчать, как рыба?»
– Пойдём-ка отсюда, – поднялась Ильга. – Я знаю одно местечко получше этого.
В эту Лаладину седмицу она так и не повстречала свою ладу.
Жила рыжая кошка в Зверолесье – землях, что граничили с Севером. Её родительница служила начальницей лесного хозяйства в окрестностях города Малинича, две старшие сестры-кошки трудились вместе с родительницей и уже обзавелись своими семьями, сёстры-девы тоже устроились благополучно, и только Ильга пока не нашла свою суженую. Своё место в жизни она тоже искала, успев перепробовать много занятий: то по плотницкому ремеслу работала, то нанималась на какое-нибудь строительство, даже деревянную посуду расписывала в ложкарной мастерской. Любила она дерево – работать с ним, мастерить из него что-нибудь красивое и полезное. Живые деревья ей тоже нравились – послушать шелест, прислониться к коре, вдохнуть смолистый запах... Но просто следить за порядком в лесных угодьях, как родительница и сёстры, ей казалось скучновато. Больше по душе ей было, когда из её рук выходила какая-то вещь, будь то стол, резной деревянный наличник, расписная братина или даже просто гладко выструганная доска. Дерево – тёплое, весёлое, лёгкое, хоть и не такое долговечное, как камень, а тяжеловесный задумчивый холод каменных изваяний Ильгу не привлекал. Она даже хотела построить себе деревянную избушку, но в семье договорились, что каменный родительский дом достанется ей в наследство. Сёстры-кошки отделились и жили своим хозяйством, девы упорхнули к своим ладам, а Ильге предстояло «донашивать» родительское жилье: не пропадать же выстроенному матушкой-кошкой дому на лесной опушке – с красивым цветником, огородиком и плодовым садом.
Быстро промелькнул год, вот уже новая весна трогала пушистой кошачьей лапкой землю, пробовала: выдержит ли лёд? Нет, уж не выдерживал, трескался и таял, а там и очередная Лаладина седмица подоспела с её развесёлыми гуляньями. Решила Ильга на сей раз в Светлореченскую землю заглянуть, там невесту поискать – авось, сыщется её лада долгожданная. Три дня она бродила по городам и сёлам, на каждом празднике и плясала, и угощалась, да что толку от мёда хмельного, когда суженой там даже не пахло? Ни следа девичьей ножки в дорожной пыли, ни платочка, ладушкой оброненного... Но в седмице семь дней, и надежда Ильги хоть и таяла, но ещё заставляла её изучать лица девушек, заглядывать им в очи испытующим взором – таким, каким только дочери Лалады смотреть умели, и от которого девичьи сердечки трепетали, а чувства приходили в смятение.
Начиная с пятого дня, уж совсем отчаявшись встретить в этот раз свою судьбу, Ильга пошла в загул: горячительное пила без счёту, плясала до упаду, покуда хмель не подкашивал ей ноги, а после отсыпалась где-нибудь в тени, под кусточком. Её никто не трогал, не гнал с места и не попрекал выпитым – напротив, могли и подушку ей под голову подложить, и укрыть, чтоб весенний ночной холод её не потревожил. Люди относились к гостьям с Белых гор почтительно и считали для себя великим счастьем с ними породниться. Проснувшейся от хмельного сна Ильге какая-нибудь девушка подносила воды – умыться и напиться; начинался новый день гуляний, а надежда Ильги таяла.
– Вот, изволь, госпожа, водицы испить да силы подкрепить, – склонилась над женщиной-кошкой синеглазая веснушчатая девчушка, невысокая и крепенькая, как репка с грядки.
У неё на подносе, выстланном вышитым рушником, нашлось всё для хорошего начала дня: кувшин с холодной водой, пирожки с мясом и сушёными грибами, чарка хмельного зелья и миска с дымящейся, жирной ухой.
– Ух ты, ушица, – оживилась Ильга, обрадовавшись душистой похлёбке, щедро сдобренной укропом. – В самый раз похлебать с похмелья. Благодарствую, красавица... Да ты не стесняйся, садись рядышком, в ногах правды нет. Вот сюда и присаживайся...
Девушка присела на расстеленный плащ Ильги, смущённо поправляя складки подола и опуская ресницы, но шаловливая улыбочка играла на её ярких, брусничных устах, выдавая плутовку с головой. Поднося ко рту деревянную расписную ложку, женщина-кошка чувствовала, как нутро согревается, оживает. Вкусная, горячая рыбная похлёбка творила чудеса, а чарочка зелья окончательно поправила ей самочувствие.
– Ну что, голубушка моя синеокая, пойдём плясать? – обняв веснушчатую девушку за плечи, подмигнула Ильга. – Чего глазки-то прячешь, а? Вижу ведь, шалунья, что веселья хочешь!
Девушка мялась, смеялась и отнекивалась, но так и стреляла лукавым взором из-под ресниц, так и жгла очами. Уговаривать её долго не пришлось – поскакала, как козочка, в пляс, а взошедшее солнышко целовало её рыжие конопушки.
– Ты сама – как лекарство от похмелья, – смеялась Ильга, кружась с нею в весёлом танце.
День проходил в суматошной, пёстрой от цветов, ярких нарядов и ленточек круговерти. Похоже, и сегодня не видать Ильге лады, как своих ушей... Но что это? Никак, знакомый красный кафтан среди девушек показался? И точно: в самой серёдке девичьего хоровода отплясывала Брана. Да что там плясала – наяривала, лихо хлопая себя по коленям, по голенищам щегольских сапог клюквенного цвета, по бёдрам и плечам. Ух, как она извивалась, как выкидывала коленца, притопывала и припрыгивала, как яро трясла плечами, словно ей за шиворот снега насыпалось! Брюшко над её поясом было, кажется, поменьше, чем в прошлый раз – уже достижение. Несколько мгновений Ильга любовалась этим возмутительно-забавным зрелищем, не зная, то ли ей злиться, то ли смеяться, то ли плюнуть и уйти подальше, пока северянка ей всё не испортила... Да ладно, портить уж и нечего: подходили к концу Лаладины гулянья, осталось-то – всего ничего, денёк.
Брана, подбоченившись, выставляла то одну ногу вперёд каблуком, то другую. Она как раз делала очередной «дрожащий холодец» плечами и грудью, когда заметила наблюдавшую за её пляской Ильгу.
– О, кого я вижу! – радостно поприветствовала она рыжую кошку. – Иди сюда, сестрица, вместе попляшем!
«Только этого ещё не хватало», – подумала Ильга. Лицо её выражало мрачную обречённость и кирпичную тоску. Но поздно было увиливать: хоровод разомкнулся на миг, и обе кошки оказались внутри него. Брана вытворяла своим телом весёлое безобразие, пахала каблуками землю, но Ильга стояла неподвижно, скрестив руки на груди и не проявляя малейшего желания присоединяться.
– Ну же, чего ты стоишь? – подбадривала её северянка. А потом, видя, что Ильга и пальцем не хочет двинуть, махнула рукой: – Ну и ладно, стой себе... Всё равно тебе меня не переплясать!
Рыжая кошка изогнула бровь. Ого, кажется, добродушная жительница Севера научилась подкалывать!
– Неплохая попытка, – хмыкнула Ильга. – Вызов принят. Смотри только, не пожалей об этом!
И она, как бы разминаясь, повела плечами, потянула одну ногу, другую... И прямо с места, не давая северянке с её пузиком малейшей возможности победить, пустилась вприсядку. Её стройные ноги пружинисто сгибались, подбрасывая её тело вверх бессчётное число раз; только самые дюжие и выносливые мускулы могли выдерживать такие испытания, но Ильга на силу ног никогда не жаловалась. Но на этом она не остановилась, перейдя к высоким подскокам с махами. Ежели б к её ногам привязать клинки, то один такой прыжок – и голова противника полетела бы с плеч. Это был боевой танец женщин-кошек, в котором чисто плясовые движения переплетались с приёмами рукопашной схватки. Удары руками и ногами, подсечки, выпады, броски, перевороты, вращение волчком и прыжки, прыжки, прыжки!.. Концы кушака Ильги разлетались, полы кафтана вздымались крыльями, взгляд сверкал кинжалом, пыль летела из-под ног. Раскалилась земля под нею! Ещё б ей не нагреться, когда её так яростно и неутомимо топтали!
Ильга победоносно закончила танец, упав на одно колено, сорвав с себя шапку и швырнув её оземь. Грудь женщины-кошки ходила ходуном, мощно втягивая воздух, сердце колотилось после бешеной пляски... У неё не было сомнений, что пузатая северянка не сможет такое повторить.
– Славно, славно! – хлопая в ладоши, воскликнула Брана. – Такая пляска заслуживает чарочки хорошего мёда.
Одна девушка тут же поднесла Ильге кубок, а другая – полотенце, чтоб вытереть пот со лба. Ильга и правда разогрелась и взмокла, и весенний ветерок холодил ей спину.
– Хорошо ты пляшешь, сестрица, – с уважением молвила северянка. – Даже не стану пытаться тебя превзойти. Ежели позволишь, я спляшу наше, северное.
Под мерный звон бубнов и смычковые страдания гудка она исполнила танец охотниц-китобоев. Этой пляской они открывали каждое охотничье лето, а после удачного завершения промысла благодарили водные глубины за щедрые дары. Ей бросили большой, украшенный ленточками бубен, и Брана, поймав его, сопровождала свои движения ударами в него.
Бац-звяк! Бац-звяк! С каждым ударом бубна охотница продвигалась на шаг, крепко припечатывая к земле всю подошву. Её колени были чуть согнуты, и она шла выпадами. Описав таким образом полный круг, она пустилась вприскочку. Её колени высоко взлетали, сапоги молотили землю частой дробью, а бубен перекидывался из одной руки в другую. Она и била в него, и вращала им, выписывая петли, а пляска её завораживала. Северянка погрузилась в глубокую сосредоточенность, её глаза широко распахнулись: может быть, она сейчас видела перед собой суровую гладь родного Северного моря. Она чтила его каждым шагом, каждым прыжком, а бубен в её руках поднимался, точно всходящее над волнами холодное солнце. Высоко подбросив его, Брана успела проделать несколько вращений вокруг себя, после чего ловко поймала и выбросила вперёд на вытянутой руке. На том танец и закончился.
– Обе вы в пляске хороши, – сказали кошкам девушки. – Обе пригожие, удалые – каждая по-своему! Равные вы.
Но Ильга, подогретая хмельным, жаждала продолжения танцевального состязания. У неё уже был готов ответ на пляску с бубном: ей бросили пару кинжалов, и она закружилась вихрем, сверкая молниями клинков. Засвистели новые кинжалы, вонзаясь в землю: это кошки, стоявшие кружком, бросали их Ильге под ноги, а она ловко уворачивалась. От каждого из них она не только уклонилась невредимой, но и обошла, пританцовывая, кругом. К ней присоединились девушки. Они выступали вперёд по одной, выдёргивая кинжалы, и с каждой Ильга поплясала, держась за острие клинка. Искусство состояло ещё и в том, чтоб не порезаться в пылу танца, но несколько алых капель упали на землю.
– Ничего, до свадьбы заживёт, – беспечно махнула рукой Ильга, разгорячённая, хмельная – не только от выпитого, но и от жаркой пляски. Пораненные пальцы она только облизала.
Хоровод понёсся, головокружительно мелькая, и земля вдруг закачалась под ногами у рыжей кошки. Она будто стояла на дышащей груди какого-то великана, а сквозь пляшущую толпу к ней шла северянка – с бубном в одной руке и копьём в другой. Бросок – и копьё, свистнув, вонзилось в большую бочку, что стояла у Ильги за спиной. Бочка – вдребезги! Хорошо хоть пустой была, и ничего не разлилось.
– Ты... сдурела? – только и смогла икнуть Ильга.
Казалось, само время захмелело – то неслось сбрендившей птицей, то ползло червём; от его выходок желудок к горлу подскакивал и всё нутро переворачивалось. А Брана, скинув кафтан и оставшись в вышитой рубашке, поставила себе на голову полный кубок мёда и поплыла лебёдкой. Её ноги переступали так плавно, что ни капли не проливалось из полного до краёв сосуда! Широкими взмахами рук Брана словно бы разгребала ставший густым и горячим воздух. Бубен лежал на земле желтоватой лепёшкой, и она плясала вокруг него.
– Во даёт! – воскликнул кто-то из зрителей.
А Брана выставила локти в стороны, и на них ей поставили ещё по кубку. Попробуй-ка, пройдись этак, не уронив и не разлив! Но северянке всё было под силу, и она не прошла – проплыла, держа локти недвижимо, так что кубки не дрогнули и не пошатнулись ни разу, стояли прочно и непоколебимо.
– Лихо! – одобрили кошки-зрительницы.
Кубки достались троим из них, и они осушили их за здоровье плясуньи. А Ильга понимала, что не осилит нового танца: тело вдруг налилось тяжестью, голова поплыла в жарком бубенцовом звоне, а действительность сузилась до крошечного оконца, в середине которого улыбалось лицо Браны.
Когда бесчувственность схлынула прохладной волной, небо с овчинку снова развернулось до своей прежней бескрайности. Над головой Ильги колыхался куст жимолости, а её затылок покоился на чём-то мягком. Это был свёрнутый красный кафтан северянки, которая сидела возле рыжей кошки и обмахивала её платком.
– Второй раз уж без памяти падаешь, – с усмешкой заметила она. – Что бы это могло значить?
– Почём я знаю? – буркнула Ильга, снова от смущения становясь колючей. – Видать, выпила я лишку, вот голову и обнесло.
А северянка смотрела на неё с ласково-лукавой улыбкой, от которой у Ильги внутри стало жарко-жарко.
– Ты не сердись и не обижайся, но это выглядит, как... Уж прости, но мне только одно сравнение в голову приходит: обморок невесты! – И Брана фыркнула в кулак, смешливо блестя лилово-синими искорками в глазах.
– Не мели чушь! – вспыхнула Ильга, садясь. – Где ты тут невесту нашла?
Она сердито ощетинилась, скалясь по-звериному, но кровь в висках стучала: а ведь правда же – как невеста. Ей и самой в прошлый раз это в голову пришло, но она решила об этом не думать и никак не толковать, а тут вдруг нá тебе – второй раз! А северянка вздохнула:
– Да... В том-то и беда, что никак ладушка моя не отыщется. И у тебя с этим, я погляжу, дела обстоят не лучше. Только и остаётся что пить да плясать... Ну ничего, не горюй! – Брана легонько, дружески ткнула Ильгу кулаком в плечо. – Не век нам холостыми ходить, найдутся наши суженые, никуда не денутся.
В последний, седьмой день Лаладиных гуляний они пили вместе и расстались почти подругами. Что-то изменили в Ильге эти пляски, какое-то уважение к северянке появилось. Как ни крути, а хорошо, до безобразия хорошо Брана плясала – особенно эти свои северные танцы. И копьё так метнула, что при воспоминании у Ильги сердце до сих пор вздрагивало.
Миновало лето, задышала прохладой осень, тихо и грустновато стало в лесу. В свободное время Ильга бродила по знакомым тропинкам, вдыхая сырую свежесть, остро-грибную, зябкую. Стоя однажды на берегу лесного ручья и слушая его умиротворяющее журчание, Ильга вдруг почувствовала, как что-то лёгкое стукнуло её между лопаток. Кошка нахмурилась: может, лист опавший? Немудрено: облетали уже деревья понемножку, только ели с соснами оставались в прежних нарядах. Передёрнув плечами, она снова погрузилась в созерцание водных струй.
Опять что-то ткнулось – на сей раз в плечо. Нет, похоже, не дадут ей сегодня постоять спокойно и подумать у воды! Пощупав плечо, Ильга с недоумением и возмущением сняла с рубашки липкий репейный шарик. Это кто тут шалить вздумал? Рыжая кошка огляделась, но никого не увидела. Нет, сами по себе репьи не летают, их обычно кидают. Может, ребятишки балуются...
Ещё одна цепкая репейная головка села ей на рубашку. Не на шутку рассерженная, Ильга опять принялась озираться. Погрозила в пространство кулаком:
– Ещё раз кинешь – вот этого отведаешь! – пообещала она невидимому безобразнику.
Зашуршало что-то... «Ага! Вот ты где!» – повернулась Ильга на звук, доносившийся откуда-то сверху. На трёхсаженной высоте, уцепившись за древесную ветку руками и обвив её ногами, ей клыкасто улыбалась Брана – уже не в нарядном красном кафтане, а в короткой куртке из оленьей кожи, украшенной по вороту белым мехом, чёрных портках и оленьих же сапожках с кисточками и вышивкой.
– Так это ты тут дурака валяешь?! – вскричала Ильга. – Тебе что, делать больше нечего?
Ответом ей была улыбка до ушей и дурацкий смешок:
– Гы-гы...
А в следующий миг ветка под северянкой треснула и обломилась. Смешок оборвался громким «кряк!», мгновение Брана барахталась в воздухе, дрыгая руками и ногами, но падение было неминуемым. Светловолосая кошка рухнула прямо в подставленные объятия Ильги. Их глаза и лица сблизились, Брана обняла Ильгу за плечи, удобненько устроившись у неё на руках, но та поспешила поставить её наземь.
– Ведёшь себя, как дитё великовозрастное, – ворчала она, отряхиваясь. Заодно и по заднице Браны прошлась, смахивая приставшие кусочки коры, хвою и прочий мусор. Задница, кстати – ничего себе так, недурная. Подтянутая, крепкая и круглая, орешком.
– Да вот, решила тебя проведать, – сказала северянка, снова засияв улыбкой от уха до уха. – Делать мне, говоришь, нечего? Ну, так оно и есть, наверно. Пора-то охотничья как раз кончилась, много мы мяса добыли, пещеры заполнили. Что мне дальше делать? На печи лежать? Уж лучше к тебе в гости заглянуть.
– Ну, добро пожаловать, – буркнула Ильга. – Может, тебя ещё хлебом-солью встретить? – И она отцепила от рубашки ещё один, только что замеченный ею репей.
– А ты всё такая же, – белозубо засмеялась Брана, и смех её прокатился звонким, светлым эхом под тихими сводами лесных хором.
– Какая? – Ильга на всякий случай опять враждебно ощетинилась, дабы северянке неповадно было чушь молоть.
– Неприветливая, – сказала Брана, глядя на рыжую кошку задумчиво-ласково. – Нрав у тебя сварливый, слова тебе не скажи, пальцем не тронь – а то сразу коготки выпускаешь!..
– Смотря какие слова говорить, – хмыкнула Ильга, отворачиваясь к ручью и устремляя взгляд на по-осеннему тихую гладь воды. – Ежели разумные да учтивые, то я не против – тем же и отвечу. А коли глупости всякие, то по привету и ответ будет.
– Недотрога, одним словом, – дохнул, горячо защекотав ухо Ильги, полушёпот Браны.
От этого странного поползновения со стороны северянки всё в Ильге встало на дыбы, внутренний зверь оскалился, и она воинственно отпрыгнула, пригнувшись.
– Эй! Это ещё что за...
А Брана, проворно отскочив за дерево, опять швырялась оттуда репьями, коих у неё, как оказалось, были полные карманы. Запаслась, негодница!
– Ах ты ж зар-раза, – ожесточённо процедила Ильга. – Ну, сейчас я тебя проучу – будешь знать!..
Прыжок!.. Длинный, мощный, кошачий – и зря. Увы, её руки поймали пустоту: северянка успела улизнуть через проход и сверкала белыми клыками уже из-за другого дерева, продолжая обстрел Ильги репьями. Но и рыжая кошка была не лыком шита – сама, недолго думая, нырнула в проход, чтоб сократить расстояние. Ей удалось схватить Брану за край одежды, но та рванулась и опять скрылась. Смех доносился уже из-за спины Ильги, а репьи садились ей и на рубашку, и запутывались в волосах.
– Ты хочешь трёпку? Ты её получишь! – рявкнула она.
Прыгая из прохода в проход вслед за несносной северянкой, Ильга уже почти схватила её, почти нагнала, как вдруг под её ногами оказалась не травянистая почва, а каменное дно ручья. Сверху на неё хлынули студёные струи небольшого водопада, которым ручей низвергался с уступа. Ильга с рыком заплясала от сводящего челюсти холода, а Брана нагло хохотала во всю белозубую пасть – в паре шагов, на берегу.
– Ну, сейчас ты у меня получишь! – И Ильга, преодолев расстояние до северянки в один яростный кошачий прыжок, вцепилась в неё.
Она заволокла Брану в воду и хорошенько искупала – прямо в одежде. Впрочем, ей показалось, что хохочущая белокурая кошка не очень-то и противилась этому: ведь не так давно в борьбе на поясах она была непоколебимой скалой, а тут вдруг так легко сдалась. Ох, неспроста!..
И верно: могучим рывком Брана оказалась наверху, и вот уже она окунала Ильгу в бодрящие струи, а не наоборот.
– Я на кита хожу, и мне это под силу! – смеялась она. – Неужто ты думаешь, что я с тобой не справлюсь?
Она вытащила противницу на берег, как котёнка, и они покатились по траве. Мокрую, разъярённую Ильгу бесили эти смеющиеся лиловато-синие глаза, в которых мерцало добродушное превосходство, и она с шипением и мявом выпустила когти, чтобы вцепиться Бране в лицо. Северянка откатилась в сторону, избежав участи быть располосованной на ремешки. Её по-прежнему душил смех.
– По-моему, нам надо обсушиться... В мокрой одёже силой мериться не очень-то сподручно! – И с этими словами Брана принялась сбрасывать отяжелевшую от влаги одежду, которая липла к телу и сковывала движения.
Ильга, остолбенев, смотрела во все глаза. Северянка стояла перед рыжей кошкой во всём великолепии своей наготы, с плоской, сухой мышечной бронёй вместо висящего брюшка. Небольшая, но упругая грудь с розовыми сосками ещё ни разу не кормила, а по мускулам рук ветвились под кожей голубые шнурочки жил. Теперь становилось ясно, откуда у Браны такой мощный удар копьём: её тело дышало силой, способной противостоять природному могуществу моря.
– Кажется, в прошлую нашу встречу ты была куда упитаннее, – усмехнулась Ильга. За созерцанием обнажённых прелестей Браны её драчливый пыл немного поостыл.
– Так знамо дело – я ж после охоты, – ответила северянка, встряхивая мокрыми волосами. – Всё лето в море ходили, кита добывали – не очень-то разжиреешь. Я к концу охотничьей поры всегда худею, а за зиму опять отъедаюсь.
– Тебе стройной быть больше к лицу, – сказала Ильга, как заворожённая, наблюдая движение мышц под кожей Браны.
– Ежели за зиму жир не нагуливать, летом не хватит сил для охоты, – с усмешкой пояснила светловолосая кошка. Заметив, что её разглядывают, она слегка покрасовалась, поиграла мышцами. – Знаешь, сколько трудиться приходится, чтоб кита добывать? У-у! Тебе и не снилось. Пока в море – не ешь, не пьёшь, только после охоты можно и отдохнуть, и чего-нибудь съестного перехватить... Хорошо, если раз в день поешь, а порой и по два дня во рту – ни крошки. Ежели б этих запасов в виде жирка не было, мы все там ноги бы протянули уже к середине лета.
Потом они жгли костёр и сушили одежду. Северянка спокойно щурилась на огонь, обхватив руками колени, а Ильга всё косилась на неё, всё поглядывала на эти розовые соски, на впалый поджарый живот, на жилки под молочно-белой кожей. Силу этих мышц она уже на себе испытала в полной мере, но даже сейчас, расслабленные и отдыхающие, они как бы говорили: «С нами шутки плохи!»
– Ну, а ты чем в жизни занимаешься? – полюбопытствовала Брана.
– Из дерева мастерю, – кратко ответила Ильга.
– А струг смогла бы сделать? – Северянка встряхивала руками влажные пряди, чтоб сохли быстрее.
– И струги, и ладьи доводилось строить, – кивнула рыжая кошка. – Всё, что из дерева делается, я сделать могу. Хоть стол, хоть лавку, хоть посуду. Узоры умею вырезать.
Сохнувшая у огня одежда курилась парком. От оленьей куртки и меховых сапогов Браны исходил крепкий, удушливо-терпкий запах мокрой шкуры.
– Я люблю на струге по морю ходить, – проговорила она, встряхивая куртку и переворачивая её другой стороной к пламени. – Там такой простор, такие волны! Галькой малой себя чувствуешь на воле этой бескрайней... Садишься в струг – и не знаешь: может, эта охота станет для тебя последней. Берёт Белая Мать свою дань с нас за то, что кита бьём.
– А кто это – Белая Мать? – полюбопытствовала Ильга, ощущая кожей мурашки при мысли о далёком, неприветливом Северном море, большую часть года покрытом льдами.
– Хозяйка моря, – ответила Брана, садясь на корточки и протягивая к огню руки. – Я видела её однажды. Она на кита похожа, только огромная, в дюжину раз больше тех китов, которых мы промышляем. И белая, как ледяная гора. А глаза у неё всеми цветами радуги переливаются. Когда она появляется – жди беды: непременно кто-нибудь из наших кончит свою жизнь на дне морском. Утянет Белая Мать в пучину – даже проход не спасёт.
– Так может, лучше не трогать китов? – высказала Ильга нерешительную мысль. – И охотницы гибнуть не будут. Стоит ли оно таких жертв?
– Нам без кита нельзя, – качнула Брана светловолосой головой, подсохшие прядки на которой уже распушились. – Кит для нас – жизнь. В южные земли мы не полезем, там своих охотниц хватает, им тоже что-то есть надо. Что даёт нам наш родной Север, тем и живём, а чужую добычу отнимать – не в наших правилах. А ежели нам что-то сверх того нужно, мы за это и заплатить можем – тем, чем богаты.
Мало что вызревало в скупых на тепло северных краях. Свой хлеб и кое-какие неприхотливые овощи росли только на Ближнем Севере, а на Среднем и Дальнем – только мох мовша да ягоды, вот и выменивали северянки на свои товары то, чего им недоставало: злаки, орехи, мёд, плоды садов и огородов. Растительной пищи, впрочем, потребляли они немного, за века приспособившись жить на рыбе, мясе и животном жире. А если говорить о богатствах, то более всего Север славился своими самоцветами, серебром да золотом жёлтым и белым (платиной – прим. авт.). На Севере были сосредоточены основные залежи земных сокровищ – во много крат больше, чем во всей остальной части Белых гор. Добывали там твердень – камень, месторождения которого в средних землях и на юге встречались редко. В иных странах звался тот камень алмазом и ценился очень высоко. Только жаркая страна Бхарат могла, пожалуй, соперничать с белогорским Севером по запасам этого ослепительно яркого и прекрасного камня.
Однако что творилось с Ильгой? Её то в озноб кидало, и она начала трястись, покрываясь гусиной кожей, то вдруг задыхалась от неведомого жара, будто внутри у неё горел кузнечный горн. Поскорее бы одежда высохла, чтоб северянка могла наконец прикрыть ею своё туго налитое, гибкое, пышущее силой тело... Рыжая кошка прежде не замечала за собой влечения к представительницам одного с нею рода дочерей Лалады; с юных лет Ильга полагала, что придёт время, и она найдёт девушку – белогорскую деву или невесту из Светлореченского княжества, а на кошек и не заглядывалась.
– Чего это ты? – окутывая её лиловатой синевой пристального взгляда, спросила северянка. – Тебя будто лихорадка трясёт. Озябла, что ль? Одёжа-то ещё не высохла... Давай, я тебя согрею, коли хочешь. Прижмись ко мне, я горячая.
У Браны и впрямь кожа излучала тепло не хуже, чем костёр. Она прильнула к Ильге сзади, обхватив её своими сильными руками. Рыжая кошка рванулась, высвободилась из объятий и отскочила, тяжело и взбудораженно дыша.
– Ты чего? – засмеялась северянка. – Ну, не хочешь – так к огню поближе сядь. Чего мёрзнуть-то? А вообще вам, южанкам, грех жаловаться на холод. Попробовали б вы нашего морозца! Вот где стужа настоящая!
Ильга утопала в этих глазах, напоминавших цветущий мышиный горошек – кудрявый лилово-синий цветок. Не снежной пустыней Дальнего Севера веял этот взгляд, а жарким дыханием земных недр, в которых рождались вишнёвые яхонты (аметисты – прим. авт.). Даже если бы Брана оделась сейчас, это не спасло бы Ильгу. От этих глаз никуда не спрячешься.
– Не смотри на меня так, – пробормотала рыжая кошка, отползая.
– Как? – смешливо прыснула Брана.
А спустя несколько гулких мгновений, полных колокольного трезвона, она обрызгивала лицо Ильги водой из своего рта и хлопала её по щекам.
– Ну, сестрица, и горазда ты в обмороки падать! – посмеивалась она, склоняясь над рыжей кошкой.
Её грудь смотрела сосками Ильге прямо в лицо. Вздумай та приподняться – и уткнулась бы прямо в неё.
– Слу-ушай! – В широко распахнувшихся глазах Браны искрилось озарение. – А может, это всё-таки знак? Может же такое быть?
– Не может! – глухо прохрипела Ильга. – И убери свои сиськи от моего лица! И так дышать нечем...
– Ну почему нет-то? – Вопреки просьбе Ильги Брана ещё больше навалилась на неё, почти придавив собой и пальцами перебирая прядки рыжих волос. – Мы – женщины-кошки. Мы можем и супругу оплодотворять, и сами потомство вынашивать, ты забыла? Говорят, в старые времена только кошка с кошкой и сходились, а потом стали выбирать себе жён среди человеческих девушек из соседних земель. И коли дитя выкармливала его человеческая мать, рождалась не кошка, а помесь... Их стали звать белогорскими девами.
– Да знаю я всё это! – воскликнула Ильга, барахтаясь под северянкой. – Просто я... Меня к кошкам не тянет, я девушек люблю! Да пусти ты меня! И сиськи свои убери!
– Пока не попробуешь, не поймёшь, тянет или нет, – мурлыкнула Брана, отодвигаясь – кошачьи-гибко, тягуче и чуть лениво.
Она разлеглась животом кверху, шаловливо скосив на Ильгу лиловые глаза и всем своим видом как бы говоря: «Почеши мне пузико!» Одежды на ней не было – сама Лалада велела перекинуться, что северянка и сделала, превратившись в белую кошку с рыжими пятнами. Солнечное золото тронуло шапочкой её голову, зад, бёдра и хвост. Огромный пушистый зверь томно потягивался и мурлыкал.
– Ну и что ты этим хочешь сказать? – хмыкнула Ильга.
«Погладь меня», – прозвучал мыслеголос Браны.
– Ещё чего! – буркнула Ильга.
Но тёплое мурчание странным образом действовало на неё, наполняя тело приятной тяжестью и закрадываясь в душу на мягких лапах. Рука сама тянулась, чтобы запустить пальцы в густой мех, и Ильга с усмешкой почесала подставленное пузо. Давно она не чесала кошек... С самого детства, наверное, когда родительница и старшие сёстры баюкали её, принимая звериное обличье. Что-то было в этом родное, естественное, как дышать, есть и спать. Она и сама не заметила, как перекинулась, и они с Браной помчались по лесу наперегонки. Ковёр опавших листьев разлетался из-под широких лап, сердце стучало, грудь дышала... Две кошки покатились пушистым клубком по земле, играя и в шутку борясь; Ильга была рыжей от макушки до кончика хвоста, с полосками более тёмного оттенка на спине.
«Рыжик-пыжик», – «сказала» Брана посредством мыслеречи.
«Сама ты пыжик», – фыркнула Ильга, но уже не сердито: в её душе резвился маленький весёлый котёнок.
Мстя за «пыжика», она прыгнула на Брану и придавила собой к прохладной влажной земле. С обеих сторон посыпались удары лапами, но не в полную силу, а так, играючи. Они дурачились, как легкомысленные вертлявые подростки, не оставаясь на одном месте дольше нескольких мгновений.
А потом ладонь заскользила по коже, два дыхания смешались, два тела переплелись. Выбрав местечко посуше и стиснув друг друга в объятиях, они тёрлись носами и легонько покусывали друг другу губы, а солнечные лучи согревали их остатками грустного осеннего тепла. Наигравшись в догонялки, они отдыхали и нежились. Ласки, сначала неуверенные и исследующие, понемногу осмелели; вскоре кожа Ильги горела от поцелуев-укусов, которыми Брана покрывала её с головы до ног. Рыжая женщина-кошка уже познала близость с девушкой, но только в качестве оплодотворительницы; мысль о том, что «там» она ещё девственница, заставила её напрячься, но отступать было поздно. Она позволила Бране главенствовать и проникнуть, но только пальцами. В миг проникновения она прихватила кожу северянки на плече зубами, оставив на ней красные пятнышки, а на спине – следы от когтей. Припухлость под челюстью Ильги разрешилась во время этого укуса: по телу Браны потекли белёсые тягучие струйки. Это было остро, сладко и изматывающе, как погоня. Её сердце ещё не замедлило своего бешеного стука, а Ильга уже навалилась на северянку:
– Моя очередь... Ну держись, сейчас я тебе задам!
Она хотела отыграться за всё: и за купание в ручье, и за обстрел репьями, и этот белозубо-дерзкий смех, и за невыносимо-лиловые чары глаз. Но не вышло у неё быть грубой: стоило Бране мурлыкнуть ей на ухо, и Ильга растаяла, растеклась. Облапив северянку объятиями, она вжимала её в себя и сама в неё втискивалась – до исступления, до писка, до звёздных взрывов перед глазами.
Забытый костёр уже погас и исходил последними струйками дыма, когда они вернулись к сушившейся одежде. Брана пощупала свою куртку, сунула руку в меховой сапог:
– Сыроваты ещё, но сойдёт. А твоя одёжа уже сухая.
Они оделись. В животе Ильги бушевало пламя голода, а голова отяжелела, точно и впрямь лихорадкой охваченная.
– Пожевать бы чего-нибудь, – пробормотала она, сглотнув слюну.
Они могли бы добыть дичь прямо здесь, в лесу, но обе были сейчас слишком тяжёлые и ленивые, разморённые и опустошённые. Как утолить голод, не прилагая больших усилий?
– На охоту меня уже не хватит, – сказала Ильга, растянувшись на животе около погасшего костра. – Притомилась я что-то...
– И меня лень одолела, – созналась Брана. – Загляну-ка я домой: может, там Ягодка что-нибудь сготовила. Тебе принести?
– А Ягодка – это кто? – приподнявшись на локтях, спросила Ильга.
– Сестрица моя младшая, – улыбнулась северянка. – Жди тут, я скоро обернусь!
И она исчезла в проходе, а рыжая кошка осталась наедине со своими мыслями и чувствами у остывающих угольков. Распутать этот клубок было непросто, и Ильга закрыла глаза, слушая дышащий, шепчущий полог леса.
Вскоре Брана вернулась – с корзинкой в руках.
– Не-а, обед у Ягодки ещё не готов, – сообщила она. – Но кое-что я нам всё-таки добыла.
Она поставила корзинку наземь и принялась доставать оттуда съестное: холодные вчерашние лепёшки, солёную рыбу, калач, кувшин клюквенного морса и сырое китовое мясо, нарезанное тонкими полосками.
– Сейчас поджарим, костёр только надо снова раздуть, – сказала она. И добавила, кивая в сторону мясных полосок: – Это свежее, нынешнего улова.
Она набрала шишек и веток и оживила огонь. Очень тонко нарезанное мясо северянка не стала жарить долго, и внутри оно осталось с красным соком. Оно напоминало по вкусу говядину. Холодные лепёшки были неплохи, хотя Ильга предпочитала свежеприготовленную пищу. Впрочем, в пожаре её голода сейчас сгорело бы всё что угодно, даже сапожные подошвы. А вот солёная рыба рыжей кошке пришлась очень по вкусу; впрочем, североморский лосось подавался даже к княжескому столу – кто бы стал воротить нос от такого роскошного яства?
– Мр-р-р, рыбка – чудо, – проурчала Ильга, смакуя мягкое, розовое, сочащееся жиром мясо. – Благодарю тебя за угощение.
– В следующий раз ты угощаешь, – улыбнулась Брана.
Вместе с сытостью на Ильгу снизошла печальная задумчивость. А нужен ли он – следующий раз? Правильно ли это?
– Мне надо подумать, – сказала она. – Дай мне время.
– Сколько? – Брана вытерла жирные от рыбы пальцы куском лепёшки, съела его и запила морсом.
– Не знаю, – щурясь в светлую, беззаботную лесную даль, за стволы, вздохнула Ильга. – А если мы ещё встретим наших суженых? Вдруг то, что у нас сейчас было – ошибка? А коли ошибка, то к чему продолжать?
У Браны тоже вырвался вздох – лёгкий, сквозь грустноватую улыбку.
– Я не знаю, сколько мне отведено времени, – проговорила она. – Белая Мать один раз пощадила меня... Кто знает, будет ли она столь же милостива в следующий раз? Что ж, думай, но помни об этом.
Щемящая тоска шипом пронзила душу рыжеволосой кошки. От мысли о том, что жестокое море может навеки поглотить Брану, и мир уже не услышит более её голоса и смеха, Ильге вдруг стало до дрожи в руках зябко и неуютно, до щиплющей влаги в уголках глаз страшно. Если бы две Лаладины седмицы тому назад ей кто-нибудь сказал, что она будет трястись от страха потерять эту несносную, возмущавшую её до глубины души северянку, она рассмеялась бы ему в лицо. Или Брана уже не была несносной, нелепой и возмутительной?
В размышлениях миновали осень и зима, вновь задышала земля, освобождаясь из ледяного плена, а небо распахнуло над Белыми горами безупречно чистую, зеркально-безмятежную лазурь. Весной дышало оно, о весне пел ветер, весной бредили звёзды, о ней же без умолку чирикали птицы. Ещё лежали там и сям островки грязного снега, а Ильга уже ждала Лаладиной седмицы, как из печи пирога. Ей хотелось наконец распутать этот тугой узел, найти ответ на вопрос: кто же, кто же на самом деле ждёт её по ту сторону девичьих хороводов? Может, птицы перелётные знали? Они много видели – может, и её ладу тоже?
Слышала Ильга от родительницы об одном любопытном способе узнать свою судьбу. Следовало рано утром, ещё до рассвета, прийти к Тихой Роще и спросить: «Сосны-матушки, кто моя суженая?» – после чего трижды пешком обойти всю Рощу кругом. Завершив третий круг, нужно было шагнуть в проход. Куда он выведет, там судьбу и искать надобно. Гадать таким образом предписывалось во время Лаладиной седмицы, вот Ильга и ждала с нетерпением заветной поры весенних празднеств и гуляний. А когда мысли об этом слишком уж одолевали её, она успокаивала себя работой.
Лаладина седмица настала с той же неизбежностью и неизменностью, с какой тает по весне снег и распускаются почки на ветках. Всюду звучал смех и музыка, опять статные и нарядные женщины-кошки красовались в вышитых кафтанах, сходились в игривых схватках и высматривали среди сотен девичьих лиц то единственное... Ильга не стала тратить время на участие во всеобщем веселье, её душа истомилась в поисках ответа, и она сразу пошла искать его у Тихой Рощи.
Небо ещё только начинало светлеть на востоке, Роща была погружена в свой вечный, нерушимый покой, пропитанный медово-хвойным духом. Припомнив, что задавать вопрос надлежало лицом к восходу, Ильга устремила полный надежды взгляд в ту сторону, откуда скоро предстояло подняться солнцу.
– Матушки-сосны, – прошептала она, обращаясь всем своим полным томления сердцем к прародительницам. – Подскажите мне, кто моя суженая, в какой стороне судьба моя ждёт меня?
Звук её голоса растаял в предрассветной тишине. Ничто не шелохнулось в ответ, спали лица огромных кряжистых сосен... Но Ильга верила: Роща слышит, Роща обязательно поможет и подскажет. Она двинулась в свой первый круг, вдыхая чистый, умиротворяюще-сладкий воздух этого благодатного места.
Никто не мешал ей, ни единой живой души не встречала она на пути, пока не вернулась на место, с которого начинала свой обход. Каково же было её изумление, когда она увидела там знакомый красный кафтан и услышала голос северянки, вопрошавший тихорощенское сосновое безмолвие:
– Матушки-сосны, кто моя суженая? Подскажите, дайте ответ...
Подойдя, Ильга с усмешкой проговорила:
– Мда... У дураков мысли сходятся.
Брана обернулась на голос и блеснула белыми клыками в улыбке.
– Здравствуй... Что, и ты тоже гадаешь?
– Как видишь, – ответила Ильга, жадно всматриваясь в северянку и прислушиваясь к своему сердцу.
В нём была только искренняя радость и желание сграбастать Брану в объятия и стиснуть с медвежьей силой, но Ильга отчего-то стеснялась открыто обнаруживать истинные чувства. Напустив на себя насмешливость, она заметила:
– Что-то я не вижу у тебя запасов жирка для охоты. Скудная зима выдалась?
Брана и в самом деле не особо поправилась, пояс сидел на ней туго, обозначая довольно узкую талию. В ответ на замечание Ильги на её губах проступила смущённая улыбка – какая-то щемяще-беззащитная, простая, почти детская.
– Да нет, съестного было вдосталь. Но кусок в горло не лез.
Теперь и сердца Ильги коснулся лёгкий жар смущения, и собственный вопрос показался ей неуместным, грубоватым, обидным. Угораздило же её ляпнуть! Видно, и Бране эта зима далась нелегко.
– Ты просила дать тебе время подумать. Вот... Ждала, что ты надумаешь, – сказала северянка. – Ответа твоего ждала.
– Прости, что долго молчала, – пробормотала Ильга, ощутив болезненный укол раскаяния. – Как же ты теперь на охоту-то пойдёшь?
– Так же, как и всегда, – пожала плечами Брана, глядя на рыжую женщину-кошку всё так же мягко, грустновато-ласково, без тени упрёка. – Авось, выдержу. Я крепкая.
– Слушай, может, хоть не на всё лето пойдёшь? – обеспокоенно предложила Ильга. – Сколько сможешь, столько и поохотишься, а как почувствуешь, что сил больше нет – возвращайся домой и отдыхай. Ни к чему себя изматывать.
Улыбка Браны блеснула ясным первым лучиком зари, а от её взгляда у Ильги в груди стало горячо и тесно.
– А вот и твой ответ, – сказала северянка, обняв Ильгу за шею и поцеловав в губы. И спросила со смешком: – Ну что, гадать-то будем? Или и так всё ясно?
– Не знаю, что тебе там ясно, – буркнула рыжая кошка, от смущения опять становясь колючей и задиристой. – А я, раз уж пришла и первый раз вокруг Рощи обошла, пройду и остальные два. А ты сама решай, дело твоё.
– Язва ты моя рыжая, – засмеялась Брана. – Ладно, давай погадаем, коль уж пришли. Вместе пойдём или в разные стороны?
– Я пойду в ту сторону, в какую и шла, – решила Ильга, слегка задетая «язвой», но в душе чувствуя, что и впрямь перегибает палку. – А ты в другую иди.
– Как скажешь, рыжик-пыжик. – И Брана, чмокнув Ильгу, отправилась в свой первый круг.
Ходьба немного успокоила Ильгу, однако поцелуи всё ещё горели: один – на губах, другой – на щеке. Эта несносная северянка и целовала несуразно – так, что и не вытравишь из памяти, не затрёшь ничем, не заешь и не запьёшь. Её запах оставался с Ильгой – особый, северный. В нём смешивался запах моря, рыбы, топлёного жира, ещё чего-то такого особенного... Не сказать, что неприятного, но очень въедливого, приставучего и несмываемого.
Они встретились дважды. Оба раза Брана сияла ласковой улыбкой, а Ильга хмурилась и отводила взгляд. Крепко запала ей в душу северянка, и вместе с тем что-то в ней противилось, возмущалось и восставало против Браны. Ну не может же быть на самом деле, что её суженая – вот это чудо с лиловыми глазами!
– Ну, что же вы ответите, сосны-прародительницы? – пробормотала Ильга, подставляя лицо лучам тихорощенской зари. – Вот только не говорите мне, что это она.
Закрыв глаза, она шагнула в проход. Ей страшно было открыть их, и она ступила на землю по другую сторону с зажмуренными веками. Первые торопливые шаги Ильга делала вслепую, пока её движение навстречу судьбе не закончилось лобовым столкновением. Причём лобовым в самом буквальном смысле: она врезалась в кого-то с очень твёрдым черепом.
От удара рыжая женщина-кошка не устояла на ногах, а от снопа искр, взорвавшегося перед её глазами, могла бы заполыхать вся Тихая Роща. Шишка вздулась у неё на лбу в считанные мгновения, а чтобы добить её окончательно, шутница-судьба усадила её на траву напротив Браны, чей лоб был украшен точно такой же шишкой.
– Ты? Какого лешего! – устало простонала Ильга, упав навзничь. – Нет, этого я не вынесу.
– Ну, здравствуй, ладушка, – прозвучал над нею смеющийся голос Браны.
– Не называй меня так! Это звучит... нелепо! – вскричала Ильга.
Череп трещал от боли, тихорощенская земля качалась под ногами, когда она пыталась с грехом пополам встать. Но Ильга досадливо отпихнула руку северянки, которая хотела было поддержать её.
– Ой, не трогай, не до тебя мне! – И Ильга, держась за гудящую голову, угодила в открывшийся рядом проход.
Он вывел её в середину девичьего хоровода: Лаладины гулянья были уже в разгаре. У рыжей кошки и без того голова звенела колоколом, а круговерть юбок, белых вышитых рубашек и ленточек ввергла её в пучину тошнотворной дурноты. Нутро выворачивалось наружу. Какая-то девушка схватила её за руку:
– Попляши со мной!
– Меня сейчас вырвет, – сдавленно пробормотала Ильга и зажала себе рот.
Она поползла на четвереньках куда глаза глядят. Впрочем, глаза её видели сейчас только траву и танцующие ноги – множество ног, от мельтешения которых дурнота усиливалась. Уткнувшись в чьи-то расшитые бисером сапоги с золотыми кисточками, Ильга нащупала полы красного кафтана – слишком знакомого...
– Рыжик, ну что ты! Давай, вставай потихоньку, держись за меня... Больно ударилась? Ну прости, прости. Пройдёт, всё пройдёт, до свадьбы заживёт!
Северянка чмокнула Ильгу в шишку – на глазах у всего честного народа. Скорее всего, на самом деле на них мало кто обращал внимание, но Ильге казалось, что глазели все, кому не лень – все, кто был на празднике.
– Да пусти ты! – И она отпихнула Брану довольно грубо.
Уж такой у неё был нрав: не любила она, когда её вгоняли в краску и, смущаясь, свирепела. Нападение было её защитой, и порой она не знала меры. Не так, совсем не так представляла она себе встречу со своей суженой... Нет, это какая-то ерунда, ошибка, не может этого быть! Она просто неправильно что-то сделала, не так задала Роще вопрос, не в ту сторону пошла... Да, наверно, стороны перепутала: надо было всё время идти в одном направлении, а она отправилась в обратном. Эта северянка снова ей всё испортила!
Но почему так щемило сердце от детски-беззащитной улыбки Браны и от её застенчиво-ласковых слов: «Твоего ответа ждала»? Почему так тревожилось оно за белокурую охотницу – выдержит ли та тяготы нынешней китобойной поры, не измотает ли её промысел, не заберёт ли к себе Белая Мать? От всего этого пухла голова, рвалась в клочья душа и болели все зубы разом. И совершенно необходимо было вылить в себя кубок чего-нибудь горячительного, а лучше ведро.
Столы с яствами и напитками были к услугам празднующих – бери, что хочешь, ешь-пей, сколько влезет. Схватив кувшин с хмельным мёдом, Ильга приникла к горлышку и не отрывалась очень долго, пока тяжесть опасно переполненного желудка не вынудила её остановиться. Кажется, даже живот заметно выпирал – столько она в себя влила. Ильга ждала немедленного облегчения своего душевного смятения, но хмель не спешил приходить: он и не мог охватить её раньше, чем выпитое всосётся, а для этого требовалось время. «Не поможет это, не надейся, – сказал мрачный, трезво мыслящий внутренний голос. – Это не помогало ещё никому и никогда».
Её тянули плясать: одна девушка уцепилась за одну руку, вторая тащила за другую, но Ильга превратилась в ходячий булькающий бурдюк с мёдом. При каждом движении в животе плескалась жидкость, это было неудобно и неприятно, а тут ещё и долгожданный хмель начал наконец-то ударять в голову. И хмельная головушка потеряла связь с ногами: те начали выписывать кренделя и двигаться совершенно независимо от воли и желания Ильги. Они обрели полную свободу: хотели – вправо плелись, хотели – влево спотыкались, а ежели им вздумается, то и петлями бродили.
– Иля, всё, тебе уже хватит. – Откуда-то взявшаяся Брана, приобняв загулявшую Ильгу за плечи, пыталась помочь ей подчинить вышедшие из повиновения ноги. – Пойдём, отдохнуть тебе надобно...
Но хмель влил в кровь рыжей женщины-кошки какое-то злобное, подозрительное, зверское безумие. Даже самые учтивые и ласковые слова казались ей оскорблением, ей в них мерещился иной, подспудный, дурной смысл. Она посмотрела на северянку сквозь мутный прищур.
– С какой это стати ты решаешь, когда мне хватит? – проговорила она, с трудом ворочая языком, который решил последовать примеру ног и тоже взбунтоваться. – Сколько хочу, столько и пью... И никто мне не смеет указывать!
– Я и не указываю, Иленька, я просто тебя уберечь хочу, – мягко увещевала северянка. – Тебе ведь потом худо будет! Перебрала ты, нельзя больше, моя хорошая. Пойдём-ка, я тебя в тенёк отведу, устрою удобно, и ты поспишь...
Вкрадчивая ласка её голоса, добрый свет лилово-синих глаз, мягкое, но настойчивое прикосновение рук, стремившихся куда-то Ильгу отвести – всё это хмель извращал, переворачивал с ног на голову, заставлял искать злой умысел. Ильга с силой оттолкнула Брану и едва не упала сама, но заплетающиеся ноги каким-то чудом удержали её в стоячем положении.
– Отстань! Вечно ты всё портишь... Откуда ты только свалилась на мою голову, репей ты приставучий?
Вырвавшись от Браны, Ильга ринулась в самое средоточие бурлящего праздника. Впрочем, ринулась – это громко сказано, скорее – поплелась, шатаясь из стороны в сторону на своих объявивших полную независимость ногах. Везде, где пролегал её путь, происходил переполох: то она врезалась в девичий хоровод и разбила его, распугав девушек; то налетела на подставку с шестами и деревянными мечами и упала, погребённая под рассыпавшимися ратными снарядами; то с глупым смехом вклинилась промеж собравшейся поцеловаться парочки. Какая-то женщина-кошка сделала ей замечание:
– Шла бы ты отдыхать, сестрица! Перебрала ведь. Колобродишь, буянишь, праздник людям портишь. Нехорошо это. Ступай-ка, проспись!
Может, Ильга и рада была бы всё это прекратить, но она уже себе не принадлежала, её трезвый разум был сплющен и втоптан в траву, а наружу вырвался зверь-буян, зверь-задира и безобразник.
– Это кто портит праздник? – икнула она. – Это я порчу? Врёшь, сестрица! Ох, врёшь! А я вранья не терплю... На тебе, получи!
И совсем распоясавшийся зверь полез в драку. Ну, как полез?.. Пару раз махнул кулаками, но получил от трезвой и твёрдо державшейся на ногах противницы весомый тычок, который сшиб его с ног.
– Всё, всё, сестрица, не надо! Она больше не будет, мы сейчас уйдём.
Это Брана со своей упреждающей, ограждающей, миротворческой лаской очутилась рядом и прикрыла Ильгу от занесённой руки незнакомой женщины-кошки.
– Да уж пусть сделает одолжение и проспится где-нибудь под кустиком, – хмыкнула незнакомка.
Ильга уже не понимала, сама она идёт или её несут, перекинув через плечо. А может, теперь уже и руки сбрендили, и она шагала на них, а ноги болтались вверху?
– Вот так, приляг, Иленька. Не надо буянить, до добра это не доведёт...
Брана сгрузила её на траву под раскидистым кустом черноплодной рябины. Измученный хмелем зверь-буян слабел, им овладевала дурнота, но в бессильном раздражении он всё-таки ударил это подозрительно добренькое, коварно-ласковое лицо северянки.
– Да уйди ты!.. Глаза б мои тебя не видели...
Брана лишь немного отшатнулась от удара, недостаточно сильного, чтоб сбить её с ног, но на губе у неё выступила кровь. Она утёрлась пальцами, глядя на Ильгу с горечью, но без ответной злобы.
– Хорошо, Иля, как скажешь. Коли я тебе так ненавистна, я уйду. А ты отдыхай. И поосторожнее с хмельным, до беды оно тебя доведёт.
Зверь остался один под кустом. Его буйство затухало, слабость всё больше охватывала тело, дурнота выкручивала желудок, и последний пришлось облегчить. После этого Ильга провалилась в прохладный морок хмельного полузабытья. Её никто не беспокоил, и она благополучно продрыхла до конца праздничного дня.
Проснулась она с мучительно пересохшим горлом и тягучей тоской то ли в душе, то ли в кишках. Все разошлись, столы были убраны, даже водички некому поднести... Где-то сейчас та конопатая синеглазая девчушка-попрыгушка? Наверно, уже давно нашла свою избранницу... Избранницу! Тоска так вгрызлась в нутро Ильги, что она застонала и взвыла сквозь стиснутые зубы. Перебрала, перегнула палку, натворила дел!.. И, кажется, Брану ударила. Сквозь туманную похмельную дымку на неё с грустным укором смотрели добрые лилово-синие глаза северянки. Брана не дала сдачи, просто ушла... В гудящей, опухшей голове Ильги крутились образы, в ушах перезванивались мелкие бубенцы, всплывали в памяти отголоски ласковых слов: «Иленька, ладушка». Странно, смешно звучали они по отношению к ней, но от них тёплая щекотка будоражила душу, будила в ней что-то новое, никогда доселе не испытанное.
Что же делать-то теперь? Зря она обидела Брану, незаслуженно ударила: ведь та только уберечь её, дурёху пьяную, хотела. Всем своим телом, мучимым похмельной тошнотой, и душой, объятой совестливым сокрушением, Ильга плюхнулась в холодную воду озера – рассекла сверкающее на солнце серебристое зеркало, поплыла широкими взмахами. Водица бодрила, возвращала к жизни, улучшая телесное самочувствие, но как успокоить сердце, которое так разнылось и разболелось, что и белый свет не мил?.. Сидя на берегу и обсыхая на солнышке, слушала Ильга усыпляющий, чарующий шёпот сосен, да только покой не наставал. Чувство, что она сделала нечто очень нехорошее и, быть может, даже непоправимое, подтачивало рыжую кошку изнутри – так, что и весна, и сама жизнь стали не в радость.
Больше в эту Лаладину седмицу Ильга не показалась на праздновании ни разу. Хватило с неё и того, что она там накуролесила – людям на смех, а ей самой в упрёк. Стыдоба, срам! Окунаясь в работу, пыталась она забыться, но и запах свежераспиленного дерева, и солнечное золото стружек и опилок не налаживали настроения. То, что обычно приносило ей удовольствие, теперь не радовало, не восстанавливало душевного равновесия. А всё почему? Потому что пронзительное чувство невосполнимой потери выстуживало душу, морозило малейшие ростки надежды на будущее счастье. Пыталась Ильга себя успокаивать: «Ничего, авось, всё будет хорошо, утрясётся как-нибудь». Тщетные, слабые попытки... Ничего не наладится, не утрясётся! Потеряла Ильга что-то важное, перерубила главную жизненную жилку, по которой текли соки души, питая всю её смыслом, теплом и умиротворением.
Вот уж сады зацвели, полетела душистая метель лепестков, а Ильга всё не двигалась с места, не решаясь предпринять хоть что-то, что исправило бы беду. Уже и лето вступило на Белогорскую землю, раскинуло цветочные ковры – покататься бы по ним, поваляться, духа лугового, медового глотнуть... Не пелось, не плясалось Ильге, ни светлое приволье полевое, ни лесной шорох душу ей не услаждали.
– Матушка Добровида, тяжко мне, тошно, – призналась она родительнице-деве, когда ей невмоготу стало от этого удушающего бездействия, засосавшего её, подобно болоту.
– Отчего же тебе тошно, дитятко? – вскинула на неё лучистые серовато-голубые глаза матушка, сидя у окна светлицы за шитьём. – Что снедает тебя, что гложет?
Была матушка Добровида тем бесценным источником мудрости и покоя, к которому Ильга прибегала, когда совсем уж становилась в тупик. Гордость мешала молодой женщине-кошке просить советов у старших слишком часто, ведь это означало расписаться в собственной беспомощности и незрелости. Но сейчас не до гордости стало, вот и присела Ильга на низенькую ножную скамеечку подле матушки, положив руки ей на колени. Хотелось уткнуться в них, как в детстве.
– Запуталась я, матушка, – вздохнула Ильга. – Искала я свою суженую, и вот – вроде бы и нашла, а вроде бы и нет. Не знаю, она это или не она. Знаки показывают, что это она, но мечется моя душа, в недоумении я.
– А сердце что тебе подсказывает? – кладя стежок за стежком, спросила матушка Добровида.
– Ох, сердце в таких сетях запуталось, что вовек не распутать! – с горьковатым смешком ответила Ильга. – Сама не знаю... Вроде бы и думается мне о ней, и тоскуется, и тревожусь за неё, и скучаю, когда не вижу, а свидимся – и точно подменяют меня. Может, нутро у меня такое – недоброе, мятежное да колючее? Слова говорю колкие, злые, обижаю её... Обидела я её, матушка, сильно обидела!.. Не знаю, простит ли она меня.
– Смотря как обидела, – молвила родительница, склоняясь над дочерью и кладя маленькую тёплую руку на её рыжую макушку. – Но любящее сердце способно простить обиду.
– Ударила я её! – сокрушённо призналась Ильга. – Во хмелю была, вот и творила невесть что.
Матушка Добровида нахмурилась, даже иголка в её пальцах замерла. Долго молчала она, сидя в печальной задумчивости.
– Худо ты поступила, дитятко, – вымолвила она наконец, глядя на Ильгу с искорками боли в светлых, добрых глазах. – Нельзя поднимать руку на свою ладу! С каждым ударом убиваешь ты любовь и становишься дальше от света Лалады. Чем же так прогневала тебя лада, что ты дошла до такого?
– Не в ней дело, это всё моя дурь, – поникнув под незримой тяжестью вины, проронила Ильга. – Не угодила она мне лишь тем, что оказалась не такой, как я ожидала. Вроде бы душа и тянется к ней, но... дурная моя голова никак не может это переварить!
Матушка Добровида улыбнулась, лучики-морщинки пролегли в уголках её глаз.
– Самое главное – душа к ней тянется, – сказала она, принимаясь снова за работу иглой. – В жизни так часто бывает: в мечтах видится одно, а получаем совсем иное. Тут два пути: или пересмотреть мечты свои, взвесить их заново, или отвергнуть полученное. Вот только не придётся ли пожалеть после?
– Жалею, родная, уже жалею... – Ильга устало закрыла глаза, впитывая всей душой тепло матушкиной руки, которая опять ласкала копну её рыжих кудрей. – Что же делать мне теперь? Прощенья у неё просить? Боюсь, что не простит она.
– Ты этого не узнаешь, ежели сама у неё не спросишь, – и матушка легонько прильнула губами к челу дочери, за которым теснились смятенные думы.
Ильга была благодарна матушке за этот разговор, многое расставивший по местам в её душе, оставалось сделать самое трудное – пойти и сказать пресловутое «прости». Вот уж задача так задача! Случаи, когда рыжая кошка просила в своей жизни прощения, можно было пересчитать по пальцам одной руки, да и то половина из них осталась бы не загнутой. Но как жить с перекрытой душевной жилкой, по которой струились питающие её жизненные соки? Отмирала душа, засыхала, как перерубленный стебель.
Проход вывел Ильгу на морской берег. Ух и неласковым было северное лето! Из своего зверолесского тепла – да в острую, пронизывающую прохладу перенеслась она, и перед ней раскинулась блестящая на солнце морская ширь. Прибой лизал прибрежную гальку, а у деревянного причала на волнах покачивался крутобокий струг. Вдоль берега деловито сновали кошки-охотницы в высоких, перехваченных ремешками сапогах и плащах из тюленьей кожи с наголовьями и прорезями для рук. Струг готовился к отплытию.
Ильга переводила взгляд с одной кошки на другую. Все они, в плащах и сапогах, казались одинаковыми – где же её родное белокурое недоразумение? Под каким из этих серых кожаных наголовий пряталось лунно-круглое лицо с добрыми лилово-синими глазами?
– Брана! – окликнула Ильга. – Ты здесь?
Несколько кошек обернулись на голос, но не потому что носили это имя, а так – из любопытства. А одна охотница, передав другой копьё с толстым древком и мощным наконечником, сказала: «Подержи-ка», – после чего отделилась от кучки китобоев и направилась к Ильге. На ходу она откинула наголовье, северное солнце озарило прохладный светлый лён её волос, подвязанных через лоб тесьмой-очельем, и на Ильгу посмотрели знакомые глаза цвета мышиного горошка.
– Здесь, Иля. Только мы уже вот-вот отчалим, охота начинается.
Солнце отражалось в её глазах, не омрачённое даже тенью обиды или укоризны, только мягкая грусть звучала в голосе белокурой кошки. Все слова застряли в горле Ильги громоздким, невыносимо солёным саднящим комом, и она просто облапила Брану медвежьими объятиями.
– Не изнуряй себя, слышишь? – сипло выдохнула она, стискивая охотницу что было сил. – Не надо ложиться костьми. Тут у вас и без тебя есть кому охотиться. Ты мне живая и здоровая нужна, поняла?
– Не тревожься, мордочка моя рыженькая, – ласковым, щекотно-бархатным полушёпотом сказала Брана, отвечая Ильге не менее крепкими объятиями. – Поглядим, как пойдёт. Коли выдюжу – полное лето отработаю, а нет – надрываться не стану. Или передышку сделаю, отдохну с тобою, а потом опять – в море. Ты же поможешь мне силы восстановить, да, Иленька?
Слова перемежались поцелуями: и крепкими чмоками по щекам, и более нежными и страстными – в губы. Ильге уже было всё равно, смотрят на них или нет; краем глаза она видела – да, пялятся и перешёптываются со смешками, но это её не заботило. Теперь она чувствовала: всё правильно, всё так, как и должно быть. Восстановленная жилка билась, наполненная живительной душевной силой.
– Брана, отплываем! – крикнули со струга. – Прощайтесь там поживее, ждать не станем!
Белокурая кошка напоследок стиснула Ильгу до треска рёбер и крепко впилась поцелуем в губы.
– Всё, мне пора. Когда вернёмся – не знаю... Может, сегодня к вечеру, а может, завтра утром, как получится.
– Я буду ждать здесь, – сказала Ильга, содрогаясь в предчувствии расставания и не зная, как разомкнуть руки, как дышать после этого.
– Да что ты, рыжик, озябнешь! – озабоченно нахмурилась Брана. – Не надо, ступай к себе домой, в тепло, там и подожди. А чуть попозже – приходи. Вернёмся с добычей – пир закатим.
Они вместе прошагали по причалу до судна. Объятия всё-таки разомкнулись, и Брана вскочила в струг – пружинисто-лёгкая и по-кошачьи гибкая, по-звериному сильная. Ей бросили её копьё, и она поймала его, сжала древко крепкой рукой, прощаясь с Ильгой долгим, неотрывно-нежным взглядом. Среди поднятых наголовий только её светловолосая голова оставалась непокрытой, и Ильга ещё долго видела её на удаляющемся струге.
Бывает, что и от счастья теряешь покой. Весь остаток этого дня Ильга не находила себе места, взбудораженная радостным ожиданием. Чуть ли не ежечасно она переносилась на морской берег и смотрела вдаль – не появится ли струг? И кусок в горло не лез, и работа не ладилась, как будто кто-то вынул её руки из плеч и переставил на другое, не предназначенное для них место. А всё оттого, что Ильга мыслями и душой рвалась к Бране. Матушка Добровида сразу заметила перемену в её настроении:
– Что, дитятко, помирилась со своей ладой?
Дабы не сглазить, та ответила уклончиво:
– Ближайшие день-два покажут.
– Когда же ты нас с нею познакомишь? – с улыбкой спросила родительница.
– Ох, не будем загадывать, – засмеялась Ильга.
Сперва нужно было вынести это ожидание и снова обнять северянку, живую и здоровую. Случилось это в вечерних сумерках; кутаясь в плащ, Ильга зябла на берегу, а в темнеющей морской дали виднелись очертания струга. Сердце согрелось, растаяло от облегчения, и Ильга, выскочив на причал, замахала руками:
– Брана!
Неторопливо шёл к берегу струг: не пустой он возвращался – с добычей. Чуть поодаль виднелась туша огромного морского зверя, окружённая поплавками – очевидно, чтоб не затонула. Она была привязана к судну толстым канатом.
Брана первой выскочила из причалившего струга и чуть не сшибла Ильгу с ног. У той дух перехватило от неистовых объятий, а ступни оторвались от пристани: это Брана приподняла её и закружила с урчанием и смехом. И снова – град поцелуев, под который рыжая женщина-кошка подставляла лицо и губы, да и сама в долгу не оставалась.
Тушу кита вытащили на берег и приступили к разделке. Запылали в сумраке костры, озаряя деловито снующие фигуры охотниц, запахло топлёным жиром; то, что ещё недавно было живым существом, лежало со вспоротым брюхом, и ручьи крови утекали в море, окрашивая воду. Часть мяса откладывали для летнего потребления, часть оставляли на зиму. Перед закладкой мяса в пещеры-морозильники охотницы зашивали его в мешки.
– Это нам, – сказала Брана, вручая Ильге большую тяжёлую корзину, полную мяса. – Поджарь несколько кусочков, а я ещё поработаю: до ночи надо с тушей управиться.
Ильга, никогда прежде не видевшая, как разделывают кита, чувствовала себя так, словно её огрели по голове чем-то тяжёлым. Даже будучи завзятой мясоедкой и кошкой-хищницей, она слегка обалдела от столь кровавого зрелища. Для Браны же всё это было привычно и обыденно; засучив рукава, она орудовала огромным ножом длиною чуть ли не с меч.
Когда Ильга опомнилась, Брана уже возвращалась к костру.
– А где наш ужин, рыжик? У меня с утра ни крошки во рту не было!
Ильга спохватилась: она так и не поджарила мясо, как Брана её просила. Разделка китовой туши так поразила её во всех смыслах, что она забыла обо всём на свете.
– Я сейчас, Брана... Сейчас, – заторопилась она.
Руки слегка дрожали, и она с трудом отрезала полоски мяса для жарки. Нет, не потому что не умела обращаться с ножом, просто слишком много чувств клокотало в её груди, и целая груда впечатлений свалилась грузом ей на душу. Придавленная всем этим, оглушённая, ошалевшая, Ильга неуклюже хлопотала, пока Брана не отняла у неё мягко нож с мясом и не заключила в объятия.
– Ладно, не суетись, – сказала она, устало жмурясь и потирая кончик своего носа о нос Ильги. – Сестрицы ужином поделятся, они всё равно на всех разом готовить будут – всем хватит. Что с тобой, моя родная? Ты чего трясёшься, м-м? Озябла?
– Нет, дело не в том, – ёжась от мурашек и обмирая до сладкого оцепенения в руках Браны, ответила та. – Сама не знаю, что на меня накатило... Такого со мной ещё не случалось никогда.
– В новинку тебе это всё, само собой. – Брана обвела взглядом берег, костры в сумраке отражались искорками в её глазах. – Это Север, Иленька. Такая тут жизнь. Что, не по нраву тебе?
– Не разобралась я пока, не распробовала, – проговорила Ильга, покосившись на груду мяса на берегу, уменьшавшуюся под ножами сноровистых охотниц.
Брана тесно прижала её к себе, согревая объятиями и дыханием.
– Ничего, котёночек мой рыженький, не тужи, всё наладится, – шепнула она ласково. – И на Севере жить можно, коли в душе огонь горит.
Когда работа была кончена, охотницы нажарили мяса и расселись ужинать. Уже совсем стемнело, и берег обнимала непроглядная тьма и тишина, только море дышало во мраке и тревожно ворочалось, как какой-то громадный чёрный зверь. По-разному оно разговаривало с людьми: робкой душе его шёпот казался зловещим, а могущество внушало страх, смелая же душа слышала в нём таинственный зов и приветствие. Насадив на нож полоску слегка обжаренного мяса, Брана насыщалась неторопливо и спокойно, без жадности, хоть и была, без сомнения, зверски голодна. Ильге она подкладывала кусочки помягче, посочнее. Ели охотницы и китовый жир, нарезанный крупными брусочками и обильно посоленный. На каждом брусочке с одной стороны была полоска кожи. У Ильги от такой жирной трапезы печень свернулась бы в бараний рог, а северянки – ничего, уминали за обе щеки да нахваливали. Никто Ильгу не расспрашивал и не приставал с шуточками, все уже всё знали и относились со сдержанным одобрением.
– Совет да любовь, – подмигивали сёстры Браны по китобойному ремеслу. – На свадьбу-то пригласите?
– Непременно всех позовём, – заверила та со смешком, обнимая Ильгу за плечи и крепко прижимая к себе.
Ночевали охотницы в низеньких рыбацких лачугах с крошечными подслеповатыми окошками. Эти неказистые постройки не были предназначены для постоянного проживания, в них отдыхали во время охоты и хранили снасти. Спали прямо на полу, завернувшись в мешки из оленьих шкур.
– Ступай-ка ты спать домой, рыжик мой ненаглядный, – сказала Брана. – С непривычки озябнешь ведь.
– А мне вот любопытно: влезем мы обе в один мешок? – игриво двинула бровью и уголком губ Ильга.
– Да места-то хватит, – улыбнулась северянка.
Впрочем, уснула она почти сразу: слишком устала на охоте. Крепко обняв в мешке Ильгу и прильнув к ней всем телом, она прошептала:
– Любиться-миловаться после охоты будем, а то негоже сестриц смущать. Поцелуй меня только один разочек, родная, да и давай баиньки.
Впрочем, поцелуев во мраке у них было намного больше одного, хоть дальше дело и не зашло. Губы Браны отвечали Ильге всё более вяло и расслабленно: она погружалась в дрёму, и рыжая женщина-кошка, не желая лишать охотницу необходимого отдыха, тоже угомонилась. Насыщенный выдался день, многое она пережила и перечувствовала, и ей долго не спалось, но она не беспокоила Брану, просто нежилась в тепле объятий и позволяла мыслям течь. «На свадьбу-то пригласите?» Ильга усмехнулась. Даже не верилось... То-то родные удивятся, когда увидят её суженую – не тонкую и хрупкую девушку, а северянку-китобоя... Лишь одна матушка Добровида, пожалуй, ничему не удивится, только порадуется.
* * *
Проснувшись, Брана потянула носом: пахло вкусно, но как-то по-новому. Охотницы просыпались и выбирались из своих мешков, умывались ледяной водой и собирались около очагов, чтобы подкрепиться. Уже тянуло дымом и жареным китовым мясом, но к этим привычным запахам примешивались другие, удивительные для этого места. Белокурую кошку ждал гораздо более изобильный завтрак: густая пшённая каша с курицей, ещё тёплые оладушки, купавшиеся в топлёном сливочном масле, и кисло-сладкая смесь орехов и клюквы с мёдом. Вот эти-то яства и источали столь соблазнительный дух домашнего уюта. Необычно и приятно было ощутить его здесь, в ветхих неотапливаемых лачугах у моря, на голом полу, и Брана, заурчав, выкарабкалась из спального мешка и прильнула губами к улыбающимся устам рыжей красавицы Ильги.
– Покушай домашнего, – мурлыкнула та, отвечая ей сердечным и жарким поцелуем. – Подкрепи силы перед охотой.
– Сама стряпала? – со смешком подмигнула Брана, доставая одну оладью и с удовольствием наблюдая, как с неё падают капельки золотого масла.
– Нет, это из дома моего гостинцы, а я – не великая стряпуха, – ответила Ильга. – Помнишь, ты меня угощала? Теперь моя очередь тебя кормить.
Брана свернула оладью пополам и отправила в рот целиком, а следом – немного ягодно-орехово-медовой смеси.
– М-м, жирненько, – одобрила она, жуя и подбирая пальцами капли масла с лоснящихся губ. – В самый раз, как я люблю!
– Да уж, вы тут, на Севере, большие любительницы жирного, как я погляжу, – усмехнулась Ильга.
Вчера за ужином она так и не решилась попробовать китового жира. По мнению Браны – зря, потому как ничего худого в этой пище не было, одна лишь польза. А вот знаменитое «шестимесячное мясо» она бы избраннице не предложила: только потомственные северянки могли его есть без вреда для себя.
– Так уж у нас извека сложилось, – сказала Брана. – Жир да мясо – наша главная пища.
А вот мучное и сладкое некоторые жительницы Севера – самые исконные, у которых в родне не было примеси иной, не северной крови – почти не переваривали. Брана происходила из смешанной семьи, где на столе в равной мере присутствовала и животная, и растительная еда, сладенькое белокурая кошка тоже любила, более всего уважая северные ягоды в меду – клюкву, бруснику, морошку, чернику. Она принялась за завтрак со всей возможной основательностью: наступивший день обещал новые тяжёлые труды, для которых требовались силы. Уплетая за обе щеки кашу с курятиной, кидая в рот оладушки и смакуя медовое лакомство, охотница ублажала своё чрево, а взгляд её находил усладу в созерцании роскошной огненной Ильгиной красы. Волосы у той вились крупными кудрями до плеч и отливали осенней медью, большие пристальные очи вобрали в себя всё тепло янтаря самого светлого, медового оттенка, а рот манил спелым брусничным наливом. Кожа рыжей женщины-кошки отличалась молочно-чистой белизной, по которой были рассыпаны редкие, бледно-коричневые, почти незаметные веснушки. Пограничные с Севером белогорские земли вообще изобиловали красотками рыжей масти, но Бране досталась самая-самая... Досталась с трудом, но тем слаще было осознавать: вот она, близкая и родная, только руку протяни.
– Чего смотришь? – усмехнулось её выстраданное, строптивое сокровище. – Скоро дырку проглядишь во мне...
– Люблю тебя, вот и смотрю, – сказала Брана, не забывая набивать рот едой.
Оладьи она кидала в себя, как дрова в топку, а кашу черпала полными ложками, особенно радуясь, когда попадалось мясцо. Сготовлено всё было не хуже, чем у сестрицы Ягодки; в целом – чуть менее жирно, чем Брана привыкла, но тоже весьма и весьма недурно.
«Это что ещё за рыбка к тебе приплыла?» – с дружелюбными усмешками полюбопытствовали охотницы после того страстного воссоединения Браны с Ильгой перед отплытием. Брана ответила, как есть: выпала на её долю избранница-кошка. Китобои не слишком удивились, покивали и поздравили её с обретением суженой: «Ну, коль так, совет да любовь вам». Родных Брана уже обрадовала этой счастливой вестью, но Ильгу они ещё не видели. Матушка Земеля только пошевелила пшеничными бровями с серебряным налётом прожитых лет: «Кошка? Хм, что ж, и такое бывает. Почему бы нет?» Обычай свадеб по старшинству сестёр на Севере не соблюдался, и то обстоятельство, что Тихомира ещё ходила в холостячках, ничуть не мешало союзу Браны с рыжей кошачьей мордочкой из Зверолесья. На Севере вообще во многом жили по-своему, обособленно; эта область Белых гор была, по сути, государством в государстве, управляемая несколькими влиятельными предводительницами. Они состояли с великой княгиней Белогорской скорее в сестрински-союзнических отношениях, нежели в подданнических, и владычица признавала их право на определённую независимость. Север уважали, с Севером считались, и не без оснований: во-первых, по причине огромных богатств этой земли, а также ввиду большой силы северянок. В этом суровом краю сложилась своя особая школа оружейного искусства, а его жительницы слыли могучими воительницами, необычайно неистовыми в бою. Если у северо-западного народа данов были берсеркеры с их боевой яростью, то у северянок – богатырши-«медведицы» с одноимённой покровительницей-духом. Свой уклад жизни, свои песни и пляски, свои обычаи и древние сказания, даже свои духи и богини вроде Морови, Белой Матери и Матери-Медведицы – всё это отличало Север от остальных земель, населённых дочерьми Лалады. Но, как и повсюду в Белых горах, Север почитал и главную богиню женщин-кошек, отпрысками которой они себя считали.
С этого дня так и повелось у Браны с Ильгой: каждое утро рыжая кошка приносила своей избраннице корзинку с завтраком. В море во время охоты китобоям было не до еды, и Ильга старалась по утрам накормить Брану поплотнее и посытнее, чтоб у той хватало сил для успешной охоты. В минувшую зиму, одолеваемая мыслями о рыжей кошке, Брана даже толком не отъелась, чем удивила и обеспокоила сестрицу Ягодку. Та заочно гневалась на сердечную зазнобу своей сестры:
– Это из-за неё ты за зиму совсем сил не набралась! Только ещё пуще отощала, о ней думаючи! Как вот ты теперь охотиться станешь?
К началу охоты у светловолосой кошки не было жировых запасов, имевших столь важное значение в изматывающем труде китобоя, и теперь Ильга, чувствуя за собой вину, взяла на себя усиленную заботу об её питании. Обильные завтраки услаждали желудок Браны, большой любительницы вкусно покушать, а сама Ильга вызывала ликование в её сердце. На этом душевном подъеме Брана мчалась на охоту, как на праздник, и море было ей по колено, а кит казался не тяжелее мешка с орехами. Знала она, что любимая встретит её на причале, а может, и к ужину что-нибудь лакомое принесёт. С такой поддержкой Брана отработала всё лето на промысле, не моргнув и глазом, а Ягодка сменила гнев на милость и отзывалась об Ильге уже в более благосклонном духе:
– Ну, коли она о тебе так же заботиться станет и после свадьбы, тогда, пожалуй, ещё куда ни шло.
Знакомство будущей родни решено было отложить до возвращения Браны с охоты, но матушка Добровида посетила промысел в середине лета: очень уж ей не терпелось поглядеть на суженую своей дочери. Так как разделка китовой туши была зрелищем, которое не всякий выдержит, Ильга привела родительницу на китобойное становье во время передышки. Брана, предупреждённая загодя, ждала этой встречи и держала наготове узелок с чистой одёжей, но приход Ильгиной матушки застиг её врасплох. Очень усталая, она решила слегка освежить силы сном и попросила охотниц разбудить её через часок:
– Сестрицы, вы уж толкните меня в бок, ладно?
– Ладно, ладно, – пообещали те.
Пообещать-то они пообещали, но благополучно о Бране забыли, занятые своими делами. Мысль переодеться заранее у неё была, но она не нашла в себе сил и теперь сладко похрапывала прямо на берегу, подстелив под бока спальный мешок, а под голову подложив узелок с «приличным» кафтаном и чистой рубашкой. Разбудило её чьё-то лёгкое, нежное прикосновение. Присев рядом с нею, закутанная в меховой опашень женщина заботливо вытирала испарину со лба Браны платочком. Её светлые глаза лучились материнской лаской и добротой. Судя по янтарным молниям, которые метали недовольные очи стоявшей рядом Ильги, это и была матушка Добровида. Брана подскочила, словно хвостом Белой Матери подброшенная.
– Ты чего не переоделась? – прошипела избранница. – Я ж тебя предупредила!
– Ох ты ж... хрен моржовый мне в рот! – полубеззвучно выругалась Брана и тут же, смущённо ойкнув, шлёпнула себя по губам в надежде, что матушка Добровида не расслышала сего изысканного выражения. И зашептала оправдания: – Иленька, прости! Я прикорнула на часок, а эти, не знаю даже, как их назвать... – она метнула негодующий взгляд на кошек-китобоев, – меня не растолкали! Зря только понадеялась на них! Матушка Добровида, уж извини, что я в таком виде перед тобою...
Та, согревая Брану добрыми лучиками своего взора, ответила:
– Ничего, доченька. Неказистая одёжа – не в стыд, коль она рабочая, а под нею – душа светлая. Рада тебя увидеть, моя хорошая.
Они погуляли вдоль берега, поговорили, Брана немного рассказала о своей семье. Рядом с матушкой Добровидой ей было легко, светло и тепло, она будто в детство возвращалась. Узнав, что у Браны в живых осталась только одна родительница, матушка Добровида сказала:
– Теперь у тебя снова две матушки, дитятко моё.
Солёная влага защипала лилово-синие глаза охотницы, сердце согрелось, точно в светоносные воды Тиши окунувшись, а родительница Ильги пригнула её голову к себе и легонько поцеловала в лоб.
Свадьбу сыграли осенью, когда Зверолесье оделось в многокрасочный, яркий лиственный наряд. У родни возник спор: где праздновать – на Севере или дома у Ильги? Впрочем, он легко разрешился:
– Первый день гуляем у нас, второй – у вас, – предложила матушка Земеля. – Ну, или наоборот.
Бросили жребий – выпало северным родственницам принимать у себя праздник в первую очередь. Так и поступили. Брана позвала своих сестриц-охотниц, и гостей набралось немало. Ильга почти не притрагивалась к хмельному, держа свой кубок полным, чтоб ей не подливали ещё и ещё. Брана знала причину: избранница, а теперь уже супруга не забыла тот случай на Лаладиной седмице, когда она напилась и распустила руки.
– Нельзя мне пить... Даже немножко, – шепнула она Бране тайком от прочих гостей. – Где один кубок, там и второй, где второй – там и ковш, а где ковш, там и ведро. А где хмель удержу не знает, там беда рядом гуляет.
– И то правда, – согласилась Брана, хотя тот удар уже давно простила.
Она хотела бы, чтоб и Ильга больше не корила себя, но та всё никак не могла позабыть слов матушки Добровиды: «Нельзя поднимать руку на свою ладу! С каждым ударом убиваешь ты любовь и становишься дальше от света Лалады». Крепко запала Ильге в душу её провинность, а потому решила она и вовсе обходить хмельное стороной.
Она перебралась жить на Север к Бране: хоть договорённость о наследстве на родительский дом оставалась в силе, но с тех пор появилась в её семье ещё одна сестрица. У матушки Добровиды не было молока, и кормить стала родительница-кошка. Решила Ильга, что дом останется младшей сестрёнке, а она сама переселится к супруге.
И зажили они в целом ладно и складно. Ильга помогала по хозяйству, но не бросала и своего столярного ремесла, придя в семью матушки Земели ещё одной добытчицей. Дом светловолосых оружейниц стоял на Ближнем Севере, где кое-что вызревало, и они держали небольшой огород, а также сеяли жито. Летом, когда Брана уходила на промысел, ещё одни рабочие руки в хозяйстве были очень кстати. Ягодка, сперва заочно невзлюбившая будущую родственницу, теперь души в ней не чаяла: за что бы рыжеволосая кошка ни бралась, всё в её руках спорилось. Дом Ильга украсила новой деревянной утварью: сделала лавки с искусным кружевом резьбы, заменила все столы, повесила новые ставни и наличники – любо-дорого глядеть. Посуду она тоже обновила, будучи и в ложкарном деле мастерицей. С Ягодкой она ладила, полюбив её, как родную сестрицу.
Счастье прочно поселилось в сердце Браны. Жили они с Ильгой весело, а если и ссорились, то не всерьёз, а следуя поговорке: «Милые бранятся – только тешатся». Потехи да шутки ради они могли и бока друг другу намять, вопящим кошачьим клубком по земле покататься, а потом в пылу страсти бурно помириться – с поцелуями и ласками. Вот только столкнулись молодые супруги с одной загвоздкой: кому из них деток рожать? Брана считала, что ей как охотнице-китобою дитя вынашивать будет неудобно.
– Ничего, пропустишь одно лето, – возражала Ильга.
– А кто мясо добывать станет, а, рыженький мой? – пыталась отвертеться светловолосая охотница.
– Добывать есть кому и без тебя, – убеждала супруга. – Ничего страшного не случится, ежели ты одно лето на промысел не выйдешь. А кормить, так уж и быть, я стану, чтоб тебе поскорее к охоте вернуться.
Сама она деторождению противилась: не представляла себя с большим животом, а может, боялась чего-то. Время шло, а супруги никак не могли прийти в этом вопросе к согласию.
– Уж не тяните с этим, детушки, – говорила матушка Земеля. – Истекает время моё, хочу я успеть на внучек поглядеть, пока Тихая Роща меня к себе не призвала.
– Матушка, да ты ещё сто лет проживёшь, зачем тебе в Тихую Рощу? – возражала ей Брана.
Но и она чувствовала: правду говорила матушка Земеля – близился срок, немного осталось родительнице земными делами заниматься. Что-то этакое, неописуемо-тихорощенское витало в воздухе – какая-то неуловимая грусть, овеянная хвойным духом и пропитанная медово-земляничным теплом. Но наставала очередная охотничья пора, и Брана устремлялась к морю – промышлять кита, и дело снова откладывалось; возвращалась она с охоты – а Ильга, уже соглашавшаяся было на зачатие, оказывается, снова передумала. Так и дотянули они: в один и тот же год встретила свою суженую сестрица Ягодка и отошла на вечный покой матушка Земеля. Дождалась она дочкиной свадьбы, отгуляла на ней, а спустя короткое время сказала:
– Всё, детушки, пора мне.
Спохватились Брана с Ильгой, что не порадовали главу семейства внучками, да поздно было. Всей роднёй провожали они матушку Земелю: и Ягодка со своей молодой супругой-кошкой пришла, и родные Ильги уход своей родственницы на покой присутствием почтили. Еле сдерживала слёзы новобрачная, а родительница утешала:
– Ничего, ничего, мои родные, не тужите. Я и в Тихой Роще вас услышу, приходите ко мне, когда затоскуете – свидимся, тоска и отпустит.
Ни словом не попрекнула она Брану с Ильгой, но супруги чувствовали: сожалеет родительница о том, что не пришлось ей малюток понянчить, побаюкать, на ушко помурлыкать. Охватила её фигуру зелёная сеть жилок, поглотил её тело сосновый ствол, и застыло лицо, превратившись в древесный лик, исполненный ничем не омрачаемого, величественного покоя; янтарные глаза Ильги наполнились слезами, и Брана, крепко обнимая супругу, шептала:
– Тш-ш, родная моя, нельзя... Нельзя плакать. Успокойся, рыжик мой... На вот, земляники покушай.
И она, сорвав несколько душистых сладких ягод, росших у них прямо под ногами, поднесла ко рту Ильги.
Ягодка теперь жила с супругой, но, беспокоясь о своих родных кошках, едва ли не каждый день наведывалась, чтобы сделать что-нибудь для них – обед состряпать, бельё заштопать или постирать-убрать. Тихомира сказала ей:
– Полно, сестрёнка, не нужно себя у своей семьи отрывать. Ты с супругой теперь быть должна, а не на нас спину гнуть. Там теперь твой дом, а мы как-нибудь уж сами справимся.
Заходила в гости и матушка Добровида, и часто – не с пустыми руками, а с вкусными гостинцами, которые приходились весьма кстати: все три кошки съестное готовить умели по-холостяцки, только что-нибудь самое немудрящее. Тихомира много в кузне трудилась, Ильга работала по своему столярному ремеслу, а Брана к кухонным делам с детства не была приучена и в тонкостях стряпни не слишком много смыслила. Но именно она более остальных располагала свободным временем – отработав лето на промысле, целых девять месяцев в году могла хоть петь, хоть плясать, хоть в потолок плевать. Ну, и время от времени на рыбалку ходить, чтоб совсем-то уж бока не отлежать на печке.
– Стало быть, сестрица, тебе и кашеварить, пока мы с твоей супругой заняты, – сказала Тихомира.
Только мясо с рыбой и умела Брана поджарить, а когда становилось ей лень возиться, то и сырыми их могла съесть без особых прихотей. Но вечно сырым питаться ведь не станешь! Матушка Добровида, заходя в гости, показывала ей, как тесто ставить, как пироги в печь сажать, как кашу да кисель сварить.
– Ты, дитятко, от печки прочь не беги, а на ус мотай, покуда я живая, – говорила она. – Будешь мастерица на все руки: и кита добыть, и калач испечь. А рубашки новые я вам сама буду шить, так уж и быть. А как меня не станет, так сестрицы-девы в помощи не откажут. Не стесняйтесь только просить, а то знаю я вас, гордячек...
Сердце Браны вздрагивало: ещё свежа была в нём память о тихорощенском покое, навсегда забравшем матушку Земелю.
– Ох, матушка Добровида, не говори ты так: «Как меня не станет», – просила она сквозь комок в горле. – Теперь уж обе мои родительницы к Лаладе ушли, хоть ты меня не покидай! Как родная ты мне...
Присев у её ног, склоняла Брана голову к ней на колени, а та ласково перебирала, гладила и ворошила её светлые волосы, приговаривая, точно ребёнку:
– Вейся-расти, волосок золотой-серебряный, гуще льна, гуще травушки! Лети прочь, тоска-кручинушка, не печаль, не томи нашу Бранушку! Не тужи, дитятко, поживу я ещё. У меня ещё младшая дочурка не выросла, в лета не вошла, на ноги не встала.
Улыбка звенела в её голосе, добрая и светлая, как луч солнца над Тихой Рощей. Детством веяло от её слов и от ласки её трудолюбивых лёгких рук, и Брана погружалась в затянутую солёной влажной дымкой истому, как в тёплое молоко.
– У тебя не матушка, а сокровище, – говорила она супруге.
– Я знаю, – улыбалась та.
А потом и Тихомира из дому отлучилась: её позвала к себе мастерица Твердяна Черносмола для очень важного дела – восстановления вещего меча княгини Лесияры. Кузню она оставила на учениц и подмастерьев, а Бране с Ильгой наказала хозяйство вести.
– Ну, родные мои, будьте тут умницами. Когда вернусь – не знаю, задача нам с Твердяной предстоит не из простых.
Брана с Ильгой остались вдвоём. Слухи о грядущей войне ходили уже давно; сломанный меч Лесияры, отлучка Тихомиры – всё это, складываясь вместе, витало в воздухе призраком с вороньими крыльями и хищной пастью. Долго ли ещё светить мирному солнцу? Никто не знал.
Брана с другими кошками-китобоями вернулась с добычей в становье: как говорится, ничто не предвещало беды... Однако на причале, грозно скрестив руки на груди, её ждала Ильга. Корзинка со съестным стояла рядом, но взгляд супруги поверг охотницу в пучину беспокойных мурашек.
– Гляди-ка, половина твоя, – подмигивали Бране сёстры по ремеслу. – Хмурая, как туча! Что, набедокурила, Бранушка, э?
Они предвкушали зрелище семейных разборок, а Брана не разделяла их веселья. От гневного облика Ильги у неё похолодела спина и затряслись поджилки, но она, стараясь не подавать виду, с беззаботной улыбкой выскочила из струга на причал.
– Здравствуй, Иленька! Ну что, как у нас дома дела?
Ильга смотрела на неё сквозь зловещий прищур; губы её были сжаты, ноздри трепетали – недобрый знак!..
– Дела? Дела, ты спрашиваешь?! – процедила она. – Ну, сейчас ты у меня узнаешь, какие у нас дела!
Бране пришлось обратиться в бегство. С перепугу забыв, что умеет перемещаться через проходы, она дала стрекача вдоль берега, а Ильга – за ней. Разгневанная рыжая кошка, сорвав с себя кушак и размахивая им в воздухе, время от времени старалась достать им Брану. Всё становье хохотало и улюлюкало, наблюдая эти «догонялки».
– Иля, Иля, ты чего?! – вопила охотница, улепётывая.
Ответ заставил её ноги подкоситься...
– Беременная я, вот чего! – прорычала Ильга ей вслед.
Колени Браны вмиг ослабели, и она упала, ссадив себе о прибрежную гальку ладони. Тут-то супруга её и настигла.
– Вот тебе «дела»! Получай! – И она хлестала Брану кушаком.
Ткань била мягко, совсем не больно: Ильга скорее лишь пар выпускала, чем дралась всерьёз. Охотница даже не защищалась – она была готова принять сколько угодно ударов, лишь бы услышать это снова...
– Иля! Иленька, повтори – что ты сказала?!
– Ты ещё и глухая тетеря? – проревела Ильга, тяжело переводя дыхание.
От «догонялок» она разрумянилась, янтарные очи сверкали молниями, точёные ноздри по-звериному раздувались – одним словом, красавица, и Брана от восхищения обняла бы её колени, если б не опасалась получить пинка.
– Иленька... Ты – правда?.. – Брана осторожно подползла и осмелилась протянуть руку к животу супруги.
И получила шлепок кушаком, а потом ещё десяток.
– Я тебя просила делать мне дитё?! Просила?! – восклицала Ильга. – Я ещё не готова! Не собралась с духом, чтоб... чтоб зачать! А ты, вот так, даже моего мнения не спросив, взяла и... обрюхатила меня! Засранка!
– Иленька, котенька, золотце моё рыженькое! – только и смогла выговорить Брана.
Продравшись сквозь град ударов, она всё-таки обняла Ильгу. Та царапалась, кусалась, шипела, а потом... заплакала. Бране пришлось окутать её потоком ласковых слов и любовных прозвищ (и «рыжик-пыжик» там был, и «кися», и «мордочка», и «хвостик-пушистик», и всё прочее, самое ласково-дурацкое и смешное), покрыть её рдеющие неровными пятнами румянца щёки быстрыми чмоками, попутно гладя и перебирая медные прядки волос.
– Иля, родная моя, ну что ты! Как будто я нарочно... Так уж получилось! – шептала охотница, унимая возбуждённую дрожь супруги объятиями. – Значит, судьбе так угодно. Ничто не бывает просто так, моё солнышко. Раз завелось дитятко – значит, готова ты. Мы готовы.
Ильга шмыгнула, всхлипнула, вытерла мокрые глаза и нос.
– Ладно, пошли... Ужин тебе принесла. Там, в корзине... На причале остался. Если твои сестрицы его ещё не слопали.
– Ты ж моё сердечко родное! – мурлыкнула Брана от такой заботы, но Ильга отмахнулась от поцелуя.
Брана улыбалась. В этом была вся её Иля: гнев гневом, но охотница-добытчица должна быть накормленной. Да, пусть потрёпанной, оттасканной за уши и исхлёстанной кушаком, но сытой. Чтоб были силы для охоты, конечно. Но как же это вышло, как дитя случилось? Видно, однажды в пылу страсти недоглядели, зашли далеко... Да уж, дальше некуда!
И вот будущие родительницы шли по становью: Брана гордо вышагивала впереди, Ильга мягко и кошачьи-бесшумно ступала следом за ней. Охотницы, не слышавшие их разговора, провожали Брану вопросительными, сочувственно-шутливыми взглядами – мол, ну что, как твои дела, бедолага? Белокурая кошка, показав в сторону супруги большим пальцем и растянув улыбку до ушей, обрадовала их новостью:
– Она беременная!
И получила сзади возмущённый тычок под лопатку.
– Не обязательно всем подряд рассказывать! – глуховато и всё ещё сердито проговорила Ильга.
Корзинка с ужином стояла нетронутой там, где и была оставлена. Работа по разделке туши уже началась, и Ильга поморщилась:
– Тошнит меня от вида крови...
Брана заботливо устроила её в рыбацкой постройке поближе к очагу, укрыла ей плечи плащом, подстелила свёрнутый спальный мешок, чтоб супруга сидела не на голом холодном полу, а на мягкой оленьей шкуре. Уже разносили первые бруски посыпанного солью китового жира, и Ильга потянулась к блюду.
– Ты же не любишь жир, – удивилась Брана.
– Захотелось что-то, – ответила та. – От мяса воротит, а вот жира – хочу, прямо умираю. Так и поняла, что со мной что-то... кхм, не то. – И она скосила всё ещё мерцающий укоризной взгляд в сторону виновницы своего состояния.
Брана, подсев к ней с корзинкой поближе, принялась доставать и раскладывать перед собой ужин.
– Жира хочешь? Значит, северянка у тебя под сердцем растёт настоящая! – засмеялась она. И спросила: – А какой уж срок?
Охотница с жадным любопытством и нежностью вглядываясь в очертания живота Ильги, но под свободным, распоясанным кафтаном ничего нельзя было рассмотреть.
– Матушка Добровида говорит, что должен быть четвёртый месяц, не меньше. – И Ильга впилась зубами в кусок жира.
Она всё ещё дулась. Поглядев на Брану, с невинным видом уминающую за обе щеки кашу, она фыркнула, цокнула языком.
– Вот наглая морда, а? Натворила дел – и трескает себе, как ни в чём не бывало!
Брана, ойкнув с набитым ртом, спохватилась и придвинула к Ильге лепёшки с мёдом:
– Иленька, тебе надо кушать. Ты же теперь не только себя кормишь...
Та, поглощая уже второй брусок жира, отмахнулась:
– Ешь сама, я-то дома наемся в любое время. А тебе для охоты силы нужны.
– Иля, да что сейчас может быть важнее дитятка? – Охваченная мурчащей нежностью, Брана не удержалась, чтобы не потискать супругу за плечи и не расчмокать всё её лицо.
Но та пресекала чрезмерные любовные порывы, отворачиваясь и отстраняя Брану. Впрочем, охотница была уверена, что Ильга лишь напускает на себя укоризненный вид: надо ведь построить из себя обиженную, как же без этого? Но даже хмурое, дующееся лицо её любимого рыжика умиляло Брану, ноги сами пускались в пляс, как неугомонные пружинки, хотелось бегать и кричать на весь свет о том, что у них будет дитя. Радость распирала изнутри, искала себе выход, и Брана нашла способ выразить чувства: вскочила и прошлась по лачуге колесом, чем привлекла к себе смеющиеся взгляды китобоев, отдыхавших рядом и лакомившихся жиром.
– Эк тебя разобрало-расколдобило! – ухмылялись кошки.
Разобрало Брану и вправду здорово – от счастья привалившего. На месте ей не сиделось: хоть пляши, хоть волчком вертись, хоть китовую тушу одной рукой подымай... Глядя на её ужимки, «обиженная» Ильга всё ж не удержалась от усмешки, которую, правда, тут же стёрла с лица. Всему своё время: радость будет потом, а сейчас – обида, коль уж решила она так.
– Ну, улыбнись ты, засмейся, родная! – нежно ткнулась ей в щёку носом Брана. – Рада ведь тоже, небось...
Но Ильга ещё какое-то время ходила с кислой миной, дулась, на ласку и заигрывания супруги не отвечала или огрызалась. Но Брана уж вдоль и поперёк знала непростой, заковыристый норов своей разлюбезной Иленьки и не принимала близко к сердцу её бзики. Пообижается – и отойдёт, оттает, как земля по весне, никуда не денется. А родные и соседи, узнав о скором прибавлении в их семействе, наперебой предлагали Ильге помощь в тяжёлых работах по хозяйству, да и в мелочах старались удружить, пока супруга-охотница на промысле. Гордая рыжая кошка нередко отказывалась:
– Что я, слабая, что ли, или хворая какая-то?
Приходилось матушке Добровиде с Браной убеждать её, что это не проявление слабости, а необходимость.
– Иленька, беречь тебе надо дитятко.
И всё-таки большой мощью и крепостью наделила Лалада своих дочерей. Ильга и ремесло своё не бросала, трудилась в полную силу, и на огороде работала, и в поле, да ещё и старалась сама что-то состряпать, хоть матушка Добровида и хлопотала – и готовые гостинцы из дома приносила, и на их с Браной кухне хозяйничала. Но то и дело поблёскивали горделиво глаза Ильги, янтарными молниями в них было написано: «Я сильная, я сама всё на своих плечах вынесу». И впрямь сильные её плечи многое сносили, но к концу дня выглядела она утомлённой. Неизменно носила она Бране завтраки в становье, а часто и вечером заглядывала, заботясь, чтоб вдобавок к китовому мясу на ужин у супруги было ещё что-нибудь лакомое и сытное.
– Иленька, лучик мой рыженький, ты там смотри – береги себя и дитятко, – беспокоилась Брана. – А то я тут места себе не нахожу, хоть охоту бросай да домой возвращайся.
Осенью кончен был промысел. Вернулась Брана домой – а там всё ладно: и каша в печке пыхтит, и дом чистый, и в хозяйстве порядок. Матушка Добровида уж нашила Ильге рубашек с прорезями для кормления, и детские вещи были готовы, и пелёнок целая стопка лежала, и даже плетёная люлька под вышитой занавеской ждала в углу заветного часа.
– Ну, я вижу, у нас всё хорошо, – улыбнулась Брана, щекоча ласковым дыханием и поцелуями лицо супруги.
Ильга ходила в кафтане без пояса: подросший живот уж не позволял его затянуть. Прикладывая к нему ухо и ощущая движения крохи, Брана смеялась и мурлыкала. А если дитя начинало сильно ворочаться в утробе и не давало родительнице спать, мурчание тоже помогало угомонить расшалившееся чадо.
Когда витавшая в воздухе военная угроза разразилась нашествием навиев, Ильга уже донашивала на последних месяцах. Полог туч закрыл солнце, и настала жуткая тьма, в которой блестело и бряцало белогорское оружие, сталкиваясь со смертоносными навьими клинками. О том, чтобы беременная Ильга отправлялась воевать, и речи не шло, а Брана рванулась было в бой, но супруга вцепилась в неё мёртвой хваткой.
– Нет, не пущу! Страшное что-то творится, никогда ещё такая беда Белые горы не постигала, никогда такого врага не видывали наши края! – говорила Ильга с жаром и застывшей в глазах болью. – Гибнут дочери Лалады... Война ещё едва началась, а уже сколько вдов по всей земле плачет! Ты хочешь и меня вдовой оставить, а дитя наше – сиротой?! Нет, никуда ты не пойдёшь!
– Иленька, но ведь не могу же я отсиживаться, пока все воюют, – пыталась возражать Брана. – Нехорошо это, неправильно. Ежели я могу что-то сделать, я должна это сделать!
Она всё ж нашла способ внести свой вклад в защиту родной земли: пошла в отряд кошек-снабженцев, которые обеспечивали северных воительниц – «медведиц» – съестными припасами. Не зря Брана училась готовить, сгодилось ей здесь это умение. Довелось ей увидеть знаменитых «медведиц» в бою, и это зрелище сметало все мысли и чувства, подобно мощному вихрю. Богатырши носили белогорскую кольчугу особой северной ковки, чешуйчатую, с пластинами на груди и спине, броня прикрывала их бёдра и голени, а также руки, но не сплошь, оставляя свободу для движений. Шлемы их украшали козырьки в виде медвежьей верхней челюсти с клыками. В их вооружение входили топоры, секиры, укороченные тяжёлые копья, а также мечи. Но основной упор эти кошки-витязи делали именно на тяжёлое рубящее оружие, коим они владели со смертоносным совершенством. Крепка была броня навиев, но и она не выдерживала таких ударов, летели с плеч головы воинов-псов, хлестала ручьями кровь клыкастого врага. Но и кошки несли большие потери: навьи клинки из твёрдой хмари уносили их жизни, даже небольшая царапина могла стать смертельной.
Служба Браны допускала частые отлучки домой, снабженцы трудились посменно: два дня работали – день отдыхали. Ильга встречала охотницу неустанной мольбой:
– Прошу тебя, будь осторожнее! Не высовывайся, не лезь, куда не следует... Ты нам нужна живая и здоровая!
– Знаю, знаю, моя родная, – успокаивала супругу Брана. – Оттого и не взялась за оружие – только потому что ты попросила. Но я не могу бездействовать, золотце моё. Я обязана делать всё, что от меня зависит. Как ты кормишь меня на охоте, чтоб у меня хватало сил, так и я теперь кормлю наших защитниц.
Многим семьям война принесла горе, ударила она и по их родне. Сестрица Ягодка, не успев толком вкусить семейной жизни, овдовела: её супруга погибла в бою с навиями. Вернувшись на очередной выходной, Брана застала сестру у них с Ильгой дома. Ещё не переступив порог, охотница содрогнулась от жалобного стона-причитания:
– Ох, Мировеюшка, как же так?.. Хоть бы дитятко мне под сердцем оставила, кровиночку свою, на память о себе...
Никогда ещё Брана не слышала в голосе своей сестрёнки, всегда весёлой и ласковой, столько боли и скорби, столько вдовьей обездоленности и надлома. Ягодка, сидя на полу, опиралась грудью и руками на лавку, а Ильга, немного неуклюжая из-за своего большого живота, обнимала её за плечи.
– Ну-ну, Ягодка... Ты не одна, голубушка, мы с тобой.
Брана кинулась к сестрице, подняла с пола, усадила на лавку и крепко обняла, целуя.
– Родненькая моя... Мы рядом, мы тебя не оставим, – зашептала она. – А уж наши «медведицы» за Мировеюшку отомстят врагу, ох как отомстят! На кусочки его изрубят, топорами своими в кашу превратят, точно тебе говорю!..
– Ничего не осталось мне от лады моей, – сипло проговорила Ягодка, до пустоты и тусклости выплаканными глазами глядя в пространство. – Взял её костёр погребальный, некуда мне будет прийти в День Поминовения... Не прильнуть к стволу сосновому, не поглядеть в лицо родимое. И чрево моё пустое, не успели мы зачать дитятко! Ни клочка волос, ни кровинки, ничего... Всё они отняли у меня, навии эти проклятые! Ничего не оставили от лады! Ничего, Бранушка... Ни-че-го...
Не знала Брана, чем утешить сестру, стонавшую у неё в объятиях. Много, ох, много таких вдовушек плакало по всей Белогорской земле! Да и не только в ней.
Не успела Ягодка отплакать, отпричитать, как последовал новый удар: пришла весть о гибели старших сестёр-кошек Ильги.
– Да что же это такое? Что же это творится? – сухими и бескровными от горя губами бормотала та.
А у Браны только одна мысль была: как бы с их дитятком чего худого не случилось в утробе. «Уймись, хватит отнимать у нас наших родных!» – беззвучно и гневно кричала её душа этому беспощадному, прожорливому чудовищу – военной беде. Но чудовищу всё было мало. И вот – порог их дома переступила сама мастерица Твердяна.
– Не с добрыми я вестями пришла, – молвила она, снимая шапку, и её гладкая голова заблестела в отсвете масляных ламп, а косица размоталась и упала на грудь. – Брана, твоя сестрица Тихомира пала в бою. Завтра хороним её... Приходите проститься с нею.
Зубы Браны стиснулись, но ни рыка, ни стона не вырвалось у неё. Онемела душа от боли потерь и, казалось, утратила способность чувствовать. Ильга, тоже огорошенная услышанным, но взявшая себя в руки, тем временем угощала Твердяну всем, что было приготовлено к обеду. Брана опустилась на лавку у стола, пальцами вцепившись себе в волосы.
– Не могу плакать я, – глухо проговорила она. – Будто льдом меня сковало...
– Так бывает, – молвила оружейница. – Когда слишком много боли обрушится на душу, она застывает. Но это пройдёт, Бранушка. Оттает душа, оживёт сердце. Тем более, что ему есть ради кого биться. – И синеглазая кошка с чуть приметной улыбкой посмотрела в сторону Ильги, которой было уж тяжко носить своё девятимесячное чрево.
Бране казалось: не бывать этому. Не оживёт сердце, не засмеются её уста... Пусто и мёртво было в душе, когда она смотрела на ревущее пламя костра, которое пожирало тело Тихомиры... Но едва закрылись навек очи сестрицы, как открылись навстречу миру новые, пока ещё несмышлёные глазёнки. Вот только не свет они увидели, а тьму... Встрепенулось, ожило сердце Браны, сжалось от тревоги: ночью после похорон Тихомиры их с Ильгой дитя запросилось наружу. Раненым зверем ревела Ильга в бане, а женщины во главе с матушкой Крылинкой принимали у неё роды. Они заслонили рыжую кошку собой, и Брана не видела, что творилось за их спинами, когда она просунула голову внутрь, сама не своя от беспокойства.
– Иленька, ты нарочно так ревёшь, чтоб меня попугать? Ну, хватит горло-то драть, а то я ведь помру тут сейчас со страху, – дрогнувшим голосом обратилась Брана к могучей широкой спине матушки Крылинки, из-за которой виднелись только раскинутые в стороны ноги Ильги.
– А ты сама попробуй – выноси да роди! – рявкнул ей в ответ страшный, неузнаваемо звериный голос супруги. – В следующий раз ты будешь рожать... Посмотрю я тогда на тебя!
Этот неласковый ответ успокоил Брану, сердце забилось легче, ровнее, душа понемногу согревалась. Ильга огрызалась – значит, всё шло хорошо...
И окончательно оттаяла скованная панцирем горя душа, когда на руках у Браны тонюсеньким котёночьим голоском запищала малютка – та самая, из-за которой они с Ильгой так долго спорили и не могли решить, кому из них производить её на свет. Волосёнки на её головке были медно-рыжими, а глазки – цвета мышиного горошка.
– Уж прости, что мы так долго тянули с твоим рождением, – мурлыкнула Брана, грея дыханием лобик дочки – весь мокрый, в родовой смазке. И заурчала утробным смешком: – Теперь у меня два огонёчка рыженьких!
Молока у Ильги было даже слишком много, хватило бы и на двоих. Она кормила маленькую Огнянку сквозь прорезь на рубашке, а Брана, пристроившись рядом, прислушивалась к тому, как счастье струится в ней тёплым током – с каждым ударом сердца.
– Не зря наши сестрицы головы свои в бою сложили, – шепнула она супруге, целуя её в висок. – Они отдали свои жизни за её жизнь.
Ягодка не была на похоронах Тихомиры: она ещё не оправилась от предыдущего удара, и о гибели сестры ей пока не говорили. Брана с Ильгой вернулись домой уже втроём, и матушка, а теперь ещё и бабушка Добровида окутала их семью своей мудрой заботой, ненавязчивой и всегда своевременной. А вскоре рассеялась завеса туч, и землю залил яркий свет – свет близкой победы над навиями.
– Дочка-кошка у нас есть, – сказала Ильга в перерыве между мурлыканьем, которым она баюкала накормленную Огнянку. – Девочку бы вот теперь ещё... Да только где её взять? Обе мы с тобою кошки и белогорских дев выкормить не сможем.
– Не успела одного родить, а уже о втором дитятке думаешь? – засмеялась Брана – тихонько, чтоб не разбудить дочурку. – Ну... Поживём – увидим.
Когда потерпевшее поражение навье войско провожали к проходу между мирами, Брана подобрала в Светлореченском княжестве белокурую девочку лет пяти. Малышка брела босиком по грязной, раскисшей дороге, одетая в какие-то серые, дырявые отрепья. Она не помнила ни своего имени, ни семьи. Горячо ёкнуло сердце Браны при виде этой светлой головки: ну просто вылитая её дочка, её плоть и кровь, будто она сама её выносила и родила! И тоже синеглазая, только не мышиный горошек цвел в её очах, а колокольчик.
– Ты чего, голубушка? Потерялась?.. Ну-ну... Не бойся, я тебя в обиду не дам. – И Брана подхватила девчушку на руки, а та обняла её за шею, вцепилась и прижалась, зябко дрожа.
Охотница накормила бедняжку, отмыла и раздобыла для неё одёжку. Согретая светом Лалады, маленькая бродяжка вспомнила, что её родителей больше нет в живых, а звать её Любишей.
– Пойдёшь к нам в Белые горы жить? – с улыбкой спросила Брана, баюкая найдёныша на коленях. – У нас с супругой недавно дочка родилась – кошка. Матушка Ильга уже о сестричке для неё думает.
Через две седмицы колечко было готово. До этого дня сиротку приходилось держать в снабженческом отряде. Там она была под присмотром кошек, всегда сытая и согретая – ещё бы не быть сытой, рядом со съестными припасами-то!.. Тихим, ясным весенним вечером Брана внесла спящую Любишу в свой дом. С Огнянкой нянчилась бабушка Добровида, а Ильгу белокурая северянка нашла на заднем дворе: та расчищала остатки тающего снега, чтоб двор лужами не залило.
– А это ещё кто? – вскинула Ильга брови, выпрямившись и опершись на лопату.
– Это Любиша, – сказала Брана. – Наша дочка. Ты девочку хотела? Вот... Девочка.
– Да уж вижу, что не мальчик! – пробормотала супруга, озадаченно всматриваясь в лицо крепко спящей сиротки. – Ты где её взяла?
– Это неважно, – улыбнулась охотница. – Одна она осталась на целом свете. Нам нужна сестрица для Огнянки, а ей – семья. Думаю, всё складывается в самый раз.
– Ты во что её одела, боль моя?! Она ж озябнет! – спохватилась Ильга. – Это же Север! Думать надо, прежде чем дитё сюда тащить!
Бросив лопату, она закутала Любишу в свой кафтан и понесла в дом, а Брана, улыбаясь, шла следом. На пороге она обернулась и окинула посветлевшим взглядом двор и вечернее небо над ним.
* * *
У подножья тихорощенской сосны рвали землянику две сестрицы: старшая, Любиша, и младшая, Огнянка. Юная кошечка срывала ягодки вместе со стебельками, складывала в пучки и протягивала сестре.
– Ну, хоть в Тихой Роще матушка Земеля поглядит на своих внучек, – шепнула Брана Ильге.
Неподалёку прогуливались Ягодка со своей новой наречённой избранницей – кошкой-вдовой, чья причёска говорила о её принадлежности к лону Огуни, только работала она не с металлом и самоцветами, а с камнем. А матушка Добровида, собрав вокруг себя других внучек, вполголоса рассказывала:
– Когда Лалада ступила на эту землю, из неё забили горячие родники. Тёплой стала земля, и теперь даже самый лютый зимний холод над нею не властен.
Брана носила кафтан без пояса: уж не завяжешь его на таком-то животе! Они с Ильгой поджидали ещё одну сестрицу для Огнянки и Любиши; охотница, нося дитя под сердцем, не выходила в море на струге вместе с прочими китобоями, только помогала разделывать туши и убирать мясо на хранение. Перепоручит ли она кормление дочки супруге или займётся этим сама, она ещё не решила, но одно она знала точно: море умеет ждать. И принимает тех, кто возвращается, какой бы долгой ни была разлука.
Сказка старого сада
Шелестит старый сад, вздыхает задумчиво, но даже в самый ясный и радостный солнечный день чудится в его голосе грусть. Каждую весну одевается он белой дымкой цветения, роняет лепестки на тенистые дорожки, гулять по которым в эту пору – любо-дорого. Сладко дышать тонким прохладным хмелем, пропитывающим воздух, приятно подставлять лицо солнечным зайчикам и ловить мягкое, набирающее силу тепло ласковых лучей... В глубине сада стоит добротный дом с каменной подклетью и деревянным верхом – теремом. Терем не раз перестраивался, менялась и перекрашивалась его затейливая резьба. В этом доме живёт поколение за поколением старинный купеческий род.
Всё меняется, обновляется и сад. Дряхлые деревья отмирают, вместо них семья сажает новые. И только одна яблоня, очень старая, с кривым стволом и шершавой, отстающей целыми лоскутьями корой, всё живёт и живёт. Сколько ей лет? Век? Два? Да уж больше, много больше. Берегут эту яблоню живущие в доме люди, любят и холят, и передаётся в роду от отца к сыну, от матери к дочери рассказ о той, чьи руки посадили это удивительное вечное дерево. Играют в его тени дети, выходит погулять хозяйка, а порой и сам хозяин, отдыхая между делами, останавливается под ним. Он поднимает взгляд к раскидистой кроне, гладит широкой и крепкой ладонью шероховатую кору.
– Здравия тебе, матушка-яблоня, – молвит он с сыновним теплом. Да что там сыновним – годится ему древнее дерево в пра-пра-пра... не выговорить уж, в какой степени! – прародительницы.
А когда на вечерней заре показывается в саду купеческая дочка, девушка на выданье, начинают узловатые морщинистые ветви шелестеть по-особому нежно и душевно. Прильнёт красавица к коре румяной щёчкой, вздохнёт...
– Скоро, ох, скоро мне из родительского гнезда вылетать да своё гнёздышко вить... Как же я расстанусь с тобой, матушка-яблоня? Как покину тебя?
Колышется листва от вечернего ветерка, и кажется, будто утешает юную невесту мудрое старое дерево, шепчет ей сказания о былых временах, а сад вторит ему шепотками-отголосками, кивает макушками. Закрыв глаза, слушает девушка, и на её устах сперва проступает ясной зарёй улыбка, а потом срывается песня – девичья песенка о невестиной доле. Звенит и трепещет молодой голосок, улетая к безмятежному небу; то ли плачет, а то ли радуется он, пташкой играет на ветках, а они простираются над певуньей защитным, родительским объятием.
Так отчего же грустит сад, о чём он думает и в знойный полдень, и в звёздную полночь, кого вспоминает древняя яблоня-матушка?..
* * *
– Батюшка, а скоро ли она вырастет? Когда будем рвать с неё яблочки?
Совсем юный, тоненький саженец с комком земли на корешках ожидал, когда его опустят в ямку. Купец Драгута Иславич, крепкий, бородатый человек лет тридцати пяти, трудился лопатой, а его дочурка Златоцвета непоседливой козочкой прыгала от нетерпения рядом. Красивая, кудрявая голова отца, ещё совсем без седины, золотилась русым отливом на солнце, когда нажимал он на лопату ногой, а дочка гладила тонкими пальчиками хрупкий стволик маленькой яблоньки.
– Хех! – утерев пот со лба вышитым рукавом рубашки, крякнул купец. – Какая ты скорая... Яблочки ей подавай! До урожая несколько лет ждать надобно... Сперва прижиться должна яблонька, потом подрасти, а потом и зацвести.
В уголках его глаз притаились лучики улыбки. Две пары рук – больше мужские и тонкие детские – бережно опустили саженец в ямку, присыпали корни и обильно полили; потом Златоцвета весело топталась вокруг деревца, приминая и уплотняя землю.
– Потопчи ещё ты, батюшка! Ты потяжелее меня будешь, – сказала девочка.
Большие отцовские ноги в сапогах ступили в приствольный круг и прогулялись по нему.
– Ну вот, готово, – удовлетворённо молвил купец, присаживаясь на корточки и обнимая дочку за плечи. – Пусть растёт наша яблонька нам на радость!
Они вместе смотрели на свою работу и улыбались. Златоцвета прильнула к батюшкиному плечу, а тот зарылся губами в её русые, как у него, волосы. От своей матушки она взяла большие, серовато-зелёные очи – цвета молодой листвы, окутанной дымом костров, зажжённых по весне для защиты сада от заморозков. Была она у купца первым и единственным чадом: сколько они с Кручинкой Негославной ни старались, больше детей не получалось. А Драгута Иславич очень хотел бы ещё и сына – наследника своего торгового дела.
Впрочем, уже в столь юные лета Златоцвета проявляла небывалый ум и прозорливость. Последняя порой пугала: всё, что ни говорила девочка, сбывалось. Златоцвета расспрашивала отца о делах, и он рассказывал ей, откуда берутся товары, как продаются, в каких краях что надлежит закупать, а что – сбывать, каким образом заключаются торговые сделки. Всё Златоцвета схватывала без труда. Так само собой у них и повелось: купец стал советоваться с дочерью. Её подсказки были столь точны и полезны, а суждения столь разумны, что и сам Драгута Иславич со всем своим опытом и знаниями не смог бы измыслить лучше. Златоцвета ещё и предсказывала безошибочно, какое дело будет удачным, а какое – нет, и купец дивился такой её способности. Казалось бы, вот он – наследник, да такой, о каком можно только мечтать... Но не станет же девица заниматься торговлей! «Не женское это дело», – рассуждал Драгута Иславич и по-прежнему хотел сына.
Дела его шли в гору. В короткое время он так развернулся, добился такого успеха, какой иные торговые гости нарабатывают многие годы. Стал Драгута Иславич уважаемым и известным человеком, и зажили они богато, на широкую ногу; трудилась в доме купца многочисленная челядь, знался он с самыми знатными и влиятельными людьми в княжестве. Вот только была у купца одна страсть: поигрывал он в кости. В игре этой ему тоже везло необыкновенно, и он гордился своей удачливостью. Проигрыши у него случались столь редко, что о них и упоминать не стоило.
Подрастала Златоцвета, тянулась ввысь и яблонька. А когда завязались на ней первые яблочки, случилась беда: девочка упала и повредила спину. Купец в тот день принимал гостей, те пришли со своими детьми. Вместе с ребятами Златоцвета бегала в саду и играла в пятнашки – вот тогда-то и подвернулась у неё нога.
Последствия этого падения проявились не сразу. Сначала Златоцвета ещё могла ходить, но прихрамывала, но вскоре каждое движение стало причинять ей страшную боль. Горевали отец и мать, звали разных знахарей и знахарок, костоправов и даже учёных чужестранных лекарей, но те ничего сделать не могли. Купец велел изготовить для Златоцветы деревянное кресло с колёсами, чтоб можно было перевозить её по дому и саду. Единожды сев в него, девочка больше не встала. Ноги стали сохнуть, превращаясь в тонкие тростинки.
Но беда не ходит одна. Коль пришла она – отворяй ворота, это всякий знает; точь-в-точь по пословице и у них случилось. Кончилось у купца везение в игре... Перед очередным отъездом по торговым делам поговорил он, как всегда, со своей юной советницей, и предрекла она ему удачу. Предупредила только:
– Об одном лишь прошу тебя, батюшка: не садись играть ни с кем, остерегайся лихих людей!
На что купец только посмеялся в ответ:
– Не тревожься, дитятко, мне же везёт всегда в игре!
И в этот раз ему повезло... Как утопленнику. Пришёл срок – вернулся Драгута Иславич, но не весёлый – бледный и горем убитый, хоть и пытался бодриться. Не привёз он на сей раз подарков супруге и дочке, и не звенела его мошна золотыми монетами.
– Обвёл меня вокруг пальца, негодяй! – цедил он сквозь зубы в ответ на расспросы.
Долго он молчал и отмахивался, только позже удалось разговорить его. Поездка была удачной, много купец прибыли выручил, закупил несметное число новых товаров и уже собрался было домой, как встретил человека – темнокожего, с чёрной подстриженной бородкой, в халате широком и в белоснежном тюрбане, вроде бы тоже из купеческого сословия. Посидели они вместе за столом, угостились на славу, выпили; тут купец возьми да и похвастайся, что зело везуч в игре. А незнакомец тут же достаёт кости: «Сыграем, брат». Драгута Иславич самодовольно усмехнулся: «А не боишься ли со мною играть-то? Я ж тебя как липку обдеру, мил человек». А тот всё сверкает зубами белыми на тёмном, как ночь, лице, ухмыляется: «Вот и посмотрим, такой ли ты счастливчик, как говоришь. Я ставлю всю свою прибыль и весь товар, что есть у меня». Драгута Иславич призадумался, но решил всё же попытать счастья, понадеявшись на свою неизменную удачливость. Меньше ставить на кон было неприлично, вот и поставил он тоже – всё... И всё проиграл.
– Мошенника ты встретил, батюшка, – вздохнула Златоцвета. – Предупреждала я тебя: остерегайся лихих людей...
– Предупреждала, да я, глупец, не послушал! – вскричал купец, ударив кулаком по столу. – Мошенник он и был – кидала знатный! Обманул, обвёл вокруг пальца! И кости, даю руку на отсечение, у него жульнические были – из тех, что ложатся, как их хозяину угодно. Как опомнился я, сообразил, что к чему – бросился его искать, а его, подлеца, уж и след простыл!.. Ну да ничего – сыщу я его, жулика проклятого, и три шкуры с него сдеру!
Убытки Драгута Иславич понёс тяжёлые, но не сказать чтобы неподъёмные. Можно было ещё оправиться, коли с умом да осторожностью к делу подойти, да только загорелся обманутый купец мыслью во что бы то ни стало разыскать того мошенника и добиться справедливости. И вот, вместо того чтобы поправлять свои пошатнувшиеся дела, все оставшиеся средства бросил он на поиски: и сам ездил, и сыщиков нанимал, да только без толку. Жулик как в воду канул, будто и не существовало его на земле вовсе: никто о нём ничего не слыхивал и в лицо его не видывал. Похоже, умел проходимец менять свою внешность, природой данную – и лицо мог выкрасить, и бороду приклеить, и купцом из жарких стран прикинуться. Припомнил Драгута Иславич, что уж слишком быстро они общий язык нашли:
– Слова он вроде как коверкал, но всё равно слишком бойко по-нашему болтал для чужестранца. Выходит, никакой не чужестранец он, а соотечественник наш!
Только это наблюдение всё равно в поисках не помогло. Ни сам купец не смог на след мошенника напасть, ни нанятые им сыщики. Платить он им отказался, потому как задание они не выполнили, но сыщики возмутились:
– Как так?! Мы работали, расходы несли – изволь покрыть, купец-батюшка!
Возместить им расходы Драгута Иславич согласился. Много средств он на эти поиски истратил, почти ничего не осталось у него в сундуках, даже челяди платить стало нечем. Пришлось распустить почти всех слуг домашних. Чтоб поправить дела, влез купец в долги, дома не бывал месяцами – трудился, как проклятый, да толку-то... Как будто вместе с тем проигрышем удача отвернулась от него и в торговле. Спрашивал он совета у дочки, и подсказывала ему Златоцвета, как поступить в том либо ином случае, но то ли с горя у Драгуты Иславича ясный разум помутился, то ли хватку деловую потерял он совсем – как бы то ни было, вместо прибыли нёс он опять убытки. Златоцвета огорчалась, себя винила, что, дескать, неверно ему подсказывала, но купец вздыхал устало:
– Нет твоей вины в беде моей, дитятко, сам я виноват. Ты всё верно говоришь и правильно рассуждаешь. Это я, видать, из ума уж выжил...
Не старый он был ещё человек, а сдавать начал: некогда красивая русая голова поседела, и падать с неё стали молодецкие кудри, открывая плешь. Глубокие морщины избороздили его лицо, погас молодой огонь в очах, сгорбился купец, точно дед столетний. Не прибавляли ему покоя и заимодавцы, требуя возврата долгов, да чем вернёшь? Только всего имущества и осталось у него, что дом с садом. Чтоб хоть как-то кормить семью, велел Драгута Иславич нести на продажу и одёжу добрую, и дорогую обстановку домашнюю, и украшения жены. Не поднималась у него рука только на дочкин наряд свадебный, который в сундуке хранился. Берегли его, хоть и не надеялись уж, что сама невеста встанет и пойдёт своими ногами.
– Несчастный я глупец, сгубил я вас, мои родные, по глупости своей! – плакал Драгута Иславич, зарываясь мокрым лицом в бисерную вышивку на свадебном платье и прижимая наряд к груди. – И тебя, доченька, сгубил... Пропадать нам пришла пора!
Тонкая, полупрозрачная рука Златоцветы опустилась на батюшкино плечо.
– Не горюй, родимый... Только смерти уж нельзя поправить, а покуда человек жив, ещё есть надежда.
Поглядел отец на неё сквозь слёзы, проронил тихо, горько:
– О какой надежде ты говоришь, дитя моё? Кругом тупик, куда ни кинься... Изжил я надежду, изверился. И вас, мои родные, подвёл! Вот что меня лютее всего гложет и сердце мне в клочья рвёт...
Сияя нежным, милосердным светом в грустных очах, Златоцвета раскрыла отцу объятия:
– Иди, батюшка, иди ко мне, дай, утешу тебя.
Драгута Иславич уронил голову на неподвижные, прикрытые накидкой колени дочери. Тряслись его плечи, вздрагивала сутулая спина, а воздушные пальчики Златоцветы ворошили остатки его поседевших кудрей.
– Не плачь, батюшка, не горюй, – приговаривала она с нежным состраданием. – Всё образуется, правду говорю тебе.
– Радость ты моя, утешение ты моё единственное, – сквозь вздохи и рыдания промолвил отец.
Вот таким и было положение в семье купца накануне судьбоносной встречи. Один мальчишка-слуга ещё работал в доме, один добрый кафтан остался у хозяина, по одному платью – у его жены и дочери, и только богатое подвенечное облачение оставалось не снесённым на торги. Даже не верилось, что были времена, когда и десяток таких платьев мог купец заказать, и это не стало бы чувствительной для его кошелька тратой... Немало денег можно было бы за него выручить теперь, в пору нужды, но всякий раз у Драгуты Иславича тряслись губы, и смахивал он слёзы с зажмуренных век:
– Не могу... Рука не подымается!
А Златоцвета с улыбкой отвечала:
– И не надо, батюшка. Придёт час – и сгодится наряд.
* * *
«М-м, кто это тут у нас вишни наелся, а? Чей это ротик такой алый, такой сладкий, ммр-р-р?»
От звука этого голоса Златоцвета вздрогнула, но не открыла глаза. Пока она держала веки сомкнутыми, она явственно слышала и шаги, и шорох одежд, и дыхание, и улавливала запах гостьи. Почему гостьи, а не гостя? Голос был не мужским, хоть порой она и видела смутно очертания фигуры – рослой, как у витязя прекрасного, с сильными руками и длинными стройными ногами. Одежда – нарядная и богатая: колокольчиково-синий кафтан, шитый золотом и бисером, алые сапоги с кисточками, а ещё носила гостья светлые перчатки из тонкой кожи с длинными раструбами, тоже расшитые затейливо и роскошно. Порой она их снимала, и лица Златоцветы касались её тёплые пальцы – с пуховой, лебединой лаской, нежностью неземной...
На рукодельном столике и впрямь стояло блюдо крупных, тёмно-красных вишен: батюшка сам собрал их в саду и принёс Златоцвете: «Вот, доченька, покушай, порадуйся...» Всей радости у них только и осталось, что сад этот. Увы, яблонька, что они с отцом сажали когда-то вместе, чахла. Как и сама Златоцвета...
Не ходили ноги, не могла она встать с кресла, вот и сидела целыми днями в своей девичьей светёлке да рукодельничала. Вышивала девушка прекрасные платки, скатерти украшала шитьём, а матушка носила её работы на продажу. Не велик доход, а всё денежка. Не брал гордый Драгута Иславич ничьей помощи – даже от немногих друзей, что у него остались; но не знал он, что те покупали вышивку у его дочери, чтоб хоть так поддержать бедствующее семейство. А Кручинка Негославна, спрятав свою гордость подальше, ходила на торг с плодами из их сада: вишнями, яблоками, грушами. Самим столько всё равно не съесть – так что ж добру пропадать? Стояла супруга купца в торговом ряду, кутаясь в шаль цветастую, продавала вишню да яблоки, а сама украдкой слезинку вытирала. Одно хорошо: славный урожай давал сад – всем на загляденье да на зависть, и раскупался вкусный и сочный товар вмиг. Лишь когда видела Кручинка Негославна кого-нибудь из знакомых, старалась она отвернуться или платком прикрыть лицо, чтоб не узнали её. Неловко, стыдно... Была она купчиха-щеголиха, всегда статная, румяная да нарядная, а стала рыночная торговка.
А что ж батюшка? Тот всё никак не мог рассчитаться с долгами, всё ходил на поклон к заимодавцам, прося отсрочки. Да только ясно было: не расплатиться ему, захирела его торговля от постоянных убытков. Совсем сник Драгута Иславич, постарел, здоровье пошатнулось, стал он бледнеть и за сердце хвататься. Пытался он недавно устроить «одно маленькое дельце» – опять прогорел, только новых долгов наделал. Больше никто ему денег не ссужал, все знали: безнадёжный он должник, несостоятельный, и удача отвернулась от него, похоже, окончательно. У жены с дочкой и то лучше дела шли; Кручинка Негославна тоже рукодельница была славная, бельё шила такое, что ни в сказке сказать, ни пером описать. Заказы ей давали охотно, и выполняла она их добросовестно и в срок, но для этого ей приходилось трудиться иглой с утра до ночи. Раз в седмицу ходила она на торг – сбывать то, что Златоцвета успела вышить, а порой и по дворам товар разносила, людям предлагала. Если кому приходилась по душе работа Златоцветы, ей заказывали ещё что-нибудь. Так и жили, на хлеб с квасом зарабатывали. Чтоб с долгами рассчитаться, тех денег, само собой, не хватило бы; лишь на пропитание самое скромное – чтоб с голоду не умереть.
– Стыдно мне на шее у вас сидеть, – сокрушался батюшка. – Ни на что не пригоден я нынче стал... Хоть в работники нанимайся, да здоровье уже не то.
– Не кручинься, батюшка, – неизменно утешала Златоцвета отца. – Ты всю жизнь нас кормил-поил, в шелка одевал, теперь наша очередь о тебе печься.
– Не должно быть так, неслыханное это дело! – горевал тот. – Кормильцем я быть вам должен, а вместо того стал обузой...
«Лада-ладушка, ясноокая моя горлинка, – ласкал слух девушки голос, ставший дорогим её сердцу. – Утомилась ведь, родная моя... Отложи иголку, отдохни, вздремни – вон, сад как шелестит успокоительно... Пташки поют, солнышко светит».
Улыбаясь сквозь слёзы, откладывала Златоцвета работу, подставляла лучам бледное, остренькое личико. Только гостья дорогая и утешала её, только она и поддерживала, прогоняя уныние. Когда отходила девушка ко сну, та обязательно садилась на край постели, говорила слова ласковые; на заре же, склоняясь над нею, будила поцелуями воздушными.
Вот только никому, кроме Златоцветы, эта незнакомка не показывалась. Но знала девушка, что принесёт гостья счастье в дом, оставалось только дождаться... Видела Златоцвета своего отца вновь богатым, а матушку – склонившейся над колыбелькой с дитятком, но никому не рассказывала о тех видениях. Когда пыталась она ободрить батюшку, тот только устало морщился.
– Батюшка, ты забыл разве, что я всё знаю наперёд? – с улыбкой говорила она отцу. – Всё сбудется по слову моему, вот увидишь. Не унывай, скоро уж кончится бедствие наше.
Отец с неизбывной печалью целовал её в лоб, садился у её ног и долго смотрел на покрывавшую их накидку.
– Все богатства на свете отдал бы я за то, чтоб ты снова стала здорова, доченька. Пусть никогда не поднимусь я снова после своего падения, пусть остаток жизни проведу, прося подаяние – но ты, ты чтоб у нас встала на свои ноженьки, чтоб ходила и плясала, как прежде! И чтоб счастье своё нашла...
– Будет счастье, мой родненький, – говорила Златоцвета, смахивая тёплые слезинки с отцовских щёк. – Будет – для всех нас.
Только чахлая яблонька внимала её словам с верой. Не могла Златоцвета дотянуться до её веток, что тихо шелестели под окнами светлицы, только посылала своей хворой любимице ласковый взгляд.
– И ты выправишься, моя хорошая, – шептала она, отрываясь от рукоделия. – Ты всех нас переживёшь.
«Скушай яблочко наливное, радость моя, – пушистой кошкой ласкался к её сердцу голос гостьи. – Смотри, сколько их созрело в саду!»
– Матушка! – просила Златоцвета. – Дай мне яблочко!
– Вот, возьми, родная, – тут же откликалась та и пододвигала к ней поближе блюдо, полное спелых яблок.
Хотела бы девушка разделить душистый, румяный плод с подругой сердца своего, но та была пока бесплотным видением. Она лишь присаживалась около её ног, и Златоцвета мысленно зарывалась пальцами в русые пряди. Почти осязаемо проступал образ, каждая бисеринка на кафтане блестела, близкая и настоящая, только лицо оставалось размытым. Так и сидели они втроём у окна: Златоцвета с матушкой – за своей работой, а гостья – подле них, видимая только младшей из рукодельниц.
Иногда Златоцвету выносили вместе с креслом в сад. Батюшка сперва перемещал её на постель, потом они с мальчишкой-слугой вытаскивали громоздкое кресло, а затем сажали в него девушку. Златоцвета спрашивала у паренька:
– Кривко, отчего ты от нас не уйдёшь? Нам ведь тебе даже заплатить нечем.
– А некуда идти мне, – отвечал тот. – Да и прикипел сердцем к сему дому, и вы мне как родные стали: Драгута Иславич – вместо батюшки, Кручинка Негославна – вместо матушки, а ты, госпожа Златоцвета – сестрица.
Кривко не имел какой-то особой должности в доме, он делал всё, что могло потребоваться: убирал, мыл, стирал, по поручениям бегал, приносил требуемое, уносил ненужное. Платы он теперь не получал, работал за скромную еду и кров над головой. Неуклюж бывал порой сей отрок, за что матушка поругивала его – скорее устало, чем сердито. Как-то раз он был послан на торг за молоком для Златоцветы, но так спешил, что по дороге споткнулся, упал и разбил кувшин. Домой он пришёл весь зарёванный: понимал он, что за молоко уплачены деньги, заработанные неусыпными трудами рукодельниц, – знал он ему настоящую цену. Кривко так убивался, что даже у Кручинки Негославны не достало духу его бранить. Слуга сам себя ругал, размазывая кулаком слёзы:
– Растяпа я, раззява... Госпожа Златоцвета, чтоб эту денежку заработать, целую седмицу трудилась, ручками своими вышивала, спинку свою утомляла... А я, растетеря безрукий... бух! И нету молочка...
– Да полно тебе, не плачь! – со смехом успокаивала его Златоцвета. – Ну, что ж теперь поделать... В следующий раз будешь осторожнее.
Каждый раз, когда Кривко допускал оплошность, матушка только вздыхала: его и припугнуть особо нечем, не слишком-то выгодна ему была служба в их бедствующей семье, он мог найти и что-то лучшее, но оставался не ради выгоды, а из любви к хозяевам. Пристыдить? Неуклюжий отрок сам себя больше всех корил, когда случалось ему что-нибудь испортить – куда уж его ещё стыдить! Так и жили они.
Чтили в Светлореченской земле Лаладину седмицу и всегда ждали в гости женщин-кошек. Смотры невест проходили повсеместно, всюду разливалось половодьем веселье, только семье купца было не до радости. Долетали до слуха Златоцветы отголоски музыки; далёкое эхо звало в пляс, но немощные ноги не могли пошевелиться и поднять её из кресла. В праздничные дни утирала матушка Кручинка слёзы, батюшка тоже ходил мрачный, и всем гонцам-зазывалам давали они от ворот поворот сухим ответом:
– Ступай, добрый человек, нет у нас невест.
А весна играла чарами ясноокими, раскидывала небо богатым платком лазоревым, манила солнышком, смеялась птичьими голосами... Малый кусочек этой радости только и могла урвать себе Златоцвета, глядя в окошко, но и тем уже была счастлива, что пригревали лучи, обнимая её зябнущие плечи и касаясь бледных щёк. В один такой денёк увидела она высокую незнакомку в чёрном кафтане с золотой вышивкой: та бродила, осматриваясь, по дорожкам сада. Ростом она превосходила многих светлореченских мужчин, и по всем признакам угадывалась в ней принадлежность к роду дочерей Лалады. Гладкое, пригожее лицо было исполнено спокойной любознательности, а из-под русых прядей выглядывали острые кончики кошачьих ушей. Замерло сердце Златоцветы, провалилось в прохладную полуобморочную глубь... Уж не та ли это гостья, что являлась к ней в видениях? Всем своим худеньким телом напряглась девушка, цепляясь за подоконник, каким-то чудом подтянулась на одних лишь руках; горло же, как назло, ссохлось и было не в состоянии издать ни звука.
Стук в дверь прокатился по всему дому – судьбоносный ли?.. Златоцвета, тяжко дыша, сползла назад в кресло; её лицо исказилось от болезненной судороги, скрутившей поясницу: дорого обошёлся ей этот неистовый порыв. Сердце бухало и кровь шумела, а Кривко уже отворил гостье и впустил в дом. Женщина-кошка перемолвилась несколькими словами с батюшкой и матушкой, и её шаги зазвучали за дверью светёлки. И вот они, ясные белогорские очи, проницательные, мудрые и добрые – совсем близко... Душа Златоцветы трепетала и била крыльями, едва держась в теле лёгкой бабочкой. Долго смотрела на неё белогорская жительница, и от её взора девушку то холод охватывал, то жар. Что же победит – солнце радости или лёд разочарования?..
– Прости, голубка, но не моя ты лада, – вздохнула женщина-кошка мягко.
Голос своей любезной гостьи Златоцвета узнала бы из тысячи, и это был не он... Весенним ледком подёрнулось сердце от огорчения, а в глазах поплыла пелена слёз. С ласковым состраданием женщина-кошка присела у колен девушки, с улыбкой заглядывая ей в лицо.
– Не плачь, милая, не тужи! Твоя судьба за тобой обязательно придёт. А моя лада, видно, где-то поблизости живёт.
– Желаю тебе поскорее встретиться с нею, – пробормотала Златоцвета, смахивая пальцами непрошеные слезинки.
Успокаивая её, женщина-кошка замурлыкала, и рука Златоцветы сама протянулась робко к острому звериному уху в порыве почесать... Позволит ли ей незнакомка такую вольность? Гостья сама потёрлась ухом о ладонь девушки, и в груди у Златоцветы заворочался пушистый тёплый комочек мурчащего чуда – нежности, а на губах задрожала лучиком после дождя улыбка. Этого белогорянка и добивалась.
– Вот и умница... Не надо плакать, милая девица, всё ещё впереди у тебя.
Она ушла, а Златоцвета ещё долго прислушивалась к своему сердцу, растревоженному этой встречей. Всколыхнулись все её чаяния, ожили надежды, подняв подснежниковые головки к солнцу. Эта встреча была лишь предвестником, первой ласточкой, а настоящая судьба на кошачьих лапах кралась следом – она твёрдо знала это.
В самый последний день Лаладиной седмицы постучались в дом кошки-воины. Грозно сверкали их кольчуги и шлемы на солнце, переливались бисеринки вышитых подолов и рукавов, испытующе и пронзительно смотрели белогорские глаза... Матушка Кручинка онемела, перепугавшись до полусмерти – Драгута Иславич едва успел подхватить её, а то бы простёрлась она на полу.
– Не бойся, хозяйка, – сказали кошки-витязи. – С миром мы пришли! Свадебные мы посланницы: госпожа наша невесту свою ищет. Нет ли в вашем доме девицы на выданье?
– Девица-то есть, да захочет ли ваша госпожа её в супруги взять? – молвил батюшка невесело.
– Коли есть, пусть выйдет, – сказали дружинницы. – А госпожа разберётся сама.
– Не может она выйти, – вздохнул Драгута Иславич. – Смотрите сами...
Златоцвета, вслушиваясь в голоса, дрожала всем телом: вот оно, долгожданное! Это не шаги по лестнице стучали, это дорогая её сердцу гостья воплотилась из её грёз и слала ей весточку о своём скором приходе...
Кошки-воительницы вошли, загородив собой дверной проём, в котором мялись батюшка с матушкой – выглянуть из-за могучих плеч пытались, да не могли. Покатились пяльцы с незаконченной вышивкой по полу, и одна из кошек, поймав их, вернула рукоделие Златоцвете.
– Что с тобой, девица? Отчего ты не выходишь из дома?
– Увечье у неё, ноги не ходят, – ответил из-за спин дружинниц батюшка.
Кошки помолчали, переглядываясь, потом старшая из них склонилась и попыталась приподнять девушку из кресла. Вроде бы старалась она сделать это бережно, но боль пронзила Златоцвету, да такая, что заходила ходуном светлица, звездчатая пелена закачалась со звоном перед её глазами. Жалобный крик вырвался из груди: не смогла она сдержаться и напугала родителей.
– Ох, ох, тихонько! – запричитала матушка. – Что ж вы делаете-то?
Кошки смущённо хмурились, а старшая молвила, осторожно опуская девушку на место:
– Прости, голубушка... Сейчас всё пройдёт.
Из её ладоней заструилось удивительное ласковое тепло, наполняя Златоцвету блаженной лёгкостью и прогоняя боль.
– Мудрён твой недуг, девица, – молвила старшая дружинница. – Так просто не вылечишь... Даже свет Лалады его с первого раза не берёт. Видно, придётся нашей госпоже самой тебя посмотреть.
Батюшка осмелился спросить:
– А кто госпожа ваша, как её звать-величать?
– От Лесияры мы, от владычицы Белых гор, – ответили кошки.
– Так что же это – сама княгиня хочет к нашей дочке посвататься? – ахнули родители.
– А вы разве не слыхали про большой смотр невест, который в вашей земле учинили нарочно для государыни? – усмехнулась кошка-начальница.
– Да слыхали, конечно, – молвил батюшка, потрясённо переглядываясь с матушкой. – И что званы на него зеленоокие девицы, тоже знаем... Глазки нашей дочки как раз такие, какие вашей государыне нужны, да из-за недуга невозможно было её на смотр привести.
– Ну, тогда ждите гостей, – только и сказали княжеские посланницы.
«Какие гости? Когда? Сколько?» – все эти вопросы уже не успели сорваться с матушкиных трясущихся уст: кошки-витязи покинули дом, шагнув в проход.
– Ох! – всплеснула она руками, ошарашенно оседая на лавку. – Гости! Неужто сама княгиня Лесияра пожалует?! Батюшки! А нам даже попотчевать её нечем, вся мука вышла... Хоть каравай бы испечь, да не из чего!
Приём гостей был чреват непосильными для семьи расходами, потому-то так беспокоилась и печалилась Кручинка Негославна. А Драгута Иславич сказал:
– Ну, не знаю, матушка, как мы выкрутимся, а поднести государыне что-нибудь надо. Придётся у соседей занимать...
Кривко тотчас был послан к соседям за мукой и кувшином хмельного мёда, но вместо муки принёс уже готовый каравай.
– Добрые люди, – прослезилась матушка. – Надо будет сходить, поклониться им в ноги!
Хорош был хлеб: пышный, торжественный, мягкий, как пуховая перина... А какой дух он вокруг себя распространял! Тёплый, домашний, сытный. Кривко поведал, что у соседей сейчас пир горой: к их дочке пришла суженая – женщина-кошка; вот с этого-то праздничного стола каравай и взялся – хозяйка, размахнувшись на радостях, целых три испекла. Златоцвете почему-то вспомнилась та белогорянка, что заходила к ним накануне. «Моя лада, видно, где-то поблизости живёт», – сказала та. А матушка тем временем поскребла, что называется, по сусекам и собрала всё, что нашлось у них съестного. Стол венчал сдобной круглой башенкой праздничный каравай, важно и горделиво сияя румяной корочкой и узорами из теста, а вокруг него, как бедные родственники, сиротливо пристроились прочие «яства»: горшок с оставшейся от завтрака кашей (пустой, даже без масла), несколько жухлых морковок, пара луковиц, два чёрствых бублика, жбан с квасом да связка сушёных грибов...
– Да, негусто, – погладив бороду, молвил Драгута Иславич. – Кривко! А мёд-то где? Ты опять кувшин по дороге разбил?
К счастью, паренёк донёс мёд в целости и сохранности, просто кувшин был очень тяжёлый, и он его оставил в сенях. Батюшка распорядился каравай и драгоценный сосуд с хмельным напитком оставить на столе, а прочие скудные припасы убрать с глаз подальше: не годились они для встречи гостей, особенно столь высоких.
– Эхе-хе, – вздохнул он. – Нет, не может быть, чтобы нам такое счастье привалило!
– Верь, отец, – с улыбкой сказала матушка, в глазах которой брезжил свет надежды. – Верь, как я верю!
– Много я верил в своей жизни, да ещё больше обманывался, – горько ответил Драгута Иславич.
Не успел он вымолвить этих слов, как раздался стук в дверь, от которого сердца у всех подпрыгнули и перевернулись в груди. Матушка опять всплеснула руками, встрепенулась:
– Как, уже?! Скоро же, однако, гости-то пожаловали!
Но это оказались ещё не долгожданные гости, а та женщина-кошка, что заглядывала к ним ранее. Пришла она не с пустыми руками, а с большой корзиной, полной праздничной снеди.
– Здравия вам, добрые хозяева, и процветания вашему дому, – чинно поклонилась она. – Коли помните, заходила я к вам в поисках своей лады, да не судьба оказалась. Верно моё сердце подсказало: избранницу я у ваших соседей встретила – тех самых, что каравай вам от своего стола прислали. Примите и от меня кое-что, дабы и ваш стол не пустовал.
С этими словами она поставила корзину, сняла с неё тряпицу, которой та была обвязана, и вынула небольшой резной туесок.
– А вот это позвольте мне вашей дочке лично в руки отдать. Медок тихорощенский это.
Еле дышала Златоцвета от радостного предчувствия, которое обхватило её своими светлыми крыльями с приходом княжеских посланниц. Уже на пороге стояло счастье, раскрывая ей объятия, хоть ещё и не видела она лица своей любезной гостьи... Всё это прочла женщина-кошка в глазах девушки, вновь присаживаясь у её колен.
– Ну, вот видишь, и к тебе судьба постучалась, – улыбнулась она. – А моя ладушка и впрямь по соседству нашлась – совсем близенько, оттого-то меня к вам и занесло сперва, заплутала я малость. Но не зря я заблудилась, стоило оно того: хоть тебя, славную такую, увидала. От всего сердца счастья тебе желаю, милая.
– Благодарю тебя, – пролепетала Златоцвета, чувствуя к этой кошке тёплую, дружескую приязнь, которая, как ручеёк, брала начало в роднике её главной, сияющей и огромной, как небо, радости. – Как же хорошо, что ты свою ладушку нашла! Совет вам с нею да любовь... Но как звать тебя? Я даже имени твоего не ведаю.
– Звать меня Мыслимирой, – сказала женщина-кошка, вкладывая ей в руки туесок. – Возьми, моя хорошая, это мёд наш белогорский, тихорощенский. Целебный он и для тела, и для души. Не сомневаюсь я, что вылечит тебя твоя лада, но и медок, думаю, не лишним будет.
Невелик был туесок, да тяжёл – оттянул тоненькие руки Златоцветы душистым, дорогим белогорским сокровищем. Сильные ладони Мыслимиры поддержали его снизу, а в её посерьёзневшем взоре проступило тёплое, сердечное сострадание.
– Худенькая ты, голубушка... И глазки у тебя голодные. – И добавила, кивнув на туесок: – Покушай. Прямо сейчас поешь, чтоб румянец на твоих щёчках заиграл, и чтоб твоя суженая тебя сытой да весёлой увидела!
– Ты не думай, не голодаем мы, – поджала Златоцвета губы, ощутив в груди жар неловкости. – Небогато живём, но себя прокормить можем!
– Моя ты гордая пташечка, – засмеялась-замурлыкала Мыслимира. – Ничего, ничего, не обижайся – не из жалости я. Беспокоюсь за тебя, как за сестрицу младшую, вот и хочу накормить... Уж очень ты хрупкая, даже обнять страшно! Ну, давай, попробуй медок. Сейчас и хлебушка принесу тебе! Матушка его моя пекла.
Уже через несколько мгновений она вручила Златоцвете кусок свежего калача – с золотистой хрусткой корочкой и белым, пухово-мягким мякишем. Ложкой зачерпнув мёд из туеска, белогорянка намазала его на хлеб и вручила девушке вместе с кружкой молока.
– Что может быть лучше молока да мёда? – приговаривала она. И с мурлычущим смешком ответила себе: – Правильно, лучше – только МНОГО молока да мёда!
С первым кусочком Златоцвета поняла, насколько же она действительно голодна. Завтракала она давно – на рассвете, и та каша уже, конечно, растаяла в желудке бесследно, но толком даже не насытила, оставив после себя беспокойное, изматывающее жжение под ложечкой. С тех пор как их семья начала бедствовать, полностью сытой Златоцвета никогда себя не чувствовала, но уже свыклась с постоянным голодом, как свыкаются с дождём, ветром и снегом. Они просто есть, и ничего с ними не поделать, так и этот голод – неизменный, неотступный, неумолчный, верный спутник. Плохо насыщала скудная пища, за стол семья садилась хорошо если дважды в день, а порой обходились они только одной трапезой – обедом. Белогорское угощение удивительным образом утихомирило этот вечно сосущий голод, будто пуховыми рукавичками обхватив нутро – впервые за долгое время девушка испытала полное сытое блаженство. Мёд обволакивал и горло, и сердце, и на глазах Златоцветы проступили слёзы.
– Ну-ну, вот ещё, – проговорила Мыслимира. – Нет, так не пойдёт. Вытри-ка глазки сей же час, красавица! Ещё не хватало твоей суженой увидеть тебя зарёванной...
Эти слова опустились на душу ласковой, согревающей тяжестью, как большая сильная рука. Слёзы всё равно текли ручьями, но Златоцвета улыбалась с мокрыми щеками. Она допивала молоко, а Мыслимира поддерживала снизу тяжёлую глиняную кружку: она уже поняла, насколько слабы руки девушки.
– Ну, вот и умница. Совсем другое дело! Только слёзки давай всё-таки вытрем.
А в дверях плакали матушка с батюшкой. Вернее, матушка хлюпала носом, а отец держался, но и у него губы тряслись. Женщина-кошка поднялась и с улыбкой сказала им:
– Ободритесь! Счастье в ваш дом стучится – радоваться надо, а не плакать!
С этими словами она попрощалась: поклонилась родителям, а Златоцвету расцеловала в лоб, глаза и щёки, после чего покинула дом, оставив огромную корзину съестного.
– Ну вот, отец, а ты ещё не верил, – осушив слезинки, улыбнулась матушка. – Глянь-ка, теперь у нас полный стол яств! Есть чем гостей попотчевать!
И то правда: как из волшебной торбы, появились из корзины блины с рыбой, творожные ватрушки, кисель клюквенный и черничный, пироги с грибами, пироги с земляникой, запечённая утка, расстегаи со стерлядью, румяная кулебяка с узорами из теста... А какие в ней начинки – не узнаешь, покуда не разрежешь, только сквозь дырочку в верхней корочке что-то проступало – толком не понять. Всё вынимала и вынимала матушка яства, а они не кончались, словно корзина была бездонной. На столе уж места свободного не осталось, а Кручинка Негославна со смехом доставала блюдо за блюдом.
– Батюшки мои, да это целый пир! – воскликнула она, окидывая счастливым, восхищённым взглядом всё это изобилие, а оно отражалось в её широко распахнутых, зачарованных глазах.
– Да-а, – басом протянул Драгута Иславич. – Прямо сейчас бы к пирогам приложился, да гостей ждать надобно.
– Отец, так ты съешь пирожок-другой, не томись! – встрепенулась матушка, хватая блюдо с грибными пирожками и поднося ему. – Нешто гости считать их станут?
– Нет уж, за стол вместе с гостями сядем, – твёрдо молвил батюшка, отводя от себя соблазнительную горку пирогов, так и прыгавших в рот. – Златушка хлебом да мёдом подкрепилась, а мы уж потерпим – чай, не дети малые.
Ещё не переступила суженая Златоцветы порог дома, а он уже наполнился белогорским духом. И дело было не только в угощении, приготовленном искусными руками родительницы Мыслимиры, но и в чём-то невещественном, тонком. Может, это тихорощенский мёд источал запах соснового покоя и бессмертного лета? Приподнимая крышечку туеска, Златоцвета вдыхала его всей грудью и улыбалась, а уголки глаз покалывало от подступавших к ним слёз радости.
– Ох, доченька, тебе же одеться надобно! – спохватилась матушка. – Не зря, ох, не зря мы наряд твой сберегли, на торг не снесли! Пригодится теперь облачение свадебное... Отец! Поди сюда, помогай дочку одевать!
Батюшка присоединился к радостным хлопотам. Оба родителя с величайшей торжественностью и бережностью принялись наряжать Златоцвету в богатое одеяние невесты, которое свято сохранялось в сундуке. Бывало, что и раз в день семья за стол садилась, а к обеду порой ничего, кроме хлеба грубого да кваса кислого хозяйка подать не могла, но продать или заложить наряд дочки, предназначенный для самого счастливого события в её жизни – о таком святотатстве никто и помыслить не смел. А выручить за него можно было много и жить потом на те средства долго и весьма сыто, ежели распорядиться ими с умом и бережливостью. Один только венец золотой с жемчугами да каменьями драгоценными целого состояния стоил, не говоря уж о платье тончайшей, мастерской работы, серебром и золотом расшитом и самоцветами украшенном. Но неприкосновенным оставался наряд, берегли его, как святыню, и вот – настал тот самый день, когда его извлекли из сундука и надели на Златоцвету.
– Точно княжна перед нами сидит! – прошептала матушка, любуясь дочкой со слезами на глазах.
С трудом дышала Златоцвета в этом сверкающем убранстве, слишком тяжёлым оно казалось её истощённому, тщедушному телу, нижняя половина которого едва ли могла служить ей прочной опорой. Сказать по правде, только полтела и оставалось у неё, и она вынуждена была вцепиться в подлокотники своего кресла, чтоб не соскользнуть на пол.
– Матушка, батюшка, да этот наряд весит больше, чем я сама, – глуховато и одышливо засмеялась она. – Я в нём точно в доспехах!
– Зато какая красавица! – умилённо ответили ей родители.
И с этими словами матушка прикрепила к венцу пышное облако фаты, окутавшее Златоцвету вместе с креслом сверху донизу. Воздушная полупрозрачная ткань собралась на полу в многочисленные складки.
– Гм, длинновато, – проговорил батюшка.
– В самый раз, – возразила ему матушка.
– В самый раз было бы, ежели б она стояла, – вздохнул тот.
Эта печальная истина и так была понятна, но белогорская сказка надвигалась неумолимо, обещая чудо. И чудо случилось...
Оно летело стремительным шагом по садовой дорожке, и казалось, будто земля радостно вздрагивала от поступи стройных прекрасных ног в алых, расшитых золотом сапогах. Суженая шла так быстро, что от встречного ветерка откидывались волнистые пряди её волос цвета солнечно-спелой ржи; застыв на полпути, величавая женщина-кошка вскинула глаза к окошку Златоцветы, и девушка утонула в их мягкой вечерней синеве. Всю мудрую красоту, всё увенчанное снежными шапками достоинство Белогорской земли несла в своём облике правительница, осанисто-статная, рослая и сильная, как все женщины-кошки, но вместе с тем пружинисто-лёгкая, исполненная кошачьего изящества. Богато вышитая белая рубашка была туго схвачена алым кушаком, на накладных зарукавьях блестели жемчуга, на пальцах – перстни, а с плеч княгини ниспадал ягодно-красный плащ, также густо расшитый золотыми узорами; на высоком, светлом челе повелительницы Белых гор сверкал драгоценный княжеский венец, украшенный сокровищами земных недр – такой предстала перед трепещущей Златоцветой Лесияра, предводительница народа дочерей Лалады.
Чувства охватили девушку с силой ураганного ветра, и она заслонила лицо ладонями, но лишь для того, чтобы этот ветер не выдул душу из тела, которая и без того еле там держалась. Да, это была она, её дорогая гостья, смутный облик которой являлся к ней, утешал ласковыми словами и ободрял в мгновения уныния; теперь этот облик обрёл плоть, кровь и лицо – самое прекрасное из всех, самое совершенное, светлое и любящее. Слишком... слишком сильно дул ветер, а платье стало неподъёмным, как тысяча кольчуг. Златоцвету охватило блаженное беспамятство.
Она не слышала, как матушка закричала: «Кривко, гости! Каравай... Каравай готовь!» Если б она видела, как забегал, заметался всклокоченный слуга с перепуганным лицом, натыкаясь на предметы и никак не попадая в дверь, она непременно расхохоталась бы над этим зрелищем. Сладкий обморок скрыл от Златоцветы и судьбоносный стук, от которого сотрясался чуть ли не весь дом, и беготню матушки, столкнувшейся на ступеньках с Кривко, который нёс каравай на благоговейно вытянутых руках. «Да погоди ты с караваем – дверь, дверь отвори сперва!» – переменила матушка распоряжение, внезапностью коего привела бедного отрока в окончательное замешательство. Парнишка побежал отворять, а матушка засеменила с праздничным хлебом к столу, чтоб водрузить его на место. Знатный вышел переполох! Только местонахождение батюшки было решительно неизвестно; вероятно, он старался привести себя в приличный вид – настолько, насколько ему позволяли остатки платья, избежавшие участи быть проданными. Один добрый кафтан у него ещё оставался, и под его длинными полами батюшка мог скрыть заплатки на портках, заботливо наложенные матушкой.
Златоцвету держали в объятиях сильные и нежные руки – так могла обнимать только лада, только суженая...
– Здравствуй, яблонька моя! Вот и нашла я тебя... И никогда не отпущу.
Да, этот голос Златоцвета слышала в своих грёзах наяву, от него сладко обмирала и таяла её душа. Ресницы путались, цеплялись друг за друга, и она с трудом смогла разомкнуть веки, чтобы наконец увидеть лицо своей лады – до мурашек, до замирания в груди близкое.
– Платье... платье перевесило, – только и смогла девушка пролепетать, дабы объяснить своё падение.
Шутка то была или правда, она и сама не знала, но в объятиях суженой груз тяжёлого наряда почти перестал чувствоваться, у Златоцветы будто сил прибавилось. Лесияра засмеялась, и от её смешка, мурлычущего и ласкового, сердце словно гусиной кожей покрывалось.
– Здравствуй, государыня, – на остатках еле теплившегося в груди дыхания вымолвила Златоцвета. – Ждала я тебя, во сне видела... Только прийти к тебе не могла.
Она осмелела до того, что обняла княгиню за плечи. Несколько сладостных мгновений та держала девушку на руках, и их дыхания смешивались, срываясь с почти соприкасающихся уст, а потом Златоцвета снова очутилась в кресле. Лесияра, преклонив колено подле неё, держала её руку в своих тёплых ладонях.
– Ничего, милая, – сказала она, окутывая девушку нежностью вечернего неба в своём взоре. – Думаешь, я сама не отыскала бы тебя? И мне твои глазки каждую ночь снились, покоя меня лишили. За такими — хоть на край света...
Всей душой и сердцем погружённая в долгожданную встречу, Златоцвета всё же не могла краем глаза не заметить последствия гостеприимного порыва матушки и Кривко: на полу блестела лужица разлитого мёда, чарка откатилась в угол, а отрок подымал и отряхивал уроненный каравай. Они с матушкой шёпотом препирались.
– Кривко, дурень, тебя кто звал, пентюх ты косорукий?! Сказано ж было – когда позовут, тогда и неси!
– Дык, госпожа-матушка... Ты ж сперва сказала – каравай готовь, потом – двери отворяй... А потом, стало быть, опять каравай нести надлежало – так я рассудил...
– Приказа ждать тебе надлежало, а не рассуждать, пентюх ты перепентюх! Вот, из-за тебя теперь каравай пропал!.. По полу поваляли – нельзя уж на стол подавать...
– Дык, матушка, не беда это! У нас же ещё полон стол яств, а каравай – ничего, что поваляли, я и с пола съем, мне отдайте.
– Ишь, чего захотел! Каравай ему отдайте! А харя не треснет?
Княжеские дружинницы прятали улыбки в ладонь, а батюшка стоял красный, как варёный рак. Матушка, заметив, что их все слушают, зажала смущённое «ой» пальцами и тоже покраснела. Драгута Иславич, откашлявшись, чинно произнёс:
– Ну что ж, гости дорогие, прошу к столу!..
Стол и без каравая вышел такой, что не стыдно было посадить за него даже саму княгиню. Кошки-дружинницы подхватили с двух сторон кресло Златоцветы и снесли её вместе с ним в трапезную, где расположили девушку рядом с княгиней. А ей подумалось при виде роскошного угощения: хорошо, что она хлебом с молоком и мёдом перекусила, а то и Лесияра заметила бы её голодные глаза... Неужели голод в них так явственно читался? Впрочем, тоненькая рука в колоколе парчового рукава говорила сама за себя – обтянутые кожей косточки запястья выпирали, синели жилки.
– Ты уж не серчай, госпожа, – сказал батюшка. – Прости, что дочь на смотрины не отвёз, приказа ослушался. Сама видишь: ну, куда её везти?
Лесияра, ласково сжав руку Златоцветы, ответила с улыбкой:
– Не горюйте. Обещаю, что скоро эта светлая яблонька зацветёт.
Обед прошёл на славу. Более всего угостились за праздничным столом княжеские дружинницы, Златоцвета с Лесиярой были слишком поглощены друг другом, чтоб уделять должное внимание еде, а хозяин с хозяйкой пробовали кушанья сдержанно и величаво, делая вид, будто такие пирушки у них чуть ли не каждый день. Погасив голодный блеск в глазах, они едва притрагивались к яствам, а ведь совсем недавно Драгута Иславич мечтал хорошенько приложиться к пирожкам... Ах, как тяжко им было блюсти видимость благополучия! И каждого из них донимала одна и та же мысль: а дальше что?.. Сейчас их выручила Мыслимира, и они не ударили в грязь лицом, принимая гостей, но ведь до свадьбы ещё далеко, и Лесияра, конечно, всё заметит и поймёт.
После обеда Златоцвету в кресле вынесли в сад. Яблони роняли лепестки, усыпая волосы и плечи княгини душистой весенней метелью, и царственная суженая казалась девушке слишком прекрасной, слишком недосягаемой... Удивительно: она знала, что так будет, но сейчас ей не верилось, что её счастье и впрямь сбывается. Кривая яблоня, её чахлая любимица, почти не цвела в эту весну, но Златоцвете хотелось бы, чтоб чудо, которое произошло с ней самой, распространилось и на это по-особому дорогое ей дерево.
– Чем тебе люба эта яблонька? – спросила Лесияра, кладя руку на шелушащуюся, поросшую грибом кору.
– Я сажала её вместе с батюшкой, когда ещё могла ходить своими ногами, – ответила девушка.
– Вы с нею похожи, – задумчиво молвила княгиня. – Но скоро всё изменится.
Действительность была во сто крат лучше грёз и видений: в последних облик лады лишь манил бесплотной, полувоздушной лаской, а сейчас настоящие, живые и тёплые губы повелительницы женщин-кошек щекотали пальцы Златоцветы, перецеловывали все суставы, все жилки, погружались в подушечку ладони, и выражалась в этом не только ласка, но и чувственность, ещё не познанная невинной девушкой. Дыхание Златоцветы сбивалось, взволнованное и частое, а когда руки княгини забрались ей под подол и заскользили по ногам, у неё вырвалось острое «ах!» – даже не от испуга, а от внезапно обжегшего её стыда. Как можно было ласкать эти иссохшие отростки, в которых не было ничего привлекательного? Сама мысль об этом казалась отталкивающей... Но Лесияра, обнимая девушку светлыми лучиками нежности во взоре, вполголоса мурлыкнула:
– Не бойся, яблонька моя. Я помогу тебе, исцелю светом Лалады и поставлю на ноги. Обещаю, на нашей свадьбе ты будешь плясать!
Снова Златоцвета ощутила это удивительное тепло, которое разливалось сперва по коже живой сеткой золотых узоров, потом проникало глубже в тело, струилось по жилам и добиралось наконец до груди. Тёплый толчок под рёбрами – это сгусток света попал в сердце, заставив его сначала ёкнуть и замереть, а потом застучать быстро-быстро. То был свет любви, который лучился и из зрачков Лесияры, и Златоцвета, окутанная им, вся содрогнулась от пронизывающего желания прильнуть к ней, слиться воедино и уже никогда не отрываться от этого живительного источника. Её губы задрожали и раскрылись, ловя первый в её жизни поцелуй. Он растекался медовыми струйками, ласкался кошкой, пробуждая в Златоцвете странные, беспокойные комочки радости, прыгучие, как маленькие пташки. Бурлящая сила подымала её из кресла, и она уже почти не чувствовала оков недуга, накрепко соединявших её с сиденьем. Вскочить и бежать, бежать по цветущему лугу! – вот чего ей хотелось, и она видела себя бегущей – так ясно, что слёзы на глазах проступали.
– Государыня... Ты не уйдёшь? Не покинешь меня, как сон? – пролепетала девушка, когда поцелуй закончился и их уста разомкнулись.
Вечернее небо в глазах княгини окутывало Златоцвету лучами доброй зари.
– Нет, светлая моя... Я никуда не денусь, я отныне всегда буду с тобой. Это не сон, это явь, но и сны у нас с тобой будут сладкими, мр-р-р, р-радость моя... – Слова Лесияры утонули в кошачьем мурлыканье; она легонько потёрлась носом о нос девушки и улыбнулась: – Ну что, посмотрим, что там с твоими ножками?
Бережно придерживая ногу Златоцветы, княгиня сняла с неё сапожок.
– Попробуй пошевелить пальцами.
Да, Златоцвета видела себя бегущей, но опять ей не верилось. Душа словно в скорлупе затаилась, но нежность Лесияры пробилась сквозь корку сомнений, и девушка направила к ногам мысленный приказ... Она уж и забыла, как это – шевелить ими, и крик изумления вырвался у неё, когда они ей повиновались. Пока – только пальцы и немножко стопа, но как это было поразительно – видеть, как оживает то, что, казалось, уже давно отмерло.
«Верь, верь в меня», – мурлыкало счастье, ластясь к сердцу кошачьим боком, а Лесияра улыбалась рядом, держа в своих руках босую ступню Златоцветы. Неужто и правда её ноги скоро побегут по росистой траве?.. А княгиня, словно прочтя её мысли, надела ей на палец перстень с ярко-зелёным камнем и подхватила на руки.
Радугами заколыхалось пространство вокруг Златоцветы, зашумело в ушах то ли от ветра, то ли от головокружения. А кругом раскинулся цветущий луг, вдали сверкала на солнце река, а на противоположном берегу темнела стена соснового леса. Огромные горы подпирали белыми шапками чистый небосклон. Ошеломлённая резким перемещением, Златоцвета несколько мгновений не могла вымолвить ни слова, а Лесияра мурлыкала и смеялась ей на ушко.
– Мы в Белых горах, горлинка моя. Не пугайся... Это благодаря колечку ты смогла перенестись сюда вместе со мной.
Перстень грел Златоцвете палец живым теплом, собирал в себя солнечные лучи и горел зелёной таинственной сказкой... А травы звенели песней кузнечиков, и руки сами тянулись к цветам, чтобы сплести венок. Лесияра окутала Златоцвету собой, став для неё живым креслом, и от этого единения девушке снова хотелось плакать. Солоноватыми лучиками рвалась радость к глазам, и она откинула голову на плечо княгини. Солнце целовало её лицо сверху, а лада щекотала губами ушко и щёку. Стучало сердце Златоцветы и уже любило: любовь та зародилась давно, ещё когда суженая была тенью, призраком, мечтой.
– Я видела тебя ещё до нашей встречи, ты всегда была со мной... Ты будила меня на рассвете и провожала ко сну, – стала рассказывать девушка, вплетая в венок цветы, которые княгиня срывала и подавала ей. – Когда в нашем саду созревал урожай, ты соблазняла меня съесть яблочко, отведать вишни... А когда мне так тошно становилось, что хоть вой, лишь ты не позволяла мне унывать.
– И впредь не буду позволять, – мурлыкнула Лесияра, играя с её ухом, покусывая и целуя. – Я буду радовать тебя и баловать... Ох и избалую же я тебя, счастье моё, яблонька моя! М-м, и что же я говорила тебе в твоих видениях?
Златоцвета была бы и рада повторить, но её охватило жаркое, как летний полдень, смущение. А Лесияра теребила её, допытывалась:
– Ну-ну, горлинка, скажи... Отчего же ты краснеешь? Что, неужели я вела себя так неприлично, что и вспоминать стыдно?
– Ах, нет, – рассмеялась Златоцвета, ёжась от щекотки её губ. – Вовсе не неприлично... И не стыдно. Я просто...
– Ну, ну? – Княгиня шаловливо щекотала ей шею травинкой.
– Ладно, только я на ушко тебе скажу, – решилась наконец девушка.
Лесияра склонилась к ней с улыбкой, и Златоцвета принялась повторять услышанное – всё, что врезалось ей в память и до сих пор звучало эхом в душе. Княгиня-кошка слушала, блаженно жмурясь и шевеля время от времени острым звериным ухом, а потом испустила долгое мурчание. Она мурчала и мурчала, и в груди у Златоцветы весёлыми котятами прыгал смех – хотелось почесать мурлычущей княгине за ушком, но допустимо ли было так вольно обращаться с самой повелительницей Белых гор?.. Тягучее «мрррр» стихло, Лесияра открыла глаза и посмотрела на девушку серьёзно и нежно.
– Я буду повторять эти слова снова и снова, яблонька моя. И да, я тоже полюбила тебя задолго до сегодняшнего дня. Твой светлый облик, твои очи прекрасные, твою душу, которая так ласково, так невесомо касалась моей души... Это ни с чем не сравнится! Это чудо – когда душа льнёт к душе, когда они обе знают, что родные друг другу. А как только вишни созреют в княжеском саду, я сама стану рвать их для тебя и приносить каждое утро, когда ты проснёшься и откроешь глазки навстречу новому дню.
Златоцвета почти лежала в её объятиях, растекаясь и тая. Снова поцелуй коснулся её уст, и она устремилась ему навстречу всем сердцем, душой и губами.
– Заройся ножками в траву, – шептала Лесияра. – Почувствуй силу земли Белогорской, впитай её тепло, сроднись с нею. Скоро она станет твоим домом, моя милая – вот тогда-то ты окончательно и выздоровеешь. Это уже после свадьбы, а пока я буду вливать в тебя свет Лалады, чтоб ты встать смогла. Ещё бы в Тихую Рощу тебя сводить, в Восточном Ключе искупать... Великая целебная сила в его водах течёт. Ничего, яблонька, вылечим тебя – я, Белые горы и Лалада.
Златоцвета верила каждому слову и уже не сомневалась. Долго они с княгиней любовно ворковали, целовались и миловались на лугу, босыми ступнями девушка чувствовала траву и нагретую солнцем землю, а в объятиях суженой ей было хорошо, легко и сладко. Но, вспомнив о родителях, она запросилась домой:
– Ох, там батюшка с матушкой, наверно, уж беспокоятся...
– Им нечего бояться – ведь ты со мной, – мурлыкнула Лесияра. – Впрочем, твоя правда, пойдём.
Они перенеслись назад тем же способом – через проход, очутившись в саду, возле кресла, которое стояло там же, где его оставили. Златоцвета сразу успокоила родителей, которые и впрямь уже слегка тревожились из-за их с Лесиярой долгого отсутствия:
– Батюшка, матушка, всё хорошо! Я в Белых горах побывала. А ещё я могу шевелить ногами, смотрите!
И она повращала босыми ступнями, поджала и распрямила пальцы. Расчувствовавшаяся матушка всплеснула руками и вытерла слезу:
– Ох, да неужто ты у нас и правда на поправку пошла?
– Правда, матушка Кручинка, правда, – улыбнулась Лесияра, держа Златоцвету в объятиях. – Это только начало лечения. То ли ещё будет!..
На правах законной избранницы она отнесла девушку в опочивальню, помогла освободиться от тяжёлого наряда и переодеться в ночную сорочку. Златоцвета с беспокойством следила за выражением её лица: не заметила ли княгиня, что сорочка-то – хоть и чистая, но старенькая, застиранная, а кое-где и заштопанная, а постельное бельё – в заплатках? Но взор Лесияры оставался безмятежно-ласковым, не на рубашку и бельё она смотрела, а на саму Златоцвету – задумчиво, нежно, влюблённо. Она уложила невесту в постель: солнце уже клонилось к закату.
– Отдыхай, моя горлинка... Набирайся сил. Завтра я снова к тебе приду – сделаем ещё один шажок к твоему выздоровлению.
Необходимость расставания, пусть и совсем краткого, дохнула горьким холодом, и Златоцвета, зябко закутавшись в одеяло, не сдержала слёз. До крика, до тягучего стона не хотелось отпускать Лесияру, девушка словно пуповиной к ней приросла.
– Государыня, не уходи так скоро, – пролепетала она. – Не хочу с тобой прощаться даже на день...
– Ну, ну, радость моя! – Княгиня тут же присела рядом и окутала Златоцвету нежными объятиями. – Не плачь, а то и я с тобой заплачу... По правде сказать, и мне от тебя уходить не хочется. Солнышко моё ясное, яблонька моя дивная, мрр-р-р...
От мурлыканья Златоцвету охватила сонная истома, и она уютно устроилась на плече княгини, как вдруг из сладкой полудрёмы её вывел настороженный вопрос суженой:
– А этот туесок откуда взялся? Тихорощенским мёдом пахнет... Вы уже бывали в Белых горах?
– Нет, это Мыслимира угостила, – пробормотала Златоцвета, ещё не вполне вынырнувшая из объятий полусна. – Она ладу свою искала, вот и зашла к нам случайно... Избранницу свою она у наших соседей встретила... А потом... охо-хо! – девушка сладко зевнула, – потом ещё раз зашла – уже с гостинцами.
– Хм, – нахмурилась княгиня, приподнимая её лицо за подбородок и всматриваясь пристально ей в глаза. – Надо бы разузнать, что за Мыслимира такая...
От этих слов Златоцвета окончательно проснулась и вдруг будто в холодный омут рухнула.
– Государыня, ты не подумай чего худого, – торопливо прибавила она. – Она просто по-соседски, по-дружески зашла и мёдом от чистого сердца угостила.
Сдвинувшиеся было брови Лесияры расправились, в глазах замерцали тёплые искорки, она поцеловала девушку в лоб и прижала к груди.
– Ну-ну, что ты, ладушка... Не тревожься, у меня нет причин тебе не верить. Но беречь тебя – мой долг, так что я о ней всё-таки разузнаю. Ну, а коли и вправду ничего худого она не замыслила, то и забудем об этом. Пусть ничто тебя не беспокоит, милая, отдыхай... И помни: даже если меня нет поблизости, в мыслях я всё равно с тобой.
Снова поток мурлыканья взял Златоцвету в свой умиротворяющий плен, и девушка заснула крепко, сладко и глубоко. Она уже не слышала, как Лесияра, попрощавшись с её родителями, ушла; за гранью её восприятия остались и матушкины вздохи – та сетовала на прожорливость княжеских дружинниц, слаженными усилиями которых праздничный обед был почти полностью уничтожен. Только Кривко не имел причин для малейшего недовольства: ему достался весь каравай, и он всё ещё доедал его, отламывая по кусочку и запивая квасом. Ну и что ж, что на пол его уронили? Всего-то дел – поднять да отряхнуть чуток, не пропадать же такому знатному добру! Уже лёжа на своём тюфяке на полатях, отрок продолжал сонно жевать, а остатки свадебного хлеба покоились в самом безопасном месте – у него под боком.
Златоцвета не просто проснулась – она бодро выпорхнула из освежающего сна, радостная и отдохнувшая. Ещё никогда утро не улыбалось ей столь ласково, столь многообещающе, а душа не переполнялась светом и счастьем. И имя этому счастью было Лесияра... Мысль о княгине обвилась вокруг сердца пушистым кошачьим хвостом, и Златоцвете самой хотелось замурлыкать. Скорее бы суженая пришла! Скорее бы увидеть её ясноокое, пригожее лицо, её лучистую улыбку, услышать её голос – и не в видениях, а наяву, в щекотной тёплой близости к уху. Матушка подала на стол остатки вчерашнего обеда – весьма скудные (ох уж эти обжоры-дружинницы!), но сегодня Златоцвету ничто не удручало, ничто не беспокоило, всё искрилось радужными красками, а грудь дышала со сладостной лёгкостью: девушка жадно втягивала в себя жизнь. Ноги двигались ещё лучше, чем вчера, и хотя Златоцвета пока не могла встать с кресла, но ей удавалось слегка разгибать коленные суставы, немножко вытягивая ноги вперёд.
– Матушка, батюшка, смотрите! – весело воскликнула она, показывая свои успехи.
Родители со слезами радости улыбались. Матушка гладила Златоцвету по голове, целуя в волосы и в лоб.
– Умница, дитятко... Этак ты совсем скоро встанешь и побежишь!
– И встану, и побегу, – с уверенностью кивнула та.
Впрочем, работы никто не отменял, и они с матушкой засели за свои дела: Златоцвета – за вышивку, матушка – за бельё. Батюшка отправился бродить по саду и думать свои непростые и невесёлые думы. Бросая порой взгляд в окно, Златоцвета видела, как он шагал по дорожкам, заложив руки за спину и понурив голову. Тяжко ему было без своего дела, крутились у него в голове мысли о торговых предприятиях, да где взять начальные средства? Он и со старыми-то долгами ещё не рассчитался, а новых ссуд ему не давали – где уж там... Как бы не пришлось за эти долги дом на торги выставлять и идти с семьёй по миру!
Когда солнце поднялось высоко, матушка отправилась разносить готовые заказы; вернулась она к обеду не с пустыми руками: на полученные деньги она купила кое-какой снеди.
– Государыня Лесияра обещалась сегодня опять прийти, – сказала матушка озабоченно. – А значит, на стол снова что-то поставить надобно...
– Ничего, мать, дочкино счастье – не обуза, – ответил батюшка. – Главное, чтоб у неё всё сложилось.
Матушка приготовила две трапезы: одну, поскромнее и попроще – для семьи, а вторую, получше – для гостей.
– Ну, давайте, что ли, отобедаем, чтоб не глядеть голодными глазами на всё это, – вздохнула она.
Они удовольствовались кашей с жареным луком да грубым ржаным хлебом. Златоцвета приберегла кусочек последнего, чтобы съесть чуть позже с тихорощенским мёдом. Этот чудесный мёд был достоин самого лучшего, пышного и белого калача, но и скромный простонародный хлеб с ним становился вкуснее.
Когда же, когда придёт Лесияра? Стучало и трепетало сердце, а пальцы Златоцветы проворно работали иглой. То и дело она посматривала в окно: не идёт ли суженая? Вспоминалось ей и намерение княгини разузнать о Мыслимире, но душа сияла ясной и спокойной уверенностью в том, что женщина-кошка чиста помыслами, как первый снег, а значит, ей ничто не могло угрожать. Время от времени Златоцвета с удовольствием пошевеливала пальцами и ступнями, радуясь тому, что раз от раза они повиновались ей всё лучше.
– Ладушка!
Вздрогнув всем телом и душой, Златоцвета устремила взор в окно: посреди садовой дорожки стояла Лесияра, сверкая белозубой улыбкой. В её рту виднелись внушительные кошачьи клыки, напоминавшие о звериной ипостаси белогорской правительницы, но они не пугали девушку. Ей самой хотелось по-кошачьи изящно изогнуться, встречая свою суженую.
– Здравствуй, государыня, – вымолвила она. – Никакие слова не смогут выразить, как я счастлива снова видеть тебя...
Несколько звонких, радостных мгновений – и мягкие губы защекотали пальцы девушки, исколотые иголкой.
– Ах ты, рукодельница-искусница моя... Всё трудишься, не покладая рук своих умелых? – промурлыкала княгиня с искорками-смешинками в глубине зрачков. – Отложи ненадолго свою работу, дай мне на тебя наглядеться!
– Какая уж мне теперь работа, когда ты здесь, – засмеялась Златоцвета.
Два смеха переплелись: бубенцово-нежный и серебристый – Златоцветы; сильный, раскатисто-звучный, как горный гром – Лесияры. А следом за смехом и объятия сомкнулись: руки девушки обвились вокруг плеч и шеи княгини, а та бережно, точно хрупкое сокровище, вынула её из кресла и подняла.
– Пушиночка ты моя лёгонькая... Знаешь, я Мыслимиру понимаю: тебя и впрямь хочется откормить как можно скорее!
Златоцвета притаилась, стараясь прочесть на лице Лесияры, к каким итогам привело дознание. Не касался её души тревожный холодок, чувствовала она, что всё благополучно, но всё равно ждала, что суженая скажет. Княгиня улыбнулась.
– Знаю, о чём спросить хочешь... Всё хорошо, моя яблонька. Познакомилась я и с Мыслимирой, и с невестой её. Славные они обе и пришлись мне по нраву. Я их на нашу свадьбу позвала... А вообще мы условились так: коли их свадьба раньше нашей будет, то мы к ним в гости пойдём первыми, а потом они к нам. Ну, а ежели мы их опередим, то всё наоборот: сперва они с нами погуляют, а потом – наш черёд. Ты согласна, милая?
– Ещё бы не согласна! – всей душой обрадовалась Златоцвета такому доброму исходу дела.
– Ну, вот и ладушки. – И уста княгини приблизились, прося поцелуя.
Поцелуй тут же свершился. Он пробуждал в Златоцвете ту самую кошачью гибкость, заставляя чувственно льнуть к избраннице и обнимать её крепче, жарче...
– Мррр, горлинка моя ясная, яблонька тонкая, цветочек маленький, – мурчала Лесияра.
Да, то были те самые слова, что раздавались в видениях... Их звук нежно касался сердца, окутывал душу пушистой шубкой, грел тёплыми ладонями. Златоцвета тонула в них и блаженно растворялась, как мёд в горячем травяном отваре.
– Говори ещё, государыня, – выдохнула она.
– Звёздочка моя чистая, лучик золотой, ягодка сладкая, – с улыбкой мурлыкнула княгиня ей на ушко. – А теперь твоя очередь.
Обняв её за шею уже совсем тесно и жарко, уткнувшись лбом в лоб и глядя в глаза, Златоцвета отпустила со своих уст лёгкое дуновение:
– Счастье моё, жизнь моя, радость моя, день и ночь мои, свет и любовь мои, мир мой, небо моё и земля, оплот мой и родина моя...
Ресницы Лесияры трепетали в упоении. Когда слова-ветерки стихли, она окинула Златоцвету глубоким, бархатным взором.
– У тебя лучше вышло, ладушка. Мне тебя не превзойти. Ну, давай твои ножки полечим снова.
И опять золотые узоры побежали по ногам Златоцветы, впитываясь в кожу и проникая до самых костей животворным, пробуждающим, весенним теплом. Как деревце под солнечными лучами, нежилась она в этом целебном свете. Веки Лесияры во время лечения сомкнулись и затрепетали, точно она смотрела сейчас в какие-то иные, неземные пространства. Удивительный и прекрасный, должно быть, чертог созерцала княгиня, и Златоцвете тоже захотелось его увидеть. Но допустят ли её туда? Достойна ли она ступить туда хоть на мгновение? В нерешительности девушка приблизила губы к ресницам Лесияры, а потом коснулась их поцелуем, смыкая веки.
Её взору предстал исполненный благостной тишины сад, в котором каждое дерево, каждая травинка и цветок были одушевлёнными, разумными. Здесь всё дышало мудростью и недосягаемым, непостижимым спокойствием, которого не найти в земной человеческой юдоли. Только здесь, в этом волшебном месте, и можно было ощутить звенящий, золотистый покой и услышать не ушами, но душой ласковый и любящий голос, говоривший не словами, но мыслями, образами и ощущениями. В этом саду все сомнения смертного разума опадали, как шелуха, и в душе воздвигался хрустально чистый, светлый дворец истины. Златоцвета чувствовала себя муравьём на чьей-то всемогущей ладони, и Лесияра была где-то рядом, незримая.
– Это чертог Лалады, моя любознательная ладушка, – услышала девушка.
Прекрасный сон растаял, и действительность обняла её руками суженой, сияя ей нежностью вечернего неба из кошачьих глаз. Исполненная шелестящих отголосков видения, Златоцвета склонилась на плечо княгини. То, с чем она сейчас соприкоснулась, было столь величественным и необъятным, что не помещалось, не укладывалось ни в душе, ни в сердце. Хотелось плакать от этой восторженной переполненности, и Златоцвета уронила слезинку на грудь Лесияры.
– Ну что ты, счастье моё, – согрел ей лоб нежный полушёпот.
Княгиня покачивала девушку в объятиях, баюкала её, как дитя, а у той перед глазами стояли живые деревья и пронизанные золотыми лучами тропинки сада.
– Ну, как там твои ножки себя чувствуют?
Златоцвета пошевелила пальцами, ступнями, чуть разогнула колени. Жизнь поднималась по ногам всё выше и выше, наполняла их понемногу силой, и ей уже не терпелось поскорее попробовать встать с кресла... Златоцвета рванулась, приподнялась, упираясь руками в подлокотники, но через миг рухнула обратно.
– Ничего себе! Ты уже почти встала, ладушка! – воскликнула Лесияра с ласковыми лучиками в уголках глаз.
– Да, почти, – пропыхтела та, переводя дух: от чересчур рьяного усилия плечи отозвались жжением, в голове зазвенело, а сердце застучало, будто стараясь пробить рёбра. – Но ещё не совсем...
– Ничего, моя родная, скоро встанешь, – улыбнулась княгиня. – Но сил у тебя уже явно прибавилось.
– Да, прыткая я стала, – с глуховатым, отдувающимся смешком отозвалась Златоцвета.
В спине свобода движений тоже возросла, исчезла та болезненная скованность, от которой у Златоцветы совсем недавно вырвался вскрик, когда княжеские дружинницы пытались её поднять. Останься эта боль с нею, так рвануться с кресла у неё точно не вышло бы.
Матушка уже накрыла на стол, выставив «гостевой» набор блюд. Конечно, по сравнению с вчерашним изобилием он выглядел более чем скромно, и в глазах Кручинки Негославны читалось беспокойство: каким найдёт государыня нынешнее угощение? А ещё – некоторое облегчение: сегодня княгиня пришла без своих прожорливых дружинниц.
– Благодарствую за угощение, матушка Кручинка, – поклонилась Лесияра.
За столом только и было разговоров, что об успехах Златоцветы и об улучшении её состояния. Кратко коснулись они в беседе и кое-каких свадебных вопросов; батюшка заметно напрягся, когда речь зашла о приданом.
– Боюсь, оно не будет слишком богатым, – сдавленно кашлянув, молвил он.
«Скорее уж, никаким не будет», – мысленно дополнила Златоцвета, затаив вздох.
– Пусть это тебя не беспокоит, Драгута Иславич, – мягко ответила княгиня и улыбнулась своей невесте. – Самое главное сокровище – вот оно, рядом сидит. – И со смешком добавила: – И из кресла своего уже чуть ли не выпрыгивает!
После обеда Златоцвета попросила суженую снова ненадолго взять её в Белые горы, на тот цветущий луг, где они вчера были. Ей хотелось опять ощутить босыми ногами солнечно-тёплую землю и вдохнуть запах полевых трав, окунуться в песню кузнечиков и поклониться седым вершинам вдалеке. Лесияра исполнила её просьбу с ласковой готовностью, и они очутились на том же самом месте, где Златоцвета вчера плела венок. Вон и трава примятая виднелась: тут они сидели с княгиней...
– Как же хорошо здесь! – вздохнув полной грудью, воскликнула девушка. – Дивно хорошо... Я уже люблю Белогорскую землю!
– И она ответит тебе целительной любовью, – сказала Лесияра, снова превращаясь в живую опору для сидящей невесты.
И опять время потекло в блаженстве и наслаждении единением душ и сердец. Делала княгиня и маленькие чувственные намёки, то щекоча шею Златоцветы сорванной былинкой, то касаясь ушка горячим дыханием; то и дело их уста сливались в поцелуях, один слаще и нежнее другого. Кошачья гибкость снова просыпалась в Златоцвете, и она дивилась этой своей новой стороне, раскрывшейся только сейчас, в объятиях избранницы.
– Когда я про Мыслимиру разузнавала, мне и про вашу семью кое-что стало известно, – сказала Лесияра. – Твои родители изо всех сил стараются скрыть ваше бедственное положение, но смысла в этом нет: достаточно расспросить соседей.
– Когда-то у батюшки дела шли хорошо, и мы жили сыто и богато, – проронила Златоцвета, ощутив лопатками лёгкий холодок неловкости. – Но потом один лихой человек вогнал его в убытки, и батюшка, гоняясь за ним, потерял ещё больше. Перестали ладиться дела, батюшка погряз в долгах, с коими мы до сих пор расплатиться не можем.
– А вышиваешь ты, чтобы добыть пропитание, моя милая рукодельница, – грустно вздохнула правительница женщин-кошек, прижимая к губам шершавые от работы иглой пальцы невесты. – И всё равно стол ваш почти пуст, и встречать гостей вам обременительно – ведь их кормить надо... И глаза у вас всех голодные, а особенно у тебя, моя яблонька. Я не могу этого так оставить, так не должно быть и не будет!
Горько-солёный ком встал в горле Златоцветы, глаза отчаянно защипало от вскипающих слёз, и она отвернулась, заслоняясь рукавом. Лесияра ласково тормошила её, поворачивая её лицо к себе и покрывая его быстрыми поцелуями.
– Ну-ну... Ладушка, нет в этом ничего постыдного, и дело это поправимое. Надо полагать, что родители твои – люди гордые и помощь принимать не любят, но коль уж тебе суждено стать моей супругой, то покинуть твою семью в беде я не могу: теперь вы и моя семья тоже. Я подумаю, как вашей беде помочь, а ты ни о чём не тревожься. Вот только чтобы скорее выздороветь и на ноги встать, тебе как следует кушать надобно... Ну ничего, я и об этом позабочусь.
Пробудившись на следующее утро, Златоцвета почувствовала в себе небывалые силы. Они скопились в теле пружинистым комком, который страстно и нетерпеливо искал себе выход, и она улучила миг, чтоб их испытать. Кресло её стояло подле постели, и Златоцвета решила сама перебраться в него. Дивясь собственной ловкости и проворству, она подобралась к краю, дотянулась до подлокотника и напряглась, подтаскивая кресло поближе. Тяжёлым оно было, и с девушки сошло семь потов, прежде чем ей удалось раскачать и развернуть его так, чтоб перемещение стало возможным. И откуда только сила бралась в её немощных, тонких руках! Теперь настал черёд перетащить собственное тело на сиденье, и Златоцвета сосредоточилась, прикидывая, как лучше это сделать – с чего начать, как удобнее повернуться. В раздумьях она покусывала губу, а её взор то горел решимостью, то угасал в сомнениях. Непосильная задача? Хм... Может быть, она переоценила собственную прыть? Всего-то ещё два раза Лесияра впускала в неё целебный свет Лалады, но улучшения были поразительны. Сегодня ей почудилось, что подвижность появилась и в области бедренных суставов – вернее, намёк на подвижность. Златоцвета ещё не могла поднять всю ногу, шевелились только голени, но и это оказывалось бесценным преимуществом. Руки вот только слабоваты – с трудом держали вес её лёгонького, истощённого тельца.
Она не рассчитала движение – кресло откатилось, и Златоцвета упала с постели. Впрочем, неудача её не слишком расстроила: лёжа на полу, она смеялась от какого-то искрящегося, ершистого и беспокойного ликования, переполнявшего её грудь. На стене уже играли янтарные зайчики первых лучей зари, из сада доносилось пение птиц, а в приоткрытое окно струилась утренняя свежесть. Девушка слегка озябла. Похоже, она попала в безвыходное положение: с пола затащить себя в кресло или на кровать не представлялось возможным.
Опираясь на локти, Златоцвета по-пластунски поползла к двери. Слабые и тонкие, ещё беспомощные ноги волочились за ней, но она иногда умудрялась помогать себе пальцами и ступнями, отталкиваясь ими от пола. Добравшись до двери, она толкнула её и позвала в открывшийся проём:
– Матушка! Батюшка! Кривко!
Дом был погружён в тишину: видно, ещё никто не проснулся. Так никого и не дозвавшись, Златоцвета выбралась из комнаты, подползла к лестнице и посмотрела вниз... Нет, ступеньки ей не одолеть, рановато пока для таких подвигов.
– Матушка! Батюшка! Кривко! – снова крикнула девушка.
Вскоре послышались торопливые шаги, и показалась матушка в ночной сорочке, с выбившимися из-под повойника косами.
– Ох! Златушка, куда ж ты?.. – вскричала она. – Погоди, погоди, дитятко, сейчас... Кривко! Кривко, засоня, вставай!
Отрок спал так крепко, что ей еле удалось его добудиться. Всклокоченный, с припухшими со сна глазами, он, зевая, вышел.
– Чего стряслось, госпожа-матушка?.. – И, увидев Златоцвету, тоже охнул: – Вот ничего себе делишки! Вот это пироги с лягушками! Госпожа Златоцвета, ты куда это собралась, а?..
Отринув остатки сонливости, он вместе с матушкой кинулся водворять девушку в кресло, а та, пока её переносили и усаживали, смеялась.
– Ну ты, госпожа Злата, и даёшь! – ошарашенно бормотал Кривко. – Вот это прыть! Это что ж делается-то? Сегодня ты из опочивальни выбралась, а завтра из дому козочкой поскачешь?
– Скорее бы, ох, скорее б твои ноженьки резвые тебя понесли, – приговаривала матушка, опять растрогавшись до слёз.
Когда чуть позже в тот же день Лесияра вновь навестила свою избранницу, ей немедленно рассказали о вылазке Златоцветы. Сама виновница переполоха только улыбалась, счастливая лишь оттого, что снова видела прекрасную княгиню-кошку, и тонула сердцем в её ласковом взоре. Это было слаще, чем есть тихорощенский мёд с белым калачом и молоком.
– Какая ты шустрая, горлинка, – молвила Лесияра, завладевая обеими руками невесты и покрывая их пухово-лёгкими поцелуями. – Однако не спеши, будь осторожна. Не торопи себя, позволь своему телу набраться сил и окрепнуть, не подгоняй его. Пусть исцеление идёт своим чередом, потихоньку.
Ей ещё не раз предстояло вливать в Златоцвету живительный золотой свет, а покуда дружинницы по властному мановению её руки поставили перед изумлёнными хозяевами корзины и мешки с разнообразными съестными припасами.
– Государыня, как прикажешь это понимать? – нахмурился батюшка.
– Самым прямым образом, – весело ответила княгиня. – Чтобы моя милая невеста поскорее выздоравливала, ей необходимо добротно питаться, иначе откуда у неё возьмутся силы? Свет Лалады – это хорошо, но это только полдела. Кушать тоже надо.
Батюшка с матушкой не нашли, что возразить, хотя припасов было доставлено даже в избытке – явно с тем расчётом, чтоб хватило на всю семью.
– Когда это закончится, вам принесут ещё, – пообещала княгиня. – А пока займёмся лечением. Сегодня, – добавила она, обращаясь к девушке, – как и обещала, я покажу тебе Тихую Рощу – то место, откуда берётся этот медок, который пришёлся тебе столь по вкусу, моя милая сладкоежка. Искупаем тебя в целебных водах Тиши. Надо использовать все средства, дабы твоё выздоровление шло быстрее и было как можно более полным.
Шаг – и княгиня с Златоцветой на руках, пронзив пространство, вступила на мягкий ковёр зелёной травы. Девушка робко жалась к своей избраннице, обняв её за шею: вокруг них возвышались удивительные деревья – огромные, с кряжистыми толстыми стволами, а на высоте в два человеческих роста из сосновой коры проступали спящие лица, словно вырезанные острым инструментом. Златоцвету поразила печать величественного покоя, лежавшая на них, мурашки бежали по телу от страха потревожить этот неземной сон малейшим шумом.
– Здесь дочери Лалады издревле находят своё упокоение, – вполголоса поведала Лесияра. – Наступает пора – и каждая из нас сливается с деревом. Это не смерть, это просто покой. Дух этих сосен жив и пребывает в сладостном единении с матерью Лаладой.
Златоцвета грустно нахохлилась, поражённая мыслью...
– Значит, и ты станешь деревом, государыня?
– Да, когда придёт моё время, – ответила та спокойно и безмятежно. – Но это случится ещё не скоро, моя яблонька. Не думай об этом.
Она несла девушку по тропинкам между спящими соснами. Златоцвета улавливала удивительный, тёплый и летний ягодный дух: здесь повсюду были разбросаны земляничные сокровища. Пока в Белых горах ещё буйствовала цветущая весна, здесь царило вечное лето.
– Близость вод Тиши делает это место столь тёплым и плодородным, – рассказывала княгиня своей притихшей невесте. – Под земной твердью здесь находится целое озеро, наполненное светоносной целительной водой, а на поверхность выходит множество горячих родников. Восточный Ключ – самый сильный из них, к нему-то мы и идём, чтобы искупать тебя.
Воды этого источника низвергались с высокого уступа серебристой занавесью и устремлялись мерцающим потоком по каменному руслу. Точно седые пряди, падали они с крупных камней, закручивались бурунчиками, извивались и играли, а по берегам колыхались высокие голубые цветы. Вдруг серебряная гладь водопада раздвинулась, точно занавески, открыв вход в пещеру, и навстречу Лесияре и изумлённой Златоцвете вышла высокая длинноволосая дева с точёным и прекрасным, но несколько суровым лицом. Её иссиня-чёрные пряди кончиками спускались ниже колен, одевая её ивово-гибкий стан шёлковым плащом. На деве была длинная белая рубашка, схваченная тонким алым пояском с кисточками на концах. Изящно ступая («По воздуху над камнями?» – подумалось Златоцвете), величественная хранительница Восточного Ключа подошла к посетительницам и устремила взгляд пронзительно-синих, прохладных глаз на девушку. Она ни о чём не спросила, просто показала рукой в сторону пещеры, приглашая следовать за нею.
– Здравствуй, досточтимая Вукмира, – молвила Лесияра, когда они очутились внутри.
– И тебе здравия, мудрости и процветания, государыня, – отозвалась черноволосая дева. – Вижу я, зачем вы пришли. Недуг твоей избранницы исцелить можно, потребуется только время, терпение и настойчивость. И, конечно, любовь, – добавила она с чуть приметным намёком на улыбку в уголках маленького изящного рта. – Всё уже готово для омовения.
Из стены пещеры струился ещё один родник, наполняя собой углубление в каменном полу наподобие купели. Вукмира вошла в воду по пояс, не снимая рубашки, и пригласила посетительниц последовать её примеру.
– Раздеваться не обязательно, – сказала она. – Одёжу всё равно придётся сменить.
Лесияра, держа Златоцвету на руках, также спустилась в купель. Девушка поёжилась до мурашек и гусиной кожи: её обняли тёплые, почти горячие струи. Княгиня поддерживала её с одной стороны, а Вукмира – с другой; вдвоём они погрузили Златоцвету в воду по грудь. Хранительница источника омывала ей лицо, мокрой ладонью проводила по волосам.
– Вот так... Пусть светоносная вода Тиши смоет все хвори, все беды, наполнит тело силой и крепостью, а душу – светом и любовью, – приговаривала она.
Златоцвета размякла, разомлела в купели, поддерживаемая надёжными руками суженой. От расслабляющего тепла клонило в сон, тело словно на пуховой перине колыхалось и само весило не больше пёрышка.
– Свадьба осенью? – спросила Вукмира.
– Да, скорее всего, так, – кивнула княгиня.
– Венчаться светом Лалады придёте ко мне, – сказала жрица. – Думаю, к этому времени невеста будет уже здорова. А теперь, моя голубушка, задержи дыхание, – добавила она, обращаясь к Златоцвете. – Сейчас нырять будем.
Трижды вода смыкалась над макушкой девушки, и трижды её поднимали над поверхностью, чтоб дать глоток воздуха. Потом Вукмира вышла из купели, и Лесияра вынесла Златоцвету следом. А ту вдруг начала бить неукротимая дрожь, точно она из тёплого и ласкового лета попала в лютую зиму. Зубы выбивали дробь, неистово стуча друг о друга.
– Это недуг твой испугался света Лалады, – с улыбкой молвила Вукмира. – Не желает он покидать твоё тело, цепляется за тебя, но, хочет он того или нет, придётся ему уйти. Главное – ты сама за него не цепляйся. Свыклась ты с ним, стал он частью тебя – твоих мыслей, души и тела. Обретая телесное здравие, ты должна научиться и мыслить по-иному – тоже как здоровый человек.
Трясущуюся Златоцвету освободили от мокрой одежды и облачили в сухую рубашку с белогорской вышивкой, Лесияра тоже переоделась в заранее приготовленную одёжу. Старые вещи надлежало оставить здесь.
– Это тоже часть очищения, – объяснила дева Лалады. – Носи эту рубашку, голубушка, покуда не выздоровеешь. Сшита и украшена она здесь, в Тихой Роще, служительницами Лалады, и вплетена в её вышивку исцеляющая волшба. А вот тебе вторая такая же – на смену. Так и будешь их менять, ничего иного не надевая: в них заключена сила Белых гор и свет Лалады.
Дрожь понемногу затихала. Вукмира нарвала на берегу источника синих цветов и вернулась с ними в пещеру, где Златоцвета приходила в себя на коленях у Лесияры.
– Это колоколец тихорощенский, – сказала жрица, разрывая соцветия пальцами и бросая в котелок с кипятком. – Целебный цветок – впрочем, как и всё, что произрастает на этой благословенной земле. Сейчас настой выпьешь – и совсем трясучка пройдёт.
Дав цветам настояться, она процедила душистое питьё и налила в деревянную расписную чашу, добавила в него ложку мёда и размешала.
– Выпей, девица. Дам тебе сбор тихорощенских трав и с собою, будешь отвар делать и принимать по чашке каждый день.
Первый же глоток окутал Златоцвету дивным цветочным духом, сладковато-медовым, летним и солнечным. Цвет у настоя получился розоватый. Девушка с удовольствием выпила всё до последней капли, и как только чаша опустела, дрожь полностью прекратилась.
– Нужно будет прийти и искупаться ещё несколько раз, – предупредила Вукмира. – Недуг сильный, с одного раза не пройдёт, но коли проявить терпение и упорство, ему не устоять против силы Лалады.
– Будем приходить столько, сколько потребуется, – пообещала княгиня, укутывая невесту в свой плащ и поднимая на руках.
На прощание служительница Лалады дала Златоцвете льняной мешочек с травяным сбором для заваривания.
Несмотря на то, что ясный весенний день был ещё в самом разгаре, сразу после возвращения из Тихой Рощи девушку обуяла непобедимая дрёма. Лесияра уложила её в постель и укрыла одеялом, с поцелуем шепнув:
– Отдыхай, яблонька, не противься сну. Во сне исцеление лучше всего идёт.
Она вручила матушке Кручинке мешочек с тихорощенским сбором и объяснила, как его заваривать и как принимать, а также вторую белогорскую рубашку с наказом Вукмиры по ношению этого целительного одеяния. Та залюбовалась искусной вышивкой, приложила ткань к щеке, промолвив:
– Добром будто от неё веет...
Отцвели сады, появились на плодовых деревьях крошечные зелёные завязи. Лето ступало по земле, жарко припекало солнышко, и окно Златоцветы всегда оставалось открытым. Засыпала она под шелест сада, в котором мерещился ей мягкий голос, рассказывавший волшебные сказки, а пробуждалась каждое утро под пение птиц. Закрывать окно приходилось только в дождь и непогоду. Однажды тёплой ночью Златоцвета проснулась от странного чувства в груди, звенящего, как тетива... На неё смотрели знакомые синие очи, но не на человеческом лице они сияли, а на усатой кошачьей морде. Огромный пушистый зверь с золотистым мехом склонился над ней, и от неожиданности девушка вжалась в подушку.
«Мурр, мурр, не бойся, яблонька... Это я, твоя лада», – мурлыкнул голос Лесияры.
Он звучал у Златоцветы в голове, минуя слух. Девушка никогда не видела столь огромных кошек! Зверь запрыгнул на постель и устроился рядом, заняв собой почти всю кровать, так что для Златоцветы осталось немножко места только между его широких лап в белых «носочках».
«Муррр, горлинка моя, не робей, обними меня, скажи, что любишь!» – раскатисто мурчал знакомый и любимый голос, прогоняя первый испуг, который объял девушку, никогда не видевшую свою избранницу в зверином облике. Исполинская кошка была сильна и, быть может, очень опасна, но только не для неё. Тягучее мурчание окончательно согрело сердце Златоцветы, и она, охваченная нежностью, запустила пальцы в густой мех.
– Киса, – засмеялась она, прижимаясь к горячему боку зверя. – Родная моя, пушистенькая моя... Какая же ты большая, государыня! И такая красивая... Как я тебя люблю, лада моя бесценная!
«Муррр, – кошкой прильнул к её сердцу ласковый ответ. – И я тебя люблю, яблонька моя».
Огромный мохнатый хвостище укрыл ноги Златоцветы, в которых жизнь одерживала над недугом победу за победой день ото дня. А этой ночью Лесияра лечила её в кошачьем облике, мурлыкала на ухо и грела пушистым боком, пока невеста не уснула в объятиях могучих лап.
Златоцвета ещё несколько раз окуналась в воды Восточного Ключа, получая новые мешочки с травами, а когда подаренный Мыслимирой туесок опустел, хранительница источника вручила ей новый сосуд со сладким тихорощенским чудом. Есть его хотя бы по одной ложке Златоцвете предписывалось каждый день. К слову, теперь семья не знала голода: княжеские дружинницы пополняли их запасы съестного два раза в седмицу, причём весьма щедро и обильно. Батюшка порой хмурился, когда Лесияра присылала роскошные яства со своего княжеского стола, тридцатилетний ставленный мёд в ведёрных бочоночках, осетрину и даже такое ценное лакомство, как солёная белужья икра. В былые времена, когда успех и богатство шли с ним рука об руку, всё это он легко мог позволить себе и сам, а теперь приходилось принимать от царственной будущей родственницы такие подарки, наступив на горло собственной гордости. И не возразишь ведь, не откажешься: всё это присылалось княгиней для её невесты, вот только при всём желании хрупкая и маленькая Златоцвета не могла столько съедать. Лесияра кормила всю семью своей избранницы всем самым лучшим и отборным, что только можно было сыскать в Белых горах; присылала она и свежевыловленную рыбу и дичь.
– Государыня славно поохотилась сегодня, – сообщали кошки-посланницы, сгружая перед хозяевами уже освежёванную и разделанную кабанью тушу или трёхпудового осетра. – Не откажите ей в чести отведать нынешней добычи!
Но из всех яств Златоцвета более всего уважала просто калач с молоком и мёдом. Так полюбились они ей, что она была готова есть их каждый день! Белужья икра и запечённый осётр, конечно, хороши по-своему, но ничто не могло заменить ей грустноватую тихорощенскую сладость, смешанную с добрым хлебным духом и обволакивающей сытностью молока, на поверхности которого плавали густые жирные сливки. К слову, Кривко тоже перепадало угощений, и вскоре лицо у него округлилось и залоснилось. Отрок был уличён в пламенной любви к сдобной выпечке и пряникам, коих княгиня присылала бессчётное множество. Ну, а коли бессчётное, то, согласитесь, пропажа одного-двух не так уж и приметна, верно?.. Впрочем, не совсем двух, конечно – скорее, трёх-четырех. Ну ладно, ежели совсем уж начистоту, то дюжины-другой; сколько же их там в мешке было изначально, никто и не проверял. Не раз Кривко бывал пойман с пряником в зубах, но Златоцвета за слугу всегда пылко заступалась перед родителями.
– Кривушко, коли ты так любишь пряники, бери и кушай, сколько хочешь, я разрешаю, – сказала она. – Нам всё равно столько не съесть, не пропадать же добру.
– Вельми благодарствую! – отвесил отрок поясной поклон. – Уж будь спокойна, госпожа Злата, у меня ничего не пропадёт и даже зачерстветь не успеет!
Распоряжаться этими припасами по своему усмотрению девушка имела полное право, ведь избранница присылала их именно ей.
– Ох, избалуешь ты его, – проворчал Драгута Иславич. – Глянь, какую уж ряху он себе наел! Скоро в дверях та ряшка застревать начнёт.
– Батюшка, Кривко так долго жил с нами впроголодь, при этом всё равно оставаясь нам преданным, что теперь не грех его и пряничком побаловать, – рассудила Златоцвета.
– Так оно, доченька, – вздохнул отец. – Права ты, конечно...
А про себя он, видно, опять подумал о своей загубленной торговле и несостоятельности как кормильца семьи, но ничего вслух не сказал, только насупил седеющие кустики бровей. Когда он ушёл, Злата заговорщически шепнула отроку:
– Кушай, Кривушко, и батюшки не бойся. Что я разрешила, то он не запретит. Пряников тьма, я один съем – и сыта, батюшка с матушкой их не очень-то жалуют, так что угощайся, сколько душе твоей угодно.
Когда лето рассыпало по земле ягодное лукошко, каждое утро Златоцвета стала находить у себя на подоконнике блюдо, полное отборной, крупной вишни. То была вишня не из родительского сада, свою девушка знала хорошо и на вкус, и на вид. Конечно же, это снова Лесияра баловала невесту. «А как только вишни созреют в княжеском саду, я сама стану рвать их для тебя и приносить каждое утро, когда ты проснёшься и откроешь глазки навстречу новому дню», – вспомнив это обещание своей избранницы, Златоцвета улыбнулась, дотянулась до блюда и подцепила пальцем вишенки-близняшки на сросшихся плодоножках. Ежели и правда их срывали с веток руки возлюбленной лады, то что на свете могло быть вкуснее?..
В эти прекрасные дни летнего изобилия Златоцвета наконец смогла встать с кресла. Это получилось само, в порыве жажды движения; подумав однажды: «Да сколько уже можно сидеть сиднем?!» – она упёрлась руками в подлокотники, как во время предыдущей попытки, только на сей раз сил у неё было гораздо больше, а ноги приняли вполне человеческий вид. Каждый день Златоцвета шевелила ими, приподнимала, сгибала и разгибала, понемногу разрабатывая мышцы, увеличивая размах и продолжительность движений. Отложив вышивку и вцепившись в подлокотники, она пыхтела и трудилась, а матушка смотрела на её старания и радовалась. Лесияра вливала в неё свет Лалады каждый день, но заметное улучшение девушка чувствовала, как правило, на следующее утро после лечения. В этот знаменательный день Златоцвета приподнялась на руках, оттолкнулась и... встала! И неважно, что она слегка пошатывалась, как новорождённый жеребёнок; она стояла сама, без поддержки и помощи, а птицы за окном приветствовали её радостным рассветным гомоном. Сделав несколько шатких шагов, Златоцвета упала, но это была победа. Она снова могла ходить!..
– Ох, дитятко! – захлопотала подоспевшая матушка, помогая ей подняться.
– Ничего, ничего, – пропыхтела Златоцвета. – Матушка, я могу ходить! Смотри, я покажу тебе! Пусти меня... Не бойся, я не упаду!
После некоторых сомнений матушка всё-таки отпустила её. И снова Златоцвета сделала несколько шагов, добравшись до стены, которая послужила ей временной опорой. Немного отдохнув, она отправилась в обратный путь. Когда она опустилась в кресло, тяжко дыша от усилий, матушка заливалась слезами счастья.
– Ты встала, доченька, – всхлипывала она. – Это случилось... Сбылось наконец-то!
– То ли ещё будет, – переводя дух, посмеивалась Златоцвета. – На свадьбе я буду плясать, обещаю тебе!
В этот день ей пришлось много ходить: ведь нужно было показать свои успехи батюшке и Лесияре, похвастаться!
– Умница, ладушка моя, – шепнула княгиня, поддерживая девушку в сильных объятиях. – Пойдём в сад, посмотрим на твою яблоньку!
С чахлым деревом этим летом произошли сказочные перемены. Поражённая грибком кора обновилась и стала гладкой, выросло множество новых побегов, крона стала более густой и пышной. Как и у Златоцветы, это были лишь первые шаги к выздоровлению, но это стоило отпраздновать. За обедом девушка выпила два больших кубка мёда; с непривычки этого ей хватило, чтобы основательно захмелеть. Лесияра отнесла её в постель и уложила.
– Отдыхай, яблонька. Ты заслужила сегодня праздник, умница моя...
Златоцвета то всхлипывала, то смеялась, пока не уснула. Пробудилась она поздним вечером с жуткой сухостью во рту и ощущением светлого чуда. Не сон ли ей привиделся? Нет, не сон: она смогла сесть на постели, а потом проковылять несколько шагов к столику, на котором стояла миска с малиной. Схватив лежавшую рядом ложку, девушка жадно принялась есть прохладные ягоды, и их сок сладко скатывался по горлу, прогоняя жажду. Она не сразу сообразила, что эта великолепная отборнейшая малина – не из их сада, а когда поняла, от кого этот гостинец, на глаза навернулись слёзы, а к сердцу подступила солоновато-пронзительная нежность.
А тем временем заимодавцы один за другим отстали от батюшки: кто-то выкупил его долговые расписки. Златоцвета подозревала, чьих рук, а точнее, кошачьих лап это дело: она сама перечислила княгине те имена, которые знала. Правда, в последнее время батюшка перестал с нею советоваться, и ей были известны не все его деловые связи. Впрочем, Драгута Иславич удивлялся недолго: Лесияра сама призналась, что уплатила его долги. Более того, она была готова дать ему ссуду на новое предприятие, которое оживило бы его торговлю.
– Даже не знаю, государыня, смогу ли я расплатиться с тобой когда-нибудь, – молвил батюшка. – Я уже не уверен в собственных силах... Боюсь, хватка у меня уже не та, да и удача отвернулась от меня.
– А для удачи возьми вот это, любезный Драгута Иславич, – сказала княгиня, вручая ему кулон из зелёной яшмы на золотой цепочке. – Это оберег, в который вплетена белогорская волшба, призванная помогать владельцу сей вещицы во всех его делах и начинаниях. Глядишь, и вернётся к тебе твоё былое богатство.
Долго колебался батюшка, но в конце концов обещал попробовать снова взяться за дела – тем более, что кое-какие мысли по этому поводу у него уже были, да только начальных средств он не мог изыскать, чтобы воплотить эти мысли в жизнь. С сундуком золота, полученным от Лесияры, у него такая возможность появилась.
Изобильное лето подходило к концу, и по утрам всё более острым, грустным и по-осеннему зябким было дыхание ветра. Близился день свадьбы, и в эту-то пору счастливого ожидания накрыло Златоцвету новое видение о будущем, совсем не утешительное для неё. Привиделся ей тёмный пруд, на поверхности которого колыхались две звезды: одна стояла высоко, а вторая ещё только маячила на краю неизвестности – тусклая, затянутая туманом. Когда Златоцвета открыла глаза, пруд со звёздами исчез, но видения ещё не закончились: она чувствовала это по особому звону в ушах и прохладным мурашкам, которые сопровождали эти провидческие приступы. Давненько их у неё не было... Небо хмурилось, начинался дождь; по блестящим от влаги дорожкам сада бродила женщина с печальными карими глазами, окликая Лесияру; по её щекам катились слёзы, она в отчаянии металась и звала на помощь. Златоцвета подошла к ней и спросила:
– Как твоё имя и что у тебя за беда?
Та ответила, что её зовут Ждана, и она, кажется, потеряла любовь всей своей жизни. Её выдают замуж за хорошего человека, княжеского ловчего, но она его совсем не любит, а сердце её принадлежит повелительнице женщин-кошек Лесияре.
– Нам никогда не быть вместе, – шептала Ждана, роняя слёзы с длинных ресниц. – У неё семья... Супруга. Она хочет сохранить ей верность и боится её потерять... Она зовёт её своей яблонькой... Какое нежное, прекрасное слово! Меня она никогда не назовёт своей ладой...
Наяву и впрямь шёл дождь, шурша в мокрой листве. Ещё не совсем уверенной, прихрамывающей походкой выбралась Златоцвета в сад и обняла свою яблоню. Грудь разрывалась от рыданий.
От Лесияры между тем пришла посланница.
– Государыня просила предупредить, что сегодня не придёт, у неё срочные дела. Она просит прощения и обещает, что прибудет завтра.
Сад совсем сник под дождём. Последние, затерянные в глубине ветвей вишенки, уже подсохшие с одного бока, ещё висели кое-где, зато яблони гнулись к земле и едва не ломались от урожая – батюшке даже пришлось поставить под ветки подпорки. Он уехал по торговым делам, счастливый оттого, что наконец-то может осуществить свои замыслы, матушка возилась с обедом, Кривко дремал где-то на полатях, наевшись пряников. Прильнув щекой к мокрой коре своей любимицы, Златоцвета горько улыбалась. Какое совпадение... Это видение – и известие о том, что княгиня не придёт.
У неё не было сил переносить это в одиночестве, но матушке язык не поворачивался рассказать. На свете существовало только одно место, которому Златоцвета могла излить свою тоску – Тихая Роща.
Она ещё побаивалась пользоваться кольцом, но сейчас шаг в проход у неё получился сам собой, и через миг её ноги ступали по мягкой шелковистой траве мимо спящих сосен. Златоцвета растерянно бродила среди них, тянулась к ним как к источникам мудрости и покоя, но не знала толком, куда податься, к какой из прародительниц прислониться. Горьким бременем легло ей на душу видение о кареглазой женщине, оно надламывало её, гнуло к земле... Не выдержав, Златоцвета сломанным цветком сникла в траву на земляничной полянке, где стояла особняком от всех необычайно большая, кряжистая и могучая сосна. Дома шёл дождь, а в Тихой Роще сияло солнце, и дерево возвышалось сказочным могучим воином в плаще из слепящих лучей – воином, навек отошедшим от ратных подвигов и закончившим свой земной путь. Подняв к сосне глаза, набрякшие солёными каплями, Златоцвета беззвучно бормотала обрывки слов, мыслей, бессвязно молила облегчить её тоску и подсказать выход... Слышала ли её сосна-великан?
– В Тихой Роще нельзя плакать. Слёзы могут потревожить прародительниц, – раздался низкий, хрипловато-надтреснутый голос.
Златоцвета задрожала, подумав, что это сосна заговорила с ней, но голос, как оказалось, принадлежал женщине-кошке весьма грозного вида. Её густые брови мрачновато нависали над прохладно-синими глазами с пронзительным взором, гладко выбритый череп блестел на солнце, а с темени спускалась единственная чёрная прядь, заплетённая в косицу. Суровости облику незнакомки добавляли бугристые рубцы на одной стороне лица. Под её строгим взглядом Златоцвета виновато и испуганно съёжилась, почувствовав себя здесь нежеланной и незваной гостьей, грубой нарушительницей обычаев. Ещё горше стало сердцу: даже здесь ему, сиротливому, не было приюта...
– Прости, я не знала этого, – пробормотала девушка, неловко пытаясь подняться. – Я сейчас уйду...
Незнакомка несколько мгновений наблюдала за её неуклюжими попытками, потом решительно подошла и одним ловким, умелым движением подняла Златоцвету на ноги. Руки у неё были точно из стали выкованные, но совсем не грубые, в их касании чувствовалось сострадание и ласка, хоть суровость лица в первый миг и внушила девушке холодящий трепет.
– Да кто тебя гонит-то? – незлобиво сказала обладательница сияющего черепа. – Оставайся, коли есть нужда, слёзы только утри. Где платок-то у тебя, м?
Златоцвета со смущением обнаружила, что платочек остался дома, и женщина-кошка промокнула ей глаза своим, украшенным особой белогорской вышивкой.
– Меня Твердяной звать, – представилась она, бережно прикладывая платок к остаткам мокрых пятнышек. И добавила, кивнув в сторону исполинской сосны: – А это – матушка Смилина, прародительница моя.
– Я – Златоцвета, дочь купца Драгуты Иславича из Голоухова, – последовала её примеру девушка.
Странное чувство чего-то знакомого вызывали в ней эти пророческие, пронизывающие очи, холодная синева которых веяла дыханием мудрых гор. Как будто у кого-то Златоцвета уже видела такие глаза...
– Ну, пойдём, Златоцвета Драгутична, к Восточному Ключу, – с усмешкой молвила Твердяна. – Умыться тебе не помешает и водицы испить.
Светлая иголочка догадки кольнула сердце Златоцветы: почему именно Восточный Ключ? Хранительница Вукмира... Вот у кого она видела такие глаза!
– Давай через проход путь сократим, чтоб ноги твои не утомлять, – сказала Твердяна. – Колечко у тебя, я вижу, есть.
Мирно колыхались синие заросли колокольца по берегам потока; руки Златоцветы сами тянулись к нему, как к родному. Полюбила она этот цветок и за красоту, и за вкусный целебный отвар, который из него получался. Склонившись, девушка вдохнула его сладковатый, по-тихорощенскому ласковый запах – будто с другом добрым встретилась, даже на сердце немного полегчало.
– Здравствуй, сестрица, – поприветствовала тем временем Твердяна Вукмиру.
Та, словно уже поджидавшая гостей, срывала соцветия колокольца. «Сестрица – так вот оно что», – подумалось Златоцвете. Вот и разгадка этих колдовских глаз, видящих насквозь души и сердца...
– Здравия и тебе, Твердянушка, – отозвалась черноволосая дева Лалады. И добавила, кивнув девушке: – И тебе, голубушка. Пойдём, отвар сейчас сделаю.
В пещере была одна очень горячая каменная плита – просто раскалённая. Откуда брался в ней такой жар? Глубинная сила Тиши грела её, по словам Вукмиры; поставленный на неё сосуд с водой вскипал чуть ли не в мгновение ока. Очень удобно: огонь разводить не требовалось. Вода уже бурлила в горшке, и Вукмира бросила туда соцветия, предварительно порвав их пальцами на мелкие частички. Пещеру наполнил знакомый и полюбившийся Златоцвете запах. Он умиротворял душу, смягчал тоску, уютно от него делалось и хорошо. Дав отвару покипеть и немного настояться, Вукмира процедила его, сдобрила мёдом и налила в три чашки: для Златоцветы, для сестры и себя.
Некоторое время они в молчании пили отвар, слушая шум водопада и журчание внутреннего родника в пещере. Сиденьями им служили большие каменные глыбы, из которых белогорские мастерицы-каменщицы сделали что-то вроде скамеек.
– Говори, – молвила Вукмира, взглянув на Златоцвету. – Говори всё, что хочешь сказать, освободи сердце. А мы, может быть, что-нибудь подскажем.
– Да, подскажите мне, что делать! – встрепенулась Златоцвета.
Начала она рассказ о своих видениях торопливо и сбивчиво, но под полным сдержанной высокогорной мудрости взором Вукмиры её речь потекла более плавно, слова стали подбираться легче и точнее. Под конец она уже почти не волновалась: наверно, тихорощенский дух наполнил её, сделав душу невозмутимой, точно зеркальная гладь. Да, под этой гладью ещё бушевали чувства, но смотрела на всё это Златоцвета уже другими глазами. Синеокие сёстры словно заражали её своим вдумчивым спокойствием.
– Немногим дано знать грядущее, – промолвила Твердяна, когда девушка замолкла, выплеснув всё, что печалило её. – Непросто жить с этим знанием, особенно когда не можешь изменить или предотвратить то, о чём ведаешь. У нас с сестрой тоже есть такой дар, и мы понимаем тебя, как никто другой. Но у тебя есть время подумать над всем этим... Много времени – целые годы.
– Горько и больно мне от мысли, что я буду не единственной в жизни государыни, – проронила Златоцвета своё главное сердечное сокрушение. – Честно признаться, душа моя готова отступиться. Пусть бы государыня осталась с той женщиной, а я – с матушкой и батюшкой...
– В тебе говорит женское самолюбие, – улыбнулась Вукмира. – Но разбуди мудрость в своём сердце, её у тебя много в нём: те, на чью долю выпали тяжёлые испытания, мудры не по годам. Утихомирь своё смятение, взгляни иначе. Тебе предстоят долгие годы и десятилетия счастливого брака, а то, что ты видела – далёкое, очень далёкое будущее. Эта женщина будет рядом с твоей супругой, когда тебя уже примет в свои объятия Лалада, а пока она даже ещё не родилась на свет. Разве тебе радостно будет оттого, что твоя лада после твоего ухода останется одна, в вечной скорби и неутешном вдовстве? Не думаю, что ты пожелала бы ей такой участи.
Держа чашку с отваром в одной руке, другой Вукмира провела в воздухе над нею, и – вот он, тёмный пруд с отражениями двух звёзд... Златоцвета вздрогнула, а служительница Лалады сказала:
– Те, кого мы любим, озаряют наш жизненный путь, словно звёзды. Вот эта, высокая, яркая, путеводная – ты. Ты владычествуешь в сердце государыни и наполняешь её душу светом и счастьем, она любит тебя здесь и сейчас. Время второй звезды ещё не настало, поэтому она висит низко и в тумане. Но что будет, если ты, ожесточив своё сердце непримиримой гордыней, решишь отказаться от избранницы и тем самым лишить её своего света?
Рука Вукмиры, ещё раз вспорхнув над чашей, стёрла отражение высокой звезды. Пруд резко потемнел, став совсем чёрным, в чаше точно дыра зияла – ворота в непроглядную бездну.
– Сама видишь, – молвила Вукмира. – Тьма... Мрак. Пустота и мрак настанут в душе твоей лады. Ты ЭТОГО хочешь?
Объятая пронзительно-тоскливым холодом, Златоцвета зажала рукой всхлип. Нет, не этого она хотела для государыни, совсем не этого! Две тёплые слезинки скатились по щекам и защекотали ей пальцы, и Твердяна снова приложила к лицу девушки свой вышитый платок.
– Мы в Тихой Роще, не забывай, – шепнула она с лучиками улыбки в уголках глаз.
Златоцвета зажмурилась и закивала. Вдох, выдох... Она выпустила из груди горько-солёный воздух, и тиски на горле понемногу разжали свою хватку. От лёгкого взмаха руки Вукмиры чёрный пруд в её чаше снова стал отваром колокольца, и хранительница Восточного ключа отпила глоток. А Твердяна, выглянув наружу, проговорила:
– Вечереет, однако. Ступай-ка ты домой, Златоцвета Драгутична, а то государыня придёт – а тебя нет.
– Она сегодня не придёт, – смахивая остатки влаги с ресниц, глуховато отозвалась девушка. – У неё дела.
– Когда есть к кому спешить, и дела быстрее ладятся, – усмехнулась Твердяна.
Сердце вздрогнуло, встрепенулось, окрылённое надеждой: а вдруг и правда?.. Быстрыми глотками допив почти остывший отвар и поблагодарив синеглазых сестёр, Златоцвета устремилась в проход.
Дома на неё накинулась встревоженная матушка:
– Ты куда запропастилась?! Я вся извелась!
– Я в Тихой Роще была, родная, всё хорошо, – ответила Златоцвета, примирительно гладя родительницу по плечам.
– А, у госпожи Вукмиры? – успокаиваясь, сказала та. – Ну ладно тогда, а то я места себе не находила... Пропала ты, как сквозь землю провалилась! И не сказала ничего, не предупредила даже! Ох уж эти кольца волшебные...
– Прости, прости, матушка, – устало вздохнула девушка. – Я больше не буду так делать.
Надежда сиротливо поджала крылья: Лесиярой дома и не пахло... Значит, не приходила и, наверно, уже не придёт. Вздохнув, Златоцвета села за рукоделие: за работой ей лучше думалось, а подумать было о чём.
Когда начало темнеть, она зажгла лампу и продолжила класть стежок за стежком. От стука в дверь сердце перекувырнулось в груди, а иголка вонзилась в палец – выступила алая капелька. Сунув уколотый палец в рот, Златоцвета захромала по лестнице вниз: она уже знала, кто пришёл, и в её душе громыхала раскатами радость – будто и не было ни видений, ни слёз... Смыло их светлым потоком любви, который струился на неё из глаз избранницы.
– Яблонька моя, осторожно, не спеши! – Лесияра бросилась к Златоцвете и взяла за руки, помогая спуститься по ступенькам. И запоздало поприветствовала: – Здравствуй, ладушка. Уж прости меня за эти «приду – не приду»... С делами удалось разобраться раньше. Час поздний, так что я ненадолго – хоть немножко на тебя погляжу, радость моя.
Княгиня пришла не с пустыми руками, а с подарком – новыми сапожками из алого сафьяна, украшенными золотым шитьём и бисерным узором. Их носочки задорно загибались, а с голенищ свисали кисточки. Преклонив колено, Лесияра самолично обула Златоцвету, и они вышли в сад погулять на сон грядущий – опробовать обновку.
– Удобно тебе, ладушка? – спросила княгиня.
– Чудесно, государыня, – с улыбкой ответила девушка. – Благодарю тебя за подарок.
На сердце у неё было светло, а от тоски осталось только лёгкое облачко, маячившее вдалеке – как чуть приметная хвойная горчинка в воздухе Тихой Рощи. Они остановились под преобразившейся яблоней; та разрослась за лето, обзавелась пышной кроной, а плодов на ней хоть и немного висело, да зато каких крупных! И не скажешь теперь, что она когда-то чахла.
– Мррр, соскучилась по тебе, ласточка, ягодка, цветик, – замурлыкала Лесияра, склоняясь к Златоцвете и щекоча дыханием ей ушко. – Поцелуй меня скорее... Мрр, не могу тобой надышаться, насытиться!
Из-за разницы в росте ей приходилось нагибаться, а Златоцвете – подниматься на цыпочки, но поцелуям это не препятствовало. За этим сладким занятием их и застал вернувшийся из поездки Драгута Иславич.
– Какие у нас гости дорогие да желанные, – поприветствовал он княгиню. – Здрава будь, государыня Лесияра!
– И ты будь здрав, любезный Драгута Иславич, – отозвалась та царственным кивком головы. – Как съездил? Как успехи твои?
– Ох, есть мне что порассказать, государыня, – засмеялся батюшка.
Совсем улетучились остатки грусти, душа Златоцветы лучилась тёплым светом. Батюшка вернулся довольный, прямо сиял, а значит, пошли у него дела на лад. Матушка подала ужин, поставив посередине стола великолепный и тяжёлый, душистый яблочный пирог с румяной блестящей корочкой, и глава семьи, осушив первым делом кубок мёда, принялся рассказывать свои новости.
– Хорошо съездил, плодотворно – совсем как в былое время. Но даже не этому я так радуюсь, а тому, что ворога своего, обидчика проклятого, я нашёл! Не ждал, не чаял этой встречи, а вот довелось увидеться. На сей раз он по-новому вырядился, борода уж у него не чёрная, а светлая, и лицо тоже белое, но я его, жука такого, всё равно узнал! Узнал, а сам помалкиваю, жду, вспомнит ли он меня. Не вспомнил, гадёныш! Мне-то его злодеяние всю жизнь исковеркало, а он забыл, гад проклятущий!.. Ну ладно, думаю, погоди, поймаю я тебя, изобличу! Сажусь с ним играть; ведаю, что кости жульнические, готовлюсь проигрывать, ан нет – выиграл! Раз выиграл, второй раз – тоже. У него глаза на лоб полезли! Как это так – чтоб кости против своего мошенника-хозяина падали! Хех! – Батюшка со смешком погладил бороду, сияя довольством. – Когда третий раз я опять его обставил, у него уж ничего не осталось: всё, что поставил он – всё спустил. Но мне его добра, обманным путём нажитого, не надобно, я лишь справедливости хотел! – При слове «справедливость» батюшка потряс в воздухе кулаком, грозно сверкнув праведным гневом в очах. – Достаю камень, который я припас нарочно, и по костям – бряк! Одну разбил, вторую, третью... Так и есть: кости с хитростью, ртутью заряженные. «Вот, – говорю, – смотрите, люди добрые, а господин-то этот – жулик! Держи мошенника!» Тут все зашумели, загалдели, а обидчик мой улизнуть попробовал, да не вышло. Схватили его и повязали, а наутро к судье отвели. Я, по правде сказать, опасался, как бы он и тут не вывернулся, гад скользкий, но нет – не вывернулся он. Всё проиграл, даже захудалого медяка не осталось у него, чтоб судье на лапу дать. Много дней его дело разбирали; нашлись и другие люди, им обиженные. По всей совокупности злодеяний, им сотворённых, выходило ему наказание самое что ни на есть высшее – то есть, казнить смертью лютой, четвертованием, но я за него слово замолвил. «Умереть для него было бы слишком просто, – сказал я суду. – А пусть-ка вот он поработает, да поработает тяжко, не разгибая спины, пусть выпьет чашу горькую, пусть потом солёным обольётся! Вот для него наказание самое лучшее. Пусть знает, как плоды чужих трудов присваивать». Осудили его к заключению в темнице на десять лет; надлежит быть ему в течение всего этого срока в кандалы закованным и исполнять работы самые тяжёлые. Всё имущество его поделили между истцами в счёт возмещения убытков. Я от своей доли отказался, мне и того довольно, что получил он по заслугам.
– А ну как сбежит подлец? – вставила слово матушка, слушавшая его рассказ напряжённо, со сжатыми губами и сцепленными пальцами.
– Из темницы той, куда его отправили, ещё никто не сбегал – так люди говорят, – ответил батюшка. И снова потряс кулаком: – Есть справедливость, есть! А чему я обязан выигрышем своим, я уж после понял. За это благодарен я тебе, государыня, и оберегу твоему!
И батюшка высвободил из-под рубашки кулон белогорской работы, который Лесияра ему подарила для удачи в делах. Матушка присоединилась к его благодарностям, а он добавил:
– Но ты не думай худого, государыня, не игрок я больше. С обидчиком своим играл я в последний раз, да и то только для того, чтоб его на чистую воду вывести. Теперь с игрой покончено навсегда: слишком много горя я принёс семье своей через эту страсть.
– Решение твоё я могу только одобрить и порадоваться за тебя, Драгута Иславич, – молвила Лесияра.
После ужина княгиня стала прощаться. Прежде чем уйти, она улучила миг, чтобы сказать Златоцвете несколько нежных слов наедине; поцелуи под яблоней возобновились с того места, на котором их прервал батюшка.
– Моя ладушка, моё сокровище родное, – шептала Лесияра в кратких промежутках, когда их со Златоцветой губы разъединялись. – Как не хочется от тебя уходить! Ну ничего, уж недолго осталось ждать – скоро я назову тебя своей женой, мрр-р-р...
Ночь была по-осеннему зябкая и туманная, но Златоцвета отходила ко сну в тёплой постели, наевшись яблочного пирога и своего любимого мёда с калачом и молоком. На сердце мурлыкала нежность, а все печальные думы растаяли в отваре тихорощенских трав, который девушка выпила перед сном.
В конце осенней урожайной поры ей предстояло преклонить вместе с Лесиярой колени в пещере Восточного Ключа и принять венец света Лалады, получив благословение Вукмиры на семейную жизнь. На их с княгиней свадьбе будет гулять Мыслимира со своей наречённой избранницей, а после княжеская чета, в свою очередь, посетит их праздник любви и единения. Драгута Иславич снова развернёт успешную торговлю и достигнет прежнего достатка и положения, а вскоре матушка Кручинка подарит ему сына и наследника его дела. Кривко здорово раздастся вширь на своих любимых белогорских пряниках, которые Златоцвета станет неизменно высылать ему, но не оставит службы в купеческой семье и будет повышен до управляющего хозяйством и начальника над домашней челядью – весьма степенного начальника, с величавой поступью и дородным брюшком.
Посетят Златоцвету и новые видения о будущем... В одном из них ей покажутся кровавые битвы и страшные обликом воины, встающие из-подо льда – не самое приятное зрелище для матери, носящей в утробе дитя, их с Лесиярой младшую дочку Любиму. На последних месяцах увидит Златоцвета тот прекрасный разумный сад, полный золотого света; там будут ждать её батюшка с матушкой, уже покинувшие земную юдоль. А вершина Туманного утёса над рекой Свияшью, после того как отгорит там её собственный погребальный костёр, покроется зарослями синего колокольца тихорощенского – её любимого цветка.
Но это – дела далёкого будущего, а пока Златоцвета в тёплом гнёздышке постели соскальзывала в безмятежную дрёму. Сердце её решило: да будет то, чему суждено случиться. Будет осень, будут яблоки – много яблок; и мёд тихорощенский, и пироги, первый из которых она уже попробовала сегодня. И свадьба будет, широкая и весёлая, и счастье, и сладкое слияние на супружеском ложе, и первое шевеление дитятка под сердцем. Всё будет – в своё время.
Единственная
Тёмные клочковатые тучи вот уже полдня изливали на землю потоки холодного дождя; в такую погоду лучше всего сидеть дома у жарко растопленного камина и потягивать маленькими глотками горячий отвар тэи. Увы, сейчас у Северги не было такой возможности: закутавшись в плотный плащ с поднятым наголовьем, она шагала между шатров лагеря. Полк шёл на подмогу тысячному Брондингу; до встречи оставалось два-три дня пути, и это был, скорее всего, последний привал.
Её сотня отдыхала на окраине лагеря. Чавкая сапогами по жидкой слякоти и поскальзываясь, Северга вдруг услышала звон струн: кто-то бренчал на бооле. Она подошла к шатру, из которого доносилась музыка, послушала немного, хмыкнула. Воины пели похабные куплетики и гоготали, передавали друг другу фляжку с хлебной водой – словом, расслаблялись, как умели. Уставом петь на привале не запрещалось, и Северга прошла бы мимо, не питая большого пристрастия к такого рода песенкам да и к музыке вообще, но вдруг прозвучал молодой голос:
– Ребята, я тут песню сочинил... Хотите послушать?
– А ну-ка, ну-ка, давай!
Струны зазвенели снова, но уже иначе: к ним прикасались нежно, с приглушённой печалью и сдержанной страстью. Если куплетики звучали грубовато и расхлябанно, с кабацкой удалью и небрежностью, то теперь боола пела ласково, даже немного робко.
Единственная,
Только ты одна...
Ты в сердце моём, как одна струна.
Одна звезда
На шатре небес,
И я один –
Погибаю здесь.
Единственная,
Лишь тебя зову;
Над седой золой
Песней душу рву.
Погас костёр, завтра снова в путь,
И снова в бой...
Холодеет грудь.
Я пьян сейчас,
Но не от вина,
И лекарство мне –
Только ты одна.
Спасенья нет от прекрасных глаз,
Насквозь пронзён...
Да, я пьян сейчас.
Мой меч в крови,
А земля в огне.
Я пью тот миг,
Что остался мне.
Я жадно пью мой последний вздох,
И жизнь моя
У твоих лишь ног.
Севергу пронзило: как? как этот парень прочёл её душу, как нашёл те самые слова, которые она сама никогда бы не сумела подобрать?! Но товарищам песня не понравилась. На голову певца любви обрушился град критики:
– Да ну, что за тягомотина унылая!
– Да уж, сладкие сопли!
– Грисско, повеселее что-нибудь сочинить не мог? Бодренькое что-нибудь.
Они совсем заклевали бы беднягу, но Северга, откинув полог шатра, сказала:
– Отставить разговорчики. Рядовой Грисско, выйди на два слова.
Все вскочили. Певец, светловолосый молодой парень, отложил свою исцарапанную боолу и тоже подпрыгнул.
– Есть, госпожа сотенный!
Накинув наголовье плаща, Грисско вышел под дождь. Не самое удобное место для разговора, и Северга, чтоб и самой не мокнуть, и парня долго не держать под струями воды, выражалась как можно короче.
– Это ты сам сочинил?
– Так точно, госпожа сотенный офицер.
– Напомни-ка мне, малыш: ты как в войске очутился?
Они стояли лицом к лицу, с края наголовья у каждого падала дождевая капель – бахрома из тонких струек воды.
– Так известно как, госпожа... Семейство моё было на мели, то есть, в денежных затруднениях. Матушку уволили со службы, у батюшки неприятности с законом. А тут пришли вербовщики – пополнение в войско набирать. За вознаграждение... Не великие деньги, конечно, но семью это выручило бы. Ну, я и пошёл в воины.
– Ясно.
Светло-голубые глаза парня были чистыми, как рассветное небо. «Экая невинность, – подумалось Северге. – Жалко будет, если убьют бедолагу». А вслух она сказала:
– Ты вот что... Напиши-ка мне слова твоей песни. И музыку тоже... Ну, в смысле, как играть.
– Слушаюсь, госпожа сотенный... А... разреши обратиться с вопросом?
– Валяй.
– А зачем тебе моя песня, госпожа? Ты хочешь её сыграть? Но я ни разу не видел у тебя в руках боолы.
Северга свои соображения решила придержать при себе. Она и сама не знала, откуда у неё взялось это тоскливое чувство. Точнее, предчувствие. Зачем парня расстраивать? Ни к чему.
– Да так... Славная песенка, хочу на память себе сохранить. Ты, конечно, прав насчёт меня: мне драмаук в уши насвистел («медведь на ухо наступил» – прим. авт.). В музыке я не шибко разбираюсь и ни на чём не играю. Но твоя песенка – ничего себе так, вполне недурна. Просто так, на всякий случай сохранить хочу. Вот сюда мне запиши.
И она протянула Грисско записную книжечку размером с пол-ладони, ощупала карманы в поисках карандаша, нашла и вручила певцу.
– Запиши прямо сейчас. И принеси мне в шатёр.
– Есть, госпожа сотенный.
Она нырнула в свою палатку. Дождь барабанил по кожаному куполу над головой, в щель полога веяло осенней промозглой безысходностью... Да уж, война не выбирает время года. Воевать приходилось и в мерзейшую погоду. Вынув пробку фляжки, Северга отхлебнула глоток хлебной воды, и горячительное пролилось ей в нутро огненным сгустком.
Грисско явился весьма скоро, протянул ей записную книжечку и карандаш, гаркнул:
– Распоряжение выполнено, госпожа сотенный...
– Ох, ради священной селезёнки Махруд, не ори, – поморщилась Северга. – Башка и так трещит.
– Извини, госпожа, – смущённо сказал Грисско уже потише. – Я всё записал, как ты просила.
Северга открыла книжечку, пролистала, нашла слова песни и закорючки – ноты. Кивнув, она сунула книжечку за пазуху.
– Благодарю, сынок. Свободен.
Этот привал и правда был последним: через два дня они встретились с полком Брондинга и спасли его от полного разгрома. Бой был жаркий, не раз Северга носилась в атаку со своим коронным: «Вперёд, засранцы!» – а книжечка с песней так и лежала у неё за пазухой.
Дождь наконец кончился, небо расчистилось, вода впиталась в землю вместе с кровью. Они овладели городишком под названием Ирле; приводя себя в порядок, Северга чистила окровавленные латы, когда вдруг ощутила на груди что-то твёрдое и прямоугольное. А, книжечка... Ей вспомнился светловолосый Грисско – певец любви с невинностью в глазах.
Воины расположились на отдых в захваченном здании какого-то учебного заведения – раскинули тюфяки прямо в лекционных залах. Опять кто-то играл на бооле, и Северга устремилась на звуки струн.
Боола была знакомая – с исцарапанным корпусом, но её струны задумчиво пощипывал не Грисско, а десятник Линдерг, сухощавый и черноволосый, с длинным, как клюв, носом.
– А где Грисско? – спросила Северга.
Линдерг, вскочив, доложил:
– Госпожа сотенный офицер, рядовой Грисско убит сегодня утром в бою за Ирле. Боолу он мне сам завещал.
– Ясно.
В горле застрял какой-то вязкий сгусток, но Северга не крякнула, даже не нахмурилась. Её лицо осталось, как всегда, каменно-суровым.
У неё было немного свободного времени, и она черкнула два письма – Темани и Бенеде. В последнем она приписала пару строчек для Рамут и вложила вырванные из записной книжки листочки со словами песни и нотами.
«Прилагаю одну занятную песенку, услышала у нас в сотне. Высылаю вам, чтобы не потерять в суматохе».
Ей удалось вырваться в короткое увольнение на исходе зимы. В усадьбу Бенеды она прибыла в синих вечерних сумерках; двор был расчищен от снега, окна манили уютным домашним светом.
– О, какие гости! Ну заходи, погрейся у огня, – встретила её костоправка.
Семейство уже отужинало и собиралось идти на отдых, но из-за приезда Северги спать все легли позже обычного: хозяйка велела покормить гостью с дороги, после чего посидела с ней немного у камина. Бенеда с Севергой «приговаривали» кувшинчик настойки, а Рамут пила отвар тэи с молоком, пристроившись на низенькой скамеечке возле кресла родительницы. Чашку она держала в руках, время от времени таская с тарелки тонкие ломтики сыра. Уже не ребёнок, но ещё не девушка, Рамут и в своём отрочестве была прекрасна: длинноногая, чуть угловатая, с толстой чёрной косой. Сердце Северги утонуло в сапфировой синеве её внимательных, пристальных, чуть тревожных глаз. Впрочем, когда Северга перешагнула порог дома, тревога в них отступила, сменяясь облегчением.
Бенеда отяжелела от выпитого и пошла спать, а они с Рамут ещё сидели у огня. Северга подкидывала поленья, подкармливала пламя. Пить уже было нечего, настойка и отвар кончились, всё семейство легло спать, и Рамут сама сбегала в погреб – нацедила ещё кувшинчик. Она не разбавила настойку, и Северга кивнула.
– Молодец, детка, правильно.
Себе дочь заварила тэю. На тонкие ломтики хлеба она положила сыр, а сверху намазала мёдом.
– Ты устала, Рамут. Может, тоже спать пойдёшь?
Бесполезное предложение: Рамут не собиралась отправляться в постель, пока матушка сама не ляжет. Это уж как пить дать – будет сидеть на неудобной скамеечке без спинки и таращить осоловелые от усталости глаза на огонь. Настойка размягчала твёрдую корку на сердце Северги, нутро согрелось и таяло, и она похлопала себя по колену.
– Иди ко мне, детка... Садись. Поудобнее будет.
Плевать, что на колени к себе она обычно сажала Темань; это придавало странный привкус вечернему единению с Рамут, но Северге до стона сквозь зубы хотелось просто прижать её к себе. Рамут смущённо замялась, робко улыбаясь, но на колени к родительнице села и обняла её за плечи.
– Вот так... Хорошо. Драмаук меня раздери, как мне хорошо сейчас! – И Северга потёрлась кончиком носа о тёплую щёчку дочери.
Объятия Рамут стали крепче, она прильнула к Северге и вдруг зажмурилась, как будто собралась расплакаться.
– Эй... Ты чего? – Северга подцепила пальцем её подбородок, стараясь заглянуть в глаза. – Я же дома, живая. Ну?
– Эта песня, – жарким шёпотом выдохнула Рамут. – Та, которую ты прислала с письмом... Ты как будто прощалась ею со мной.
Нашёлся в Верхней Генице один знающий нотную грамоту юный мастер игры на бооле – паренёк по имени Уриме, ровесник Рамут. Он-то и спел ей «Единственную», после чего глаза Рамут не просыхали неделю, а душа бесслёзно рыдала ещё дольше – вплоть до самого приезда Северги.
– Рамут, милая... Ну, ты же сама всё понимаешь, – хрипловато и устало зашептала Северга, чувствуя себя совсем разомлевшей от хмелька и прерывистого, тёплого дыхания дочери возле уха. – Ты же умница, тебе не нужно всё это объяснять. Ты знаешь, что твоя матушка – воин. И что из этого следует, тоже знаешь... Всё, хватит, не будем о грустном. Я не хочу, чтобы ты плакала. Ну всё, всё, тш-ш...
Рамут, стиснув Севергу в объятиях и прильнув мокрой щекой к её щеке, роняла слезинки из-под сомкнутых век. Так они посидели немного, пока она не успокоилась.
– А кто эту песню сочинил?
– Один паренёк из моей сотни, его звали Грисско.
– Звали?.. То есть, он...
– Да, детка, ты правильно догадалась.
Да, и ещё Рамут догадалась, что «единственная» – это она. Что каждая строчка этой песни – для неё. И не нужно было говорить эти невыносимо трудные три слова, которые Северга так боялась произносить...
Рамут была на той грани усталости, когда сознание трепещет, как пламя готовой погаснуть свечи, а тело обвисает во власти слабости, но она ещё пыталась держать неумолимо тяжелеющие веки открытыми.
– Пойдём-ка баиньки, ты уже совсем засыпаешь.
Держа Рамут на руках, Северга встала с кресла и со своей драгоценной ношей поднялась по ступенькам в комнату дочери. Там она уложила Рамут в постель.
– Матушка, не уходи, – простонала та. Её веки наконец слиплись, сцепившись пушистыми ресницами.
– Я с тобой. Спи, – шепнула Северга, склонившись и дыханием касаясь её лба. Наверно, от неё изрядно пахло сейчас хмельным, да и завтра ещё будет попахивать перегаром. Плевать. Главное – Рамут всё поняла. Уловила то самое.
Завтра они поедут кататься верхом по чистому снежному простору. Может, разыщут того паренька, и он сыграет на бооле... Но если Рамут опять будет плакать от этой песни, то лучше не стоит. Лучше тогда просто покататься, дыша зимней горной свободой, чтобы щёки горели от морозного ветра. А сейчас – спать. Забыть войну, кровь, оружие, смерть. Всё забыть рядом с Рамут... Вот уже и сил подняться нет.
Рамут сладко спала, уткнувшись в подушку, укрытая белым, как сугроб, пуховым одеялом, а Северга, соскользнув на плетёный коврик рядом с кроватью, поникла головой на край постели. Не самое удобное положение, но хмель притуплял телесные ощущения. Главное – Рамут тихо дышит рядом, её сердце бьётся. И только около неё сердце суровой женщины-воина тоже бьётся и живёт. И будет биться, даже когда её самой уже не станет.
«Моё сердце всегда будет с тобой».
Новые деревья
Боровинка выбралась на берег озера, дрожа и роняя капельки воды на светлый чистый песок. Девочка-кошка ёжилась и покрывалась гусиной кожей, пока Млада растирала её полотенцем после урока плавания и ныряния. Ловить зубами крупную рыбу, как родительница, она пока не умела: силёнок не хватало удержать бьющуюся добычу челюстями, но в свои шесть лет она уже стреляла из лука, быстро бегала и понимала звериные следы, разбиралась в грибах и ягодах, различала птиц по голосам – словом, умница. Млада гордилась дочуркой.
Пока будущая Миромари («отважный воин») нежилась на песке голышом, подставляя свои ещё детские, но уже крепенькие плечи солнышку, Млада задумчиво всматривалась в шедшие издалека тяжёлые облака. Младенчество первых двух дочерей она пропустила из-за длительной хвори, в мучительный мрак которой погрузилась её душа после ранения; ещё долго потом из неё выходили чёрные сгустки хмари – через лёгкие, через горло. Она кашляла чёрной слизью. Когда Дарёна забеременела Боровинкой, Млада не знала, пригодно ли её молоко для кормления, но ей до стона, до беспокойной тоски и зубного скрипа хотелось самой кормить, самой воспитывать – начиная с первого дочкиного вздоха.
Молоко, к счастью, было уже чистым. Млада сама приняла у супруги роды; прижав к себе скользкое от смазки дитя, она урчала, щекотала кроху ртом и по-звериному вылизывала. Жадный, неистовый порыв родительства охватил её до сладостного помутнения рассудка, и она долго не давала дочку жене, не спускала с рук. Дарёна посмеивалась:
– Эк тебя накрыло...
А Младу и впрямь «накрыло» материнством – до дрожи, до одержимости. С другой стороны, Дарёне необходимо было отдохнуть и оправиться после родов, и помощь супруги-кошки пришлась очень кстати. Старшие дочки уже вполне справлялись по хозяйству: ухаживали за домашней скотиной, работали в огороде. Семья держала быков с коровами, овец, коз и кур; юная кошка Зарянка гоняла животных на луг, а помогала ей в этом Росинка. Огромная белая пастушья собака была почти по-человечески разумна и сообразительна, щенков от неё разобрали всех до единого. Вторая дочь, белогорская дева Незабудка, стряпала, шила и вышивала, а тётушка Рагна обучила её садовой волшбе. Хоть Дарёна с Младой и отделились от большого семейства, во главе которого теперь стояла оружейница Горана, но связь между ними оставалась крепкой, а тесное родственное общение не прекращалось ни на день. Они объединяли усилия в пахоту, сев и жатву, вместе трудились на сенокосе, а по Дням Поминовения встречались за праздничным столом.
Волосы Боровинки подсохли, и Млада прошлась по её вороным кудрям редкозубым гребешком. Когда гребень застревал, дочка ёрзала, но тут же успокаивалась от прикосновения руки родительницы: Млада клала ладонь ей на спину. Словами они редко обменивались. Голос Млады прятался в груди, словно ленивый, сонный зверь, говорила она неохотно, могла молчать по несколько дней. В семье к этому уже привыкли, но Дарёна иногда вздыхала. Все знали: это последствия хвори.
Чёрные кудри дочки отливали синевой, а её собственные уже подёрнулись инеем, особенно на висках. Это была преждевременная седина: в косице Гораны не блестело ещё ни одного серебряного волоска, хотя та и родилась вперёд Млады. Из двух сестёр-кошек теперь именно Млада казалась старшей. Но душа Гораны не была разорвана на части и не срасталась потом долго и мучительно, медленно очищаясь от яда, которым пропиталась в Озере Потерянных Душ; кошке-оружейнице не приходилось часами и сутками лежать в какой-нибудь заброшенной медвежьей берлоге, обливаясь потом в приступе ужаса, дурноты и сердцебиения, а потом осторожно выбираться на солнечный свет, болезненно щурясь, вздрагивая и трясясь, точно с похмелья. А Младе – приходилось.
Ранение и Озеро Потерянных Душ нанесли ей урон, который, как она сама чувствовала, вряд ли был поправим. Она знала: возможно, из-за этого ей придётся и в Тихую Рощу уйти раньше срока. Впрочем, на Дарёнкин век её хватит. Искалеченная до конца своей жизни, погружённая в отстранённую молчаливость, рано поседевшая, она, тем не менее, цеплялась за земное существование, рвалась к теплу и свету. Обняв ночью беременную жену, она дышала этим теплом, впитывала его холодеющей душой, и оно излечивало остатки того ужаса. Дарёна спала, склонив голову на плечо супруги, а та, обхватив рукой её живот, ловила толчки живого существа из его недр. Ещё не рождённая кроха, совсем маленькая, беспомощная, ещё слитая воедино с матерью, уже обладала огромной целительной силой. Этот комочек родной жизни прогонял отголоски чёрной ледяной жути. Удар крошечной пяточки – и тьма рассеивалась, чудовище прятало щупальца, скукоживалось и отползало в угол, а ком в горле Млады солоно таял, и душа наполнялась нежностью. «Благодарю тебя, дитя моё. Ты моя родная спасительница», – и ладонь Млады скользила по животу жены.
Она вернулась домой ещё не вполне оправившаяся, но дольше скитаться было уже просто нельзя. Млада была нужна своей семье – жене, дочкам. Она хотела ещё детей. Но жрицы Лалады из общины Дом-дерева советовали им с Дарёной воздержаться от деторождения несколько лет, пока к Младе не вернётся душевное здравие.
Она давила отзвуки чёрного ужаса глубоко внутри себя, сжимала их в комок, пока колебания не затухали. Внешне она продолжала делать то, что делала: косила, пахала, ловила рыбу, работала в огороде, просто её взгляд становился отсутствующим. Дарёнка говорила, что порой Млада смотрит на неё, как бы не узнавая, но потом стряхивает это оцепенение мановением ресниц.
– Жуть берёт, когда ты так смотришь, – призналась жена. – Словно не понимаешь, кто перед тобой...
– Не бойся, горлинка. – Млада прижала Дарёну к груди, касаясь дыханием её лба. – Пройдёт со временем.
«А может, и не пройдёт никогда», – добавила она про себя.
Но вот свершилось долгожданное чудо: под её ладонью, лежавшей на животе супруги, билось крошечное сердечко. Уютно устроившись в объятиях Млады, Дарёна сияла тёплым умиротворением во взгляде, а белая улыбка месяца мерцала в синих сумерках за окном.
– Сама кормить будешь? – спросила Дарёна, обвивая полукольцом руки шею Млады.
– Да, – отозвалась та, всеми чувствами ощупывая, изучая этот дорогой сгусточек жизни, малюсенькое существо в утробе своей лады. – Да. Я хочу.
Она хотела делать это осознанно, а не как тогда, в том забытьи после ранения, когда часть её души отсутствовала в теле. Хотела всё видеть и чувствовать: ротик дочки, её глазёнки, её реснички, её тёплое тельце.
– Лалада нам поможет, – шепнула Дарёна, и они поцеловались в порыве единения и взаимопроникающей, обострённой, обновлённой любви друг к другу.
Любви, которая порой пряталась за щитом молчания Млады, но жила в каждом движении, в каждом поступке, в заботе, в связках рыбы, в корзинках ягод, в ведре с водой с отражением солнца.
Чернокудрый плод этой любви тем временем перекинулся в кошку и звал Младу побегать вокруг озера. Млада тоже приняла звериный облик, и они помчались, взрывая лапами песок. Потом родительница растянулась в тени кустов, а дочь улеглась на неё сверху, мурча и покусывая за ухо. «Телячьи нежности» между ними бывали редко, за лаской Боровинка чаще тянулась к Дарёне: та и пузико погладит, и за ушками почешет, и поцелует, и песенку споёт, и обнимет, и скажет:
– Котёныш ты мой пушистенький...
И неважно, что этот «котёныш» вымахал размером с рысь и на ручках уже не помещался, да и на коленях – тоже не очень. В зверином облике он мог придавить матушку своим весом, а потому валялся у её ног, подставляя бока и мохнатый живот ласковым рукам. С матушкой Младой Боровинка резвилась, постигала «лесную грамоту» и белогорскую кошачью мудрость, а с матушкой Дарёной нежилась в покое и тепле, беззаботности и уюте.
Облака, которые Млада наблюдала вдалеке, между тем надвигались плотным, сизым грозным пологом, как вражеская рать. Солнце они ещё не закрыли, и оно сверкало на водной ряби, но тёмное подбрюшье туч уже дышало холодом и влагой.
– Непогода идёт, – проговорила Млада, перекинувшись в человека. – Матушка Дарёна нас с уловом ждёт, тесто для пирога поставила. Надо пошевеливаться, пока не разразилось...
Она ныряла пять раз и появлялась над водой с рыбиной в зубах. Дочка прыгала и хлопала в ладоши, её незабудковые глаза сияли охотничьим восторгом. Кинув ещё живую, бьющуюся рыбину наземь, Млада встряхнулась, а Боровинка попыталась придавить добычу собой, успокоить её трепыхание.
– Ух, сильная какая!
Могучее серебристое тело рыбы скользило, извивалось, шлёпало хвостом. Она билась так сильно, что чуть не ускакала назад в воду – вместе с оседлавшей её девочкой-кошкой.
– Не рыба – лошадь! – смеялась Боровинка.
Решив, что пять крупных рыбин достаточно, Млада засунула их в мешок и завязала, оделась. Поднялся ветер такой силы, что сосны вокруг озера качались и стонали, а Боровинку едва не сдувало с ног. Засверкало, загремело, толстая ветвистая молния распорола небо. Дочка испуганно прильнула к Младе.
– Матушка... ветер...
– Да, моя родная, крепкий ветерок, – отозвалась женщина-кошка. – Но и мы с тобой не пушинки – не унесёт.
«Крррряк!» С протяжным стоном и громким треском упала старая сосна, и Боровинка вскрикнула, прижавшись к родительнице всем телом. Хлестанул ливень, и они в два счёта вымокли до нитки.
– Матушка... Я боюсь, – задрожала Боровинка, прижимаясь мокрым личиком к Младе. – Наш сад... Деревья... Яблоньки ветер поломает! А если матушку Дарёну или сестриц зашибёт?
Зрелище упавшей сосны так потрясло её, что в её глазах через край плескался ужас. Млада, присев на корточки, укутала дочку защитными объятиями, гладила по мокрым волосам, приговаривая:
– Ну-ну, дитятко... Не бойся. Побушует ветер да и утихнет. А матушка Дарёна с сестрицами в доме спрятались.
– Матушка, поговори с Ветроструем, пусть ветер уймётся, – дрожащим от слёз голоском умоляла Боровинка. – Ты же можешь...
– Ну ладно, – сказала Млада.
Оставив военную службу, она теперь носила только один кинжал на поясе, а меч висел дома на стене. Белогорский клинок обагрился, с надрезанных запястий закапала кровь; Боровинка, зажмурившись, льнула к родительнице и не видела этого: Млада проделала всё у неё за спиной. С губ срывалась мольба к Ветрострую – уносилась вместе с порывами к клочковатым тучам. Стараясь не испачкать дочку, Млада развернула запястья к небу.
– Батюшка Ветроструй, отец ветра могучего, хозяин молний вострых, пастырь облаков небесных! Уйми непогоду, обуздай ненастье, да не порушит оно дерев земных, крова людского и беды никому не принесёт...
Дождь по-прежнему низвергался мощным потоком, струился по их телам, но порывы ветра ослабели. Верхушки сосен едва колыхались, волны на озере улеглись. Ещё поблёскивали вспышки, но гром удалялся, теперь его воркотня едва слышалась, похожая на бурчание в чреве.
– Всё, утихает непогода, – сказала Млада дочке, которая всё ещё жалась к ней, как к единственной своей защите и твердыне среди бушующего ненастья.
Унимался и ливень – редел, иссякал. Земле влага, безусловно, нужна, но ветер и впрямь слишком опасно разгулялся – самый настоящий шквал. Такой ветер мог наделать немало разрушений.
– Ну, не дрожи, кончилось уж всё, – со смешком-мурлыканьем сказала Млада Боровинке.
Дочка осмелилась открыть глаза и осмотреться. Ливень уменьшился до мелкого дождика, а ветер с ленцой ползал у самой земли – припал на брюхо, укрощённый. Мокрый мешок вяло шевелился: ещё живая рыба содрогалась. Кровь уже останавливалась; Млада, разорвав носовой платок, попыталась перевязать себе запястья, но одной рукой сделать это было неудобно, даже если помогать себе зубами.
– Подсоби-ка, – попросила она Боровинку.
Та, увидев у родительницы кровавые порезы, сперва испугалась, но взяла себя в руки быстро: достаточно было голоса и взгляда Млады. Пальцы у дочки слегка подрагивали, но с перевязкой она справилась. Дождь к тому времени совсем перестал.
– Ну всё, пошли домой, – сказала Млада.
Они шагнули в проход и очутились в родном саду, потрёпанном ветром. Без жертв среди деревьев, увы, не обошлось: у одной из яблонь надломилась крупная ветка и держалась на клочке коры, а другое дерево упало, примяв собой капустную грядку и перегородив дорожку. К счастью, никого не ушибло: Дарёна с детьми укрылись в доме. А вот Зарянки с Росинкой не было: они пасли скотину, и их гроза, конечно, застигла на лугу. Но Млада не беспокоилась за старшую дочь, та должна была справиться.
Незабудка сидела на корточках у поваленной яблони и плакала. Её чёрная шелковистая коса касалась кончиком влажной земли, а лицо было скрыто в ладонях. Боровинка сразу кинулась к ней, забыв свой собственный недавний испуг, обняла, покрыла тыльную сторону рук поцелуями.
– Сестрица Незабудка, тебя не ушибло? Ты цела?
– Нет... Не ушибло, моя родная, – отозвалась та, обнимая младшенькую в ответ.
– Гроза уже кончилась, ничего не бойся, – утешала девочка-кошка, гладя старшую сестру по волосам, по щекам. – Матушка Млада уняла непогоду, поговорила с Ветроструем. Я тоже скоро научусь. Ни одной грозе не дам тебя испугать!
Уже сейчас в ней, совсем юной, проступал дух будущей воительницы и защитницы Белогорской земли – твёрдой, бесстрашной и непобедимой, как волшебный клинок. Тридцать раз снежному покрову предстояло лечь и сойти, тридцати весенним яблоневым метелям отцвести, прежде чем отважная Миромари возьмёт в руки меч, чтобы снискать себе славу в Солнечных горах и добыть невесту, прекрасную Миринэ. Пока же она держала в своих детских объятиях старшую сестрицу, и Незабудка, чуя в них будущую мощь – белогорскую, кошачью, опустила голову на плечико Боровинки, словно признавала её старше и сильнее себя. Боровинка и впрямь держалась по-взрослому, и сердце Млады согрелось гордостью за дочурку. Женщина-кошка подошла и коснулась ладонью макушки Незабудки, погладила девичью косу. Ведомо ей было, о чём та плакала. О саде Незабудка пеклась и беспокоилась, каждое дерево, каждый куст в нём любила.
– Ну-ну, моя красавица... Не убивайся. Новую яблоню посадим.
Дочь поднялась, выпустив младшую сестрёнку из объятий, и прижалась к груди родительницы.
– Посадим, матушка, конечно... Но и старой ох как жалко! Хорошая она была, яблочки душистые приносила... А теперь – всё. Не стало её. Не успел урожай созреть.
Жаль ей было яблоню, упавшую вместе с бременем недозрелых плодов, точно женщину, погибшую с ребёнком во чреве, и она вздрагивала от рыданий. Слёзы струились светлыми ручейками по её свежему и ясному, как утренняя заря, прекрасному лицу, а очи влажно сияли синими яхонтами. Она походила на свою тётушку Зорицу в юности: такое же лебединое изящество, такая же ивовая гибкость пленяли в ней; брови – соболиными дугами, щёчки – округлые и румяные, как те яблочки, а губки – спелые вишенки. Млада поцеловала юную дочь в заплаканные глаза.
– Жалко, да что поделать? – молвила она утешительно. – Ты лучше на ту яблоню, что уцелела, силы свои направь. Глянь, ветка-то не совсем отломилась. Ежели её поднять да закрепить, да волшбой подлечить – думаю, приживётся. И даже яблочки, что на ней висят, не пострадают.
Большая была ветка, много на ней зрело плодов – полная увесистая корзина набралась бы. Она висела на клочке древесины с сосудами, по которым струился сок, а потому лечение имело смысл.
Из дома выбежала самая младшая дочурка – Милунка, трёхлетняя белогорская дева. Испуганная грозой, она со всех ног кинулась к Младе и влетела в её объятия. Женщина-кошка подхватила малышку на руки.
– Ох, натворила непогода бед, – сказала Дарёна, стоя на пороге дома и окидывая хозяйским взглядом взлохмаченный ветром мокрый сад. – Младушка, глянь, и крышу чинить придётся!
С крыши сорвало часть черепицы, и она смотрелась, как щербатый рот забияки, чьи зубы изрядно прорежены в драках; глиняные обломки валялись повсюду: на грядках, на дорожках, а один острый кусок вонзился в зреющий капустный кочан. Хорошо, что в кочан, а не в кого-нибудь из семьи! Эта мысль коснулась сердца Млады холодком, но лицо её осталось невозмутимым.
– Да, дырки латать придётся, – промолвила она сдержанно. И, приподняв уголки губ, спросила: – Ну, как там тесто? Готово? А то рыбка-то – вот она. – И Млада плюхнула на крыльцо у ног супруги сырой мешок с уловом.
– Да подошло уж, конечно, – ответила Дарёна, деловито подхватив его и потащив на кухню. – Сейчас тогда пирогом и займусь, а вы тут в саду порядок наведите.
Млада проводила жену долгим взглядом. После четырёх родов она была уж не та тонкая и звонкая девчонка, какой женщина-кошка впервые приняла её в свои объятия; её любимая певица хоть и не раздобрела, как Рагна, догнавшая и перегнавшая дородностью стана незабвенную матушку Крылинку, но налилась мягкой, округлой, зрелой женственностью. Её поступь стала весомее, руки – крепче и полнее, а грудь... Если прежде она умещалась у Млады в одной ладони и была задорно-стоячей, то теперь для охвата каждой половинки требовались обе пятерни. Став тяжёлой, пышной и сдобной, эта соблазнительная часть тела нуждалась в поддержке льняного нагрудника, который Дарёна носила под рубашкой. Млада чистила рыбу, а супруга налегала на тесто, раскатывая его скалкой в большую лепёшку, и женщина-кошка не могла оторвать взгляд от её колышущейся груди. Не менее приятен был и вид с тыла, руки сами тянулись, чтобы приласкать, стиснуть, ущипнуть. Не устояв перед соблазном, Млада как бы невзначай прислонилась к жене сзади, но Дарёна, вильнув своей дивной «кормой», мягко, но решительно отодвинула ею супругу.
– Потом ластиться будешь, – через плечо сказала она, красноречиво двинув бровью. – Делу время, потехе час.
Голос её прозвучал низко и бархатисто, сквозь напускную строгость проступала чувственность. Младе оставалось только восхищаться тягучим изгибом её спины, когда Дарёна вела скалку по тесту и подавалась вместе с ней вперёд. И это сейчас были ещё цветочки... А вот когда жена принималась мыть пол!.. От таких «ягодок» вскипало, дымилось и вставало на дыбы всё. И везде. Сегодня ночью кое-что непременно будет, решила Млада. Должно быть!
– Садом займись, – сказала Дарёна, когда рыба была почищена, и Млада ополоснула руки в лохани.
– Угу, – кивнула женщина-кошка. – Тобой я тоже займусь. Но попозже.
Дел в саду было немало. Млада обвязала надломленную ветку крепкой верёвкой, взобралась на яблоню и осторожно подтянула ветку вверх за свободный конец верёвки. Приходилось действовать очень бережно, чтобы тот небольшой клочок древесной ткани, на котором она чудом держалась, остался цел. Надлом сомкнулся, и Млада привязала второй конец верёвки к стволу так, чтоб ветка держалась в этом положении. Узлы она закрутила хорошие – не должны были распуститься.
– Ну всё, теперь твоя очередь, – сказала она дочери.
Пока Незабудка колдовала, впуская тонкими пальчиками в рану золотистый свет, Млада готовила садовый вар из смолы, воска и топлёного жира.
– На, обмажь, – сказала она, подавая мисочку с варом стоявшей на лесенке Незабудке. – И оберни тряпицей сверху.
Рана была запечатана, после чего повреждённую ветку ещё и укрепили снизу подпоркой для пущей надёжности. Для этой цели послужила сухая толстая вишнёвая жердь с развилкой на конце. Потом Млада принялась за уборку упавшей яблони. «Хрясь, хрясь», – обрубал топор ветви, увешанные плодами, которым не суждено было уже созреть, и Незабудка снова не сдержала слёз. Чтобы разделать на части толстый ствол, Млада дождалась возвращения Зарянки с пастбища, и они вдвоём распилили его двуручной пилой на чурбаки.
– Пирог готов! – позвала тем временем Дарёна из дома. – К столу, к столу!
– Ну, что, пень выкорчёвывать после обеда будем? – Млада утёрла пот со лба, поставила ногу на один из чурбаков и облокотилась на колено.
– Пожалуй, – отозвалась Зарянка, уже крепкая и сильная кошка-подросток невысокого роста, но плотно и кряжисто сбитая. – Я б пообедала. В животе уж бурчит...
– Ну, пошли, – усмехнулась Млада.
В высоту старшая дочь уже не вытягивалась, почти на целую голову не достигнув обычного роста женщин-кошек в их роду, зато в поперечных обхватах уже сравнялась с родительницей. Также она унаследовала от Млады смоляные волосы, прохладно-сапфировые глаза и мрачноватые, густые брови.
Пирог удался на славу: большой, пышный, украшенный завитушками из теста, с румяной верхней корочкой, смазанной для блеска яйцом. Дом наполнился тёплым рыбно-хлебным духом, а сама хозяйка раскраснелась и пропиталась вкусным запахом, пока возилась в жаркой кухне у печки. Вся она дышала домашним уютом, материнской мягкостью, белогорской мудростью и источала волны чего-то этакого – неизъяснимого, сладостно-женского, тягучего, как мёд. Сердце Млады утопало и вязло в этих волнах, будто пойманное ласковыми ладошками.
– Сама как пирожок, так и съела бы тебя, – шепнула Млада жене. И прочитала по губам беззвучный ответ:
– Не приставай при детях!
После обеда Млада с Зарянкой принялись корчевать пень. Провозились они долго, окапывая его кругом и освобождая от земли корни – ещё живые, полные сока. Ещё немало времени они могли бы держать и питать дерево, если б не разрушительный ветер. Работать вместе с дочерью было любо-дорого: хваткая, сильная, понятливая и толковая, Зарянка уже всё умела, руки у неё росли, что называется, из правильного места, да и голова соображала хорошо.
На месте пня осталась большая яма, которую они пока не стали засыпать, только накрыли сверху толстыми ветками, чтобы в неё не упали младшие дети.
– Сама выберешь, что сюда посадить, – сказала Млада Незабудке. – Подумай. А пока в яму будем кидать траву, ботву, навоз и листья опавшие. К весне всё перепреет – хорошее удобрение получится. А весной посадим что-нибудь.
– Я уже придумала, матушка, – ответила девушка. – Черешню хочу...
– Ладно, – подумав, кивнула женщина-кошка. – Только её парами садят, чтоб деревья друг друга опыляли. Но тут места достаточно. Саженцы можно попросить в княжеском питомнике. Думаю, княгиня Огнеслава и Берёзка нам не откажут.
Незабудка кивнула и грустновато улыбнулась, и Млада дотронулась пальцами до её нежной щёчки.
– Не горюй. Одни деревья гибнут – новые растут.
Починку крыши Млада с Зарянкой решили отложить на другой день: всё равно такую черепицу можно было раздобыть только в городе, у тамошних гончаров. Сегодня они только измерили прорехи и прикинули, сколько черепицы потребуется, завтра собирались спозаранку за ней отправиться и привезти, а потом взяться за работу. А вечером, когда все дневные заботы остались позади, женщина-кошка добралась-таки до вожделенных выпуклостей супруги – и тех, что круглились спереди, и тех, что манили и соблазняли сзади. Пока Дарёна расчёсывала и убирала волосы на ночь, Млада разделась донага и устроилась на постели, мурлыча от нетерпения.
– Мрррр, ладушка, иди ко мне скорее...
Дарёна на миг остановила движения гребешка и глянула на неё через плечо – дразняще, лукаво и томно стрельнула взором из-под покрова густых ресниц.
– Ничего, обождёшь чуток, – усмехнулась она.
Убрав волосы, она принялась вбивать пальцами льняное масло в кожу лица. Жена сидела спиной к Младе, чуть подавшись грудью вперёд, к зеркалу, отчего очертания её бёдер и ягодиц обрисовались под тонкой сорочкой, ткань которой натянулась на этой восхитительной округлости её тела. У Млады вырвался сдавленный рык, а Дарёна отозвалась мягким, грудным смешком. Подушечки её пальцев похлопывали по тугим, улыбающимся щёчкам-яблочкам, чувственно скользили по лебединому изгибу шеи и гладили грудь в вырезе рубашки. Всё кончилось тем, что женщина-кошка схватила супругу на руки – та только пискнуть успела – и кинула на постель, а сама бросилась сверху.
– Попалась, – урчала она, жадно лаская грудь Дарёны, зарываясь в неё лицом и забираясь руками под сорочку. – Выставила свою... ягодку, дразнит меня и думает, что у меня терпения воз и маленькая тележка!
* * *
Любой пронзительный звук, яркий свет или резкий запах мог ввергнуть Младу в этот приступ чёрного ужаса, когда ей казалось, что воздух кончился, что сердце вот-вот лопнет, как переспелый плод. Тело покрывалось липким потом, кожа холодела, а земля уходила из-под ног. Её наполнял безмолвный крик – крик надорванной души, которая была разъединена надвое, а потом соединена, но рана ещё не затянулась.
Рана искажала всё: чувства, воспоминания, мысли. Когда приступ кончался, Млада пыталась нащупать тропинку к прежней себе, но не могла. Лёжа в глухом лесу и свернувшись калачиком под корнями старого дерева, она царапала удлинившимися когтями землю, а иногда и ела её. Скалила перемазанные глиной клыки и закатывала глаза под трепещущие веки, так что оставались видны только белки.
Это было не просто уныние духа, а недуг, лапы которого сомкнулись на её горле мёртвой хваткой. От него не спасала ни Тихая Роща, ни целебная вода, ни мёд, ни нежные песнопения дев Лалады в общине Дом-дерева.
Измученная, шатающаяся, осунувшаяся, она брела между стволов, изредка срывала ягодку-другую, если таковые попадались под ногами. Когда хватка болезненного удушья ослабевала – охотилась и ловила рыбу, чтобы поддерживать телесные силы, а в мгновения просветления её накрывала тоска по Дарёне и дочкам. Вторую малышку она даже не успела увидеть... Она знала, что дружная семья не оставит их, что матушка Крылинка с Рагной позаботятся о её родных девочках, но разлука с ними драла её душу когтями.
Она не могла находиться с людьми. Там её существование превращалось в один сплошной приступ. Ей нужны были тишина, тьма и одиночество. Только тогда хватка недуга временами отпускала её и давала вздохнуть.
Нужно было хоть как-то помочь Дарёне и дочкам. Нет, не потому что они в чём-то нуждались. Дома у них всё было: пища, кров, тепло, любовь семьи. Скорее самой Младе требовалась эта связь – через корзинки с ягодами, через связки рыбы. Её пальцы собирали землянику, а губы беззвучно шевелились:
– Прости... Прости, что не могу кормить тебя, дитя моё.
Относить гостинцы домой она могла только ночами, когда было тихо и темно, когда все спали. Она превратилась в сумеречное существо, в кого-то наподобие Марушиного пса.
Память захлопнула створки, скрыв от Млады то, что было с её душой в Озере. Она и не стремилась вспомнить. Ей хватало этих мертвящих волн, которые просачивались оттуда. Распахнуть ворота настежь, чтобы её захлестнуло с головой? Нет уж.
Иногда тёмные промежутки длились несколько суток – несколько дней кромешного ужаса, бесконечного умирания, судорог, удушья и беззвучного крика. У Млады всегда была с собой фляжка для воды, которую она старалась при любой возможности наполнить: ведь неизвестно, сколько придётся прятаться, пережидая приступ. Если без пищи ещё можно было как-то обойтись, то обезвоживание переносилось куда тяжелее.
Ведомо ей было, что некоторые не понимали её ухода из дома, считали его малодушием, просто блажью и безответственностью. Но какой от неё мог быть дома прок в таком состоянии? Недуг превращал её в растение, она и себе-то помочь не могла во время приступов, не говоря уж о том, чтобы заботиться о жене и дочках. Приступы выглядели жутко: несколько раз Млада видела себя словно бы со стороны – из левого верхнего угла. У неё порой пена шла изо рта, глаза закатывались под веки, она могла обмочиться или даже наделать «по-большому» – нет, это было не то, что она пожелала бы дорогим ей людям наблюдать изо дня в день. А помощь... Да ничем они ей не помогли бы, если даже тихорощенская земля оказывалась бессильна облегчить её беду.
Никто не мог помочь. Никто и ничто.
Вымокшая после дождя, она плелась по лесу, пока не наткнулась на малинник с чудесными ягодами. Если бы рядом была Дарёнка... Все эти сладкие сокровища она подарила бы ей. После приступа её донимала слабость, и Млада немного подкрепилась малиной, а потом соорудила что-то вроде кулька из листьев лопуха и набрала в него ягод. Ночью она отнесла подарок домой и положила на пороге. Хотелось выть от тоски; от резкого перемещения через проход зазвенело в ушах... Нет, только не новый приступ! Она ведь только что отмаялась, только что выкарабкалась...
Недуг не дал ей отдохнуть. Её накрыло снова.
Да, даже шаг в проход мог вызвать приступ.
Не было лечения, не было спасения. Лишь один выход: ждать, пока приступы пойдут на убыль сами.
И они пошли на убыль, но ждать пришлось долго...
Но каким-то чудом это всё-таки свершилось: с одного боку к ней прильнула Дарёна, уснув на её плече, с другого – сладко дрыхла Зарянка, а на груди у женщины-кошки посапывала совсем ещё крошечная Незабудка. Вся семья была в сборе.
«Не оправиться мне до конца, ладушка, – думала Млада, но вслух сказать этого жене не решалась: к чему её расстраивать? – Не знаю, сколько моего веку будет...»
Порой ей даже казалось: может, к Дарёнке вернулась не она, а кто-то другой. Кто-то с перекорёженной, заново сшитой из лоскутьев душой, с запертыми коробочками в памяти, ключиков к которым она и подыскивать не хотела.
Но Дарёна так сладко спала на её плече, с таким тихим светом умиротворённой радости на челе, что Млада дышать боялась, чтоб её не разбудить. Зарянка рядом забавно задрыгала ножкой во сне и закинула на родительницу пухленькую ручку – крепенькая, упитанная и здоровая, с пышной шапочкой крупных, упругих чёрных кудрей... Загляденье, а не дитя. Может, потихоньку и оттает душа, надо только дать ей время.
* * *
Весной на месте сломанной яблони появились два юных черешневых деревца. Берёзка сама принесла саженцы, и они с Незабудкой посадили их, а Дарёна радушно пригласила гостью за стол.
Берёзка теперь всегда ходила в чёрном одеянии, к которому добавился длинный плащ, украшенный по плечам густой оторочкой из вороньих перьев. На голове она носила также чёрную, вышитую бисером шапочку, и только платок, повязанный поверх этой шапочки, сиял прохладной снежной белизной. Мрачноватый наряд придавал её облику холодящую загадочность, но светлые, грустновато-пронзительные глаза развеивали жутковатое впечатление.
Берёзка считалась сильнейшей среди волшебников-людей со времён князя Ворона, отца княжны Свободы.
– Бабушке Чернаве подарил силу именно он, – поведала кудесница. – А она передала мне.
– Так что же выходит – бабуля была современница князя Ворона? – изумилась Дарёна. – Сколько же ей лет?
– Много, – улыбнулась Берёзка. – Но она родилась позже. Она встретила князя-колдуна в лесу в птичьем облике спустя века после того, как он покинул людей навсегда. Сила проявилась не сразу. Она долго дремала в бабуле. Волхв Барыка пробудил эту силу, сделав бабулю своей ученицей. Поверх той силы он наложил силу Маруши. Когда бабуля покинула Барыку, он забрал «подарок» вместе с её зрением. Но сила Ворона осталась! Это иная сила – сила земли, огня, воды и ветра, сила ушедшего бога Рода. Маруша к ней отношения не имеет.
– Откуда тебе всё это известно? – благоговейным шёпотом спросила Дарёна.
– Сама бабуля и рассказала, – блеснула Берёзка колдовской зеленью в глазах. – Она ведь жива, просто теперь под другим именем и в ином облике служит Хранительницей Леса. И они с князем Вороном – муж и жена. Лес повенчал их. Великий колдун спустя века одиночества наконец обрёл возлюбленную. Я видела их вместе... Они счастливы. Но людям они не показываются.
Завершив свой рассказ, Берёзка с улыбкой надкусила пирожок с сушёной земляникой прошлогоднего урожая. Теперь становилось ясно, что чёрный плащ с перьями – дань наследию князя-колдуна, чья сила текла в жилах скромной кудесницы. Но скромной она лишь казалась. Маленькая, хрупкая, с огромными глазами и остреньким лицом, она взмахом одной своей изящной руки могла повергнуть целый город в бушующее пламя, вот только такими делами Берёзка не занималась. Она любила возиться в саду и создавать новые сорта черешни. Громким деяниям и войнам она предпочитала тихую семейную жизнь и по-прежнему оставалась обожаемой супругой навьи Гледлид, но повелительница женщин-кошек знала, что в случае беды она всегда может рассчитывать на помощь этой неприметной с виду, но непревзойдённой по силе кудесницы – преемницы самого князя Ворона.
Незабудка улыбалась, касаясь пальцами тонких веточек. Юные черешневые деревца отзывались на волшбу: словно живые, они покачивались и что-то еле уловимо шептали.
– Одни деревья умирают, но вместо них всегда вырастают другие, – сказала Млада, стоя у дочери за плечом.
В глазах Незабудки отражался солнечный весенний день: две светлых искорки мерцали в сапфировой глубине. Она доверчиво прильнула к груди родительницы.
Поздним вечером у Дарёны начались схватки: тот день, когда она раздразнила Младу своей соблазнительной «ягодкой», не прошёл без последствий. Оставшаяся ночевать Берёзка оказалась в своём колдовском искусстве весьма разносторонней мастерицей: прикосновением рук она снимала боль, и на рассвете Млада услышала в бане мяуканье и писк.
Дарёна покоилась на соломенном ложе с подушками под спиной, усталая, но с тихим светом в затуманенных глазах, а с обеих сторон от неё впервые пробовали голос, расправляя лёгкие, новорождённые двойняшки. Дарёна посмотрела на одну дочку, на вторую, а потом перевела улыбающийся взгляд на Младу.
– Ну, где четверо – там и шестеро... Вдвоём кормить будем. Какую возьмёшь?
Младе хотелось схватить и прижать к себе обеих крошек, но... ладно, пусть будет одна кошка и одна дева.
– Даже не знаю, ладушка, – с мурлычущим смешком ответила она. – Они так похожи...
– Но от материнского молока будет зависеть, у кого из них вырастут коготки и хвост, – улыбнулась Берёзка, сидевшая подле Дарёны.
Млада снова всмотрелась в крошечные личики дочек. Одна малышка вдруг смолкла под её взглядом, а вторая продолжила кричать.
– А вот и наша будущая пушистая озорница, – сказала Берёзка. – Сама сделала выбор.
Она взяла ту из девочек, которая замолчала в ответ на внимательный взгляд родительницы-кошки, и вручила Младе.
– Твердяна, – сказала та, дохнув этим именем в лобик малышки. И спросила, переведя ласковый взгляд на её сестрицу, оставшуюся в объятиях супруги: – А свою как назовёшь?
– Вукмира, – ответила Дарёна с особенным, торжественно-светлым выражением в глазах.
Отзвук имён эхом птичьего крика взлетел к рассветному небу. Солнце, поднимаясь над землёй, озаряло четыре скалы, застывшие над Калиновым Мостом – четыре нерушимых столпа, на которых покоился мирный небосвод.
Человеческое сердце
Пронизанный солнечными лучами лес перезванивался птичьими голосами. С каждым шелестящим вздохом ветра перекатывались они, точно самоцветы, падали хрустально-звонкими каплями то здесь, то там: то близко, то в таинственной глубине чащи. Мягкие кожаные чуни Невзоры ступали по-звериному бесшумно, чуткое охотничье ухо улавливало все звуки; она читала лес, как открытую книгу, по мельчайшим приметам узнавая, что, где и когда случилось. Вот царапины на стволе: это медведь когти точил. А вот тут козочка лесная прошла – не позднее, чем сегодня утром. А это волчий след: серый хищник охотился тут минувшей ночью. Его жертвой пал заяц – от несчастного только уши и остались.
– Это что за птица? – настораживаясь, спросила Лада.
Она шагала следом за Невзорой с лукошком, наполовину полным спелой земляники. Длинная тёмная коса шелковисто блестела в лучах солнца, спускаясь ниже пояса, светлые глаза озаряли всё вокруг добрым, невинным сиянием. Темноволосая и темнобровая юная красавица ещё только входила в пору своего девичества, оставив позади детство. Его отсвет сохранялся только в её взоре, чистом и всегда чуть удивлённом.
– Это иволга, – ответила Невзора с усмешкой.
– А во-он там, вдали? – Лада, вытягивая лебединую шейку и весь свой тонкий стан, направила своё любопытство в глубину леса.
– Там – варакушка, – снисходительно-ласково сказала старшая сестра.
Невзора носила грубую льняную рубаху, подпоясанную кожаным ремнём, и портки из небелёного холста: так по лесу ходить сподручнее было. Её стройные, сильные голени обвивались онучами и ремешками чуней, а у бедра болталась сумка с лямкой через плечо – для разнообразных нужных мелочей. На поясе у неё красовался большой охотничий нож в прочном и добротно сделанном кожаном чехле. Нож этот она очень любила и берегла. Сестрица Лада была облачена по-девичьи – в длинную вышитую сорочку и душегрейку на меху.
– А ты всех-всех птиц по голосам различаешь? – с восхищением и уважением спросила она.
– Всех, какие живут в наших краях, – кивнула Невзора.
Присев на корточки, она привычно изучала рисунок следов на земле. Было их в семье шестеро: четыре брата и две сестры; трое старших, Выйбор, Гюрей да Вешняк, служили помощниками ловчего у градоначальника Островида, с милостивого разрешения которого они могли добывать зверя в этих лесах не только по службе, но и для своих нужд. Младшему, Прибыне, недавно исполнилось четырнадцать, и он помогал отцу в бортевом хозяйстве. Батюшка, Бакута Вячеславич, поставлял посаднику превосходный мёд; две обширные липовые рощи по берегам реки каждый год давали хорошие сборы, а уж как душисто цвели!.. Невзора же была охотницей и птицеловом, вот потому-то она и знала наперечёт все птичьи голоса. Пойманных пташек она продавала, а самых лучших брал Островид: он питал страсть к певчим созданиям и держал их у себя в хоромах в клетках, а когда те околевали, заменял новыми.
Не женское дело избрала для себя Невзора, и в семействе её занятия не одобрялись – впрочем, молчаливо. Нрав у девушки был крутой, упрямый и строптивый, с ней даже отец сладить не мог. Когда она ещё ребёнком просилась с братьями на охоту, те порой снисходительно брали её с собой, но ничему нарочно не учили. Она сама всё примечала и запоминала, всё схватывала. Владела она и луком, и капканы с силками умела ставить, а ещё у неё был дар подражать птичьим голосам, который она и стала использовать в ловле.
Вот и сейчас, когда они с Ладой устроились под деревом на отдых, она забавляла младшую сестрицу то соловьиными трелями, то сладким посвистом иных певчих птах.
– Невзорушка, как ты это делаешь?! – не переставляла изумляться Лада, пытаясь заглянуть ей в рот. – Ведь не отличить! Ни дать ни взять соловушка!..
– А вот, – хитро и загадочно посмеивалась та. И, воспользовавшись тем, что щёчка Лады была совсем близко, чмокнула её.
В её мрачноватой, непокорной и своевольной душе жила жаркая, неугасимая нежность... Сестрица разлеглась на прохладной траве, а Невзора, опираясь на локоть, устроилась рядом. Она то бросала Ладе в рот ягодки земляники, то щекотала её сорванным цветочком по лунно-округлым линиям скул и подбородка, то, приблизив лицо, ловила кожей и ноздрями исходящее от неё невинное тепло, а в душе что-то сжималось – то сладко, то неистово. Улыбка Лады грела жарче и ласковее солнца, и без неё Невзоре не дышалось, не жилось.
– Никому тебя не отдам, ты моя, – дышала она Ладе на ушко.
Та жмурилась, как котёнок, которого приласкали. Закинув Невзоре на шею лёгкое, тёплое полукольцо объятий, она ворковала:
– Я ни к кому и не хочу... Весь век бы свой с тобой прожила, Невзорушка.
«Чмок», – их уста кратко, но крепко соприкоснулись в поцелуе. Лада устроила темноволосую головку на плече сестры и задремала под умиротворяющие звуки леса, а Невзора хранила её сон, боясь потревожить даже дыханием. От родителей и братьев она держалась обособленно, не находя с их стороны понимания, а вот с младшенькой Ладушкой всё было иначе. Ладушка – радость, лучик солнечный, комочек тёплый... Сестрица хоть и росла красавицей, но хворь таилась у неё в груди, проявляя себя время от времени болью в сердце. Матушка сокрушалась о её доле: «Возьмёт ли тебя, немощную, в жёны кто-нибудь?» На Невзору Лугома Радинична уж рукой махнула: та даже косы не носила, то коротко обрезая волосы, то давая им отрасти самое большее по плечи. «Горе ты наше», – качала матушка головой.
– Ну, отчего ж сразу горе-то? – хмыкала Невзора. – Я вроде не обуза никому: охотой промышляю, от птиц какой-никакой, а доход есть. Не объела, не опила вас, не дармоедка.
– Ты на себя посмотри, – вздыхала матушка. – Ты же девица на выданье, да вот кто тебя замуж-то возьмёт такую...
– Больно оно мне надо, – только и отвечала Невзора, пренебрежительно фыркнув.
Это матушкино «замуж» изрядно набило ей оскомину. Ну, что она могла поделать? Не прельщала её эта доля... Гораздо больше любила Невзора бродить по лесу, выслеживать зверей и ловить птиц. Как будто жило в ней самой что-то хищное и дикое – какой-то внутренний зверь. И зверя этого Невзора определила бы как волка.
Лада дремала в её объятиях, а она не могла надышаться, налюбоваться. Было в этом чувстве что-то жадное, собственническое, яростное: от всех бед защитить, от всех людей укрыть, никому сестру не отдавать, ни с кем ею не делиться. И сестрица льнула к ней сызмальства – не судила, не упрекала, любила как есть. На эту чистую, светлую привязанность Невзора отвечала горячей, преданной волчьей страстью – возможно, чрезмерной, но она ничего не могла с собой поделать.
– Отчего ты так пристально смотришь на меня, Невзорушка? – пробудившись от сладкой солнечно-лесной дрёмы, спросила Лада. – Даже страшновато...
– Ничего, ничего, моя голубка. – Прикрыв веки, Невзора принялась по-звериному обнюхивать сестрёнку – её длинную шею, покрытые нежным пушком щёки, густой шёлк волос. – Спи, Ладушка, спи, ни о чём не думай, ничего не бойся. Пока я рядом, никто тебя не посмеет обидеть.
– Невзорушка... Ты – моя родная... Самая-самая, – промурлыкала Лада, снова погружаясь в сон.
Проспала она, впрочем, недолго – судя по передвижению тени от дерева, не более часа. Пробудившись, Лада сладко потянулась и сказала:
– Что-нибудь скушать бы...
– Сейчас, голубка, – тут же отозвалась Невзора.
В её сумке был припасён кусок пирога, а воду она всегда носила с собой в баклажке. Разрезав пирог на две части – себе поменьше, сестре побольше, Невзора не спешила вкушать свою долю – с лучиками ласковой усмешки любовалась, как Лада насыщается. Ела сестрёнка медленно, без жадности, отщипывая по крошке, как пташка, всё больше по сторонам глазела и щурилась от солнечного света, точно рада была хотя бы тому, что просто живёт на свете и дышит сейчас лесным воздухом. Всё на свете для неё Невзора сделала бы – всё, о чём бы Лада ни попросила. Луну бы с неба достала!.. Вот только просьбы сестрицы были редки и очень скромны.
А погода между тем начала портиться: набежали тучи, ветер зашумел сильно и тревожно, сумрачным стал лес и неприветливым... Лада опасливо жалась к сестре:
– Ох, ненастье нас застигло... Вымокнем до нитки!
– Не бойся, не вымокнем. – Невзора, быстро собирая остатки трапезы, спокойно оценивала время до дождя; по всему выходило, что успеют они добраться до укрытия. – Тут неподалёку зимовье есть, там и переждём.
Лесные домики встречались часто, каждые три-четыре версты, а уж шалашей понастроено – не счесть. Любил Островид охоту и держал целое ведомство по лесному хозяйству; оно-то и заботилось о том, чтобы в угодьях было достаточно укрытий на случай непогоды и просто для отдыха. Пришедшие в негодность шалаши заменяли новыми, а в домиках всегда имелся пополняемый запас дров, питьевой воды и кое-какой лёжкой снеди: крупы, сухарей, овощей и ягод сушёных, солонины, вяленого мяса и рыбы, орехов. Одним словом, дело было поставлено самым тщательным образом, и ведомственные люди ели свой хлеб не зря.
Сёстры успели как раз вовремя: едва они переступили порог домика, как хлынул ливень. Ох и захлестал он, заполоскал! Могучие потоки воды обрушивались на лес серебристой завесой, струились ручьями по окнам. Невзора досадливо хмурилась: без сомнения, водица земле нужна для плодородия, вот только грязь чавкала под ногами после дождя, да и следы все смывались – ничего не разберёшь потом. Впрочем, это касалось только старых следов, а свежие отпечатывались ещё лучше.
– Зябко, – поёжилась Лада.
– Сейчас затопим. – И Невзора захлопотала у печки.
Дров было вдоволь – ольховых, берёзовых и сосновых, а на растопку пошёл вишнёвый хворост, коего нашлась целая вязанка. Берёза давала жар, а сосна плакала смолой и щёлкала, распространяя горьковатый хвойный дух. Хорошо разгорелось пламя, трещало и гудело, плясали рыжие языки и отбрасывали тёплое сияние на лицо Лады, которая протянула руки к открытой топке. В крошечные мутные оконца проникало мало света, да и сумеречно стало снаружи из-за непогоды. В домике царил густой полумрак, в котором жарко горел печной огонь.
– Днём – как ночью, – тихонько проронила Лада.
Она тяготела к свету, а мрак её пугал и делал молчаливой, даже отблески пламени плясали в её задумчивых больших глазах как-то тревожно. А Невзора любила тьму: она будила в ней что-то звериное, клыкастое, жаждущее охоты. И крови... Тёплой, толчками вырывающейся из раны. Невзора даже пила её порой, и ей она казалась вкусной.
– Ничего, – сказала она, обнимая сестрицу за плечи ласково-защитным движением. – Ненастье не будет вечным, уйдёт, никуда не денется. Проглянет и солнышко...
Ливень потерял свою силу довольно скоро, поредел и поутих, но тучи расходиться не спешили. Сёстры забрались на печную лежанку и устроились рядышком на набитом душистыми травами тюфяке. Невзора от нечего делать выстругивала из небольшой деревянной чурочки звериную фигурку, а Лада, положив подбородок на руки, смотрела, как из-под ножа падали кучерявые золотистые стружки.
– А это кто будет? – полюбопытствовала она.
– Волка хочу вырезать, – ответила Невзора.
– Сделай лучше оленёночка, – попросила сестрица. – А волки... Да ну их!
– Из этой деревяшки уже оленёночек не выйдет, – усмехнулась Невзора. – Я из другой вырежу тогда. Потом.
Закончив, она поставила фигурку на край лежанки. Жутковатый вышел зверь, особенно морда – страшная и свирепая, с кровожадным оскалом. Приглядевшись, Невзора сама удивилась: а ведь это Марушин пёс получился...
– Страхолюдина какой, – проговорила Лада, косясь на деревянного волка с опаской.
– Сейчас сделаю тебе оленёночка, не горюй, – хмыкнула Невзора.
Она бесшумно спрыгнула на пол, нашла другую чурочку и залезла опять на своё место. Нож вгрызался в сухое дерево, отщеплял его по кусочку, сперва придавая ему лишь грубые очертания, но постепенно проступали узнаваемые мелочи: голова, большие чуткие уши, задранный вверх хвост, изящные голенастые ножки с копытцами.
– Ой, олешек, олешек! – радовалась Лада.
– Держи, – вручила ей старшая сестра готовую фигурку.
Дождь к этому времени кончился: сквозь серую завесу туч уже синели окошки небесной лазури, а мокрая трава блестела в лучах солнца. Долго плакало небо, а теперь заулыбалось – неуверенно, робко, как бы сомневаясь: а не разрыдаться ли опять?.. Нет, не разразилось оно больше слезами, солнышко пригревало уже совсем победоносно и щедро. Сёстры подождали, когда дрова прогорят, после чего вышли из домика. Воздух был горячий и влажный, как в парилке.
– Ну что, лукошко добирать будем или домой пойдём? – спросила Невзора.
– Добрать надо, – решила Лада. – Немножко совсем осталось.
Пока они бродили в поисках земляничной полянки, Лада начала выказывать признаки утомления. Её лицо посерело, погрустнело, она медленно шла и часто поскальзывалась. Невзора подыскала для неё толстую берёзовую ветку и вручила в качестве посоха.
– Всё полегче будет идти, – сказала она.
Но лукошко они так и не добрали: с тихим «ах!» Лада остановилась, побледнев и прижав руку к груди.
– Что, голубка? Больно опять? – кинулась к ней Невзора.
– Сейчас пройдёт, – сдавленно выдохнула сестрица.
И присесть-то было негде, как назло! Кругом сыро и скользко, ни одного пенька или поваленного дерева поблизости... Но Невзора придумала выход: встав на одно колено, она усадила Ладу на другое, бережно придерживая в объятиях.
– Отдохни, Ладушка.
Сестра измученно сникла, обхватив её за плечи, а Невзора всем своим окаменевшим от тревоги нутром ждала перемен к лучшему. В такие мгновения душу точно ледяной панцирь сдавливал, а под рёбрами щекотало тошнотворно-горькое ощущение собственного бессилия. Ничего Невзора не могла сделать с этой хворью, только стискивала Ладу изо всех сил, как будто объятия могли её спасти... Она уже не чувствовала затёкших ног, но это не имело значения.
– Ну что, голубка, полегче тебе?.. – спросила Невзора хрипло.
Та открыла глаза, угасшие и затуманенные дурнотой.
– Чуточку... Боль стихла, но сил идти нет совсем, – еле слышно выдохнула она.
Долго не раздумывая, Невзора повесила лукошко себе на локоть, а сестрицу понесла на руках. Выносливости ей было не занимать, она дошла бы так и до самого дома, но им попался по пути шалаш, сложенный из прочных жердей и укрытый еловым лапником.
– О, сухое местечко! Давай-ка передышку сделаем. – И Невзора устремилась к укрытию.
Шалаш был сделан толково и на совесть, так что вода внутрь не затекала. Землю под еловой кровлей выстилал слой сена; на нём Невзора и расположила Ладу на отдых, уложив её голову к себе на колени. Сестрёнка сжимала в руке деревянного оленёнка... Только сейчас Невзоре вспомнилось, что волчья фигурка осталась в домике на печной лежанке. Может, и к лучшему: уж очень страшным получился тот зверь и Ладе явно не нравился. К Марушиным псам в их семье относились со страхом и неприязнью: и отца, и деда Бакуты Вячеславича задрали оборотни. Дабы обезопасить себя и родных, батюшка держал в доме небольшой запас запрещённой яснень-травы, а когда отправлялся в липовые рощи вынимать мёд из колод, вешал на шею крошечный узелок с щепотью её сушёных цветков. Сыновей он тоже заставлял брать с собой такие узелки, хотя те порой отказывались: «Опасно, батюшка, начальство может заметить и властям доложить. И тогда не сносить нам головы!» Впрочем, днём оборотней можно было не слишком-то опасаться: их глаза плохо переносили яркий свет. Остерегаться следовало с наступлением темноты, и Невзоре не раз попадало от родителя, когда ей случалось возвращаться из леса в сумерках. «Делай, что хочешь, а домой приходи засветло! – без устали твердил он. – Эти твари – ночные охотники. Берегись, коли не хочешь повторить судьбу твоего деда и прадеда!» Оборотней Невзоре доводилось видеть несколько раз издали. Но ей везло: они отчего-то обходили её стороной, лишь холодно мерцали из сумрака жёлтыми колючими огоньками глаз. Бесшабашное любопытство порой одолевало молодую охотницу, хотелось ей подобраться к псам поближе, но она чувствовала, что всё же лучше не будить лихо. И не потому что боялась, нет. Она не испытывала перед этими созданиями того тягучего животного страха, от которого крутит кишки и отнимаются ноги; скорее, Невзорой руководили осторожность и благоразумие, она должна была жить – ради Лады.
– Ну, как ты, родная моя? – спросила Невзора, склоняясь над сестрицей. – Может, водицы хочешь испить?
Лада сделала несколько глотков из фляжки, Невзора также промочила пересохшее от тревоги горло. Шея, спина и плечи ныли от мучительного напряжения; казалось, в её теле не осталось ни одной расслабленной мышцы. Понимая, что от этого сестре лучше не станет, Невзора попыталась скинуть с себя этот панцирь, успокоиться немного. Вдох, выдох... Медленно, плавно дыша, она то чуть напрягала плечи, то отпускала натугу, слегка тянула шею наклонами головы в стороны. И в самом деле потихоньку легчало – по крайней мере, хребет уже не ныл.
– Ягодка, пташка, радость моя, – приговаривала она, лёгкими касаниями пальцев лаская волосы Лады. – Не раскисай, сестрёнка... Проси лес-батюшку да землю-матушку дать тебе сил, они обязательно помогут. Я всегда так делаю, когда мне худо.
Губы Лады чуть дрогнули, и слабая улыбка согрела сердце Невзоры лучиком надежды.
– Я попробую, сестрица, – прошептала девушка чуть слышно.
Снова перекликались птицы, мягко шуршал умытой листвой летучий ветер, и день безоблачно сиял, как будто и не было недавней непогоды. Прошло немало времени, покуда Лада смогла наконец приподняться и сесть; после таких приступов её всегда долго мучила слабость, и ей нужно было отлежаться дня два-три. Но не оставаться же до утра в лесном шалаше! Снова повесив лукошко на локоть, Невзора подняла сестрицу на руки и зашагала с нею в сторону дома.
Жили они на обособленном хуторе в двух часах пешей ходьбы от города Гудка. Хозяйство у них было крепкое, зажиточное, с большим огородом, плодовым садом и скотным двором; помногу сеяли они и жито, и на время полевых работ начальство отпускало старших братьев со службы в охотничье-лесном ведомстве. Выйбор недавно привёл в дом молодую жену, и они ждали первенца; Гюрей с Вешняком покуда ходили в холостяках, а младший Прибыня в лета покуда не вошёл. Заохала матушка, увидев Ладу на руках у Невзоры:
– Ох, опять прихватило?.. Говорила ж я вам: не ходите далече!..
Ладу уложили в постель. От огорчения матушка на ягоды даже не глянула, но Невзора кивнула на лукошко на столе:
– Землянику вон принесли мы...
– Ох, да пропала б она пропадом! – расстроенно махнула рукой Лугома Радинична. – Стоило ли ради неё так надрываться-то?
Что Невзора могла ответить? Ну, хотелось Ладе сходить по ягоды, не сидеть же ей целыми днями дома. Её и так по хозяйству старались не нагружать, ничего тяжёлого подымать не давали, берегли, тряслись над нею, от всего ограждали, даже беременная Добрешка и то больше по дому делала. Но Выйборова жена – здоровая и крепкая молодка, а Ладушка – хрупкий болезненный цветочек. И всё равно сестрёнка рвалась в лесу погулять, лицо поцелуям солнышка подставить, птиц послушать...
– В своём саду гуляла бы! И там тоже солнышко да пташки, – перебирая землянику, сказала матушка.
– Сад – одно, а лес – совсем другое, – попыталась объяснить Невзора, но родительница только отмахнулась.
Из половины ягод они с Добрешкой испекли пироги, а другую половину смешали с мёдом и поставили в погреб до зимы: будет чем в мороз полакомиться. Глядя, как невестка налегает на тесто сильными руками в закатанных до локтей рукавах, на её широкую, как лошадиный круп, поясницу, Невзора невольно думала: «Такую и в плуг впрячь – потянет». Ядрёную девицу выбрал себе в супруги брат, она и с животом ничуть не хуже с домашними делами управлялась, ни на какие недомогания не жаловалась, а кушала, как трое дюжих мужиков-работяг. Лицо у неё было тоже широкое, простецкой и грубоватой лепки, а нрав – не сказать чтоб совсем покладистый, при необходимости стоять на своём она умела, но делала это с непоколебимым спокойствием. Казалось, чувства у неё вовсе отсутствовали, или она искусно умела их прятать. Смеялась она не в голос – так, усмехалась слегка, в слезах её тоже никто никогда не видел, а чаще всего на её лице пребывало задумчивое и терпеливое выражение. На мир она смотрела сквозь золотистые, по-коровьи длинные щёточки ресниц.
К обеду вернулись домой батюшка с Прибыней. Бакута Вячеславич, степенный, широкоплечий, с окладистой, раздваивающейся книзу чёрной бородой, умылся и присел на лавку отдохнуть. Прибыня, тонкий и нескладный, брал с отца пример, только степенность в его исполнении смотрелась весьма потешно. Казалось, будто он передразнивал родителя, повторяя за ним движения. Батюшка плескал в лицо воду и фыркал – и Прибыня делал то же; батюшка неспешно опустился на лавку, уперев руки в крепкие колени – и сын уселся рядышком, вот только руки у него были тонкие, как спички, а ноги – длинные и голенастые, аистиные.
– У Ладушки опять приступ был, – незамедлительно сообщила главе семейства матушка.
Бакута Вячеславич выслушал эту новость, насупил угрюмые кустистые брови, вздохнул и откашлялся. А матушка добавила:
– Это Невзора её далёко в лес потащила по ягоды... Ну какой ей лес – с её-то сердцем?! В саду гуляла б – и ладно. Так нет же – надо непременно куда подальше переться!.. А я говорила им, говорила!.. Так кто ж меня послушает...
Батюшка слушал её сетования молча, не вставляя никаких замечаний. Ничего не ответил он и после, когда матушка смолкла. Та, не дождавшись от него каких-либо слов, воздела руки:
– Ну, что молчишь, отец? Скажи ей!
– Кхем, – опять откашлялся Бакута Вячеславич. – А что я ей должон сказать-то?
– Чтоб в лес больше не ходили... – Матушка сердито стучала посудой, накрывая на стол. Видно, она ожидала от батюшки большего.
– И что будет, ежели я скажу? – хмыкнул тот. – Кхем-кхем-м!.. Как будто в этом доме моё слово что-нибудь значит!
Это был камень в огород Невзоры – за своеволие её. Сыновей батюшка в детстве, бывало, сёк, а на дочек рука не поднималась. Однажды он, правда, попробовал Невзору наказать телесно, но она из дому сбежала – насилу нашли через три дня на соседнем хуторе. Шесть лет тогда ей было, и с тех пор в ней поселился этот зверёныш – свободолюбивый, нелюдимый, злой. А матушка хоть и не приложила тогда руку, но и не защитила. Оборвалась в душе Невзоры какая-то тёплая, доверчивая струнка – и к матери, и к отцу; так и росла волчонком, вечно настороженным и отчуждённым. Ладу никто и никогда не наказывал, да и не за что было, но если б кто-то попытался, Невзора собственными зубами отгрызла бы ему руку.
Братья обедали на службе, поэтому семья уселась к столу без них. Батюшка хвалил пироги земляничные – большие и широкие, как лапти, и по-летнему щемяще-душистые. Лада оставалась в постели, и Невзора после обеда сама отнесла ей пирожок и миску киселя с молоком.
– Ох, не осилить мне столько, – улыбнулась та, всё ещё бледная и слабая, но при виде старшей сестры сразу ожившая.
– Скушай, сколько сможешь, – сказала Невзора, присаживаясь на край постели. – Дивные пирожки из нашей земляники вышли, попробуй!
Сестрица одолела только половину пирожка и несколько ложек киселя, остальное доела Невзора. Поникшим цветком опустилась голова Лады назад на подушку, веки устало сомкнулись, и сердце Невзоры рвалось в клочья, а внутренний зверь выл от тоски. Невыносимо ей было видеть Ладушку слабой и больной – до того, что свет мерк перед глазами. И радость не в радость, и трава не зелена, и небо с овчинку, и солнце – с луну...
– Поправляйся поскорее, родная моя, – шепнула Невзора, склоняясь над её ушком и пропуская меж пальцев лёгкие, пушистые пряди волос. – Когда ты хвораешь, и мне белый свет не мил...
Лада, приоткрыв глаза и мерцая сквозь ресницы усталым, но ласковым взором, попросила:
– А посвищи соловушкой... Не наслушалась я пташек, пока мы в лесу были, мало мне...
Каких угодно птиц Невзора была готова изображать, лишь бы потешить сестрёнку и увидеть улыбку на её устах, сейчас немного побледневших. И соловьём она заливалась, и славкой, и малиновкой, и голос овсянки показывала, и зяблика, и чижика пересмешничала... Если закрыть глаза, то чудилось, будто они снова в лесу очутились. Лада слушала с тихим, самоуглублённым наслаждением, и уголки её губ приподнимались в блаженстве. Так она и уснула под птичьи песни, а Невзора, ещё немного посидев около неё, потихоньку удалилась.
К вечеру пришли братья. Все дети у Бакуты Вячеславича в него уродились – темноволосыми, но с пронзительно-светлыми глазами. Старший, Выйбор, поклонившись батюшке с матушкой, сразу устремился к жене, заговорил с ней ласково и тихо, и на маловыразительном, бесстрастно-спокойном лице Добрешки проступило что-то вроде ответной улыбки. Среди шести её сестёр были девушки и покрасивее, и поизящнее, и более живого и весёлого нрава, но Выйбору почему-то приглянулась именно она – дебелая и ширококостая, с большими, как у мужчины, рабочими руками. Труженица она была дюжая и неутомимая – горы могла своротить, а уж когда тесто месила, стол жалобно трещал под нажимом. Могутностью своей она напоминала рабочую лошадь-тяжеловоза. Да и выражением лица тоже.
Второй по старшинству брат, Гюрей, был крепок, но сутуловат и отчаянно дурён собой, с крупной, шишковатой головой. Угрюмовато-тревожное его лицо казалось наспех скроенным из частей лиц совершенно разных людей – нос от одного, лоб от другого, подбородок от третьего. Да и телом его природа наделила не ладным, несуразно сложенным: ноги относительно туловища – короткие, с косолапыми ступнями, зато руки – непомерно длинные и могучие. В широких мускулистых плечах таилась большая сила, а чуть горбатый загривок делал его похожим на дикого быка – зубра. Сходство с этим зверем дополняла и клиновидная негустая бородка, а верхняя губа у него была почти безволосой от природы. Из-за некрасивой наружности успехом у девиц Гюрей не пользовался, а нравом отличался обидчивым, замкнутым и диковатым, причудливым. Проявлялась в нём нередко склонность к насилию: в самом невинном слове мог Гюрей усмотреть выпад в свою сторону и кинуться в драку. Отца с матерью он приветствовал неуклюжим полукивком-полупоклоном, словно его бычья шея не гнулась совсем, и присел к дальнему углу стола.
– Скушай пирожка, Гюреюшка, – молвила матушка, подвигая к нему блюдо.
Широким ртом тот отхватил сразу половину и принялся шумно жевать, а родительница поглаживала его вихрастый, лохматый затылок. Она вечно старалась дать ему больше ласки, подкормить, подсунуть кусочек повкуснее, но было в этой заботе что-то жалостливое, матушка как будто пыталась возместить ему недостаток доброты, коей от прочих людей Гюрею перепадало мало.
Третьему брату, Вешняку, повезло родиться ладным и пригожим, и у него с девушками всё обстояло ровно наоборот. Его приятное, открытое и весёлое лицо привлекало людей, он хорошо пел и плясал, а потому на гуляньях молодёжи был первым парнем – девицы так и льнули, так и вешались ему на шею, а он и рад. С женитьбой он, к слову, не спешил – говорил, что не нагулялся ещё. Поклонившись отцу и поцеловав матушку, уселся он на своё обычное место. За столом он ёрзал, точно шило у него в одном месте сидело; много говорил, рассказывал, как прошёл день, что случилось забавного или любопытного. Заметив отсутствие младшей сестрёнки, он спросил:
– А где Ладушка, отчего не выходит?
– Прихворнула она опять, – ответила матушка.
– Ай-яй-яй, – покачал Вешняк головой. – Худо это...
С Ладой он был ласков, шутил с нею и смеялся, но, как Невзоре казалось, любил её как-то поверхностно. Не было в его привязанности той глубины и страсти, которыми отличались её собственные чувства. Впрочем, некоторое легкомыслие проявлялось у брата во всём – и в отношении к жизни в целом. Участие он проявил тоже не очень-то уместным образом, только побеспокоив заснувшую Ладу. Невзора на выходе из опочивальни наказала брата болезненным щипком и прошипела на ухо:
– Ну куда ты лезешь? Ей покой надобен!
Она была готова охранять сестрёнку, как верный пёс-страж, от всех и вся – даже от матушки, которая слишком часто заглядывала, чем нарушала хрупкую дрёму Лады.
– Да я только поглядеть, дышит ли она хоть, – оправдывалась родительница.
Лада хворала три дня, и всё это время Невзора гнала от неё всех домашних. Только она сама лучше знала, что и как сестрёнке нужно, когда следует побыть с нею, а когда – не тревожить. Она улавливала всё это внутренним чутьём, тонкой незримой стрункой, протянувшейся между их душами, и никогда не ошибалась.
На четвёртый день сестрице полегчало, и она стала потихоньку вставать. У Невзоры немного отлегло от сердца, и она смогла отправиться на промысел. Удача ей сопутствовала, и к обеду в клетках пищали восемь пернатых певцов. С птахами Невзора обращалась бережно, они сразу затихали у неё в руках, только сердчишки колотились под пёрышками... Вскинув на плечо жердь с привязанными к ней клетками, она со своим уловом направилась в Гудок.
Там она первым делом наведалась к градоначальнику. Её впустили в богатые хоромы с золотыми узорами на стенах; сам Островид, осанистый, с начинающими седеть подкрученными усами и расчёсанной бородой, вышел посмотреть, кого ему на сей раз принесли.
– Ах вы, мои хорошие, ути-пути, – заулыбался, засюсюкал глава города, склоняясь к клеткам и постукивая согнутым пальцем по прутьям, чем до полусмерти перепугал всех птах. – Ух, хор-р-рошие! Ух, славные! Всех беру. Сколько за них хочешь?
– По две серебряных белки за одну птицу, – ответила Невзора.
– Это что ж получается – две куны и четыре белки? – подсчитал Островид, поглаживая седоватые усы. – Хм, дороговато. А может, подешевле уступишь?
– Так ведь сам знаешь, батюшка Островид Жирославич: дорога не птица, дороги труды и умение её изловить, – со сдержанным поклоном возразила охотница.
Такой торг у них происходил каждый раз. Градоначальник пытался сбить цену хоть на четверть белки, хоть на осьмушку, но Невзора спокойно стояла на своём. Она знала: даже если высокопоставленный покупатель откажется, она всё равно продаст улов на рынке. Но Островид чаще всего соглашался платить полную цену: уж очень любил он певчих созданий, в его хоромах целая комната была отведена для них. Вот и сейчас он сдался, махнул рукой, и слуга поднёс ему кошелёк. Глава города отсчитал деньги и величаво высыпал в ладонь Невзоры.
– Грабишь ты меня, ох, грабишь! – воскликнул он, качая головой.
Невзора осторожно пересадила птиц в две новые, ещё пустые клетки, стоявшие на покрытом бархатной скатертью столике. Хорошие – просторные, с множеством качающихся жёрдочек, с кормушками и поилками. Большая, светлая комната была наполнена птичьим свистом и чириканьем – оглохнуть можно. Клетки располагались на столиках, на полках, а также свисали с потолка; тут же цвели заморские растения в горшках и кадках, а приставленный к этому хозяйству слуга поливал их и опрыскивал водой листья. Потолок у этих покоев был прозрачный, чтобы к зелёным питомцам проникало больше света.
Побродив по торговым рядам, Невзора купила для сестрицы гостинцы: ожерелье из яшмы, гребешок костяной с янтарём, дюжину ленточек цветных, набор ниток для вышивки, ну и, конечно же, лакомство – пряников сладких с ягодно-медовой начинкой. На всё это она потратила половину своей выручки, а оставшиеся деньги собиралась отдать матушке.
Ловлю она закончила к обеду, два часа потратила на дорогу в город, сколько-то времени пришлось ожидать приёма у градоначальника, потом по рынку гуляла – так и вышло, что возвращаться домой ей пришлось поздновато. Начало смеркаться, ветер нежно дышал прохладой, лениво колыхались и атласно шелестели ветви деревьев, а ясное небо улыбалось чистым, сонным покоем. Даже мысли не возникало, что в такой прекрасный мирный вечер могла случиться беда, и Невзора шагала, с улыбкой представляя себе, как Ладушка обрадуется подаркам. Шла она споро и бодро, изрядно поспешая: сумерки наваливались на землю быстро – не успеешь оглянуться, как уж ночь настала.
Колючие жёлтые огоньки глаз мелькнули за стволами, заставив внутреннего зверя Невзоры насторожиться. Она продолжала двигаться, не сбавляя шага, но пружинистое напряжение готовности охватило её плечи и спину, походка стала мягче и стремительнее. Охотница знала: бежать бесполезно, оборотень нагонит даже самого быстроногого человека в три прыжка. Ей оставалось только сохранять невозмутимость и надеяться, что Марушин пёс пройдёт мимо, как часто и случалось при таких встречах.
Но её надежда, похоже, на сей раз не оправдывалась: два огонька не только не исчезали в лесной чаще, но и приближались. Смертельный холодок коснулся лопаток Невзоры, и она положила ладонь на рукоятку своего охотничьего ножа, готовясь при необходимости выхватить его из чехла. Возможно, это и стало роковой ошибкой. Нападение, по-видимому, не входило в намерения оборотня, он подошёл просто из любопытства, но движение Невзоры воспринял как угрозу. В сумерках сверкнули огромные – больше медвежьих! – клыки, и охотница оказалась придавлена к земле тяжёлой мохнатой тушей. Руку с ножом она успела откинуть, но удар нанести из такого положения нечего было и пытаться: не осталось ни возможности, ни пространства для замаха. «Ладушка, – стучало из последних сил сердце. – Что же будет с тобой, если я сегодня не вернусь домой?» Зверь хрипел и рычал, вознамерившись, видно, раздавить Невзору в лепёшку под своим весом, но слева на него наскочил другой оборотень – помельче размером и с шерстью более светлого оттенка. «Волчица», – мелькнуло в голове Невзоры. Толчок был такой силы, что первый оборотень не удержался на месте и откатился, но его клыки успели до крови зацепить руку Невзоры.
Она не сразу заметила свою рану: её взгляд был прикован к стычке двух Марушиных псов. Волчица яростно налетала грудью на огромного самца, а тот даже толком не оборонялся, только пытался увернуться. А через мгновение на его лохматые бока и сутулую спину обрушился град ударов, наносимых человеческими кулаками. Уже не волчица, а стройная нагая женщина, окутанная только плащом светло-русых волос, мутузила зверя и кричала:
– Что ты наделал, Борзута! Что ты натворил! Дурень... Дурень! Перекинься! Перекинься сейчас же, чтоб она видела, что мы – люди! – И женщина, обернув к Невзоре красивое, отчаянное лицо, влажно сверкнула серовато-зелёными выпуклыми глазами: – Люди мы, ты видишь?
Марушин пёс перекувырнулся по траве и поднялся на ноги ладным и статным молодцем с тёмными кудрями и голубыми глазами. Косая сажень в плечах, могучая мускулистая шея, узкая талия и длинные, сильные ноги – красивый парень. Одёжи на нём было не более, чем на женщине-оборотне – то есть, ни клочка.
– Дык она ж первая за нож схватилась, – сказал он в своё оправдание, насупившись.
– И много вреда она нанесла бы тебе тем ножом? Дурак... дубина! Вот что ты наделал, а?! – И женщина отвесила молодцу затрещину, а тот виновато съёжился, прикрывая голову руками. – У тебя матушка с батюшкой остались по тебе плакать, у меня – детушки, а у неё – сестрица! Доколе горе будет плодиться и множиться? Доколе слёзы будут литься?
– Да я не хотел... Она сама, – пробурчал парень, смиренно перенося тумаки и тычки.
– «Сама»! Дурак безмозглый! Уйди с глаз моих, пень безголовый! – И женщина, отвесив парню последнюю оплеуху, отошла к дереву, чтоб перевести дух. Её плечи вздрагивали.
Оборотень некоторое время переводил угрюмый взгляд с неё на Невзору и обратно, потом тяжко вздохнул и бесшумно исчез за деревьями. Незнакомка, совладав с собой, утёрла глаза и присела возле охотницы. Её золотистые волосы густым водопадом окутывали её, спускаясь ниже пояса. Хороша она была: изящна, как длинноногая лань, и сильна, как волчица, но в больших светлых очах застыла неизбывная, неутолимая печаль. Они казались вечно плачущими, даже когда ни единой слезинки не висело на длинных загнутых ресницах. А может, такое впечатление создавал жалобный изгиб её бровей.
– Задел он тебя, – глухо молвила она, когтистыми пальцами дотрагиваясь до глубокой кровавой борозды, оставшейся на предплечье Невзоры. – Ничего уж теперь не сделаешь...
До охотницы не сразу дошло, чем эта царапина чревата. Её сейчас гораздо более удивляло другое:
– Откуда ты знаешь про мою сестрицу? Ты её раньше видела?
Женщина-оборотень изогнула губы в горьковатой улыбке.
– Раньше – нет. Сейчас увидела, в глазах твоих, когда Борзута на тебя напал. И в душе твоей любовь твою прочла...
– Мне домой надобно, – встрепенулась Невзора, подбирая свой мешок с подарками. – Я же для Ладушки столько всего купила!..
Рука женщины-оборотня опустилась на её плечо и сдавила его крепко, а в глазах влажно мерцала горечь.
– Нельзя тебе домой, – покачала она головой. – Ты ещё не поняла, что с тобой случилось? На царапину свою посмотри!
Ледяной змеёй обвилось вокруг сердца осознание произошедшего... Эта кровавая полоска провела черту в жизни Невзоры, отделив человеческое прошлое от будущего в зверином обличье, обещавшего ей мало хорошего. Она застыла каменным изваянием, а лес печально вздыхал о её судьбе, и в чистом небе чудилась скорбь... Так вот отчего так тих, так торжественно прекрасен был этот вечер! Последний вечер её человеческого бытия.
– Я должна повидать сестрицу, – процедила Невзора, не узнав собственного голоса, прозвучавшего глухо и низко, безжизненно. – И отдать ей подарки...
Женщина-оборотень снова покачала головой, глядя на охотницу с глубокой печалью.
– У тебя осталось три дня в человеческом облике. Через три дня ты станешь Марушиным псом. Ты ведь не хочешь, чтоб это случилось на глазах у твоих родных? Не стоит тебе идти домой, поверь мне...
Невзора закусила губы до крови. Слёз не было, но душа стонала и корчилась в ледяном пламени, кричала без голоса, и не могли утешить её старые мудрые деревья вокруг, повидавшие немало на своём веку. Лес мог лишь стать её домом, и это было не худшее из пристанищ. Невзора любила лес. Но сердце её рвалось к сестрице...
– Я должна увидеть Ладушку хотя бы в последний раз, – повторила она, сжимая горловину мешка с гостинцами.
– Ты можешь с ней повидаться, но покинуть дом тебе лучше как можно скорее, – вздохнула женщина-оборотень. – Я подожду тебя на окраине леса. Сходи домой и сразу возвращайся.
Невзора поднялась на ноги и сделала несколько шагов, но остановилась.
– Я даже имени твоего не спросила, – сказала она.
– Размирой меня зовут, – ответила новая знакомая.
– А я – Невзора, – кивнула охотница.
Она замотала рану платком. Рукав прикрывал повязку – может, никто ничего и не заметит... Уйти придётся без объяснений, потому что не находилось слов в её помертвевшей душе. «Матушка, батюшка, я скоро превращусь в Марушиного пса, прощайте. Больше мы не свидимся». Немыслимо. А Лада? Как сказать ей?.. Очевидно, тоже никак.
Дорога домой тянулась целую вечность – сквозь сумрак, шелестящую лесную тоску и бессилие. Невзоре приходилось заставлять себя идти, каждый шаг отзывался глухой болью в груди. Рана под повязкой давала о себе знать жарким биением, а зверя внутри Невзоры будто лихорадка трясла. Клацали зубы, щетинилась шерсть, ноздри раздувались, тяжёлое дыхание вырывалось из пасти... А ведь ничего, по сути, не поменялось: сколько она себя помнила, зверь всегда жил в ней. Сначала волчонок, потом волк, а теперь в ней ворочалось и росло огромное чудовище, едва ли не разрывая человеческую оболочку.
Порог дома Невзора переступила уже в густо-синих сумерках. Ужин прошёл без неё: матушка с Добрешкой уже убирали со стола, а Вешняк перебирал гусельные струны. Хорошим он был певцом, много песен знал, а также складывал свои собственные; семья любила слушать его вечерами – какое-никакое, а развлечение. А чем ещё заняться, когда дневные труды окончены? Иногда Вешняка сменял Выйбор – тот сказки рассказывал. Уже служа в лесном ведомстве, выучился он грамоте и прочёл несколько книг; среди них-то и оказался сборник сказаний разных земель, а так как память у брата отличалась крайней цепкостью, то он её содержание с одного прочтения и запомнил почти слово в слово. Порой пересказывал он сказки, как в книге писано, а иногда его воображение отправлялось в буйный полёт, и он такого мог насочинять, что старый рассказ шёл за новый.
– Сколько раз тебе говорено было: возвращайся засветло, – проворчал Бакута Вячеславич, когда Невзора вошла в горницу.
– Так уж вышло, батюшка, что задержаться пришлось, – проронила та.
Она старалась держаться как обычно, но то ли голос её выдавал, тихий и глуховато-печальный, то ли в лице что-то изменилось, а может, и всё вместе. Как бы то ни было, отец, глянув на неё, нахмурился.
– Чего ты? – спросил он, пронизывая её пристальным взором.
– Ничего, батюшка, – негромко отозвалась охотница, стараясь говорить спокойно и ровно. – Ловля удачная была. Я нынче с выручкой и с подарками для Ладушки.
Деньги она отдала матушке, и та припрятала их в кубышку. А Лада, завидев подарки, вся засияла, заулыбалась; ожерелье тут же примерила, ленточками со смехом обмоталась, гребешком залюбовалась, ниткам тоже обрадовалась:
– Как раз вовремя, а то у меня уж вышивать нечем. Благодарю тебя, сестрица!
Разломив один пряник, половинку она протянула Невзоре:
– Раздели его со мною, Невзорушка! Одной-то не сладко есть.
Та смогла надкусить лишь самую крошку: в сухой горечи горла всё застревало – и пища, и слова. Лишь смотреть на сестрицу она могла – жадным, неподвижно горящим взором, словно бы желая запечатлеть в памяти её милый образ. Подошла полакомиться пряничком и матушка, но до рта его не донесла.
– Невзора, ты чего это? На тебе прямо лица нет... Ты не захворала часом, а?
«Надо как-то взять себя в руки», – подумалось той, а вслух она ответила сквозь дрожь кривоватой улыбки:
– Да ничего, матушка. Утомилась просто нынче, вот и всё.
Пришлось выйти в сумрачный сад – на воздух. Вот они, родные яблони и груши, вот стройные вишни, вот дорожки, по которым столько раз ступали ножки сестрицы... Невзора даже не подозревала раньше, как дорого всё это ей было, и как надрывно больно расставаться с этим уголком, где всё пропитывал Ладушкин дух, свет её присутствия, тепло её улыбки. Зверь выл в ней, задрав морду к тёмному небу, и его плач разносился над засыпающей землёй тоскливым эхом. Обняв яблоневый ствол и прильнув щекой к шершавой коре, Невзора зажмурилась. Где-то под веками щипало, в горле нестерпимо саднило, но не рыдалось ей, душа застыла комком горькой соли.
– Невзорушка, – ласковым ветерком коснулся её слуха голос сестрицы. – И впрямь, что с тобою сегодня? Ты как будто сама не своя...
Лада прильнула, обняла, и Невзора стиснула зубы, чтобы не завыть вслух. Пухово-лёгкие объятия сестрёнки душу вынимали из неё заживо – неужто последние, прощальные?!.. Рыкнув, она сама жадно сгребла Ладу и притиснула к своей груди.
– Ничего не могу тебе сказать, родная моя, – прохрипела она, прижимаясь щекой к тёплой щёчке сестрицы. – Просто знай: нет у меня на свете никого дороже тебя! Ты – свет очей моих, сердце сердца моего и душа души моей. Ты – вся жизнь моя...
– Отчего ты так говоришь, Невзорушка? – беспокоилась Лада, мерцая в сумерках тревожными искорками в глазах. – Никогда я прежде тебя такой не видела, и голос твой, как струна, рвётся... Беду моё сердце чует, ох, беду горькую! Скажи, что случилось, что стряслось?
Горло Невзоры, точно мягкой, но сильной лапой стиснутое, не могло выдавить ни слова. Под повязкой пекло, стучало и ныло, будто тысячи мелких тварей крошечными зубками глодали ей руку. А Лада вдруг прошептала то ли со страхом, то ли с удивлением:
– Невзорушка, у тебя глаза светятся...
«Неужто началось уже превращение? – ёкнуло, похолодело сердце. – Не рано ли? Ведь Размира сказала – три дня...»
– Ладушка, иди-ка к себе в опочивальню, – раздался голос отца. – Мне с твоей сестрицей парой слов перемолвиться надобно.
Лада обернулась растерянно, пролепетала:
– Батюшка, но я...
– Иди, кому говорят, – сказал Бакута Вячеславич сурово, с нажимом.
Взяв дочь за плечи, он мягко, но непреклонно спровадил её в сторону дома. Лада, уходя, ещё несколько раз оборачивалась, и сердце Невзоры рвалось следом за ней, обливаясь солёным – то ли кровью, то ли слезами. Когда сестрица исчезла за дверью, отец повернулся к Невзоре и долго, тяжело молчал.
– Там то, о чём я думаю? – спросил он наконец, взяв и приподняв её перевязанную руку.
Смысла отпираться не было. Мертвящий холодок ложился на душу, охватывал губы вязкой бесчувственностью, и они едва повиновались охотнице.
– Да. Через три дня я стану оборотнем. Я пришла только для того, чтоб вас всех в последний раз увидеть.
Глаз отца было почти не видно под насупленными бровями. Он невыносимо долго молчал, понурив голову, и эта тишина рвала Невзору на части острыми когтями.
– Ты верно решила, – вымолвил он наконец. – Тебе придётся уйти. Ладе мы что-нибудь скажем... что-нибудь придумаем. Правду ей нельзя говорить: как бы сердце её хворое не надорвалось. Трёх дней не жди, уходи сейчас. И лучше, если ты не станешь приближаться к дому. Потому что это будешь уже не ты.
«Мы – люди!» – острой, отчаянной стрункой звучал в ушах Невзоры голос Размиры. Сохранить человеческую душу и сердце во что бы то ни стало.
– Я останусь собой, даже став зверем, – проронила она. – Я постараюсь.
– Никто не может этого знать, – покачал отец головой. Голос его звучал старчески-сипло, устало, точно полжизни потерял Бакута Вячеславич одним махом. – Это даже хуже, чем смерть. Лучше погибнуть от пёсьих клыков, чем самому стать псом.
Глядя недвижимыми, остекленелыми глазами перед собой, отец повернулся и побрёл к дому – нетвёрдыми, обессиленными шагами. Только раз обернулся он через плечо, повторил:
– К дому не приближайся. Про яснень-траву ты знаешь... Не заставляй меня пускать её в ход.
Дверь за ним закрылась. Туда, через порог, Невзоре больше дороги не было. Из всех, кто там оставался, только по Ладушке выл её зверь, только о ней рыдало сердце, и пальцы – ещё без когтей – скребли яблоневый ствол.
Она не смогла сразу уйти – слонялась по саду, пытаясь поверить... Не верилось отверженной душе в то, что нет у неё больше семьи, рвалась она домой, к Ладе. Дверь скрипнула, Невзора вздрогнула. Это вышел Гюрей, но не с пустыми руками, а вооружённый острогой – толстым, мощным копьём, с каким на медведя ходят. С крылечка спускался он опасливо, не сводя с Невзоры настороженного взгляда.
– Ты ещё тут? Сказано ж тебе было – уходи, – сказал он хрипловато и враждебно.
– Братец, для чего ты с острогой вышел? – с горечью молвила Невзора. – Я – это покамест я. Я не зверь ещё, зачем ты так?..
– Да кто тебя знает, – с подозрением прищурился Гюрей, не подходя близко. – Уходи по-хорошему. Сама знаешь: нет места ни оборотню среди людей, ни людям – с оборотнями. Ступай в лес! Там теперь твой дом.
– Да лес-то всегда мне домом был, – глухо проронила охотница. – Даже лучшим, чем этот.
Горечь заполняла грудь и струилась мертвящим ядом в жилах – ноги еле плелись, хотелось лечь и закрыть глаза... навсегда. Но живуч был зверь. Он заставлял её обмякшее, ослабевшее от печали тело двигаться, беспокойным комком ворочался в груди, стремился куда-то. У Невзоры уже даже дышать не осталось ни сил, ни желания, и место её угасшей воли к жизни заняла его воля.
Лес встречал её ласковым, утешительным шелестом. Удивительная картина предстала перед её глазами: между стволами сновали летучие огоньки наподобие светлячков, но то были не насекомые, а шарообразные комочки света. Невзора замерла, заворожённая этим сказочным, таинственным зрелищем. Световые шарики играли в траве, озаряя её мягкими отблесками, кружились под пологом древесных крон, то собираясь в стайки, то разлетаясь поодиночке. Также они смело подлетали близко к лицу охотницы. Невольная улыбка проступила на губах Невзоры, и она подставила раскрытую ладонь, гадая: сядут – не сядут? Огоньки сразу ринулись к ней и доверчиво запрыгали у неё на руке с забавным негромким писком. Чувствуя кожей лёгкий ветерок и щекотку, Невзора ухмыльнулась.
– Это духи леса, – раздался женский голос.
Шагнув из-за ствола, к ней приблизилась Размира. Огоньки резвились и вокруг неё, ныряя в густые волны её волос и образовывая светящееся подобие венка у неё на голове. Ночь тонко, загадочно подчёркивала красоту женщины-оборотня, окутывая её грустным мерцанием. Её роскошные пшенично-русые волосы спускались ниже пояса: две густых пряди прикрывали нагую грудь, а остальные ниспадали на плечи и спину. Изящные уши лесной красавицы выглядывали из-под светлых локонов своими острыми кончиками, опушёнными шерстяной порослью. Двигаясь по-звериному мягко и вместе с тем щемяще-женственно и плавно, Размира подошла и заглянула Невзоре в глаза с печальным пониманием.
– Ничего не говори, если не хочешь. Я и так вижу, как тяжко у тебя на душе. Но не тужи, ты не одна здесь. У тебя много товарищей по несчастью. – Улыбка тронула уголки её губ, и Размира, высыпав Невзоре в руки пригоршню пищащих огоньков, добавила: – Не унывай, и после обращения есть жизнь. А сколько человеческого ты сумеешь в себе сохранить, будет зависеть только от тебя.
«Жизнь-то, может, и есть, но – какая?» – невесело подумалось Невзоре.
– Другая. Не такая, как прежде, – ответила Размира на её мысль.
Охотница вздрогнула, и женщина-оборотень улыбнулась опять.
– Мы можем общаться без слов, – объяснила она. – Ты сейчас очень «громко» думаешь... Это оттого, что тебя одолевают боль и тоска. Ежели не хочешь, чтоб твои мысли становились всеобщим достоянием, думай потише. Просто чуточку успокойся, дыши ровно и плавно, чтоб сердцебиение замедлилось – мысли и утихнут.
Сделав это наставление, Размира мягко взяла Невзору под локоть и повлекла за собой вглубь леса.
На маленькой, окружённой деревьями полянке собрались десять-двенадцать оборотней – кто в зверином, кто в человеческом облике. Невзоре сперва показалось, что они сидели вокруг костра, но это был сгусток света, излучаемого духами леса. Летучие огоньки собрались в ком и копошились, отбрасывая отблески на древесные стволы. Марушины псы как будто не обратили на Невзору никакого внимания: не дрогнули их сосредоточенные, суровые лица, а волки даже ухом не повели в её сторону. Те, что имели людской облик, были почти все нагие, только двое или трое носили портки – кто из холста, кто из шкурок заячьих. Женщины кутались в распущенные длинные волосы.
– Это Невзора, – коротко представила охотницу Размира. – Она скоро станет одной из нас.
Борзута, сидевший ближе всех к Невзоре, виновато отвёл взгляд. Та, не зная, что сделать или сказать, тоже присела, обхватила колени и принялась смотреть на скопление духов-светлячков.
Здесь было не принято задавать вопросы. Невзору встретили молчаливо, и только со слов Размиры она узнала, что у каждого в этой маленькой стае – оборванная человеческая жизнь за плечами.
– Есть Марушины псы, обратившиеся из людей, а бывают оборотни по рождению, – объяснила Размира. – Мы – люди. У всех нас остались родные, к которым мы уже не можем вернуться, как бы ни хотелось...
Оборотень зрелых лет, крепкий и кряжистый мужчина с заплетёнными в лохматые косицы волосами, выстругивал что-то ножом из деревяшки. Тёплой болью ёкнуло сердце Невзоры: вспомнился оленёнок, которого она сделала для сестрицы Ладушки... А рядом проступал из мрачного облака памяти другой зверь, клыкастый и страшный. Получается, неспроста из-под её ножа тогда Марушин пёс вышел. Оборотень, что стругал деревяшку, вскинул на Невзору угрюмый взгляд – неприветливо, точно в грудь толкнул. Рядом с ним сидела некрасивая темноволосая женщина и кормила молоком младенца. В человеческом облике был ребёнок, но острые уши и пушок на теле выдавали в нём принадлежность к роду Марушиных псов.
– Муравка с Ершом уже в лесу сошлись, – шепнула Невзоре Размира. – Дитя у них родилось со звериной кровью в жилах.
У худощавой, угловатой Муравки ещё не до конца ушёл после родов живот, и она казалась беременной на небольшом сроке. «И после обращения есть жизнь». Муравка вот мужа себе нашла, а Ёрш – жену. Сошлись они и родили сына, маленького оборотня, который теперь сосал жирное волчье молоко из материнской груди.
Невзора вздрогнула: её обожгли взглядом пристальные глаза – цвет ночью не поймёшь, у всех оборотней они светились и казались жёлтыми. Их обладательница, не стыдясь своей наготы, изящно сидела на траве, а когда Невзора посмотрела на неё, улеглась на бок и потянулась – гибкая, точёная, длинноногая, с тонкой талией и округлыми бёдрами. Невинно-пухлый рот – как у ребёнка, а глаза – дерзкие, с вызовом, с какой-то завораживающей искоркой. Ночь скрадывала цвета и оттенки, но Невзоре почему-то казалось, что её пышная растрёпанная грива волос должна быть рыжеватой. Или русой, тронутой осенним огнём.
– Ну... Сколько ни сиди, а еда сама в рот не прыгнет, – молвил Ёрш, вложив нож в чехол, а недоделанную деревянную фигурку отдав супруге. – Еду добывать надо. Кто в прошлый раз отдыхал? Айда на охоту.
– Мы по очереди охотимся, – пояснила Размира Невзоре, поднимаясь на ноги. – Ты здесь побудь... На твою долю тоже мяса принесём.
Но Ёрш был иного мнения.
– Давай, давай, топай на охоту, новенькая, – хрипло пробасил он. – Просто так тебя никто кормить не станет, нахлебников не держим. Как потопаешь – так и полопаешь.
– Она ж ещё не обратилась, – вступилась было Размира за Невзору.
– И что ж? Ножичек-то у неё охотничий, – заметил Ёрш. – Стало быть, зверя добывать умеет.
– Я пойду, – сказала Невзора, вставая.
У «костра» остались Муравка с ребёнком, рыжая красотка с дерзким взглядом и ещё четверо оборотней. Передвигались Марушины псы бесшумно и быстро, как чёрные призраки, Невзоре было за ними не угнаться, и скоро она отстала. Размира в волчьем облике задержалась, поджидая её.
– Мне не впервой. Я сама управлюсь, – сказала Невзора.
Полный духов-светлячков лес мерцал, дышал и жил своей ночной жизнью. Невзора знала его правила и чтила законы, чувствовала его душу и сливалась с ней, слушая во все уши и настораживая своё почти звериное охотничье чутьё. Знала она: лес-батюшка и прокормит, и укроет, и выслушает, и совет даст.
Долго она бродила между деревьев, то ступая медленно и пружинисто-мягко, то ускоряя шаг. Как жить без Ладушки, в невыносимо горькой разлуке с ней? И главное – зачем? Какой смысл? Её человеческая тоска тяжело ложилась на душу оковами, обездвиживала тело и повисала на ногах гирями, но внутренний зверь звал вперёд. Он хотел есть, дышать, бегать. Чувствовать траву под лапами, слушать мудрый голос леса. Ему неведома была людская печаль, людское уныние, он цеплялся за жизнь клыками и старался удержаться на ней, как на маленькой льдине в холодной воде. Устоять, не соскользнуть в студёную глубь небытия, спастись, выдержать. И жить, покуда бьётся сердце и бежит по жилам кровь, повинуясь внутреннему безусловному стремлению, древнему, как мир.
Но на сей раз Невзоре не везло. Может, ноющая тоска была тому виной или беспокойное, мятущееся отчаяние, а может, образ Ладушки застилал ей глаза – как бы то ни было, она долго не могла напасть на след хоть какого-нибудь зверя. Присев на замшелый ствол поваленной сосны, она давала роздыху гудящим от усталости ногам и подумывала о том, чтобы в поисках припасов забраться в какой-нибудь домик-зимовье, но что-то удерживало её от этого. Ведь это, по сути, будет воровство. Нет, так не пойдёт! Нужна честная добыча. Невзора встала и решительно двинулась дальше, стараясь гнать от себя тягостные мысли и сосредоточиться на охоте.
И её упорство было вознаграждено: выглянувшая из-за облака луна озарила росистую полянку, на которой пощипывала траву изящная косуля. Невзора застыла, не веря своему счастью. Ветер дул со стороны животного, унося прочь запах охотницы; будь Невзора волком-оборотнем, она бы в один прыжок настигла добычу, но располагала она только ножом и внезапностью.
Невзора присела за кустами, сдерживая напряжённое дыхание. Сейчас бы лук со стрелами – самое то... Ускачет, как пить дать ускачет косуля! Человеческим ногам не угнаться за быстрыми копытцами. Если только нож метнуть метко... Клинок длинный, глубоко войдёт, а если в сосуд крупный попадёт, далеко не убежит козочка – кровью изойдёт и свалится скоро. Этак рассудив, Невзора решилась на бросок – тем более, что в метании ножа ей не было равных.
Оружие послушно легло в ладонь, готовое засвистеть в воздухе. Всё решала быстрота и меткость. Сильные, упругие ноги сослужили охотнице верную службу – выпрямились молниеносно, рука коротко взмахнула... Нож, сбив с куста листок, взвился неистово – «уыхх!» – косуля и опомниться не успела, как он вонзился ей в бок, между рёбер. «В печень», – определила Невзора. Лучше бы в шею, где сосуды, но и так неплохо.
Животное бросилось бежать, в первый миг не ощутив своей раны, но уже после нескольких скачков захромало, начало заваливаться. Ноги косули подкашивались, но она в отчаянном порыве поднималась... Падала и снова поднималась, борясь со смертью, но знала и Невзора, и молчаливые деревья вокруг, что лесная козочка обречена. Теперь уже её и догнать не составляло труда.
Бегала Невзора быстро, но лапы оборотня оказались проворнее. Выскочивший наперерез Марушин пёс придавил собой косулю, и его полная смертоносных зубов пасть впилась в её красивую шею.
– Эй! – вскричала возмущённая таким нахальством Невзора. – Вот только наглеть не надо, ладно? На чужую добычу пасть не разевай!
Оборотень выпустил уже мёртвую косулю и вскинул морду с жёлтыми огоньками глаз. Эту харю Невзора узнала бы из тысячи других: именно эти клыки и разделили её жизнь на «до» и «после».
«Да я тебе только помочь хотел, – минуя слух, прозвучал в голове охотницы голос Борзуты. – А добыча общая, в общий котёл идёт».
Слегка ошеломлённая таким способом общения, Невзора опешила, но вспомнила: Размира говорила, что Марушины псы могут разговаривать без голоса. А Борзута, уже обернувшись человеком, склонился над косулей и разглядывал торчавший из её бока нож. Тот вошёл по самую рукоять.
– Да уж, бросочек у тебя – ого-го, – с нервным смешком проговорил молодой оборотень. – Что-то этакое я и предвидел, когда ты за нож схватилась... Потому и кинулся на опережение.
– Марушин пёс проворнее человека. Ты мог бы и увернуться от ножа, – сказала Невзора.
– Может, и увернулся бы, – ответил Борзута. И хмыкнул, поглядев на сражённую косулю: – А может, и нет.
В его взгляде опять проступила вина, он насупился и смолк. Невзора, выдернув нож и очистив его о траву, вложила в чехол.
– Ладно, что случилось, то случилось, – проронила она. – «Если бы» да «кабы» тут уже не к месту. Ну, давай, помощник, тащи нашу общую добычу, коли уж вызвался.
Борзута легко взвалил косулю на свои могучие плечи, и они пошли назад – к лежбищу оборотней. Точнее сказать, Невзора пошла, а её помощник будто скользил в вершке над землёй, что придавало ему небывалую скорость.
– Погоди! – крикнула ему вслед запыхавшаяся Невзора. – Мне не угнаться за тобой!
– А-а, я и забыл, что ты ещё не умеешь по хмари ходить, – ответил тот, останавливаясь. – Ничего, скоро научишься. И будешь бегать так же быстро!
В сущности, не такой уж он плохой парень, думалось Невзоре. Может, не шибко умный, но точно не злодей. И, подумав так, охотница тут же поёжилась: не услышал ли тот её мысли? Впрочем, широкая мускулистая спина размашисто шагавшего Борзуты всё так же мерно колыхалась впереди, а голова косули безжизненно покачивалась, свешиваясь с его плеча.
Они вернулись одними из первых, позже подтянулись остальные – кто с добычей, кто пустой. Ёрш, которого Невзора правильно распознала как вожака, пришёл мокрым, но со связкой рыбы. Откинув когтистой пятернёй влажные волосы с низкого, широкого лба, он кинул аршинных рыбин на траву и глянул на Невзору.
– Что, охотница, не повезло? – хмыкнул он.
Борзута поспешил восстановить справедливость.
– Э, нет, Ёрш. У нас зубы во рту, а у неё зубы по воздуху летают! Вернее, зуб, – и он кивнул на охотничий нож Невзоры. – К зверю подкрасться и стальное жало ему прямо в печёнку всадить – это суметь надо!
Ёрш прищурился, а потом вдруг швырнул в Невзору лесное яблоко – твёрдую недозрелую кислятину. Ну а та не растерялась – перешибла зеленоватый плод прямо в воздухе. Яблоко разлетелось на половинки, а нож вонзился в ствол дерева, свистнув над головой у вожака.
– Недурно, – сказал Ёрш.
Невзора выдернула нож и сунула в чехол, поймав на себе мерцающий взгляд рыжей красавицы. Та, поджидая возвращения охотников, плела венок: охапка цветов лежала рядом с ней. От этого взгляда у Невзоры жарко ёкнуло где-то не то в селезёнке, не то в кишках.
Оборотни ели мясо сырым, а Невзоре пришлось развести костерок, чтоб его поджарить. От добытой ею косули охотнице достался приличный кусок.
– Меня Ле́люшка зовут, – прозвучал рядом бархатисто-низкий, тягучий голос.
Это огневолосая красавица подсела к костру, при свете которого её большие, пристально-насмешливые глаза из зверино-жёлтых стали водянисто-голубыми. Холодный это был оттенок, осенними заморозками от него веяло, но рыжие отблески огня в зрачках придавали её глазам какой-то ведьминский, шальной вид.
– У меня травки душистые найдутся, с ними мясо вкуснее будет, – сказала Лелюшка. – Давай, пособлю приготовить.
Невзора не отказалась от помощи, невольно любуясь её плавными, текучими, ловкими движениями. Было в них что-то чарующе-хищное, околдовывающее, опасное, а изгибы тела источали терпкую чувственность. Бёдра и ягодицы – наливные, женственные, точёные лодыжки, маленькие ступни, а грудь – небольшая, но крепкая и упругая. И всеми этими прелестями Лелюшка без малейшей застенчивости и даже с какой-то нарочитостью красовалась перед Невзорой, то бросая на неё лукавый взгляд через плечо, то выгибаясь с соблазнительной томностью. Свою долю она тоже поджарила на огне – лопатку, сердце и печёнку.
– Тоскую я временами по людской еде, – сказала Лелюшка, принимаясь сперва за лопатку. – Блинчиков порой охота узорчатых, пирогов да ватрушек, каши рассыпчатой... Матушка моя знатно готовила!
– А как ты оборотнем стала? – полюбопытствовала Невзора. И тут же усомнилась в уместности своего вопроса.
Лелюшка, впрочем, не показала виду, что ей больно об этом вспоминать.
– Меня один Марушин пёс-одиночка украл и обратил. Женой своей хотел сделать. А я сбежала от него, как только сил набралась. Встретила Ерша со стаей, они меня приняли и защитили. А тот бирюк к нам не суётся, Ёрш ему отпор дал. Встречаю его теперь изредка, так он от меня как от огня бежит – Ерша боится. Ёрш не всякого к себе принимает.
Венок она водрузила Невзоре на голову, окинув её смеющимся взглядом.
– Ты не горюй. Мы с тобой славно заживём, весело. – И потрепала её по плечу, обдав охотницу жаркой тьмой расширившихся зрачков.
Смысл этих слов, пока ещё туманный, отдался внутри у Невзоры странным горячим биением.
Костерок уже догорал, когда подошла Размира – поджарить на углях кусок рыбы. Лелюшка сыто дремала, свернувшись рядом с Невзорой и касаясь её своим мягким, тёплым боком.
– Быстро вы подружились, – усмехнулась Размира. И добавила тише: – Ты с ней ухо востро держи. Она та ещё особа. Бедовая.
– Я всё слышу, – пробормотала Лелюшка сонно.
– А я своего мнения и не скрываю, – ответила Размира резковато.
– Подтиралась я твоим мнением, – грубо, но вяло отозвалась рыжая девица. И продолжила дремать, повернувшись на другой бок.
Размира хмыкнула, но не удостоила соплеменницу ответом.
– Пойдём к нам, – сказала она Невзоре, которая сидела в стороне от всех. – Древец сейчас будет сказку сказывать. Мастер он у нас по этой части великий.
Невзора сама в этом убедилась. Древец хоть и молод был, но сказаний знал великое множество, а ещё больше, судя по всему, на ходу выдумывал. Этот рыжеватый, остроглазый оборотень, щуплый, с впалым животом и клочковатой гривой, росшей по бокам лица и шеи, завёл длинную, запутанную, мрачную историю о приключениях витязя-наёмника. Рассказ изобиловал жестокими, кровавыми подробностями битв и стычек; подробно описывал сказитель обычаи чужих земель, в которых витязю довелось побывать, а слушатели дивились тамошним нравам. Жестокосердные правители, прекрасные девы, диковинные чудовища, козни царедворцев, кровопролитные сражения и неистовые чужеземные забавы – всё это Древец живописал с таким знанием дела, что стая внимала ему с открытыми ртами. Рассказчиком он был и впрямь незаурядным, мастерски использовал и свой голос, и лицо, а порой и с места вскакивал, представляя рассказываемое: как витязь мечом замахивался, как окидывал взором с обрыва цветущую весеннюю долину... Он перевоплощался по очереди в разных героев, и на его лице отображались все их мысли и чувства – страдание, радость, гнев, печаль и душевные метания. Передавая речи правителей, он приосанивался, величественно расправлял плечи, и казалось, будто на его челе мерцал царский венец; когда речь шла от лица молодой девы, он становился мягким, робким, застенчивым – вылитая девушка, только вместо длинной косы – лохматая, раздвоенная грива-борода. Смотрелось это чудно и забавно, и Невзора не могла сдержать усмешки.
– Ну, будет на сегодня, – молвил он, опускаясь на своё место. Взгляд его угас, голос звучал тихо и глухо, а движения замедлились, точно он исчерпал все силы. – Что дальше было – завтра доскажу.
Слушатели недовольно зароптали:
– Ну вот, всегда ты так! На самом занятном месте... Доскажи, гад ты этакий, что дальше было, не томи!
Но Древец был непреклонен.
– Язык мой болтать устал. Завтра продолжу.
Невзора понимала, отчего он оборвал свой рассказ: кто бы не устал, вкладывая столько сил и страсти в повествование! Это было целое представление, искусное и вдохновенное лицедейство, Древец заставлял слушателей видеть всё, о чём шла речь – во всех красках, во всех подробностях. По мановению его руки поднимались горы и леса, текли реки, колыхались цветы, а войска схлёстывались меж собой в кровавой сече.
– Ты всё это выдумал или слышал от кого? – спросила его Невзора.
– Мне дух этого витязя всё нашептал, – усмехнулся оборотень-рассказчик. – Всё, что с ним приключилось, поведал. А я только пересказал.
С наступлением утра Марушины псы перебрались в укрытие – рукотворную подземную пещеру, от которой в разные стороны ответвлялись ходы. Звались они Волчьими ходами; Невзора знала о них и раньше, но опасалась совать туда любопытный нос. Лесные оборотни прорыли их в старые времена, чтобы передвигаться или прятаться в светлое время суток; стенки ходов были укреплены толстыми деревянными балками по всем правилам строительного искусства. Члены стаи устроились на дневной отдых, но спали чутко, вполглаза: то у одного, то у другого порой вздрагивало ухо, улавливая малейший звук.
Жёстко было Невзоре на твёрдом, холодном земляном полу пещеры, да и душу давил груз невесёлых дум – вот сон и бежал от неё. Мягкий звериный нос ткнулся ей в щёку, и она, вздрогнув, разомкнула веки. В полумраке над ней склонилась Лелюшка в волчьем облике: охотница узнала её по глазам. Если внимательно всмотреться, морды Марушиных псов различались так же, как и человеческие лица. У Лелюшки морда была по-лисьи острая, большеухая и совсем не такая грубая и страшная, как у Ерша. Вожак, свернувшись клубком, служил своей жене и отпрыску ложем для сна. Муравка с ребёнком устроились на нём уютно и удобно и отдыхали без забот, а Ёрш был им и постелью, и чутким стражем.
– Чего? – спросила Невзора, приподнимаясь на локте.
Лелюшка легла рядом и свернулась.
«Можешь спать на мне, подруга. Теплее и мягче будет, чем на земле-то».
Невзора приняла её предложение и привалилась к тёплому, мохнатому звериному боку. Как она впоследствии узнала, это у Марушиных псов было знаком особого расположения и дружбы, а также любовного отношения: так волк заботился о своей волчице и детёныше, дабы они могли отдыхать с удобством. Лелюшка прикрыла ей ноги хвостом, словно одеялом, и вскоре Невзора начала проваливаться в гулкую зыбь дрёмы. Сон навалился на неё, обездвижил тело и поглотил душу огромной, как пещера, тёмной пастью.
И всё же спала она беспокойно, то и дело выныривая на поверхность яви. Может, мешал ей тусклый свет дня, пробивавшийся во входное отверстие пещеры, а может, металась душа в преддверии превращения – человеческая часть души. Зверь жил в ней с детства, становясь с годами больше и сильнее, но Невзора страшилась его полной победы. Он был жесток и беспощаден, его заботила лишь своя выгода, в его сердце не было места привязанностям. Она знала уродливое, бесчеловечное нутро этого зверя-одиночки, холодного, ожесточённого чудовища, которое не пожалело бы и о Ладушке, случись с нею несчастье. Будучи сам живучим и выносливым, зверь не питал сочувствия к слабым и нежизнеспособным. Сильный выживает, слабый гибнет; раненого добей, падающего подтолкни – так он рассуждал. С его точки зрения, все люди были слабы и не заслуживали ни сострадания, ни уважения. Он уважал только одно право – право сильного.
Если бы не Ладушка, зверь давно победил бы. Ни об отце, ни о матери, ни о братьях не жалела Невзора; с ними у неё никогда не было крепкой душевной связи, в собственной семье она выросла чужаком, приёмышем. Только страстная нежность к Ладушке мерцала жаркой звёздочкой в холодном мраке, только за неё Невзора цеплялась, как за спасительную соломинку. Но слишком хрупкой была эта соломинка... Не станет её – и какая сила будет питать человеческое сердце в звериной груди? Если единственный путеводный лучик света погаснет, как найдёт она дорогу в темноте?
«Чего ворочаешься? – проворчала Лелюшка. – И сама толком не спишь, и другим не даёшь...»
– Прости, – выдохнула Невзора чуть слышно. – Тяжко у меня на сердце.
Остаток дня до наступления сумерек она лежала без сна, в томительной неподвижности, боясь причинить Лелюшке неудобства.
На закате она выбралась из пещеры и слушала вечерний лес, сидя на траве и обхватив колени руками. Последние лучи ласково румянили верхушки деревьев, и в этой безмятежности было разлито такое одиночество, что из горла рвался волчий вой. Из пещеры доносились голоса: оборотни уже не спали, но ждали захода солнца, чтобы выйти. Когда оно скрылось и лес погрузился в голубые сумерки, из пещеры показалась лохматая голова Ерша. Выпрыгнув на траву, он встряхнулся. На Невзору он даже не взглянул.
За ним вышли все остальные – кто в человеческом облике, кто в зверином. Муравка опять кормила своего младенца; она была освобождена от охоты, пока дитя не подрастёт. Остатков вчерашней добычи хватило на один укус – так, червячка заморить; те, кто отдыхал прошлой ночью, в свой черёд отправлялись на промысел, а те, кто добывал пропитание, оставались их ждать.
– Я принесу тебе чего-нибудь вкусненького, – с тягучей, томной улыбкой пообещала Невзоре Лелюшка.
От её взгляда нутро охотницы опять обдало жаром смущения. Однако праздно провести эту ночь ей не собирались позволять.
– Для нас тоже работа найдётся, – деловито сказала Размира. На руке у неё висело ивовое лукошко. – Мы с тобой по ягоды пойдём.
Духи-светлячки освещали им дорогу, порхали над малинником, играли в догонялки в зарослях ежевики. Сладкие ягоды таяли во рту, Невзора с наслаждением давила их языком, но к этому удовольствию снова примешивалась печаль: если б Ладушка была рядом... Если бы протягивала свои изящные руки к малиновым веткам, временами бросая ласковый взгляд на Невзору!
– Тоскуешь по сестрице? – проницательно заметила Размира. – А я по своим детушкам тоскую... Не видать мне их больше.
– А как случилось, что ты Марушиным псом стала? – спросила Невзора.
– Пошла на речку бельё полоскать, да припозднилась, солнце уж зашло. А из камышей мне навстречу – оборотень. – Деловито собирая малину, Размира рассказывала спокойно, точно не с нею всё это произошло, а с кем-то другим – сто лет назад. – Рыбу он там ловил, рыбки ему, зверюге, захотелось. А я ему, выходит, помешала, рыбу распугала. Вот он и осерчал да и кинулся на меня. У меня с собой оберег был – щепотка яснень-травы, в тряпицу завёрнутая, на шее висела. Я ему травку эту в пасть разинутую и сунула, прямо в глотку пропихнула... Да о клыки его руку себе до крови располосовала. Так вот и вышло...
– В нос надо было ему сунуть, – сказала Невзора.
– Не сообразила я тогда, времени не было – миг один всего лишь. Пасть его прямо передо мною была, вот и пихнула, куда пришлось. Подавился он той травкой, в воду плюхнулся, а я бельё бросила – и бежать... – Размира бережно высыпала в лукошко целую горсть отборной малины. – Не знаю, что со зверем этим стало, не до него было мне – домой бы добраться. Бегу, спотыкаюсь, из руки кровь хлещет... Прибежала домой, на пороге без памяти рухнула. Муж мой сразу понял, от чьих зубов та рана: охотник он. Рану мне перевязал, до рассвета дал в себя прийти, а наутро, пока детки малые не проснулись, прогнал из дому. К ребятушкам запретил подходить... Дочке, Малоне, тогда два годика было, а сыночку, Звише – три. А под сердцем у меня третье дитя было в то время.
Смолкнув, Размира присела в траву. Духи-светлячки ластились к щекам, а она отгоняла их, как назойливую мошкару. Невзора села рядом: тоскливым эхом отозвался в душе рассказ Размиры.
– Муж сам в лес меня отвёл, дал с собой лукошко со съестным на первое время. Когда вёл, глаза мне завязал и руки спутал. Это чтоб дорогу домой не скоро нашла. Развязал и оставил в чащобе лесной. – Размира чуть заметно вздохнула, поймала пригоршню духов, подкинула и отпустила в полёт. – Мне в первый день кусок в горло не лез, к съестному не притронулась, только сидела да плакала. Шагу с места ступить не решалась, зверей лесных боялась. Ну, а к ночи меня оборотни нашли – Ёрш с Муравкой и ещё кое-кто из стаи нашей. Они не такие были, как тот, которого я на реке встретила; тот злыдень был, а эти подбодрили, утешили, как умели, поесть заставили – того, что в корзинке у меня с собою было. К себе приняли, как тебя сейчас. Так и живу с тех пор.
– А дитя? – спросила Невзора. – Ну, то, что во чреве у тебя было?
– Не удержалось оно там, – ответила Размира с печальной, но бесслёзной кротостью. – Когда в зверя превращалась, потеряла его.
Молчание повисло надолго. Невзора не знала, что сказать, но во взгляде Размиры прочла, что та чувствует её сострадание и благодарна за него. Некоторое время они просто собирали ягоды.
– А ты пыталась с детками увидеться? – спросила наконец охотница.
– Пыталась, как не пытаться, – ответила Размира, приподнимая увешанную тяжёлыми малиновыми серёжками ветку. – Пробиралась тайком в село наше ночью, да к окошку снаружи прильнув, смотрела, как спят они. С собой забрать хотелось мне их, да как заберёшь? Ежели в лес их увести, недолго они там со мной людьми пробудут. А какая мать детей своих по доброй воле оборотнями сделает? Ясно было, что нет мне дороги назад. Отец им сказал, что матушка их в речке потонула. А показаться им да правду сказать... Не знаю, надо ли? Тяжко эту правду знать. Может, и лучше им думать, что нет меня в живых.
Много малины висело на ветках, набралось лукошко доверху. Полакомившись сладкими ягодами, Размира сказала:
– Ну, будет с нас, надо и медведю-батюшке оставить. Он до малины большой охотник.
На обратном пути Невзора, поразмыслив, спросила:
– А отчего ты ещё не родишь? Само собой, Малоню со Звишей новыми детками из сердца не вытеснить, да всё ж хоть какое-то утешение было бы.
– Родила бы, да от кого? – горьковато усмехнулась Размира. – Я, милая моя, просто так не могу... Надо, чтоб душа к отцу деток лежала, чтоб сердце им полно было. Не встречала я пока такого молодца, чтоб в душу мне запал. Да и сил нет о любви думать... Иссохли, изорвались струнки сердечные, нечем любить мне. Надломилось во мне что-то.
Невзора взяла у неё тяжёлое лукошко, понесла.
– Мужа забыть не можешь?
– Не знаю... – Размира сорвала цветок, другой, третий – да и венок плести принялась. – Люб он мне был, до свадьбы год встречались, надышаться друг другом не могли. А когда случилось всё это... Прогнал из дому, точно топором обрубил. Не виню я его: оборотню с человеком не жить, это всякому понятно. Да вот только часть души моей, в которой любовь исток свой брала, там осталась... с детушками. Так и живу... как обрубок. Не полюбить мне уж сызнова. Нет почвы, чтоб любовь опять в душе взрастить – камни одни бесплодные.
Охотники вернулись не с пустыми руками. Прежде чем за еду приниматься, отдохнули они, малиной полакомились – каждому по две большие пригоршни досталось. Лелюшкин «улов» отличался от добычи прочих членов стаи: она принесла печёного гуся, горшок каши, круглую головку творога, туесок мёда и баранью ногу.
– Ах ты ж, воровка! – покачала головой Размира. – Сколько тебе говорили: не лазай к людям, не таскай чужого добра!
– Да ну тя к лешему, будешь ещё учить меня тут, – огрызнулась Лелюшка. – Не люблю я живых тварей убивать! Я лучше украду, чем кровь пролью.
– Надо же, какая миролюбивая да жалостливая, – хмыкнула Размира. – Да охотиться тебе лень, вот и всё. Это ж потрудиться надо! А ты работу не жалуешь...
– Ежели правду сказать, работать я никогда не любила, – без особого смущения сказала Лелюшка, раскладывая добытую снедь перед Невзорой и лукаво подмигивая. – Я ещё в человеческой моей жизни больше к песням, пляскам да гуляньям была расположена... Вот это дело как раз по мне!
И она, открутив от гусиной тушки ножку, вцепилась в неё зубами. Невзора ворованные яства даже пробовать не стала, хоть от творожка с мёдом, каши да гуся она не отказалась бы. Подкрепилась она поджаренным на углях мясом, кусок которого ей выделил Ёрш: вожак распределял пищу меж членами стаи, решая, кто чего достоин. Невзоре досталась оленья лопатка. Себе предводитель взял потроха, так как он их весьма любил.
– В них пользы и питательности больше, – сказал он.
Жену свою он тоже потрохами оделил, дав кусок печёнки, почку и лёгкое.
А Лелюшка, недобро щурясь, молвила Невзоре:
– Значит, моего угощения отведать не хочешь? Негоже так дружбу начинать.
– Ты не серчай, – сказала охотница миролюбиво. – Не по душе мне добыча, нечестным путём взятая. Тебя не сужу, ты – как знаешь. Дело твоё.
– Значит, честная ты у нас, – хмыкнула рыжая женщина-оборотень. – Ну-ну...
Больше она ничего не сказала, а добычу свою сама за обе щеки уминала без всякого зазрения совести, и глаза у неё при этом были круглые, нагловатые, бесстыже-дерзкие, с насмешливыми искорками. Невзора, неторопливо обгладывая лопатку, утопала взглядом в таинственном, усеянном «светлячками» лесном шатре; не знала она пока, какие чувства вызывала у неё рыжая девица-оборотень, и охотница решила не спешить с выводами. Слишком мало времени они друг друга знали. Но уже сейчас сердце тихонько шептало, что ему больше по нраву Размира.
Превращение накрыло её изматывающим, тошнотворно звенящим куполом слабости и лихорадки. Ёрш, предвидя приближение этих непростых мгновений, предусмотрительно оставил Невзору отдыхать, хотя была её очередь идти на охоту с прочими членами стаи. Та воспротивилась было:
– Я пойду. Я смогу. Чувствую себя хорошо.
Она изо всех сил старалась доказать свою полезность и право остаться в стае. Одиночество вдруг стало её страшить.
– Сиди, кому говорят, – цыкнул вожак на неё.
От тяжести его руки на своём плече Невзора неожиданно шлёпнулась на ягодицы, точно её придавило весом огромной каменной глыбы. Колени подломились, и она, глазом не успев моргнуть, очутилась на прохладной земле. Ёрш хмыкнул:
– Ну, вот видишь. А говоришь, «могу». Ты погоди – когда превращаться начнёшь, ещё хуже станет. Но ничего, ты крепкая, сдюжишь.
Размире явно хотелось остаться с Невзорой, дабы поддержать её, но Ёрш не разрешил нарушать очерёдность, и охотнице пришлось довольствоваться обществом Лелюшки.
– Я постараюсь пораньше вернуться, – только и сказала Размира перед уходом, участливо тронув Невзору за плечо. – Туго тебе будет, но ты крепись. Мы все выдержали, и ты выдержишь. Это не то, отчего умирают. Не бойся.
Когда охотники растворились в лесном сумраке, Лелюшка усмехнулась:
– Ну что, уже чуешь превращение? Худо тебе, да? Ничего, это ещё цветочки. Когда ягодки пойдут – вот тогда взвоешь!
– Ты умеешь подбодрить, – мрачно буркнула Невзора.
Озноб был всеохватывающим и непобедимым, от него не спасало даже тепло костра. Начало напоминало тяжкую простуду: лоб раскалывался от боли, глаза горели сухим огнём и закрывались, Невзоре хотелось свернуться калачиком и забыться болезненной дрёмой, но толком погрузиться в сон не получалось. Её словно какой-то надоедливый невидимка за ногу дёргал, и она, вздрогнув, приподнимала голову и озиралась. Деревья, сгрудившись вокруг неё, склонялись и гудели низкими, утробными голосами, тянули к ней ветки, щекотали листьями, а у Невзоры не осталось сил даже на то, чтобы отмахнуться.
«Матушка-земля... пособи», – рождался в груди мучительный стон.
Костерок вдруг превратился в ревущую огненную стену, которая обступила Невзору со всех сторон. Она заметалась, забегала, прихрамывая, оступаясь и падая наземь, но всюду натыкалась на трескуче хохочущие языки пламени. Горело всё: земля, воздух, небо, сама Невзора. Кожу стянуло невыносимым жаром, она лопалась и трескалась, натягивалась и собиралась сухими морщинами.
– Воды... Кто-нибудь, потушите, – услышала охотница странный, неузнаваемый голос, который будто бы исходил из нутра терпящего страшную муку зверя. Нет, это не мог быть её собственный голос.
Её лоб защекотала холодная струйка, и огненная стена погасла, точно огромным безвоздушным колпаком прибитая. В костре дотлевали малиновые угольки, а над Невзорой склонилась Лелюшка. Она-то и лила ей на лоб родниковую водицу из деревянного ковшика с наполовину отломленной ручкой.
– Уже... всё? – Пересохшие губы еле повиновались. Невзора поняла: тот рычащий голос, просивший потушить пламя, всё-таки принадлежал ей самой.
– Э, нет, голубушка. Ещё всё впереди, – со смешком ответила Лелюшка.
...Пальцы ворошили траву, открывая взгляду земляничные сокровища леса. Желторотый птенец, раскинув крылышки, барахтался и пищал, а следующий миг очутился в мягких, ласковых ладошках Ладушки.
– Ах ты маленький, ты мой хорошенький, – приговаривала сестрица, поглаживая птенчика по головке пальцем. – Летать учился, да? Ну ничего, ничего, сейчас мы тебя в гнёздышко посадим.
В её глазах сияло мудрое, сердечное сострадание; изумлённой Невзоре она казалась воплощённым духом доброго леса-батюшки, посланного юной пичужке на помощь.
– Ты... Откуда ты здесь? – сорвалось с губ охотницы.
Сестрица загадочно молчала, только улыбнулась с чуть грустной лаской.
– Вон гнёздышко... Подсади-ка меня, родная.
Они вместе водворили незадачливого летуна в родное гнездо; для этого Невзоре пришлось приподнять и посадить Ладушку себе на плечо. Когда она спускала сестру наземь, мягкие ладошки скользнули по её волосам и щекам, обдав её душу и сердце нежной щекоткой. Их лица были друг от друга на расстоянии вздоха, глаза смотрели в глаза, и схваченные сухой горечью губы Невзоры ловили тепло Ладушкиного дыхания.
– Я с тобой, моя родная Невзорушка. И всегда буду.
...От боли в ноге Невзора вскрикнула, но тут же стиснула челюсти. Не в её привычках было шумно выражать чувства. Пальцы скребли влажную холодную землю. Её окружала тьма, будто она попала в чрево какого-то огромного чудища.
Но никакое чудище её не пожирало: Невзора лежала в одном из подземных ходов на мягкой сырой подстилке из прелых листьев. Нога была чем-то сдавлена, малейшее движение вызывало боль, которая алыми сполохами пронзала мрак.
А тьма понемногу рассеивалась, но каким источником!.. Над Невзорой плавали текучие сгустки, излучавшие неяркий радужный свет; они принимали разнообразные виды: то вытягивались в длинные жгуты, то собирались округлыми каплями разных размеров – от слезинки до сырной головки. Они перетекали из одной формы в другую, находясь в постоянном движении. Несколько мгновений Невзора заворожённо наблюдала за этим дивом, а потом протянула руку, и один радужный сгусток прильнул к её пальцам, обтекая их собой. Его касание щекотало ладонь живой, беспокойной силой, а при попытке сжать сгусток он упруго стремился разомкнуть хватку Невзоры, непоседливо сопротивляясь давлению. И в то же время он повиновался мысленным приказам: стоило Невзоре подумать о том, не мог бы сгусток отлипнуть наконец от её руки, как он тотчас отстал.
– Это хмарь, теперь ты её видишь нашими глазами.
Лелюшка сидела рядом, играя с радужным веществом: тыкала в сгустки пальцами, подталкивала их ладонью, скатывая в колобки, вытягивала до толщины тетивы и завязывала в причудливые узлы. Невзора приподнялась на локте, морщась от боли. Что у неё с ногой всё-таки?.. Оказалось, голень сдавливали толстые палки, прикрученные к ней прочными одревесневшими стеблями высокой крапивы.
– Кто такая Ладушка? – полюбопытствовала рыжая девица-оборотень, отпуская радужный сгусток, который она истязала, на свободу.
– А тебе-то какое дело? – сквозь стиснутые зубы проворчала охотница, мучимая болью и вопросом: превращение уже завершилось? Она теперь Марушин пёс?
– Ты звала её, – сказала Лелюшка, подсаживаясь к Невзоре поближе и задумчиво скользя пальцами по её плечу. – Кричала в беспамятстве: «Ладушка, Ладушка!» – а потом вскочила и как давай бегать! Причём, похоже, не приходя в сознание. Глаза у тебя пустые и дикие были, не понимала ничего вокруг себя. Однако ж и быстроногая ты! Еле угнались мы за тобой. Ежели б ты в подземный ход не провалилась, может, так и не догнали бы: ты ж теперь по хмари ходить можешь, как все мы. Ногу вот поломала, дуралейка... Ничего, через день уже срастётся. На нас всё быстро заживает.
– На нас? – От этих слов нутро Невзоры медленно наполнялось тоскливым холодом. – То есть, я уже...
– Ещё нет, но уже совсем скоро, – ухмыльнулась Лелюшка. – Ещё помучаешься немножко, до рассвета примерно. И всё. Но всё-таки, кто эта Ладушка?
– А ты мысли мои прочесть не можешь, что ли? – Невзора осторожно повернулась на бок, ища удобное положение.
– Не могу, – улыбнулась та. – Ты их закрываешь от меня. Они будто щитом непроницаемым скрыты.
Невзора закрыла глаза. Боль в ноге стучала с каждым ударом сердца, зверь внутри неё скрёбся когтями, беспокоился и не находил себе места. Ему надо было куда-то бежать, что-то искать, но Невзора даже с боку на бок с великим трудом поворачивалась. Грязная рука зарылась в листья – ещё человеческая, но жилы странно набухли под кожей, проступая ветвистой сеткой.
Образ Ладушки таял, поглощаемый мраком. Невзора с тоской звала его, пыталась удержать, но он неумолимо растворялся.
– Водицы бы испить, – сказала она наконец, ни к кому особенно не обращаясь – просто выпустила своё желание из пересохшего горла.
– Сейчас, – отозвалась Лелюшка.
Она принесла воды в том старом ковшике с половиной ручки. Чтобы выбраться из прохода, девица использовала хмарь: отталкиваясь ногами от сгустков, как от ступенек, она вышла на поверхность, а спустилась обратно тем же способом.
Невзора пила жадно и долго, то и дело морщась от холода, пронзавшего зубы. Вкусная родниковая водица почти вернула её к жизни, лишь слабость не разжимала своей властной хватки. Остатками воды охотница умылась и сполоснула руки, вычистила остриём ножа грязь из-под ногтей. Хмарь неплохо освещала пространство подземного хода, но её присутствие становилось навязчивым. Невзора то и дело отгоняла сгустки от своего лица.
– Как сделать, чтоб она ушла? – спросила она.
– Не обращать на неё внимание и не думать о ней, – сказала Лелюшка. – Глядишь, и уйдёт через какое-то время. А как понадобится – только позови мысленно, и хмарь – тут как тут. Нужная она. Нам без хмари туго пришлось бы. Видала, как я наверх выбралась? Вот... Хоть ступеньки, хоть мост из неё сделать можно. А ещё ею можно драться. Но это – умеючи.
Невзора, слушая эти наставления, поманила к себе круглый сгусток хмари размером с репку, ощупала его упругие, податливо-скользкие бока. Не поймёшь, то ли жидкий он, то ли воздушный. Текучестью хмарь напоминала воду, а лёгкостью – воздух. Но чувствовалась в ней сила. Ежели изловчиться и садануть таким кругляшом под дых – пожалуй, будет вроде камня.
– Можно ею рану заткнуть; когда крови много потеряешь – в жилы впустить. А ежели вдруг долго голодать придётся, можно её глотать, – добавила Лелюшка. – Сил придаст и поможет ноги таскать какое-то время, пока еду не найдёшь. Но, само собой, не вечно. Одной хмарью сыт не будешь. Словом, хмарь – наше всё.
Это была самая длинная ночь, какую Невзоре только доводилось пережить. Проваливаясь в болезненное полузабытьё, она застревала там на долгую, мучительную вечность, а когда выныривала в явь, оказывалось, что времени прошло – с гулькин нос. То волны мороза сотрясали тело, то кожу охватывало дыхание палящего зноя, а мозги вскипали в черепе. Невзору вместе с лиственным ложем то и дело куда-то уносило – в зыбкую, вязкую бездну дурноты. Её не трогали; изредка лишь ей слышались голоса, но не особо взволнованные. Она не могла упрекнуть членов стаи в бесчувственности: видно, они были уверены, что беспокоиться не о чем, и это отчасти успокаивало и её саму. «Все выдержали, и ты выдержишь. Да, худо будет, но это не то, отчего умирают». Оборотни не тряслись, не квохтали над ней, они были спокойны и не любопытны. Пару раз Лелюшка даже покидала Невзору, отлучаясь по своим делам, и только хмарь неизменно освещала лиственный одр, на котором мучилась охотница.
На лоб Невзоры легла узкая женская ладонь, мягко защекотали длинные пряди волос. Не рыжая нахальная грива Лелюшки, а спокойные, нежные, задумчивые, печальные пряди – бесконечные, как ласковая река...
– Побудь со мной, – пробормотала Невзора. Она узнала Размиру с закрытыми глазами – по запаху, по звуку дыхания.
– Ничего, молодцом держишься, – с мягким смешком ответила та. – Теперь совсем скоро уж.
Она легла рядом с Невзорой, прильнув тёплым телом и обняв её рукой. Носом и губами она уткнулась охотнице в плечо, и ту вдруг обожгло осознание: вот оно – то самое. Объятия женщины... Оттого-то нутро её и бунтовало, восставало против матушкиных «замужей». Не муж ей был нужен. Ей была желанна женщина. Зверь внутри урчал, словно его чесали за ушами.
Выход на поверхность сиял солнечным пятном – слишком ярким, и Невзора поморщилась от рези в глазах. Похоже, снаружи был день в самом разгаре. Размира посапывала рядом, прочие оборотни отдыхали в сумрачной подземной глубине прохода – подальше от светлой дыры. Нога уже почти не болела, и Невзора пошевелилась осторожно. Размира не проснулась.
Сев, Невзора осмотрела себя – руки, ноги, туловище, ощупала лицо. Человек. Ни шерсти, ни вытянутой волчьей морды. Но слабость и дурнота ушли, силы вернулись, только в голове немножко звенело, да живот подвело от голода. Зверского! Невзора сожрала бы сейчас целого быка и не подавилась. Вот только где его взять?
На листьях лопуха рядом с ней лежали куски мяса. Ёрш выделил ей долю? Или, может быть, Размира принесла? Невзора обнюхала мясо. На нём был запах Размиры, и охотница улыбнулась. Костёр разводить было неохота, да и солнечное пятно наверху – слишком слепящее, чтоб туда соваться за дровами... Холодок пробежал по лопаткам: похоже, превращение завершилось, раз глаза стали так чувствительны, а при виде сырого мяса текли слюнки. Она бы и так его съела, не поджаривая. Заурчав, Невзора вонзила зубы в сочную плоть. Уррр, слишком вкусно, чтобы портить огнём. Внутренний зверь вздыбился, кровожадно скаля пасть, и жадно набросился на пищу.
Чувствовала она себя почти прекрасно, но ногу ещё берегла, не решалась вставать. Сытое нутро совершенно успокоилось, и Невзора поражалась самой себе: не только телесное самочувствие поправилось, но и от былых душевных страданий не осталось следа. Всё вдруг встало на свои места. Зверь всегда жил в ней, с людьми её держала только человеческая оболочка, так о чём же горевать? Ничего существенно не изменилось.
«Ладушка», – заныло сердце. Но ныло оно слабо, будто солнечный свет из отверстия в потолке приглушал тоску. Зверь не скучал по сестре, но человеческая часть Невзоры всполошилась: неужто Ладушке суждено уйти из её сердца, изгладиться из памяти? Неужели звериная суть убьёт любовь к ней? Нет, такого нельзя допускать! Нужно помнить, нужно любить! Да, больно. Пусть. Если эта боль – всё, что у неё осталось от Ладушки, она будет носить её в себе вечно.
Закрыв глаза, Невзора мысленно ласкала образ сестрицы, гладила ладонями шелковистые волосы и нежные щёки. Не потерять, только бы не потерять это! Не озвереть полностью, не жить лишь потребностями утробы. Искра человеческого должна оставаться. Размиру держали дети, а у Невзоры была Ладушка.
А вот Лелюшку, похоже, уже не держало ничто. С наступлением ночи Ёрш, проверив ногу Невзоры, решил, что новенькая уже может отправляться на охоту вместе со всеми.
– Ты здорова. Отдохнула – и будет с тебя. Ступай пропитание добывать, дармоедов не держим.
Скорость заживления увечий поражала воображение. Нога стала целёхонька, будто Невзора её и не ломала. В эту ночь её внутренний зверь наконец обрёл соответствующий внешний облик.
Это было очень легко. Кувырок через голову – и Невзора уже бежала на четырёх лапах, как будто всю жизнь была волком. Тонкий слой хмари стлался по земле мерцающей радужной плёночкой, ускоряя бег в разы, и теперь охотница не отставала от новообретённых сородичей. Вместо одежды её грела густая чёрная шерсть.
«Ну, как оно?» – подмигнула бежавшая рядом Лелюшка; это движение глаза только и осталось в ней от человека: обычные волки не умели так делать, а вот у оборотней морды были не в пример выразительнее и подвижнее.
«Хорошо», – отозвалась Невзора. Волчье строение челюстей не позволяло говорить вслух, и мыслеречь получилась сама собой – как дыхание.
Обучать Невзору охоте никто не собирался, она и так в бытность свою человеком умела добывать зверя. Отличие было только одно: теперь ей не требовалось оружие. Молниеносная быстрота и смертельно острые зубы оказывались главным и достаточным условием успешной охоты.
А Лелюшка между тем отстала немного от охотничьей ватаги и свернула куда-то в сторону, исчезнув за деревьями. Ёрш даже не обернулся, но знал, что происходило позади.
«Эй, новенькая! – уловила Невзора своим внутренним слухом его приказ. – Верни её. Ишь, воровка рыжая... Опять, поди, к людям лыжи навострила. Доиграется однажды».
Казалось, хмарь сама несла Невзору с небывалой скоростью: стволы мелькали частоколом, ночной ветер свистел в ушах. Она быстро нагнала Лелюшку.
«Ты куда? Ёрш велит тебе вернуться и не отлынивать от охоты».
«А пошёл он к лешему», – был дерзкий ответ.
Невзора попыталась преградить ей путь, но нахалка перемахнула через неё и помчалась дальше.
«Эй, да стой ты! Ты что, к людям собралась?» – Невзора бросилась следом, не отставая.
«Не твоего ума дело».
Попытки вернуть своевольную рыжую бестию проваливались одна за другой. На все увещевания и уговоры та только грубила и дерзила в ответ, а когда впереди и впрямь показалось людское жильё, она вдруг сама остановилась как вкопанная. Она всматривалась в сонные крыши деревенских домов прищуренным, прохладно-жёлтым взором.
«Что, воровать полезешь?» – хмыкнула Невзора.
«Нет надобности. Сейчас нам всё и так принесут. – И Лелюшка скосила на охотницу насмешливый глаз. – Смотри и учись, покуда я живая».
Она закрыла глаза и умолкла. Со стороны она казалась глубоко ушедшей в себя, сосредоточенной, всё её тело натянулось стрункой, одна передняя лапа поджалась. Что-то звенело в тихой ночи – мысль не мысль, зов не зов... А может, это мерещилось Невзоре?
«Ты чего?» – решилась она подать мыслеголос.
«Цыц, не мешай», – не открывая глаз, ответила Лелюшка.
И всё снова стихло. Наконец, опустив лапу и открыв глаза, слегка затуманенные, но донельзя плутовские, она сказала:
«Ну всё. Сейчас придёт».
«Кто?» – недоумевала Невзора.
Лелюшка глянула на неё с тягучим, многозначительным прищуром.
«Зазнобушка моя тут живёт».
У Невзоры сперва жарко ёкнуло внутри, а потом ледяные лапки мурашек защекотали ей лопатки. Лелюшка не сводила с неё дерзкий, насмешливый, немигающий взгляд.
«Чего уставилась? Ты ж сама таковская. Я тебя насквозь вижу. Тоскуешь по Ладушке-то своей?»
У Невзоры вырвался рык, шерсть на загривке вздыбилась.
«Это не то! Лада – сестра моя».
Лелюшка и ухом не повела, оставаясь всё такой же спокойно-насмешливой, до мурашек проницательной.
«Не рычи! Сердитая какая... Да это неважно, кто она. Ну, пусть сестра. Только по тебе всё равно всё видно сразу. Когда Размира давеча к тебе прижалась, ты вся так и сомлела».
Невзора не знала, то ли ей вцепиться Лелюшке в горло, то ли вертеться волчком и рыть лапами землю. В охватившем её смущении она была готова перекусить древесный ствол, как былинку.
«Да ладно, расслабься ты, – повела смеющимися глазами Лелюшка. – Спрячься лучше вон в те кустики, не надо зазнобушку мою пугать».
Вскоре обострившийся слух Невзоры уловил чью-то лёгкую поступь. Лелюшка вся подобралась: уши торчком, хвост стрелой, глаза – жёлтые звёздочки.
«Плывёт моя рыбонька... И не с пустыми руками! Прячься, кому говорю! Не надо ей тебя видеть».
Лелюшка решительно и бесцеремонно затолкала упирающуюся Невзору в кусты, а сама перекинулась в человека. Встряхнувшись и встрепав свою рыжую гриву руками, она вперила плотоядно-пристальный взор в ночную тьму, а её губы раздвинулись в хищно-сладострастной улыбке.
Шаги приближались, и вскоре показалась девичья фигурка – простоволосая, в одной сорочке, босая. К груди девушка прижимала узелок, источавший соблазнительный запах жареной курицы. Робко остановившись, она позвала:
– Лелюшка, ты здесь? Боязно мне...
– Здесь, моя ты рыбонька! Здесь, моя заюшка. – И рыжая девица-оборотень в три прыжка очутилась рядом, поймав девушку в объятия. – Нечего бояться, моя радость. Чего ты дрожишь, Хорошка? Озябла? Что ж ты в одной сорочке-то выскочила, ничего не накинула... Ну, прижмись ко мне покрепче, сладкая моя, я тебя согрею на груди своей!
Голос её стал низким, чувственно-бархатным – змейкой обвивался, урчал и ластился, соблазнял и околдовывал. Она принялась чмокать всё лицо девушки кругом – быстро, ненасытно, напористо.
– Ох, Лелюшка... погоди! – Хорошка пыталась отвернуться, уклониться от жадных губ. – Опять меня матушка за курицу ругать станет... Я ведь всем говорю, что сама ем. Надо мной уж насмехаются, дразнят, обжорой обзывают... А ежели выследят меня, узнают, куда я ночью хожу? Батюшка меня прибьёт! И тебе может достаться...
– А яснень-трава у твоего батюшки есть? – настороженно прищурившись, спросила Лелюшка.
– Нету, – пробормотала ночная гостья.
– Ну и ладненько, ничего он тогда мне не сделает, бояться нечего, – ловя ртом её губки, проворковала Лелюшка. – Я никому не дам тебя и пальцем тронуть, моя ты золотая! Ты ж моя куколка, ты ж моя красавица! Скажи: любишь меня, пташка моя сладкая?
Девушка уже млела и таяла под поцелуями, уже не отворачивалась, трепеща длинными ресницами и запрокидывая голову, и сладострастный рот девицы-оборотня присосался к её лебединой шейке.
– Ты сама знаешь, Лелюшка...
– Нет, скажи! Хочу слышать, как твои уста дивные лепечут это! – дохнула ей в губы рыжая сластолюбица.
– Ох, люблю... Из ума я, должно быть, выжила! – И девушка обвила руками шею Лелюшки, уронив узелок.
Та подхватила её в объятия и понесла в соседние кусты – рядом с теми, в которых пряталась Невзора. Возня, шуршание листвы, обрывки нежных слов, влажные, сладострастные чмоки... Хорошка пискнула, а Лелюшка засмеялась. Из кустов вылетела скомканная сорочка. Снова писк, гортанный смешок.
– Ой, Лелюшка, постой, колко мне! Сорочку бы подостлать...
– Ах, какая попка у нас нежная, к перине привыкшая! Ладно, золотко, погоди.
Из кустов высунулась когтистая рука и втянула назад девичью рубашку. Вскоре начались такие развесёлые и недвусмысленные охи-вздохи, что у Невзоры запылали малиновым огнём уши. Она сидела уже в человеческом облике, с красными щеками, зажав себе рот и вытаращив глаза.
– Ай... ай... ай, – стонала и повизгивала девушка.
Лелюшка только порыкивала. После окончательного «аааааай!», протяжно взвившегося к ночному небу, всё стихло ненадолго, а потом опять начались поцелуи. Затем Лелюшка в зверином облике катала голую девушку на себе верхом вокруг кустов, а та, обхватив длинными стройными ногами мохнатые бока огромной волчицы, руками держалась за её густую шерсть на загривке. А между тем забытый узелок с курицей лежал и соблазнительно пахнул, и у Невзоры из живота донеслось урчание, прозвучавшее в ночной тиши просто оглушительно.
– Ах! – вскрикнула Хорошка испуганно. – Там кто-то есть!
Она колобком скатилась с волчицы и спряталась за ней. Лелюшка перекинулась, заключила возлюбленную в объятия и принялась успокаивать.
– Да нет там никого, моя пташечка. Тебе послышалось.
– Нет, есть! – упорствовала девушка. – Я боюсь!
– Ладно, сейчас посмотрим. – И Лелюшка, решительно и недобро сжав рот, потянулась за узелком с курицей.
Её просунувшаяся в кусты рука отвесила Невзоре подзатыльник, а готовый вырваться возмущённый возглас заткнула куриным окорочком.
– Никого нет, моя горлинка, – сказала Лелюшка, вернувшись к девушке и снова принимаясь за ласки и поцелуи.
– Лелюшка, но я ясно слышала... «Буррр!» – что-то этакое!
– Это, видать, птица буркотелка, – сказала девица-оборотень, нежно и осторожно, чтоб не поранить, кусая её за ушко.
– Это что ж за пташка такая? Никогда не слыхала...
– Вот теперь и услыхала. Птичка-невеличка, порхает по кустам, но не щебечет, а бурчит!
У Невзоры, красной до корней волос, охваченной смесью негодования, смущения и странного чувственного жара, вырвался смешливый хрюк. Она тут же зажала себе рот, но слишком поздно: девушка опять услышала.
– А это какая-то другая пташка!
– Да, это птица-хрюндель, – ответила Лелюшка, бросая свирепые взгляды в сторону кустов и исподтишка грозя им кулаком. – И коли она не перестанет пугать мою горлинку, то получит в рыло!
Невзоре хотелось утечь сквозь землю, но вместе с тем что-то держало её здесь – какое-то жгучее, постыдное, но такое цепкое и липкое любопытство. Успокоенная объяснениями о чудо-юдо-птицах, Хорошка тем временем доверчиво и игриво прильнула к Лелюшке.
– А покатай меня ещё... Твоя шёрстка так щекочет между ног приятно!..
Ноздри девицы-оборотня чувственно дрогнули, глаза замерцали угольками.
– А давай-ка лучше я тебя там пощекочу, моя красавица, – осипшим от страсти голосом сказала она. – Ты моя сладкая, ты моя оладушка медовая!
Подхватив хохочущую и дрыгающую ногами Хорошку на руки, Лелюшка снова нырнула с нею в кусты, и всё началось сызнова. Невзора заткнула себе рот окорочком, а уши зажала ладонями, но ахи и крики ничем нельзя было заглушить. Трудилась Лелюшка над своей зазнобой вдохновенно, добросовестно, со знанием дела, доставляя ей, по-видимому (или, скорее, слышимому) несравненное наслаждение. Не боялась её звериного облика хорошенькая селянка, визжала под ней с безоглядным удовольствием. Наконец Невзора выползла из кустов на четвереньках, уковыляла на подкашивающихся ногах подальше, прислонилась спиной к древесному стволу и соскользнула на корточки. Переводя дух, она сама не заметила, как от куриного окорочка – «нечестной» добычи – остались одни косточки.
– Тьфу ты, съела всё-таки, – выругала она себя.
Скоро перед ней выросла из мрака фигура Лелюшки. Шагала девичья совратительница мягко – так и плыла, покачивая бёдрами, вся окутанная бесстыжей чувственностью, пахнущая похотью, со вспухшими зацелованными губами. Последние она ещё и облизнула хищно языком, точно съела вкусненькое: в каких лакомых местечках тот только что напропалую гулял и баловался – только представить себе!.. Уж наверняка нырял не только в девичий ротик... Подбоченившись, Лелюшка смерила охотницу насмешливым взором.
– Ну что, птица-хрюндель, дохрюкалась? Сказано ж тебе было – сидеть в кустах тихонечко!
– Ну, вырвалось! Ты сама виновата, – сердито огрызнулась Невзора. – Какого лешего тебе понадобилось меня смешить? «Птица буркотелка»! Ты б ещё пташку-пердушку выдумала...
Лелюшка посмотрела на неё внимательно, всё с теми же язвительными искорками в наглых глазах.
– Пришлось бы выдумать, коли б у тебя с другого конца вырвалось, – сказала она.
Тут хрюкнули обе. Невзора провела ладонью по лицу, застонала.
– Ну ты, Лелюшка, и... Даже не знаю, как и назвать-то тебя! Кобелём не назовёшь, потому как пола ты противоположного, но суть твоя похотливая ещё и не такого словца достойна...
– А хоть горшком зови, только в печь не ставь, – усмехнулась рыжая любительница сладострастных утех. – Уж что-что, а заставлять девок визжать я умею и через то всегда сыта, даже не охотясь. Отрицать не стану: люблю я девок... И они – меня. Пока всех прелестниц в деревне не переберу, не успокаиваюсь. А как всех на себе верхом перекатаю – за следующее село принимаюсь.
– И что, все смелые такие – с оборотнем баловаться? – криво усмехнулась Невзора.
– А чего им бояться? – цинично прищурилась Лелюшка. – От меня ж не забеременеешь – последствий никаких. Одна только взаимная выгода от этого происходит: и им услада, и мне кормёжка!.. Ладно, пойду я, а то моя зазноба там озябнет без моих горячих объятий! Не налюбилась я ещё... – И Лелюшка, плотоядно облизнувшись, гибко и чувственно повела плечом, двинула бедром.
Снова лёгкие шаги, шуршание листвы – и Невзора молниеносно скрылась за толстым стволом.
– С кем ты тут разговариваешь? – раздвигая руками кусты, спросила Хорошка. – И зачем меня покинула?
– А ни с кем, моя звёздочка ясная, – раскрывая ей объятия, разулыбалась Лелюшка. – И вовсе не покидала я тебя, что ты! Только отлучилась ненадолго – дух перевести. Ну, иди ко мне, моя сладенькая, обними меня и поцелуй!
Руки девушки обвились вокруг её шеи, а обнажённые ноги обхватили бёдра девицы-оборотня: возлюбленная запрыгнула на неё, прильнув всем телом и изнывая от желания. Их губы тотчас неистово соединились в поцелуе, и Лелюшка, поддерживая девушку на себе под ягодицы, прислонила её спиной к дереву, за которым пряталась Невзора.
Той оставалось только снова поскорее отползти и устремиться в лес. Но перед её глазами ещё долго стояла эта картинка: Хорошка, отдающаяся с таким исступлением, с таким бесстыдством и ненасытностью, что и подумать неловко. Чего стоил этот жаркий, крепкий обхват ног, пушистый треугольник ниже пупка, молодая стоячая грудь, жадные до поцелуев губы!
– Бррр, – встряхнулась Невзора, а в следующее мгновение бежала уже в зверином облике – подальше от места любовных утех.
У неё и нутро горело от смущения, что она при всём этом присутствовала, и вместе с тем это разжигало в ней самой доселе дремавшие желания.
Она попыталась сосредоточиться на охоте, но эта паскудная картинка так и стояла перед взглядом и заслоняла собой всё. И как теперь возвращаться к вожаку с вестью о невыполненном поручении? Да ведь с этой Лелюшкой никакого сладу – ну не за шкирку же её от девушки оттаскивать. Вот, значит, как она добычу свою достаёт... Ну, хоть не воровством. Впрочем, и этот способ казался Невзоре не намного достойнее.
Взбудораженная увиденным, она мчалась, не разбирая дороги, и наткнулась на кабана – матёрого секача, клыкастого одиночку. Тот гостям не обрадовался, и встреча вышла весьма кровавой. В волчьем облике Невзора превосходила кабана в размерах, но тот не собирался дёшево отдавать свою жизнь и распорол ей клыками бок. Невзора, обливаясь кровью, отскочила; её трясло, дыхание лихорадочно рвалось из груди. Непросто было подступиться к этому зверюге, шкура у него – как броня, не прокусишь, до того ороговела. Но Невзора-охотница знала слабые места в его защите, да и быстротой она теперь обладала неимоверной. Разогнавшись, она сшибла вепря с ног, полоснула бритвенно-острыми зубами по брюху – и готово. Зверь завизжал, а потом захрипел: из длинной раны вывалились наружу петли кишок. Скоро ему настал конец.
Рана Невзоры была серьёзна, но не смертельна. Памятуя о свойствах хмари, о которых ей поведала Лелюшка, она заткнула свою распоротую плоть сгустками радужного вещества. Они держались в ране сами, без повязки, и кровотечение остановилось. Но у Невзоры кружилась и звенела голова, пересохло во рту, а ноги подкашивала слабость. Возбуждение схватки схлынуло, уступая место вялости и дрожи. Она уселась в человеческом облике рядом с кабаньей тушей, прислонившись к ней спиной, и закрыла глаза. На внутренней стороне сомкнутых век плыли разноцветные пятна.
– Ого, вот так добыча! Знатная ты охотница! – прозвенел голос Размиры.
Её ладони прильнули к бледным щекам Невзоры.
– Ох... Ты ранена? Ничего, ничего... Сейчас я на помощь позову!
Вскоре показались остальные охотники. Ёрш оценил добычу, обойдя тушу кругом, одобрительно, но сдержанно кивнул.
– Недурно.
Он был скуп на хвалу. О Лелюшке он даже не спросил. Тушу разделали и отнесли к месту стоянки по кускам; Размира заботливо поддерживала раненную Невзору, а когда они наконец пришли, устроила её на мягком ложе и напоила водой. Водица пришлась очень кстати, прохладно пролившись в стиснутое болезненной жаждой горло Невзоры.
От кабаньей туши ей достались самые лучшие куски: Ёрш рассудил, что доблестная охотница их сегодня заслужила. Впрочем, в ту ночь Невзоре было не до еды. Её донимала рана, и она съела лишь немного ягод, собранных Размирой, да время от времени потягивала воду. Лишь к вечеру следующего дня, оправившись, Невзора смогла наконец как следует подкрепиться, а нутро радостно приняло пищу. Похоже, на заживление раны ушло немало сил, потому что есть хотелось до дрожи. Всё ещё изумляясь быстроте, с которой заживали телесные увечья (на месте раны остался только розовый шрам), Невзора отрезала охотничьим ножом кусочки кабанятины и отправляла себе в рот. Её зверь мог бы без особых церемоний просто рвать мясо зубами, но её человеческая суть противилась этому. По той же причине в людском облике Невзора снова одевалась, а не расхаживала голышом.
Она вздрогнула: пальцы Размиры коснулись её спутанных чёрных прядей. И опять внутри что-то ёкнуло, сладко сжалось в ответ на женскую ласку. Но как всё это назвать, в какие облечь слова, Невзора не знала.
– Чего? – усмехнулась она, отрезая кусочек мяса.
Размира, сидя рядышком, с задумчивой улыбкой любовалась ею. Её рука скользнула вниз по плечу Невзоры, пальцы изучали, прощупывали.
– Ты сильная, – сказала женщина-оборотень, и улыбка, угаснув на губах, осталась мерцать в её глазах загадочной лесной искоркой, чуть грустной и, наверное, немного усталой. – Сильнее, чем кто бы то ни было. Вот, малины ещё покушай.
И Размира достала кулёк из листа лопуха, полный мелковатых, но очень сладких ягод. Ягодку за ягодкой она клала Невзоре в рот, а та принимала угощение губами, украдкой любуясь женственными изгибами бёдер лесной красавицы. Грудь пряталась за длинными русыми прядями, не слишком большая и не слишком маленькая – в самый раз, чтоб охватить пятернями. Поймав себя на таких мыслях, Невзора ощутила жар на щеках, но продолжала есть малину из рук Размиры, а потом и сама угостила её ягодкой-другой. Шелковистая, тёплая мягкость губ женщины... Что могло быть прекраснее? Но за ними следили насмешливо-понимающие глаза Лелюшки, и Невзора стёрла с губ улыбку, подобралась и чуть отодвинулась от Размиры.
Добычей они запаслись основательно, и выходить в эту ночь на новую охоту не было надобности, поэтому вся стая предавалась отдыху. Чем занимались Марушины псы на досуге, в свободное от поиска пропитания время? Кроме песен и сказаний, которые Невзора уже слышала, были у них и иные забавы. Людомир, оборотень зрелых лет, хранил у себя игральные кости, и мужчины порой увлечённо их метали. Были в стае и игроки-любители, и те, кто предпочитал только наблюдать за игрой. Денег оборотни не имели, что же они могли ставить? Играли на добычу – проигравший обязывался отдать свою долю победителю; также на желания – порой весьма забавные, вроде того, чтоб влезть на дерево и кричать петухом. Молодой Борзута вечно лез играть, но ему всё время не везло; то-то все потешались над ним, когда он после очередного проигрыша полез на дерево кукарекать, да ветка обломилась! Ежели б не хмарь, упасть бы ему в огромную, страшную крапиву.
Ещё бытовала в стае игра в отгадывание слов: слово нужно было показать движениями, молча, и зрелище получалось зачастую довольно потешное, но и голову порой поломать приходилось. Невзора с её умением изображать голоса птиц снискала уважение, её часто просили посвистать да почирикать и дивились, как у неё ловко это выходит. А главное – похоже, точь-в-точь! Также загадывали друг другу загадки, но не простенькие наподобие «зимой и летом – одним цветом», а мудрёные, заковыристые. Некоторые из них Невзора помнила, но чаще всего оборотни придумывали их сами – новые, никогда и никем доселе не слышанные.
Любили Марушины псы и подвижные занятия: бег наперегонки, борьбу. Вот в этих видах состязаний Борзута частенько выходил победителем. Молодая звериная мощь его била через край и не знала удержу, и частенько вожаку приходилось его одёргивать и осаживать, чтоб он, увлёкшись, кого-нибудь в пылу схватки не покалечил.
– Дуралей молодой, что с него взять, – хмыкал Ёрш. – Сила есть – ума не надо.
И всё же молодость – не вечный недостаток; однако у вожака были подозрения, что Борзуте и с годами не очень-то суждено поумнеть.
Кончилось щедрое на тепло и лесные ягоды лето. Всё чаще пряталось солнце за серым пологом туч; в такие пасмурные дни оборотни могли выйти на охоту и в светлое время суток. Холодно и неуютно стало в лесу, сыро и промозгло. От дождя стая укрывалась в подземных ходах. Там можно было и огонь развести, погреться. Костры обычно разводили под отверстиями – «окнами» на поверхность, чтоб дым выходил. Вот это и отличало оборотней от обычных лесных зверей и роднило с людьми: они владели огнём и не боялись его. Невзора с Размирой собирали грибы и поджаривали их на костре; ох и душисты были они, особенно белые! Их манящий дух напоминал Невзоре матушкины пироги, а там и тоска о Ладушке оживала. Угрюмость накатывала на неё, душа растворялась в осенней зябкости, и не радовал яркий, красочный наряд леса. В такие непростые мгновения особенно драгоценна была молчаливая, но тёплая, как костёр, поддержка Размиры. Понемногу Невзора узнала и прочих членов стаи, но та была всех ближе, всех душевнее.
Это вышло как-то само собою: они легли на дневной отдых друг подле друга, а проснулись в объятиях... Глаза в глаза, сердце к сердцу лежали они и молчали какое-то время, соображая: а что сейчас между ними зарождается – такое тёплое, трепещущее, странно-пронзительное? Невзора поднялась первая и устремилась по подземному ходу прочь от спящих оборотней – как можно дальше от возможных взглядов. Размира бесшумно заскользила следом.
Корни деревьев, причудливо переплетаясь под землёй, окутывали этот уголок, пол выстилал слой старых, как прах, прелых листьев, а в выходное отверстие падал луч серого осеннего света. Он водопадом нисходил на их плечи и головы, застилал глаза серебристой полуслепотой, но они видели друг друга руками, скользя ладонями по лицам, по плечам, сплетаясь пальцами. А потом смешалось и сплелось их дыхание, приоткрытые губы нашли друг друга и слились в горячей, влажной взаимной ласке.
– Ты сильная... Сильнее всех, – повторила Размира, скользя руками по спине Невзоры. – В тебе дух воина, воина-одиночки. Ты – не как они. Ты иная.
– Ты дорога мне, – шептала в ответ Невзора. – Ты греешь мне сердце и душу.
– Будь ты мужчиной, я бы стала твоей женой. – Пальцы Размиры впивались кончиками в кожу, губы выжигали рисунок поцелуев.
– Тебе только мой пол мешает стать ею? – Невзора поймала её подбородок, стиснула жёстко, вопросительно, сквозь пелену серого света всматриваясь ей в лицо. – Или боишься, что скажут другие?
– Я не боюсь.
– Тогда стань мне женой.
– Возьми меня...
Обе мало смыслили в таких ласках, но – леший их знает, как! – нащупывали путь к наслаждению. Что-то Невзора подсмотрела у Лелюшки, о чём-то догадывалась. Они пробовали наугад, ошибались, искали иной способ – и он оказывался действенным. Получилось, сработало – и они тяжко дышали, кусались и целовались, тискали и истязали друг друга, пока, вконец вымотанные, не упали на лиственное ложе, пахнувшее прелью и сыростью.
– Ты понимаешь, что это значит?
– Я твоя... И неважно, что все скажут.
– Моя... Ты моя.
Их клыки столкнулись в крепком поцелуе-укусе. Невзора вычёсывала пальцами из длинных прядей Размиры запутавшийся лиственный мусор, а та поёживалась от чувственных мурашек.
Они не обсуждали ни с кем то, что между ними произошло, и никто им ничего не сказал. Понимающий взгляд Лелюшки ползал по спине Невзоры, будто какое-то насекомое; с распутной рыжей волчицей она так и не сдружилась, хотя та поначалу и подлизывалась, и пыталась понравиться, втереться в доверие. Но не лежала у Невзоры к ней душа. Ерша она уважала, восхищалась Древцем – сказителем удивительных историй и великолепным охотником; Борзута вызывал у неё добродушную усмешку, как глуповатый, но любимый младший братец. А между тем именно с ним ей пришлось столкнуться в поединке.
Парню давно нравилась Размира, но она на его ухаживания не ответила. И всё же он не терял надежды её завоевать, пока в стае не появилась Невзора – воин-одиночка, чьё мрачноватое обаяние и покорило сердце длинноволосой красавицы. Невзора не питала к нему никакой вражды, а вот он, похоже, всерьёз заточил на неё зуб. Таить и копить в душе злобу он не умел, коварство не было ему свойственно, чувства свои он выражал открыто, а потому и вызвал охотницу на бой.
Стая отдыхала и предавалась развлечениям. Всё происходило вроде как в шутку, но по жгучим искоркам в глазах Борзуты Невзора поняла, что у парня есть к ней личные счёты.
– Оставь Размиру, она моя, – прорычал он.
– Эй, дружище, а ведь она не вещь, чтоб кому-то принадлежать, – усмехнулась Невзора. – И она сама выбирает, с кем ей быть.
– Она останется с победителем! – рявкнул Борзута и кинулся на неё.
Дрался он страстно, мощно и яростно, но и Невзора была не лыком шита. Бесхитростный и прямой, Борзута и в бою таковым оставался, пёр напролом, а его противница, хоть и тоже не из робкого десятка, имела иной склад ума. Ловля птиц научила её хитрости, расчётливости, терпению и хладнокровию. Она ловко увёртывалась, и пасть Борзуты щёлкала, ловя лишь пустоту. За их поединком наблюдали старшие члены стаи; за каждый удачный приём насчитывалось очко, за промах очко снималось. Невзора выигрывала восемнадцать – пять. Она выматывала Борзуту, заставляла тратить силы попусту, но сил у молодого оборотня было хоть отбавляй. Он таки цапнул Невзору за плечо, и она потеряла очко, а он его получил. Но не очки были ему важны, он хотел свалить соперницу и взять себе женщину.
«Парень, она всё равно с тобой не будет, независимо от исхода боя. Не люб ты ей. А силой ты её не заставишь», – сказала ему Невзора посредством мыслеречи.
«Это мы ещё посмотрим!» – И Борзута взвился в прыжке – могучий и огромный, как гора.
Невзора сама не поняла, как сгусток хмари оказался у неё в пасти. Он уплотнился, став жёстким, как камень, а в следующий миг полетел в Борзуту с силой стенобитного орудия. Крутанувшись волчком на месте, она выплюнула хмарь, и Борзута, издав хлюпающий звук, отлетел на добрых пять саженей и шмякнулся о дерево. На голову ему посыпались шишки.
– Если на счёт «десять» не подымешься, ты проиграл, – сказал Ёрш.
Борзута фыркал, качался, как пьяный, лапы его подкашивались, глаза съехались к переносице, но он упрямо пытался подняться. Когда прозвучало «десять», он, шатаясь, стоял на всех четырёх. Но боец был из него уже никакой, и Невзора победила, приложив его хмарью ещё раз.
– Извини, дружище, – усмехнулась она, принимая человеческий облик, и добродушно потрепала растянувшегося на земле противника по лохматому загривку.
С первым снегом стая окончательно перенесла место своего отдыха в подземелье. Невзора обнаружила, что стала малочувствительна к морозу; холод она, конечно, ощущала, но не страдала от него, он ей не мешал ни в зверином, ни в человеческом облике. И всё же она была всегда не прочь погреться у огня – особенно вместе с Размирой. Она сделала ей в подарок костяной гребень, чтоб та могла расчёсывать свои прекрасные волосы.
Оборотней было почти невозможно выследить: они умели передвигаться по хмари, не оставляя отпечатков лап. И всё же стаю умудрились найти люди. Это были даже не охотники, а двое усталых, измученных переходом по зимнему лесу детей – мальчик и девочка.
Бедно одетые, закутанные в дырявые зипуны, они валились с ног от утомления и голода. Носы и щёки у них были обморожены. Ёрш сидел у костра в подземелье и ел лосиную печень, когда два оборотня притащили и бросили перед ним маленьких пришельцев наземь.
– Кто такие? – сурово спросил вожак.
– Мы матушку ищем, – чуть слышно ответили те.
Пещеру огласил вопль. Размира, сорвавшись со своего места, кинулась к несчастным, замёрзшим ребятишкам, сгребла в объятия и принялась осыпать их обмороженные мордашки безумными поцелуями.
– Детушки! Малоня! Звиша! Это я, матушка ваша! Родные мои, пташки мои, заиньки мои! Как же вы нашли меня?
Она верно назвала имена детей, и те заплакали, обнимая её в ответ.
– Матушка, матушка, батюшка нас обманул, сказал, что ты утонула! А тётка Медведиха нам правду сказала – что ты в лесу теперь!
– Кровинушки мои, – стискивая их в жадных, оберегающих объятиях, бормотала Размира с мокрым от слёз лицом.
Такие это были неистовые объятия, что никто не осмелился бы сейчас приблизиться к ней. Она любого бы в клочья порвала, если б у неё попытались отнять детей. Большего от измученных ребят добиться было нельзя: они падали с ног, Размира держала их на весу.
– Ёрш, разреши им отогреться! – взмолилась она вожаку.
Тот кивнул.
– Пусть греются. Можешь их накормить.
Место у костра для них нашлось. Размира бросила короткий благодарный взгляд на Невзору, которая тут же принялась варганить в котелке похлёбку из мяса и сушёных грибов. Обмороженные места детям смазали жиром. Укрытые одеялом из заячьих шкурок, Малоня со Звишей уснули у огня, даже не дождавшись еды.
– Как бы не захворали, – шептала Размира, то и дело поправляя одеяло.
Дети спали долго. Их дыхание едва слышалось, и Размира забеспокоилась, не сделало ли охлаждение своё убийственное дело. Разбудив их, она поила их горячей похлёбкой, а те, полусонные, кое-как глотали. Мясо было для них жестковато, но им, чтоб согреться, хватало и отвара, на поверхности которого плавали капли жира. Потом они снова уснули. Костёр горел, поддерживаемый новыми и новыми охапками дров.
Едва проснувшись, дети тут же снова очутились в объятиях матери. Размира, целуя их и успокаивая ласковыми словами, расспрашивала их о житье-бытье, и те поведали:
– Батюшка женился опять... Мачеха уже двоих родила. Матушка, худо нам живётся! Не любит нас батюшка, не разговаривает, смотрит так, будто мы пустое место! А если и скажет слово, то не доброе, а злое. Мачеха лишним куском попрекает, работать тяжко заставляет. Говорит – обжоры мы, её детей объедаем... Бьёт нас чем попало, и скалкой, и палкой!
А между тем ребят нельзя было назвать упитанными, скорее – наоборот. Щуплые, осунувшиеся, бледные и малокровные, они явно страдали от недостатка родительской любви и пищи. Закончив свой печальный рассказ, они снова попросили есть.
У Невзоры уже была готова жареная рыба и отвар из сушёной клюквы, а жена вожака угостила детей орехами из своих запасов. Размира заботливо очищала рыбу от костей, придирчиво проверяя каждый кусочек, и только после этого давала им. Кисленький, но горячий клюквенный отвар и прогревал нутро, и помогал предотвратить простуду. Обыкновенно светлое чело Размиры потемнело и хмурилось, глаза горели гневным огнём.
– Чего ты? – спросила Невзора.
У той лицо дёрнулось, точно от боли, взгляд негодующе сверкнул.
– Ни в чём детки не виноваты – разве их вина, что их мать оборотнем стала? – процедила она. – За что же им такое житьё? Мачеха она и есть мачеха – человек чужой, но родной отец! Не ожидала я такого от мужа. Ежели б знала я, что он о них худо заботиться станет, давно бы их с собой забрала.
Она обратилась к вожаку за разрешением оставить детей в стае, но Ёрш ответил:
– Ты сама знаешь, обращать детей в Марушиных псов – запрещено. Этот закон я нарушать сам не стану и никому не позволю. Я тебе так скажу: верни их отцу. Оставишь – беда будет. Я это нутром чую. А чуйка меня ещё ни разу не обманывала.
Размира была в отчаянии. Дети плакали и умоляли не отправлять их домой к злой мачехе и равнодушному отцу.
– Вот что, – поразмыслив, сказала Невзора. – Не горюй. В стае детям и впрямь не место, но можно их устроить в зимовье. Там хотя бы печка есть и спать по-человечески можно.
Она выбрала одну из маленьких лесных избушек, расположенную глубже и дальше всех от людского жилья. Судя по давно испортившимся и погрызенным мышами остаткам припасов, туда уже много лет никто не заглядывал. И неудивительно: избушка стояла на границе владений Марушиных псов, так далеко в лес люди заходить опасались, потому и забросили это зимовье. В дровяном сарайчике нашлось всего несколько поленьев. Невзора затопила печь, а сама нашла топор и отправилась в лес – пополнить запас дров. Размира осталась в домике с детьми.
Полночи Невзора трудилась дровосеком, и сила оборотня ей немало в этом помогла. Ей даже топор почти не требовался: от ударов хмарью высохшие поваленные стволы разлетались в щепки, оставалось только собирать их в вязанки и таскать в домик. Срубила она и несколько живых деревьев. Поленница получилась внушительная – надолго должно хватить.
– Днём, когда солнышко светит, я из дому выходить не смогу, – объясняла детям Размира. – От света яркого глазам больно и ничего не видно. Поэтому вы днём не убегайте далеко от меня, а то, случись что, я вас и защитить не смогу.
Огонь в печке пылал жарко. Пока Размира запекала мясо, Невзора натаскала воды из ручья, нагрела и приготовила щёлок для мытья и стирки. Золы в печке нашлось для этого достаточно. Детей искупали в корыте и отстирали их плохонькую, залатанную одёжку. Синяки на их худеньких телах подтверждали рассказ о рукоприкладстве мачехи, и у Невзоры стискивались челюсти, а в груди тлели угольки негодования.
Для Размиры это были дни счастья. Поначалу жизненный уклад у неё с детьми не совпадал: она днём пряталась в сумраке на полатях и спала, а ночью, когда она бодрствовала, у детей закрывались глаза. Но понемногу они приспособились и перешли на ночной образ жизни, чтобы видеть матушку не спящей, а бодрой и весёлой. Вспоминая всё, что рассказывал Древец, Размира забавляла их сказками; заново узнавая друг друга, они задорно и шумно играли. Основной добытчицей была Невзора, но иногда и сама Размира уходила за пропитанием.
Ёрш этого не одобрял. Встретив Невзору на охоте, вожак повторил:
– Лучше ей вернуть детей отцу. Говорю вам: беда будет, так вы не слушаете...
– Ёрш, детям плохо с отцом, – возразила Невзора. – Вот скажи, ты позволил бы кому-то чужому поднимать руку на своё чадо? Ты глотку бы перегрыз за такое! А он позволяет мачехе распускать руки. Да ещё и морить ребят голодом! Какой он после этого отец? Да он хуже врага!
Ёрш угрюмо выслушал её жаркие доводы, не перебивая. Когда Невзора закончила свою речь, он коротко сказал:
– Беда будет.
На том они и расстались.
Однажды Невзора пропадала на охоте несколько дней: далеко забралась в поисках зверя. А когда вернулась... Снег вокруг избушки был испещрён лошадиными, собачьими и человеческими следами, распахнутая дверь поскрипывала, печка давно погасла, а на полу в выстуженном домике лежала Размира.
Запах яснень-травы сразу едко ударил Невзоре в нос. Сердце лопалось от натуги, чернокрылая беда раскинулась над головой и клевала душу плотоядным клювом... Размира не дышала, лицо и грудь её были обезображены – блестели сплошной раной. Видно, в неё плеснули отваром. Детей нигде не было.
Тщетно пыталась Невзора отыскать хоть каплю жизни в теле Размиры. Оно уже остыло. Псы и лошади... Здесь были люди-охотники. Следы принадлежали пятерым мужчинам; один из них прихрамывал, другой, редкостный великан, чуть косо ставил ступни, как медведь. Отец забрал детей и убил их мать.
Алая пелена ярости залила взгляд зверя. Он жаждал только одного – мести. Человеческое было сорвано и смято тяжёлой лапой, остались только смертоносные зубы, беспощадные ледяные глаза и бешеный бег по следу.
След привёл Невзору в село. Чёрной тенью проскользнула она по улицам и нашла дом, в котором светились окна. Всё вокруг было погружено во тьму зимнего сна, и только здесь воровато горел свет, будто людям внутри совесть уснуть не давала. Там плакали осиротевшие Малоня со Звишей: их голоса донеслись до острого слуха Невзоры и пронзили ей сердце тонкими и жалобными отзвуками горя. Она приникла к окнам.
– То была уже не ваша матушка! Это зверь! Оборотень с хмарью вместо души! – кричал детям высокий и сильный, статный человек с рыжеватой бородой и холодными голубыми глазами. – Он убил и сожрал бы вас!
– Это матушка! Наша матушка! Она не причиняла нам зла, сказки нам сказывала, кормила нас досыта и играла с нами... Она была добрая! Хорошая! Зачем ты убил её?.. Это не она, это ты – зверь! Ненавижу тебя! – Мальчик бросился с кулаками на рыжебородого, но тот отшвырнул его и ударил несколько раз по щекам.
– Руку поднимать на отца вздумал, щенок? Волчье отродье!
Девочка, сжавшись в углу в комочек, только беспомощно, горько всхлипывала.
В горнице за большим, крепко сбитым столом сидели мрачные охотники. Трое – в зрелых годах, один – совсем молодой, здоровенный парень, чем-то похожий на Борзуту. На лицах их лежала суровая тень. Судя по всему, они и были вместе с мужем Размиры там, в домике.
– Худо Люторь сделал, что убил её... Ох, зря! – промолвил старший, поглаживая бороду с проседью. – Теперь жди мести Марушиных псов. Да и Маруша может разгневаться. Всю траву, что ещё оставалась, он на отвар пустил; а псы придут – и что мы делать станем? Чем защитимся?
– Надо у тётки Медведихи спросить, – подал голос молодой охотник-богатырь. – Она ведунья и травница, может, подскажет чего... Или колдовство какое знает.
– Э, Ченел, ты забыл, видно, что Медведиха Размире – родня! Глупо ждать от неё помощи, – возразил старший охотник.
– А всё равно надо попробовать, может, и поможет, – неуверенно пробормотал молодой Ченел.
Мнения мужчин разделились. Двое – Ченел и коренастый, широкоплечий охотник лет сорока – натянули меховые кожухи и заскрипели по снегу прочь из дома, направляясь к знахарке. Старший прихрамывал, а Ченел косолапил. Да, они там были... Невзора неприметной тенью бесшумно заскользила за ними по хмари, не оставляя следов.
Медведиха жила на окраине в приземистом домишке, который казался ещё ниже под тяжестью снежной шапки на крыше. Сама она походила на своё жильё: такая же невысокая и коренастая, крепко сбитая, сутуловатая, с большой головой и зоркими, острыми очами, в которых блестело что-то волчье, проницательно-звериное. Была она в меховой безрукавке, вышитой сорочке, широкой складчатой юбке и меховых стоптанных чунях. В тёмных кустиках бровей блестели искорками инея седые волоски. Нельзя было точно угадать её возраст: ей могло быть и пятьдесят, и все девяносто. А может, и того больше. Серебряные нити виднелись и в её единственной толстой косе, ничуть не поредевшей с годами. Голову она не покрывала, нося лишь ленту-очелье с подвесками из бусин и пёрышек: видно, в своих зрелых летах оставалась девицей.
– Тёть Медведиха, – прогудел молодым, сочным басом Ченел. – У тебя не найдётся ли какого средства, чтоб от Марушиных псов защититься? Может, яснень-травы хоть щепотка где-нибудь осталась?
Волчьи искорки блеснули в глазах женщины, пересечённые морщинами губы чуть скривились в усмешке.
– Какая яснень-трава, соколики? – проговорила она густо-грудным, чуть надтреснутым, но по-своему, по-ведьмински певучим голосом. – Указом владыки-князя она под запретом, сами ведь знаете. Изничтожили её повсюду, а ежели и осталась где, так мне те места неведомы.
– Ну, может, хоть заговор какой, слова колдовские, – разочарованно пробасил парень.
– А нету от псов заговоров, – сказала Медведиха. – Никакие словеса от них не спасут. Ничем помочь не могу, сынки. Сами беду накликали, сами и расхлёбывайте.
И, одарив гостей ледяным блеском зрачков напоследок, она исчезла за закрывшейся дверью.
– Вот ведьма старая, – процедил Ченел, хмурясь и почёсывая в затылке.
Старший его товарищ только вздохнул.
– Этого и следовало ожидать, – проговорил он.
– А может, тряхнуть её покрепче? – встрепенулся Ченел, сжав могучие кулаки. – Припереть в угол, так и не денется никуда...
– Дурень ты, – сказал старший. – Тебе жить надоело? Медведиху обидишь – проклянёт, ворожбы напустит, вся жизнь твоя наперекосяк пойдёт. С ней лучше не связываться.
– Нам всё одно не жить, коли псы придут, – уныло поникнув широченными плечами, вздохнул Ченел.
Ушли они восвояси несолоно хлебавши. Невзора, притаившаяся под заснеженным плетнём, услышала скрип вновь открывшейся двери.
– А ты, девонька, зайди на два слова, – раздался голос Медведихи в морозном сумраке.
Невзора сперва не поняла, к кому та обратилась, но ведунья сказала с тенью усмешки:
– Тебе говорю, кому ж ещё.
Всё ещё сомневаясь, Невзора вышла из своего укрытия и предстала перед пронзительными, всезнающе-звериными глазами Медведихи. Та посторонилась, пропуская её внутрь.
Потолок в доме был низенький. В углу дышала жаром белёная печь, стройным рядком стояли на полке горшки, на полу лежали домотканые дорожки. Пахло печным теплом, травами, жареным луком. На огне булькало какое-то варево. Невзора принюхалась: вроде не яснень-трава.
– Травушка эта у меня припрятана, только я им её не дам, – словно отвечая на мысли Невзоры, сказала Медведиха. – Размира племянницей мне приходилась. Её мать с отцом от хвори померли; много народу в тот год поветрие выкосило. Вот я и взяла сиротку к себе да вырастила. Когда с Люторем-то она только гулять начинала, предупреждала я её: молодец-то собою видный, да сердце у него жестокое. Случись что – не пожалеет тебя. А она своё заладила: люблю, не могу... Что тут сделаешь.
Кивком она показала Невзоре на стол, и та села, окутанная после морозной ночи домашним теплом. Медведиха поставила перед ней угощение: пироги с сушёными грибами, кашу гороховую с луком да мёд хмельной в кувшине.
– Благодарствую, не до угощения мне, – глухо проговорила Невзора.
– Ешь, – велела Медведиха властно. – Пища нутро согревает и боль притупляет.
Отвыкла Невзора от людской еды. Так от неё домом веяло, что опять тоска встала в полный рост – и глаза печальные Ладушкины. Как-то она там, родная? Жива ли, здорова ли? А Медведиха, присев напротив и сцепив на столе узловатые, но всё ещё полные силы пальцы в замок, вперила в Невзору тьму своих зрачков, в которых мерцал отблеск огня – будто пожара лесного отголосок.
– Вот что я тебе скажу, голубушка. Месть – гиблое дело. Зло притягивает за собой новое зло, кровь влечёт кровь, и нет этому скончания. Месть – зелье, которое не утоляет жажду, а только душу опустошает и оставляет всё такой же алчущей и не знающей покоя. Нет после мести ни мира, ни успокоения. Только пустота мёртвая и холод. Но слова мои, – Медведиха опустила тяжёлые веки, приглушив огонь в глазах, – дойдут до тебя много позже. Не сейчас. Если стая твоя придёт с воздаянием, останавливать вас не стану: бесполезно это, не услышите вы меня. Но и охотникам помощи от меня не будет. Потому что и они зло сотворили.
Побулькивало варево, распространяя тёплый, влажный пар с горьковато-лекарственным запахом. Помолчав, ведунья добавила:
– Детей я к себе возьму, как когда-то взяла Размиру. У неё на роду погибель была написана, и ничего я поделать не могла... Малоню я обучу всему, что сама знаю, а Звиша охотником станет мудрым и великим – не таким, как они. Нынешней жене Люторя тоже есть к кому прислониться: она уже год как с молодым охотником Олиском любовь крутит, мужу изменяет. Она баба хваткая, женит парня на себе.
Отведав всего, что было ей предложено, Невзора ощущала отупляющую, отягощающую нутро сытость. Онемела душа, точно морозом схваченная. Медведиха поднялась из-за стола, тяжело опираясь на край ладонями, отчего на тыльной стороне её рук кожа собралась в сухие складки. Возвышаясь над Невзорой, она сказала:
– Ступай. Об одном только прошу: не зверствуйте сверх меры.
Есть ли в зверстве и в мести мера? Есть ли у этого грань правды, черта справедливости, за которой воздаяние превращается в злодейство, или же всё это от начала и до конца – дело неправое и беззаконное? Невзора не знала ответа, и не мог ей ничего подсказать зимний лес, спящий под снежным покрывалом.
Она не удержалась и заглянула в домик, присела возле тела Размиры, красота которой была погублена убившим её отваром. Сердце снова взбухло болью, как весенняя почка, но душа была выжжена. Лишь мертвящий яд мести тёк в холодных жилах и стучал в висках.
Невзора вернулась в стаю. Мужчины сидели у костра и внимали сказанию вдохновенного Древца, женщины чуть поодаль шили одеяла из заячьих шкурок, тоже насторожив уши – жизнь шла по-прежнему. Ёрш ничего не сказал, лишь движением руки прервал Древца и взглянул на Невзору вопросительно. Она тихо и глухо, еле выдавливая из себя голос, рассказала о случившемся. Слова выходили из неё тяжёлыми, неповоротливыми глыбами.
– Говорил же – беде быть, а вы слушать не хотели, – промолвил Ёрш с угрюмыми отблесками огня в суровых глазах. – Значит, люди ждут мести Марушиных псов? Что ж, чего ждут, то и получат.
Борзута, узнав о гибели Размиры, неистово сорвался с места и исчез в зимней тьме. Видно, он бросился к домику, где лежало тело. Никто не стал его останавливать. Быть ему самым свирепым, самым беспощадным мстителем...
– Кто из людей в этом участвовал? – спросил вожак. – Опиши их.
– Я их хмарью пометила, – сказала Невзора. – Но Люторь – главный убийца. Высокий, борода с рыжиной, глаза голубые, холодные. Обликом спесивый, гордый, будто высокопоставленный муж княжеский.
– Яснень-трава у них ещё осталась? – Ёрш рванул зубами кусок жилистого мяса, принялся жевать.
– Только у тётки Медведихи, но она им её не даст. И оборотням препятствовать не будет. Размира – её племянница. – «В зверстве своём меру знайте», – аукнулось в ушах Невзоры, и она добавила веско, со значением: – Медведиху не трогайте, ей ещё Малоню со Звишей растить.
– Они могут траву у тётки и силой взять, – задумчиво проговорил Ёрш.
– Не посмеют, – заверила его Невзора. – Они её боятся. Она ведь ведунья. Отплатить за обиду может так, что мало не покажется.
– Всяко может статься, – рассудил вожак, поднимаясь на ноги. – Надо быть настороже.
Решено было с ответным ударом не тянуть долго. Ночь уже кончалась, и набег отложили до следующей. Борзута вернулся мрачный, пылающий яростью и гневом; остановившись перед Невзорой, он проговорил:
– Её муж – мой.
– Бери, мне не жалко, – ответила та.
Он кивнул и отошёл во тьму.
Рассвет занимался тяжкий, кровавый. Багровым пятном солнце проглянуло в щель между плотными тучами, озарив землю длинными косыми лучами, а потом и вовсе скрылось. Сумрачный выдался день, и Невзора выбралась на поверхность. Серый свет покалывал глаза, но всё ж далеко не так сильно, как солнечный. Это было терпимо.
– Что, тоже не спится?
Рядом показался Борзута. Он за остаток этой ночи как-то разом повзрослел, посуровел. Серым отблеском стали отражалось небо в его глазах.
– Размиру похоронить надобно, – сказал он.
Не говоря ни слова, они двинулись в путь. Молчал снежный лес, они тоже хранили морозное, гулкое молчание.
В сарае нашлись мотыга и лопата, но мёрзлую землю долбить было трудно. Они расчистили снег и развели костёр, чтоб прогреть слой почвы. Костёр сдвинули в сторону, подолбили немного оттаявшую землю и вернули огонь на место, чтоб отогреть следующий слой. Так, слой за слоем, они вырыли яму глубиной в два локтя (чуть более метра – прим. авт).
– Ежели глубже копать, весь день провозимся, – сказал Борзута.
Тело поднимали осторожно, обмотав руки тряпицами, чтобы не коснуться тех мест, на которые попал отвар. Его запах уже почти выветрился и чувствовался, только если склониться к телу совсем близко. Они вынесли его из дома на одеяле и положили на край ямы.
– Что он сделал с ней, проклятый! – глухо, сквозь зубы, проговорил Борзута, с болью всматриваясь в обезображенное лицо. – Про Марушиных псов говорят, что они жестоки, но люди ничем не лучше. Убить мать только за то, что она хотела быть со своими детьми – это надо быть таким чудовищем, которому нет ни названия, ни места на земле.
Боль мучительно тлела под слоем пепла в выжженной душе, вместо слёз горячей смолой вскипало воздаяние. Взявшись за края одеяла, они опустили тело в яму, завернули и засыпали землёй. Борзута срубил молодую берёзку и воткнул в рыхлую почву могилы, а из веток соорудил что-то вроде двускатной кровли. Вышло подобие голбца.
– Истлеет дерево со временем, камней надо натаскать, – проронил он.
Неблизкий путь им пришлось проделать, чтоб найти валуны. Слишком крупные Невзора дробила ударами хмарью. Долго бы они их таскали по одному-два, если б им не попался мужичок с полуседой бородёнкой, вёзший дрова на санях.
– Эй, отец, одолжи-ка санки, – сказал Борзута, вставая на пути у лошади.
Та испуганно заржала, а мужичок, увидев оборотней среди бела дня, перепугался насмерть, свалился с саней и пополз в заснеженные кусты у обочины дороги.
– Ох, берите совсем, только не убивайте... У меня семья... детушки... внуки...
– Да не собираемся мы тебя убивать, дурак старый, – хмыкнул Борзута. – Нам не насовсем надо, только камни отвезти.
Лошадь они выпрягли: та не умела бегать по хмари. Перекинувшись в зверя, Борзута сам всунул могучую шею в хомут. Он отвёз и груду камней, и восседавшую на ней Невзору к могиле – вот какой он был силач. Сложив камни горкой над местом захоронения, они вернули сани туда, где их взяли. Мужичок уже, видно, уехал на лошади, бросив дрова.
– Ладно, потом заберёт, – сказал Борзута. – Нам чужого добра не надо.
Они взяли только небольшую охапку, чтобы в последний раз протопить печь в лесном домике и приготовить поминальный обед. Помянуть Размиру им почему-то хотелось по-человечески приготовленной пищей.
– Не будем больше враждовать! – И Борзута протянул Невзоре здоровенную, могучую пятерню через стол, на котором исходила вкусным паром запечённая рыбина.
– Я никогда и не считала тебя врагом, дружище, – улыбнулась охотница и пожала ему руку.
Кусочек рыбы они оставили на могиле.
Вернулись на стоянку стаи Борзута с Невзорой уже под вечер, когда зимний сумрак сгустился грозно в преддверии готового вот-вот начаться набега. Ясно было, что урвать хотя бы немного отдыха им не удастся: все уже один за другим просыпались. Да и какой уж теперь сон! До наступления полной тьмы оставались какие-нибудь полчаса.
– Мы Размиру похоронили, – отчитался Борзута перед вожаком.
Тот кивнул. Жена уже подогревала ему подмёрзшее за день мясо на костре. Прочие члены стаи поднялись, размялись после сна и тоже слегка перекусили. Набивать живот до отказа никто не стал: объешься – станешь неповоротливым, а подвижность сейчас была как раз нужна.
– Выступаем, – отдал Ёрш приказ. – Женщин, стариков, детей и тех, кто не причастен, не трогать. Наша цель – только те охотники, которых пометила Невзора.
– А скотину порезать можно? – спросил кто-то из оборотней.
Ёрш колко сверкнул глазами.
– Это не грабёж. Это справедливое воздаяние.
– Ну одну курицу-то хотя бы...
– Никаких кур!
Смертоносными, клыкастыми чёрными призраками стая ворвалась в село. В поисках виновных охотников оборотни врывались в дома, которые казались обезлюдевшими: жители попрятались – кто в подпол, кто в кладовку, кто на полати. Оборотни вытряхивали их из укрытий, но зла не причиняли: нет метки из хмари – свободен. Кое-кто, ослушавшись вожака, всё-таки не удержался от соблазна зарезать бритвенно-острыми клыками тёлочку или овцу и тут же, на месте, полакомиться ещё тёплым свежим мясом. Один оборотень забрался в курятник и там, среди всполошённо квохчущей птичьей братии и кружащихся в воздухе перьев, угощался яйцами. А другой Марушин пёс погнался за выскочившей из дома кричащей девушкой, но путь ему преградила огромная чёрная медведица. Она отвесила ему такой тумак могучей лапой, что оборотень покатился по снегу кувырком.
«Уж не Медведиха ли? – осенило Невзору. – Вот так тётушка! Вот тебе и травница-знахарка!»
– Совести-то не теряй! – прорычала медведица человеческим голосом.
Любитель девушек, отлетая от удара, повалил плетень и врезался в стену избы.
– Прости, тётенька, увлёкся, – уже в людском облике пробормотал он. – Больше не буду.
– То-то же! Меру знайте.
Дом Люторя оказался пуст. Его перерыли сверху донизу – никого. В сарае не было саней, а на свежем снегу отпечатался след полозьев. Сбежали, значит...
Соседи, когда их встряхнули хорошенько, сознались, что Люторь, взяв семью, уехал ещё утром, а с ними – и те четверо охотников. Все понимали, что это бесполезно, что оборотни всё равно догонят, но беглецам хотелось хоть на день, хоть на час отсрочить свой конец.
Взяв след, стая помчалась вперёд, оставляя позади себя переполошённую, перевернутую вверх дном деревню. Расстояние, которое охотники покрыли за день пути, оборотни одолели за два часа; они нашли на дороге павших лошадей и брошенные сани. Видно, беглецы так гнали животных, что те не выдержали. Ну, а пешком люди далеко уйти не могли.
Судя по следам, охотники шли на лыжах и снегоступах. Детей они, видно, несли на закорках. Кого-то, неспособного идти, тащили за собой на срубленной сосенке, как на санках.
«У них кто-то ранен?» – Ёрш внюхивался, изучая следы.
«Крови нет, – отозвался Древец. – Может, ногу кто сломал».
А Невзора вскоре наткнулась на схватившиеся льдистой корочкой околоплодные воды на снегу.
«Нет, у них женщина рожает, – сказала она. – Это её тащили на сосенке».
«М-да, их положению не позавидуешь, – хмыкнул Ёрш. – Лошади пали, Марушины псы по пятам гонятся, да ещё и баба рожает».
Следы привели преследователей к лесному домику – зимовью. В окнах теплился свет, из трубы шёл дымок, кричала женщина – роды шли полным ходом.
«Это может затянуться до рассвета, – сказал вожак. – Ждать нельзя. Ближайший вход в подземелье слишком далеко, не успеем».
Борзута, перекинувшись в человека, застучал кулаком в дверь.
– Люторь, выходи! – крикнул он. – Всё, отбегались вы.
– Детей не пугай, дурачина! – отвесила ему подзатыльник тоже перекинувшаяся Невзора.
В доме стояла тишина, даже крик смолк. Скоро он возобновился, а в дверях показался Люторь, вооружённый острогой. Следом за ним вышли остальные охотники. Озарённые тусклым светом из дверного проёма, все пятеро мужчин спустились с крылечка, снег тихо заскрипел у них под ногами.
– Вы, звери! У меня жена рожает, – сказал Люторь.
– Ну и пускай рожает, – спокойно ответил Ёрш, также принявший человеческий облик. Его голос звенел стылой от мороза сталью. – Никто её трогать не собирается. А вот к тебе, добрый молодец, есть кое-какой счётец. И тебе придётся по нему заплатить.
– Всё село перебили, чудовища? – рыкнул охотник, сверкая голубыми льдинками глаз.
– Не такие чудовища, как ты думаешь. – Вожак приподнял уголки рта в усмешке, но его мрачные, мерцающие волчьими огоньками глаза оставались холодными. – Кое-кто овцы и десятка яиц недосчитался, а так – все живы-здоровы.
Невзора тем временем проскользнула в дом. Печь жарко топилась, в горшке бурлила вода. Охотница-оборотень сняла его ухватом с огня, чтоб зря не выкипал. В углу, на застеленной соломой лежанке, стонала роженица; увидев оборотня, она заголосила скорее от ужаса, чем от боли.
– Тихо, – сказала ей Невзора. – Тебя никто не тронет.
Вторая жена Люторя красавицей не была: волосы – пепельно-русые, не густые, лицо с мелкими, заострёнными чертами и по-кошачьи круглыми, близко посаженными серыми глазами. И всё-таки, наверно, было в ней что-то такое, на что польстился и сам охотник, и его более молодой собрат, Олисок. «Дрянь баба, а мужики влюбляются», – сказали бы о ней кое-какие соседи-правдорубы. Невзора окинула взглядом комнатку, ища детей. Те где-то притаились.
– Малоня, Звиша! – позвала она. – Выходите, не бойтесь. Это я, Невзора.
С полатей высунулись две русые головки.
– Тихон, Радомила, сидите там! – крикнула роженица своим родным детям. И снова разразилась долгим стоном.
Невзора протянула руки к ребятам.
– Идите ко мне, мелюзга. Никто вас не съест, я вас в обиду не дам.
– Тётя Невзора! – Соскочив с полатей, Малоня со Звишей бросились к ней, и она подхватила их в объятия.
В доме было натоплено до духоты, но дети потели в верхней одежде: видно, им велели не раздеваться на случай внезапного продолжения бегства.
– Матушка жива? – спросил мальчик. Безумная вера в чудо блестела в его упрямых глазах.
Невзора не знала, что ответить. Она лишь поцеловала обоих детей.
– Так, ребятушки, зажмурьтесь крепко и не открывайте глаза, пока я вам не разрешу. Сейчас мы помчимся быстро-быстро. А тётя Медведиха вас ватрушками накормит.
Она вынесла обоих ребят в морозную ночь. Пятеро охотников стояли спиной к спине, выставив вперёд свои копья, а стая окружила их. Кольцо оборотней сужалось. Марушины псы не начинали бойню – ждали, когда уведут детей. Ёрш кивнул Невзоре, и та припустила со всех ног – только зимний ветер засвистел в ушах да тёмный частокол стволов замелькал мимо. Немного погодя она спустила детей с рук и перевела дух.
– Ну всё, малышня, можно открывать глаза.
– А батюшка? – спросила девочка.
– У батюшки там ещё кое-какие дела, – сказала Невзора. «Нет у вас больше ни матушки, ни батюшки», – это она произнести вслух не решилась. – Ребятки, вы смелые, я знаю. Если я перекинусь, вы ведь не испугаетесь?
Те замотали головами: мол, мы и не такое видали.
– Вот и молодцы. Звиша, сними с пояса верёвку. Привяжешь себя и сестрёнку ко мне. Бежать я буду шибко, ещё свалитесь.
Она успела ссадить детей на крылечке Медведихи задолго до позднего зимнего рассвета. В доме и впрямь пахло выпечкой: хозяйка доставала из печи ватрушки. «То ли я – провидица, то ли она умеет за сто вёрст слышать», – подумалось Невзоре.
– Заходите, заходите, гости дорогие, – певуче поприветствовала их Медведиха. – Проголодались, небось, с дороги-то?
Невзору она тоже посадила за стол, хотя та уже собиралась бежать в лес, пока не рассвело. Наевшись ватрушек, охотница-оборотень осоловела, отяжелела: сказывалось отсутствие дневного отдыха и долгая беготня. Её сморил сон.
Пробудилась она только к следующему вечеру. Небо опять было затянуто тучами. Один из оборотней, впряжённый в сани, привёз благополучно разродившуюся жену Люторя с детьми в село; встречать их выскочил молодой охотник Олисок – темнобровый, синеглазый, очень пригожий собою парень. То, как жадно он схватил новорождённого младенца и как взволнованно прижал его к груди, наводило на подозрение, что отцом был он.
Люторя и четверых охотников односельчане больше никогда не видели. Вдова, погоревав положенный срок, стала женой Олиска. Родители парня были против того, чтоб их сын брал в супруги женщину старше себя, да ещё и обременённую детьми от первого мужа, но он настоял на своём: люблю, мол, и всё тут.
* * *
– На, ешь, псина!
Перед Невзорой шмякнулся кусок свинины. Барыка, усмехнувшись, пошёл прочь к Марушиному капищу – высокий, с серебряной бородой по пояс и в шапке с собачьей головой. А Невзора, измученная голодом, принялась жадно рвать зубами подачку. Невелик кусок, всего с две ладони, но и то пища. Самой ей уже три дня не удавалось никого поймать.
Как же она дошла до жизни такой?..
На её шее темнело пятно в виде ладони с растопыренными пальцами – как схватил её Барыка за горло, так и отпечаталась его рука. А вместе с нею и заклятье. Оно не позволяло ей уйти от Гудка дальше пяти вёрст; стоило ей пересечь черту, как на тело набрасывался зубастый зверь – боль. А хуже всего жёг этот отпечаток на шее. Лишившись чувств, Невзора падала наземь, а приходя в себя, отползала внутрь невидимого круга.
Волхва Барыку она ещё в бытность свою человеком, посещая город, видела несколько раз, и старик этот произвёл на неё отталкивающее впечатление. Глаза у него были навыкате, будто он вечно находился под воздействием каких-то дурманных зелий, а городской люд он постоянно упрекал в нерадении и недостаточно рьяном почитании богини. Те, запуганные и пристыжённые, несли к капищу жертвы и дары. Часть приготовляемых кушаний откладывали, чтоб отнести волхвам во славу Маруши, а когда скотину резали, лучшие куски отдавали. А Барыка всё был недоволен, всё гневался, тряс бородой и пугал гневом Маруши.
Однажды, возвращаясь под утро с охоты, Невзора услышала чей-то жалобный плач. В тёмное время суток только опытные и вооружённые охотники позволяли себе находиться в лесу, но какой же охотник станет плакать? Невзора пошла на голос. На пеньке сидел щупленький белоголовый старичок в длинной, ниже колен, подпоясанной верёвкой рубашке и, опираясь обеими сухонькими руками о деревянную кривую клюку, горько плакал.
Жаль Невзоре стало старичка. Чтоб не пугать его, она приняла человеческий облик и, мягко ступая по траве, приблизилась.
– Эй, дедушка... Чего ты тут слёзы льёшь? Что у тебя стряслось?
Старичок вздрогнул и взглянул на неё. Подался всем телом прочь:
– Ох... Не убивай меня, оборотень!
– Ни к чему мне тебя убивать, мясо-то твоё старое да жилистое, – усмехнулась Невзора, позабавленная его испугом. – Скажи лучше, отчего плачешь. Что за беда у тебя? Может, я чем помочь смогу?
Старичок как будто немного успокоился, видя, что жрать его не собираются. Вытер слёзы и сказал:
– Да внученька моя днём в лес пошла по ягоды... Время уж к вечеру, а её всё нет и нет. Пошёл искать, всю ночь бродил – нет нигде моего дитятка! Видать, сожрали волки или вы, оборотни... – И дедок снова завсхлипывал.
– Есть у тебя с собой какая-нибудь её вещица? – спросила Невзора. – Может, по запаху отыщу её.
– Есть, а как же! – оживился старичок, полез за пазуху и достал вышитый платочек. – Вот, в траве нашёл – обронила она, видать...
Невзора протянула руку к платочку, а тот вдруг взвился в воздух, точно живой, запорхал бабочкой да и прильнул к её лицу, да так крепко, что не сразу удалось ей его оторвать. «Что за чудеса», – ёкнуло сердце.
А перед нею уж не жалкий и несчастный старичок был, а сам Барыка сверкал своими дикими очами. Раскрытая ладонь его, как клешня, вцепилась Невзоре в шею. Её точно железом калёным обожгло, а волхв раскатисто расхохотался. Сумрачный лес вторил его хохоту множеством отголосков, и закачалась земля под ногами Невзоры.
– Моя будешь, волчица! Имя твоё – под ногой моей, воля твоя – в руке моей, будь покорна велению моему, а против меня не иди! – С этими словами Барыка начал очерчивать в воздухе пальцем круг, и светящееся кольцо образовывалось от этого движения. – Круг сей не пересечёшь, дальше грани не пойдёшь, ни по земле, ни под землёй! Встань стена незримая да непобедимая!
Сияющее кольцо, зависнув в воздухе, расширялось, росло, подымалось всё выше над полянкой. Устремляясь к небу, оно разрослось так, словно всю землю от края до края хотело охватить, а потом – бах! – рассеялось, исчезло за верхушками деревьев.
– Ты... старик! Зачем ты обманул меня? – Зарычав, Невзора перекинулась в зверя и хотела впиться Барыке в горло, но тот властно взмахнул рукой.
– Будь покорна воле моей!
От этого взмаха, точно от мощного тумака, Невзора очутилась на земле. Барыка, посмеиваясь, поглаживал бороду, довольный.
– Нужен мне Марушин пёс – свой, личный, чтоб служил мне при капище. Зелье из крови оборотня хочу попробовать. Говорят, силой оно обладает большой, даёт долголетие и здравие. Идём-ка со мной, волчица! Прямо сейчас и попробуем кровушки твоей.
«Ещё чего! Да я тебя...» – Невзора ещё раз попыталась схватить пастью коварного старика и перекусить пополам, да не тут-то было.
– Ну, ну! – нахмурился тот. – Не выйдет!
Снова взмах руки – и отпечаток ладони на шее начал сдавливать ей горло, душить, повалил её наземь, будто великанья лапа невидимая её держала. Был бы Барыка простым человеком – не осталось бы от него и мокрого места, да владел он силой колдовской. На горле Невзоры будто ошейник горел, постукивал вместе с ударами её сердца, точно раскалённое кольцо. А от кольца цепь незримая тянулась, уходя концом в руку Барыки. Тот с усмешкой подёргал, и Невзору что-то потащило следом за ним. Лапы упирались в землю, душа трепыхалась, и раздавленной бабочкой умирала свобода... «Лада... Ладушка», – жалобно ныло сердце, но где там! Не выстоять светлому облику сестрицы против когтистой, пахнущей мухоморовой настойкой силы волхва, не спасти, не разорвать тот светящийся круг.
Местечко для капища было выбрано с особо извращённым вкусом: кругом деревья мёртвые, тучи комарья, а само место поклонения с деревянными идолами, окружённое бревенчатым частоколом, находилось на островке среди болота. К островку с суши тянулся мостик. Барыка с учениками жил в теремке на окраине этого болота. Украшен был теремок собачьими черепами, прикреплёнными к скатам крыши и сложенными в узоры вокруг окон. Ученики его тоже были уж в зрелых годах, седобородые, но как будто не такие сумасшедшие, как он. Один почтительно поклонился Невзоре и хотел поднести угощение, но Барыка отмахнулся.
– После! Сперва – дело.
Острым ножом он надрезал ей лапу, и густая кровь заструилась в золочёную чашу, украшенную алыми самоцветами и тонким узором филиграни. Когда сосуд наполнился до половины, Барыка затянул надрез тряпицей.
– Ничего, заживёт, как на собаке!
И, держа чашу с драгоценной кровью, как великое сокровище, он ушёл в теремок, и глаза его алчно блестели.
Одного ученика звали Чур, другого – Бетеля. Первый принёс Невзоре воды, и та, всё ещё в зверином облике, принялась жадно лакать: горло слипалось от невыносимой суши. Измученная и обессиленная, она рухнула на бок. Во всём теле была слабость и мучительная ломота, точно её гоняли кругами три дня без передышки и били дубинами по рёбрам.
Ученики показали ей, где можно укрыться от дневного света. В пределах очерченного Барыкой колдовского круга входа в подземелье не было, но нашлась бревенчатая избушка с заколоченными окнами – курьих ножек только не хватало. Стояла она на деревянных опорах прямо среди болота. Добраться к ней Невзора могла по слою хмари, а человек провалился бы в болотную жижу.
Немного придя в себя, Невзора попыталась вырваться из круга, но упала, подкошенная болью. Отпечаток руки снова грозно стиснулся на горле, а на уши точно колпак из мошкары наползал. Спотыкаясь и падая от дурноты, она уковыляла немного назад, и дышать стало легче.
От стаи она после гибели Размиры отдалилась и стала жить сама по себе, бирюком. Там, среди сородичей, ей всё напоминало о ласковых руках, о прекрасных волосах, о влажных, печальных глазах – невыносимо, надрывно. Ёрш её удерживать не стал, хотя Борзута и ещё кое-кто из стаи время от времени уговаривали её вернуться. Но, видно, горе так испортило ей нрав, что и они отступились. Невзора совсем превратилась в волка-отшельника.
Лишь мысль о том, что где-то живёт её родная, светлая, любимая Ладушка, согревало одинокое, нелюдимое сердце.
И кого теперь позвать на помощь?.. Близко к городу оборотни не подходили, а если она и встречала сородичей, те опасались Барыки: волхв владел силой огня, швыряясь молниями. Он пил настойку из мухоморов, от которой потом пускался в дикую пляску, вращая безумными глазами, хохотал, выл, лаял и тряс бородой. Даже ученики его побаивались в таком состоянии: он мог и посохом по спине вытянуть, и молнией запустить. Когда из теремка слышалось, далеко раскатываясь по болоту, гулкое и дикое: «Ух-ха-ха-ха! Ох-хо-хо-хо!» – значит, Барыка опять насосался зелья и ловил веселуху. Он ухал по-совиному, завывал по-волчьи, визжал, как свинья, и ржал, как конь. А когда эти звуки раздавались среди ночи, полной светящихся огоньков-духов, кровь леденела в жилах.
Барыка ни дня не работал: он кормился щедрыми подношениями запуганного им народа. Даже владыка Островид, городской глава, его побаивался и отсылал богатые подарки, роскошные яства со своего стола, жаловал волхва золочёной посудой. Внутри теремок был убран, как княжеский дворец, а спал служитель Маруши на мягком ложе из трёх перин в окружении своих богатств: драгоценных кубков, чаш и блюд, жемчугов и самоцветов, ковров восточных, сундучков с золотыми монетами и рулонов заморского шёлка и бархата. Ученики жили скромнее, а питались объедками с его стола.
Добывать пропитание Невзоре стало трудно: когда охота ограничена небольшим клочком земли, да ещё и близко от города, не очень-то разжиреешь. Когда зверьё разбегалось, ей приходилось довольствоваться подачками от Барыки. Тот был скуп и жаден, и только ученики исподтишка выносили Невзоре более щедрое угощение. Он их каждый раз ругал за «расточительство», но они то ли из жалости, то ли из страха перед женщиной-оборотнем оставляли неподалёку от её избушки куски мяса, куриные и гусиные тушки, пироги, масло и молоко, а иногда и кувшинчик хмельного. Ягоды Невзора сама собирала: на болоте росла тьма клюквы и брусники.
Кровь Барыка ей пускал часто. И вроде не очень велика была кровопотеря – половина золотой чаши, но после этого Невзора всегда пару дней лежала без сил, труп трупом – совсем как в тот, самый первый раз, чувствуя себя загнанной и избитой, растоптанной вместе с душой, сердцем и достоинством. Немного очнувшись, она вновь ощущала в груди глухой ропот: доколе это будет продолжаться?.. Ведь должна же быть на Барыку какая-нибудь управа? Отпечаток руки душил её, стоило ей только чуток взбрыкнуть и показать клыки.
Невзора подкараулила Чура, когда тот оставлял ей курицу и пирог с грибами. Поймав его за руку, она принудила его сесть наземь.
– Да погоди, не трепыхайся, братец. Не съем я тебя. Я вот что спросить хочу: это заклятье, которым меня Барыка к себе приковал, как-нибудь снимается?
– А ты что, уйти хочешь? – прищурился тот.
– Не хотела б, не спрашивала бы, – усмехнулась Невзора. – Ты, я вижу, мужичок неплохой. Может, выспросишь у своего наставника, как заклятье снять? Только осторожно, как будто не я спрашиваю, а тебе самому любопытно.
Но она ошиблась в нём. Чур в тот же день доложил Барыке о расспросах Невзоры, и волхв, придя в ярость, долго душил её через отпечаток на шее, наносил незримые удары взмахами руки, пока та, еле живая, не растянулась на земле пластом. Стоя над ней, Барыка проскрежетал:
– Не вырваться тебе от меня, псина. Заклятье снять может лишь тот, кто искренне, от всего сердца пожалеет тебя. А кто пожалеет оборотня? Люди тебя боятся, сородичей твоих я не подпущу сюда, а если кто и сунется, живо молнией зад подпалю.
От него несло мухоморовкой. Приход веселья накрыл его, и волхв, выпучив глаза, пустился вокруг измученной, избитой Невзоры вприпрыжку.
– Ля-ля-ля, не вырвешься! Тра-ля-ля, в моей ты власти, что хочу, то и делаю! Ох-хо-хо-хо-хо!
Невзоре только и оставалось, что смеяться над ним. Это был смех сквозь мучительный кашель, сквозь боль в груди, сквозь удушье, но Барыка и впрямь был нелеп и смешон, когда наклюкивался своего грибного зелья. Она хохотала ему в лицо, и его веселье сменялось бешенством. Он бил её и душил, но она всё равно смеялась. Что-то ей подсказывало, что убить её он не посмеет.
Кто из людей мог исполниться сострадания к ней?.. Невзора знала только одного человека на свете – свою Ладушку. Но как встретиться с нею, когда колдовской круг не подпускал её к родному хутору? От его границы, возле которой она уже падала, сражённая отрывающей душу от тела болью, до дома оставалась ещё пара-тройка вёрст. Вспомнилось Невзоре, как Лелюшка подзывала свою возлюбленную на расстоянии, и она решила попробовать проделать то же самое.
Закрыв глаза, Невзора вызвала перед мысленным взглядом дорогой её сердцу образ сестрицы. Вот оно, ясное личико, лучистые глаза, полные доброго света чистой души – стоит только руку протянуть!.. Всю свою тоску, всю нежность посылала ей Невзора, и летел отчаянный зов через пространство быстрокрылой птицей.
«Ладушка, сердце сердца моего, душа души моей! Единственная ясная звёздочка во тьме жизни моей... Лишь ты – надежда моя, ты одна – луч мой путеводный. Приди, спаси меня! Или дай хотя бы поглядеть в очи твои...»
Она делала всё наугад, не зная толком, как Ладушка придёт к ней, как отыщет её. Она мысленно посылала сестрице образ того места, где она ждала встречи, и надеялась, что Лада как-нибудь доберётся. Но сжималось её сердце от тревоги: ведь сестрица никогда далеко из дома не уходила из-за слабенького здоровья. Сможет ли она, достанет ли у неё сил?.. Отправив зов, Невзора тут же об этом пожалела. Нет, уж лучше сидеть веки вечные в плену у Барыки, только бы с Ладушкой всё было благополучно!..
Невзора ругала и корила себя: ох, зря она сестрицу потревожила! Ежели с той что-нибудь случится, никогда, до конца жизни не простить ей себя. И с той же отчаянной надеждой, с которой охотница-оборотень отправляла зов, она теперь молилась, чтоб сестрица его не услышала.
Но сделанного не воротишь, и однажды ночью, бродя по болоту вокруг капища, Невзора услышала, как кто-то звал её по имени. Она замерла как вкопанная, узнав серебристый звон этого голоса... Это была Ладушка! Только она, никто другой.
В несколько бешеных прыжков Невзора очутилась рядом с нею, в последнем из скачков обратившись в человека. Ладушка стояла у кривого сухого дерева, измученно прислонившись к стволу, точно ей было тяжело держаться на ногах. В следующий миг надёжной и ласковой опорой для неё стали объятия Невзоры.
– Ладушка, милая, радость моя! – бормотала та, покрывая поцелуями лицо сестрицы. – Ты пришла! Как же ты отыскала меня?!
– Сердце меня привело к тебе, – со слабой улыбкой пролепетала та.
С ней произошли изменения: теперь Ладушка носила головной убор замужней женщины, но выглядела ещё более болезненной, чем прежде. Она истаяла, как свечка, и еле теплилось в ней дыхание, которое отрывисто долетало до уст Невзоры, как будто сестра долго бежала, а не шла.
– Я теперь в Гудке живу, – сказала Ладушка. – В семье мужа... Одну меня не отпускают, я тайком ушла! Ах, Невзорушка, изболелась моя душа о тебе...
– За меня не тревожься, радость моя. Жива я и здорова, как видишь. – И Невзора, бережно прижимая сестру к себе, думала: «Да ну его к лешему, это заклятие. Лишь бы она домой дошла». А вслух сказала: – Не надо было приходить тебе, моя родная. Скажи мне, где ты живёшь, и я отнесу тебя назад.
– Нет, я должна была прийти, должна была увидеться с тобой! – Ладушка обвивала слабыми руками плечи Невзоры, тянулась к ней бледным лицом. – Знаю я, что с тобой случилось, батюшка рассказал... Много раз рвалась я в лес – искать тебя, но не пускали меня.
– И правильно делали, свет мой, – проговорила Невзора, с тревогой и болью чувствуя, что сестра еле держится на ногах и почти висит в её объятиях. – Не дойти б тебе, не по силам тебе такой путь. Как здоровье твоё?
– Всё у меня хорошо, родненькая, – ласково, чуть слышно шевельнулись губы Ладушки. – Дитятко вот даже сумела выносить и родить. Не так уж я слаба, как ты думаешь!
Грея дыханием её щёку, Невзора закрыла глаза и улыбнулась.
– Кто? Дочка или сын?
– Дочурка...
– Умница ты моя, Ладушка. Пусть у тебя и дитятка всё будет хорошо и впредь.
А Лада, уставившись на отпечаток ладони у сестры на шее широко распахнувшимися глазами, пробормотала:
– Что... что это у тебя?
Не успела Невзора ответить: потянувшись к отпечатку рукой, но так и не коснувшись его, Лада дёрнулась, словно пронзённая невидимой стрелой. Она задышала тяжело, а потом её дыхание замерло, словно перехваченное удавкой боли. Захрипев, она зашаталась и повисла в руках Невзоры.
– Лада, Ладушка! – звала та испуганно.
«Зря потревожила, зря позвала», – язвила её душу горькая вина. И без того-то негусто сил было у сестрицы, а рождение дитятка их, видно, совсем подточило; а ко всему прочему ещё она, Невзора, со своим зовом, будь он неладен!
– Ладушка, держись! Сейчас...
Подхватив сестрицу на руки, она помчалась с нею в теремок к волхвам. Громким криком она разбудила всех:
– Помогите! Помогите ей, исцелите её! Дайте снадобье хоть какое-нибудь!
Чур с Бетелей зажгли светильники. Рассерженный тем, что его сон прервали, Барыка спускался по лестнице.
– Чего орёшь, как резаная?
– Да помоги же ей! – вскричала Невзора.
Голова Ладушки была безжизненно запрокинута, и душа женщины-оборотня заледенела... А Барыка промолвил:
– Ей уже не поможешь.
Померк свет, точно небо обрушилось и придавило собой Невзору. Нет, это она, обезумевшая, кинулась на волхвов, чтобы разорвать их, чёрствых и бездушных, в клочья, но незримый удар Барыки опрокинул её.
– Успокойся! Не бузи! – ледяным отрезвляющим потоком обрушился на неё его голос. – Ничего уже сделать нельзя. Мёртвую не подымешь.
– Ладушка... Сердце сердца моего... Душа души моей...
Померк свет, и Невзора погрузилась в холодный мрак.
«Ты, это ты убила её!» – кричал отец, когда она принесла Ладушку домой: не зная, где дом сестрицы в городе, только к родительскому крыльцу и смогла она дойти. Осталось на ней заклятие, но Ладушка всё же свершила чудо, расширив колдовской круг на несколько вёрст. «Ох, беда, ох горюшко!» – выла мать. А братец Гюрей наградил Невзору шрамом, когда яростно тыкал в неё вилами. Но и она его когтем зацепила. Рана зажила, но глаз на той стороне с тех пор стал косить.
Пелена мрака лежала на её душе, мир утратил цвета уже давно, с тех пор как она перешла на сумеречный образ жизни, но теперь цвета умерли и в её сердце. Ей стало всё равно, в плену жить или на свободе.
Этот мертвенный сон оборвался спустя годы, когда девчонка-воровка с васильковыми глазами силой своего горячего сердца развеяла заклятие. Пробудилась Невзора, но мир без Ладушки был тёмным и холодным местом для жизни. И она зажгла в себе новую искорку света – Смолко, кровь от крови своей и плоть от плоти. Как Лелюшка заманивала девушек, так и Невзора приманила парня – человека. Ей хотелось, чтоб в её дитятке было больше людского. Чтоб и у него было человеческое сердце.
Крошечный ротик сосал её грудь, а она с усмешкой вспоминала, как какой-то мальчишка блевал с дерева на шапку стоявшему внизу мужику: так юного ротозея впечатлила гибель Барыки на капище. За все мучения отплатила волхву Невзора, сполна расквиталась, вкусив его крови.
Прячась от дождя в брошенной медвежьей берлоге, она укачивала сына и мурлыкала колыбельную. Вспоминались ей полные ужаса глаза Лебёдушки – самой юной из жертв, предназначенных ей для задабривания Маруши и спасения Гудка от морового поветрия.
«Тише, голубка, не плачь, – мыслеречью сказала девочке тогда Невзора, облизав белое от страха и солёное от слёз личико широким розовым языком. – Жить все будете, никто вас не убьёт».
Девочки-жертвы остались жить, а оторванные головы Барыки и его учеников скатились в болото. Лебёдушка собирала потом клюкву в серый пасмурный денёк, а из-за стволов показался Марушин пёс со шрамом на морде. Но девочка его не испугалась, подошла и обняла за шею. А он снова облизал ей лицо, как тогда, у жертвенника на капище.
Смолко сладко посапывал на руках у Невзоры, наевшись жирного волчьего молока. Тихо, сухо было в берлоге, а снаружи шелестел дождь.
* * *
– Бабушка Невзора, а Первуша мои пирожки съел! – прибежала маленькая Брунка – такая же золотоволосая и синеглазая, как её мать, Люта.
Невзора, отложив пару кожаных чуней на меху, которую она шила, рассмеялась и обняла внучку. Личико у малой было до того расстроенное, что хоть плачь вместе с ней, но женщина-оборотень предпочла улыбнуться.
– Это ничего, моё золотце, матушка ещё напечёт. Не горюй.
Уже несколько лет прошло с тех пор, как улетели Светланка с Цветанкой на ковре-самолёте; за это время навестили они Невзору раза три или четыре, познакомились с новыми членами семейства-стаи: Люта привела в дом с Кукушкиных болот мужа, Свегельда, и у них родилось вот это чудо, которому не досталось пирожков. Двоюродный братец Брунки, Первуша, уродился в своего отца, Смолко – такой же тёмной масти.
Напрасно Брунка горевала: Люта вынимала из печи новые пироги. И хоть рядом крутился прожорливый Первуша, свою долю она получила.
Закончив шить чуни, Невзора отдала их невестке Свемеге на вышивку. У той был уже приготовлен бисер и бусины, и она принялась за кропотливую работу. Брунка подсела рядом и стала смотреть, как рождается из-под иглы и ловких пальцев узор.
– Красивая обувка получается. Кто её станет носить, рад будет, – сказала мастерица вышивки Свемега. – Продадим чуни в городе – будет у нас мука для пирогов, маслице, яйца да крупа, чтоб кашу варить.
Белый лён её волос, схваченный через лоб лентой-очельем и заплетённый в толстую косу, ловил мягкие отсветы печного огня, а под просторной рубашкой выступал живот: они со Смолко ждали новое пополнение. Тесновато стало в лесном домике, и Смолко со Свегельдом возвели из брёвен пристройку – такую же по величине, как основное жилище. Чтоб не бегать за водой к ручью, они выкопали колодец, а на светлой полянке разбили огород. Последний пришлось обнести забором – чтоб зайцы капусту не погрызли, а от птиц сверху натянули сетку из тонкой бечевы.
Сидя на крылечке, Невзора задумчиво блуждала взглядом по озарённым солнцем верхушкам деревьев. Мир из сумрачного снова стал цветным, с тех пор как к ним вернулось дневное зрение, румянец рассветов и янтарь закатов уже не причиняли боль глазам и услаждали взор. Чего ещё ей желать? Смолко – её первенец, её гордость. Уже муж и отец, искусный охотник и мудрый знаток леса с мужественной, ясной душой; дочь Люта – лесная красавица, хозяйка, жена и мать. Ну а внуки – радость её сердца, лучистая и тёплая.
Да, вернулись краски и в мир, и, наверно, в её душу.
Сын и зять возвращались с охоты. Вдвоём они тащили привязанную к жерди добычу: серьёзный, деловитый Смолко – впереди, а русоволосый и голубоглазый Свегельд – у заднего конца палки. А вместе с ними, опираясь на дорожный посох, шагала девушка – скромно одетая, с тёмной и блестящей, как соболий мех, косой. Её пригожее личико озарялось кротким светом улыбки, которая пряталась в уголках губ, а за спиной она несла небольшой узелок.
Не ошиблось ли сердце, не лгут ли глаза? Поднимаясь на ноги, Невзора боялась поверить...
– Ну, вот мы и дома, – сказал девушке Смолко. – А вот и матушка нас встречает. Матушка, эта девушка сказала, что тебя ищет. Её Ладой зовут, и она говорит, что вы с нею родня.
Те же тёплые очи, те же волосы, родные черты милого личика... Но как такое могло быть? Невзора не сводила взгляда с гостьи, а сердце дрожало, как осиновый лист на ветру. Девушка приблизилась, и её волосы мягко засияли, когда их погладили косые лучи клонившегося на закат солнца. Она что-то сжимала в руке – какую-то деревянную фигурку.
Оленёнок.
Лукошко земляники, дождь, сумрак печной лежанки. «Сделай мне оленёночка...»
Рука Невзоры поднялась и коснулась нежной девичьей щёчки.
– Я внучка твоей Ладушки, – сказала юная гостья, вложив деревянную фигурку Невзоре в ладонь. – И звать меня тоже Ладой. Матушка моя померла при родах, батюшка в войну погиб. А я – травница и ведунья. В Зайково старой знахарки не стало – теперь я буду вместо неё.
Невзора до боли стискивала оленёнка, а её губы беззвучно шевелились: к ним из сердца рвались давно похороненные слова.
– Скажи мне то, что хочешь сказать ей, – улыбнулась Лада. – Я всё знаю о ней и о тебе, её душа мне всё поведала.
Глядя в эти родные, ласковые глаза, в которых мерцала не по годам глубокая, чуть грустная мудрость, Невзора пробормотала:
– Ладушка... Сердце сердца моего, душа души моей.
Лада легко и радостно шагнула в её объятия и склонила головку ей на плечо. Даже запах её волос был таким же, и Невзора в светлом ошеломлении гладила их густой шёлк пальцами. Дыхание сбилось, будто перехваченное могучей, но мягкой лапой, и тёплые слезинки увлажнили ей ресницы.
– Матушка, – тронул Невзору за локоть Смолко. – Что ж ты гостью на пороге держишь, в дом не зовёшь?
– Твоя правда, сынок, – смахнув слезинки, проговорила та. – Заходи, Ладушка. У нас как раз пироги подоспели.
Гостья не смутилась, не испугалась, войдя в семейство оборотней. Не по летам зрелое, всезнающее спокойствие сквозило во всех её мягких движениях, во взгляде светло-карих, золотистых глаз. Невзора тонула в них душой и сердцем, и они будто держали её в любящих объятиях, не давая сорваться в бездну рыдания.
– Родные мои, это внучка моей сестрицы Ладушки, – с трудом совладав с голосом, сказала она.
К ужину пришёл брат Гюрей. Уже давно истёк срок его пастушьей службы, возложенной на него в наказание за воровство скота у жителей Зайково; растаял на его горле светящийся узор-ошейник, который не давал ему зариться на чужое добро. Однако же, помирившись с людьми, он так и остался в пастухах.
– И откуда ж ты взялась – такая юная, и уже ведунья? – спросил он гостью.
– Странствовала я с юных лет, – ответила Лада кротко и учтиво. – В разных городах и сёлах побывала, много повидала. Две ведуньи со мной даром поделились, две наставницы было у меня.
Долго они разговаривали в этот тёплый, безмятежный вечер, и не могла Невзора насытиться беседой. Так бы и глядела на Ладушку, так и любовалась бы, да гостье с дороги отдых нужен был. А к Невзоре сон не шёл, и она присела на крылечке, где днём чуни шила, и устремила благодарный, чуть затуманенный слезой взгляд к чистым звёздам. Какое же счастье они ей послали!
А тихое, окутанное ночной прохладой счастье присело около неё и прильнуло доверительно к плечу. И вновь всё сладостно вздрогнуло в Невзоре, когда маленькая лёгкая рука тепло легла на её руку, а очи в сумраке улыбнулись ей утешительным приветом от той, первой Ладушки.
– Ты говорила, что душа её тебе всё рассказала, – начала женщина-оборотень, а потом слова смолкли, потерялись в звёздном шатре.
– Я с детства духов вижу и слышу, – ответила Лада. – Весь род наш помогает мне, мудрость даёт, оттого и ведаю я более, чем прочие люди. Оттого и ведуньей зовусь.
– Значит, это сестрица Ладушка тебя ко мне послала? – Невзора смотрела на её изящные ножки в стоптанных лапотках, истёртых на многих пыльных дорогах, и думала, что надо бы непременно добротные чуни ей сшить. А к зиме – сапожки меховые и шубку изладить. Смолко пушного зверя добывать великий мастер, набьёт соболей ей на хорошенькую шубку.
– Любовь её к тебе теперь в моём сердце живёт, – серебряным бубенчиком прозвенел в ночной тиши голос Лады. – И ты люби меня, как её любила.
– Радость ты моя, сердце сердца моего, – выдохнула Невзора тёплую соль слёз, касаясь губами виска девушки.
Лада поселилась в Зайково. Старая знахарка померла, и она заняла её место. Сперва люди с сомнением качали головами: «Уж больно молодая», – но скоро новая травница доказала, что дело своё знает не хуже. А если чего и не знает, у духов спросит. И вещи пропавшие она отыскивала, и людей сгинувших, и прошлое видела, и в будущее могла заглянуть. И вышивкой колдовской она владела. Полюбили её все в селе, шли к ней за помощью, а она и впрямь помогала. Своего родства с лесным семейством Невзоры она не скрывала и их у себя в гостях принимала, да и сама к ним хаживала. Понемногу люди привыкли и уж не удивлялись, когда видели на улице кого-то из них. Ну, соседи и соседи. Ну и что ж, что с волчьими ушами? У пастуха Гюрея, вон, тоже зубы да уши. Ничего, пасёт стадо, до сих пор ни одной тёлки, ни одной овечки чужой не сожрал. Страшен уж только очень – оно и неудивительно, что холостяк до сих пор. Кто ж за такого замуж пойдёт? Но всем на удивление этот неказистый собою оборотень жену себе на Кукушкиных болотах взял – слегка перезрелую девицу по имени Сварга. Ну, как взял? Понесла она вдруг дитя; родные стали допытываться, кто набедокурил, она указала на Гюрея. Отец девицы ему морду слегка разукрасил, Невзора тоже прижала братца к ногтю – не отвертелся проказник, во всём сознался и вскоре женатым был. Опять пополнилось лесное семейство. Мужчины стали подумывать насчёт ещё одной пристройки к дому, а потом и занялись её возведением.
– Отчего ж и ты себе не найдёшь кого-нибудь по сердцу? – спросила как-то молодая травница Невзору.
– Устало сердце моё. Бесплодное оно, не родит любовь, – задумчиво щурясь вдаль, ответила та.
– Так уж ли оно бесплодно? – улыбнулась Лада – проницательно не по годам, будто стояла у неё за плечами тысячелетняя лесная премудрость. – Девушку тебе хорошую надо, вот что.
– И что, есть у тебя такая на примете? – усмехнулась Невзора.
– Есть, – кивнула та. – Никого у неё нет близкого, чтоб душу открыть, печаль свою поведать – мне вот только и открылась. Добрая она и доверчивая. Её в своё время одна женщина-оборотень соблазнила – рыжая такая. Поверила она волчице, а та обманула и сбежала – и ищи её, как ветра в поле, да только слава-то дурная к девушке приклеилась. Кое-как её за вдовца пожилого сосватали. Да не ладно жилось им, муж суровый был, неласковый, придирался ко всему, всем был недоволен. Да ещё и руку подымал. Впрочем, недолго они прожили: захворал муж вскоре и слёг. Ухаживала она за ним до самой его кончины. Осталась молодой вдовушкой.
– Уж не Лелюшкой ли ту рыжую волчицу звали? – хмуро догадалась Невзора. Похоже, её давняя знакомая была жива-здорова и промышляла своё пропитание прежним способом.
Лада только кивнула.
– Здоровье вот только у Забавушки пошатнулось, – сказала она. – Угасает она, тает, как свечка. Пыталась я её травками лечить, да иное ей нужно лекарство, более сильное. Только у тебя оно есть. Кровь оборотня на ноги её подымет и силы ей вернёт.
Вышеописанную молодую вдовушку она Невзоре показала издалека: тонкая и поникшая, как печальная ивушка у воды, с огромными карими глазами, та возилась в своём огородике. Часто отдыхала, присаживаясь у грядки: видно, худо себя чувствовала, но работала, преодолевая немощь. Жила Забава в старой избушке на окраине села, с соседями была приветливой и кроткой.
– Доброе дело сделаешь, коли дашь ей своей крови и тем исцелишь её, – сказала Лада. – Я скажу ей, что ты придёшь, подготовлю.
– А поверит ли она опять Марушиному псу? После того обмана-то? – усомнилась Невзора.
– Тебе – поверит, – улыбнулась Лада. – У тебя глаза честные.
Забава поднялась и снова принялась дёргать сорняки. Видно было, что тяжело ей давались самые обыденные дела. Поглядев на неё, Невзора перевела взгляд на взбухшие жилы на своей руке, в которых текло лекарство. Много раз резал их Барыка, шрамы так и остались напоминанием о времени, проведённом в неволе у волхва. Забава опять присела на землю и измученно закрыла глаза. Брови Невзоры сдвинулись, губы сжались. Она потирала пальцами место будущего надреза – ещё одного среди прочих, но сделанного по доброй воле и с благим намерением. Жалко ей, что ли, нацедить чашку крови? Рана тут же заживёт, а бедняжка будет здорова.
Поглядев на себя в миску с водой, задумалась Невзора: в воде отражалось угрюмо-суровое лицо со шрамом, глаза – может, и честные, но очень уж жёсткие, мрачные, неистово-волчьи; волосы растрёпанные и спутанные, а на щеках росли клочки шерсти – когда-то чёрной, а теперь сивой, с проседью. Робкой казалась Забава с виду, как бы не испугалась. Перед тем как идти к ней, Невзора раздобыла одёжу поприличнее да понаряднее: высокие сапоги с щегольскими складочками на щиколотках, порты, кафтан с кушаком, а рубашку вышитую ей Лада подарила. Волосы Невзора вымыла и, морщась, расчесала-распутала. Наточив охотничий нож до смертельной остроты, она разделалась с сивой порослью на щеках. Гладко выбритое лицо стало выглядеть уже не таким диким и зверским, но всё равно оставалось суровым. С глазами ничего не поделаешь – уж какие есть. А один из них ещё и косой.
Забава о её приходе была предупреждена, а потому открыла ей дверь без удивления, хоть и с робостью. Бедно было у неё в доме, но опрятно и чисто прибрано. Пахло сушившимися под потолком вениками из трав, топилась печка, висели на стенах связки лука. Сама хозяйка была в простой застиранной рубашке, тёмной юбке с передником, а косы прятались под повойником и платком. Вблизи её лицо оказалось измождённым и бледным, но ещё не угасла на нём тонкая, печальная краса. В девичестве она, вероятно, была чудо как хороша.
– Здравствуй, – сказала Невзора. – Я разговоры разговаривать не умею, потому давай сразу к делу. Есть миска у тебя какая-нибудь?
Забава вскинула на неё тревожные тёмные очи, но миску деревянную подала. Присев к столу, Невзора вынула нож – тот самый, которым скребла себе щёки – и надрезала запястье. Густая кровь ручейком заструилась в посудину, а Забава мертвенно побледнела – даже губы посерели.
– Не бойся. Выпей. – Невзора замотала руку тряпицей, а миску протянула Забаве. – Коли выпьешь, хворь отступить должна.
Не сразу решилась Забава – долго медлила, то поднося сосуд ко рту, то отводя. В горле у неё клокотало, рот кривился и дрожал. Невзора, нажав на миску снизу, покончила с её колебаниями: край посудины стукнулся о зубы женщины, тёплая кровь обагрила её бледные губы.
– Пей, голубка, – стараясь придать хрипловатому голосу ласковое звучание, сказала Невзора. – Пей единым духом. Не бойся ничего.
Выпив, Забава зашаталась, точно деревце подрубленное. Быстро поставив опустевшую миску на стол, Невзора подхватила женщину на руки и отнесла на лежанку, застеленную лоскутным одеялом – стареньким, штопанным-перештопанным.
– Помираю, кажись, – слетел с губ Забавы тихий шелест. Зубы всё ещё были розовыми от крови.
– Нет, милая, здорова будешь.
Наверно, ласка была бы сейчас преждевременной. Невзора не погладила эти впалые, восково-бледные щёки, лишь сдержанно поправила подушку под головой Забавы.
– Значит, оборотней не боишься? – усмехнулась она.
Получился как бы намёк на ту давнюю связь, и Забава, будто её кнутом стегнули, страдальчески закрыла глаза и отвернулась.
– Нет, моя хорошая, я тебя не сужу. Мне это неважно. – Не зная, как загладить неловкие слова, Невзора повернула её лицо к себе, заглянула в глаза, приподняла угол своего жёсткого рта. – Мне тебя подруга твоя, Лада, сватает. Сводница этакая... Говорит, хорошая ты. Я её мнению доверяю. Она просто так болтать не станет. Пойдёшь со мной жить?
Забава только ресницами затрепетала. Её дыхание ещё подрагивало от выпитой крови, в теле происходила какая-то борьба. Невзора легонько сжала тонкую, хрупкую руку с голубой сетью выпуклых жилок и торчащими косточками запястья, накрыла сверху другой ладонью.
– Ты не бойся меня. Я тебя не обижу и не обману. Я ж не ради баловства пришла, а в жёны тебя позвать. Моё слово надёжное: коли возьму к себе, то уж не брошу. Беречь стану, руки на тебя не подыму.
– Страшная ты... – Забава зябко дрожала, но в её зрачках зрело что-то новое – тёплые искорки, как от печного пламени.
– Да, на вид я зверь зверем, – согласилась Невзора без обиды. – Вроде и красоту наводила, старалась... Что поделать – нового лица не вылепить, уж какое есть. Только ты по виду-то не суди. Бывает и так: лицо пригожее, а душа гнилая. И наоборот тоже случается: облик жуткий, но сердце – человеческое. Семья у меня есть: сын, дочь, брат, две невестки, зять, внуки. Супруги только не хватает – половинки моей. Подумай, голубка. Через седмицу за ответом приду. Выздоравливай.
Легонько поцеловав Забаву в лоб, она ушла. Дома она предупредила, что их семья, возможно, вскоре в очередной раз пополнится. Она была главой их маленькой стаи, ей не перечили. Только Гюрей на правах старшего брата спорил порой, но так, не всерьёз – лишь бы поворчать. Сам он на вожака не тянул, нрав у него был мрачный, брюзгливый, но по своей сути – подчиняющийся более сильной воле. Он буркнул что-то насчёт тесноты, но его никто не поддержал, и он смолк.
– Может, ещё и не согласится, – сказала Невзора.
За семь дней щёки опять заросли, и она снова выскребла их до синевы, передние пряди своей непослушной гривы заплела в тонкие косицы, к которым прицепила алые деревянные бусины, а лоб обвязала очельем с пуховками из заячьих хвостиков на висках. В заострённые звериные уши вдела янтарные серьги, обулась в красивые сапоги и снова затянула на поясе яркий кушак. Спросила у дочери:
– Что, всё равно я страшная, дитятко?
Люта засмеялась:
– Матушка, ты самая лучшая!
– Так то – для тебя, – усмехнулась Невзора, поцеловав её. – А вот избранница, кажется, меня боится.
– Ничего, поближе тебя узнает – перестанет бояться. И полюбит, – с уверенностью сказала дочь.
Была Люта наполовину навья, и что-то иномирное порой сквозило в ней. Её, пригожую и светлую обликом, улыбка красила ещё больше, а у Невзоры, сколько ни старайся, сколько ни криви неподатливый, твёрдый рот, всё выходил оскал волчий. Ничем не смягчалось свирепое лицо, и шрам не спрячешь, да и глаза другие не поставишь. Сколько ни наряжайся, сколько ни прихорашивайся, миловидной стать не получалось. Волка и в овечьей шкуре клыки выдают.
Дверь ей открыла преобразившаяся Забава. Невзора обомлела, увидев на пороге вместо угасающей, печальной вдовы цветущую молодую женщину. Кровь оборотня сотворила с ней чудо: на щеках рдела мягкая утренняя заря, глаза сияли уютными искорками домашнего очага, стан выпрямился, поступь наполнилась живой быстротой. Начавшая блёкнуть краса распустилась, расцвела с новой силой, а в глубине нежно-застенчивых глаз раскрывалась светлая, умеющая любить душа. Забава воспрянула, словно цветок, который полили, удобрили и обласкали.
– Рада, что полегчало тебе, голубка, – только и проговорила женщина-оборотень, залюбовавшись невольно и ощутив прилив тепла к сердцу. – Ожила, похорошела.
Наверно, ласковое восхищение отразилось в её взгляде, потому что Забава засмущалась, отведя глаза и чуть отвернув голову. Но то было не пугливо-неприязненное смущение, а женственно-игривое, приглашающее, в нём маленьким тонким лучиком мерцала-переливалась робкая благосклонность. Уголки её губ дрожали, ресницы порхали бабочками, и в душу Невзоре закралась вдруг улыбка: «Это что ж, заигрывает она со мной?» «Ах ты... пташка», – вертелось на языке, но это словечко, должно быть, употребляла Лелюшка, и оно не годилось. Невзора молчала, перебирая все ласкательные слова и никак не находя подходящего.
– Да, вернулось ко мне здравие... Благодарю тебя, – пролепетала Забава тихо, с улыбчивым светом в глазах.
– Ну что? Каков ответ твой? – усмехнулась Невзора.
Забава помолчала, пряча взгляд, потом вскинула ресницы, потрогала косички своей клыкастой целительницы, поиграла бусинами на них.
– Согласна я. Бери меня в жёны.
– Ну, коли согласна, так поцелуй меня, невеста моя.
Усмешка мерцала только в глазах Невзоры, а губы оставались сжатыми. Склонившись, она приблизила их к тёплым, трепещущим устам Забавы. Их нежное, как весенний ветерок, дыхание касалось её сурового рта, а она терпеливо ждала, не торопя Забаву. Приблизив губы ещё чуть-чуть и приоткрыв их, она наконец ощутила робкую влажную ласку. Невзора приняла её тихонько, чтоб не спугнуть; осторожно заскользила ладонями вокруг гибкого стана Забавы, привлекая к себе ближе. Только ощутив лёгкие объятия женских рук на себе, она проникла поцелуем глубже, завладела робкими устами, догнала и поймала испуганно отпрянувший язычок. Она прижала Забаву к груди, посылая ей мыслеречь: «Не бойся, голубка, верь мне», – и та доверилась, прильнула, отвечая на поцелуй и устремляясь ему навстречу. Она трепетала, её сердце колотилось, и Невзору обожгло ласковым огнём желания.
– Сладко ты целуешь, – прошептала Забава, когда их губы разомкнулись. – И в объятиях твоих мне хорошо.
В следующий миг её ноги оторвались от пола: она очутилась на руках у Невзоры.
– Вот так носить буду, – сказала женщина-оборотень. – Ножкам твоим озябнуть не дам, сердечко твоё не раню. Но и ты меня приласкай и согрей.
Губы Забавы заскользили вдоль её шрама, руки обвились вокруг плеч и шеи.
– У меня банька истоплена... Попарься, гостья дорогая.
– А ты меня веничком побалуешь? – улыбнулась женщина-оборотень.
На щеках Забавы рдели розовые пятнышки.
– И перину пуховую постелила – бережёную, ещё с приданого осталась, – добавила она чуть слышно.
На эту приберегаемую для торжественных случаев перину Невзора уложила Забаву – тоже торжественно, бережно и ласково, донеся от самой бани до постели на руках. Та застенчиво куталась в чистую нательную сорочку, но Невзора не позволила ей остаться одетой. Обе нагие, они переплелись в объятиях. Невзора окутывала и согревала Забаву своим телом, а та, прижавшись, скользила ладошкой по её плечу, по спине, изучала тугую броню мышц.
– Сильная какая...
– А у тебя косточки одни, – проговорила женщина-оборотень, боясь покрепче навалиться на выступающие хрупкие рёбра, обтянутые кожей. – Ничего, откормим.
Не умела она говорить приятные слова женщинам, что поделать... Но Забава, простая душа, кажется, не обиделась. Рука её поднялась и нежно помяла, почесала острое ухо Невзоры, потеребила шерстяную кисточку на нём. Женщина-оборотень пошевелила ухом, и Забава тихонько рассмеялась.
– Ой...
Чудесная у неё была улыбка, ясная, как летнее утро. Невзора, утробно урча, обнюхивала и щекотала носом её щёки и шею, а та всё не отставала от её ушей:
– Милые ушки...
Страшный дикий зверь приложил всё старание, чтобы в ласковых женских руках стать пушистым домашним псом. Он жмурился и урчал, когда его чесали и гладили, ластился и подставлял живот. Он разрешал женщине себя тискать, прятал зубы и когти, чтобы не напугать её. Он грел её на своей груди, оберегал, но не показывался ей, прячась в человеческом облике. Забава раскидала по подушке распущенные косы, разомлела от ласки, открылась и отдалась. Невзора приняла этот дар бережно, чувствуя в себе трепет рождения чего-то нового, нежного, ещё совсем маленького, как росточек, едва пробившийся сквозь землю.
– Сладко мне с тобою, – шептала Забава между поцелуями. – Вижу сердце твоё... Прости, что страшной тебя назвала. Не боюсь я тебя... Хочу быть с тобой. Быть твоей. И если ладой своей назовёшь – не будет для меня слова слаще...
– Ах ты, горлинка, – вздохнула Невзора, зацеловывая доверчиво тянущиеся к ней губы. – Берёзка моя тонкая...
Забава вдруг втянула судорожно воздух, прикусила губу и заплакала, прижимаясь мокрыми щеками к её лицу, и Невзоре в сердце нежно вошло невидимое остриё. Крепко прижав женщину к себе, она расцеловала её. Пальцы устремились вниз, заскользили в горячих соках, пробираясь в мягкое нутро. Забава ахнула, обвила рукой шею Невзоры, а другой скребла ей спину, впиваясь пальцами. Чем глубже и плотнее становилось проникновение, тем жарче отвечали её губы, поцелуй не размыкался ни на миг, осмелевший язычок уже сам шёл в наступление, хоть ещё и нуждался в поощрении, которым Невзора щедро его окутывала. Забава плакала от нежных слов, ей хотелось ещё и ещё: видно, изголодалась её душа по ним.
– Покажись в зверином облике, – попросила она.
– Не надо, милая. Не хочу тебя пугать, – сказала Невзора. А про себя подумала: Лелюшка даже в волчьей ипостаси была красивой, и девушки её не боялись, а вот она сама – страшилище, каких поискать. – Ты и от людского-то моего обличья робеешь...
– Я не испугаюсь! Нам ведь ещё жить вместе, – настаивала Забава. – Должна же я привыкать.
– Ну хорошо, смотри.
Огромное чёрное чудовище нависло над Забавой. Его широкие лапищи топтались и мяли постель вокруг неё, и она с ужасом в глазах отползла, извиваясь между ними, как змея.
«Ну вот, голубка, а говорила, что не испугаешься...»
– Нет, нет! Я не боюсь, – зажмурившись, воскликнула Забава.
Её протянутая рука касалась мохнатой морды. Зверь лизнул ей пальцы большим розовым языком и осторожно устроился в постели: она была маловата для него.
«Что ж ты глаза закрыла? Смотри, привыкай».
– Я... Я сначала так, на ощупь, – пролепетала Забава. Её руки, подрагивая, скользили по морде зверя. – Ушки... Милые. Пушистенький мой... Большой... Тёплый.
И, будто бы отчаянно бросаясь в пропасть, она кинулась к зверю, обняла и прижалась всем телом.
– Говори со мной... Говори слова ласковые!
«Глупенькая», – усмехнулся зверь.
Он щекотал её языком, обдавал жаром дыхания, утыкался мягким носом в ладони, а потом свернулся в кольцо и стал для неё пушистым ложем, в котором она устроилась, всё так же не открывая глаз и продолжая почёсывать ему за ухом.
«Не посмотришь на меня?»
– Я... Я сейчас привыкну. Я уже почти... Сейчас, ещё чуть-чуть.
«Трусишка».
Забава открыла глаза, и они со зверем встретились взглядами. Женщина, не мигая, смотрела на него, пока её веки не затрепетали в обморочной слабости и она не обмякла, лишившись сознания. Взгляд оборотня человеку было непросто выдержать. Видя, что с неё довольно, Невзора перекинулась и уже в людском облике сжала Забаву в объятиях, привела в чувство поцелуями.
– Ну, всё, всё, голубушка. Успокойся. Поглядела – и будет с тебя.
Та долго дрожала, понемногу согреваемая лаской. Невзора, пропуская меж пальцев пряди её распущенных кос, с грустью думала: может, не мучить её, отпустить, если она так боится? Трудно ей будет в семье оборотней.
– Голубушка, может, не надо? Принуждать я тебя не хочу. Страшишься ты меня, а значит, любить не сможешь. Обращать же тебя в Марушиного пса у меня рука не подымется.
Забава тихо вскрикнула и закрыла лицо ладонями. Невзора вздохнула.
– Мне лучше уйти, милая.
– Нет! – И Забава обвила её шею руками, отчаянно прильнула и заплакала. – Прости мне мою слабость духа! Я лишь на миг оробела, больше этого не повторится... Я ведь твоё сердце вижу! И добро твоё чувствую. Люба ты мне! Человеческое у тебя сердце – человечнее, чем у иных людей. Не уходи... Не оставляй меня.
Глухо зарычав, Невзора высвободилась из объятий. Горькие сомнения встревожили зверя, и не до ласки ему сейчас было, не до нежностей. Он отрывал от себя руки женщины так мягко, как только мог, чтоб не сделать больно.
– Пусти, Забава.
– Не уходи, Невзорушка, – рыдала та.
Невзора одевалась. Сердце рвалось на части, зверь щетинился, напряжённый, как тетива, и не желал прикосновений. Обувшись и затянув кушак, женщина-оборотень стремительным шагом вышла из дома. Вслед ей неслись рыдания Забавы.
Уже в лесу она остановилась: взгляд застилала пелена, перед глазами стояла Забава с полными слёз прекрасными очами и тянула к ней руки, звала и умоляла. Зверь заметался, рыча и скалясь, из груди рвался вой.
Земляника щекотала ей пальцы и ласкала нюх сладким летним духом. Отпустив на волю тяжкий стон, Невзора принялась собирать спелые ягодки в горсть, а потом бросать себе в рот.
Когда она толкнула дверь и вошла, Забава лежала, свернувшись калачиком, на измятой постели. Услышав шаги, она встрепенулась и с криком радости бросилась к Невзоре, обняла и повисла на ней. Слёзы тёплыми каплями падали Невзоре на грудь.
– Ну всё, всё, моя хорошая. Не плачь. Я с тобой. Я обещала тебя беречь... Я держу своё слово. Позвать женщину в жёны, а потом отступиться – бесчестно. Прости меня, голубушка. Если я не слишком уронила себя в твоих глазах и твоё согласие ещё в силе, обними меня покрепче и поцелуй.
Поцелуи посыпались градом – влажные, солёные от слёз. Невзора, посмеиваясь, подставляла лицо и губы, а потом подхватила Забаву на руки, покружила и опустила на постель.
Снаружи громыхала гроза, полоща землю косым ливнем и озаряя сумрак вспышками молний. Забава вздрагивала от громовых раскатов, но улыбалась, время от времени выглядывая в окошко – беспокоилась, не побило ли градом её огородик. А Невзора с усмешкой наблюдала её беспокойство. Хотелось поймать её в объятия и прижать к себе – и так переждать непогоду.
– Ты – как это ненастье, – сказала Забава. – И грозная, и опасная... Но дождь поит землю влагой, и она рождает плоды. Так и моя душа ожила, встретив тебя.
– Может быть, я и опасная, голубка моя, но только не для тебя. – И Невзора привлекла её к себе, а Забава, прильнув к её груди, склонила голову к её плечу.
– Мне спокойно рядом с тобой.
Опять бабахнул гром, и всё сотряслось от этого раската, даже посуда звякнула на столе. Забава опять вздрогнула, но улыбнулась над собственным испугом, глянув в смеющиеся глаза Невзоры.
– Робкая я, что поделать, – вздохнула она. – Это великая сила – сила природы. Её нельзя не уважать. И в тебе есть такая сила.
– Эта сила никогда не причинит тебе зла, лапушка. – Невзора прильнула губами к её лбу.
– Я знаю, Невзорушка. – Забава доверчиво прижалась, перебирая косицы женщины-оборотня и играя бусинками. Её собственные распущенные волосы цвета собольего меха волнисто струились, спускаясь ниже пояса, и руки Невзоры, лаская спину Забавы, грелись под этим лёгким шелковистым плащом. – Я не боюсь тебя... Робею чуть-чуть, но это сродни уважению.
– Я не хочу, чтоб ты робела. Хочу, чтоб любила. И верила. – Невзора приподняла её лицо за подбородок, тихонько поцеловала в губы.
– Я верю тебе, Невзорушка. В твоём сердце нет коварства.
– Откуда ты знаешь, лапушка?
– Чувствую...
Гроза стихла, дождь редел, ветер утратил ураганную мощь и лишь слабо колыхал верхушки деревьев. Забава задремала, а Невзора бессонным стражем берегла её покой. Нежность крепла в сердце, и она уже не могла пойти на попятную, обмануть доверие.
Забава уснула крепко и сладко. За окном мелькнула тень, но Невзора не встревожилась: она знала, что это сын. Не дожидаясь стука в дверь, который мог бы разбудить Забаву, она впустила Смолко в сени.
– Что-то случилось? – спросила она вполголоса.
– Нет, матушка. Просто занёс гостинцы твоей избраннице. От нас. – За спиной у сына был мешок с мясом, а в руке – корзина лесных ягод.
– Хорошо, родной, оставь тут.
– Она согласилась?
– Да, сынок.
– Значит, скоро ты возьмёшь её в дом?
– Видимо, да.
– Она станет одной из нас?
– Если захочет. А если нет, останется человеком. Кровь оборотня даст ей здоровье и долголетие, и она проживёт с нами длинный век.
Невзора разрешила сыну потихоньку посмотреть на спящую Забаву, после чего он пошёл домой. А она, растянувшись на постели, любовалась лежащей рядом женщиной, слушала её тихое, безмятежное дыхание. Та приоткрыла глаза, но не вздрогнула, не испугалась, только улыбнулась сонно, и Невзора подгребла её к себе, окутала объятиями.
– Спи, спи, горлинка. Всё у нас будет хорошо и ладно. – И замурлыкала под нос: – Как на горе, как на горе рябинушка стояла... А красна девица в поре (т.е. вошедшая в брачный возраст – прим. авт.) любовь свою искала...
Совсем легонько, мягко и осторожно она коснулась поцелуем тёплых губ. Те почти не шелохнулись, только дрогнули сквозь сон, как бы отвечая. Больше не тревожа Забаву, Невзора и сама сомкнула веки, и вскоре дыхание её стало ровным и размеренным. А в окна опять скрёбся крошечными капельками дождь.
18 мая 2016 – 19 августа 2017
Fueled by Johannes Gensfleisch zur Laden zum Gutenberg



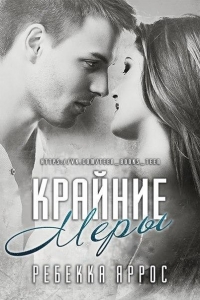
Комментарии к книге «Былое, нынешнее, грядущее», Алана Инош
Всего 0 комментариев