Анна Берсенева Австрийские фрукты
Художественное оформление серии П. Петрова
Серия «Русский характер. Романы Анны Берсеневой»
В оформлении переплета использована репродукция картины Натальи Тур «Зима. Портрет Насти. Из серии «Времена года» (2006)
Серия «Супербестселлер Анны Берсеневой»
В оформлении переплета использованы фотографии:
Algor_1, Jascha Asadov / Shutterstock.com
Используется по лицензии от Shutterstock.com
Часть I
Глава 1
– Ой какой прекрасный фикус! Ваш?
– Соседский, – ответила Таня, входя в приехавший сверху лифт.
Фикус появился на лестничной площадке месяца два назад. Наверное, стал занимать в соседской квартире слишком много места. Удивительно, как он вообще оказался у Артюховых: бесполезного имущества у них сроду не бывало.
Дверь закрылась, и лифт поехал на первый этаж.
– Я бы ни за что фикус не завела, – словно в ответ на Танины мысли сказала соседка.
Она жила на семнадцатом этаже, на вид ей было лет пятьдесят. После нее в лифте, особенно вот в этом, маленьком, целый день держался удушливый аромат. Ей нравились пряные духи, и казалось, что она не брызгается ими, а обливается.
Но все-таки запах любых духов лучше, чем вонь от десятка маленьких собачонок, которых берет на передержку другая соседка, с седьмого этажа. Каждый раз, когда та выводит всю свору гулять, какая-нибудь собачка обязательно успевает нагадить в лифте, и если бы не добросовестный дворник-таджик, каждый день убирающий подъезды вверенного ему дома, собаками здесь воняло бы всегда.
– А чем фикус плох? – спросила Таня.
Только чтобы разговор поддержать, вообще-то спросила. К комнатным растениям она была равнодушна. У нее на подоконнике зачах даже дареный кактус.
– А если фикус разрастается, значит, придется дом покинуть, – ответила соседка.
– Почему? – удивилась Таня.
– Примета такая. И знаете, есть подтверждения.
– Интересно, какие?
Лифт остановился, они обе вышли на площадку первого этажа.
– Бабушка моя рассказывала, – ответила соседка. – Она до войны в Чернигове жила. И как раз в сорок первом году у них фикус так разросся, просто как баобаб. Очень было некстати! Квартира маленькая, семья большая – они с сестрой вместе жили. У обеих мужья, дети, а тут нате вам, фикус на половину столовой. Столовая общая у них была, – уточнила она. – И сестра бабушкина эту примету вспомнила тогда. Все смеялась: Эстерка, не зря фикус разросся, может, моему Иосифу квартиру от завода наконец дадут, мы и переедем. А вот что вышло – война… Бабушка двадцать второго июня две корзины клубники собрала, на варенье как раз ее перебирала, и тут к дому грузовик подъезжает, и дед вбегает. В форме уже. Он обычным бухгалтером был, но всех же призывали. Собирайте, говорит, детей, полчаса у вас – уезжаете. Бабушка ему: «Лазарь, что же мы за полчаса соберем, и куда же нам ехать, а дом как же, бросить, что ли?!» Дед как рявкнет: «Все бросайте, и чтоб через полчаса в кузове сидели!» А он на нее в жизни голос не повысил, ни до того, ни после. Они с сестрой детей только успели одеть и документы взять. А сами так и сели в кузов в чем были, бабушка даже руки от клубники не помыла. А в Оренбургской области потом… Ой, извините! – спохватилась соседка. – Я вас задерживаю. Так что фикус лучше дома не держать, – заключила она.
Метель гуляла по двору, засыпала снежной крупой ступеньки подъезда.
– Вы в такую погоду на машине ездите? – Соседка застегнула крючок под капюшоном норковой шубы. – Бесстрашная вы женщина.
– А для чего же машина? – пожала плечами Таня. – Чтобы зимой на остановке мерзнуть? – И предложила: – Вы к метро? Могу подвезти.
– Спасибо, – отказалась та. – Мне сегодня на работу не надо, за молоком только схожу.
Глаза у нее, однако же, были подведены, губы подкрашены, волосы уложены, и духи благоухали с обычной сногсшибательной силой.
«Правильная у меня все-таки работа, – усмехнулась Таня. – Без куска хлеба никогда не останусь».
Она пошла к машине, но приостановилась и, обернувшись, спросила:
– А что с вашей бабушкой в войну стало?
– С ней – ничего, – тоже обернувшись, ответила соседка. – Прожили с сестрой четыре года в деревне, в Оренбургской области. Тяжело, конечно, пришлось, дети были маленькие. Но выжили. А родных, кто в Чернигове остался, всех до единого человека немцы расстреляли. Даже девочку полуторагодовалую. Вот вам и фикус. До свидания, Татьяна, хорошего дня.
И пошла к соседнему дому, в первом этаже которого находился магазин. Надо же, имя знает. А Таня вот понятия не имеет, как ее зовут.
Она положила серебристый рабочий чемодан в багажник и села за руль. Хорошо, что купила два года назад эту машинку. Еще размышляла, стоит ли тратиться в такое время, когда все доходы скукоживаются, а ипотеку еще выплачивать и выплачивать. Можно и на метро поездить, думала. Ага, поездишь на нем теперь! Еще доберись до метро с этих выселок, когда маршрутки отменили. В час пик особенно приятно было бы и с рабочим чемоданом.
Кружок из десятка домов, в одном из которых жила Таня, находился в семи автобусных остановках от метро «Сходненская» и назывался Петушки – по имени улицы. Улицы имени Василия Петушкова. Когда она где-нибудь называла свой адрес, все улыбались, а пожилые люди спрашивали: это пионер-герой, наверное? Но Василий Петушков был никакой не пионер, а участковый милиционер, которого пятьдесят лет назад застрелил пьяный придурок. Вкратце об этом сообщала табличка возле автобусной остановки, а недавно Таня и подробности прочитала в бесплатной газете, которую положили в почтовый ящик: какой-то местный алкаш заперся в квартире со своей женой и ребенком, орал в белой горячке, грозился их поубивать, вызвали участкового, тот сломал дверь, а алкаш в него из ружья пальнул.
Таня считала такую смерть бессмысленной. Ну, спас этот Василий Петушков родственников алкаша. А кто сказал, что ради этих дурацких родственников стоило жизнью пожертвовать и собственного сына сиротой оставить? Таня вот ни за что не пожертвовала бы не то что жизнью, но даже минутой своего времени ради дуры, которая живет с каким-то козлом, рожает от него детей, позволяет ему при этом допиваться до чертей и ее же детям угрожать.
Но все-таки ей нравилось, что эту дальнюю улицу назвали в память никому не известного милиционера со смешной фамилией, а не Ленина или еще какого-нибудь урода. К тому же и сын этого Василия Петушкова был теперь директором детского дома в соседнем дворе.
Когда Таня вошла в квартиру, где ей предстояло работать, то удивилась тишине. Она не очень любила делать прически невестам, хотя оплачивалось это хорошо, и не любила именно потому, что всегда приходилось работать в шуме и суете, которые царят в любом доме накануне свадьбы. А здесь было не просто даже тихо, а как-то трепетно тихо. По комнатам ходили какие-то женщины, родственницы, наверное, их было много, они двигались бесшумно, и казалось, что они не касаются ногами пола. Из-за этой тишины можно было бы сказать, что в доме не невеста, а покойник, но все женщины лучились таким тихим счастьем, что даже мысль подобная в голову не приходила.
И таким же счастьем лучилась невеста. Она была совсем молоденькая, лет восемнадцать, а может, и тех не исполнилось, сидела, сложив руки на коленях, с обращенной в себя улыбкой, а на вопрос, какую прическу ей хотелось бы, сказала, что это на Танино усмотрение. И видно было, что она действительно думает не о прическе и не о платье, очень, кстати, дорогом, несмотря на его кажущуюся простоту, – а только о том, что с ней сейчас происходит и что будет происходить дальше.
«Рада, что замуж взяли, – подумала Таня. – Хотя в ее возрасте чему уж так радоваться-то? Беременная, наверное».
Она заплела серебристые девочкины волосы в широкую, едва намеченную косу, вдела в прическу живые белые лилии, которые заранее заказала в салоне для новобрачных и забрала по дороге – как знала, что невеста окажется блаженная и никаких собственных желаний не выскажет, – и завила концы волос в крупные локоны.
– Ну вот, – сказала Таня, оглядывая свою работу. – Ты теперь на Русалочку похожа. Знаешь такую сказку?
– Конечно. – Та чуть заметно улыбнулась. – Я ее в детстве очень любила.
Да, нашла кого спросить. Это сама она могла бы ни про какую Русалочку не слыхивать, а здесь-то книжные полки до потолка, уж Андерсена девочке точно прочитали когда следует.
– Выпьете чаю, кофе? – В детскую, где Таня делала невесте прическу, вошла одна из бесшумных женщин. – Или, может быть, вина?
– Вина не буду, я за рулем, – отказалась Таня. – Да и ничего не буду. Мне через час надо на Ленинском быть.
Женщина вышла, а она стала складывать в чемодан инструменты.
– А жених твой… Он кто? – все-таки не удержавшись, спросила Таня.
Давно уже она не страдала пустым любопытством, и клиенты, любящие поболтать, ее отчасти даже тяготили. Но сейчас ей в самом деле стало интересно. Чему они здесь все так радуются?
– Мы вместе учимся, – ответила девочка. – На филфаке. И в школе вместе учились.
– В одном классе?
– Да.
– И сколько же вам лет?
– Восемнадцать. Мы в один день родились. Нам месяц назад исполнилось восемнадцать.
– А… родители у него кто? – осторожно уточнила Таня.
Другому постороннему человеку она не задала бы такой нахальный вопрос, но этой можно.
– У него только мама, – ответила девочка. – Она учительницей работает. В музыкальной школе.
– Так чему ж вы все так радуетесь?!
Таня прикусила язык. Ей совсем не хотелось обижать эту девочку хамским высказыванием, да еще в день свадьбы. Она просто удивилась, действительно удивилась. Все они здесь блаженные, что ли? Ладно девочка, ну а взрослые-то?..
Но невеста и не подумала обижаться.
– А мы давно друг друга любим. – Она улыбнулась той же безмятежной улыбкой. – С первого класса. Поэтому, конечно, счастливы.
«Дети. Горя не видали. И родня эта вся… Такая же, наверное».
Таня думала об этом все время, пока спускалась с четвертого этажа; дом в Сокольниках был старый, без лифта. И когда счищала снег со стекла своей машины, тоже думала, как это взрослым людям удается совсем не знать жизни.
Не надо обладать особенным опытом, чтобы понимать, что через год-другой, самое большое после окончания своего филфака эти наивные дети остынут друг к другу. Человек меняется с возрастом, и ему нужно новое. А у этих и так-то перемен никаких не предвидится. Ну что им в своей жизни менять? От рождения все имеют, стремиться не к чему.
Таня, может, и усомнилась бы в своей правоте, если бы не филфак и не книги до потолка. Но, учитывая это, сомневаться в будущем молодоженов не приходилось. Все у них будет так, как есть сейчас, потому что уже сейчас у них есть все, чего они, такие как есть, могут в своей жизни достичь. И при такой-то предопределенности еще и связать себя в восемнадцать лет с определенным же человеком?! То есть даже не в восемнадцать, а вообще с рождения, похоже. Какая же скука возьмет в тридцать! А в сорок? А в пятьдесят?
«Я бы до пятидесяти в таком случае точно не дотянула», – подумала Таня.
Она села за руль и, пока машина прогревалась, взглянула на айфон. На экране светились сообщения, пришедшие, пока она работала. Завтрашняя утренняя клиентка просит приехать пораньше – ладно, приедет. Сегодняшняя, к которой она сейчас направляется, наоборот, сообщает, что задерживается, и просит подождать – что ж, там в доме кофейня есть, в ней придется посидеть…
Таня вспомнила, как девочка сказала: «А мы любим друг друга с первого класса. Поэтому, конечно, счастливы».
При всей глупости этого заявления счастье в нем, безусловно, было. Ей, правда, недоступное. В силу врожденного отсутствия наивности.
Таня открыла последнее сообщение. Оно пришло с неизвестного номера.
«Вениамин Александрович умер. Похороны завтра в два часа на Ваганьковском».
Она посмотрела на свои руки. То есть не специально посмотрела – руки были у нее перед глазами, потому что она держала айфон. Не сжимала, просто держала. Но пальцы побелели. У нее всегда это было единственным признаком волнения. Он удивлялся этому, когда она была ребенком. И потом удивлялся тоже.
Она положила айфон рядом с собой на сиденье. Печка была включена, но пальцы будто морозом свело. Да, не только в наивных детях, но и в ней тоже есть что-то неизменное.
Таня не думала, что он умрет. То есть не думала, что он умрет при ее жизни. Хотя он старше ее, сильно старше.
И ее не должно было так поразить известие о его смерти. Она не видела его пятнадцать лет. И только первый год из этих лет думала о нем. Если все, что с ней тогда происходило, можно было назвать мыслями… Потом то, что обуревало ее душу, схлынуло. И ни самой ее прежней, ни, значит, всей той жизни больше не было.
«Жалею я о себе той, что ли?»
Таня проговорила это молча и с недоумением. Она была уверена, что о себе восемнадцатилетней не жалеет. Ей вообще не хотелось вспоминать о себе – ни тогдашней, ни тем более о такой, какой была в детстве. Она и не вспомнила бы, если бы… Да, если бы он не умер.
Но он умер, и не вспоминать теперь – не получится.
Глава 2
«Тут все-таки лучше. Мать бы отлупила уже, а тут некому».
Танька повторяла это под каждый свой шаг, и все-таки пока ей не очень удавалось убедить себя в том, что в Москве лучше, чем дома. В Москве было страшно, вот что. Матери она не боялась, а Москвы боялась. Хотя должно бы наоборот быть.
Танька вышла из электрички ранним утром и весь день бродила по городу. Ей казалось, стоит только добраться до Москвы, и все как-нибудь получится. А добралась, и ничего не получается, и непонятно даже, что должно получиться. Зря ехала, выходит.
И ничего не зря! Никто не жалеет, что в Москву уехал. Витек Рогов говорил, когда к матери своей приезжал: в Москве деньги под ногами лежат, дурак, кто не поднимет.
Танька посмотрела себе под ноги. Только желтые осенние листья под ними лежали, прилипали к подошвам босоножек, а денег никаких не было.
За дорогу она потратила все деньги, которые вытащила у матери из сумки. Не на билеты, конечно, дура она, что ли, на билеты тратиться, а на еду. Покупала что подешевле в буфетах на станциях, когда пересаживалась с электрички на электричку, убегая от контролеров. Вдалеке от Москвы еще ничего, еду купить можно, а на какой-то станции, где она сделала последнюю пересадку за час до конца пути, все уже было такое дорогое, что в горло не полезло бы. Да и кончились уже у нее деньги к той станции. Попрошайничать было стыдно, воровать тоже, а заработать – это бы хорошо. Только как? Алка соседская говорила, что молодая девка на кусок хлеба всегда себе заработает, потому что мужиков на сладенькое тянет. Но одно дело Алка, она с шестого класса всем дает, а Танька такого заработка боялась.
«День-два голодная походишь, небось бояться перестанешь», – уныло подумала она.
Но если и перестанешь, то что? За рукава, что ли, мужчин на улицах дергать – вот я, берите, только денег дайте? Непонятно. Тем более в Москве все спешат и никто ни на кого вообще не смотрит.
Выйдя из электрички на Курском вокзале, Танька не поняла, куда пошла. Сперва перебежала через вок-зальную площадь, потом долго шла по широкой улице… Потом в какие-то переулки попала. В них было запуталась, но быстро разобралась, как они кружатся-пересекаются.
В таком большом городе она, конечно, не бывала, но вообще-то везде хорошо ориентировалась, хоть среди домов, хоть в лесу, хоть в чистом поле. Витек говорил, у нее чутье такое. Как у собаки. Ну и в московских этих переулках разобралась, ничего особенного. В них-то хоть тихо и людей поменьше. А когда опять вышла на какую-то широкую – жуть, какую широченную! – улицу, то попала в огромную толпу. И чего столько народу собралось? Ладно на вокзальной площади людей много, ну а здесь-то?.. Правда, воскресенье. Может, у них тут в Москве так заведено, в воскресенье по улицам гулять. Тем более погода хорошая.
Танька посмотрела на противоположную сторону этой улицы и ахнула. Там высился такой дом, каких она никогда в жизни не видела. То есть она и никаких больших домов никогда в жизни не видела, но этот – ну совсем уже! Огромный, серо-коричневый, с башнями. Его шпиль уходил в самое небо. У Таньки даже голова закружилась, когда она оглядела этот шпиль доверху. Может, все на него и пришли посмотреть?
Но уже через пять минут она поняла: что-то здесь не то. Люди были злые, орали, спорили. И все-таки их было слишком много для обычной воскресной гулянки, даже и московской; это она сообразила. Она вообще была сообразительная. Может, уродилась такая, а может, сделалась, потому что иначе не выживешь.
Да и чего тут особенно соображать? Случилось что-то, по всему видно. Люди, толпящиеся на тротуаре, вдруг хлынули прямо на дорогу. Стали останавливаться машины, даже троллейбусы. Все кричали, некоторые размахивали палками и железными прутьями, лица у всех были злые.
– Девочка, ты что здесь делаешь? – услышала у себя за спиной Танька. – А ну беги домой сейчас же!
Она быстро обернулась. Женщина, которая сказала ей это, глядела сурово. Палки у нее в руках, правда, не было, но была пивная бутылка. И не с крышкой железной, а с затычкой, которая проволокой прикручена. На женщине был платок и штормовка, но все равно она не была похожа на какую-нибудь болховскую тетку, собравшуюся за грибами. Что-то во всех москвичах было общее, это Танька еще в электричке заметила, и тогда же ей стало любопытно, что же оно такое.
Но теперь ей было уже не любопытно, а страшновато. Чего они кричат? Куда вдруг все рванулись?
Куда бы ни рванулись, а пришлось идти вместе со всеми, потому что сама не заметила, как оказалась в самой середине толпы.
– Дядь, а куда все идут? – спросила Танька мужика, шагающего рядом с ней.
Вид у него был вроде не такой суровый, как у остальных, и ни палки, ни бутылки в руках не было. Но он ничего ей не ответил – увидел кого-то, знакомого, наверное, и исчез в толпе. А того мужика, который шел рядом с другой стороны, Танька спрашивать побоялась, потому что очень уж громко он орал:
– На «Останкино»! На «Останкино»!
Что за Останкино такое, она не знала.
«А все равно хорошо, что до Москвы добралась, – неожиданно подумала Танька. – В Болхове такого не увидишь!»
Ей вдруг показалось, что никакого Болхова и на свете нет. Улицы там, считай, пустые, если с московскими сравнить, на многих и асфальта даже нету, и люди ходят медленно, а если кто спешит, так разве что в очередь за чем-нибудь… Неужели так живут? Уже и не верится.
А в Москве!.. Страшновато, конечно, зато… Аж щеки покалывает, вот как. Будто от ветра.
Голова у Таньки вертелась, как на шарнирах. Широкая улица перед высоченным зданием со шпилем была перекрыта толпой, троллейбусы по ней ехать не могли, машины тоже. Люди шли прямо по дороге, во всю ее ширину, и кричали все громче. Чего они хотят, Танька так и не понимала.
– Дядь, а тут что? – спросила она другого мужика, который шел теперь рядом с ней.
Он был в очках и незлой вроде.
– Где? – переспросил он.
– Вот тут.
Танька показала пальцем на дом со шпилем.
– МИД, – ответил мужик.
– Что-что? – не поняла она.
– Министерство иностранных дел, – объяснил он. – Предатели родины.
– Кто? – опять не поняла она.
Но толпа уже унесла мужика в сторону, а рядом оказалась женщина.
«Всех по очереди надо спрашивать, – поняла Танька. – Каждый по два слова успеет сказать, так и разберусь».
– Теть… – начала было она.
Но тут шум впереди стал громче, и по всей толпе словно вздох пронесся.
– Ментов прислали! – крикнул кто-то. – Бей гадов!
Все подались вперед, потом побежали. Таньке пришлось бежать тоже, иначе ее с ног сбили бы, так напирали сзади. Впереди послышались новые крики, потом глухие звуки ударов, толпа остановилась было, потом словно выдохнула громко и яростно, потом поднялся не крик уже, а утробный вой, и все побежали снова, и Танька вместе со всеми.
Вскоре она и сама увидела справа, метрах в ста от себя, этих ментов. И так страшно было увиденное, что Танька даже приостановилась. Правда, только на несколько секунд, потом снова пришлось бежать, чтобы не оказаться под ногами у людей.
Там, справа, шло настоящее побоище. С яростными криками мужики врезались в строй милиционеров и били их железными палками. На каждого приходилось по двое-трое бьющих. Танька успела увидеть, как один милиционер, уже без каски, ушастый, упал, и здоровенный мужик, матерясь, прыгнул прямо на эту его ушастую голову. Она услышала, как голова треснула под ногами, но вой и мат вокруг стояли такие, что все звуки тонули в них. К тому же вдруг защипало в носу и в горле, Танька закашлялась, из глаз хлынули слезы.
– Газ пустили, сволочи! – надрывно крикнул кто-то. – Народ газом травить?!
Краем глаза, сквозь слезы Танька увидела, что слева толпа сделалась как будто пореже. Она сразу бросилась туда. Непонятно было, почему именно слева поредела толпа, может, там стреляют и бежать туда не стоит, но размышлять об этом было некогда. Она лавировала между людьми, как ящерица, подчиняясь не разуму, а чему-то такому, что даже словом назвать не могла. Бежала, прорывалась, орала, плакала, выла, визжала – и наконец оказалась на тротуаре и шмыгнула в какой-то переулок. Подальше от дурной этой улицы, от здоровенного дома до самого неба!
Глава 3
Танька бежала по переулку до угла, размазывая по лицу слезы и сопли, потом повернула в другой переулок, потом еще раз и еще. Подальше, подальше!.. Потом почувствовала, что задыхается, что ей дерет горло, и села на ступеньки возле какого-то подъезда.
Откашлялась, отплевалась и наконец огляделась.
Здесь, на счастье, было тихо. Ни души кругом, даже форточки в окнах закрыты.
«Я и сама б сейчас на все замки закрылась, – подумала Танька. – Вот попала, так попала!»
Теперь ей было ясно, что в Москве что-то случилось. Что-то такое, от чего всем будет плохо. Почему плохо, а не хорошо, она не понимала, но была в этом уверена. А как же еще? Два года назад тоже непонятно что в Москве творилось, танки по городу ездили, она по телевизору видела. А вскоре после того в Болхове все так подорожало, что даже ливерки стало не купить, не то что конфет или там масла подсолнечного. Им с матерью точно. Значит, раз опять в Москве такое началось, то у них еще хуже станет.
«Правильно, что из Болхова сбежала, – подумала Танька. – А чего я там должна с голоду дохнуть?»
Есть, правда, хотелось и здесь. Несмотря даже на то, что в горле до сих пор першило. Интересно, правда пустили в людей газ? А какой? Как на кухне в плите, что ли?
Хорошо, что в сумке у нее осталось еще две сосиски, хлеб и вареное яйцо. Двое пассажиров опаздывали на поезд и не доели, оставили все это на тарелках в станционном буфете, а она собрала, завернула в газету и положила на самое дно сумки, под сменное белье.
Танька хотела расстегнуть молнию на сумке… И похолодела. Никакой сумки у нее на плече не было. Она вскочила, оглядела асфальт вокруг себя. Сумки не было и там. Ее помину не было. И, похоже, уже давно.
Танька точно помнила: когда, задрав голову, разглядывала здание, которое называлось МИДом, то сумка была при ней. И когда шла быстрым шагом вместе со всеми посередине улицы, тоже поддергивала время от времени ремень у себя на плече. Сумка была такая древняя, что даже мать ее забросила, и ремень крепился к ней проволокой. Собираясь в Москву, Танька вытащила эту сумку из-за шкафа.
И вот теперь сумки не было. И гольфов запасных не было, и трусов, и почти нового платья в голубых цветах, и надкусанных сосисок с хлебом… И серебряной цепочки от Танькиного крестильного крестика; мать не разрешала эту цепочку носить, а Танька взяла, потому что надеялась ее в Москве продать.
Вообще ничего у нее теперь не было.
Ноги у Таньки подкосились. Она снова села на ступеньку перед подъездом. Хотела заплакать, но, видно, все слезы вылились, когда нанюхалась газа. И хорошо. Чего зря время терять? Сумка наверняка соскользнула у нее с плеча, когда она вырывалась из толпы. Может, и сейчас на асфальте валяется в одном из переулков, по которым она бежала. Кому в Москве такая облезлая сумка нужна, да и попрятались же все!
Эти соображения придали Таньке сил. Она перестала тереть глаза, вскочила и бегом припустила обратно, оглядывая тротуары и на ходу вспоминая, где и куда сворачивала.
Но зря она себя так обнадежила: ни в одном из переулков сумка не обнаружилась. Так и добежала до той широкой улицы, с которой чудом выбралась во время побоища.
Добежала и остановилась в растерянности.
Толпы на улице уже не было, но люди были. Одни двигались маленькими группками, а другие лежали тут и там прямо посреди дороги. К ним подходили, пытались их поднять. Танька даже врачей двух заметила – маячили белые халаты.
И по всей улице валялись каски, милицейская амуниция, ботинки, штормовки, шапки… Сумки тоже валялись – может, среди них была и Танькина.
Она пошла по улице, цепким глазом оглядывая все, что было разбросано по асфальту, стараясь при этом не наступить на битое стекло и, главное, не наткнуться взглядом на лежащих. Они покойники, может! Покойников Танька боялась.
Она шла и шла, пока не повернула на другую улицу. Здесь она точно не была, значит, и сумку искать здесь не стоило. Но очень уж эта улица была красивая! Тоже широченная, с высокими домами и просторными тротуарами. А на угловом доме вращался огромный глобус. Голубой земной шар! Танька так загляделась на него, что не только про сумку, но даже про страх свой забыла. Да и не очень она вообще-то боялась уже. Ну, людей много, ну, дерутся. До нее-то им дела нету. А если что, снова убежит. Зато интересно как!
На нее в самом деле никто не обращал внимания. Толпа гудела где-то впереди, а Танька шла посередине пустой, без машин, дороги и вертела головой. Какие дома! А рестораны! А магазины! Дыхание у нее захватило от восторга, она даже про сумку думать перестала. Невелики сокровища были в той сумке. А тут зато вон что!
В витрине одного магазина стоял манекен, красивый, как настоящая женщина, даже лучше, а в руке у него была такая сумка, какой Таньке в жизни видеть не приходилось. Розовая, пухлая, сверху замочек в виде двух золотых шариков. И уголки кованые, тоже золотые.
Она подошла вплотную к витрине – «Весна» этот магазин назывался – и долго разглядывала манекен, его невозмутимое лицо, розовую сумку, пальто полосатенькое, шляпку, украшенную прозрачными бусинами. И туфельки! На тоненьких шпильках.
У Таньки аж дух занялся. Вот бы ей так одеться! И в Болхов во всем этом приехать. Или нет, не надо в Болхов. Чего она там забыла? Мать побьет и все отнимет. И ладно бы сама стала носить, так ведь продаст. Не до бирюлек, скажет, жрать нечего. Ну нечего, и что теперь? Всю жизнь в уродском ходить?
Танька посмотрела на свои ноги. Ремешок босоножки держался на честном слове, резинка на гольфе лопнула, и он сполз до щиколотки. Как же она все это ненавидела! И облезлые босоножки, из которых торчат пальцы, потому что нога давно выросла, и толстые гольфы, которые вечно морщинами собираются, и то, что мать побьет, если найдет…
«А вот и не найдет она меня!» – зло подумала Танька.
Ее уже не страшили ни толпа, ни милиционеры, ни газ. Москва оказалась такой, что Танька готова была сдохнуть на ее улицах, лишь бы не возвращаться в свою прежнюю ненавистную жизнь. Она была уверена, что жизнь та теперь навсегда – прежняя.
С трудом оторвавшись от витрины – там много чего еще было выставлено красивого – и решив вернуться сюда попозже, чтобы разглядеть все до последней блесточки, Танька двинулась вперед, туда, откуда доносился гул толпы. Как ни крути, а надо идти к людям. Толпа, с одной стороны, дело страшное, но с другой – когда людей так много, и все они так взбудоражены, и все заняты каким-то общим непонятным делом, у них легче вызнать, что ей делать дальше или хотя бы куда идти. Идти или, может, ехать. В метро-то без денег не войдешь, а на автобусе или на троллейбусе и зайцем можно. Не труднее, чем на электричках.
На ходу она прочитала наконец на табличке название улицы – Калининский проспект. Но даже если бы и не узнала название, то все равно была уверена, что найдет эту улицу снова. Если Таньке сильно чего-то хотелось, то чутье у нее обострялось. Тоже как у собаки: та ведь, когда голодная, кость обглоданную за километр почует.
Люди стояли толпой возле последнего по Калининскому проспекту дома. По высоте он был такой же, как МИД, но по виду совсем другой – на открытую книжку похожий. Прямо перед домом стоял грузовик. То есть только сначала он стоял, а потом сдал назад и, разогнавшись, врезался в стеклянную дверь. И снова сдал назад, и снова разогнался и врезался, и наконец дверь эту вышиб.
– Дядь, теть, а что там? – приставала к каждому Танька.
Но ни толпа в целом, ни каждый человек по отдельности не обращали на ее расспросы никакого внимания. Даже не обернулся никто. А толку ли обращаться к спинам? Танька ввинтилась в толпу. Из высокого дома доносились автоматные выстрелы, но в толпе было как-то не страшно – казалось, стреляют не по-настоящему. Да и интересно было, что такое они все там впереди видят, что на живого человека ноль внимания обращают.
Неожиданно толпа перед ней расступилась. То есть это Таньке только сначала показалось, что перед ней. А уже через минуту, оказавшись в первом ряду, она увидела, что от дома-книжки спускаются по широким ступенькам и идут прямо в толпу какие-то люди. Обмундирование на них было вроде бы военное, в руках настоящие, как в кино про войну, автоматы, но военными они не были точно: шли не строем, а вразнобой, да и весь вид у них был не военный, а какой-то… Звериный, вот какой. Можно было бы подумать, что они пьяные, но у Таньки на это глаз был наметанный, и она сразу поняла: если и пьяные, то совсем чуть, а так-то глаза у них не водкой залиты, а злобой.
Перед собой они гнали нескольких человек. Танька зачем-то пересчитала – пятерых. Расхристанных, в разорванной одежде, один даже вообще голый был по пояс, и все были такие избитые, что даже ей стало страшно, хотя в Болхове она мужиков после драки сто раз видела. Но то после драки, а этих, сразу видно, просто били по чему пришлось. У одного все лицо было залито кровью, у другого глаза заплыли от ударов, третий еле шел, хромая, и рука у него висела как неживая…
– Вы куда их, мужики? – послышалось из толпы.
– В Белый дом, – гаркнул тот, который шел впереди с автоматом. – Пускай там разбираются, что с ними делать!
– В мэрии поймали! – весело объяснил второй, рыжий. – Вражья сила!
Веселье и в голосе, и в глазах у него было точно как у соседа Женьки. Вся улица знала, что того при родах врачи чуток придушили, потому он всю жизнь дурной. Мать то отдавала его в психушку, то забирала обратно домой, пока наконец он ее не зарезал. Танька вспомнила, как Женька быстро-быстро ходил после этого взад-вперед по улице, размахивал окровавленным ножом и шарахающимся от него соседям объяснял, что мамка его обидела. Точно таким же веселым голосом объяснял, как этот рыжий.
– Мало ли что в мэрии!.. – раздалось в толпе. – Чего сразу?.. Они, может, просто документацию вели!.. Или шоферы!..
Танька решила уже бежать отсюда куда подальше – ну их всех, неизвестно, что им в головы взбредет! – когда третий из конвоиров, самый высокий и смурной, выкрикнул – злобно, сквозь зубы, но именно выкрикнул:
– Да у этого пистолет был! Табельное оружие шоферу не выдадут!
И ударил прикладом в спину одного из тех, кого вел в какой-то там Белый дом. От удара тот упал на колени, а потом ткнулся лицом в асфальт. Танька вспомнила, как на таком точно асфальте ушастая голова милиционера треснула под ногами здоровенного мужика. Она была уверена, что забыла это, потому что слишком страшно было такое помнить, но оказалось, нет, не забыла.
«Сейчас и этот прыгнет!» – поняла она и почувствовала, что пальцы у нее стали холодные, как в мороз; от волнения у нее всегда пальцы холодели, даже белыми становились.
Но смурной конвоир не стал прыгать на голову упавшего. Он несколько раз ударил его ногой в тяжелом шнурованном ботинке, а потом схватил за ворот рубашки, рывком поднял на ноги и развернул лицом к себе. Рубашка при этом треснула, но не порвалась.
«Льняная потому что. Дорогая», – ни к селу ни к городу мелькнуло в голове у Таньки.
– Проси у народа прощения, гнида! – крикнул конвоир. – В глаза людям смотри, в глаза! Кланяйся и говори: «Простите меня, люди добрые, что я, ворюга, вас обкрадывал, свой карман вашим добром набивал!»
Он повернул человека в льняной рубашке лицом к толпе и ударил в спину между лопатками. Наверное, чтобы тот распрямился. Да нет, просто так ударил – тот ведь и так уже смотрел прямо в глаза людей, стоящих в первом ряду. Даже Танька поймала его взгляд, и ей стало не по себе.
Она вдруг поняла: ничего такого этот человек говорить не станет. И прощения просить не станет, и тем более кланяться. Хотя что б ему стоило поклониться? Мать всегда говорила: небось корона с головы не упадет. Таньку эта дурацкая поговорка злила, но сейчас, вот в эту минуту, она понимала, что поговорка – правильная. Не то убьют же!
– Ну! – гаркнул конвоир. – Язык отсох?
– Нет.
Голос этого, в белой рубашке, прозвучал неожиданно громко. Танька даже знала, как такой голос называется – баритон. Им еще в третьем классе на уроке пения училка объясняла, пластинки ставила – где баритон, где бас, где тенор, самый противный и писклявый. Танька в такую мурню не вслушивалась, конечно, но вот сейчас эти голоса выпрыгнули из памяти. От страха, наверное.
– Что – нет? – не понял конвоир.
– Я ничего ни у кого не крал. Прощения мне просить не за что, – этим своим ясным баритоном проговорил человек в белой рубашке.
Рубашка, кстати, уже в крови была, потому что лицо у него об асфальт побилось.
– Во-он оно как, значит… – зловеще протянул конвоир. И яростно, из нутра выкрикнул: – И правда, куда его водить? Шлепнуть сразу – одной гадиной меньше будет!
Он вскинул автомат. Толпа ахнула и отпрянула. Солнце сияло, небо синело. Красивый, как открытая книга, дом, блестя всеми своими бесчисленными окнами, высился в небе. Танька почувствовала, как вместо страха поднимается у нее внутри что-то совсем другое… Но что – понять не успела.
– Ты чего?! Ты куда?! Он же… Он живой же!
Она подскочила к мужику в камуфляже, схватилась за ствол его автомата и изо всех сил затрясла, потянула к себе. Она не понимала, что делает, куда исчез ее страх и почему. Понимала только то, что кричала: что этот человек живой, хоть и лицо у него в крови, и голова, и рубашка, а сейчас, вот прямо через секунду он будет мертвый, и это будет уже навсегда, этого уже будет не исправить, а все стоят, как будто у них ноги к асфальту приклеились, и толку-то, что они взрослые и что их много!..
– Ты что?.. – Мужик с автоматом оторопел и замер было, но почти сразу же и отмер, и рванул автомат к себе так, что проволочил Таньку по асфальту. – Пш-шла, зараз-за!..
Он дернул автомат вверх и в сторону, пытаясь стряхнуть Таньку. Но избавиться от нее было не так-то просто – в ствол она вцепилась намертво.
– Отпусти девчонку! – угрожающе прозвучал мужской голос.
– Девочка папу нашла! – надрывно подхватил женский. – Пусти ребенка, изверг!.. Товарищи, чей ребенок?.. Да что ж вы творите?!
Толпа загудела и вся, как одно огромное существо, подалась вперед. Это движение было таким могучим и страшным, что даже мужики с автоматами испугались, наверное.
– Да кто ее держит?! – заорал тот, который собирался расстреливать вражью силу. – Сама вцепилась! Пусти, дура!
– Не пущу, – сквозь зубы пробормотала Танька.
Не только страх ее, но и ярость сменились другим чувством – тем упрямством, которое доводило мать до исступления и за которое она не раз лупила Таньку до крови.
– Она за папку!.. – раздалось из толпы. – Отпусти его, пускай к дочке идет!
Это были последние слова, которые Танька смогла разобрать. После них крики слились в утробный возмущенный гул, и он был куда страшнее стрельбы.
– Вы что?! – испуганно крикнул в толпу мужик с автоматом. Не крикнул даже, а взвизгнул; вся его мужественность мгновенно превратилась в самый обыкновенный бабский страх. – Сдались они мне оба!.. Да пошли они!..
В ту же минуту Танька почувствовала, что она уже не держится за ствол автомата, а сама держит автомат за ствол. Он оказался такой тяжелый, что она чуть его не выронила; приклад громыхнул об асфальт.
– Давай, малая, отсюда живее. – Другой мужик, в точности похожий на первого, только не из отряда в камуфляже, а из толпы, забрал у нее автомат. – Бери своего папку, и дуйте, пока целы!
Только теперь Танька глянула на человека, из-за которого вляпалась в такой дурацкий сыр-бор. Он стоял рядом с ней, шатаясь, и, кажется, не очень понимал, что происходит. Глаза у него сделались мутные, лицо в тех местах, где его не залила кровь, было таким же белым, как Танькины пальцы.
Что было делать?
– Пошли! – Она дернула его за рукав. – Э-э, не падай!
Неизвестно, услышал ли он ее слова, но с ног валиться вроде перестал.
Танька схватила его за руку – покрепче, чем только что держалась за ствол автомата, – и потащила прочь.
Глава 4
Далеко они, правда, не убежали.
Сначала Танька почувствовала, что ногам ее как-то неловко, и, глянув вниз, увидела, что ремешок проклятый все-таки лопнул и бежит она уже в одной босоножке. Но это бы еще ничего – хуже, что спутник ее стал все чаще спотыкаться и замедлил бег.
– Навязался на мою голову! – в отчаянии воскликнула Танька, когда он в конце концов совсем остановился, прислонился к стене дома и сполз по ней так, будто его и правда расстреляли.
Что с ним делать, непонятно. Сидит на асфальте с закрытыми глазами, но вроде в сознании – дышит тяжело и прерывисто.
Танька присела перед ним на корточки, потрясла его за плечо и попросила:
– Побежали, а? Они ж передумают и догонят.
По уму, надо было не его уговаривать, а самой мчаться во весь дух куда ноги несут. Но она не могла этого сделать. Не его не могла оставить, а, наоборот, сама боялась остаться без него. Даже непонятно, почему так: помощи от сидящего никакой, обуза только, но оторваться от него страшно. Надо же! Когда висела на стволе автомата, никакого страха не было, а те– перь вот…
На ее просьбу он не ответил.
– Ты умираешь, что ли? – всхлипнула Танька.
Он молчал. Потом наконец хрипло проговорил:
– Нет.
– Тогда вставай! – встрепенулась она.
Он попытался подняться. Вздулась жила на высоком лбу, даже под кровяными разводами было видно. Но ничего у него не получилось – рука, упиравшаяся в асфальт, подломилась, и он завалился на бок. От этого Таньке стало совсем страшно, и она заревела в голос.
– Что ты?.. – пробормотал он.
Глаза у него наконец открылись. Левый, правда, не очень-то, потому что заплыл кровью, но правый смотрел не мутно, а с соображением.
– Бою-усь!.. – выла Танька. – Я бою-усь! Не умирай!
– Не умру. – Это он произнес хоть и хрипло, но уже твердо. Танька как по команде перестала выть. – Не умру, – повторил он. – Но идти пока не могу.
– Я тебя не дотащу, – предупредила Танька.
– О тебе речи нет. Надо позвонить. Жетон для телефона есть?
– Не-а.
– Ч-черт…
– Да ладно – жетон! – воскликнула Танька. – Ты скажи, куда звонить! Номер скажи.
– Запиши, – сказал он.
– Чем? – хмыкнула Танька. – Пальцем? И так запомню.
Откуда она собирается звонить, он не спросил – продиктовал телефонный номер, и Танька сорвалась с места.
Хоть от дома-книжки бежали во весь дух, она краем глаза приметила по дороге какое-то кафе, к нему теперь и вернулась. Оказалось, это сосисочная. Она была закрыта, но Танька так заколотила в дверь кулаками, что открыли ей через пару минут.
– Чего ломишься? – настороженно спросила тетка.
Она была толстая и стояла на пороге так, что мимо нее мышь не проскочила бы. Но Танька не мышь.
– Теть! – пронзительно крикнула она. – Я от мамы потерялась!
– И что?
– Дайте папе позвонить! – заканючила Танька. – Он приедет и меня отсюда заберет.
Тетка не сдвинулась ни на сантиметр, но Танька нюхом почуяла, что она заколебалась, поэтому для верности прибавила звук и заныла на одной высокой ноте:
– Те-еть!.. Я только два слова скажу! Только куда папе ехать!
– Раз знаешь, куда ехать, почему сама домой не идешь?
«Вот сволочь! – подумала Танька. – Тебе-то какое дело?»
А вслух сказала:
– Босоножку потеряла потому что.
И задрала ногу в сползшем, грязном, до дыры протершемся об асфальт гольфе.
Тетка молча отступила на полшага в сторону, и Танька юркнула в дверь.
До подсобки, где стоял телефон, тетка шла за ней по пятам. И стояла рядом, пока Танька звонила. Боялась, конечно, как бы девчонка чего не сперла. Ну и правильно, Танька тоже на ее месте боялась бы.
– Здрасте, – быстро проговорила она в трубку. – Это Егор или Нина? Я от вашего друга звоню. От Левертова. Ему стало плохо на Калининском проспекте, и он просит, чтобы вы за ним срочно приехали. В Малый Николопесковский переулок. Он на земле там сидит возле дома три.
– Вот паршивка! – хмыкнула тетка. – А говорила, папе позвонишь!
Она даже потянулась к телефону – может, хотела нажать на рычаг, – но Танька схватила аппарат, отпрыгнула в сторону и поспешно проговорила:
– Приезжайте быстрее, ему очень плохо!
Из трубки еще неслись какие-то встревоженные вопросы, но Танька уже поставила телефон обратно на стол. Все равно ей нечего было на эти вопросы отвечать – что знала, все сказала.
– Спасибо, теть, – с нахальной улыбкой сказала она. – Я пойду.
– Босая, что ли? На, хоть пакет на ногу надень.
На пакете, который тетка ей протянула, улыбался кот Леопольд и было написано: «Ребята, давайте жить дружно». Танька сунула ногу в пакет, обвязала его под коленом шпагатом, который тетка ей тоже дала, и вышмыгнула из подсобки.
Вернувшись в Малый Николопесковский переулок, Танька уселась на асфальт под стеной дома номер три. Спутник ее был в том же положении, в каком она его оставила. Танька этому обрадовалась. Мало ли что могло случиться, пока она препиралась с теткой! Недалеко они с ним, с таким, убежали, чуть за дома свернули только, а крики с Калининского проспекта доносятся по-прежнему, и не только крики, но и грохот, и выстрелы.
Они сидели рядом у стенки и молчали. Ему говорить, похоже, было трудно, а ей не о чем. Да и силы из нее как-то вдруг выдулись, и стала она какая-то вся тяжелая, как воздушный шарик, в который вместо легкого газа насыпали песок. Ни пошевелиться не могла, ни решить, что делать дальше.
«Дождусь, пока его заберут, потом решу… – вяло подумала Танька. – Куда идти и вообще…»
Она только теперь почувствовала, как сильно устала. Даже носом стала клевать, даже чуть не приткнулась головой к плечу своего спутника, да вовремя встрепенулась: у него и так все болит, еще она навалится!
Машина с визгом затормозила у самых Танькиных ног. За водителя была женщина, а мужчина сидел рядом. Они одновременно выскочили из кабины и бросились к Таньке.
– Бен! – крикнул мужчина.
– Веня! – крикнула женщина.
– Что с тобой?! – воскликнули оба.
Они, правда, не только кричали-восклицали, но и поднимали при этом своего друга с асфальта и вели, почти что несли, к машине.
Он вроде бы что-то ответил, но что именно, Танька не расслышала – его уже сажали-укладывали на заднее сиденье, закрывали за ним дверцу.
– Егор, погоди, – глухо донеслось оттуда, и дверца приоткрылась снова. – Девочку заберем.
– Какую девочку? – Женщина обернулась. – А!.. Это ты звонила? – спросила она.
Танька молча кивнула. Она вдруг испугалась. Очень уж строгий вид был у этой женщины. И смотрела она, точно как школьная математичка, когда выясняла, что Танька прогуляла урок без уважительной причины.
– Садись в машину, быстро, – сказал Егор.
Не заставив просить себя дважды, Танька юркнула на заднее сиденье.
Никогда она не то что не ездила в такой машине – даже с улицы в такую не заглядывала, даже представить не могла, что такие бывают! Ей показалось, не в машину она села, а кто-то взял ее на руки. И на этих руках качает-колышет-укачивает…
«Куда они меня повезут?» – успела подумать Танька.
И уснула.
Глава 5
Танька проснулась от того, что на нее повеяло прохладой. Она одновременно открыла глаза, завертела головой и воскликнула:
– Мы куда приехали?
Хоть и провалилась в сон, как в яму, но помнила все, что с ней было. И что ее посадили в машину, помнила тоже.
И вот теперь машина стояла рядом с дощатым забором, дверцы были распахнуты, в кабину врывался запах опавших листьев, земли и осенних цветов, и по всему было похоже, что это уже не Москва, а деревня какая-то.
Но как только Танька выбралась из машины, то сразу поняла, что находится не в деревне. Не деревенские были здесь дома, хоть и невысокие, на один-два этажа, и заборы не деревенские, слишком аккуратные, и палисадник за открытой настежь калиткой. Рядом с этой калиткой и стояла машина, и все это Танька рассмотрела за секунду. А уже в следующую секунду из калитки вышла очкастая Нина и, быстро подойдя к Таньке, взяла ее за руку и скомандовала:
– Пойдем.
Если бы Нина внушала страх, Танька, конечно, вырвала бы руку и убежала. Но страха та не внушала, только робость – очень уж строгой казалась. Танька быстро сравнила: пойти с суровой Ниной в дом с резным крылечком или убежать куда глаза глядят и оказаться одной посреди Москвы, где непонятно что творится? И решила, что убегать не стоит.
В доме, правда, тоже творился переполох. Вернее, чувствовалось сильное беспокойство. Наверху, на втором этаже, кто-то торопливо ходил по скрипучему полу, пахло лекарствами, и даже газовая колонка за стеной гудела тревожно.
– Сядь, – сказала Нина, указывая на кресло. – Как тебя зовут?
Танька поморщилась. С какой стати та раскомандовалась? Но кресло, покрытое вязаным ковриком, выглядело уютно, к тому же нога, обернутая пакетом, вдруг заболела… Она села в кресло и сказала:
– Ну, Татьяна.
– Расскажи, пожалуйста, что случилось с Вениамином Александровичем.
– С каким… Александровичем? – удивилась Танька. Но тут же сообразила, о ком речь. – А!.. Ну, его из такого дома высокого вывели, на Калининском проспекте который, и хотели расстрелять.
– Господи! – Нина сняла очки и протерла их прямо краем своей белой блузки. Танька почему-то догадалась, что обычно она так не делает. – И что?
– И ничего. Не расстреляли. Побили только сильно.
– Не расстреляли, потому что ты не дала.
Танька не заметила, как со второго этажа спустился по деревянной лестнице мужчина, с которым Нина приехала по ее звонку. Егор его зовут, она запомнила. Он был высокий, с бородой и смотрел то ли мрачно, то ли просто нерадостно. Видно, плохи были дела у его друга Левертова. Это Таньку почему-то встревожило. Хотя понятно почему: все-таки полдня с этим Левертовым провозилась, вроде и не чужой он ей теперь.
– Бен говорит, девочка за автомат баркашовца схватилась, – сказал Егор. – И тот поэтому не сумел его расстрелять. На секунду бы замешкалась – конец бы ему. Вот так.
– Какое-то безумие. – Нина снова надела очки. – Невозможно поверить, что это происходит наяву. В Москве! Не в Бейруте каком-нибудь.
– Почему невозможно? – пожал плечами Егор. – Такая глыба рухнула, и всего два года прошло. Попытка реставрации после революции не должна удивлять.
Про что он говорит, Танька не поняла. Какая глыба рухнула, какая революция? Она ж в семнадцатом году была, революция? Зимний дворец штурмовали и все такое.
Правда, ей все это было сейчас не очень интересно. Нога болела все сильнее, прямо огнем ее жгло.
– Что у тебя с ногой? – спросил Егор.
Вот же догадливый!
– Не знаю… – пробормотала Танька. – Стеклом поранила, может.
– Сейчас врачи приедут, – сказала Нина. – Посмотрят и ее тоже.
– «Скорая»? – спросил Егор.
– Евгения Вениаминовна хотела «Скорую» вызвать, но я побоялась, – ответила Нина. – Мало ли какие врачам приказы отданы… Позвонила Кузьменкову в Склиф, он приедет с ассистентом. А дальше посмотрим по ситуации.
– Хорошо, – кивнул Егор. И, окинув Таньку быстрым взглядом, сказал: – Надо бы ее помыть. Перед врачебным осмотром.
– Я скажу Вале, – сказала Нина. – Она у Вени освободится, потом ее вымоет.
Таньке не понравилось, что о ней говорят, как о собаке или кошке, которую подобрали на улице и брезгуют держать в доме.
– Нечего меня мыть! – сердито сказала она. – Я вообще пойду.
– Как ты пойдешь босиком? – пожал плечами Егор. – И куда, кстати? Ты где живешь?
А вот этого Танька сообщать ему не хотела. Ни ему, ни суровой Нине, ни вообще кому угодно.
Она смотрела исподлобья и молчала. А что они ей сделают? На улицу выгонят? Так вроде наоборот, она-то и уйдет, пожалуйста, а они-то сами ее не гнать, а мыть хотят.
Неизвестно, что сделали бы Егор, Нина и какая-то еще Валя, но раздался звонок во входную дверь. Сначала один длинный, потом два коротких, потом еще один длинный. Для своих такой звонок придумали, наверное.
Нина побежала открывать, а Егор поспешно сказал:
– Слушай, ты вроде самостоятельная. Иди в ванную, а? Вон там, по правой стороне коридора. Пока Веньку будут осматривать, как раз успеешь вымыться. Ладно?
Танька кивнула, встала и, хромая, направилась к двери, на которую он указал. Лучше в самом деле пока скрыться с глаз долой, а там видно будет.
Ковыляя по коридору, она слышала, как с улицы вошли врачи, как они поднялись на второй этаж, коротко переговариваясь. Но ей было уже не до этого – она толкнула дверь справа от себя и оказалась в ванной.
Вообще-то Танька терпеть не могла мыться и делала это, только когда мать пинками гнала, потому что летом ноги после улицы становились такие грязные, что, говорила, порошка не напасешься простыни стирать. Но то дома, где мыться приходилось в цинковом корыте, подтянув колени к носу и поливая на себя из оббитого, в ржавых пятнах эмалированного ковшика. А тут…
Тут была ванна. Белая, без ржавых пятен. С блестящим душем. С зеркальной полочкой, на которой в ряд стояли флаконы с шампунями – не с одним шампунем, а с разными. И мочалок было много, и они были разноцветные. И всякие щеточки, и баночки…
Танька крутнула кран. Из него полилась вода. Она заткнула отверстие ванны пробкой, повертела второй кран. Вода становилась то теплее, то холоднее, но текла ровной сильной струей. Завороженно глядя на эту струю, Танька разделась, стащила с ноги пакет и забралась в ванну.
Она видела такое впервые в жизни. У них с матерью не было ни ванны, ни даже ванной комнаты, и ни у кого из Танькиных друзей не было. У кого-то из одноклассников были ванные, наверное, но она в их квартирах не бывала.
Она лежала, закрыв глаза, и наслаждалась жизнью. Как, оказывается, приятно мыться! Когда теплая вода стала затекать ей в рот, Танька глаза открыла, и вовремя: вода едва не перелилась через край ванны. Она закрутила краны, и снова улеглась, и лежала с закрытыми глазами так долго, что перестала понимать, сколько времени прошло. Может, полчаса, а может, и больше. Потом все-таки села и принялась мыться. Вылила на голову полфлакона шампуня, даже жалко было смывать, потому что это был не «Яичный» или там «Лесная быль», а какой-то душистый, хоть пей его. Долго терлась мочалкой, такой мягкой, что даже непонятно, как ею можно грязь оттереть, но грязь оттерлась. Потом выдернула пробку из отверстия ванны, дождалась, пока сольется грязная вода, и стала поливаться душем. Даже боль в ноге прошла, так было хорошо!
Нехотя выбравшись наконец из ванны, Танька заколебалась: каким полотенцем вытираться? На вешалке висели два больших и два маленьких, все снежно-белые, будто их только что в хлорке выварили, но при этом мягкие, какими полотенца после хлорки не бывают. Танька взяла одно из маленьких, наскоро им обтерлась и, хорошенько встряхнув, повесила на место. Авось высохнет, пока хозяева мыться придут.
Она вздохнула, глядя на свои вещи, валяющиеся на полу. Ужас как не хотелось надевать их на чистое, распаренное тело. Но придется, сменное-то белье потеряно вместе с сумкой.
В дверь постучали.
– Таня! – послышался Нинин голос. – Врачи тебя ждут.
Теперь, после ванны, когда и тело ее, и волосы пахли розами или даже чем получше, Танька поняла, почему Егор предлагал ее помыть. Хороша бы она была перед врачами – пыльная, в пропахшей вагонами и гарью одежде!
Но как же теперь грязное на себя надевать? Танька беспомощно огляделась – и заметила на двери еще один крючок. На нем висел халат, и тоже такой, каких она никогда в жизни не видела. Не ситцевый, не фланелевый, а махровый, как полотенце, и в разноцветных полосках. Поколебавшись, она сняла его с крючка и надела. Думала, будет неудобно, потому что он большой и длинный, но оказалось наоборот – так хорошо, как в этом халате, ни в одной собственной одежке ей не бывало. Он был теплый, от него еле ощутимо пахло табаком и одеколоном, как… Да, как от Левертова. Конечно, это его халат, догадалась Танька. Надо же, мужчина, а в халате ходит! Ну, здесь у них в Москве все по-другому.
– Таня! – нетерпеливо повторила за дверью Нина. – Поскорее, пожалуйста.
Танька задвинула свою одежду ногой под ванну – потом разберется, что с ней делать, – и откыла дверь.
– Какая ты в Венином халате смешная. – Нина в самом деле улыбнулась. – Пойдем, доктор тебя посмотрит.
Когда Танька, наступая на полы халата, вошла в комнату, окна уже посинели – сгущались сумерки. Комната была освещена множеством разномастных ламп. Одна, бронзовая, под стеклянным абажуром в цветах, стояла на столе, другие две висели на стене по обе стороны от портрета какого-то мужчины, третья была в торшере, который стоял в углу комнаты за креслом.
– Верхний свет включите тоже.
Это сказал человек в белом халате. Он смотрел прямо на Таньку. Она маленько испугалась и заныла:
– Не надо меня лечить! Нога не болит уже!
– Вот и посмотрим, – сказал доктор. И, увидев, что Танька дернулась к двери, прикрикнул: – Да не бойся ты!
Он быстро ощупал ее, оглядел со всех сторон, заставил наклониться, еще как-то повертел, посгибал ей руки и ноги, потом усадил в кресло и осмотрел ступню.
– Ничего страшного, – сказал он. – Порезалась, бывает. Хорошо, что не пятку, а то бы кровью могла истечь. Против столбняка прививка есть?
– Не знаю, – пожала плечами Танька.
– Уколы какие-нибудь в ближайшие два года делали тебе? В школе или в поликлинике?
– Не-а.
– Тогда сделаю.
Он промыл перекисью ранку у нее на ноге – Танька при этом сама зашипела, как перекись, – быстро перевязал и сразу же сделал укол, притом не настоящим шприцем, а пластмассовым. Танька таких никогда не видела. Игрушечный, что ли?
Она хотела спросить об этом доктора, но тут на лестнице, ведущей на второй этаж, показалась дама. Танька не поняла, почему ей в голову пришло именно это слово. Никаких дам она никогда в жизни не видела, разве что на картах – дама пик, дама треф. Только на картах они были молодые и красивые, в коронах, а эта была совсем не молодая, и красоты особой в ней не было. Но весь вид ее был такой, что к ней слово «дама» только и подходило.
Она была сильно взволнована, Танька сразу догадалась, но держала себя в руках. Танька вот, например, не умела держать себя в руках – если злилась, то злилась, если боялась, то боялась. Когда маленькая была, то даже обхватывала себя за плечи, чтобы понять: может, это и означает, в руках себя держать? Но ничего с ней при этом не происходило, и злиться хотелось все так же, и бояться.
А эта дама за плечи себя не обхватывала, но в руках себя держала. И одета была не по-домашнему, а в белую блузку и синюю юбку, и причесана так, будто собралась куда – темные с сединой волосы гладко расчесаны и собраны в низкий узел на затылке. Танька любила делать разные прически, девчонки ее за это даже парикмахершей называли, поэтому знала, как нелегко добиться, чтобы длинные волосы лежали так гладко и узел был бы такой ровный.
А туфли у этой дамы были такие, что Танька прямо ахнула. Какого-то особенного цвета, очень-очень синего, и на каблуках – это дома-то! – и из настоящей кожи, даже издалека видно. Где ж такие туфли берут? Уж не в магазинах точно.
– Ну как он, Евгения Вениаминовна? – спросила Нина.
– Уснул, – ответила та. И спросила, обращаясь к врачу: – Долго укол будет действовать?
– Часа четыре поспит, – ответил врач. – Потом еще раз обезболивающее уколете, я вам оставлю. Да вы не волнуйтесь, – добавил он. – Сломанные ребра и сотрясение – это, считайте, легко отделался. Нога, возможно, и не сломана даже. Завтра организуем рентген. Ничего страшного с ним не случилось.
– Мне трудно так считать.
По тому, как дрогнул ее голос, Танька поняла, что держать себя в руках совсем, полностью даже она не может.
Тут дама перевела взгляд на Таньку и сказала:
– А тебе моя благодарность безмерна, Таня. Если бы не ты… – Она на секунду отвернулась, потом спустилась вниз, положила руку на Танькино плечо и спросила: – Родители знают, где ты?
Если бы про это спросили Нина или Егор, Танька просто ничего не ответила бы, глядя им в глаза. Нахальство всегда отлично действует, это она знала. Но не ответить этой Евгении Вениаминовне – ну и имя-отчество, язык в трубочку свернется, пока выговоришь! – ей почему-то было трудно. Та была хозяйка, вот что. И не только этого дома, а как-то… Вообще хозяйка, по характеру.
– Ну-у… э-э-э… – невнятно протянула Танька.
– Ты можешь им позвонить?
Вот на этот вопрос ответить было нетрудно.
– Нет, – помотала головой Танька.
Телефона у них с матерью не было. Да если бы и был…
– Ты живешь не в Москве?
Танька кивнула.
– В таком случае давай поступим так: ты переночуешь у нас, а утром мы вместе решим, что делать дальше. Согласна?
Танька была согласна. Вернее, ничего другого предложить не могла. Не на улице же ночевать. Тем более что непонятно, где она находится. За городом, может, судя по тишине за окном.
– Я тоже у вас останусь, – сказал Егор.
– В этом нет необходимости, Егор, спасибо. Я никого не впущу в дом, не беспокойся, – сказала Евгения Вениаминовна.
– Но… – начал было он.
– Если это окажутся те, кого не смогу остановить я, то и ты не поможешь. – Евгения Вениаминовна улыбнулась. – А я сообщу соседям, чтобы в случае чего поднимали шум. Не беспокойся, – повторила она. – Езжай домой вместе с Ниной. Спасибо вам.
– Да за что спасибо? – пожал плечами Егор.
– За все.
Пока Егор и Нина разговаривали с Евгенией Вениаминовной, потом провожали врача, потом прощались сами, Танька забралась с ногами в кресло под торшером. Недавно ей казалось обидным, что Нина с Егором относятся к ней, как к подобранной собаке или кошке, а теперь она и сама чувствовала себя как кошка – свернулась клубочком на мягком, и тепло ей, и больше ничего не надо…
Разве что поесть. Да, есть хотелось так, что аж живот подвело.
– Ты, я думаю, голодная, Таня, – сказала хозяйка, когда, проводив гостей, вернулась в комнату.
«Конечно!» – чуть не выкрикнула Танька.
Но удержалась. Не от стеснения – она была не из стеснительных, – а потому что представила, как эта Евгения Вениаминовна сейчас усадит ее за стол, сама сядет напротив и, пока она будет есть, примется расспрашивать, кто она да откуда. Нет уж, лучше потерпеть без еды!
– Я спать больше хочу, – сказала Танька.
– Это не альтернатива.
Что означают ее слова, Танька не поняла, но та сразу же и разъяснила:
– Я принесу тебе ужин в комнату. Поешь в постели.
Глава 6
Танька наелась куриного бульона с лапшой так, что думала, продрыхнет без задних ног до позднего утра. Но проснулась среди ночи. От страха.
В доме было тихо. Что-то постукивало, шуршало по крыше – то ли дождевые капли, то ли облетающие листья. Что-то поскрипывало в деревянных стенах. Не те это были звуки, которых можно бояться. Но Танька чувствовала такой страх, что все у нее внутри сжалось и даже пот выступил на лбу.
Она только сейчас поняла, что с ней случилось. Что оказалась она в огромном городе, где люди совсем озверели и стреляют, и непонятно, кто в кого и почему, а главное, сколько это будет длиться.
«Что этот Егор вчера про революцию говорил? – вспомнила она. – У них тут революция, что ли? Или была уже? Еще того хуже!»
Отличницей Танька не была, но по истории у нее отметки были хорошие, потому что история ей нравилась. Нравилось, что жизнь, оказывается, идет не как придется, не как у матери она идет, а все из всего вытекает, и если случилось одно, то обязательно случится и другое. Историчка хвалила Таньку – говорила, что она сообразительная и поэтому хорошо разбирается в причинно-следственных связях.
И вот теперь, в темноте и тишине, в чужом доме, в маленькой комнате на втором этаже, эта способность связывать причины и следствия играла с ней плохую шутку.
После революции что бывает? Гражданская война, это всем известно. Про Гражданскую войну историчка, конечно, рассказывала все только героическое – Буденный там, Котовский, Щорс и прочие. Но Таньку не проведешь, она сразу поняла: самое главное, что во время Гражданской войны никаких законов нету, и кто сильнее, тот и прав, а если кто сильнее захочет, то и убьет кого слабее прямо на улице и не побоится, потому что ничего ему за это не будет. Или даже в доме убьет. И тоже ничего не будет.
Как могут убить прямо на улице, она видела вчера своими глазами. А в доме… Танька вспомнила, как Евгения Вениаминовна сказала Егору, что никого не впустит в дом. Это она про кого говорила, интересно? Танька представила: вот сейчас раздастся внизу грохот, потом двери вышибут, потом… Она задрожала как осиновый лист, даже зубы застучали.
«Зачем я только из Болхова убежала?» – мелькнуло в голове.
Первый раз за все московское время Танька усомнилась в правильности того, что сделала. До сих пор она чуствовала только интерес и любопытство, ну, страх тоже, конечно, но страх исчезал так же быстро, как появлялся. А теперь… Теперь уныние овладело ею, и страх не уходил. Он холодил душу так, что хотелось скулить и выть.
Она и стала тихонько поскуливать, сев на кровати и обхватив руками коленки. А как тут не бояться? Вот придут сейчас этого Левертова убивать, и всех в доме убьют заодно, и ее тоже!
Она слезла с кровати, прошлепала босиком к окну. Ступня под повязкой уже почти не болела – на ней все заживало как на собаке.
Танька отвернула край занавески. Окно выходило на противоположную от улицы сторону. Внизу был сад, сразу видно, что ухоженный – деревья разные, кусты тоже разные, клумбы есть. Над крыльцом покачивался под ветром фонарь. В его свете Танька разглядела на одной клумбе хризантемы, на другой астры. Цветы были крупные, сортовые. Их с матерью соседка тетя Галя выращивала цветы на продажу, но таких шикарных даже у нее не было.
Вид был мирный, но Таньку он ни капельки не успокоил. Она надела поверх ночной сорочки – это ей хозяйка сорочку дала – махровый халат, который взяла вчера в ванной, и вышла из комнаты.
На первый этаж вела скрипучая деревянная лестница. Но вниз спускаться Танька не стала. Что ей там делать – с хозяйкой объясняться, почему не спит, да куда идет, да зачем?
Цель у нее была, и очень ясная: она хотела найти щель, шкаф, сундук, лаз – какое-нибудь убежище, где можно было бы спрятаться сразу, как только в дом ворвутся убийцы. Когда ворвутся, поздно будет искать.
Ничего такого на втором этаже не было. Висел на стене ковер, не мохнатый, как у всех, а какой-то гладкий – Танька даже ладонью по нему провела – и весь разрисованный красками, как картина. Но что толку от ковра на стене? За ним не спрячешься.
Рядом с ковром была дверь еще одной комнаты. Танька тихонько толкнула ее.
Комната оказалась побольше, чем та, в которой уложили ее. Глаза привыкли к темноте, и она увидела у окна что-то вроде высокого письменного стола, на котором лежали книги и бумаги. Но стула рядом не было, не стол это, значит. А что, непонятно. В углу стояла широкая кровать, на ней лежал человек.
– Не спишь? – спросил он. – Почему?
В том страхе, который душил Таньку, она должна была бы испугаться еще больше. Но вышло наоборот: от первых же звуков этого голоса она успокоилась. Сразу и совсем.
– Боюсь, – все-таки ответила она.
Правда же из-за страха проснулась.
– Чего? – спросил Левертов.
– Что тебя убивать придут. И меня тогда тоже убьют.
Он засмеялся, но тут же охнул. Ну да, у него же ребра сломаны. Не очень-то со сломанными посмеешься.
– Не бойся, – сказал он. – Мы себя убить не дадим.
– А что ты против них сделаешь? – хмыкнула Танька. – Пистолет-то у тебя отобрали.
– А ты откуда знаешь?
– Так сказали же. Эти, которые тебя побили. Сказали, у тебя пистолет был. Неужто б оставили?
– Удивительно!
– Что?
– Что ты это запомнила. Я в такой ситуации вряд ли обращал бы внимание на мелочи.
– Ничего себе мелочи! Есть пистолет или нет – это разница.
– У меня ружье еще есть, не бойся.
– Охотишься?
– Нет.
– Ну-у…
– Что – ну? – с интересом спросил он.
Танька прямо слышала в его голосе этот интерес. Она вообще различала уже все его настроения. А почему так? Непонятно.
– А то, что раз не охотишься, так ружье твое, может, и не стреляет уже, – объяснила она. – Закисло или еще что.
– Ох! – простонал он. – Не мучай ты меня! Больно мне над тобой смеяться!
– А что смешного? – обиженно пробормотала она.
– Внушаешь веру в человечество, – ответил он. – Сообразительностью, не говоря уже о других твоих качествах. Если хочешь, посиди со мной. Раз одна боишься.
«Уже не боюсь», – хотела ответить Танька.
Но поняла, что не боится как раз потому, что он рядом. А если уйдет из его комнаты, то и снова забоится, конечно.
– Может, – поколебавшись, спросила она, – мне к тебе лечь?
– Куда? – удивился он.
– Ну… В постель к тебе. Маленький, что ли, не понимаешь?
– Я-то не маленький. А вот ты маловата еще, чтобы такое предлагать.
Его голос теперь звучал сердито. Танька испугалась: сейчас прогонит! Совсем, из дому. А что она такого сказала?
– Так все делают, – оправдывающимся тоном проговорила она.
– Кто – все?
– Все мужики. Им только этого и надо.
– Кто тебе сказал?
– Все говорят.
– Заладила – все да все! Ты из зоопарка, что ли?
Теперь Танька сама рассердилась. Да она зоопарка и не видала никогда! А про то, что всем мужикам одного только и надо, мать не уставала ей повторять чуть не каждый день. И в десятом классе у них в школе в прошлом году две девчонки родили, а в этом уже четыре – еще и в девятом, и даже в восьмом. И материна жизнь, и Алкина, и многих других женщин и девчонок вокруг нее только подтверждала это. Хорошо ему рассуждать, когда у него мать – Евгения Вениаминовна! Она его небось ничему такому не учила.
– На стул сядь, – сказал он.
И она тут же перестала сердиться и села на стул, который стоял у его кровати. Левертов был по грудь укрыт одеялом. Ссадины на его лице были замазаны йодом, а одна, у виска, стянута несколькими черточками пластыря. Один глаз заплыл, другой поблескивал жаром, и волосы прилипли ко лбу. Температура, наверное.
– Ты откуда приехала? – спросил он, глядя на Таньку этим своим жарким глазом.
Весь день ей удавалось избегать ответа на этот вопрос. Просто не отвечала никому, и все. Но не отвечать ему у нее почему-то не получалось.
– Из Болхова, – нехотя проговорила она. – Орловской области.
– А фамилия твоя как?
– А тебе зачем? – огрызнулась было Танька.
– Для понимания ситуации. А вот тебе зачем ее скрывать, а? Из дому сбежала?
– Ну… да.
– Почему?
– Потому! – сердито буркнула она. И, поняв, что он уже все про нее знает, а чего еще не знает, то узнает все равно, горячо проговорила: – А что мне там делать?
– Что все в твоем возрасте делают, – забывшись, он пожал плечами и тут же поморщился от боли. – В школе учиться.
– Да плевать мне на всех! Учиться… Чтобы – что? Знаю я… Только для этого учиться-то не надо.
Он помолчал – согласился с ней, может. Потом спросил:
– Ну а в Москве ты что собиралась делать?
Танька поколебалась – говорить, нет? Но что уж теперь…
– В кино сниматься! – выпалила она. И, заметив, что он снова расхохотался бы, если бы не ребра, обиженно спросила: – А что такого?
– Ох, Таня! – поморщился он. – И в каком же кино?
А зря он дурой ее считает, между прочим!
– В каждом фильме дети снимаются, – ответила она. – И не один, не два. Много! Я не гордая, мне даже без слов какую-нибудь роль можно… для начала.
– Для начала? – усмехнулся он.
– Ну а что? Потом бы приладилась, могла б и со словами сыграть. Думаешь, не получится?
– Думаю, получится. А жить где будешь?
– А где все живут? У нас из Болхова многие в Москву подались. И я пристроилась бы… куда-нибудь.
– Ты мне зубы не заговаривай, – поморщился он. – Куда-нибудь!.. У тебя наверняка план имеется. Давай излагай.
Если она чувствовала его настроение, то он, похоже, просто видел ее насквозь. И правда, зубы не заговоришь такому.
– Я на «Мосфильм» пойду, – призналась Танька. – Попрошусь, чтоб на съемки взяли. Если возьмут, то общежитие дадут. Пускай даже не платят пока ничего, только чтоб в столовую ходить разрешили. По талонам. Я про «Мосфильм» передачу видела, – пояснила она. – Это ж целый город! Даже побольше, чем Болхов, может. Точно, там и столовая по талонам, и общежитие есть!
– Таня, – вздохнул он, – я думал, ты разумная. А ты вдруг такую феерическую ерунду несешь. Какая столовая по талонам, какое общежитие? Во-первых, даже если оно и есть, то с чего ты взяла, что тебе должны его дать? Ты что, режиссер, актриса, студентка хотя бы? Во-вторых, на «Мосфильм» с улицы не войдешь. Там пропускная система. В-третьих, как только ты станешь про свои планы рассказывать милиционеру, который пропуска проверяет, он тут же сдаст тебя в отделение. И правильно сделает.
Он говорил все это таким жестким тоном, что после каждого его слова Танька чувствовала, как сердце ее ухает в пустоту.
Так все и есть, как он говорит. Он ведь лучше знает. И что же ей теперь делать?
– Я не хочу! Не вернусь я туда!
Она совсем не хотела это говорить, но вырвалось само собой. Растерялась потому что.
– Тебя никто никуда и не возвращает.
Он произнес это так, что Танька мгновенно успокоилась.
– А… что ж я тогда делать буду? – шмыгнула носом она. – И… где?
– Жить будешь здесь. На «Мосфильм» я тебя свожу. Как только встану. А теперь скажи мне, пожалуйста, внятно и честно: ты от родителей сбежала? Или из детдома?
«С какой стати я тебе должна честно говорить?» – подумала было Танька.
Но как-то вяло подумала, без настоящего пыла. Потому что на самом-то деле понимала уже: придется сказать ему все, о чем он только не спросит. Непонятно, почему так, но вот так.
– Не из детдома, – снова шмыгнув носом, сказала она. – От матери. – И поспешно добавила: – Я ей не нужна!
– Ты уверена?
– А ты б не был уверен, если б тебе каждый день орали: Гиря ты пудовая у меня на шее, и зачем я, дура, тебя рожала». – Танька зло передразнила материны визгливые нотки. – И лупили бы, чуть что. Я ей не даю жизнь устроить, потому что мужикам довесок к бабе не нужен. А если нужен, то… – Танька вспомнила, как один из материных мужей подкрался однажды ночью к ее топчану и залез рукой под одеяло. Это было так противно, что она даже сейчас головой завертела, стараясь вытряхнуть оттуда воспоминание. Хорошо, что муж тот вскоре побил мать и бросил. – К тому же радиация у нас, – добавила она.
– Разве? – удивился Левертов.
– Ага. Облака же, которые из Чернобыля, у нас там посадили. Чтоб в Москву вашу не дошли. И вообще, в Болхове тоска смертная, а не жизнь, – поспешно закончила она. И важным тоном добавила: – Никаких перспектив.
– Ладно, перспективная. – Танька увидела, а больше услышала, как он улыбнулся. – Иди-ка ты все-таки к себе и выспись. Утром все страхи пройдут. Сейчас мама придет укол мне делать, – добавил он, прислушавшись. – Подумает, что ты меня разбудила, и будет недовольна.
Танька поспешно вскочила. Евгении Вениаминовны она боялась. Кажется, Левертов это понял.
– Она не злая, – сказал он.
– Может, и не злая, – вздохнула Танька. – Только строгая больно.
– Ничего. Зато она делает жизнь устойчивой. Это, знаешь ли, мало кто умеет.
Что он сказал, Танька не поняла, хотя все слова по отдельности вроде были понятные. Она пошла к двери. Хотелось, чтобы он сказал ей что-нибудь ободряющее. Даже ласковое, может. Но вместо ласкового он сказал:
– Ты себя сильно-то не оплакивай. Страдание само по себе не имеет значения. В нем ничуть не больше драмы, чем в счастье.
Танька, остановившись было у двери и обернувшись к нему, на эти слова только вздохнула. Что за человек такой? Ничего у него не понять.
– А мы где вообще? – спросила она.
– Что значит где?
– Ну, в Москве или нет? Тихо тут, – пояснила она.
– В Москве, – ответил он. – На Соколе.
– На каком соколе?
Ей представилась картинка из затрепанной книжки сказок. Когда закончился детский сад, каждому в их группе такую книжку подарили, и она долго была у Таньки единственной. В книжке была картинка: царевич летит над лесами, над лугами на огромной птице. На соколе, может.
Левертов не похож на того царевича. Или похож?
– Есть такой в Москве, – сказал он. – Поселок Сокол.
Глава 7
Таня приехала на Ваганьковское к половине второго. Гроб уже опустили в могилу.
Она в остолбенении смотрела, как летят вниз комья мерзлой земли, и не знала, что ей делать. Кричать, чтобы прекратили, чтобы открыли гроб? Спрыгнуть в яму и заколотить кулаками по крышке? Это было бессмысленно.
И все было теперь бессмысленно. Не на кладбище, а вообще. Только сейчас она это поняла.
Она подошла к краю могилы, держа обеими руками охапку разноцветных роз. Когда ей нужны бывали цветы, она всегда заказывала эти розы, французские. В каталоге их было сортов сто, и все они пахли; в цветочных магазинах Таня таких не видела.
Вчера она час или больше выбирала одну за другой – белую, алую, лиловую, цвета сакуры, античной карамели и кофе латте, так и называлась эта роза, «латте»… Она машинально листала на айпаде каталог, отмечая цветок за цветком. Сама не поняла, как остановилась.
Сегодня рано утром ей привезли букет. Он был огромный, и она подумала, что Левертов поморщился бы, увидев его, назвал бы купеческим и пожал бы плечами.
От букета шел такой сильный запах, что все стоящие у могилы косились на Таню чуть не с опаской. Ей было все равно. Она бросила цветы в могилу и шагнула назад, в толпу людей, пришедших проводить Левертова. Их было много. Он был заслуженный человек; так, кажется, говорят на похоронах. Таня не знала, кто так говорит. Сама она не могла произнести ни слова.
Но потом все-таки произнесла:
– Почему раньше времени похоронили?
Женщина, стоящая рядом с ней, посмотрела недоуменно.
– В каком смысле раньше? – спросила она.
– В прямом. В два часа должны были.
– Не знаю, кто вам что был должен, – холодно заметила та. – Мы все приехали на кладбище к часу.
Спорить было бы глупо. И с этой незнакомой женщиной, и вообще. Таня даже не знала, кто прислал ей сообщение о смерти Левертова.
Евгения Вениаминовна смотрела с овального медальона, как падают комья земли на гроб ее сына. Взгляд был спокойный, даже радостный.
«Хорошо, что не дожила, – подумала Таня. – Может, потому сейчас и радуется. А может, и еще почему-то… Кто его знает, что там и как».
Левертов терпеть не мог, когда она высказывала мысли вроде этой. Говорил, что умные люди еще в восемнадцатом веке называли такие размышления подразумевательной символистикой и относились к этому иронически. И добавлял, что склонность к идиотской многозначительности происходит у Тани от вопиющего невежества. Он никогда с ней не церемонился.
Портрет Евгении Вениаминовны был вделан в мраморный обелиск рядышком с портретом Левертова-старшего. Точно такой Таня видела на Соколе. Евгения Вениаминовна держала посуду в длинном резном серванте из красного дерева. Он стоял в большой комнате и назывался «дрессуар». Там вся мебель необычная была. У Вени в комнате вместо письменного стола была конторка, и он писал за ней стоя, как Гоголь. То есть это он сказал, что у Гоголя тоже конторка была, Танька-то этого не знала, конечно.
Ну а дрессуар – штука такая необыкновенная, что его и вообще нигде не увидишь. Внутри, за дверцами, стояла посуда, а самая верхняя полка была открытая, и к ней, как бортик, была приделана длинная картина, которая называлась «Дары волхвов». На ней много всего интересного было нарисовано, Танька часами могла разглядывать. А под картиной на полке стояли фотографии в рамочках, и вот эта, портрет Вениного отца, тоже была. Судя по взгляду, тот тоже с людьми не церемонился и тоже таким холодом мог обдать, что у любого душа в пятки ушла бы.
Место на Ваганьковском было именно его, Левертова-старшего. Он был адвокат и в сталинское время доказал в суде, что какой-то большой начальник не является врагом народа. Это было невозможно доказать, но ему вот удалось как-то. Начальника все-таки сняли со всех постов и даже выслали в Сибирь, но хотя бы не расстреляли. А через год Сталин умер, начальник тот вернулся в Москву, снова стал начальником, даже еще большим, чем прежде, а Левертова-старшего отблагодарил потом местом на Ваганьковском.
– Алик посмеялся бы над такой благодарностью, – говорила Евгения Вениаминовна. – Но тот, я думаю, искренне полагал, что для человека не может быть ничего желаннее, чем место на престижном кладбище.
Все это она рассказывала, когда они с Танькой пекли пирог с грушами и франжипаном. То есть, конечно, пекла Евгения Вениаминовна, а Танька только сидела с открытым от изумления ртом.
Еще бы ей было не изумляться. Все здесь делалось не как у людей. Груши хранились в погребе под домом. Погреба Танька видала, конечно, да только не такие. В этот надо было спускаться по лесенке из чулана, и был он не грязный, не в паутине, а такой сухой и чистый, что Танька и сама там жила бы, не то что картошку хранить или банки-склянки. В погребе стоял большой деревянный ларь, и в нем, пересыпанные сухим песком, лежали груши и яблоки. Притом каждая груша и каждое яблоко были завернуты в несколько слоев папиросной бумаги.
А франжипан этот! Танька и слова такого никогда не слышала. И тем более никогда не видала миндальной муки, из которой делался этот крем. Даже не знала, что такая существует на белом свете.
Миндальную муку Веня привез для Евгении Вениаминовны из своей первой поездки в Париж. Если б Танька попала в Париж, да еще впервые в жизни, то уж точно не повезла бы оттуда муку, хоть бы и миндальную. Но у нее ведь и…
Таня вздрогнула. Мысли, которые ни с того ни с сего потекли у нее в голове точно так, как текли они в тринадцать лет, – оборвались на полуслове.
– Надо было и вам цветы не в могилу, а на холм положить, – сказал какой-то мужчина.
– Цветы?
Она смотрела на него и не понимала, что он говорит.
– Ну да. Такие розы землей засыпали. Жалко.
Таня поняла: он так спокойно говорит с ней о том, как лучше было обойтись с розами, потому что она не плачет. Стоит с каменным лицом. Значит, покойник не был ей близок. Наверное, оказал какую-нибудь существенную услугу, и она пришла отдать, так сказать, долг.
Она повернулась и пошла к выходу с кладбища.
Хорошо, что опоздала. Разве хотела увидеть его мертвое лицо?
Уже у памятника Высоцкому она услышала:
– Татьяна Калиновна!
Таня обернулась. Ее догонял мужчина, который пожалел розы. Шел он быстро, полы его пальто развевались, и видно было, что изнутри оно подбито черным мехом. Норкой, наверное.
Таня остановилась.
– Татьяна Калиновна! – повторил он, подойдя к ней. И, вглядевшись, сказал: – Вы замерзли? У вас лицо совершенно белое.
В его голосе послышалась тревога. С какой стати ему тревожиться за нее? Она его впервые видит.
– Не замерзла, – ответила она. – Что вам?
– Это я вам сообщил о смерти Вениамина Александровича. Извините, перепутал время похорон. Я вам должен передать письмо.
– Какое письмо?
Тане казалось, на плечах у нее лежит бетонная плита. Хотелось только одного: как-нибудь ее сбросить. Ни разговаривать с кем бы то ни было самой, ни разбираться, что ей говорит кто бы то ни было, не хотелось совсем.
– Письмо от Вениамина Александровича. – Он расстегнул пуговицу пальто и достал из-за пазухи, из блестящего меха, незаклеенный конверт. – Мы вместе вели дела. Он мне многое доверял и вот это тоже доверил. Я оказался последним, кто видел его в больнице.
Таня смотрела на письмо в его руке. Конверт был из какого-то отеля. Веня отовсюду их привозил, они всегда лежали у него на столе и в портфеле – ему нравились причудливые вензеля на таких конвертах. Это была его слабость. Других Таня за ним не знала.
Она взяла конверт и хотела вынуть письмо.
– Может быть, вам лучше сделать это дома? – сказал Венин посланник.
– Да. – Она кивнула. – Так и сделаю.
Хорошо, что подсказал. Она плохо соображала. Ей не хотелось ни-че-го. Даже читать Венино письмо. Его больше нет. И к чему тогда какие-то письма? Что в них может быть такого, чтобы изменилось это бессмысленное положение – что его нет на свете?
Она положила письмо в карман шубы и пошла дальше по дорожке.
– Может быть, вы хотите что-нибудь у меня узнать? – произнес он ей вслед. – Я вам позвоню!
Она не ответила, даже не обернулась. Ничего она не хотела узнавать.
Он был всегда. Она его любила, ненавидела, забыла. Но все равно он был. Был! А теперь его нет. И это уже никогда не станет иначе.
Глава 8
– Сколько надо, столько и подождете.
Охранник в камуфляже смотрел Тане не в глаза, а в переносицу. Обычный же дуболом, а таким штучкам обучен!
– Мне нисколько не надо, – зло бросила она.
– Девушка, сядьте обратно в машину. Это в ваших интересах.
Разговаривать с ним было бессмысленно, а бессмысленных разговоров Таня не вела никогда. Она села за руль и захлопнула дверцу. Прошла минута, три, пять… Наконец ворота открылись, из них вышли такие же дуболомы, как и тот, что дежурил на улице – точно Урфин Джюс из поленьев их понаделал! – выстроились в две шеренги, держа автоматы на изготовку. Из ворот величественно выплыл «Майбах». За ним появился «Гелендваген». Машины повернули на улицу и, мгновенно ускорившись, скрылись за поворотом. Дуболомы с автоматами ушли обратно во двор, ворота закрылись. Тот, который остановил уличное движение, махнул рукой. Движение возобновилось.
Все это выглядело такой дешевкой, что Таня глазам своим не верила. Даже в девяностые годы она такого здесь не видала, а сейчас, ей казалось, подобное представление уже невозможно просто потому, что никому не нужно.
Правда, в девяностые и не было на Соколе таких идиотских строений, которые она краем глаза видела сейчас, проезжая по улицам поселка. На Шишкина, где раньше стоял дом из розового туфа, высилось теперь нечто, напоминающее советский Дворец пионеров из красного кирпича. Еще один особняк, тоже новехонький, сверкал зеркальными окнами, как дорогой бордель.
После спектакля с автоматчиками Таня ожидала, что и на Сурикова увидит что-нибудь в этом духе. Но здесь все было то же.
Липы, безлиственные сейчас, но все равно густые. Зеленый штакетник, сквозь который виден двухэтажный дом, обшитый зеленым же тесом. Заснеженный двор. Окна с белыми наличниками. На крыше слуховое окошко, похожее на треугольный домик. В тринадцать лет она сидела на чердаке, смотрела через это окошко на улицу, засыпанную листьями лип, слушала, как стучат по крыше дождевые капли, и думала: пусть бы разрешили остаться, даже в дом бы не заходила, здесь бы на чердаке и жила, только б разрешили, только бы не выгнали!..
Таня вышла из машины, подошла к забору, просунула руку между штакетинами и отодвинула засов калитки. Прошла, увязая в снегу, по нерасчищенной дорожке к дому. Поднялась по ступенькам. Вспомнила, спустилась обратно. Попыталась сдвинуть тесовую доску справа от крыльца. Доска не поддалась. Нажала посильнее, и она легко, словно вспомнив ее руку, заскользила вправо. Таня достала ключи из открывшейся щели, задвинула доску обратно и поднялась на крыльцо снова.
Никогда здесь не бывало так тихо. Дом был деревянный, поэтому в нем все время что-то скрипело, шуршало, потрескивало. Под лестницей, ведущей на второй этаж, жил сверчок, как в книжке про Буратино. Книжку про Буратино Таня увидела здесь впервые, раньше только фильм смотрела.
В доме было холодно. Надо было пойти в комнатку, которую Веня называл котельной, и отрегулировать отопление. Но Таня не понимала, стоит ли ей это делать.
Дверь из прихожей в большую комнату была открыта. Да, ведь Веню увезли отсюда на «Скорой», и все осталось как было… На круглом столе лежали какие-то бумаги, стоял открытый ноутбук. Почему он не работал у себя в кабинете наверху? Уже не узнать. Хотя он же написал, что живет на Остоженке. То есть жил. Да, жил, жил! Сколько можно это повторять? Она рассердилась, что так себя заводит. Он жил в другом месте, сюда приезжал лишь время от времени. Поэтому все здесь выглядит так музейно, без знаков повседневности, кроме вот этих бумаг на столе.
Звуков в доме не было только до той минуты, пока Таня не сделала по нему первые шаги. А как только она вошла в комнату, сразу же начался переполох в стенах и половицах – что-то заскрипело, зашуршало, защелкало. Разве что сверчок не запел. Нет его здесь уже, наверное. А может, спит.
Она села к столу, сдвинула бумаги на край. Потом их рассмотрит. Если вообще станет смотреть. Непонятно ей, станет ли.
Веня так ошеломил ее своим письмом, что даже боль от его смерти как-то отошла. Это вообще был его способ – ошеломить так, чтобы отошли на второй план заботы, которые казались всеобъемлющими. Его смерть была как раз такой заботой, и как раз таким своим излюбленным способом он и на этот раз сумел ошеломить Таню.
Она достала из сумки и положила перед собой конверт с вензелями. Он был из отеля в Монте-Карло, вчера вечером разглядела. Вчера же прочитала и письмо, поэтому все ее сегодняшние действия выглядели глупо. Как будто приехала для того, чтобы именно здесь убедиться, что поняла это письмо правильно. А как его можно было понять неправильно? Веня всегда излагал свои мысли внятно, а в письме для пущей ясности еще и пронумеровал каждую.
В самом начале было краткое вступление: «Таня, нет сейчас возможности объясняться. Я перед тобой виноват, ты это понимаешь и знаешь, что это понимаю я. Но если ты читаешь это письмо, значит, мое предчувствие сбылось и меня нет. Таким образом, отпадает необходимость в несущественных объяснениях. К тому же коллега ждет, я должен поторопиться».
А после этих слов, холодных и кратких, шла уже нумерация.
«1. После первого инфаркта, который случился полтора года назад, я привел в порядок дела. Родственников, которым я обязан был бы оставить имущество, у меня нет. Квартиру на Остоженке я снимаю. Этот дом я завещал тебе. С предположением, что ты станешь в нем жить. Не знаю, как ты к этому отнесешься – жить здесь хлопотно, ты знаешь. Если не захочешь лишних хлопот, продай. Но меня утешала мысль, что ты оставишь его себе.
2. Составляя полтора года назад завещание, я не знал одного обстоятельства, которое сейчас является главным. Несколько месяцев назад выяснилось, что у меня есть сын. Это известие в духе индийского кино произвело на меня неожиданно сильное впечатление. Вероятно, дело в возрасте. На шестом десятке узнать, что у тебя имеется ребенок, – новость не из ординарных. Но этому неожиданно открывшемуся неординарному факту сопутствуют и другие неординарные же обстоятельства. Изложу их, чтобы ты представляла ситуацию в целом.
3. Отношения с его матерью у меня были краткими и с моей стороны непристойными. Не могу определить их иначе, поскольку не испытывал к ней никаких существенных чувств, и этого должно было бы быть для меня достаточно, чтобы не давать ей оснований думать, что она может испытывать существенные чувства ко мне».
Таня улыбнулась. Веня всегда был ужасно умный и логичный, но всегда же, несмотря на свой ум и логику, не понимал простых вещей. Как будто можно разрешить или запретить испытывать чувства! Ну, полюбила она его, наверное. И дело тут не в том, давал он ей для этого основания или просто с ней переспал. Дело в нем самом, какой он есть. Уж Тане ли не знать!
«4. Что после нашего расставания она родила, я действительно не знал. Но должен был предполагать, что это возможно, и, соответственно, принять меры, чтобы этого не произошло. Женщина она была как раз такого типа, который мне глубоко неприятен: без царя в голове, со склонностью к эффектным жестам и при этом с полной неспособностью к повседневным рутинным усилиям. Таким женщинам, полагаю, детей иметь не нужно. Но бессмысленно рассуждать о свершившемся факте.
5. Ребенка она воспитывала до пяти лет. Потом у нее случилась очередная любовь с предсказуемым финалом. Она снова была беременна и собиралась рожать, но передумала и сделала аборт на позднем сроке вне медицинского учреждения, после чего умерла от сепсиса. С родителями у нее никаких отношений не было. Забрать внука они отказались, и он попал в детдом».
Читая этот пункт, Таня слышала его голос. То есть она и по всему письму его слышала, но здесь особенно отчетливо. Слышала, как Веня старается говорить холодно и кратко, чтобы никто не заметил, что с ним при этом происходит.
Зря он, конечно, попытался проделать с ней этот свой фокус. Веня видел ее насквозь, но и она его тоже. В нем было много для нее непонятного, а того, что занимало его ум, она не понимала почти совсем, но сам он был ей понятен весь. Такая вот странность.
«6. Я прошу тебя его забрать. Это не требование – я ничего не могу требовать от тебя, да и ни от кого не могу, так сложилось. Это не условие получения наследства. Я прошу об этом тебя, потому что больше мне просить об этом некого. А быть мертвым, понимая, что мой сын брошен на произвол судьбы, будет для меня невыносимо. Я никогда не верил в бессмертие души, загробную жизнь и прочие подобные вещи, и сейчас не верю, и ничего этого для себя не жду. Но мне почему-то не все равно, что будет с ним после моей смерти. Такой парадокс».
И вчера, когда она читала это письмо впервые, и сейчас Таня почувствовала острую обиду из-за того, что он написал это только о каком-то неведомом ребенке. Ей хотелось, чтобы ему было не все равно, что будет с нею.
Но, конечно, глупо этого хотеть. Она взрослый человек, способный справиться с любыми обстоятельствами жизни, он это знает. Он и сам приложил усилие для того, чтобы она стала такая. Что-что, а прикладывать усилие он умел, и всегда правильно.
Она вздохнула и продолжила читать. Хотя вообще-то видела это письмо перед собой даже с закрытыми глазами, и не было у нее никакой нужды поверять его этими стенами. Да и ничем ей не нужно было его поверять.
«7. Не знаю, что ты решишь. На всякий случай вот сведения о нем. Зовут Александр Вениаминович Левертов. Фамилия и отчество мои, так как вчера я наконец получил документы об усыновлении. И тут этот бессмысленный приступ, который непонятно чем кончится. То есть теперь это тебе уже понятно. А имя его совпало с именем моего отца просто удивительным образом. Это та еврейская традиция, которая соблюдалась в нашей семье, – называть детей в память об умерших. Но его назвали так случайно. Если считать, что случайности бывают. Я думал, что на мне оборвались все традиции. Вернее, что я их оборвал в силу бессмысленного устройства своей жизни. Но вот как вышло. Я приложил все усилия, чтобы усыновление было оформлено максимально быстро. Но пока документы не были готовы, я не мог забрать Алика. Мне разрешали с ним видеться только в детдоме, и то нечасто. Таким образом я мало его знаю. Ему одиннадцать лет. Это переходный возраст или еще нет, понятия не имею. Большую часть своей жизни он провел в детдоме, и это чувствуется, хотя внешне заметно гораздо меньше, чем можно было ожидать. Никому, кроме тебя, я не решился бы предложить такого ребенка. Сомнительное для тебя преимущество, понимаю. Но обстоятельства, если иметь в виду его будущее, в связи с моей смертью складываются отчаянные.
8. На всякий случай я только что оформил документ, которым доверяю опеку над ребенком тебе. Если ты решишь этим воспользоваться, то Всеволод Решетов тебе поможет. Он грамотный юрист и порядочный человек. Передаст тебе это письмо в случае необходимости».
Вот она, необходимость.
Наверное, Вене не хватило бумаги, ведь он писал в больнице. Окончание письма, уже без нумерации обстоятельств, было написано на обороте последнего листа. Таня перевернула его и прочитала:
«Не знаю, должен ли я просить у тебя прощения. Судя по тому, как сложилась моя жизнь, надо только радоваться, что я поступил так, как поступил, и твоя жизнь пошла от моей отдельно. Но все-таки я хочу, чтобы ты знала: ни о чем я не жалею сейчас так сильно, как об этой отдельности. Мои чувства обострены труднообъяснимой, но отчетливой тревогой. И в тревоге этой я вспоминаю тебя той девочкой, которая кричала «он же живой», вцепившись в ствол автомата. Мне кажется, я помню это и сейчас, когда ты читаешь мое письмо, хотя такого не может быть, раз ты его читаешь.
Прости меня, Таня».
Она положила письмо в конверт. Все-таки хорошо, что перечитала его здесь. Вчера только просидела над ним без толку весь вечер, не думая ни о чем, а теперь мысли выстроились в объективном порядке, как железные опилки под воздействием магнита.
Разумеется, она переедет сюда. Веня слишком высокого мнения о ее чувствительности – уж как-нибудь не захлебнется она в потоке местных воспоминаний. Да и возня с отоплением, необходимость ремонтировать то крышу, то крыльцо и чисить двор от снега – все, что он назвал хлопотностью здешней жизни, – ей таковой не представляется. А хоть бы и представлялась – ребенку все равно лучше расти здесь, чем в панельной много-этажке на Петушках. Сокол и Петушки!.. Таня улыбнулась.
И тут же, как будто улыбка их отомкнула, слезы хлынули из ее глаз ручьями. Да, именно так – двумя широкими ручьями. Они и на стол капали, и в нос затекали, и в рот. Тане казалось, слезы не иссякнут никогда. Они лились и лились, и она не вытирала их, а стряхивала руками со щек.
Но иссякли, конечно. Таня шмыгнула носом, потом попыталась глубоко вдохнуть. Вчера ей весь день не удавалось это сделать, и ночью не удавалось, и сегодня с утра тоже. И вот удалось наконец.
Отдышавшись, она огляделась. Комната была пронизана неярким светом так, будто на все предметы упала прозрачная поблескивающая ткань. А просто, пока Таня плакала, солнце выглянуло из сплошного зимнего марева. Дары волхвов засверкали тем же тусклым золотом, каким сверкали они пятнадцать лет назад, когда Таня последний раз видела эту картину.
Она подошла к дрессуару. На его открытой полке стояли старые фотографии в рамках, те самые, которые она вспоминала вчера. Одна фотография была без рамки и выглядела новой. Таня взяла ее, чтобы рассмотреть получше.
Сходство было такое, что сердце ее, уж было успокоившееся, сжалось снова и в носу опять закололо. Еще бы известие о существовании этого ребенка не произвело на Веню сильного впечатления! Те же тонкие черты, и брови вразлет, и лоб высокий, и все это создает облик – то, как человек внешне явлен. Это Веня ей когда-то объяснял, что такое облик. Она тогда только-только поступила в колледж и была увлечена изучением макияжа. Надо сначала понять облик, говорил он. То, как сущность человека проявлена внешне. А потом уже макияж подбирать.
Если судить по облику, то сущность у этого мальчика в точности Венина. Но опыт ежедневного общения с людьми подсказывал Тане: сущность-то, может, и самая распрекрасная, а пока до нее доберешься, иной человек тебе весь мозг вынесет. Взгляд этого пацана как раз позволял предполагать, что так оно и может оказаться.
Ладно, что толку рассуждать о каких-то абстрактных вещах. И конкретных более чем достаточно.
Таня полистала сообщения в айфоне, нашла среди них нужное и позвонила его отправителю.
– Всеволод, здравствуйте, – сказала она. – Это Татьяна Алифанова. Вашего отчества не знаю, извините. Хочу с вами встретиться, желательно сегодня. Можем?
Видно, Всеволод Решетов ожидал ее звонка, потому что не удивился ни ему самому, ни тому, что она сразу перешла к делу.
– Да, Татьяна Калиновна, – ответил он. – Можем встретиться сегодня. Где и когда?
– Я приеду куда скажете.
– Где вы находитесь? – поинтересовался он. – Чтобы я мог прикинуть время.
– На Соколе, – ответила она. И зачем-то уточнила: – В поселке Сокол.
Хотя, учитывая обстоятельства, он и сам, надо думать, это сообразит.
– Я буду у вас через полчаса, – сказал Решетов.
Сразу понятно, человек толковый. Хорошо. Ну и ей нечего зря бродить по комнате, разглядывая фотографии.
Таня умылась холодной водой и пошла в котельную. Огонек газовой горелки едва теплился. Она включила отопление на полную мощность, чтобы дом нагрелся поскорее. Система обогрева осталась здесь та же, Таня знала, как ею пользоваться. Да хоть бы и не знала – ничего хитрого.
Она вспомнила, как Евгения Вениаминовна говорила ей когда-то:
– У нас здесь есть наблюдение: женщины, выходя замуж, обычно остаются на Соколе. А вот мужчины почти всегда переезжают отсюда к женам.
– Почему? – не поняла Таня.
– Не каждую жену, тем более молодую, уговоришь пойти на такое хозяйство, – объяснила та. – Сейчас хотя бы газ есть, а раньше мы печки топили – дровами, углем. Кому это надо?
Объяснение вызвало тогда у Тани недобрую усмешку. Пожили б те молодые жены в покосившейся халупе! За счастье б считали, что самим топить можно, а не выслушивать мат гундосоного Кирьяка, который работал в котельной: уголь такие и разэтакие не закупили, чем я вас тут, вашу так и этак, греть должен?! Котельная, которая отапливала их улицу в Болхове, выходила зимой из строя чаще, чем работала. Понятно, что Тане смешны были страдания соколянок.
Котел загудел, тепло разбежалось по трубам, и ей вскоре стало жарко в шубе. Она отнесла ее в прихожую, потом заглянула в кухню. В буфете не обнаружилось даже чая, холодильник вообще был выключен. Ладно, в конце концов, не гостя ждет. Обойдемся без чаепития.
Глава 9
Услышав звонок, Таня открыла входную дверь и увидела Всеволода Решетова, стоящего за забором рядом с кругленьким синим «Фольксвагеном», на котором он приехал.
– Откройте, пожалуйста, сами калитку! – крикнула она. – Руку просуньте сквозь штакетник и отодвиньте щеколду.
Тут же Таня подумала, что невежливо так командовать, и стала спускаться с крыльца, но он открыл калитку быстрее, чем она успела шагнуть в снег.
– Надо вам как-то иначе калитку запирать, – сказал Решетов, входя в дом. – Не на щеколду, а на замок. И камеру наблюдения поставить. Если, конечно…
– Сейчас мы все это обсудим. – Она открыла перед ним дверь в большую комнату. – Проходите, Всеволод…
– Анатольевич.
Он снял пальто – Таня рассмотрела, что оно действительно с норковым подбоем, – встряхнул, расправил и повесил на плечики в стенной шкаф. Если он и в делах такой же тщательный, то хорошо. Так она подумала, входя вслед за ним в комнату.
Они сели напротив друг друга за стол. Решетов положил руки на столешницу. На узорчатом дереве они белели пухлыми подушечками.
– Вы прочитали письмо Вениамина Александровича, – первым произнес он.
– Да, – кивнула Таня. – Вы ведь тоже?
– Нет. – Он посмотрел удивленно. – Вениамин Александрович не предлагал мне его читать.
Тане стало не то чтобы стыдно, но все-таки неловко. Если бы ей надо было передать кому-то важное письмо от умершего человека и оно было бы в незапечатанном конверте, она его прочитала бы точно.
«А почему, собственно, я его прочитала бы? – Только сейчас, глядя на спокойно лежащие на столе руки Всеволода Решетова, она подумала, что это вообще-то странно. – По какой причине?»
И тут же эту причину поняла. Она прочитала бы такое письмо в тринадцать лет и точно так же прочитала бы сейчас просто потому, что за годы, прошедшие с тех пор, изменилось в ней многое, но сущности ее, настоящей ее сущности, эти перемены не коснулись.
А у него сущность другая, значит. Такая же, как белизна его рук.
«Ну и хорошо, – подумала Таня. – С таким проще дело иметь».
А вслух сказала:
– Левертов завещал мне этот дом.
– Это он мне сообщил, – кивнул Решетов. – Во время нашего последнего разговора. И просил меня уведомить вас, когда будет оглашено завещание.
– Он так спокойно об этом просил?
– Я не назвал бы его состояние в тот вечер спокойным.
– А каким назвали бы?
– Тревожным. Подавленным.
– Подавленным?
– Да. – Наверное, Решетов расслышал недоверчивые нотки в ее голосе, потому что добавил: – Мне тоже было непривычно видеть его таким. Но потом я погуглил: именно подавленность и тревога, страх – признаки предынфарктного состояния. Смертный страх, – уточнил он.
Таня вдруг вспомнила, как прочитала, что все человеческие чувства: любовь, ненависть, счастье и прочие, – это всего лишь определенное сочетание гормонов. Выстроятся твои гормоны в каком-то неведомом порядке – и влюбишься черт знает в кого. Потом перестроятся – и того же самого черт знает кого возненавидишь.
– И где же ты это прочитала? – поинтересовался Веня.
Он сидел за столом у себя в кабинете наверху, а Таня постучалась и вошла, потому что… Ну просто ей хотелось его увидеть. И чтобы он ей что-нибудь сказал, хотелось тоже.
– В «Экстра-М», – ответила она. И уточнила: – Это газета рекламная, она на Ленинградке в продуктовом лежит.
– Пора бы тебе оставить дурацкую привычку черпать знания в продуктовом магазине, – поморщился он.
– А что, не так, что ли? С гормонами.
Таня обиделась. Веня вернулся из командировки ночью, она уже легла, он прошел к себе в комнату, и она слышала, что он не спит, а он, конечно, видел, что у нее свет не выключен, но даже «здрасте» сказать не заглянул. И сейчас, утром, ни капельки ей не обрадовался, морщится еще!
– Поверхностно образованные люди полагают, что именно так, – сказал он.
– А на самом деле как?
– А на самом деле этого никто не знает. Даже газета «Экстра-М».
– Но ты же знаешь! – рассердилась Таня. – Ну так и мне скажи.
– И я не знаю. – Он улыбнулся, и она в ту же секунду забыла, почему сердилась на него. – Можно сказать, что чувства регулируются игрой гормонов. А можно – что совершенный гормональный механизм создан для того, чтобы осуществлять чувства. И чувства являются причиной, а не следствием работы этого гормонального механизма. Поняла?
Тогда, в восемнадцать лет, ничего она не поняла, да особо и не старалась. Он говорил, она смотрела, как меняются его губы – вот только что были как край ивового листа и тут же стали похожи на кромку воды, набегающей на береговой песок, – и думала только о том, что с ней было бы, если б он ее сейчас поцеловал. Умерла бы, наверное.
Да, тогда она не поняла его слов, а теперь они вспомнились уже понятными.
И точно так же понятны были ей слова Решетова. Тоже ведь неизвестно, что причина, а что следствие в связке между смертным страхом и инфарктом.
– Это возможно, чтобы мне отдали его ребенка? – спросила она.
Решетов, кажется, не удивился ее вопросу. Видно, и на этот счет Веня дал ему указания.
– Это не само собой разумеется, – ответил он. – Ребенок не дом, его не завещаешь.
– Но возможно?
– Вам надо будет оформить опеку.
– Это долго?
– Не мгновенно. Но быстрее, чем усыновление.
– Давайте попробуем ускорить. Левертов написал, что вы мне поможете.
– Я помогу, – кивнул он.
– А что вы на меня так смотрите? – заметила Таня.
Он смотрел с таким выражением, название которого было ей неизвестно. Даже рот у него приоткрылся.
От ее вопроса Решетов вздрогнул и смутился.
– Извините, – сказал он. – Просто я теперь понял, почему именно вам Вениамин Александрович решил доверить Алика.
– Вы этого Алика, кстати, видели? – поинтересовалась Таня. – Сильно хулиганистый?
Ей не нравился его восхищенный тон и взгляд.
– Как будто бы нет, – пожал плечами Решетов. – Обычный мальчик. Впрочем, мне трудно судить, я его видел один раз, и то мельком. И у меня нет детей.
На вид ему лет сорок. Странно, что детей нет к такому возрасту у такого во всех отношениях благополучного мужчины.
Но, в общем-то, это не вызывало у Тани не то что особенного интереса, но даже обычного любопытства.
А о том, что у нее любопытство вызывало, она немедленно и спросила:
– А как Веня вообще про него узнал?
– О, это необыкновенная история. – Решетов улыбнулся. – Моя сестра, знаете ли, пишет сценарии к сериалам. И часто ко мне обращается за всяческими историями из жизни. Ей для сюжетов необходимо, а у адвокатов житейских историй более чем достаточно. Так вот, если бы она использовала такой сюжетный ход, то сценарий у нее, думаю, не приняли бы.
– Почему? – не поняла Таня.
Сериалы она смотрела только американские, и больше всех ей нравился «Карточный домик». Там было про политику, но очень увлекательно. Волшебное появление неизвестного сына в такой сериал, конечно, не втиснешь. Но в те розовые истории, которые скорее всего и придумывает сестра Решетова, – почему нет?
– Это слишком даже для самой невзыскательной мелодрамы, – объяснил Решетов. Правильно, значит, Таня догадалась насчет работы его сестры. – Мать Алика, насколько я понимаю, была из тех женщин, которых привлекают успешные мужчины. Знаете, такие женщины всегда вьются вокруг известных людей. Из сферы политики, искусства, ну и бизнеса, конечно.
– Проститутки? – уточнила Таня.
– Дамы полусвета, я бы назвал.
– Понятно. И что?
– И ее последний мужчина был как раз из мира искусства. Эстрадный певец.
Таня хмыкнула. Она время от времени делала грим для эстрадников, нагляделась на них и насчет их принадлежности к искусству не обольщалась.
– И что? – повторила она.
Ей уже надоела обстоятельность Решетова. Больно надо ей знать подробности жизни какой-то дуры!
– У матери Алика был бурный роман с эстрадной звездой, о нем писали таблоиды. Передачи по телевидению были, кажется. А недавно у этой звезды происходил очередной какой-то развод, и телевидение так же широко его освещало. Стали показывать фото прежних лет, в том числе давно умершей любовницы, в том числе с ее ребенком, гадали, от кого он, не от звезды ли. Вениамин Александрович случайно наткнулся на такую телепередачу. А ребенок – вы же видите…
Решетов кивнул на фотографию под «Дарами волхвов».
– Понятно, – сказала Таня. – Родственники на него точно не претендуют?
– Там только дедушка. И есть его письменный отказ.
– Заверенный?
– Да.
– Хорошо.
– Думаете, хорошо?
– Конечно, – усмехнулась Таня. – Что отказ заверенный, – уточнила она. – С такими родственничками дело иметь – никакого здоровья не хватит.
– Ну, не знаю… – протянул он.
– А я знаю, – отрубила она. – В общем, Всеволод Анатольевич, мне нужна ваша помощь.
– Я обязан вас предупредить, – сказал он, – что никаких особенных сложностей в вашем случае быть не должно. По просьбе Вениамина Александровича я привозил к нему нотариуса. В больницу, в последнюю нашу встречу… Его воля относительно опеки над ребенком выражена и заверена должным образом. Поэтому моя юридическая помощь вам, возможно, и не понадобится.
– А возможно, понадобится, – сказала она. – Во всяком случае, лишней не будет. Возьметесь?
– Что ж, если вы считаете, что это необходимо, я подготовлю договор и завтра утром вам пришлю на ознакомление. Если не будет возражений, завтра же можем и подписать.
Он смотрел все тем же раздражающим Таню взглядом, но на его профессиональных качествах – на дотошности как минимум – ошеломление явно не сказалось. И чем он так уж ошеломлен, кстати?
Об этом она его немедленно и спросила.
– Вами, Татьяна Калиновна, – глядя ей прямо в глаза, ответил Решетов. – Извините, но… Вениамин Александрович ознакомил меня с обстоятельствами ваших отношений. В общих чертах, конечно. И я, по правде говоря, несколько изумлен тем, что вы восприняли его просьбу как само собой разумеющееся дело. Тем более…
Он замялся.
– Что тем более?
Таня поморщилась. С ума сойдешь от его деликатности.
– Тем более что получение вами наследства никак не увязывается с опекой над ребенком, – ответил он. – Завещание еще не оглашено, но я знаю его содержание.
– Ладно. – Таня встала из-за стола. – Спасибо. Адрес свой я вам на телефон отправлю. Присылайте договор.
Решетов тоже поднялся, вернее, вскочил. И что за дурацкая привычка приоткрывать от удивления рот? Как дитя, ей-богу.
Она проводила его до двери. Дождалась, стоя у окошка в прихожей, пока он сядет в машину. Когда его машина скрылась из виду, Таня оделась тоже. Ну да, ей не хотелось выходить из дома одновременно с ним. Потому что, не ходи к гадалке, он предложил бы вместе пообедать. Сказал бы, что время подходящее. Время-то подходящее, только вот он в этом смысле неподходящий совсем, и чем скорее ему станет это понятно, тем лучше.
Прежде чем сесть в машину, она подошла к липе, которая росла за забором у самой калитки.
Когда-то Евгения Вениаминовна сказала:
– Вот тебе тринадцать лет, а этой липе семьдесят, представляешь?
Танька тогда только плечами пожала. Ну, семьдесят, подумаешь. Георгиевской церкви у них в Болхове вообще триста, и чего? Стоит себе колокольня здоровенная без всякого толку.
Почти все, что тогда говорила Евгения Вениаминовна, казалось ей неважным и потому проскакивало сквозь ее голову, не задерживаясь. Когда та рассказывала, как однажды липы на этих улицах решили выкопать, чтобы пересадить в центр, на улицу Горького, и пометили деревья для этого мелом, а дети, и маленький Веня тоже, ночами стирали меловые метки, чтобы липы остались на Соколе, – Танька слышала только про Веню.
Он был бог, и только то, что делал он, было важно.
Глава 10
Таньке казалось, что уснуть ей больше не удастся. Думала, так и просидит до утра на кровати, прислушиваясь к звукам за окном и ожидая, не придут ли убийцы. Но разговор с Левертовым подействовал на нее даже сильнее, чем бульон с домашней лапшой: как только она вернулась в свою комнату, то сразу же легла на кровать и заснула.
И проснулась уже при ярком свете дня. Шторы были плотные, но солнечные лучи проникали сквозь них, и казалось, что в комнате светятся стены.
Танька вскочила с кровати будто ошпаренная. Часов двенадцать уже, наверное, а то и больше! Что угодно могло случиться, пока она дрыхнет!
Тут она увидела прямо перед своим носом настенные часы. Правда, не сразу догадалась, что это именно часы, а не игрушка. Часы были сделаны из нескольких наложенных друг на друга дощечек. Все дощечки разных цветов и разных форм, и получается, что стрелки двигаются будто бы по какой-то пестрой кляксе.
Цифр на этой кляксе не было, но время и без цифр было понятно: двенадцать часов и пять минут.
Танька надела все тот же махровый халат и, подхватив его длинные полы, вышмыгнула из комнаты.
Телевизор работал громко, на весь дом. Он стоял в большой комнате на первом этаже, его экран был виден с лестницы. На лестнице Танька и остановилась.
Левертов сидел в кресле, а его мать стояла рядом, положив руку ему на плечо. Оба не отрываясь смотрели на экран телевизора.
А там черт-те что творилось. Точно, как вчера на улице. Танька и улицу узнала, и даже, ей показалось, лица некоторых людей, которых сейчас по телевизору показывали.
«А вот осталась бы там вчера, и меня б сегодня показали, может», – мелькнуло у нее сожаление.
Но тут же она вспомнила вчерашний день так ясно, что сожаление исчезло.
Сегодня, похоже, там тоже хорошего было мало. На экране был виден огромный белый дом, состоящий из двух половинок – внизу широкая, сверху на ней стоит, как стакан, узкая. К тому, что в Москве почти все дома огромные, Танька уже привыкла. Однако к тому, что вся верхняя половина этого дома черная и из окон валит дым, привыкнуть было бы странно. Вернее, странно было бы считать, что так оно и должно быть.
Но дым валил, перед домом стояли танки и всякие военные машины, вообще, военных было очень много, и эти военные выводили из здания каких-то небритых людей.
Таньке хотелось спросить у Левертова или у его матери, что там в телевизоре происходит, но те смотрели на экран молча, и спрашивать она не решилась.
Пришлось самой слушать, что говорит голос за экраном. Говорил он в основном непонятное, но, главное, Танька догадалась, что все уже кончилось. Вроде как победой, только чьей, понять было невозможно. Лица у всех в телевизоре были хмурые, и непохоже было, чтобы кто-то радовался.
– Неужели всё? – сказала Евгения Вениаминовна. – Не знаю, как я пережила эту ночь…
– Зря ты мне второй укол сделала.
Голос Левертова звучал сердито.
– Почему же зря?
– Гайдар ночью всех позвал прийти и взять оружие. Егор с Ниной пошли, а я тут…
Кто такой Гайдар, Танька знала. В смысле, знала, что это не тот Гайдар, который писатель, а тот, которого все кругом кроют последними словами, потому что из-за него пропали деньги на сберкнижках. У матери сберкнижки не было, но Гайдара она ненавидела лютой ненавистью.
– Ты все равно не смог бы пойти, Веня. Ты же по лестнице еле спустился! Сам прекрасно понимаешь.
– Понимаю…
– А главное, кого предлагалось этим оружием защищать? – Голос Евгении Вениаминовны дрогнул. – Людей, которые сначала соблазнили тебя работой с ними, а потом бросили на произвол судьбы?
– Мама, я не девушка, чтобы меня соблазнять. – Таня расслышала, что он усмехнулся. – Я считал правильным работать для того, чтобы страна, да хотя бы Москва для начала, наконец выбралась из дерьма.
– А никто, кроме тебя, не собирался из него страну вытаскивать! – Ее голос зазвенел от возмущения. – Что те, что эти – одним миром мазаны! – Она кивнула на экран. Там было видно, как в машину с зарешеченным окном сажают последнего мужика, не просто небритого, а с густой бородой. – Они между собой договорятся, уверяю тебя. Обнимутся, вспомнят добрым словом родную КПСС, помирятся и поделят, что еще не поделили. От людей, которые здесь рвутся во власть, надо держаться подальше, – отчеканила она.
– Мама! Твое генетическое «не высовывайся»…
– А те, кто генами этого не усвоил, лежат в могилах! Веня, мы не в Америке, неужели ты еще не понял? Известно, чем здесь заканчивается пассионарность. Да если бы не девочка…
Тут она обернулась и увидела Таньку, выглядывающую между балясинами лестницы.
– Доброе утро, Таня, – сказала Евгения Вениаминовна. – Выспалась?
– Ага, – кивнула она. – Долго дрыхла, вы уж извините.
– За что же? Сейчас завтракать будешь.
Она ушла в кухню. Левертов молчал. И видно было, что думает он не о Танькином завтраке и вообще не о ней, а о чем-то мрачном. Вот же странный человек! Радуйся, что живым убрался, чего тебе больше? Так ведь нет…
– А кто у вас победил-то? – спросила Танька.
Вообще-то не очень ее это интересовало, потому что она не знала, кто с кем воевал и за что. Да и не все ли равно? Ей ни от чьей победы добра не достанется.
Но после этого вопроса Левертов наконец взглянул на нее. Даже мрачный его взгляд, даже одним глазом подействовал так, что по всему ее нутру прошел холодок.
– Не знаю, кто победил, – ответил он.
– Как не знаешь? – удивилась она. – Которые тебя убивали или наоборот?
– Наоборот.
Он наконец улыбнулся. Точно как ночью, когда она сказала, что его убивать придут. Что всякого человека испугало бы, тем его не проймешь.
– Ну так чего ж ты не радуешься? – спросила Танька.
– Долго объяснять. И все равно ты не поймешь.
Танька отвернулась. Она почему-то обиделась на его слова. Хотя правду ведь сказал – что она в таких делах может понимать? Ничего.
– Таня, – услышала она, – извини. Настроение хуже некуда, вот и… Не обижайся.
Какое – обижаться! Так он это сказал, что у нее от радости чуть сердце через горло не выскочило. Что ж с ней такое-то, а? Это ж просто слова!
– Не радуюсь я потому, что победа эта неизвестно к чему приведет, – объяснил Левертов.
– Как же неизвестно? – возразила Танька. – Убивать тебя больше же не станут? Ну и всё.
– Не всё. – Он покачал головой и поморщился; видно, боль отдалась в сломанных ребрах. – Пусть у нас была убогая пародия на законодательную власть, пусть из Руцкого президент как из дерьма пуля, но как можно было довести до такого чудовищного кризиса, чтобы по улицам бегали вооруженные бандиты и в парламент пришлось стрелять из танков!
Ага, вот почему, значит, тот дом закоптился. В него из танков, выходит, стреляли.
– Ну так если по-другому не понимают? – пожала плечами Танька. – Теперь-то небось дошло.
– Безобразие, – вздохнул он.
– Я безобразие? – испугалась она.
– Безобразие, что руководитель государства действует в такой вот логике неразвитого подростка. А должен был видеть хотя бы на два шага вперед и действовать на опережение. Ничего хорошего такое государство не ждет. И нас вместе с ним.
Про что он говорит, Танька не поняла, да уже и интерес к этому потеряла. И вообще-то единственное, что ее сейчас интересовало: что он с ней собирается дальше делать? Прямо сейчас выгонит или… не прямо сейчас?
Но ответ на этот вопрос пугал ее, поэтому она спросила про другое:
– А ты у них кем работал?
– Руководителем юридической службы мэрии Москвы.
– А пистолет тебе зачем выдали? – удивилась она.
– Так положено. Я вчера дежурил по городу.
– А!..
Танька кивнула, хотя и не поняла, какая тут связь. Если с автоматами придут, так какой толк от пистолета дежурному? Разве что застрелиться.
Из кухни донесся запах горячего белого хлеба. Сами пекут, что ли? Танька сглотнула слюну.
– Иди поешь, – сказал Левертов.
– Я в туалет сначала, – поежилась она.
– Умыться не забудь.
Хлеб был обыкновенный, из магазина, но Евгения Вениаминовна сделала из него гренки. Танька чуть язык не проглотила – никогда таких не ела. Хотя, оказалось, просто куски батона сначала были вымочены в молоке с яйцом, а потом поджарены на сливочном масле. И какао такого вкусного, прямо как шоколад, она никогда не пила – в школьной столовой какао было как коричневая вода, а домой мать покупала только грузинский чай, и тот по чуть-чуть заваривала.
– Сейчас придет Валентина, – сказала Евгения Вениаминовна. – Она мне по хозяйству помогает. Принесет тебе одежду своей внучки, и ты сможешь выйти, подышать свежим воздухом. А твои вещи постираем.
Значит, прямо сейчас не спровадят. Танька воспряла духом. Евгения Вениаминовна вышла из кухни, и она сразу набросилась на еду так, что за ушами затрещало. Гренки съела все до единой, творог с вареньем тоже, поколебавшись, доела и все малиновое варенье из вазочки, а вареное яйцо вынула из серебряной рюмки, в которую оно зачем-то было вставлено, и, мгновенно очистив, проглотила едва ли не целиком. И то не сказать чтоб наелась. Вот же жор какой напал!
Одежда Валентининой внучки оказалась шерстяным спортивным костюмом. Тощей Таньке он был широковат, но ничего, теплый, главное, с начесом. Туфли пришлись впору.
Из дому она вышла не на улицу, а на противоположную сторону, в сад. Без свежего воздуха Танька прекрасно обошлась бы, но раз говорят идти, значит, надо идти. Может, обсуждать будут, что с ней делать. Лучше глаза не мозолить.
Глава 11
Цветы, которые она разглядела в саду ночью, при дневном свете оказались еще красивее. На одной клумбе росли и сиреневые, и лимонные, и розовые – Танька таких никогда в жизни не видала. Даже не поймешь сразу, что это обычные астры.
«Весной тут красота, наверное», – подумала она, заметив густые, с еще не облетевшими листьями, кусты сирени у забора.
Сразу подумалось, что весны она в этом саду не увидит точно. Танька помрачнела.
Ветки сиреневых кустов раздвинулись, и между ними появилось лицо. Рядом образовался еще один просвет – в него проглянуло другое.
– Привет, – сказала девчонка. – Ты к Левертовым в гости приехала?
Мальчишка ничего не сказал. Он смотрел на Таньку внимательно, как будто в ней могло обнаружиться что-нибудь интересное.
На вид они были Танькими ровесниками. Или чуток постарше, может.
– Привет, – ответила Танька девчонке. – Ну да.
Объяснять, как она здесь оказалась, ей не хотелось. Надо будет, хозяева сами объяснят.
– Я Нэла, это Ванька, мой брат. А тебя как зовут? – спросила девчонка.
– Татьяна.
– А почему полным именем?
Она улыбнулась, а Танька смутилась. Почему, почему! Растерялась просто.
– Хочешь, мы к тебе перелезем? – предложила Нэла. – Или ты к нам.
– Ладно.
Танька пошла к забору. Лучше перелезть самой. А то хозяева скажут: не успели в дом пустить, а уже гостей зовет.
Она в два счета перелезла через штакетник и оказалась в таком же саду, как у Левертовых. Нет, все-таки этот сад только размером был такой же, а так-то попроще, конечно. У Левертовых были аккуратные дорожки и клумбы, а здесь цветов вообще не было, кусты росли как придется, да и разные предметы – то ведро, то табуретка – попадались на глаза без всякого порядка.
– Надолго ты приехала? – спросила Нэла.
– Не знаю, – буркнула Танька.
– Как не знаешь? – удивилась та. И, не дожидаясь ответа на первый вопрос, задала второй: – Во что будем играть?
Не дотошная, похоже, эта Нэла. Ну и хорошо.
Что ответить на второй ее вопрос, Танька не знала. Мало ли какие у них здесь игры!
– Можно в ассоциации, – сказал Ванька.
Танька аж похолодела. Как в них играют, в эти… Она и слова такого никогда не слышала. А спросить стыдно. Хоть и вряд ли она увидит этих брата с сестрой еще раз, но почему-то не хочется, чтобы они считали ее дурой деревенской.
К счастью, Нэла не согласилась с братом.
– Для ассоциаций людей мало, – сказала она.
– Можно Вовку Савельева позвать. И Славниковых.
– Можно, – кивнула Нэла. – Но они из школы через два часа вернутся, не раньше. А сейчас что делать? А, вот что! – вдруг воскликнула она. – Давайте в путешествие по Европе?
– Можно, – согласился Ванька.
Они оба посмотрели на Таньку. Та кивнула.
– Пойдемте тогда, – сказала Нэла.
Что ответишь – нельзя мне? Так ведь никто ей не запрещал… Поколебавшись, Танька пошла в дом вслед за Нэлой и ее братом.
Вошла она в этот дом и еле удержалась, чтобы рот не разинуть. Даже непонятно, с чем такой дом сравнивать! Он был гораздо больше, чем у Левертовых, и все стены в нем были увешаны огромными картинами и еще всякими красивыми штуками. На одной стене, например, висели изображения разных городов, но не нарисованные, а вылепленные из белого материала – из гипса, может. На второй этаж вела винтовая лестница, а возле нее стояла фигура женщины, тоже белая. Женщина была голая и без рук.
– Это Венера Милосская. – Наверное, Ванька заметил Танькин изумленный взгляд. – Копия, конечно.
– Но очень хорошая копия, – добавила Нэла. – Ее наш прадедушка из Германии привез. В той же мастерской заказывал, что и Иван Владимирович Цветаев.
Можно подумать, Танька знает, кто такой этот Иван Владимирович! Но сказать, что понятия о нем не имеет, ей было неловко. Он очень известный человек, наверное. А Венеру Милосскую она не узнала потому, что та стояла вполоборота и выглядела совсем не так, как на картинке в учебнике истории.
По счастью, Нэла не стала продолжать этот опасный разговор, а скомандовала:
– Идите на маленькую веранду, сейчас игру принесу.
Она убежала. Танька вздохнула с облегчением. У Нэлы в ярких темных глазах светился интерес ко всему, и непонятно было, что она через минуту придумает. А ее брат ничего не придумывал, смотрел внимательными серыми глазами, и с ним было как-то попроще. Интересно, почему они не в школе? Спросила бы, да неудобно. Кто их знает, этих московских…
– Пойдем, – сказал Ванька. – Маленькая веранда там.
Когда прошли мимо лестницы, Танька оглянулась и удивилась: от того, что она смотрела теперь на Венеру Милосскую с другой стороны, та совсем переменилась. Печальная стала, что ли?
«Дура! – разозлилась на себя Танька. – Как она может печальной быть, она же из гипса!»
Она поспешила вслед за Ванькой. Маленькая веранда, на которую он ее привел, была полукруглая и стеклянная от потолка и почти до пола. Стекла были не белые, а разноцветные. И все здесь поэтому казалось праздничным, как на Новый год по телевизору. Посередине веранды стоял большой круглый стол. Ванька и Танька уселись за него.
Нэла пришла, держа под мышкой картонную папку, на которой было нарисовано множество разноцветных флагов, вынула из папки карту, развернула ее на весь стол и сказала:
– Вот Европа. А вот все ее города. – Она достала из папки прозрачный пакет, в котором виднелась нарезанная полосками бумага. – Вытаскиваешь поочередно семь городов и выстраиваешь маршрут от первого до последнего. А потом обратно другой дорогой. И я так же делаю, и Ванька. Потом бросаем кубик по очереди и двигаемся каждый по своему маршруту, кому сколько очков выпадет, через все обозначенные на карте населенные пункты. Кто быстрее все свои города объедет и вернется, тот и выиграл. Поняла?
Танька кивнула. Поняла она, конечно, очень приблизительно, но ничего, по ходу дела разберется. Все-таки это не какие-то асс… Ну, которую Ванька игру предлагал.
Ей достались Париж, Маон, Рим, Рейкьявик, Браганса, Бонн и Москва.
– Москва разве Европа? – спросила Танька.
– А что же? – хмыкнул Ванька. – Азия за Уралом начинается, не знаешь, что ли?
Где Азия начинается, Танька знала, но почему-то никогда не думала, что Москва – это тоже Европа. И ладно Москва, но ведь и Болхов!
Про Брагансу и Маон она слыхом не слыхала, а спросить было стыдно. К счастью, Нэла спросила сама:
– Браганса, кажется, в Португалии?
– Вот она. – Ванька ткнул пальцем в кружок, едва отличимый от теснящихся рядом других таких же кружков. – А Маон на острове Менорка, – бросив на Таньку быстрый взгляд, добавил он. – На Балеарах. Вот здесь.
Рейкьявик она отыскала сама – он находился на самом верху карты, наособицу, и бросился в глаза. А как соединить все эти города, чтобы объехать их побыстрее, сообразила без особого труда. Везде легко ориентировалась, ну и на карте Европы сориентировалась тоже.
И такая увлекательная оказалась эта игра! Можно было и самолетом лететь, и поездом ехать, и на автомобиле – смотря сколько очков наберешь. А главное… Танька, конечно, географию в школе учила, но все же не очень-то. Потому что – зачем она ей, эта география? Все равно как училка по английскому, закатывая глазки, говорила:
– Если вы будете знать язык, то сможете прочитать Шекспира в подлиннике!
А все смотрели на нее, как на полную дуру – нашла тоже, чем заманивать.
И география Таньке точно так же не могла понадобиться, как английский, поэтому она то и другое учила через пень-колоду, на слабую троечку. А тут вдруг оказалось, что звучавшие для нее абракадаброй названия – это настоящие города, и находятся они не так уж далеко друг от друга, и можно в них ездить и летать! Пожалуйста – вот аэропорты, вот вокзалы, вот шоссе. Танька сперва удивилась всему этому, а потом вошла в азарт. Тем более что Ванька подзуживал:
– В Рейкьявике холодно уже, а в Маоне еще жара. Куда ты шубу денешь?
Шубы у Таньки сроду не было, но за словом она в карман не лезла.
– В руке поношу, – отбрила Ваньку. – Или в чемодане. Потом в Москве пригодится.
Щеки у нее раскраснелись то ли от ветра дальних странствий, то ли от того, что она выигрывала.
Вдруг из глубины дома раздалась громкая мелодия. Танька вздрогнула, поняв, что это звонят в дверь. Ванька пошел открывать и вернулся вместе с Евгенией Вениаминовной.
– Вот ты где! А я волнуюсь, – с укоризной произнесла она.
– Тетя Женя, это мы позвали Таню к нам поиграть, – поспешно проговорила Нэла.
– Я совершенно не против, но надо было меня предупредить, – сказала Евгения Вениаминовна. И спросила у Нэлы: – Мама дома?
– Не-а. Она за красками поехала. И потом еще куда-то. С папой вечером вернется. А что?
– Можно Тане побыть до вечера у вас? Мы в больницу едем.
– Конечно, можно, – кивнул Ванька.
– Ура! – воскликнула Нэла.
– Зачем в больницу? – насторожилась Танька.
– Вене сделают рентген, – ответила Евгения Вениаминовна. – И специалисты его посмотрят. Вы уже обедали?
– Мы Таню покормим, – заверила Нэла.
Кто такая Таня, ни она, ни ее брат у Евгении Вениаминовны не спросили.
– Чем ты собираешься кормить? – хмыкнул Ванька, когда та ушла. – Мама сказала, что котлеты в кулинарии купит и только вечером привезет.
– Можно хлеба с медом поесть, – махнула рукой Нэла. И поторопила брата: – Ходи давай, твоя очередь.
Сыграли в путешествие по Европе – Танька выиграла, – потом Нэла предложила посмотреть фильм «Однажды в Америке». Танька думала, что его будут показывать по телевизору, но оказалось, у брата с сестрой есть видеомагнитофон. Танька должна была бы позавидовать – про видеомагнитофоны она только слышала, – но ни зависти, ни хотя бы удивления не почувствовала. Весь этот дом был такой необычный, даже по сравнению с домом Левертовых, что в нем могло быть все что угодно.
На столах, на стульях, на полках в беспорядке или в каком-то особенном, Таньке непонятном порядке лежали и стояли не только книги, но и листы с рисунками, шкатулки, фигурки из дерева и из металла, бусы, куклы на веревочках, серебряные кувшины и так много чего еще, что у Таньки глаз не хватало все оглядеть.
Одна непонятная штучка особенно привлекала ее внимание. Штучка лежала на столе в той комнате, где они с Нэлой и Ванькой собрались смотреть фильм, и была такая яркая, что Танька то и дело на нее поглядывала.
– А это что? – наконец спросила она.
– Где? – Нэла проследила ее взгляд. – А! Это австрийские фрукты.
– Что-о?!
Танька поразилась до глубины души. Как можно привезти фрукты из Австрии? И зачем?!
– Это не те фрукты, которые едят! – засмеялась Нэла. – Посмотри!
Танька подошла вместе с ней к столу, где сверкал ярко-алый огонек, на который она обратила внимание. Огонек оказался маленьким прозрачным яблочком с зелеными листочками.
– Посмотри, посмотри, не бойся, – подбодрила Нэла.
Таня взяла яблочко двумя пальцами и ладонь под него подставила. Не хватало разбить!
Яблочко оказалось брошкой. Оно было сделано из матового стекла, а на обратной стороне, где крепилась булавка, под стекло было подложено золото. От этого яблочко переливалось всеми оттенками красного цвета, а когда Таня повертела его, то внутри веселые огоньки засверкали.
– Красиво, правда? – сказала Нэла. – К этой брошке еще клипсы есть. И другие австрийские фрукты есть тоже.
Она открыла большую шкатулку, стоящую на столе, и стала доставать из нее… Чего только не достала!
Яблочки золотистые и зеленые с алыми полосками. Груши желтые и розовые. Фиолетовые ежевичины. Лиловые сливы. Бордовые вишни. Оранжевые апельсины. Малинки малиновые. Морошки желтые с синевой. И земляничины. И лимоны.
У Тани разбежались глаза и перехватило дыхание.
– Кто ж такое сделал? – сглотнув, проговорила она.
– Это в Австрии делали, – ответила Нэла. – В сороковые годы. Видишь, вот здесь гравировка по-немецки. Война закончилась, женщинам захотелось украшений. Ювелиры и придумали эти австрийские фрукты. Недорого, ярко и привлекательно.
Что привлекательно, это точно. Глаз не отвести!
– Как же недорого? – покачала головой Танька. – Там же золото внутри.
– Не золото, а фольга, – возразила Нэла. – Стебельки из серебра, листочки эмалевые.
– А откуда они у вас? – спросила Танька.
Правда, тут же прикусила язык. Ее-то здесь не расспрашивают, кто она да откуда.
– Дедушка когда-то из Австрии привез, и с тех пор мама их коллекционирует, – ответила Нэла. – А папа собирает вьетнамские статуэтки. Вон они, на полках.
Вьетнамские деревянные статуэтки занимали целый стеллаж. Это были фигурки крестьян с серпами, воинов с мечами, женщин с веерами, и их домов, и каких-то животных.
– Родителям нравится разнообразие, – объяснила Нэла. – А австрийских фруктов и вьетнамских статуэток как раз очень много, и все разные. Тем они и привлекательны.
– Вы фильм собираетесь смотреть? – напомнил Ванька.
– Сейчас! – ответила Нэла.
Она сбегала в кухню, принесла на расписном металлическом подносе крупно нарезанный черный хлеб и банку с медом, уселась рядом с братом и Танькой на диван, и все время, пока смотрели фильм «Однажды в Америке», они ели хлеб с медом. То есть Ванька с Нэлой ели – Танька впилась взглядом в экран, про еду и не вспомнила. Какая история!.. Какая любовь!.. И совсем другая, совсем непонятная жизнь… И из бедности в ней можно выбиться… В конце, когда самый главный герой долго-долго смотрел на светящуюся витрину того кафе, в котором он был когда-то очень счастлив, Танька почувствовала, что сейчас не просто заплачет, а заревет в голос. Еле сдержалась.
Чтобы никто этого не заметил, она отвернулась и уставилась на веселые огоньки австрийских фруктов, рассыпанных по столу.
– Понравились? – Нэла заметила, куда она смотрит. – Так ты примерь! Мама разрешает, честное слово. Она мне даже в школу на новогодний вечер клипсы с вишенками давала.
«Мало ли чего тебе давала, – подумала Танька. – Кто ты и кто я».
Но вслух этого не произнесла. Ей вдруг показалось, что Нэла таким ее словам удивится, а то и рассердится на нее.
– Тебе с вишенками пойдут, – вместо этого сказала Танька. – Только волосы надо поднять.
– Зачем? – пожала плечами Нэла. – Клипсы крупные, их и так видно.
Разговор про австрийские фрукты отвлек Таньку от печальных мыслей. Фильм при этом не забылся, но будто бы ушел куда-то в глубину. Прямо в живот опустился, что ли. Она приободрилась, перестала шмыгать носом.
– Так, да не так, – возразила она Нэле. – Если волосы поднять, то на клипсы свет со всех сторон будет падать. Они заиграют тогда.
– Ладно, я пошел алгебру делать, – сказал Ванька.
Понятно, что ему неинтересно было примерять клипсы да выделывать прически. А Таньке и Нэле это было очень даже интересно! Нэла принесла расческу, заколки, и Танька в два счета свертела из ее волос луковку, из которой выпустила вверх хвостик. Хвостик торчал задорно, даже смешно, точно как перья из луковицы, хоть в зеленый цвет его выкрась. Нэле это очень понравилось. Хотя когда Танька однажды сделала такую прическу однокласснице Наташке, та обиделась и сказала, что нечего ее на смех перед всеми выставлять.
– Теперь пришпиливай клипсы, – полюбовавшись делом рук своих, сказала Танька. – Не обязательно вишенки. Ты смуглая, тебе и вон те грушки желтые пойдут.
Нэла надела клипсы в виде грушек, а Танька в виде светло-зеленых яблок – к ее белобрысым волосам они очень даже подходили. Потом они вертелись перед зеркалом, потом спустился сверху Ванька и сказал, чем на ерунду время тратить, лучше еще один фильм посмотреть, и они стали смотреть фильм про ковбоев…
А день все не кончался и не кончался. Вот ведь какая эта Москва! Не только улицы, но даже время здесь особенное. Сколько всего за вчерашний день случилось – больше, чем за всю Танькину жизнь. И сегодня тоже – и утренний разговор с Левертовым, который непонятно почему стоит у нее в памяти каждым словом, и обычный батон, который в два счета превратился во вкуснющие гренки, и астры необыкновенных цветов, и Нэла с Ванькой, и путешествие по Европе, и «Однажды в Америке», и австрийские фрукты…
И самое странное, Таньке казалось, что во всем этом нет ничего странного, что все так и должно быть в ее жизни, как есть сейчас, и так оно всегда и будет.
Глава 12
– Быть такого не может!
Обычно Таня эту глупую фразу не произносила, потому что знала, что быть может все. Но то, что ей сейчас сообщил Решетов, так поразило ее, что она не удержалась от этого возгласа.
– Чего не может быть? – не понял он.
– Извините, – сказала Таня. – Но совпадение удивительное, конечно. Я этот детдом из своего окна вижу. Те же шесть лет, что и Алик, на этой улице живу.
Тут уж и Решетов изумился – приоткрыл по своему обыкновению рот. Надо же, чтобы у мужчины чувства выражались таким малоприятным образом.
– Может, я его даже на улице встречала, – сказала Таня. – У магазина вечно дети трутся, и ясно, что детдомовские.
– Почему ясно?
– По неприкаянности. На Петушках, конечно, не элитный район, но совсем уж отбросы тоже не живут, чтобы у домашних детей детдомовские глаза были.
Она заметила, что Решетов слегка поморщился. Понятно – не понравилось, что она назвала кого-то отбросами. Полагается быть добросердечным, и если кто выпил стеклоочиститель и от этого умер, то его надо жалеть, потому что это же наш народ, мы с вами. Таня эту сострадательную моду ненавидела. С какой стати – «мы»? Даже среди самых дальних ее знакомых не было ни одного человека, который додумался бы пить стеклоочиститель. Ей нелегко далась жизнь, в которой это стало так, и сочувствовать она в этом смысле никому не собиралась.
Они с Севой Решетовым сидели в беседке на главной площади поселка. Маленькую эту площадь называли Звездочкой, потому что к ней сходилось несколько соколянских улиц. Беседка здесь стояла всегда, только нынешняя была немного не на том месте, где пятнадцать лет назад. Но все же она никуда не делась со Звездочки, это Таню порадовало.
Она только что подписала с Решетовым договор о сотрудничестве по оформлению опеки над Левертовым Александром Вениаминовичем, и теперь он излагал, что нужно будет сделать в ближайшее время. Пойти в опеку, потом получить кучу медицинских справок, и справку из наркодиспансера, и об отсутствии судимости, ну и прочее. Среди прочего он назвал школу приемных родителей, в которую ей надо будет записаться, Таня спросила, где эта школа находится, он ответил, что школ таких много, есть даже прямо при детдоме, в котором живет Алик, тут и выяснилось, что детдом этот находится на Петушках.
Решетов все же не стал сообщать свое мнение о том, надо или не надо называть кого-либо отбросами.
– Вы настоящая русская женщина, Татьяна, – сказал он вместо этого.
– Коней на скаку не останавливаю, – усмехнулась она. – Даже не собираюсь.
И тут же вспомнила, как Веня сказал ей однажды:
– Любая нормальная женщина войдет в горящую избу, если там остались ее дети. Хоть русская, хоть английская, хоть китайская. А если полезет туда спасать домашнюю рухлядь, то она просто дура. И тоже независимо от национальности. Так что ничего специфически русского Некрасов в этом смысле не открыл.
Она не помнила теперь, почему зашел у них об этом разговор и даже когда это было, но те слова его помнила и как усмешка тронула его губы, помнила тоже. Все она помнила о нем, как ни старалась забыть.
– И все-таки вы именно русская женщина, и именно в некрасовском смысле, – сказал Решетов. – Это даже странно.
– Что странно?
– Что в некрасовском, а не в тургеневском. Родились вы в самых тургеневских местах, у вас даже фамилия тургеневская…
– С чего вы взяли про фамилию? – удивилась она.
– А я погуглил, – ответил он с некоторым смущением. – У вас ведь довольно необычная фамилия, и отчество такое, знаете, прямо из «Записок охотника», я заинтересовался… И действительно, Тургенева сопровождал на охоте крестьянин по фамилии Алифанов. В ваших местах. Он даже в рассказе одном описан. Но когда я думаю о вас, то сразу вспоминаю именно из Некрасова: «Не жалок ей нищий убогий – вольно ж без работы гулять! Лежит на ней дельности строгой и внутренней силы печать», – продекламировал он.
«Далось тебе вообще обо мне думать! – сердито подумала Таня. – Без толку же».
– Хорошо, Сева, – сказала она, вставая. – Завтра начну справки собирать.
– Ну и главное…
– Что?
Об оплате его работы договорились тоже, поэтому Таня не поняла, что он имеет в виду.
– Главное, вам ведь надо поговорить с мальчиком, – ответил Решетов. – Вдруг он… Ведь он должен согласиться, чтобы вы стали его опекуном.
Его слова поразили Таню. Только сейчас она поняла, что это даже не приходило ей в голову. То есть само собой разумелось, что пацану лучше жить в доме своего отца, чем в детдоме, а значит, ему придется жить под ее опекой. А ведь совсем не само собой разумеется, что Алик этот тоже так считает, Решетов прав.
– Да, – сказала она. – Дура я.
– Нет, почему же дура…
– Вот что, Сева. – Таня снова села на скамейку. – Придется вам договориться, чтобы мне дали с ним встретиться. Мало ли какое там начальство, в детдоме. Начнут хамить, я этого на дух не переношу, ну и пойдет-поедет. Потом не расхлебаем. Возьметесь?
– Да, конечно, – кивнул он. – Завтра же туда поеду.
Он так обрадовался, когда она села на скамейку, что Таня тут же поднялась с нее снова.
– Хорошо, – сказала она. – Звоните мне сразу, как решится.
Простившись с ним, она села в машину и дождалась, когда Решетов сядет в свою. Он не трогался с места, но ей не хотелось, чтобы он видел, куда она поедет, и она не заводила мотор.
Конечно, он уехал первым. Тане показалось, что его «Фольксваген» при этом уныло вздохнул. Она улыбнулась и, подождав пять минут, тронулась с места тоже.
Она не знала, когда переедет в дом на улице Сурикова. И даже не потому, что завещание еще не было оглашено и формально она не имела на это права. На формальности ей было наплевать так же, как и на мнение посторонних, ничего для нее не значащих людей, для которых и она ничего не значит. А родни у Вени не было, это она даже без его письма знала.
Евгения Вениаминовна когда-то говорила ей:
– Двадцатый век катком по нашей семье прошелся. Была большая родня, и никого не осталось.
– А вы прикиньте получше, – деловито посоветовала ей тогда Танька. – Если родня большая, так, может, позабыли кого.
– Никого не позабыла. – Евгения Вениаминовна улыбнулась. – Родителей Вениного отца еще перед войной расстреляли. Знал, что была старшая сестра, но она еще до его рождения, еще в двадцатые годы отсюда уехала, и даже неизвестно куда. Возможно, в Америку, она актриса была в Московском мюзик-холле. Во всяком случае, никому она вестей о себе не подавала и никаких ее следов нет. Ну а мои – кто в гетто, кто на фронте… Тетя Кира, последняя моя родственница, оставалась. У нее единственный сын в сорок первом году без вести пропал, мой двоюродный брат. Она его до самой своей смерти искала, в Министерство обороны писала, в архивы, во все инстанции. Отовсюду одно: сведениями не располагаем. С тем и умерла. А год назад ответ по ее адресу пришел, и мне передали: нашли останки под Смоленском. Случайно… В девятнадцать лет мальчик погиб, страну защищая, и пятьдесят лет лежал непохороненный! Никому, кроме матери, дела не было, где он, что он. И ни детей не успел оставить, никакого по себе следа… Так что никого я не забыла, Таня, – прищурившись, заключила она. – Никого и ничего.
В общем, Таня знала, что может переезжать на Сокол хоть завтра. Даже прямо сейчас может подъехать к дому и остаться в нем – на ночь, на день, на сколько угодно. Но мысль об этом ее пугала.
Она не отвыкла от этого дома за пятнадцать лет. Даже слишком не отвыкла; может, в этом причина ее страха. Она не ожидала этого, то есть всего этого – что Веня умрет, что оставит ей свой дом, что оставит ей своего сына… Все это пугало ее не в практическом смысле, а в том, которого она никогда не понимала. Веня называл такое метафизическим сквознячком, Таня запомнила. Он не объяснил, что это значит, а сама она и подавно не могла тогда объяснить, что за сквознячок такой. Ну, вот именно такой он и есть, выходит: будто потянуло откуда-то, и кажется, что твоей жизни коснулось что-то вне тебя, что-то очень большое, беспредельно большое, больше, чем ты можешь понять, ты и не понимаешь, почему, а главное, для чего оно коснулось именно тебя, что значит его прикосновение.
Лучше об этом не думать! Но не думать об этом в доме на Сурикова почему-то было невозможно, и Таня не могла решиться переехать туда.
Теперь, правда, оказалось удобно, что она не уезжает с Петушков. Проще будет повидаться с этим Аликом. А если Решетов правильно договорится с детдомовским начальством, то можно будет хоть каждый день к нему приходить. Пускай к ней привыкает. Интересно, сколько придется ждать, пока разрешение на опеку дадут? Самое малое, месяца два, Решетов сказал. Ну вот два месяца по прежнему адресу и поживет.
Таня думала обо всем этом, выруливая из поселка на Ленинградский проспект, проезжая через туннель на Волоколамское шоссе. Когда показалась церковь Преображения, перед которой ей надо было сворачивать направо, к Петушкам, она подумала, что следует, наверное, как-то приготовить дом на Сурикова к тому, что в нем будет жить ребенок. Но пока стояла на светофоре у церкви, эта мысль успела показаться ей идиотской. Ничего особенного никакому ребенку не нужно. Ничего отличного от того, что нужно и всякому человеку. А из того, что нужно человеку, в доме на Сурикова есть все и сверх того. При этой мысли ей вспомнился выложенный мозаикой лик Спаса в церкви Преображения, перед которой она сейчас стояла. Спас был странный и необычный, не такой, как в других церквях. А почему он вдруг вспомнился? Непонятно.
«А почему я вообще об этом сейчас думаю? – сердито подумала Таня, пропуская машины на круговой развязке у заправки. – Нашла время!»
Думала она об этом оттого, что все в ней пришло в движение. Да, все сдвинула Венина смерть, перевернула все, что было с таким трудом ею выстроено. То ли разрушил он все своей смертью, то ли заставил перейти к какому-то новому порядку жизни.
Выйдя из машины у своего подъезда, Таня вспомнила, что дома нечего есть. Пришлось идти в магазин – в тот, рядом с которым и находился детдом. За шесть лет, что она здесь жила, магазин несколько раз менял название и, видимо, владельцев, но сам по себе менялся мало. Обычный маленький супермаркет для спальных выселок.
Еще внутри магазина она поймала себя на том, что посматривает сквозь витрину в сторону детдома, а когда вышла на улицу с набитым продуктами пакетом, то даже остановилась, глядя на него.
Детдому было отведено здание бывшего детского сада. Дети и взрослые ходили по его двору каким-то неизвестным ей порядком. Таня и не хотела этот порядок знать, а хотела только, чтобы мальчик, которого Веня оставил, поскорее был оттуда изъят и ей передан. Вдруг показалось, что это не получится, и она почувствовала такую растерянность, какую редко чувствовала за свою жизнь. Таня по пальцам одной руки могла пересчитать случаи, когда растерянность охватывала ее.
Стоя в десяти метрах от забора, она увидела, как из детдома вышла женщина в синей парке и желтых тимберлендовских ботинках, прошла через двор к воротам, закрыла, выйдя, за собой калитку и направилась к автобусной остановке. Что это не тетка, а вот именно женщина, было видно сразу и располагало к ней. Во всяком случае, Таню располагало.
Она догнала ее, когда та обходила детдомовский забор.
– Здравствуйте, – сказала Таня.
Женщина посмотрела настороженно и поздоровалась с вопросительной интонацией.
«Работает там, – подумала Таня. – Воспитательницей, может».
Чтобы догадаться об этом, не требовалось особенной проницательности. В детдомах спрессованы такие истории, что встретить вокруг них странных и просто опасных людей нетрудно. Оттого и настороженность при каждой неожиданной встрече у тех, кто там работает.
Не со всеми людьми можно говорить прямо, но уж если видишь, что с этим человеком можно, то так и надо с ним говорить. Это открытие Таня сделала еще в детстве, восприняла как само собой разумеющееся, потому что не была приучена к церемониям, а уже во взрослой ее жизни, когда к церемониям она давно привыкла, оказалось, что открытие все равно было правильное.
Она поставила пакет на снег и сказала:
– Меня зовут Татьяна. Я хочу взять под опеку ребенка. Его отец недавно умер. Но он и сам не успел своего сына из детдома забрать. Так получилось.
– Вы про Сашу Левертова? – спросила воспитательница.
Настороженность из ее голоса не исчезла, но вроде бы слегка ослабела.
– Да, – кивнула Таня. – А откуда вы знаете?
– У нас все эту историю знают. Только порадовались за Сашу, и такое вдруг горе…
– Как вы думаете, мне его отдадут?
– А почему именно вам?
– Его отец написал, чтобы я его взяла. Заверил у нотариуса.
– Понятно… – протянула та. – Только это не со мной надо обсуждать.
– В органы опеки, к директору, я знаю. Но… – Растерянность снова охватила Таню. Что это ей взбрело в голову приставать к незнакомому человеку на улице с такими расспросами? – Но пока справки соберу, пока разрешения все получу… Мне бы его хоть увидеть!
Она произнесла это более пылко, чем говорила обычно, потому что это неожиданно пришедшее на язык объяснение для нее самой оказалось кстати. Уж неизвестно, как в глазах этой воспитательницы, но хоть в собственных глазах не выглядела она теперь идиоткой.
– А вон он, – сказала та. – Вон там, видите? Снежную крепость строит.
На участке рядом с сетчатым забором действительно строили снежную крепость. Мальчишек, которые это делали, было несколько, и странно, что воспитательница указала на них так, будто Таня могла легко распознать, который из них ей нужен.
Она уже открыла рот, чтобы спросить об этом, но не спросила, потому что сама поняла, о ком речь. Сходство с Веней, так поразившее ее, когда она увидела фотографию, было и наяву настолько сильным, что даже на расстоянии, даже в шапке с длинными ушами-завязками его сына трудно было с кем-то перепутать.
«Сволочь, – подумала Таня. Хоть и не стоило, может, так думать об умершей женщине. – Сволочь и дура».
Как, ну вот как можно было не понять, что если пацан настолько похож на своего отца внешне, то и другое сходство может обнаружиться? И как было не пересилить собственное тупое упрямство и не показать его отцу?
Она за все свои тридцать пять лет не поняла, что движет такими людьми. Знала только, что не стоит искать в их поступках логику. Ну и как себя с ними вести знала, конечно, тоже. Опыт у нее в этом смысле был долгий.
Правда, с мамашей этого пацана уже никак себя вести не нужно. Только последствия расхлебывать.
– Я пойду? – сказала воспитательница.
Настороженность в ее голосе сменилась сочувствием. Таня, вздрогнув, вынырнула из своих мыслей. Глупо стоять столбом с таким видом, чтобы посторонним людям хотелось тебя пожалеть.
– Спасибо, – сказала Таня. – Я зайду в ближайшее время.
– Попросите тогда, чтобы меня нашли. Ирину Яблочкину. Я в библиотеке работаю.
– Хорошо, – кивнула Таня. И повторила: – Спасибо.
Было ей за что благодарить библиотекаршу Яблочкину. Хоть ничего особенного та не сообщила, но будничность, с которой указала на мальчика, вывела Таню из растерянности.
Ирина ушла. Мальчишки закончили строить крепость. Они были совсем близко, от Тани их отделяла только сетка забора. Она едва удержалась от того, чтобы окликнуть Вениного сына. Смешно, но удержало ее главным образом то, что она не знала, как его назвать. Он смотрел в Танину сторону, но не на нее, конечно, а на крепость свою снежную. Лицо у него было насмешливое и бесстрастное. Это выражение было выжжено в Таниной памяти, как клеймо. Интересно, так же меняется улыбкой его лицо?..
Проверить это ей не удалось. Мальчишка не улыбнулся, а надвинул на лоб шапку, съехавшую на затылок, выдернул из сугроба и вскинул на плечо широкую пластмассовую лопату, которой набирал снег, и пошел ко входу в здание. Остальные строители двинулись за ним. Таня еще немного посмотрела им вслед, положила в пакет выкатившееся из него авокадо и, не понимая, что чувствует, пошла к своему подъезду.
Глава 13
– Ну вот, Саша, – сказала Ирина Яблочкина. – Познакомься с Татьяной Калиновной.
Разговор возле магазина оказался полезным. К тому моменту, когда Таня побывала в опеке и встретилась с директором, о ней знал уже весь детдом, и весь же детдом относился к ее намерениям с сочувствием. Это хоть решающего значения и не имело, но помогало в мелочах.
Если можно было считать мелочью первую встречу с Вениным сыном. Таня все еще не знала, как его называть, а потому называла так даже мысленно. А может, потому, что именно это его качество – что он Венин сын – являлось для нее главным. Сам же он был абстракцией; это следовало преодолеть, конечно.
Неплохо было и то, что встреча состоялась в библиотеке. Как и для многих людей, которые провели детство так, как провела она, и сумели отряхнуть прах этого детства со своих ног, библиотека была для Тани местом привычным. В старших классах случались дни, когда она сидела в районной библио-теке до закрытия. Правда, не из-за того, что ей так уж сильно хотелось читать. Но и читала тоже, не в стенку же смотреть.
– Здрасте, – сказал он. – Как-как ваше отчество?
Таня вздохнула. Из всех выдумок ее матери эта была самая долгоиграющая. Неистребимая, вернее.
– Калиновна, – ответила она.
– Ваш отец Калин?
– Нет.
Недоумение скользнуло по его лицу. Но расспрашивать, что это значит, он не стал. Венин сын, да.
– Есть мужское имя Калина, – сказала Ирина Яблочкина. – Старинное русское.
– Во фигня, – пожал плечами мальчишка. – А вы старинная русская, что ли? – Он окинул быстрым взглядом Танину «рваную» челку и свитер, расшитый разноцветными смайликами. – Не похожи.
Голос у него был хрипловатый, совсем уличный.
– Ну, вы тут поговорите, – поспешно сказала библиотекарша. – Пусть вам Саша про свои любимые книжки расскажет. А я пойду малышам читать.
Она ушла. Мальчишка смотрел на Таню. В его глазах не было ни смущения, ни страха, ни приязни. А что в них, она не понимала. У нее самой в таком положении точно была бы растерянность. У него – нет.
Ей вдруг стало так тяжело, тягостно, что она перестала понимать, как с ним разговаривать. Но невозможно же встать и уйти. Наверное, надо просто сказать ему, что намерена делать, и спросить, как он к этому относится.
– Твой отец написал завещание, – сказала она.
– Меня завещал?
Его губы наконец тронула усмешка. Да, как речная волна на прибрежный песок набежала. Таня приободрилась.
– Дом. Оставил мне дом, в котором жил. И бабушка твоя в нем жила. В общем, все твои. И ты будешь.
– С вами?
– Одному не получится.
– Да это понятно… – нехотя проговорил он. – Я ж несовершеннолетний.
Наверное, он хотел уйти из детдома. Наверняка хотел. Но в его словах, в его голосе, в том, что мелькнуло в его глазах, Таня почувствовала гораздо более сильное, самое сильное его желание… Он хотел свободы. Может, не очень понимал, что это такое, и точно не сумел бы с ней сладить, но хотел того, что составляет самую суть свободы: прямого прикосновения к огромному, живому, непредсказуемому миру, в котором все возможно.
И он был как раз из тех, с кем лучше говорить прямо.
– Ты согласен, чтобы я над тобой опеку оформила? – спросила она.
– А вы б не согласились? – хмыкнул он.
– Не знаю.
– А я знаю. Оформляйте, раз он меня вам вместе с домом завещал.
– Тебя не вместе. – Таня тоже усмехнулась. – Тебя отдельно.
– Один фиг. Я согласен.
– Ладно. – Она встала. – Тогда я пойду?
Он удивился. Ничего не сказал, но удивление мелькнуло во взгляде. Все-таки он был еще маленький. У Вени и во взгляде ничего не мелькнуло бы, если бы он не счел это нужным.
– Про любимые книжки не будете слушать? – спросил он.
– В другой раз. – Она пошла к двери, остановилась, обернулась и спросила: – Тебя как называть?
– В смысле? А!.. Сашей.
– Ты на улицу выходишь? За территорию.
– Конечно. В школу же и вообще.
– Можешь ко мне заходить. Я вон в той «шоколадке» живу. – Она кивнула на окно, из которого виден был ее дом, действительно похожий на плитку шоколада. – Квартира сто двадцать два. На домофоне номер квартиры набирай, я открою, если дома.
Он ничего не ответил. Выходя, Таня чувствовала, что он провожает ее взглядом, но каким, не понимала.
Сева ожидал у магазина, как и обещал. Пока она была в детдоме, он купил «Сникерс» и к ее возвращению как раз доедал его, прохаживаясь по тротуару.
– Извините. – Он вытер губы, поспешно дожевывая. – Ну как?
– Нормально, – сказала Таня. – Он согласен.
– А в целом какое у вас от него впечатление?
– Адекватное, – усмехнулась Таня. – Можно поладить.
«Если сильно постараться», – подумала она при этом.
Сейчас она не могла бы с уверенностью сказать, хочет ли такого старания. Будущая жизнь с Вениным сыном представлялась ей теперь ходьбой по минному полю. Ну, может, не по минному, но по изрытому ямами точно.
– Сева, мне через час на работу, – сказала Таня. – А то я со всеми этими делами скоро без денег останусь. Клиентка в соседнем доме, ехать никуда не надо. А поесть надо. Так что, если вы не против, можем в местном кафе пообедать.
Как и магазин, с которым оно находилось дверь в дверь, кафе на Петушках несколько раз на Таниной памяти меняло название – однажды даже «Сарай» называлось, – мало меняясь по сути. Выстряпывать что-то вкусное Таня не умела, да и глупо было бы делать это лично для себя, поэтому она заходила сюда, если чувствовала, что пора поесть что-нибудь приготовленное, а выезжать в центр не было времени. Ничего выдающегося здесь не предлагали, но не отравилась ни разу, спасибо и на том.
Севино лицо просияло так, будто она пригласила его в «Националь». Удивительная бесхитростность. Или только с ней он такой? Наверное.
Днем в кафе было пусто. Все-таки большинство петушковских жителей предпочитали обедать дома. Или если уж в общепите, то в каком-нибудь более привлекательном.
– Солянку? – спросил Сева, проглядывая меню. – Или борщ?
– Разница минимальная, – улыбнулась Таня. – Мне то же, что и вам.
Он заказал солянку и что-то еще; она прослушала, что именно, потому что задумалась.
– Татьяна, – спросил он, – вы чем-то расстроены? Это в связи с мальчиком?
– Нет… – проговорила она. – То есть да, в связи с мальчиком. Но не из-за него.
– Как это? – не понял Решетов.
Она и сама не очень это понимала. Почему знакомство с Вениным сыном вызвало воспоминания, к которым она не возвращалась, которые утопила в себе? Связь сегодняшего разговора в детдомовской библиотеке и событий двадцатилетней давности была необъяснима. Но связались же они в ее сознании. А почему? Таня не знала.
Глава 14
– В общем, Вень, хоть девчонка и шустрая, но актриса в ней не просматривается. Конечно, она ребенок, в будущем все может перемениться. Но пока так.
Танька почувствовала, как щека, которой она прижалась к двери гримвагена, становится холодной.
– Ты уверен?
Голос Левертова звучал спокойно. Понятное дело, ему-то чего переживать!
– Уверен в таких вещах может быть только Господь Бог. И то спорный вопрос. А я говорю что вижу. То есть в массовке я ее снять могу, пожалуйста. Даже эпизод могу дать, раз ты просишь. Но лучше бы ее не обнадеживать.
– Скажешь ей?
– Как хочешь. Можешь ты сказать.
Недогадливый он все-таки, этот режиссер. Сам же отвел Таньку после кинопробы в вагончик, который назвал гримвагеном, и сам же теперь рядом остановился и с Левертовым про нее разговаривает. Дурой надо быть, чтоб не подслушать. А она не дура.
– Я скажу, – ответил Левертов.
Эти слова она уже еле расслышала. А что режиссер ответил, не расслышала вовсе. Отодвинув занавесочку на окошке, она увидела их удаляющиеся спины. Левертов сильно хромал, а спину держал прямо, потому что из-за сломанных ребер ему прописали ходить в корсете. Они с режиссером шли к тому зданию, в котором Танька час назад читала стих и показывала сценку, будто бы хочет обратить на себя внимание одноклассника. Выходит, неправильно прочитала и показала…
Она тяжело вздохнула. Как бы там Левертов ни говорил, что артисткам общежитие не дают, но если б ее взяли в фильмах сниматься, то, может, и дали бы. А теперь как ей быть? Непонятно.
– Ты что носом шмыгаешь? Простудилась?
Дверь открылась, и в гримваген вернулась Валентина Васильевна, на попечение которой режиссер оставил Таньку.
– Не-а, – помотала головой Танька.
– Ну вот они, смотри. – Валентина Васильевна разложила на гримерном столике плоские пластмассовые коробочки с прозрачными крышками. – Это румяна французские, а это блеск для губ.
– Для румян не ярковато будет?
Коробочки были такие красивые, а от вида их содержимого так разбегались глаза, что Танька даже про свою неудачу забыла.
– На пленке получится естественный цвет лица, – ответила Валентина Васильевна. – Надо свет учитывать и еще много всего. Эпоху тоже. Фильм про французских королей, тогда были другие понятия, как женщина выглядеть должна. Сейчас актриса придет, я ее гримировать буду, сама увидишь.
К тому моменту, когда Левертов постучался в гримваген, чтобы забрать Таньку, она успела не только разглядеть, как гримируют артистку, которая играет французскую королеву, но и, обмирая от восторга, сама ее напудрить специальной пуховкой.
– Ты, я вижу, увлеклась, – заметил Левертов.
Таньке в самом деле жалко было уходить. Она несколько раз оглянулась в дверях, даже со ступенек чуть не грохнулась из-за этого.
Они с Левертовым молча шли по дорожке к проходной. Насчет «Мосфильма» Танька не ошиблась: он в самом деле оказался целым городом. Перед тем как показывать режиссеру, Левертов пристроил ее к экскурсии, и она все-все посмотрела – и павильоны, где фильмы снимаются, и музей, и памятник кинооператорам, которые на войне погибли. Артисткой ей после этого захотелось стать еще сильнее, аж в носу зачесалось, вот как! А получается, этого не будет…
– Не расстраивайся, – сказал Левертов. – Кино – это целый мир, сама же видишь. Место здесь находится многим.
«Многим-то многим, – уныло подумала Танька. – Только не мне».
– И лучше стать выдающимся гримером, чем заурядной актрисулькой, – добавил он.
– Гримерами детей не берут, – буркнула Танька.
– Ты не всегда будешь ребенком.
«Ты дурак или притворяешься?! – едва не выкрикнула она. – Мало ли что когда-то будет! Сейчас что мне делать?»
Может, она и произнесла бы это вслух, но не успела.
– У тебя какие-нибудь документы есть? – спросил Левертов. – Свидетельство о рождении?
– Было, – вздохнула Танька. – Только я его потеряла. Оно в сумке лежало, а сумка там осталась… На улице той, на Калининском проспекте. Наверное, – добавила она.
– Понятно. Как твоя фамилия?
Танька секунду поколебалась. Но рассудила, что он и так знает о ней почти все, а чего не знает, о том все равно догадается. Умный как змей потому что.
– Алифанова, – сказала она.
– А отчество?
– Калиновна…
– Ка-ак?! – Левертов покрутил головой и улыбнулся. – У вас там заповедник, я смотрю, в Болхове.
– Ничего не заповедник. А просто мать мне такое отчество выдумала, – сердито сказала Танька.
– Почему?
– Она меня от одноклассника нагуляла, еще до выпускного. Потом того в армию забрали, а она родила. А из армии он в Болхов не вернулся уже. Он в танцевальном кружке занимался, и его в военный ансамбль взяли, говорят. В Москву, в самый главный.
– Ансамбль Александрова?
– А я откуда знаю?
– Так его, что ли, Калиной звали? – не понял Левертов.
А кто б такое понял!
– Нет, – вздохнула Танька. – Не знаю, как его звали, мать не говорит. А Калиновной она меня назло записала.
– Кому назло?
– А вам! Которые в Москве, и вообще. У нее прадед Калина был. Или даже прапрадед, точно не знаю. «У нас тут все свое, мы и своим умом проживем!» – зло передразнила Танька. – Обиделась, что парень ради Москвы бросил.
– Ее можно понять.
– Ну и понимай! А я не собираюсь.
Настроение от этого разговора у Таньки испортилось. Даже голова заболела, даже в ушах загудело. В машину она села молча, забилась в угол на заднем сиденье и всю дорогу до Сокола молчала. Левертов сидел впереди рядом с водителем, и молчал тоже, и не обернулся к ней ни разу.
Когда приехали, Танька сразу поднялась в свою комнату, легла на кровать и отвернулась к стенке. Когда Евгения Вениаминовна позвала ее ужинать, она сказала, что не пойдет, потому что голова болит. Голова в самом деле болела, Танька так и уснула с этой болью.
Проснулась она среди ночи от того, что страшно хотелось пить. Не только во рту пересохло, но и в горле, и даже в животе. И голова уже не болела, а гудела, раскалывалась. Танька с трудом добрела до выхода из комнаты, а вниз по лестнице не сошла, а прямо сползла. Не зажигая свет, она открыла на кухне кран и стала жадно пить, ловя ртом струю.
Она не слышала своих шагов, шума воды, вообще никаких звуков не слышала из-за звона в ушах, и ей казалось, что все это она делает тихо. А зря казалось – вспыхнул свет, и Евгения Вениаминовна спросила:
– Таня, что с тобой? Ты заболела?
– Нет… – с трудом выдавила Танька и закашлялась.
Кашлять было больно, потому что щипало щеки. Как-то странно, изнутри щипало. От света и глаза сразу заболели так, будто на них кто пальцами во всю силу надавил.
Евгения Вениаминовна потрогала ее лоб ладонью и сказала:
– Как же нет, когда ты вся горишь! Пойдем, ляжешь, и измерим температуру.
Температура оказалась сорок градусов, и Евгения Вениаминовна позвонила в «неотложку», хоть Танька и просила не звонить, потому что боялась, что ее заберут в милицию. Ее и хотели забрать – не в милицию, а в больницу, но потом сделали укол, чтобы сбить жар, и все-таки разрешили подождать до утра.
Всю ночь она не спала, но и не бодрствовала, а плавала в каком-то жарком мареве. Евгения Вениаминовна каждый час заходила, чтобы напоить ее теплым чаем с лимоном и обтереть водкой, а Левертов вообще сидел в ее комнате все время, хоть ничего и не делал.
Выныривая из жара, Танька видела, что он читает толстую книжку, пришпилив к ней маленькую лампочку на прищепке. Она смотрела на него и думала, что хорошо бы болеть долго-долго, а лучше всю жизнь. Чтобы всегда он вот так сидел у ее кровати с книжкой, сосредоточенно нахмурив брови – не разбирает, что ли, про что там в этой книжке написано? – и лампочка высвечивала только его лицо из сплошной тьмы, и время от времени он поглядывал бы на нее ничего не выражающим взглядом.
Утром пришла участковая врачиха и, увидев Таньку, сразу сказала:
– Да у нее же корь! Видите сыпь? На шее, за ушами. Уже и на живот переходит.
– Где? – Евгения Вениаминовна даже руками всплеснула. – Как же я ночью не заметила?
– Ночью, может, и не было. А сейчас проявилась. Девочка контактировала с больными?
– Да как будто бы нет… – удивленно проговорила Евгения Вениаминовна. И вдруг воскликнула: – А Гербольды! Почему Ваня и Нэла были не в школе, когда ты у них гостила? – спросила она у Таньки.
– Не знаю… – прохрипела та. – Они здоровые были…
– Я сегодня же выясню, – сказала Евгения Вениаминовна.
Эта врачиха тоже предложила отправить Таньку в больницу, но Евгения Вениаминовна сказала, что знает, как ухаживать за больным корью, и ребенку будет лучше дома. Врачиха выписала рецепты и ушла.
И Танька стала болеть. Не было в ее жизни большего счастья! Жар через несколько дней прошел, но вставать Евгения Вениаминовна не разрешала – говорила, можно заработать осложнения. И она лежала в кровати, читала сказки Андерсена – книжка была старая, с такими красивыми картинками, каких Танька нигде не видала, – пила клюквенный морс и крепкий куриный бульон, ела фрикадельки и картофельное пюре, такое нежное, что само проскакивало в живот… Все это было так хорошо, так прекрасно, что Танька в самом деле мечтала, чтобы болезнь не кончилась никогда.
Одно только было жалко: Левертов к ней не заходил. Танька решила, что днем он на работе, а спать, наверное, перебрался из своей комнаты вниз, на диван в гостиную, потому она его не видит и даже не слышит за стеной. Выйти из своей комнаты и посмотреть, так ли это, она не решалась: Евгения Вениаминовна говорила, что надо соблюдать карантин.
Выяснилось, что Танька в самом деле заразилась от Вани и Нэлы. Они только что переболели корью, им даже в школу ходить еще не разрешили, когда она с ними познакомилась. Евгения Вениаминовна возмущалась такой безответственностью брата с сестрой, а главное, их родителей, но Танька была им очень даже благодарна. Заболела – и лежит себе, и все у нее хорошо, а была б здоровая… Что с ней было бы сейчас, если б не корь, не хотелось даже думать.
Через неделю Евгения Вениаминовна разрешила ей ходить по дому, но на улицу запретила даже выглядывать.
И вот та уехала на работу в институт, где два раза в неделю вела занятия по французскому языку, а Танька сидела в большой комнате на диване и рассматривала содержимое отделанной перламутром китайской шкатулки. Маленькие ножницы с блестящим камушком вместо гвоздика, веер с драконами, серебристая атласная лента, длинные булавки с фигурками ангелов на концах, непонятная блестящая полоска с круглыми дырочками, зеркальце, украшенное бронзовыми цветами… Потом она взяла альбом со старыми фотографиями. На них были родственники Евгении Вениаминовны – дамы в длинных платьях и с необычными прическами, которые Танька тщательно изучила, мужчины в пенсне, девчонки в бантах и пухлые мальчишки, наряженные почему-то в платьица с кружевами…
Она рассматривала их лица, поглядывала то на окно, за которым шел нескончаемый дождь, то на картинку, про которую Евгения Вениаминовна сказала, что на ней изображены Дары волхвов, а Танька постеснялась спросить, кто такие волхвы и кому они что подарили… И тут открылась дверь и вошел Левертов.
– Привет, – сказал он. – Ну как, выздоровела?
«Нет!» – чуть не заорала Танька.
Очень ей не хотелось выздоравливать, вот просто совсем не хотелось! Но невозможно же было сказать ему об этом, и она сказала:
– А ты где так долго был?
– В командировке, – ответил он.
Дождевые капли поблескивали на его голове, мокрая челка прилипла ко лбу тремя острыми темными стрелами.
– А как же ты ездил? – удивилась Танька. – У тебя ж ребра еще не срослись.
– В машине нетрудно.
«Вот же какой! – подумала она. – Чуть не убили его, а он опять за свое».
Или, может, он уже от другой какой-нибудь работы в командировку ездил?
– Работа та же самая, – ответил Левертов, когда Танька его об этом спросила.
– Другой не нашел? – усмехнулась она.
– Не искал, – точно так же усмехнулся он.
– Платят хорошо?
– Неплохо. Хотя есть места, где получше платят.
– Так чего ж ты тогда? – удивилась Танька.
Она завела этот разговор только для того, чтобы разговор не зашел о другом, для нее опасном. Но теперь ей и правда стало интересно: почему он, такой умный, не найдет себе работу более денежную и на которой, главное, не убивают?
Кажется, Левертов хотел ответить, что она этого не поймет – Танька по лицу прочла такое его намерение, – но, видно, вспомнил, что от нее таким ответом не отделаться, и сказал:
– Того я, что человек не должен уклоняться от своих обязанностей.
– Это какая ж у тебя обязанность? – хмыкнула Танька. – Больно нужны тебе люди, которые сначала соблазнили тебя работой с ними, а потом бросили на произвол судьбы!
Память у нее была цепкая, как репейник, и она в точности повторила слова Евгении Вениаминовны, подслушанные первым утром в этом доме. Левертов, конечно, сразу про это догадался и расхохотался так, что Танька даже рот открыла.
Она впервые видела, как он смеется. Его лицо переменилось совсем. Другой человек был перед ней. Глаза сияли так, будто в них свечки зажглись, и даже цвет их поменялся – из карих они стали золотыми. Высокий лоб светился, как у волхва на картине, а губы очертились линией такой красоты, что впору было зажмуриться.
Но Танька не зажмурилась. Она смотрела на него, и смотрела, и даже моргнуть не могла, не то что взгляд отвести.
– То ли чудо ты, то ли чучело! – Левертов наконец перестал хохотать, но свечки в глазах не погасли. Их свет падал прямо на Таньку. – Сложные вещи понимаешь мгновенно, а в простых разобраться не можешь. – И, увидев, что Танька насупилась, добавил: – И нечего обижаться – на обиженных воду возят. Обязанность у меня такая, чтобы делать максимум того, что я могу. И у каждого такая обязанность. Не перед кем-то, кто соблазнит и бросит, – снова улыбнулся он, – а лично перед собой. Я хотел, чтобы страна переменилась. Я понимал, почему это необходимо, и понимал альтернативу.
– Альтернатива – это что? – спросила Танька.
– Это другая возможность. Либо мы должны были выйти к нормальному развитию, либо грохнуться так, что всему миру мало не показалось бы. Одно являлось альтернативой другому. Я мог способствовать норме и должен был это делать в полную меру сил. Иначе перестал бы себя уважать. И от того, что у меня сломаны ребра, ничего в этом смысле не изменилось.
Этого Танька уже не поняла. Особенно про ребра – как же ничего не изменилось, когда они сломаны? Но расспрашивать не стала. Ей вдруг показалось, что он думает не про альтернативу, и не про ребра, и вообще не про то, о чем говорит… А про что же?
Он смотрел на нее так, будто что-то прикидывал и взвешивал на весах, которые были у него внутри, в голове или в сердце. У Таньки мороз пробежал по спине. Ей показалось, что судьба ее не просто решается им сейчас, а уже решена.
– Ты… что?.. – пробормотала она.
– Ничего. – Он тряхнул головой. Дождевые капли высохли на его волосах, огоньки в глазах погасли. – Есть хочешь?
– Не-а, – помотала головой Танька. – Меня твоя мама обедом накормила уже.
– А я голодный как волк, – сказал он. – Или кто там в ваших болховских лесах водится?
– Не знаю, – буркнула Танька. – Больно мне надо по лесам ходить.
«Еще б сказочку рассказал, – сердито подумала она. – Про Машу и медведя».
Снова говорит с ней как с маленькой. Но зато вот он, здесь! Только сейчас Танька поняла, как сильно о нем соскучилась.
– Все равно пойдем, – сказал Левертов. – Составишь мне компанию.
Пошли в кухню, он налил себе фасолевого супу, сваренного Евгенией Вениаминовной с утра и еще теплого, Танька сказала, что надо бы разогреть, но он ответил, что и так съест, и правда съел в одну минуту, видно, и впрямь проголодался в командировке, а второе, винегрет и котлеты, ел уже медленно, а Танька тем временем грызла испеченные вчера Евгенией Вениаминовной коржики, таская их один за другим из вазочки, которая казалась плетеной, а на самом деле, Евгения Вениаминовна сказала, сделана из фарфора, и на дне у нее с обратной стороны нарисованы тоненькие синие мечи, по которым этот фарфор сразу узнаешь.
И вот они сидели за кухонным столом и разговаривали про то, что за поселок художников посреди Москвы такой и почему он называется Сокол.
Про Сокол Танька спросила просто так, лишь бы спросить. Ей, конечно, интересно это было, но, главное, хотелось посидеть с ним за столом подольше, а рассказывает пусть про что хочет.
– Художники у нас тоже есть, но не так уж их много, – сказал Левертов. – Запивай, не грызи всухомятку.
Он налил в хрустальный стакан морс из хрустального же графина, который стоял на столе, и придвинул стакан к Таньке.
– А почему тогда все улицы так называются? – спросила она. – Саврасова, Левитана, Сурикова ваша. Это ж художники, правильно? Я думала, они тут жили.
Морс ей за время болезни надоел до чертиков, потому что Евгения Вениаминовна заставляла пить его по два литра в день, говорила, в нем живительная сила. Но из его рук Танька не то что морс – серную кислоту бы выпила.
– Они здесь не жили, – сказал Левертов. – Поселок в двадцать третьем году начали строить, они к тому времени умерли давно. На свое счастье.
– Почему на счастье?
– Потому что их уже не могли ни расстрелять, ни в лагере сгноить. А строился этот город-сад главным образом для красной номенклатуры и профессуры.
– Город или сад? – не поняла Танька.
– Город-сад. Была такая общемировая концепция в двадцатые годы. Считалось, что мегаполисы должны быть окружены кольцами маленьких городов-садов. Здесь решили ее осуществить. И очень квалифицированно осуществляли, надо сказать. Тогда же вообще феерическое время было – расцвет авангарда. И вдобавок нэп, частная собственность возвращалась. То есть не возвращалась, как вскоре выяснилось, но имитация была очень правдоподобная. Люди и решили, что раз они заплатили за эти дома – по шестьсот золотых червонцев, между прочим, огромные деньги, – то и строить их могут по своему усмотрению. Лучшие архитекторы Сокол проектировали – Щусев, братья Веснины, Марковников. Все до мелочей продумывали, чтобы получилось необычное пространство. У нас даже деревья на каждой улице разные.
А и правда! Танька зажмурилась и, как в кино на экране, увидела улицы Сокола. Разные на них деревья, точно.
– Я думала, сами такие выросли, – сказала она.
– Сами только сорняки растут, – усмехнулся Левертов. – А здесь был замысел. На Поленова сажали тополя альба и мелколистные липы, на Шишкина ясени, на Брюллова сахарные клены, на Сурикова у нас – липы крупнолистные.
– А зачем такое? – не поняла Танька.
– Чтобы у каждой улицы был свой облик. А на разных деревьях листья по-разному поворачиваются ветром, и облик от этого меняется.
Вот как в такое поверить? Чтоб специально раздумывали, как листья на деревьях будут на ветру поворачиваться! Но не станет же Левертов врать. Ох и Москва эта, ох и Москва…
– Думали, разумеется, не только о листьях, – заметив ее удивление, сказал он. – Здесь разные типы домов – на манер сибирских казачьих крепостей, и английских коттеджей, и немецких особняков.
Все это – и его слова, и просто то, как он говорил, – было похоже на сказку. Только никакую сказку Танька не слушала бы с таким вниманием. Если бы кто-нибудь ей когда-нибудь сказку рассказывал.
– Ты наелась? – спросил он вдруг.
– Ой!..
Танька заглянула в вазочку. На дне лежал одинокий обломок коржика.
– Тогда пойдем, – сказал Левертов. – Я спать буду. Да и тебе отдохнуть не грех. Не выздоровела еще, вон, испарина на лбу.
Танька машинально вытерла лоб, в самом деле мокрый, и только теперь почувствовала, что устала. Как он говорит, так всегда и есть.
Левертов ушел в свою комнату, Танька в свою, рядом. Лежа на кровати, она прижалась ухом к стенке и слушала, как он дышит. Может, она и не слышала ничего, и даже скорее всего так, но ей казалось, что она слышит его дыхание, и с этой мыслью она уснула – крепко, до самого утра.
Глава 15
Назавтра было воскресенье, Евгения Вениаминовна готовила завтрак позже, чем обычно, и, проходя утром мимо кухни, Танька пыталась угадать, что это шкворчит на плите, яичница с помидорами, может? Сначала она не понимала, зачем помидоры на яичницу тратить, а потом ей такая еда очень даже понравилась.
Умывалась она долго и из-за шума воды не слышала звуков извне, а когда вышла из ванной, то услышала – и внутри у нее точно мина взорвалась, и в глазах потемнело…
– Я вам этого не спущу! – Материн голос звенел такой злобой, что сам черт напугался бы. – Вы мне за нее ответите!
– Надежда Федоровна, объясните, пожалуйста, за что мы, по-вашему, должны отвечать.
В голосе Левертова страха не слышалось. Танька перевела дух.
– Он мне еще предъявлять будет! – взвизгнула мать. – Нет, вы гляньте на него, а? Заманили девчонку и еще предъявляют!
– Надежда Федоровна, мы же с вами договорились.
– Не договаривалась я с тобой!
– Мы договорились, – повторил он, – что вы подпишете разрешение на то, чтобы Таня жила у нас.
– Не договаривалась я!
У него упорство было холодное, как лед, а у матери жгучее, как крапива, но это было неважно. Как только Танька услышала ее голос, то и увидела ее сразу, яснее, чем наяву, всю, с острым ее носиком и бесцветными волосами, стянутыми в хвост, и сразу же поняла, чем кончится.
Ноги у нее подкосились, она села на пол под дверью кухни.
– Вы же пообещали, что не будете препятствовать, – вступила в разговор Евгения Вениаминовна. – Ну подумайте сами, Надежда Федоровна…
– Ничего я никому не обещала! А вас вообще в глаза не видела! – отбрила мать. – Подумала уже. Нечего Таньке!.. Моя она! Понятно вам? Кровь моя!
– При чем тут кровь?
Танька будто увидела, как Левертов поморщился.
– При том! Я ее что, для того растила, ночей не спала, чтоб она вам тут прислуживала? А мне чтоб на старости воды подать некому было?!
– Она никому здесь не прислуживает. – В голосе Евгении Вениаминовны не слышалось даже обиды, только изумление. Не видала она таких, конечно. – А подаст она или не подаст вам воду в старости, зависит только от вас.
Дверь открылась и закрылась снова. Левертов вышел из кухни в коридор и присел на корточки рядом с Танькой.
– Зачем ты к ней ездил?
Она выговорила это с трудом, хоть горло у нее уже не болело. И закрыла глаза, чтобы его не видеть.
– Нельзя было ей не сказать.
Не было смысла жмуриться. Все равно она видела его каким-то другим способом, не глазами.
– Можно!
Танька замотала головой, и слезы брызнули из ее глаз веером.
– Нельзя, – повторил он. – Я же юрист, знаю.
– А хоть адрес ей не давать – тоже нельзя было?
Танька хотела проговорить это со злостью, но вышло с тоской. Хорошо еще, что вообще проговорила, а не провыла, как собака над покойником.
– Она твердо пообещала, что приедет в Москву, как только получит дубликат твоего свидетельства о рождении, и мы с ней подпишем…
– Пообещала!.. – с той же воющей тоской перебила Танька. – Да она слова такого не знает! Сегодня пообещала – завтра передумала. И не понимает даже, что тут такого.
Она хотела рассказать, как мать в январе пообещала, что если Танька будет с ней вместе мыть подъезды, то она даст денег на поездку в Петербург, а в мае сказала, что деньги на еду нужны и нечего зря туда-сюда мотаться, и ни рубля не дала, хоть у Таньки все руки распухли от чертовой мокрой тряпки, и разве б она стала ради какой-то паршивой еды так надрываться? Правда, поездка в Петербург все равно не состоялась: наверное, многим из класса сказали то же самое. Танька хотела рассказать это, но не смогла – уткнулась лицом в колени и затряслась, как в лихорадке.
Левертов положил руку ей на плечо.
– Таня… – сказал он.
Голос его дрогнул. Дверь распахнулась.
– Так и знала! – воскликнула мать. – Вон она для чего тебе нужна! На мясцо молодое потянуло?!
– Что вы говорите, боже мой!
Евгения Вениаминовна тоже стояла в дверях, у матери за спиной. Левертов поднялся. Все они смотрели на Таньку, будто оцепенели.
Но мать не оцепенела, конечно. Она подскочила к Таньке и, схватив ее за руку, рывком подняла на ноги.
– Одевайся, – сквозь зубы проговорила она. – Босоножки надевай, куртка твоя вот. – Она сунула Таньке куртку, которую держала в руках. – Ну, кому говорю?!
Если б у Таньки был сейчас в руках нож, она ударила бы не задумываясь. От ясности того, как она это поняла, у нее даже губы свело.
– Прекратите немедленно! – В горле у Левертова клокотала ярость. – Дайте ей хотя бы собраться.
– Нечего ей тут собирать!
– Ребенок болен! – У Евгении Вениаминовны голос дрожал. – Хотя бы это примите во внимание.
– Неизвестно еще, чем вы ее тут заразили! – Мать потащила Таньку по коридору в прихожую. – Я ее, как домой привезу, сразу в кожвендиспансер отведу провериться, даже не надейтесь, что вам с рук сойдет!
«Ничего он против этого не сделает. Ни-че-го».
Танька проговорила это только про себя. Вслух она ничего сказать не могла, губы так и не отпустило.
Она молча надела ярко-голубые осенние туфли – Евгения Вениаминовна купила их вместо разорванных босоножек, – вышла из дома, спустилась с крыльца. Мать вышла следом. Левертов стоял в дверях. Его взгляд прожигал Таньке спину, но она не обернулась. Чего оборачиваться? Всем только хуже будет.
Спустившись с крыльца, мать обернулась и сказала, рубя каждое слово:
– А если только попробуешь к ней приехать, посажу тебя, понял? Я не я буду – посажу. За растление малолетних.
– Вы зря пытаетесь мне угрожать, – сказал Левертов.
По его ледяному голосу Танька поняла, что он не боится. И что про нож он думает сейчас точно так, как сама она думала пять минут назад. Но что толку? Тут ни бесстрашие, ни нож не помогут.
– Тайком к ней явишься? Только попробуй – убью, – сказала мать. – Не тебя – ее. Понял?
Евгения Вениаминовна ахнула. Мать взяла Таньку за руку и вывела за калитку.
– Но почему? – Решетов оторопел так, что у него дрожали руки. – Не понимаю!
Ложка, которую он крутил в руке, наконец выпала из его пальцев и со звоном ударилась о край тарелки с солянкой.
– Вы ищете в этом логику, Сева? – усмехнулась Таня. – Не стоит.
– Но должна же быть хоть какая-то причина! – Он потер ладонями щеки. – Чтобы действовать настолько во вред собственному ребенку… Чтобы даже… убить его быть готовой!
– А говорили, много житейских историй знаете. – Таня смогла даже улыбнуться, хоть и кривовато. – Это же самая обычная житейская история.
Все-таки правда, что становится легче, если выговоришься перед незнакомым человеком. Решетов, конечно, не совсем уж случайный попутчик в купе поезда, но что-то вроде.
– Я бы не назвал ее обычной, – покачал головой он.
– Мать все, что не она, ненавидела, – сказала Таня. – А Левертов был мало что не она – полная ее противоположность, и это с одного взгляда было понятно. Так что его она ненавидела лютой ненавистью. Долгоиграющей. Не думаю, что она готова была меня убить, но каждый день напоминала: если он сюда явится или ты к нему сбежишь, посажу его по такой статье, что на волю через пятнадцать лет калекой выйдет, и Ельцин ему не поможет.
– Ну, положим, она преувеличивала свои возможности…
– Мне тринадцать лет было, – пожала плечами Таня. – И я же знала, на что она способна, когда ей вожжа под хвост попадет. Да я в школу шла – оглядывалась: боялась, что он приехал, сейчас ко мне подойдет, и она его в самом деле в тюрьму посадит.
– А он…
– Он не приехал.
Решетов ошеломленно молчал.
– Он ей деньги для меня присылал, – сказала Таня. – Но она мне не отдавала, конечно. Даже не говорила про них. Много после сказала: он мне нанес моральный ущерб, что дочь мою похитил, вот и должен был со мной расплачиваться. Это уже когда всякие «Суд идет» по телевизору стали показывать и она насмотрелась.
Таня видела, что Решетов еще о чем-то хочет ее спросить, и даже понимала, о чем, но ей больше не хотелось вспоминать все это перед ним. В конце концов, он не психотерапевт. Да она и не пошла бы к психотерапевту.
– До свидания, Сева, – сказала Таня, вставая. – Извините, суп ваш остыл. Попросите, они подогреют.
– Вы уходите?
Он тоже вскочил из-за стола.
– Мне через пятнадцать минут надо быть у клиентки. А еще домой за чемоданом зайти.
– Вы уезжаете? – растерянно спросил он.
– Пока нет, – улыбнулась Таня. – Это рабочий чемодан. С инструментами и расходным материалом.
Уже на улице до нее дошло, что она не заплатила за свой несъеденный обед. Бедный Решетов, мало того что пришлось ему выслушать историю в духе «Планеты животных», так еще и за чужой суп платить придется.
Но возвращаться было бы совсем уж глупо. Поскальзываясь на ледяных пятнах, Таня побежала к своему подъезду.
Глава 16
Париж был сейчас совсем не ко времени, конечно. Но на мастер-классы в школе Сен-Луиз Таня записалась еще три месяца назад, тогда же и деньги за учебу перевела. И деньги терять не хотелось, и, главное, ведь неизвестно, когда теперь вообще получится куда-либо поехать.
Подтверждать свой международный сертификат следовало раз в три года, и как раз сейчас пришло время это сделать. Таня ездила на мастер-классы часто, то в Париж, то в Лондон, в школу «Тони энд Гай», это было нужно, чтобы понимать, какой стиль входит в моду, и уметь в новом стиле работать. Но раньше-то она могла ехать куда угодно и на сколько угодно, а теперь-то пацана одного не оставишь.
Занятия для приемых родителей Таня закончила, справки все собрала. И две недели, в течение которых будут готовы документы на опеку, следовало использовать с толком, потому что непонятно, как потом пойдет ее жизнь.
К школе приемных родителей она вообще-то относилась не то чтобы совсем скептически, но примерно так, как относилась к любому обучению непонятно чему – личностному развитию, жизненному счастью или плодотворному общению. Таня была уверена, что учить можно только вещам конкретным – как делать прически или печь пироги, например, – обучением же счастью соблазняются лишь неадекватные люди. А проводить время в обществе таких людей было ей ни к чему.
Но занятия для приемных родителей оказались очень даже неотвлеченными и отчасти понравились ей этим, отчасти этим же испугали.
Она знала, что уживется с одиннадцатилетним мальчишкой, даже сомнений на этот счет не испытывала. Детство ее прошло не в Институте благородных девиц, детства своего она не забыла, чем мальчишки, в том числе и самые отвязные, в этом возрасте занимаются, отлично помнила тоже, и это ее не пугало. Но свою будущую жизнь с Вениным сыном она понимала как-то в целом и отвлеченно. Подробности же, которые были, оказывается, схожими у самых разных людей и о которых Таня даже не думала, – привели ее в некоторую оторопь.
Преподавательница сказала, например, что через год вполне благополучной жизни с приемным ребенком может возникнуть чувство, будто у тебя дома постоянно находится пусть даже и неплохой, но посторонний человек и что ты больше не можешь этого выдержать. Таня примерила это на себя и поняла, что это правда, вполне может с ней такое произойти. И что тогда делать? Что делать, как держаться при этом с ребенком, преподавательница объяснила тоже, но все-таки Тане стало сильно не по себе.
Она с детства твердо знала, что сомнениями такого рода не следует делиться с посторонними, тем более если они облечены властью и могут из-за этих твоих сомнений что-нибудь тебе запретить – в нынешнем ее случае не отдать под опеку ребенка. Поэтому ни преподавательнице, ни кому-либо другому ничего не сказала. Но легкие звоночки растерянности, а за время занятий она слышала их у себя внутри не раз, все же звучали, и из-за этого будущее не представлялось ей безоблачным.
В общем, до того как забрать Вениного сына из детдома, следовало завершить текущие дела, чтобы потом на них не отвлекаться, это было для нее очевидно. Поездка на мастер-класс в Париж была из числа таких дел.
За месяц с лишком она виделась с Аликом несколько раз в детдоме. Еще два раза он заходил в ее квартиру на Петушках. Включался домофон, и через минуту он стоял на пороге, и любопытство перекрывало в его взгляде все другие чувства.
Разговаривать с ним было легко. Библиотекарша не зря поминала его любимые книжки: он в самом деле читал с охотой, это чувствовалось по развитости его вообажения. Сведения, которыми оно питалось, были обрывисты и случайны, это чувствовалось тоже.
В нем вообще легко соединялось то, что должно было бы соединяться трудно: свобода соприкосновения с жизнью – и настороженность, едва ли не враждебность по отношению ко всему, что было ему в жизни непонятно, догадливость в сложном – и беспомощность в самом простом… Таня видела это в нем так, будто смотрела в открытую книгу. А вернее, в зеркало, которое отражало бы не нынешнюю ее, а такую, какой она была когда-то.
Когда он приходил в последний раз, Таня гладила белье и смотрела новую серию своего любимого «Карточного домика». Она хотела выключить телевизор, но Алик заинтересовался, что за фильм такой, и они досмотрели вместе. Она удивилась, как легко он разобрался что к чему не только в сюжете фильма, который увидел впервые и с середины, но и в обстоятельствах американской жизни, которой не видел никогда и о которой не мог иметь ни малейшего представления. Удивилась, но тут же вспомнила, что и она ведь разобралась в «Карточном домике» таким же самостоятельным образом.
А когда Таня в тот день спросила Алика о самом простом – что ему привезти из Парижа, – он пожал плечами и сказал:
– Не знаю. Что захотите. Что сможете.
Ни в его тоне, ни в выражении глаз не было вежливого стремления изобразить равнодушие, но было соединение жгучего любопытства с растерянностью и едва ли не с испугом. И Таня догадалась, почему так: он понятия не имеет, что можно привезти из Парижа, и предполагает, что привезти можно все, и хотел бы получить все, и понимает, что это невозможно, и не очень все-таки верит, что невозможно, и не умеет сделать выбор…
Как он относится к ней, Таня не понимала, но об этом его как раз таки не спрашивала. Без неприязни, и достаточно. Она видела, что интерес к ней у него большой, но не обольщалась по этому поводу, потому что его интерес к кофеварке с разноцветными капсулами, которая стояла у нее в кухне, был не меньший, а то и больший. Просто его жизнь была так скудна на впечатления, что любой шаг в другую жизнь, даже маленький и ненадолго, был для него огромным событием; это она понимала и до того, как услышала на занятиях для приемных родителей.
За полчаса до такси, которое должно было отвезти ее в Шереметьево, Таня вспомнила, что не купила пилюли от вирусов. Везде писали, что единственное воздействие этих пилюль – эффект плацебо, но ей они помогали очевидным образом, только принимать надо было сразу несколько и в ту же минуту, как начинало свербить в носу или в горле.
Таня не поддавалась чьему-либо внушению ни в чем и ни при каких обстоятельствах. Когда присоединили Крым и по телевизору с утра до ночи стали твердить, как это прекрасно, и все ее знакомые стали этим восхищаться, хотя никогда в Крыму не бывали, и не собирались, и вообще не помнили о его существовании, – она только дивилась, как это у людей мозги из головы выдуло и они перестали черное от белого отличать. Поэтому, зная о своей невнушаемости, она сделала вывод, что пилюли от вирусов ей действительно помогают, и держала их в сумке, даже если просто уходила на весь день из дому. И уж тем более надо было взять их с собой в Париж, там такие и не продаются, наверное.
В супермаркете был аптечный киоск, и Таня решила купить лекарство там, чтобы не платить втридорога в аэропорту. Правда, сто раз потом пожалела: перед ней в очереди стояли подряд две старушки из тех, которые кого угодно могут довести до белого каления. Особенно последняя – три раза просила провизоршу поменять ей таблетки на микстуру и обратно.
Таня опаздывала, нервничала, водила глазами по сторонам, чтобы отвлечься… И вдруг взгляд ее замер, и сама она замерла тоже.
У кассы стояли трое мальчишек. Один из них был Алик, в руках у него была бутылка колы. Таня хотела окликнуть его, но не успела. Подойдя к стойке рядом с транспортером, он едва заметным движением смахнул себе в карман два пакетика с конфетами и встал рядом с транспортером так, чтобы кассирше не было видно пацана, стоящего следом за ним. Пацан этот ловко проделал то же самое, только не конфеты смахнул себе в карман, а орешки в пакетиках. Третий из этой компании разжился шоколадным яйцом. Охранник в это время как раз отвернулся, а кассирша, азиатская девочка, так сосредоточенно смотрела на клавиши кассы, что ничего другого не замечала вообще.
По отработанности всех движений Таня поняла, что воруют они не в первый и даже не во второй раз.
Стоя в ожидании у кассы, Алик обвел все вокруг скучающим взглядом – и увидел Таню. Они смотрели друг другу в глаза несколько секунд. Потом он с тем же скучающим видом перевел взгляд на рекламный плакат на стене. Что Таня все видела, он понял, в этом можно было не сомневаться, хотя он ни на секунду не смутился, не засуетился и тем более не попытался положить украденные конфеты обратно на стойку.
– Девушка, ну хоть вы побыстрее заказывайте, не задерживайте людей!
Провизорша, избавившись наконец от бестолковой старушки, смотрела с укоризной. Таня отвернулась от Алика, назвала лекарство, протянула карточку для оплаты.
Когда она взглянула на очередь у кассы снова, мальчишек там уже не было.
По дороге до подъезда, и дома, застегивая чемодан, и потом в такси, и даже в самолете Таня думала о случившемся.
Она была недовольна собой. Что не надо было поднимать шум, привлекать к этой краже внимание, она не сомневалась. Следствием скандала с большой вероятностью стало бы то, что ей не отдали бы Вениного сына, этого она допустить не могла, а потому считала, что в магазине повела себя правильно. Но вот как ей вести себя в дальнейшем, когда он повторит это снова? В том, что повторит, она была уверена. И что ей с этим делать?
Когда Таньке было семь лет, они с подружками пришли в продуктовый, и она украла банку консервов. Морская капуста это была, на всю жизнь запомнилось. Может, тоже конфеты украла бы, да они были развесные и лежали в коробках за прилавком. А консервы стояли на открытой витрине, и, когда продавщица отвернулась, чтобы насыпать конфеты большим совком в бумажный кулек, Танька схватила банку морской капусты и сунула в карман платья. Не учла только, что платье-то ситцевое – карман сразу отвис, и банка просвечивалась среди набивных цветочков.
Танька и девчонки двинулись уже к выходу, когда другая продавщица заорала из-за колбасного прилавка:
– Вы чего творите, а?! Держите их! Вон ту, белесую! Ах ты воровка малая!
Колбасный прилавок был пуст, хоть шаром покати, продавщице делать было нечего, вот она и глазела по сторонам.
Девчонки сквозанули на улицу, а Таньку схватила за руку покупательница. Банка была прилюдно извлечена из ее кармана, продавщица отвесила ей подзатыльник, а еще одна покупательница сказала:
– Это Надьки Алифановой дочка. Отведу к матери, пускай задницу надерет, чтоб знала.
Мать отлупила тогда Таньку не просто ремнем, как обычно, а его латунной пряжкой. Никакие слезы не помогли, никакие крики, что есть сильно хотелось. Неделю не могла сидеть, даже в первый класс первого сентября не пошла из-за этого.
С тех пор Танька нитки чужой не взяла. Может, так всю жизнь и считала бы, что красть нельзя потому, что поймают и побьют, но две недели в доме Левертовых переменили ее совершенно. Вернувшись из Москвы в Болхов, Танька сказала матери, что утопится в Нугри, если та ее хоть пальцем когда-нибудь попробует тронуть.
Но то все было в другой ее жизни. В нынешней же своей жизни Таня понимала, что не станет бить Вениного сына, укради он хоть все конфеты в магазине. А вот что станет в этом случае делать, она не знала.
Ей представились грядущие разговоры-уговоры в полиции, в опеке, в комиссии по делам несовершеннолетних, или как это теперь называется… Мысли об этом вызывали безнадежное уныние.
«Хватит! – наконец сказала она себе. – Когда понадобится, тогда и буду думать».
Эти слова приободрили ее, а значит, являлись правильными.
Когда самолет приземлился в аэропорту Шарль де Голль, она уже выбросила из головы пустопорожние размышления. Как и всегда в Париже.
Глава 17
Гостиница находилась на маленькой улочке, отходящей от бульвара Монмартр; Таня любила в ней останавливаться. Когда она называла кому-нибудь адрес, то приходилось уточнять: не холм Монмартр, а бульвар, не перепутайте.
Дидье, правда, не путал, но он был парижанин-парижанин.
С Дидье договорились встретиться вечером как раз на бульваре, чтобы поужинать в ресторане, сквозь витрину которого Таня еще в прошлый раз, но только перед самым своим отъездом, углядела устриц.
Познакомились они год назад, и тоже в ресторане неподалеку. Выглядывая из окна своей гостиницы, Таня каждый раз видела длиннющую очередь, которая выстраивалась в обеденные часы, и ей стало любопытно, что уж такого необыкновенного за вывеской «Шартье», чтобы в очереди стоять, будто в столовую заводскую. Потому она тоже в эту очередь пристроилась.
А войдя наконец в этот «Шартье» – посетителей впускали туда по мере того, как освобождались места, – оторопела: ресторан этот в самом деле напоминал столовую. Конечно, в заводской столовой не могло быть таких столетних интерьеров с простым темным деревом и тусклым золотящимся металлом в стиле белль эпок, но длинные столы, за каждым из которых люди сидели вереницами и почти плечом к плечу, но несмолкающий гул, стоящий под высокими потолками в огромном зале, – ничего подобного Тане в Париже прежде не встречалось.
Она уже хотела повернуться и уйти, так и не поняв, что хорошего находят в этой вокзальной атмосфере те, кто встает в очередь, когда мужчина, которого впустили вслед за ней, сказал метрдотелю, молодому человеку, которому мало подходило такое торжественное наименование:
– Нет-нет, мы лучше займем вон те места, в центре. – И спросил, доброжелательно глядя на Таню: – Вы не против?
Тут Таня впервые и увидела его улыбку. Она кивнула и улыбнулась в ответ.
Когда уселись друг напротив друга за длинный стол, он сразу же сказал, что его зовут Дидье, и спросил Танино имя. Ему очень понравилось, что она русская, выяснилось, что у его мамы русские корни, прабабушка приехала во Францию после русской революции, о нет, она была не графиня, а швея, но все-таки не захотела оставаться с большевиками, и, знаете, ее профессия пришлась в Париже очень кстати, она без труда нашла работу, в отличие от многих графинь, а вскоре вышла замуж за порядочного человека, зеленщика…
Все это Дидье рассказал в те две минуты, когда они ждали официанта. В нем было столько обаяния, что по истечении этих минут Таня уже чувствовала себя с ним непринужденно и попросила помочь ей в выборе блюд.
– Я не знаю, что здесь вкусное, – объяснила она.
– Всё. – Он улыбнулся снова. – Вы видите, почти нет туристов, зато многие парижане приходят сюда попросту пообедать. Это всегда значит, что ресторан имеет прекрасную кухню.
Что ходят сюда парижане, притом именно попросту пообедать, было очевидно. Таня сидела в самом начале стола возле длинной, через весь зал тянущейся стойки, на нижнюю полку которой можно было поставить сумочку, а на верхнюю положить шляпу или зонтик, Дидье сидел напротив, а рядом с собой, скосив взгляд, она увидела мужчину, всем видом похожего на пожилого рабочего. Он выбирал блюда с привычным удовольствием и расспрашивал официанта в фартуке до пола о таких подобностях их приготовления, которых Таня даже не поняла, хотя французский знала неплохо.
– Вы хорошо говорите по-французски, – сказал Дидье, когда официант принял у них заказ и исчез.
– Французских корней у меня нет, – улыбнулась Таня.
– Это понятно, у вас такой милый славянский акцент. А где вы учились?
– В Москве, в колледже дизайна, – сказала она. – Я училась на международном отделении, без французского было нельзя.
Дидье сказал, что работает в консалтинговой компании, предложил выпить вина, ну да, ему надо будет вернуться в бюро, но только один бокал… Выпили вина, закусили эскарго, которые Таня во время своих парижских поездок полюбила, за сыром договорились встретиться завтра вечером и сходить вместе в театр… Назавтра пошли в «Комеди Франсез», Дидье сказал, что это его любимый театр, Тане тоже понравилось… В конце следующей встречи – погода была прекрасная, и гуляли в саду Тюильри – Дидье предложил зайти в отель, мимо которого проходили. Таня сто раз слышала, что французы скупые, и ей понравилось, что он не предложил пойти в тот отель, где она остановилась, то есть ею уже оплаченный. Может, умиляться этому было так же глупо, как верить в скупость французов или соблюдать правило третьего свидания, но так уж вышло, что и отель, в котором они сначала выпили кофе, а потом Дидье снял номер, оказался полон парижского очарования, и правило это не подвело.
Секс в их третье свидание получился таким же легким и приятным, как его улыбка. Может быть, связь между ними случайна, но развеяла одиночество; так Таня в тот вечер подумала.
Но вот выходит, что не совсем уж случайна эта связь, наверное. За год Таня приезжала в Париж трижды, и каждый раз они проводили время вместе, и еще один раз Дидье приезжал в Москву. Он оказался в Москве впервые, пришел от нее в восторг, сказал, что она так же хороша, как Таня, а на ее возражение, что она-то ведь не москвичка, ответил, что, значит, она связана с Москвой каким-то другим образом, не по рождению. Правильно догадался, конечно.
И все это связало их, и узелок этот кое-что значил для Тани, да и для него, как она понимала, тоже.
В отличие от московского, март в Париже был в этом году таким теплым, что Таня обрадовалась, увидев Дидье за столиком на тротуаре. Она и сама хотела предложить ему посидеть на улице. Ей вообще нравилось разглядывать прохожих, а в Париже это доставляло особое удовольствие, потому что умение каждого придавать своему облику неотразимые черты будило ее любопытство.
Таня всегда гадала, как им удается добиваться такого эффекта, не педалируя ни одной детали своей одежды. За счет каких неуловимостей? Пожалуй, с прическами она в этом смысле разобралась, но вот про одежду сказать того же не могла. Она не находила ответа на этот вопрос, даже когда умом понимала, что дело вот в этом шейном платке из японского шелка, лишь самый краешек которого виден над воротником темного кашемирового пальто, вот в этих черных полусапожках с малиновыми отворотами, вон в той узкой оливковой сумочке. И понимала также, что ни любой из этих предметов, ни все они вместе не сделали бы ее облик парижским.
Правда, она об этом и не переживала. Наверное, в ней тоже что-то есть, раз Дидье так улыбается, увидев ее. До того как он ее заметил, Таня успела полюбоваться, как он пьет вино и вскидывает бровь, читая что-то в айпаде, который держит чуть на отлете. В его лице не было ничего расплывчатого, невнятного – все черты словно пером прорисованы, и улыбка всегда спрятана в уголках губ.
– Чуть не опоздала! – сказала Таня после того как они поцеловались, здороваясь. – Самолет задержался. Ты замерз?
– Нет. – Он кивнул на газовую горелку, дышащую жаром. – Я не пошел внутрь, потому что знаю, ты никогда не мерзнешь и любишь сидеть на улице в марте. И еще я знаю, что ты хотела устрицы, поэтому уже их заказал. Я прав?
– Да! – Таня засмеялась. – Если бы ты знал, как я рада.
– Чему?
– Что ты помнишь, где я люблю сидеть и что я хотела поесть.
Ощущение легкости, которое охватило ее в первую же встречу с ним, неизменно возникало при каждой следующей встрече. И обмен улыбками, и разговор о пустяках, и ужин за столиком среди прохожих, – все это наполняло ее легкостью с каждой минутой. Будто газовая горелка, гудящая рядом, подогревала в ней воздух, как в воздушном шаре.
– Где на этот раз ты учишься? – спросил Дидье.
– Здесь близко, возле «Галери Лафайетт».
– А остановилась…
– Да, на Фобур-Монмартр.
– И мы можем…
– Конечно.
Таня видела, что он хочет пойти в отель поскорее, и ее это не уязвляло. Она и сама соскучилась по нему, просто изголодалась, честнее было бы сказать. Блестящая полоска от вина, тающая на его верхней губе, приводила ее в такое состояние, как будто Дидье уже сидел перед ней голый в кресле, под золотистым светом торшера… Через какие-нибудь полчаса так и будет!
– Тогда пойдем? – сказал он.
Таня кивнула.
Дидье расплатился за ужин, и, свернув за угол, они пошли по улочке Фобур-Монмартр к отелю.
Он был единственным любовником, с которым Тане было хорошо. Она не имела опыта длительной близости ни с кем и понимала, почему. Отношения с мужчинами не ограничиваются ведь близостью физической – к сожалению, не ограничиваются, часто думала она. А неизбежная повседневность, которая физическую близость окружает, обычно очень скоро предоставляла Тане слишком много свидетельств того, что продолжать отношения не нужно.
Может, дело было как раз в том, что с Дидье у нее никакой повседневности не было. А может, в том, что он был так деликатен с нею физически, как не бывал ни один ее мужчина. Вспомнить какое-нибудь его движение, прикосновение, которое было бы ей тягостно или вызвало бы неловкость, – нет, не могла она такого вспомнить.
И когда они закрыли за собой дверь номера, когда Дидье обнял Таню, снял с нее пальто и стал раздевать, то от легких касаний его рук она вздрагивала так, будто все уже произошло, будто это и была самая высокая точка удовольствия. А ведь все еще только предстояло!.. Стоило ей об этом подумать, как у нее вырвалось какое-то радостное бессвязное восклицание. И тут же Дидье поцеловал ее, быстро разделся сам, и они оказались на кровати.
Он был постарше, чем она, и точно опытнее. Таня не была уверена, что умеет доставлять ему удовольствие – ей казалось, он получает его просто от того, что она отдается ему, что этого ему достаточно. А он вот именно доставлял ей удовольствие, поигрывал на ее теле, как на понятном ему струнном инструменте, и его прикосновения давали ей именно те ощущения, которых он добивался, и даже звуки из нее извлекали, кажется, именно те, которые он хотел слышать.
Дидье провел ладонями по всему ее телу сверху донизу – и она ахнула, едва ли не вскрикнула, и раскинулась перед ним.
– Ты просто изголодалась, милая.
Он сказал то, что сама она подумала, увидев его, но от того, что сказал по-французски, грубоватая прямота понимания превратилась в тонкость догадки. И все его гладкое, ровное тело, сверху прижавшееся к ее спине, было таким же тонким в ее ощущении, как его слова.
Таня выгнулась под ним, вздрогнула, забилась.
– Подожди, подожди, – шепнул он, касаясь ее уха сухими теплыми губами. – Я хотел бы, чтобы мы достигли этого одновременно.
Но сдержать свое удовольствие, отдалить она не могла, да это ей было и не нужно по очень простой причине.
– Не волнуйся, я повторю все с тобой вместе еще раз, – сказала она задыхаясь, но уже и отдыхая. – Еще не раз.
Он негромко засмеялся.
– Что ты? – спросила Таня.
– Ты находишь очень смешные слова, когда хочешь мне объяснить свои ощущения во время секса.
– Потому что слова французские. Русских и не нашла бы, может. Или вышло бы грубо.
– Ты готова продолжать? – спросил он.
– Конечно.
Таня не обманывала – Дидье действительно возбуждал ее снова и снова. Непонятно, то ли он такой неотразимый, то ли все дело в ее чувственности, то ли не в чувственности, а действительно в голоде по мужчине. Но не все ли равно! К тому моменту, когда Дидье наконец перекатился на спину, быстро и коротко дыша, и замер, отдыхая, все ее тело было уже насыщено им. Схожее ощущение она испытывала разве что в детстве, когда удавалось выпить полную бутылку грушевого лимонада, и он булькал не только в животе, но даже в горле, и пузырьки газа стреляли из горла в нос, так она была переполнена этим редким сладким удовольствием.
Не открывая глаз, Дидье положил руку Тане на живот и, проведя вниз, перебрал пальцами, лаская. Он всегда так делал, и эта ласка постфактум, уже без физической необходимости, нравилась ей особенно. Она была приметлива и не пропускала таких вещей.
«Как жалко, что теперь не скоро увидимся, – подумала Таня. – Или, может, он снова в Москву приедет? Надо сказать ему про Алика. Интересно, как отнесется? Хотя какая ему разница. Потом скажу. Еще две недели впереди, придется к слову когда-нибудь».
Сейчас о будущем ей хотелось знать только необходимое.
– Можешь переночевать у меня, – сказала Таня. – Зубную щетку я видела в ванной.
– К сожалению, не получится, – ответил Дидье.
В его голосе действительно промелькнуло сожаление. Когда строят обычную грамматическую конструкцию, такого не бывает. Таня насторожилась.
– Что-то случилось? – спросила она.
– Да. Я должен был сразу тебе сказать. Но мне показалось…
«…что ты не прочь со мной переспать, и почему же нет в таком случае?»
Продолжение фразы Таня услышала так ясно, будто Дидье произнес его вслух.
Веня говорил: «Если бы у тебя получше была базовая подготовка, могла бы учиться не на парикмахера, а на психолога. Ты видишь людей сразу и насквозь». Наверное, он был прав. Он всегда был прав.
– У тебя появилась женщина? – спросила Таня.
– Да. – Дидье повернулся на бок. В его глазах мелькнуло теперь не сожаление, а удивление. – Как ты поняла?
– Это трудно объяснить, – пожала плечами она. – Да и зачем?
Точно так же незачем было ждать объяснений от него. Кто эта женщина, давно ли появилась, серьезно ли у них… Знать это ей не важнее, чем ему знать, что у нее скоро появится Алик. Им незачем скрывать друг от друга то и другое, но и знать это то и другое друг о друге незачем тоже.
Когда Таня поняла это, ей стало не по себе.
Это были самые значимые любовные отношения за пятнадцать лет ее жизни. И вдруг оказывается, ничего значимого в них нет, да и любовного… Что она чувствует сейчас? Немного уязвлено самолюбие, но уязвленность эта такого рода, что легко снимается разумом.
– Мы еще не живем с ней вместе, – сказал Дидье.
– Ты оправдываешься перед ней? – усмехнулась Таня. – Но ее здесь нет, а я ей не расскажу.
– Ты очень нравишься мне, Таня, – сказал он. – Мне все нравится в тебе – твой меткий ум, твое лицо, твое тело. Если бы наши отношения могли иметь перспективу…
«А почему они не могли иметь перспективу, собственно?» – чуть не спросила она.
Но не спросила, конечно. Раз он так считает, то расспрашивать о причинах просто глупо. Ей нетрудно переместить свою жизнь в Париж, и профессия позволяет, и все это он скорее всего понимает, а если не понимает, то мог бы и уточнить у нее. Если бы хотел уточнять. Значит, не хочет. Видит, значит, препятствия посущественнее, чем государственные границы.
«Ну и дура же я! – подумала Таня. – Какое перемещение, какие границы? Алик же!»
Все-таки она еще не привыкла его учитывать. Дура, точно.
– Перспективы нет, ты прав, – сказала она. – Я усыновляю ребенка и не смогу пользоваться своим временем так свободно, как раньше.
– О! – воскликнул он. – Усыновляешь? Значит, ты хотела иметь ребенка?
Теперь в его голосе промелькнуло облегчение. Конечно, от того, что она то ли не захотела, то ли не успела реализовать это желание с его помощью. Таня засмеялась.
– Никогда не хотела, – сказала она. – Да и сейчас не уверена, что хочу. – И, увидев, как недоуменно вскинулись его брови, объяснила: – Я в детстве знала, что ребенок – обуза. Это въедается.
– Но тогда почему…
– Так сложились обстоятельства.
– Это мальчик? Сколько ему лет? Расскажи мне о нем!
Ему в самом деле было это интересно. Поэтому, пока он одевался, Таня рассказала об Алике все, что считала нужным. Кроме того, что это Венин сын. Об этом рассказывать было бы слишком долго и совершенно ни к чему.
Она тоже оделась и, стоя у торшера – Дидье не выключал свет во время секса; наверное, ему в самом деле нравилось ее лицо и тело, – смотрела, как он проводит по волосам растопыренными пальцами и волосы от этого ложатся так красиво и непринужденно, как не всякий стилист добьется. Он был весь парижский, ей было жаль, что его больше не будет.
Но Париж-то оставался. Глядя в окно, как Дидье выходит из дверей отеля и идет по Фобур-Монмартр – не к Большим Бульварам, а в противоположную сторону, к театру «Фоли-Бержер», – Таня видела уже не его, а только Париж, по которому идут люди, такие прекрасные в своем разнообразии, и Дидье в распахнутом пальто и в шарфе посочного цвета идет среди них, и свет падает из высоких окон с узенькими французскими балконами… Тут же она вспомнила, что из гвоздика в ее ножницах выпал страз, хорошо, что не потерялся, надо вставить, жалко ведь, ножницы отличные, ее любимые, в Лондоне купила, когда ездила на мастер-класс «Тони энд Гай», очень дорогие…
Она не понимала, что происходит – с ее жизнью, у нее в душе. Понимала только, что все это начало происходить с ней не сегодня, не полчаса назад, когда Дидье сказал, что они расстанутся, а она не нашла в себе отчаяния в ответ на его слова. Все это случилось с ней давно, а значит, это неизбывно.
Глава 18
Как только Таня вошла в поселок Сокол, ей показалось, что она попала в другой мир. Она не понимала, почему так, но минут через пять все-таки догадалась: здесь же воздух не такой, как на вокзале или у выхода из метро. Просто для нее-то привычно, когда сиренью пахнет, потому и не сразу сообразила, в чем отличие.
Она шла мимо этой разноцветной сирени, которая выплескивалась из-за штакетниковых заборов, и чувствовала такую растерянность, такую робость, что ноги у нее подкашивались.
Может, зря идет? Может, их здесь и нет уже. Или есть, но идет она все-таки зря, потому что…
Мысли путались у нее в голове.
В беседке на Звездочке сидела большая компания. Кто-то играл на гитаре и пел, другие смеялись. Может, песня смешная, а может, просто весело им. Таня постаралась пройти мимо поскорее. Хотя чего бояться? Кто ее здесь узнает, кто окликнет? Она и сама себя не узнала бы.
Когда свернула на улицу Сурикова, вокруг стало совсем тихо и безлюдно. Только запах сирени, наоборот, сделался крепче. У Тани даже голова от него закружилась. Нет, не от него, конечно.
Она подошла к калитке, подняла руку к звонку – и не смогла позвонить. Рука упала, она подняла ее снова, но смогла только схватиться за забор. Сирень нависала над нею огромными гроздями, белыми, бордовыми, светло-фиолетовыми. Таня вдохнула побольше воздуха и толкнула калитку.
Позвонила она уже в дверь дома. Позвонила, подождала, прислушиваясь. Внутри тихо. Или это она не слышит, потому что сердце колотится в груди, как в бочке? Она хотела уже позвонить еще раз, но тут дверь открылась. Открылась, распахнулась, Таня ахнула, будто не ожидала этого, но как же не ожидала, для того ведь и звонила, чтобы ей открыли, и все-таки ахнула и замерла, не в силах ни пошевелиться, ни взгляд отвести…
– Таня… – сказал Левертов. – Таня!
И обнял ее так, что сердце у нее занялось, перестало биться, остановилось совсем. Она замерла в его объятии, прижалась лбом к его плечу и разревелась так, как не плакала никогда в жизни. Как уж точно не плакала в детстве, когда поднялась на это крыльцо впервые.
– Таня, Таня!.. – Он обнимал ее теперь уже только одной рукой, а второй стряхивал слезы с ее щек, гладил ее по голове и утирал ей нос; по тому, что он делал и то, и другое, и третье, она поняла, что плачет уже долго. – Тише, Танечка, не плачь!
Она подняла глаза. Она могла бы смотреть на него вечно – на этот речной изгиб его смеющихся губ, на огоньки в глазах, на ясный высокий лоб.
– Пойдем.
Веня взял с крыльца ее сумку и, обнимая Таню за плечи, повел в дом.
– Туфли не надо снимать, – сказал он, забирая у нее куртку и заметив, что она дергает ногой за ногу, перед тем как войти из прихожей в комнату.
– Грязно же на улице.
– Ничего.
Таня перестала дрыгать ногами и прошла в комнату в туфлях.
Ничего здесь не изменилось за пять лет. Ни-че-го! Она зажмурилась от счастья. И, чтобы Веня не заметил глупой улыбки на ее лице, спросила:
– А где Евгения Вениаминовна?
– У соседей, – ответил он. – У Гербольдов, помнишь?
Таня кивнула. Как бы она могла забыть? Все помнила.
– У них свадьба сегодня, – сказал Веня.
– Чья?
Ей было все равно, чья свадьба. Но если не спросить об этом, если не говорить с ним о чем-нибудь самом обыкновенном, то что тогда делать? Только в голос кричать: я тебя вижу своими глазами, ты на меня смотришь и улыбаешься, господи, какое счастье!
– Иван женится, – ответил он. – Через два часа праздновать начнут. Пойдешь?
– Так меня не звали же…
– Нас звали. И тебя, значит, тоже.
От этих его слов Таня заплакала бы опять, да стыдно уже было реветь. Поэтому она только кивнула и огляделась.
– Иди умывайся, – сказал Веня. – Полотенце в белом комоде. Сумку я в твою комнату отнесу.
Она кивнула снова и не стала сдерживать улыбку. Все равно он не увидел бы, потому что уже поднимался по лестнице с ее сумкой в руке.
Пока она умывалась, пока вытиралась большим белым полотенцем, которое, ну конечно, лежало в том же самом комоде, стоящем в ванной на том же самом месте, что и пять лет назад, пока причесывалась перед зеркалом, глядя себе в глаза, прозрачные как лед и лихорадочно блестящие, на свое белое от волнения лицо с алыми пятнами на щеках, тоже знаками волнения, – Веня вернулся вниз и ожидал ее в большой комнате.
– Обеда вот только нет, – сказал он, когда Таня вышла из ванной. – Исключительное явление. Мама с утра помогает к свадьбе готовиться. Вообще, половина соколян, по-моему, бродят сегодня голодные, ожидая свадебного пира у Гербольдов.
– Я есть совсем не хочу, – сказала Таня.
– Речь не про «совсем». Супа нет, вот про что. Бутерброды только. Худая ты какая-то, – сказал он, вглядываясь в ее лицо. – Скулы, как у китаянки, стали.
Это Таня и сама знала. Как только она закончила школу, мать сказала, что кормить здоровую кобылу больше не собирается, пускай сама себя кормит, раз шибко много об себе понимает, и запретила брать из холодильника продукты. Хлеб, правда, разрешила, но Таня и его брать не стала. Устроиться на работу она не смогла, и без нее желающих хватало, тем более несовершеннолетняя, поэтому перебивалась случайными приработками – что-нибудь помыть, лед с крылечек сколоть, кому-нибудь гряды посадить. Но в Болхове не многие стремились заплатить за то, что можно сделать самому, заработки у нее были малые и редкие, да и гряды только весной начались. Не удивительно, что за год, прошедший после окончания школы, у нее заострились скулы. Выбор-то невелик был: или похудеть, или расползтись на хлебе и макаронах. Таня предпочла первое, поэтому бывали дни этой зимой, когда она ела даже и мясо, а бывали – когда только воду пила.
Пришли в кухню, и Веня сказал:
– Бери там сама что найдешь. В холодильнике, – уточнил он, видя, что она топчется на пороге. – Таня! Забыла, где холодильник, что ли?
Она встряхнулась торопливо, как собака, подошла к холодильнику, открыла дверцу. Еды было столько, что глаза разбегались. Таня вспомнила, как пять лет назад, оказываясь в этой кухне, сразу начинала есть, будто не в себя, не в силах насытиться. И сейчас она почувствовала то же – что может есть и есть, потому что не просто проголодалась с дороги, а изголодалась, измучилась, не может больше жить без всего этого… Она прислонилась лбом к холодильнику и постояла несколько секунд, зажмурившись. Невозможно, чтобы он видел ее дурой, рыдающей при взгляде на еду. Хотя он, конечно, понял бы, что не в еде дело.
– Сядь, – сказал Веня. – Сядь за стол. И дай мне масленку, не то на ногу уронишь.
Он забрал тяжелую глиняную масленку из дрожащих Таниных рук. Она послушно села за стол, а он стал доставать из холодильника и ставить перед нею сыр в фарфоровой сырнице, колбасу на длинной тарелке, красную икру в стеклянной вазочке с крышкой, черную в такой же, помидоры, редиску с зелеными веселыми хвостиками… Потом он резал хлеб на круглой деревянной доске, а Таня как завороженная смотрела на его руки, на тонкие его пальцы.
– Почему ты не женился? – спросила она.
Вопрос был наглый, Таня сама не поняла, как он у нее вырвался. Но Веня не удивился. Может, только наглых вопросов от такой, как она, и ожидал.
– Откуда ты знаешь, что не женился? – усмехнулся он.
– Здесь женщины нету, – покачала головой Таня. – Ну, только Евгения Вениаминовна.
Он пожал плечами:
– А зачем?
– Женщина зачем? – усмехнулась уже Таня.
– Жениться зачем. Только не говори: чтобы хозяйство вела. Этот вопрос решается без женитьбы. Как и твое ехидное замечание про нужду в женщине – это дело тоже женитьбы не требует.
Тане стало так стыдно, что даже нос зачесался.
– Ну-ну. – Веня бросил быстрый взгляд в ее сторону. – Опять реветь собралась?
– Не-е… – пробормотала она.
– Не женился потому, что без любви жениться непорядочно и просто глупо. И давай на этой пафосной ноте закроем тему.
Таня поспешно кивнула.
Она поглощала один бутерброд за другим, Веня едва успевал их для нее делать. Пролепетала было «не надо, я сама», но он не обратил на ее лепет никакого внимания, и она махнула рукой, и ела, и ела, как дворняга, которой вдруг досталась целая прорва еды, а Веня отрезал хвостики от редисок, потому что, наверное, думал, что иначе она съест их вместе с хвостиками, и правильно думал, кстати.
Когда Таня наконец без сил откинулась на спинку стула и вытерла выступившие под глазами капельки пота, он поинтересовался:
– Сыта?
И расхохотался.
– Извини… – пробормотала Таня.
Ей хотелось смотреть и смотреть на его смеющееся лицо. Но было стыдно смотреть не отрываясь.
– За что же? Ты мало изменилась за пять лет. Повзрослела, покрасивее стала, но, по сути, не изменилась вообще. И это хорошо.
Что он считает ее сутью, собачий аппетит, что ли, Таня уточнить не успела.
– Мать знает, где ты? – спросил Веня.
– Мне восемнадцать лет, – ответила она. – Вчера исполнилось.
Он молчал. Таня молчала тоже. Что он скажет сейчас? Спросит, надолго ли приехала? Или – зачем вообще приехала? Или – кто ей сказал, что ее здесь ждут?
Она не смогла бы ответить ни на один из этих вопросов. Но он ни одного из них и не задал.
– К Гербольдам идем через два часа, – сказал Веня. – Может, поспишь с дороги?
Таня кивнула. Спать ей совсем не хотелось, но если бы он предложил ей простоять эти два часа на голове, она тоже не стала бы возражать.
– А подарок? – все-таки спросила она. – У меня же…
– У нас есть. Присоединишься.
Уже поднявшись на второй этаж, Таня присела на корточки и потихоньку глянула между балясинами лестницы вниз. Веня этого не заметил – он смотрел перед собою, и по тому, как сведены были его брови, Тане показалось, он думает, что с ней делать. И что надумает? Ох, лучше не загадывать!
Она вспомнила, как он сказал: «Сумку я в твою комнату отнесу», – и все у нее внутри сжалось. Вот она, ее спортивная сумка, стоит на коврике в той самой комнате. Таня села рядом на пол и обхватила себя руками за плечи, чтобы унять дрожь.
«Если скажет, чтобы уезжала, утоплюсь, – подумала она. – Даже и не скажу никому, пойду и в речку брошусь. С моста можно, где танки стояли. Он и знать не будет».
Эта мысль ее успокоила, и она прилегла на кровать не раздеваясь, только сбросив туфли. Может, и уснула бы даже, если б не прислушивалась к каждому звуку внизу.
Некоторое время там было тихо, потом хлопнула входная дверь, раздался голос Евгении Вениаминовны. Таня вскочила, подкралась к двери. Но, наверное, Веня догадался, что она будет подслушивать, и, наверное, этого не хотел. Они с Евгенией Вениаминовной ушли в кухню, и ничего ей поэтому не было слышно, а выходить из комнаты она побоялась.
Через пять минут послышались шаги на лестнице.
«Постарела она, – подумала Таня, отпрянув от двери. – Еле поднимается».
Раздался негромкий стук в дверь. Таня не знала, что на него ответить. Входите? А кто она такая, чтоб разрешить или не разрешить войти хозяйке? Поэтому она просто открыла дверь.
– Таня, милая, здравствуй, – сказала Евгения Вениаминовна. – Как я рада твоему приезду!
– Правда?
Таня сама не поняла, как с ее разъехавшихся в улыбке губ сорвался этот глупый вопрос. Будто бы Евгения Вениаминовна когда-нибудь говорила ей неправду! По счастью, та на ее вопрос не обиделась, а может, и вовсе пропустила его мимо ушей.
– Ну конечно! Я часто думала о тебе. Мне было очень горько.
– Обо мне думать горько?
– Горько было, что мы ничего не можем сделать, чтобы изменить твое ужасное положение. Горько, что это было положение вещей, неизбывность. И ни написать тебе было невозможно, ни позвонить… Я собиралась поехать.
– Куда?! – Таня ушам своим не поверила. – В Болхов, что ли?
Она представила, как Евгения Вениаминовна садится в поезд, потом в автобус, потом, обходя колдобины, идет по болховским улицам… Могла бы и ногу сломать… Да нет, Веня ее, конечно, на машине отправил бы… Да и не отпустил бы одну… Танины мысли метались, она потрясенно смотрела на Евгению Вениаминовну.
– Ну конечно, – кивнула та. – Я полагала, что Вене ехать нельзя, это могло бы плохо кончиться для всех. Твоя мама… Понятно, что она на все способна. Я забыть не могу, как… – Она вздрогнула и поспешно проговорила: – Не будем больше об этом. Я знала, когда тебе исполняется восемнадцать, и приехала бы в ближайшее время, поверь.
Таня даже поежилась, так невыносимо было слышать, как Евгения Вениаминовна оправдывается перед ней. За пять лет та в самом деле резко постарела, из дамы превратилась именно в старушку. Нет, одета-то была с прежней аккуратностью, но сгорбилась, и лицо стало будто мятая бумага для выпечки. Вспомнила, как Евгения Вениаминовна выкладывала на ту бумагу тесто для пирога с франжипаном…
– Я думала, вы-то не рассердитесь, если я приеду, – сказала Таня.
– А кто рассердится? Веня?
– Ну…
– Веня тоже рад, уверяю тебя, – улыбнулась Евгения Вениаминовна. – Он сказал, ты пойдешь с нами вместе на свадьбу к Гербольдам?
– Ага, – кивнула Таня. – Только я же не знала… У меня джинсы только.
Джинсы, в которых она приехала в Москву, были лучшей Таниной одеждой. Настоящие ливайсы. Купила она их, правда, в секонд-хенде, где одежду продавали на вес; одноклассница, которая туда продавщицей устроилась, выискала и припрятала их для нее. Но кто узнает, уже поношенными она их купила или просто износила сама? В общем, их можно было бы не стыдиться. Но ведь в джинсах на свадьбу не ходят, а все остальное… Таня вспомнила дом Гербольдов – картины на стенах, вьетнамские фигурки… Австрийские фрукты! Нет, невозможно явиться туда в стираной китайской майке.
– Ты можешь идти в чем хочешь.
Евгения Вениаминовна улыбнулась снова. Тане показалось, она любуется ею. Хотя чем любоваться-то? И правда, худющая, будто кошка облезлая. И скулы, Веня сказал, китайские стали, как майка. Не на что глянуть, в общем.
– Ресторан не заказывали, молодые приедут из загса прямо домой, – сказала Евгения Вениаминовна. – И все будет непринужденно. Конечно, столы вдоль всей улицы выставлять, как здесь бывало, не станут, но и церемоний никаких не будет.
– Это когда ж здесь столы так выставляли? – заинтересовалась Таня.
В Болхове свадьба на всю улицу была обычным делом, но здесь она не могла себе такого представить.
– До войны. Да и после тоже. Когда подселение началось. – Заметив Танин непонимающий взгляд, Евгения Вениаминовна объяснила: – Дома наши во время нэпа строились и считались частным владением. Ну а потом, когда нэп свернули, стало считаться, что ничего частного в советской стране быть не должно. И сюда начали людей подселять.
– И к вам тоже? – поразилась Таня. – Чужих людей? Вот сюда, вот в этот дом?!
Она даже головой повертела, прикидывая, как это могло быть. Таня всю жизнь прожила в бараке, где люди были набиты в комнаты, как селедки в жестяные банки, но представить в доме Левертовых даже одного-единственного постороннего человека не могла. Вот эта большая комната внизу – ее пришлым отдали, что ли? Или Венин кабинет? Нет, невозможно!
– Да, в этот дом, – кивнула Евгения Вениаминовна. – Но меня здесь тогда еще не было. Еще Венин папа был ребенком. Ему это подселение жизнь спасло, кстати.
– Как это?
Вот же умеют они рассказывать, что Веня, что мама его! Тане стало так интересно, что она даже про страх свой о том, что с ней дальше будет, позабыла, хотя все время только про это и думала.
– Расскажу, – сказала Евгения Вениаминовна. – Только давай пойдем ко мне в комнату.
– Зачем? – насторожилась Таня.
– Ты всего пугаешься. – Та покачала головой. – Как ты провела эти пять лет?.. Страшно представить. Мы пойдем ко мне, чтобы ты посмотрела – может быть, выберешь себе что-нибудь. Мой гардероб не всегда был старческим, да и ретро нынче в моде. Теперь это «винтаж» называется, ведь так?
Таня понятия не имела, что такое винтаж, но надела бы даже ватник, если б Евгения Вениаминовна сказала, что это нужно.
Евгения Вениаминовна жила на первом этаже, в отдаленной части дома. В ее комнате пахло сиренью, потому что на столе стоял большой расписной кувшин с разноцветными ветками.
– На ночь приходится на веранду выносить, – сказала она про сиреневый букет. – Любимые мои цветы, но спать при них невозможно, голова болит.
Она открыла шкаф из светлого узорчатого дерева и сказала:
– Посмотри, Таня. Может, что-нибудь понравится.
В шкафу стоял тот же запах, что и в комоде, из которого Таня взяла полотенце. У нее даже в носу защипало, но не от запаха, едва ощутимого, цветочного, а от того, что она чувствует его снова. В комоде лежали подушечки, набитые травой, Евгения Вениаминовна когда-то объяснила, что они называются «саше». И в этом шкафу, наверное, тоже они разложены, оттого и запах.
Таня обвела взглядом вешалки с платьями, юбками, блузками. Старомодные, конечно, что и говорить. И цвета чересчур уж интеллигентные, еле-еле друг от друга отличаются.
– Тебе действительно пойдет ретро, – наверное, заметив, что она колеблется, сказала Евгения Вениаминовна. – У тебя внешность очень современная и такая, знешь… В идеальном смысле простонародная. Если ее оттенить, например, вот этим платьем, то сочетание получится необычное.
С этими словами она сняла с вешалки светло-синее платье без рукавов, из какого-то необыкновенного материала. Он был плотный, но очень легкий и тускло поблескивал в солнечных лучах, падающих из окна. По всему платью были вышиты маленькие, не больше ногтя, разноцветные розы.
А ведь правда!.. Таня приложила платье к себе, глянула в зеркало на внутренней стороне дверцы.
– Это тафта, – сказала Евгения Вениаминовна. – Старинная прекрасная ткань. И цветы вручную вышиты. С твоей прической просто замечательно выглядит. Эклектично, непринужденно.
Знала б она, сколько Таня перед отъездом помучилась, добиваясь, чтобы ее подстригли так, как она хотела. Чтобы казалось, будто ее прямые светлые волосы сами собой образовали такой резкий ломаный рисунок. Она сама придумала такую прическу, в Болхове в парикмахерской никто не понимал, чего она хочет, пришлось в Орел ехать.
– Ну как, наденешь это? – спросила Евгения Вениаминовна.
– Ага, – кивнула Таня.
– Поверх надо болеро. – Она протянула Тане крошечную узкую кофточку. – И по-моему, у тебя мой размер обуви. Да, точно. Тогда и туфли посмотри.
Она стала одну за другой доставать и открывать коробки, стоящие в шкафу под вешалками. Коробок было много, штук семь. У Тани глаза разбежались, когда она увидела лежащие в них туфли. Особенно одни, белые с лаковыми вставками, ей понравились.
– Белые туфли принято носить только до пяти часов дня, – сказала Евгения Вениаминовна. – У Гербольдов, конечно, не королевский прием, но вот эти, синие, к платью подойдут гораздо лучше. А белые завтра наденешь, если захочешь. Я вывешу платье на веранду. Оно из химчистки, не беспокойся. Но пусть хотя бы десять минут на ветерке повисит, запах шкафа выветрится.
Евгения Вениаминовна вышла из комнаты, а Таня взяла одну синюю туфлю, поставила на ладонь. Она была легкая и мягкая, будто не туфля, а перчатка. Таня пригляделась – туфля была расшита мелкими бисеринками.
– Туфелька Золушки. – Вернувшись, Евгения Вениаминовна увидела, как она рассматривает туфлю. – Муж всегда удивлялся моему размеру обуви.
– Я б такую не купила, честно, – сказала Таня.
– Почему?
– Очень уж дорогая. Кожа натуральная, и бисер еще…
Евгения Вениаминовна улыбнулась.
– Мама моя любила хорошую обувь, – сказала она. – Говорила: если на деньги, отложенные на черный день, купить дорогие туфли, то черный день не наступит никогда. И мне передалось.
– А почему Вениного отца жильцы спасли? – напомнила Таня.
Она и сама не понимала, отчего спросила об этом, от любопытства или от неловкости.
– Их сюда подселили в тридцать седьмом году, – ответила Евгения Вениаминовна, складывая туфли обратно в коробки. – А родителей его арестовали в тридцать восьмом. Тогда же и расстреляли, но это много позднее выяснилось. В тот год стольких соколян забрали, что просто страшно. Тогда ведь аресты вообще повальные были, хватали ради плана всех, кто хоть чем-нибудь выделился из общей массы, а в поселке неординарных людей было много. Каждую ночь воронки здесь шныряли. Ну и его родителей взяли тоже. Они были старые политкаторжане, Сталина знали еще не великим вождем, а обычным бандитом. Естественно, ему не требовались свидетели его восхитительной юности. Алику было девять лет, конечно, должны были забрать в детдом. Но соседи упросили с ними его оставить. Хотя с Аликовыми родителями отношения у них сложились далеко не радужные. Соседи были люди простые, бесхитростные и бесцеремонные, а Алика мать, он запомнил, была прямолинейная, безапелляционная, идейная, к тому же еврейка – в общем, весь набор малоприятных качеств, ведущих к полной несовместимости с кем бы то ни было.
– Их сколько было? – деловито поинтересовалась Таня. – Этих, подселенных?
Она уже надела туфли и чуть не мурлыкала от того, как вошли в них ноги.
– Пять человек. Фамилия их была Драгомановы. Мать с отцом, бабушка и двое детей. Потом еще один мальчик родился, Венин ровесник. Приехали они в Москву из деревни, устроились на завод, и их вселили сюда в те две комнаты, что на втором этаже, а кухня и ванная общие стали.
– Тесновато, – заметила Таня.
– Им, думаю, казалось, что простор бескрайний. Ты не представляешь, в какой тесноте москвичи тогда жили!
Что такое теснота, Таня как раз очень даже представляла. У них с матерью комната была как пенал, еще и в бараке, с общим коридором и кухней да с выгребной ямой на улице. Но обо всем этом она Евгении Вениаминовне говорить не стала. Ей вдруг показалось, что та знает о жизни гораздо больше, чем она, и об этой стороне жизни тоже. Хоть вроде бы не должна была Венина мама знать о бараках и выгребных ямах больше, чем Таня, но вот почему-то казалось, что знает.
– А куда они потом девались, Драгомановы эти? – спросила она.
Ей снова надо было спросить хоть что-нибудь, чтобы избыть неловкость.
– Я их здесь еще застала, когда за Вениного отца вышла замуж. Ну а когда родился Веня, то мой муж добился для них отдельной квартиры. Алик был хороший адвокат, и клиентов благодарных у него было много.
– А Веня так до сих пор в мэрии и работает? – спросила Таня.
Стоило ей услышать его имя, как все остальное ее интересовать переставало.
– Теперь в администрации президента, – ответила Евгения Вениаминовна. – Чему я совершенно не рада.
– Почему?
– Потому что от власти надо держаться подальше. И полагать, что это твоя страна и ты в ней что-то значишь, – опрометчиво.
Что такое опрометчиво, Таня не знала, но смысл этого слова поняла. Что б ты про себя ни думал, а в любую минуту тебя кто посильнее возьмет да прихлопнет, и пискнуть не успеешь. Таня вот, например, об себе, как мать говорила, понимала всегда шибко много, но значит она что-то в своей стране или не значит… Этого она не только не понимала, даже не задумывалась на такие темы.
«А Веня-то как раз кое-что значит, раз задумывается», – поняла она.
Для нее он значил все, потому понять это ей было нетрудно.
– Будем одеваться, Танечка, – сказала Евгения Вениаминовна. – Не то опоздаем молодых встречать.
Глава 19
Еще пять лет назад, придя к Гербольдам, Таня поняла: их дом насколько похож на дом Левертовых, настолько же от него и отличается.
У Левертовых царила размеренность, и невозможно было представить, чтобы кухонное полотенце оказалось на полке с пододеяльниками. А у Гербольдов все было вверх дном, и все предметы были необыкновенные, и все они оказывались в самых неожиданных, совсем для них неподходящих местах.
А общим было то, что в обоих домах жизнь шла таким порядком, который человека делает человеком, а не бессмысленной скотиной.
Так, хоть и очень смутно, Таня подумала пять лет назад, так это осталось и теперь, не изменившись ни в чем.
Когда она с Веней и Евгенией Вениаминовной пришла к соседям, дом уже был полон гостей. Они толпились в комнатах или слонялись по саду. И как столько народу поместилось? Таня насчитала семьдесят человек, а считала она хоть и машинально, только чтобы избавиться от смущения, но точно.
И от смущения же вскрикнула, когда кто-то налетел на нее, обнял, закружил и завопил:
– Та-аня!.. Ты совсем не переменилась, ни капельки! Какая ты стала… – Нэла отпустила ее, отступила на шаг и, оценивающе оглядев, объявила: – Стильная невероятно. Для Москвы даже слишком. Здесь такой женский тип еще не понимают.
– Не обращайте внимания. – К ним подошла, улыбаясь, высокая темноволосая женщина, такая красивая, что Таня даже рот открыла. – Нэлка любит ошеломлять.
Она поправила расшитую серебряной нитью шаль у себя на плечах, и кольца звякнули при этом на ее пальцах. Присмотревшись, Таня заметила, что кольца широкие, серебряные, черненые, и на каждом по два крошечных бубенчика, они-то и звенят. Кольцо на левой руке соединялось двумя серебряными цепочками с широким браслетом, и от этого казалось, что палец запряжен в руку, как лошадь в карету.
– Это мама, зовут Нина, это Таня, – сказала Нэла. – Которую мы корью заразили, помнишь? Мама и сама ошеломлять любит, – объяснила она Тане. – Но сейчас из-за свадьбы волнуется, и ей ни до чего.
– Я совершенно не волнуюсь. – Красавица мама пожала плечами. – С чего ты взяла?
Но по тому, как дрогнули ноздри ее тонкого, с горбинкой носа, как взлетели и опустились длинные ресницы, Таня поняла, что волнуется она как раз таки очень. Почему, интересно? Плохую жену сын берет?
– Волнуешься, волнуешься! – засмеялась Нэла. И, снова обернувшись к Тане, сказала, будто расслышав ее вопрос: – Потому что в двадцать лет жениться рано. Я тоже была против, чтобы Ванька женился, но он всегда знает свое и никого не послушался, конечно.
– Что же они так долго? – Мама Нина повела плечами, будто ей было зябко. – Ведь решили без официоза.
– Если без Мендельсона и поцелуйчиков, то быстрее расписывают, – объяснила Тане Нэла. И, повернувшись к матери, сказала: – Да не переживай, ма, скоро приедут.
– Дело не в моих переживаниях, а в том, что холодец на столах тает. Тетя Женя его так виртуозно приготовила, грех нам будет испортить.
Когда Нэла повернула голову, в ее ухе сверкнул знакомый огонек. Только на этот раз не алый, а лиловый.
– Ой! – Таня расплылась в блаженной улыбке. – Австрийские фрукты…
И сама она не понимала, и вряд ли ей кто-нибудь объяснил бы, почему от этого огонька испарилось ее смущение и показалось даже, что мгновенно, как по взмаху волшебной палочки, переменилась ее жизнь.
– Ты помнишь? – Нэла тоже улыбнулась. – И я помню, как ты мне в одну секунду прическу такую сделала, что и сейчас никто повторить не может.
– Ничего особенного я не сделала, – пожала плечами Таня. – Если хочешь…
Но тут с улицы донеслись голоса, смех, дверь распахнулась, и на пороге появились молодые. Их было много, они с шумом и смехом входили в дом, и непонятно даже было, кто из них жених с невестой. Ни белого платья в пол, ни фаты Таня ни на ком из девушек не видела.
– Явились наконец! – воскликнула Нэла. – Мы уж думали, вы в метель попали. Как у Пушкина.
– Какая же сейчас метель? Ведь не зима.
«Ага, вот невеста», – поняла Таня.
Хоть и платье розовое до колен всего, и фаты нету, но прическа – уж тут не ошибешься. На чужую свадьбу такую не делают: три яруса, локоны все разные, крупные и мелкие. Как в книжке про Древнюю Грецию. Да еще лилия в волосы вдета, как живая, но на самом деле, Таня пригляделась, из фарфора, и такого тонкого, что лепестки просвечиваются.
– Лилька, нельзя все понимать буквально! – засмеялась Нэла. – Это иносказание.
Она быстро расцеловала эту Лильку, потом брата, и тут же все стали их целовать, обнимать, поздравлять, веселый гул наполнил просторную, в два светлых этажа комнату, выкатился на застекленную веранду, где начинался ряд накрытых столов, а оттуда в сад, где этот ряд продолжался.
Если дома Левертовых и Гербольдов были друг на друга хоть чем-то похожи, то сады ни капельки. У Евгении Вениаминовны чего в нем только не росло, глаза разбегались, одной сирени было кустов десять, и все разных цветов. А у Гербольдов сад зарос разномастной травой, цветы если и были, то, наверное, только те, которые вырастают сами собою. Зато рядом с верандой стояли три старые яблони. Теперь, в конце мая, они были в цвету, и с них при каждом порыве ветра летели бело-розовые лепестки. К Лилиной прическе это очень подходило, будто нарочно было придумано. Но и Ваня Гербольд, когда его пиджак осыпало лепестками, стал выглядеть не таким серьезным, как вначале, когда только приехал из загса с молодой женой.
Вообще-то и он, и Нэла не сильно изменились с того дня, когда Таня играла с ними в путешествие по Европе, а потом смотрела «Однажды в Америке». У Нэлы и теперь черные глаза озорством сверкают, а у Вани глаза серые, поставлены широко и смотрят так же внимательно, как в детстве. Если не знать, то и не скажешь, что двойняшки. Правда, теперь, увидев их родителей, Таня поняла: просто Нэла похожа на мать, а Ваня на отца.
Пили, как на всех свадьбах, за молодых, но то, что им при этом желали, казалось Тане необыкновенным, она такого никогда не слышала. Что значит, если ваша жизнь будет осмысленной, то будет и счастливой? И непонятно, и необыкновенно.
Да и вся эта свадьба под летящими лепестками казалась ей необыкновенной, хотя что уж такого особенного в яблонях, они и в Болхове сейчас вовсю цветут.
Но необыкновенное было, и такое же трепетное, как яблоневые лепестки, и такое же красивое. Только вот Таня не понимала, какое отношение к этому необыкновенному имеет она сама, и потому ей было сильно не по себе. Она молча слушала, как сидящие рядом с ней женщины хвалят фаршированную рыбу, приготовленную Евгенией Вениаминовной, и обсуждают, у кого свекровь клала в такую рыбу сырой лук, а у кого жареный, невпопад кивала, если кто-нибудь ее о чем-нибудь спрашивал, и с тоской думала, что она здесь чужая.
А где она своя? Неизвестно.
– Тань, ну что ты уселась с тетушками? – Нэла подошла сзади и шепнула это ей в ухо так неожиданно, что она вздрогнула. – Пойдем к нам!
С этими словами она схватила Таню за руку и потащила на тот конец стола, где сидели молодые, жених с невестой и их друзья.
А уж там никто про фаршированную рыбу не разговаривал! То есть говорили все равно про что-то, Тане непонятное, но ощущение своей чуждости исчезло у нее сразу же, как только она выпила шампанского, которое налил ей жених, да уже никто и не помнил, кажется, что он жених, и пиджак он свой парадный снял, и молодежь как-то незаметно перебралась из-за стола на две лавочки у забора, прихватив с собой шампанское и коньяк…
Время от времени Таня все равно оглядывалась – искала глазами Веню. Он сидел за столом рядом с Гербольдом-старшим и увлеченно с ним о чем-то беседовал. Но теперь она смотрела на Веню не потому, что пыталась ухватиться за него взглядом, как несчастная жертва кораблекрушения хватается за бревно, оставшееся от разбитого корабля. Она смотрела теперь на него только потому, что он один был ей нужен на всем белом свете, и ни кораблекрушение, ни бревно здесь были ни при чем, и несчастной она себя больше не чувствовала.
Выпили все шампанское и весь коньяк, принесли со стола еще, пели под гитару, Таня хоть и не пела, потому что не знала слов, но слушала и чуть не всплакнула даже – то ли взяла ее за душу песня про то, как солдаты пишут кровью на песке, то ли просто нервы у нее были взбудоражены.
Стемнело, и стеклянная веранда засияла, как большой драгоценный камень. В кронах яблонь и на кустах вспыхнули лампочки, оказывается, ветки были опутаны гирляндами, и сад стал похож на волшебное царство.
Все гости давно уже вышли из-за столов и сидели теперь кто где небольшими компаниями, и разговаривали кому о чем интересно.
Ваня Гербольд объяснял, чему он и его молодая жена учатся в авиационном институте и чем будут заниматься, когда выучатся.
– Конечно, девчонки в МАИ считаные, – говорил он парню в синем свитере и светло-голубых джинсах. – Лилька у нас в группе вообще одна. Но совершенно не потому, что это не женская работа. Ты о чем вообще? Ничего принципиально мужского я в работе инженера не вижу.
– Наша тетя Лиза операционная медсестра, вот у нее не женская работа, – добавила Нэла. – С утра до ночи в больнице и ночью тоже, если дежурит. Николка, кузен, в пять лет яичницу научился жарить, в семь картошку. – Она кивнула на светловолосого парня, тот ничего не сказал, только улыбнулся ясной улыбкой. – А Лилька что особенного будет делать? К девяти пришла на работу, в шесть ушла.
– Еще найдется ли работа, – заметила Лиля. – Распределение-то отменили.
– Найдется, – отмахнулась от нее Нэла. – Хотела за мужем быть, как за каменной стеной? Что хотела, то получила. Ну так расслабься и получай теперь удовольствие.
Таня, если б ей такое сказали, разозлилась бы точно. А Лиля вроде бы даже не заметила, что Нэла ее обижает. Или вправду ничего обидного нет в этих словах, а просто Таня не понимает, как устроена жизнь людей, собравшихся сегодня у Гербольдов в саду? И Венина тоже… Непонятность его жизни она чувствовала особенно остро, и это ее беспокоило.
– Как тебе в Германии? – спросил Нэлу парень в свитере и джинсах.
«Зря я насчет одежды переживала, – подумала Таня, глядя на него. – Тоже могла бы в ливайсах ношеных прийти, никто б не удивился».
Правда, платье из тафты ей ужасно нравилось, а Нэла к тому же сказала, что оно обольстительное, особенно вместе с болеро, и от этого слова у Тани даже в животе защекотало, будто из-за обольстительного платья что-то необыкновенное должно с ней произойти.
– Грандиозно мне в Германии, – ответила Нэла. – Берлин сумасшедший город, скоро будет интереснее Парижа.
– Ну да! – недоверчиво проговорил кто-то; в общем кружении лиц и голосов Таня не поняла, кто именно.
– Да-да, – уверенно заявила Нэла. – Берлин сумасшедше молодой, просто молодой-молодой, жизнь кипит, искусство самое авангардное. Мне там нравится!
Это последнее наверняка было для нее главным доказательством того, что Берлин самый прекрасный город на свете.
– Не знаю, – пожала плечами Лиля. – Я бы не смогла.
– Что не смогла бы? – не поняла Нэла.
– Одна в чужой стране… Тоскливо же.
– Тоска – последнее, что можно почувствовать в Берлине, – пожала плечами Нэла. – И то это будет творческая тоска. А таким, как я, она только на пользу.
Что Нэла делает в Берлине, Таня, конечно, не знала, но словам ее поверила сразу. И что значит «таким, как я», было ей понятно. Да это, ей казалось, каждому будет понятно, стоит только глянуть на сверкающие Нэлины глаза и на то, как разлетаются пряди ее волос, когда она смеется или встряхивает головой, будто норовистая лошадка.
– Я бы в Германию тоже поехал поучиться, – сказал Ваня. – Не искусствоведению, конечно.
– Почему «конечно»? – возмутилась Нэла. – Считаешь, я учусь второстепенному?
– Ты учишься первостепенному. – Ваня сказал это так спокойно, что сразу было понятно: говорит что думает, и как он думает, так и есть. – Для тебя. А для меня первостепенной была бы стажировка в немецком авиапроме. Он в основном в Гамбурге сосредоточен. И сейчас у него как раз подъем существенный. Интересно было бы разобраться, почему.
– Вот и ехал бы в Гамбург на стажировку, – заметила Нэла.
По нескрываемому недовольству в ее голосе Таня поняла, что всей семье не нравится Ванина женитьба.
Но о том, правильно это или нет, она подумать не успела: боковым зрением, постоянно настроенным на Веню, увидела, что он спускается с веранды и идет, озираясь, по саду. Не ее ли ищет? У Тани сердце екнуло. За весь вечер ни разу к ней не подошел, не спросил, как она себя чувствует среди незнакомых людей, среди совсем незнакомых, всех-всех незнакомых, не просто незнакомых, а таких, которых она никогда не видела, даже не знала, что такие существуют на свете…
У Тани в носу защипало, когда она об этом подумала, и слезы обиды встали в горле. Но тут Веня увидел ее, подошел к лавочке, на которой она сидела, и сказал:
– Я домой иду.
Она хотела встать, но он придержал ее за плечо.
– Что ты подхватилась? Побудь сколько хочешь. Я тебя не увожу, а предупреждаю, чтобы ты не волновалась.
От его прикосновения у Тани внутри будто огонь разлился. Ей хотелось, чтобы он не убирал руку с ее плеча.
Наверное, вместе с огнем по всему ее телу прошла и дрожь.
– Замерзла? – спросил Веня. – Сейчас плед принесу.
Разноцветные пледы и шали как раз на случай холода лежали на веранде, Таня видела их, когда шла в сад. Но холодно ей не было.
– Не надо, – стараясь, чтобы не дрожал хотя бы голос, сказала она. – Я тоже пойду, я просто… С дороги устала!
– Ладно, пойдем, – кивнул он.
Они простились с хозяевами и, пройдя дом насквозь, вышли через калитку на улицу.
Глава 20
Запах сирени ночью сделался таким сильным, будто вынули пробку из флакона, в котором он настаивался днем.
Веня пошел по тротуару к своему дому, а Таня качнулась и схватилась рукой за штакетник.
– Что ты? – Он обернулся, не услышав ее шагов у себя за спиной. – Плохо тебе?
Он стоял в двух метрах от нее, свет уличного фонаря обводил его лицо мерцающим контуром.
– Не прогоняй меня… – задыхаясь сказала Таня. – Пожалуйста! Я…
Она махнула свободной рукой и заплакала. Плача, она не отворачивалась, а смотрела на него. Сквозь потоки слез ей показалось, что он поморщился.
– Что за выражения дурацкие? – Веня вернулся, остановился в шаге от нее. – Что значит не прогоняй? Ты не собака.
Таня сама не понимала, кто она. Но это было ей все равно. Ноги подкашивались. Если бы он обнял ее, как в то мгновение, когда открыл дверь и увидел ее на своем крыльце, то ей стало бы легче. Но обнимать он не собирался, смотрел недовольно и даже сердито.
– Никаких тебе неприятностей от меня теперь не будет, – всхлипнула она. – Я ж взрослая уже. И все-все могу делать!
От этих слов Веня перестал хмуриться, засмеялся, и хоть не обнял, но все-таки взял Таню за руку.
– Все-все? – спросил он. – И что же, интересно ты собираешься делать?
– Что скажешь! – горячо проговорила она. – Что ты скажешь, то и буду!
– Вот об этом я сейчас говорить не готов, – сказал Веня. – Это не решают спьяну под забором. Завтра проснемся трезвые и обсудим, чего бы ты хотела и насколько это реалистично. Пойдем.
Он потянул Таню за руку, и, оторвав вторую руку от штакетника, она пошла за ним.
В ярко освещенном саду Гербольдов непонятно было, который час. Только в большой комнате на первом этаже Вениного дома Таня глянула на высокие напольные часы и поняла, что уже не поздно даже, а рано, половина четвертого утра.
– Засиделись мы, – сказал он. – Раскрутил меня Николай на разговор о ближайших политических перспективах, я и не заметил, который час. Да и джин пил как не в себя.
– Николай – это кто?
– Ивана и Нэлы отец.
– А!..
Тане было все равно, кто такой Николай, она едва помнила сейчас, кто такие Иван и Нэла. Она понимала только, что сейчас Веня уйдет к себе, и ей хотелось удержать его хоть ненадолго, совсем ненадолго еще. Еще бы минутку подержал ее за руку, и она успокоилась бы, может.
– А… Евгения Вениаминовна где? – спросила Таня.
– Спит давно. И ты ложись. Минералки к себе в комнату возьми. Шампанского многовато ты пила, под утро воды захочется.
Непонятно, когда Веня успел заметить, что она пила и сколько, ни единого же взгляда в ее сторону не бросил. Но он был прав: шампанского она выпила много.
Таня попробовала его сегодня второй раз в жизни, первый был на выпускном вечере в школе. Когда оказывалась где-нибудь в компании, то на шампанское не тратились, брали что покрепче и подешевле. Да и мать его не покупала, даже на Новый год. Говорила, чем попусту деньги тратить, лучше портвейна взять да минералкой разбавить, та же сладость, те же пузырьки.
«Что ж за глупость мне в голову лезет? – с тоской подумала Таня, глядя, как Веня поднимается по лестнице. – Какой портвейн, какое шампанское, какое… всё?»
Она услышала, как закрылась дверь его комнаты, и хотела подняться наверх тоже, но пошла в ванную, включила душ, совсем слабенько, чтобы не шумел, и сначала постояла под горячей водой, чуть не под кипятком, а потом под холодной, почти ледяной. От этого хмель из нее вышел, мысли успокоились, а огонь, полыхавший внутри, превратился в трепет.
Босиком, чтобы не слышны были шаги, Таня поднялась на второй этаж. В Вениной комнате было тихо, свет не пробивался из-под двери знакомой линией. Она вошла в свою комнату, разобрала постель. Достала из сумки, стоящей на ковре, ночную рубашку, переоделась. Рубашка была шелковая, прозрачная, как дымка, Таня купила ее в Орле по дороге из Болхова.
Она села на край кровати, взглянула на свои голые руки, на колени под светлым шелком.
«Чья здесь комната была, когда эти, подселенные, жили? Господи, да что ж такое?! Опять чушня всякая в голову лезет!»
Трепет, пронизывающий ее теперь, оказался мучительнее, чем огонь. Огонь хоть ледяной водой залить было можно, а от этого невыносимого трепета, который переворачивал каждую молекулу ее тела, никак было не избавиться.
Таня встала, подошла к двери, помедлила. Все-таки вышла в коридор и, уже не медля, без стука толкнула дверь в Венину комнату.
Он читал, лежа в кровати. Лампочка была прикреплена к книге и освещала только страницы и его лицо. У Тани захватило дыхание от вида этих подсвеченных прекрасных черт.
– Ты… с этой лампочкой читал… когда я корью заболела… – с трудом одолевая спазмы в горле, проговорила она. – Помнишь?
– Это другая. Та разбилась давно.
Он положил книгу на пол. Лампочку не выключил. Теперь она освещала его лицо так отдаленно, что и черт было не разглядеть. Но Таня видела их все равно – так, как, наверное, видит слепой, прикасаясь пальцами. И глаза его видела тоже. Веня смотрел на нее спокойно и словно бы выжидающе.
Таня подошла к кровати, остановилась, наткнувшись коленом на деревянный каркас.
– Не жди от меня больше, чем я могу тебе дать, – сказал он.
Это были холодные слова, они должны были бы окатить Таню, как ледяная вода. Но от этих слов, или от его голоса, или от его взгляда из-под нахмуренных бровей ее вдруг охватил такой покой, такое счастье, что она едва не рассмеялась.
– Я от тебя ничего не жду. – Таня села на пол у кровати и положила голову на Венино колено, угадывающееся под одеялом. – Я без тебя жить не могу. Дни считала. Расчерчивала первого января лист и целый год каждый день вычеркивала. Каждый год.
– Таня… – Он сел, положил ладонь ей на щеку. – Что ответить, а? Мне на такое и отвечать-то нечем.
– Почему?
– Такой, видно, уродился. А ты заслуживаешь большего.
Она зажмурившись слушала, как его пальцы гладят ее висок. Вспомнила, как пять лет назад сидела с ним рядом на асфальте, в охваченном злобой городе, на незнакомой улице, под стеной незнакомого дома, и знала: если отойдет от него хоть на шаг, то потеряется как пуговица, оторвавшаяся от его пиджака.
– Мне, кроме тебя, никто не нужен, – сказала она.
– Но, Таня…
– Ты меня только не прогоняй! – Она прижала Венину ладонь к своей щеке и, открыв глаза, умоляюще посмотрела на него. – Какую ты меня захочешь, такая и буду… стану… Честно-правда!
Таня тут же зажмурилась снова, но все равно почувствовала, как он улыбнулся.
– От Жана Вальжана с Козеттой – к Пигмалиону с Галатеей? – Улыбка слышалась и в голосе тоже. – Не уверен, что это возможно. Хотя… Чем черт не шутит!
Он подергал ее за нос, и Таня открыла глаза. Его лицо было теперь совсем близко. И губы – изогнутая береговая линия… Таня подняла голову и коснулась этой линии губами. Линия оказалась горьковатая, да, он же говорил, что пил этот… что он пил… горький, наверное…
Голова у нее кружилась, по всему телу колотило разрядами тока.
– Ты меня не торопи только, – негромко сказал Веня. Он не ответил на ее поцелуй, но Таня слышала каждое его слово у себя на губах. – Вдруг и правда получится? Не торопи.
Ей было непонятно, что он чувствует сейчас. А она хотела его так, что если б поднести к ней спичку, то вспыхнула бы, как факел спиртовой.
«Я его люблю. А он… А он меня потом полюбит! Так бывает… наверное», – подумала она.
Эта мысль успокоила Таню. И, словно расслышав ее, Веня сказал:
– Так бывает, наверное. Во всяком случае, я этого не исключаю. Только успокойся, пожалуйста. И не сиди у моего колена, что за собачьи, в самом деле, повадки. Сядь сюда.
Он подвинулся, и Таня послушно села рядом с ним на край кровати.
– Навыдумывала себе глупостей, – сказал он. – Еще небось и девственность для меня хранила. И пожалуйста теперь, в голове вместо мозга одуревшие гормоны.
Угадал, конечно. У нее в самом деле никого еще не было. Но не потому что она чего-то навыдумывала, а просто…
– А зачем? – Таня пожала плечами. – Сам же говорил, это глупо.
– Что глупо? – не понял он.
– Жениться без любви глупо, ты говорил. Ну и просто так перепихнуться… Мне не хотелось.
Это была правда. Приставали к ней многие, а один парень на класс старше вроде бы и влюбился даже, и неплохой вообще-то был парень, грех наговаривать, но ей ни с кем даже поцеловаться ни разу не захотелось. А уж такого, чтоб током изнутри колотило – нет, ничего похожего за эти пять лет не было и близко.
– Ладно, – вздохнул Веня. – Расскажи о чем-нибудь человеческом. Как ты жила пять лет?
Хороший вопрос! Расскажи попробуй. Таня с удивлением поняла, что ничего ответить не может. Их как будто не было, этих лет без него.
– Я не совсем дура, ты не думай, – сказала она.
– Я и не думаю, – усмехнулся он.
– Я в художественный кружок ходила.
– Зачем?
– Мне нравилось… И в библиотеке читала! Про Пигмалиона и Галатею знаю, правда!
– Честно-правда?
– Ага.
Когда он улыбался, Таня была готова то ли плакать, то ли вопить от счастья.
– Понравилась тебе свадьба? – спросил Веня.
– Конечно, – кивнула она.
– Ты перепуганная была какая-то. Сидела, будто у тебя линейка в горле застряла.
– Сначала только. А потом Нэла меня растормошила.
– Да, они хорошие, – кивнул Веня. – И Нэла, и Иван. Как тебе его жена?
– Ничего, – пожала плечами Таня. – С таким же успехом мог бы и на мне жениться.
– На тебе? – удивился он. – Почему?
– А она ему так же не пара, как и я.
– Что за суждения деревенские? – поморщился Веня. – Девушка как девушка, красивая, жизнерадостная. Не пара!.. Иди-ка ты спать, – сказал он. – Успокоилась или снотворного дать?
– Не-е… – то ли про спокойствие, то ли про снотворное ответила Таня.
И поплелась к себе в комнату. А что ей оставалось?
Часть II
Глава 1
– Обедать будешь?
Он не ответил. Да и не услышал, скорее всего. Таня подошла к столу, за которым он сидел, и постучала пальцем по его наушникам. Алик обернулся к ней и сдвинул наушники с левого уха.
– Что? – спросил он.
– Обедать пора, – повторила Таня.
– Обедайте.
– А ты?
– Я не голодный.
«Чем ты сыт, интересно?» – хотела спросить она.
Но не спросила. Может, в магазине что-нибудь украл, потому и есть не хочет. Это опасение сидело у нее в мозгу всегда и время от времени обострялось.
Алик вернулся из школы полчаса назад и сразу поднялся к себе в комнату. В бывшую Венину комнату. Есть не хочет. Уроки не делает. В наушниках долбит музыка, способная вышибить мозг. Перед носом экран, на котором застыла на паузе какая-то стрелялка.
Все это повторялось изо дня в день вот уже целый месяц, и что с этим делать, Таня не знала. Она и представить не могла, что так будет. Ожидала, что возникнут трудности с учебой, школа-то на Соколе не простая, что хамить он ей будет, была готова тоже, но что вот так станет ее сторониться… Даже за стол ведь с ней не садится – утром проскальзывает в кухню, пока она не спустилась вниз, а обед ест поздно вечером, когда она смотрит фильм в большой комнате или читает в своей, лежа уже в кровати. Хоть разогревает сам, и то хорошо. В школе приемных родителей рассказывали, детей после детдома приходится не только суп учить разогревать, но и объяснять, что можно самому брать еду в холодильнике.
– Когда проголодаешься, скажи.
Он ничего на это не ответил – надвинул наушники обратно, повернулся опять к экрану и снял стрелялку с паузы.
Таня спустилась в кухню, выключила огонь под кастрюлей. Что делают в таких случаях? Все перепробовала. И не то чтобы он ее не слушался. Что она скажет, то выполняет без разговоров. Но так выполняет… Как стойкий оловянный солдатик. И оловянными же смотрит глазами, во всяком случае, на нее. На все вопросы отвечает тремя словами. Предложила сходить в кино на новый блокбастер – пошел. Сидел, как кол проглотив, даже к попкорну не притронулся. Понравилось? Да. Что понравилось? Не отвечает. В театр сходим? Сходили на «Приключения Тома Сойера», хороший ведь спектакль, и для его возраста вроде. Тот же эффект. Куда его вести, что с ним вообще делать?
От всего этого Таню то ли отчаяние охватывало, то ли злость. Главное, почему такое, чем объяснить? Пока Алик заходил к ней в гости на Петушках или она к нему в детдом приходила, все как будто было нормально, относился к ней с интересом даже. А когда, вернувшись из Парижа, забрала его и они переехали на Сокол… Вот это всё. Необъяснимо!
«Ты в этом просто увязла. Перестань об этом думать, – приказала она себе. – Кому будет лучше, если ты погрузишься в это с головой? Ты просто не вынырнешь и его за собой утащишь».
Ладно, сейчас все равно времени нет что-то с ним затевать. Работает с утра, домой успела заехать, только чтобы предложить ему обед, через час должна быть у Валентины, и опоздать нельзя, потому что у той вечером концерт, к нему и нужна прическа.
Словно для того, чтобы настроение не могло улучшиться даже незаметным образом, просто само собою, дождь, не по-майски холодный, шел уже неделю без малейшего просвета. Он сбил цветы черемухи, распустившиеся к майским холодам, и лил, и лил, и лил, и конца ему не было.
Сад, который Евгения Вениаминовна растила так любовно и умело, за пятнадцать лет, что Таня его не видела, изменился до неузнаваемости. Когда в конце марта он вытаял из-под снега, запустение стало очевидным. Смотреть на это было невыносимо, и, наскоро расчистив сад в апреле, Таня собиралась полностью привести его в порядок в мае: обновить дорожки, посадить цветы, обустроить то, что Венина мама называла на немецкий манер кройтерэке, травяным уголком.
Большое тележное колесо, между спицами которого Евгения Вениаминовна сажала пряные травы, совсем ушло в землю, Таня с трудом его отыскала. Она вспомнила, как нравилось ей выходить по утрам в сад и срывать тимьян, кервель, эстрагон или базилик, а потом угадывать их вкус в замысловатых блюдах, которые готовила Венина мама, – и решила, что Алику это понравится тоже, а потому они обустроят кройтерэке вместе.
Обустроили… Ладно. Все равно дождь льет. Можно думать, что ничего пока не сделать из-за дождя. А что будет, когда он все-таки прекратится, лучше не думать вовсе.
Валентина была певицей. В Большом театре карьеры не сделала, но унывать по этому поводу не стала – видимо, не такой великий у нее был талант, чтобы ей стоило приходить в отчаяние от недостатка славы, – а стала петь в небольшом ансамбле, и очень даже успешно. Во всяком случае, в пятьдесят лет отказывать себе в чем-либо ей не приходилось: машину меняла раз в три года, отдыхала на Майорке, одевалась в Милане и к Восьмому марта покупала себе в подарок духи в Париже. Сын у нее был взрослый и жил в Испании, замуж она не выходила никогда, и, глядя на эту цветущую женщину, можно было подумать только одно: и правильно делала. Таня именно так и думала.
Валентина впервые пришла к ней пятнадцать лет назад, когда Таня еще студенткой работала в салоне «Баттерфляй» на Патриарших. Первая же прическа – в стиле бидермайер, – которую Таня сделала ей к новогоднему концерту, Валентине понравилась, и она стала ходить к ней постоянно, сначала в «Баттерфляй», потом в маленький салон, который Таня открыла на Мясницкой. К тому времени, когда арендную плату в центре, а потом и по всей Москве сделали такой, что держать салон было уже не только невыгодно, но и просто глупо, Таня стала ездить на дом, и Валентина осталась в числе ее постоянных клиентов.
– Ты сегодня грустная какая-то, Танюш, – сказала она, глядя в трехстворчатое зеркало, перед которым Таня делала ей прическу. – А вот подожди, сейчас повеселю! Знаешь, где я была? На Бали.
– Надолго ездили?
Таня постаралась изобразить интерес к очередному Валентининому вояжу. Ей совсем не хотелось, чтобы та стала расспрашивать, отчего она невеселая.
– В том-то и дело! На один день. Вернее, на три часа.
– Как это? – удивилась Таня.
Ей в самом деле стало интересно.
– А вот так. Подрядили нас попеть на дне рождения у чьей-то подруги. Как раз на Бали. Гонорар обещали хороший, репертуар на наш вкус, попросили только, чтоб было душевно. Душевного у нас как грязи, почему нет? Вылет задержали, в полете сплошная турбулентность, в аэропорту, когда прилетели, никто не встречает, администратор машину сам нашел. Едем усталые, гадаем, не удастся ли перед концертом часок отдохнуть, приезжаем на виллу… А там полное безлюдье, гробовая тишина. Ни гостей, ни хозяев. Мы, естественно, нервничаем, озираемся. «Ау» кричим.
– Прямо «ау»?
Пока Валентина рассказывала, Таня сплела из ее волос жгуты и начала их укладывать. Выглядело это нарядно и современно, Валентина любила укладку со жгутами – говорила, это ее молодит, но не превращает в старую дуру, которая на шестом десятке пытается выглядеть девочкой.
– Буквально, – ответила она. – Кричим: «Хозяева, ау». Наконец является к бассейну хозяин. Заспанный, морда мятая, перегаром разит, трусы до колен. Или, может, шорты для плаванья, я не приглядывалась. «А вы, – спрашивает, – кто такие?» Вот это номер! Администратор начинает объяснять: «Вы нас пригласили выступить…» – «Зачем?» – И смотрит как баран на новые ворота. «У подруги вашей день рождения…» – «У какой… Тьфу ты! Да я ж ее выгнал, шалаву». – «И что нам теперь делать?» – администратор интересуется. «А ничего, – говорит, – летите обратно». Достает из кармана – все-таки это шорты были, не трусы – пачку долларов, сует администратору. «На билеты, – говорит. – И живее, живее давайте, на вечерний самолет как раз успеете».
– И что? – скалывая жгуты рубиновыми заколками, спросила Таня.
– И ничего. Успели на вечерний самолет. Гонорар тю-тю, но хоть за билеты вернул, мог вообще пинками выгнать. Вот так, Танюша. Я грешным делом думала, это прошло уже.
– Что – это?
Таня приколола последнюю рубиновую розу и полюбовалась своей работой.
– Скотство это, – ответила Валентина. – Я понимаю – в девяностые, глаза у них разбежались, не знали, куда деньги девать, негде было научиться. Но теперь-то! К артистам как к собакам… По второму кругу у них пошло, что ли?
– Не знаю, – сказала Таня. – Только эти уже не от богатства на стенку лезут, по-моему.
– А от чего?
– От безнаказанности. – Она пожала плечами. – Они же чиновники все, кто им что сделает. Макияж какой, Валя? Смоки-айс к рубинам не подойдет.
– Давай с эффектом лифтинга, – сказала та. – В прошлый раз ты из меня просто майскую розу сотворила. Давай опять то же самое.
Хорошо, что разговор ушел от Таниной печали, пусть даже и в такую вот безнадегу.
Когда пришлось закрыть салон на Мясницкой и Таня впервые поняла, что впереди у нее только унылое убожество – ни дела своего, ни будущего, ничего, – она полночи проплакала. Когда стояла у себя на балконе, глядя, как разлетаются в тушинском небе блестки крымского салюта, то думала, что завтра же продаст квартиру и уедет куда глаза глядят, лишь бы ноги унести, пока не поздно, ведь понятно же, чем все это кончится. А теперь… Ездит по домам, на кусок хлеба зарабатывает, знает, что никуда ее малый кусок не денется, а о будущем думать нечего, надо жить одним днем, да и вообще ни о чем, кроме своего куска, лучше не задумываться, сидеть в своей коробочке.
Она и сидит. Привыкла. Все привыкли.
…Веня иногда заезжал за ней к концу ее занятий в колледже, и они куда-нибудь шли вдвоем, в театр или картины смотреть. Таня любила эти походы с ним так, что сердце колотилось от счастья. И не спектакли даже, не картины, а те минуты, когда возвращались домой и он отпускал машину на Ленинградском проспекте. Шли по Соколу пешком, останавливались на Звездочке, сидели в беседке, разговаривали.
В один из таких вечеров он сказал:
– Я с работы ухожу.
– Как это? – удивилась Таня.
Его работа вызывала у нее благоговение. По утрам за ним приезжала чисто вымытая машина с шофером, вечерами, бывало, приходили люди, которых она видела по телевизору, разговаривали о чем-то в его кабинете или выпивали в большой комнате на первом этаже и тогда шутили с Таней, которую он звал за стол тоже. И хоть работал он слишком уж много, в выходные даже, зато и деньги были хорошие, и, как Таня догадывалась, почтение. С чего ж такую работу бросать?
– Вот так, – ответил Веня. – Смысла больше не вижу.
– В работе?
– В работе с новым президентом.
– Так президент же вроде старый? – удивилась Таня.
Может, пропустила, как нового выбрали? Политикой она не интересовалась вообще, тем более учеба в колледже дизайна оказалась такая интересная, что дух захватывало. Но все-таки нового президента заметила бы, наверное.
– Будет новый в ближайшее время, – сказал Веня. – И я этому способствовать не хочу.
– Почему?
– Потому что последствия будут самые тяжелые.
– Для тебя последствия? – насторожилась Таня.
До сих пор ей, бывало, снилось: Веня стоит перед озверелой толпой, кровь течет по его лицу, капает на белую рубашку, а он говорит, что прощенья ему просить не за что. Еще не хватало, чтоб опять такое!..
– Для страны будут последствия, – сказал он. – На долгие годы вперед. Может быть, необратимые.
– А!.. – Таня вздохнула с облегчением. – Ну, про страну-то чего тебе думать?
– Да? – усмехнулся он. – И про что же ты мне предлагаешь думать?
– Про себя, – уверенно ответила Таня. – Что для тебя хорошо, то и делай.
– Здравость твоего мировоззрения, конечно, радует…
Веня улыбнулся, и Таня заулыбалась тоже: правильно сказала, значит!
– …но ума в такой здравости мало, – закончил он. – Не говоря уже о совести.
Она тут же поникла.
– Мы что, лакеи? – Очень он, видно, рассердился. На нее, что ли? – Пусть баре что хотят, то и воротят, а нам до их резонов дела нету? Мы будем циничным образом иронизировать над всем, что не относится лично к нашим великим особям, а относится к большому человеческому целому? Отвратителен этот дешевый снобизм!
– Не знаю… – растерянно проговорила Таня. – Я про это вообще не думаю.
– Про что ты, интересно, думаешь? – хмыкнул он.
– Про что все, про то и я, – пробормотала она. И выпалила: – Про счастье, про что ж еще!
Веня вгляделся в ее глаза, в ее лицо – красное, наверное, стало от волнения, – и сердитая морщинка у него на переносице разгладилась.
– Ну да, – сказал он. – Действительно, про что ж еще. Не заглядывать дальше собственного счастья – это правильно, конечно.
– Но – что? – спросила она. – Что не так, скажи!
– Все так. – Он пожал плечами. – Вернее, это было бы так, если бы было возможно.
– А разве невозможно? – не отставала она. – Почему?
– Потому что не бывает счастья под одеялом. Хотелось бы, но – не бывает.
«Пустил бы ты меня к себе под одеяло, – подумала Таня. – Тогда б и узнал, бывает или нет».
Но вслух ничего не сказала, конечно. Вздохнула только.
Глава 2
После Валентины Таня поехала на Аэропорт к новому клиенту. Пока его стригла – он, в отличие от Валентины, со стороны себя не видел и как раз таки хотел выглядеть в свои пятьдесят лихим мальчиком, – его жена стояла рядом и глаз не спускала с нее и мужа. Следила, наверное, чтобы тот не схватил парикмахершу за коленку. Что ж, это было даже удобно. Черт знает, что у него на уме; Евгения Вениаминовна называла таких мышиными жеребчиками. Очень надо, чтобы он руки распускал! Пускай супруга караулит.
Домой Таня возвращалась уже в сумерках. Дождь шел по-прежнему – ровно, мрачно, нескончаемо. Такие вот вышли в этом году черемуховые холода.
Улица Врубеля была перегорожена двумя машинами. По этой улице проходила граница поселка; Таня должна была повернуть с нее на Сурикова, к дому.
«Ну что там еще?» – сердито подумала она.
Поняв, что разъезжаться машины не собираются, она посигналила, подождала еще минуту. Черт бы их побрал, придурков! Под дождь из-за них выходить. Но куда денешься? Проехать-то надо.
Таня вышла из своей машины и направилась к тем двум, что перегородили ей дорогу. Это были внедорожники, она не разглядела, какие именно. Не очень-то и вглядывалась, правда.
– Эй! – окликнула она их хозяев. Или не хозяев, может, а кучеров, в темноте было не разобрать. – Проехать дадим, а потом будем отношения выяснять!
Что вышедшие из джипов мужики именно выясняют отношения, было понятно с одного беглого взгляда. Один держал второго за грудки, третий стоял рядом и выбухивал из себя что-то неандертальское. Подходить к ним вряд ли стоило, но Таня спешила и нервничала, потому что телефон Алика не отвечал. Пришлось подойти.
«Из борделя, наверное, вышли», – подумала она.
Когда, переехав с Аликом на Сокол, Таня сходила в самоуправление поселка, ее узнали там сразу и приняли с распростертыми объятиями.
– Левертовский дом к чужакам не уходит, это же счастье! – сказала старушка-общественница, отвечавшая за детские мероприятия. – Видела, Танечка, что у нас творится? Сколько домов пустыми стоят, одни охранники живут. В недвижимость они вложились, хозяева эти так называемые, – сердито добавила она.
– Странное вложение, – пожала плечами Таня. – Дома старые, ремонт нужен. На Остоженке элитное жилье купили бы и забот бы не знали.
– Они и на Остоженке купили, и на Карибских островах. Ну и здесь, у нас. А зачем – кто к ним в голову заглянет? – вздохнула старушка. – Не знают, куда деньги девать. И в бордель вон тоже вложились.
– Здесь у нас бордель?! – поразилась Таня.
– Нас Бог миловал. А как раз на границе, на Врубеля, где дом многоэтажный, знаешь? Подо всем домом банный комплекс. Одно название, все же понимают. Уж куда только жильцы не писали, к кому только не ходили. Мало что оргии, так ведь влажность, пар. Ну можно ли в жилом доме? Все бесполезно. Большие чины курируют, и хоть голову разбей об эту баню.
По всему было похоже, что с клиентами борделя и придется сейчас разговаривать. Или с хозяевами, может.
– Дайте проехать, ребята, – примирительным тоном сказала Таня. – Сын дома один, спешу.
– Спеши, – не глядя на нее, бросил тот, который наблюдал за намечающейся дракой. – Пешком иди.
Вообще-то это был здравый совет. За машиной и потом можно прийти, не до утра же они будут драться. А пока отъехать от греха подальше, припарковаться где-нибудь у обочины и идти домой.
Так Таня и сделала. К тому моменту, когда, сдав назад, она закрыла машину, драка была в разгаре. Или закончилась уже?
Подойдя поближе, иначе не выйти было к повороту на улицу Сурикова, она увидела, что двое неторопливо расходятся по своим джипам, а третий лежит на асфальте.
Машины завелись, победители уехали. Таня остановилась. Меньше всего ей хотелось разбираться, кто прав, кто виноват в драке у борделя. Но улица пуста, человек на асфальте неподвижен…
Она подошла к нему и, не наклоняясь, спросила:
– Живой? Вставать будешь?
Он пошевелился и что-то промычал, но не поднялся. По невразумительности мычания Таня поняла, что, скорее всего, он не убился, а просто пьяный, и, значит, она может без угрызений совести уйти. Она развернулась и пошла прочь. Но услышала у себя за спиной не мычание, а короткий стон. Что было делать? Пришлось вернуться.
Побитый уже сидел на асфальте, обхватив обеими руками голову и пригнув ее к коленям.
– Ну? – Таня все-таки присела на корточки перед ним. – Если вставать соберешься, помогу.
– Соберусь.
Ответ прозвучал внятно. Таня этого не ожидала: очень уж густое спиртное облако его окружало.
Она встала, протянула ему руку, но он поднялся сам, опершись ладонью о мокрый асфальт и коротко выдохнув от боли.
– Что ж ты отношения лезешь выяснять? – поинтересовалась Таня. – Выпил – иди домой.
– Да, – сказал пьяный. – Сейчас. – Он поднял голову и вдруг произнес: – Таня!..
Все-таки ее многие здесь помнят. Даже те, кого сама она не узнает.
Она вгляделась, но помогло это не очень. Грязь на его лице размывалась дождем, сливалась с кровяными дорожками.
Но тут он поднял голову повыше, и Таня ахнула:
– Ванька! Ничего себе!
Увидеть Ивана Гербольда на Соколе – в этом не было ничего удивительного. Но увидеть его пьяным у борделя, с разбитым лицом… Такого ожидать было невозможно.
Да нет, все возможно. Жизнь кого угодно сломает, если нажмет посильнее.
– Давай домой отвезу, Вань, – сказала Таня. – Постой полминутки, сейчас подъеду.
Может, Иван и отказался бы – ей, во всяком случае, не очень хотелось бы, чтобы ее видели в таком состоянии те, с кем связаны светлые впечатления юности, – но на ногах он стоял с трудом и на отказ у него, наверное, просто не хватило сил. Он молча кивнул.
«А вроде же он здесь не живет давно, – подумала Таня, садясь за руль. – К родителям приехал, наверное, да мало ли…»
Иван тяжело опустился на переднее сиденье. Захлопнуть как следует дверцу ему не удалось. Таня перегнулась вправо и закрыла ее сама. Спиртной запах при этом ударил ей в нос так сильно, что она поневоле поморщилась. Ни с каким пьяным мужиком возиться бы не стала. Но юность канула в прошлое, а значит, не изменится уже никогда. И те, кто был дорог в юности, уже не сделаются безразличны.
Иван сидел, уронив голову на грудь. Искоса глядя на него, Таня видела не человека, а глыбу черного уныния.
Когда повернули на Сурикова, он сказал:
– Можно, у тебя переночую?
Это было ей понятно. Кто б хотел явиться в таком виде в родительский дом.
Она въехала во двор, заперла ворота, открыла перед Иваном дверцу машины, а когда он тяжело выбрался наружу, то и дверь дома.
– Посиди, я сейчас, – сказала Таня, когда вошли в большую комнату.
Она взбежала на второй этаж, приоткрыла дверь к Алику. Он спал. Телефон лежал на полу рядом с кроватью. Таня наклонилась, подняла телефон – разряжен. Чертов пацан. Далось же ему над ней издеваться!
Она поставила его телефон на зарядку и спустилась вниз. Иван сидел на стуле в той же позе, в которой она его оставила. Он был широкий, как камень, и вместе с тем казалось, что из него выкачали воздух. Хотя какой воздух в камне?
– Сейчас постелю тебе, – сказала Таня. – Пойдем.
Он ничего не ответил, не шелохнулся даже – смотрел в пол.
– Вань… – Она подошла, коснулась его плеча. – Вставай, я тебе помогу. Пойдем спать.
Он вздрогнул от ее прикосновения, поднял голову. Взгляд, к ее удивлению, был не мутный, тяжелый только. Но внимание, которое было главным в этом взгляде, когда Таня увидела его впервые, главным осталось и теперь, двадцать лет спустя.
– Что ты? – спросил Иван, и она поняла, что он заметил ее короткую улыбку.
– Так. Двадцать лет спустя…
Это прозвучало, может, невпопад, но Иван понял.
– Виконт де Бражелон практически, – хмыкнул он.
После этих его слов Таня уже не улыбнулась кривовато, а с облегчением рассмеялась. Все-таки приятно встретить друга лучших своих лет. Даже у борделя, даже избитого и пьяного. Да и не такой уж он пьяный, кажется.
– Пьяный, как сволочь, Тань. – Иван поморщился, словно расслышав ее мысли. – Можно, душ приму?
– Конечно. Я просто подумала, ты лечь хочешь поскорее.
– Ничего я не хочу, – сказал он с такой тоской, что ей стало не по себе.
Ей всегда становилось не по себе, когда она видела что-то, полностью выпадающее из ее понимания. Как может звучать такая тоска в голосе Ивана Гербольда, было ей непонятно именно что полностью, совершенно. Но что же – слишком далеко их разнесло за двадцать лет.
В ванную она его все-таки проводила. Соображать-то он, может, и соображает, но качает его сильно, швыряет от стенки к стенке. Таня вспомнила, как ее подружка по колледжу съездила на каникулы к родителям в село под Кишеневом и привезла домашнего молодого вина. Вот от него как раз такой эффект и был: голова вроде ясная, а ноги не слушаются.
– В ванну влезть сможешь? – спросила она, доставая из комода полотенце и махровый халат, а из зеркального шкафчика флакон с йодом. – А то давай здесь побуду, пока помоешься.
Он кивнул и покачал головой. Видимо, это означало, что в ванну влезть сможет, а караулить, как он будет мыться, не надо. Таня все-таки постояла под дверью, пока шумел душ, и ушла, только когда шум прекратился и послышалось шлепанье мокрых ног о пол.
К тому времени, когда Иван вышел из ванной, она постелила ему в дальней комнате, а сюда, в большую, принесла из кухни тарелку супа. И хлеб принесла тоже. Надо было и водки, может, но спиртного в доме Таня не держала, боясь, чтобы оно не попалось Алику.
– Скулу сильно ссадил, – заметила она, когда Иван сел к столу и в свете лампы стала видна замазанная йодом ссадина у него на щеке. – Об асфальт, что ли?
– Не знаю.
Он поморщился, и спрашивать, с кем он подрался и почему, она не стала, хотя это было ей любопытно. За последние полчаса Таня вообще успокоилась как-то, приободрилась. Наверное, от того, что с Аликом все в порядке, стол освещен любимой лампой Евгении Вениаминовны, и до углов комнаты свет из-под ее узорчатого стеклянного абажура достает тоже, и мрачных теней нет поэтому в углах.
Иван взял ложку и стал есть. Казалось, он делает это машинально, без всякого желания. Но тарелку бульона с лапшой съел до дна, как лекарство. Хорошо, что с появлением ребенка Таня стала готовить по тетрадке, в которую Евгения Вениаминовна записывала свои рецепты. Алик был к ее стряпне равнодушен, но пригодилось все же это занятие.
– Спасибо, – сказал Иван. От горячего супа на лбу у него выступил пот. – Разбудил всех, наверное.
– Не так уж громко ты ел, – пожала плечами Таня. – А ребенка и будильник не всегда разбудит.
– Твой ребенок?
– Ага. И Венин.
Это не так, но какая разница? Неизвестно, почему она не чувствует к Алику того, что могла бы чувствовать мать – потому что не родила его или потому что на материнское чувство вообще не способна. А Вене он хоть и сын по крови, но вряд ли тот успел его полюбить.
И все же от пересечения двух минусов вышел хоть какой-то плюс: мальчишка спит сейчас в комнате своего отца, а не в детдомовской спальне.
– Как он? – спросил Иван.
– Кто?
– Вениамин Александрович.
– Он умер.
– Ах ты!..
Весь вечер в его взгляде был только мрак, в котором тонуло все, и сам он тоже. Теперь во мраке сверкнуло сочувствие.
– Давно? – спросил он.
– Три с половиной месяца. Ну что, ляжешь? Я тебе в дальней комнате постелила.
Таня ни о чем не спрашивала его, и от него ей не хотелось пустых расспросов. Наверное, Иван это понял.
– Да, – сказал он, вставая. – Не провожай, комнату найду.
Он вышел. Скрипнула дверь в дальнем конце дома. Таня убрала со стола. Ей стало грустно. Все-таки надо было расспросить, как дела у него, как Лиля, сын. Или дочка? Она помнила только сверток в коляске, а мальчик это был или девочка, вспомнить не могла.
Прежде чем выключить свет, Таня обернулась к картине с дарами волхвов и посмотрела на Венину фотографию, которая стояла под ней на полке. Она перенесла ее из комнаты Евгении Вениаминовны, потому что туда почти не заходила, а на этой фотографии он улыбался так, что Таня вспоминала: счастье бывает.
«Вроде я стараюсь привносить в мою жизнь смысл, – молча сказала она ему. – Говорил же ты: само собой это не получится. Я и стараюсь. А все равно его нет, смысла».
Глава 3
Отец бывал в доме Левертовых часто, а Иван и не бывал почти, и ни разу не ночевал, конечно. Но стоило ему оказаться здесь, как кромешный мрак, из которого он не мог выбраться, вроде как разредился немного. Может, то же самое произошло бы и в родительском доме, но туда он идти не хотел. Не мог. В этом смысле драка оказалась даже кстати: можно было считать, что он просто не хочет пугать родителей своим побитым видом. Отец наивно гордился происхождением рода Гербольдов от новгородских воинов, не то варягов. Точно ему не будет приятно узнать, что сын спьяну дерется с сутенерами.
Уснуть Иван не мог из-за джетлега, и хмель выходил поэтому медленно.
«Ни опьянеть толком, ни протрезветь».
Какая-то неважная, посторонняя мысль. Но других у него теперь нет.
А, вот, есть одна: грустно, что Вениамин Александрович умер, но хорошо, что Таня родила от него сына.
Иван вспомнил, как она смотрела на Левертова. Глаза у нее становились светлые и крепкие, как водка, кого угодно мог сшибить с ног ее взгляд, только не Вениамина Александровича, так Нэла говорила смеясь. Еще она говорила, что Левертов никогда Таню не полюбит иначе, чем Жан Вальжан любил Козетту. Но вот ошиблась, выходит. Подвела интуиция.
И он ошибся. Не в сторонних вещах, а в том, как распорядился своей жизнью. Все как будто бы делал правильно – когда последовательно вспоминал и оценивал каждое свое решение, то ни одно из них не находил ни ложным, ни даже сомнительным. Но в результате вышло то, что вышло: впустую прошедшая жизнь.
«Тебе тридцать девять лет. Все впереди».
Эти слова, даже произнесенные только мысленно, вызывали у него ярость. И отец, и мама, и Нэла чувствовали пошлость за версту, и никогда не подпускали ее к себе близко, и уж тем более не впускали в себя. И он, хоть и не имея отношения к искусству, выпадая в этом смысле из гербольдовской династии, пошлость чувствовал тоже.
Слова «вся жизнь впереди» и сами по себе были пошлостью первостатейной, а применительно к нему – вдвойне.
Ему тридцать девять лет. Он пятнадцать лет не работает. Эти годы – главные в жизни мужчины, а он провел их так, что от нервов остались одни ошметки. Иначе не ввязался бы в драку с уродами, которые всего-то велели ему не лезть не в свое дело. Он ненавидит свой мозг за то, что водка не одолевает его, даже когда уже одолевает тело. Он отвык от людей, и ему с ними тягостно, но что делать в одиночестве, он не знает, и нет у него таланта, который подсказывал бы это.
И что все это, если не бессмыслица, из которой ему не выбраться никогда?
«Горит бессмыслицы звезда, она одна без дна».
Когда-то Нэла увлечена была обэриутами, особенно Введенским, всем подряд зачитывала его стихи, и эти, про звезду бессмыслицы, тоже. Хорошая память не давала Ивану выбросить их из головы, хотя совсем ему этот поэт не нравился. Ему никто из обэриутов не нравился, даже детские стихи Хармса про то, как бегал Петька по дороге и кричал «га-ра-рар», казались навязчивой умозрительной конструкцией.
И вот теперь звезда бессмыслицы одна горит перед ним. Оказалось, действительно – без дна.
Не удастся уснуть, не удастся. Потолок кружится над головой. Приметлива Таня: в самом деле повозили мордой по асфальту. Потому сейчас и голова гудит, и по стенкам швыряет. Пройдет, не страшно. Тренер по карате говорил, что вестибулярный аппарат у него хороший.
Иван занимался карате в студенческие годы – не всерьез, а так, для физической формы; сейчас ему не верилось, что это вообще было с ним. Да что там карате – не верилось даже, что были сами эти студенческие годы, что он чему-то учился, готовился к какой-то самостоятельной, точнее, самостоятельно управляемой жизни.
Подумав об этом, Иван заскрипел зубами. И тут же прижал руку ко рту – показалось, скрип такой громкий, что прибежит разбуженная Таня. Этого, конечно, не могло быть, но ему стало не по себе. Дурацкая привычка! Сейчас хоть протрезветь успел от боли и контрастного душа, а когда засыпает пьяный, наверняка зубами так скрежещет, что невозможно посторонним людям рядом с ним находиться. А непосторонним тем более.
Потолок то опускался, придавливая, то взлетал, исчезая. От этого Ивану казалось, что он лежит под прессом, как обрабатываемая кем-то деталь. Никакого самостоятельного значения не имеющая, непонятно для чего предназначенная деталь.
Когда это стало так? Он не знал.
Отец обрадовался, когда Иван сказал, что будет поступать в МАИ.
– Мужчине обычно хочется, чтобы сын выбрал его профессию, – сказал он. – Но когда речь о творчестве… Вечная эта зависимость от собственного состояния, от удачи… Нет вдохновения – и ничего нет. А не дай бог со временем выяснится, что и таланта нет, и как тогда? Жизнь коту под хвост. Врагу не пожелаешь, не то что сыну родному. Так что я рад, Вань. Самолеты строить – дело здравое, толковое и, безусловно, правильное.
Отец в самом деле был человеком творческим – да и каким еще мог быть художник? – поэтому представлял, наверное, будущую профессию своего сына каким-то символическим образом. Взмахнул Иван левым рукавом – выкатывается из ангара новенький самолет, взмахнул правым – взлетает в голубое небо. В действительности же младший Гербольд изучал авионику и в будущем намеревался заниматься делом более локальным и, парадоксально говоря, приземленным – системами навигации. Но, во-первых, это локальное дело было частью того огромного целого, каким являлся самолет, а во-вторых, Иван никогда не относился к жизни с такой фантазией, с какой, например, всегда и ко всему относилась Нэла. Про нее с детства было понятно, что она будет заниматься в жизни чем-то феерическим, и когда она заявила, что поедет в Берлин изучать искусство, этот выбор показался родителям даже слишком обыденным для нее. А Иван был скрупулезен, однообразие усилий его не пугало, и авионика представлялась в этом смысле правильным занятием всем, кто его знал, и в первую очередь ему самому.
Единственное, чего никто не ожидал, – что на третьем курсе он надумает жениться. Он был спокойный, основательный, Нэла считала, что даже слишком, и ничто в нем не свидетельствовало о склонности к любовным порывам. Но случился все-таки порыв, чему сам он, кстати, совсем не удивился. Страстей ему никогда не хотелось, но свою семью захотелось иметь довольно рано. Может, именно потому, что он отличался от всех Гербольдов с их с детства проявляемыми талантами. У него талантов не было, он не должен был соотносить с ними свою жизнь, а с чем ее соотносить в таком случае? Авионика на эту роль все-таки не годилась.
А Лиля годилась. В ней было все, про что Иван отчасти смутно, отчасти твердо мог сказать: «Для меня это в женщине главное». Красота ее была нежна, ум быстр, натура жизнерадостна. К тому же в ней было то, что Нэла называла сексапилом и что его сильно привлекало, конечно. Все-таки ему уже исполнилось двадцать лет, и ограничиваться в отношениях с девушками одними только взглядами и прогулками по благоухающим сиренью и жасмином улицам Сокола… Хорошо это было, конечно, но мало.
Он, как и Нэла, неплохо разбирался в людях. Только сестра понимала сущность человека интуитивно и сразу, а он складывал свое понимание из многих деталей, в которые ему необходимо было вглядеться внимательно. Если бы не это, Иван, может, женился бы на Лиле не после третьего курса, а уже после первого, потому что она будоражила его, физически будоражила. Ее ум и, как ни странно, даже ее красоту он осознал чуть позже, чем это свое физическое влечение к ней. Но вот именно совсем чуть-чуть позже. А на его влечение она ответила сразу, и они сразу же стали встречаться.
Через три месяца таких встреч Иван предложил Лиле выйти за него замуж. К тому времени было уже ясно, что их тела подходят друг к другу, как детали правильно собранной головоломки. Когда после лекций приходили в дом на Соколе и закрывались в Ивановой комнате, ему казалось, что ходят ходуном стены дома, а не только кровать.
Мама полагала, что жениться в двадцать лет рано. Может, были у нее и еще какие-нибудь резоны для того, чтобы не радоваться решению сына, но их она не высказывала.
Лилины родители, приехавшие накануне свадьбы из Перми, произвели на всех Гербольдов хорошее впечатление.
– Простонародные люди в лучшем смысле этого слова, – сказал Ивану отец. – Тестя твоего я бы написал.
Да, у тестя была примечательная внешность – то, что называется косой саженью в плечах, и лицо значительное в своей рубленой суровости. Но Ивану не было до этого особого дела, тем более что Лиля похожа была не на отца, а на мать.
Отгуляли свадьбу и перебрались жить в маленькую квартирку здесь же, на Соколе, в Малом Песчаном переулке. Дом, в котором она находилась, прежде был бараком, мама жила там в детстве и юности, оттуда когда-то выходила замуж. Квартирка сто лет пустовала и по сравнению с просторным домом Гербольдов, наполненным картинами и прочей красотой, была, конечно, тесна и убога. Но Лиля так радовалась, что у них есть свое жилье, в котором и жизнь можно наладить по-своему, и так умело, так добротно ее наладила, что Иван не почувствовал никакой тоски от того, что смотрел теперь на родительский дом сторонним взглядом. Просто начался новый этап его жизни, и это было правильно.
Наверное, правильно было и то, что через месяц после свадьбы Лиля забеременела. Сама она от этого растерялась и едва ли не расстроилась, а Иван нисколько.
– Все равно так вышло бы, – сказал он. – Годом раньше, годом позже, какая разница?
Разница все-таки оказалась большая. Вадька хоть и родился здоровым, но орал с утра до ночи, а главное, с ночи до утра.
– Почему он плачет, ну почему?! – в отчаянии восклицала измученная Лиля.
Иван уставал тоже – они с Лилей таскали ребенка на руках по очереди, – но бессмысленных вопросов не задавал, конечно. Ну, плачет. На то и младенец, чтобы плакать. Он сам удивлялся такой своей житейской объективности, но раздумывать об этом было некогда. Тем более что через два с половиной месяца этот беспричинный крик прекратился, Вадька стал спокойным, как слон и, молодые родители вздохнули с облегчением.
Но что делать дальше, было не очень понятно. Академический отпуск Лиля не брала – бегала на семинары и коллоквиумы, то оставляя Вадьку с Иваном, то подбрасывая бабушке с дедушкой на час-другой, писала диплом ночами. Это требовало напряжения всех ее сил, и на это она оказалась способна. Но учеба заканчивалась, и надо было начинать работать. Ивана готовы были взять в научно-производственный комплекс «Авионика», а Лилю в «Трансаэро», образование Московского авиационного института ценилось везде. Но как это осуществить с годовалым ребенком на руках, было непонятно. То есть понятно, конечно: Лиле надо было на работу не выходить и сидеть дома. Все женщины в ее положении так и делали. Но Лиля была не «все женщины», это Иван понимал. При ее нежной внешности кого угодно мог бы удивить ее крепкий ум, а главное, ее стремление к новому, но не его. За два года совместной жизни он понял, что этими чертами определяется ее натура, и ему это нравилось.
От одной только мысли, что придется сидеть дома, Лиля впадала в тоску. А сам он разве не впал бы? И это у него еще не было других качеств, которые были отчетливо проявлены у его жены. Уже в двадцать с небольшим ее лет было видно, что со временем, и с очень недолгим временем, из нее выйдет отличный руководитель. Она умела не лебезить перед теми, от кого зависит, и не самодурствовать с теми, кто зависит от нее, была ответственна, не позволяла садиться себе на голову, умела говорить «нет», не перекладывала на других то, что должна была сделать сама, и не бралась сама делать все. Придавить такие способности грузом домашних забот было бы по меньшей мере нерационально, это Иван понимал.
Поэтому, когда Лиля сказала, что Вадьку придется отвезти к ее родителям в Пермь, он хоть и не обрадовался – а будто бы сама она была этому рада! Плакала даже, – но и возражать не стал.
– До трех лет, не больше, – сказала Лиля. – Потом в садик можно будет отдать.
Вадька отнесся к тому, что его оставляют в Перми, спокойно, даже, может, слишком: не обернулся в сторону уезжающих мамы и папы. Но как к этому ни относись, а других вариантов все равно не просматривалось. Хорошо еще, что пермские бабушка с дедушкой, хоть и повздыхав, взяли внука. Гербольды с их творческой жизнью и постоянными поездками на такое не согласились бы, это было настолько очевидно, что даже и не предлагалось.
И как только началась работа, стало понятно, что Лилино решение не сидеть дома было правильным. Если Иван не заглядывал за границы своих обязанностей инженера по авионике, то Лиля мыслила шире. Она сразу пошла учиться на серьезные экономические курсы, на которых и управлению учили тоже. Новое солидное слово «топ-менеджмент» точно описывало ее будущее.
Когда оказалось вдруг, что на таком будущем надо поставить крест, смириться с этим было невозможно.
«Или возможно это было? Да какая теперь разница».
Потолок перестал взлетать в пустоту – опустился окончательно, придавил грудь. Бессмыслица наконец приняла форму сна, пустого, тяжелого, горестного.
Глава 4
За завтраком Иван сидел такой бледный, что черное от удара и желтое от йода пятно на его скуле выглядело совсем уж мрачно. Да и сам он был мрачен, но похмельного блеска в глазах не было. Если б был, Таня заметила бы сразу.
Лет семь назад она сошлась с мужчиной, который казался умным, порядочным и нравился ей. Но видеть каждое утро его одинаковый взгляд… Тане довольно быстро стало ясно, что этот взгляд означает: что его потребность в ней гораздо меньше, чем потребность как можно скорее утолить лихорадочную ежеутреннюю тягу к выпивке. И зачем ей было препятствовать его всепоглощающему желанию? Тем более что это было и невозможно. Через месяц они расстались.
У Ивана глаза не то что не блестели лихорадочно – были пусты, как серые плошки. С одинаковым безразличием взглянул он на яичницу с помидорами, которую Таня принесла на сковородке, и на Алика, севшего напротив него за стол.
Алик, правда, тоже не проявил интереса к незнакомому мужчине, с которым неожиданно пришлось завтракать. Но он и к Тане интереса ведь не проявлял, ну и на Ивана Гербольда, которого она ему представила, посмотрел так же, как на нее. Завтракал все же вместе с ними, уже достижение.
Сразу после еды Алик ушел к себе в комнату, а через пять минут спустился вниз, уже переодевшись в уличное.
– Ты куда это? – насторожилась Таня.
Было воскресенье, и ничего, в общем-то, не было опасного в том, что он идет погулять. Но ей казались опасными самые обыкновенные его дела.
– С пацанами договорились встретиться, – ответил Алик.
Как обычно ответил, с необъяснимой для нее четкостью. Что у него на уме?
– С какими пацанами? – настаивала Таня.
– Из класса. В генеральском доме живут.
Ага, уже знает, что так называется многоэтажный дом на Ленинградском проспекте. Значит, чем-то все-таки интересуется. В том доме маршал Катуков когда-то жил, а один отставной генерал, Евгения Вениаминовна рассказывала, приходил оттуда зимой в поселок и убирал снег – говорил, это лучший моцион.
– Они на Звездочку придут, – добавил Алик.
Хорошо, раз так. Все-таки спокойнее, когда он в поселке. Хотя полного спокойствия на его счет Таня не чувствовала, где бы он ни находился.
– Телефон не забудь, – напомнила она.
Алик вынул телефон из кармана джинсов, показал ей и, спрятав его обратно, вышел из комнаты. Хлопнула входная дверь.
– Может, не надо было его отпускать? – вздохнула Таня.
– Почему? – без интереса спросил Иван.
– Не знаю, что ему в голову придет. Он…
Наверное, давно надо было рассказать кому-нибудь о своих страхах, связанных с Аликом. Но ей не хотелось рассказывать об этом «кому-нибудь», она не испытывала потребности изливать душу посторонним людям, даже неизбежные беседы с психологом, без которых ей не отдали бы Алика под опеку, выдержала с трудом. Но то ли напряжение, в котором Таня жила весь последний месяц, стало слишком сильным, то ли дело было в том, о чем она подумала вчера – что Иван ей не посторонний просто потому, что явился из лучших лет ее юности, из кратких тех лет… Как бы там ни было, историю появления в ее жизни Алика она изложила ему полностью.
– А что теперь с ним делать, я не знаю, – закончила Таня. – Почему он так ко мне стал относиться, не понимаю.
– Он от тебя ожидает чего-то плохого, – сказал Иван. – И это довольно давно, по-моему. Может, как раз все то время, что у тебя живет.
– Здрасте! – возмутилась она. – С какого перепугу ему от меня плохого ожидать? Я на него голос ни разу не повысила, не то чтобы…
– И тем не менее это так, – пожал плечами Иван. – Он каждую минуту ожидает от тебя чего-то для него плохого и находится поэтому в постоянном напряжении.
– Ерунда какая-то, – поморщилась Таня. – И как ты мог это понять? Вы с ним двух слов друг другу не сказали!
Все-таки зря она разнюнилась. Никому не нужны чужие проблемы, и Иван в этом смысле не исключение, и правильно, может, что он пресек ее попытку свои проблемы на него вывалить.
– Пойду, Таня, – сказал он, вставая из-за стола. – Спасибо.
– Ты к родителям? – машинально спросила она.
– Да. Они в Италии были, вчера вернулись.
Окна в доме Гербольдов были темны все время, что Таня жила на Соколе. Вот, значит, почему: в отъезде они. И потому же Иван не знает, что сосед их умер.
Надо было, наверное, расспросить его про семью подробнее, но Таня не стала. Он-то ни о чем не спрашивает, а ее попытки что-то о себе рассказать пресекает на корню. И с какой стати она станет лезть с расспросами к нему?
Как только она закрыла за Иваном дверь, зазвонил ее телефон.
– Да, Сева, – ответила Таня. – Рада вас слышать.
Его голос действительно доставил ей… не то чтобы радость, но какое-то приятное ощущение. Легкий он человек, и ей с ним легко. А это немало.
– Я тоже рад, Татьяна, – сказал он. – Уезжал в отпуск, поэтому не звонил. Как ваши дела? Как мальчик?
Не только легкий, но и приличный человек. Ну какое ему дело до постороннего мальчика? Однако спрашивает, и интерес в голосе не притворный, это слышно.
– Ничего мальчик, – ответила Таня. – Не без трудностей, но терпимо.
Гербольд не зря осадил ее: рассказывать еще и Севе о своих проблемах с Аликом она уже не хотела.
– А в чем трудности? – насторожился тот.
И опять беспокойство в его голосе не было притворным.
– У вас как дела, Сева? – вместо ответа спросила Таня.
Прижимая телефон плечом, она убирала со стола. Звонок Решетова вернул ее в круг обычных занятий, и это было, без сомнений, хорошо.
– С удовольствием рассказал бы вам при встрече, – сказал он. – Кажется, вы говорили, что любите музыку. Сегодня в Зале Чайковского замечательный концерт, у меня два билета. Мы могли бы пойти вместе.
Вряд ли Таня говорила ему что-либо подобное: для любви к музыке ей просто не хватало слуха.
– Замечательный концерт. – В его голосе послышались просительные нотки. – Будут играть Шостаковича. Сильнейшее впечатление, поверьте!
И что на это сказать: нет, я вам не верю? И почему бы не пойти, кстати? Как-то двинулась ее жизнь по заведенному: работа – дом – работа. А это неправильно. Веня всегда говорил, что из такого круга надо вырываться волевым усилием.
– Когда начало? – спросила Таня.
– В семь. Но если вы не против…
– Не против, не против, – поторопила она. – Что?
– Мы могли бы встретиться раньше. Выпить кофе или вина, а потом пойти слушать музыку.
Это прозвучало так чисто и трогательно, что только последняя сволочь отказалась бы.
– Давайте встретимся пораньше, – кивнула Таня. – Где?
Решетов предложил кафе «Чайковский», которое находилось прямо в здании филармонии. Он хотел заехать за Таней, но она отказалась: проще на метро, от Сокола прямая ветка, да и дождь прекратился наконец. Договорились встретиться за час до концерта.
Одевалась она машинально, и это было, конечно, неправильно. Если уж разрывать замкнутый житейский круг, то и к выбору наряда для этого стоило бы подойти вдохновенно. Но вдохновенно не получалось. Впрочем, Таня надела шанелевское маленькое черное платье, купленное в «Галери Лафайетт», стеклянное ожерелье в виде обруча с серебряной нитью внутри, мягкие черные туфли без каблуков, и никто не упрекнул бы ее, что она выглядит обыденно.
По дороге к метро она позвонила Алику, поинтересовалась, где он. Оказалось, действительно сидит в мальчишками в беседке на Звездочке.
– Мы здесь тоже когда-то сидели, – сказала Таня, подходя к ним. – Елку перед Новым годом караулили.
– Зачем? – удивленно спросил один из мальчишек.
– Чтобы не украли. Мы ее тридцатого декабря обычно ставили, а елки тогда были дорогие, и спокойно могли бы ее до новогодней ночи отсюда упереть.
– Это когда такое было?
Другой мальчишка, рыжий, смешной, смотрел с недоверием. Видимо, прикидывал Танин возраст и размышлял, могла ли она жить при первобытно-общинном строе.
– Двадцать лет назад почти. Все по очереди дежурили, днем мамаши с колясками, ночами парочки с поцелуями.
А, вот где она последний раз видела Ванькину жену со свертком в коляске, возле новогодней елки! Надо будет при случае все-таки расспросить его, как семейство поживает.
И сама она сидела с Веней в этой беседке. Возвращались вечером… Откуда возвращались? Да, из Замоскворечья. Веня брал ее с собой в дом, где жили преподаватели Гнесинки, на первом этаже находился книжный магазин, покупателей почти не было, а жильцы заходили часто, поговорить, кофе выпить, стихи почитать. Стихи Таня понимала не очень, а разговоры про стихи понимала даже меньше, чем разговоры про политику. Но разве в разговорах было дело!
Здесь, в беседке, возвращаясь из Замоскворечья, сидели и в последний раз, не вдвоем уже…
Некстати пришло это воспоминание. Таня поморщилась и отогнала его. Физически отогнала, тряхнув головой.
– Я на концерт иду, – сказала она Алику. – А вы можете к нам домой пойти. Суп в холодильнике, разогрейте.
Изумление мелькнуло в его глазах. Показалось, он хочет что-то сказать… Но промолчал. Впрочем, Таня и без слов поняла: удивился, что она отдает дом в его полное распоряжение – сам делай что хочешь, друзей приводи.
«Не боишься?» – спросили его глаза.
Конечно, она боялась. Хорошо помнила, что делали ее дружки-приятели, собираясь компанией в Аликовы годы. Портвейн пробовали и дымили так, будто им за это платят.
Но, во-первых, если он курит, то пусть лучше дома, чем на улице, во-вторых, надо же придумать для него хоть что-нибудь привлекательное, а в-третьих, с виду вроде ничего эти его одноклассники, вряд ли портвейн пьют в одиннадцать лет.
Наверное, ему хочется позвать их к себе домой. Конечно, хочется. Без этого он вряд ли почувствует, что дом – его.
Дня три назад Таня за чем-то полезла в ящик дрессуара и увидела, что бархатный альбом с семейными фотографиями, которые собирала Евгения Вениаминовна, лежит иначе, чем всегда. Открыв его, она поняла, что фотографии кто-то рассматривал. Алик, больше некому. Не все ему безразлично, выходит.
– На звонки не забывай отвечать, – сказала Таня.
Все время, пока шла до поворота, она чувствовала, как напряженный взгляд Алика сверлит ее спину. Но что в этом взгляде, не понимала.
Глава 5
Таня приехала вовремя, но Решетов уже ожидал ее за столиком у окна.
– Здравствуйте, Татьяна, – сказал он, вставая.
И поцеловал ее руку. Это было смешно и трогательно. Она улыбнулась и в ответ поцеловала его в щеку. Щека покраснела, потом побледнела, это даже под загаром было видно.
– Красивое какое кафе, – сказала Таня, садясь и оглядывая состаренную лепнину и зеркала. – Респектабельное.
– Здесь хорошая кухня, – сообщил Решетов. – А выпечка просто изумительная. Я бы вам пирожное с земляникой посоветовал. Ягод в нем целая горсть и прямо лесом пахнут, честное слово.
Похоже, он любил сладкое. Таня улыбнулась.
– Возьмем землянику, – кивнула она.
Официант принес красное вино, очень сухое, как она любила.
– Где отдыхали, Сева? – спросила Таня.
– В Мерсине, – ответил он.
От вина его губы стали не сизыми, а розовыми.
– Мерсина – это где? – заинтересовалась она.
– Мерсин. Это город в Турции, в самой южной части. Прямо напротив Кипра.
– Я про него и не слыхала даже. Только в Анталье была.
– Мерсин совсем другое дело! – воодушевленно произнес он. – Не туристическое, в общем-то, место. А климат изумительный! Влажность низкая, воздух чистейший. Апельсины растут, лаймы, гранаты. В общем, рай. Квартиру я там купил без малейших сомнений.
– Ого! – улыбнулась Таня. – Даже квартиру?
– В том и смысл, – кивнул он. – Чтобы отдыхать по-домашнему. Прилететь на выходные, вещи не собирать, не раскладывать. Я, правда, не на пару дней, а в полноценный отпуск на этот раз летал. Это же мое недавнее приобретение, хотелось насладиться в полной мере.
– И что вы там делали?
– Первые дни совершенно ничего. Дом в ста метрах от берега, все балконы на море выходят. Я и сидел на балконе, смотрел на волны. Мечтал о чем-то, вероятно. Потом стал ходить на пляж.
– Вода не холодная?
– Холодная еще. Но я купался.
Он сообщил об этом с некоторой гордостью, такой же трогательной, как его розовые губы.
– Вы молодец, Сева, – сказала Таня.
Он радостно улыбнулся ее словам и спросил:
– Как складываются ваши отношения с Аликом?
– Он ко мне привыкает.
– А вы к нему?
Она хотела ответить, что привыкает тоже, но поняла, что это было бы неправдой. Нет никакого привыкания – странным образом ей кажется, что Алик был в ее жизни всегда. Но радоваться этому не получается, потому что она понимает, с чем связано такое ее ощущение: он живет рядом с ней тише воды ниже травы, никак не прикасается к ее жизни и ей не дает прикоснуться к своей.
Допили вино, съели пирожные с земляникой, в самом деле вкусные, Сева рассказал еще немного о Мерсине, потом из кафе «Чайковский» перешли в Зал Чайковского.
Таня и вообще не очень разбиралась в музыке, а Шостакович и вовсе не вызывал у нее никаких чувств, кроме тревоги.
«Зачем я вспомнила… всё то? – думала она под надрывные звуки, от которых ей хотелось сжать виски ладонями. – Как назло, в мае все тогда и случилось…»
Только в тот год май был не промозглый, а теплый, к его середине запах черемухи начал сменяться запахом сирени, и оба этих запаха, отступающий и подступающий, обвивали беседку на Звездочке и сидящих в ней мужчину и двух женщин…
«Я не хочу об этом вспоминать! Это прошло, уже не вернется, физически не может вернуться. Я об этом забыла».
Музыка наконец закончилась. Решетов смотрел на Таню сверкающими глазами.
– Поразительно! – воскликнул он. – Шостакович поразительно интеллектуален.
– Да… – промямлила Таня.
«Я зато не поражаю интеллектом», – подумала она при этом.
Вышли на улицу, на переливающееся огнями Садовое.
– Земляника была, конечно, хороша, – сказал Сева, – но неплохо бы и поужинать.
Ужинать Тане не хотелось, оставлять Алика одного слишком поздно не хотелось тем более. Позвонив ему в антракте, она убедилась, что он дома и гости его тоже. Спросила, чем занимаются, получила лаконичный ответ «в саду сидим», забеспокоилась, не курят ли, решила, что все-таки это не худшее, чем они могут заниматься, а так-то вроде бы тихо у них…
– Не получится, Сева, – сказала Таня.
Видно было, что он расстроился. Может, в адвокатской своей профессии он и умеет скрывать свои чувства, но как раз в области чувств – не умеет совсем.
– Я понимаю, – тем не менее кивнул он. – Вы не хотите надолго оставлять ребенка одного.
Таня только теперь обратила внимание, что они зачем-то идут по Садовому к саду «Аквариум», в противоположную от метро сторону.
– А куда это мы идем? – спохватилась она.
– Я машину на углу Малой Бронной оставил, – объяснил Сева. – Отвезу вас.
– Совсем ни к чему, – пожала плечами Таня. – На метро прекрасно доеду. Или на такси. Да, на такси, точно.
Она открыла сумочку, чтобы достать телефон, но Решетов задержал ее руку. Словно бы этим движением, неожиданно порывистым, попросил ее не торопиться.
– Татьяна… – сказал он. – Лучше было бы, конечно, поговорить об этом как-то иначе, не на ходу…
– О чем – об этом? – не поняла она.
– О том… Дело в том… Я все-таки скажу сейчас, раз уж так… Вы мне стали дороги. – Он разволновался, щеки снова пошли алыми и белыми пятнами. – Очень дороги, Татьяна. Вы спрашивали, о чем я думал, глядя на море…
– Я не спрашивала, что вы! – попыталась вставить она.
Но Сева не обратил на ее слова внимания.
– Я думал о вас! – горячо проговорил он. – О том, что мы могли бы сидеть на этом балконе вместе. И мальчик… Я, конечно, ничего не понимаю в детях, но… Я относился бы к нему хорошо. Вы мне не верите?
Он смотрел Тане в глаза взволнованными голубыми глазами. Если б можно было сию минуту провалиться сквозь землю, она сделала бы это не раздумывая.
– Сева, пожалуйста… – пробормотала она. – Я вас очень прошу, не надо… Не говорите мне этого, пожалуйста, не обижайтесь на меня!
Таня махнула рукой и опрометью бросилась в противоположную сторону, к Тверской. Ей было так стыдно, что, казалось, волосы встали дыбом от пронизывающего стыда. Это было не волнение, не любое другое сильное чувство, а только стыд, стыд, стыд!
«Я потом ему позвоню, – крутилось в голове, пока бежала по Садовой и Сева еще мог видеть ее. – Позвоню и все объясню».
Когда Таня свернула на Тверскую и, значит, исчезла из поля его зрения, она остановилась, отдышалась. Хотела вызвать такси, но оно как по заказу само остановилось рядом, выпуская пассажиров возле ресторана.
«Лучше не позвоню, а напишу, – пока таксист стоял на развороте у Центрального телеграфа, думала она, глядя в окно машины на пустую, как кладбище, улицу. – Да, лучше напишу, все ему объясню».
Ближе к Пушкинской площади кладбищенская пустота недавно обновленной Тверской начала хоть немного оживляться. А ближе к Маяковке, до которой обновление еще не добралось, замелькали кафе, сплошь уже закрывшиеся от Кремля до Елисеевского гастронома.
«А что я ему объясню? – подумала Таня. – Кому все это вообще можно объяснить? Никому, наверное».
Глава 6
К вечеру, как ни странно, стало не холоднее, а теплее. Наверное, начинался долгожданный перелом к настоящей весне. Таня почувствовала его, выйдя из такси у поворота с Ленинградки.
Ей хотелось пройтись, потому что она всегда любила это приближение к поселку, и именно весной. Только что вдыхал бензиновые выхлопы на Ленинградском проспекте, и вдруг меняется воздух, наполняется живой прохладой, близко уже сады Сокола…
Но сейчас ни черемуховый дух не радовал, ни тишина знакомых улиц. Стыд, тяжесть ненужных воспоминаний, бессмысленность собственного существования – эта смесь у Тани внутри бурлила посильнее, чем смесь весенних запахов в воздухе.
– Тетя! Идите сюда!
Таня вздрогнула. Голос был испуганный и знакомый. Она обернулась и увидела рыжего мальчишку, который сидел с Аликом в беседке на Звездочке и спрашивал, зачем было охранять новогоднюю елку. Сейчас он смотрел не с превосходством, а со страхом. И вряд ли это был страх перед ней…
– Где Алик?
Таня не выговорила это, а почти выкрикнула – резко, зло, не думая, что может испугать мальчишку, в глазах которого и так уже плещется страх.
– Мы как раз… Мы к вам бежим! – сбиваясь, выпалил он.
– Что с ним?!
– Он вон там!
Рыжий ткнул пальцем вверх, Тане показалось, прямо в небо.
Но не в небо, а в девятиэтажный дом. Одним торцом он был обращен к Ленинградскому проспекту, а другим к поселку художников. И по этому торцу тянулась до самой крыши пожарная лестница. Было уже темно, но и уличных фонарей, и света из окон, и всегдашнего багрового московского вечернего зарева было достаточно, чтобы увидеть на ней темную фигурку, замершую между четвертым и пятым этажом.
Таня почувствовала, как у нее отнимаются ноги. И слабеют, растворяются руки. И нарастает в голове гул.
Рыжий мальчишка что-то говорил ей, но она не слышала или просто не понимала ни слова.
«Надо вызвать МЧС. Но когда приедут? Через полчаса, может. Он не удержится столько».
Она удивилась бы резкой ясности своих мыслей, но не было у нее сейчас времени на удивление. Так же, как не было его и на страх.
И на странное растворение собственного тела – рук, ног – не было времени тоже: Таня уже стояла под стеной дома у пожарной лестницы.
Лестница была старого образца: поперечные перекладины между вертикальными станинами. До земли она не доставала, и влезть на нее было бы невозможно, но под ней к стене дома была приставлена другая лестница, деревянная. Кто ее приставил, зачем, было непонятно, но сейчас и не важно.
Таня сняла плащ и бросила на асфальт вместе с клатчем. Клатч открылся, что-то выпало из него.
– Мы подберем! – воскликнул мальчишка.
Хоть туфли удобные, а ведь хотела на шпильках… Хорошо, что все-таки эти надела, совсем без каблуков… А то босиком по металлическим перекладинам не получилось бы…
По деревянной лестнице она вскарабкалась как белка. Но когда ладони легли на первую металлическую ступеньку…
Высота была единственным, чего Таня боялась. Она поняла это еще в детстве – церквей в Болхове было много, в какой склад, какая и просто закрытая стояла, разрушаясь потихоньку. Это уж потом некоторые из них стали реставрировать, а когда Танька в младшие классы ходила, то все ее ровесники лазали по церквям, соревновались, кто на колокольню заберется, кто по балке под самым куполом не держась пройдет и голова не закружится. Она один раз попробовала, но у нее-то как раз голова и закружилась, да так, что пришлось встать на карачки и под общий хохот пятиться обратно, стараясь не смотреть вниз. После того случая Таня ни на какую верхотуру не лазила, хотя трусливой вовсе не была, в Нугрь прыгала не задумываясь. Ну так ведь то в воду, а когда пустота внизу… Грохнешься – костей не соберешь.
Этих воспоминаний и размышлений хватило только до третьего этажа. Потом все, что имело связь с разумом, вышибло ударом адреналина. Он пришелся кстати: слабость в руках и ногах исчезла, гул в голове затих, а слух, наоборот, обострился.
И обострившимся своим слухом, и руками, и ногами Таня расслышала тоненькое поскуливание, почувствовала мелкую дрожь, идущую вдоль всей металлической лестницы, по которой она взбиралась все выше и выше.
Алик точно так же лез по ней, лез и вдруг, в одно мгновение понял, что висит над бездной. Не запнулся, не споткнулся, просто понял, что за спиной у него смерть и холодные железки – это единственное, чем он прикреплен к жизни.
Он будто сам сказал ей об этом. Таня никогда не могла понять, что у него на уме, но то, что он чувствует сейчас, было ей яснее ясного. И понимание это тоже не имело связи с разумом, оно шло из самой глубины ее существа, как идет по родовым путям ребенок.
– Алька, – негромко, но отчетливо проговорила она, – руки не отпускай. И не двигайся. Я через тридцать секунд буду возле тебя. Через двадцать пять.
Она действительно добралась уже до четвертого этажа. Еще несколько ступенек, и сможет коснуться его кроссовок – вон, подошвы темнеют.
Сможет – и что? Что она будет с ним делать?
«Дура! Нашла о чем… Доберешься – поймешь, что делать».
Она почти вслух это выговорила, почти выкрикнула. Но не выкрикнула, конечно. Еще не хватало совсем его перепугать!
Его подошвы коснулись Таниной макушки. Быстро добралась. И не устала совсем. Странно.
Еще более странной казалась ей ясность собственных мыслей в такую минуту. А может, именно в такую минуту и должны они ясными быть.
– Алька, ты не поранился? – твердым, без дрожи голосом спросила она.
– Нет…
– Спуститься сможешь?
Сначала Тане показалось, что он молчит. Но потом в тоненькой скулежке, которую она слышала больше руками, чем ушами, различились слова:
– Бою-у-усь… Б-бою-у-усь…
Он понял то же, что поняла однажды и она почти тридцать лет назад, карабкаясь по такой же какой-то лестнице, или перекладине, или балке, теперь уж не вспомнить: что за спиной ничего, кроме смерти. И это неожиданное понимание сковало его мгновенно, будто страшное волшебное слово.
– Бояться нечего. – Таня поднялась еще на две ступеньки и легонько, чтобы не напугать еще больше, коснулась лбом его ног. – Я же прямо у тебя за спиной, ты же слышишь. Стою, ничего со мной не делается. Лестница крепкая. Вместе спустимся. Не так уж тут высоко.
А бездна-то за собственной спиной не пугает ее совсем. Странно, да, странно.
Но и об этом думать сейчас незачем.
Единственное, чего она боялась: что Алик физически не способен ни к какому движению. Ноги затекли, руки онемели, да мало ли!.. Что ей делать в этом случае, неизвестно.
Но ей повезло: ничего такого с ним не случилось. Или, может, то, что Танин голос упирается прямо ему в спину, а ее лоб в ноги, взбодрило его.
Таня почувствовала, что его правая нога шевельнулась и стала опускаться вниз.
– Отлично, – сказала она. – Ступеньку нащупал? Ага, она. Руки не отпускай, главное.
– Не… – пробормотал он.
Хоть не скулит больше, уже хорошо.
Таня спустилась на одну ступеньку ниже только после того, как Алик одолел первые две ступеньки. Потом еще ниже, в такт с ним, и еще. Да, это правильный ритм: он все время будет чувствовать, что пустоты нет у него за спиной, он будет это знать. Только страх ведь парализовал его, абстракция, а теперь само тело подсказывает ему, что бояться больше нечего. Обманывает, конечно, есть чего бояться, очень даже есть. Но пока этой подсказки, будто все плохое позади, ему достаточно для того, чтобы нащупывать ногами ступеньку за ступенькой. Может, хватит иллюзии бесстрашия и до самой земли. Должно хватить. Должно.
То ли думая, то ли без слов проговаривая все это, Таня спускалась вниз в такт его шагам. Шанелевское платье оказалось таким же удобным на пожарной лестнице, как в концертном зале: не стесняло движений, вообще не было помехой телу.
Сколько еще ступенек осталось, она не знала. Один раз чуть не глянула вниз, чтобы понять, да вовремя сообразила, что делать этого нельзя.
– Скоро? – как раз в тот момент спросил Алик.
Успех ободрил его, и голос звучал уже не испуганно, а только жалобно.
– Да, – сказала Таня, хотя вовсе не была в этом уверена.
И все-таки так оно и было. Она услышала снизу:
– Становитесь на лестницу! Мы держим.
Мальчишечьи голоса звучали совсем близко. Таня нащупала ногой верхнюю ступеньку деревянной лестницы.
По ней она не спустилась, а сползла – силы кончились в ту самую минуту, когда поняла, что – всё.
Всё!
Она схватила Алика за ремень джинсов и держала до тех пор, пока и он не оказался на земле. Потом села рядом с лестницей, привалившись к ней спиной.
– Он сам туда залез! Мы даже не подначивали!
Кажется, это проговорил рыжий. А может, другой кто-нибудь. Мальчишки стояли кружком. Подняв голову, Таня увидела над собой их взволнованные лица.
И Алик стоял в этом кружке. Только лицо у него было не взволнованное, а неподвижное. Просто белое пятно.
– После разберемся, – сказала Таня, вставая.
Она надела плащ. Ноги у нее дрожали, но идти она все-таки могла. А Алик?
– Пойдем? – спросила Таня.
Он кивнул. Но с места не тронулся.
Таня взяла его за руку. Рука была холодная, как будто не май на дворе, а лютый февраль. Она легонько потянула его за собой, и он пошел не сопротивляясь.
– Вы сумку забыли, – сказал рыжий. – Сашка, возьми.
Он протянул Алику клатч, и тот взял его. Только возле калитки отдал клатч Тане, и она достала из него ключи от дома.
Глава 7
В дом вошли молча. Вешалка в прихожей висела на одном гвозде, как будто на ней кто-то подтягивался.
А и подтягивался, может. Сама виновата. «Надо же придумать для него хоть что-нибудь привлекательное»! Допридумывалась, дура набитая.
«Все обошлось! – напомнила себе Таня. – Теперь умнее буду».
– Они правда не подначивали, – сказал Алик. – Я сам туда залез.
Он смотрел исподлобья. Светились карие Венины глаза. Что он думает, Таня перестала понимать снова. На лестнице чувствовала его мысли, но лестница кончилась. Все вернулось на круги своя.
– Я поняла, поняла. – Силы выходили из нее с каждым словом, с каждым движением. – Давай спать ляжем, а? – попросила она.
Кажется, таким же жалобным голосом, каким он спрашивал, далеко ли еще до земли.
В большой комнате все было перевернуто вверх дном. Правда, стулья лежали на полу в некотором порядке – похоже, изображали что-то, необходимое для игры.
– Я сейчас все уберу! – сказал Алик.
– Сейчас не надо, – помотала головой Таня. – Сейчас спать. Пожалуйста.
– Ладно.
Он постоял немного, ожидая, может быть, не скажет ли она что-нибудь еще. Но у нее больше не было сил даже на слова.
Алик поплелся по лестнице на второй этаж. Дверь в его комнату закрылась беззвучно. Таня постояла немного, собираясь с силами, чтобы тоже подняться наверх. Или лучше постоять под горячим душем? Или под холодным? Сил не было ни на одно, ни на другое, ни на третье.
Что томило ее и мучило, что, ей казалось, исчезло, когда она увидела Алика, прижавшегося к зыбкой лестнице между четвертым и пятым этажом, – не исчезло, оказывается, а лишь отступило на то краткое время, когда все, что составляло ее натуру, собралось только в теле, позволив ему совершить необходимое физическое действие.
А теперь, когда физическое действие было уже не нужно, воспоминание нахлынуло на нее такой волной, в которой у нее не было ни малейшей возможности выжить. Она захлебывалась в этой волне, хватала воздух ртом – и тонула, тонула!..
На подгибающихся ногах, в самом деле хватая ртом воздух, невыносимый воздух жизни, Таня добрела до двери, ведущей в сад, распахнула ее и почти вывалилась из комнаты.
Тишина стояла полная, кромешная. Сирень склоняла ветки над скамейкой у забора. Таня упала на эту скамейку и, обхватив голову руками, затряслась, тонко, беспомощно вскрикивая:
– Зачем?! Заче-ем?.. Ты не должен был… Почему ты так со мной?! Не должен ты был со мной… так!..
Она раскачивалась из стороны в сторону, и звуки, срывающиеся с ее дрожащих губ, мало напоминали человеческую речь.
Но этими несвязными словами она проговаривала все, что было главным мученьем ее сегодняшнего дня, что было сильнее страха перед бездной и сильнее даже стыда.
– Тань… Тань… Не надо, а? Я больше никогда!.. Тань, ну пожалуйста!
Она подняла голову. Алик тряс ее за плечо, его глаза блестели, потому что в них стояли слезы.
– Я больше никогда тебе такого не сделаю! – уже не сдерживая их, крикнул он. – Лучше сдохну, Тань! Ты же… Ты…
Он махнул рукой и разревелся в голос.
– Саша! – Притянув за руку, она посадила его рядом с собой на скамейку. – Ты что? Да я не про тебя! Господи, совсем не про тебя же!
– А про кого?
Он заглянул ей в лицо. В его слезах блеснуло любопытство.
– Про отца твоего! Что он со мной сделал?! Я же ничего теперь не могу, ничего! Полюбить никого не могу! С любым расстаюсь без печали. И человек порядочный, хороший, а я смотрю и думаю: нет, не он. А при чем здесь он? Его же нету, нету! Даже жить из-за него так не могу, как все живут! Чтоб ни до чего мне дела не было, ни на что внимания чтоб не обращать, как все нормальные люди… Везде – он, он, во всем он! Я же такая стала, как он хотел, а зачем, зачем?! Он не должен был меня бросать!
До нее вдруг дошло, что она говорит все это ребенку, который не понимает ни слова, потому что для него не существует прошлого. Того прошлого, лучше которого не было ничего в ее жизни и уже не будет. Того прошлого, до которого не дотягивается все, что теперь способна дать ей жизнь.
– Не обращай внимания, Алька. – Таня шмыгнула носом и провела по нему ладонью. – Саша то есть.
– Зови Аликом. Он тоже так звал. Мне нравится вообще-то.
– Ладно, – улыбнулась Таня.
Кривовато, едва-едва, но уже могла она улыбаться.
– Я думал, ты меня не возьмешь, – вдруг сказал он.
– Куда не возьму? – не поняла Таня.
– Из детдома. Не станешь забирать. Ну, после того… В магазине. Думал: оно тебе надо, такого брать? Или возьмешь, а потом обратно сдашь.
Таня все-таки не понимала, о чем он, а когда поняла наконец…
– Господи! – воскликнула она. – Так ты все время об этом думал?!
– Ну да. А ты б сама не так думала?
– Так, – согласилась она. – Я сама так и думала. Сидела вон там, на чердаке, в окно слуховое смотрела и думала: если Веня, отец твой, Вениамин Александрович, меня не выгонит, то прямо на чердаке могу жить, только бы оставил.
– Это когда ты такое думала? – удивился Алик.
– В твоем примерно возрасте. Я-то похлеще была Маугли, чем ты.
Таня видела, что ему страшно любопытно узнать, почему она так думала, при чем тут Маугли, что вообще происходило в этом доме, когда его самого еще и в помине не было. Любопытство блестело у него не только в глазах, но даже на кончике носа.
– Иди спать, Алька, – сказала она.
– А ты?
– Я потом.
– Не. – Он покачал головой. – Я тогда тоже потом.
– Да ты не бойся… – начала Таня.
– Ты правда не бойся, Александр Вениаминович, – раздалось у нее над головой.
От неожиданности Таня вскрикнула и подпрыгнула.
Иван Гербольд смотрел на нее, раздвинув кусты сирени. Он высился над забором, сиреневые дудочки падали на его коротко стриженную голову.
– Ванька! – сердито воскликнула Таня. – Ты сдурел? Нельзя же так орать!
– А сами? – заметил он. – На весь Сокол. Мертвый бы услышал. А я живой вроде.
При этих словах в его голосе не прозвучало уверенности.
– Иди правда спать, Алик, – сказал Иван. – Я с ней посижу.
– Я что, душевнобольная? – фыркнула Таня. – Сиделка не нужна.
– Иди, иди.
Иван подтолкнул Алика, тот посмотрел на него исподлобья, но без разговоров двинулся к стеклянной двери, ведущей из сада в дом.
– Смотри ты, как тебя слушается, – сказала Таня, когда эта дверь закрылась за ним.
– Не то чтобы именно меня.
– В смысле?
– Да он сейчас только и хотел кого-нибудь послушаться, – пожал плечами Иван.
– Ну да? – не поверила Таня. И тут же вспомнила: – А ведь ты и правда понимаешь про него! Говорил, что он от меня чего-то плохого ждет, за завтраком, помнишь? Так и было, оказывается. А как ты узнал? – с любопытством спросила она.
– Узнал, и все. Почувствовал.
По тому, как резко он ответил, Таня поняла, что говорить об этом ему почему-то неприятно. Да и понятно почему: мужчины не любят, когда их уличают в излишней чувствительности. А он очень уж мужчина.
Таня окинула взглядом его тяжелую фигуру. Словно в ответ на ее взгляд, Иван поставил ногу на рейку, скрепляющую штакетник, и перемахнул через забор. Все соколянские дети так сокращали себе путь друг к дружке, не улицами же обходить.
Он сел рядом с Таней на скамейку. Она хотела снова сказать, что сидеть с ней не надо… Но не сказала. Должен же кто-то быть с человеком, когда ему невыносимо тяжело. Ну так пусть будет он. Он – ее детство. Ее юность. В его доме блеснули ей веселые огоньки австрийских фруктов, будто сказав, что жизнь может быть ясной и радостной. Видно, поэтому, когда он сидит рядом, то уже не остается места мучающим ее воспоминаниям.
Хотя никуда они не деваются все же. И уже не денутся, наверное.
Глава 8
Если бы не Веня, в колледж этот она ни за что не поступила бы. Портрет, натюрморт в цветных карандашах и в пастели, еще и в акриле могут предложить, и в акварели! Школьный кружок, в который Таня ходила в Болхове, ничему такому научить не мог. Да еще ведь историю сдавать, еще русский язык…
Когда Веня нашел в справочнике этот Московский художественно-педагогический колледж технологий и дизайна, когда сообщил ей, как в него поступают, Таня даже зажмурилась и головой замотала от испуга.
– Я не смогу! – воскликнула она. – Я просто парикмахершей хотела… На курсы пойти. Но это же… Я такое не смогу!
– Прекрати, – поморщился он. – Что значит не смогу? Откуда ты знаешь? – И сердито добавил: – То в Мэрилин Монро рвалась, никак не меньше, то – в вокзальной парикмахерской буду работать, на большее не рассчитываю. Черт знает что!
Таня мгновенно прикусила язык. Она на все была готова, только бы он был ею доволен. Или не сердился хотя бы.
Он съездил на Мурманский проезд, поговорил с директором колледжа и записал Таню на курсы, которые должны были начаться через полгода и без которых не допускали к экзаменам. А пока курсы не начались, она стала ходить на уроки к Гербольдам. Николай Васильевич сам взялся заниматься с ней и портретом, и натюрмортом. То есть не сам, а по Вениной просьбе, конечно.
Два раза в неделю она ездила к репетиторам по истории и по русскому, а уроки французского давала ей Евгения Вениаминовна. В институте иностранных языков та работала теперь только на четверть ставки и взялась учить Таню с удовольствием.
– Кстати, попробую с тобой новую методику, – сказала она. – Тебе надо быстро усвоить основы языка, чтобы сравняться со всеми, а для этой цели она подходит идеально.
Методика заключалась в том, что на первом занятии Тане не было понятно ни единого слова, она могла только однообразно повторять какие-то словесные конструкции вслед за Евгенией Вениаминовной. На втором занятии ни единого слова не было понятно тоже, но материал первого давался уже почти что легко, а если вернуться к нему не после второго, а после четвертого занятия, то весь этот материал уже казался проще простого.
Веня сказал, что поступать она будет на международное отделение. Таня заикнулась было, что туда ведь конкурс бешеный, но он отрезал:
– Учиться на деревенского цирюльника не имеет смысла. Профессия универсальна по самой сути, глупо этим не воспользоваться в полной мере.
Таня не решилась спорить.
На международном отделении учили французский и английский, притом оба языка не с нуля. По-английски Таня хоть что-то знала после школы, хоть читать могла, а французский был для нее темным лесом и пугал ужасно, потому что все слова в нем надо было читать совсем не так, как они написаны.
То ли методика была хорошая, то ли по другой какой причине, но после месяца занятий она уже недоумевала: а что ж страшного-то находила во французском языке?
– Это потому что ты очень способная, Таня, – объясняла Евгения Вениаминовна. – У тебя быстрый и точный ум, ты открыта новому. Плюс упорства не занимать. Все будет хорошо, не беспокойся. Все восполнишь, чего недобрала.
Все вокруг говорили ей, что все у нее получится – и преподавательница истории, и Николай Васильевич, и даже Ваня Гербольд. Нэла училась в Берлине, а с ним Таня виделась во время своих занятий. После женитьбы он жил отдельно, но у родителей бывал часто.
Про натюрморт с тарелкой, кувшином и брошкой в виде зеленого яблочка из коллекции австрийских фруктов – Таня изобразила все это акварелью – он сказал:
– Живое яблоко тоже положи. Чем больше неожиданного, тем больше в этом тебя. Интереснее получится.
Она так и сделала, добавила в композицию яблоко из гербольдовского сада, и в самом деле вышло интереснее, живее. Даже удивительно – художественных способностей у Ваньки не было, сам говорил, но подсказал он правильно.
Когда она спросила у Вени, почему так, тот ответил:
– Иван способен к эмпатии. Даже слишком, я бы сказал. Ну и понимает жизнь в целом, потому понимает и частности.
Что такое эмпатия, Таня не знала, но переспрашивать не стала. Веня бывал дома редко. То ли на работе допоздна задерживался, то ли еще где, не узнаешь же, и на выходные, случалось, исчезал тоже. В первый год, прожитый в левертовском доме, Таня видела его так мало, что каждая минута с ним казалась ей драгоценной, и жаль было тратить эти минуты на какие-то посторонние расспросы. Это уже на следующий год, когда стала учиться в колледже, то привыкла, что он есть, хотя по-прежнему просыпалась по утрам и, вспомнив об этом, зажмуривалась от счастья: есть он, есть, увижу его за завтраком, может, или вечером, тоже хорошо… Она впитывала его в себя, как пересохшая земля впитывает воду, и все в ней от этого расцветало.
Когда она начала учиться, то заметила, что Веня стал проводить с ней больше времени. Это, несомненно, были связанные вещи, что она теперь студентка и что она стала ему интереснее. Поняв это, Таня набросилась на учебу, которую и без того уже полюбила, с такой самоотверженностью, что Евгения Вениаминовна стала беспокоиться за ее здоровье.
Но она была здорова, она была счастлива, потому что Веня все чаще стал разговаривать с нею, стал брать ее с собой то в театр, то в гости к своим друзьям, и она больше не впадала от этого в панику: не волновалась, что не знает, куда встать и что сказать. Таня ловила его взгляд и почти всегда встречала в этом взгляде одобрение тому, что она говорит и делает, и довольно быстро догадалась, что достаточно делать то, что кажется ей естественным, и это понравится ему.
Это не сразу стало так, это было ново для нее, и она с замиранием сердца ждала, когда придет то, чего она ждала больше всего на свете, про что он сказал ей ночными горчащими губами: «Не торопи меня», – и знала, что это придет непременно. Ей было непросто этого ждать, слишком ее тянуло к нему всю, и телом не меньше, чем душой. Но если прикосновение к нему душой становилось все отчетливее с каждым днем, то телом… Нелегко ей было выдержать свою отдельность от единственного мужчины, при одной только мысли о котором ее будто током пронизывало.
Но и в самом ожидании было так много счастья, что Таня не считала дни, проходящие в нем, пустыми. Счастливые это были дни, огромные в своем содержании.
И так это было до того дня, который переменил ее жизнь безвозвратно.
Это был не день, а вечер. Обычный вечер раннего мая. Сгустились сумерки, шел дождь. Таня сидела за столом в большой комнате и старательно вырисовывала на листах ватмана задание по специальности – прическу в стиле барокко: локоны и пучки, зигзагообразный пробор, челка с напуском… Ветки сиреневого куста, разросшегося под окошком, стучали в стекло. Она закончила с барокко и, придвинув к себе новый лист, взялась за прическу в футуристическом стиле – неровные края, асимметрия, необычный цвет… Футуристический стиль нравился ей больше, она даже язык высунула от усердия.
– Подъехал кто-то, – сказала Евгения Вениаминовна; она вязала, сидя за другим концом стола. – Слышишь, у ворот остановился?
Таня глянула в окно. У ворот действительно стояла большая машина с включенными фарами. Машина посигналила – длинно, потом два раза коротко, потом снова длинно. Это был сигнал для своих, Веня так звонил в дверь, если забывал ключи. Но машина была незнакомая.
– Кто такие? – пожала плечами Таня.
Ей стало тревожно, почти страшно. Наверное, из-за Вениной работы – она никогда не ждала от нее хорошего. Даже сказала ему однажды, что у таких, как он, должна быть охрана. С президентом же работает, мало ли что!..
– Конспирологию оставь, пожалуйста, – поморщился он. И, догадавшись, что она не знает этого слова, пояснил: – Не строй у себя в голове теории заговора. Я не делаю ничего особенного. Должностными возможностями не торгую. Обычная юридическая работа. От чего меня охранять?
Возразить на это Тане было нечего, но все равно она за него боялась.
И сейчас ей вдруг представилось, что это его привезли на большой черной машине раненого или даже… Она вздрогнула.
– Я открою, – сказала Евгения Вениаминовна.
Может, ей тоже представилось что-нибудь подобное.
– Еще не хватало! Сама открою.
На крыльцо они вышли вдвоем.
– Кто здесь? – спросила Евгения Вениаминовна.
Водительская дверца открылась. Из машины выбрался огромного роста мужик, широкий, как шкаф.
– Евгения Вениаминовна! – зычно воскликнул он. – Драгоманов я! Вася Драгоманов, помните?
– Боже мой! – воскликнула та. – Васенька! Как же не помнить! Заходи, заходи скорее, не стой под дождем.
Открылась дверца с пассажирской стороны, из машины вышла женщина, потом обе дверцы хлопнули, закрываясь… Все это были обычные приметы неожиданных, но радостных гостей.
– Ставь чайник, Таня, – сказала Евгения Вениаминовна.
Таня пошла в дом, но в дверях обернулась. Огромный Вася доставал что-то из багажника машины, а женщина шла от калитки к дому с большим букетом. В сумерках казалось, что тюльпаны светятся в ее руках. Или что сама она светится?.. Да, именно так: она шла в сплошном сиянии, и невозможно было думать, что это просто преломление света от уличных фонарей.
Большая комната сразу наполнилась голосами, смехом, как будто в нее вошли не два человека, а целая компания. Правда, Василий Драгоманов один стоил десятерых, во всяком случае, по тому, как много места занимала его большая фигура.
Легко, будто коробку конфет, Василий внес в комнату здоровенный ящик.
– Сахалинские гостинцы, – сказал он.
Чаепитием дело, конечно, ограничиться не могло. Евгения Вениаминовна всегда говорила, что из приличного дома никто не должен уйти голодным, и хотя Вася Драгоманов не производил впечатления изголодавшегося, она, конечно, собиралась накормить его ужином.
– Идите к гостям, – сказала Таня, когда та забежала в кухню. – Все сама подам.
– Счастье, что я плов приготовила, – сказала Евгения Вениаминовна. – Возьми под него блюдо узбекское, Таня. Знаешь, с голубым рисунком? Надо же, будто почувствовала! Вася с детства плов любит.
– А он кто? – спросила Таня.
Плов стоял на плите горячий: Евгения Вениаминовна засыпала в казан рис, когда час назад Веня позвонил и сообщил, что выезжает с работы домой.
– Драгомановых младший сын, – ответила она. – Помнишь, я тебе рассказывала? Соседи наши, когда здесь коммуналка была, они переехали потом.
Ага, теперь Таня вспомнила. Все-таки не переставала она удивляться! Уж если б к ней подселили каких-то непонятных людей, она б только перекрестилась, спровадив их. И вряд ли их появление – через сколько там, через двадцать, что ли, лет или больше даже? – доставило бы ей радость.
Когда Таня внесла в гостиную большое блюдо с пловом, стол был накрыт скатертью, и тарелки, бокалы, приборы были уже расставлены. Всегда здесь так бывало – если Веня приезжал с гостями, то стол накрывался за пять минут, все для этого было готово.
– Все как было, – обводя стол довольным взглядом, заметил Василий Драгоманов. – Эх, теть Женя! Мать, покойница, всегда вот это вспоминала. К Левертовым, говорит, и ночью люди придут, всегда их накормят-напоят. Хоть наскоро, хоть каши гречневой с жареным луком, а приготовят.
– Познакомься, Васенька, – сказала Евгения Вениаминовна. – Это наша Таня.
Что значит наша, кем она приходится Левертовым, Драгоманов не спросил. Он окинул Таню быстрым взглядом, словно оценил ее вес, широко улыбнулся и сказал:
– Будем знакомы, Тань. А это жена моя. Аделина.
Таня обернулась. Жена его Аделина стояла в дверях, держа большую прозрачную вазу. Видно, воду в нее ходила набирать. Таня еле удержалась от того, чтобы разинуть рот.
Никогда в жизни она не видала такой красоты. Аделина была совершенна, как драгоценный камень в тонкой оправе, то есть природное совершенство соединялось в ее облике с отделанностью, продуманностью формы, которая была ему придана.
Какие там пучки и локоны барокко, какая там футуристическая асимметрия!.. Человеческой рукой не сделать, чтобы волосы падали на плечи такой свободной темно-золотой волной. И никаким макияжем не придашь такого блеска глазам. Присмотревшись, Таня поняла, что глаза у Аделины Драгомановой необыкновенные. Крыжовник бывает таким, когда его зелень переходит в спелость и ягоды светятся поэтому то одним, то другим цветом.
– Вася много о вас рассказывал, – сказала Аделина. – Ни о ком я не слышала от него таких добрых слов, как о Левертовых.
Она улыбнулась, и сияние, исходящее от ее лица, сделалось сильнее. Говорила она необычно. С акцентом, что ли? Во всяком случае, с какой-то неуловимой интонацией. Такая была у Анны Герман, когда она пела про то, как светит незнакомая звезда.
«Да-а… – подумала Таня. – И как такой Вася такую жену отхватил?»
Даже ее житейского опыта было достаточно, чтобы понять разницу между супругами Драгомановыми. Впрочем, она такие вещи всегда улавливала сразу. Заметила ведь подобную же разницу между Ваней Гербольдом и его молодой женой, хотя там разница была гораздо менее очевидна.
– Садитесь за стол, – сказала Евгения Вениаминовна.
– А Венька где? – спросил Василий. И пояснил, глядя на жену: – Мы с ним в детстве то и дело дрались. Силами мерились. А сейчас за счастье вспоминаю.
– Через полчаса будет, я думаю, – сказала Евгения Вениаминовна.
– Тогда, может быть, дождемся его? – предложила Аделина.
– А плов? – возразила та. – У Вени такая работа, что могут в дверях неизвестно на сколько еще задержать, а плов надо есть горячим.
Но никто его не задержал. Когда первая порция плова была съедена и выпита первая рюмка коньяка за встречу, от дверей раздалось:
– Вот это да! Василий Палыч, ты ли?
– Я, Вениамин Александрыч!
Василий поднялся из-за стола и пошел навстречу соседу и другу своего детства. Они обнялись. Таня тем временем взяла со стола узбекское блюдо и пошла в кухню, чтобы подложить горячего плова. Она видела, что Веня хоть и рад приезду Драгоманова, но сильно усталый – лицо осунулось, глаза щурятся от недосыпа. Удивляться нечему: неделю он был в командировке в Сибири, вернулся рано утром после ночного перелета и сразу поехал на работу, только душ принял, и не прилег даже.
Когда Таня с блюдом плова в одной руке и с тарелкой нарезанных помидоров в другой вернулась в комнату, все уже сидели за столом и по второму кругу выпивали за встречу.
Стол был большой, четыре человека размещались за ним свободно. Поставив на него блюдо и тарелку, Таня пошла к своему месту рядом с Василием и Евгенией Вениаминовной, наискосок от Вени и Аделины…
Этого невозможно было не почувствовать. Даже просто не увидеть. Да, это было именно видно, видно воочию. Они сидели поодаль друг от друга, но сияние озаряло теперь их обоих. Как такое получилось, почему, было непонятно. Но от непонятности, от необъяснимости это не становилось менее очевидным.
– Потолка своего достиг на Сахалине, – рассказывал Василий. – Рыболовецкий бизнес освоил в полном объеме. А по-человечески себя не исчерпал еще. Хочется пошире взять.
– То есть в Москву ты перебираешься насовсем? – спросила Евгения Вениаминовна.
– Это как дела пойдут! – хохотнул Василий. – Может, и дальше двинусь. В Европу, в Америку, не исключаю. Но пока да, Москву буду брать.
Его жена молчала, Веня тоже. Они не смотрели друг на друга, но Тане вдруг показалось, что они – один человек. Это было так странно, так как-то… страшно, что она поежилась.
– А с жильем у тебя что? – спросила Евгения Вениаминовна. – Пока определишься, можете у нас жить сколько понадобится, ты же знаешь.
– Спасибо, теть Женя, – кивнул тот и опрокинул в рот очередную порцию коньяка. – Сегодня переночуем. Расслабился я, неохота в отель возвращаться. А завтра дом здесь хочу снять, в поселке. Детство тут прошло, сами понимаете, воспоминания, то-се. Раз в Москву возвращаюсь, так уж сюда. Я б и сразу дом тут купил, если есть на продажу.
– Снять можно, на Верещагина, по-моему, сдается дом. А с покупкой много сложностей, – покачала головой Евгения Вениаминовна. – Самоуправление наше очень в этом смысле придирчиво. Не каждому дают разрешение.
– И правильно, – кивнул Драгоманов. – Нечего тут не пойми кому. Ну, сниму пока, значит. А там, глядишь, и лояльность свою докажу. Венька поможет, – подмигнул он. – Ты ж теперь большая шишка, Вень. Мы у себя тоже наслышаны.
– Для нашего самоуправления это значения не имеет, – улыбнулась Евгения Вениаминовна. – Попросись сюда хоть сам президент, отнесутся скептически.
– Правильно, правильно, – снова кивнул Василий. – Ну, давайте за успех.
Он подмигнул Тане и выпил. Веня молча смотрел на Аделину. Таня взяла бокал и поняла, что у нее дрожат руки.
Пили, вспоминали детство, рассказывали, как жили все годы, что не встречались… Родители Василия давно умерли, Евгения Вениаминовна и Веня виделись с ним последний раз на их похоронах, а сам он приезжал на похороны уже с Сахалина, куда перебрался сразу после техникума.
– И правильно, скажу тебе, Венька, я сделал, что уехал тогда, – говорил он. – Хорошо там развернулся. С японцами у меня дела, вообще, стою крепко. Да и судьбу, видишь, тоже там нашел.
Он кивнул в сторону жены. Та уже ушла из-за стола и, устроившись за ломберным столиком в углу, разглядывала левертовский семейный альбом. Веня сидел теперь к ней спиной. Иногда она поднимала взгляд от фотографий и смотрела на него. В эти мгновения он замирал и будто спрашивал, не оборачиваясь: «Что?» А она молчала, улыбаясь краем губ, и глаза ее становились из золотых зелеными.
– Евгения Вениаминовна, можно, я посмотрю вашу сирень? – спросила Аделина, откладывая альбом.
Все обернулись к ней.
– Конечно, – кивнула Евгения Вениаминовна. – Уже темно, правда, но в саду фонарики, можно разглядеть. Еще не расцвела, но вот-вот. Я покажу, если хотите.
– Спасибо.
Аделина улыбнулась. Веня смотрел на нее. Таня увидела, как у него судорожно дернулось горло.
– Я ее, если честно, из серьезной передряги вытащил, – глядя вслед уходящей жене и понизив голос, сказал Василий. – Биография у нее по родителям непростая, помотало их сильно, ну, такое вам, Левертовым, по себе известно. А муж у нее был опасный мужик, прямо сказать, бандит, хоть и не урка. Числился бизнесменом. Ну, это сейчас не разберешь, да, кто бизнесмен, кто бандит.
– Она не похожа на жену бандита, – произнес Веня.
Когда Аделина вышла, бледность как-то схлынула с его лица. Он словно в себя пришел.
– Однако так и было, – хмыкнул Василий. – Но с нее он пылинки сдувал, чисто князь с ней обращался. От рака сгорел за месяц. Тяжело бы ей одной пришлось, такая женщина, сам понимаешь, не для суровых наших краев. А тут я. Сначала думал, позанимаемся, как говорится, любовью и разойдемся, как в море корабли. Ну а что? У колодца быть да не напиться? А потом зацепила она меня. Судьба, говорю же. Поженились – и в Москву.
Таня тихо вышла из комнаты. Могла бы, правда, и дверью грохнуть, Веня не услышал бы.
Глава 9
Драгомановы остались ночевать, а назавтра в самом деле сняли дом на улице Верещагина. Таня вздохнула с облегчением.
Уже следующим утром, когда завтракали, она не понимала, что это вчера такое было. Откуда взялся ее страх, с чего ей померещилось, будто Веня как-то особенно связан с этой Аделиной? Женщина как женщина, ну, красивая, мало ли красивых? На любой вечеринке, куда он брал ее с собой, красавиц бывало столько, что глаза разбегались. Кроме книжного магазина в Замоскворечье разве что. Там женщины в основном собирались не красивые, а умные. На их и Венин счет Таня тоже не беспокоилась, кстати. Она не считала себя ни особенно красивой, ни тем более умной, но что-то подсказывало ей, что и не в красоте дело, и не в уме как таковых.
Таня обрадовалась, когда через две недели после визита Драгомановых Веня снова повел ее на воскресные посиделки в замоскворецкий книжный. Она мало понимала из того, что там говорилось, но ей нравилось, каким он становился, когда оказывался в той части своей жизни. Это было место, питающее его разум и дух, так он сам объяснил ей однажды, и она стала относиться к пыльному помещению книжного магазина с благоговением.
Ехать решили на метро. Веня пользовался им время от времени, чтобы не превратиться в идиота: так он говорил. Ну а Таня была готова и пешком идти, лишь бы с ним.
Они и пошли пешком через поселок, медленно, никуда не спеша.
– Как твоя учеба? – спросил Веня. – Редко тебя вижу, и поинтересоваться некогда.
– Хорошо, – с готовностью кивнула Таня. – Я уже и работать могу вообще-то. По специальности у меня лучше всех получается.
– Успеешь поработать. Учись как положено.
– А что сегодня в Замоскворечье будет? – спросила Таня.
Она радовалась, что идет с ним по солнечной майской улице, и только что не повизгивала, как разгулявшийся щенок.
– Стихи будут читать.
– Кто?
– Не знаю.
Какая-то рассеянность была в его тоне, в его взгляде. О чем он думает? Это всегда было для Тани тайной за семью печатями. Ну и что? Главное, что он идет рядом, молчит, говорит, улыбается, смотрит…
Проследив за его взглядом, Таня увидела, что навстречу им по улице Врубеля идет Аделина Драгоманова.
– Здравствуйте, – сказала она, подходя. – Как хорошо, что вас встретила!
«Что уж такого хорошего?» – мрачно подумала Таня.
– А пойдемте с нами, – сказал Веня.
– Пойдемте, – кивнула Аделина.
Даже не спросила, куда!
Венино лицо просияло. У Тани заныло сердце. Ей сразу же расхотелось куда-либо идти. Но не оставлять же их вдвоем! Опасность, исходящая от этой женщины, чувствовалась как привкус металла во рту.
Про метро было забыто – как-то само собой подразумевалось, что Аделине незачем тратить на это силы. Веня позвонил, и пока дошли до Ленинградки, на углу уже ждала машина.
Он открыл дверцу сначала перед Таней, впереди, а потом перед Аделиной, и они сели на заднее сиденье вдвоем. Всю дорогу Таня чувствовала ее присутствие так же, как запах ее духов, почти неощутимый, но такой, от которого кружится голова.
– А ведь я никогда не была в Москве, Вениамин Александрович, знаете? – сказала Аделина.
– Не может быть.
У него даже голос переменился в ту минуту, когда он сказал: «А пойдемте с нами». Переменился, да так и оставался незнакомым до сих пор.
– Почему же не может? – спросила Аделина.
– Извините. Просто мне показалось, вы не провели свою жизнь в глухих углах.
– Я в Нью-Йорке родилась. Потом родители перебрались в Швецию, оттуда в Японию. Они были люди сложных обстоятельств.
– Шпионы, что ли?
– Думаю, да. Хотя не могу утверждать с уверенностью. А как вы догадались?
– Вам это подходит, иметь сложные обстоятельства. Если бы вы оказались марсианкой, я не удивился бы. Дочь шпионов в вашем случае – обстоятельство вполне обыденное.
Она засмеялась. Тане стало тоскливо, хоть вой.
Но выть она, конечно, не стала. Слушала, как Веня рассказывает Аделине про Зарядье.
К началу опоздали – вошли, когда первые стихи были уже прочитаны. Но поэтов было много, слушать предстояло долго. Веня посадил Таню на стул в первом ряду, а сам устроился с Аделиной в углу на доске, положенной на два ящика.
Таня давно уже перестала волноваться о том, что мало чего понимает в здешних разговорах. Они и должны быть непонятными, так она однажды себе сказала. И каждый раз убеждалась, что сказала правильно. Все сразу встало на свои места, приобрело гармоничный вид. Есть сложные мысли, есть странные стихи, и это так надо, чтобы их смысл ускользал.
Стихи, которые, сменяя друг друга, читали поэты и поэтессы, показались Тане очень даже красивыми. Особенно одна девчонка ей понравилась, стихи у нее были про то, как море разрывается огнем, а потом откуда-то брался в этом разрыве лебедь, и у него была изогнутая шея, и еще там были раковины устриц, и лодки качались на волнах, и непонятно было, как все это связано, и не хотелось понимать…
Стихи так заворожили ее, что она очнулась, когда уже открывались бутылки и шуршала бумага, в которой принесена была закуска. Поэты и слушатели перемешались, стоял общий гул… Таня нашла взглядом Веню, он разговаривал с хозяином магазина и еще с какими-то людьми, улыбался. Аделина стояла напротив него, и было понятно, что улыбается он ей, а не своему собеседнику. Да и разговаривает только с ней, хотя рядом много людей, а она вообще молчит.
Таня не знала, сколько будет длиться эта мука. День, воскресный день с Веней, которого она так ждала, был безнадежно испорчен.
«Где ее муж? – думала она уже не тоскливо, а зло. – Что он себе думает, Василий этот?»
Она надеялась, что муж, может, приедет встречать Аделину. Это была, понятно, глупая надежда: из магазина вышли втроем, никакого мужа не было.
И по Соколу тоже шли втроем – Веня предложил прогуляться, и Аделина согласилась, – и втроем сидели потом в беседке на Звездочке… Черемуховый запах уже отходил, а сиреневый был в самой силе.
– Как же все-таки грустно, – сказала Аделина, – когда девочка, юная, наделена способностью вот так нанизывать метафоры – помните, та, что читала нечто похожее на «Новые стансы к Августе»? – и так причудливо они у нее в голове роятся, а таланта настоящего, мощного нет, и ни к чему оказывается весь этот набор красивых образов.
Таня не поняла, о чем она говорит. А Веня понял, конечно.
Он что-то ответил – согласился, кажется, – но не в ответе, вообще не в словах было дело. Он смотрел на Аделину, и сияние, которое Таня заметила, когда они сидели за столом почти месяц назад, снова соединяло их общим куполом.
– Ты не устала? – спросил Веня.
Таня не сразу и поняла, что это он у нее спрашивает.
– Устала, – буркнула она. – На учебу завтра рано. И тебе на работу, между прочим, тоже.
– Тогда пойдем, – сказал он, вставая.
Вышли из беседки, пошли к улице Сурикова. Почему-то туда, хотя Аделина жила на Верещагина.
– Вася в Токио по делам улетел, – сказала она. – И мне тревожно.
– Почему? – спросил Веня. – У него неприятности?
– Нет, все в порядке. Не за него тревожно, а без него. Я, видимо, слишком неустойчива внутренне. Теряю опору и сама сразу теряюсь. Перестаю понимать, зачем живу.
«Врешь, – с ненавистью подумала Таня. – Такая ты прям вся беспомощная, на руках тебя носи! А сама кого хочешь под себя подомнешь».
Но что толку было в ее догадках?
Дошли до дома, и Веня сказал:
– Иди, Таня.
– А ты? – спросила она.
– Аделину провожу. Иди.
Вот так. Ведет Аделину в пустой ее дом. Смотрит в чертовы ее крыжовниковые глаза не отрываясь, и нет его. Ни для кого его больше нет, только для этой женщины.
Таня не знала, что сделает в следующую секунду – заплачет, затопает ногами, вцепится в волосы проклятой Аделине? Но ничего этого она не сделала. Молча открыла калитку и пошла к дому.
Когда обернулась, входя, никого у забора уже не было.
Глава 10
Ей казалось, что она не спит. Тьма поглощала ее, а сна не было, она была в этом уверена. Но когда включила ночник и взглянула на разноцветные настенные часы, то оказалось, уже два часа ночи.
За стеной, в Вениной комнате, было тихо. Да Таня и так знала, что его нет в доме.
Она оделась, спустилась вниз. Не включая свет, прошла в прихожую, надела, что под руку попалось на вешалке.
Тепла или холодна эта ночь, было ей непонятно. Она не чувствовала ничего физического.
На всей улице Верещагина светилось единственное окно в одноэтажном рыжем домике с островерхой крышей. Перелезть через низкий штакетник не составляло ни малейшей сложности. Хорошо ли перелезать через чужой забор и подслушивать чужие разговоры в чужом саду – это было последнее, о чем Таня могла бы подумать.
Она об этом и не думала. Стояла за углом и слушала, о чем говорят двое на веранде, выходящей на противоположную от улицы сторону дома. И смотрела на этих двоих, как будто хотела навсегда их запомнить, хотя на самом деле хотела бы только одного: не видеть их вместе никогда.
– Ты зря думаешь, что я могу дать тебе счастье.
Голос Аделины был похож на омут.
– Я так не думаю, – ответил Веня.
Они сидели на ступеньках веранды. То есть Веня сидел на ступеньках, а Аделина у него на коленях, обнимая его и прижимаясь щекой к его щеке. Волна ее волос лежала на его плечах. На ней был его плащ, он закрывал ее до пяток, и Таня знала, что под его плащом ничего на ней нет. Это было так же очевидно, как то, что плащ застегнут как пришлось, не на те пуговицы.
– Ты думаешь, тебе нужна фам фаталь? – спросила она.
– Я так не думаю, – повторил Веня. – Я знаю, что не могу без тебя жить. И не буду.
– Как ты можешь это знать? Невозможно понять так быстро.
– Я это понял в ту минуту, когда тебя увидел. И можешь мне поверить, ни с чем бы я это не перепутал. Мне просто не с чем это перепутать.
– Я не понимаю. Объясни мне.
Вместо объяснения он стал ее целовать. Таня стояла в двух шагах от них. Сердце ее колотилось, как молоток, которым забивают крышку гроба. Она не боялась, что ее заметят, услышат ее дыхание за углом дома. Им было ни до чего, этим двоим на ступеньках.
– Ты безумный… – задыхаясь, проговорила Аделина. – Совсем без границ. А я думала, ты живешь в рамках жестких правил…
– Ты думала обо мне?
Кажется, это было единственное, что он расслышал в сказанном ею.
– Да, – ответила она. – Да, да! Только о тебе и думала. И не приходила с Васей к вам после того вечера, потому что… Ты понимаешь? Боялась, не сумею держаться с тобой как с посторонним. Мне казалось, как только увижу тебя… Обниму, стану целовать, брошусь к твоим ногам – я не знала…
– Теперь знаешь?
– Теперь я твоя.
– Прости меня.
– За что?
– Я должен был в тот же вечер тебя не отпустить.
– В тот же вечер было невозможно.
– Возможно.
– Нет-нет! И сейчас… Сейчас тоже!
Веня откинул голову и, глядя в ее глаза, спросил:
– Ты что, думаешь, я теперь тебя отпущу? Буду дальше жить, как будто тебя нет?
– Но как ты себе представляешь…
– Не тебе об этом думать. Мое заявление об увольнении подписано. Мы уедем.
– Но это невозможно! – воскликнула она.
– Возможно.
– Нет, ты не понял. – Аделина покачала головой. Ее волосы блеснули тусклым золотом в свете, падающем из окна. – Нельзя так поступить по отношению к Васе.
– Знаю. И по отношению к нему, и… Не только к нему. Но что делать? Ну рассуди. – Он провел по ее голове ладонью, как будто она была маленькой девочкой, и она, быстро повернув голову, поцеловала его ладонь. – Останешься ты с ним, останусь я с Таней, и что? Лгать изо дня в день – им, себе? Никакой порядочности на это не хватит. Да и какая во лжи порядочность?
– Ты прав, – тихо проговорила она. – Я именно это все время и думаю. С той минуты, когда ты вошел, когда мы друг на друга посмотрели. Думаю, что я ведь лгу ему теперь. А он этого совсем не заслуживает. Он простой, хороший. Вытащил меня из отчаяния. Я любила одного человека… Очень сильно, до полного самозабвения. То есть мне так казалось тогда. Может быть, мне всегда хотелось такой любви, а тебя я прежде не знала. Когда он умер, я как-то… покачнулась. Как по-русски говорят… Я не все слова сразу вспоминаю, знаешь. Земля ушла из-под ног, да, вот так. И тогда Вася…
– Куда ты хотела бы уехать? – перебил ее Веня.
– Куда ты скажешь. – Она ни на секунду не задумалась над ответом. – Куда скажешь, когда скажешь. И не уходи от меня сегодня.
– Не уйду.
Таня попятилась дальше за угол. Можно было стоять здесь еще час, два. Можно было перейти под окно, потому что они ушли с веранды в дом. Можно было стоять под этим окном, в котором погас свет, прислушиваться…
Но зачем? Все было кончено. Если бы перед ней разверзлась бездна, это не было бы ей так понятно, как понятно стало теперь, в пахнущем сиренью саду: все кончено.
Назавтра Таня собрала свои вещи и ушла из дома на Соколе. Она вернулась бы в Болхов, но возвращаться ей было некуда, и она просто перебралась в общежитие. Странно, но в те дни она сохраняла абсолютную холодность ума. Слезы Евгении Вениаминовны, ее просьбы остаться, подождать, ведь это кончится, Таня, это безумие у него какое-то, наваждение, это пройдет, – было единственное, что касалось ее чувств. Все остальное она воспринимала так, будто это происходит не с нею. Она не только не покончила с собой, но даже не ушла из колледжа. В том, чтобы покончить с собой, не было необходимости, она и так чувствовала себя мертвой. А все, что было связано с учебой, с работой в салоне «Баттерфляй», куда она вскоре устроилась, с экзаменами, с курсами в Париже… Это происходило в ее жизни без осознанного усилия, как дождь или снег. То, что от других требовало напряжения всех сил, ей далось легко; удача была дана ей вместо счастья.
А потом она привыкла, наверное. Всех когда-нибудь предают, и все к этому привыкают.
Веня уехал в Америку, в Бостон. Тане сказал об этом Ваня Гербольд, которого она спустя полгода встретила в метро. С кем уехал, Иван не сказал, да она и не спрашивала.
Ей надо было забыть Вениамина Левертова. Надо было жить дальше, и не просто существовать как физическое тело, а найти в своем существовании какой-то смысл. Он всегда говорил ей, что это нужно. Его она забыла, а это забыть не могла.
Глава 11
Таня сидела ссутулившись, обхватив руками плечи. Черное маленькое платье было покрыто ржавыми пятнами. Иван представил, как она взбиралась по пожарной лестнице, и ему стало не по себе. Она сообщила об этом обыденно, без страха и вообще без всякого выражения. Он спросил, что случилось – она ответила. А человек – женщина ли, мужчина, неважно – не должен быть таким сильным. Сила не только солому ломит, но и самую жизнь, это он знал не понаслышке.
Он подумал именно такими отчетливыми словами. Впервые за долгое время структурировались мысли; это удивило его.
– Тебе не холодно, Тань? – спросил Иван.
– Не-а.
Если бы она ответила, что холодно, он обнял бы ее. Ему этого хотелось. Но просто так обнять, без внешней причины, он не решался, под таким бетонным куполом одиночества она сидела.
– Странно, – сказал Иван. – У меня вот зуб на зуб не попадает.
Это было неправдой, но произвело необходимое воздействие: Таня тут же придвинулась к нему, прижалась. И он обнял ее уже без боязни нарваться на возмущение.
Может, она собиралась положить голову ему на плечо – безотчетно, скорее всего, – но достала только до подмышки. Ткнулась таким образом головой ему в бок и, вздохнув, сказала:
– Ничего у меня с ним не выходит, Вань.
– А по-моему, все у тебя с ним отлично, – пожал плечами он.
– Ага, отлично. Чуть не угробила его.
– Обошлось же. Теперь пойдет как надо.
Он сказал это, только чтобы ее успокоить. И от этих его слов, совершенно безответственных, Таня действительно успокоилась. Подняла голову, посмотрела на него, улыбнулась жалкой улыбкой.
– Ты как-то все про него угадываешь, – сказала она. – Почему?
Иван не ответил. Ей не обязательно знать, почему он угадывает, что люди думают и чувствуют. Не все люди, может, но про детей он всегда это знал точно.
За год, который Вадька прожил у бабки и деда в Перми, Иван и Лиля навещали его раза три. Странно было испытывать стыд перед двухлетним ребенком, но именно его Иван и испытывал. Ему казалось, Вадька как-то замкнулся в себе за этот год. То уже и разговаривать начинал – лопотал не только «мама-папа», но и длинные слова вроде «горшок»; все умилялись. На горшок и просился даже. А теперь разговаривать перестал, про горшок забыл вовсе, да и про родителей, кажется, тоже. Когда они с Лилей прилетали, даже не смотрел в их сторону.
– Характер у парня такой, – говорил дед. – Мужской, без соплей.
Бабка уверяла, что все мальчишки позже начинают говорить, чем девочки, беспокоиться не о чем. Лиля ей верила, а Иван чувствовал именно беспокойство. Но оно было смутным, и высказывать его тестю с тещей он не стал.
Пока, еще полгода спустя, они сами его не высказали.
К тому времени Лилина карьера стремительно пошла в гору. Она оставила инженерную работу, сосредоточилась на управленческой, и все ее способности раскрылись в полной мере. У Ивана работа была скромнее, но тоже жаловаться не приходилось. Особенно когда ему предложили перейти в конструкторское бюро «Боинга», которое открылось в Москве.
– Вот теперь можно и Вадичку забрать, – решила Лиля.
Она уже искала няню, придирчиво выбирая самую лучшую, когда теща позвонила и попросила приехать поскорее.
– Что-то с ним не так, доча, – сказала она, когда встревоженные родители явились в Пермь. – И сидит, и сидит, и не глянет ни на кого. Игрушек вы навезли уж таких красивых, сама б игралась, а ему и дела нету. Одну машинку туда-сюда катает и в одну точку смотрит. И простукивает все. Пол, стены… На улицу не выманить, силой выведешь – плачет, заходится. Аж страшно, Лиль.
– С племяшом моим такое же было, – подал голос тесть. – Точно так сидел, ухом не вел, в глаза людям не смотрел. Больной, оказалось. Лечили-лечили, в психушке лежал – все без толку, так в двадцать лет и помер. Заклякнул.
Ивану захотелось взять тестя за грудки и стукнуть об стенку. Однажды он уже испытывал подобное: когда, приехав на свадьбу, тот заметил, что у гербольдовского кота течет из уха, и посоветовал: «Выкидайте его, негодный он. Нового возьмите».
– Папа, перестань! – возмутилась Лиля. – Что значит «такое же было»? Кто это проверял? Надо Вадичку хорошим врачам показать.
Вадьку они забрали в Москву. Иван взял отпуск, и ребенка повели по врачам; Гербольды мобилизовали всех знакомых, чтобы найти наилучших.
Что у мальчика аутизм, выяснилось сразу. Правда, до трех лет такой диагноз официально не ставили, но и скрывать его от родителей не стали. Труднее оказалось выяснить другое: как это лечить. Вернее, вовсе невозможно оказалось это выяснить. Из всего, что говорили врачи, Иван понял одно: аутизм неизлечим.
– Как неизлечим? – возмутился он, услышав это в очередной раз. – Он живой же, дышит, смотрит. Делать-то надо что-то!
– Делать надо, – согласился врач. – Но лекарств от этого нет. И честно вас предупреждаю: делать все придется лично вам, на существенную помощь государства не рассчитывайте. У нас и диагноз-то этот всего пятнадцать лет назад начали ставить. Методики, по которым ребенка можно – предположительно можно – научить усваивать социальную информацию, разработаны в основном за рубежом, мы их только перенимаем. И в любом случае действовать по этим методикам придется лично вам, – повторил он.
Не сказать, чтобы Иван рассчитывал в своей жизни на помощь государства, да и вообще на то, что кто-нибудь сделает что-либо за него, но масштаба этого «лично вам» он все-таки не представлял.
Оказалось, что центр, занимающийся детьми с аутизмом, в Москве только один. Он находился в Останкине, на улице Кашенкин Луг. От Сокола сравнительно недалеко, но все-таки пешком не дойдешь, Вадьку туда надо было возить. Но главное было даже не в этом…
Главное заключалось в том, что окружающий мир был совершенно не приспособлен для того, чтобы в нем существовал такой ребенок. Не радовался, не развивался в нем, а просто существовал.
Иван и предположить не мог, что в людях умещается столько ненависти. И не к убийце, не к вору или мошеннику – к ни в чем не повинному ребенку!
Вывести Вадьку на улицу было действительно нелегко: при малейшей попытке изменить привычную для него обстановку он начинал жалобно плакать, а потом и вовсе заходился в крике. Но когда после долгих попыток и неудач Иван все-таки научился с этим справляться, то обнаружил, что люди шарахаются от Вадьки, как от зачумленного. Когда он, к огромной своей радости, заманивал его в песочницу и Вадька начинал катать в ней свою любимую машинку, мамаши тут же вытаскивали из песочницы детей и, бросая на Ивана испуганные и сердитые взгляды, уводили их прочь.
– Вы бы не приводили его сюда, – сказала ему наконец одна такая мамаша; она выгуливала на детской площадке двойняшек, мальчика и девочку, таких хорошеньких, что они казались сошедшими с рекламного плаката. – Как вы сами не понимаете? Здесь же дети, нельзя же их пугать!
– А он, по-вашему, не ребенок? – поинтересовался Иван. – И чем он ваших детей пугает?
Он еле сдерживался, чтобы не ответить этой плакатной мамаше как-нибудь порезче. Вадька привык к песочнице, именно к этой, в другие его было не зазвать, и тихо, однообразно играл в ней, не замечая никого вокруг. Надо было только следить, чтобы дети не бросали в него песком и не били его совочками.
– У него больная аура! – отрезала та. – Невооруженным глазом видно, что он ментальный инвалид. Почему, не понимаю, нельзя водить его куда-нибудь, где нет нормальных детей?
И это было еще самое безобидное, что Ивану приходилось слышать о своем ребенке.
В песочницу он его водить перестал: не ради благополучия «нормальных детей», а потому что сам боялся не сдержаться. Вадька, к счастью, не заметил, что катает теперь свою машинку по другому песку, на пролысине газона, и в полном одиночестве.
Он вообще не замечал ничего, происходящего вне его самого и вне того маленького пространства, в котором он только и мог существовать. Стоило кому-либо вторгнуться в это пространство с самыми добрыми намерениями – чтобы обнять его, просто погладить по голове, – как он заходился плачем.
Слыша этот плач, Лиля начинала плакать и сама.
– Мы ему безразличны, – с невыносимой горестью говорила она. – Если бы я видела, что мы ему хоть капельку нужны! Но нет же этого, нет…
Иван успокаивал ее, но возразить ему было нечего. Ужас болезни, о которой он раньше не знал ничего, а теперь узнал, кажется, все, что было возможно узнать по-русски и по-английски, заключался именно в том, что ребенок не мог существовать на волне других людей. Не мог самостоятельно учиться чему бы то ни было ни у кого, в том числе и у родителей, потому что ни на кого не мог настроиться.
– Он не может, значит, вы должны настроиться на него, – объяснила врач в Центре на улице Кашенкин Луг. – Это кропотливое, однообразное усилие, но если вам не безразличен ваш ребенок, то альтернативы нет.
Что альтернативы нет, Иван понимал и сам. И довольно быстро выяснилось, что на усилие такого рода никто, кроме него, не способен. О том, чтобы найти няню для аутиста, и речи быть не могло, Лиля плакала, родители выдерживали день-два, не больше… А главное, Вадька позволял настраиваться на свою волну только папе. Не то чтобы он выказывал какие-либо признаки любви к Ивану – точно так же не смотрел в глаза ему, как и всем остальным, точно так же не отвечал на его вопросы, – но по крайней мере готов был повторять за ним несложные движения, звуки, слова, не плакал, когда Иван водил его гулять и на занятия…
– Что нам делать, Ваня? – сказала Лиля. – Тебе решать.
А что тут было решать? Иван ушел с работы и стал заниматься только Вадькой. Не сказать, чтобы это далось ему легко, но альтернативы в самом деле не было. Объективно не было.
Лиля работала как проклятая, денег было достаточно. Чтобы возить Вадьку на занятия, купили машину. Через несколько лет продали квартирку в бывшем бараке на Соколе и купили трехкомнатную возле Ботанического сада; Лиле дали ссуду на работе. Теперь можно было ходить на занятия в Центр пешком. Правда, это оказалось непросто: Вадька панически боялся шумной улицы. Но Иван знал, что через месяц-другой его ежедневных усилий Вадька привыкнет; так оно и вышло.
Да, такими временными единицами он теперь оперировал: месяц-другой на освоение одного навыка, полгода-год – другого… Он понимал, что такое осознание им времени – выморочное, неправильное. Иногда ему казалось даже, что близкие – Лиля, родители, сестра – смотрят на него с ужасом. Но в том мире, в котором жил Вадька и в который Иван был поэтому погружен, время шло именно так, и он привык. Ко всему привыкаешь.
Глава 12
В однообразном течении времени прошло пять лет. Вадьке пора было в школу. Об обычной не могло быть и речи – он умел читать, даже писал печатные буквы, в этом смысле навыков для обычной школы было достаточно, но то, что мамаша в песочнице когда-то назвала «больной аурой», что отличало его от «нормальных детей», осталось в неизменности.
В Москве было лишь несколько школ с совместным обучением, Иван готов был возить Вадьку в любую из них, но, съездив в каждую и присмотревшись, понял, что в этом нет смысла. Ему показалось, что, хоть учителя и стараются, все равно одноклассники смотрят на таких, как Вадька, отчасти презрительно, отчасти с отвращением или опаской. Он не столько понял это, сколько почувствовал: ему ежедневно приходилось настраиваться на чужую, пусть и сыновнюю волну, поэтому он стал чувствовать любые чужие волны мгновенно. А уж догадаться, чего хотят или не хотят дети, распознать их нехитрые импульсы, – это не представляло для него ни малейшей сложности.
Вадьку дети не хотели. Как, впрочем, не хотел его и весь мир, в котором он обречен был жить.
Что ж, его взяли в школу при Центре, и потихоньку-помаленьку он стал в ней учиться, и даже успешно. Главное, ему стало проще усваивать новое – стена, которой он был отделен от мира, сделалась проницаемой.
Лиля воспряла духом, стала строить планы на будущее – как они поедут отдыхать вместе с ребенком, а потом возьмут ему няню, теперь ведь это уже проще, а потом съездят куда-нибудь с Иваном вдвоем…
Сам он тоже думал о будущем, но не об отдыхе, а о том, что начнет работать. Много лет он не позволял себе думать о себе как об отдельной единице. Это были бесплодные размышления, в них не было смысла, вот и не позволял. Но теперь… Наверное, вернуться к специальности не получится, ведь все ушло так далеко вперед… Или получится?.. Иван стал смотреть, что представляет собой нынешняя авионика, и с радостным удивлением понял, что все это не кажется ему темным лесом. Если займется всерьез, то…
Все планы пошли прахом, когда у Вадьки начался переходный возраст. Гормональный удар оказался разрушительным: внутри у него словно обрушились все конструкции, которые возводились много лет. Он снова замкнулся в своем пространстве, перестал реагировать на окружающих, отказывался чему-либо учиться… Все надо было начинать заново.
Если бы не школа Центра аутизма, выкарабкаться из этой ямы было бы невозможно. Но школа была хорошая, методики использовались самые передовые, приезжали педагоги из разных стран. И Бенджамен Джойс был одним из таких педагогов.
Увидев его впервые, даже Иван улыбнулся. Невозможно было иначе отреагировать на человека такого неодолимого обаяния. Бен Джойс был высокий, чернокожий, широкоплечий, а улыбка у него была такая, что женщины должны были бы вешаться ему на шею гроздьями.
Реакция женщин значения для Ивана не имела, а вот то, как отнесся к Бенджамену Вадька… Это было нечто неожиданное и поразительное, особенно после только что пережитого краха всех навыков.
Впервые за всю жизнь, за это Иван мог поручиться, его сын проявил интерес к какому-либо человеку. Притом к человеку незнакомому, необычному на вид, говорящему на непонятном языке… Любой из этих черт было достаточно, чтобы Вадька отказался даже близко подойти к Бену. Но он не только не отказался от этого, наоборот, продемонстрировал явное к нему расположение. И очень скоро стал с ним разговаривать, притом – в это поверить было совсем уж невозможно – по-английски.
Иван с ранних лет пытался развивать у Вадьки самые разные навыки. Ему посоветовали это делать, и он надеялся: вдруг окажется, что его «человек дождя» феноменально способен к математике, или к программированию, или к музыке, да мало ли еще к чему; аутизм мог обернуться самым неожиданным талантом. Но жизнь никаким даром не захотела восполнить то, что отняла, и с этим пришлось смириться.
Английскому Вадьку учить почему-то не пытались. Не пришло в голову – он и по-русски-то говорил лишь короткими словами и фразами. А тут вдруг что-то повернулось в его сознании, и он заговорил по-английски, причем сразу целыми конструкциями. Даже Иван был удивлен, а уж Лиля и вовсе потрясена.
– Надо пригласить этого врача в гости! – воскликнула она, услышав, как Вадька довольно связно рассказывает по-английски про свой сегодняшний школьный день. – Это же чудо какое-то, просто чудо!
– Он не врач, – уточнил Иван. – Педагог.
– Неважно! Я сама пойду и приглашу. Господи, Ванечка, неужели действительно чудо?
Она в самом деле сходила в Центр, где бывала нечасто, познакомилась с Беном Джойсом, пришла от него в полный восторг, позвала в гости… Он пришел, с ним было легко, и весь вечер Вадька сидел вместе со всеми за столом, хоть и не обращая по своему обыкновению ни на кого внимания, но и не пытаясь уйти. Такое и представить было невозможно, он не покидал своей комнаты, даже когда приходили бабушка с дедушкой.
Бен пробыл в Москве месяц и, уезжая, пообещал включить Вадьку в программу, которая позволит ему посетить Америку. Не было ни малейшего сомнения в том, что обещание свое он сдержит.
Еще через месяц пришло приглашение из города Амарилло, где в фонде поддержки аутистов работал Бен. Небольшой этот город в штате Техас был Ивану, как ни странно, известен: там было развито авиастроение, и когда-то он должен был ехать туда на стажировку… В какой-то другой своей жизни; ему уже не верилось, что она вообще была.
В Амарилло с Вадькой полетела Лиля. Это было рискованное предприятие, но Иван и сам понимал то, что она высказала:
– Тебе надо отдохнуть, Ваня. Нельзя так больше, этого живой человек не может выдержать. А Вадичка, слава богу, как-то полегче стал. Я справлюсь.
Программа, по которой Вадька ехал учиться, была рассчитана на два месяца. Лиля взяла предстоящий отпуск и неотгулянный предыдущий.
Отвезя ее и Вадьку в Шереметьево, Иван вернулся домой и два дня лежал, отвернувшись к стенке. Он не знал, что делать с собою. Кто он, что он?.. Ему стало страшно.
Через два дня он заставил себя подняться, выйти на улицу. Он привык требовать от себя усилия, но давно уже ему не приходилось делать это ради себя самого. Оказалось, усилие такого рода дается гораздо труднее, чем то, к которому он привык.
Он ходил по улицам как неприкаянный. Зашел в кино, но через десять минут вышел. Выпил водки в баре – полегчало. Впрыснулось вместе с водкой равнодушие, прошел безотчетный страх перед самим собой.
Он понимал, что его состояние нельзя назвать здоровым, но что с этим делать, не знал. Родители ничем не могли ему помочь, слишком далеко разошлись их жизни. Они любили его, но больше жалели, наверное, и это его раздражало.
Нэла, с которой в детстве думали и поступали если не совсем одинаково, то очень схоже, жила то в Германии, то в Италии, то выходила замуж, то расходилась, и ее богемная жизнь тоже была теперь отдельна от всего, что Иван мог бы соотнести с собою.
Лиля сняла в Амарилло квартиру, из которой звонила по скайпу каждое утро, перед тем как вести Вадьку на занятия. В Москве в это время был вечер. Вадька к экрану не подходил, но Лиля потихоньку подносила айпад к приоткрытой двери его комнаты, и Иван видел, как тот увлеченно играет в компьютерную игру, притом сложную. Это было огромное достижение: как многие аутисты, Вадька с трудом усваивал какие-либо правила, а без этого невозможна была любая игра.
– Он с детьми дружит, Вань, – рассказывала Лиля. – Совершенно самостоятельно дружит, представляешь?
– Где, в фонде? – спрашивал он.
– В том-то и дело, что нет! С обычными детьми, соседскими, на нашей улице. Бегает с ними, на скутере катается. Смеется.
При этих словах Лиля шмыгнула носом и чуть не заплакала.
Поверить, что Вадька дружит с детьми и смеется, было трудно, но она это не выдумала, конечно.
Иногда Лиля позвонить не успевала, потому что Вадькины занятия становились все более разнообразными, не только в фонде, но и в жизни. Он ходил с соседскими детьми в игровой комплекс, где они ели вместе мороженое и прыгали на батуте. Представить Вадьку прыгающим на батуте Ивану было трудно. Ему вообще трудно было представить ту жизнь, которой теперь жили его сын и Лиля. Особенно Лиля…
Иван привык к тому, что жена существует на периферии его жизни. Это получилось само собою и было, в общем-то, благом. Не хватало, чтобы и она погрузилась в ту жизнь, которую вел он! Эта жизнь изменила его интересы и привычки. Мама сказала однажды, что он стал мрачнее, но содержательнее, чем в юности, но Иван не очень ей поверил. Ну да, стал больше читать, и не специальную литературу, как в студенческие годы, а книги из родительской библиотеки. На общение с людьми, если те не имели отношения к Вадьке, у него не оставалось времени, и книги заменили ему многое. Может, это действительно сделало его содержательнее, потому что в обыденности он не прожил бы того, что проживал читая. Но к обычному миру, к обычной человеческой жизни никак его не приближало ни чтение, ни одинокие размышления – единственное, на что у него хватало сил вечерами. Он оказался на отшибе от всех, и от Лили тоже.
И все-таки Ивану трудно было представить ее отдельную, какую-то совершенно ему незнакомую жизнь.
Время обучения в Техасе подходило к концу. Иван радовался, что Лиля и Вадька снова будут с ним, что жизнь его войдет в привычную колею и сама собою, без его усилия приобретет смысл.
За неделю до этого срока Лиля попросила его приехать в Амарилло.
– Зачем? – не понял Иван. Но тут же догадался: – Боишься одна с Вадькой лететь?
Может, став общительнее, он стал и беспокойнее? Вполне вероятно.
– Нет. – Она посмотрела на Ивана каким-то странным взглядом. Или на экране так показалось? – Приезжай, пожалуйста, нам надо поговорить.
Когда они решали, кто повезет Вадьку в Америку, то на всякий случай открыли визы для обоих. Обстоятельства могли сложиться любым образом, могли быстро перемениться, следовало подготовиться ко всем возможным.
Иван прилетел в Хьюстон и думал добираться до Амарилло самостоятельно. Но, включив после приземления телефон, увидел сообщение от Лили о том, что его встречает Бенджамен.
Иван был ему за это признателен, хотя и удивился, что посторонний человек, пусть и педагог, пусть и такой доброжелательный, как Бен, готов потратить на него свое время.
В чем тут дело, выяснилось сразу же, как только выехали на хайвей. Иван думал, что по прямым и гладким американским дорогам водители носятся с бешеной скоростью, но оказалось, разрешено только семьдесят миль в час. Такая скорость давала возможность для внимания и для разговора.
Они начали его в машине и продолжили в кафе на заправке.
– Я ее люблю, Иван, – сказал Бен. – Это получилось неожиданно для нас обоих. Мы не имели этого в виду, но, возможно, слишком много времени проводили вместе. Сначала только для занятий с Вадом, а потом… Мы поняли, что любим друг друга. Что ты скажешь?
– А что я должен сказать? – усмехнулся Иван.
Лиля!.. Лиля любит какого-то мужчину, да не какого-то, а вот этого чернокожего красавца с хорошими печальными глазами и чудесной улыбкой. Такой, конечно, способен сделать счастливой любую женщину.
«Я ничего о ней не знаю, – подумал Иван. – Уже много лет. Что она любит, к чему стремится, о чем тоскует?»
Он привык думать, что его жена любит их несчастного ребенка, стремится, чтобы тот был благополучен, и тоскует, если это не удается. С ним самим дело обстояло именно так.
Но его-то жизнь была ограничена жестким набором действий, событий, возможностей, а Лилина… Что представляет собою ее жизнь, Иван не понимал и впервые осознал это.
«Я о ней даже не скучал, – с ужасом и отвращением к себе подумал он. – Хотел, чтобы она вернулась, но совсем же не так, как муж жену хочет. Выпивал на ночь водки, проваливался, и плевать мне было, что ее нет рядом в постели. А что она молодая еще, красивая женщина, что она одна и для нее все это иначе… Разве я об этом думал?»
– Я перед тобой страшно виновата, Ваня, – сказала жена, когда он наконец оказался в Амарилло, в ее съемной квартире. Вадька был на занятиях, они сидели вдвоем на просторном балконе. – Но перед Вадичкой… Для него будет лучше, если он останется здесь. И это мало сказать, лучше. Господи, я и представить не могла, насколько другая здесь жизнь! Мы все этого просто не понимаем, не сознаем, хоть и считаем себя современными людьми. Хайвеи, зарплаты, развлечения, все это можно воспроизвести где угодно. Но то, как к людям относятся… Глазам своим не веришь. Хоть бы кто-нибудь, хоть бы один-единственный человек посмотрел на Вадичку с недовольством! Даже в голову никому не придет. Ни взрослому, ни ребенку. Только и слышишь от всех: я могу помочь? И не притворяется никто, они в самом деле такие. И детей с младенчества к тому же приучают. Приемные дети в каждой второй семье. А наших им теперь на усыновление не отдают сирот, даже инвалидов! В аду гореть подонкам, которые до такого додумались. Если б я здесь рассказала, как в Москве возле нас в детском садике хотели инклюзивную группу сделать, а тетки по квартирам стали ходить, подписи против собирать… Никто бы мне не поверил, что такое может быть. И Вадичка совсем переменился, ты сразу поймешь.
Не понять этого было невозможно. Неизвестно, в чем была причина, в методиках или в том, о чем рассказывала Лиля, но перемена за два месяца произошла разительная. Вадька сам ходил на занятия, не боялся улицы, разговаривал по телефону с каким-то своим приятелем… Правда, только по-английски – за все время, что Иван провел в Амарилло, по-русски сын не произнес ни слова. Но, наблюдая навыки, которые он приобрел, печалиться по этому поводу было бы странно. По этому поводу Иван и не печалился, но когда впервые увидел, как Вадька улыбается навстречу Бену… Выдержать это было тяжело. Он много лет не расставался с сыном ни на день, но не видел такой его улыбки.
Лиля сказала, что Вадьку готовы принять в школу, в обычную паблик-скул. Он еще не имел оснований для постоянного проживания в США, но школьное руководство, которому Бенджамен обрисовал ситуацию, рассказав о своих планах, обратилось к местным властям, те – к властям штата, и разрешение на учебу было получено.
– Здесь люди важнее, чем бумаги, – сказала Лиля. И добавила, помолчав: – Я впервые просыпаюсь без этой ужасной мысли: что с ним будет, когда нас не будет?
Иван был благодарен ей за то, что она не говорит о своих чувствах к Бену. Он и сам видел, что они есть. Это не добавляло ему счастья. Но, собственно, счастья он и так не ждал.
Бумаги, необходимые для заочного развода, Лиля скачала в Интернете, подписала и заверила, чтобы Иван мог взять их с собой в Москву. Он тоже подписал все, что было нужно, чтобы Вадька мог остаться в Америке.
– Ты в любое время можешь приезжать, Иван, – сказал Бен. – Я лучше других понимаю, что ты сделал для Вада. Если бы не ты, перелом не случился бы.
Легче ли ему было от того, что это, может быть, правда? Нисколько.
Всю дорогу от Хьюстона до Москвы он то пил купленный в дьюти-фри джин, то проваливался в сон, от которого не трезвел. То же продолжилось и в Москве.
Может, он хватил через край? И пустая самоотверженность разрушила его жизнь? Но как было иначе? Или все-таки можно было иначе? Он не знал. Ничего он теперь не знал.
«…и равнодушная природа красою вечною сиять», – эти слова всплыли в его мутном сознании непонятно зачем и никак не хотели уходить.
Длился и длился внизу океан, потом горы, потом равнины. Равнодушная природа. И он лишь ее часть, ничего больше.
Ничего нет – ни справедливости, ни любви, ни добра, ни зла, – одна сияет равнодушная природа, одна она и есть жизнь, она всех несет в своем бессмысленном потоке, не разбирая, кто прав, кто виноват.
Эта мысль впилась Ивану в мозг, как раскаленная игла, от нее было не избавиться, она доводила до умоисступления.
И вдруг эту иглу вышибло, и чем!.. Тяжелым кулаком сутенера, с которым он от воспаленных нервов затеял дурацкую драку, когда увидел, что тот бьет по лицу проститутку.
Он огляделся, ошеломленный. И из боли удара явилось вот это – перепуганный мальчишка и женщина в маленьком черном платье, измученная своей внутренней силой. Эта женщина отвергала любую помощь, даже такую малую, как тепло чужого тела во время ночного холода, но сама, не раздумывая, придвинулась своим теплом, когда поняла, что оно необходимо.
Это потрясло его так, что он сидел рядом с этой женщиной не двигаясь, пока она не уснула, а потом отнес ее в дом и уложил в постель.
Глава 13
Таня проснулась в своей комнате.
Она не сразу поняла, где находится. Потом взгляд упал на полку. Занавески были задернуты, но солнце проникало сквозь них, и в матовом солнечном свете переливались корешки книг. Она увидела сказки Андерсена. Евгения Вениаминовна принесла их сюда, когда Таня болела корью, так они здесь и остались и стоят на этой полке двадцать лет.
«Может, я и сейчас больная?»
Все тело ломило, потому так и подумалось.
Таня перевела взгляд на свои руки, лежащие поверх белого вышитого пододеяльника. Потом откинула одеяло и поняла, что лежит в постели одетая. Потом вспомнила все, что было вчера, и стремительно села на кровати.
«Где Алька?»
Все она вспомнила вчерашнее, кроме того, как оказалась в постели.
Дверь приоткрылась, и карий Венин глаз глянул в щелку.
– Алька, а ну иди сюда, – позвала Таня.
– Я и так уже тут.
Он вошел в комнату и повертел головой. Любопытство мелькнуло в его глазах. Похоже, за месяц он оказался в Таниной комнате впервые. Ну да, боялся ведь ее. А она-то, дура, не понимала, в чем дело.
Вспомнив это, Таня наконец вспомнила и то, как завершился вчерашний вечер. Как она сидела на скамейке под сиреневыми кустами, и Иван Гербольд обнял ее, и все, что томило и мучило, растворилось в тепле его тела…
Она вздрогнула. То, что возникло в ее теле сейчас, при этом воспоминании, совсем не предназначалось для того, чтобы об этом догадался ребенок.
– Который час? – спросила она. – Ты хоть поел?
– Полдвенадцатого, – ответил Алик. – Поел, ага. Тань…
Он запнулся. У нее сердце упало. Что он не решается сказать на этот раз?
– Алька, – жалобно попросила она, – говори сразу, не мучай меня.
– Я не мучаю, – вздохнул он. – Вот.
Он достал из кармана сложенный листок. Таня посмотрела с недоумением.
– Что это? – спросила она.
– Откуда я знаю? Тетка какая-то принесла. Сказала, телеграмма. А это правда что, Тань?
Откуда ему такое знать! Она и сама видела телеграммы только однажды: их целой пачкой прислали Евгении Вениаминовне бывшие студенты, поздравляя с юбилеем. Уже и забылось давно, что бывает такой способ связи.
Таня взяла телеграмму, развернула.
«Мать помирает. Приезжай, если сможешь. Агафья Петровна», – было напечатано на листке.
Агафья Петровна… Кто такая?
Она растерянно смотрела на печатные строчки.
Мать!.. Это слово явилось не то что из прошлого, а из небытия.
С того дня, когда назавтра после своего восемнадцатилетия Таня сложила в спортивную сумку пожитки и вышла из покосившегося дома в Болхове, мать ни разу не дала о себе знать. А что было бы, если б дала, Таня не хотела думать.
Она вычеркнула из своей жизни все, что было связано с матерью. Жестокую бессмыслицу детства. Унижение, сковавшее ее раннюю юность. Весь мучительный поток зла, из которого она чудом вынырнула.
И вдруг из того забытого потока явились эти строчки…
– Я, Тань, прочитал. – Алик шмыгнул носом. – А она у тебя где, мать?
Таня взглянула на него. Он смотрел сочувственно.
– В Болхове, – ответила она.
Что, в самом деле, за Агафья Петровна? Может, чей-то дурацкий розыгрыш?
– Далеко это? – спросил Алик.
– Не очень. В Орловской области.
– Я тебя одну не отпущу!
Он ни на минуту не усомнился, что она поедет. Сама она не знала, что станет делать, а он это знал.
– Нет уж, Алька, – вздохнула Таня. – Тебе там делать точно нечего.
Выпроводив Алика из комнаты с просьбой приготовить что-нибудь на завтрак, она сняла наконец платье. Все оно было в пятнах от вчерашней пожарной лестницы.
Иван не решился его снять. Но жаркая волна, ударившая Тане в сердце, когда она это поняла, была не только волной благодарности… Ей стало неловко, она поскорее надела халат и побежала в ванную.
На завтрак Алька сварил яйца. Два из них треснули и вытекли, но Таня не стала объяснять ему, что надо делать, чтобы этого не происходило. Успеется еще.
К тому же она была занята: изучала в айфоне расписание поездов.
До Орла ходит скоростная «Ласточка», если выбежать из дому прямо сейчас, можно на нее успеть.
– А почему ты не в школе? – оторвавшись от расписания, сообразила Таня. – Понедельник же!
– Я подумал, ты больная лежишь. – Алик пожал плечами. – Какая школа?
– Хочешь, чтобы на меня кляузу накатали? – пригрозила Таня. – Чтоб больше этого не было, понял?
«И как я собираюсь его одного оставлять? – подумала она. – На крышу, может, в ближайшее время не полезет, но что будет делать, никому не ведомо».
– Алька, – сказала Таня, – я через десять минут должна из дому выйти. Когда вернусь, не знаю. Можешь ты сделать, что я скажу?
Он кивнул, но как-то не слишком уверенно.
«Мало ли что ты скажешь! – читалось в его взгляде. – Все выполнять, что ли?»
– Я тебя прошу: пойди к Ивану Николаевичу. Который вчера приходил, помнишь? В смысле, ночью сегодня. Ну, то есть… – Таня смутилась и поскорее продолжила: – Где он живет, не знаю, но сегодня почти наверняка у родителей, раз вчера ночью… – Да что ж такое, все время всплывает эта ночь! – В общем, зайди в соседний дом и скажи Ивану Николаевичу, что мне пришлось срочно уехать и что я очень его прошу за тобой присмотреть.
– Что я, кошка? – возмутился Алик. – Или цветок?
– Цветок, цветок, – улыбнулась Таня. – Репейник.
Определенного обещания она от него не добилась, но до «Ласточки» оставалось слишком мало времени, и добиваться чего-либо было уже некогда.
Глава 14
Она бежала от такси к кассам Курского вокзала, бежала по одной платформе, потом по другой, да что ж это такое, неужели нельзя точно написать, откуда поезд отходит, плюхнулась в кресло у окна, отдышалась… И с той минуты бег прекратился, а началось вместо него – погружение.
Она как будто уходила все глубже под воду, но не тонула, а именно погружалась в забытые, но навечно знакомые чертоги. Мелькали за окном разномастные дома, жилые, рабочие, новые, старые, красивые, нужные, бессмысленные, обветшалые, мелькали дороги, леса, переезды, проселки, косогоры, рощи, огороды, полустанки, вокзалы, буераки… Все это вливалось в нее, как отвар какой-то тайной травы. И все медленнее, медленнее делалось движение, хотя поезд ехал с одной и той же скоростью.
И когда приехала в Орел, ей и там казалось, что идет она к автобусу, все замедляя ход. Как будто этот тайный напиток заполнял ее внутри, заполнял – и заполнил всю, и вся она стала частью бездонной воды.
Вода блеснула перед нею. Нугрь переливалась в лунном свете, в темном просторе под холмами.
Кроме луны, никакого другого света не было. Свернув с улицы Ленина, на которой фонари еще горели, Таня оказалась в кромешной тьме, и если бы ноги сами не несли ее, то заблудилась бы в городе, как в чистом поле.
Но ноги ее именно несли, ей не потребовалось ни малейшего усилия разума, чтобы дойти до дома, в котором она не была семнадцать лет. Ровно семнадцать. Май в май.
Она подошла к двери, одной из четырех, ведущих в барак. Позвонила. Прислонилась плечом к дверному косяку, не понимая, что происходит – с ней, с жизнью. Где верх, где низ? Она перестала это понимать. От кромешной тьмы, может. Или еще по какой причине.
– Кто тут? – послышалось.
И сразу же дверь открылась. В тусклом свете видна была маленькая сгорбленная старушка.
– Татьяна! – ахнула она. – А я и не думала, что приедешь. Ну заходи, скорей заходи. Успела, гляди ты.
– До чего успела, баба Гаша? – спросила Таня, входя в дом.
Потолок покосился еще больше. По всему коридору стояли теперь подпорки, держащие его. Раньше только в комнатах они были, и у них с матерью тоже.
А баба Гаша не изменилась совсем. Даже не постарела, кажется. Она и семнадцать лет назад казалась Тане старухой. Вот кто Агафья Петровна, значит. Странно, что сразу не сообразила.
– На живую мать успела поглядеть, – ответила баба Гаша. – Хоть и не в памяти она, а все же.
Таня прошла вслед за ней по коридору к последней комнате. Из-за того, что эта комната находилась в торце барака, в ней было два окна. Одно выходило на пруд, и летом до поздней ночи было слышно, как на его берегу любятся, выпивают, дерутся, смеются. Но сейчас стояла тишина, хотя окно было приотворено.
На подоконнике горела белая свеча, стоящая в банке.
– Окошко я приотворила, – сказала баба Гаша. – Дух-то тяжелый, а так хоть яблони. И свечку я зажгла.
Яблони посадили жильцы, каждый по две-три, и дом стоял поэтому в саду. Наверное, деревья уже зацвели. Но через приоткрытое окно вплывала в комнату только сырость.
Мать была по подбородок укрыта одеялом. Она лежала на одном из топчанов – широком. На другом, узком, когда-то спала Танька. Теперь он был завален каким-то хламом. Однажды сожитель купил матери двуспальную кровать, но когда уходил от нее, то кровать эту вывез. Мать голосила по кровати так, будто кто-то умер.
Не по кровати, а по своей пропащей жизни. Только теперь, глядя на ее лицо, какое-то скошенное, с ввалившимися щеками и открытым ртом, Таня это поняла.
– Зря ты ей деньги присылала, Тань, – сказала баба Гаша. – Покуда слуху от тебя не было, училась ты или что, она еще суетилась, по работам бегала. А как стали от тебя деньги приходить, так под горку и покатилась. Выпивала крепко, вот и разбило ее. Так-то не старая еще. Тебе сколько годков?
– Тридцать пять, – машинально ответила Таня.
– Ей пятьдесят два, значит. Не старуха, нет.
Деньги раз в месяц отсылались с Таниной банковской карты, программа была привязана к почтовым переводам. Таня открыла ее и больше не думала об этом. Ей казалось, так будет лучше. Вышло, что хуже.
Все выходило хуже в той жизни, которая вдруг подступила к ней снова.
Она подошла к топчану. Мать не шевелилась.
– Когда с ней это случилось, баба Гаша? – спросила Таня.
– Три дня тому. Вышла из комнаты, по коридору пошла, до ветру, видно. И упала. Я думала, пьяная лежит, а оно вон что.
– Ее же в больницу надо.
– Какое!.. – махнула рукой баба Гаша. – «Скорая» приезжала, врачиха сказала, инсульт, уколола чего-то да уехала. В больницу таких не берут. И молодых-то не берут, а тут сразу видать, не жилица. Как мы живем, Таня, никакими словами не пересказать! Не живем – бедуем. Как такое стало, не поймем. Богатства вроде большие у нас, и нефть, и всякое. Оно-то да, сильно Америка нам вредит, мы понимаем, а все же… Фонари, видела, не горят нигде. Черт ногу сломит. После войны уж на что разруха была, как немца выгнали, а свет-то горел! В Афанасьевской церкви, помню, дизель танковый поставили, в восемь вечера заведут, в двенадцать выключат. По одной лампочке на квартиру разрешали включать, а больше нет, не разрешали. А свет-то горел! И сейчас бы так сделать, люди б спасибо сказали… На улице вовсе света нету, и в домах гаснет. Когда Надька на полу лежала, не сразу и увидали в темноте.
Тане показалось, она сама упадет сейчас под этот мерный говор на пол, и непонятно, что станет делать. В крике забьется, может.
Все, что было ее прошлым, вдруг прорвалось в настоящее, стеснило сердце. Невозможно было с этим жить.
– Кто за ней ухаживает, баба Гаша? – не отрывая взгляда от лица матери, спросила Таня.
– Я, больше некому. Да какой уход? Не ест, не пьет, никакого и ухода не надо. Не жилица она, Таня, – повторила баба Гаша. – Вот-вот помрет. Ты приехала, и слава богу. Я ведь брату Надькиному на Дальний Восток позвонила, телефон у нее записан был. Мать ее, бабка твоя, живая еще, знаешь? При нем живет, при сыне своем, значит. Как уехала тридцать лет назад, так и живет. А дед твой помер. Это он мне сказал, Надькин брат, дядька твой, как его, забыла имя. Не приедем, сказал, дорого. Да и чего им ехать? Они и не помнят уже, есть ли она, нет ли. Как рассорились когда-то, так и нету меж ними мира, уж такие люди, ничего не поделаешь, и мать твоя такая была, сама знаешь…
Если бы Таня могла, то заткнула бы уши, чтобы не слышать ни слова. Но не могла она этого сделать, и слова вливались ей в мозг, как расплавленный свинец в горло казнимому.
– Надо ее помыть, – сказала она. – Есть вода или принести?
– Есть, есть, – сказала баба Гаша. – Теплая тоже есть. С вечера запасаю, грею. – И с недоверием спросила: – Правда мыть станешь?
Таня не ответила – сняла плащ, положила на свой топчан, вернулась к тому, на котором лежала мать, откинула одеяло… И тут что-то хлюпнуло у матери в груди, рот закрылся, потом открылся снова…
Воздух судорожно вырывался у нее из горла. Таня присела на корточки у топчана, взяла мать за руку. Холодная рука стала мокрой прямо у нее в руке.
– Отходит, – проговорила баба Гаша. – Помоги, Господи, поскорее ей, грешной, преставиться.
– Перестаньте! – воскликнула Таня. – Зачем вы… так?!
Теснота в сердце стала совсем невыносимой – и вдруг лопнула, взорвалась… И слезы, горячие, жгучие, хлынули из этой тесноты сплошным потоком.
– Всё, – сказала баба Гаша. – Прибрал Господь.
Глава 15
– А это что в лесу такое белое, Иван Николаевич? Вон те кусты, и вон там тоже.
Алик прижался носом к боковому окну машины. Казалось, что его длинные густые ресницы возят по стеклу, как щетки, так хлопал он глазами.
– Черемуха, – ответил Иван. – И шиповник. А что ты меня так торжественно называешь?
– Таня так сказала. – Он пожал плечами. – А как по-другому?
«Да, ему же и в детдоме говорили, что взрослых только по имени-отчеству надо звать, – понял Иван. – А как черемуха называется, не говорили, наверное. О Тане, смотри-ка, с каким он придыханием».
Подумав о Тане, Иван улыбнулся. Хотя повода для веселья не было. Да и улыбаться давно отвык.
Он ясно понимал все, что думал Алик. И так же ясно видел границу, за которую тот не хотел бы, чтобы заходили взрослые. Такое понимание желаний, мыслей, границ возможного давно уже давалось Ивану само собою, без усилия. Иначе нельзя было с Вадькой.
И, как он с удивлением обнаружил, иначе нельзя вообще ни с кем. Он был уверен, что его опыт неприложим к норме, как и вся его жизнь. И вдруг этот маленький Левертов, Танин ребенок, сам того не заметив, опроверг его представление о самом себе. И теперь Иван вглядывался в себя с удивлением и еще с каким-то чувством, очень робким, едва намеченным.
Ему странно было вглядываться в себя. Он не делал этого много лет, с самой юности. И давно отвык от такого взгляда, который в юности казался ему естественным, без которого он не представлял себе будущего.
Сейчас, правда, было не до взгляда в себя. Смеркалось быстро, и вглядываться следовало в ямы на шоссе.
А зашел бы к Тане наутро после той ночи, просто зашел бы спросить, как она себя чувствует, и ехал бы в этот Болхов с нею, и еще вчера ехал бы.
Но он зашел в левертовский дом только через сутки, а до того как последний придурок размышлял, имеет ли на это право, да не подумает ли она, что он навязывает ей свои проблемы, свой раздрызг.
Когда Алик сказал, что Таня уехала мать хоронить, Иван рассердился так, что даже на мальчишку сорвался.
– Где здесь написано «хоронить»? – сказал он, бросая на стол телеграмму.
– Пишут же «помирает». – Алик шмыгнул носом. – Значит, вот-вот умрет?
– Ничего это не значит! Дура какая-то пишет. Может, врет вообще! Ей, может, деньги нужны просто. Не могла Таня хоть мне сообщить, что ли? – сердито хмыкнул он. – Что за привычка дурацкая, все самой делать! Что она тебе сказала, дословно повтори, пожалуйста.
– Сказала, что не знает, когда вернется, и чтоб я к вам пошел и сказал, чтоб вы за мной присмотрели, – нехотя ответил Алик. – И чтобы в школу ходил, сказала, – вздохнув, добавил он.
– И что? Пошел ты ко мне?
– А вы б могли и сами прийти! – нахально заявил ребенок. – То на ручках ее носили, думаете, не видел? А то целый день вас не было.
– А сам ты в школе сейчас? – напомнил Иван. – Вот и не учи, что я мог бы, что нет.
Но конечно, Алик был прав. Иван представил, как она ехала одна туда, откуда бежала когда-то в страхе и отчаянии… От родителей он знал историю Таниного появления у Левертовых, так что представить, что она чувствовала вчера, было ему нетрудно.
– Ладно, – сказал он, – что вчера было, забудем. Сделаем то, что можно сделать сегодня.
– Где ж вы ее найдете? – хмыкнул Алик.
Что Иван собирается делать сегодня, он догадался без пояснений.
– Обратный адрес в телеграмме указан, – сказал Иван. – Делай выводы, раз голова позволяет.
Мысль о Вадьке упала от грубых слов в сердце резкой болью, но Иван не позволил этой боли разрастись сейчас. Сейчас надо было спешить.
Понятно, что Алика придется взять с собой. Он умный, но не разумный. Сердечный, но безответственный. И вся его прошлая жизнь не дает опоры будущему. Впрочем, в том, что было до его жизни, что живет в его крови, опор для него достаточно.
– Я пойду за машиной. Через полчаса выезжаем. Одежду для себя соберешь? – спросил Иван. – На несколько дней. Белье, теплое что-нибудь. Или не сможешь сам?
– Смогу! – воскликнул Алик. Но сразу сник. – Только…
– Что?
– Таня сказала, если я в школу не буду ходить, то на нее кляузу напишут. А я уже два дня не ходил… Меня у нее не отберут?
– Продолжишь в том же духе – отберут. Но на эти дни возьмем тебе справку.
Лицо у Алика просияло.
«Рад расслабиться, паршивец, – подумал Иван. – Нелегко его будет в разум привести».
Но что сейчас делать? Оставить одного – еще хуже.
– А врачи у вас знакомые есть? – поинтересовался сообразительный мальчик.
– Есть, – усмехнулся Иван. – Собирайся живее.
И вот они едут через луга и леса в немыслимой весенней красоте, Алик вертит головой безостановочно, то и дело спрашивает, как что называется… Мир предстает перед ним в неведомом виде, и у него, наверное, дух от этого захватывает.
Иван отвечал лишь машинально. Он думал о Тане, и мир, которым была она, захватывал его дух гораздо больше, чем просторы, и леса, и черемуха, и цветущие сады, и ясная гладь реки, вьющейся в лугах…
– А ничего так, красиво, – сказал Алик.
Он постарался произнести это небрежным тоном, но по тому, как сверкали его глаза, было понятно, что вид, открывшийся с холма, поразил его.
Из-того, что холмы составляли весь болховский ландшафт, виды отовсюду открывались такие, что сердце ухало, будто само летело с горки. Даже повсеместная здешняя обветшалость не мешала – это была обветшалось подлинной, ничем, кроме времени, не тронутой красоты.
Но разглядывать красоты было уже некогда. Сумерки сгущались стремительно, а ехать по болховским улицам в темноте было серьезным риском даже для внедорожника. Иван часто возил Вадьку за город, куда-нибудь в глубь природы, для того и купил «Рейндж Ровер».
На центральной улице – как она, интересно, до Ленина называлась, городку-то лет восемьсот, наверное, – стояли старые «Жигули», а рядом с ними телега с запряженной в нее лошадью, а рядом с лошадью мужчина в чистом костюме и сером галстуке. Иван вышел из машины, чтобы расспросить, как доехать. У мужчины было спокойное лицо порядочного человека. Он окинул дорогую машину удивленным взглядом, но ответил доброжелательно. Когда Иван тронулся с места, то увидел, как тот садится в телегу и берет вожжи.
Совсем другая жизнь. Но ничего такого, что не было бы ему не понятно даже, а внятно, да, именно это слово, – Иван в здешней жизни не видел. Первый взгляд, конечно, бывает поверхностным, тем более взгляд стороннего человека. Но от того, что он думал о Тане, его взгляд был сейчас обострен и подсвечен правдой, и взгляду своему он поэтому верил.
Алик встал коленями на сиденье и смотрел назад, на огромный собор в начале улицы, непонятно почему помеченной именем Ленина.
– Здоровая церковь какая, – сказал он. – В Москве такая же есть.
Собор действительно был похож на храм Христа Спасителя.
– И еще одна. Ого, колокольня у той высоченная! – комментировал он. – И еще! И вон там! Сколько ж их тут, Иван Николаевич?
– Не знаю, – ответил Иван.
Он никогда не думал о городе Болхове. И вдруг этот город подступил к его сердцу, потому что в нем была Таня.
Глава 16
Таня открыла окно. Пахнуло травой, рекой, цветом яблонь и дымом свечи, гаснущей на подоконнике.
Свечу Таня зажгла утром, вернувшись с отпевания, и вот она догорела.
Об отпевании договорилась сразу, о похоронах тоже, и уехала бы сразу после похорон, но автобус до Орла вечером уже не ходил, и пришлось остаться на поминки.
– Как же, Таня, надо помянуть, не собака померла, – назидательно сказала баба Гаша.
Таня дала деньги на выпивку-закуску. Ей самой непоминание собаки казалось куда более правильным делом, чем бессвязный ор и вялая драка спившихся теней, которые стеклись на дармовщину. Больше помянуть ее мать было некому.
Если бы не отпевание, не его горестный и чистый чин, который Таня помнила с детства, когда вместе со всеми детьми бегала в Троицкую церковь поглядеть, как покойников провожают, – все это было бы совсем невыносимо.
Наконец выпивка кончилась и все разошлись. Таня открыла окно, чтобы проветрить комнату. При мысли о том, чтобы здесь ночевать, ее начинало знобить.
Баба Гаша выглянула в коридор, услышав ее шаги.
– Ты куда это на ночь глядя? – спросила она.
– У пруда посижу, – ответила Таня.
До утра, что ли, у пруда сидеть? Она не знала. Ей было так плохо, что хоть волком вой. Но кому дело до ее воя?
– Не ходила бы к пруду, Татьяна, – покачала головой баба Гаша.
– Топиться не стану.
– Ты-то, может, и не станешь, а что он надумает, никому не ведомо.
– Водяной, что ли? – усмехнулась Таня.
– А ты зубы-то не скаль! Анька Малофеевых на той неделе пошла вот так-то, ввечеру, на Нугрь белье полоскать. А он хвать за простыню, и потащил, и потянул.
– И что? – вздохнула Таня. – Утянул в свои чертоги?
Вообще-то она не удивилась бы, если бы так и оказалось. Все здесь – один сплошной чертог, почему не быть подводному царству?
– Вырвалась она. Говорит, голос его слышала. «Мой час, да не твой срок», – вот что вслед сказал.
Что на это ответишь? К чему это сказано вообще?
– То на реке было, – вздохнув, ответила Таня. – А пруд неглубокий.
За семнадцать лет пруд совсем обмелел, теперь это была просто лужа. Потому и люди больше не собирались здесь вечерами, и тишина стояла мертвая.
Таня обошла пруд, остановилась на краю косогора, села на травянистый пригорок за кустом шиповника. Внизу блестела река. Луна уже поднялась, тронула ее серебряной рябью. Соловьи гремели так, что плавили воздух своим переливчатым боем. Один самозабвенно пел прямо среди белых цветов шиповника, в полушаге от Тани.
Красота мира была так выпукла, так очевидна, что могла бы тронуть чье угодно сердце. Но то, что произошло с Таней вчерашней ночью, когда ее прошлое ухнуло в прорыв смерти, – ввергло ее в растерянность.
Ничего она больше не понимала – про себя, про людей, про настоящее и будущее. Хаос жизни охватил ее. Только Веня умел смирять этот хаос и смирил бы, может. Но его не было.
Она закрыла глаза. Став невидимым, мир не сделался роднее.
Луна поднялась так высоко, что освещала теперь весь этот мир сплошным безучастным светом. Таня то открывала глаза, то закрывала снова. Сначала чувствовала, как пробирает ее ночной холод, а потом и это чувствовать перестала.
«Меня нет?» – беззвучно спросила она.
– Ты замерзла совсем! Ты что творишь, Таня?
Она вздрогнула и открыла глаза.
Он обошел куст, спустился на два шага вниз по косогору и стоял перед нею так, что она могла бы, не вставая, положить руки ему на плечи. Она не услышала его шагов, потому что соловьи все заполнили пением, не оставив места ни для каких больше звуков.
– Таня! – сердито повторил Гербольд. – Что за… Черт, «Мороз Красный нос» какой-то. Поэма!
Он расстегнул свою куртку, взял Таню под мышки, рывком поднял на ноги, прижал к себе и запахнул куртку у нее за спиной.
– Холодная как ледышка, – сказал Иван. – До костей промерзла. Меня тобой аж через свитер пробирает! И не вижу ничего смешного, – добавил он, всмотревшись в ее лицо. – У тебя вон даже руки белые. Отморозила, может.
– В мае не отморозишь, – глядя в его глаза, в их светлое внимание, сказала Таня. – А руки у меня всегда белые становятся, когда я волнуюсь.
– Ты волнуешься?
Его голос дрогнул.
– А ты? – спросила она.
– Я… Это в данном случае не важно.
– Почему?
Он не ответил. Положил ладонь Тане на затылок и притянул ее голову к своему лицу. От того, что он стоял чуть ниже, ее губы сразу коснулись его губ. Такое вышло следствие холмистого ландшафта.
Они не целовались, а просто стояли, касаясь друг друга губами. Таня больше не спрашивала, волнуется ли он, потому что и так это знала.
– Ты прости, что я не пришел, – сказал Иван.
– Ты же пришел.
– Раньше надо было. Но я не решился.
– Почему?
Она отстранилась, чтобы видеть его глаза. В них было смущение и было другое, то, от чего стремительно забилось ее сердце.
– Мне себя по частям собирать придется, – ответил он. – Что еще выйдет, выйдет ли что вообще, непонятно. А при чем здесь ты? Тебе и так хватает.
– Ты обо мне слишком высокого мнения, – сказала Таня.
– То есть?
– Говоришь, как будто я с полуслова все понимаю. А я простая как пятак и ничего не понимаю вообще. Что значит по частям? Почему?
Он не ответил. Но все его тело от губ до колен – Таня прижималась к нему, поэтому сразу почувствовала, – ответило ей так, что не понять этот ответ было невозможно.
Зря он сетовал на свою нерешительность. Он так быстро расстегнул на ней блузку, что она и подумать не успела, как сильно ей этого хочется.
– Ох, Тань, – глухо проговорил Иван. – Осатанел я, видно. Не могу больше.
Он снял с себя куртку и бросил на траву перед кустом. Белые лепестки сразу полетели на нее. Таня легла на лепестки, стянула джинсы и бросила рядом. То, что заливало ее изнутри жаром, когда она только думала о нем, теперь, при живом его прикосновении, движении, порыве заставило ее вскрикнуть. Она сжала коленями его бока и подалась к нему. Отдалась ему – так точнее. Отдалась всем, что было ее телом и ее существом.
Все это случилось так неожиданно, что и она ничего не ожидала от своего соединения с ним. Но когда почувствовала его в себе, то ее сотрясло вдруг всю, яркие огоньки вспыхнули в ней, не перед глазами, а в ней во всей, и между ног у нее тоже, она вскрикнула, обхватила Ивана за шею, забилась, снизу прижимаясь к нему.
И так это длилось, или остановилось, или закончилось – все произошло одновременно.
Он поднялся на ноги. Он молчал. Не глядя на него, Таня потянулась за своими джинсами. Уж слишком и правда все это вышло быстро, кажется. Или нет?..
Она надела джинсы и искоса взглянула на него. Он стоял неподвижно. Что он думает? Она успела почувствовать жаркий взрыв в себе, а он ничего не почувствовал, может. Мужчина телом любит, а что с его телом сейчас происходит? Повернется и уйдет, и что тогда? Ей стало страшно.
Иван не уходил. Но и не произносил ни слова. Протянул Тане руку. Она взялась за нее, поднялась на ноги. Они стояли друг против друга в растерянности. То есть это она была в растерянности. А он…
Он обнял ее так, что у нее занялось дыхание. Кажется, не рассчитал силу. Или просто она не рассчитывала, что такое может быть.
Таня тоненько пискнула у него под мышкой и засмеялась. Его лица она не видела, но почувствовала, что он улыбнулся где-то над нею. Как-то по его ребру она это почувствовала.
– Что? – спросила она, подняв голову.
– Щекотно, – ответил он.
– Я не могу там спать, – невпопад сказала Таня.
– Незачем там спать. Можем ехать сейчас.
Он понимал ее быстрее, чем она произносила слова.
– Автобус только утром будет, – вздохнула она.
– Я на машине. Алик в ней сейчас спит. Разбудим его и поедем. Хотя зачем? Можно и не будить.
– Ты его с собой привез? – встрепенулась она.
– Его нельзя одного оставлять, Тань.
– Я знаю… – виновато вздохнула она.
– Не вздыхай. У тебя не было другого выхода. И в общем, ты ему правильно объяснила, что он должен делать.
– Он к тебе зашел?
– Почти.
– Что значит почти?
– Неважно. Это не имеет значения.
– А что имеет, Вань? – тихо сказала Таня. И добавила: – Я не знаю.
Машинально как-то добавила. Теперь она уже не была в этом уверена.
Лунный свет остался прежним, и соловьиный бой, и запах шиповника, но все переменилось в ней, и мир вокруг нее переменился тоже.
Она положила руки Ивану на плечи и, приподнявшись на цыпочки, поцеловала его прежде, чем он успел наклониться к ней.
– Ты, Таня, – сказал он, – ты имеешь большое значение. Может, я и хватил через край, но твой край так высоко, что мне не дотянуться.
Опять она не понимала, что он говорит. Чтобы вернуться к чему-нибудь ясному, она взяла его за руку и, потянув к темному дому, спросила:
– Ты как меня нашел?
– По навигатору, – ответил он.
– Но ты же весь день за рулем! Нельзя тебе сейчас ехать.
– Доедем до гостиницы и переночуем.
– Правда. Я про гостиницу забыла. Я как-то растерялась.
– Ничего. Тебе неплохо растеряться.
– Почему? – удивилась Таня. – И спохватилась: – А машину ты закрыл? Здесь такие типы бродят, что…
– Ты же говоришь, растерялась, – напомнил Иван. – Вот и не торопись сосредоточиться. Машину закрыл. Я вообще-то не планировал отходить от нее надолго. Это все у нас с тобой… несколько неожиданно вышло. Но хорошо. Мне было хорошо. А тебе… Не грубо, а?
Смотрит исподлобья. Тревожится, что не был с ней нежен. Даже не понимает, какой он с ней был!
– Не грубо. – Таня потерлась лбом о его плечо. – Если б не ты… Меня такое отчаяние здесь взяло, Вань, такой мрак. Как здесь живут беспросветно! Я ведь в Москве иной раз и сама подумаю: ну что я себя накручиваю? Живу же, и неплохо живу. И все кругом тоже. По Патриаршим идешь – все рестораны битком. Машины ездят, лампочки сверкают, люди смеются. А здесь…
Ей не хватало слов, чтобы объяснить то, что Веня когда-то научил ее понимать, – подоплеку жизни во всю ее широте. В ту широту, без которой нет счастья, в которой все соединено, все связано. Она чувствовала эту связь всего со всем и переделать себя уже не могла. Даже сейчас.
– Я бы тебе сейчас лучше говорила, что люблю тебя, – сказала она. Его рука дрогнула и быстро сжала ее руку. – А мне страшно. Все ведь мертвое здесь, – сказала она.
– А ты?
Иван остановился. Внимание, которое было в его глазах главным всегда, с самого детства, с того бесконечного, озаренного счастливыми огоньками австрийских фруктов дня, когда она увидела его впервые, – светилось в них и сейчас. Это даже в бледном лунном сиянии было видно.
– Что – я? – спросила Таня.
– Ты ведь живая. В тебе все свернуто, как в ростке. Раз ты есть, то и всё есть. Опять непонятно говорю?
– Понятно…
Его слова диктовались разумом, но захватывали ее сердце.
Он улыбнулся. Таня впервые увидела его улыбку. С самого детства – впервые. Она появилась на его лице так, будто была непривычна его губам.
Все-таки неправду она ему сказала. Не были ей понятны его слова. Но то, что было в его глазах, в его неумелой улыбке, в руке, гладившей ее пальцы осторожно и робко, – не требовало объяснений. Ни объяснений, ни пафоса.
– Что ж, попробуем, а, виконт де Бражелон? – сказала Таня.
– Двадцать лет спустя стоит попробовать, – согласился он.




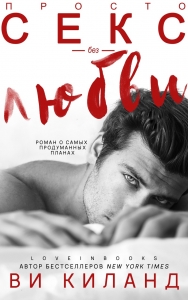


Комментарии к книге «Австрийские фрукты», Анна Берсенева
Всего 0 комментариев