Паола Стоун Шкатулка, полная любви
Я посвящаю этот роман двум европейским городам,
которые бесконечно люблю, — Праге и Венеции.
Они подарили мне незабываемый год жизни,
счастливую, хотя и недолгую, любовь и нежную
дружбу, которая останется со мной навсегда.
ЧАСТЬ I
Глава 1
Божена сидела в саду и нежилась, подставив лицо последним теплым лучам. Ее густые длинные волосы, освещенные осенним солнцем, были того же оттенка, что и медно‑рыжие кленовые листья, сквозь которые проникали золотистые лучи. В окне, выходящем в сад, она видела профиль Томаша, аппетитно хрустящего сочным осенним яблоком, которых всегда было вдоволь в бабушкином саду. Божена задумалась, и ей вдруг показалось, что Томаш стал ее мужем не шесть лет назад, а совсем недавно и сейчас из дома выйдет молодая бабушка Сабина. Они вместе срежут свежие утренние георгины и разнесут их по комнатам, а потом, собрав всю большую семью, отправятся чаевничать на просторную деревянную веранду, в эти утренние часы щедро залитую солнечным светом.
Неторопливо перебирая в памяти эти теплые воспоминания, Божена наслаждалась любой малостью.
Ах, как пахли свежестью бабушкины домотканые салфетки, каким сочным был домашний сыр, издавна готовившийся в доме Америги по рецепту, привезенному дедом со своей родины…
Италия… Божена, еще очаровательной золотоволосой малышкой сидя на коленях у старого Америго Америги и слушая его длинные рассказы о Венеции, которую он так давно покинул, мечтала отправиться туда и все увидеть своими глазами.
Но мечты пока оставались мечтами, а ей уже почти тридцать лет. Дед умер, когда Божена еще ходила в школу, и его похоронили здесь, в Праге, но он почти всю жизнь мечтал о том, чтобы вернуться на родину хотя бы после смерти. Бабушка Сабина — она была намного младше своего всем известного в этом городе мужа, сумевшего и на чужбине стать тем, кем он был в любимой им до самой смерти Венеции, — тяжело переживала его смерть. Еще тогда ее зрение стало стремительно ухудшаться, и врачи связывали это с пережитым горем. Сейчас же она уже совсем ничего не видела и без посторонней помощи редко выходила из своей самой любимой в доме комнаты, которую называла не иначе как «мой будуар».
Божена была старшей внучкой известнейшего в Праге ювелира, и к своим тридцати годам уже сумела отлично овладеть ремеслом деда — хотя могла бы всю жизнь провести в беззаботной неге, живя на то, что досталось ей в наследство от золотых дел мастера Америго Америги. Она, Божена Америги, и до сих пор ежегодно пополняла свой счет частью дохода, который приносила их семье основанная дедом ювелирная мастерская.
Но такая жизнь была не для Божены. Вот и муж у нее — тоже ювелир. Это он дал ей многое из того, чему не успел научить любимый дед. Томаш, который был немного старше Божены, все‑таки успел поработать подмастерьем у самого Америго.
А теперь — что стало с ним теперь? Нынешний Томаш, сравнивая свой годовой доход с тем, сколько получалось у его жены, и пытаясь не отставать от нее, зарабатывал деньги всеми возможными для него способами: брал срочные заказы, работал в угоду капризным клиентам, все меньше заботясь о художественном достоинстве того, что они, ювелиры, называют изделием.
И Божена, никогда не придававшая значения деньгам, бессильна была убедить мужа прекратить эту безумную гонку. Однажды она попыталась, но он, с годами все болезненнее воспринимавший ее материальное превосходство, жутко оскорбился и попросил больше не говорить о том, в чем она ничего не понимает. Он имел в виду деньги.
Божене было обидно, но с тех пор она ни разу не заговорила ни о том, в чем действительно ничего не смыслила — да и не хотела смыслить, — ни о том, в чем она понимала более чем хорошо. В отличие от Томаша, она навсегда усвоила главную заповедь деда: чтобы быть настоящим ювелиром, нужно день за днем развивать свой художественный талант. То, что выходило из торопливых рук Томаша, было достаточно тщательно исполнено, но Божену охватывала невыносимая скука, когда он показывал ей очередной свадебный гарнитур или вычурный перстень, выполненный по прихоти заказчика.
«И почему мне опять лезет в голову вся эта чепуха? — Божена встряхнула головой, будто пытаясь вытряхнуть мысли, совершенно неуместные в это чудное солнечное утро. — Неужели мне достаточно лишь увидеть Томаша в окне, чтобы забыть о том, как пахнут георгины?»
Она встала, подошла к благоухающему цветнику и, срезав несколько бордовых георгинов, пошла в дом.
Там Божена поднялась по старой скрипучей лестнице и, осторожно ступая, вошла в будуар.
Бабушка еще не знала об их приходе. Божена частенько забегала навестить ее. А по воскресеньям они обычно встречались здесь все вместе: две ее внучки — Божена и Никола — и Томаш. Но сегодня, когда Божена с Томашем позвонили у калитки, отворившая им горничная сказала, что панна Сабина еще не проснулась. Никола — «меньшенькая», как всегда называли ее в семье, — тоже задерживалась, и Божена предложила Томашу посидеть в саду, но он, сказав, что по утрам уже слишком холодно, пошел в дом.
Божена, стараясь не шуметь — спальня бабушки была рядом с будуаром, — поставила георгины в большой глиняный кувшин на полу, с улыбкой подумав: «Первым, что она почувствует, проснувшись, будет свежесть ее любимых цветов», — и так же неслышно вышла на лестницу и спустилась вниз.
Привыкнув уже ступать неслышно, она вошла в гостиную.
Томаш сидел к ней спиной, удобно устроившись в кресле‑качалке, и листал их семейный альбом. Божена подошла и заглянула через его плечо.
Он не заметил, как она подошла. Альбом был открыт на странице с двумя фотографиями. Эти фотографии были почти одинаковыми: вверху та, где они с Томашем, стоя у фонтана в Королевском саду, смотрят друг на друга; на нижней место Божены занимает Никола, а в остальном — все так же.
Сначала Божене показалось, что Томаш дремлет: слишком уж неподвижно он сидел. Но потом она поняла, что его глаза смотрят, не отрываясь, на одну из фотографий — нижнюю. Снимки были сделаны в разные годы, и Божена на фотографии была в том же возрасте, что и Никола сейчас, — на этой странице им обеим по семнадцать.
Когда Божене было семнадцать, ей казалось, что она и Томаш так навсегда и останутся хорошими друзьями, но спустя почти семь лет, уже после свадьбы, Томаш признался ей: она и тогда была для него больше, чем другом.
Божене было уже непривычно видеть себя такой юной. А как повзрослела за последний год Никола! Но посадка головы юной балерины, на днях дебютировавшей на сцене Большого зала Консерватории с сольным танцем Кармен, осталась той же: гордой, сосредоточенной…
Божена чуть слышно вздохнула. Томаш, вздрогнув, захлопнул альбом, будто пряча что‑то, не предназначенное для ее глаз, и резко повернул голову:
— Это ты?! Ну, напугала.
Он встал и быстро поставил альбом на полку. Став обычным, внешне уверенным в себе Томашем, он чуть приподнял Божену, усадил ее в кресло‑качалку, а сам склонился над ней, упираясь руками в подлокотники и чуть покачиваясь вместе с креслом.
— Бабушка спит. И Никола, наверное, тоже… — задумчиво сказала Божена и зажмурила глаза, представляя, что это дед Америго качает ее в кресле: раньше оно стояло в его кабинете, в который он никого из домашних, кроме любимицы‑внучки, не допускал. И она отвечала ему взаимностью: даже выучилась невзначай лопотать по‑итальянски, а потом научилась и читать, листая один из немногих старинных томов, привезенных Америго из Венеции.
Почему дед уехал оттуда? Божена помнила семейное предание, в детстве иногда заменявшее ей вечернюю сказку, но ничего, кроме таинственности, оно к истории бегства деда не прибавляло… А то, что он не просто уехал, а именно сбежал из Италии, она знала точно. Он сам однажды сказал ей об этом…
— Опять ты витаешь где‑то. Даже звонка не слышишь!
На этот раз вздрогнула Божена. Томаш поднял телефонную трубку:
— Да, мы уже давно здесь… Почему?.. Да, хорошо. Божена поняла, что звонит Никола. Но только она протянула руку, чтобы взять у Томаша трубку, как тот положил ее на рычаг.
— Никола?
— Да, у нее какая‑то дополнительная репетиция сегодня. Она в Консерватории.
— Опять допоздна?
— Говорит, что часов до восьми.
— Бедная, она, наверное, совсем устала. Надо бы ее встретить после занятий. Давай вечером вместе прогуляемся?
Томаш ответил без энтузиазма:
— Я мог бы встретить ее по пути из мастерской, но если ты хочешь…
— А ты что, сегодня опять собираешься в мастерскую?
Томаш утвердительно кивнул. Положив трубку, он так и остался стоять у телефона.
— Ну что же, тогда проведем время вместе. — Божена встала с кресла и, подойдя к Томашу, коснулась губами его щеки. — У меня тоже найдется чем заняться в мастерской. А вечером встретим Колочку. Может быть, она переночует у нас…
Тем временем проснулась бабушка и, осторожно двигаясь по слегка расшатавшейся со временем, но достаточно широкой лестнице, спустилась вниз. Горничная, прозевавшая ее пробуждение, устремилась, причитая, к ней навстречу, но Божена уже поддерживала улыбающуюся старушку под руку, ведя ее в сторону гостиной.
— А я уже унюхала, что вы пришли! Нет, не туда, давай‑ка выйдем в сад — я уже чувствую, какое сегодня чудесное утро.
Выйдя на крыльцо, бабушка подставила солнцу удивительно гладкое для ее лет лицо и, ощутив на нем ласковое осеннее тепло, на минуту замерла. Потом, чуть касаясь Божены вытянутой рукой, вышла в сад и по‑прежнему красивой походкой уверенно пошла к своему цветнику.
— А где же Колочка, где Томаш?
— Здравствуйте, дорогая Сабина.
Томаш подошел к ней и наклонился к ее сухой руке. Сколько Божена себя помнила, все мужчины всегда приветствовали бабушку только так, как это делал сам Америго.
— А наша меньшенькая опять проспала? — Бабушка, опустив веки, вдыхала аромат осенних цветов, не отнимая руки из ладоней Томаша.
— Да нет, бабушка, она на репетиции. Опять задержится допоздна. Так что ты ее не жди сегодня.
Сабина взяла Томаша под руку, и они втроем пошли по саду, шурша уже опадавшими с яблонь листьями.
Было тихо, удивительно тихо и спокойно в это безветренное утро.
— Вот так и живу — в тишине… — Сабина помолчала. А потом вдруг сказала то, что давно уже носила в себе, не собираясь вмешиваться в личную жизнь своей старшей, с детства привыкшей к свободе и самостоятельности, внучки: — Хотелось бы побольше звуков. Да и дом опустел незаслуженно — Америго не для того его строил, чтобы он обветшал в полной тишине. Вы понимаете, о чем я? Куда я клоню?
Божена понимала. Бабушка высказала наконец то, о чем они никогда не говорили раньше. А знала ли сама Божена, почему у них с Томашем до сих пор не было ребенка? Наверное, знала. Но вряд ли смогла бы это кому‑нибудь объяснить. Даже Томашу.
Когда люди менее тактичные или более прямолинейные, чем бабушка Сабина, спрашивали их об этом, Томаш обычно простодушно пожимал плечами и почти искренне говорил, что, пожалуй, и действительно пора об этом подумать. Спасибо, мол, что подсказали. Но потом быстро забывал о таких разговорах: эта тема никогда особо не беспокоила его.
А у Божены в такие минуты все словно сжималось внутри. Будто ее уличали в чем‑то постыдном.
Божена никогда не пряталась от себя самой: она мечтала о ребенке с первых лет их совместной с Томашем жизни. Но чем старше она становилась, тем отчетливей просыпалось в ней еще одно чувство — острая необходимость в творчестве. Божена была твердо уверена в том, что искра, так ярко горевшая в ее знаменитом деде, передалась по наследству ей.
И сейчас она, молодая тридцатилетняя женщина, уже начинала ощущать, как коротка человеческая жизнь для того, чтобы осуществить все задуманное, довести свой талант до совершенства и творить по‑настоящему. Это было и просто, и сложно, но Божена знала наверняка: либо жизнь посвящается ребенку, либо искусству — третьего, считала она, не дано. Во всяком случае, ей не дано.
Глядя на свою маму, она думала: женщина, решившаяся стать матерью, должна научиться трезво относиться ко всему, что окружает ее и ребенка. Она должна быть такой же простой и надежной, как сама природа. Божена была свидетелем того, как некоторые ее приятельницы, поспешившие родить, страдают сами и превращают жизнь своих детей в сплошное преодоление запретов, наполняя детские сердца странными ощущениями. А все оттого, что дети связывали их по рукам и ногам. Божена была готова к самоотречению, но ее беспокоило другое: ее отношение к жизни не было подобно тихой лагуне в солнечный день. Сначала ей надо было успокоиться самой — лишь тогда она сможет обеспечить покой нежному существу, которое достаточно долго будет почти всецело зависеть от нее.
Если бы Томаш настаивал, чтобы она родила, — конечно, она не задумываясь сделала бы это… Но Томаш никогда не заводил подобных разговоров.
Ах, как ей иногда становилось тоскливо, когда пушистый Холичек — белоснежный ласковый кролик, которого она привезла из деревни пару лет назад, — запрыгивал к ней на колени и начинал тыкаться влажным розовым носом в ее ладони!
…Если бы не Томаш, который после звонка Николы вообще ничего не говорил, но лишь продолжал молча присутствовать, шагая рядом с Сабиной по утреннему саду и время от времени брезгливо снимая с одежды легкие осенние паутинки, Божена попыталась бы объяснить все это бабушке. И та поняла бы ее. Может быть, только бабушка и могла бы ее понять — как всегда понимала своего непростого мужа…
Но Томаш не оставлял их наедине, и Божена, чтобы избежать неловкого молчания, в шутку сказала, что надо бы написать письмо городским властям с просьбой перенести окружную дорогу поближе к «Дому Америги» — как все называли его в округе, — а в бывшей конюшне открыть кабачок для утомленных дорогой водителей.
Сабина, тоже в шутку, пожурила Божену за подобную болтовню, но, кажется, почувствовала, почему внучка, прекрасно поняв ее вопрос, ушла от ответа.
Они попили чаю — но не на веранде, давно заколоченной, а в столовой — и стали собираться в мастерскую, вскоре оставив Сабину наедине с тишиной старого уединенного дома.
В обед в мастерскую позвонила Никола. С меньшенькой опять разговаривал Томаш — Божена как раз в это время вышла пройтись по ближайшим магазинам, чтобы проветриться и отвлечься от никак не дающегося ей сегодня эскиза. Вернувшись, она узнала из путаных объяснений мужа — то ли Николу плохо было слышно, то ли Томаш был занят работой и невнимательно ее слушал, — что репетиция закончилась раньше и сестра, кажется, отправилась вместе с друзьями куда‑то за город.
«Ну что же, опять не судьба. Увидимся в другой раз», — рассеянно подумала Божена и снова взяла в руки карандаш.
Глава 2
Тучи дымились над Влтавой, над сбившимися к берегу домами. Никола почти летела по мосту, задыхаясь от слез и ветра. Город и дождь плясали перед ее глазами.
Там, в репетиционном зале, скрытые рыдания все заметней сбивали с такта дыхание, мысли ломали рисунок движений. Танцуя, она не могла улыбаться. Она вообще не могла танцевать сегодня!
Ей хотелось к нему, сейчас же, скорее… Но это было невозможно.
Еще вчера Никола кое‑как справлялась с собой, но сегодня… Сославшись на нездоровье, она покинула класс.
Дождь лил все сильнее.
Никола бежала к телефонной будке на том берегу. Если нельзя немедленно увидеть его, то хотя бы услышать его голос… Звонок в мастерскую — единственное, что сейчас было возможно.
В их отношениях для нее все было слишком сложно. А для него? В ее присутствии, если они были на людях, Томаш умел быть удивительно невозмутимым! Никола не могла понять природы его спокойствия — холоден ли он к ней или же так тщательно скрывает чувство, охватывающее его всякий раз, когда они остаются наедине. Она списывала все непонятное ей в поведении Томаша на его зрелость и собственную неопытность и оставалась лицом к лицу со своей полудетской влюбленностью, втянутой во взрослую авантюру… Томаш был мужем Божены — старшей и горячо любимой сестры Николы.
…Трубку сняли, и его любезный голос произнес:
— Я вас приветствую.
— Это я. — Никола выдохнула эти слова в трубку, как заклинание.
— Я понял. Ну, придумайте что‑нибудь… — Никола услышала, как он вежливо сказал кому‑то: «Извините — одну минуту, перекину заказ на завтра», а затем опять ей: — Позвоните мне завтра утром.
— Куда? К тебе домой?
— Да.
Сквозь шум дождя Никола услышала гудки.
Она стояла в прозрачной кабинке, прислонившись к стеклу горячим лбом. И ей казалось, что вся ее жизнь прозрачна, как эта кабинка, и каждый, любой может прийти и посмотреть на нее.
Огромные красные гладиолусы почти засохли у Николы на столе. Они стояли с того дня, когда Томаш пришел в театр вместо Божены.
Никола слегка щелкнула по стеблю: посыпалась желто‑белая тонкая пыль.
Она чувствовала, что высыхает, как эти цветы.
Вчера, позвонив Томашу, она сказала: «Мне не хватает тебя». Он ответил: «Увидимся сегодня или завтра». Вчера его не было. Значит, сегодня.
Никола сидела у открытого окна. Ее мысли ложились ровно, как черепица на крыше соседнего дома, по которой весь день барабанил дождь. Это и успокаивало, и будоражило: она то теряла ниточку времени, и ее охватывала дремота, то — наоборот: капли‑секунды падали в уши, стучали в висках, и ожидание становилось невыносимым. К вечеру дождь прекратился, и в доме стало совсем тихо.
Сначала она смотрела на блестящую после дождя дорогу: вечерний свет пробивался сквозь лиловые разрывы туч и падал на мокрый асфальт. Потом луна, появившись, словно протерла небо своим боком. В ночной тишине Николе казалось, что это ее вина перед сестрой плавает в небе — полная, желтая и одинокая.
Потом она заснула.
Но вскоре проснулась от жуткого, холодного сна. Будто они с Томашем лежат на дне мутной реки. Ей холодно, но спокойно: они спрятались. Вдруг вода над ними стала прозрачной, и сотни любопытных глаз — знакомых и совсем чужих — уставились сверху.
Она накинула пальто — мягкое и душистое, как осенняя ночь за окном, — и вышла на балкон. Закурив, окунулась в ночную прохладу: над Прагой струилась осень, окутывала букеты башен желтоватой дымкой. Но красота любимого города лишь растревожила Николу: ей казалось, что острые шпили царапают ее сердце.
И вдруг она почувствовала, что щеки ее горят, а плечи вздрагивают; будто она, как тогда, в их первую с Томашем ночь, вырвалась из всего случившегося, изнемогая от счастья и горечи, напилась глоточком звездной ночи и бросится сейчас назад, в неизведанный мир жаркой постели.
Она впилась глазами в желтый круг мостовой, очерченный фонарем. Через секунду в нем возникла фигура — как черный силуэт, наклеенный на светлый картон. И лишь потом, оглушенная ожиданием, Никола услышала звук шагов и свое имя, вернее — его голос, произносящий ее имя.
Нежные ночи влюбленных не похожи на терпкие, торопливые мгновения любовников. Когда минуты близости оставались позади, Томаш не знал, как вести себя с Николой. Их давняя дружба — девочки и молодого мужчины, — которая расцветала два этих года, как нежный цветок во взрослом саду любви, теперь была вырвана с корнем. Все, что происходило между ними сейчас, ничего общего не имело с доверчивой нежностью их прошлого.
Томашу вспоминались их частые встречи. Он так любил по поручению Божены встречать ее «меньшенькую»! Занятия в балетном классе часто затягивались допоздна, но неутомимая Никола стремительно сбегала к нему навстречу по широкой мраморной лестнице Консерватории, и они, взявшись за руки, шли по вечерней Праге, считая башенки и загадывая желания. Никола доверяла ему свои тайны — смятенные догадки о мире прелестного существа пятнадцати лет, больше похожего на сказочную птицу с человеческим лицом, чем на девочку. Порой ему казалось, что сейчас она вздохнет глубоко и, раскинув длинные тонкие руки, взлетит над зеленой горой Петршин вслед за этим розовым солнцем.
Чем она была для него тогда? Ни дочерью, ни возлюбленной — захватывающей дух юностью, которая казалась ему вполне утерянной к его двадцати восьми. С Николой Томаш чувствовал себя сбежавшим на волю из заточения правильных будней, в лучах ее наивности он был великаном — мудрым, обаятельным и всесильным. Сейчас же он мог ей казаться только жалким или жестоким, а она вмиг лишилась беззаботности и дерзкой непосредственности.
Никола, в отличие от зрелых женщин, не могла и не хотела скрывать свою зависимость от него, поглощенность его личностью. Она готова была молить его о встрече, забывая всякую осторожность. Но и телесный мир был ей еще почти неведом: для того чтобы длить их новые отношения, Томашу пришлось бы ее слишком многому учить. А напряжение и скованность, застрявшие между ними в ту злополучную ночь, не позволяли ему делать это с необходимой легкостью.
Раньше они были веселы — сейчас опасались всего на свете. Тогда — вызывающе обособленны: часто, находясь в людных местах, вытанцовывали на лету придуманный Николой танец, напевая в такт что‑нибудь несуразное и хохоча, — и тем самым окружали себя невольными зрителями, а сами делали вид, что никого не замечают. Как это нравилось им! Грациозная Никола склоняла свою тонкую шею и лукаво грозила ему, когда он, в пылу их игры, действительно непроизвольно касался ее розовой мочки губами. А он, все так же на виду, подхватывал высокую, но удивительно легкую девочку и скакал дальше с нею на руках. Теперь же они вовсе избегали общества, а случайно оказавшись на людных улицах, старались слиться с толпой…
Теперь они и расставались по‑другому: выходя из дома Николы, шли в разные стороны, не прощаясь и не оглядываясь.
Так и сегодня: на полутемной лестнице, полной цветочных ароматов, их снова бросило друг к другу, но стоило тяжелой дубовой двери скрипнуть у них за спиной, как они зашагали в разные стороны.
И лишь когда Томаш ступил на приземистый мост, он оглянулся. Никола шла, на полголовы возвышаясь над окружающими, — ее фигура показалась ему пронзительно одинокой. Но Томаша не тянуло догнать ее и прижать к себе — он слишком устал…
Сегодня, взглянув на Николу мельком, он заметил, как две тонкие морщинки поползли от носа по лбу этой маленькой женщины. И он почувствовал, что теперь не она дарит ему свою юность, а он влечет ее к увяданию: Никола переступила порог, за которым прекрасная птица превратилась в женщину. Но не женственность была нужна ему…
А еще он не хотел больше преодолевать течение времени, тревожить свою достойную жизнь, выпрашивая у нее свободный час — чтобы заполнить его Николой. Она больше не была для него трогательными каникулами.
Он отвернулся, облегченно вздохнув, — и замер. На другом конце моста стояла Божена и смотрела на него.
Глава 3
Вчера еще Прага мокла и кашляла под дождем, а с утра Божену разбудило солнце — она выгнулась ему навстречу и застыла на волне из кружев и тонкого батиста. Но лишь на мгновение — новый день уже захватил ее. Божена любила окунаться в солнечные дни с головой, легкомысленно отдаваясь томлению теплых лучей.
Она потянула носом — привычка, так смешившая Томаша. «Ах, Томаш, ленивец! Он проспал наш утренний кофе!»
Подцепив носком ноги тапок, она попрыгала в поисках второго, заглянула под кровать — тот белел в глубине.
— Опять ты, Холичек, воруешь тапочки? — Словно отвечая ей, кролик выглянул из комнаты Томаша и виновато опустил одно ухо. — Ах вы еще и заодно!
Божена фурией бросилась к пушистому комочку и ласково потормошила его, взяла на руки и шагнула к Томашу. В его комнате был полумрак. Божена прищурилась — Томаша не было. Она, шлепая босыми ногами, вышла в коридор и направилась на кухню. В последнее время он часто задерживался в мастерской, и она оставляла ему ужин в судке. Возвращаясь, он не будил ее — они встречались утром за кофе и вместе шли в мастерскую.
Божена открыла холодильник — он уютно осветил скопище ее кулинарных причуд, и Холичек радостно заерзал у нее на руках. Ужин цел. Словно непрочитанная с вечера записка.
Божена достала морковку и отдала ее кролику, присела на плетеный высокий стул напротив барной стойки и плеснула себе в бокал немного вермута. Затем встала за соком и льдом, но, снова увидев судок, взяла трубку и набрала мастерскую. Никто не ответил. С каждым новым гудком она все больше сердилась на Томаша — и беспокоилась.
Прервав наконец телефонную мороку, вернулась за стойку. Теперь тишину нарушало лишь мерное похрустывание — Холичек мирно завтракал.
Божена не глядя протянула руку к бокалу, глотнула. Вермут обжег ей горло, и внутри потеплело.
Тогда она вспомнила, что Томаш говорил о какой‑то срочной работе — он ожидал заказчика вчера вечером, когда она уходила домой. «Наверно, дождался и остался работать, а под утро заснул». Она окинула себя взглядом и, заметив, что сидит за стойкой в пижаме, улыбнулась: «Видел бы Томаш».
Приняв душ, Божена решила использовать запоздалое осеннее тепло и надела новое платье. Длинное, по щиколотку, оно лиловым потоком струилось по ее телу, — и, забыв про судок и досаду, Божена чуть коснулась флакона «Сальвадора Дали», тронула пальцами виски и спустилась на улицу.
Она решила не торопиться. Постояла рядом с шарманщиками, похожими на фарфоровые статуэтки: розовые старик и старушка, он в бабочке и котелке, она вся в белых горошинах, рассыпанных по синему платью, и круглой шляпке на снежно‑седых волосах, поверх — домашнее кружево. А их шарманки — две маленькие сказки. Внутри одной — заколдованный мир вечно куда‑то манящих тропинок, замков, сокрытых в дремучих лесах… Вторая похожа на крошечный кукольный театр. Брось крону — и увидишь в окошко, как кружатся в ласковом танце влюбленные куклы: шаг навстречу — в сторону — назад — поворот. Звякнула в кружке еще одна монета — и Божена, уже сама крутя блестящую гладкую ручку, вспомнила детскую грезу: вот бы скорее состариться, стать шарманщицей и стоять день‑деньской у зеленых пушистых кустов, важно улыбаясь прохожим. Голова ее закружилась от пасленовой музыки, и, отломив зеленую веточку, она пошла дальше, будто гуляя внутри деревянной шарманки, — такой игрушечной показалась ей Старая Прага.
Солнце затопило город, отслаивая от него прогорклые корки осени. Блаженной утопленницей Божена нежилась в солнечном забытьи, кружа по дорожкам, ведущим на Петршин. Внизу в пестроте осенних садов плавали рыжие цукаты крыш и шоколадные ломтики башен. И только спустившись вниз, Божена вернулась на землю. «Я бы сейчас съела и быка», — промурлыкала она их с Томашем позывной аппетита… Рядом с ней как по заказу остановилось такси.
— В «Золотую гроздь»!
В полутьме погребка пахло винными бочками и свежими скатертями. Божена весело наблюдала за лицом официанта, исписавшего уже два листа в своем блокноте, но с прежним азартом продолжала листать меню. Завершив парад блюд маринованными виноградными листьями с кешью и сушенными на солнце помидорами, она откинула за спину медный поток роскошных волос и приготовилась коротать ожидание за стаканом нежного местного вина.
Спокойная красота ее двадцати девяти, темперамент любимого деда и крепкое жизнелюбие мастера легко уживались в Божене. Привязанность к Томашу не мешала ей каждое утро самостоятельно запускать ход своей жизни и дорожить настроением, рожденным в глубине собственного мира, — глубине порой настолько головокружительной, что она иногда замечала, как Томаш опасливо пятится, не решаясь туда заглянуть. И сегодня она дарила себе этот день — желая встречи с мужем, но все‑таки… оставляя ее чуть‑чуть на потом.
Полнота ощущения жизни всегда возбуждала в ней аппетит, и, избавленная Всевышним от необходимости соблюдать диету, Божена ни в чем себе не отказывала. После легких зеленых салатов последовали пикантности. Отварная кефаль с рокфором и кедровым маслом, грузди, гретые с гранатовым соком, гато из зеленого винограда и фазан с фисташками, запеченный в тесте, замешанном на вине. А потом и еще кое‑что на десерт…
Расплатившись, Божена легко двинулась дальше, решив пройти через площадь — взглянуть, сидит ли еще на зеленом коне Святой Вацлав.
Глядя на него снизу вверх, она вспомнила о Томаше. Он все еще упорно сидит за верстаком, пока она здесь наслаждается… Легкое чувство вины кольнуло ее, и она присела с телефоном на тяжелую цепь ограды. Те же гудки… И дома — молчок. Все еще надеясь на то, что он сейчас где‑то между домом и мастерской, Божена решила закончить прогулку у Николы. Она знала, что в свой выходной «меньшенькая» может спать до полудня, — лучше позвонить ей от самого дома.
Божене хватило тех немногих минут, когда она смотрела на Томаша, а потом, проследив его взгляд, — на удаляющуюся Николу, чтобы почувствовать ложь. Ту, что лилась в ее уши в последнее время, прося ее ставить судки в холодильник, извиняясь за ее одинокие ночи и несовпадения во времени с сестрой.
И еще одного мгновения ей хватило, чтобы… выйти из этого треугольника. В ответ на обреченную улыбку мужа повеять спокойствием и заставить его взять себя в руки. Иное поведение было бы просто недостойно ее… И этого солнечного осеннего дня.
Она окликнула Томаша.
Он подошел.
Божена тепло и спокойно прижалась к нему на мгновение. Потом она мягко отпрянула, но он, пряча свои серые, и без того всегда чуть отстраненные от нее стеклами очков глаза, дунул ей на ресницы и поцеловал медные волосы.
— Давно ты ушел? Я названивала тебе в мастерскую, с утра. — Божена бубнила ему в воротник, пытаясь высвободиться, он молчал, не отпуская ее — сцена становилась смешной. Наконец ей удалось выскользнуть и повернуться так, чтобы солнце не слепило глаза. — Я говорю, что звонила тебе утром…
А потом, такое солнце! Ну, прости, я удрала одна в город.
Томаш стоял теперь в двух шагах от нее, опершись на гранитную ограду. Невозмутимость, которая так ранила Николу и которой раньше не придавала значения Божена, снова была с ним.
— Эгоистичное существо! — Томаш, шутя, притопнул ногой. Чуть‑чуть дрожал его голос. И ей стало обидно, что ему это так легко. — Я, голодный, трезвый, невостребованный муж, теряю сознание за верстаком, глаза мне слепят бриллианты, а ты… ты!
Божена знала, почему ему нетрудно лгать сейчас. Только что она сама вручила ему спасительную ниточку. Игривая трепотня, но ведь за ней — годы близости и обаяние тех далеких дней, когда они встретились.
— Но мы же встретились? — вторила она своим мыслям. — И ничего не поделаешь, придется возместить тебе ночь без меня. Нет‑нет — полдня, и больше ни капли заботы. Разве что судок в придачу, если ты еще не съел свой ужин.
Томаш молча смотрел на нее.
Божена с неожиданной для себя брезгливостью заметила: он близок к тому, чтобы снова влюбиться в нее, — в ее легкость, в ее независимость. И ему даже нравится, что все так обернулось. Это, пожалуй, было уже слишком, и она, так же легко, сказала:
— А как тебе наша Никола? Вечно тебе везет! Мне она снова вильнула хвостом. Ты думал, я у нее? — И видя, что Томаш не знает, как отвечать, просто спросила: — Ты был у нее?
— Да.
— Ну и что?
— Да не застал.
Божена вдруг поняла, что устала притворяться. Она на минуту поверила, что все вокруг так же легко, как их слова, и крепко сжала Томашу руку, давая ему себя обнять. А потом, глядя из‑за его плеча на горящие в солнечных лучах витражи собора, что‑то такое поняла в себе самой, отчего ей стало тоскливей, чем тогда, когда она, набирая номер Николы, остановилась на мосту.
Божена внезапно ощутила острую тоску по собственной слабости. Только сейчас она почувствовала, что за все эти годы ей ни разу не удалось отведать блаженной слабости женщины перед мужчиной.
И теперь, когда эта слабость нахлынула, Божена последним в их любви усилием воли сделала Томаша сильным.
Весь этот вечер и ночь он был с ней мужчиной — бесспорным, недосягаемым. А она, отпустив голубей своей смешливой натуры в небо будущего — уже скорого — одиночества, плыла по реке его власти, не глядя в это небо.
А наутро она уже рассталась с ним внутренне, не чувствуя в себе больше привязанности к этому человеку. И теперь ее беспокоила только судьба Николы.
Глава 4
— … на площади. Жду!
Томаш поймал самый конец ее телефонного разговора.
Божена вышла из спальни. Пока он был в ванной, она успела одеться и теперь выглядела отчужденной. Такая перемена не вязалась с ее ночной нежностью и податливостью.
Стоя под упругими струями, он чувствовал, как вода смывает с него коросту лжи. Будто и в любви возможен круговорот — и вот они снова проснулись свежим утром, а до вечера еще так далеко…
Он решил остаться сегодня дома и провести этот день с Боженой. Он вообще хотел бы уехать с ней вдвоем куда‑нибудь подальше от города, которому известно о его недавнем прошлом.
В том, что все уже в прошлом, он не сомневался.
Прошедшая ночь с Боженой сделала Николу зыбким воспоминанием. Он ворошил свою память, и она охотно избавлялась от тоски, превращая то, что еще вчера так волновало и манило его, в плоские бестелесные фотографии.
И когда он запахивал халат, все уже было решено. Завтра же они отложат всю работу и отправятся в путешествие! И даже думать не надо куда.
Пусть это будет для Божены сюрпризом. Сегодняшний день они проведут не выходя из дома. Как же давно они не были здесь счастливы вместе! А завтра он позвонит в Чедок, в одну из самых волшебных на свете контор — контору путешествий, и пусть им устроят праздник.
Направляясь в душ, он оставил Божену нежиться в ворохе тонкого, смятого за ночь белья. Он не отказался бы поплескаться под душем вместе с ней — жаль, что она не захотела. Но сейчас он вернется и возьмет ее, теплую, сонную. А потом они закажут завтрак — да хоть из ближайшего погребка. И бутыль деревенского вина, которую прислала им мама Божены, — за неделю у них не нашлось повода распечатать ее — придется кстати…
Они стояли в дверях спальни: она — в строгом, редком на ней костюме, он — во влажном полураспахнутом халате. Казалось, что никогда эти два человека и не были вместе, а сейчас лишь столкнулись случайно, будто перепутав двери. Томаш торопливо отмахнулся от наваждения, но все же сказал Божене:
— Думаешь, мне приятно гулять с синим чулком?
Божена ответила ему вежливо, даже подчеркнуто вежливо. Пока он говорил, она подошла к зеркалу и, стоя к Томашу спиной, принялась укладывать волосы. И ему показалось, что это не она сама, а ее отражение разговаривает с ним.
— Извини, я забыла тебе сказать вчера… — На мгновение она нырнула в облако лака для волос, Томаш чихнул от резкого искусственного запаха, ударившего ему в нос, и не расслышал ее слова. — …назначил мне встречу. Помнишь, он когда‑то предлагал мне с ним поработать? Сейчас он готовит каталог к выставке, я думаю: не согласиться ли мне? Надо, конечно, сначала посмотреть на его возможности, не кустарь ли он… А ты как полагаешь?
Не теряя времени, Божена зажала шпильки губами и, закручивая волосы в тугой жгут, быстро перебирала длинными пальцами. При этом ее отражение вопросительно уставилось на него.
Томаш подошел ближе и, глядя на свои мокрые волосы, ответил:
— Не помню…
Закончив прическу, она медленно опустила руки.
Еще с минуту они неподвижно постояли лицом к зеркалу, глядя каждый себе в глаза. Потом этот странный зеркальный портрет распался — Божена вышла из него, а Томаш остался.
Он продолжал так стоять и после того, как Божена, наскоро попрощавшись, щелкнула замком и каблуки ее застучали по другую сторону входной двери. Потом долго звонил телефон, включился автоответчик. Томаш протянул руку и, утопив кнопку рядом с горящим зеленым глазом, услышал голос Божены. Извиняясь за невозможность ответить на звонок, она просила оставить сообщение. После музыкального сигнала — тренькающего Моцарта — полился бархатный мужской голос. Томаш, уподобясь автоответчику, дослушал, механически запомнил сказанное и, будучи больше не в силах стоять, медленно побрел в спальню.
Спеша, Божена не собрала свою постель, и он зарылся головой в батистовое белье. Оно еще хранило остатки их ночного тепла, но Томашу было нестерпимо холодно. Еще вчера умело лавировавший меж двух женщин, он лежал сейчас, чувствуя тяжесть и никчемность своего сильного, вольного тела, привыкшего ощущать себя рядом с женской красотой.
И, будто заполняя пустоту его одинокого утра, пришел сон.
Поначалу видения проскальзывали сквозь сознание Томаша, не оставляя в нем никаких следов, но постепенно мерный шорох переполнил его слух. Томаш увидел себя сидящим на прилавке огромного, сверкающего рекламными огнями магазина. Вокруг него сновали абсолютно одинаковые девушки с застывшими улыбками и заворачивали его в пеструю хрустящую бумагу. Пока еще он был упакован по пояс и мог видеть Божену, смотрящую на него с тем счастливым возбуждением, которое было так хорошо знакомо ему и появлялось на ее лице, когда она в кутерьме предметов и вещиц, заполнявших прилавки и витрины, находила то единственное, что нужно было обязательно купить.
Потом он оказался в разноцветной темноте и почувствовал, что его куда‑то везут. И вскоре услышал два голоса — Божены и Николы. Со сладким смирением он понимал, что его жена поздравляет свою сестру — он только не понимал с чем, — и, интригующе шелестя огромным фантиком, собирается подарить ей что‑то удивительное. Обертка открылась, и, проснувшись, Томаш увидел в дверях спальни Николу, держащую в руках лиловое платье Божены.
— Томаш, Божена попросила меня собрать вещи, а сама поехала в Чедок.
— Давно? — Он машинально прикрылся тонкой простыней.
— Да только что.
— Куда она собирается?
— Она сказала, ты знаешь.
Томаш вдруг понял смысл утреннего звонка.
Некий господин просил их с Боженой заехать в Итальянское консульство и ознакомиться с условиями традиционного конкурса ювелирных мастерских, проводимого на этот раз во Флоренции.
Но это же блестящая перспектива — поработать в рамках конкурса и попасть в каталог, они так долго к этому шли!
— А что же она меня не разбудила?
Никола подошла и присела на краешек кровати.
— Она сказала, что ты поздно вернулся из мастерской и вы вчера уже попрощались. Просила тебя не будить… — Никола запнулась. — Томаш, ты отказался из‑за меня?
Платье Божены лежало рядом с Томашем. От него пахло ее духами. Томаш смотрел на него, и ему казалось, что это длится утренний сон: вот он, голенький подарок, завернутый в красивое белье, — бери, Никола, тебе он должен понравиться.
— Да, — ответил он Николе и, утоляя утренний голод, привлек ее к себе, уже не стараясь сдерживаться.
Глава 5
Позвонив с утра Людвигу, давнему приятелю деда, до сих пор служащему в Итальянском консульстве, Божена не предполагала, что все так обернется. Она лишь хотела придумать себе на сегодня такое занятие, чтобы быть подальше от Томаша. Но когда Людвиг сказал, что они с Томашем — в списках официально приглашенных на конкурс, ее мысль судорожно заработала. Не дождавшись звонка секретаря, она договорилась с Людвигом о встрече и поспешила опередить Томаша, самостоятельно подписав контракт.
Это был, безусловно, подарок судьбы, присутствие которой Божена порой удивительно отчетливо ощущала. Оставить Николу наедине с Томашем, дать девочке разобраться в собственных чувствах — пусть она даже попробует пожить с ним. А чтобы ощущение вины не угнетало малышку, Божена решила поговорить с ней.
Исполнив все формальности, связанные с конкурсной регистрацией, она согласилась войти в состав референтов. Это позволяло улететь во Флоренцию сегодня же вечером, чтобы принять участие в организации конкурса, и избавляло от излишней волокиты — все брало на себя консульство.
Бесцеремонно отставляя Томаша в сторону, Божена знала, что делает. Они достаточно долго работали вместе, и от нее не укрылись перемены, происходящие с ним в последние несколько лет. Чрезмерно увлекшись текущими заказами, он уже давно не оставлял себе времени на творчество. В совершенстве владея ремеслом, он уверенно плавал по ювелирному морю, но… о небе не думал давно.
И она не хотела больше тянуть его за собой, подкидывать ему свои эскизы, не давая стать просто дамским угодником — не такая уж редкость среди ювелиров, — идущим на поводу у вкусов взбалмошных заказчиц.
Это был именно ее шанс. Ее, а не Томаша. «Мы» для нее уже перестало существовать.
И, наскоро расправившись с делами, во многом менявшими течение трех жизней, Божена позвонила Николе и условилась встретиться с ней.
Она пришла первой и уселась под белый зонтик ждать. Моросило, и Ратушная площадь была пустынна. Ветер гонял по ней залетные листья каштана, со старых домов на Божену смотрели животные, заменявшие когда‑то домам номера. Она вспомнила их любимый с Томашем адрес — у Синей Лисы. И их прошлое, полное радости, захлестнуло ее память.
Воспоминания были объемными, вескими: казалось, их можно поставить на ладонь и подержать. Их счастье напоминало сказочную лепнину Старой Праги. Удивительные рукотворные животные — их чувства — были достойны того, чтобы занять свое место в музее чудесных вещей. «Но вот ведь сколько веков красивые вещи радуют глаз, — думала Божена, глядя на кукольный скелет с колокольчиком в руке, напоминающий о течении времени, — а красивые чувства исчезают бесследно… Жаль, что нет на свете такой шкатулки, в которой хранили бы прежнюю любовь — единственное украшение, достойное человеческой красоты».
…Никола появилась, как всегда, стремительно. Божена давно не видела сестру, и только теперь поняла, как много произошло за этот месяц. Лицо Николы словно высохло — но такое случалось и раньше: бывали недели перед экзаменами или спектаклем, когда балет забирал у нее все соки и не было сил на лишнюю улыбку или жест. Сейчас — не то. У нее был больной, истерзанный ожиданием и виной взгляд. Именно от этого Божена хотела избавить ее. По детски непосредственное лицо сестры изменилось, превратилось в лицо страдающей женщины. У Божены сжалось сердце. И именно в эти мгновения, отмеренные последними шагами сестры, она окончательно решила уехать.
Никола как‑то по‑детски выгнулась и наклонилась к столу, упершись в него локтями. Лицо ее оказалось прямо напротив глаз Божены. От веселой дерзости, еще совсем недавно вздергивавшей тонкие брови, не осталось и следа. Только покорность и тишина наполняли длинные серые глаза.
Божена коснулась губами высокого лба, и Никола, чуть отпрянув, села.
— Колочка, я уезжаю, мне надо кое‑что рассказать тебе.
От простоты услышанного и нежной улыбки сестры Никола посветлела.
— Мы с Томашем решили расстаться. Последние месяцы только работа удерживала нас вместе.
Божена видела, как Никола внутренне сжалась, услышав имя Томаша. И, стараясь казаться спокойной, не сразу поняла, о чем говорит Божена. Но вдруг счастливая улыбка прорвалась сквозь внутренние заслоны и тут же стыдливо спряталась.
Божена умышленно не смотрела Николе в глаза. Она мягко дарила сестре свободу, очищая ее чувство от страха и вины. Она открывала ей самостоятельный путь к Томашу.
Она слишком хорошо знала мужа, но сестра за последнее время успела стать для нее незнакомкой. И поэтому Божена не знала, какое будущее у этой истории. Она лишь направляла ее в другое, более свободное русло, надеясь несколько умерить бурливость потока, нахлынувшего и на сестру. Таинственность отношений была на руку Томашу, но она уже успела отравить это тонкое создание, рожденное танцевать на свету, а не скрываться в тени.
Не обращая внимания на смущенное молчание Николы, Божена продолжала:
— У меня к тебе две просьбы: большая и маленькая. Во‑первых, мне даже некогда собраться. Я улетаю сегодня во Флоренцию. Томаш отказался работать на выставке, я этому рада. И я хочу тебя попросить помочь мне собрать вещи и присмотреть за Томашем. Он еще никогда не оставался один так надолго. Мы ведь с тобой друзья — помоги ему на первых порах справиться с домашними делами. Да и с ним мы расстаемся друзьями. Я не убегаю от него — было бы глупо отказываться от такого предложения. Томаш и сам просил меня похлопотать за него: он тебя просто обожает.
Божена несла всю эту чушь и сама удивлялась своей говорливости. Она успокаивала себя тем, что ее ложь во благо, а все, что уже произошло, — случилось совсем без ее, Божены, участия.
Потом она, получив согласие огорошенной Николы, торопливо набросала список необходимых вещей, вместе с сестрой поехала в бывший еще вчера родным дом и, застав Томаша спящим в ее постели, поспешно удалилась, сославшись на выездные заботы.
Никола же, шурша пакетами, принялась освобождать место для своего будущего.
Глаза 6
И это будущее наступило.
Томаш, оказавшись в одном доме с Николой, обрушил на нее все прелести полноценной семейной жизни.
А она встала перед необходимостью вырабатывать характер.
Вскоре он понял, какова сила итальянской крови, так ярко цветущей в Божене, но в Николе льющейся подземным потоком, еще не готовым ударить ключом.
При ближайшем рассмотрении Томаш оказался не так уж мудр и всесилен. К тому же, страшно угнетенный разрывом с Боженой, он не искал в себе сил войти в свежую воду женской любви, но и не хотел остаться в полном одиночестве.
А Никола… Уже через несколько дней после отъезда Божены она смотрела на красное сердечко фуксии, вянущей на окне, и ждала той поры, когда сможет спокойно выйти из этого дома — чтобы больше не возвращаться.
Слова значили для нее так же мало, как и для Божены. Томаш и сам был скуп на них, и это избавляло их от неуклюжих сцен и объяснений.
Никола скоро убедилась, что в рассказе Божены была доля неправды. Несколько раз она заставала Томаша за странным занятием: он перебирал те многочисленные безделицы, которые делали будни Божены такими очаровательными. Все эти придворные из королевства мелочей расставлялись на длинном стеклянном столе в гостиной, и он ходил вдоль них, как король‑вдовец. Но игра в бирюльки не была столь уж безобидной: Божена обладала способностью делать вещи, ее окружающие, частью себя. Даже пустота, зияющая на месте каких‑то мелочей, взятых ею с собой, стала теперь частью Божены.
И еще был Холичек. Он тосковал. Днем и ночью, как верный пес, лежал он под кроватью в спальне Божены, устроившись на ее пушистых тапочках, и согревал их, как маленьких крольчат. И только когда все уходили из дома, он посещал украдкой кухню, поедая оставленные ему Николой лакомства.
…А потом Томаш подарил ей платье — матового медно‑зеленого цвета, воздушной туникой спускающееся до колеи, — и фиолетовый шелковый шарф. Никола была удивлена. Этот необычный для Томаша, скованного новыми условиями их жизни, жест мог бы стать шагом в их будущее. Но вскоре Никола нашла в старом кожаном альбоме фотографию Божены: сестра стояла на Карловом мосту, и ветер развевал на ней тунику, подаренную теперь Николе, и точно такой же шарф туго обхватывал ее стройную шею.
Никола поняла, что ей надо уйти, но она не сделала этого. Она даже ничего не сказала Томашу, ложась с ним рядом на новое широкое ложе, купленное по ее настоянию в первый же день после отъезда Божены.
И так продолжалось, пока не подул теплый, порывистый ветер, без труда рассыпавший карточный домик их лжи…
Глава 7
Иржи был привычен для Николы, как мозаика паркетного пола в танцевальном классе, как липы во дворике ее детства; но сама она не могла бы сравнить его ни с чем и ни с кем, ибо не выделяла его из окружающего мира, как не выделяет ребенок до поры до времени самого себя.
В их доме мальчика звали Париж, и этим странным именем он был обязан всему семейству Америги. Когда он впервые появился в гостях у Николы, получив по почте маленький голубой конвертик с приглашением на ее день рождения, все сидевшие за красиво убранным круглым столом, по которому бегали блики от пяти длинных свечей, разом воскликнули:
— Вот и Рыжик!
— Это наш Паж!
— Милый Иржик!
И когда все угомонились, глуховатый дедушка Америго спросил:
— Какой Париж?
И на импровизированном совете этой большой дружной семьи новое имя было принято и утверждено. Несмотря на свою странность, оно отлично прижилось, и скоро Иржи уже с удовольствием говорил в телефонную трубку: «Скажите, пожалуйста, Колочке, что это Париж ее спрашивает!»
Они вместе пришли в танцевальный класс, потом вместе кривлялись у огромного зеркала и устраивали совместные побеги с занятий, объедаясь запретным мороженым и гоняя голубей на Ратушной площади, вместе рисовали карты неведомых стран и играли в пиратов и в мальчиков, потерянных няньками.
Но со временем полугаврошеское существование для Николы закончилось, у нее появились подружки‑щебетуньи, с которыми можно было мириться и ссориться по пять раз на дню, и она на время отставила огненно‑рыжего мальчика в сторону, отчасти стесняясь его, но в большей степени из‑за девчоночьего кокетства.
А он стал дарить ей цветы после их первых выступлений, и когда, поссорившись с подружками, она шла с занятий одна, увязывался за ней. Идя с ней рядом, он не мешал и не смущал ее, и Николе было по‑прежнему легко и весело с ним.
Париж был способен заразить своим весельем многих — даже уток, деловито снующих по глади реки. Это он придумал утиный цирк, посмотреть на который приходили даже старики‑шахматисты с набережной. Брались чуть подсохшие бабушкины кнедлики, нанизывались на длинный ивовый прутик, который можно было скрутить кольцом, а затем этот самодельный обруч с лакомством держали на фут от воды: особенно голодные утки подпрыгивали и, ухватившись клювом, повисали, пытаясь отцепить черствый кнедлик. Или по‑другому: ивовый обруч медленно плыл по течению, в центре его кружились легкие сухарики, и утки, почему‑то не догадываясь взлететь над прутиком, подныривали под него и всплывали в центре, разбрызгивая воду в разные стороны. Сколько раз Никола ни присутствовала на утином представлении — она не могла удержаться и смеялась до слез, а Париж с победным видом укротителя делал мужской балетный поклон и прямо в кроссовках летал в пируэтах над зеленым газоном.
И еще Париж обладал удивительным качеством: он не умел обижаться. Никола, повзрослев, проверяла его и так, и эдак — ничего не получалось. Очерствев еще немного, она не раз пыталась сделать ему больно — будто верность только того и достойна, — но он все равно не обижался. Потому что уже слишком давно любил ее — девочку, подростка, девушку. Это чувство было настолько естественным в нем, что не требовало ни отчета, ни даже названия.
…Он поджидал Николу после утренней разминки: обычно они вместе спускались во дворик и, обрастая по пути веселыми попутчиками, двигались в ближайшую кофейню: перед лекциями можно было позволить себе легкий завтрак.
Но вдруг в полутьме коридора он заметил приближающуюся мужскую фигуру. Мужчина остановился у окна, и Париж разглядел Томаша, мужа Божены, которого он первый раз встретил в гостеприимном доме Америги года два назад, а потом стал часто встречать по вечерам — Томаш, видимо по поручению Божены, встречал Николу в те дни, когда занятия заканчивались поздно. Париж и сам не отказался бы от этой миссии, но накатившая на него подростковая застенчивость мешала ему тогда самому предложить Николе себя в провожатые, а случайность не могла прийти ему на помощь — им было не по пути.
А теперь Парижу было восемнадцать, мальчишеская стеснительность уже не мешала ему. Он часто провожал Николу домой, и ему казалось, что ей это приятно. Во всяком случае, цветочный дождь, которым он осыпал ее в такие вечера, увлажнял ее глаза и льстил самолюбию.
…Париж хотел уже было спрыгнуть со старых декораций, на которых коротал время (мужская половина раздевалок освобождалась раньше девичьей: юные балерины еще долго прихорашивались, прежде чем выйти), чтобы приветствовать Томаша. Но прозрачная дверь танцкласса блеснула на солнце, и появилась Никола. Необычайно бледная, она, ослепленная ярким светом, прищурилась и тут же оказалась в крепких объятиях, не сразу поняв в чьих. Париж, спрыгнув, подался вперед, но сразу отпрянул. Томаш привлек Николу к себе и целовал ее лицо… Это было не шутливое приветствие старшего, взявшегося опекать юное существо: жадность и несдержанность зрелого мужчины, берущего ему принадлежащее, сквозили во всех движениях Томаша — Париж понял это сразу. Голоса выпархивающих из класса приятельниц Николы заставили Томаша оторваться от нее и, слегка подтолкнув девушку вперед, быстро пойти следом.
Первым порывом Парижа было желание ринуться за ними, оттеснить Томаша и, схватив Николу за руку, увлечь ее за собой — вниз по лестнице, во двор и дальше на людные улицы, чтобы солнце развеяло это липкое наваждение, повисшее перед глазами и не желавшее улетучиваться. Но когда он очнулся, коридор был заполнен воздушными девушками: кто‑то окликнул его, чья‑то рука легла ему на плечо — кутерьма большого перерыва закрутила Парижа, и, когда он выскочил на улицу, было уже поздно.
До звонка он просидел на скамейке у гардероба, не сводя глаз с входной двери, — но Никола не пришла ни на лекции, ни на вечернюю репетицию. А назавтра ему сказали, что она, сославшись на недомогание, ушла с утренних занятий.
Париж с трудом дождался вечера и, добежав до ближайшей телефонной будки, стал звонить ей домой, но трубку никто не брал. Тогда, вскочив в быстрый трамвайчик, он поехал к дому Николы. У нее светилось одно окно. Будучи не в силах ничего предпринять, он перешел на другой берег канала и стал ждать. Свет в окне вскоре погас, затем зажегся снова, и, спустя еще четверть часа, дубовая дверь открылась. В свете фонаря Париж разглядел хорошо одетого мужчину, который, приподняв низко опущенную шляпу, махнул пару раз в сторону знакомого Парижу вновь темного окна.
Когда мужчина растворился в вечернем сумраке, Париж, мигом перемахнув через мост, стал вжимать в панель кнопку домофона. Но видимо, вахтер уже дремал, а Никола не отвечала…
Глава 8
Париж был удивительно красив еще мальчиком. Время превратило кудрявого шаловливого амура в стройного крепкого юношу. Блеск его зеленых глаз, чуть приглушенный золотистой бахромой ресниц, проникал в сердца многих девушек, и со всеми, кроме Николы, он был трепливо обаятелен и приветлив; для нее же готов был каждый день превращать в праздник, веселый и полный сюрпризов.
Однажды, в нежно‑теплый весенний вечер, он встретил ее во дворе Консерватории, держа в руке старинный фонарь, вокруг огонька которого вились изумрудные звезды светлячков. Так и шли они по узким улицам и полным воздуха площадям, а светлячки не желали их покидать; и за ними, как королевский кортеж, шли удивленные прохожие, и столько же оставалось стоять, глядя вслед.
Париж всегда, сколько он себя помнил, старался окружить жизнь Николы флером своих выдумок. А она уже настолько привыкла ко всему, что кружилась с ним в праздничном танце его фантазий, не замечая в этом ничего, кроме дружбы, казавшейся ей такой естественной.
Да и балетная жизнь с ее прикосновениями и переодеваниями сделала обычным для Николы многое из того, что так волнует в юности. Париж «продержал» Николу на руках практически двенадцать лет их совместных репетиций: доведенная до автоматизма техника поддержек, всевозможные переплетения тел в движении — иногда это радовало ее, но чаще, на фоне усталости, оставляло равнодушной. И никогда не заставляло замирать от нахлынувшего волнения.
Лишь однажды он переступил чуть заметный ручеек, мягко, но верно отделяющий их друг от друга, — и оказался на одном берегу с ней.
Они стояли на террасе «Золотого колодца» — есть такой ресторанчик на Малой Стране. Входят в него через старинный жилой дом, а потом поднимаются по бесконечной каменной лестнице, круто вздымающейся вверх — кажется, до самых небес. Внизу курилась садами весенняя Прага, а Париж, в холщовой котомке которого всегда могло оказаться все, что угодно, пускал мыльные пузыри, весело разлетавшиеся в разные стороны. При этом он с серьезным и важным видом просил Николу повелевать их полетом — и она отправляла их в Касабланку и в Будейовицы, на берега Миссисипи и к антарктическим льдам.
Внезапно налетевший ветер бросил горсть радужных пузырей прямо в Николу — они лопались, разлетаясь сотнями крошечных брызг, а один покатился по ворсинкам ее льняной блузы и замер на холмике груди.
Париж, подойдя совсем близко, бережно подставил ладонь под грудь Николы, чуть касаясь ее — будто она так же воздушна, как и пузырик, скатившийся ему на пальцы. Так он и держал на ладони легкую тяжесть груди и еще несколько секунд живший лиловый шар… В эти мгновения Николе казалось, что стоит пузырику лопнуть — и между ними не останется ничего, что мешало бы им любить друг друга. Но подошел официант, и у Парижа в пальцах осталось лишь мыло, а Никола, присев за столик, спрятала глаза в вазочке с земляничным желе.
Весь последующий день они провели вместе. Им было так хорошо вдвоем, будто сам мир вокруг них изменился — стал свежее и звонче.
Охваченные каким‑то неудержимым весельем, они, взявшись за руки, забежали в попавшийся на пути магазин. Там Париж, не спрашивая свою хохочущую спутницу ни о чем, принялся примерять ей блестевшие всевозможными заклепками, замками и множеством маленьких колесиков ролики, потом — себе, и на улицу они уже не вышли, а выкатились: Никола — в шлеме, неуклюже сползающем на лоб, а Иржи, ставший от смеха еще рыжее, — в каких‑то глуповато‑розовых наколенниках и с букетом пестрых диких цветов, прихваченным уже в дверях у маленькой цветочницы в огромной белой панаме.
Панама тоже рассмешила их до безумия, но они уже мчались дальше, хохоча и вместе ловя разлетающийся подол длинной юбки, которая вилась вокруг ног Николы.
Этот день еще долго вспоминался и ей, и ему, но почему‑то они никогда не говорили о нем — и о последовавшем за ним вечере, будто стесняясь тревожить какую‑то тайну, которой они завладели раньше, чем смогли ее понять.
Этот вечер однажды приснился Николе, и, растревоженная своим сном, она проснулась — рядом с другим… Открыв глаза и глядя в синий потолок Божениной спальни, по которому внезапно пробежали отсветы фар проехавшей внизу машины, она вспоминала… Тогда все было иначе, чем в ее сегодняшнем сне.
…Они исколесили всю Старую Прагу и к вечеру оказались в Королевском саду.
Освободив, наконец, уставшие ноги и неся в руках свои веселые доспехи, они медленно побрели по мягким дорожкам.
Заходящее солнце сверкало в кронах огромных платанов, которым даже тонкие шпили были по плечо. И на фоне платанов Никола показалась Иржи еще тоньше и стройнее, а он сам внезапно ощутил себя необычайно сильным, заметив, что она стала дольше задерживать на нем свой взгляд, будто удивляясь чему‑то.
Природа, обычно глядящая внутрь себя, впустила их в свои владения: им казалось, что деревья прислушиваются к ним. И даже витиеватые бронзулетки — садовые украшения — заглядывались на них глазами цветов, животных и щекастых амуров.
В полной тишине зашли они в одну из галерей, позолоченную вечерним светом, и, остановившись, заглянули друг другу в глаза. Минуты — крошечные пылинки времени — кружились над ними в розовых лучах, они же все стояли не шевелясь, а потом вдруг шагнули навстречу друг другу и попытались обняться, но лишь рассмеялись. Никола держала в руках свой дурацкий шлем, а Париж потрясал двумя парами пыльных коньков.
Но когда все это легло на мелкие камушки пола, то освободившиеся руки, не находя себе места, внезапно попрятались — по карманам и за спину…
Тогда их хозяева уселись на ступеньки и еще долго болтали, постепенно возвращаясь к дневному веселью. Когда же совсем стемнело, вновь надели коньки и поехали, никуда не спеша.
С того дня их встречи стали трогательнее и таинственнее, а взгляд Николы, когда они прощались по вечерам, — многообещающим.
Но пришло лето, Никола вместе с сестрой и ее мужем уехала на юг Франции. Париж, который был старше на год, сдавал выпускные экзамены…
А осенью все было уже по‑другому. Домой Никола уезжала теперь на машине Томаша, и Париж встречался с ней лишь в перерывах между лекциями и репетициями — в Консерваторию он забегал на несколько часов, ассистируя своему старшему педагогу, а все остальное время проводил в Черном театре, куда его приняли сразу после выпускного показа.
Репетиции в театре отнимали много сил, но Париж был неутомим и, выкроив свободный час, мчался в Консерваторию, надеясь встретить там Николу. Такой режим заметно накалил его чувства…
* * *
А теперь, когда он понял, что его лишают не только последней возможности видеться с Николой, но и ее самой… Он был полон решимости. Решимости, которая заставила его в тот вечер ехать к дому Николы, караулить под ее окном и пытаться с ней объясниться.
Но с детства обладая идеальным вкусом в человеческих отношениях — в том, что может, а что не должно происходить между людьми, — действовать в том же духе и дальше он не мог.
Он чуть отступил. Но не собирался уступать.
Глава 9
Никола взяла в руки мыльного дельфинчика, и он поплыл по ее телу, смывая дневную усталость. Стоя в аквариуме душевой, она думала о том, как трудно быть женщиной, которая всегда рядом, — особенно с мужчиной, привыкшим к твоей удаленности и малодоступности.
Томаш, лишившийся Божены, теперь тосковал по ней, определив Николе незавидную роль наследницы. Всем своим существом Никола протестовала. Но вырваться из этой ситуации было непросто — его телесная власть над ней была велика.
То, чему Томаш уже почти не придавал значения, совсем иначе отзывалось в Николе: она была в плену сокрушающей новизны их физической близости. Стоило ему случайно коснуться ее во сне — она сразу просыпалась, и вместе с ней просыпалось желание. Но крепкий сон был одной из немногих добродетелей, отпущенных Томашу, и он мог сладко сопеть несколько ночей кряду, не прикасаясь к Николе. Она же молча изнывала, не находя в себе смелости показать ему это.
Но если он начинал ласкать ее — чаще всего это случалось здесь, в ванной, — Никола просто теряла голову и отдавалась так страстно, что ему становилось не по себе.
Вот и сейчас она, освеженная теплыми брызгами, сгорала от внутреннего огня, разожженного им в ее юном теле. Она знала, что Томаш сегодня задержится в мастерской и, вернувшись домой, наверное, спешно поужинает и спрячется от нее в сон.
Но в глубине души Никола уже чувствовала, что все это скоро не будет иметь к ней никакого отношения, а ее молодость и желание быть любимой еще надолго останутся с ней. Поэтому она лишь должна быть чуткой к тому едва уловимому, далекому гулу, что зовется судьбой и всюду преследует человека, если ОН еще не окончательно оглох.
Никола никогда раньше не проводила так много времени в одиночестве. К одиночеству была склонна Божена: ее вполне устраивало то, что Томаш так мало времени проводит с ней вне мастерской. Она любила гулять и путешествовать одна и приучила Томаша не претендовать на ее свободное время, пока она сама не пригласит его.
Но Николе, прежде часто проводившей вечера в шумной компании «балетных», не хватало нервного ритма консерваторской жизни, пульсирующего теперь где‑то рядом, но в стороне от нее.
Поначалу она была заворожена теми новыми чувствами, что пробудил в ней Томаш, и сама отстранилась от прежней компании. Она думала только о нем и пряталась в свое одиночество, наполненное ожиданием. Но ей не хватало воздуха, света — свободы для ее любви.
Никогда раньше она не вела дневников, считая их принадлежностью эпохи, ушедшей вместе с ее бабушками, и посмеивалась над девчонками, имеющими такую привычку. Но когда навалившееся на нее отчаяние сделалось невыносимым, когда она сутками напролет сидела в пустом доме, не в силах показаться никому на глаза, ждала, ждала и не могла дождаться прихода Томаша, — рука сама тянулась к пустому листу. Листок за листом она писала письма Томашу, зная, что он никогда не прочтет их.
Последнее письмо было прощальным. Никола написала его вечером того дня, когда Томаш в последний раз побывал у нее дома. На следующий день от него ушла Божена, а Никола перестала быть его тайной. Вот оно, это письмо:
«Без тебя, как без воды и без сна. И я чувствую, что скоро будет — как без воздуха.
Цветы вянут. Я задыхаюсь.
Ты не придешь больше. Я знаю, что нет. Теперь самое время написать красивое слово — прощай».
С тех пор прошел уже месяц, и они могли любить друг друга свободно, а не украдкой, как раньше. Никола желала, ждала этого от Томаша, но он, будто испугавшись чего‑то, сторонился ее, беспомощно делая вид, что все случилось так, как он того хотел. Но скоро Никола поняла, зачем и как уехала Божена…
Все, что было после этого письма, стало послесловием к ее любви. Именно сейчас, запертая в четырех стенах ванной, Никола остро почувствовала, что вот уже почти месяц живет словно в забытьи, не в силах ничего изменить. Как послушная школьница, давшая слово, она ухаживает за Томашем и не может просто встать однажды утром и уйти. Или днем — да, почему же не днем, а может быть, вечером, может быть, прямо сейчас?!
Эта возможность так ярко представилась ей, что она остановила мерный шелест воды и стала поспешно вытираться.
Войдя в спальню, Никола схватила первое попавшееся платье, посмотрела — Боженино, снова распахнула шкаф, нашла свое, надела, с трудом застегнув длинную молнию на спине. Потом присела на кровать и стала натягивать скользкие, непослушные чулки — они прилипали к еще влажной коже, не желая расправляться. Никола, начиная сердиться, дернула — длинная стрелка метнулась к пятке.
И вдруг из передней послышался голос Томаша, искаженный домофоном. Так, в одном чулке, Никола и отворила.
Томаш, потирая озябшие руки и не раздеваясь, посмотрел на руки Николы, комкающие ненадетый чулок, потом на ее ноги.
Никола наклонилась, чтобы снять рваный чулок. Потом повернулась к Томашу спиной и босиком вернулась в спальню. Там, вскрикнув, бросила на пол чулки и упала на холодный атлас покрывала, пытаясь спрятать в нем свои слезы.
Глава 10
В эту ночь он любил ее так, как тогда — в их первую ночь. Он шептал ей слова, от которых так кружилась когда‑то ее голова. Но сейчас они лишь отзвуками прошедшего скользили мимо нее.
В эту ночь она впервые внутренне изменила ему. Правда, пока с безымянным соперником. Она отдавалась ему, закрыв глаза, и ласки мерно покачивали ее тело, словно волны океана. А она плыла по нему и чувствовала, что больше не боится большого мужского мира, в котором ей суждено было родиться женщиной, — она плывет. И океан послушно поддерживает ее тело.
В эту ночь она впервые по‑настоящему ощутила себя женщиной.
А проснувшись сиреневым утром, тихо, чтобы не разбудить Томаша, выскользнула из‑под одеяла и, закутавшись в плюшевый халат, уединилась в библиотеке.
Впервые за последние недели она проснулась не вместе с Томашем. И в этом тоже была особая прелесть, почти сходная с той, что открылась ей этой ночью.
Она становилась ему неподвластна, и в подспудности происходящих с ней перемен была особая сила.
Удобно устроившись на кушетке, Никола взялась перебирать вчерашнюю почту. Вдруг из газеты вывалилась маленькая книжка в мягкой черной обложке. Это была ежемесячная театральная афиша, которую всегда выписывала Божена. Но почему же она так взволновала ее?!
И, словно бессознательно торопя события, Никола вдруг вспомнила о существовании рыжего Иржи, ее Парижа, — именно он вечно таскал такую же черную книжицу в своей холщовой котомке!
И теплая волна, рожденная этой мыслью, накатила на нее. Никогда еще Никола не чувствовала ничего подобного, думая об Иржи. Все эти годы он находился где‑то рядом, под рукой. И она так привыкла к спокойной радости, излучаемой им, что сейчас внезапно почувствовала себя обкраденной.
Но кто же украл у нее эту радость? В смятении Никола листала афишу, разыскивая нужную страничку. Вот! Черный театр.
Глаза ее забегали по именам исполнителей.
Да. Иржи Фиалка. Спектакль «Агасфер». Пятнадцатое декабря, вечер. Это же сегодня!
Поискав, Никола выписала телефон театра.
Но, уже собравшись звонить, услышала бой часов, донесшийся из гостиной. Было еще слишком рано.
Тогда она села за стол и написала вверху большого листа:
Здравствуй, флорентийская Божена!
На секунду остановилась, улыбнувшись чему‑то своему, и опять принялась писать, больше уже не останавливаясь.
Этот день они с Томашем собирались провести за городом.
Никола надела яркий бирюзовый комбинезон и оранжевую шапочку, оттенявшую матовую белизну ее лица. На фоне мягких тонов пушистого зимнего дня она казалась счастливым цветком. Положив в небольшую корзину бутыль домашнего вина, видимо присланную мамой, Никола спустилась к Томашу, возившемуся с машиной, и вскоре они выехали на полупустынную пригородную дорогу.
Холмы, недавно совсем темные, слегка припорошило снегом, и они мелькали в окне машины, как большие колпаки из кудрявой овечьей шерсти. По их бокам, в уютных ложбинах, были рассыпаны маленькие поселки и деревеньки — они выделялись на светлом фоне, будто вышитый по кайме красно‑коричневый орнамент.
Никола то и дело тормошила Томаша, указывая ему на какой‑нибудь пейзаж за окном. И он, снисходительно улыбаясь, делал вид, что тоже любуется, и выбирал место для пикника.
В багажнике трясся маленький бочонок с пропитанными красным вином парными кусочками медвежатины — любимым мясом Томаша — и гремели о маленькую жаровню шампуры.
Этот грохот уже начинал раздражать Николу, но тут они остановились — меж двух невысоких холмов. Пока Томаш возился с припасами, Никола взбежала по склону и огляделась вокруг. Холмы и холмы, и серая спина Томаша, успевшего уже протоптать тропинку от машины до небольшой поляны среди голых орешин, — сверху поляна напоминала дно корзины с припасами.
«И Томаш — будто внутри корзины, — подумалось ей вдруг. — Живет на дне глубокой корзины, лишь иногда глядя на мир сквозь ее прутья. И движется туда, куда переносят корзину… — Она начинала сердиться на себя, но уже не могла остановиться. — Но я ведь сейчас с ним, значит, тоже в корзине? Я?!»
Слезы брызнули из глаз Николы, и, повернувшись к Томашу спиной, она стремглав побежала вниз, прочь от него.
Она чувствовала, что слишком жестока к этому зрелому, уже привыкшему к своему превосходству над ней мужчине. Но сейчас ее почему‑то радовало такое вытравливание из сердца слишком неравной, нерадостной любви.
…Вернувшись спустя час, она застала разбросанные на снегу шампуры с еще дымящимся мясом, груду мокрых углей и Томаша, хмуро сидящего за рулем. Никола села сзади, и они, не обменявшись и словом, поехали в город.
Дома они переходили из комнаты в комнату, стараясь не встречаться глазами. Николе казалось, что если они коснутся друг друга, их ударит током.
И среди этого затянувшегося молчания она, тщательнее обычного одевшись, вышла из дома.
Она шла пешком. Ранние зимние сумерки сделали город черно‑белым. Там, где должна быть Влтава, клубился густой туман. Шпили и башни, как призраки, мелькали в серой сумятице туч.
Было то время, когда фонари еще не зажигают, но от беспокойного ощущения, что они вот‑вот оживут, уже не отделаться. И ожидание этой бесхитростной вечерней радости смешивалось в сердце Николы с еще одним чувством: она словно возвращалась домой — как маленький кораблик, унесенный случайным ветром от знакомых берегов, где его терпеливо ждут…
И когда в темноте небольшого зала, сплошь затянутого черным бархатом, вдруг вспыхнуло в пучке софита движение и заметалось в черном пространстве тело, похожее на луч звезды, щемящая боль неподвижности пронзила Николу: ей захотелось оказаться на сцене вместе с танцующим Иржи.
Глава 11
Божена покупала фрукты. Глядя, как на медной чаше старых ручных весов покачиваются огромные сливы и персики, выбранные ее рукой, она думала о письме Николы — долгожданной первой весточке от нее.
Суета последнего месяца не заглушила в ней тревожного беспокойства за сестру. Оно родилось в Божене, когда она, простившись с Николой в гулком зале международного аэропорта, полетела над горами облаков, освещенных лучами вечернего солнца, невидимого с земли.
О Томаше она почти не думала. Разве что в связи с судьбой Николы: ревновать к своей меньшенькой — это было просто немыслимо, да и ее воспоминания о Томаше становились все прохладней и отвлеченней. «Улететь в самолете — изумительный выход, исцеляющий от любовной ностальгии», — подумала она.
Воспоминания, оставшиеся у Божены от семейной жизни, напоминали ощущения от затянувшегося сытного обеда, голод после окончания которого еще не дал о себе знать.
Никола в своем письме была целомудренна, но не по‑прежнему: отведав известное Божене блюдо, она отставила его в сторону, ни словом не обмолвившись о нем. Единственным мужчиной, фигурировавшим в письме, был Иржи. Не отчаяние, не разочарование, но густой голос женской печали расслышала Божена в словах Николы. Ее сердце сжалось, но, строго говоря, такое развитие событий было триумфом ее проницательности.
А ее собственная жизнь уже катилась дальше, и теплый ветер Италии этому не мешал.
Разделавшись с организацией выставки, она могла целиком отдаться творчеству и итальянскому досугу — теперь он был частью ее самой.
Покинув их с Томашем общую мастерскую, ритм работы в которой ставил жесткие рамки ее фантазии, Божена окунулась в блаженный мир, и лишь ее прихоть и ее мастерство соперничали в нем… Весь ее жизненный и творческий опыт, словно сфокусированный в один пучок, давал великолепные результаты; Божена работала на пределе сил, не чувствуя при этом ни малейшей усталости. Ей казалось, что дух ее дедушки витает над ней в теплом воздухе Средиземноморья, и она уже с трудом представляла себе, как вернется назад в Прагу. В Прагу, которая вобрала в себя ее прошлое, но отсюда, из Флоренции, была больше похожа на огромный кованый сундук, рыться в котором интересно, но жить — невозможно.
Проводя теперь много времени на людях и наслаждаясь новизной обстоятельств и знакомств, Божена все‑таки старалась оградить свой внутренний мир от любопытных глаз. Сейчас ее занимало только одно: ее впечатления от Италии должны были воплотиться в металле и камне.
Единственное настоящее сближение за месяц ее итальянского существования произошло вскоре после приезда. Фаустина Калассо, итальянка, подошла к Божене, когда та стояла на набережной Арно, у Старого моста, следя за игрой веток, перебираемых журчащей водой.
Невысокая, сухощавая женщина лет сорока, Фаустина смотрела на мир глазами смеющегося мальчика. Коротко стриженные непослушные волосы и манера одеваться дополняли впечатление, но когда она заговорила, Божена, плененная богатством ее грудного певучего голоса, повернулась и с интересом взглянула на незнакомку. И, подмываемая желанием слышать итальянскую речь, она, не удивившись, ответила «да», когда услышала:
— Вы Божена Америги? Говорите по‑итальянски?
А потом они до вечера бродили по улицам, где на домах росли статуи, и время от времени возвращались к обмелевшей реке.
Фаустина приехала на выставку из Неаполя, где работала огранщицей в государственной мастерской. Она надеялась поработать с кем‑нибудь из приглашенных ювелиров и попробовать себя в конкурсной программе. Она заняла кучу денег, чтобы перевезти во Флоренцию все оборудование и снять что‑нибудь мало‑мальски надежное под мастерскую на время проведения выставки.
О Божене она узнала, просматривая краткие резюме в рабочем каталоге выставки. Эти незамысловатые информационные визитки составляли сами участники, прибывающие на конкурс. Божена не знала, как и что принято писать о себе в таких случаях, и соорудила несколько парадоксальный текст о своем опыте и творческих пристрастиях. Он‑то и привлек внимание Фаустины. Кроме того, в графе «Состав творческой мастерской» Божена поставила прочерк — Фаустина поняла, что это ее шанс.
Узнав Божену по фотографии в том же каталоге, она подошла к ней на набережной и, не лукавя, поведала о своих намерениях.
Прямота Фаустины и те работы, которые Божена увидела в ее импровизированной мастерской, куда они зашли уже под вечер, не оставили сомнений, и на следующий день Божена Америги заявила в жюри конкурса Фаустину Калассо как свою ассистентку.
Фаустина перевезла свой почти самодельный, но с удивительной точностью и любовью выверенный ювелирный скарб в просторную мастерскую, выделенную Божене, и теперь дни напролет они проводили бок о бок. Но, обе молчаливые и по натуре и в связи с ремеслом, они почти не разговаривали ни о чем после той первой совместной прогулки. Показывая друг другу наработанное в мастерской, они лишь соотносили время от времени свои замыслы и их же обсуждали, прогуливаясь вечерами по набережной, прежде чем разойтись по домам.
Фаустина долго не расспрашивала Божену о ее жизни и не рассказывала ничего о себе. Но в тот день, когда Божена вошла в мастерскую с большим бумажным пакетом и вывалила из него на стол огромные сизые сливы и мясистые персики, от которых поплыл по комнатам тонкий аромат, Фаустина молча вышла из мастерской и вскоре вернулась с букетом тосканских вин — пять или шесть узких горлышек торчали из корзины, как бутоны только что срезанных цветов, а сама Фаустина походила на сорванца, разорившего чей‑то цветник.
На плоских хрустальных блюдцах — прихоть Божены — появились всевозможные сыры, зелень и орехи. Разостланы на низком мраморном столе пестрые салфетки. Подоспели бокалы со звонкими боками. Затем руки ловко добавили изящные приборы, и две женщины, похожие лишь своим немногословием и раскрасневшимися от усердия щеками, уселись друг против друга и, отставив на время свое мастерство, впервые заговорили о другом.
История Фаустины, шестой дочери небогатого владельца рыбного ресторанчика, и немногословный рассказ Божены, внучки известного ювелира, никогда не задумывавшейся о деньгах и всегда казавшейся окружающим взбалмошной аристократкой, нежно переплетаясь, плавали в воздухе прозрачного итальянского дня, создавая в душах собеседниц изящный узор их рождающейся душевной близости.
Божена никогда не имела близких подруг. Судьба развела ее с подругами юности, а новые знакомства или сами не проживали долго, или искусственно устранялись ею, когда пустая болтовня и незамысловатые переживания приятельниц совсем уж надоедали.
Фаустина отличалась тем, что, оценив Божену сразу и целиком, быстро нашла единственно верную тональность их возможной дружбы и ту дистанцию, которая позволяла им рассмотреть друг друга, не вторгаясь при этом в потаенные владения.
Звенели бокалы, ронялись улыбки — им было о чем поговорить. И для того, что, казалось, нельзя рассказать, находились слова и хотелось слушать друг друга без конца… Но день постепенно таял, и, когда они вышли, холмы уже посинели и из‑за них двигались им навстречу звезды. Расставаться не хотелось: они, побродив под желтыми фонарями, вернулись в мастерскую, чтобы согреться чаем.
Тут‑то Фаустина, рассматривая медальон в форме маски, лежащий у Божены на верстаке, сказала спокойно:
— Ты знаешь, вам надо на карнавал.
— Кому? — не поняла Божена.
— Вашей маленькой труппе. Разыграете «Ревнивых возлюбленных», или вот еще есть для вас прелестный сценарий — «Муж» называется.
Фаустина поднесла крошечную золотую маску почти к самым глазам Божены и затараторила на каком‑то диалекте, смешно выкрикивая окончания слов. Божена расхохоталась, все еще не понимая.
— Венецианский карнавал! Годен для встречи влюбленных всех мастей! — распевала Фаустина на манер ярмарочных зазывал. — Мечтаете о Венеции? Подарите свою мечту любимым и близким, но не любым… Вам, милочка, четыре билета на карнавал? Записываю: Иржи, Божена, Томаш и Никола. Ах, какие чудесные имена у ваших друзей!
Засмеявшись, Фаустина упала на кушетку и вопросительно взглянула на Божену из‑под чуть приоткрытых век.
Божена, уже не веря, что эта идея принадлежит не ей, стояла у окна лицом к Фаустине и, запустив длинные пальцы в копну своих волос, светилась от удовольствия.
— Поздравляю, ты поняла, — снисходительно бросила Фаустина. И, таинственно подмигнув, добавила: — Чай поможет нам выработать трезвый план.
Глава 12
Следующий день выдался сырым и туманным. Проснувшись в мастерской, Божена услышала мерное жужжание станка. Она встала и, обернувшись пледом, прошла в комнату Фаустины.
Постояла в дверях и посмотрела, как та работает. Затем незаметно вышла в маленькую полутемную комнату, служившую кухней, и заварила кофе.
Так, в зеленоватом коконе пледа поверх сорочки, она и вернулась к Фаустине, тихо переступая, с двумя дымящимися чашечками на подносе.
Позавтракав, они, будто вчера ничего и не было, разошлись по комнатам и погрузились в работу.
Сейчас перед Боженой лежала маска‑медальон из золота и черненого серебра — птичье лицо с человеческими глазами. Под ее покровом должен был скрыться туманный лунный камень — Адуляр, мерцающий нежным красноватым отливом, как лицо в сумраке маски. Над камнем работала Фаустина.
После вчерашнего разговора за чаем, после вчерашнего письма сестры Божене захотелось кое‑что изменить в уже готовой оправе, и она пыталась уловить что‑то в своей памяти… то ли улыбку, то ли разрез глаз… Чей же? Внезапно она поняла: Николы. Да! Теперь эта маска не будет безликой, она станет воспоминанием.
И Божена взялась за инструменты.
А накануне они говорили вот о чем.
Фаустина слушала рассказ Божены, смена настроений которого сопровождалась сменой цвета вин в бокалах, — они откупорили все бутылки сразу и меняли их, как наряды в праздничный день, — и чувствовала, что пружина, сжатая Боженой, жаждет расправиться. Не хватает малого — случайности. Что бы это могло быть?
Гуляя, Фаустина вдыхала прохладу зимнего вечера и искала ответа у этой свежести. И когда они вернулись в мастерскую и Фаустина, бродя по комнатам в ожидании чая, остановилась у верстака Божены, большеглазая птица, блеснув золотым хохолком, подмигнула ей. И в ее голове сразу же закружился хоровод карнавальных проказ и выдумок, игривых и озорных. Она положила медальон на ладонь и будто оказалась на площади Сан‑Марко, в Венеции, на карнавале.
То, что история, прервавшая спокойное течение жизни Божены и вообще переменившая многое в жизни двух сестер, достойна феерического завершения, или разрешения, или продолжения — Фаустина и сама не знала точно, что из этого может выйти, — не вызывало сомнения. Но как все это осуществить? Как собрать на карнавале четверых, трое из которых ничего не должны подозревать, и устроить авантюрное представление, путаницу в масках?..
Фаустина, искушенный завсегдатай карнавалов, раньше подрабатывала в мастерской, снабжавшей масками и актеров, и просто желающих повеселиться на празднике вседозволенности. С тех пор она тратила свое свободное время на подготовку к очередному карнавалу, вырезая деревянные маски и придумывая к ним костюмы. К тому же она в совершенстве владела языком карнавальных интриг и теперь раскручивала перед Боженой клубочки сцен и сюжетов, предлагая ей на время стать одной из карнавальных масок.
И они придумали.
Скоро Рождество. Два билета на венецианский карнавал — отличный подарок для Николы. Божена не сомневалась — с ней приедет Иржи. А еще один билет Никола получит для того, чтобы вручить его Томашу от имени Божены — в качестве рождественского сюрприза, без комментариев. Томаш приедет — Божена была в этом абсолютно уверена. Приедет уже потому, что, с двух сторон оставленный, не выносящий одиночества, он будет пытаться притянуть к себе ту из двух женщин, которая первой потянется к нему.
А если эти женщины вдруг окажутся на одно лицо — в суете карнавала так легко ошибиться! — с какой из них быть искренним, а с которой лукавить? И как принимать карнавальное оскорбление — вызвать на дуэль или лишь посмеяться?
Божена чувствовала себя паучихой, плетущей нежную, но очень липкую сеть из плоти своей судьбы.
У нее вообще было настойчивое желание многое расставить наконец по местам. Она была утомлена мудростью и сдержанностью своих недавних поступков и теперь, на расстоянии, сердилась на себя. А за что — не решилась бы признаться и себе самой.
Все они будто заплутали в своей и чужой жизни в последнее время — переиграли, перемолчали, переискусничали. Любовь к сестре, приперченная счетами с Томашем, и вдруг — боль от разрыва с мужем и недовольство Николой, молодость которой казалась ей в эти минуты уж слишком эгоистичной… Держать в себе это и дальше было нельзя.
И Божена решила поговорить с Томашем на языке карнавала, взбудоражить Иржи, вообще, насколько она его знала, склонного к подобным проделкам. И наконец подарить Николе ощущение свободы и просторности чувства, называемого любовью, а себя освободить от связи с Томашем окончательно.
А Фаустина предвкушала настоящий карнавал — полный страсти, разоблачений, бурного веселья… Карнавал, срывающий маски с обманчивой действительности, оголяющий нервы ленивой, заевшейся жизни, — чего же еще можно желать?
И вскоре в мастерской запахло свежей древесиной. Фаустина взялась вырезать две одинаковые птицеголовые маски. Кому они достанутся, Божена еще точно не знала, но в голове ее уже шевелились некоторые идеи.
Глава 13
Когда спектакль закончился и заслуженные аплодисменты отшумели, Никола не сразу встала со своего места. Она сидела почти у самой сцены, и ей хотелось верить, что Иржи заметил ее. Но время шло, зал уже совсем опустел, и она не могла больше оставаться здесь.
Никола чувствовала себя ужасно одинокой. Дом, из которого она вышла несколько часов назад, был ей теперь невыносим. Ей и в голову не приходило вернуться туда. Но и ее дом был пугающе пуст, она не хотела возвращаться в его тишину и заброшенность. Там все было пропитано грезами о Томаше, и это было сейчас особенно неприятно.
Покидая театр, Никола вдруг увидела чье‑то мрачное лицо, глядевшее на нее из стеклянной двери. Она обернулась — никого, и снова встретилась глазами со своим отражением.
Был холодный ветреный вечер. Город уже успел погрузиться в тишину, и было слышно, как хлопают ставни, не закрытые на ночь. Надо было на что‑то решиться, хотя бы выбрать, в какую сторону идти. Но Никола стояла у театра, спиной к уже не освещенной афише, и не двигалась с места.
Вдруг послышались оживленные голоса, они приближались, и вскоре Никола увидела выходящих из подъезда танцоров.
И, словно испугавшись чего‑то, она поспешно повернулась к ним спиной и пошла по гулкой улице, слушая, как та считает каждый ее шаг… А потом за ее спиной возник легкий шелест других, настигающих, шагов. Никола пошла чуть быстрее и, услышав свое имя, не сразу остановилась… Но потом вдруг повернулась и побежала навстречу догоняющему ее высокому парню.
Он подхватил ее на руки и, словно она вернулась из затянувшегося путешествия, смешно спросил:
— Ну, как ты?
И Никола прервала его, тихо опустив свои губы ему на лицо.
Но тут же отпрянула и отвернулась, смущенная тем, что будто проговорилась, призналась в том, что скрывала еще от себя самой. Но, проговорившись, дальше таиться глупо!..
И вдруг она увидела его очень близко, перестала думать и только глубоко вздохнула — как взмахнула крыльями.
Глава 14
Письмо от Божены пришло накануне Рождества.
Никола уже больше недели жила одна. Она ушла от Томаша, не объясняясь. По сути, она поступила так же, как Божена, и Томаш ни о чем еще не подозревал. Позвонив ему тогда, после спектакля в Черном театре, Никола сказала, что она на вокзале, собирается поехать к маме и вернется, видимо, после Рождества.
То, что происходило теперь между нею и Иржи, напоминало несмолкающий ни на минуту вальс, и голова Николы счастливо и беззаботно кружилась…
О Томаше она вспомнила лишь в связи с Холичеком. Забеспокоившись об этом нежном существе, успевшем привязаться к ней, она решила проникнуть в квартиру Томаша в его отсутствие и проверить, все ли в порядке.
Попросив Иржи позвонить в мастерскую и выяснив, что Томаш там, Никола ринулась в квартиру, затерянную среди каналов Пражской Венеции.
Первым ее желанием было прижать белый комочек к себе и убежать с ним к Иржи, который ждал ее внизу.
Но пропажа могла обеспокоить Томаша, он мог что‑то заподозрить и начать ее искать — а найти ее было нетрудно.
И Никола, обнаружив Холичека на его любимом месте — под кроватью Божены, высыпала на его блюдце принесенные с собой угощения, налила в поилку свежей воды и, не дожидаясь, пока он выйдет из своего убежища, собралась уже было уходить, но вдруг увидела на столике перед зеркалом большой зеленоватый конверт, подписанный рукой Божены. Она взяла его в руки. Письмо было адресовано ей и пришло сегодня утром.
«Как же быть, — думала Никола, — ведь если я заберу письмо с собой, Томаш поймет, что я заходила сюда. А вдруг кроме рождественских поздравлений там что‑нибудь срочное?»
И она решила прочитать письмо здесь, а потом аккуратно заклеить — вряд ли Томаш будет его тщательно рассматривать.
В конверте была объемная музыкальная открытка — стайка пернатых ангелочков с мерцающими голубыми колокольчиками в руках парила под нежный рождественский перезвон над неведомым городом, — а в ней невинные поздравления любящей, очаровательно заботливой Божены с надеждой на скорую встречу. Никола разочарованно стала запихивать открытку обратно, и тут из конверта выпала маленькая записка. Божена просила Николу получить на почте остальные подарки и распорядиться ими так, как она захочет. И неожиданная приписка на обороте: «Не забудь и о Томаше. Но только оставь все объяснения на потом». Слово «все» было дважды подчеркнуто.
Недоумевающая Никола положила открытку обратно, заклеила конверт и быстро побежала по лестнице вниз.
Улыбнувшись Иржи, она взяла его под руку и, сказав, что ей нужно на почту, повлекла за собой.
Но прежде чем они свернули в ближайший переулок, их успел заметить Томаш, подъехавший к дому на своем сером «пежо».
Глава 15
Париж, снова вспомнивший это имя благодаря вернувшейся в его жизнь Николе, ни о чем ее не спрашивал и делал вид, что не знает, где она пропадала весь последний месяц. Но чувствовал, что история с Томашем еще не совсем закончена, а в ее продолжении найдется место и для него.
Так и сегодня: таинственность, сопровождавшая визит Николы в дом, где жили Божена и Томаш, и то, что она попросила его остаться внизу и в случае, если он увидит Томаша, дать ей об этом знать, — все это было неприятно ему. Но в то же время он чувствовал, что Никола, в которой появилось нечто, тянувшее его к ней больше прежнего, теперь в его власти и скоро между ними не останется ничего недоговоренного.
Все вскипало в его груди, когда она, как‑то по‑новому опуская глаза, прощалась с ним по вечерам и уходила в сумрак своего старинного дома. И вскоре в черноте полукруглого окошка он видел ее лицо. Потом она выходила на балкон, и они прощались еще раз.
Иногда, не расслышав что‑нибудь, она снова спускалась к нему, и тогда, сминая в своих руках ее длинные, казавшиеся ломкими руки, Иржи вновь притягивал ее к себе и шептал такие слова, что Никола на несколько минут забывала обо всем.
Но иногда ей казалось, что в эти минуты Томаш стоит за ее спиной и смотрит на ее пылающее, разбуженное им тело. Она хотела избавиться от томящего ее наваждения — и не могла. И когда она все же уходила, то получалось, будто Томаш уводит ее за руку.
На смешливом, подвижном лице возмужавшего за последний год Парижа она все чаще замечала непримиримое выражение. «Может быть, и он видит за моей спиной своего незримого соперника?» — думала Никола.
И на его «иди ко мне» она неизменно отвечала туманным «я с тобой, Париж» и вновь и вновь уходила от него по вечерам, не решаясь на желанную для них обоих близость. Но его обезоруживающая улыбка заполняла ее сны, и она не раз уже, просыпаясь, мечтала увидеть его рядом.
…Получив на почте небольшую бандероль, они направились в Консерваторию. Там их вмиг подхватила и развела в разные стороны всеобщая предрождественская суета.
Улучив свободную минуту, Никола присела в балетном классе на единственный табурет, рядом с огромным, чуть мутноватым зеркалом, отражавшим уже темнеющее окно и огромную люстру, посверкивающую между полом и высоким потолком, достала из сумочки легкий сверток и распечатала его.
Николе была отлично знакома непредсказуемость подарков от Божены, но на этот раз сестра превзошла саму себя!
В посылке оказались два нарядных незапечатанных конверта. Первым Никола открыла тот, в котором лежал билет, подписанный на имя Томаша, и удивилась сказочности приглашения: билет давал право недельного проживания в Венеции! Но тут же она досадливо поморщилась: видимо, во втором конверте билет для нее. А ей совсем не хотелось оказаться вместе с Томашем на карнавале, ей вообще не хотелось встречаться с ним! Неужели Божена еще не получила ее письма? Оно, не называя имени Томаша, прозрачно намекало на разрыв с ним и было переполнено рождавшейся тогда нежностью к знакомому сестре Парижу.
Не ожидая ничего хорошего и уже забыв за своими мыслями об окончании записки, прочитанной ею еще днем, Никола раскрыла второй конверт. И неожиданная радость заставила ее ахнуть: два билета! На одном ее имя, а второй не подписан! Не помня себя от радости, Никола выпорхнула из своего укромного уголка и, прижимая к груди ставший бесценным подарок и кружась на лету, побежала по коридорам, разыскивая Иржи.
Они столкнулись в полутемном коридоре на последнем этаже. Он нес огромную охапку концертных костюмов, видимо из костюмерной, и напевал что‑то сумбурно‑веселое. Никола, разлетевшись, едва не сбила его с ног, но, поскользнувшись, чуть не упала сама и одной рукой схватилась за его шею. Иржи выпустил из рук костюмы, подхватил Николу и, дурашливо пародируя сотни раз репетированную ими классическую поддержку, собирался уже опустить партнершу на разноцветную кучу, но его нога зацепилась за рукав какого‑то платья — и галантный кавалер оказался на куче тряпья сам, рядом с рыдающей от смеха Николой.
И, чувствуя такую неожиданную близость ее тела, он, почти не отдавая себе отчета в собственных действиях, порывисто прижал Николу к себе — и ее смех тут же прекратился, а тело стало опьяняюще послушным. И тогда он прошептал:
— Вот ты и пришла… Ты опять моя, Никола… Но она вдруг встрепенулась и стала отыскивать что‑то, роясь в пестром тряпье. И, вытащив чуть помятые конверты, подняла их высоко над головой и пропела:
— Танцуй!
Домой они возвращались поздно.
Иржи нес в своей неизменной сумке, висевшей за спиной, все для праздничного стола. Рождественская ночь обещала быть по‑настоящему волшебной. Они молча брели по ярко освещенным улицам, ощущая в душах счастливую усталость от прожитого дня, и мысли их, смешавшиеся в холодном воздухе, были спокойны, как неторопливо слетающийся к фонарям рождественский снег.
Почему‑то, не сговариваясь, они оба были уверены, что с некоторых пор — а именно с сегодняшнего вечера — дом у них один, и им не придется больше прощаться каждый день до утра, не придется расставаться вообще.
Но так как Иржи жил далеко, за чертой Старой Праги, а квартира Николы всегда оказывалась под рукой, где бы они ни бродили вдвоем, — ноги приводили их по привычке к серокаменному особняку с синеватой мозаикой на купольной крыше.
И Париж впервые не стал пересчитывать глазами этажи (первый — окошки квадратные, на втором — прямоугольные, и шапочки полукруглых — на третьем), ища окно, стекла которого всегда готовы были затуманить черты той, которая так часто покидала его на целую ночь.
А Никола не теребила кончик косы и не прятала огромные серые глаза. Она не пыталась заставить себя уйти — сделать два шага в сторону порога и остаться наедине со своими тревожными мыслями.
Они не дошли до подъезда с десяток шагов, когда от стоявшей на набережной канала присыпанной свежим снегом машины отделилась темная фигура и двинулась к ним, контрастно выделяясь на снежном фоне.
Никола не сразу узнала Томаша, а узнав, почему‑то не удивилась: будто преследовавшая ее все эти дни его тень, выдворенная из ее сознания, очутилась на улице и бродит теперь, неприкаянная, у ее дверей. Это было так смешно, что Никола не выдержала и засмеялась. Будто поняв причину ее смеха, Париж, так долго ждавший встречи с соперником, стоял теперь перед ним и безобидно смеялся вместе с Николой.
Томаш, проведший в машине не один час, комкал теперь в голове тщательно продуманный план нападения и не чувствовал уже себя в роли разоблачителя — скорее в роли разоблачаемого.
Он смотрел на их веселые счастливые лица и не знал, что сказать.
А Никола, будто продолжая игру, начатую когда‑то им самим, успокоившись, произнесла:
— Здравствуйте, Томаш. Вы, кажется, знакомы? — и она кивнула в сторону Парижа. — Мой друг и коллега Иржи Фиалка, — а затем почтительно перевела взгляд на шляпу Томаша, — муж моей сестры и тоже ее коллега Томаш Фишер.
И, отступив на шаг, она дала им пожать друг другу руки. А потом, чтобы вновь не рассмеяться, стала рыться в сумочке, пытаясь сразу достать нужный из двух конвертов.
Хотя Божена и не просила ее скрывать от Томаша, что не он один приглашен на карнавал, Никола безошибочным женским чутьем ощутила, что именно так нужно сделать. Проснувшийся в ней игрок подзуживал ее и дальше вести Томаша с завязанными глазами на приготовленные Боженой подмостки и не давать ему ни минуты на подготовку — хотя бы сейчас. И поэтому она сходу обрушила на него эту новость. Протягивая конверт, невинно сказала:
— Божена поручила мне поздравить вас с Рождеством и попросила передать вот это.
Томаш молча протянул руку и засунул конверт в карман пальто, но потом спохватился и сдержанно поблагодарил, добавив:
— Вечно Божена что‑нибудь да придумает. Открою его в полночь. — Пытаясь вернуть себе былое самообладание, он, произнося последнее слово, взмахнул руками, как старая колдунья из детской сказки, и тоже попытался выдавить из себя беззаботный смешок.
Но стоящие чуть поодаль от него двое не подыграли ему, а лишь вежливо улыбнулись.
Не зная больше, что делать, Томаш, будто в чем‑то оправдываясь перед Иржи, заговорил, обращаясь почему‑то к нему одному:
— Я ведь тоже заехал, чтобы проверить, все ли в порядке — Божена волнуется, да и я, да, я тоже иногда справляюсь, как тут наша меньшенькая себя чувствует.
Но вздрогнув от произнесенного им самим слова — а оно было еще из той, беззаботно‑давнишней жизни, когда он время от времени встречал Николу после занятий и приводил к ним домой, на совместный ужин, — торопливо прибавил, говоря уже им обоим:
— И тоже с подарком от Божены. Минутку.
Он пошел к машине и вернулся с уже знакомой Николе бутылью домашнего вина, видимо остававшейся в багажнике с их несостоявшегося загородного пикника.
— И от меня тоже. Примите.
Париж протянул было руки, но в последний момент вдруг отдернул их… Нарочно ли, случайно? Никола не поняла, но вскрикнула, услышав звон бьющегося стекла. И отпрыгнула, спасаясь от ярких рубиновых брызг.
Иржи и Томаш стояли, забрызганные вином, и смотрели друг другу в глаза. Еще немного — и они сцепились бы в немой потасовке, но Никола подскочила к ним и, дурачась, взялась причитать по‑деревенски:
— К счастью, ох, к счастью, милые вы мои, ну как же вас угораздило‑то, дорогие мои?
Больше не в силах сдерживать раздражение, Томаш, сухо откланявшись, круто развернулся и, хлопнув дверцей, поспешно уехал, отравив их напоследок ядовитым облаком сизого дыма. А Никола, тоже не желая больше медлить, потащила еще взъерошенного от вспыхнувшей в нем ненависти Парижа по лестнице и, введя его в свой дом победителем, облегченно вздохнула.
Глава 16
Вот Рождество и пришло в Италию. Хотя Божене казалось, что в этой части земли, где есть только два времени года — весна и лето, оно никогда не наступит.
Фаустина, всю последнюю неделю ходившая по мастерской со стружками в волосах, утром, накануне праздника, не пустила пришедшую в мастерскую Божену на свою половину. Пообедать она вышла в комбинезоне, покрытом пятнами краски, и Божена наконец вернулась на землю и почувствовала, что ее любимый праздник не оставит ее в стороне. Ей захотелось и самой окунуться в приятную суету: рождественские подарки — с детства любимая забота — готовы были вернуть ее в жизненный круговорот, прерванный отъездом из Праги, из ее общего с Томашем дома.
И она незаметно выскользнула из четырех стен своего нового пристанища и спустилась по гулкой лестнице вниз.
Вышедшую из сырости лестничного колодца Божену с ног до головы залило солнце. По ее телу пробежали мурашки: будто тоненькие солнечные струйки залились за шиворот легкого пальто и побежали по телу, щекоча его сверху вниз. В голове проснулся какой‑то прилипший еще вчера, но забытый к вечеру мотивчик, и ощущение весны, ставшее для нее уже обычным итальянское чувство, вновь заспорило с волшебством зимнего Рождества.
Но она тем временем уже шла по Старому мосту, на котором велась бойкая предпраздничная торговля, и в пестроте чужих фантазий ловила взглядом что‑нибудь необычное — для Фаустины.
Эта женщина, так внезапно возникшая в ее жизни — будто для того только, чтобы сыграть в ней свою небольшую, но яркую роль, — могла в любое мгновение выскользнуть из нее, оставив в душе Божены благодарное восхищение. И ей хотелось оставить Фаустине что‑нибудь еще, кроме воспоминаний, на память об их дружбе.
Божена мало знала о ней: Фаустина была молчуньей еще в большей степени, чем она сама. Но судьба, вот уже много лет вновь и вновь приводившая Фаустину к спокойному одиночеству, казалась Божене похожей на ее собственную судьбу.
«Вот оно, мое будущее. Фаустине сорок. Сейчас она живет, не размениваясь на страсть и треволнения мимолетной любви. Она не дурна собой, но ее красота целомудренно украшает ее жизнь, не становясь приманкой для жадных глаз. Разве это не прекрасно?»
Подобные мысли, высокопарные и холодные, раньше никогда не посещали Божену. Но теперь, оставшись одна, она хотела получить от жизни доказательства того, что поступила правильно, — и порой искала их в судьбе окружавших ее людей, в своем настроении. Иногда ей нравилось представлять себя свободной и одинокой, бредущей по жизни с единственной привязанностью — к искусству.
Но вдруг она заметила в толпе, переполнявшей мост, взгляд, будто идущий за ней на поводу. Сухощавый итальянец, коротко стриженный, с влажными крупными глазами на сухом лице, стоял, прислонившись спиной к стене одного из ювелирных магазинчиков, и не отрываясь, видимо, уже давно смотрел на нее. И когда она почувствовала это и посмотрела в его сторону, он не сразу отвел глаза. Но в них не было вызывающей наглости, той, что на несколько мгновений словно делает тебя чьей‑то собственностью, — нет. Этот итальянец смотрел так, как смотрят на щемящий сердце закат — любуясь и не ожидая ответа.
Божена, отвлеченная от своих мыслей, вздрогнула, почувствовав правду: она по‑прежнему открыта для любви; короста самообмана вмиг осыпалась с ее души от легчайшего прикосновения. И она стояла на мосту, в гуще предпраздничной давки, а ее разбереженная душа звучала, словно тронутые невзначай струны виолончели.
Незнакомец же, подаривший себе эти секунды, не пряча глаз, тихо улыбнулся Божене и, словно боясь расплескать впечатление, пошел в ту сторону, откуда она пришла, и больше не обернулся.
Это настроение, пойманное Боженой на лету, не покидало ее уже до самого вечера.
Бродя по маленьким флорентийским магазинчикам, она выбрала наконец подарок для Фаустины — воздушное длинное платье из такого тонкого шелка, что оно помещалось в небольшую серебряную шкатулку.
И возвращаясь в мастерскую с дюжиной блестящих свертков и сверточков со всевозможными лакомствами и рождественскими сувенирами — крошечной пушистой сосенкой, посыпанной искусственным снегом, набором огромных синих шаров и гирляндой смешных светящихся гномов, — Божена снова чувствовала жизнь яркой и таинственной, как рождественский чудесный пирог с сюрпризом, который пекла когда‑то бабушка Тереза. Или как старый деревянный башмак, который в рождественскую ночь наполнялся подарками в волшебной комнате бабушки Сабины.
* * *
В мастерской был сквозняк. Фаустина встретила Божену со шваброй в руках: она торопливо выветривала запах краски и прибирала комнаты, готовясь выбросить весь накопившийся хлам.
— Посторонись, а то сейчас я и тебя вынесу на помойку! — Запыхавшаяся Фаустина схватила огромную старую корзину, приспособленную под мусор, и, шутя оттеснив Божену в сторону, со смехом побежала по лестнице вниз.
Божена, смешно вертя шеей у старого зеркала, размотала косынку и, снимая на ходу пальто, нетерпеливо прошла в ярко освещенную комнату, служившую им столовой.
Домотканая скатерть на одном из столов, на ней матово светится серебряный винный сервиз — Божена как‑то, гуляя по городу, купила его в антикварной лавке — все это, подобно старинному натюрморту, заворожило ее.
Другой стол, застеленный газетами, был пододвинут к приоткрытому окну, и на нем, вздернув к потолку странные носы, сохли маски‑близнецы. Божена подошла ближе и увидела две абсолютно одинаковые птичьи головки — голубые, с разноцветными клювами и темными провалами глаз. По форме они напоминали шапочки с вуалью и должны были закрывать волосы и лицо.
Божена хотела уже померить одну из них, но вернувшаяся Фаустина протестующе вскрикнула:
— Осторожно, они еще сохнут!
— Фаустина, ты волшебница! Мне так хочется поскорее стать птицей… — Божена послушно опустила руки.
— Подожди до утра, — Фаустина подошла и взглянула на свое творение так, словно впервые увидела.
Божена, очарованно не сводившая глаз со стола, вдруг опомнилась и, повернувшись к Фаустине, благодарно сжала ее руки в своих, а затем выбежала из комнаты и вернулась с изящной серебряной шкатулкой‑футляром и сосенкой в руках.
— Фаустина, с Рождеством! Загляни‑ка под это дерево…
Фаустина проворно присела и выхватила из рук Божены шкатулку с подарком. Открыв ее, удивленно ахнула и потянула за кончик лиловой ткани, как факир, извлекающий бесконечную ленту из крохотной коробочки.
Платье выпорхнуло из шкатулки, словно разбуженная бабочка, и снова задремало у Фаустины на руке.
— У меня никогда ничего подобного не было… — Она растерянно смотрела на подарок. А потом как‑то легко приняла его, вновь став прежней Фаустиной. И вдруг добавила: — А то, что было раньше, чем никогда, я почти уже совсем не помню.
Она улыбнулась и прошла с платьем к себе. А заинтригованная Божена принялась развешивать большие, синие, как зимняя пражская ночь, шары и украшать растопырившую длинные иглы сосенку беззаботной гирляндой. Но время от времени она подходила к окну и замирала на мгновение — то с шаром, то с фруктами в руке.
Когда Фаустина вернулась, комната уже была готова к встрече Рождества.
Божена наливала вино в серебряный кувшин. Подняв глаза, она забыла о нем и спохватилась только тогда, когда оно пролилось через край на плоский поднос.
Перед ней стояла другая, незнакомая Фаустина. Коротко стриженные волосы, обычно дерзко топорщившиеся в разные стороны, были гладко причесаны и замысловато уложены. Платье, такое необычное, что его смогла бы носить далеко не каждая женщина, сидело на ней естественно. Глядя на Фаустину, Божена удивлялась только тому, что видит ее такой впервые… Но она чувствовала, что сама Фаустина не придает значения произошедшей с ней перемене и не замечает произведенного эффекта.
Наконец‑то заметив ее восхищение, молчавшая до сих пор Фаустина, улыбаясь, сказала:
— Как же ты угадала! Мне так трудно угодить…
— Я и сама не знаю.
— Я уже успела позабыть, что такое платье.
— Фаустина, я не понимаю тебя… — Божена принялась собирать пролитое вино салфеткой. Она никогда не любила чужую навязчивость. И не позволяла себе быть бестактной. Но теперь ее что‑то тревожило в поведении Фаустины. Тем не менее она взяла себя в руки и беззаботно добавила: — Ну вот, все готово. Садимся?
И зажглись долгие витые свечи, и сумрак за окном стал для Божены почти пражским, и чуть закружилась голова… Большие синие шары отражали тревожное пламя и таинственно кружились в полутьме.
Божена смяла сосновую хвоинку в руке и вдохнула с детства знакомый аромат. Не хватало только фамильного пирога с айвой.
Ей было удивительно спокойно рядом с Фаустиной — молчать, смеяться, слушать ее.
И когда теплые пожелания остались позади, она уютно устроилась в мягком глубоком кресле и, ничего не спрашивая, приготовилась слушать, как если бы они с Фаустиной условились, и обещанная рождественская история, смутно угадываемая Боженой весь этот вечер, будет извлечена из шкатулки, чтобы, подобно лиловому платью, придать облику Фаустины завершенность.
— Да, я не все рассказала тебе. Ведь это и не обязательно — все рассказывать.
Фаустина, замолчав ненадолго, закурила что‑то пряное: голубоватый дым, причудливо завиваясь, поплыл по комнате, и запахло сушеным вишневым листом.
— К тому же это было так давно… Даже не верится, что со мной.
И, больше не отвлекаясь, она окунулась в свое прошлое — так, словно отправилась в гости к тому, кого уже нет на свете.
— Я была его самой юной натурщицей — почти девчонкой. Но многие давали мне все двадцать, а я их не разуверяла… Так что, думаю, когда мы венчались, он и сам не знал, который мне год.
Его ню всегда имели успех, он ни в чем не нуждался и жил широко: хорошо платил натурщицам, часто ни с того ни с сего делал нам богатые подарки — но и работать приходилось немало.
Я почти ничего не знала о нем. Девицы постарше рассказывали, что была в его прошлом какая‑то темная сердечная история, но уже много лет он жил один и никого из приходящих ему позировать девушек не обижал.
И поэтому, когда однажды, вдруг прервав сеанс, он сделал мне предложение, я была удивлена, но не напугана — Амедео нравился всем… Я, шестнадцатилетняя бедная Фаустина, была польщена, что он выбрал именно меня.
Будущее мое, до сих пор темное и безрадостное, внезапно озарилось в моих фантазиях ярким светом, и я, не раздумывая, согласилась. С моим отцом он тоже быстро все уладил: завалил подарками и отказался от полагавшегося мне скромного приданого. Большего отец и не мог для меня — и себя тоже — желать. Вскоре я перебралась в богатый дом на набережной — свадебный подарок Амедео мне, шестнадцатилетней девчонке! Амедео говорил, что начинает со мной новую жизнь и не желает больше оставаться в своей холостяцкой берлоге.
Из этого дома мы отправились в свадебное путешествие, безоблачное и однообразно счастливое. Я смотрела на мир его глазами, ему это нравилось. К тому же я была молчалива: не думаю, что у него когда‑нибудь прежде был слушатель лучше меня.
Мы исколесили всю Италию. Мне, никогда нигде не бывавшей, мир показался огромным. Амедео чувствовал это, видел мою наивность — и постепенно привык к роли всесильного покровителя. Я вся была в его власти: в его руках, будто слепой котенок, впервые раскрыла глаза; он дал мне отведать роскоши, но как! — кормил меня ею с ложечки, заботливо, но… деспотично. И когда однажды я попробовала сама протянуть к ней руки…
Это случилось в Риме. Как только мы приехали туда, зарядили дожди. Вот уже четыре дня мы никуда не выходили, но я этому была даже рада. За последний месяц я успела устать от новых впечатлений, мне вообще хотелось уже вернуться в Неаполь, заняться нашим новым домом — думаю, ты понимаешь, что чувствует женщина, пусть даже шестнадцатилетняя, которой подарили дом. К тому же у отца я жила в маленькой комнате вместе с одной из сестер — старой девой, которая устроила в ней все по своему усмотрению и не позволяла даже вазу с цветами поставить туда, куда хочется мне.
Но Амедео был упрям: будто споря с погодой, он и слышать не хотел об изменениях в наших планах. И каждое утро, глядя в большое окно снятой им на пару недель уютной квартиры на виа Аркимеде, вьющейся от подножия до вершины живописного холма, он лишь мрачнел и откладывал этот поединок до следующего утра. Но поздняя осень брала свое, и лишь золотой купол собора Святого Петра, встающий из моря крыш, шпилей и куполов, заменял нам солнце.
Однажды утром, не дожидаясь, пока Амедео раздвинет портьеры, я выбралась из нагромождения пестрых подушек — больших и совсем крошечных; Амедео обожал заниматься любовью то пряча меня под их лебяжьей невесомостью, то вызволяя мое тело из этого бутафорского заточения. Часто, распалив, он одевал меня в одно из немыслимых платьев, которые шил для меня сам, и начинал рисовать восседающей на горе из подушек. На бумаге он раздевал меня, одетую, и добивался потрясающего эффекта: обнаженная натура сочеталась с лицом жаждущей раздеться женщины. И нагота была какая‑то особенная! Сквозь нежно струящуюся ткань одежды просачивалась в его воображение тайна женской красоты, доступная только ему одному. Но только спустя несколько лет я поняла, что Амедео никогда не позволил бы мне чувствовать себя с ним на равных: я всегда была для него прекрасным, но безмолвным образом, порождением его карандаша.
Не знаю, стала ли я в то утро жертвой его хандры, или же он впервые заподозрил, что я не поняла еще правил игры, в паутину которой он втянул меня, как мохнатый паук глупую бабочку…
Я решила не будить его и вышла на улицу, чтобы прогуляться и купить что‑нибудь к завтраку: мне надоели ресторанные изыски, которые он заказывал каждое утро по телефону, — захотелось состряпать что‑нибудь домашнее.
Прежде чем выйти, я долго крутилась у зеркала, меняя плащи, накидки и шляпки, коробки с которыми имели честь входить в торжественный кортеж картонок, саквояжей и чемоданов, вытягивающийся каждый раз в длинную вереницу, тянущуюся за нами от поездов и кораблей до очередного временного пристанища.
До сих пор мы всегда выходили вместе, и Амедео сам подбирал мне наряды для выхода: эти веселые переодевания напоминали игру и часто прерывались объятиями и поцелуями. При этом он без устали восхищался моей красотой и тем, как естественно вхожу я в любой образ, предложенный им. А одежда, сшитая или заказанная Амедео специально для меня, была сродни театральным костюмам и требовала того, чтобы ее носили умело и раскованно… Но я, честно говоря, тогда не задумывалась над этим. Да и кто бы задумался на моем‑то месте?! Рядом с Амедео я всегда чувствовала себя уверенно — он так искренне любовался мной, что мне и в голову не приходило сомневаться в том, что у меня все получается хорошо.
И вот, одеваясь в то утро сама, я вдруг вспомнила один эпизод, которому в свое время почти не придала никакого значения.
В Венеции мы были приглашены в один изысканный дом — ужин на тридцать персон с дворецким в белых перчатках и слугами, в палаццо, выходившем сразу на несколько каналов, с множеством внутренних двориков с садами… И, поправляя прическу в небольшом зале, служившим уборной, я нечаянно подслушала разговор слуг. Они говорили, что дон Амедео снова веселит всех своими причудами: на этот раз приехал с живым манекеном, а говорит, что это и есть его жена. Но кто же ему поверит! Разве может знатная дама представлять его костюмы публике, будто живая картина?! Но как ловко она носит на себе то, что никакая другая не решилась бы и примерить! Верно — нанял актрису. Но хороша!..
«Подумаешь, завистливая болтовня слуг! — сказала я себе. — Да что они понимают в искусстве и в нашей любви!»
Но почему‑то в то римское утро этот подслушанный разговор вспомнился мне… Завершив свой туалет, я вышла из дома и, раскрыв большой зонт, стала спускаться по виа Аркимеде.
Дождь не мешал мне. Сбегая вниз по извилистой улочке, я впервые за последний месяц не чувствовала на себе пристрастных взглядов фешенебельной публики. Какая‑то женщина, закутанная в широкий платок, поднималась навстречу мне с корзиной, полной свежей рыбы. Мальчик на велосипеде разбрасывал газеты, завернутые в полиэтилен, у ворот домов. Мне приятно было чувствовать себя богато и со вкусом одетой, а еще приятней было то, что Амедео не участвовал в моем сегодняшнем «одевании».
Спустившись вниз, я, сама не знаю как, забыла, зачем шла, и стала бродить по улицам и площадям, любуясь Римом, который я видела до сих пор только из окна.
И лишь проголодавшись и уже собираясь перекусить в попавшейся мне на пути траттории, я вспомнила об Амедео, села в трамвай и вернулась на виа Аркимеде.
Амедео завтракал, сидя в постели. Трясясь в звонком трамвае, я боялась, что, может быть, он уже отправился меня искать. Или волнуется, не зная, что и думать. Но ничего подобного я не заметила. Увидев меня, он молча продолжал завтрак. И лишь закончив его и бросив на поднос скомканную салфетку, Амедео встал, снял с моей головы шляпку и, бережно держа ее на ладони, стал смахивать с нее еще не успевшие впитаться дождинки. Потом, повернувшись ко мне спиной, он аккуратно пристроил шляпку на специальную подставку, помогающую сохранить форму при перевозке, и наконец, оставив ее сушиться на подоконнике, повернулся ко мне. Прошло столько лет, но я до сих пор помню выражение его лица и тон, которым он сказал мне тогда: «Ты думала, что делаешь? То, что ты неизвестно где на себе таскала, стоит целого состояния — большего, чем есть у твоего отца. Ты больше никогда ничего не наденешь без моего ведома! А если тебе хочется гулять, то ходи в том, в чем ходила ко мне работать».
В тот же день мы уехали из Рима.
Всю дорогу я пыталась простить ему происшедшее, списывая все на его вспыльчивость. Он, как ни в чем не бывало, был весел и предупредителен со мною, но я никак не могла отделаться от мысли, что он любуется не мной, а дорожным костюмом, который придумал специально для нашего свадебного путешествия.
В Неаполе оказалось, что дом уже обставлен по последней моде. Даже будуар и моя спальня уже имели законченный и весьма изысканный вид, но… Я‑то мечтала устроить их совсем по‑другому.
…И потянулись однообразные зимние дни.
Амедео продолжал писать меня в своей излюбленной манере и вскоре открыл выставку, назвав ее «Фаустина».
Я блистала на вернисаже, переходя из зала в зал в уже привычно оригинальном для меня костюме, в окружении благосклонных критиков и многочисленных поклонников Амедео. А со стен глядело на меня мое тело — будто проданное этой толпе зевак и ценителей, торопливо и щедро раскошеливающихся при виде автографа Амедео и растаскивающих по домам мои обнаженные портреты под общим названием «Фаустина».
Та первая, римская, трещина в наших отношениях разрасталась. Конечно, я не перечила Амедео и бывала с ним везде, где он считал нужным меня показать и в каком угодно наряде. Но освободившись, я почти пряталась от него, уединившись где‑нибудь в своей части дома.
Сначала он пытался заявлять свои права на всю мою жизнь, но вскоре понял бесполезность этих попыток и довольствовался теперь нашей телесной близостью и своим видимым превосходством на публике.
Кроме того, я продолжала быть безмолвной и послушной натурщицей, и если в его работе уже не было того вдохновения, с которым он писал меня во время нашего долгого путешествия, то это компенсировалось для него приятными воспоминаниями и ощущением того, что он все‑таки владеет мною.
И он действительно владел мною — так порой казалось и мне. И тогда я впадала в отчаяние, насколько глубокое, настолько и незаметное для окружающих.
Но однажды посторонний взгляд все же коснулся моей души и заставил ее трепетно отозваться.
Праздновали день рождения Амедео.
С раннего утра наш дом лихорадило: слуги, запасы, заказы, столы, приглашения, бесконечные звонки, телеграммы. В чаду забот я встретила гостей, и в мельтешении едва знакомых мне лиц, улыбок, проплывающих в дымке сигарного дыма мимо меня, под аккомпанемент хрустального звона бокалов и шелест извлекаемых из помпезных коконов подарков прошел весь день.
Вечером же я облегченно вздохнула: мы с гостями отправлялись на заранее подготовленный Амедео огромный катер, чтобы, выйдя на нем в ночное море, закончить гулянье праздничным фейерверком. Здесь мне уже не надо было выступать в роли хозяйки, и я, отойдя на второй план, немного расслабилась.
Амедео был увлечен предстоящим фейерверком — пиротехника входила в число его капризных пристрастий, наряду с устройством карнавалов, морской рыбалкой и заботами всеми признанного кутюрье, — и тоже оставил меня в покое. Пока гости выходили из дома и собирались на набережной, я успела сильно замерзнуть в своем огненно‑алом, как поле маков, платье из тщательно продуманных, но в нарочитом беспорядке собранных лоскутов — это был последний наряд, в который Амедео собственноручно облачил меня перед вечерним коктейлем. В нем я и отправилась в море, успев лишь накинуть сверху широкое пончо. Переодевшись в нашей каюте в удобное шерстяное платье, гетры и низкие туфли — все это я заранее приготовила там, зная нрав Амедео, — я прошла в кают‑компанию, оформленную в стиле прибрежной таверны, и, усевшись за грубо сколоченный стол, заказала немного рому, чтобы согреться и унять все еще колотившую меня дрожь.
Мне принесли что‑то испанское — кажется, касалью, — и первый же глоток этого огненного напитка, горького, как олеандр, обжег мне горло. Но душа моя, уставшая от бесконечной суматохи этого длинного дня, вдруг лишилась защитной коросты. Мне стало так одиноко на этом переполненном людьми корабле… Мое тело согрелось, но внутри меня будто текла холодная река одиночества.
До сих пор я помню в мельчайших подробностях то, что произошло потом. Я вдруг почувствовала на своей руке чье‑то дыхание, и поцелуй, горячий, как прибрежный песок в знойный день, обжег мою кисть. Я вздрогнула, но руки не отдернула. Из полутьмы этой выдуманной Амедео таверны на меня смотрели глаза, показавшиеся мне такими же горячими, как и губы. Это был первый человеческий взгляд за весь день, обращенный на меня. Все остальные гости Амедео, включая его самого, смотрели будто сквозь меня, или же взгляд их застревал на моих причудливых оболочках, и от этого я действительно начинала чувствовать себя манекеном — те болтливые слуги, так разозлившие меня в Венеции, оказались правы!
Незнакомец, словно нашедший меня посреди ночного моря, которое ярко вспыхивало причудливыми фейерверками за стенами кают‑компании, стал моим вторым мужем чуть позже. Но единственная в моей жизни большая любовь родилась в тот самый миг, когда я, еще даже не видя его лица, ощутила огромность тепла, исходящего от этого высокого, большого человека с лицом, похожим на критскую маску. Я не смогу сейчас точно сказать, но хочу, чтобы ты поняла, что я почувствовала тогда. Та река, что так безысходно несла внутри меня холод, вдруг исчезла. И я, не задумываясь, пошла за незнакомцем, когда он, чуть потянув меня за руку, встал из‑за стола.
В шуме разрывающихся шутих и треске бешено крутящихся фейерверков мы, никем не замеченные, отыскали шлюпку. Он умело спустил ее на воду, спрыгнул вниз и помог сойти мне.
Дальнейшее было похоже на наваждение. Долго ли мы плыли — не помню. Внутри у меня все радостно замирало от таинственной опасности происходящего. Будь я взрослее — этого и ничего последующего никогда не случилось бы, но в юности скудный жизненный опыт позволяет поступкам быть авантюрно‑воздушными, безрассудными.
Не думая об опасностях, подстерегающих юную неопытную женщину на каждом шагу, я доверила свою заблудившуюся жизнь этому незнакомцу — и до сих пор не жалею об этом.
Он не причинил мне зла. Тот, чьего имени я так и не узнала в ту ночь, похитил меня лишь затем, чтобы устроить праздник в честь меня одной. Оказавшись на берегу, мы добрались до одного из небольших ресторанов, рассыпанных по всему побережью. Этот был почти пуст.
Для нас двоих зажглись свечи, вышли в зал музыканты — и, выпив подогретого пряного вина, мы танцевали… За все это время он не сказал мне ни слова — лишь неотрывно смотрел мне в глаза. Но каждый шаг, поворот, кружение этого бесконечного танца делали нас ближе друг другу. То, с какой страстной бережностью он вел меня в танго, кружил в чуть ленивом ночном вальсе, говорило мне больше, чем все слова, нашептанные Амедео за стремительно пролетевший месяц нашей близости.
Я уже перестала удивляться таинственной безмолвности незнакомца — она завораживала меня, впрочем, как и все в эту чудную ночь. Вскоре мы вернулись назад — так же незаметно, как и сбежали. Веселье на катере несколько поутихло, но не настолько, чтобы наше отсутствие кто‑нибудь заметил. Мы расстались на палубе: я спустилась в каюту, он просто скрылся в ночном сумраке, крепко сжав на прощание мою руку. В ту ночь мы больше не виделись. Но я так и не смогла уснуть до утра.
Не помню, как мы вернулись домой, что было потом… Кажется, к обеду я заснула и проспала до следующего утра.
Проснулась же оттого, что услышала голос прислуги, разговаривающей с почтальоном. Сама не знаю почему, но я тут же встала и, накинув Длинный соде‑ли,[1] сбежала вниз. Среди журналов, приглашений и газет, внесенных горничной в переднюю, я обнаружила небольшой конверт, запечатанный красным сургучом.
…Фаустина, впервые прервав свой рассказ, встала и вскоре принесла из своей комнаты тот самый конверт и протянула его изумленной Божене. Та, все еще находясь под гипнозом повествования, недоверчиво вертела его в руках.
— А ты, верно, решила, что все это рождественская сказка? — Фаустина рассмеялась.
Потом она вновь закурила и, помолчав, добавила:
— Это было письмо от Филиппо, моего спутника с той самой ночи и до сих пор. У меня с собой много писем и записок от него, а еще больше их — в нашем небольшом доме недалеко от Неаполя, в котором мы прожили вместе почти двадцать лет.
Фаустина на мгновение отвернулась.
— Все эти годы я будто читаю длинную книгу о любви — и в его глазах, и в его бесконечном письме, адресованном мне. А у тебя в руках ее начало.
И Божена, бережно достав письмо, прочла всего несколько строк:
«Даже если бы я обладал счастливой способностью, свойственной всем людям, вчера в Вашем присутствии я не смог бы вымолвить ни слова.
Хочу услышать Ваш голос».
— Вечером того же дня, — продолжила свой рассказ Фаустина, — какой‑то мальчик принес мне большую корзину янтарного винограда, в которой я нашла свернутую трубочкой записку: «Я хочу похитить Вас еще раз. Согласны?»
Сейчас мне кажется, что тогда я нисколько не мучилась с ответом. Не знаю, может, так оно и было.
Но шли дни, а незнакомец молчал… Ожидание становилось невыносимым, и однажды я, попытавшись описать Амедео человека, имени которого не знала, спросила его: кто это?
Оказалось, что человека, который так стремительно вошел в мою жизнь — а я уже чувствовала, что это случилось, — зовут Филиппо. Вот уже несколько лет, как он, сбежав из города, живет в провинции и занимается виноделием. «Живет у себя на холме, словно монах, — сказал Амедео. — А может быть, так ему и лучше… Филиппо ведь — нем».
Потом Амедео заговорил о чем‑то другом, но заметив, что я не слушаю его, решил использовать мое настроение и, продолжая говорить, подошел ко мне и стал неторопливо расстегивать мой пеньюар. Предстоящее переодевание — на этот раз у него в руках было что‑то серебристо‑розовое, полупрозрачное — уже начало возбуждать Амедео, его прикосновения становились все настойчивей… Но когда его губы потянулись к моим, я вырвалась и, сказав, что сегодня не буду позировать, убежала к себе.
А через час нашла его в столовой и объявила, что ухожу от него к Филиппо.
Разумеется, Амедео не поверил мне и, ответив, что я становлюсь слишком капризной, шутя пригрозил действительно отправить меня в подарок Филиппо: «Будешь подвязывать лозы и месить виноград босыми ногами — пожалуй, тебе это больше подходит!»
Думаю, потом он долго вспоминал эту свою шутку.
Не желая больше слушать меня, Амедео отправился играть в бридж, а я, отыскав в его гостевой книге адрес Филиппо, — на вокзал.
И можешь мне поверить, я никогда не пожалела о том, что сделала в тот вечер.
Когда я постучалась ночью в дом Филиппо — я чудом нашла его, не заблудившись среди бесконечных виноградников, — мне не нужны были никакие слова, чтобы понять, как он ждал встречи со мной…
* * *
Божена встала и с глазами, полными слез, обняла Фаустину.
В тот миг им обеим показалось, что в комнату словно впорхнул тихий ангел и осенил их своими белоснежными крыльями…
Оставшиеся до открытия карнавала недели Божена провела в заботах и печали.
История Фаустины, так растрогавшая ее в рождественскую ночь, теперь часто приходила ей на ум, когда она думала о своей жизни.
Божена тосковала. Не столько потому, что осталась одна, — нет, она почувствовала только теперь, как была одинока все эти годы, проведенные рядом с Томашем.
Целиком уйти в работу не получалось, хотя профессиональный успех сопутствовал ей весь последний месяц как никогда. Она попала на выставку во Флоренцию, познакомилась здесь с Фаустиной — Божена еще не встречала огранщика, способного сравниться в мастерстве с этой маленькой итальянкой, — все это было несомненной удачей.
На конкурсном показе их совместное изделие получило третью премию и диплом за лучшее воплощение оригинальной идеи. Божена попросила членов жюри вручить премию лично Фаустине и, как та ни упиралась, не взяла себе из нее ни лиры.
Она была счастлива, что смогла помочь этой очаровательной женщине, к которой так привыкла за последний месяц. То, что ее новая подруга увозила с собой в Неаполь выставочный каталог, в который вошла их работа, было лучшей рекомендацией, какую только Фаустина могла где‑нибудь получить. А как это важно для мастера — Божена знала по себе.
Выставка закрылась, все разъезжались по домам — пора было и им расставаться. Но Божена была уверена в том, что расстояние не станет помехой их дружбе. К тому же они совсем скоро встретятся на карнавале.
Медальон, так сблизивший их, было решено подарить Николе.
Фаустина уехала, а Божена стала с трепетом готовиться к встрече с Венецией. Она ехала на родину деда впервые.
Глава 17
Небольшой катер, рассекая зеленоватые волны, приближался к берегу. Сквозь стекло, забрызганное дрожащими от ветра каплями воды, Божена смогла разглядеть дома, будто столпившиеся на берегу в праздничном ожидании.
«Неужели я сейчас просто сделаю шаг и войду в город, о котором с детства мечтала?» — Божена поморщилась от ощущения какой‑то невесомой обиды: слишком легко сбывалась ее мечта. Но чем ближе они подплывали, тем роднее казался ей пейзаж, — даже в груди защемило так, будто она возвращалась домой.
Катер приближался к молу, и перед ее глазами, как в восточной сказке, предстал фасад Дворца Дожей — изумительный мираж в сиянии розовых ромбов, покрывающих легкое тело строения.
На берегу она пробыла недолго: ее и спущенный за ней багаж тут же подхватил гондольер, оказавшийся расторопней других.
— Гостиница «Atlantico».
И они вновь поплыли.
От обилия воды, постоянно звучащей, сверкающей, проникающей в ноздри неповторимым венецианским запахом, у Божены кружилась голова. Она оказалась совсем в другом мире, на другой планете! Сухопутная Флоренция, город, будто написанный потускневшим от времени маслом на потрескавшемся холсте, — и Венеция, сочащаяся, пропитанная морем, словно губка… Божене казалось, что, если она коснется рукой позеленевших от сырости камней, из них тоже польется вода.
Проплыв немного по Большому каналу, в обрамлении ажурных узоров удивительно легких, будто подвешенных над водой дворцов, сверкающая черным лаком гондола грациозно свернула в полутень совсем узкого канала и, неторопливо следуя в веренице других, заскользила вдоль дремлющих домов с их заржавевшими воротами и облупившимися стенами. Но в них, в этих обычных венецианских домах, было ничуть не меньше прелести и очарования, чем в известных всему миру дворцах.
Отовсюду смотрели на Божену каменные львы, гирлянды цветов увивали окна и стены, а на одном из балконов она заметила деревце, вцепившееся корнями в горсть щебня и земли. И подумала, что прекрасная Венеция так же мужественно держится за крошечные острова скупой лагуны корнями свай, умудряясь цвести там, где это почти невозможно.
Они проплывали под низкими мостиками, и их серо‑зеленая изнанка светилась: это солнечные блики, пробежав по воде, извивались на влажных каменных сводах блестящими змейками.
За очередным поворотом канал сузился так, что движение здесь было возможно только в одну сторону, — и Божене показалось, что шершавые камни встающих прямо из воды домов могут коснуться ее щеки.
Монотонно толкались о дно длинные шесты, лениво переговаривались между собой гондольеры; везущий Божену напевал что‑то, и вода делала его пение еще протяжнее и печальнее.
Белоснежное белье, протянутое тут и там высоко над водой, было похоже на занавес и напоминало о том, что в Венеции есть не только зрители, но и участники спектакля, ежедневно играющие роль жителей этого фантастического города.
Но вот гондола ткнулась острым носом в подгнившие зеленые сваи, торчащие из воды рядом с темными мраморными ступеньками, которые вели в гостиничный дворик, и Божена, чуть пошатываясь, ступила наконец на твердую землю.
До открытия карнавала оставалось два дня. Завтра к вечеру должны были приехать Иржи и Никола. Томаш, по плану Божены, должен появиться перед самым открытием: еще из Флоренции она известила его телеграммой о забронированном номере и о желательном сроке приезда.
«Так будет лучше, — думала она. — У него не должно быть лишнего времени, чтобы освоиться здесь!»
Божена сидела в номере «Atlantico» в кремовом венецианском кресле с круглой спинкой и изогнутыми ножками и, теребя свои непослушные локоны, смотрела в окно на голубей, пьющих воду из круглого фонтанчика и лениво расхаживающих по вымощенной красноватым камнем «кампиелли» — маленькой площади.
В дверь постучали, и, получив разрешение, в комнату вошел портье. В руках у него был поднос с маленькой супницей, вином и булочками, которые так аппетитно пахли, что Божена забыла обо всем. Она дала ему на чай и, оставшись одна, тут же взялась за обед.
Она заказала одно из многочисленных блюд с экзотическим названием, которые преобладали в гостиничном меню. И теперь, подняв крышку, с любопытством разглядывала содержимое супницы.
Отведав пару ложек, Божена внезапно узнала вкус: «Да это же тот самый суп, который готовила бабушка Сабина по старому рецепту деда! Бабушка никак не могла запомнить названия, и в конце концов мы так и прозвали его — „суп без названия"». Божена раскрыла меню и прочла: «Кастратура». Да, попробуй запомни! И она будто вновь очутилась в большом пражском доме.
…Воскресенье. Раннее утро. Бабушка, пока все еще сладко спали, успела сходить на рынок и варит теперь этот воскресный «суп без названия». «Мясо ягненка, капуста брокколи, — ворчит добродушная бабушка, — может быть, в Венеции это продукты и обычные, а здесь полрынка обойдешь, прежде чем все это разыщешь. Но чего не сделаешь ради влюбленного в тебя итальянца!»
Скрипят деревянные ступени — это бабушка идет наверх будить Америго: церемония продолжается, нужно снять пробу. А когда проснутся остальные, бабушка с дедом уже будут сидеть в уютной столовой, свежие и нарядные, а посреди тщательно сервированного стола будет дымиться огромная голубая супница, распространяя по дому пряный аромат, знакомый седовласому Америго с детства…
Воспоминания умиротворили Божену. Она позвонила, и когда поднос унесли, переоделась в свою любимую байковую пижаму, мягкую и просторную, и зашла в ванную с двумя стрельчатыми окошками, аккуратно зашторенными. Открыв дорожную шкатулку с косметикой, достала флакон с настоянными на морской воде лепестками васильков. Смочила льняную салфетку, положила ее на лицо и прилегла на обтянутую полосатым сукном кушетку у окна.
Маска успокоила обветрившуюся на морском ветру кожу — Божена впервые за последние дни, полные суеты и забот, расслабилась. Окунувшись в полудрему, ее сознание заскользило мимо воспоминаний и образов последних недель, вдруг зацепившись за чье‑то незнакомое лицо… И Божена вспомнила: это было лицо итальянца, который смотрел на нее на Старом мосту накануне Рождества. Но почему же это воспоминание так взволновало ее сейчас?! То, что обычно было подсознательно связано с Томашем, сейчас явилось в образе человека, которого Божена даже не знала и, скорее всего, никогда больше не увидит. «Как это странно», — подумала она и, не давая себе окончательно проснуться, перешла в спальню, нырнула под легкий газовый балдахин, скрывающий уютное ложе, и мгновенно заснула. Всю эту ночь ей снились светлые чудесные сны.
Венеция готовилась к открытию карнавала. С утра Божену разбудило громкое пение. Встав с кровати, она выглянула в окно, выходящее на канал. Мимо проплывали необычно раскрашенные гондолы: голубая с золотыми волнами, золотисто‑оранжевая, желто‑зеленая. В первой стояли два гондольера в масках и костюмах и пели о том, что они — Отражение Солнца и Отражение Моря, которые спешат в Венецию на карнавал. За их спинами развевались длинные разноцветные плащи, обшитые зеркальными полосами, которые и вправду отражали солнце, воду, небо, — Божене показалось, что она увидела в этих плащах и свое изумленное лицо.
Вспомнив вдруг, что она неодета, Божена отшатнулась от окна и, торопливо закутавшись в широкую шаль, выглянула вновь.
На корме второй, почти уже нырнувшей под изогнутый мостик гондолы, сидела яркой красоты женщина, одетая королевой. Божена успела разглядеть ее точеный профиль в обрамлении светлых, крупно вьющихся волос, увенчанных блестящей короной, и шлейф, такой длинный, что он закрывал почти всю гондолу. Впереди стоял полуобнаженный человек — Божена поежилась — в парике и с длинной, несколько раз обернутой вокруг торса бородой. «Это уж точно Нептун. А его спутница, верно, сама Царица Венеция», — решила Божена.
В третьей гондоле плыли комедианты — актеры‑маски. Один из них, высокий паяц в колпаке, заметив Божену, выглядывающую в приоткрытое окно, взял гитару и, не отрывая от улыбающейся незнакомки своих густо накрашенных глаз, запел страстную серенаду.
И Божена, уже ощущая себя счастливой участницей карнавальной игры, выхватила из стоявшей на подоконнике вазы букет фиалок и бросила его Влюбленному.
Благодарно улыбнувшись и прижав фиалки к груди, он поклонился и скрылся под сводом моста, словно в полутьме кулис.
«Так вот оно, значит, что такое — жить полной жизнью!» — сладко замерло сердце Божены.
Ей захотелось поскорее выйти на улицу. Решив позавтракать где‑нибудь в городе, она оделась так несвойственно для себя просто, что те, кто ее знал, могли бы решить, что это почти карнавальный костюм. Светлая суконная юбка, не длинная, но и не короткая, облегающий джемпер из тонкой шерсти — и ее округлые формы, обычно задрапированные, наметились легкими, но довольно смелыми изгибами.
Проходя по извилистым «калли» — узким венецианским тротуарам, петляющим вместе с каналами, — пересекая небольшие площади, а иногда попадая в «корти» — дворы‑тупики, — но нисколько не расстраиваясь, а продолжая упиваться городом, похожим на лабиринт, Божена наконец вышла на главную площадь, Сан‑Марко.
Она открылась неожиданно, поражая своей величиной. После узких улиц, домов, тесно сплотившихся по берегам широких и узких каналов, с их мерцающими в воде отражениями, ограниченная нарядным собором, Часовой башней, бесконечными арочными галереями Прокураций и с возвышающейся надо всем красного кирпича колокольней, будто сдвинутой в сторону от центра чьей‑то громадной рукой, площадь казалась просторной, как морская лагуна, окружающая город.
И все ее пространство было наполнено людьми. Ряженые встречались еще редко, но посреди площади уже возвышались грубо сколоченные подмостки, окруженные толпой зевак. Задником служили старые рыбачьи сети, натянутые на длинных кольях. Этот театр не нуждался в специальных декорациях — местом действия была сама площадь, а зрители — одновременно и участниками. И все это веселое сумасбродство, увлекшее город, немедленно передавалось каждому въезжающему в него гостю.
Подойдя ближе, Божена увидела, как зрители криками и жестами подсказывают актерам, что делать дальше, а совсем нетерпеливые просто залезают на сцену и начинают участвовать в происходящем. Костюмы для «новеньких» сооружаются тут же, по ходу действия, когда становится ясно, в каком качестве выступает пришедший, вернее, вскарабкавшийся герой. Глупцу натягивают дырявый колпак с бубенцом, Умнику цепляют на нос очки, а на грудь манишку, Влюбленных щедро осыпают и увивают цветами. Время от времени особо разбушевавшегося артиста сталкивают обратно в толпу, а действие, сопровождаемое взрывами хохота, продолжается.
Протискиваясь сквозь толпу зрителей, Божена пробралась к самым подмосткам. Но не успела она оглядеться, как чьи‑то сильные руки подхватили ее и, высоко подняв над толпой, поставили на сцену. И тут же ее, не успевшую опомниться и раскрасневшуюся, нарядили в смешно колышащуюся юбку на обруче, натянули на глаза счастливую маску и дали в руки букет. Растерянно опустив глаза, Божена узнала свои фиалки, а когда подняла их, то уже неслась в танце со своим утренним воздыхателем, смело кружившим ее над головами хохочущих зрителей. Вне себя от неожиданности и восторга, Божена крепко прижалась к смеющемуся Влюбленному, послушно двигаясь вслед за ним в танце.
Все остальные «актеры» разбежались по краям сцены и, весело дурачась, хлопая в ладоши и подпевая в такт музыке, завывающей откуда‑то из‑под сцены, смотрели на них.
Но вдруг музыка смолкла, и Божена услышала слова, обращенные явно к ней:
— Ну что, красотка, подай же теперь поцелуй нищему красавцу, так развеселившему тебя!
— Подай же ему!
— Ну, не кокетничай!
И Божена, у которой голова закружилась от высоты, быстрого танца и обилия смеющихся глаз, устремленных на нее, театрально попятившись, вдруг весело упала в объятия Влюбленного и почувствовала, как страстный поцелуй обжег ее губы.
— Браво, браво, бис! — ревела толпа, а Герой все не отпускал свою свежеиспеченную Возлюбленную и вдруг, подхватив ее на руки, ловко спрыгнул с ней вниз и побежал по живому коридору, расступающемуся перед ним.
Еще несколько шагов, и, опьяненная карнавалом, Божена была бы готова сбежать с темпераментным незнакомцем всерьез, но он, пробежав еще немного, разжал свои сильные руки и бережно поставил ее на землю. А потом протянул ей с поклоном руку и, величественно шествуя по не успевшему еще сомкнуться проходу, повел обратно — словно преданный паж коронованную особу.
Все это заняло не больше пяти минут, но Божене, с какой‑то блаженной усталостью в душе пробирающейся сквозь уже успевшую забыть о ее внезапном преображении толпу, казалось, что она пробыла в своей роли немало времени, прежде чем вылезла из широкой юбки, отдав ее в тут же подвернувшиеся руки желающего переодеться — на этот раз мужчины.
И поэтому, когда она села за первый попавшийся на пути столик и, заказав ликер, сыр и фрукты, взглянула на Часовую башню, то не сразу поверила в то, что со времени ее появления на площади прошло чуть больше получаса. Она сверилась со своими часами и, убедившись, что не ошиблась, решила уже ничему не удивляться на этом стремительном празднике, способном переворачивать весь мир вверх ногами и наполнять каждую минуту жизнью — до отказа!
Золотые стрелки на башне, двигаясь мимо планет, созвездий и лет, несли на своих концах золотое солнце. А стоящий над ними крылатый лев мудро смотрел Божене в глаза и будто говорил, что времени и вовсе нет — особенно сейчас, когда в Венецию пришел карнавал.
Когда же она встала из‑за стола, чтобы двинуться дальше, и, пробираясь к проходу между тесными рядами столиков, встретилась на мгновение глазами с уже знакомым ей незнакомцем все в той же маске, но уже без колпака, она весело подмигнула ему и послала ответный воздушный поцелуй.
Глава 18
А вечером она стояла на морской набережной, вблизи от пьяцетты Святого Марка, и вглядывалась в млеюще‑зеленую даль лагуны. Устав глядеть, она перевела взгляд на бронзового крылатого льва, украшавшего вершину одной из двух красного мрамора колонн, возвышающихся на пьяццетте со стороны мола.
Все эти переполнявшие Венецию львы — держащие лапу на книге, просто стоящие, сидящие или лежащие везде, куда бы она ни бросила взгляд, — были столь мужественны, что казались ей личными покровителями, словно сам Святой Марк, надев маску льва, явился на карнавал и следует за ней повсюду, чтобы в случае опасности броситься на обидчика. Она чувствовала себя здесь женщиной так, как нигде и никогда раньше. И стояла теперь на молу, с осанкой и видом Венеры, — в голубом кашемировом платье и с распущенными волосами.
Ей хотелось быть сейчас очень красивой — и она была. И на душе у нее было празднично и светло: от тоски, томившей ее во Флоренции, не осталось и следа.
Наконец катер появился. Она сразу заметила среди прибывших Николу и Парижа. Смеющиеся и возбужденные первым совместным путешествием, они сошли на берег и попали в объятия Божены.
Не давая им опомниться, она тут же потащила их в гондолу и, сказав адрес, отправила в гостиницу одних — по тому пути, по которому еще вчера впервые передвигалась по Венеции сама.
А потом, подождав немного, отправилась следом, чтобы помочь им объясниться в гостинице и вместе поужинать.
«А сейчас пусть побудут одни. Не буду им мешать», — и она закрыла глаза и поплыла в плещущей тишине, пытаясь угадывать, изгиб за изгибом, уже знакомые ей места.
«Просто не может быть, — думала Никола, — как сестра изменилась за этот месяц! То, что она рассталась с мужем, явно пошло ей на пользу».
Никола уже вспоминала о Томаше спокойно и отстраненно, будто все, что бушевало в ней несколько месяцев назад, исчезло бесследно, навсегда растворившись в глубинах молодого ясного сердца и уже не мучая его никакими тоскливыми воспоминаниями.
— Еще бутылку «Мумм»,[2] порцию граппы и один коньяк с содовой.
Божена, объяснившись с официантом, вновь повернула к ним чуть желтоватое от приглушенного света лицо и улыбнулась.
Они сидели в одном из легендарных венецианских кафе — «Флориане», укрывшемся в сумраке галерей площади Сан‑Марко. Золотистый свет, блуждая среди мраморных колонн, отделяющих столики один от другого, освещал их пиршественный стол.
Порой Никола, сидевшая лицом к помутневшему от времени огромному зеркалу, видела мелькающие в нем маски: Венеция постепенно преображалась, меняя свое и так необычное лицо на еще более фантастическое, карнавальное. Божена не расспрашивала ее ни о чем. Николе даже показалось, что она избегает оставаться с ней наедине. Но все вокруг было до того захватывающим, что у нее не оставалось времени на то, чтобы понять, что задумала Божена, зачем пригласила их сюда. Неужели это был только щедрый рождественский подарок? Или их все‑таки ждет нечто даже большее, чем карнавал?
Но что может быть необычней праздничной Венеции и того постоянного легкого головокружения, которое она испытывала, находясь здесь рядом с Иржи, Никола не знала и не могла себе представить.
Выпитое вино сделало окружающий мир еще более ярким, взгляд Николы увлажнился, и она, в порыве откровенности после первых глотков виноградного чуда, блестевшего в хрустальных бокалах‑бутонах, пригласила Парижа, неотрывно глядевшего на нее из тени колонны, танцевать.
Это было удивительно — просто танцевать вдвоем, медленно двигаясь не по сцене, а на маленьком свободном пятачке мозаичного пола, и как нежно он прижимал ее к себе, смотрел ей в глаза, а не в темный зрительный зал, думал лишь о ней.
Никола поискала глазами Божену и нашла ее тоже среди танцующих: сестра танцевала с каким‑то высоким мужчиной, глядя прямо в его живое выразительное лицо. Они о чем‑то оживленно говорили — так, будто были давно знакомы. Но Никола, удивившись, тут же забыла об этом и вообще обо всем, снова уткнувшись в крепкое плечо Иржи…
Они танцевали, возвращались за столик и вновь танцевали. Иногда Божена садилась к столу одна, несколько раз подходила со своим таинственным кавалером — но тот был уже в легкой шелковой маске, обтягивающей лицо, и Никола никак не могла разглядеть его получше.
Потом они с Иржи оказались на ночной площади и долго целовались в темноте, то и дело озаряемой разноцветными вспышками запускаемых ракет, в мерцающем свете проносимых мимо факелов и бенгальских огней.
Однажды Николе показалось, что она видела Божену, которая прошла мимо них под руку с незнакомцем, держа в свободной руке китайский фонарик, но видение скрылось за колоннами галереи, а Никола, потеряв голову, забылась в объятиях своего спутника.
Но в гостиницу они возвращались втроем — сначала шли по узким полутемным улицам, освещаемым качающимися на ветру фонарями, потом плыли по каналам, вода в которых была светлее, чем черное небо, усыпанное звездами.
Божена сидела впереди и, чуть касаясь рукой воды, улыбалась чему‑то и тихо напевала.
Никола, озябнув, прислонилась спиной к дремлющему Парижу и, запрокинув голову, смотрела в бездонное небо, пока у нее опять не закружилась голова.
Но вот плечистый немолодой гондольер с красными от бессонной ночи глазами, переставив свой фонарь ближе к корме, стал неторопливо причаливать, и они осторожно, чтобы не раскачать гондолу, сошли на потемневшие от сырости мраморные ступеньки, ведущие к уже закрытым гостиничным воротам.
Освеженные ночным путешествием, они пожелали гондольеру счастливого плавания и, беззаботно болтая, поднялись наверх. Там Никола чуть отстала и, обернувшись, еще некоторое время следила глазами за тем, как разглаживается на воде узкий след, оставленный черной лодкой. И потом, завороженная ночной тишиной, попрощалась в холле с Боженой, сказала Иржи, что хочет немного побыть одна, и поднялась к себе.
Божена, которой спать совсем не хотелось, пристально посмотрела на рыжего молодого человека с живыми, чуть печальными глазами. Не надо было обладать особой проницательностью, чтобы понять, как ему не хотелось отпускать сейчас эту удивительно гибкую девушку, медленно, будто в полусне, поднимавшуюся по каменной лестнице, и оставаться в эту волшебную ночь одному. Но Божена отдала должное его покладистости — он ни словом не возразил желанию Николы и даже попытался шутить.
— Ну и характер у вашей сестры — от нее всего можно ждать. Видели, как она шепталась с гондольером? — Иржи прищурился, его голос стал таинственным. «А ты все такой же рыжий сорванец! — думала Божена, глядя на него с нежностью. — И все так же влюблен в нашу вольную птицу. Представляю, каково тебе было там, в Праге, все это время…» — Сейчас возьмет и сбежит обратно на площадь. А уж какой‑нибудь Казанова тут как тут! Сцапает глупую красавицу — и попробуй верни ее потом.
Увлекшись, он изобразил все это в лицах: как она, довольная собой, сбежит, потом увидит соблазнителя и как тот сцапает ее — смешно и плотоядно двигая коготками.
«И тут балаган!» — Божена искренне расхохоталась:
— А ты опереди его, укради ее спящей. — Шаловливые огоньки зажглись на мгновение у нее в глазах. — А то и вправду упорхнет. Карнавал — это опасное время, ни в чем нельзя быть уверенным…
Иржи смотрел на эту спокойно красивую, внешне уверенную в себе женщину и не знал, шутит она сейчас или же говорит серьезно. В этом они с сестрой были похожи. Никола иногда, неся какую‑нибудь веселую чепуху, смотрела на него чрезвычайно серьезными глазами. И ее взгляд, особенно глубокий в такие минуты, проникал в самую его душу. А иногда взгляд Николы становился каким‑то плоским, словно скользящим. И тогда она просто переставала его замечать и, находясь рядом, была где‑то совсем далеко.
Но усталость все‑таки брала свое, и он, благодарный Божене за этот короткий разговор, который будто поставил на место что‑то упавшее в его душе, улыбнулся и тоже пошел спать.
* * *
У дверей номера Божену ждал сюрприз — записка от приехавшей Фаустины, и, не заходя к себе, она постучалась в дверь подруги.
Босая Фаустина разгуливала по мягкому ковру в костюме Арлекино, в котором она была похожа на стройного юношу. И прежде чем Фаустина заговорила, Божена услышала серебристый звон бубенцов, поющих на ней.
Фаустина подбежала к Божене и обняла ее гибкой рукой — так, что та почувствовала себя Коломбиной.
— Я клялся в страстной любви — другой!
Ты мне сверкнула огненным взглядом,
Ты завела в переулок глухой,
Ты отравила смертельным ядом!
Выпалив это, Фаустина расхохоталась и сняла с лица красную маску.
— Ну как я тебе нравлюсь?
— Как мужчина или как друг?
— Брось паясничать. Это моя роль. Лучше примерь то, что я привезла.
И она извлекла из большой круглой картонки нечто — сначала Божене показалось, что это громадный веер из белых перьев и пуха. Но Фаустина плавно подняла руки, и веер превратился в длинную накидку. Изумленная Божена подставила плечи, и их тут же окутало белое пушистое облако. Потом Фаустина ловко застегнула невидимые пуговицы и накинула ей на голову капюшон.
Из темного венецианского зеркала в бронзовой раме на Божену смотрела огромная птица с женским лицом в лебяжьем оперении. Она чуть повернулась — и легкое облако заколыхалось и затрепетало на ней.
— Чудесно… — прошептала Божена, не отрывая от зеркала восхищенных глаз. И вдруг вздрогнула — рядом с высокой птицей стояла другая, пониже. Но оперение было ей явно великовато, и из‑под капюшона свешивалась гроздь крошечных колокольчиков.
— Твоя сестра уже приехала? — спросил белоснежный двойник.
— Ах, Фаустина! Не лучше ли тебе было одеться феей?!
— О, нет уж, увольте — только не это. Не люблю волшебниц без возраста.
— И когда ты только успела?
— Не буду лукавить — костюмы из старых запасов. Одна дама уже пользовалась этими перьями. И, надо сказать, успешно.
— О, оказывается, у тебя большой бракоразводный опыт!
— Да нет же! Те птицы вели себя иначе. Как‑нибудь расскажу. И потом, кто знает, чем для тебя обернется этот карнавальный полет. Ну, все, снимаем.
Птицы исчезли из зеркала, а их перышки вновь спрятались в коробки — до поры до времени.
— Фаустина, скажи мне наконец, что ты задумала? Завтра — открытие карнавала, и уже вечером Томаш будет здесь.
— Может быть, поговорим об этом утром? Одно могу тебе сказать: лучше уж выспаться сегодня. Когда нам снова доведется заснуть — никто не знает.
И она, отнюдь не сонно зазвенев бубенцами, притворно склонила голову на грудь.
А Божена, делая вид, что взлетает, выпорхнула из номера Фаустины в полутемный коридор и там, поскользнувшись, упала между двух дверей.
Она сидела на полу и, смеясь, поправляла рассыпавшиеся по плечам густые волосы. Настроение было такое, будто завтра — ее именины и она с удовольствием поджидает веселых гостей, которые готовы прожигать жизнь вместе с ней, отодвинув на дальний план рассудительные будни…
Но тут она услышала шаги — кто‑то поднимался по лестнице. Божена быстро встала, вошла в свой номер и, торопливо повернув в замке ключ, захлопнула за собой дверь.
Глава 19
Томаш чувствовал себя не в своей тарелке с тех пор, как получил приглашение на карнавал — этот рождественский подарочек, сюрприз в духе той, которую он так хорошо знал… Или обманывал себя, думая, что знает?
Все это было неспроста. Или он стал слишком мнителен в последнее время… Да и произошло ли вообще что‑нибудь между ними? Но ведь она уехала — а точнее сбежала — от него во Флоренцию. И ни разу не позвонила, не написала ему оттуда. Но и не сказала ведь, что уходит от него. Может быть, это приглашение — добрый знак и она хочет вернуться? И о чем они на прощание говорили с Николой — почему та так легко согласилась занять место сестры, тогда как раньше и слышать не хотела о том, чтобы приехать к нему в отсутствие Божены?
Никола… Когда она поселилась у них дома — Томаш так и не поверил еще, что их дома больше не существует, — он не знал, как избавиться от ее постоянного, ненужного ему присутствия. Он не мог уйти, когда ему вздумается, и так же непредсказуемо вернуться. И много еще других неудобств. Но когда Никола сама ушла от него, он не поверил и в это. Наоборот, он охотно верил, что она просто уехала к родственникам, хочет немного развеяться, отдохнуть от своей любви…
Он перестал себя обманывать лишь тогда, когда увидел Николу под руку с рыжим мальчишкой: эти двое поспешно удалялись от его дома, явно избегая встречи с ним.
Тогда он хотел поехать вслед за ними… Но почувствовал, что и сам не желает сейчас попадаться к ним на глаза, видеть их счастливые лица. Он не хотел оказаться в положении Божены.
Он развернул машину посреди улицы и поехал в обратную сторону. Все сразу встало на свои места: еще совсем недавно он придумывал, как обмануть Божену, а теперь его водила за нос Никола. Он остался ни с чем, точнее, ни с кем!
Так удрученно думал Томаш, стоя на открытой палубе катера, приближающегося к Венеции. Но в его душе все же таилась надежда на лучшее. Может быть, встретясь с Боженой в этом сказочном городе, он сумеет вновь завоевать ее — не сердце, так тело? Ведь она сама позвала его сюда! И все пойдет по‑прежнему: они вместе вернутся домой и забудут о том, что произошло.
«Я нужен ей, а она — мне», — увлекшись, Томаш сказал это вслух и поспешно стал закуривать, делая вид, что ругает ветер. Но потом вдруг сообразил, что вряд ли кто‑нибудь из его попутчиков понимает по‑чешски.
И тут в нем что‑то тоскливо сжалось: «Я здесь совсем чужой. А она, считай, итальянка. Заманила меня — и обманет, а я так ничего и не пойму».
Но это настроение как нахлынуло внезапно, так и исчезло. И Томаш, не задумываясь больше ни о чем, стал рассматривать быстро приближающийся берег.
На пристани Божены не было: порывшись в портмоне, Томаш нашел телеграмму с адресом отеля и, догадываясь, что здесь проще плыть, чем идти, направился к той части мола, где покачивались на воде привязанные к сваям гондолы — будто стайка любопытных рыб.
По набережной тут и там сновали люди в масках и костюмах. Томаш уже было подошел к стоящим на берегу гондольерам, которые тоже были в блестящих полумасках, как дорогу ему преградила неизвестно откуда вынырнувшая процессия ряженых: толпа поваров шла с неимоверно большими кастрюлями, стуча в них огромными половниками. На головах у поваров были забавные парики — Томашу показалось, что они сделаны из вареных спагетти; перед собой повара везли гигантский котел на колесах, закрытый крышкой.
«Интересно, что у них там?» — успел подумать Томаш, прежде чем в котле оказался его чемодан, который он, не пытаясь отыскать в этой кутерьме носильщика, снял с катера сам, а теперь поставил рядом с собой, ожидая конца шествия ряженых.
— Позвольте! Что вы делаете?! — заорал он по‑английски и стал протискиваться между поющими поварами, пытаясь пробраться к котлу, но его чемодан уже плыл к нему обратно, передаваемый по воздуху неугомонными весельчаками.
Получив чемодан, рассерженный Томаш торопливо выбрался из колонны и, больше не медля, кое‑как объяснился с лодочниками и уселся в одну из празднично украшенных гондол. Только здесь он почувствовал себя в некоторой безопасности и принялся наблюдать за переполнившим Венецию сумасбродством.
«Зачем я приехал сюда?! — уже знакомый ему холодок вернулся на миг, но вскоре опять исчез. — Ну что ж, повеселимся, раз она так этого хочет», — и Томаш стал разглядывать переполненную масками гондолу, плывшую впереди.
В гостинице у портье его ждала записка от Божены. Но Томаш не стал читать ее сразу. Поднявшись в оставленный за ним номер, он принял поднятый следом многострадальный чемодан, рассчитался с носильщиком, заказал ужин и лишь затем достал из кармана экстравагантного пылевика с квадратной пелериной — Томаш всегда тщательно продумывал свои костюмы, а к этой поездке готовился особенно тщательно — сложенный вчетверо листок. Развернув его, он сразу узнал почерк жены и почувствовал легкий аромат ее любимых духов… Даже бумага, на которой написана записка, была ему знакома: этот блокнот, с ее именем на каждой странице и с пражскими пейзажами, видимыми лишь на просвет, он подарил ей на день рождения прошлой осенью.
«Как много переменилось за это время», — подумал Томаш и, поняв, что до сих пор он лишь рассеянно вертел записку в руках, так и не прочитав ее, решил наконец узнать, что же написала ему Божена… Но тут в дверь постучали. «Уже принесли ужин? Как быстро!»
— Да, войдите!
Но никто не вошел.
Думая, что, наверное, он случайно защелкнул замок, Томаш поднялся из глубокого кресла и пошел к двери.
Но она оказалась незапертой, а на пороге стоял мальчик — да, видимо, это был мальчик, хотя Томаш не мог бы сказать этого наверняка, потому что пришедший был в ярком карнавальном костюме, в красной маске и колпаке, но когда «мальчик» заговорил, то голос его показался Томашу по‑мальчишески звонким:
— Добро пожаловать на карнавал! — с трудом разобрал Томаш быструю итальянскую речь.
Расхохотавшись, мальчишка поставил перед ногами Томаша какую‑то коробку, а сам быстро побежал по длинному коридору к лестнице.
Ничего не понимая, Томаш нагнулся и приподнял темную крышку. Первое, что он увидел, была еще одна записка — на таком же листке, но другим почерком (тоже знакомым, но Томаш так и не смог вспомнить, где он его видел) было написано: «Мой милый, надень это и приходи. Жду тебя».
Томаш поднялся и повертел записку в руках, ища какую‑нибудь подпись. Но ее не было. Тогда он внес коробку в номер и извлек из нее странного вида костюм. Он разложил его на круглом деревянном столе и принялся рассматривать.
Перед ним лежало что‑то вроде старинного камзола, расшитого позолоченными позументами и серебряными нитями с крупным искусственным жемчугом. Длинные боковые фалды были украшены бантами из черного бархата и придавали камзолу необычайно изящный вид. Но в то же время костюму чего‑то не хватало. Тогда Томаш перевернул камзол обратной стороной, желая рассмотреть его со спины, и недоуменно уставился на него.
То, что он увидел сзади, было точным повторением лицевой части костюма. У камзола просто не было спины! Тот же жемчуг, позументы, ровный ряд маленьких сверкающих пуговиц, передние карманы…
Ничего не понимая, Томаш заглянул в коробку: в ней, прикрытая черными атласными панталонами, лежала какая‑то маска. Достав ее, он увидел, что она такая же «зеркальная», как и камзол — только если последний не оставлял никакого места спине Томаша, то маска вовсе не предполагала наличие у него затылка. С двух сторон у нее было только лицо — два совершенно одинаковых лица, без тени какого‑либо выражения…
Томаш долго вертел в руках маску, поглядывая на камзол, — и наконец рассмеялся.
«Ну, дорогая… На этот раз ты превзошла саму себя! А я уже начал отвыкать от твоего остроумия. Но, видимо, и ты уже успела соскучиться — какое внимание к моей персоне! Тем лучше. Да и о костюме думать не придется. А ходить здесь белой вороной тоже не хочется». Весь этот внутренний монолог Томаш произнес так, будто Божена могла его слышать. И, довольный собой, он стал примерять пышную карнавальную обновку.
Но тут в дверь опять постучали, и когда Томаш машинально ответил «да!», она открылась: сначала в проеме показался небольшой сервировочный столик, заставленный блюдами, а затем вошел и сам портье.
Томаш уже успел напялить камзол и держал в руке маску. Ее он положил на кресло, а о своем странном костюме забыл. И пока портье переставлял его ужин на стол, стал рыться в больших накладных карманах в поисках мелочи. Но вспомнив, что уже успел переодеться, повернулся к итальянцу спиной и пошел к брошенному им на широкий подоконник плащу.
Увидев странное одеяние этого хмурого на вид сеньора, видавший виды портье все же не удержался и громко прыснул. Томаш, мгновенно поняв, в чем дело, резко развернулся и, не то смущенно, не то возмущенно глядя на служащего, принялся стягивать с себя шутовской наряд.
Заметив неловкость, портье поспешно закончил сервировку и, пролепетав что‑то, явно извиняясь, по‑итальянски, ретировался.
— Что же это такое! Не успел я приехать сюда, как уже стал шутом. Был сделан шутом! — Томаш сбросил наконец чуть тесноватый камзол прямо на пол и стал искать на столе еще так и не прочитанную первую записку.
Перепуганный портье поставил на листок вазу с персиками — Томаш, нетерпеливо дернув, опрокинул ее, и нежные плоды медленно покатились по скатерти, а некоторые упали на пол.
Чертыхнувшись, он не стал подбирать их, а уселся прямо на подоконник с запиской в руке.
От недавнего благодушия не осталось и следа — теперь только злость переполняла Томаша.
В записке Божена вежливо извинялась за то, что не смогла встретить его, при этом не объясняя почему, и просила его, устроившись, особенно не медлить и ехать на площадь Сан‑Марко, чтобы не пропустить открытия карнавала. Особенно его завела последняя фраза: «Но не суетись. А я найду способ разыскать тебя там».
«Какая самонадеянность! Лучше бы нашла способ встретить меня — если не на пристани, то хотя бы в отеле, раз уж пригласила. Дался мне этот карнавал! Вот возьму и вовсе не пойду на открытие. Я устал!»
Но на самом деле Томаш отлично знал, что пойдет на площадь. И будет дожидаться так странно назначенной ему встречи. А потом как угодно, но убедит ее в том, что он нужен ей. И она должна вернуться домой вместе с ним. А если нужно, он даже готов просить у нее прощения. Но, вообще говоря, то, что произошло между ними, не стоит таких долгих объяснений: ведь они оба взрослые, современно мыслящие люди. К чему им терять друг друга из‑за такой случайности, как… Как что, Томаш не мог сформулировать, потому что все‑таки не был уверен в том, что Божене что‑то известно о его связи с Николой. Все это время он имел в виду и тот вариант, что поспешный отъезд Божены — всего лишь очередной каприз, новое для него проявление ее свободолюбивой натуры, которой нравится все доводить до предела.
«К тому же в последнее время я, кажется, перестал устраивать ее как мастер. Она постоянно критиковала все мои изделия и грозилась поискать себе другого напарника. Как было бы хорошо, если бы она уехала одна лишь из‑за этого. А потом, видимо, поняла, что погорячилась, и теперь ищет возможности помириться. Правда, и это — с присущей ей экстравагантностью!»
Эти мысли немного успокоили Томаша, и он закурил: «Во всяком случае, не буду нагораживать больше, чем уже есть».
И, посмотрев на часы, он принялся за остывающий ужин, заливая вином свою недавнюю раздраженность.
Но беспокойство все же не покидало его, и, наскоро перекусив, он накинул свой плащ и вышел.
У гостиницы одиноко качалась на воде празднично убранная гондола. Она была пуста. Томаш осторожно спустился вниз по чуть влажным ступеням и огляделся. Гондольера видно не было.
Но когда он повернулся, чтобы идти обратно, то увидел стоящего перед ним на ступеньках мальчика — того самого, что так странно принес ему в номер не менее странный костюм.
Томаш вопросительно посмотрел на него, и незнакомец, звякнув бубенцами, гроздью болтавшимися на его колпаке, молча передал ему еще одну записку.
«Без костюма на карнавале нельзя. Переоденься. Арлекино дождется тебя и довезет до площади. Карнавал начинается через час, когда стемнеет, — поторопись!» — быстро прочитал Томаш. На этот раз послание было написано совсем незнакомой ему рукой, но вновь на листе из того же блокнота.
Томаш постоял некоторое время перед безмолвным гонцом в маске, а потом напряг свою память и, вспомнив уроки итальянского, которые когда‑то с удовольствием давала ему Божена, бросил невозмутимому, вечно улыбающемуся Арлекино в лицо:
— Все это бред какой‑то! De‑li‑ri‑o! No! Нет. Я никуда не поеду.
Незнакомец, не преставая улыбаться, послушно отошел в сторону, позволив Томашу взбежать по лестнице и скрыться за железными воротами отеля. А потом поднял голову и посмотрел на гостиничные окна. В одном из них из‑за шторы показалась птичья маска, затем белое оперение костюма — и птица произнесла грудным бархатным голосом:
— Grazie,[3] Фаустина.
— Prego,[4] — ответил Арлекино. — На сегодня довольно.
Глава 20
Такого Божена еще никогда не видела. Лучшие пиротехники съехались в Венецию продемонстрировать свое действительно блистательное искусство: ей казалось, что с каждой новой вспышкой салюта небо разлетается на миллионы огненных брызг, а темнота, наступающая после, длится не дольше, чем мгновение ока.
И если все то, что она видела до этой ночи, было лишь подготовкой, то сейчас веселое карнавальное время наступило вполне.
Вместе с ним пришло время разыграть тот веселый фарс, главный герой которого прибыл наконец в Венецию, успевшую к его приезду превратиться в огромный театр.
Весь этот вечер ей было забавно, словно из‑за кулис, наблюдать, как солидный, серьезный Томаш, сам того не ведая, постепенно включается в игру. И теперь она, подзуживаемая всеобщим разбитным весельем, была готова выйти на сцену сама и сыграть свою скромную роль в придуманной Фаустиной мистификации.
Карнавальная атмосфера, царящая повсюду, уже успела сделать свое дело: Божена чувствовала себя частью того громадного и богатого мира, имя которому карнавал. Праздничная стихия поглотила на время ее тоску и сомнения, научив ее душу парить, — как та сказочная белоснежная птица, в обличьи которой Божена впервые этой ночью выпорхнула на волю.
Поначалу костюм и тяжеловатая маска немного сковывали ее, но потом, увидев, что теперь в Венеции человека с открытым лицом встретить труднее, чем ряженого, она перестала стесняться и полной грудью вдохнула воздух большого веселья, царящего вокруг.
И, не боясь повстречать в этой кутерьме Томаша, если он все же решится прийти на площадь Сан‑Марко, Божена решила посвятить эту ночь только себе.
Отведав традиционного карнавального блюда — телячьих внутренностей и запив их изрядной порцией граппы, они с Фаустиной влились в праздничное шествие, двигающееся по площади в сторону мола. Потом им захотелось прокатиться на гондолах с факелами в руках. В конце концов они уже не думали, чем им заняться, а просто пели и танцевали вместе со всеми, время от времени подхватывая хвалебный гимн царице Венеции, эхом гуляющий над толпой.
Фаустина, которой ее костюм и вовсе не мешал двигаться, взобралась на плечи какому‑то Пьеро и вещала оттуда гулким утробным голосом слова с детства знакомого ей гимна:
Прекрасна сутью, обликом прекрасна,
Ты как рассвет нежна!
Сияешь ты любовью лучезарной,
Венеция — царица наша!
— Венеция — царица наша! — нестройным хором вторила ей толпа.
Но Фаустина не унималась:
Парящий сирокко, леденящий ветер
Слетает с губ твоих.
Мы все счастливые рабы твои…
Но на этот раз ей уже не удалось закончить — ее голос утонул в сонме других:
— Венеция — царица наша! — еще долго звучало после того, как она спрыгнула с плеч печальника Пьеро и они с Боженой, желая чем‑нибудь освежиться, двинулись в сторону «Флориана».
Пересекая пьяццетту, они услышали странный свист над головой. Размахивая руками, как крыльями, над ними сверху вниз пролетал человек в огненно‑алом развевающемся одеянии. Вскоре он, скрывшись за Сансовиновой библиотекой, исчез из виду, а они, переглянувшись, побежали обратно в сторону мола и успели увидеть, как летун с размаху, подняв веер брызг, упал в воду канала Гранде.
— На это стоило посмотреть. Теперь карнавал уж точно начался!
— А что это было? — спросила пораженная зрелищем Божена.
— Этот полет посвящается обычно самой Царице Венеции. Но смельчака, желающего его осуществить, не так‑то просто найти. Бывали времена, когда никто не осмеливался открыть карнавал, как положено.
— Но как он это сделал?
— А ты не заметила? Он скользил по тросу, который тянется от верхнего этажа колокольни до самой воды. К нижнему концу привязан груз, который лежит на дне канала, и…
— Откуда ты все это знаешь?
— А ты посмотри сама.
Божена запрокинула голову и действительно увидела блестевший в свете бесчисленных фейерверков и вспышек салюта трос, довольно круто спускающийся в воду канала.
«Да он действительно храбрец. А я бы тоже хотела так полетать — отчаянно, не задумываясь», — неожиданно подумала она и потянула Фаустину за собой.
Подруги протиснулись еще ближе к воде и увидели плывущего к берегу храбреца. Нащупав под водой ступеньки, он встал на ноги и начал подниматься на набережную. Но не дожидаясь, когда он выйдет из воды, к нему навстречу побежали восторженно кричащие свидетели этого полета и, подхватив на руки, понесли его наверх. Там главного героя новорожденного карнавала принялись раскачивать и подбрасывать в воздух. Он, еще не опомнившись после своего головокружительного спуска, смеялся, пытаясь высвободиться из плена поддерживающих его рук, но все новые желающие коснуться его подбирались поближе, и человек в облепившем его сильное тело мокром костюме подлетал в воздух снова и снова.
Затем на него накинули какое‑то покрывало и все так же на руках понесли в сторону площади.
Процессия поравнялась со стоящими чуть поодаль подругами — и тут Божена вдруг узнала в герое того самого итальянца, с которым танцевала на подмостках, а потом — до поздней ночи во «Флориане» во второй день своего пребывания здесь. Она уже успела рассказать про него Фаустине и теперь, сжав ее руку, взволнованно прошептала:
— Смотри, это же он!
— Кто — он?
— Мой Влюбленный.
— Тот, что пел тебе серенаду?
— Да! А потом целовал на виду у всей Венеции. Ах, ты бы знала, как он танцует!
— О, этот герой может нам пригодиться. Хорошо, чтобы и наш двуликий Томаш взглянул на него хоть одним из своих четырех глаз. Правда, чудесную маску я привезла для него?
— Ох, Фаустина, ну конечно!
— Давай‑ка догоним их.
— Но он не узнает меня в этом костюме.
— Тем лучше.
И ловкий Арлекино, взяв за руку свою пернатую спутницу, припустил следом за быстро удаляющимся веселым шествием. Пристроившись в его хвосте, они, пританцовывая и радостно покрикивая в лад остальным, двинулись в сторону огромного костра, разведенного на моле.
Чуть поодаль от костра стояли три высоченных трона, и на двух из них уже кто‑то сидел. Подойдя поближе, Божена разглядела своих давних знакомых — они тоже проплывали мимо ее окна в то первое венецианское утро, когда она, разбуженная шумом, раздвинула занавески и увидела разноцветные гондолы, плавно скользящие в сторону главной площади. Теперь же Нептун и Царица Венеция, возвышаясь над пестрой толпой, горстями бросали в нее конфетти и распускали в воздухе путаницу серпантина.
Тем временем незнакомец в еще мокром, потемневшем от воды красном костюме был уже спущен вниз и, отделившись от тех, кто принес его сюда, пошел к восседающим на троне коронованным особам. Нептун взмахнул рукой, и откуда ни возьмись появились два карлика в смешных колпаках, парчовых шароварах и длинных халатах, подолы которых волочились за ними подобно шлейфам. Они катили перед собой огромный сундук, ужасно тяжелый на вид, но, видимо, бутафорский. Поравнявшись с героем, они легко откинули громоздкую крышку и, чуть не нырнув в сундук с головой, извлекли из него пышный наряд и сверкающую корону какой‑то неправильной формы. Ее разной длины зубцы беспорядочно торчали в разные стороны, некоторые из них были вообще скручены в бараний рог.
— Что это? — Божена уже давилась от смеха.
— Подожди, то ли еще будет. Ты еще не поняла, что знакома с самим Королем Карнавала? А сейчас мы, его свита, присутствуем на коронации.
И действительно, летун скинул свою мокрую одежду, оставшись на мгновение совершенно обнаженным, а карлики быстро набросили на него что‑то пестрое и блестящее и стали ловко сновать вокруг, добавляя в его наряд все новые детали. Наконец они завершили свой таинственный обряд и, разбежавшись в разные стороны, так же внезапно скрылись.
Пламя костра освещало теперь статного мужчину с ниспадающими на плечи черными кудрями, в роскошном костюме, искусно сшитом из мельчайших лоскутов дорогих тканей. Его одеяние, будто покрытое перламутром, переливалось всеми возможными цветами, а живое лицо с крупными красивыми и мужественными чертами светилось веселой гордостью.
И тогда сама Венеция поманила его своей царственной рукой, и, ловко запрыгнув на высокие ходули, он, с удивительным в таком положении достоинством, приблизился к ее трону и склонил голову. Вновь появившись, один из карликов на длинном шесте протянул Царице корону, лежавшую до сих пор на крышке сундука, и Царица Венеция водрузила ее на голову новому королю.
Все это было и смешно, и прекрасно — Божена, никогда раньше не присутствовавшая на подобных феериях и знавшая о них лишь по рассказам старого Америго, не могла оторвать глаз от красавца в короне, уже занявшего третий, пустовавший до сих пор, трон, от самозабвенно веселящейся толпы, от ярко пылающего костра. Ее завораживала и опьяняла эта неповторимая атмосфера, как если бы смех, любовь и вино стали чем‑то одним и ударили ей в голову, заставляя терять рассудок. И это было так сладостно, что она, склонившись к уху хохочущей Фаустины, сказала:
— Милая, я так счастлива. Спасибо тебе за этот подарок. Ведь если бы не ты, мне бы и в голову не пришло отправиться в этом году на карнавал.
— Здесь подарки делаешь ты, моя птичка, — тут же парировал Арлекино, и они, увлекаемые кем‑то в большой хоровод, закружившийся вокруг костра, взялись за руки и побежали вместе со всеми вокруг огромного огненного цветка, расцветшего в эту ночь у самой воды.
Скоро Божене стало жарко, и она, не задумываясь, скинула со своей головы маску, оставив ее увесистым капюшоном болтаться за плечами, расправила волосы и, вернувшись в хоровод, оказалась уже далеко от своей подруги. Пробежав несколько кругов, она совсем потеряла Фаустину из виду и отошла в сторону, чтобы немного отдышаться.
Постояв немного и подождав, пока ее глаза привыкнут к темноте и в них перестанут прыгать огненные лягушки, Божена огляделась. Фаустины нигде не было, зато она увидела, что всеобщий любимец — Король Карнавала — смотрит на нее со своего трона. Она, отвечая на его пристальный взгляд, послала ему воздушный поцелуй и, вновь надев маску, хотела уже скрыться в толпе, но Король, встав на ходули, двинулся в ее сторону.
Его пестрая мантия свисала почти до самой земли, и Божене, целиком погруженной в эту сказочную ночь, показалось, что к ней движется настоящий красавец‑великан. Она с достоинством подняла свой длинный клюв, следя за его приближением. А когда он спрыгнул с ходуль рядом с ней, чуть не потеряв при этом свою карнавальную корону, сделала глубокий реверанс, грациозно расправив в поклоне свои нежные перья.
— Salve![5] — он припал губами к ее руке в полупрозрачной перчатке. — Я вас узнал.
— И я вас узнала, ваше величество.
— Ну что ж, потанцуем?
— Нам помешает ваша великолепная мантия — вы запутаетесь!
— Ну тогда долой мантию! — И он действительно отбросил ее и, оставшись в своем лоскутном платье, вновь повернулся к ней. — Теперь нам мешает только ваш удивительный клюв.
И он осторожно сдвинул Боженину маску назад, рассыпав по белоснежным плечам длинные золотистые волосы.
— Вот теперь — потанцуем!
Он подхватил ее на руки и, войдя внутрь хоровода, стал кружить, не опуская на землю: белое облако трепетало в его руках, словно он и действительно поймал какую‑то невиданную птицу и она бьется в его крепких объятиях, желая улететь.
Глядя на них, все на мгновение замерли, а затем Божена, у которой уже кружилась голова от этого сумасшедшего танца, услышала голоса:
— Наш Король нашел себе Королеву!
— Он уже выбрал ее!
— Да здравствует ее величество Карнавальная Королева!
Божена, еще не понимая, что на самом деле произошло, почувствовала, что ее поддерживают уже не две, а множество рук и она плавно плывет по воздуху рядом со своим коронованным кавалером, которого тоже опять подняли вверх. А потом она увидела, что их обоих несут к появившейся откуда‑то из темноты небольшой карете на высоких колесах. Когда она нащупала ногой ступеньку и, ухватившись за гладкое медное перильце, потянула другой рукой за ручку в форме цветка, прилаженную к двери кареты, то увидела в толстом граненом стекле окна кареты свое отражение и ахнула: на ее голове красовалась точно такая же корона, как и у ее спутника, который садился в карету с другой стороны.
— Она так красива!
— Король выбрал!
— Дорогу, дорогу! — слышала Божена отовсюду. И вдруг почувствовала, что карета, толкаемая не одним десятком рук, резко дернулась и поехала.
Божена, не успевшая еще сесть, покачнулась и оказалась на коленях у подхватившего ее Короля: их разгоряченные вином и весельем губы слились в долгом поцелуе.
— Смотрите, они целуются! Да здравствует любовь! — услышала Божена, но не смогла поднять лица, утопая в нежных объятиях незнакомца… Едва успев подумать, что все происходящее с ней сейчас — настоящее безумие, она почувствовала, что их губы вновь соединились.
Он не переставал целовать ее, пока карета, постепенно ускоряя ход, двигалась по набережной, и тогда, когда они свернули на пьяццетту и поехали в сторону Сан‑Марко. А когда они въехали наконец на площадь, его сильные руки чуть приподняли ее и он прокричал: «Смотри!»
Божена подняла глаза и изумленно вскрикнула. Тысячи масок двигались вслед за ними, держа в руках факелы и разноцветные фонари. Всевозможные куклы на длинных палочках плясали над толпой. Били бесчисленные барабаны, оглушительно завывали на разные голоса рожки и дудки, звенели бубенцы и колокольчики на костюмах. И все это сверкающее шумное множество людей двигалось вместе с ними к центру площади!
Все остальное вспоминалось ей потом как сон. Появившаяся вдруг откуда‑то Фаустина сняла с нее птичье одеяние, и уже знакомые ей карлики нарядили ее во что‑то похожее на платье и мантию Короля, но только еще причудливей.
Но рассмотреть как следует свой наряд Божена смогла лишь на следующий день, а теперь ее, переодетую, тут же снова подвели к Королю. Улыбаясь, он взял ее за руку и повел по расстеленному на площади длинному многоцветному ковру. Их головы осыпали цветами, на их пути разбрасывали монеты, зерно, пуговицы, конфетти. Все это начинало напоминать Божене какой‑то знакомый обряд, но лишь когда они подошли к огромному, пестрому, как и все остальное, бутафорскому алтарю, у которого их ждал хохочущий священник в довольно нелепом костюме, лишь отдаленно напоминавшем церковное облачение, и с веселым бубенчиком на слишком высоком клобуке, она поняла, что из загадочной птицы превратилась в шутовскую невесту и теперь, чтобы стать настоящей Карнавальной Королевой, должна обвенчаться с Королем. Не имея ничего против, она громко ответила «да» в ответ на вопрос, заданный ей священником, и получила на палец смешное леденцовое кольцо, которое тут же с удовольствием съела, сделав затем то же самое с кольцом Короля.
А потом они вместе стояли на деревянных подмостках в ярком свете софитов и наблюдали, как веселится и безумствует толпа. Рядом, болтая ногами и звеня бубенчиками на колпаке, примостилась Фаустина. Она была неотразима в роли королевского шута, и Божена хохотала, слушая остроумные замечания, которые та отпускала направо и налево.
Королевская чета тоже дурачилась как хотела. Божена распотрошила мешок с подарками, торжественно врученный им после венчания. Сначала они затеяли шутовское сражение, осыпая друг друга конфетти из найденных в мешке огромных хлопушек. Взрываясь, разноцветные хлопушки страшно дымили, и Божена с запутавшимися в ее густых волосах горстями конфетти, закашлявшись, выбралась из окутавшего их облака дыма и увидела, что на площади развернулась настоящая битва, сопровождаемая хлопками, треском и дымом. Россыпи конфетти взлетали в воздух, осыпая головы и плечи ряженых и уже засыпав всю площадь пестрым разноцветным слоем.
Оглядевшись, она заметила, что с другой стороны помоста на него карабкается огромное Ухо. Выкрикивая грозные ругательства, за ним гонится толстый Нос на тоненьких ножках. Потом Нос стянул Ухо с помоста и они пустили в ход ножи из посеребренной бумаги. Вдруг Нос схватился двумя руками за свои ноздри и страшно завопил. Он долго стонал и корчился в кольце плотно обступивших драчунов зевак, пока кто‑то не подставил ему стул. Ухо, все это время заботливо суетившееся рядом со своим недавним заклятым врагом, присело у его ног, запустило руку в одну из зияющих ноздрей и после долгой возни вдруг извлекло оттуда еще один, точно такой же нос, но размером с человеческую голову. Ухо торжественно понесло кукольный нос по кругу, и Божена услышала, как в хохочущей толпе закричали: «Riuscito parto!»[6] — и поняла, что присутствовала при удачно разрешившихся родах.
На этом представление завершилось, но публика, еще больше развеселившись, долго не выпускала Нос с Ухом из круга, и те весело плясали под свист и улюлюканье толпы.
А потом Ухо, смешно барахтаясь в сцепленных руках, вырвалось из круга, подбежало к стоявшей на помосте Божене‑Королеве и бросило ей под ноги что‑то розовое. И у нее в руках оказался новорожденный — очаровательный пухленький Носик с глазами‑пуговицами и болтающимися веревочными ножками.
А потом на сцену вскарабкался странный господин в черной мантии, какие в старину носили ученые. Под мантией у него была черная куртка, черные короткие панталоны на поясе с медной пряжкой и черные туфли с такими же бантами. Костюм оживлялся большим белым воротником, белыми манжетами и белым платком, заткнутым за пояс. Под черной маской, прикрывавшей только лоб и нос, пылали ярко нарумяненные щеки.
Сняв с головы черную шляпу с огромными, приподнятыми с двух сторон полями, он согнулся в преувеличенно низком поклоне. Божена хотела уже было поклониться в ответ, но незнакомец, молча отстранив ее, повернулся к сидящей прямо на голых досках Фаустине‑Арлекино. Бросив взгляд вниз, Божена заметила, что те, кто глазел минуту назад на пляски Носа с Ухом, переместились поближе к сцене и поутихли в ожидании следующего представления.
Звякнув бубенцами, Арлекино встал и изобразил учтивое внимание. И тут началось. Доктор — а по крикам из толпы Божена поняла уже, что за маска почтила их своим вниманием, — открыл рот и, не останавливаясь и не снижая тона, выдал примерно следующее: «Флоренция — столица Тосканы; в Тоскане родилось красноречие; королем красноречия был Цицерон; Цицерон был сенатором в Риме; в Риме было двенадцать цезарей; двенадцать бывает месяцев в году; год делится на четыре сезона; четыре также стихии: воздух, вода, огонь, земля…»
Сначала Арлекино слушал Доктора внимательно, потом стал переступать с ноги на ногу, изображая нетерпение, и выразительно трясти головой, пытаясь отогнать от себя этот назойливый град ученой белиберды. Когда речь зашла о стихиях, Арлекино, крича, что у него началась мигрень, побежал по сцене, пытаясь убежать. Доктор, прервав с сожалением свою речь, бросился вдогонку и вскоре поймал свою жертву. Держа Арлекино за большую пуговицу, болтающуюся на животе, он привел его назад и, уже не отпуская, продолжил: «…землю пашут быками; быки имеют шкуру; шкура дубленая становится кожей; из кожи делают башмаки; башмаки надеваются на ноги; ноги служат для ходьбы; в ходьбе я споткнулся; споткнувшись, пришел сюда, чтобы вас приветствовать».
Сказав все это, довольный Доктор удалился, а Арлекино, на радость хохочущей публике, в изнеможении упал на сцену и начал исступленно биться о доски головой.
Божена, не ожидавшая ничего подобного, хохотала до упаду. Но вскоре оказалось, что снова пришел ее черед действовать.
Оглядевшись, она не увидела на сцене Короля. Решив, что ее роль на этот раз окочена, она собралась уже было спрыгнуть со сцены и скрыться в толпе. Но тут послышалось дикое хрюканье, и к помосту подкатила расписная тележка, запряженная парой коричневатых свиней. Всем этим повизгивающим и бренчащим безобразием правил Король в сбившейся набок короне и обмотанной вокруг пояса мантии. Он поманил ее жестом, и Божена спрыгнула на руки ближайших зрителей и тут же оказалась в тележке.
И они помчались. В глазах Божены мелькали свиные хвосты, перепуганные и смеющиеся лица, факелы, маски. Она уже не понимала, где они и куда несутся эти оголтелые животные, но вот лихой возница натянул вожжи — и их увитая лентами тележка резко остановилась. Площадь осталась позади, они стояли на морской набережной.
Удерживая одной рукой поводья, тянущиеся к слегка присмиревшим свиньям, Король помог ей сойти и, сказав ей лишь «Ciao»,[7] с хохотом помчался дальше, а Божена, не помня себя от усталости и множества ночных впечатлений, дошла до пристани и, спустившись в одну из гондол, отправилась в гостиницу и там, едва успев скинуть свой королевский наряд, заснула крепко и безмятежно.
Глава 21
Томаш, который так никуда в эту ночь и не пошел, спустился поутру в пустынный холл. «Все безумцы еще спят», — раздраженно подумал он и присел в большое кожаное кресло с утренней газетой в руках. Из стопки других он выбрал именно эту, заметив множество фотографий, пестревших на ее страницах. Почти не понимая по‑итальянски, он лениво перелистывал газету от конца к началу, рассматривая карнавальные виды — парад масок, довольные смеющиеся лица… Солнце, пробиваясь сквозь полуоткрытые створки жалюзи, постепенно меняло свой цвет с сочно‑розового на бледно‑желтый, и под его лучами на мизинце у Томаша ярко поблескивал небольшой перстенек, подаренный ему Боженой на свадьбу. Он давно уже не носил его, но, собираясь в Венецию, решил почему‑то надеть.
Дойдя до первой страницы, которую целиком занимала одна большая фотография, Томаш положил газету на колени и, достав позолоченный портсигар, закурил. Задумавшись, он смотрел, как играет солнце в россыпи изумрудов, расположившихся вокруг удивительной красоты рубина — смелая фантазия Божены не побоялась соединить их вместе, и получилось действительно великолепно. Томаш забыл про сигарету, и пепел упал на газету. Стряхивая его в пепельницу, он увидел в газете что‑то, привлекшее его внимание, и пристальней взглянул на фотографию.
Сан‑Марко в карнавальном убранстве, какие‑то подмостки, примелькавшиеся маски, и вдруг — лицо Божены, смеющееся, счастливое. Она — в центре внимания толпы, а сама смотрит на какого‑то мужчину в дурацкой короне и лоскутном платье. Смотрит влюбленно, держит его за руку, а он склоняется к ее лицу, чтобы поцеловать.
Томаш, как ошпаренный, мигом вышел из состояния ленивой полудремы, в котором пребывал, и вцепился двумя руками в свежую, резко пахнущую краской газету.
Вчера, рассердившись на шута в красном колпаке, морочившего ему голову весь вечер, он вернулся в свой номер, заказал себе negroni — двойную порцию сладкого вермута с сельтерской, а потом решительно натянул на себя полосатую пижаму и со спокойной душой заснул. Перед сном он думал лишь о том, что Божена, которая так и не дождется его на площади в этот вечер, будет наказана по заслугам за свои слишком назойливые выходки. Пусть теперь она волнуется и ищет его, а он, Томаш, выспится наконец после утомительной дороги, а завтра они встретятся спокойно и поговорят уже без всей этой карнавальной мишуры.
И он просчитался! Божена опять оставила его с носом. Томаш напряг память и прочел под снимком подпись по‑итальянски: «Король Карнавала венчается с Карнавальной Королевой». Пока он спал, Божена не отказала себе в удовольствии обвенчаться с другим! И кто разберется, что на этом дурацком карнавале происходит всерьез, а что делается шутя!
Обескураженный Томаш встал и нервно заходил по старинному залу, служившему теперь гостиничным холлом: высокий сводчатый потолок чутко ловил и отражал каждый шаг по розоватому мраморному полу. И когда к нервному ритму его шагов добавился другой — спокойный, Томаш резко обернулся и увидел на полутемной лестнице, круто уходящей вверх, Божену.
Она как ни в чем не бывало смотрела на него, улыбаясь одними губами, и не двигалась. На ней была простая суконная юбка и подчеркивающий ее фигуру тонкий коричневый свитер. Томаш сделал несколько шагов в сторону лестницы и, перешагнув разом пару ступенек, пошел было Божене навстречу. Но она тоже пошла вниз по этой узкой, неудобной лестнице, и Томаш, от неожиданности чуть не упав, испуганно попятился.
Спокойно спустившись, Божена приветливо подала ему руку, а затем, садясь в то кресло, из которого он недавно поднялся, вопросительно взглянула на него, по‑прежнему не говоря ни слова.
— Я приехал еще вчера, — сказал он как можно спокойнее.
— А я уже решила, что ты не приедешь вовсе.
— Но ты ведь могла узнать вчера у портье?
— Я вернулась почти утром, очень устала… Но, как ты видишь, вместо того, чтобы сладко спать, проснулась именно затем, чтобы узнать что‑нибудь о тебе.
Она была прекрасна и в высшей степени соблазнительна в этой неброской одежде. Томаш никогда не мог сказать, что ей больше к лицу — новомодные изыски, которые она, не стесняясь, носила с достоинством и удовольствием, или совсем простые, будто случайно подобранные вещи. Он смотрел на ее точеное открытое лицо и думал о том, как много бы сейчас отдал, чтобы оказаться дома вдвоем с ней, своей Боженой, прирученной и такой податливой, когда он, целуя ее во всегда чуть прохладные губы, увлекал за собой в постель — утром, вечером, иногда днем — никогда не получая отказа. Он забыл, что это было уже так давно, что после остывающей близости с женой у него была Никола, а Божена казалась ему тогда лишь досадной помехой, мешающей встречам с его новой возлюбленной. Но даже тогда где‑то в глубине души Томаш знал, что Никола рано или поздно исчезнет из его сердца, и он вновь вспомнит о Божене, которая — он почему‑то был уверен в этом — никуда от него не денется.
Однако сейчас они были не дома, и Томаш даже не знал, в каком номере остановилась Божена, и вообще — как она провела эту ночь, да и весь предыдущий месяц. И он не знал, как вести себя дальше, ожидая от нее подсказки. Он чувствовал, что Божена внутренне абсолютно спокойна, словно между ними нет и не было никакого недоразумения. Или как если бы она уже давно все про себя решила. Но что она решила, что она чувствует сейчас по отношению к нему — этого Томаш понять не мог.
Пока он растерянно смотрел на свою непредсказуемую жену, Божена, невозмутимо улыбаясь, предложила перейти в бар, расположенный сразу за холлом.
— Может быть, лучше поднимемся в номер? — Томаш предложил это, ни на что не надеясь, лишь бы поддержать как‑нибудь этот необычайно холодный утренний разговор.
Но Божена как‑то невзначай отказалась, и они пошли в бар: Божена впереди, а Томаш, неловко переступая и не зная, с какой стороны зайти, — чуть поодаль. Наконец он обогнал ее и с нелепым поклоном резко распахнул дверь, чуть не задев ею плечо Божены.
Они вместе подошли к стойке, и Божена, вопросительно глядя на Томаша, предложила взять свежей спаржи и сухого мартини — ну, например, «Монтгомери». Томашу было все равно, и они, не сговариваясь, пошли в сторону дальнего столика, притаившегося в самом углу. Проходя по пустынному с утра барному залу, Томаш взглянул на окна и стеклянную дверь, ведущую на канал. Он увидел высокий полосатый столб, к которому причаливают гондолы, и отсвет утреннего зимнего солнца на беспокойной от ветра воде.
Официант с усталым утренним лицом не заставил себя ждать. Божена и Томаш одновременно взяли в руки бокалы и молча, скорее по привычке, чокнулись. Мартини был холодным, как лед, настоящий «Монтгомери», и Томаш почувствовал, как веселый ледяной жар обжег ему грудь. Но сейчас он не знал, что делать с этим весельем, и поэтому уткнулся в тарелку, сосредоточенно разглядывая чуть желтоватую спаржу. У нее был какой‑то странноватый, незнакомый ему привкус. Словно прочитав на его задумчивой физиономии эти гастрономические сомнения, Божена сказала:
— Это спаржа с шафраном. В Италии любят играть с приправами.
Она спокойно глотнула еще мартини и снова невзначай добавила:
— А тебе передали вчера костюм?
Томаш, который собирался отчитать Божену за вчерашние розыгрыши и череду странных записок на листках из ее блокнота, сейчас словно оцепенел от присутствия той, которую так долго жаждал увидеть, и односложно ответил:
— Да.
Официант, уже успевший натянуть на свое невыспавшееся лицо дежурную улыбку, принес заказанный Томашем кофе.
Томаш, беспокойно засуетившись, взялся зачем‑то ему помогать и почти выхватил из рук опешившего официанта поднос с фарфоровым кофейником, отливавшим перламутром, и бальзамом — в прозрачном графине с едва заметной трещинкой на ручке. Некоторое время Томаш смотрел на эту ручку с трещинкой и чуть желтоватой от времени щербинкой, будто это могло помочь ему успокоиться и взять себя в руки. «Эти венецианцы относятся ко всему разрушающемуся и в какой‑то степени ущербному — будь то дворец или старинный графин — с особым пиететом. Почему?» — подумал он и услышал, что Божена что‑то оживленно говорит ему. Вскоре он понял, что она отчитывает его с необычайным рвением:
— …И ты вообще не был на площади в эту ночь?
— Не был.
— Потрясающе! — воскликнула Божена. — Неужели ты не понимаешь — такое бывает только раз! Первый карнавал в твоей жизни! Ты просто не понимаешь, как много потерял. Подумать только: приехать на карнавал и пропустить открытие!
Она ни слова не говорила о том, ждала ли его вчера, надеялась ли, что он приплывет к ней на разукрашенной лодке в этом нелепом костюме. И ему казалось, что Божена читает по лицу все его мысли и специально не говорит о том, что волнует его, Томаша. Это умалчивание становилось все более откровенным, и постепенно Томашу стало казаться, что он терпеливо сносит от Божены пощечину за пощечиной, не сопротивляясь ее натиску и никак не пытаясь ему противостоять.
А потом вдруг она отставила недопитый бокал, встала и стремительно удалилась — через прозрачную дверь Томаш видел, как она быстро поднялась по лестнице и скрылась за поворотом.
Это случилось так внезапно, что Томаш не успел ни встать со своего места, ни сказать ей что‑нибудь вслед. Он сидел в углу, словно придавленный к стулу своим нелепым одиночеством, и хлопал глазами, как рыба, выброшенная на сухой горячий песок.
И пока он расплачивался с официантом, не зная, сколько полагается дать на чай, и дав на двадцать процентов больше, чем это принято в Праге, пока справлялся у портье, в каком номере остановилась сеньора Америги, а потом плутал по полутемным коридорам в поисках нужного номера, не встретив ни одного коридорного, прошло не меньше четверти часа.
Дверь, в которую Томаш настойчиво постучал, была заперта, и ему никто не отозвался. Он нервно заходил по коридору, думая, что же ему делать дальше.
«Наверное, сидит там сейчас со своим кудлатым Королем Карнавала и смеется надо мной», — Томаш поморщился и постучал еще раз. И тут дверь открылась и из номера вышла аккуратная горничная в белом накрахмаленном переднике, катя за собой маленький пылесос.
Он накинулся на нее с расспросами, но та, плохо понимая по‑английски, лишь послушно кивала. Поняв наконец, чего от нее хочет этот возбужденный сеньор, от которого пахнет спиртным, она ответила, ломая английские слова на итальянский лад, что ту, о которой он спрашивает, она еще не встречала сегодня. Да, она убирала в номере примерно полчаса, но за это время сюда никто не заходил.
И горничная покатила свой пылесос по коридору, на ходу отыскивая в кармане ключи от следующего номера, чтобы, воспользовавшись отсутствием хозяев, навести там порядок.
Томаш растерянно провожал ее взглядом, пока она не скрылась за поворотом коридора, а потом вернулся к себе. Но это было невыносимо — торчать в пустом номере без дела и гадать, куда исчезла Божена. Он накинул плащ и вышел из гостиницы с другой стороны.
Романтический вид узких гондол, будто созданных только для того, чтобы катать счастливых любовников, был ему сейчас невыносим, и он пересек небольшую площадь с фонтаном и пошел куда глаза глядят. Чтобы отвлечься, он принялся сосредоточенно разглядывать витрины магазинов, мимо которых шел.
«„Charcuterie", — медленно прочел он на одной из вывесок, — это, кажется, колбасная». Он взглянул на витрину — да, действительно, на ней красовались всевозможные колбасы, сыры пармезан, знаменитые по всему миру окорока Сан‑Даниеле и охотничьи колбаски, те самые колбаски «alla cacciatore», которые Божена так любила заказывать в одном из итальянских ресторанчиков в Праге. «Опять Божена!» — то ли раздраженно, то ли обиженно подумал Томаш и пошел по узкой улице дальше.
Он прошел мимо лавки антиквара со старинной мебелью, старинными картами и гравюрами, мимо какого‑то, судя по месту расположения, второсортного ресторанчика, пышно декорированного под первоклассный. Он переходил по высоким мостикам через многочисленные боковые каналы, прошел еще две площади, свернул с последней направо и понял, что, кажется, заблудился.
Он огляделся по сторонам. Среди обычно одетых людей тут и там виднелись костюмы и маски. Он решил выбрать какую‑нибудь группу ряженых и следовать за ними, надеясь, что они выведут его куда‑нибудь поближе к центру и он посмотрит наконец на этот ставший ему уже ненавистным карнавал, который так восторженно описывала сегодня утром Божена.
Но из этой затеи ничего не вышло: маски двигались по запутанному городу достаточно хаотично. Их случайные попутчики то и дело скрывались за дверями какой‑нибудь траттории или бистро. Спустя еще полчаса бессмысленных плутаний Томаш понял, что дух карнавала пропитал всю Венецию, проник во все ее щели и закоулки — от него нельзя спрятаться или убежать. А потом ему стало казаться, что и его лицо превращается в какую‑то маску, а модный плащ выглядит как вычурный карнавальный костюм. Он торопливо подошел к ближайшему магазину и взглянул в зеркало витрины. И что он увидел! За его спиной вился большой воздушный шар с нарисованной на нем смешной рожицей. Томаш повернулся, пытаясь увидеть в зеркале свою спину, и к ужасу своему понял, что кто‑то умудрился незаметно привязать этот дурацкий шар к хлястику его плаща, и неизвестно, как долго смешил он людей, бродя в таком виде по городу.
Он увидел в стекле свое перекошенное лицо и с силой дернул за веревку: рожица смешно, будто дразня его, дернулась за спиной. Он разжал кулак и увидел, как шар с рожицей, подхваченный порывом холодного северного ветра, резко рванул в небо, унося на веревке хлястик от его плаща.
Чертыхнувшись, Томаш скинул плащ и обнаружил на том месте, где раньше был хлястик, большую безобразную дыру. Это было последней каплей… Не чувствуя холода от собственного гнева, хлынувшего почти приятной сейчас жаркой волной, Томаш решительно направился к ближайшему спуску к воде. Пожилой лодочник с красным добродушным лицом, коротавший время, потягивая что‑то из своей фляжки, помог ему сойти в лодку и, подышав на замерзшие руки, завел сияющую лаком, любовно надраенную маленькую моторку, нахлобучил на лоб старую фетровую шляпу, и они поплыли — сначала медленно, под аккомпанемент чихающего, видимо, уже давно отслужившего свой век мотора; но потом мотор стал издавать механические хрипы, и скорость немного увеличилась.
Так они, хрипя и чихая, и подплыли к отелю. Когда лодка неуклюже причалила, Томаш, не торгуясь, отдал старику запрошенные тем три с половиной тысячи лир и, поеживаясь от леденящего ветра, поднялся по скользким ступенькам к гостиничным воротам.
Глава 22
На этаже к Томашу подошел коридорный и подал ему заклеенный конверт. Томаш распечатал его тут же, на глазах у искоса поглядывавшего на него итальянца в фирменной новенькой ливрее, — внутри лежал безликий на этот раз листок. Но писала ему снова Божена. Она извинялась за то, что так стремительно покинула его сегодня утром, но опять ничем не оправдывала свой поступок. Просто: «Извини, что я так неожиданно ушла». А дальше — слово в слово — было повторено вчерашнее приглашение надеть костюм и прибыть на площадь. Исчезло только упоминание об открытии карнавала и были изменены время и дата.
Томаш позеленел от злости. Но итальянец продолжал коситься на него с нескрываемым любопытством, и Томаш торопливо захлопнул за собой дверью и остановился в прихожей своего номера, наблюдая, как отражаются на потолке блики, пляшущие по воде канала.
Божена не оставляла ему ни малейшей лазейки. Надо было или принимать ее приглашение или, не надеясь больше объясниться с ней как‑нибудь иначе, собираться и уезжать. Конечно, мужская гордость требовала немедленно покончить со всеми этими издевательствами и уехать, раз и навсегда отказавшись от мысли помириться с Боженой. Но он чувствовал, что в нем говорит и другой голос, предательски предлагающий закрыть глаза на глупость своего положения и поступить так, как хочет эта вздорная женщина. «А может быть, мне только кажется, что она издевается надо мной? И все, что происходит, не больше чем капризы ее разгулявшейся фантазии? Она решила, что мы должны встретиться обязательно на карнавале, — и предпринимает теперь все возможное, чтобы это осуществить. А я, как упрямый осел, не даю ей пошалить, и она, конечно, сердится». Пытаясь как‑то примирить в себе эти два чувства, Томаш допил оставшееся с вечера вино и, повеселев, почувствовал, что, бесцельно шатаясь по городу, успел проголодаться. Надев свободного покроя пиджак, он решил спуститься в бар, чтобы пообедать.
Там уже было людно. И большая часть посетителей — конечно, в костюмах. Те, кто был одет обычно, выглядели как официанты: на фоне ярких карнавальных костюмов их одежда казалась серой и одинаковой, как униформа. Те же, кто был одет по‑карнавальному, ходили по залу именинниками: они необычно громко разговаривали и смеялись, не стеснялись даже напевать что‑то во весь голос. Некоторые столики на глазах у только что вошедшего Томаша спонтанно объединялись: знакомства завязывались быстро и легко.
«А может, в костюме и лучше? — подумал Томаш. — Вот сейчас пообедаю и тоже переоденусь, — решил он. — Хватит заводиться по пустякам и портить себе нервы. Веселиться так веселиться!» И он, победно неся эту мысль на своем лице, прошествовал по ярко освещенному залу в поисках свободного столика. Портьеры на окнах бара были плотно задвинуты, и электрический свет отражался в сияющих всеми цветами радуги хрустальных подвесках, усиливая праздничное настроение, которое читалось в глазах окружающих, блестевших сквозь прорези масок.
Все женщины стали казаться Томашу обворожительными, а сопровождавшие их мужчины — героическими. Словно бы сама жизнь лишилась присущей ей неоднозначности, когда он решил, что примет участие в карнавале.
«Как все понятно и просто! Хочешь смеяться — хохочи до упаду в костюме паяца, хочешь плакать — надевай одежду Пьеро. Желаешь покорять женские сердца — стань Казановой и покоряй! А тот восточного вида господин, видимо, хочет всех шокировать: его костюм, кажется, сооружен из страниц какого‑то эротического журнала. А как разглядывает его увядающая красотка лет шестидесяти — не иначе, воображает себя одалиской!»
Свободных столиков не было.
«Не возвращаться же мне обратно в номер, когда вокруг такое веселье!» — выпитое вино придало Томашу решительности. Он снова почувствовал свое превосходство над миром и готов был схлестнуться со своей своенравной женой, чтобы заново завоевать ее, — в каком угодно обличье.
Томаш пошел по второму кругу осматривать переполненный бар в поисках свободного места. Проснувшееся в нем упрямство уже не позволяло отказаться от мысли пообедать именно здесь, как вдруг он заметил за столиком у самого входа своего вчерашнего знакомца — Арлекино, который весело замахал ему рукой. «Этот шут в звенящем колпаке наверняка знает, где Божена», — подумал Томаш, уже пробираясь к столику, за которым восседал сияющий Арлекино.
Когда Томаш наконец уселся, ему показалось, что мальчик в колпаке заметно подрос за прошедшую ночь. Но точно сказать, так ли это, Томаш не мог. Молчавший вчера Арлекино обратился к нему на чистейшем чешском языке:
— Я вас приветствую! А где же Божена?
— Вы меня спрашиваете? — не ожидая услышать ничего подобного, Томаш глупо уставился на незнакомца. Где‑то он уже слышал этот голос… Арлекино действительно оказался мальчишкой, как он вчера и предполагал. — Откуда вы знаете чешский?
— Оттуда же, откуда и вы! — Арлекино рассмеялся и, аппетитно обкусывая кроличье мясо с жареной ножки, которую он держал прямо в руке, продолжил: — А впрочем, зачем я вас спрашиваю? Я и сам отлично знаю, где она теперь.
— И где же?
— Подумайте хорошенько. Сдается мне, из вашего нагрудного кармана выглядывает не платочек, а последняя записка от нее.
— Вы что, ее тайный поверенный?
— Да нет, я самый простой Арлекино. А вы что, ее бывший муж?
Лицо Томаша побагровело и вмиг стало одного цвета с маской, дразнящей его с другого конца стола.
— Заткнитесь! — нервно выкрикнул он и с трудом сдержался, чтобы не сорвать с незнакомца эту мерзкую хохочущую маску и дурацкий колпак.
— Уже заткнулся, — как ни в чем не бывало парировал Арлекино, вертя в испачканных жиром пальцах лист салата. — Поговорим спокойно. Интересующая вас дама просила меня сопроводить вас к ней на прежних условиях. Вы уже примерили тот замечательный во всех смыслах костюм, который я имел счастье вручить вам вчера?
Томаш промолчал.
— Вот и славно. Но прежде чем вы отправитесь переодеваться, пожалуйста, пообедайте со мной. Я ждал вас здесь, как верный пес своего хозяина, и заказал все в двух экземплярах. Прошу вас!
И Арлекино, галантно поклонившись Томашу, стал передавать ему блюдо за блюдом, ловко орудуя руками в красных перчатках.
Только сейчас Томаш заметил, что стол и действительно был сервирован на славу: две бутылки шампанского в серебряных ведерках, медные мисочки с паштетом, заливное из куропаток, холодная говядина, жареный кролик, которому последние десять минут отдавал предпочтение этот ряженый наглец, сыр, масло и свежеиспеченный хлеб, нарезанный крупными аппетитными ломтями, — все, о чем только может мечтать проголодавшийся господин с хорошим аппетитом, проведя утро на холодном ветру, в бесцельных шатаниях по незнакомому городу.
Но кусок не лез ему в горло. Вся надежда была на хорошее шампанское. После второго бокала Томаш перестал обращать внимание на те дежурные колкости, которыми время от времени «подбадривал» его Арлекино, — он только не мог понять, дерзит ли его странный собеседник лишь для того, чтобы соответствовать своей роли, или же это почему‑то доставляет ему особое удовольствие.
Почувствовав, что больше пить, пожалуй, не стоит, Томаш жестом подозвал одного из официантов и решительно потребовал счет. Официант ответил, что этот счет уже оплачен, а дополнительных заказов не было. Томаш недоуменно взглянул на развалившегося на удобном стуле Арлекино:
— Я хочу оплатить счет, во всяком случае, свою половину.
— Увы, это уже сделала одна загадочная особа, которая сорит деньгами, как подвыпивший банкир. Все претензии — к ней. А сейчас я удаляюсь, чтобы не досадить вам больше, чем я это уже сделал. Ciao! Жду вас на пристани через час, ровно в четыре. Но в последний раз! — он шутливо погрозил Томашу пальцем и исчез за стеклянной дверью, словно растворившись в воздухе: как ни вглядывался Томаш в разношерстную толпу, переполнявшую гостиничный холл, он не мог разглядеть в ней тот красный колпак, что еще минуту назад нависал над столом у самого его носа.
«Боже мой, куда я попал», — внутренне ужаснулся Томаш, но отступать было поздно, и он лишь налил себе еще бокал шампанского, которое одно поддерживало его в должной форме, не позволяя просто уйти со сцены — пусть с позором, но все‑таки не успев пустить петуха.
Глава 23
Париж — а это именно он так докучал Томашу в баре — вошел в номер к Фаустине и сел в кресло напротив Божены, которая, потягивая напиток из узкого бокала, советовала Николе, как лучше закрепить деревянную маску, прикрыв ее капюшоном. Точно такая же маска лежала перед ней на диване, а сама она была уже в белой накидке из перьев, полностью скрывшей ее фигуру. Лишь капюшон, пока спущенный на плечи, позволял по пышным золотистым волосам узнать Божену. Все остальное у них с Николой было одинаковым — и рост, и перья, и маски.
Никола, гладко причесанная, наблюдала в зеркало, как Фаустина завязывает у нее на затылке ленты, удерживающие на лице остроносую птичью маску.
Невольно залюбовавшись сестрами, Иржи сказал, обращаясь к Божене:
— Скажите Фаустине, что ее выход чуть меньше чем через час. Я назначил ему встречу ровно в четыре.
— Ты думаешь, Томаш придет? — Божена взглянула на него, и Иржи не заметил в ее глазах ни тени беспокойства.
— На этот раз, думаю, да. Он уже достаточно уязвлен, чтобы взять и просто исчезнуть. Во всяком случае, я постарался довести его до нужного градуса.
— Фаустина, если верить Иржи, Томаш уже готов, — сказала Божена по‑итальянски, смеясь.
— Он, что же, хочет сказать, что Томаш уже безнадежно пьян? — отозвалась Фаустина, побрякивая бубенчиками на своем колпаке, точно такими же, как у Иржи. Но костюма Арлекино на ней еще не было.
— Думаю, что нет. Но зато он взбешен.
— Да кто же это все‑таки придумал? — Никола еще не совсем понимала, что должно произойти этим вечером. От того, что Божена постоянно переходила с одного языка на другой, у нее голова шла кругом.
…Все сегодняшнее утро Никола провела вместе с сестрой. Они были абсолютно искренни друг с другом, и недавнее прошлое больше не стояло между ними. Никола почувствовала, что Божена по‑прежнему любит ее, что она смогла простить ей историю с Томашем, так круто изменившую их жизнь.
Никола знала, как нестерпимы для Божены любые выяснения отношений. Но этим утром она все же сделала то, что должна была сделать и без чего ей трудно было смотреть сестре в глаза. Она сказала, что чувствует себя виноватой во всем, что произошло, и попросила у Божены прощения.
Никола горько рыдала, а Божена молчала и гладила ее волосы, сжимая время от времени ее руку. А напоследок сказала лишь одну фразу, которая до сих пор беспокоила Николу, — о том, что благодарна судьбе за то, что все произошедшее произошло… А потом их разговор прервал Париж, вернувшийся из номера Фаустины с костюмом Арлекино в руках, и Божена так больше ничего и не сказала Николе.
До самого последнего момента Божена и сама не знала, какую роль Фаустина придумала для Иржи. Но когда узнала, что и Иржи будет двойником, двойником самой Фаустины‑Арлекино, то сразу все поняла окончательно и с нетерпением стала ждать вечера, моля Всевышнего лишь о том, чтобы Томаш все же появился на карнавале.
И когда Иржи вернулся из бара и сказал, что Томаш, похоже, решился, она облегченно вздохнула…
— Все придумала Фаустина. Я тут вообще ни при чем, — ответила Божена на вопрос Николы и, залпом опустошив бокал, посмотрела на часы.
Ровно в четыре часа Томаш, опасливо озираясь, спустился по лестнице и быстро пересек людный холл. Его костюм и маска были настолько необычны, что многие с интересом провожали его взглядом, а кто‑то даже вышел вслед за ним из гостиницы, чтобы понаблюдать, как двуликий человек с двумя животами, глядя одновременно и вперед и назад, торопливо спускается по лестнице к нарядной гондоле, на корме которой стоит Арлекино с шестом в руках.
Этот странный Арлекино опять уменьшился в размерах — во всяком случае, так показалось Томашу, но времени на сомнения уже не оставалось: стоящий в лодке заметил его. И поэтому Томаш молча кивнул Арлекино своей тяжелой большой головой и, неловко подобрав длинные фалды изящного камзола, шагнул в гондолу и сел сначала на черную деревянную скамейку, а потом перебрался ближе к носу лодки, в одинокое кресло, обитое черным бархатом, — чтобы быть подальше от стоящего за его спиной недавнего мучителя.
Томаш был уверен, что Арлекино снова станет досаждать ему своими дерзостями, и заранее решил не обращать на него никакого внимания. Но вопреки его ожиданию по‑мальчишески стройный Арлекино сразу же принялся молча толкать гондолу по рябой от ветра воде канала. Его на вид не слишком сильные руки действовали удивительно ловко, и гондола, плавно покачиваясь, быстро заскользила вперед.
Они плыли куда‑то в сторону мола — Томаш узнавал дома и мосты, под которыми проплывал вчера вечером, добираясь до гостиницы. Стараясь не думать о предстоящем вечере, не сулящем ему ничего определенного, он оглядывался по сторонам.
Они свернули и поплыли по каналу, который был намного шире предыдущего. Ветер теперь дул в лицо, и гондола передвигалась медленно. Судя по тому, что людей в масках вокруг становилось все больше, они приближались к сердцу карнавала — площади Сан‑Марко.
«Интересно будет посмотреть, как Божена нарядилась сама. Надо спросить у нее при встрече, зачем ей понадобился этот странный шут, — неужели она меня боится? И хотел бы я знать, почему он так хорошо говорит по‑чешски? А спрошу‑ка я его об этом опять — похоже, он уже и сам устал дерзить: может, объяснит мне хоть что‑нибудь толком». И Томаш, снова перебравшись на лакированную скамейку, заговорил со своим гондольером, сосредоточенно лавировавшим среди других лодок, которых, чем ближе они подплывали к площади, становилось все больше:
— Скажите, достопочтенный сеньор Арлекино, вы умеете свободно шутить на всех языках или только по‑чешски и по‑итальянски?
— Evviva[8] Томаш! — радостно отозвался гребец, не отвлекаясь от оживленного движения.
— Да здравствую я? И это все, что вы можете мне сказать? В баре вы были куда разговорчивее!
Объясняя поведение своего спутника тем, что тот, видимо, понял, что несколько переиграл за столом, а теперь пошел на попятную и предлагает молчаливую мировую, Томаш вновь расхрабрился и, ни на минуту не умолкая, стал многословно возмущаться тем, как приняла его Венеция, как поступает с ним второй день Божена, а в конце даже добавил, что и сам еще не решил, пойдет ли на площадь или же отправится прямо на пристань, чтобы заказать себе обратный билет.
Арлекино продолжал как‑то подозрительно помалкивать, лишь один раз чихнул во весь голос — и Томашу показалось, что это чихнула женщина. Он даже завертел головой, ища, кто бы это мог быть еще, но на этот раз ни одной гондолы поблизости не оказалось. Решив, что ошибся, Томаш продолжил свой монолог, а Арлекино, стоя за его спиной и сосредоточенно глядя на высокий острый нос гондолы, который будто бы парил над водой, тихо бормотал что‑то себе под нос, в такт взмахам весла. Наконец они вышли на простор Большого канала и, двигаясь между двумя рядами дворцов, вскоре приблизились к молу.
Покачиваясь на кильватерной волне проплывавшей по каналу деревянной баржи, черной и широкой, они причалили. Арлекино привязал лодку и ловко спрыгнул на промокшие насквозь мостки, взял в руки один из багров, заботливо припасенных на берегу, и протянул его Томашу, помогая ему выбраться на берег.
Томаш, озабоченно роясь в карманах, стал доставать деньги. Он хотел заплатить Арлекино за оказанную услугу и выпытать у него, где все же искать Божену.
Но не тут‑то было. Арлекино, упрямо изъясняясь только по‑итальянски, денег не взял, сказав, что за все уже заплачено сеньорой Боженой. А потом повернулся и пошел в сторону площади Сан‑Марко, жестом предложив Томашу следовать за ним.
Вскоре они оказались на пьяццетте и стали пробираться среди густой толпы праздношатающихся венецианцев и многочисленных туристов, весело коротающих время в ожидании вечерних представлений и предстоящего Праздника огня — «Moccoli», что в переводе с итальянского значит «огарки». Томаш слышал об этом празднике еще в баре и из отрывочных фраз понял, что ожидается грандиозное шествие всех участников карнавала. Держа в руках свечи, они пройдут по площади и затем, выйдя на мол, двинутся вдоль набережной.
Карнавал, даже в его приглушенном, дневном виде, по‑прежнему вызывал у Томаша лишь головную боль. Выпитое за обедом шампанское уже не играло в его крови, и выражение лица под маской ничуть не отличалось от того, что изображала маска. Он взирал на мир со скукой и презрением, ему хотелось вернуть все на свои привычные места… «Какое я могу иметь отношение к этим не разумеющим себя персонажам в масках и умопомрачительных костюмах? Подумала ли Божена о том, что все это может мне совсем не понравиться? Ведь единственное, чего я хочу, это оказаться с ней наедине!» Но высказать все это было некому, вокруг были только маски, голуби и цветные шары, то и дело ускользающие из рук своих владельцев и уносящиеся в холодную лазурную высь. После досадного утреннего происшествия Томаш уже и к шарам относился с опаской, а о замаскированных людях и говорить было нечего.
Но когда они подошли к длинным рядам выставленных наружу столиков — помещения баров и ресторанчиков не могли в эти дни уместить под крышей всех желающих, — Томаш решительно остановился и, приглашая Арлекино присесть вместе с ним, огляделся, ища глазами кого‑нибудь более или менее похожего на официанта.
Арлекино, ставший к вечеру необычайно покладистым, послушно уселся на тяжелый металлический стул, выкрашенный в ярко‑желтый цвет, и стал листать лежащую на столе книжечку с меню и карнавальными анекдотами.
Увидев наконец возле дальнего столика официанта, Томаш, не надеясь, что тот когда‑нибудь доберется до них, встал и пошел в его сторону. Но когда он вернулся вместе с официантом, их стол был уже занят другими, а Арлекино и след простыл.
Официант, вежливо извинившись перед Томашем по‑английски, предложил ему перейти за другой столик и, дождавшись, пока странно озирающийся клиент усядется поудобнее, выразил готовность принять заказ.
Томаш, решивший ничего больше не предпринимать в ближайшее время самостоятельно, открыл меню и растерянно заказал первое, что попалось ему на глаза: «Carpano punto e mezzo» и чай.
Оказалось, что карпано — весьма сносный аперитив, а вот с чаем вышла накладка. Когда официант поставил на стол желтоватую жидкость в высоком, цилиндрической формы сосуде, на дне которого покачивались два кубика льда, и Томаш недоуменно спросил его, что это, выяснилось, что ему надо было сказать «горячий чай» и что в Венеции слово «чай» вовсе не означает «горячий».
Быстро выпив аперитив и попробовав от нечего делать «чай», Томаш заметил, что в его сторону движется какая‑то странная птица. Легкие белоснежные перья, трепещущие на сильном ветру, облепили ее высокую фигуру, из‑под облегающего капюшона торчал длинный разноцветный клюв, а черно‑синяя ажурная вуаль прикрывала подбородок и шею незнакомки. То, что это женщина, Томаш понял сразу — по удивительной женственности, сквозившей в каждом ее движении.
Птица мягко опустилась на стул рядом с изумленным Томашем и вдруг заговорила с официантом, тут же оказавшимся за ее спиной, голосом Божены:
— Ancora due Martini.[9]
— И два горячих чая, — поспешно добавил Томаш таким тоном, словно для него сейчас не было ничего важнее, чем выпить свою чашку горячего чая.
— Горячий чай по‑венециански? — уточнил официант, обращаясь к Томашу на своем плохом английском.
— Да, с травами и бальзамом, — по‑итальянски ответила Божена, — и если можно, мы хотели бы перейти в помещение. Ветер сегодня мешает наслаждаться карнавалом.
— Certamente,[10] — ответил официант и повел их за собой в сторону входа, скрывавшегося в сумраке галереи. Но они почему‑то прошли еще немного под низкими сводами и вошли не в ближайшую, а в следующую дверь.
Божена, ничего не говоря, взяла Томаша за руку и прижалась к нему своим мягким птичьим боком. Томаш видел, что она немного пьяна — совсем чуть‑чуть, но достаточно для того, чтобы движения ее были такими манящими, а грудь часто вздымалась под пушистым белым покровом.
Когда они вошли и спустились на несколько ступенек вниз, Божена сказала что‑то человеку во фраке, подошедшему к ним, обращаясь к нему Grand Maestro, — видимо, он был тут кем‑то вроде распорядителя, — и тот проводил их по недлинному коридорчику и указал рукой на винтовую лестницу с узкими ступеньками, круто уходящую вверх.
Пока они шли через полутемный зал в сторону коридора, Томашу показалось, что заведение, в которое они попали, больше похоже на маленькое казино, чем на бар или ресторан. Столиков было не много, большинство посетителей толпилось ближе к центру: из‑за их спин Томаш не мог разглядеть, куда они смотрят. Но Божена невозмутимо шла вслед за невысоким человеком с длинным прямым носом и лукавым лицом, и Томаш, ни о чем ее не спрашивая, тоже стал подниматься по вьющейся к самому потолку лесенке — и вскоре они оказались перед зеленой дверью. Божена извлекла откуда‑то из‑под накидки маленький ключик и открыла дверь.
Комната, в которую они вошли, освещалась канделябрами — Томашу показалось, что они горели живым огнем, отблески которого ярко отражались в зеркалах. А может, это вовсе и не комната, а просторный салон: определить ее настоящие размеры с первого взгляда, казалось, невозможно — стены шестиугольного помещения были отделаны венецианскими зеркалами, такие же пол и потолок, причем зеркала на стенах были так повернуты друг к другу, что сотню раз отражали каждое движение вошедших.
«Можно подумать, что я — молодой Казанова, принимающий переодетую монахиню в снятом на одну ночь казино. Хотя у нас, кажется, все совсем наоборот — ведь это она привела меня сюда». Вслух же Томаш сказал:
— Хорошенькое местечко для встречи жены с мужем, ничего не скажешь.
Но съязвить ему так и не удалось, потому что Божена неторопливо сняла свою, затем его маску, отнесла их на стоявший в отдалении стол, вернулась и вдруг так страстно поцеловала Томаша, что он почувствовал себя отнюдь не мужем, а любовником, впервые познающим ту, которую так долго желал. В эту минуту она была совсем не похожа на знакомую ему Божену, обычно так мягко окутывавшую его своим теплым спокойным желанием и уводившую в ароматный уют постели… Сейчас перед ним была страстная венецианка, которая требовала любви жгучей, колкой и… недолговечной.
Но наваждение схлынуло так же внезапно, как и пришло. Божена уже отошла от него и села на мягкий диван, посреди лежащих в беспорядке роскошных подушек.
Она стала расстегивать накидку, под которой оказалось черное ажурное платье. Томашу показалось, что длинная вуаль, спускавшаяся от лица Божены, окутала все ее тело, делая его очертания будто видимыми, но неуловимыми для глаз.
Томаш, не двигаясь с места, пожирал глазами женщину, которая смотрела на него так, как смотрят куртизанки со старинных полотен. Она казалась ему немыслимо доступной, и в то же время была необычайно далека от него, реального Томаша, привыкшего говорить с ней на родном языке, завтракать за одним столом… Да мало ли на свете житейских мелочей, обаяние которых известно двоим, прожившим вместе не один год! И именно их, эти знакомые мелочи, искал и не находил в ней Томаш, — ненавистный ему карнавал проник даже сюда, в комнату, где они с Боженой наконец‑то остались одни…
И когда Томаш наклонился к ней, он увидел, как сотни других мужчин, так похожих на него, бросились обнимать своих красавиц.
Томаш хотел смотреть на Божену, видеть ее тело, ее лицо, глаза, но зеркала мешали ему: повсюду он видел себя. Покрасневшее от возбуждения, искаженное желанием лицо, жадные руки, затуманенный взгляд — это было невыносимо! И Божена, словно поняв его, отстранилась и, пройдя по комнате, задула все свечи, кроме одной, освещающей великолепно сервированный стол. Потом она, едва заметно улыбаясь под тонкой вуалью, взяла со стола лишь один бокал и вернулась к дивану. Она медленно опустилась перед Томашем на колени и дала ему глотнуть, по‑прежнему держа бокал в своих руках.
— Оставь это, иди ко мне, — выдохнул Томаш и, протянув к Божене руки, попытался нащупать то, что позволило бы ему снять с нее эту бесконечную вуаль, — пуговицы, замок, шнуровку. Но Божена вновь отстранилась от него и, вытянув руку, дала ему выпить содержимое бокала, напоминающее мартини, до дна. Потом, поставив бокал на зеркальный пол и по‑прежнему ни слова ни говоря, она села к нему на колени и принялась целовать его — так же страстно, как и у порога. Обнимая Божену, Томаш чувствовал, как трепещут ее бедра и вздымается грудь, но когда он снова попытался снять с нее платье, у него ничего не получилось.
— Подожди, — вдруг заговорила она, и это были первые ее слова, обращенные к нему за весь этот вечер, — я сейчас переоденусь и вернусь. — Она встала, взяла Томаша за руку и подвела его к заставленному всевозможными лакомствами столу. — Советую тебе не терять времени даром — такое можно попробовать только в Венеции.
И, собрав зачем‑то все детали своего костюма, Божена исчезла. Томашу показалось, что она вошла в одно из многочисленных зеркал и растворилась в нем.
«Да, эти венецианцы кое‑что понимают в искусстве обольщения», — признал про себя Томаш, пробуя что‑то удивительно вкусное и пикантное.
— Божена, ты слышишь? Я очарован! — крикнул Томаш в пустоту. — Ты совершенно очаровала меня!
Уход Божены не беспокоил его. «Она всегда долго готовилась, прежде чем позволяла раздеть себя. А уж тут, на карнавале, где ей так нравится ее роль… Загадочная птица! Ну что же, я подожду».
Аппетит, разгулявшийся вместе с желанием, постепенно усмирялся, желание же, подогреваемое новыми порциями мартини, усиливалось. Но Божена не возвращалась. «Неужели она сбежала опять?» — Томаш прошелся в полутьме, пытаясь разглядеть среди зеркал дверь, в которую вышла Божена.
— Дорогая, не заставляй меня больше ждать.
Вместо ответа в комнате вдруг зазвучала музыка — тихая, но страстная. «Гитара и еще что‑то необычное… Я уже слышал сегодня, как он звучит, когда слонялся утром по городу». Томаш вернулся к столу и развалился в венецианском кресле, упруго и удобно поддерживающем его тело.
Он сидел за столом, спиной к дивану, и, потягивая мартини, ждал возвращения Божены. Он предвкушал наслаждение, представляя, как она сейчас войдет, приблизится к нему, как он коснется ее гладкого тела… «А может быть и хорошо, что все так вышло… Эта история с Николой, отъезд Божены… Мы жили врозь чуть больше месяца, и привычка, прилипшая к нам за те годы, когда мы виделись изо дня в день, исчезла. Я уже давно не хотел ее так, как сейчас». Томаш закрыл глаза. Музыка зазвучала чуть громче — или ему только показалось?
От нечего делать он встал, вновь надел свою маску и увидел свое отражение в зеркалах напротив и позади. Он попытался отличить отражения того лица, что спереди, от того, что сзади.
И вдруг заметил в зеркалах какое‑то движение — в полутьме помещения был кто‑то еще. Зеркала беспорядочно множили фигуры, и Томаш, растерявшись, не знал, где искать. Пламя свечи колыхалось: Томаш уже не понимал, кажется ли это ему или в комнате действительно кто‑то есть. Он взял в руки свечу и двинулся по комнате, зажигая остальные, погашенные Боженой.
Томаш зажег три свечи в одном из позолоченных канделябров и оглянулся. Он стоял прямо напротив дивана. Близко ли, далеко от сидящей на нем пары — понять было невозможно. Зеркала, мартини, усталость и возбуждение сделали рассудок Томаша беспомощным. Он решительно двинулся в сторону Арлекино, который держал на коленях его Божену: она снова была с головы до ног в своем птичьем наряде, и ненавистный Томашу шут целовал ее, трогал ее руками, сминая белые перья накидки у нее на спине!.. Но сделав несколько шагов, Томаш понял, что перед ним — зеркало. Отражение! Он развернулся и увидел, что шел не в ту сторону, а диван — вот он, у противоположной стены. И на нем сидит смеющийся Арлекино, а на коленях у него — Божена в птичьей маске.
«Безумие, это безумие, — вертелось у Томаша в голове, — я убью его, убью их обоих!»
Подбежав к дивану, он резко отстранил вставшую ему навстречу Божену, схватил Арлекино за широкие, слишком широкие плечи и, бешено тряся его, закричал: «Вон! Пошел вон! Не смей больше касаться ее! Она моя жена, ты понимаешь это, негодяй?!»
Но Арлекино ловко вывернулся из его рук и, рассмеявшись Томашу прямо в лицо, запрыгнул на диван прямо в своих шутовских башмаках.
Томаш повернулся к Божене и гневно воскликнул: «И давно ты изменяешь мне с шутами?» Но Божена стояла и тоже смеялась, а потом как‑то странно, не своим голосом прошептала: «Но ты ведь не любишь меня, Томаш».
И тогда он возмущенно, сам веря себе, ответил ей, чеканя каждое слово:
— Я всегда любил только тебя, тебя одну. Столько лет мы вместе и ты еще сомневаешься в моей любви? Да я не только не дотронулся — не взглянул ни на кого за эти годы… Ты нужна мне… Только ты одна… — Он перешел на шепот и стал двигаться в сторону Божены, пытаясь коснуться ее, взять за руку. Но вдруг услышал голос Божены, идущий откуда‑то издалека:
— А как же Никола?
И он увидел за спиной у стоявшей перед ним птицы — точно такую же, но только сидящую за столом. Отражение? Но это невозможно! Он обернулся и онемел: да, Божена сидит за столом, рядом с ней — Арлекино. Снова обернулся — Божена стоит перед ним, а Арлекино скачет по дивану, разбрасывая подушки!..
Он несколько раз обернулся, поворачиваясь к каждой из птиц то одним застывшим лицом, то другим, пока одна из них, та, что стояла рядом, не откинула с головы капюшон и не сняла маску. Это была Никола!
А сзади к нему уже подходила тоже снявшая маску Божена — он видел ее отражение. Она прошла мимо него, подошла к сестре и обняла ее. «Спасибо», — услышал Томаш и, схватившись за голову — получилось, что за картонную, — выбежал из этой ужасной комнаты, каким‑то чудом найдя дверь, ведущую на лестницу, и, чуть не падая, побежал по ускользающим из‑под ног узким ступенькам, которые кружились у него в глазах…
Выбежав на улицу, Томаш подумал, что у него в глазах до сих пор мигают свечи, умноженные зеркалами. Но, приглядевшись, он увидел мелькающие за колоннадой галереи факелы, свечи, горящие лучины… В темноте казалось, что огонь движется по площади без всякого участия людей: широкой огненной рекой он лился по Сан‑Марко.
Сотни людей в масках и без масок двигались в одном направлении. Каждый нес в руках частицу огня. Но вместо того, чтобы невозмутимо нести свой огонь, участники шествия время от времени старались погасить огонь у другого. Отовсюду раздавались радостные возгласы на разных языках:
— Sia ammazzato chi non porte moccolo!
— Смерть тому, кто не несет огарка!
— Sia ammazzato!
— Да здравствует Праздник огня!
Какой‑то мальчик подбежал к Томашу и, увидев у него в руках погасшую свечу, которую тот так и не выпустил из рук, убегая из зеркальной комнаты, зажег ее от своего факела, взял Томаша за руку и потащил его в нестройные ряды огненного шествия.
Тут же к нему подбежала какая‑то маска и с криком «Sia ammazzato!» дунула на его свечу. Потом свечу зажгли опять, опять задули и вновь подожгли, а безучастный ко всему происходящему Томаш еще долго шел вместе со всеми, не думая ни о чем.
То, что произошло с ним в этот вечер, было похоже на дурной сон, и он пытался проснуться, но не мог.
И лишь когда огненная река вынесла его на мол, он, собрав всю накопившуюся в нем злость — на женщин, судьбу, карнавал, самого себя, — размахнулся и забросил свечу далеко в воды лагуны.
Постепенно приходя в себя под порывами пронизывающего ветра, Томаш начал понимать, что над ним зло подшутили. «Они сговорились, все сговорились!» — стучало у него в голове. Ему захотелось немедленно побежать назад, опять увидеть Божену и вывести всех на чистую воду!
Но в глубине души он все‑таки понимал, что весь запас негодования, накопившийся у него за последние дни, теперь ни к чему: ведь это его самого вывели на чистую воду две женщины, которых он в это мгновение одинаково ненавидел… Но ведь когда‑то любил! Или все это ему только казалось? Заменила же ему Никола на какое‑то время Божену, и не все ли теперь равно — на смену им обеим придет другая!
«Но сначала я все‑таки скажу им это в глаза! К черту карнавал! Пусть снимут свою нелепую маску!» — и Томаш двинулся против мерцающего течения туда, откуда сбежал, а огненное шествие продолжалось.
Наконец он добрался до галереи, с трудом отыскал нужную дверь и решительно шагнул в глубь полутемного зала.
Томаш шарил глазами по стенам, пытаясь найти проход, по которому Grand Maestro вывел их тогда на винтовую лестницу, ведущую наверх. Но стены были драпированы тяжелой тканью густо‑вишневого цвета, так что разобрать, где заканчивается стена и начинается ширма, прикрывающая вход, было невозможно.
В центре зала по‑прежнему толпились люди: Томаш видел их напряженные спины, сомкнувшиеся вокруг чего‑то ярко освещенного. И вдруг ему показалось, что оттуда до него донесся Боженин смех.
Не встречая на своем пути никого, кто задержал бы его, Томаш двинулся вперед. И вскоре оказался среди зевак, следящих глазами за сумасшедшим вращением пестрого диска. Это был игорный зал.
Играли в рулетку. Невозмутимый крупье — единственный, кто был не в маске, — следил за постоянно меняющейся комбинацией ставок. Начинался очередной тур. Крупье, говоривший по‑английски, предложил игрокам делать ставки, и отовсюду посыпалось: красное, черное, чет и нечет, ставлю на zero, от восемнадцати до двадцати четырех. «Игра сделана!» Удар! — и полетел по кругу маленький шарик, а потом запрыгал на зазубринах вертящегося колеса. Вскоре он вскочил в клетку. «Zero!» — выкрикнул крупье. Выяснилось, что молодая особа в маске кошки поставила на zero большую сумму и теперь подгребала к себе лопаткой крупный выигрыш — ее ставка увеличилась в тридцать пять раз!
Томаш вспоминал давно забытые правила и чувствовал, что пот выступает под его маской. Как давно он не был в казино! И какие потрясающие воспоминания связаны у него с этим миром, где все — игра. И опять, как много лет назад, его окружают возбужденные игроки, беспокойно следящие за движением блестящего шарика, летящего навстречу их судьбе. Да, все они корыстны, но игра окрыляет, и даже жадность, иногда скользившая в их жестах, не выглядит отталкивающей. Впрочем, сейчас Томаш меньше всего думал об этом: следя за тем, что происходит вокруг, он чувствовал неодолимое желание сыграть.
В комнате с низким, темным потолком, несмотря на ее большие размеры, было душно. Томаш отошел в сторону и снял маску — ему стало легче. Но он уже успел привыкнуть к тому, что его лицо спрятано от посторонних глаз, и больше не следил за ним. Деньги всегда были его слабостью, а деньги, достающиеся легко, он любил вдвойне. И когда он вернулся к столу, то игроки расступились, освобождая ему место, — столько злой решимости светилось в его глазах.
Неизвестно откуда взявшийся расторопный карлик в расшитом пуговицами красном халате тут же пододвинул Томашу кресло и остался стоять рядом, видимо, готовясь советовать и ожидая за это вознаграждения. Но Томаш грубо отмахнулся от него и сделал первую ставку. Это был его личный способ войти в игру: он всегда пользовался им раньше, когда, прилично зарабатывая в мастерской Америго, коротал вечера в полуподпольных казино Праги. Сейчас он поставил понемногу, но сразу на все — на числа, на чет и нечет и на цвета.
И вскоре уже подгребал к себе свой первый выигрыш! Пряча его в карман своего странного камзола, от которого он не мог избавиться иначе, как только оставшись в одном нижнем белье и рейтузах, что было бы еще смешней, Томаш вспомнил, зачем он вернулся сюда. Но деньги, завернутые в темно‑лиловую бумагу, ожидание в глазах подчеркнуто вежливого крупье и любопытные взгляды окружающих, которые ждали от него продолжения, уже опьянили его. Только где‑то далеко, словно комарик в ночной темноте, в сознании Томаша пищал противный голосок: «Брось это, беги отсюда, брось это, беги отсюда…» Но Томаш отмахнулся от писка, как пару минут назад от назойливого карлика; та же участь постигла и мысль о Божене — и он снова уселся в ждущее его кресло и решил продолжить игру.
Немного потеряв, он снова выиграл: на этот раз сумма была довольно внушительной, а потом удача просто вцепилась в него, словно клещ, и уже не желала его покидать. И чем больше становилась горка денег, возвышающаяся перед ним на игровом столе, — а его карманы, и спереди, и сзади, были уже давно переполнены, — чем активней он работал маленькой лопаткой, тем меньше занимало его то, что случилось в зеркальной комнате. И вскоре ему уже казалось, что разрыв с Боженой — такая же удача, как и то, что происходит с ним сейчас. «Тем лучше, — думал Томаш, следя покрасневшими от вина и азарта глазами за безумным кружением шарика, который вот уже битый час покорялся любому его капризу. — Мне никто и не нужен. Теперь я свободен! А женская ласка — она так легко покупается…» Но продолжая выигрывать, он не терял голову: ставил расчетливо, то и дело пропуская удар и пробуя уловить закономерность, скрытую за кажущейся хаотичностью его везения.
И когда его выигрыш перестал исчисляться тысячами, Томаш хладнокровно прекратил игру, сгреб выигрыш в свою маску, угодливо принесенную ему карликом, и встал с кресла.
Бывшие в казино посетители, уже давно забывшие о собственных ставках и оживленно обсуждавшие везение Томаша, зааплодировали, пытаясь удержать его, но Томаш был непреклонен.
И тут из толпы вышла женщина, одетая кошкой, и, мягко ступая, двинулась в сторону Томаша. На ней не было ничего, кроме откровенно обтягивающего ее пышное тело тугого трико — с многочисленными блестками в форме кошачьих головок, разбросанными на черном фоне. Когда она подошла поближе, Томашу показалась, что сейчас она замурлычет, — так по‑кошачьи она протянула ему свою руку, затянутую черным шелком.
Ее поведение было более чем откровенным, и поначалу Томаш стыдливо огляделся: но на них уже никто не смотрел. Вдохновленные его победами, игроки делали новые ставки.
«А вот и женская ласка», — подумал Томаш и, словно в ответ своим мыслям, услышал:
— Come to me…[11] — Видимо, единственное, что эта особа знала по‑английски.
И Томаш принял это как должное: женщины любят удачливых мужчин!
— Come to me, — повторила незнакомка. — I am Juliette.[12]
И, повиснув на руке Томаша, она повлекла его за собой.
Джульетта без труда нашла зашторенный вход, который так тщетно высматривал Томаш. Они пошли по уже знакомому ему коридору, но дойдя до винтовой лестницы, по которой не так давно вела его наверх другая женщина, Джульетта потащила его дальше.
Миновав еще несколько дверей, которые его молчаливая спутница открывала, извлекая откуда‑то ключи, — Томаша почему‑то больше интересовало то, где она прячет их, чем то, откуда она их взяла, — они оказались в нарядной комнате, откровенно приспособленной под интимные встречи: плотно зашторенные окна, широкое низкое ложе, уже застеленное кружевным бельем, эротические картинки на стенах, обитых мягким розовым плюшем, подушки, эффектно разбросанные по пушистому ковру… Но сейчас все это даже понравилось Томашу. Казино, женщина легкого поведения, комната для свиданий — это были приметы его новой жизни, вольной и бесшабашной. «Неужели я избавился наконец от ее критики! Она постоянно была ко мне слишком строга… А ведь вот я нравлюсь женщинам! И пусть все будет просто — зачем женщине сложность?» — думал Томаш, держа Джульетту на коленях и поглаживая ее шею, спину, грудь. А она извивалась, подставляя себя его рукам и всячески поощряя его.
Скоро дело сладилось: кошкоподобная соблазнительница повернулась к нему спиной, и, потянув за замочек — тоже в форме кошачьей головки, Томаш освободил извивающееся тело красотки из трикотажного плена… Джульетта мурлыкала и постанывала от удовольствия, потакая всем его желаниям, и с каждым мгновением она становилась все желаннее для Томаша, и он говорил ей все, что хотел, зная, что его все равно не понимают. Особенно его возбуждало то, что Божена, возможно, еще не покинула этих стен и он изменяет ей у нее же под носом… Вдруг «кошка» решительно вырвалась из его объятий и поползла по мягкому ковру, игриво двигая бедрами, а Томаш, последовав ее примеру, тоже опустился на пол и на четвереньках пустился в погоню.
За этим занятием их и застала группа внушительно снаряженных личностей. Поигрывая обрезами, они приблизились к маске, перевернутой вниз макушкой, которую Томаш оставил у входа. Их черные полумаски, при других обстоятельствах рассмешившие бы Томаша — слишком уж потешно они выглядели в городе, по завязку наполненном людьми, скрывающими свое лицо, — сначала ввели его в заблуждение. Он даже чуть было не крикнул им «занято!», но тут же ощутил холод обреза, приставленного к его затылку.
«Кошка», нисколько не стесняясь пришельцев, поднялась с колен, неторопливо оделась, потом подошла к одному из мужчин и подставила ему спину. Тот привычным движением застегнул длинную молнию, дружески чмокнул девушку в плечо и легко подтолкнул к выходу.
Вывалив деньги из маски в мешок, разбойники двинулись к выходу, но потом один из них вернулся и забрал одежду, которую Джульетта сняла с возбужденного Томаша, оставив на нем только ботинки. Остальные одобрительно закивали — видимо, признав, что это избавит их от погони, и после этого исчезли.
А Томаш остался. И теперь ему оставалось единственное — завернуться в широкое покрывало и поскорее уносить ноги из этого места, где его уже дважды обманули сегодня.
Каково же было изумление остававшихся в зале игроков, когда Томаш, закутанный, словно мумия, в тяжелое белое покрывало, вышел из‑за ширмы и попытался тихо проскользнуть к выходу. Но его тут же заметили и, несмотря на странный наряд, узнали, а он даже не мог никому объяснить, что с ним произошло.
И тогда один из игроков — тот, что в костюме Пьеро, — снял с себя длинное голубое платье с огромными пуговицами, под которым был надет обычный костюм, и вручил его Томашу. Решив, что в покрывале он далеко не уйдет, Томаш принял подарок и, зайдя за ширму, переоделся. Теперь он был настоящим Пьеро. И хотя у него не было маски, лицо как раз соответствовало этому тоскливому образу.
И только Томаш собрался покинуть это злополучное место, как из‑за ширмы вышла Божена: она все еще была в накидке, но без маски. И, крикнув что‑то нечленораздельное, Томаш в ужасе выбежал вон, а Божена, улыбаясь, пошла к игровому столу… Она вовсе не собиралась догонять Томаша.
Кое‑как добравшись до гостиницы, Томаш всю ночь провел взаперти, опасаясь еще каких‑нибудь случайных встреч, а утром с первым катером покинул Венецию.
Глава 24
Это была потрясающая идея! Она пришла в голову Иржи и Николе одновременно, когда они, покинув комнату, ставшую для Томаша роковой, оставили своих двойников пировать — а какой Праздник огня не заканчивается веселой пирушкой? — и, усевшись в гондолу, отправились плутать по водному лабиринту, обещав гондольеру щедро заплатить, если он отвезет их туда, где вода в полной тишине шепчется с каменными стенами каналов и где можно услышать слова, сказанные в глубине темных ночных домов.
Гондольер подмигнул им — и они поплыли в глубь Венеции, все больше удаляясь от шума набравшего силу карнавала. Пестрые огни и тающие в воздухе звуки серенад плыли над их головами, а Никола, откинувшись на мягкие черные подушки, смотрела на профиль Иржи, сидевшего на скамейке вполоборота к ней, и ее сердце сладко сжималось.
Ночная Венеция была невероятной! И блики на воде, и внезапная освещенность дворов и каких‑то закоулков, ослепляющая привыкшие к ночному сумраку глаза, — все это словно было работой гениального осветителя: казалось, что даже свет, льющийся из полуоткрытых окон, — часть его великолепного замысла.
Никола загляделась на необычно подсвеченный особняк: голубые ворота — на фоне красного фасада. Казалось, что серый мрамор навсегда впитал в себя этот свет и теперь сам светится изнутри. И вдруг она увидела, что из‑под ярко освещенного моста, по‑кошачьи выгнувшего над водой спину, выплыла совсем уж необычная лодка. Она была почти такой же узкой, как гондола, но в несколько раз длиннее, а ее белые борта были украшены пышными букетами роз. Ближе к носу в лодке сидели бродячие музыканты, мужчины и женщины, — они пели, подыгрывая себе на нескольких гитарах и мандолине, звук которой, похожий на девичий голосок, нежно выделялся в общем хоре и плыл над водой будто в стороне от других.
Когда нарядная лодка поравнялась с их бесшумной гондолой, Никола разглядела в центре ее нарядную пару. Парень и девушка, удивительно юные, сидели обнявшись и глядя друг на друга. На парне был ослепительно белый костюм, девушку окутывал голубоватый газ, сквозь который можно было разглядеть такого же тона атласное платье, плотно облегающее ее фигурку.
— Свадьба, — выдохнули в один голос завороженные Никола и Париж.
— Не может быть! Ночью, на карнавале — настоящие жених с невестой? — Никола вопросительно посмотрела на гондольера. Но тот, обменявшись со встречным гребцом в парадной одежде особым приветственным жестом, выкрикнул в ночь:
— Evviva nozze![13]
Уж что‑что, а это Никола понимала. Еще на свадьбе у сестры она не раз слышала эти слова от их итальянских родственников; после смерти дедушки Америго связь с ними постепенно ослабевала, но на праздники они напоминали о себе обязательно. И когда маленькая Никола слышала в телефонной трубке итальянскую речь, мир в ее воображении сразу становился неимоверно огромным и она обязательно вспоминала своего деда‑итальянца с его добрыми руками волшебника и таинственным прошлым. А Италия всегда казалась ей сказочной страной, где люди только и делают, что играют свадьбы и пируют на днях рождения.
И сейчас, вновь услышав итальянское свадебное славословие, прозвучавшее в эту ночь, как волшебное заклинание, она на мгновение окунулась в прошлое и тут же вернулась назад, будто притянутая магнитом. Обернувшись, она поймала на себе взгляд Иржи. Никогда раньше он не смотрел на нее так. В его зеленых глазах было столько счастья, словно он и она уже прожили вместе долгую‑долгую жизнь и каждый новый шаг этого длинного пути делал их еще ближе и дороже друг другу.
Они не произнесли в эту минуту ни слова, но следующим утром Божена узнала, что эти двое не уедут из Венеции, не обвенчавшись.
И опять началась суета. Фаустина отложила отъезд и взялась улаживать дело с настоятелем церкви Святого Стефана — все доверились ей, сказавшей, что лучшего места для венчания в Венеции не найти.
События развивались стремительно, и вскоре Никола уже примеряла сшитое для нее Фаустиной подвенечное платье, а Иржи брал у своего бывшего двойника Арлекино уроки гребли — Фаустина учила его управляться с веслом и удерживать гондолу в равновесии, настаивая на том, что именно он должен провезти Николу в гондоле под церковью Святого Стефана.
Этот обычай — жених с невестой должны были в одиночестве проплыть под низко нависающей над водой церковью, построенной еще в тринадцатом веке, — венецианцы считали не менее важным, чем само венчание.
Фаустина, которая знала о Венеции почти все, уже свозила туда молодых, заранее объяснив им, как именно все должно произойти.
И вот назначенный день настал.
Никола, которая долго сидела у окна, не смыкая глаз, и прилегла уже далеко за полночь, встала раньше рассвета. Она вышла из своего номера. Все еще спали, только коридорный, борясь со сном, позвякивал ложечкой, помешивая чай в прозрачном стакане. Никола подошла к нему и пожелала доброго утра.
Седовласый старик‑итальянец знал, почему в комнате у Николы так долго не гасили свет и зачем она встала так рано.
Никола присела с ним рядом на низкую скамейку и утвердительно кивнула, увидев, что он предлагает ей выпить с ним чаю.
Попивая крепко заваренный чай, Никола любовалась тем, как просвечивает свет от лампы сквозь красноватого оттенка напиток, — все в это утро казалось ей таким красивым!
И вдруг старик, пошарив в ящике деревянного комода, стоявшего в коридоре, достал оттуда что‑то, завернутое в тонкий платок, и, улыбаясь, протянул Николе.
Она, не догадываясь, что хочет от нее старик, улыбалась ему в ответ, а он, тщательно подбирая слова, сказал по‑английски:
— Возьми. Этот аромат принесет вам счастье.
— Grazie, — поблагодарила Никола и стала разворачивать свой первый свадебный подарок.
У нее в ладони оказался маленький флакон из горного хрусталя. Никола открыла крошечную крышечку и ощутила нежнейший аромат: будто она оказалась в саду своего детства, где каждой весной начинали благоухать прекрасные розы.
— Эта вещь досталась мне от моей матери. Она говорила, что розовую эссенцию — ту, что ты только что нюхала, — приготовил когда‑то сам французский король, а флакон достался ей от ее бабушки‑монашенки. А той его будто подарил небезызвестный Казанова. А нравы тогда были — сама знаешь…
Увлекшись, старик перешел на свой родной язык, и Никола, которая, в отличие от Божены, с трудом разбирала итальянскую речь, мало что поняла из его длинного рассказа.
Но потом он, спохватившись, опять заговорил на своем английском:
— Так вот: моя мать, умирая, завещала мне подарить это сокровище моей будущей жене. Она так и не узнала, бедняжка, что я прожил сычом всю свою жизнь. А ты и твой рыжий мальчик мне очень понравились… Я думаю, матушка будет довольна мной, — сказал старик и, взглянув куда‑то в потолок, по которому уже бегали солнечные блики, притянул к себе голову Николы и поцеловал ее в лоб.
Слезы набежали Николе на глаза, она обняла старика и еще раз подумала о том, как она счастлива теперь.
А Париж проснулся даже раньше, чем она, и успел уже принести для своей невесты огромную корзину, полную особых венецианских роз, — казалось, что он оставил на сегодня без работы цветочниц Венеции, скупив у них все утренние розы. Но ни одна из роз не повторяла цветом и ароматом другую — и каждая держала голову, как королева цветов.
Получив корзину из рук счастливо улыбающегося Иржи, Никола спрятала в цветах свое светящееся, немного растерянное лицо…
А потом ее одевали и причесывали умелые руки сестры, а Фаустина, чуть касаясь ее свежего лица нежной кисточкой, оттеняла ее утреннюю бледность и слегка подсвечивала теплыми тонами продолговатые серые глаза.
Подвенечное платье было очаровательно. Но Фаустина, опытная портниха, сумела сделать его достоинства неброскими — они, сочетаясь с природной красотой Николы, отходили на второй план, давая глазу возможность наслаждаться прелестью юного стройного тела и удивительно трогательного лица: Никола ужасно волновалась, становясь от этого еще прекрасней.
Наконец все приготовления были завершены, и Иржи, встретивший невесту у ворот гостиницы, подхватил ее на руки и, осторожно, но уверенно ступая, спустился к заранее приготовленной гондоле. Следом за ними шел старик‑коридорный и нес корзину с цветами.
Иржи, бледный от волнения, усадил свою невесту под позолоченный навес, поблагодарив старика, поставил у ее ног цветы и встал на корме с веслом в руке, как заправский гондольер.
Уроки Фаустины не прошли даром: подпоясанный золотистым поясом статный Иржи уверенно повез свою бесценную спутницу по блестящей в лучах солнца воде. Встречные гондольеры приветствовали их; дети, заметив свадьбу, бежали по узким набережным за ними вслед; несколько раз ставни в домах, под которыми они проплывали, широко растворялись, и на воду перед позолоченным носом их лодки падали цветы, вслед им летели монетки, зерно и конфетти. Однажды они услышали залп и увидели, как в небо полетела зеленая ракета и еще долго висела в воздухе, бледно мигая. Одним словом, за каждым изгибом канала Венеция доказывала влюбленным свою постоянную готовность веселиться и разделять чужую радость.
Иржи, с гордостью работая веслом, благополучно довез Николу до низкого церковного свода, который вместе с гулко бьющейся о его покатые стены водой напоминал длинный темный туннель. Они остановились, немного не доплыв до последней, самой низкой арки, которая предшествовала густой темноте, царившей под церковью.
Непонятный страх охватил вдруг Николу. Не то чтобы она боялась, что старинный каменный свод висящей над водой церкви может рухнуть им на головы — нет; но слишком уж черно было там, впереди… Она взглянула на Иржи. Тот тоже смотрел вперед с некоторой робостью, но заметив, как на него посмотрела Никола, решительно толкнул лодку вперед.
Никола зажмурилась, а когда открыла глаза, то увидела яркий солнечный свет — там, впереди, в конце этого жутковатого сырого туннеля.
Как им потом объяснила Фаустина, в этом и заключается испытание влюбленных: до того, как окажешься под темными сводами, видишь только мрак; но стоит только решиться нырнуть в эту пугающую черноту, как вскоре становится виден свет, пробивающийся с другой стороны.
И, по словам Фаустины, она сама была свидетелем того, как некоторые пары не решались пройти это маленькое испытание на пути к венцу и поворачивали назад. Таким приходилось венчаться в какой‑нибудь другой церкви.
А Никола с Иржи, выплыв с другой стороны, попали в объятия ждавших их Божены с Фаустиной: те добирались до места посуху и опередили жениха с невестой.
Свет проникал внутрь церкви Святого Стефана сквозь небольшой витраж в форме розы и через стеклянный верх купола, с которого на Николу, положив кудрявые головы на пухлые ручки, смотрели лукавые амуры, а еще выше парили херувимы с растущими прямо из шеи крыльями, и у каждого из них были очаровательные ямочки на щеках.
Молодых ждали. Тихо звучал орган, светясь своими начищенными трубами. В полутьме Никола разглядела мальчика‑подростка, с вьющимися темными волосами и в очках, который сидел за органом, извлекая из него чудесные звуки, несущиеся ввысь, прямо к куполу храма.
У золотого алтаря и у тонкой работы распятия, украшенного драгоценными камнями, ровными прямоугольниками горели ряды маленьких свечей. Вдруг откуда‑то сверху раздался голос падре, и Божена подтолкнула молодых к алтарю.
Они тихо подошли, опустились на колени и склонили головы. Свободный женский голос, такого же золотистого бархатного тембра, как и все вокруг, легко поднимаясь к светящемуся куполу, запел радостный гимн.
Внутри Николы зазвенели тысячи радостных колокольчиков. Ей казалось, что все вокруг слышат этот звон. А когда пение прекратилось, Никола услышала шаги, и сзади к ним приблизился падре в белой сутане и золотистой мантии. Он осенил их головы крестным знамением и дал знак, чтобы они встали. Обернувшись, Никола заметила еще двух служителей, которые держали над их головами два сверкающих венца — как две короны, приносящие счастье. И словно ангелы коснулись сердца Николы своими нежными крыльями.
А потом к ним приблизилась Божена, неся на серебряном блюде два теплых золотых кольца.
У Николы закружилась голова, слезы затуманили ей глаза, и сквозь окутавшую пелену счастья она услышала прозвучавший где‑то рядом чуть хрипловатый голос Иржи:
— Si.[14]
— Si, — произнесли и ее губы, будто эхо пролетело под сводом.
И она почувствовала на своей руке легкое кольцо, нежно обхватившее палец, а потом сама протянула руку и, взяв второе кольцо, надела его на палец Иржи.
Орган зазвучал громче и торжественней, и Николе показалось, что Дева Мария с потемневшей от времени фрески смотрит прямо на нее.
А потом они, взявшись за руки, вышли во внутренний дворик и прошли под Воротами Влюбленных, которые вот уже семь веков благословляют пары, проходящие здесь после венчания, на долгий и счастливый совместный путь.
На сером, потрескавшемся от времени каменном своде Ворот кружились в беззвучном танце влюбленные кролики, драконы, львы, фазаны и куропатки. Танцуя, они входили в жизнь Николы, чтобы остаться с ней навсегда, уберегая от житейских невзгод и притупляющей чувства суеты.
А дальше их ждала настоящая старинная карета с фонарями, с корзиной фруктов на заднем сиденье, и еще один подарок: уже сидя в карете, Фаустина с Боженой, пошептавшись о чем‑то, преподнесли Николе маленькую сафьяновую коробочку. Открыв ее, она увидела маску‑медальон из золота и черненого серебра — птичье лицо с человеческими глазами, точная копия тех масок, которые скрывали несколько дней назад лица двух сестер. Под покровом маски таинственно мерцал какой‑то камень с нежным красноватым отливом. И только позже Никола узнала, что этот очаровательный медальон, благодаря Фаустине, положил начало всей их венецианской карнавальной истории.
В прохладном воздухе зазвучал благовест, и кони, гулко цокая копытами, неторопливо повезли их по мощеным каменным мостовым — к «Флориану», где благословенному итальянскому вину уже не терпелось покинуть темно‑зеленые, старинного стекла бутылки, заранее извлеченные по заказу Божены из знаменитой на весь мир кладовой.
Сидя в золотистом свете «Флориана», Божена, переводя глаза с одного юного лица на другое, наслаждалась их счастьем.
Всякое беспокойство покинуло ее, и она, не думая ни о чем, пила вино и закусывала замечательными блюдами, заказанными Фаустиной.
Божена чувствовала, что и ее новая жизнь уже началась тоже — светлая и полная неизвестности. На месте, освободившемся в ее сердце после того, как Томаш бежал из зеркальной комнаты и вообще из Венеции, обитала теперь блаженная пустота, и память, переполненная впечатлениями последних дней, больше не тревожила ее.
Конечно, завтра ей придется задуматься над тем, что ожидает ее по возвращении в Прагу, но уже сегодня Божена знала наверняка, что ее дальнейшая жизнь будет связана с Венецией, которую она оставит ненадолго и лишь затем, чтобы снова вернуться сюда — и уже навсегда.
ЧАСТЬ II
Глава 1
Первая венецианская неделя прошла в сплошных заботах. Божена изучала свою квартиру, купленную в старинном доме — бывшей вилле, разбитой на квартиры.
Почти год ушел на то, чтобы разыскать в Венеции дом, принадлежавший когда‑то золотых дел мастеру — а здесь ювелиры и по сей день именовали себя только так — Америго Америги. Покидая Италию, дед продал свой дом, но почему‑то всегда говорил своим близким, что перед отъездом успел кое‑что предпринять для того, чтобы если не он сам, то кто‑нибудь из рода Америги обязательно вернулся в их родовое гнездо.
Что имел в виду Америго, Божена не знала. Но еще во время карнавала решив оставить Прагу и перебраться в Венецию, она дала себе слово отыскать дедушкин дом.
Приступая к осуществлению задуманного, Божена и понятия не имела, с какими трудностями ей придется столкнуться. Венецианская квестура[15] долго отказывалась предоставить ей доступ к архивам. Но когда она все же добилась своего, то обнаружила, что компьютер и понятия не имеет о том, что в Венеции когда‑то проживал ее дед. А старые документы хранились в таком беспорядке, что ей пришлось потратить целый месяц на то, чтобы найти в пыльных сундуках искомый конверт.
Дом Америго давно перестал быть частной собственностью; теперь в нем было три квартиры. И когда Божена жарким августовским вечером шла по набережной канала Grande, чтобы хотя бы взглянуть на дорогие ей стены, она уже ни на что не надеялась.
И то, что на окнах одной из квартир она увидела намалеванную краской надпись «Sale»,[16] было подобно чуду. Наверное, не обошлось без вмешательства любившего загадки Америго, подумала она.
Узнав у привратника телефон, Божена созвонилась с владельцем квартиры, и все достаточно просто уладилось.
Заплатив хозяину сверх названной им суммы, она уговорила его не увозить из квартиры кое‑что из старинной мебели, предполагая, что это могло остаться с тех времен, когда здесь жил дед. Так оно и вышло. Рассматривая потемневший, но хорошо полированный гардероб, венецианские кресла, комод и массивную красного дерева кровать с перламутровой инкрустацией, она неизменно обнаруживала где‑нибудь снизу знакомый ей с детства герб, который Америго всегда собственноручно вырезал, гравировал или рисовал на особенно дорогих ему вещах.
Самостоятельно подготовив интерьерные эскизы, Божена наняла мастеров, доплатила еще и привратнику, поручив ему следить за ходом ремонта и ввозом заказанной ею мебели, и уехала в Прагу, чтобы оформить нужные для переезда документы.
Управилась она с этим только к началу зимы и, не желая больше медлить ни дня, в начале декабря снова оказалась в Венеции — теперь уже полноправной хозяйкой части старинного дома и настоящей венецианкой.
И наступили венецианские будни. Только сейчас выяснилось, что квартира обогревается электричеством, а это значительно увеличивало месячную плату; кроме того, в комнате, которая должна была стать мастерской, Божену ждал сюрприз: здесь были не готовы полы. Задумав воспроизвести в новом жилье свою пражскую мастерскую, она еще в августе заказала не готовый паркет, а простые доски. Но теперь, уже приехав и на месте выражая привратнику недоумение насчет такой вопиющей недоделки, Божена услышала в ответ:
— Mamma mia! Вы могли бы понять! В этой стране вам дешевле настилать мраморные полы, чем искать дерево.
Тщательно упакованные инструменты, не привыкшие к такому времяпрепровождению, пришлось оставить на веранде, превратив ее в настоящий склад; о возобновлении привычной «текучки» пока не могло быть и речи… И Божена согласилась на паркет. Там же, на веранде, были сложены и книги, дожидавшиеся переезда в библиотеку — единственное место в квартире, полностью удовлетворившее Божену.
Довершая впечатление, старый камин отказался разгораться, когда она, получив заверения бывшего хозяина, что с камином все в полном порядке, но с тех пор еще не пытавшаяся убедиться в этом лично, принялась разводить в нем огонь, желая посидеть у огня туманным пасмурным утром.
«Ну, это уж слишком», — подумала Божена, когда после получасовых мучений вся комната наполнилась дымом. И впервые за несколько дней решила прогуляться.
Венеция в декабре поразила Божену безлюдьем. Вспоминая свои карнавальные дни, она почувствовала, как мало поняла тогда про город, в который теперь приехала жить.
Да, с тех пор прошел всего лишь год, но как много изменилось за это время. Они с Томашем развелись, Никола с Иржи ожидают ребенка… Ах, как счастлива теперь бабушка Сабина: молодые по ее настоянию переехали в пражский дом Америги, и скоро этот старый дом, утопающий в цветах и деревьях, снова станет свидетелем рождения нового маленького человечка. А сколько их уже выросло в нем…
Каналы и площади Венеции опустели. Божена словно плыла в прозрачном декабрьском воздухе. Или, может быть, снова парила как птица? В поисках подходящего слова она не заметила, как вышла на площадь Сан‑Марко.
…Башня Святого Марка мелькала перед глазами Божены, которая, кружась и размахивая руками, разбрасывала вокруг себя раскрошившееся печенье. Ее медные волосы растрепались и на фоне жемчужно‑серого зимнего неба казались неестественно яркими.
Над ней вилась стайка голубей, норовящих клюнуть прямо с ладони.
Несмотря на близость Рождества, на Сан‑Марко еще стояли круглые железные столики и можно было заказать себе кофе. Божена упала за один из них и, запрокинув голову, остановила взгляд на острой пирамидке, венчающей башню.
Ах, эти столики под открытым небом! Как любила она, гуляя по Праге, оказаться в одном из своих любимых местечек, нырнуть под навес и долго листать меню, выбирая достойное лакомство.
В пасмурные темные дни ее согревали бальзам и кофе, сдобренные каким‑нибудь замысловатым пирожным. То это была белоснежная башенка взбитых сливок, скрывающая свежие фрукты в хрустящей печеной корзинке, то ломтик брусничного торта, поданный с букетом лесных ягод в крошечном лукошке, или воздушный бисквит и дрожащее в затейливой чашечке молочное желе.
Счастливое свойство, подаренное природой! Божена любила полакомиться, но никогда не полнела: в любую погоду, в любом из нарядов ее фигура выглядела так, что вон той толстушке, заказавшей пустой несладкий кофе с хлебцами и уныло уткнувшейся в путеводитель, оставалось бы только заплакать от зависти…
В ветреные пражские дни Божена предпочитала дойти до «Будейовичи Будвар кафе», затаившегося в полутьме уютного старинного двора. Там, скрытые от всех ветров, под пестрыми, красными с белым, зонтами, в окружении изящных витых стульев стояли круглые столики. Как уютно было сидеть, потягивая из тонкого бокала пиво Budweiser — чуть горьковатое светлых сортов или пенное «резаное» — и похрустывать солеными гренками.
А в прозрачный, пьянящий весенний полдень, когда хочется поскорее снять надоевшее зимой пальто и бродить по цветущей Праге, забыв обо всем на свете, они с Томашем встречались на Ратушной площади, за их столиком, у которого всегда стояло только два стула…
Божена настолько погрузилась в воспоминания, что не заметила ни принесенного кофе, ни подсевшего к ней незнакомца.
Около полудня Луиджи стоял посреди площади и настраивал объектив профессиональной видеокамеры на фронтон собора Святого Марка. Дома он долго ломал голову, с чего начать очередную видеосказку о Венеции, нужда в которых не убывала благодаря постоянному спросу на них у туристов. И, несмотря на межсезонье, подобных заказов у Луиджи, приличного оператора, было вполне достаточно для того, чтобы ни в чем себе не отказывать. А посему он вел вполне богемный — сомнительно трезвый и абсолютно отвязный — образ жизни.
Сегодняшнему утру предшествовала ночь, трудная для Луиджи во всех отношениях, и поэтому ни один из четырех коней в объектив не давался… В нем мелькало то матовое небо, то Лев‑Марк, то бесчисленные ангелы. Луиджи хотел уже было плюнуть на свою идею и начать прямо с Иисуса, возвышающегося над конями, Марком и ангелами, но глаз его начал фиксировать непонятные помехи, мелькавшие в объективе. Будто чья‑то грива билась и металась, то исчезая, то вновь возвращаясь… Почти инстинктивно он нажал на кнопку записи и стал ловить движение, пытаясь удалиться от него.
То, чего он наконец добился, не то чтобы поразило его, но… В этом, безусловно, что‑то было. Он стал работать над картинкой, усиливая эффекты.
Он снимал площадь. Площадь была по‑декабрьски пустынна. По ней двигалась лишь одна женщина. Но это была необыкновенная женщина.
Луиджи привлекло не то, что она так необычно вела себя — кружилась по площади, кормя голубей. Нет. Ему страшно понравились ее руки — свободные, сильные. И волосы, ощутимо тяжелые, длинные, сразу напомнившие ему Венеру Ботичелли.
Луиджи кружил по площади, как кружил бы по телестудии во время прямого эфира, стараясь уловить все, взять лучший ракурс.
Вдруг женщина пропала. Вернее, пропало движение. И Луиджи оторвался от камеры.
Несколько мгновений он тупо водил глазами перед собой, пытаясь отыскать ее, наконец очнулся и увидел знакомый цвет волос совсем недалеко от себя. Незнакомка сидела за одним из оставшихся с лета уличных столиков и, тяжело дыша, смотрела на красную башню. Словно под гипнозом, Луиджи двинулся к ней.
…Сбежав от своего навязчивого поклонника, Божена свернула в узкую улицу, полную маленьких пестрых магазинов. День был пасмурный, но ей казалось, что она движется по золотому коридору, — так ярко были освещены бесчисленные витрины, словно обступавшие улицу с обеих сторон.
От количества всевозможных диковин даже у искушенной Божены разбежались глаза. Тысячи чудесных мелочей — ненужных, бесцельных, но без которых немыслима жизнь любой женщины, — были выставлены здесь в лучшем виде, чтобы искушать случайных прохожих и редких зимних туристов.
Сначала Божена решила нигде не останавливаться и, сделав небольшой круг, вернуться: ее ждали домашние заботы. Но стал накрапывать дождь, и черный шелковый зонт, заботливо распахнутый там, за сверкающим стеклом, сам попросился к ней в руки. А уж когда она оказалась по ту сторону витрин и вспомнила о приближающемся Рождестве, думать о скором возвращении стало просто бессмысленно — да она и не думала.
Это, казалось бы, легкомысленное и весьма разорительное пристрастие занимало Божену ничуть не меньше, чем ее работа: приобретала вещи она так же страстно, как и творила их сама. Не было на свете никого обаятельней Божены, делающей покупки. Неважно, что это было — вешалка для полотенца, детская игрушка или дорогая изысканная мебель. Среди обилия всевозможных вещей Божена умела найти и оценить те, которые могли войти в ее повседневность, для того чтобы придать ей какие‑то новые обворожительные качества. Она боялась обыденности и пыталась вести с ней войну, питая себя соками перемен, вносимых в ее быт каждым новым приобретением. Для этого нужно обладать особой чуткостью к вещам и иметь отличный вкус — у нее было то и другое.
Выйдя на улицу с охапкой хрустящих пакетов, Божена обнаружила, что уже наступил вечер, а шелковый зонт, с которого все началось, уже ни к чему; лучи заходящего солнца нежно касались покатых крыш, придавая им благородный оттенок старинного золота. Особая венецианская тишина — тишина воды — была разлита в вечернем воздухе.
И она не смогла отказать себе — отдала все оставшиеся наличные статному гондольеру, который, сильной рукой оттолкнувшись от берега, бесшумно повел свою лодку по лабиринту каналов, красоту которых она уже не могла вынести: прикрыв глаза, слушала мерный плеск и ощущала густой запах холодной воды…
Так закончилась первая прогулка по городу Божены‑венецианки.
Вернувшись домой, она сладко заснула — такое случилось впервые за несколько проведенных в этой квартире ночей, когда переутомление от тысячи переделанных за день дел сказывалось, мешая уснуть.
Утром Божена с удвоенными силами принялась за благоустройство дома, наверстывая упущенное вчера. И между распаковкой художественных альбомов и перевешиванием штор в гостиной она с совершенно несвойственной ей рассеянностью приняла свой первый венецианский заказ — мужской перстень по готовым эскизам. Едва взглянув на эскизы, она отказалась от аванса и быстренько выпроводила изящного, подвижного итальянца, которого даже не успела толком разглядеть, попросив перезвонить ей завтра.
Глава 2
Направляясь к дому Божены, Луиджи вспоминал свой первый столь краткий визит, гадая, узнала ли его Божена и притворилась, подыгрывая ему, или же та встреча на Сан‑Марко просто не имела для нее никакого значения и он может и дальше играть свою роль уравновешенного и меркантильного заказчика.
Как он тогда вел себя на Сан‑Марко — ну просто с цепи сорвался! Наверное, она убежала напуганная, а может быть… Да, скорее всего, он просто насмешил ее тогда и она сбежала, чтобы отхохотаться.
Зачем он нес этот бред — про свое гипертрофированное итальянское распутство, супер‑донжуанство и прочая, прочая? Он сказал ей, что она должна ему отдаться сейчас же, тут же, сразу же! И что он, опытный оператор, и в одежде видит ее нагой.
При этом он, кажется, громогласно призывал официанта и заказывал то граппу, то виски, то кьянти, то все одновременно. За что и вынужден был потом, позорно пялясь на заставленный стол, выложить все полученное за последний клип, так как напитки носили не откуда‑нибудь, а из «Флориана».
Да… И после подобной оперетты осмелиться наводить о ней справки и, вконец обезумев, явиться к ней домой, прикинувшись заказчиком?!
«Зачем я еще раз иду туда? — спрашивал себя Луиджи в сотый раз. — Не узнала тогда — узнает сейчас. Узнает и выгонит с позором». И приличные манеры, и строгий костюм, и даже эти чертовы очки, с непривычки отсидевшие нос (проходя мимо зеркальных витрин, Луиджи каждый раз ожидал увидеть вместо него что‑то вроде зрелого баклажана), — все это смешно и не спасет от грозящего разоблачения.
Но Луиджи не останавливался и не сворачивал, а приближался к дому Божены — неотвратимо и безвольно, как во сне.
Позвонив и войдя, он щеглом пропел весь занявший полчаса прием: не узнавая себя, во всех подробностях описывал заказ, восхищался обстановкой и итальянским в устах Божены, успел попутно приплести, что и сам не чужд золотых дел мастерства — да, работаю понемногу, но все исключительно для души, и никому не показываю, да и инструмент плоховат, а вот придумать могу… да? неужели заметно? а как вы догадались? ну нет, что вы, какой он профессионал!
Луиджи так тараторил, что Божена половины не понимала и отвечала часто невпопад. Да она не очень и вслушивалась: днем раньше заказчик принес рисунок, достаточно подробный, внятный — этого, пожалуй, пока вполне достаточно.
Проводив Луиджи, Божена вновь уселась было за работу, но внезапно резко откинулась на стуле: ее заказчик, Луиджи Бевилаква, и незнакомец с Сан‑Марко вдруг отчетливо совместились в ее памяти.
От неожиданности она даже вскрикнула.
Отложив начатое, Божена решила заварить кофе и потом с чашкой в руке гуляла по комнатам, пытаясь осмыслить свое открытие. Так она забрела в библиотеку.
Божена всегда обставляла библиотеку с особой любовью. Вернее было бы дать ей иное название — будуар, так как все, что должна была иметь в старину «гостиная хозяйки», здесь имелось. В слове «будуар» для Божены не было ничего странного — его всегда употребляла ее бабушка Сабина.
На втором этаже большого пражского дома Америги пряталась уютная комната с окнами в сад — в ней Божена укрывалась в душные летние дни. Эта комната была гнездом бабушки Сабины, в котором она разместила свою небольшую, отдельную от мужа библиотеку, а также хранила множество дорогих ее сердцу безделиц — мелких вещиц, акварелей, шкатулок. Уединившись, она извлекала из ридикюля свой секретный серебряный портсигарчик — ее заветная, любимая и единственная тайна! — и, лукаво подмигивая Божене, своей маленькой сообщнице, выкуривала треть ароматной папироски. А затем часами могла удивлять Божену мелочами, извлекаемыми из старого орехового бюро. Некоторые вещицы постепенно перекочевали за Боженой в детскую, подаренные ей по какому‑нибудь случаю или просто так, к удовольствию бабушки, которая больше всего на свете любила это занятие — дарить.
Время давно уже присвоило себе львиную долю Божениных детских сокровищ, но три самых памятных теперь заняли свое место в ее венецианской библиотеке — маленькой комнате, выдержанной в нежных травяных тонах и пронизанной блеском воды канала Grande. На матовой поверхности небольшого письменного стола, рядом с бабушкиным портретом, стояла крошечная золотая мушница старинной работы с серебряными ландышами на круглой крышечке. За ней, под тонким хрустальным колпачком, в облаке кружев дремала нежно‑розовая атласная кукла с фарфоровым личиком и ладошками. Складки ее юбок прикрывали футляр с бабушкиным обручальным кольцом — конечно же, дело рук самого влюбленного Америго. Когда Божена пришла к ней попрощаться перед отъездом в Венецию, Сабина подарила ей это колечко — на счастье. И это был бесценный подарок.
Примеряя кольцо, Божена вспомнила еще об одном подарке — миниатюрных «Правилах хорошего тона» в кожаном переплете, старом чешском переводе с французского. Этим чтением обычно заканчивались их с бабушкой вечера, после чего умиротворенная Божена отправлялась спать, унося в свои сны все, что увидела в волшебном будуаре. Она дотянулась до полки и достала потемневший коричневый томик.
Божена и сейчас любила листать его. В такие минуты ее длинные пальцы, касаясь мягких страниц, отдыхали от постоянного напряжения, а глаза блуждали по бежевым полям книги.
Но и тут порой ее настигало ремесло. Чтобы слышать свой голос, Божена читала вслух: «Как для неошлифованных драгоценных каменьев, так и для большинства людей, чтобы выказать свой полный блеск и красоту, необходимо приобрести полировку в соприкосновении с другими лучшими натурами. У иных только одна сторона полирована, что дает возможность не более как угадывать их внутренние достоинства»… Так и Луиджи!
Произнеся это имя, Божена вздрогнула, захлопнула книгу и поспешно затолкала ее в тесный ряд, надавив на корешок.
Безупречно корректный в ее доме, безумный на площади, в мыслях Божены этот человек становился все более навязчивым…
Когда‑то давно, в пронзительном девичестве, Божена уверилась в силе навязчивых мыслей.
Тогда это длилось не меньше года. Оказываясь в людных местах — в метро, театре Тыла, на Ратушной площади, Карловом мосту, в соборе Святого Витта, — Божена начинала стыдиться своего одиночества и, сквозь ощущение ущербности своего положения, засматривалась на пары, компании, семьи, проплывавшие мимо Боженовой жизни легко или грузно, смеясь или вздоря.
К концу года тоска разрешилась появлением Томаша…
А теперь вот уже несколько дней ее неодолимо преследовал образ незнакомца с Сан‑Марко. Божене с ее яркой, волнующей красотой не раз приходилось ловить восхищенные взгляды и настойчиво освобождаться от назойливых поклонников. То, что когда‑то вгоняло в краску Божену‑девушку, сейчас только смешило — или раздражало.
С Луиджи — теперь она знала его имя, если, конечно, его так действительно звали, — все вышло как‑то иначе. Когда он говорил с ней на площади, в его глазах и голосе сквозило нечто, делающее ее почти беспомощной перед ним, почти покорной его грубому мужскому натиску. Это «нечто» пугало и одновременно манило Божену… Пожалуй, эта гремучая смесь даже возбуждала ее.
Но там, у «Флориана», она все‑таки терпела его недолго. Чувство собственного достоинства заставило ее уйти. А теперь, когда прошло несколько дней, она снова, как девчонка, томится, желая еще раз услышать этот голос — да зачем это ей?..
Невольно она вновь и вновь вызывала в памяти его лицо: цепкий взгляд, чуть больше привычного вытянутый нос, крупный рот с тонкими нервными губами, высокие скулы, копну темных, беспорядочно вьющихся к плечам волос.
Но конечно этого было бы недостаточно, чтобы пленить ее воображение. Его страстность, заразительная и пугающая, которой сначала она почти не придала значения, списав все на его явно похмельный бред, по прошествии нескольких дней вдруг опьянила ее. Никто еще так самозабвенно и бесстыдно не восхищался ею и не добивался ее.
После разрыва с Томашем Божена решила, что против неотразимых мужских чар у нее стойкий иммунитет и больше ничто и никогда не заставит ее быть беспомощной и покорной. Но неуязвимость, приобретенная такой дорогой ценой, таяла в Божене, как лед, что долгой зимой сковывал сильную реку любви.
Глава 3
Теперь оставалось только выследить хозяйку. Карл мерил шагами тесный гостиничный номер. Да, вот и в Венеции похолодало. И эта вечная сырость…
Хорошо бы сейчас оказаться дома. Мама, наверное, сидит у камина и близоруко щурится на огонь.
А в голове у нее уж точно копошится жуть: Карл, а вернее, эта безумная затея и его исчезновение; письма ниоткуда, в которых он так не похож на себя — слишком уж уверен, полон планов на будущее.
…Карл очнулся и снова уставился на стол, старую карту на нем, фотографии, вырезки из газет и остывший чай. Действительность вернулась к нему, и она требовала действий.
Он еще раз взглянул на план виллы, обмотал горло зеленым шерстяным шарфом, накинул свой поношенный плащ и вышел.
Вечер был хмурый, и Карл долго всматривался в гладь канала в ожидании отблеска огонька водного «трамвая».
Он жил в Венеции почти месяц; странность жизни на воде уже не будоражила его так, как в первую неделю. Тогда он целые дни, а порой и ночи напролет перемещался по городу: то бродил по узким улицам и выгнутым мостикам, то скользил по лабиринту каналов, ослепленный богатством золотистой Венеции. Блеск этого города — Карлу иногда казалось, что и жители его тронуты позолотой, словно дворцы дожей, — опьянял его.
Но, двигаясь по городу, он вместе с тем приближался и к цели своего безумного путешествия.
Причалив на мгновение, катер подхватил Карла и понес его к сердцу Венеции — площади Сан‑Марко, вблизи которой и располагалась найденная наконец старинная вилла, хранящая тайну, известную только ей самой, Карлу и, может быть, привидениям.
Уже без внутренней дрожи он приближался к светящимся в темноте окнам. Любовное отчаяние, преследовавшее его последние полгода, и напряжение последнего месяца дошли до предела и превратились в свою противоположность: он был, как говорится, абсолютно спокоен.
В левой части здания, отведенной под одну из квартир, горело лишь крайнее окно.
«Это здесь», — решил Карл.
На кухне Божены пахло айвой, а значит, пахло пражским Рождеством.
Тяжелые, тепло‑желтые плоды были спущены со шкафа и царственно разлеглись на столе. Божена нежилась, вдыхая аромат бабушкиного сада, маминого дома.
Так всегда и было. За несколько дней до Рождества она вбегала в родительскую спальню, придвигала к старинному шкафу тяжелый стул, потом столик и вскарабкивалась по ним.
Там, за резной оградкой, рядом с круглой шляпной коробкой светились эти знойные феи, поселившиеся в комнате в сентябре и с тех пор ждавшие своего часа. И только в конце декабря Божене разрешалось вызволить их и в ивовой корзинке перенести на кухню.
Дозревшая айва шла в рождественский пирог, который приходила печь бабушка Тереза, а до того чудесные плоды несколько дней украшали кухню. Больше всех ими любовалась Божена.
Может быть, с тех пор она и полюбила все теплое, светящееся, солнечное и теперь смело соединялось в ее руках тяжелое теплое золото с аскетичным серебром, как айва с декабрем в ее детском сознании.
Божена приготовила опару и поставила ее на верхнюю полку — у потолка скопилось много тепла. Опара росла на глазах, а вместе с ней рос и праздник внутри Божены.
Она задумалась. И вдруг почувствовала, как чья‑то теплая рука легла ей на голову. Вскрикнув, она вскочила, обернулась и увидела себя в зеркале.
Опара в ее волосах была теплой и вязкой. Поднявшись, она выползла из миски на полку и шлепнулась прямо на Божену, так напугав ее.
Наспех скинув платье и шаль, Божена в одних тапочках помчалась в ванную и захлопнула за собой дверцу душа. Запрокинув голову, она подставила ее под теплые струи и принялась поспешно смывать с волос тесто.
Вдруг зазвонил телефон. Она ждала звонка сестры — и выскочила из ванной, на ходу закутываясь в широкое полотенце.
Чтобы не намочить трубку, Божена включила «громкую связь» и плюхнулась на мягкий ковер рядом с телефоном. В ответ на ее «да?» в спальне раздался знакомый мужской голос. Голос говорил по‑итальянски.
— Добрый вечер, это Луиджи… Луиджи Бевилаква, ваш заказчик…
— Да, я слушаю вас… — В трубке повисла тишина. Она казалась Божене неловкой. А еще ей казалось, что Луиджи видит ее, сидящую на ковре. — Ваш перстень еще не готов. Я забыла предупредить вас о том, что работаю долго. Но с этим уже ничего не поделаешь…
— Нет, нет! Я не хотел торопить вас, ни в коем случае. Я лишь… знаете?.. как бы это сказать?.. У меня тут одна мысль… если еще не поздно! Но если уже ничего нельзя менять, я согласен и так.
— Да нет, почему же? Я лишь закончила расчеты и заказала огранщику камень. Так что если вы не собираетесь поменять его — все остальное еще возможно. Вы занесете рисунок или…
— Да я все так вам объясню, на пальцах. Только, понимаете, так получилось… Я сейчас звоню от привратника, да, да, вашего дома, у меня тут была назначена встреча, неподалеку. И я, возвращаясь, подумал… А всю будущую неделю я ужасно занят. Вот я и решил спросить у вас… Может быть, сегодня еще не поздно к вам забежать? На минутку? Я все очень быстро… объясню и уйду, не буду вас беспокоить!
И сама не понимая, что делает, Божена едва слышно, но странно и страстно уронила:
— Да.
И услышала короткие гудки.
Не чувствуя себя, она пошла к двери.
Так, завернутая в небесно‑голубое полотенце, широким жгутом стянувшее ее тело, Божена отворила ему дверь.
Он вошел и ничуть не удивился.
Божена увидела глаза, так пронзившие ее тогда, на Сан‑Марко. Они ей снились. Не раз она обрывала этот сон, потому что хотела проснуться. Но сейчас… Во всяком случае, просыпаться она не хотела.
В передней был полумрак, за стеклами веранды шелестел дождь. Они стояли друг перед другом.
Луиджи заметил едва различимую дрожь в ее теле.
Он чувствовал, что сейчас может сделать все, что захочет, — Божена открыла ему не только дверь в свою квартиру, но и саму себя. И он желал ее — страстно, сладко, нежно…
Луиджи как‑то по‑домашнему шутливо извинился, а она, смутившись, встрепенулась и воскликнув: «Ах! Подождите минутку!» — скрылась в ванной.
Глава 4
Карл устроился у окна и достал бинокль. Ему предстояло следить за женщиной, но это его не смущало. До последнего месяца он был врачом, практикующим хирургом, и еще не совсем забыл об этом. Поэтому он был холоден и расчетлив, думая лишь о своей тайне и о способах приближения к ней.
Морской бинокль был куплен здесь, у старьевщика, — но на это ушли почти все последние деньги. Теперь отступать было некуда: о неудаче Карл старался не думать.
Двенадцатикратное увеличение сделало мир неправдоподобным: Карл неумело водил биноклем из стороны в сторону, пытаясь попасть в цель. Вот. Желтый свет и еще что‑то желтое.
Карл нащупал накатку и стал вращать барабанчик, настраивая резкость.
Из желтого тумана стали выплывать упругие бока и нежная кожа каких‑то небывалых, но все же неуловимо знакомых Карлу форм.
За деревянным столом сидела женщина с золотистыми волосами и смотрела на блюдо с большими желтыми фруктами, вид которых так поразил Карла.
«Да это просто лихорадка, золотая лихорадка! — Он старался успокоить себя, но не мог. — К этой женщине я должен буду проникнуть в дом и…»
Карл пытался хорошенько рассмотреть ее лицо — ему предстояло узнать ее завтра, когда она выйдет из дома, и следовать за ней, ища подходящего случая, а до тех пор просто запоминая ее обычные маршруты.
Ближайшие действия таковы: проникнуть в дом в ее отсутствие, вместе с кем‑нибудь из соседей миновав непреодолимый с точки зрения Карла домофон. Проходя мимо комнаты привратника, нужно обязательно о чем‑то непринужденно болтать с вошедшим, симулируя близкое знакомство. Но как это сделать? Заговорить вдруг запанибрата, а чуть позже сослаться на то, что обознался, или на непонятливость иностранца? Натянуто, но допустим. Главное, добраться до второго этажа — там есть ход на пожарную, бывшую черную, лестницу, на которой можно спрятаться на некоторое время.
Новый план перестроенной виллы Карл приобрел у дежурного в пожарной части, которого названная Карлом сумма вполне устроила. Правда, тот едва понял его английский и хотел было позвать начальника, но Карл поспешно стал говорить, что он professore, ученый… В общем, дело сделалось.
Теперь Карл представлял себе каждый закуток виллы, ориентировался во всех ее перестройках и был уверен, что именно в угловую квартиру ему необходимо проникнуть. В ту, что справа от пожарной лестницы.
До сих пор Карлу казалось, что от хирурга до взломщика один шаг, но как его сделать, этот шаг?
Оставалось только следить за хозяйкой квартиры, изучать ее привычки и наконец решиться…
Перед смертью дед Америго не раз говорил Божене: «Про всякого человека захоронен клад, только надо уметь взять его, ибо он себе цену знает. Ну а тебе, милая моя, проще. Я уж тебя не забуду, дай срок».
Но попал он в больницу уже без сознания. Потом, ненадолго очнувшись, пробормотал что‑то давнему другу, оперировавшему его…
Так дедушкина тайна и не досталась никому.
А Божена взяла себе в наследство ощущение сказочности дедушкиного ремесла, его мастерской, в которую она позволила себе войти, только став мастером. Там она и нашла главный в своей жизни клад — инструменты деда, тщательно подобранные, выверенные, бесценные, которые теперь, спустя три четверти века, вернулись на свою родину, в Венецию, в дом, где жили раньше родственники Божены по отцовской линии.
За три четверти века многое изменилось: дом, который Америги продали, был поделен на квартиры, и вот теперь одна из них досталась Божене — женщине с чешским именем и итальянской фамилией.
О том, что она Америги, Божена помнила всегда.
Дедушка с детства говорил с ней на своем родном языке, итальянский был для Божены таким же родным, как и чешский. Читать она научилась, листая «Трактат о ювелирном искусстве» Челлини — настольную книгу дедушки Америго. Мало в ней понимая, она искала в тексте знакомые слова, такие певучие и озорные, и, найдя, смеялась и подпрыгивала от удовольствия.
Своих кукол она назвала Лучита и Росита, а соседскую собаку, злобную колючую шавку, так любившую рвать Божене чулки, наскакивая из‑за угла, обзывала Дуче.
Немного повзрослев, Божена с замиранием сердца читала о похождениях золотых дел мастера Бенвенуто Челлини и представляла себя отважным молодым человеком с огромным протазаном в руке, слугой, сопровождающим своего господина, когда тот, «выехав из Неаполя ночью, с деньгами при себе, чтобы не быть подкарауленным и убитым, как это в Неаполе принято, с величайшей хитростью и телесной силой защитился от нескольких всадников, которые на него наехали, чтобы убить».
А потом ей хотелось стать его возлюбленной и проливать о нем слезы, которые зовет он «миленькие слезы». А потом, решив родить именно сына, Божена назвала его Бенвенуто, что значит «желанный», и, замечтавшись, в мгновение ока стала Элизабеттой и в половине пятого Ночи Всех Святых ровно в тысяча пятисотом году произвела на свет создание, поднесенное ее мужу в прекраснейших белых пеленах.
Так, мечтая, «родила» она Бенвенуто Челлини, а он во многом породил ее. Во всяком случае, ее работа всегда была для нее тем, от чего ее «разбирало нетерпение», и за каждый новый заказ она бралась с «великим усердием».
Когда Божена проснулась, Луиджи рядом с ней не было. Она прислушалась: в квартире стояла тишина. Одевшись и выйдя в прихожую, она даже обрадовалась исчезновению этого странного человека. Все произошло слишком внезапно. Ей нужно было разобраться со своими мыслями и, главное, чувствами… Как могло случиться, что она, тридцатилетняя, уверенная в себе и вполне самостоятельная женщина, отдалась этому малознакомому мужчине? С ней никогда не происходило ничего подобного… Или это Венеция так действовала на нее? В задумчивости остановившись у зеркала в прихожей и глядя на свое отражение в нем, она вдруг обнаружила забытый Луиджи бумажник. Поддавшись желанию тут же вернуть его владельцу, Божена открыла бумажник в надежде найти там визитку. Но сразу же увидела эскиз, выполненный знакомой рукой и явно предназначавшийся для нее. Отложив бумажник, она прошла с эскизом в мастерскую и положила его на верстак, рядом с другими рисунками Луиджи.
«Ничего себе на пальцах… — изумилась Божена, рассматривая тщательно воспроизведенные детали. — Но что же изменилось? Или это просто копия того, что есть у меня?» Она покрутила эскиз в руках и вдруг заметила, что на обратной стороне листа тоже что‑то есть. Там был изображен старинный перстень с механизмом, позволяющим сдвигать камень в сторону, — перстень‑тайник.
«Да он неплохо владеет предметом, — решила Божена, — тут уж налицо ювелирные изыскания. Но зачем ему это понадобилось?»
Внезапно ей показалось, что кто‑то смотрит на нее с улицы. Плотно сомкнув портьеры, Божена выключила верхний свет, оставив лишь рабочую лампу, присела за верстак и глубоко задумалась. Она начинала убеждаться в том, что этот человек играет с ней, подбрасывая загадку за загадкой. Тогда, на Сан‑Марко, он, кажется, следил за ней… К чему потом этот карнавал — очки, чужой костюм, когда она не узнала его? А то, что произошло сегодня ночью? Эта его внезапная власть над ней? Зачем она ему?
Божена побледнела от вдруг нахлынувшего страха. К тому же ее профессия уже давно приучила ее к известной доле риска: с точки зрения традиционных для всех ювелиров мер предосторожности, соединять мастерскую и дом было достаточно безрассудным, но ей так давно этого хотелось…
Решив во что бы то ни стало взять себя в руки, она пошла на кухню и, заварив цветочный чай, немного расслабилась.
Она пошла в спальню и встала у самого зеркала. «Пришли мои тридцать лет, и я стала многого бояться», — подумала она. Божена не так часто, как другие женщины, пристально вглядывалась в свое лицо, но, встречаясь со своим отражением в дневной суете или вечером, перед сном, принимала его любым, лишь изредка удивляясь происходящим с ним переменам.
Но сейчас она стояла и долго, не отрываясь, смотрела на себя. Потом протянула к зеркалу руки и прикрыла своему отражению глаза.
Теперь она видела, а отражение — нет.
То, что она видела, напомнило ей маску с ее лица.
«А ведь я всю жизнь леплю свою посмертную маску. Впрочем, как и все…» — подумала она вдруг.
Ее размышления прервал телефонный звонок.
— Мальчик! Мальчик! Никола родила мальчика! — кричала телефонная трубка голосом Иржи.
— Evviva bambino![17] — от волнения Божена перешла на итальянский. — Когда?
— Здесь и сейчас! Я звоню прямо из клиники.
— Не может быть — именно в рождественскую ночь?
— Да! Мы и сами не ожидали. Он такой большой, ну прямо медвежонок, и уже рыжий! Нас теперь трое рыжих — вы, я и Богумил…
Божена почувствовала, что сейчас заплачет.
— Иржи, я так рада, поцелуй за меня Николу!..
Положив трубку, она, утирая набегающие на глаза слезы, тут же решила, что полетит в Прагу, и заказала по телефону билет на самолет.
Глава 5
Рождество разблисталось и совершенно ослепило Франту.
Чеслав приехал под вечер, разодетый, надушенный, и повез ее в ночной клуб.
Вся Прага сверкала, как нарядная елка, и манила взглянуть под ветки — там ли подарки? Да жизнь и так состояла единственно из подарков — подарков и праздников. Иной Франта ей быть не позволяла. Вот и сейчас она мчалась в красивой машине — раз! — с одним из своих обожателей — два! — всегда готовая наслаждаться — три!
Будто в такт ее мыслям, в салоне раздалось рок‑н‑ролльное: one‑two‑three![18] — Чеслав поймал ретро‑волну.
— Закрой глаза, крошка! И открой рот…
Что‑то щелкнуло, и Франта почувствовала на губах его пальцы и какой‑то холодок на языке. Отвернувшись, выплюнула — на ладони изумрудно переливалось колечко, а Чеслав уже ласкал ее свободной рукой.
Выходки Чеслава становились все экстравагантнее, а Франта не привыкла никому в этом уступать. Зная, что возбуждение ей к лицу, она послушно подставила грудь его настойчивой руке, глядя на крошечную ящерку, изящно обвившую ее мизинец.
От машины и до невообразимого неонового свечения, обозначавшего вход в клуб, Чеслав, пыжась, тащил ее на руках — Франте так и хотелось случайно лягнуть его в бок. Видимо, на этот раз она переусердствовала в выборе партнера — вечер становился непредсказуемым.
В клубе было не протолкнуться, но Чеслав уверенно тянул ее по ступенькам куда‑то наверх, следом за услужливым портье, а Франта ломалась, изображая неутолимое желание танцевать.
Но вот они оказались в длинном коридоре, напоминавшем гостиничный, и портье распахнул перед ними тяжелую дверь.
В полутьме огромного номера горели свечи и стол ломился от яств — иначе Франта не назвала бы томящиеся в хрустале кулинарные соблазны.
— Мой рождественский сюрприз!
— Ах, Чеслав, твоя куколка утром не поместится в платье!..
— Тогда следует пе‑ре‑дох‑нуть.
И он игриво прошествовал туда, где подразумевалась спальня.
Но это Франта, пожалуй, еще оттянула бы.
Чеслав не относился к разряду мужчин, к которым она испытывала телесное влечение. А что касается влечения душевного… Его она, пожалуй, не испытывала ни к кому. Но судя по подаркам Чеслава и его любимым местам развлечений, в ее сети попалась крупная птичка.
«Ему бы хоть каплю внешности, прибавить‑убавить — и я бы решилась. А как он настаивает!» — тешилась Франта, потягивая нежное розовое вино.
Раздался стук в дверь, и внесли чудный воздушный пирог — Чеслав вальяжно ущипнул ее и подставил щеку для поцелуя.
Чувствуя, что сегодня ей не отвертеться, Франта уселась к нему на колени и жадно вцепилась зубами в нежное крылышко куропатки, оказавшееся пересушенным.
…Засыпая уже под утро, она, отодвинувшись от обмякшего тяжелого мужчины в дорогих носках, вспомнила Карла — на фоне храпящего Чеслава он показался ей голливудским красавцем, идеальным любовником, страстным и возбуждающим. И ей захотелось быть с ним, испытывать настоящее наслаждение, а не этот… полуфабрикат.
Но Карла — и не без ее участия — в Праге не было. И, зевая и даже в мыслях кокетничая, Франта подумала: «Что ж, найдешь клад — будь по‑твоему… женись на здоровье, я — не против…»
Из полутьмы передней, сторонясь призрачной веранды, Карл вошел в комнату, чья форма напоминала асимметрично ограненный камень. Комната казалась изломанной, но в то же время вся была во власти удивительно точной закономерности, недоступной непосвященному. И если бы древняя мушка могла застыть не в янтаре, а в топазе, Карл, наверное, почувствовал бы себя ею.
Вся комната была пронизана сероватым свечением. Карл сказал бы, что нет на земле цвета нежнее.
Пол был составлен из мраморных граней, не повторяющих одна другую. Кованый, но почти воздушный лев поддерживал крыльями и головой прозрачный овал стола. Карл подошел, и лев взглянул на него сквозь стекло.
У стола — три металлических стула на длинных ножках. Изогнутые светильники в правильном беспорядке — на стенах и потолке. Карл зажигал их, словно рассыпая крошки‑бриллианты.
Прозрачный потолок не был стеклянным — в нем переливался живой хрусталь.
Парчовые кресла, кушетка и диван, прихотливо расставленные, удваивались, отражаясь в мраморе пола.
Карл подошел к старой кладки камину, просунул в него руку и стал считать кирпичи. Дойдя до седьмого снизу, он надавил на него, но кирпич оставался на месте.
Карл чувствовал, как силы оставляют его, руки становятся ватными.
В отчаянии он упал на диван… и проснулся.
Окно было полно чудесной голубизны. Золотистые отсветы падали на пол и играли на стенах и потолке. Проспав рождественскую звезду, Карл окунулся в праздничное утро.
«Уже поздно, проспал!» — он озирал бумажные обои и линолеум своего номера.
Но, сравнив сон с явью, Карл почувствовал преимущество такой обстановки: чудесному сну он все еще предпочитал чудо наяву.
Его охватило пронзительное чувство, будто, захваченный книгой, он читал ее, упиваясь опасностью, и вдруг обнаружил, что главный герой — он сам и действие — накануне развязки.
Сознание Карла раздваивалось: ему бы сейчас избавиться от обычного Карла, пражского хирурга, и оставаться только героем, настойчивым и отважным — настоящим кладоискателем. Но эти минуты внутренней пустоты, эти сны…
То, что он решил воспользоваться тайной, когда‑то доверенной отцу Карла его другом и пациентом, темпераментным итальянцем, — тайной, жившей в семье на правах сказки, которую детям рассказывают на ночь, — было, конечно, безумием. Правда, тайна была с картинками — планом и картой… Нормальная логика перестала существовать для Карла, когда он, отыскав свой старый школьный ранец, рылся в нем в поисках отданных ему в детстве на откуп сокровищ Америго Америги, которого в их семье любили, но считали давно выжившим из ума. Но ведь со своим засаленным, с тщательно заклеенными прорехами конвертом старик явился однажды не к кому‑нибудь, а именно к маленькому Карлу!
Сочтя их союз счастливой гармонией младенца и сумасшедшего, вечно занятый отец лишь отмахивался от Карла, когда тот приставал к нему с какой‑то схемой и потрепанной картой. Но однажды уступил и провел вечер в топографических упражнениях, объясняя сыну, как читать карты и ориентироваться по ним. Засыпая, был очень доволен собой: как ловко он использовал дребедень, забившую голову Карла, в педагогических целях — преподал ему урок географии и истории заодно.
Тому, что Карл не сбежал из дома в поисках сокровищ еще тогда, способствовало лишь обещание, данное старику‑итальянцу: сберечь содержимое конверта до совершеннолетия Божены, любимой внучки Америго и детской подружки Карла, а затем раскрыть ей тайну и, взяв клад в приданое, жениться на ней.
Идея женитьбы на Божене Карла тронула не особенно — он подумал, что в будущем как‑нибудь все уладит, и обещание дал.
Америго отдал ему конверт и, успокоившись, вскоре скончался.
С тех пор Карл затаился и только время от времени посматривал на легкие облака, посылая привет своему сообщнику, и чиркал в карманном календаре, отмечая приближение назначенного срока.
Так скоротал он чуть больше года, а потом стал остывать и отвлекаться на то да на се, вырос из своего ранца, в котором повсюду таскал с собой конверт… В новый портфель он его уже не переложил и стал стремительно взрослеть…
И надо же! Как быстро эта невозможная в своих выходках Франта вернула Карла во младенчество! И вот он — в Венеции, ищет всеми забытый клад, совершая подвиг за подвигом для своей взбалмошной возлюбленной…
При мысли о Франте у Карла все сжалось внутри. Да она сама не знает, какая она! Кто еще будет любить и терпеть эту колкую, нервную, но головокружительно живую девчонку так бескорыстно, как он!..
В подобных размышлениях он торопливо перебегал с мостика на мостик по направлению к дому Божены.
До конца года — до истечения назначенного Франтой срока — оставалась всего лишь неделя… И Карл был полон решимости.
Глава 6
Он успел.
Красивая женщина со следами бессонной ночи на незнакомом, но что‑то смутно напоминающем Карлу лице, с дорожной сумкой через плечо, вышла из дверей, за которыми он напряженно наблюдал, битый час подставляя спину холодному, несмотря на солнечный день, ветру.
«Попалась, голубушка», — возбужденно подумал Карл и, спрятав в сумку бинокль, незаметно пошел следом за ней.
Но идти пришлось недолго. Пройдя немного до пристани, женщина остановилась, явно желая попасть на пароходик, бегавший отсюда каждые десять минут вверх по каналу Grande. Карл, незаметно пристроившись за спинами ожидающих, прошел вслед за ней на подошедший вскоре пароходик, и они поплыли.
Смотря на профиль той, за которой он следил, Карл думал: «Бывает же… Приедешь куда‑нибудь к черту на рога — и даже там тебе будет казаться, что всюду встречаешь знакомые лица. Ну с чего я взял, что где‑то уже видел ее?! Просто она — типичная венецианка: хороша собой, ноги длинные, волосы, как у местных мадонн».
Пароходик, проплыв под мраморной аркой моста Риальто, вскоре причалил, но незнакомка не стала выходить. Кондуктор объявил, что следующая остановка — вокзал Санта‑Лючия, и они поплыли дальше, рассекая исхлестанную ветром воду, по каналу, пересекающему Венецию наподобие перевернутой буквы «S»… Наконец справа показалось здание вокзала.
Выйдя на берег, Карл увидел, что его попутчица торопливо идет в сторону стоящего уже у платформы поезда. Скрываясь в привокзальной сутолоке, он увидел, как она остановилась у одного из вагонов, достала из сумки билет и протянула его служащему в железнодорожной форме, а затем скрылась в полутьме вагона.
«Ну что же, кажется, это мой шанс», — подумал Карл, судорожно нащупывая в сумке конверт с планом. — В моем распоряжении — как минимум несколько часов. Вперед!»
И он заторопился на пароходик, который еще стоял у причала.
Сами звезды покровительствовали ему. Входная дверь была приоткрыта. Привратника на месте не оказалось. И вскоре он стоял один на один с массивной деревянной дверью, на которой красовалась надпись «Америго».
«Неужели сохранилась?» — мелькнуло в голове у Карла.
Он присмотрелся — медная дощечка на удивление новая.
«Не однофамилица же она? А может, какая‑нибудь дальняя итальянская родственница?» Времени на размышления не было. И он, надев перчатки, достал из сумки набор ужасающих его воображение приспособлений, которыми теперь предстояло орудовать.
Вдруг внизу хлопнула входная дверь, и Карл, поспешно побросав инструменты обратно, метнулся влево и скрылся на пожарной лестнице. Вскоре шаги на лестнице затихли, и он услышал, как дверь хлопнула где‑то наверху.
«Будь хладнокровнее», — сказал он себе, стараясь унять сердцебиение. Он снова вышел из своего укрытия и вернулся к двери в квартиру — последней преграде, отделяющей его от клада.
Корпя над неподдающимся замком, он подбадривал себя: «Ошибиться я не мог. Вилла внешне не изменилась, и план старый Америго начертил достаточно подробный: судя по расположению каминных труб на крыше, нужный мне камин находится именно здесь. Только бы его не разобрали из‑за старинных изразцов — они сейчас очень дорого ценятся».
Вдруг замок щелкнул и поддался — Карл вздрогнул и, повернув ручку, надавил на дверь. Она отворилась.
И только он, оглянувшись по сторонам, хотел войти в пустую квартиру, как услышал женский голос, оживленно рассказывающий что‑то. В ужасе Карл отпрянул назад и машинально закрыл дверь. Снова раздался щелчок — это сработал автоматический замок, и Карл, не помня себя от страха, вновь юркнул туда, где уже прятался не так давно, — в полутьму лестницы.
На этот раз ему пришлось провести там не пару минут, а больше часа. Он не знал, что ему делать. Спуститься вниз значило бы отказаться от задуманного вовсе. Потому что другого такого же благоприятного случая проникнуть в дом, как сегодня, когда привратник, видимо, отдыхал после рождественской ночи, а дверь вообще непонятно почему была приоткрыта, ему не представится уже никогда. Да и решится ли он во второй раз? Карл сильно в этом сомневался.
Но что за голос он слышал? Ведь в квартире, по его расчетам, никого не должно было быть! Оставалось только одно — ждать. Но чего? Того, что рано или поздно из квартиры кто‑то выйдет? Или возвращения хозяйки?
Карл начинал отчаиваться. Время шло, а в голову ничего не приходило. Волнуясь, он стал прохаживаться по темной лестничной площадке, потом ходить вверх‑вниз по ступенькам, пока не оказался наконец у самого чердака. Подергав обитую жестью чердачную дверь, Карл обнаружил, что она не заперта.
Скорее от нечего делать, чем с какой‑нибудь определенной целью, он, наклонив голову, вошел на чердак. Там царило запустение. Сдувая со старых стропил липкую паутину, Карл тихо, чтобы не услышали обитатели последнего этажа, прошелся по этому ветхому царству.
Сквозь пыльные стекла сюда пробивался солнечный свет, и вездесущие в Венеции блики плясали на изнанке покатой крыши. Старые сундуки, рыболовные сети, подкидные утки для охоты, винные бочки — Карл подошел к ним поближе, чтобы убедиться, что все они, к сожалению, пусты, — а в дальнем конце он разглядел острый нос заваленной разным хламом гондолы. И в его голову вдруг пришла смешная, но почему‑то успокоительная мысль: «Может, плюнуть на все это безумное предприятие, на капризы взбалмошной Франты — и сделаться гондольером? Работу спокойней трудно себе представить. Скользишь дни напролет по прекраснейшему в мире городу — и никаких кладов не надо!»
Увлекшись, Карл присел на запыленную лаковую корму и стал представлять себя в этом качестве: вот он, загорелый красавец‑мужчина, поигрывая мускулами под белоснежной сорочкой, в соломенной шляпе, щегольски надвинутой на лоб… «Стоп!» — сказал он себе. Его блуждающий взгляд остановился на брезентовой робе и грязно‑зеленой фуражке, висящих на гвозде. Точно такие же он видел в пожарной части, где и приобрел план этой виллы.
Он вскочил и чуть было не побежал туда, где висели эти сокровища, но вовремя опомнился и, осторожно переступая тюки и стараясь не греметь старой посудой, приблизился к противоположной стене.
Сняв робу с гвоздя, Карл рассмотрел ее и обнаружил на рукаве надпись «pompiere» — примерно такую же, как и на воротах пожарной части.
Да, это именно то, что ему нужно! Карл вытряхнул пыль, потом разыскал какую‑то щетку — деревянная ручка ее была сделана в форме льва — и принялся вычищать старую робу с такой тщательностью, словно это его выходной костюм. Потом он снял с себя плащ, надел прямо на свитер заметно посвежевшую робу, взял в руки фуражку и уверенно зашагал в сторону выхода, а затем по ступенькам вниз.
Карл придумал. Теперь он чувствовал себя не взломщиком, а служащим пожарной части, производящим дежурный осмотр старых каминов. В таком виде он мог смело предстать как перед привратником, так и перед хозяйкой квартиры. Он мог также больше не взламывать эту чертову дверь, а просто позвонить, войти в квартиру и на глазах этой рыжеволосой венецианки — а если это не она болтала там по телефону, то на глазах кого угодно — долго и вдумчиво возиться с камином, вообще делать с ним, что понадобится, невинно объясняя все это мерами пожарной безопасности и контроля.
Вдруг Карл остановился на полпути и стукнул себя по лбу. Как он мог не подумать об этом! Ведь он ни слова не знает по‑итальянски! «Хорош пожарник, нечего сказать… Сеньоры, к вашим услугам международный чешский патруль», — Карл зло дурачился, устало опустившись на холодную ступеньку. А потом вдруг резко поднялся и вновь зашагал вниз. «Была не была, прикинусь немым!»
Чтобы снова не передумать, он сразу направился к двери и позвонил. Никто не отозвался. Он позвонил еще. Еще и еще. Безрезультатно. И тогда, немного подождав, он опять взял в руки свой инструмент и на этот раз уже быстро открыл знакомый замок.
Видимо, в тот день он совсем потерял счет времени. В квартире было абсолютно темно. Только сквозь чуть приоткрытые створки жалюзи на застекленную веранду просачивался свет фонаря. Пока он ждал, переодевался, продумывал, решался — наступил вечер.
Карл пытался включить свет в коридоре, но потом передумал. «А вдруг кто‑нибудь с улицы заметит?» Может, эта предосторожность была излишней, но он предпочел перестраховаться.
Он решил отойти подальше от прозрачной веранды и там поискать выключатель.
В полной темноте, держась за стену, он прошел вглубь квартиры и наткнулся на закрытую дверь. Открыв ее, прошел дальше.
«Как же я не догадался захватить фонарик!»
Карл не мог найти выключатель. Он шарил в темноте, медленно и ровно выщупывал пространство перед собой, но потом, натыкаясь на какие‑то предметы, стал путать, где искал, а где еще нет.
И наконец под его пальцами что‑то щелкнуло — но светлее не стало. Зато во мраке вдруг послышался звук, знакомый и обычный, но здесь, в сердце Венеции, у площади Сан‑Марко, совершенно неуместный — Карл слышал мерно нарастающий, отчетливый шум ночного поезда, несущегося откуда‑то издалека.
От неожиданности он попятился и ткнулся в стену бедром. Ослепительный свет заставил его зажмурить глаза, а грохот исчез.
Он стоял у стены кухни, а на подоконнике отдыхал только что вскипевший желтый чайник, шум которого так напугал Карла!..
И тут все спокойствие и хладнокровие взорвались где‑то в области поясницы Карла, и жестокий приступ радикулита победил в нем героя — оставив лежать на полу чужой кухни человека, почти добравшегося до своего единственного, главного в жизни клада.
Франта любила похвастаться. Именно поэтому она уговорила Чеслава пригласить к себе и ее подружку — классную девчонку!
Они полулежали с Хельгой на медвежьих шкурах и смотрели, как два неистовых молодца в боксерских перчатках, чьи широкие скулы с трудом помещаются на экране, дубасят друг друга из‑за какой‑то грудастой девицы. Чеслав, прежде чем завалиться спать, включил им запись «Титанов рестлинга», выделил на просмотр две кружки пьянящего «резаного» — а пива в другом виде Франта не признавала — и устроился тут же, в холле: спать под включенный телевизор было его любимым занятием.
Дождавшись, пока он перестанет ворочаться, Хельга, давняя приятельница Франты и вообще, можно сказать, боевая подруга, спросила:
— Где же ты подцепила этого головореза? Вид у него — прямо скажем… Но дом… — Хельга присвистнула, — за день не обойдешь! Это мы сейчас на каком этаже?
— Какая тебе разница? Сколько бы ни было — все не наши. И нашими не будут.
— А давай попробуем? — Хельга смешно вздернула нос. — Мне кажется, я твоему Чеславу тоже приглянулась. Ты видела, как он на меня смотрел?
— Не надейся! Он мне сегодня сказал, что я для него в первую очередь интересный собеседник.
— Это когда же вы беседуете‑то? — Хельга презрительно сморщилась. — А‑а‑а, он, наверное, беседам отдает предпочтение — по известным причинам? Ну, тогда это не для меня.
Потянувшись, как кошка, Франта приблизилась к Хельге и заговорила на тон ниже:
— Чеслав у меня — открытие месяца. Гвоздь сезона! Но ставить все равно нужно не на него.
— Понимаю, понимаю… Но где же, кстати, твой неувядающий фаворит?
— Карлуша у меня — в длительной командировке. Изучает на месте венецианские камины.
— Да он же у тебя, кажется, гинеколог.
— Почти угадала — хирург. Ему какой‑то старый болван когда‑то сказал, что один из каминов — звенит. Ну, он тогда поверил, а потом забыл. А недавно мне проболтался: о детстве заговорил, о мамаше своей ненаглядной… Ну, тут и всплыл этот клад.
— Не может быть! Неужели это правда? — Хельга завистливо молчала.
— В детстве Карлуша дружил с одним ювелиром из Венеции, — спокойно продолжила рассказ Франта. — Точнее, этот ювелир когда‑то из Венеции сбежал. А цацки свои оставил в камине. Ну, наверное, все увезти не смог. Вот я и послала Карла. Пусть пошурует немного. И срок ему назначила — до Нового года. Так что осталось совсем чуть‑чуть… Я, может, за него и замуж выйду — если он до клада докопается. А там — посмотрим.
Глава 7
Божена держала на руках крошечного мальчика и таяла от наслаждения. Никола, измученная этим ненасытным существом, спала здесь же, в детской. Иржи, тоже не смыкавший глаз сутки напролет, заснул прямо в кресле‑качалке. Божена прилетела вчера, а сегодня утром они вернулись из клиники домой.
Сколько было треволнений, неожиданностей! И все — из‑за этого крошечного конвертика, с которым сияющая Никола вышла из родильного отделения. Божена представить себе не могла, что дети бывают такими крошечными! И когда она вчера вбежала перед закрытием в детский магазин, то не сразу смогла поверить, что все эти носочки, шапочки, платьица, аккуратно разложенные в витринах, — не кукольные. А сверкающие рожки, всевозможные пустышки, клеенки, манежи, ходунки, тряпичные гирлянды (чтобы щупать!) и пахучие зубные колечки (чтобы грызть!), погремушки и прочие принадлежности пестрой империи детских вещей просто ошеломили Божену. И, боясь ошибиться и выбрать что‑нибудь не то, она купила в подарок Богумилу огромную плюшевую собаку с длинными ушами, всю в очаровательных складочках, ямочках, с большими печальными глазами. Но когда на следующий день малыша развернули и, накинув на спину собаки кружевную пеленку‑попону, положили на нее Богумила, оказалось, что это недавно появившееся на свет существо, беспорядочно дрыгающее ручками и ножками, само меньше собачьего уха.
А еще напоследок, уже выходя из магазина, Божена увидела вырезанные из особого звучащего камня звездочки и полумесяцы, которые нежно звенящим хороводом откликались на малейшее движение воздуха. Божена попросила и это завернуть. И, уже не останавливаясь и не оглядываясь, просто заставила себя уйти…
Молодые папа и мама, пытающиеся разглядеть в красном личике своего отпрыска фамильные черты Фиалки и Америго, были не менее трогательны, чем их дитя.
Париж возмужал так, что Божена, не видевшая его всего несколько недель, была поражена. Узнав, что Никола ждет ребенка, Божена поначалу отнеслась к этому весьма скептически. И больше потому, что Иржи казался ей еще слишком юным, не способным взять на себя ответственность, связанную с отцовством. Божена боялась, что, когда ребенок станет мешать его душевной близости с Николой и отвлечет ее на некоторое время от жизни балетной, Парижа станет раздражать то, что поначалу может лишь умилять. Но сейчас, понаблюдав за ним, Божена успокоилась. Она не могла бы объяснить почему, но что‑то такое появилось в Иржи, и это «что‑то» заставляло Божену подолгу не сводить с него восхищенных глаз.
Никола‑мама стала еще нежней и прекрасней. Черты ее лица смягчились, а серые глаза казались бархатными, когда она смотрела на сморщенное личико Богумила, прильнувшего к ее груди.
Божена восхищалась сестрой: такая тоненькая женщина — и смогла родить ребенка по всем правилам. Об этом твердили веселые акушерки, вышедшие провожать Николу на крыльцо, это оценила и бабушка Сабина, не один раз переспросившая Николу о том, как протекали роды.
Никола привычно сыпала незнакомыми Божене словами, бабушка понимающе кивала и отвечала ей тем же. И во всех этих материнских премудростях была для Божены особая музыка и особая боль…
Но суета первого дня не оставляла никому ни свободной минутки. Под чутким руководством бабушки Сабины Богумила купали в розовой воде, потом ополаскивали в березовом отваре, смазывали кедровым маслом, подпаивали родниковой водой, учились различать причины его плача, вслушиваться в нежное посапывание… Даже стригли серебряными ножничками его удивительно острые ноготки! При последней процедуре Божена не присутствовала — у нее не выдержали нервы…
…Малыш, пригревшись у нее на руках, заснул, и она осторожно положила его в бамбуковую колыбельку, извлеченную с чердака, тщательно вычищенную и снова возвращенную в детскую.
Все же большую часть дня Богумил сладко спал, и в это время в старом доме царила благоговейная тишина. Но эта тишина отличалась от той, что жила здесь в последние годы. В любое мгновение она была готова прерваться младенческим криком или ласковой колыбельной. Божена даже себя несколько раз поймала на том, что мурлычет под нос что‑то необычайно ласковое…
Бабушку Сабину было просто не узнать! Она уже успела доказать, что лучше всех управляется с пеленками, — сегодня все собрались смотреть, как ловко она заворачивает мурлычащего от удовольствия крепыша в нежные полосы ткани. Выяснилось также, что никто не мог успокоить его так быстро, как она. И почти весь день Сабина, несмотря на прохладу, провела рядом с коляской в своем любимом саду!
Божена поднялась в будуар и застала там бабушку. Она сидела в кресле у орехового бюро и, раскрыв одну из шкатулок, перебирала пальцами свои украшения. Почти все они были подарены ей ее мужем, который не раз говорил — и трудно было понять, шутит он или серьезен, — что Бог дал ему в руки его мастерство только затем, чтобы он мог делать достойные подарки этой женщине, его любимой жене.
Уезжая из Венеции, Божена надела на руку подаренное бабушкой кольцо: «Талисман не должен лежать без дела. Пусть теперь следует за мной повсюду». И теперь, когда она положила свою руку бабушке на ладонь, та сразу же нащупала на ее пальце свой подарок.
— Спасибо, что не забываешь нашего Америго…
— Добрый вечер, бабушка. Богумил не мешал тебе спать?
— О, нет. Эти звуки для меня подобны меду. Как же давно наш дом не слышал детского крика…
— Да… А первым здесь родился мой отец. Ты помнишь, бабушка, как это было?
— Да, дорогая, конечно. Сейчас мне намного проще вспоминать, чем раньше: ведь перед моими глазами только воспоминания… А ты, Божена, помнишь, как сильно Америго любил тебя? Он так хотел, чтобы у нас когда‑нибудь родилась дочка…
— Мне иногда кажется, что он проводил со мной больше времени, чем моя мама.
— Да, он был твоей главной нянькой. Никого к тебе не подпускал, сам гулял с тобой, купал в травах, пел тебе колыбельные… Надеюсь, он‑то видит, какая ты теперь красавица.
— Ах, бабушка, знала бы ты, как я счастлива, что вернулась в тот дом, по которому дедушка так тосковал. И теперь мне кажется, что он и этот пражский дом построил похожим на свою венецианскую виллу. Ведь я сейчас живу в этой самой части, на втором этаже: да‑да, у меня есть комната, похожая на твой будуар, дальше… — Божена встала, приоткрыла дверь и заглянула в сторону спальни, — ну точно такое же расположение! Как же я раньше этого не замечала? Да, моя квартира занимает большую часть второго этажа — и в ней точно такие же шесть комнат, как в этом крыле вашего дома.
— Америго говорил мне об этом. Но вообще‑то он не очень любил вслух вспоминать о своей итальянской жизни, так долго держал всю эту историю про себя…
— Какую историю? — Божена вернулась к бабушкиному креслу и с любопытством прислушалась.
— А ты разве не знаешь, почему он покинул Венецию?
— Отец умер рано, а мама никогда не рассказывала мне…
— Думаю, твоя мама не знает. А что, сам Америго никогда не говорил тебе об этом?
— Нет. Точнее — да, он часто рассказывал мне на ночь одну сказку, мою любимую: о таинственном перстне, о золотых дел мастере, который один знал очень важный для какого‑то злодея секрет. А однажды он сказал, что когда‑нибудь я узнаю его тайну и она принесет мне счастье…
— Да, Америго любил загадки. И поэтому я и сама никогда не узнаю, что в этой истории реально, а что — красивая сказка. Хотя, может, все так и было на самом деле.
Божена вновь почувствовала себя маленькой кудрявой девчушкой, задержавшейся допоздна в бабушкином будуаре.
— Но если ты хочешь, я расскажу тебе то, что знаю сама. — Сабина встала и привычным движением открыла верхний ящик бюро. — Боженочка, пожалуйста, достань отсюда темно‑синий альбом. Он должен быть где‑то внизу.
Божена заглянула в полутьму ящика и из‑под связки старых писем извлекла большой альбом, обшитый какой‑то мягкой тканью цвета индиго. Никогда раньше она не видела его.
— А теперь садись рядом со мной.
Божена села в кресло, уже давно перенесенное сюда из дедушкиного кабинета, и приготовилась слушать. Бабушка, дождавшись тишины, заговорила:
— Открой этот альбом. Там, почти в самом конце, есть пражский пейзаж. Да‑да, акварель.
Божена принялась листать тяжелые страницы. На каждом листе с одной стороны, аккуратно прикрытые папиросной бумагой, в прорези для фотографий были вставлены пастельные эскизы, карандашные наброски, завершенные акварели.
— Ты ведь, наверное, тоже этого не знаешь? Когда‑то давно я очень любила рисовать. Но больше всего на свете я любила краски — охру, марс, сурик, умбру… Самыми любимыми были зеленый ультрамарин и индиго. Я ведь мечтала стать живописцем, и у меня уже кое‑что получалось… Видишь этот акварельный этюд? Кажется, он на предпоследней странице. Я писала его, стоя на склоне Петршин и глядя, как Влтава серебряной лентой петляет по Праге. И пока я вдохновенно смешивала краски и касалась кистью картона, за моей спиной остановился твой будущий дед и стал рассказывать мне сказку, очень похожую на ту, что ты любила слушать перед сном.
— Сначала он мешал мне работать, и я сердилась на этого говорливого красавца, сказавшего, что он итальянец. Но потом, очарованная им и его рассказом, согласилась пойти с ним — бедовая голова! — в ближайший погребок и до самого вечера слушала его, слушала, слушала… В тот вечер он подарил мне вот эту печатку со своего мизинца, — бабушка быстро нащупала ее в шкатулке и подала Божене. — Я носила его первый подарок на среднем пальце. И он был мне дороже всех последующих, даже обручального кольца. Потому что эта вещица — словно его автопортрет: Америго делал ее для себя.
А на следующей странице — последнее, что я написала в своей жизни: портрет безумно влюбленного в меня человека, за день до нашей свадьбы.
Больше я никогда не брала в руки ни кисть, ни пастель… Разве что рисуя вместе с сыном, а потом — нянча Николу и тебя. И, я думаю, ты понимаешь почему.
Помнишь, Божена, я спросила однажды тебя и Томаша, почему у вас нет детей? И по твоему молчанию я тогда очень многое поняла… Боже мой, как мы с тобой похожи! Но только твой бывший муж частенько предпочитал отмалчиваться, а мой себе этого не позволял. И я всегда знала, насколько он чадолюбив и как нужен ему, так долго бывшему бездомным, настоящий теплый дом.
— А живопись никогда не была для меня хобби, так же как и замужество: обручившись с Америго, я сделала выбор — в пользу семьи. И никогда об этом не пожалела… Я не обидела тебя ничем? — Бабушка вопросительно коснулась лица Божены, будто взглянула. Но та улыбалась от счастья. Божена и представить себе не могла, что бабушка — обычно немного закрытая, сдержанная в эмоциях, — так понимает ее.
И словно нащупав на лице внучки улыбку, Сабина продолжила:
— Но я отвлеклась… Вот что рассказал мне высокий незнакомец на горе Петршин. Никогда после он не говорил мне ни о чем подобном, а я не спрашивала. Но оба мы знали, что я ничего не забыла, и тот рассказ не был просто сказкой.
Жил в лагунном городе человек, которого все знали. Звали его так же, как и его далекого предка, тоже преуспевшего в золотых дел мастерстве, — Америго Америги. Он был весьма искусен в своем художестве и имел собственную мастерскую.
До своего двадцатипятилетнего возраста он успел сделать много красивых вещиц, и о нем говорили — а в Венеции зря говорить не станут, — что его изделия столь божественны, как только можно вообразить.
К тридцати годам у него уже была слава первейшего и превосходнейшего золотых дел мастера в Венеции.
Однажды он взялся выполнить сложный заказ: мужской перстень с лилией из красивейших алмазов.
Но это был не простой перстень. Прекрасная лилия скрывала под собой тайник: один из нежных лепестков сдвигался, а под ним перстень был полый. Зачем это нужно, Америго не знал, да и не имел привычки докучать своим заказчикам излишними расспросами.
Америго сделал работу, а впоследствии человек, заказавший ему перстень, был обвинен в убийстве одной знатной дамы: она была отравлена. Ювелир оказался втянутым в расследование дела, и квестура в любой момент могла объявить его соучастником.
Имея повсюду друзей, Америго заранее был осведомлен о том, что случилось и что по венецианским законам ему может грозить, если суд признает его вину. Дело уже клонили к тому, что Америго будто знал, для чего в этом злосчастном перстне предусматривается тайник.
Америго успел продать свой дом одному из друзей, надеясь когда‑нибудь выкупить его назад. Веря в магическую силу камней, он предварительно спрятал в нем клад — коллекцию из наиболее ценных камней, веря в то, что это поможет ему вернуть дом назад. Но не зная, какого цвета бывает страх, он не внял ничьим советам и не согласился тайно покинуть Венецию, чтобы переждать, пока все уляжется.
И дождался того, что у него в мастерской нашли пропавший после убийства перстень, видимо подброшенный туда самим следователем, а в перстне был найден яд, которым и была отравлена жертва.
И уже на следующий день громким, как из бочки, голосом, запомнившимся Америго на всю жизнь, председатель городского совета огласил ужаснейший приговор, какой Америго едва ли мог себе представить: лишение свободы и продажа с молотка его мастерской со всем содержимым в пользу одного из монастырей.
Что могло быть страшней для мастера, чем лишиться мастерской, своего инструмента и запасов превосходных камней и металлов?
И когда совет ушел обедать, Америго, видя, что никто из челяди совета за ним не смотрит, сбежал из дворца.
Он направился в ближайшую церковь и, увидев там какого‑то монаха, с которым даже не был знаком, именем Божьим попросил спасти его. Добрый брат отвел его в свою монастырскую келью, а когда стемнело, показал ему потайной выход из монастыря, довел до хранимой им гондолы и лишь сказал на прощание: «Сила Божья тебе да поможет».
С этого и начались скитания Америго. Покинув город со стороны Торчелло, он, идя по ночам, а днем скрываясь в зарослях тростника, добрался до Пьяве. Знакомый таможенник в Сан‑Доне, у которого Америго и хранил деньги за проданный дом, помог ему с документами. Переждав несколько дней, мой будущий муж простился с Италией навсегда и пустился под чужим именем путешествовать по Европе.
К тому времени, как он увидел меня на дорожке Петршин, он уже несколько лет прожил в Праге, которая пришлась ему по сердцу: и гербом, на котором, подобно венецианскому, красовался венценосный лев, и своей испещренной каналами частью — той, которую мы называем Пражской Венецией. Там он и обосновался и даже умудрился вскоре открыть собственную мастерскую: Америго успешно работал в Праге, поначалу даже не зная языка, но ему все удавалось, потому что руки у него и без языка говорили, кто он такой.
…Но это, пожалуй, получилась не сказка. Сам Америго лучше рассказывал.
Устав от своего рассказа, бабушка поднялась и попросила Божену проводить ее в спальню. Там ее встретила горничная, и они простились до утра.
Божена, чувствуя, что после того, что она услышала, долго не сможет заснуть, решила прогуляться по саду.
Но в передней ее остановил телефонный звонок. Трубку, видимо, было некому снять — все Фиалки спали, и Божена, уже одетая, прошла в гостиную и подошла к надрывающемуся телефону.
— Это дом Америго? Мне нужна Божена! — услышала она незнакомый мужской голос.
— Да, это я.
— Божена. Здравствуй. Это Карл. Карл Ледвинов. Я звоню из Венеции. Пожалуйста, возвращайся домой.
Глава 8
Карлу было смешно, больно и страшно. Не думая больше о конспирации, он передвигался по квартире на четвереньках, зажигая повсюду свет.
«Вот попал», — думал он, пытаясь добраться куда‑нибудь, где можно было бы лечь. Двигаясь таким образом и время от времени ощущая острую жгучую боль, стреляющую в пояснице, он думал о том, что не отказался бы сейчас даже от того, чтобы хозяйка этой огромной квартиры оказалась где‑нибудь поблизости и вызвала врачей. «А там — будь что будет! Эх, говорила тебе мама: „Карлуша, не связывайся с этой сумасбродкой!" А иначе она Франту и не называла».
Наконец Карл добрался до просторной комнаты, видимо служившей гостиной. Но когда он нажал на расположенный низко выключатель, то увидел, что ошибся. В комнате не было никакой мебели, кроме двух строгих кресел, маленького столика с разбросанными на нем бумагами и еще чего‑то, напоминающего станок. Карл прополз дальше и увидел какие‑то загадочные приспособления, полки с инструментами. В углу стояло большое бюро с множеством маленьких ящичков. Карл попытался открыть один из них — заперт. И все они, видимо, были закрыты на ключ: Карл заметил изящные замочные скважины, выполненные в форме раковин.
«Недурно», — оценил Карл и, словно в нем опять проснулся взломщик, забыв на какое‑то время про боль, стал дергать за маленькие ручки‑капельки, проверяя ящички по порядку.
Наконец один из них мягко выдвинулся: Карл заглянул внутрь и замер. Он увидел множество драгоценных камней, уже ограненных и сверкающих так, как сверкали сны Карла все последние ночи. «Клад!!!» — мелькнуло в его разгоряченном сознании; и какую‑то долю секунды он был готов поверить, что это действительно и есть тот клад, к которому он так долго стремится, — просто хозяйка уже разыскала его и хранит теперь в ящичке.
Машинально он потянул за следующую ручку — этот ящичек тоже подался. Там лежало множество фотографий. Карл вытащил несколько и увидел на них перстни, подвески, колье, медали с эмблемами, броши, даже причудливо выгнутое пенсне, а с обратной стороны — надписи. Карл вдруг понял, что понимает написанное. Он прочитал по‑чешски на одном из оборотов: «Исполнено для выставки во Флоренции мастерами Фаустиной Сальвиати и Боженой Америго». Повернув фотографию, он увидел необычный медальон в форме маски.
Не веря своим глазам, Карл резко встал и тут же опять опустился на пол, чертыхнувшись и схватившись за спину. «Как Боженой Америго?! Причем здесь Божена?!»
Ничего не понимая, он снова взглянул на фотографии. На каждой обратной стороне стояла подпись Божены Америго и дата.
Трудно было не догадаться, что все сфотографированные ювелирные изделия сделаны одним мастером, имя которого — Божена Америго.
«Не может быть…» — прошептал Карл. Наконец он понял, что находится в ювелирной мастерской. Он попытался вспомнить, как выглядела мастерская старого Америго, где он несколько раз бывал мальчишкой. Ему показалось, что именно такой станок, если не тот же самый, был и там.
Но все остальное в голове не укладывалось. В доме Америго Америги живет его внучка Божена, детская подружка Карла, и она — тоже ювелир?
Думая отыскать разгадку в других комнатах, он снова выполз в коридор. Но вскоре его спину пронзила такая ужасная боль, что он с трудом открыл первую попавшуюся дверь и оказался в спальне — судя по обстановке, которую Карл, не найдя выключателя, с трудом разглядел в слабом свете, проникающем в комнату из коридора. Добравшись до кровати, он с проклятиями взобрался на нее и стал искать какое‑нибудь приемлемое положение для своего несчастного тела. А когда боль немного отпустила его, Карл неожиданно для себя крепко заснул.
* * *
Проспав почти до полудня, он проснулся действительно в спальне и, предполагая все что угодно — даже то, что в соседней комнате уже давно дежурит полицейский вместе с вернувшейся хозяйкой, — крикнул, не пытаясь подняться:
— Эй, есть тут кто‑нибудь?!
Но потом спохватился и, решив, что кричать так, находясь в чужой, взломанной тобой накануне квартире, по меньшей мере невежливо, попробовал сесть.
За ночь ему лучше не стало. Более того, Карл вскоре понял, что сегодня он не может и ползать… Смирившись с этим, он стал разглядывать спальню.
То, что у хозяйки квартиры безупречный вкус, он понял еще накануне — ползая по просторному коридору. Но в том, спит он сейчас или бодрствует, Карл усомнился уже через минуту: блуждая по комнате, взгляд его вскоре наткнулся на то, что он видел в своем рождественском сне. Кованый лев снова глядел на него сквозь стеклянный овал столешницы. «Боже мой! — подумал Карл. — Да не сошел ли я с ума?»
Но тут зазвонил телефон, и знакомый ему женский голос — тот самый, который он слышал вчера, едва приоткрыв входную дверь, — произнес несколько слов по‑итальянски, а потом заговорил на знакомом Карлу языке: «Вы попали в дом Божены Америго. К сожалению, сейчас я в отъезде. Если вы хотите мне что‑нибудь передать, говорите после второго сигнала или перезвоните в Прагу по телефону…»
Далее следовал номер, а после паузы и гудка Карл снова услышал итальянскую речь — хрипловатый мужской голос сказал что‑то по‑итальянски…
Потом все стихло. Но через некоторое время снова раздался звонок — видимо, мужчина не успел записать пражский телефон, — и Карл опять прослушал информацию, записанную на автоответчик.
Глядя на блики, делающие потолок подвижным, и слушая голос Божены, Карл подумал, что, слава Богу, пока он еще в Венеции, то он есть и на этом свете. Но рассердившись на самого себя за невовремя проснувшееся чувство юмора, стал пенять на звезды и провидение, сыгравшие с ним такую злую шутку. На память пришли слова, которые он не раз слышал от того, у чьей внучки невольно оказался в гостях. Старый Америго любил начинать рассказ о своей жизни с одной и той же фразы, которую Карл дословно вспомнил сейчас: «Слушая это, познавай, как звезды не только направляют нас, но и принуждают».
«Ах, дедушка Америго, знал бы ты, как я хотел обмануть тебя… — Карл скорбно вздохнул, но тут же вспомнил о своем радикулите. — А может быть, ты уже наказал меня за несдержанное слово? Но Франта! Знал бы ты, что она сделала со мной! Ведь это только из‑за нее я вспомнил о твоих чертежах и явился сюда».
Но сетовать на то, что уже произошло, было бесполезно, и Карл стал думать о том, как ему теперь быть.
Может, позвонить привратнику? Пусть вызывает полицию и заодно врача.
Но как только Карл представил себе, как мчатся по вызову катера с включенными сиренами, а потом его выносят из дома на носилках смеющиеся санитары, ему стало не по себе.
Он уже не сомневался в том, что взломал дверь своей детской подружки, которую не видел так много лет… И еще он знал, что вчера Божена уехала в Прагу и у него достаточно времени, чтобы все‑таки довести задуманное до конца.
С огромным трудом спустившись на пол, он, глядя на телефон, подумал, что здорово было бы сейчас позвонить Франте. Карл представил, как у нее расширяются глаза, когда она узнает, откуда он звонит. «Можно сказать, что я ранен и скрываюсь от преследования в заброшенном доме с добычей в руках. И только она может спасти меня и сокровища — пусть приезжает!» В свете подобной перспективы Карл чуть было не схватил трубку, но вовремя опомнился, подумав, что лучше будет, если он для начала убедится, что попал именно туда, где в камине томится спрятанный Божениным дедушкой клад.
Но начал он с того, что нашел, где у Божены хранится аптечка. Наглотавшись таблеток, вскоре почувствовал, что боль чуть отступила. Карл попытался подняться на ноги — получилось! И тогда, медленно переступая, он пошел по квартире, отыскивая гостиную.
Следующая после спальни комната — судя по плану, который Карл помнил наизусть, самая большая — видимо, и есть гостиная. А в ней и должен быть камин… Карл заглянул в приоткрытую дверь.
Но в гостиной камина не оказалось! Карл схватился за карман и достал план. Рука Америго несколько раз обвела место, где он сейчас стоял; две жирные стрелки вели от круга к квадрату, обозначавшему камин. Да тут и понимать нечего — ясно написано: camino.
Карл смотрел и не верил своим глазам: камина не было.
Он подошел ближе и уставился на стену перед собой: со старой пожелтевшей фотографии, висевшей именно там, где предполагался клад, смотрел на него Америго Америги — и Карлу показалось, что тот ехидно прищуривает один глаз, глядя, как отчаянный кладоискатель буравит взглядом стену.
Но смотрел Карл недолго. Он с трудом подошел к стене и взялся простукивать ее вдоль и поперек, пытаясь отыскать спрятанный в ней камин. Но стена везде отзывалась одинаково… В отчаянии он сел прямо на ковер, а потом вдруг пополз по привычке куда‑то и лишь в коридоре опомнился и с трудом поднялся в полный рост.
Он заглянул в соседнюю уютную комнату, окна которой тоже выходили на канал Grande… И здесь, в ее зеленоватой глубине, у стены, которую он только что простукивал с другой стороны, белел мраморный камин! Сердце Карла бешено заколотилось, он приблизился… и ужаснулся: камин, украшенный орнаментом из разноцветного фарфора, был новый!
До позднего вечера он простукивал его, пытался отыскать старую кирпичную кладку, в конце концов принялся выламывать его внутренности, ковыряя тяжелой кочергой, отмычкой, даже ножами, принесенными из кухни. Но под отделкой оказались не кирпичи, а огромные каменные глыбы, тщательно подогнанные одна к другой. И чем дальше он крушил, тем больше убеждался в том, что ломает недавно построенное.
Когда же Карл перестал видеть в темноте свои руки, он поднялся и пошатываясь вышел из комнаты. Измазанными в золе руками включил автоответчик и стал ждать, когда вежливый голос Божены продиктует ему пражский телефон.
Глава 9
Божена слушала, что ей говорит этот странный мужчина, и ничего не понимала.
Но потом постепенно стала вспоминать. Карл… Не тот ли это мальчик, сын доктора, старого дедушкиного друга, с которым она играла, когда дедушка брал ее с собой в гости? Он почему‑то очень нравился Америго. Иногда дед, ласково беря Божену за руку, подводил ее к Карлу и говорил: «Посмотрите‑ка друг на друга. Ну чем вы не пара? Надо бы нам с доктором Ледвиновым устроить вам настоящую помолвку. А уж на приданое я не поскуплюсь!»
Дети, весело хохоча, вырывались из сильных еще рук старика и разбегались в разные стороны, чтобы потом встретиться в саду и, пока взрослые не видят, залезть на старую сливу, понарошку спасаясь от стаи свирепых волков. Или убежать за ворота, туда, где по дну канавы бежал ручей — весной бурный, а летом больше похожий на болото. Если же зима выдавалась снежной, они выстраивали настоящие крепости из снега, а потом вместе сушились у камина и пили горячее молоко, слушая рассказы Божениного дедушки.
Но потом дети пошли в разные школы. А когда Америго умер, они встретились в последний раз — на дне памяти после его похорон.
И вот спустя больше двадцати лет Карл звонит ей и говорит, что ждет ее в доме Америго в Венеции.
Если бы по случайному стечению обстоятельств Божена не провела сегодняшний вечер в будуаре бабушки Сабины и не узнала наконец историю деда, она бы сразу бросила трубку и не стала бы слушать весь этот путаный вздор про какие‑то клады.
Но подросший Карлуша рассказывал ей сейчас примерно то, что Божена услышала из уст бабушки полчаса назад.
Выходило, что Карл, безумно влюбленный в какую‑то Франту, выболтал ей однажды тайну, доверенную ему Божениным дедом. Услышав это, Божена вспылила:
— А с какой стати дед рассказал тебе то, что скрывал даже от меня, своей любимой внучки?!
Тут‑то Карл и поведал ей трогательную историю о том, что Америго когда‑то помолвил их, следуя старинному итальянскому обычаю, и взял с него слово в будущем жениться на Божене, а до тех пор не раскрывать ей тайну о кладе. Сначала Америго доверил эту тайну отцу Карла, а когда понял, что тот не воспринял его рассказ всерьез, подарил доказательства — план и карту — маленькому Карлу.
— Но почему ты раньше не позвонил, не разыскал меня? — Божена вдруг почувствовала, что, словно маленькая, готова обидеться на человека, которого не вспоминала все эти годы, за то, что он открыл другой женщине тайну, которую дед приберег для нее.
— Понимаешь, я и сам уже давно перестал верить во всю эту историю. А когда вспоминал о конверте, который вручил мне твой дед много лет назад, то уже не мог точно сказать, что выдумал когда‑то сам, а что было на самом деле. Иногда мне казалось, что Америго просто играл со мной в какую‑то игру, после которой и остались все эти карты и чертежи…
— Но почему же ты звонишь мне из моего дома?
— Божена, пойми, еще пару дней назад я готов был сделать ради этой капризной девчонки все что угодно…
Божене вдруг стало ужасно смешно. Подумать только! Карл взломал ее дверь и ищет в ее квартире дедушкин клад. А не найдя, звонит ей, чтобы спросить, знает ли она что‑нибудь о старом камине!
Чтобы не рассмеяться в трубку, Божена чуть прикрыла ее ладонью и, продолжая слушать Карла, прикрыла на всякий случай и свой рот, прижимая трубку щекою к плечу. Но тут Карл сказал такое, что трубка выскользнула у Божены на пол, а она сама, торопливо нажав на рычаг, просто согнулась от смеха в три погибели.
«Мой чайник неожиданно включился и напугал его!.. Ой, я не могу больше!» — Божена изо всех сил сдерживалась, чтобы ночью никого не разбудить своим бурным хохотом. Но взрывы смеха продолжали безжалостно сотрясать ее тело: «И у него случился приступ — ха‑ха‑ха! — радикулита… И я должна вызвать ему врача, потому что он не может… Он же взломщик…»
Вновь зазвонил телефон. Божена долго не брала трубку, пытаясь успокоиться. Но наконец взяв ее, ничего не услышала. «Наверное, плохо соединили. Надо перезвонить этому горе‑кладоискателю — а вдруг с ним действительно что‑нибудь серьезное? Представляю, что стало с моим новым камином!» — думала она, набирая свой венецианский номер.
— Алло? Карл?
Сначала трубка молчала, а потом Божена, все еще продолжая смеяться в сторону, неожиданно услышала итальянскую речь. Женский голос вежливо сообщил ей, что Божены нет дома, и так далее. Затем она выслушала то же самое по‑чешски, надеясь, что Карл возьмет трубку. Но видимо, он боялся сам подходить к телефону, и вскоре раздался длинный гудок, а потом Божена услышала, что кто‑то говорит с ней — снова по‑итальянски:
— Божена. Ты не слышишь меня сейчас! Это Луиджи. Если я не дозвонюсь до Праги, то знай: я люблю тебя.
— Луиджи, я слышу. Где ты? Говори! — выдохнула в трубку Божена, но тут же поняла, что разговаривает с автоответчиком, и медленно опустила трубку на рычаг…
На следующий день она уже летела обратно в Италию и, глядя на огромные облачные горы, не знала, смеяться ей или плакать…
Глава 10
Луиджи вертел в руке перстень и вспоминал свою мать.
Маленькая венецианка с большим размахом… Последний ее роман закончился тем, что она уехала в Америку два года назад с богатым поклонником ее красоты и ее вокала; и теперь она, наверное, поет свои романсы для него одного…
Его мать была по‑настоящему красивой женщиной. Она была плотью от плоти Венеции — льстивой и подозрительной красавицы — не то сказки, не то ловушки для иностранцев.
Всю жизнь имея дело с мужчинами, не отказывавшими ей ни в чем, она каким‑то образом умудрилась ничего не накопить. Почему же, уезжая, она не взяла с собой этот перстень — может быть, свою единственную действительно ценную вещь? Оставила на память сыну?
Луиджи нашел этот перстень в старой шкатулке матери, пытаясь разыскать в ней какую‑нибудь булавку, чтобы приколоть на стену пражский телефон Божены.
«Занятная вещица…» — подумал Луиджи, рассматривая явно старинный перстень. В том, что ему цены не было, он не сомневался. Перстень имел форму цветка, обвивавшего палец. «Похоже на лилию. А лепестки выложены алмазами! То есть — как их правильно назвать? — бриллиантами. Никогда раньше его не видел. Интересно, откуда он у нее?»
Но чем дольше Луиджи смотрел на свою находку, тем сильнее ему казалось, что он уже где‑то видел эту вещь. Или его вводил в заблуждение переливающийся в лучах заходящего солнца цветок, или…
Но потом, вспомнив вдруг, зачем он полез в эту старую шкатулку, Луиджи судорожно схватился за карман, проверяя, хрустит ли там вчетверо сложенный листок с записанным на нем телефоном.
«А может, все‑таки позвонить Божене в Прагу? Ведь не будет же она сама звонить в свою пустующую квартиру, чтобы узнать, не звонил ли ее странный заказчик, то вдруг являющийся к ней в рождественскую ночь, то исчезающий, даже не успев ее поздравить».
Луиджи хотел сказать Божене то, что он уже успел поведать ее автоответчику. И он хотел знать, почему она вдруг уехала, надолго ли.
Плохо еще представляя себе, что он скажет Божене по телефону, Луиджи разузнал код Праги и стал набирать непривычный номер, то и дело глядя в бумажку.
Трубку подняли так быстро, что Луиджи от неожиданности смутился и чуть было не передумал разговаривать, но потом быстро попросил к телефону Божену. Говоря, он вдруг понял, что вряд ли в Праге поймут его итальянский, если, конечно, трубку не взяла сама Божена.
Незнакомый голос на чистом итальянском языке ответил ему:
— Сегодня днем Божена улетела в Италию. Вам известен ее венецианский телефон?
— Да, спасибо.
— А с кем я говорю?
— Я ее заказчик. И не очень еще давний знакомый… — сформулировав это, Луиджи мысленно добавил: «…который ищет сейчас возможность признаться Божене в любви».
— Вы не могли бы назвать свое имя?
— Луиджи Бевилаква.
— Очень приятно. А я — Сабина Америго, бабушка Божены…
Некоторое время в Праге молчали, и Луиджи подумал, что связь почему‑то прервалась. Он хотел уже повесить трубку, но вдруг услышал:
— Луиджи, я даже не знаю, могу ли попросить вас… Я так волнуюсь за Божену… Дело в том, что в ее квартиру влез один странный субъект… они вместе играли детьми, но не виделись уже много лет. И сейчас он — ни много ни мало — ищет в ее камине клад. Но не может никак найти и позвонил Божене, чтобы она поскорей приезжала… Все это похоже на бред, а может, я что‑то и не так поняла. Но кто знает, что у этого Карла на уме? А вдруг он сумасшедший? Или, упаси Господи, маньяк? Божена, наверное, рассердится на меня за то, что я вас беспокою… Но не могли бы вы как‑нибудь помочь ей? Хотя бы находиться с нею рядом, когда она вернется в свою квартиру… Ах, извините, Луиджи, я ведь даже не спросила, откуда вы звоните! Как услышала итальянца, так сразу решила, что непременно из Венеции.
Сабина говорила, сама удивляясь своей многословности, а Луиджи слушал и все больше хотел расцеловать эту милую замечательную старушку… Не дослушав, он быстро заговорил в ответ:
— Я с удовольствием помогу Божене. Сейчас же пойду туда и постараюсь опередить ее. Не беспокойтесь, я достаточно силен, чтобы справиться даже с сумасшедшим. До свидания, дорогая Сабина. И спасибо вам!
И не тратя больше ни минуты, воспламененный опасностью, Луиджи бросился к дому Божены, на все готовый ради той, которая так неожиданно вошла в его жизнь меньше месяца назад.
«А если она не приедет?» — с ужасом думал Карл, свернувшись калачиком на диване вблизи злополучного камина: ползать он уже не мог — запасы Божениной аптечки были исчерпаны, и боль в пояснице не отпускала его теперь ни на минуту…
И вдруг он услышал долгожданный звонок в дверь.
«Неужели Божена? — Но ему было уже все равно. — Кто бы там ни был, я открою!» И Карл, собрав последние силы, слез с дивана и на четвереньках пополз‑таки к входной двери. Дотянувшись до замка, он пару раз повернул его, но открыть дверь уже не смог.
И после невыносимой для Карла паузы она открылась сама. Он поднял глаза и увидел на пороге внушительного вида мужчину со свирепым лицом и самыми серьезными намерениями.
«Да ты действительно маньяк! Ну‑ка поднимайся!» — почти проревел Луиджи, который с минуту назад влетел в дом Божены и, боясь, что уже опоздал, так быстро промчался мимо зевающего привратника, что тот ничего не успел понять и лишь покрутил пальцем у виска.
Луиджи еще раз прокричал Карлу свой приказ, но увидев, что перед ним еще и сумасшедший, который ничего не понимает, бросился на него и, схватив в охапку, стал трясти, гневно вопрошая: «Говори, где Божена? Что ты сделал с ней?» До смерти перепуганный взломщик вдруг залопотал что‑то на непонятном Луиджи языке, а потом внезапно размахнулся и что есть силы ударил его по голове чем‑то тяжелым.
Чувствуя, что в голове у него помутилось, Луиджи разжал руки и стал медленно сползать по стене на пол. И уже сидя на полу, сквозь плавающий перед глазами туман, он увидел стоящую на пороге Божену.
Отослав перепуганного привратника, который, разыскивая незаконно ворвавшегося в дом гостя, оказался свидетелем этой ужасной сцены, Божена оказалась в компании двух мужчин, каждый из которых нуждался в ее помощи.
Карл, которого она никогда бы не узнала, видимо, потратил на удар свои последние силы. Он сидел на полу в странной позе, держа в руке отмычку, и слабо улыбался подруге своего детства, которую он не смог узнать раньше, даже следуя за ней по пятам и разглядывая в бинокль.
Положение Луиджи было более плачевным. Он, менее всего этого заслуживая, был без сознания.
Бросив дорожную сумку, Божена побежала в ванную и вернулась с кувшином, полным холодной воды, и с большим полотенцем. И сначала она окатила Луиджи водой с головы до ног, а потом, заметив, что он открыл глаза, принялась поспешно промакать его одежду и вытирать волосы.
Но очнувшийся Луиджи смотрел на нее сияющими глазами и что‑то тихо шептал. С трудом Божена разобрала: «Если бы не бабушка, я бы даже не знал… И что случилось бы тогда?»
Не догадавшись, что он имеет в виду, Божена помогла ему подняться и уговорила пойти в ванную и переодеться в ее просторный халат.
Потом, вернувшись к несчастному Карлу, она дала ему обезболивающее, которое, по счастью, оказалось в ее сумке, и почти оттащила его, стонущего, на диван.
Разобравшись с мужчинами, она стала звонить бабушке, которая, она знала, не найдет себе места, пока не дождется ее звонка.
И только когда Сабина спросила, успел ли ее встретить Луиджи, Божена поняла, что произошло в квартире перед самым ее появлением.
Положив трубку, она пошла взглянуть на Карла — но тот, видимо окончательно измученный событиями последних дней, уже крепко спал.
Луиджи тоже ничем не проявлял свое присутствие — видимо, он пошел в спальню, чтобы прийти в себя, решила Божена.
Ей надо было все же собраться с мыслями. Она прошла на кухню и, заварив чай, села за стол.
Вся эта история с кладом, несмотря на комичность ее конца, ужасно взволновала ее, заставив совершенно иначе взглянуть на привычный образ деда.
Божена всегда восхищалась мастерством Америго, но привыкла слушать его рассказы, как занимательные сказки. И вдруг эти сказки ожили и стали вторгаться в ее жизнь. Карл вломился в ее дом, чтобы найти клад, который она всегда считала сказочным чудом. Но его радикулит и шишка на лбу Луиджи абсолютно реальны, а значит, реальны и перстень с тайником и бегство деда из Венеции…
И вдруг Божену обожгла догадка: бабушка упомянула о перстне в форме лилии; и Луиджи принес ей эскизы перстня‑цветка. А исчезнув из ее дома в рождественскую ночь, оставил бумажник с новым эскизом. И на нем был изображен механизм, позволяющий одному из лепестков сдвигаться в сторону, открывая тайник! Как же она сразу не сопоставила то, что начала делать сама, со злополучным перстнем, сыгравшим такую важную роль в жизни ее деда…
Но неужели то, что предпринимает Луиджи по отношению к ней, — не что иное, как какой‑то непонятный ей расчет? И если Карл знает об истории деда Америго больше, чем она сама, то почему бы и Луиджи тоже что‑нибудь не знать? Она встала и заходила по кухне. Усталость, возбуждение и избыток впечатлений сыграли свою роль. Она вдруг поняла, что боится.
«А что, если Луиджи как‑то связан с событиями, произошедшими здесь, в Венеции, в начале века? Может, он внук или правнук отравленной сеньоры и уверен в том, что мой дед причастен к этому преступлению. Не хочет ли он рассчитаться со мной? Я слышала, что такое кровная месть по‑итальянски. Господи, что же мне делать? Я боюсь этого человека!»
Божена не узнавала себя. Она никогда не была такой мнительной, как сейчас. «Не слишком ли много совпадений? — думала она, направляясь в спальню, в которой, она полагала, сейчас находится Луиджи. — Ах, и зачем я так поспешно переехала в Венецию? Если бы Фаустина сейчас была рядом, она бы дала мне совет!»
Божена заглянула в спальню, но там Луиджи не оказалось. Тогда она, все больше и больше нервничая, обошла всю квартиру — он исчез, как и в ту рождественскую ночь. Она зашла в ванную: его мокрой одежды не было, а ее халат как ни в чем не бывало висел на своем обычном месте…
Она вернулась в кухню и села за стол. Ох, как она устала за этот день, как ей хотелось вытянуться на дедушкиной кровати и провалиться в глубокий сон без сновидений… Свет лампы, прикрытой матовым абажуром, падал на ее нежные руки, дорожное платье, заставлял светиться маленький сердолик, пригревшийся в ложбинке между ключицами, оставляя в молочной тени усталое лицо с чуть заметно подрагивающими ресницами. Глядя на пастельных тонов орхидеи, тонким кольцом обвивающие ободок ее любимого светильника, Божена словно плавала в собственных мыслях… Но потом мысли стали странным образом путаться, и она, уронив голову на руки, заснула прямо за столом.
А когда проснулась, то увидела Карла, спокойно сидящего напротив нее и допивающего остатки холодного чая.
* * *
Они просидели на кухне несколько часов. Карл, чувствуя себя так, словно он спасся с тонущего корабля, а теперь сидит в теплой каюте в полной безопасности и рассказывает тому, кто его спас, о своих приключениях, говорил, не умолкая.
Божена слушала его страстный рассказ о женщине по имени Франта, по капризу которой он целый месяц провел в Венеции, готовясь к тому, чтобы совершить настоящее преступление, и думала: а не окажись к этому времени взломанная Карлом квартира собственностью его детской подруги — кто знает, чем бы обернулось для него это приключение? Но сам ее собеседник, похоже, ни о чем подобном и не задумывался…
Божена слушала Карла и думала о своем. Хорошо, что Луиджи не знает, как она обрадовалась, увидев его в своей квартире — даже при таких странных обстоятельствах и в столь плачевном виде! Божена знала: он еще не догадывается, что внутри нее, Божены, уже начались те необратимые изменения, происходящие с каждой женщиной, которая понимает, что занимающий все ее мысли мужчина готов признаться ей в любви. Но теперь к ее сладкому волнению примешивался страх…
Обезболивающее явно пошло на пользу Карлу: он с трудом, но все‑таки мог передвигаться на ногах. И устав от его бесконечных рассказов и поняв, что она так еще и не переоделась с дороги, Божена выпроводила его из своей квартиры, а сама пошла в ванную.
Приняв душ и завернув тяжелым узлом свои медные волосы, она потянулась к халату, который, как ей показалось, еще хранил запах тела Луиджи, и вдруг обнаружила в кармане какую‑то хрустящую бумажку. Развернув ее, она поняла, что это адресованная ей записка, в которой Луиджи извинялся за причиненное ей беспокойство и обещал обязательно починить пострадавший камин.
И тогда она почувствовала, что, несмотря на все странности поведения этого человека, она хочет опять увидеть его, и увидеть немедленно.
Она прошла к телефону и стала вспоминать, куда положила так и не возвращенный владельцу бумажник, а найдя его, достала оттуда визитку Луиджи.
И, собравшись уже набрать номер, вспомнила про смутивший ее покой автоответчик и, перемотав пленку на начало, включила его. Ей ответила тишина… Будто и не было на пленке тех нескольких, так взволновавших ее слов… Ей стало ясно: Луиджи стер эту запись, пока она возилась с Карлом.
Божена нажала на «стоп» и почувствовала, как беспокойно забилось ее сердце. Стараясь отвлечься от мучивших ее сомнений, она ходила по квартире, приводя ее в порядок после разгрома, учиненного Карлом. Немного успокоившись за этими хлопотами, вспомнила о любимом варенье из лепестков роз, привезенном ею из Праги, и пошла в коридор, где стояла еще не разобранная дорожная сумка, — и в этот момент раздался звонок в дверь.
Она затрепетала, уже поняв, кого сейчас увидит, и распахнула дверь. На пороге действительно стоял Луиджи Бевилаква.
И она опять не узнавала себя: она чувствовала, что снова готова стать покорной — его глазам, его словам, его рукам… Словно все, чего не доставало Божене рядом с Томашем, проснулось в ней вдруг и рвалось наружу. И забыв о своих подозрениях, она снова смотрела на Луиджи, как тогда, в рождественскую ночь.
А он, будто почувствовав, что творится в душе этой женщины, шагнул к ней и порывисто обнял.
И все, что случилось потом, было еще более сладким и опьяняющим, чем в ту их единственную ночь, — словно она стала восемнадцатилетней девочкой, впервые опаленной огнем любви…
А когда они, разомкнув наконец объятия и ослабев, откинулись на подушки, она прильнула к его вздрагивающей груди, окутав Луиджи золотом своих разметавшихся волос, и, глядя в его потрясенные глаза, почувствовала, что готова отдать все на свете и забыть о себе самой, лишь бы эти счастливые мгновения никогда не кончались.
Глава 11
Франта злилась: Чеслав не звонит вот уже два дня, и от Карла — никаких вестей.
А эти новые туфли от Bruno Magli ужасно жмут ей, и до новогодней ночи осталось всего лишь два дня…
Деньги, подаренные Чеславом, заканчивались, а Карл и не думал нести к ее ногам новогодний подарок в виде венецианского клада, обещанный за то, что она попробует какое‑то время играть роль благоразумной жены, пекущейся, как говорится, о тепле очага и домашнем уюте.
Франта порылась в сумочке и достала пудреницу. Глядя в круглое зеркальце, она заметила, как портит ее уныние, и попробовала улыбнуться — но получилось так, словно она пытается заесть лимон маленькой ложечкой меда: проще говоря — неубедительно.
Бросив пудреницу обратно в сумочку, Франта расплатилась с официантом и, закутавшись в нежный норковый мех, вышла из ресторана на чуть припорошенный снегом тротуар. Ей казалось, что всем вокруг хорошо, все веселятся, и только она оставлена, забыта.
Франта терпеть не могла одиночества. Ей надо было или проводить время в обществе щебечущих подруг, или покорять мужские сердца, а заодно и кошельки. Одна она оставалась лишь затем, чтобы немного отдохнуть от нескончаемых вечеринок и привести себя в порядок. А потом снова выйти на воображаемую сцену — и быть во всеоружии, от завитков на затылке до кончика каблука.
Сегодня же ей ничего не оставалось, как после ужина, проведенного в одиночестве, направиться к себе домой.
«Ну что ж? Лягу спать, чтобы не чувствовать себя всеми покинутой и не нажить, по крайней мере, новых морщин».
Но судьбе было угодно распорядиться иначе. Не успела Франта отойти от ресторана и десяти шагов, как рядом с ней с визгом затормозила знакомая машина, из которой выглянул Чеслав. Машина была полна незнакомых Франте мужчин.
Ни слова не говоря, Чеслав указал ей на заднюю дверь, и она, с трудом втиснувшись четвертой, уселась…
Приятели Чеслава, похожие на него прическами, одеждой, даже выражением лиц, были на удивление трезвы. «Куда это они, интересно, собрались такой компанией?» — сначала Франта хотела спросить об этом Чеслава, но потом решила подождать: наверное, он скоро высадит своих атлетических угрюмцев. «Неужели ему приходится иметь дело с такими занудами? А впрочем, он и сам зануда!» И, попытавшись откинуться на доставшуюся ей часть кресла, Франта томно прикрыла глаза, ожидая, когда же наконец они с Чеславом останутся наедине.
На ее указательном пальце поблескивала изумрудами подаренная Чеславом змейка, а остальные пальцы, будто намекая на что‑то, были свободны. «Интересно, что он придумает для нас сегодня? До сих пор он не повторялся. И всегда был донельзя экстравагантен».
Но машина проехала почти через весь город, а никто не выходил. Убаюканная ровным жужжанием мотора и мягким ходом дорогой машины — Франта никогда не интересовалась марками машин, но всегда могла отличить «супер» от «ведра», — она задремала. И очнулась только тогда, когда машина, развернувшись, резко затормозила.
Франта, кажется, просчиталась: Чеслав и не собирался расставаться со своими спутниками. Она увидела, как он, выйдя из машины, открывает дверь с ее стороны. Помогая ей выйти, он крепко взял ее под руку, но неожиданно то же самое сделал и один из молчаливых попутчиков.
— Чеслав, что происходит? — она резко повернулась к своему кавалеру. — Что за шутки?
— Это не шутки, детка, это жизнь.
И вот так, крепко держа ее с двух сторон, они повели ее по гаревой дорожке в сторону незнакомого большого загородного дома. Ей не верилось, что один из этих мужчин — Чеслав, так странно изменилось его лицо: вместо обычной улыбки Франта, все время испуганно косившаяся на него, обнаружила совершенно незнакомое ей мрачное выражение. И в то же время Чеслав явно ухмылялся чему‑то…
Большой, скупо освещенный дом возвышался среди ухоженных, чуть подсвеченных кустов в полном одиночестве: никаких других домов поблизости не было.
Франта обернулась: другие их спутники остались сидеть в машине.
— Куда мы идем? Сейчас же отпустите меня! — Франта капризно передернула плечами, будто пытаясь стряхнуть руки своих конвоиров. — Чеслав, что ты придумал на этот раз? Признавайся, а не то я сейчас укушу тебя! — попыталась она пошутить.
Но ее спутники не обратили на ее слова никакого внимания. Вскоре они подошли к массивной металлической двери и остановились.
— Я открою, — сказал Чеслав, кивнув своему приятелю, извлек из кармана большую связку ключей и стал перебирать их, пытаясь найти нужный.
Наконец дверь скрипнула, щелкнул выключатель, и они вошли внутрь. Франта успела разглядеть длинный коридор, а потом чьи‑то руки набросили ей на лицо темный шарф.
— Что ты делаешь, Чеслав? — заорала она, безуспешно пытаясь сбросить шарф с лица. — К чему эти идиотские шутки? Или ты начитался бульварных романов?
— Помолчи, киска, это не то, что ты думаешь. Намного лучше, чем секс.
И они снова крепко взяли ее под руки.
Но Франта еще не успела испугаться достаточно для того, чтобы перестать ломаться. Она кокетливо поджала ноги и повисла на руках своих конвоиров.
— Кончай дурить! — услышала она наконец голос приятеля Чеслава и почувствовала под ногами ступеньки.
Франте ничего не оставалось, кроме как послушно подниматься вместе с ними по лестнице, спотыкаясь на каждом шагу. «Что мог задумать этот придурок? Кажется, на этот раз я допрыгалась…» — успела она подумать, прежде чем оказалась в полном одиночестве: ее куда‑то втолкнули, а потом она услышала, как за спиной щелкнул замок.
Франта судорожно сорвала с лица шарф, но снова оказалась в полной темноте. Не понимая, где находится и что собирается сделать с ней Чеслав, она попыталась нащупать руками стену. Ее руки наткнулись на что‑то холодное и гладкое. Видимо, это была стена. Франта двинулась вдоль нее, пытаясь нащупать выключатель.
«Как в склепе», — подумала она и вскрикнула, отпрянув: ее пальцы нащупали что‑то, напоминающее по форме человеческое лицо. Только оно было каким‑то холодным и скользким.
И словно отвечая на ее крик, где‑то рядом зазвонил телефон. Франта обернулась и увидела мигающий в темноте зеленоватый огонек. Она сняла трубку стоящего на полу телефона и услышала голос Чеслава:
— Франта, ты слышишь меня? — спросил он как‑то подозрительно ласково.
— Слышу! — закричала она в темноту. — Мне это надоело! Немедленно открой дверь!
Он рассмеялся и сказал:
— Не могу. Я уже по дороге в Прагу. Как тебе домишко — понравился?
— Что ты несешь? Как это — по дороге в Прагу? А я?! Что тебе от меня нужно?!
— Мне нужно, чтобы ты поскорее оказалась дома, в теплой постельке, или где‑нибудь еще… Мы, например, собираемся сейчас где‑нибудь поужинать… На свежем воздухе аппетит так разгулялся! Хочешь присоединиться к нам?
Франта услышала, как его спутники, видимо по‑прежнему находящиеся в машине, заржали.
— Скажи своим придуркам, чтобы они заткнулись. Я ничего не слышу! — закричала она в трубку.
— Ладно, шутки в сторону. Мы хотим, чтобы ты рассказала нам что‑нибудь увлекательное… Ну, например, как твой отставной ухажер рыщет сейчас по Венеции в поисках клада.
Франта замерла.
— Неужели он не сказал тебе, куда направляется? — ласковым голосом продолжал Чеслав. — Этот твой Ален Делон?..
— Чеслав, ты что, совсем свихнулся? Какая Венеция?
Но Франта уже все поняла. Что же делать? Как ей теперь избавиться от этой жуткой темноты, сбежать из этого плена?
— Твое хамство возбуждает меня, детка… Но еще больше мне хочется поговорить о том, что спрятано в старом камине…
— Где Карл? Что вы сделали с ним? — ошарашенная такими подробностями, Франта только что заметила плотно зашторенное окно и, держа в руке телефон, подошла к нему. Отдернув тяжелую портьеру, она увидела литые решетки, за которыми светилось звездами ночное небо.
В ответ на ее вопрос в машине опять раздался хохот. «Но если бы Карл уже вернулся, неужели же он не позвонил бы мне сразу? Он должен был позвонить мне еще из Венеции, если действительно нашел клад!» — эта мысль немного успокоила ее.
— Ох, Чеслав! Неужели ты действительно поверил в то, что я говорила Хельге? Значит, ты притворялся тогда, что спишь? Ну, негодяй…
Франта раздвинула шторы пошире — и в комнате стало немного светлей: она разглядела мраморные стены и пол, а в глубине помещения темнело какое‑то пятно. «Наверное, дверь», — подумала она и двинулась туда.
Это действительно была дверь. И, конечно же, она была заперта.
— Ну ладно, детка! — сказал разозлившийся Чеслав. — Посиди пока и подумай хорошенько. А мы тебе перезвоним.
В трубке раздались короткие гудки, и Франта с телефоном в руках уселась прямо на холодный пол.
— Это надо же так влипнуть! — воскликнула она и с силой швырнула телефон на пол. Раздался треск. — Что же я наделала! — она уже готова была зарыдать. Но тут же вспомнила про свой мобильник, подаренный ей одним немолодым американцем. Она познакомилась с ним, опаздывая на день рождения Хельги и ловя какую‑нибудь машину… На день рождения она тогда так и не попала, а американец изредка приезжал в Прагу по делам и, как он говорил, хотел иметь возможность всегда найти очаровательную Франту, где бы она ни находилась. С тех пор Франта таскала в своей сумочке эту маленькую трубку, помещающуюся у нее на ладони, правда, почти никогда не включая ее. И сейчас вынув ее из сумочки, она нажала на кнопку и обрадовалась: огонек загорелся, значит, аккумуляторы еще не сели!.. Это была все‑таки какая‑то связь с миром. Франта немного успокоилась и стала думать, что ей делать дальше.
Глава 12
Луиджи опять ушел, пока Божена спала.
«Это что же, он всегда собирается так поступать? — подумала она, проснувшись. — Или, может быть, здесь, в Венеции, так принято?»
Но сев в постели и потянувшись, она вдруг словно заново ощутила руки Луиджи, касающиеся ее тела, и, прикрыв глаза, опять почувствовала сладкую истому, которой до краев была полна прошедшая ночь…
Воспоминание об этих ласках было таким остро‑счастливым, что она решила пока больше не ломать себе голову над странностями поведения Луиджи. «Будь что будет, — подумала она, поднимаясь с кровати. — В конце концов все обязательно разъяснится».
Ей захотелось при свете дня посмотреть на свой покалеченный камин. «Луиджи обещал починить его», — с улыбкой вспомнила она.
Вид камина был действительно плачевным. «Как же он будет чинить его? Похоже, тут без хорошего мастера не обойтись!» Но потом ее мысли изменили направление: «Неужели все‑таки история с кладом — не выдумка и в старом камине, который скрывает эта стена, действительно томятся дедушкины сокровища?»
Божена прислонила голову к стене и прислушалась, будто ожидая услышать, как звучат в глубине этого старого дома драгоценные камни, каждый из которых имеет свою собственную судьбу. «Ах, если бы камни могли говорить… А впрочем, они и без слов могут поведать о многом, надо только почувствовать их тепло на своей ладони. Но еще лучше — думать о них, закрыв глаза. Как хорошо, если они действительно там…»
Ее размышления прервал звонок в дверь. Божена связалась с привратником — тот сказал, что ее спрашивает Карл Ледвинов. После недавних событий голос привратника был слегка настороженным. Сказав, чтобы Карла пропустили, Божена быстро оделась и открыла.
— Что случилось, Карл? На тебе лица нет! — воскликнула она, увидев его.
Ни слова не говоря, Карл переступил порог и остановился. Посмотрев на Божену глазами, полными страха, он послушно пошел за ней на кухню и, усевшись за стол, быстро заговорил:
— Они убьют ее. Что же делать? Я должен спасти ее. Моя девочка, Франта! Они заперли ее в каком‑то доме… Что они сделали с ней? Как же быть?
Божена, ничего не понимая, присела на подоконник:
— Успокойся, Карл. Объясни толком, что произошло!
— Я позвонил домой. Мама мне все рассказала. Господи, что я наделал! Я сам во всем виноват… — Он закрыл лицо подрагивающими руками.
— Да что стряслось?
— Франту похитили.
— Кто?
— Не знаю. Какие‑то ее дружки.
— И много их у нее? — Божена все‑таки попыталась спрятать улыбку.
— Пожалуйста, не надо, Божена!
— Но зачем?
— Что зачем?
— Зачем похитили?
— Им нужен клад.
— Да что ты говоришь? Им тоже нужен дедушкин клад? — Она опять с трудом сдержала улыбку.
— Да. Франта рассказывала кому‑то о кладе, а они подслушали ее, узнали, почему я уехал. А потом — вот! Божена, что же мне теперь делать?
— А откуда мама‑то знает?
— Франта ей позвонила.
— Ее дружки позволили ей позвонить?
— Да нет! Просто у нее с собой оказалась трубка!
— Какая еще трубка?!
— Ну, телефон, мобильный телефон.
Вдруг Карл услышал какой‑то странный звук. Он поднял глаза от стола и недоуменно уставился на Божену. Скрестив руки на груди, она хохотала.
— Божена, они могут убить ее!
Но Божена, едва сдерживая смех, проворковала грудным голосом:
— Карл, а тебе не кажется, что это очень странно — похищать девушку, оставляя ей при этом телефон? — Лоб Карла быстро задвигался. Божена со смехом подумала: «Это, верно, под кожей суетятся его перепуганные мысли». — И не кажется ли тебе, что все это больше похоже на… шалость? — добавила она.
— Как ты могла такое подумать? Франта не станет меня обманывать!
— Ну что ты, я не то имела в виду. — Божена попыталась не захохотать снова. — Но так мило с их стороны — оставить жертве телефон…
Карл встал и нервно заходил по кухне:
— О Господи, Божена!.. Франта даже не знает, куда они завезли ее! Я проболтался про клад — мне теперь и расхлебывать эту кашу. Но как? Как?!
Божена спокойно посмотрела на него. Ему казалось, что даже с сочувствием. И вдруг она встала и сказала просто:
— Ну что же, тогда заказывай обратный билет. Я согласна расстаться с дедушкиным кладом.
— Ты что, сама нашла клад?! — Карл в изумлении воззрился на нее. А потом он глупо заулыбался, и ей показалось, что сейчас он бросится к ней на шею.
Божена слегка отстранила его и договорила:
— Звони в кассу и собирайся в путь. В Праге тебе, судя по всему, придется несладко. А я тем временем все приготовлю. И… не задавай лишних вопросов.
Божена ласково, как маленького, потрепала Карла по щеке и вышла из кухни.
Вскоре все было готово. Божена в последний раз пристрастно взглянула на содержимое старинной бронзовой шкатулки, и вскоре Карл отправился в обратный путь, увозя с собой бесценный груз.
На таможне в Местре все обошлось благополучно, самолет Alitalia взмыл в небо, и уже через два часа Карл был в аэропорту Рузине.
Карл и его мама молча сидели на стульях друг против друга. На полу между ними стоял телефон. Карл надеялся, что Франта позвонит снова. В их небольшой, но всегда отлично прибранной и уютной квартирке было так тихо, что Карл слышал, как ходят на его руке часы.
«Почему она не звонит? — Карл уже думал о самом худшем. — Может, у нее отобрали телефон, а может…»
За окном падал тихий новогодний снег, мама вязала ему носки из овечьей шерсти и старалась казаться спокойной, а Карл зачем‑то держал в руках шкатулку, которую ему вручила Божена еще сегодня утром.
То, что лежало внутри шкатулки, явилось причиной его многих несчастий и злоключений, поэтому ему даже не хотелось заглядывать внутрь. Но шкатулка была тяжелой, а внутри у нее что‑то гремело.
И вдруг телефон зазвонил. Мама выронила вязание, а Карл рывком схватил трубку:
— Франта, это ты?
Но звонила Божена. Сказав ей несколько слов, Карл извинился, положил трубку и снова уселся ждать.
И тут мать Карла порылась в кармане, достала обрывок бумаги и молча подала его сыну. На ее лице было написано, как ей не хочется этого делать: на листочке номер телефона и имя — «Франта»…
А Франта уже две ночи спала на собственной шубе, разостлав ее на мраморном полу. Первым же утром она изучила комнату, ставшую ее тюрьмой: пол, стены и потолок — все из белого мрамора; никакой мебели, мрачные шторы на зарешеченных окнах, за которыми пустынные поля и белые холмы. Дверь, через которую она попала сюда, заперта, а еще за одной дверцей, которую Франта обнаружила, когда рассвело, находилась ванная комната со всеми удобствами.
И это все. Чеслав не возвращался. Она уже позвонила двум своим подружкам, но те не смогли посоветовать ей ничего толкового. Тогда от отчаяния она позвонила матери Карла. Франта рассказала ей, что произошло, но надеяться на то, что эта женщина передаст ее слова своему сыну, в общем‑то не приходилось… Пожалуй, ей оставалось надеяться только на чудо. Срок, назначенный Карлу, подходил к концу, этот маменькин сыночек вот‑вот должен был объявиться в Праге… Если, конечно, он вообще куда‑нибудь уезжал. «Да нет, — успокоила себя Франта, — он влюблен в меня без памяти, и про клад наверняка правда. Ведь он совершенно не способен обманывать, стерильно честный хирург!» Но как тут успокоишься! Кроме того, если он действительно нашел клад, неужели им придется делиться с Чеславом и его дружками?! Это не входило в ее планы…
Замерзшая Франта сидела на краю роскошной ванны и грела руки под струей теплой воды. И вдруг услышала, как оставленный в комнате мобильный телефон зазвонил. Она выбежала из ванной, поскользнувшись на мраморном полу, бросилась к трубке и, схватив ее обеими руками, крикнула «Да!» Но прежде чем Франта услышала голос Карла, дверь в комнату открылась: на пороге стоял улыбающийся Чеслав, а за его спиной — еще кто‑то, похоже, из тех, что были в машине в тот злополучный вечер.
Прятаться было поздно. Когда Чеслав заметил, что Франта держит в руке трубку, выражение его лица резко изменилось, он быстро подскочил к ней, грубо схватил ее за талию и притянул руку с телефоном к своему уху. Но Франта успела услышать:
— Франта! Это Карл. Я вернулся! Клад у меня! Где ты?
Чеслав выдернул телефон из ее руки и отошел с ним к окну. Дав Карлу накричаться, он лениво процедил в трубку:
— Привет, хирург. Мы рады, что ты вернулся. Франта не слышала, что ответил Карл, но Чеслав вдруг рассмеялся:
— Ты хочешь знать, кто я? Мне пришлось заменить тебя одной болтливой девчонке на время твоего отсутствия… Но теперь я устал и хочу, чтобы ты забрал ее назад. В обмен на то, что ты привез… Согласен? Ну и молодец. За это я сейчас дам тебе поговорить с ней.
И он протянул телефон Франте.
— Карл, неужели это правда? Ты действительно нашел клад? — закричала она в трубку. — Мужчины, находящиеся в комнате, удивленно уставились на радостно запрыгавшую Франту. — А ты уже открывал шкатулку? Что?! У тебя не было времени? Не может быть!
— Ну, хватит! — прервал ее Чеслав и, отобрав у нее телефон, снова заговорил с Карлом, отчего‑то странно замолчавшим. — Теперь ты убедился, что она у нас. И пока еще в полном порядке… — Но вдруг он резко изменился в лице и заорал: — Что?! Ты не веришь, что мы похитили ее? Да какие тут могут быть шутки!.. Спроси у нее сам!
И Чеслав опять сунул ей телефон. Та схватила его и услышала:
— Франта, тебе еще не надоел этот дурацкий розыгрыш? Откуда ты звонишь? Где мне найти тебя? А лучше — приезжай сама. Я устал.
Теперь пришел черед удивляться Франте:
— Карл, но я же не могу приехать, пока ты не договоришься с ними! Но имей в виду, — вдруг добавила она, понизив голос, — ты не должен отдавать им все!
А потом, заметив, что Чеслав прислушивается к ее словам, сказала уже громко:
— Или они не получат вообще ничего! И сам больше мне не звони! — И довольная Франта отключила телефон, а затем подошла к Чеславу и с гордым видом засунула трубку в нагрудный карман его замшевой куртки.
Повисла долгая пауза, во время которой Франта, вихляя бедрами, прошла в ванную, из которой через некоторое время послышался звук спущенной воды.
Глава 13
Только проводив Карла, Божена вспомнила о празднике: «Ну надо же — чуть Новый год не прозевала! Похоже, в Венеции не прожить и дня спокойно!»
И она, не в состоянии и дальше сидеть дома наедине со своими мыслями, отправилась на прогулку — что‑что, а гулять по Венеции ей никогда не надоедало!
Но стоило увидеть лилии в витрине цветочного магазина, как у нее екнуло сердце и все подозрения относительно Луиджи внезапно вернулись. И дальше она уже шла, беспокойно оглядываясь по сторонам, будто кто‑то мог за ней следить. «Как же мне быть, куда бежать от себя самой? Я влюблена в человека, который опасен для меня». Мысли Божены путались, подобно переплетающимся в немыслимые узелки каналам, а ноги несли дальше и дальше, пока она не оказалась наконец на узенькой набережной, на которую выходили ворота маленькой аккуратной церквушки. Некоторое время Божена постояла возле них в нерешительности, а затем толкнула легко поддавшуюся скрипучую створку и вошла.
Проходя маленьким церковным двориком, Божена увидела, что в глубине его на скамье сидит священник и молча наблюдает за ней.
Божена подошла к нему и склонила голову.
— Здравствуйте, падре. Я хотела бы исповедоваться, — сказала она тихо.
Во дворе стояла такая тишина, что Божене показалось, будто она поглотила ее слова — и сомкнулась снова.
Белый как лунь священник улыбнулся ей, потом поднялся и, ни слова не говоря, скрылся внутри церкви. Божена пошла за ним.
Когда она ступила под старые своды, кабинка для исповеди уже была готова. Но Божена остановилась у каменного надгробия, почему‑то не решаясь пройти в кабинку.
— Я понимаю, что это не по правилам, но позвольте мне поговорить с вами там, во дворе, — вдруг сказала она.
Потом она не раз думала о том, почему ей захотелось сделать именно так. И почему падре вдруг согласился, сказав ей:
— Хорошо, но имейте в виду: наш разговор уже не сможет именоваться исповедью. Это будет просто беседа… — и священник вышел из‑за темной загородки.
В церковном дворе они вместе вошли под своды низкой сырой галереи, подпираемой потрескавшимися от времени и потемневшими от сырости мраморными колоннами, которые вставали почти из самой воды. Божена слышала, как капает вода, и ей казалось, что в таинственных темных углах галереи прячется сама бесконечность.
И она стала рассказывать падре все, что так беспокоило ее в последнее время, и чем больше она говорила, тем спокойнее становилось у нее на душе. А седой старичок с удивительно живыми глазами неслышно двигался следом за ней и молча слушал ее рассказ: о дедушке Америго, о его бегстве из Венеции и о странной бриллиантовой лилии, которая, словно вырвавшись из небытия, так таинственно вошла в жизнь Божены. Она нисколько не стесняясь говорила и о том, что боится и в то же время любит человека, так внезапно вошедшего в ее жизнь и заказавшего ей дедушкин перстень. И, чуть не заплакав, произнесла наконец и то, что опасается расплаты. Но если ей так суждено, то она готова не прятаться от своей судьбы.
Божена замолчала, а падре подошел к ней и ласково положил свою легкую руку на ее голову. Некоторое время он постоял так, медленно шевеля губами — будто читая молитву, затем улыбнулся Божене и заговорил. Голос его был тихим и бархатным, он шел откуда‑то из глубин его дряхлого тела, наполняя его силой и жизнью:
— Ничего не бойся, дитя мое. Постарайся услышать голос своего сердца и сделать так, как оно велит. Не старайся узнать будущее. Ты рождена для большого счастья. А каким ему быть, зависит от тебя самой. Главное, не пытайся обвести вокруг пальца само Провидение. Ступай.
Старик снял свою руку — Божене показалось, будто с ее темени вспорхнула маленькая птичка, — повернулся к Божене спиной и пошел, но не назад, в церковь, а куда‑то в сырую полутьму галереи. А просветленная Божена вернулась назад и закрыла за собой скрипучие створки ворот.
В какое‑то мгновение она заметила, что за одним из поворотов канала мелькнула черная тень гондолы с сидящим в ней длинноволосым мужчиной — и скрылась. Но слишком спокойной была вода, и слишком тихо было вокруг: ни всплеска, ни шепота. «Показалось», — успокоила она себя и попыталась вспомнить, с какой стороны пришла сюда.
Луиджи чувствовал, что его отношения с Боженой все‑таки идут не совсем так, как ему бы хотелось. Эта великолепная женщина опять отдалась ему страстно, безо всякого кокетства, и он угадал в ней потрясающую глубину, готовую раскрыться ему навстречу. Но еще в рождественскую ночь, в самые первые минуты их близости, он безошибочно почувствовал, что какая‑то часть ее женского существа относится к нему с опаской… Глядя в широко распахнутые глаза Божены, он понял, что она и желает его, и одновременно боится. И этот непонятный ему страх заставил Луиджи, который был настоящим венецианцем, заподозрить, что тут скрывается какая‑то тайна. И его воображение не воспротивилось такой догадке: Луиджи решил во что бы то ни стало разгадать эту тайну и тем самым избавить Божену от ее страха.
«Эта женщина склонна жить в мире, полном догадок и выдумок. И можно себе представить, что она подумала, узнав во мне, своем заказчике, того сумасшедшего с камерой наперевес, что донимал ее на Сан‑Марко… А чего стоит эта история с ее чешским приятелем!» — думал Луиджи, приближаясь пред праздничным утром к дому Божены. В том, что Божена уже давно разоблачила его, он не сомневался. И теперь хотел поскорее расставить все на свои места: объяснить ей, зачем он устроил весь этот маскарад, и, глядя ей в глаза, сказать то, что успел стереть с пленки автоответчика.
Полный счастливой решимости, Луиджи свернул в короткий переулок, чтобы сократить путь до старой виллы, и тут же увидел знакомый силуэт: Божена стояла у цветочного магазина и что‑то сосредоточенно в ней разглядывала. Он собрался окликнуть ее, но она вдруг встрепенулась и едва не побежала прочь, да так быстро, что он, не успев опомниться, ринулся следом за ней.
Легко взбежав на крутой мостик, Божена остановилась и принялась опасливо озираться по сторонам. Луиджи отпрянул и спрятался за стеной. Он уже понял, что лучше будет, если он останется незамеченным. Редкая для мужчины интуиция, которой он обладал в полной мере, подсказывала ему, что сейчас он необычайно близок к разгадке какой‑то тайны…
Пытаясь не потерять Божену из виду, Луиджи настойчиво двигался следом за ней. Пользуясь тем, что все лабиринты этого запутанного города были давно им разгаданы, он умудрялся следовать за ней почти по пятам, не боясь быть замеченным. И если Божена попадала в тупик и вынуждена была возвращаться, он никогда не давал ей застать себя врасплох, терпеливо поджидая на очередной развилке, чтобы потом опять, немного поотстав, идти следом за ней.
То, что Божена чем‑то взволнована и идет, сама не зная куда, очевидно. Но Луиджи необходимо было понять причину ее смятения. Он был абсолютно уверен, что способен избавить ее от любой опасности, оградить от каких угодно невзгод и неурядиц — в нем уже поселилась счастливая уверенность влюбленного. И в своем мужественном порыве Луиджи был настолько искренен, что, оглянись Божена случайно и поймай его взгляд в эти мгновения, она, наверное, сама отбросила бы сомнения и безбоязненно доверилась этому человеку.
Но этого не произошло, и Божена его не заметила.
Она добрела до маленькой церквушки, а Луиджи, увидев ее в тени нависающей над водой галереи рядом со священником, в счастливом озарении влюбленного, и притом венецианца, поступил так, как, наверное, поступил бы какой‑нибудь его пылкий предок: он нанял гондолу и медленно поплыл возле каменного парапета, вдоль которого шла беседующая пара.
Негромкие звуки беседы далеко разносились над спокойной водой канала, что позволяло Луиджи слышать почти каждое слово, произнесенное Боженой. В другой ситуации он никогда не позволил бы себе подслушивать чужой разговор, но на этот раз странность происходящего и глубина переполнявшего его чувства отодвинули обычные правила в сторону. Луиджи был уверен: он просто должен узнать, что так беспокоит любимую женщину. И то, что она говорила, убеждало его в этом все больше и больше.
Постепенно многое становилось на свои места и обретало связь: ювелирные эскизы, которые Луиджи извлек из архива своей матери и принес Божене, используя их только как повод для знакомства с очаровавшей его женщиной; перстень в форме лилии, найденный им в старой шкатулке, который он не сумел соотнести с эскизами; клад, за которым охотился оказавшийся безобидным чех по имени Карл, которого Луиджи принял за коварного маньяка, за что и поплатился собственной головой; история дедушки, будто бы оставившего этот клад в камине своего венецианского дома, прежде чем сбежать из‑за темной истории с перстнем‑тайником; и, наконец, то, что он, Луиджи, сам того не ведая, заказал Божене точно такой же перстень, как тот, из‑за которого пострадал ее дед. «Так она думает, что я наследник отравленной сеньоры, который втирается в ее дом, чтобы отомстить внучке Америго спустя столько лет… О Святая Мадонна!.. Это смешно, но, если подумать, что знает Божена о Венеции? Только то, что вычитала в детстве из книг. И немудрено, что, с детства грезя о Венеции, она и сейчас воспринимает все происходящее здесь, будто читает старинную книгу… Но ведь это и вправду удивительно… Сколько совпадений!»
Задумавшись, Луиджи чуть было не упустил момент, когда Божена, выслушав слова священника и простившись с ним, пошла к воротам, ведущим на узкую набережную. Она чуть не заметила его! Спохватившись, он быстро шепнул что‑то ждущему его команды гондольеру, и их гондола поспешила скрыться за ближайшим изгибом канала.
Глава 14
А в Праге тоже бушевали страсти…
Карл по‑прежнему сидел у телефона. Время от времени, устав от неизвестности, он пытался заставить себя поверить в то, что вся эта история с похищением — выдумка самой Франты, шутка капризной девицы, которая видит, как он в нее влюблен.
«Наверное, веселится сейчас со своими дружками, встречая Новый год, — зло думал он, — а я сижу здесь как на иголках! Как мне все это надоело!»
Карл подходил к барной стойке и решительно наливал себе шампанского в высокий фужер. Но вскоре спохватывался и отставлял недопитое шампанское в сторону. А потом ходил взад‑вперед по комнате, схватившись за голову, и думал уже иначе: «Наверное, они заставили ее говорить со мной так. Подонки! Или она специально так ведет себя, чтобы они не подумали, что запугали ее окончательно. Бедная Франта… Прости меня за то, что я ничего не могу сделать для тебя!»
Последние слова Франты — о том, чтобы он не звонил сам, — казались ему каким‑то зашифрованным предупреждением. «Но почему я не должен звонить ей? Может быть, Франта тоже хочет шантажировать их? Мол, хотите получить клад — делайте то, что она скажет! Но ведь это так опасно… А если они сделают с ней что‑нибудь? Нет, я должен позвонить!»
И он решительно шел к телефону, а потом все повторялось заново: Карл сомневался в том, что Франту и вправду похитили, наливал себе шампанского, отставлял его, хватался за голову и ходил по комнате…
Это продолжалось долго, как долго — он уже не знал сам. Карл потерял счет часам…
Звонок раздался уже под утро. Он был подобен пушечному залпу: оглушенный Карл, а следом за ним его невыспавшаяся мать подскочили к телефону и замерли, не решаясь взять трубку.
Наконец Карл опомнился.
Сначала он услышал голос Франты. Ее голос дрожал, но больше от возмущения, чем от страха, — и это несколько успокоило Карла.
— Карл, ты не можешь представить себе, они ни за что не соглашаются на половину! Но ведь это несправедливо! Они хотят поговорить с тобой — ни за что не соглашайся на меньшую долю! Ты слышишь меня, Карл?..
Франта так кричала, что у него заболела голова. Не успев вставить ни слова в ее гневную речь, он услышал в трубке другой голос. Говорил мужчина:
— Карл? Ты меня слышишь? Ты бы подвез нам то, что у тебя есть…
— Нет.
— Что — нет?
— То есть, я хотел сказать, что… Да, я все сделаю… Только не трогайте ее! — Карл начал задыхаться от волнения.
— Да кому она нужна?! Обижаешь, хирург! — Говоривший с ним сказал несколько слов, видимо прикрывая трубку рукой, и сердце Карла чуть не выскочило из груди, но потом он услышал: — Ну вот что. Подъезжай через час к Слапской плотине. У тебя есть машина? Нет? Тогда поймай какую‑нибудь, а когда подъедешь — отпустишь. Но только не вздумай кого‑то еще с собой притащить. И помни: мы самые простые люди, очень простые… Но все можем. Так что не вздумай играть в бандитов.
Дальше раздались гудки, и Карл начал судорожно соображать: «Так, сейчас раннее утро. — Он взглянул на свои часы, но они почему‑то стояли. Он побежал в гостиную. — Так, четыре утра. Как найти машину?! Новогодняя ночь! Ладно, спокойно. Найду. И надо маму успокоить. Она вся дрожит».
Карл остановился на мгновение:
— Мамочка, не волнуйся, это действительно шутка. И я все сейчас улажу. Я поеду за ней — она просто заблудилась, а потом придумала все это… Ты же знаешь, какая она фантазерка…
Но его мать уже ушла в свою комнату, напоследок громко хлопнув дверью.
«Тем лучше, — подумал Карл, — кажется, она поверила. Пусть лучше сердится, чем переживает… Неизвестно, чем еще все это закончится…»
Но медлить было нельзя, и Карл поспешно оделся, обмотал горло своим зеленым шарфом и, спрятав под пальто заветную шкатулку, выбежал из дома.
На улице мело. Людей не было, хотя во многих домах еще горели новогодние огоньки. В поисках машины Карл переходил с улицы на улицу. Но здесь, среди новостроек, куда они переехали после смерти отца, никаких машин не было. И только потеряв минут пятнадцать, он догадался, что можно просто позвонить и вызвать такси.
Подбежав к ближайшему таксофону, аккуратной улиткой свернувшемуся на стене какого‑то магазина, Карл обнаружил, что оставил таксофонную карту дома. Но не бежать же сейчас обратно! Он в нерешительности стоял посреди дороги и вдруг услышал приближающийся звук мотора, а вскоре рядом с ним затормозила непонятно откуда взявшаяся машина. Это был микроавтобус, весь разукрашенный, как новогодний подарок. Передняя дверь приоткрылось, и из‑за сверкающих блесток выглянула голова Санта Клауса. Вид у того был усталый и злой.
— Освободите дорогу! — сказал Санта Клаус тоном дорожного патрульного.
— Прошу вас, не уезжайте! — закричал Карл. — Мне так нужна ваша помощь!
Он встал перед автобусом и откинул в сторону свободную руку, пытаясь его удержать. Другой рукой он прижимал к животу шкатулку. Водитель заглушил мотор, и Санта Клаус вышел на дорогу.
Теперь он разговаривал с Карлом так, будто был медбратом в пансионе для умалишенных:
— Все хорошо. Давайте, я помогу вам. Отойдем немного в сторону. А не то вас может кто‑нибудь задавить. Вам нужна помощь? Может, позвоним в службу спасения? У меня в машине есть телефон.
Но Карл протестующе замахал руками:
— Нет, нет! Умоляю вас, мне нужно срочно добраться до Слапской плотины! Помогите мне! Это вопрос жизни и смерти. Сейчас я не могу вам ничего объяснить… Но вот, посмотрите, — и Карл вытащил из‑за пазухи бронзовую шкатулку с коваными уголками, — я привез это из Венеции. Я должен передать это… одним людям, чтобы спасти мою любимую девушку…
Увлекшись своим рассказом, Карл уже полез куда‑то под пальто, собираясь достать из кармана рубашки маленький ключик от шкатулки. Но то ли содержание рассказа, то ли его взволнованный тон уже достаточно впечатлили Санта Клауса, и тот, устало глядя на шкатулку, молча кивнул и жестом пригласил Карла в машину, в которой, кроме водителя, больше никого не было. По пути Карл пытался показывать Санта Клаусу доказательства правдивости своего рассказа, доставая из карманов билет на самолет, таможенные справки, гостиничные бланки… Санта Клаус молча кивал ему, пока Карл не понял, что тот заснул. И сколько Карл ни пытался растолкать его, когда они приехали к плотине, у него ничего не получилось. Но надо было расплатиться с водителем. Денег у Карла не было… И тогда он достал ключ от шкатулки, два раза, как учила Божена, повернул его в замке и впервые увидел ее содержимое… В шкатулке переливались и ярко светились драгоценности! И тогда Карл сунул руку в это звенящее богатство и не глядя вытащил что‑то и отдал водителю микроавтобуса…
Тот некоторое время рассматривал блистающее на его ладони кольцо, а потом, словно опомнившись, быстро положил его в карман и, резко развернувшись, поехал обратно.
Карл шел по дороге в направлении плотины, но вдруг остановился. Вытащив из кармана маленький фонарик — наученный венецианским опытом, он на этот раз захватил его, — Карл опять открыл шкатулку. И, быстро выбрав из нее первое понравившееся ему колечко, он снова закрыл шкатулку, спрятал ее под пальто и решительно зашагал дальше. Он шел в полной тишине и темноте, только впереди где‑то на самой плотине качался скрипучий фонарь.
«Ну и куда же мне теперь идти? Может быть, это все‑таки новогодний розыгрыш?» Но только он успел так подумать, как рядом с ним затормозил красный «ягуар», выскочивший, видимо, откуда‑то из‑за ближайшего холма. Мотор «ягуара» замолк, и снова стало так тихо, что было слышно, как шумит Влтава, пробиваясь через плотину.
Глава 15
Божене не спалось. Она полулежала на диване в гостиной и чувствовала, что так и не сможет заснуть в новогоднюю ночь.
И тогда она встала и прошла в мастерскую. Работа ждала ее еще с Рождества. «Миленький… Тебя совсем позабыли», — прошептала она, беря в руки незаконченный перстень и обращаясь к нему. После сегодняшнего разговора со священником она знала, что обязательно закончит этот перстень, а там будь что будет. Похоже, она слишком часто стала повторять эти слова… Но вспоминая разговор с падре, Божена решила покориться тому, что должно снова изменить ее жизнь.
Она подготовила нужные инструменты, села за верстак и взялась за работу. Словно дав молчаливый обет, она проработала всю ночь, с утра немного передохнула, а в обед снова вернулась в мастерскую.
…Так продолжалось не меньше двух недель. Божена, предупредив всех в Праге, что будет звонить сама, отключила телефон. Затем попросила привратника не пускать к ней никого, кроме посыльных из магазина и ближайшей траттории, из которой ей присылали отличные обеды, — а во время работы аппетит у нее всегда был зверский — и отходила от верстака лишь тогда, когда ее переутомленные глаза отказывались различать мелкие детали и начинали закрываться сами собой, требуя отдыха. Она ненадолго уходила в спальню, чтобы забыться коротким сном, но проснувшись и наскоро перекусив, тут же возвращалась в мастерскую. Она потеряла счет дням.
Задача была почти невыполнимой. Вычерчивая свои эскизы, дедушка делал все расчеты для своих уникальных инструментов, часть которых пропала во время его скитаний, а часть пришла со временем в негодность. Те инструменты, что достались в наследство Божене, всегда были при ней: она предпочитала пользоваться ими, а не современными — может, и более удобными, но слишком упрощенными; тогда как инструменты деда, изготовленные им самим, позволяли ей без слов перенимать многие его секреты.
Божена всегда работала так: сначала представляла свое будущее изделие во всех подробностях и ракурсах, а потом думала, каким способом можно достичь желаемого результата. И никаких спасительных рецептов тут быть не могло — каждый раз приходилось изобретать что‑то новое. Она переняла эту технику импровизации у старого Америго, следя в детстве за тем, как он работает, и слушая, что он при этом говорит: а Америго всегда был, в отличие от нее, достаточно говорлив… И уже тогда старый мастер заложил основы ее будущих ослепительных успехов, тех успехов, секрет которых потом пытались разгадать многие, в том числе Томаш. Сколько он ни пытал ее, сколько ни наблюдал за ее работой — так и не смог понять, почему Божена, обходясь без единого эскиза, всегда так точна в своих расчетах и выбирает оптимальный способ для достижения цели. Не то чтобы Божена что‑то скрывала от него… Скорее, она просто понимала: если Томаш не постиг этого, учась у самого Америго, ее слова уже не объяснят ему ничего.
…Томаша она теперь вспоминала редко, лишь в связи с работой. За год, проведенный в Праге после прошлогоднего карнавала, Божена почти не виделась с ним. Вернувшись тогда из Венеции, она забрала свои вещи, переселила Холичека к Николе и ушла, оставив Томашу квартиру вместе с воспоминаниями об их прошлом. Только изредка до нее доходили слухи, что его видели в каких‑то компаниях — и все время с разными женщинами. Божена подозревала, что ему вешаются на шею его постоянные клиентки: раньше, когда в мастерской рядом с Томашем сидела Божена, они были вынуждены сдерживаться — теперь же им никто не мешал. А Томаш, теша свое мужское самолюбие, видимо, не сопротивлялся. «Интересно, сколько бесплатных заказов он уже выполнил?» — подумала тогда Божена. О том, чем заканчиваются подобные альянсы, она прекрасно знала. Случайно встречаясь с ней на выставках или просто в городе, Томаш поспешно скрывался из поля зрения. Потом, перебравшись жить в Венецию, Божена подумала, что они могут так больше и не встретиться с ним — никогда в жизни. От этой мысли становилось жутковато, и тогда она остро ощущала собственное одиночество. Но в последнее время все изменилось…
Луиджи вытеснил из ее жизни многое, в том числе и размеренный ритм существования. Божена давно ощущала себя зрелой женщиной, успевшей обрасти сонмом приятных привычек. Но сейчас ей казалось, что и тридцать лет — возраст еще не достаточный для того, чтобы хорошенько узнать саму себя.
Она с головой ушла в работу, мысли о которой переплетались в ее сознании с мыслями о Луиджи. И теперь, стараясь превзойти саму себя, она «высаживала» на золотые подушечки‑лепестки бриллиант за бриллиантом, чернила серебряный стебель, рассчитывала правильность изгиба — но самое главное оставалось еще впереди. Сложнейший механизм, позволяющий сдвигать один из лепестков лилии, ей только предстояло изобрести. Видимо, дедушка заранее знал, как это сделать, и, делая эскиз, не утруждал себя излишними подробностями на бумаге. Но Божена понимала, что и с отодвинутым лепестком перстень должен сохранять гармонию форм, плавно переходя из одного состояния в другое. В изделиях Божены совершенным было все, включая застежки и те части, что скрыты от глаз. Какой стороной ни поворачивались созданные Боженой вещи, они всегда оставались прекрасными.
Но секрет тайника никак не давался ей. «Хотя бы одним глазком взглянуть на дедушкин перстень!» — сокрушалась Божена в минуты отчаяния и снова принималась за работу. И когда уже в третий раз переделанный механизм не устроил ее, она решилась.
Ранним утром Божена вышла наконец из дома, чего давно не делала, и направилась в уже знакомый ей полицейский архив. Как ни странно, на этот раз ей не чинили никаких препятствий.
Покопавшись в пожелтевших протоколах, Божена выяснила, что арестованный перстень некоторое время хранился в архиве венецианской квестуры, а затем был продан на одном из благотворительных аукционов, традиционно устраиваемых венецианской администрацией.
На этом след перстня терялся: кто купил его на аукционе, было неизвестно.
Удрученная результатами своих поисков, Божена возвращалась домой. Но вдруг… словно что‑то уже виденное внезапно мелькнуло перед ее глазами, и она быстро пошла в сторону цветочного магазина, в витрине которого не так давно разглядывала лилии. Купив несколько веток этих нежных благородных цветов, она отнесла их домой, погрузила стебли в прозрачную вазу с водой и поставила перед собой на верстак.
Наслаждаясь неповторимым ароматом, Божена изучала каждый цветок. В букете попадались бутоны и уже распустившиеся цветы. Божена поставила рядом три цветка: лилию, едва расправляющую лепестки, полураскрытую и широко распахнутую. Она смотрела на них, бережно щупала кончиками пальцев, медленно поворачивая вазу… И наконец в этом дивном цветочном танце уловила секрет тайника: с поворотом крышечки‑лепестка бриллиантовая лилия должна распуститься! И теперь Божена знала, как ей добиться этого.
Еще несколько дней напряженной работы — и почти все было готово. Теперь оставалось то, без чего нельзя было обойтись, — предварительная примерка.
И только сейчас Божена поняла, как давно она не видела человека, из‑за которого просидела полмесяца взаперти. Взволнованная, она спустилась к привратнику и от него узнала, что Луиджи за все это время ни разу не пытался ее повидать.
Это встревожило Божену не на шутку. Но помня совет, данный ей падре, она поднялась к себе и быстро заполнила свой именной бланк с официальным приглашением на примерку. Снова спустившись к привратнику, она попросила его побыстрее отправить приглашение, после чего опять поднялась к себе в квартиру, прошла в спальню и крепко заснула на кровати Америго Америги.
Глава 16
Карл стоял, не двигаясь с места, пока из машины не вышла Франта в сопровождении двух незнакомых мужчин. Но Карлу было не до них. Увидев Франту, он бросился к ней, но один из мужчин, маленький и толстоватый, преградил ему путь:
— Стой, хирург. Сначала поговорим.
Карл молча достал шкатулку и показал ее толстяку. Толстяком был Чеслав.
— Отлично! — сказал он. — Показывай товар.
— Здесь темно. Пойдем в машину, — предложил второй мужчина, который был значительно выше его ростом.
— Нет, — отказался Карл, — у меня есть фонарик.
— Да ладно, — сказала улыбающаяся Франта, — они не кусаются. Пойдем.
И Карл, крепко прижимая шкатулку, полез в «ягуар», пытаясь оказаться рядом с Франтой. Но Чеслав снова оттеснил его — и Карл понял, что здесь все решает именно он, этот толстяк.
Карлу хотелось только одного: чтобы все это поскорее закончилось и он оказался вдвоем с Франтой — пусть здесь, на этой пустой темной дороге, вдали от города, но вдвоем.
Он заглядывал через плечо Чеслава, пытаясь разглядеть ее лицо… Никаких следов насилия он, к счастью, не заметил.
— Открывай! — скомандовал Чеслав и развернулся лицом к Карлу, закрыв от него Франту своей широкой спиной.
— Сначала высадите ее. Пусть ждет меня на дороге. А уж потом я покажу вам… — Карл угрожающе помолчал, на что «толстяк» хмыкнул, удивленно взглянув на него, — что там внутри.
«Толстяк» кивнул своему напарнику, и тот подтолкнул Франту в сторону двери — они вместе вышли.
Карл полез в потайной карман за маленьким ключиком, с помощью которого открывалась шкатулка, но карман был пуст. Он стал шарить в других карманах — ключа не было.
— Ну что ты возишься? — почти дружелюбно заговорил с ним Чеслав. — Твоя девчонка нам уже надоела. А для тебя, я вижу, лучше ее нет. Так что поторопись!
Пока тот говорил всю эту ерунду, Карл, глупо улыбаясь, продолжал вытряхивать карманы. Потом он стянул с себя пальто и стал рыться в карманах брюк. Билеты, бланки, квитанции полетели на пол машины. Но ключа не было.
— Давайте быстрее — я замерзла, — заглянула в приоткрытую дверь Франта.
— Где может быть ключ? — машинально спросил ее Карл, но тут же опомнился: откуда она может это знать!
— Что ты мелешь? Какой еще ключ? Отдавай им половину и покончим с этим, — Франта начинала нервничать.
Но тут встрял «толстяк»:
— Как это — половину?
— Как договаривались, — огрызнулась она.
— Ну это мы еще посмотрим! — Толстяк зло захлопнул дверь и повернулся к Карлу: — Сколько можно тебя ждать?! Открывай!
— Я потерял ключ от шкатулки. Видимо, по пути сюда, — промямлил Карл.
— Что?! — взревел Чеслав. — А ну давай сюда!
Он выхватил шкатулку из рук Карла и, чертыхаясь, вылез из машины. Карл увидел, как «толстяк», возмущенно жестикулируя, подбежал к верзиле и отдал ему шкатулку. А потом, пробежав несколько шагов вдоль обочины, нашел увесистый камень и, вернувшись, принялся колотить им по крышке шкатулки.
В следующее мгновение Карл увидел, как Франта оттолкнула от себя верзилу и вскочила в машину, на водительское место. Не дожидаясь подсказки, Карл быстро запер двери, Франта завела мотор — и они помчались по пустому шоссе, быстро удаляясь от погнавшейся было за ними парочки.
— Молодец! — выкрикнул Карл, когда они отъехали на порядочное расстояние. — Мы победили!
Машина ехала, слегка повиливая из стороны в сторону. Видимо, Франта не часто садилась за руль. Но лицо ее сияло! А Карл сидел сзади и восхищался находчивостью своей подруги.
К счастью, шоссе в этот час было совершенно пустым, и они благополучно добрались до города. Карл уговорил Франту оставить машину прямо на обочине — чтобы хозяева быстро смогли найти ее. Он надеялся, что это избавит его и Франту от дальнейших преследований. Жизнь, полная приключений, уже осточертела ему — Карлу хотелось покоя.
Увидев подходящий к остановке трамвай, они пересели в него, и Франта предложила:
— Поехали ко мне. Они не знают, где я живу.
— А может, к нам? Мама будет рада. Я уже давно хочу вас познакомить.
Усталость, накопившаяся за последние сутки, дала о себе знать: Карла переполняла глупейшая эйфория. Но Франта была в полном порядке.
— Нет уж, сначала ко мне.
Кондуктор с интересом покосился на единственных в это раннее новогоднее утро пассажиров.
— С Новым годом! — выкрикнул он со своего места.
— Да, сегодня первый день нового года, и я выполнил свое обещание — вернулся в срок! — прошептал Карл на ухо Франте, пытаясь ее приобнять.
— Действительно! Кто бы мог подумать… А как здорово ты подсунул им эту пустышку!
Карл непонимающе посмотрел на Франту. Та, поймав его взгляд, тут же отстранилась, но, еще на что‑то надеясь, спросила с улыбкой:
— Что ты насыпал в шкатулку? Наверное, разобрал мамину люстру?.. — Она немного помолчала, мечтательно закатив глаза. — Ладно, поедем к тебе. Хочется поскорее посмотреть па мой новогодний подарок! — добавила она шепотом.
— Твой новогодний подарок у меня с собой! — И Карл, открыв портмоне, достал оттуда колечко, которое при свете фонарика выбирал в шкатулке на темной дороге, видимо тогда и потеряв ключ. — Вот. Почти обручальное. — Он торжественно протянул кольцо Франте.
— Прелесть! А где остальное?
И Карл понял, что сейчас, когда Франта узнает правду, случится что‑то страшное… Поэтому он молчал.
— Ты что, отдал им настоящий клад? — тихо спросила она. — Да?!
— Но, Франта, теперь‑то, когда все уже позади?.. Главное, что с тобой ничего не случилось… — забормотал он.
Звонкая пощечина шлепнулась Карлу на лицо, а Франта побежала к выходу. Трамвай как раз подходил к остановке…
— Скорей! — закричала Франта. — Мы еще можем обменять их машину на наш клад!
Карл выскочил из трамвая вслед за ней, и они побежали к тому месту, где оставили «ягуар»… Но машины там уже не было.
В общем‑то, эта история закончилась хорошо. Франта избавилась от опасности, а Карл благополучно расстался со своими иллюзиями, чем очень порадовал свою маму…
Только Божена, через несколько дней узнав о том, что ее старинная шкатулка, в которой она обычно хранила нитки, наполненная старыми пробами ее изделий с цветными стеклышками и фальшивыми стразами вместо настоящих камней досталась каким‑то неведомым ей приятелям бывшей подружки Карла, устало вздохнула и впервые поймала себя на ощущении абсурдности жизни.
Глава 17
Луиджи не пытался встретиться с Боженой раньше, чем она сама этого захочет. Получив приглашение, он обрадовался и удивился: «Неужели моя Божена успела так быстро управиться?»
С тех пор как он подслушал разговор Божены со священником и узнал о ее чувствах к нему и связанных с ними страхах, он мысленно называл ее только так: моя Божена. Луиджи знал, что они будут вместе, но сначала он должен помочь ей избавиться от страхов. И теперь, всем сердцем ощущая романтическую глубину любимой, он знал, как он сделает.
Не хватало единственного — денег, для того чтобы выкупить перстень. Ведь только полностью заплатив за работу, он мог пригласить Божену к себе домой для решающего объяснения.
Северный ветер выдувал из Венеции беззаботных туристов с такой легкостью, словно это были пестрые бабочки. Лавочки и даже магазины закрывались в ожидании очередного зимнего карнавала. Город, продолжая жить своей малозаметной для постороннего взгляда внутренней жизнью, внешне словно впадал в спячку.
Луиджи, подрабатывая во время туристического межсезонья на местном телевидении в качестве то дежурного оператора, то автора репортажей, в последние дни занимался тем, что, бродя по городу, пытался зацепить своим искушенным глазом профессионала что‑нибудь любопытное, свеженькое. Что ни говори, а, заказывая Божене перстень, он меньше всего думал о том, что его когда‑то придется выкупать. И вот это время наступало. Тоска по Божене (они не виделись уже почти полмесяца) смешивалась в душе Луиджи с гнетущим чувством своей неспособности выложить немалую сумму за то, что, по большому счету, вообще не имело в его воображении цены, так как уже заняло в его жизни совершенно особое место… И поэтому он с большим опозданием осознал, что бриллиантовая лилия, несколько крупнее той, которую он подолгу разглядывал теперь каждый вечер, прежде чем уснуть, прячет в своих лепестках не только его будущее безмерное счастье, но и реальную стоимость драгоценных металлов и камней.
Но приглашение на примерку было получено. И назавтра, закончив работу в студии раньше обычного, он явился к Божене в назначенный час — с букетом лилий в руке. Цветы, которые он принес, были почти черными. Это стоило ему немалых усилий и средств, но он был уверен: именно так следует закручивать мистерию, подсказанную ему Божениным дедушкой и страхом самой Божены. «Яд и противоядие должны дополнять друг друга», — думал Луиджи, надеясь на успешный исход.
Но когда он увидел Божену, она показалась ему такой прекрасной и желанной, что он чуть не нарушил свои планы: отложив цветы в сторону, Луиджи бросился к ней, подхватил ее на руки — и их уста слились в долгом поцелуе. В эти мгновения ему показалось, что все ее страхи уже позади, но внезапно Божена мягко выскользнула из его объятий и, заметно побледнев, взяла принесенный им букет в руки. Некоторое время она странно смотрела на эти дивные, но показавшиеся ей такими зловещими цветы, а потом понесла их в мастерскую, пригласив Луиджи следовать за собой. Там она заменила уже увядающие белые лилии на сильные черные и, усадив Луиджи в кресло, склонилась над ним, примеряя перстень.
Луиджи был поражен: лилия, таинственно переливавшаяся на его безымянном пальце — или сердечном, как любила называть этот палец мать Луиджи, — была точь‑в‑точь такой же, как та, с которой он не сводил глаз вот уже много дней, грезя о желанной встрече с Боженой и вспоминая связанную с этим цветком историю. «Удивительно точная работа! И как ей только это удалось?»
Перстень великолепно сидел на длинном пальце Луиджи. «Но что же будет дальше? — думала Божена. — Ведь ему осталось только расплатиться со мной. И что это будет за расплата?» Мысль о вендетте все еще не оставляла ее.
Руки Божены едва заметно задрожали, и Луиджи понял, что должен довести свой план до конца.
— Чудесная работа! — сказал он, не в силах оторвать взгляд от висящей на тончайшей, почти невидимой цепочке теплой капельке сердолика, которая, казалось, готова была в любой момент скатиться по нежной коже Божены вниз — туда, где под скромной тканью домашнего платья взволнованно поднималась ее грудь. Волосы Божены, вившиеся слишком близко от лица Луиджи, пахли жасмином…
«Господи, дай мне силы, чтобы доиграть до конца! — мысленно взмолился он. — Я не могу больше держать ее в объятиях, видя эти глаза, в которых таится страх! И я должен ей помочь!» Он заставил себя перевести взгляд на перстень.
— Ваша работа дорого стоит, — с трудом сказал он, стараясь, чтобы его голос звучал сдержанно. — Мне нужно несколько дней, чтобы собраться со средствами. Вы смогли бы немного подождать?
— Конечно. Можете не торопиться. И если есть необходимость, забирайте перстень прямо сейчас. Я вам доверяю.
Но Луиджи покачал головой, снял перстень и некоторое время рассматривал его на своей ладони. Потом он слегка сжал руку Божены и, поднеся ее к своим губам, чуть слышно произнес:
— Я хочу расплатиться с вами сполна. Божена, услышав это, чуть не отдернула руку, но, взглянув ему в лицо, увидела, что он уже вежливо улыбается ей, будто ничего и не говорил мгновение назад.
— Что, простите? — растерянно пробормотала она.
— Спасибо. Я думаю, что смогу не тянуть с оплатой. — И он бережно, словно держал в пальцах живой цветок, протянул перстень Божене. — Прощайте.
И ни слова больше не говоря, Луиджи, уже успевший изучить дом Божены, вышел из мастерской.
Вскоре она услышала, как за ним закрылась входная дверь.
Божену так напугал этот визит, что впору было опять идти к священнику. Но она понимала, что не сделает этого. «Решила довести все до конца — найди в себе силы», — сказала она самой себе и вдруг, рыдая, опустилась в кресло, в котором только что сидел Луиджи. Несмотря ни на что, ей не хотелось, чтобы он уходил.
Время шло, а Луиджи не появлялся.
Божена пыталась отвлечься от ожидания: она гуляла, ходила по магазинам, покупая какие‑то вещицы для дома, а однажды вечером даже попробовала вязать — и вскоре в Прагу отправилась посылка, наполненная подарками для Богумила: очаровательными пинетками в форме рыбок, вязаными кофточками, ползунками. Напоследок Божена придумала и связала огромную пчелу, которую можно было повесить в детской или использовать как подушку. На это ушло много черной и желтой пушистой пряжи, которую она несколько раз подкупала в небольшом магазине. Она специально выбрала дальний магазинчик и ходила туда раз в несколько дней: это тоже помогало развеяться.
Когда вязать надоело, Божена решила, что ей надо заняться своими нервами, и вообще подумать о здоровье. Она начала рано вставать, еще в постели включая свою любимую музыку — дивертисменты Моцарта, и шла принимать холодный душ. Затем, медленно выпив стакан сока на пронизанной солнцем или жемчужно‑матовой от утреннего тумана веранде, одевалась по‑спортивному и выходила на набережную. Спортивный стиль Божена открыла для себя недавно и теперь радовалась тому, как молодо и подтянуто ощущается ее тело под модной яркой тканью. А потом садилась на пароход и добиралась до Лидо.
Море успокаивало и ободряло. В погожие дни она наблюдала за тем, как прилив посылает на берег невысокие, длинные, равномерно набегающие на холодный зимний песок волны. Затем завтракала на террасе одного из многочисленных пансионатов, разбросанных по побережью. Она облюбовала этот пансионат из‑за скрипача, который по утрам играл на продуваемой свежим воздухом террасе. Когда высокий скрипач с выразительным и нервным лицом прижимал хрупкую скрипку к своему плечу, Божена замирала: музыка и море врачевали ее душу, но они же заставляли с тревогой и надеждой думать о том, что Луиджи вернется, обязательно должен вернуться…
Когда же холодный зимний ветер пронизывал Венецию насквозь и трепал воду в каналах, как лохмотья старой нищенки, Божена, чтобы не оставаться наедине со своей тревогой, шла в недавно открытый ею для себя солярий на соседней улице. Раньше она никогда не пробовала посещать подобные места. Но теперь ей нравилось заботиться о себе, о своем теле, помнившем ласки мужчины, встречи с которым она так жаждала и так боялась. Божена с удовольствием плескалась в бодрящей голубоватой воде бассейна, где играла с перламутровым мячиком и плавала на спине, а потом отдавала свое тело сильным и умелым рукам массажистки, ощущая все это как подготовку к новой встрече с Луиджи, о котором она, не привыкшая проводить столько времени в праздности, думала теперь почти непрерывно.
* * *
А ему, чтобы приблизить желанное объяснение с Боженой, оставалось только одно: добыть деньги. Но как заработать такую сумму в венецианское межсезонье? Для этого нужно было придумать что‑нибудь совершенно из ряда вон выходящее, какой‑то абсолютно сногсшибательный сюжет… А потом, пользуясь хорошей репутацией на телевидении, он мог бы попытаться заключить контракт не с местной, а с национальной телекомпанией — и тогда все будет хорошо! Луиджи не сомневался в успехе. Ведь даже одного гонорара, полученного в Риме за удачный репортаж, было бы достаточно, чтобы выкупить перстень. Правда, нужно еще привести в порядок его холостяцкую квартиру — просторную, светлую, но необыкновенно запущенную после отъезда матери.
…Время шло. Каждый вечер, закончив работу на студии, он отправлялся на поиски своей удачи. Многочасовые прогулки по городу, успевшие за последние дни стать привычным для него моционом, Луиджи неизменно завершал недалеко от дома Божены, словно желая еще больше растравить себя — но при этом и подзадорить близостью той, которая наполняла всю его радостно‑разнузданную простодушную жизнь совершенно иным, блаженным смыслом.
И в этот раз, заранее наслаждаясь тем, что и сегодня вечером он увидит окно Божены, обычно занавешенное в эти часы полупрозрачным нежнейшим газом, а не закрытое наглухо ставнями, Луиджи двигался совсем с другой, не разведанной им еще стороны. Вот уже несколько часов он, на первый взгляд беспорядочно кружа, неторопливо прогуливался по городу, пряча лицо в ворсистый воротник светлого пальто, которое он любил надевать тогда, когда его плечо было свободно от не щадящего добротную одежду ремня видеокамеры — в ином случае он не мог позволить себе ничего, кроме кожаной куртки, если, конечно, в Венеции стояли редкие для Италии холодные дни. И вдруг его взгляд привлекла необычная, видимо совсем недавно появившаяся вывеска: «ФЕЛЛИНИ» — крупно, белым по черному, надпись горела, подобно кадрам на обрывке гигантской кинопленки, с зияющими пробоинами перфорации по краям; и эта пленка как бы выматывалась из еще более огромной старомодной катушки и тянулась к колесу светящейся бобины, тоже составленной из букв, которые складывались в слово «ресторан».
И, почувствовав приятный зуд в уже готовом разыграться воображении, Луиджи толкнул тяжелую, обитую чем‑то вроде жести и совершенно непрезентабельную на первый взгляд дверь, — и попытался войти. Но на входе его не очень‑то вежливо остановил странно одетый швейцар — в полутьме Луиджи успел разглядеть, что на нем не обычная ливрея или форменный костюм, а что‑то беспорядочно свисающее вдоль тела, кажется, полосатое, — и заявил, что вход в их заведение сеньорам разрешен только с сеньоринами.
После столь странного заявления у Луиджи мелькнула сумасшедшая мысль: а не пригласить ли ему Божену, которая жила так близко отсюда и, наверное, сейчас была дома. Но через мгновение он отказался от своей идеи — время для объяснения с Боженой еще не пришло…
Но Луиджи был весьма заинтригован этим странным местом, о котором он, справедливо считавший себя знатоком Венеции, никогда не слышал. И, простояв в раздумье несколько минут, он внезапно решился и побежал по набережной — в поисках какой‑нибудь путаны, которая своим присутствием открыла бы ему вход в «Феллини».
Искать пришлось недолго. Словно специально для него, из первой же подворотни вышла сочная венецианка, в ленивой полудреме коротающая светлую часть суток в ожидании вечернего заработка. И Луиджи, быстро с ней сговорившись, фривольно обнял ее за талию и вошел в ресторан. Поднявшись по невысокой лестнице в сопровождении метрдотеля, тоже одетого как‑то необычно, в большой, но мрачно выглядевший зал, он обнаружил, что здесь, в этом зале, неприятно яркий свет прицельных ламп направлен прямо в глаза посетителям, а вместо отдельных столиков стоят сколоченные из грубо обработанных досок длинные столы с такими же скамейками вдоль них. Луиджи в некотором замешательстве остановился на жестяном полу посередине зала.
Но его спутница, похоже, уже расправила в привычной для нее обстановке свои яркие крылья. Она не желала стоять посреди зала и тянула Луиджи к ближайшим свободным местам — подошедший к ним официант настойчиво требовал того же. Луиджи повернулся к нему и застыл в удивлении: официант был одет в форму тюремного надзирателя. А другой, суетившийся поблизости, был в полосатой куртке и плоской шапочке заключенного.
И в это время музыканты, прикованные к своим местам массивными цепями и отделенные от посетителей высокой решеткой, заиграли что‑то надрывно‑плаксивое — особенно старался небритый бандонеонист, выделывая на своем тягучем инструменте такие пассажи, что цепи на его ногах гулко забренчали в такт.
Красотка, приведенная Луиджи, при первых же звуках музыки вцепилась в его шею и, едва не повиснув на нем, повлекла его танцевать. На них, все еще стоявших посреди зала, представляющего собой тюремную трапезную, и так уже со всех сторон устремились взгляды посетителей, и Луиджи, уже успевший справиться со своим изумлением, послушно обхватил свою спутницу за выписывающие круги бедра и взялся вытанцовывать что‑то вместе с нею на жестяном полу, щелкая каблуками. Похоже, у них получалось неплохо: когда музыканты наконец угомонились, экстравагантная публика долго не хотела отпускать их, громко бисируя.
Воодушевленная своим успехом, путана оставила Луиджи и, подойдя к решетке, что‑то шепнула гитаристу. Тот, естественным образом полагая, что за даму расплатится ее кавалер, стал наигрывать мелодию какого‑то жестокого романса, а раскрасневшаяся красотка, страстно поигрывая пышными бедрами, внезапно запела низким и хриплым, но не лишенным своеобразного обаяния голосом. Так она, должно быть, хотела окончательно убедить своего клиента в том, что он выбрал ее не зря…
Когда красотка закончила романс, прижав руки к пышной груди, обтянутой черным шелком, сидящие на длинных лавках посетители щедро наградили ее аплодисментами, и она, опять пошептавшись с гитаристом, приготовилась петь снова.
А Луиджи, жалея лишь о том, что у него нет с собой камеры, присел на край длинной скамейки и принялся торопливо вызванивать студию. Стараясь перекричать всхлипывание под гитару своей неподражаемой спутницы, он вызвал в ресторан съемочную группу, а сам направился в «каземат» администрации, чтобы получить разрешение на съемку.
И спустя четверть часа он уже привычно прижимал к плечу профессиональную видеокамеру, а еще через пару часов вся телевизионная братия, поработав на славу, шумно пировала, поглощая из деревянных плошек одно изысканное блюдо за другим: scampi brochetto — сочные рачки, которые с шипеньем жарились на вертеле в жаровне, установленной прямо на их столе, груду вскрытых сырых моллюсков, ароматная мякоть которых легко соскабливалась со стенок раковин специальными кривыми ножами, отдающую дымком проперченную свинину и многое другое, чем, в благодарность за неожиданную и отлично снятую рекламу, угощал их управляющий недавно открывшегося ресторана «Феллини», уже успевший просмотреть отснятое по муниципальному каналу.
А днем позже на студию позвонил президент бурно развивающейся сети ресторанов «Феллини» и предложил оператору Луиджи Бевилаква контракт на серию рекламных репортажей в воскресных выпусках национального канала новостей. От названной суммы контракта у Луиджи сладко защемило под ложечкой…
День спустя на счет Луиджи был переведен аванс — сумма, достаточная для того, чтобы осуществить все, что он задумал.
А вечером в квартире Божены зазвонил телефон — и по тому, каким громким и неожиданным ей показался его звонок, она сразу догадалась, чей голос услышит сейчас в трубке.
Луиджи был вежлив и сдержан. Он звонил, чтобы узнать, предпочитает ли она получить гонорар за перстень наличными или он должен перечислить деньги на ее счет.
«На счет», — ответила Божена, и Луиджи, записав его номер, так же вежливо попрощался и повесил трубку. «Пожалуй, это уже чересчур, — подумала Божена. — Я веду себя, как верная жена. Может, он уже и думать забыл обо мне, а я…» Но что‑то настойчиво подсказывало ей, что это не так, и у всей этой истории с перстнем еще будет продолжение. Какое? Этого она не знала. И Божена вернулась к своему ожиданию. Ждать ей уже оставалось недолго.
Глава 18
Его квартира быстро преображалась.
Готовясь к встрече с Боженой, Луиджи, раньше не придававший значения ничему, кроме удобства, впервые осмотрел свое жилище с пристрастием. И результаты этого внимательного осмотра были совершенно неутешительными.
Приходившая к нему в дом прислуга‑кухарка — по совместительству прачка и что‑то вроде горничной — относилась к порядку в доме весьма поверхностно. Являясь через день, она поспешно включала угрожающих размеров пылесос, когда‑то приобретенный Луиджи по ее настоянию (до отъезда матери в Америку дом вообще убирался по‑старинке — влажной тряпкой), и энергично передвигалась по комнатам, обращаясь с ревущей машиной подобно укротительнице диких слонов: Бианка — так звали универсальную прислугу — водила пылесос за собой, держа его за длинный серый хобот. И Луиджи, впервые наблюдавший за этим шествием, быстро понял, что оно не имеет ничего общего с настоящей уборкой комнат. А потом Бианка, полноватая женщина неопределенного возраста, произвела на Луиджи совершенно неизгладимое впечатление тем, что вскоре забыла пылесос где‑то на полпути и взялась за какой‑то попугаистой расцветки венчик, который якобы притягивал к себе пыль — Бианка, будучи натурой увлекающейся, заказала его по телефону, очарованная телевизионной рекламой. От мелькания этого предмета у Луиджи зарябило в глазах. А пыль, как он выяснил во время пристрастного осмотра квартиры, не желала притягиваться к венчику и преспокойно копилась во всех углах и закоулках.
Так продолжаться не могло: Луиджи собрался с духом и решительно рассчитал Бианку. А потом, посоветовавшись с привратником, обратился в агентство, откуда ему через час прислали расторопного юношу с большой сумкой, полной всевозможных жидкостей, щеточек, швабр и очищающих салфеток. За пару дней хрупкий юноша расправился с многолетней пылью, плесенью и паутиной и за небольшую дополнительную плату помог Луиджи отправить на помойку большую часть старой мебели — ту, которую хозяин счел недостойной показаться Божене. А затем, отставив всякую работу, Луиджи уединился в спальне и взялся листать антикварные каталоги — ему предстояло в значительной степени обновить обстановку, уложившись в отведенную на эти расходы, хотя и немалую сумму. Но Венеция всегда славилась любовью к старине и своими антикварными лавками — и он выуживал из журналов вещь за вещью, каждая из которых была бы достойна Божены.
Именно так подбирал он гобелены, недостающие предметы мебели, ковры и другие всевозможные милые вещи и вещицы, которые должны были наполнить и преобразить его дом. В нем вдруг проснулась извечная венецианская страсть к роскоши. Выбрав что‑нибудь, он отправлялся по указанному в каталоге адресу и долго беседовал и торговался с антикварами, всесторонне изучая и рассматривая приглянувшееся. Время для покупок было удачное — не сезон, и хозяева магазинов и лавочек охотно шли на скидки, стараясь не упустить придирчивого покупателя.
Первым крупным приобретением стал шелковый гобелен «Борьба сказочных зверей». Его принесли утром, и Луиджи вместе с доставившим покупку посыльным аккуратно разгладил гобелен на стене постепенно преображающейся гостиной. Когда посыльный ушел, Луиджи растянулся, глядя на гобелен, на скрипучей старинной кушетке, которую он сначала хотел, но в последний момент все‑таки не решился выбросить, — кушетка напоминала ему о беззаботном детстве: когда‑то она стояла в саду, и Луиджи вместе с измазанными соком шелковицы приятелями нередко дремал на ней в послеполуденный зной…
А сейчас он, не отрывая глаз, смотрел на будто ожившую стену: на чистом голубом фоне, оттененном кобальтовым орнаментом, сплетались в немыслимые клубки белоснежные тела единорогов, химер и грифонов. Его вдруг охватили страстные фантазии: великолепное тело Божены, невыразимо желанное, вспыхивающее в его воображении десятком красочных миниатюр, вдруг возникло перед ним и словно застыло на голубом фоне, оплетенное, как и фигуры животных, нежными усиками аканфового листа. Луиджи застонал, и из теплой пелены опалового тумана поплыли и заново захватили его пьянящие подробности их близости — когда он ворвался в Боженино одиночество и смог сделать то, о чем так страстно мечтал со дня их первой встречи на площади Сан‑Марко. И он вспоминал и вспоминал все новые подробности тех минут, когда мог касаться ее тела не только глазами, но и губами, пальцами, когда наяву прижимался щеками к ее извивающимся бедрам, захлебывался ароматом ее укромностей и касался их языком, словно пробуя медовые ягоды ее пряной зрелости. «Неужели это возможно? Я и она — и больше ничего, только ночи и дни, проведенные вместе? И музыка воспоминаний, в которую каждое утро будет вплетаться новая пленительная тема…» Луиджи сел на кушетку и сжал голову руками, пытаясь удержать ускользающие видения. Но снова перед ним была лишь блестящая голубизна гобелена.
Все же надежда на скорую встречу не оставляла много времени его любовной тоске, и Луиджи с легким сердцем вернулся к своим приготовлениям. Он еще и сам не понимал, насколько выбираемые им предметы сродни вкусам и пристрастиям Божены. Выискивая из моря старинных вещей достойнейшие, он был так похож на женщину, для которой старался, что если бы Божена могла застать его за этим занятием, ее бы обязательно пронизал сладко‑щемящий холодок узнавания себя в человеке, которого она любила — наверное, потому что она так давно ждала такой любви, такого родства душ и тел. И она бы поняла, что страхи, осаждавшие ее в последнее время, хоть и косвенно, но все же были связаны с ощущением пустоты, образовавшейся в ее душе после разрыва с мужем, и желанием заполнить ее…
Но Луиджи не позволял себе и надеяться на то, что он любим не меньше, чем любит сам, и продолжал, сам того не ведая, с удивительной проницательностью, разбуженной в нем любовью, готовиться к свиданию, разгадывая один за другим секреты очаровавшей его женской души, с каждым днем внутренне приближаясь к той, которую любил. Они еще не провели вместе ни одного дня, а Луиджи уже понимал Божену так, как никогда не понимал ее другой мужчина.
Постепенно его дом начинал дышать полной грудью: предметы и вещи, вплетаемые вдохновенным ожиданием этого незаурядного мужчины в уютную ткань его преображенного жилища, всегда оказывались в нем на своем месте — словно нитки в узоре старинного гобелена.
Не следуя моде и не будучи коллекционером, он делал покупки действительно вдохновенно. Особенно его привлекала мебель, которая была рассчитана на двоих. И вскоре в гостиной появились сдвоенные кресла‑паучки, готовые обхватить сидящих вишневой вязью деревянных подлокотников, а в спальне — двуспальная кровать в форме двух овалов, наплывающих один на другой. В изголовье кровати Луиджи сам повесил восьмиугольное зеркало из муранского хрусталя, бронзовая рама которого была выложена маленькими мраморными пластинками, чем‑то напомнившими ему матовые ноготки Божены.
Не имея возможности купить все, что ему хотелось, Луиджи выбирал самое‑самое. А таким неизменно оказывалось то, что как‑то связывалось в его воображении с образом любимой. Так пришли в его дом настольные часы с фарфоровыми фигурками влюбленных: нимфа, тающая в объятиях мускулистого красавца в тунике, напомнила ему о Божене упругостью форм, живостью пластики и прической. Молочного стекла декоративная тарелка с эмалью — видом церкви Сан‑Джованни э Паоло — заняла свое место на стене в гостиной, потому что, глядя на нее, Луиджи вспомнил о церкви, где исповедовалась Божена. А оплетенный нитями жемчуга светильник из ретичелльского стекла имел изгибы, которые сродни плавным линиям ее шеи…
Когда дом был достойно обставлен, пришло время подумать и о меню. Сначала Луиджи даже не задумывался, чем станет угощать Божену при встрече, но посуда, подбираемая им так же тщательно, как и все остальное, сама подсказала ему, что должно быть на столе. Приобретенная им фаянсовая паштетница в форме рыбы наводила на мысль о паштете из пеламиды — и это было единственное блюдо, которое Луиджи мог приготовить сам. Чашу из агатового стекла, привезенную им с острова Мурано, так и хотелось наполнить орехами. Вызволенная из плена пыльной этажерки, затерянной в сумраке маленькой антикварной лавки, чаша из сетчатого стекла, подобно тончайшей паутине, должна была оплетать сочные фрукты. А узкогорлый кувшин с пурпурной росписью он выбрал для терпкого гранатового сока. Почему‑то Луиджи казалось, что это и есть идеальный напиток любви. Ну а для янтарного кьянти он разыскал в чулане потемневший серебряный сосуд, отнесенный туда еще Бианкой: не умея чистить серебро, она просто убрала его с глаз долой и на этом успокоилась.
Луиджи мысленно добавил к сервировке два бокала темного стекла на вытянутых ножках, обнаруженных в недрах отправившегося на помойку шкафа, и старый подсвечник, пылившийся у него в спальне. «Лучи заходящего солнца — окна гостиной как раз выходят на запад! — и тревожные блики свечей сделают наши бокалы бездонными, позолотят волосы Божены и вообще…» — он точно не мог бы сказать, что означает это его «вообще», но, глядя на четыре больших окна, четыре золотистых проема, сквозь которые в гостиную бесцеремонно проникало вечернее солнце, уютно устраиваясь на вычищенном паркете вытянутыми прямоугольниками, похожими на розовые коврики, Луиджи уже предвкушал все прелести скорого свидания.
А следующим утром он понял, что все готово — ничего не забыто, и лучше уже не придумать. И тогда он позвонил Божене и назначил ей время и место для встречи — она согласилась.
Вечером следующего дня Луиджи встретил Божену у ее дома и, сдержанно пожав ей руку, молча повел к уже поджидавшей их в сумерках гондоле. Они поплыли, и вскоре зажглись фонари, закопченными каплями повисшие на облупившихся стенах домов. Зимние звезды тревожно замерцали в еще белесоватом небе. Лодка спокойно двигалась от поворота к повороту, и крошечный позолоченный лев на ее носу размеренно поднимался и опускался в такт движению весла.
Сам вечер был подобен той старинной венецианской песне, что звучала в этот час над каналом: Божена услышала ее мелодию издалека, а потом заметила в окне одного из домов седовласую женщину в светлой одежде, прикорнувшую на подоконнике, — пела она. Нервное напряжение довело Божену до состояния повышенной чувствительности: она словно лишилась кожи. Венеция волновала ее каждым своим изгибом. Тишина, царившая вокруг, казалась ей затишьем перед бурей. А эта мелодия — печальная и немного тревожная — легла ей на сердце, как сухой лист шелковицы, кружащийся на ветру, прилипает к воде канала.
Они миновали еще один поворот и вскоре поравнялись с темной галереей, среди замшелых колонн которой не так давно она ходила вместе с падре, рассказывая ему свою таинственную историю. И вдруг Луиджи показалось, что кто‑то смотрит на него: он поднял глаза и увидел седого старика, одетого в черное, который сидел на ступеньках, ведущих к дверям церкви, и пристально разглядывал Луиджи, словно видя его насквозь. И когда их лодка подплыла совсем близко, Луиджи услышал — или это просто показалось ему в плеске воды: «Не искушай провидение, не искушай». Он вздрогнул и спросил у падре: «Простите, вы что‑то сказали?» Но тот уже смотрел мимо него, и вскоре его высушенная временем фигура скрылась за очередным поворотом канала. Божена рассеянно опустила глаза и, не подавая виду, что ей знаком этот старик, промолчала.
Не зная, послышались ли ему эти слова или священник действительно заговорил с ним, Луиджи до самого дома повторял про себя: «Не искушай провидение, не искушай», — и его сердце отчего‑то все больше трепетало.
Молчаливый гондольер размеренно работал веслом, пышная парадная Венеция давно осталась позади, а пугающая Божену неизвестность неотвратимо надвигалась на нее. Стянув волосы в тугой пучок и вся внутренне подобравшись, она тревожно вглядывалась в темные провалы окон, стараясь понять, куда же направляется их гондола, одиноко разрезающая водную гладь.
И вскоре гондольер ловко причалил у одного из полутемных домов. Луиджи помог Божене сойти.
И она, не оставляя себе больше времени на раздумья, послушно двинулась вслед за ним по широкой, но скупо освещенной мраморной лестнице старинного дома.
Но как только они вошли в квартиру Луиджи, на сердце у Божены сразу потеплело: здесь было светло и просторно. Она почувствовала, что страх перед не всегда понятным ей поведением хозяина квартиры понемногу отпускает ее, а ведь сегодня, готовясь к долгожданному свиданию с ним, она мысленно несколько раз опять произнесла слово «вендетта»…
Солнце, на которое так рассчитывал накануне Луиджи, уже опустилось в бирюзовую дымку, но продуманно размещенные тут и там светильники уютно освещали квартиру и лицо хозяина, немного растерянное и счастливое. Он повел Божену в гостиную. Проходя мимо заранее сервированного стола, Божена почувствовала, как аппетитные запахи, щекоча ноздри, приятно дразнят ее воображение. Она глубоко вздохнула и окинула гостиную взглядом. Она не ожидала увидеть в квартире Луиджи ничего подобного! Вещи, тщательно подобранные, казалось, так и льнули к ней: они все ей нравились! Ей хотелось пощупать их, рассмотреть поближе…
Не стесняясь в волнении наблюдающего за ней Луиджи, Божена, увлеченная обстановкой, легко коснулась кончиками пальцев прохладных фарфоровых фигурок, которые, не замечая ровного шуршания часовых стрелок, предавались своему сладкому объятию, подошла к чудесной голубизны гобелену и вдруг прильнула щекой к нежному шелку. В это мгновение у Луиджи помутилось в глазах.
Он с трудом заставил себя остаться на месте, чтобы не вспугнуть Божену напором своей страсти, рвущейся наружу. Словно оживляя его недавние фантазии, Божена плавно двигалась по комнате… На ходу она подцепила из тонкостенной чаши орешек — и Луиджи слышал, как он маняще хрустнул, прежде чем растаять на ее языке. Она долго не отрывала глаз от луноподобной тарелки, что‑то ей неуловимо напомнившей, а потом, опьяненная впечатлениями, сама не замечая и не задумываясь, что делает, медленно потянула за янтарный замочек, расстегивая молнию своего мягкого шерстяного жакета, и принялась вылезать из его рукавов, наклоняя плечи то вправо, то влево. Луиджи сжал за спиной руки, наблюдая, как мягко ходят ее лопатки под тонким трикотажем светлого платья, как нежно прорисовываются под ним холмики ее позвонков. Думая о своем, Божена рассеянно оглянулась, ища, куда бы пристроить жакет, а потом чуть отошла назад и, положив его на двойное кресло, присела рядом. Но тут же, будто вспомнив о чем‑то, она встала и вопросительно взглянула на Луиджи. Тот постарался как можно спокойней улыбнуться в ответ и чуть срывающимся, больше обычного хриплым голосом оживленно предложил ей приступить к ужину.
Свечи над столом зажглись, и по голубоватой скатерти забегали теплые блики. Божена поднесла к губам старинный бокал, который Луиджи наполнил своим любимым кьянти, но вдруг, отдернув руку и немного пролив вино на скатерть, она неловко извинилась и смущенно попросила налить ей соку. Луиджи дотянулся до кувшина и, больше глядя на Божену, чем на стол, налил в ее стакан гранатовый сок.
Черный муранский стакан стал на просвет пурпурным и, чуть дрожа в руке Божены, повис над столом. Но поставив и его, Божена вдруг встала и ни слова не говоря вышла в прихожую. Луиджи вскочил со стула и, ругая себя за то, что в пылу своей страсти совершенно забыл о страхах любимой женщины, уже собирался бежать за ней, опасаясь, что Божена сейчас попросту покинет его дом… Но она уже появилась в дверях гостиной, держа в руках маленькую бархатную шкатулку.
— Я принесла перстень с собой, — тихо сказала она и, присев на прежнее место, поставила шкатулку на стол и пододвинула ее к Луиджи. Он, перехватив ее руку, на мгновение удержал ее в своей, а потом, как и Божена несколькими минутами раньше, ни слова не говоря вышел из гостиной — но не в прихожую, а в другую дверь.
В соседней комнате сначала что‑то зашуршало, потом Божена услышала звук передвинутого стула, скрип каких‑то пружин — и Луиджи вернулся, тоже держа в руках шкатулку. В отличие от Божены, он не сомневался ни в чем и торопил время: прежде чем осуществятся его мечты, ему нужно успокоить Божену и, все наконец объяснив ей, превратить устрашающую неизвестность в занятную старинную историю.
Много думая в последнее время о тех необычайных совпадениях, которые сопровождали их знакомство и так пугали Божену, Луиджи решил пойти по самому простому пути — и оказался прав. Он тоже побывал в квестуре и, воспользовавшись удостоверением репортера, легко получил доступ в хранилище. Не слишком надеясь на удачу, он все‑таки решил попытался найти там хоть что‑нибудь, связанное с делом Америго Америги, о котором узнал, подслушав исповедь Божены. И, перерыв за полдня целую кучу списанных муниципальных архивов и наглотавшись пыли, Луиджи наткнулся на старую толстую папку, которая содержала в себе подшивку протоколов благотворительных аукционов, проведенных городской администрацией с начала до середины века. Воодушевленный находкой, Луиджи, громко чихая от пыли, внимательно пересмотрел все протоколы и обнаружил‑таки в одном из них подробно описанный «перстень, проходивший по делу золотых дел мастера Америго Америги и выставленный на 30‑м благотворительном аукционе по истечении срока хранения». Этот перстень был куплен венецианкой по имени… — Луиджи вздрогнул, Сильвия Бевилаква!
Сомнений не было: перстень вместе с конфискованными как вещественное доказательство авторскими эскизами когда‑то приобретен его матерью. Посмотрев на дату, Луиджи удивился еще больше: в графе «продано» стоял год его рождения. И тогда он понял: «Так вот почему она оставила его мне! На счастье, как талисман! И наверное он был оплачен тем неизвестным, которого я мог бы назвать своим отцом…»
То, что он узнал, разумеется, взволновало Луиджи, но в то же время не оставило ни капли таинственности во всей этой запутанной истории. Если, конечно, не считать вмешательства самого Провидения, которое свело Луиджи с Боженой тем зимним утром на площади Сан‑Марко.
…И сейчас, сидя напротив Божены, Луиджи медленно открыл сначала шкатулку, принесенную ею, а затем свою. Божена, не решаясь взглянуть на то, что он делает, опустила глаза. А Луиджи достал из маминой шкатулки перстень и, положив кисть Божены на свою горячую ладонь, сначала поцеловал ее безымянный палец на левой руке, а потом, боясь, что перстень окажется не в пору, медленно стал надевать его на ее палец. Божена не поднимала глаз, но Луиджи чувствовал, как дрожит ее рука.
Надев перстень, Луиджи встал и отошел от стола. Божена открыла глаза. Она посмотрела на свою руку, и странная тень пробежала по ее лицу. Ее рот приоткрылся, скулы и бледные щеки стали пунцовыми. Будто не доверяя глазам, она прижала палец с перстнем к щеке, потом поднесла близко к лицу, отпрянула от собственной руки, вскочив из‑за стола, и вновь застыла, далеко отставив левую кисть. Не снимая перстня, она жалобно взглянула наконец на Луиджи, потом порывисто вернулась за стол, и, пододвинув к себе бокал с вином, легко коснулась лилии на руке. Цветок плавно распустился. И Божена, уже ничему не удивляясь, быстро поднесла руку к бокалу, чуть встряхнула левой кистью, будто стряхивая легчайшую цветочную пыльцу, — и из перстня в вино просыпался белоснежный порошок. В комнате было так тихо, что Луиджи услышал, как зашипело вино в бокале, хрустнули сжимающие тонкую хрустальную ножку пальцы Божены, — а потом она резко отвернулась от него и, высоко запрокинув голову, выпила содержимое бокала. В следующую секунду она вздрогнула всем телом и лишилась чувств — Луиджи едва успел подхватить ее обмякшее тело и вместе с ним опустился на пол.
Засыпав накануне их встречи в тайник перстня шипучий аспирин, он вовсе не рассчитывал напугать Божену — все это должно было лишь рассмешить ее после того, как, выслушав его рассказ и изучая его подарок, она заглянула бы в тайник.
Ужасно испугавшись ее обморока и последними словами ругая себя за неловкую шутку, Луиджи выбежал из комнаты, потом вернулся назад с графином холодной воды, растерянно поставил его прямо на ковер и, приподняв Божену, понес ее в спальню. Но как только он бережно положил ее на один из овалов кровати, она широко распахнула глаза и громко вскрикнула. А когда ее голова, придавив ладонь Луиджи, опустилась на холодную подушку, Божена вдруг облизала губы и сказала, глядя куда‑то мимо него:
— Вкус аспирина… А как он шипит!
И она засмеялась сквозь слезы, а потом, задыхаясь от жаркого шепота склонившегося над ней мужчины, то смеялась, то плакала, слушая его рассказ… А он рассказывал ей, как подслушал ее исповедь, и что‑то про Сильвию Бевилаква, прекрасную венецианку. Понимая и не понимая, она слушала любимый голос, вдыхала уже ставший для нее родным запах его кожи, волос, одежды, а потом вдруг приподнялась на локте и прервала рассказчика, закрыв его губы своими.
И страх, превратившись в крошечные колючие льдинки, начал покидать Божену, покалывая ее вздымающуюся грудь и кончики пальцев, которые заметались по тонкому платью, помогая рукам Луиджи освобождать ее тело от ставшей лишней одежды. И уже не в силах унять себя, она повернулась на бок и выгнулась навстречу рукам любимого. А он, обхватив за талию, легко приподнял ее, и их взгляды встретились в восьмиугольнике темного зеркала — но лишь на мгновение. А потом их тела в головокружительном забытьи опустились на кровать и отдались безумному вихрю ласк.
Через некоторое время подступающее блаженство обуздало порывистость движений влюбленных, сделав их ритмичными, плавно согласными. Разглаживая губами его пульсирующую горячими волнами плоть, которая от каждого ее прикосновения становилась все тверже и сильнее, Божена впитывала в себя его наслаждение и не прятала своего, отвечая на каждое движение Луиджи. Но ее лоно, обжигаемое неутолимым желанием, уже требовало продолжения, оно жаждало более глубоких касаний — и наконец она почувствовала Луиджи внутри себя, а потом оказалась поднятой в воздух. Невыносимая легкость наполнила ее — и Божена, чувствуя на своих трепещущих бедрах сильные руки Луиджи, поплыла по комнатам, запрокинув голову, а потом ощутила спиной шелковую гладь гобелена.
А еще через некоторое время, отталкиваясь друг от друга, они мешали сок и вино, обливаясь ими, и впивались с двух сторон в бархатную кожу и нежную мякоть персиков. Луиджи, опустив Божену в объятия кресел, осыпал ее грудь, впадину живота и ложбинку сомкнутых ног золотом орехов, а потом искал их губами. И Божене хотелось самой стать горьким миндалем и застыть меж его мягко сомкнутых губ. А потом их тела снова сливались в одно и кружились по комнате, ища новой точки опоры, находя ее и снова отправляясь в сладостный поиск новых ощущений… И шепотом или громко, сливаясь в объятии или расходясь по разным углам, они успели в эту ночь так много сказать друг другу, что это блаженное откровение слов значило для них не меньше, чем разговор тел. А впрочем, все это было нераздельно.
Они заснули под утро, глотая сок прохладного сна — одного на двоих. Во сне Божена все еще прижимала его ладонь к своему животу — и в такт ее мерному дыханию покачивались на нем, изредка ярко вспыхивая в свете уличного фонаря, две бриллиантовые лилии, соединенные этой зимней венецианской ночью.
* * *
Прошло несколько недель.
Ранним утром Божена, стараясь не разбудить спящего Луиджи, тихо поднялась с кровати и прошла в свой будуар, стены которого нежно освещали первые солнечные лучи. И поддаваясь их сиянию, она подошла к окну и распахнула его, с жадностью вдыхая свежий влажный воздух, в котором уже явственно и счастливо чувствовался запах венецианской весны. И первое тепло ласково коснулось ее лица.
Медленно, стараясь продлить эти чудесные мгновения, переполненные воспоминаниями о ночных ласках Луиджи и радостью приближения весенних дней, она прошлась по комнате и остановилась у камина, недавно действительно отремонтированного Луиджи, правда, не без помощи приглашенного мастера.
«А где‑то здесь, в стене, до сих пор лежат сокровища моего деда, — подумала она, прижавшись к теплой стене щекой. — Но, наверное, дом ювелира и должен быть подобен шкатулке с двойным дном… Во всяком случае, можно будет его еще кому‑нибудь завещать. Например, Богумилу. Или — кто знает…» Она опустила руку в карман короткого кружевного пеньюара, подаренного ей Луиджи, и, достав из него маленький календарь с видом площади Сан‑Марко на обороте, некоторое время задумчиво смотрела на него…
А потом Божена пошла на кухню, чтобы приготовить завтрак. Сегодня ее мужа ожидал нелегкий день: туристы уже начинали съезжаться в Венецию на очередной карнавал, и Луиджи, оператору национального телевидения, предстояло готовиться к съемкам.
Внимание!
Текст предназначен только для предварительного ознакомительного чтения.
После ознакомления с содержанием данной книги Вам следует незамедлительно ее удалить. Сохраняя данный текст Вы несете ответственность в соответствии с законодательством. Любое коммерческое и иное использование кроме предварительного ознакомления запрещено. Публикация данных материалов не преследует за собой никакой коммерческой выгоды. Эта книга способствует профессиональному росту читателей и является рекламой бумажных изданий.
Все права на исходные материалы принадлежат соответствующим организациям и частным лицам.
Примечания
1
Род накидки.
(обратно)2
Сорт шампанского.
(обратно)3
Спасибо (итал.).
(обратно)4
Здесь: пожалуйста (итал.).
(обратно)5
Приветствую! (итал.).
(обратно)6
Здесь: С новорожденным! (итал.).
(обратно)7
Прощай (итал.).
(обратно)8
Да здравствует (итал.).
(обратно)9
Еще два мартини (итал.).
(обратно)10
Конечно (итал.).
(обратно)11
Иди ко мне (англ.).
(обратно)12
Я Джульетта (англ.).
(обратно)13
Да здравствует ночь! (итал.)
(обратно)14
Да (итал.).
(обратно)15
Муниципалитет.
(обратно)16
Продажа (англ.).
(обратно)17
Ура мальчику (итал.).
(обратно)18
Раз‑два‑три (англ.).
(обратно)
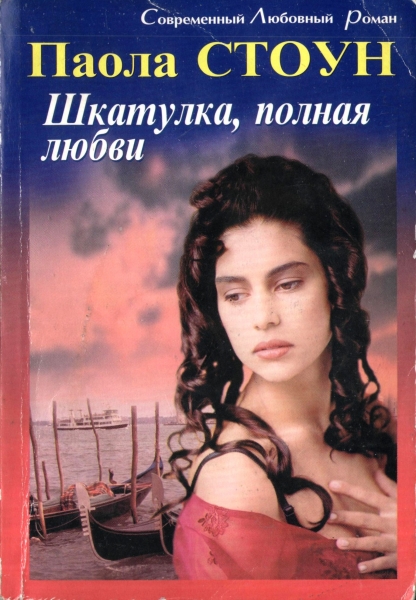



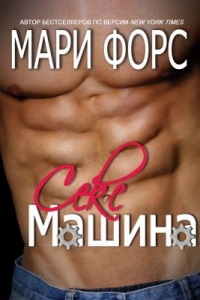

Комментарии к книге «Шкатулка, полная любви», Паола Стоун
Всего 0 комментариев