Татьяна Щербанова aka Пиранья
Ветер середины ноября
Когда бы мыслью плоть была, - тогда
Ничто не стало б на моем пути.
Стремясь к тебе, я мог бы без труда
Любое расстояние пройти.
И что с того, что где-то далеко,
За тридевять земель скитаюсь я, -
Чрез земли и моря к тебе легко
Домчит меня живая мысль моя.
Но я не мысль, и тщетны все труды -
Пространство мне преодолеть невмочь.
Я из земли составлен и воды,
И только время сможет мне помочь.
Смогли стихии низшие мне дать
Лишь тяжесть слез - покорности печать.
Уильям Шекспир
Часть 1
Она закружила меня в своей страсти, словно в каком-то горячем латиноамериканском танце. В бешеном перестуке наших сердец мне слышался треск кастаньет и звон золотых браслетов. Ах, как целовалась она! Как срывала с меня одежду, не обращая внимания на такие мелочи, как пуговицы, крючки и молнии! «Бойтесь своих желаний, ибо они могут осуществиться...» - предупреждая нас, вещал какой-то приморский факир. Мы смеялись.
Я назвала ее Лейла. Неважно, какое имя ей дали при рождении – наверняка ничего оригинального. Машакатясветарита – бесконечный список неподходящих для нее имен. Я назвала ее Лейла. И всякий раз, глядя на нее, перекатывала во рту это сладкое и какое-то восточное слово, напоминающее о персидских сказках и восхитительных с непонятными названиями лакомствах, вот так: лей-ла. Она вышла из пены морской. Уместнее ли было назвать ее Афродитой? Она не богиня. Она совершенна и порочна. В ней царственно выгибал шею лебедь Сен-Санса, и бушевала холодной страстью зима Вивальди. Она любила ветер и ванильное мороженое. Я любила ее.
...
Крым. Море. Горы. Мой загоревший до шоколадности, белобрысый благодаря южному солнцу и абсолютно счастливый бой-френд:
- Говорят, дальше по побережью есть потрясный дикий пляж, страдающий гордым одиночеством! Как ты на это смотришь?
В то время мы были гораздо более мобильны и менее ленивы. Мир был необъятен и интересен, как всё новое. Дикие пляжи, горные ущелья, пещеры со сталактитами и летучими мышами притягивали магнитом. Фрукты, бутылка вина, и мы отправились на поиски «потрясного» пляжа.
...
Она вышла из пены морской. Я назвала ее Лейла.
- Что? – переспросил мой бой-френд, не открывая глаз.
Мы загорали на большом плоском валуне, на самом лучшем пляже в мире. Там я встретила Ее.
- Лейла... – я заворожено наблюдала, как по Ее обнаженному телу стекают капли морской воды – быстро с узких точеных плеч вниз, словно губы хорошего любовника, нежно пробегая ложбинку между грудей, чуть замирают, подрагивая, на животе и дальше-дальше вниз по стройным бедрам, коленям, щиколоткам, чтобы умереть в раскаленном песке под ее ногами...
Можно ли влюбиться с первого взгляда?
Улыбнись она тогда, помани меня жестом, взглядом, я, не раздумывая, пошла бы за ней. Не оглядываясь. Так уходит из леса счастливчик, нашедший цветок папоротника. Прижимая его к груди и зная, что все тайны мира теперь в его руках. Главное не оглянуться.
Она не улыбнулась, не поманила. Я оглянулась. Папоротник выпал из рук, превратился в пыль. Лейла оделась и ушла, оставив после себя ветер, который развеял папоротниковую пыль.
- Так что ты говорила? – мой друг наконец-то открыл глаза и уставился на море, - красотища-то, какая!!!
...
Странное состояние – ощущение ущербности собственного сердца – вот оно было целым, ровно стучало, исправно исполняло возложенные на него обязанности. Билось. И в какой-то момент ему дали любовь. Боль, страх и тоску в нагрузку. В попытке справиться со свалившимися невесть откуда проблемами, сердце вдруг срывается с обычного ритма и переходит на бешеный галоп, который также вдруг сменяется апатичным постукиванием и тихим поскуливанием. Аритмия. Бессонница. Кофе ночью. Изможденный вид и лихорадочный блеск в глазах.
- Что с тобой?
- Это избыток солнца, милый.
- Давай уедем. Сегодня. Завтра.
- Дай мне еще неделю.
Дай мне еще неделю. Мне нужно найти Ее. Мне нужно сказать Ей, что я люблю Ее, мне нужно прошептать Ей это на ухо, прокричать в лицо. Меня душат эти слова, они не дают мне спокойно жить, они ищут выхода, они согласны оставить меня в покое только при условии непременного воспроизведения их при Ней. Нет, не так. Они должны быть сказаны мной для Нее. И если они и вернутся, то, только отразившись от Нее, возвращенные мне Ее голосом. Они вернутся и будут уже не камнями, не могильными плитами, не удавками. Они оживут. Дай мне еще неделю.
...
Пятница. Последний день нашего затянувшегося отпуска. Мартини в уютном баре. Тихая музыка. Золотая рыбка в настенном аквариуме. Рыбка, исполни мое желание. Всего одно маленькое желание. Всего одно очень большое и уже неподвластное мне желание. Исполни мою страсть. Верни мне возможность дышать. Смотреть на мир не сквозь призму постоянной тоски. Она преломляет действительность. Рыбка не золотая – подделка с местами облетевшей позолотой. Что ты можешь, неудавшаяся золотая рыбка? Разве в твоей власти исполнить единственное мое желание?
- Хватит гипнотизировать рыбу.
- Я хочу стать русалкой.
- Чтобы топить корабли?
Чтобы топить корабли... Мой корабль получил пробоину и идет ко дну. Матросы мечутся по палубе, капитан задумчиво курит трубку. А что еще делать ему – капитану, корабль которого получил пробоину и идет ко дну? Радисты кричат SOS. На море шторм. Если рыбка не может исполнить мое желание, я исполняю желание ее. Наверняка ей надоело торчать в мутном настенном аквариуме и разглядывать посетителей, пьющих, танцующих, болтающих о каких-то всем известных истинах. Сейчас она разглядывает меня. Одним глазом. И открывает рот. Она загадывает свое желание. Я понимаю – она мечтает о море. И может быть хочет стать русалкой. Чтобы топить корабли.
Я зову официанта и покупаю рыбку.
- Пойдем!
- Куда?
- На море. Нужно выпустить рыбку.
- Ты с ума сошла! Там же шторм. Да и рыба погибнет, она декоративная.
Что ты знаешь, милый мой, о мечтах этой рыбки? Ей нужно море. Пусть она погибнет из-за собственной декоративности, но желание ее исполнится. И, может быть, тогда исполнится мое собственное. Исполни мою страсть.
На море шторм. Ветер рвет одежду и уносит слова. Ветер уносит слова! Я люблю тебя! Избавь меня от этих слов. Унеси их. Я дарю слова ветру и свободу рыбке. Никто ни от чего не отказывается. Дар принят. Мой шоколадно-белобрысый мальчик боится подойти к воде. Что-то кричит мне. Но ветер равнодушен к смыслу слов, он уносит и эти. Вперемешку с солеными каплями, листьями и песком.
...
Утром у меня жар. Мы никуда не едем. Ты бесишься, тебе на работу и вообще надоело это солнце, море и мои причуды. Я предлагаю оставить меня здесь на попечении квартирной хозяйки. Мне нужно поправиться, я не могу ехать в таком состоянии. А тебе надо. Ты всегда был поклонником логики. С рождения. А, может, с самого зачатия твоя жизнь была неразрывна с логикой. В ее железных объятиях ты довольно быстро соглашаешься с моими доводами.
- Ну, ты же понимаешь. У меня проект.
- Да-да, конечно. Я буду звонить. Счастливо защититься.
- Милая, я люблю тебя.
Ну, зачем? Зачем ты это сделал? Зачем ты вернул обратно слова, отданные ветру? Они предназначались ей. Он не донес их. Он вложил их в твои уста. Я закрываю глаза. У меня жар.
Квартирная хозяйка – милая женщина. Она любит рассказывать мне про свою молодость. Ей нравится поить меня чаем с малиновым вареньем, поправлять одеяло и проверять мой лоб на наличие повышенной температуры. Ей нравится ухаживать. И рассказывать про свою молодость. Она никогда не была русалкой. Для этого у нее слишком конкретный взгляд на мир. В нем нет полутонов. Нет русалок. Нет Лейлы. Она так и сказала:
- Лейлы нет.
У меня жар и я со всем соглашаюсь. Нет, так нет. Сон, так сон. Лейла, они называют тебя сном. Они называют сном русалку, которая утопила мой корабль. А я не могу противостоять им. Но я слышу твою песню. Ее принес оставленный тобой ветер. Он нашел меня, слышишь? Я улыбаюсь. Мой корабль тонет, а я курю трубку и улыбаюсь. У меня жар.
...
- Кушайте, деточка, вам силы восстанавливать надо, - квартирная хозяйка принесла огромное блюдо черешни. Из-под горы ярко-алых ягод выглядывал соблазнительно-спелый бок крымского персика. У меня наконец-то появился аппетит. Зверский. Хозяйка, улыбаясь, смотрела на исчезающую черешню и на мои пальцы, тщательно выискивающие среди яркого изобилия самые крупные и спелые ягоды. Нервный взмах левой рукой – я повернула голову:
- Что-то случилось?
Хозяйка отвела взгляд и, обращаясь не то к стоящей в углу кадке с фикусом, не то к моему рюкзаку, мирно валяющемуся под этим самым фикусом, сказала:
- Договаривались на месяц, новые жильцы скоро заезжают. Извините, но...
Я выудила освобожденный из черешневого плена персик:
- Не волнуйтесь, я завтра уезжаю.
Хозяйка настороженно поинтересовалась:
- А как же Лейла?
Я удивилась:
- Лейла?
Нет, я не отказалась от тебя. Не забыла. Жар, испепелявший меня целую неделю, не выжег твой образ из сердца моего. Лейла. Мой организм, следуя извечному закону самосохранения, уничтожая терроризирующие его микробы и бактерии, в попытке исцеления попытался избавиться от самой глобальной болезни. Рацио, делающее мою жизнь устаканенной, раскидывающее все по полкам и ящичкам, не справилось с твоим присутствием и определило его, как «неустановленное оружие душевного поражения». Оно прицельно расстреливало тебя словами моего бой-френда: «Ты с ума сошла! Влюбиться в женщину – это нечто»; причитаниями квартирной хозяйки: «Деточка, у тебя жар! Лейлы нет...»; беспокойно бьющимися в окно ветками вишни: «Откажись от нее, откажись...» и врывающимся в открытую форточку немым легким морским бризом. Я не отказалась. Разве можно отказаться от себя самой? Стереть, словно ластиком, информационно-контактную карту своей души. Выкинуть из бесконечной ленты кодов зашифрованное имя твое. Лейла. Забыть тебя, предать себя. Предать собственное сердце. Я не герой и не предатель. Я – плюшево-колючий циник. Словно кактус с мягкими иголками. Я не отказалась от тебя, Лейла. Помнишь, Песнь Песней Соломоновых: большие воды не могут потушить любви, и реки не зальют ее... Мед и молоко под языком твоим, Суламита моя...
Квартирная хозяйка пожала большими круглыми плечами, отчего у нее исчезла шея, и подбородок лег на массивную грудь: - В молодости у меня был роман с преподавателем истории. Его жена продавала цветы в центральном универсаме. Каждую пятницу он покупал у нее большой букет красных гвоздик. Нес домой. Выдергивал из букета три штучки и приносил мне. Словно к вечному огню на день победы... Несомненно, он и чувствовал себя победителем.
Я покрутила в пальцах мягкий податливый бархатистый персик и положила его обратно в тарелку. В глазах хозяйки стояли невыплаканные когда-то во времена гордой и независимой молодости слезы.
Люди не любят собственных слез и сторонятся чужих. Плачущий человек – всегда проблема. Его слезы, солены, словно морская вода. И так же непригодны для приема внутрь. Пустишь их в себя – и становится тревожно и горько-солоно. Гораздо спокойней предотвратить – отвернуться в нужный момент, отойти, закашляться, да просто закрыть глаза – нет меня, я в домике. Я закрываю глаза на твои слезы. Закрой глаза на слезы мои...
Хозяйка верная нормам и догматам современного человеческого общества, закрыла глаза и рассмеялась:
- Он был форменным ублюдком.
...
На следующий день, уложив свой нехитрый скарб в большой спортивный рюкзак и распрощавшись с квартирной хозяйкой, я отправилась в город. Взяла билет на ночной автобус до Симферополя, сдала рюкзак в камеру хранения на автовокзале и, прикупив у веселой разговорчивой торговки пару пирожков, поехала на дребезжащем маленьком трамвайчике к морю.
Тот же пляж, сияющая морская гладь, синее-синее южное небо с пятаком солнца по центру, тот же плоский валун, на котором расположилась шумная компания. Щуплый вертлявый брюнет близоруко прищурился в мою сторону, что-то сказал своим друзьям и, подпрыгивая на раскаленном песке, направился ко мне, видимо, с дипломатическим визитом.
- Девушка, добрый день! А день действительно добрый – я встретил вас!
От него еле уловимо пахло вином. На круглом, каком-то детском лице, заразительно играла улыбка – она пряталась в очаровательных ямочках, прыгала по губам, лучилась морщинками около глаз. Я невольно улыбнулась. Мальчишку это вдохновило:
- Позвольте представиться...
- Вы давно здесь отдыхаете? – перебила я его.
Он посмотрел на большие часы, болтающиеся на худом запястье:
- Ну, как сказать. Рассвет здесь встречали. Я – фотограф. Увековечиваю красоту. Если вы...
- Я предпочитаю живую натуру, а не искусственные глянцевые картинки, прошедшие не через одну ретушь.
Детское лицо фотографа обиженно вытянулось. Он сухо попрощался и попрыгал к своим. Глядя на его тощий зад, обтянутый темно-синей материей плавок, я окликнула:
- Эй, фотограф!
Он шустро развернулся и вопросительно поднял брови.
- Здесь был кто-нибудь, кроме вас?
Брюнет отрицательно помотал головой с такой силой, что его качнуло в сторону.
Я села на песок у самой кромки воды и стала смотреть на волны. Мысленно я просила у ленивого полуденного равнодушного ко всему на свете моря привести к этому берегу корабль с одним единственным пассажиром. Корабль, который заберет меня – одинокого уставшего Робинзона, отмечающего зарубками на коре дерева каждый день своего одиночества. Столбик неровных минусов. Грустная шкала, размечающая отрезок бесконечности на равные двадцатичетырехчасовые деления.
- И все-таки позвольте с вами не согласиться! – вертлявый фотограф сделал несколько кругов вокруг меня и плюхнулся рядом на песок. Я, не отрывая взгляда от гипнотизирующей водной глади, равнодушно поинтересовалась:
- Позвольте узнать – в чем именно?
- Вот! – его торжественный тон явно заслуживал какого-то внимания.
Я повернула голову – в руках фотографа была большая пачка цветных снимков. Я улыбнулась – мальчишка видимо решил, во что бы то ни стало, привить мне любовь к искусству фотографии. Он разволновался:
- Нет, вы посмотрите! Вы только посмотрите! Это, конечно, не шедевры, но все же есть очень удачные экземпляры. Вот, например. И вот. И этот. А здесь очень удачный ракурс.
Он принялся пихать мне в руки глянцевые карточки, сопровождая каждую комментариями и активной жестикуляцией. Пейзажи, лица, люди, города. Цветной калейдоскоп из маленьких кусочков чьих-то жизней. Высокий импозантный мужчина в маленьком уличном кафе... Задумчивые неприветливые горы... Чему-то удивляющийся малыш с огромным солнечным апельсином... И – у меня перехватило дыхание, а сердце заколотилось так, что его удары колокольным набатом разнеслись по всему побережью – Лейла. В коротеньком белом платье на том самом проклятом валуне. И ветер – ее любимый бесшабашный флибустьер с золотой серьгой – небрежно перебирал ее длинные пряди, играл тонкой белоснежной материей, целовал обнаженные плечи и колени.
Фотограф непрестанно что-то бубнил мне в ухо. Я резко встала. Лежащие на коленях карточки разноцветным листопадом посыпались вниз. Маленькие кусочки чьих-то жизней. Брюнет чертыхнулся и бросился собирать разлетающиеся фотографии.
- Кто это? – спросила я чужим голосом.
Брюнет неприязненно покосился на меня и, стряхивая песок с фотографии, недовольно буркнул:
- Почем мне знать. Какая-то девица с пляжа. Я, знаете ли, фотограф, а не Казанова.
Девица с пляжа! От возмущения у меня запылали щеки – назвать «какой-то девицей с пляжа» женщину, в которой пересеклись все вселенные!
- А можно... можно я оставлю ее себе?
Фотограф потер переносицу и неуверенно пожал плечами:
- Ну... Почему нет... Не шедевр, конечно. Может лучше эту? Посмотрите – очень выразительная. И цвета все схвачены.
Смешной маленький фотограф! Все твои профессиональные навыки и знания – просто ноль в сравнении с тем, что знаю я. Ты не умеешь видеть. Не в схваченных цветах и выразительности дело. Ошибка твоя в том, что ты называешь богиню какой-то девицей, Эсмеральду – уличной бродяжкой, Ассоль – простодушной малолетней дурой.
- Ой, давайте я вам подпишу!!! – я слова сказать не успела, как он выхватил у меня фото и убийственно-синим фломастером размашисто вывел: «С теплом, на память» и подписью своей витиеватой все это дело закрепил. У меня от ненависти в глазах потемнело.
- Да что ж ты... - осеклась, споткнувшись о его детскую улыбку, и, скрипнув зубами, выдавила скупое спасибо.
Фотограф еще пару минут потоптался рядом, заглядывая мне через плечо. Потом резюмировал:
- А что – в принципе, нормально получилось.
И исчез.
А я двумя руками держала маленький глянцевый квадратик с идиотской надписью.
...
Зябкая южная ночь. Мой автобус через двадцать минут. А я не могу уехать. Сижу под стройным равнодушным кипарисом, считаю крымские звезды и жду. Мой маленький талисман, амулет, кем-то оброненное зыбкое обещание – цветной снимок, сделанный щуплым вертлявым фотографом – держит с силой якорной цепи. Мой порт – короткостриженный газон под кипарисом. Ждущие автобус суетливые пассажиры, словно стая пингвинов, не переговариваясь, глядят в одну сторону. Им не терпится покинуть этот негостеприимный холодной ночью берег. Они устали от палящего полуденного солнца, густонаселенности пляжей и ночных кабаков, терпкости крымского вина и соли, остающейся на загорелой коже. Дед в панамке, дородная тетка с ведром персиков, сидящий верхом на чемодане мальчуган, дама с плетеной соломенной сумкой – все они, зябко поеживаясь, мечтают только об одном – сесть в икарус теплый и комфортный, развернуть приготовленные в дорогу бутерброды и радостно отправиться в обратный путь, предвкушая встречу с родными и близкими. Сумки и рюкзаки их набиты всякой дребеденью: лакированные сувенирные ракушки, засушенные морские звезды, «куриные боги», обязательное фото с обезьяной и осликом на фоне гор, пляжная галька и прочая подобная ерунда. Приедут к родным пенатам и будут взахлеб рассказывать красочные барономюнхгаузеновские истории за бокалом крымского вина про медуз и осьминогов, нудистские пляжи и неприступные горы, подводную охоту и морских дьяволов.
В моем рюкзаке – смена белья, шорты, пара маек, купальник, «Процесс» Кафки – шикарная книга в некрасивой оранжево-зеленой мягкой обложке (сомневаюсь, что сам Кафка был бы от нее в восторге), плеер, пара дисков к нему с какими-то популярными песенками, засушенная морская звезда (?!), два черствый пирожка и бутылка колы. Из денег – пара банкнот, да горстка мелочи.
Вспомнила, что с утра ничего не ела. Тут же голодной судорогой свело желудок. Невзрачные засохшие пирожки были уничтожены за полминуты.
Я выудила из рюкзака морскую звезду, некогда величаво передвигавшуюся по дну морскому. Сухой комочек со скрюченными щупальцами. Звезды небесные укоризненно замигали со своей высоты. Им-то что! Навряд ли найдется безумец, решившийся поймать и засушить какой-нибудь Сириус. Поставить его после на полку за стекло перед идеально ровным строем одинаковых по высоте и толщине книг. Есть эстеты, которые книги выбирают по цвету обложки – благородные цвета ценных пород дерева, золотом по краю тисненные. И стоят по линеечке выстроенные, влажной тряпочкой протираются по субботам, все благородно-золотые и каждая на Библию похожа. Мой бедный Кафка! С неуместной оранжево-зеленой обложкой открыт тебе доступ только в дома бедствующей интеллигенции, да студентов филфака. Я положила морскую звезду – маленькую пыльную мумию – на серый и какой-то жухлый в неверном свете фонаря газон, и она величаво уплыла куда-то в ночь, быть может к своим небесным родственникам.
- Вы едете? – дед в панамке протопал через газон и наклонился надо мной, загораживая безупречное ночное небо. Под его ногой, обутой в черный лакированный ботинок, что-то неприятно хрустнуло. Я посмотрела в сторону остановки – столь долго ожидаемый всеми батискаф, обещающий неспешное комфортабельное плавание в темных водах южной ночи, прибыл и, слегка покачиваясь, стоял у пристани. Из гостеприимно открытых дверей лился приятный домашний свет, звучала музыка. Водитель – толстый дядька в соломенной шляпе и ковбойке с надписью «Welcome!» - деловито осматривал переднее колесо икаруса, периодически постукивая по нему ногой. Все уже загрузились и дружно жевали бутерброды, откинувшись на мягких сиденьях.
- Вы едете? – повторил дед надтреснутым голосом. Его прозрачные ладони, слегка поскрипывая, качались на ветру, как два древних пергамента. Они были испещрены тайными письменами. Дед бережно сложил их перед собой – ладонь к ладони письменами вовнутрь, чтобы никто не смог их прочитать.
- Да, - для убедительности я кивнула головой и положила руку на рюкзак. Дед тоже кивнул, повернулся и быстро затрусил к автобусу. Я достала из бокового кармана рюкзака фотографию. Прости, Лейла, я не нашла тебя. И стало так невыносимо тоскливо, горло перехватило ледяной удавкой. Черт! Я не смогу. Я физически не смогу жить так, как раньше – без тебя все стало бессмысленным. Неинтересная работа, нелюбимый мужчина, неуютная квартира, ненастоящие друзья, некрасивые люди вокруг. И тошно так стало – хоть в петлю лезь.
Раздался громкий автобусный гудок. Пассажиры, недовольные задержкой отправления, выглядывали в окна, стараясь понять, чем эта самая задержка вызвана. Я встала, закинула на плечо рюкзак и нехотя поплелась в сторону венгерского батискафа.
...
- Боль и горечь в твоих глазах. Ты любишь Ее?
- Я без Нее не умею жить.
- Ты без Нее прожила довольно долго.
- Да, пару тысяч пустых неспокойных лет.
- Ты любила других.
- Я просто заполняла пустоту внутри себя.
- Ты говорила другим: «Люблю».
- Я лгала. Обманывала всех и жила в обмане. Строила шаткие карточные домики и возводила замки из папирусной бумаги.
- Ты возвращаешься домой.
- Мой дом там, где Ее руки и глаза. Мой дом наполнен голосом Ее.
- Куда же ты едешь?
Я открыла глаза. Мерно покачивающийся батискаф неспешно вез меня к миру привычных вещей и прочитанных лиц. Туда, где уже ждал меня тисненный золотом переплет, дающий пропуск в ряды таких же – вычурных и тисненных. Слушать шум моря в фальшивых лакированных ракушках, бояться сквозняков и пересудов, играть чувствами и не чувствовать игры – нес меня мой белый многоместный конь. Тихонько похрапывал сидящий рядом дед в панаме. Он скрестил руки на груди, спрятав там свои пергаментные ладони. Тетка с персиками лениво обмахивалась сложенной вдвое газетой. Чернильная ночь укрыла проносящийся мимо спящий мир...
- Куда же ты едешь?
Я встала, пробралась по узкому проходу, перешагивая через тюки, ведра и чемоданы запасливых отдыхающих, к водителю.
- Пожалуйста, - от волнения у меня сел голос и дрожали пальцы, - пожалуйста, остановите. Мне нужно выйти.
Водитель насмешливо посмотрел на меня:
- Что, дружок, никак укачало? Бледная-то какая!
Внезапно мне стало нечем дышать, я чувствовала себя словно в гигантском запертом сундуке – томило острое желание встать в полный рост, выпрямиться, раскинуть руки и вдохнуть полной грудью прохладный ночной воздух. В висках застучали маленькие молоточки.
- Я здесь выйду.
У водилы удивленно вытянулось лицо, он буравил меня маленькими водянистыми глазками, наверняка размышляя о моей вменяемости. Я поправила сползающий с плеча рюкзак и улыбнулась:
- Не тот автобус.
Не тот автобус, не та дорога, пассажиры и водитель не те. И пункт прибытия, черт возьми, не тот! Не встретит меня там, на пыльной автобусной станции, русалка, любящая ветер. Заворчали недовольно пассажиры. Водитель глянул в салон, пожал плечами и нажал на кнопку. В конце концов, не его это была забота – разговаривать с ненормальными. Увещевать и доказывать. Да и от города отъехали всего ничего – километра два-три не больше. И ночь нынче звездная с луной полной – светит так, что любое солнце переплюнет! Дверь, шипя, будто потревоженная кобра, неспешно открылась. Я шагнула в темный прохладный проем, словно космонавт в открытый космос. Только не было у меня прочного тонкого шнура, надежной невидимой страховки, позволяющей в случае опасности скрыться в спасительном чреве уютного батискафа.
- Счастливо, дружок! В следующий раз будь внимательнее с автобусом! – напутственно крикнул мне в спину водитель. Махнул рукой и повел свой батискаф дальше к вящему удовольствию экс-отдыхающих.
Неудачно спрыгнув со ступеньки автобуса на песчаный откос, я подвернула ногу. Усевшись на краю откоса, осмотрела щиколотку – вроде не смертельно, нога не распухла, только ныла в месте вывиха назойливо и противно, как больной зуб.
А ночь вокруг была наполнена звуками. Это не жуткое безмолвие ночи северной, когда собственное дыхание да биение сердца – единственные звуки на сотни километров вокруг. Строгая стеклянная тишина, готовая в любую минуту взорваться миллионами цветных звуков-осколков. Только не взрывается. И звенит в ушах от неправдоподобной этой тишины. И все громче становится дыхание. И крикнуть хочется, аж скулы сводит – только боязно. Навсегда убаюкала эта самая северная тишина однокашника моего. Что делал он там – на безлюдном заснеженном перевале – пьяный, в легкой курточке и спортивных кедах? Ледяное безмолвие свято хранит свои тайны. Южная ночь – живая и мягкая. Обволакивает, баюкает, льнет, дышит. Морскими водорослями пахнет, мокрым песком и какими-то цветами.
И вокруг все шуршит, пищит, посвистывает, тренькает, веточками сухими трещит, камешками постукивает – живет, в общем.
Я перевязала щиколотку носовым платком, глотнула колы и заковыляла в сторону мерцающего вдалеке города.
Меньше всего в эти минуты я думала о своем финансовом положении. А следовало бы – оставшегося капитала хватит разве что на пару дней проживания в частном секторе.
Я добралась до пустынного пляжа. Растянулась на песке, положила под голову рюкзак и закрыла глаза. «Бродяга», - подумала я умиротворенно. Море ворочалось и вздыхало в темноте, словно большое сонное животное...
На рассвете пошел дождь. Настоящий тропический ливень! Море вспухло под бешеными ударами. Видимость пропадала на расстоянии пяти шагов. Мир утонул. На мне, само собой, не было сухого места. Джинсы стали жутко тяжелыми, словно свинцовые пластины. Рюкзак вбило в потемневший песок, Кафка наверняка тоже промок насквозь. Меня переполняла какая-то дикая первобытная радость. Я была львицей, пережившей великую засуху, кое-как дотянувшей до благословенного сезона дождей. Сняла рубашку, прилипшую намертво майку когтями отодрала, сандалии скинула, освободилась от пятитонных негнущихся джинсов, прозрачная полоска стрингов, и – свобода! Ливень больно хлестал по обнаженной коже, выколачивая из меня, словно хозяйка из старого затертого ковра, вековую пыль и грязь, нанесенную чьими-то ботинками. Сумасшедший обряд очищения. Я что-то кричала, но голос мой тонул в шуме и стоне разбушевавшейся стихии... Внезапно все стихло. Из прорехи в сером потревоженном небе брызнуло солнце. Избитое море расправляло складки и разглаживало морщины.
Моя одежда стала частью ландшафта. Вытянутые из-под кучи мокрого песка измочаленные вещи пришлось долго полоскать в море, заплыв с ними подальше от поднятого дождем прибрежного ила, потом сушить на большом камне. Но, все равно, я была довольна.
...
Она курит. Резко подносит сигарету ко рту, быстро затягивается, также резко опускает руку вниз. И взгляды кидает на меня такие же – скорые затяжки, и выдох резкий в сторону-вверх. Вся словно струна – звенит. Тетива невидимого лука. И натягивает-натягивает себя дальше. Или порвется, или вытолкнет-выбросит колкую, словами оперенную стрелу. Мне в голову лезут всякие нелепости: она похожа на породистую лошадь. Нервная, тонконогая, сторожкая. Я опускаю голову и улыбаюсь – хорошенькое дело: королеву с кобылой сравнить! Она хмурится – ей не нравится, когда на нее смотрят и улыбаются втихаря каким-то своим мыслям. Докуривает и быстрыми мелкими движениями тушит окурок в большой керамической пепельнице. Сейчас она уйдет. Она всегда уходит в то время, когда я почти уже решаюсь. Решаюсь подойти, заговорить, улыбнуться ей. Приколоченный над дверью колокольчик тихонько звенит, когда она выходит на улицу. Я шепчу:
- Лейла...
Я кричу:
- Лейла!
Я задыхаюсь от собственного крика, и наваливается на меня душная вязкая серость, липко клубится вокруг. Плывет в сумеречном сизом тумане зал маленького итальянского кафе, лениво усмехается смешной круглощекий бармен, поет Челентано... Я просыпаюсь. Лежу, не открывая глаз, пытаюсь вернуть ее образ. Господи, откуда во мне это??? Откуда я знаю, КАК она курит? Да и курит ли она вообще? Откуда колокольчик и Челентано в итальянском кафе? Итальянское кафе откуда?! И этот еще чувствующийся на губах полувыдох-полукрик... Лей-ла...
...
«Я узнаю тебя по тайному знаку, Ты узнаешь меня по перстню на пальце...»
На моих пальцах белые полоски – я отдала свои кольца угрюмой бабке с сухими глазами, похожими на семечки подсолнуха. Она мне выделила полкомнаты в своем ветхом домишке на берегу моря. Хотя, полкомнаты – слишком громкое название для одноместной панцирной койки и треногой тумбочки с потрескавшейся полировкой. И ширма вокруг, отделяющая меня от всего остального мира. Там, за ширмой, тоже живут какие-то люди. Платят бабке золотыми кольцами, заглядывают заискивающе в маленькие семечковые глазки, мирятся с провисающей до пола кроватной сеткой и выслушивают бесконечные бабкины жалобы на погоду и ломоту в костях. Какие-то – это потому, что я их ни разу не видела. Самое большое достоинство моего ограниченного ширмой мирка – вечно открытое окно, выходящее в сад. Утром я выскакиваю через окно, утопая в росистой траве, пробираюсь к умывальнику. После мчусь через сад – невысокий забор – проселочная дорога – творог и клубника на местном рынке – скользя на поворотах, сбегаю по каменистой насыпи – метров двадцать еще хранящего ночную прохладу песка – и! море...
Ночью с ловкостью домушника со стажем проникаю через окно, падаю на измученную долголетием койку, закрываю глаза и, засыпая, пытаюсь вылепить завтрашний день. Говорят, мысли материальны. Я верю. Но неизменно не складывается что-то в этой ежевечерней мозаике...
Я обошла все известные и неизвестные пляжи. Часами сидела на теплом плоском валуне, пристально вглядываясь в искрящуюся морскую даль. Гуляла по городу, собирая, будто бусины на нитку, лица идущих навстречу женщин. Равнодушные, веселые, строгие, надменные, простоватые, печальные, умные... Некоторые, не обращая внимания на мой цепкий взгляд, спокойно проходили мимо. Другие удивленно оборачивались. Третьи быстро тревожно отводили глаза. Одна красивая с густой пламенно-рыжей гривой и насмешливым блеском кошачьих желто-зеленых глаз улыбнулась и подмигнула шутливо.
Но не было даже ускользающей тени той, что наполняла смыслом мои сны. Лейла. Неужели ты только фантом, созданный моим воображением? Прекрасная переливающаяся дымка – протягиваю руку, а под ладонью пустота....
...
- Ты рех-ну-лась, - членораздельно и безапелляционно заявил мой бой-френд. На седьмой день своего неотъезда я решилась ему позвонить.
- Ты в курсе, что твой начальник рвет и мечет? Мама обрывает мой телефон? А ненаглядная подруга собралась объявлять тебя в международный розыск? Ты в курсе, что твое неприсутствие на фуршете в честь дня рождения декана оооочень многие расценили, как неуважение к юбиляру? Ты в курсе, что я защитил проект? И в такой важный для меня момент хотелось бы видеть тебя рядом, черт побери!
От этих всех «ты в курсе» я почувствовала легкий приступ тошноты. Три узкие кабинки местного телеграфа были заняты. Справа какая-то тетка громко орала: «Зося! Ты слышишь меня, Зося!». Слева мужской голос что-то быстро невнятно тараторил, словно кто-то барабанил пальцами по столу. Иногда из этой дроби выкатывалось и падало вниз какое-нибудь тяжелое слово:
тра-тра-тра-та-Борисоглебск-тра-тра-тра-та-постфактум-тра-тра-тра-та-та... А посередине – я. Угрюмо выслушиваю размышления далекого человека о моем душевном состоянии. Жмурюсь от кольнувшей вдруг мысли – далекого во всем... Передо мной на полочке стоит телефон. Без кнопок. Без диска. Просто безликий аппарат со шнуром, на котором болтается трубка, на которой болтаюсь я.
- Милый, ты видел когда-нибудь телефонные аппараты на телеграфе?
Милый на секунду удивленно замолкает и неуверенно выбрасывает:
- Ну, допустим...
- На нем нет ничего, представляешь? Там, где у обычных телефонов диск – у этого просто пластмассовая слепая поверхность!
Никто никогда не сможет позвонить с этого телефона нормальным человеческим способом! Для этого обязательно нужно напрячь утомленную девицу в окошке кассы, высидеть длинную душную очередь, чтобы услышать, наконец: имярек, пройдите в кабинку номер три!
Я – бездисково/кнопочный телефон. С меня не дозвонишься. А девушка в окошке моей кассы слишком равнодушна в своей усталости, чтобы соединить меня с Ней...
- Алло! Алло! Ты слышишь меня? Алло! Немедленно выезжай домой! Я отмажу тебя еще на пару дней – максимум, что могу сделать. Алло!
- Пока, дорогой. Поздравляю с защитой!
Выхожу на улицу. И несутся мне в спину из кабинки номер один призывы невидимой Зосе.
...
Неделю спустя (как говорят в американских фильмах).
Не хочу рассказывать об этом промежутке времени, так как дни в нем отличались друг от друга, пожалуй, что только своим идентификационным номером. Хотя нет, в среду, а может быть, это был четверг, ко мне за ширму проникло существо из большого мира – огромный иссиня-черный кот. Он уселся на тумбочку, обернул вокруг себя пушистый беличий хвост и уставился на меня зелеными глазищами. Я улыбнулась:
- Так это ты, дружище, каждый день переходишь мне дорогу, и все мои светлые начинания катятся, прости, тебе под хвост?
Кот лениво прищурил глаза и пошевелил усами.
- Послушай, ты наверняка знаешь всех и вся на этом побережье. Скажите, мистер, не доводилось ли вам видеть русалку в белоснежном платье?
Кот всем своим видом показал, что конечно доводилось. Даже более того – он видит ее каждый день примерно в пятнадцать двадцать. Они пьют чай и обсуждают литературные новинки.
- Счастливый, - сказала я.
Кот фыркнул и выпрыгнул в окно.
Единственное памятное событие за семь дней...
...
Крылья незаметно превращаются в рюкзаки, набитые всякой всячиной. И становятся ангелы праздными туристами. Ревниво оберегают болтающееся за плечами добро. Лейла, ты мое единственное спасение. Спаси мои крылья...
- А когда я был в Париже...
- Не смеши! Когда ты был в Париже?! Ты дальше своей Тмутаракани вряд ли когда выберешься!
- Не слушай его. Он просто завидует. А ты была в Париже?
Длинный белобрысый человек, похожий своей бесцветностью на моль, наклонился ко мне. Его очень интересовал вопрос, была ли я в Париже. Он нетерпеливо теребил своими прозрачными пальцами край скатерти и, выгибаясь вопросительным знаком, пытался заглянуть мне в глаза. У него были бледно-рыжие ресницы.
Я утвердительно кивнула и залпом выпила коньяк. Моль радостно потерла лапками, цапнула бутылку и плеснула в мой бокал очередную порцию.
«Множество бедер быков принесли Посейдону мы в жертву...»*?. Ночь с молью, любящей Париж... Дешевый коньяк, который надо пить залпом, чтобы не чувствовать вкуса... Ангелы с рюкзаками за спиной...
- ... и, конечно, Эйфелева башня!
И, конечно, башня, источенная молью. Теперь ее надо обрабатывать каким-нибудь средством. Жаль, французы об этом не знают.
Удивляются наверно, почему на пальцах остается рыжеватая пыльца...
Противно до жути сидеть за неудобным столиком, накрытым застиранной скатертью; слушать описание французской столицы, словно вычитанное из путеводителя; пить паленый коньяк и разглядывать собственную хмурую физиономию в зеркале напротив. За время поисков своего Эльдорадо я здорово изменилась: от стильной дорогущей стрижки не осталось и следа – волосы отросли и выгорели, челка падала на глаза, и ее приходилось все время откидывать назад; солнце и море растворили лишние килограммы, отчего джинсы эффектно болтались на бедрах, а браслет с исхудавшего запястья пришлось снять совсем; ну и конечно загар – корица с шоколадом. В общем, из вполне приличного ухоженного человека я превратилась в непонятно что. Этакий коктейль: замашки столичной дамочки и внешность крымского оборванца. Я рассмеялась. Моль принял это на свой счет и, изогнувшись еще больше, залился соловьем:
- Елисейские поля – это, я вам скажу...
- Простите, можно у вас попросить зажигалку?
Моль недовольно опустил уголки бесцветных губ. Я оглянулась – и... зазвучала мелодия старой песни Челентано. Стояла передо мной моя порочная богиня, русалка с дивным голосом, женщина, в которой пересеклись все вселенные, любовь моя с именем пряным и волнующим – Лейла...
Я зачем-то резко встала и зажигалку зажала в кулаке. И стояли мы так несколько секунд – близко-близко, словно танцевать собирались. Я смотрела на нее, каждую черточку впитывая, будто на войну провожала и боялась забыть... Я чувствовала ее дыхание и запах ее... Я могла прикоснуться к ней невзначай – так близко стояли мы.
- У вас есть зажигалка?
Есть. У меня есть зажигалка. Господи, спасибо тебе за то, что у меня есть дешевая пластмассовая китайская зажигалка, купленная в газетном киоске! Я кивнула, согнула руку в локте и разжала кулак. Она улыбнулась, шепнула спасибо и взяла зажигалку, дотронувшись до моей ладони кончиками пальцев. Отошла на пару шагов, прикурила, вернула зажигалку и...
...Не уходи...
Ушла.
Я стояла, словно истукан, смотрела, как она пересекла зал, подошла к двери, глянула на часы, остановилась на мгновение, развернулась, подошла к угловому столику, села, кивнула официантке и ПОСМОТРЕЛА НА МЕНЯ. Не мимолетно, равнодушно скользнув взглядом. Задумчиво. Словно держала меня в ладони, решая – отпустить или на булавку и под стекло.
- А прелесть этих маленьких парижских улочек...
Моль потянул меня за руку и усадил рядом.
Бесчисленное количество раз я представляла нашу встречу. Как остроумна и интересна была я в этих вымышленных диалогах! Как свободна и смела! И сейчас, боясь встретиться с ней взглядом, проклинала собственную трусость. Страх мелким бесом носился по венам; придумывал миллион причин, по которым мне нужно было с радостным интересом слушать штампованные описания красивейшей из столиц, вместо того, чтобы подойти к Ней...
- ... там на углу есть очаровательное кафе, и цены вполне приемлемы, - Моль был в ударе. Или просто очень пьян.
А у меня кружилась голова от счастья, от страха, от взгляда ее задумчивого. Бешено колотилось сердце и при каждом «сейчас я встану и...» ухало испуганно в пропасть. И вспомнилось мне:
...я на вершине крутого, почти отвесного спуска. Бликуют под зимним солнцем новенькие пластиковые лыжи – гордость и радость моя. Где-то там, внизу у склона маленькие разноцветные фигурки идут спокойно по проложенной ранним утром лыжне. А здесь – холодный злой ветер и выбор: рвануть вниз по страшному необъезженному склону или развернуться и тихонько уйти, признав свое поражение. И голос тренера за спиной:
- Если коленки дрожат – даже не суйся. Вынесет на первом повороте. Вниз ты, конечно, прибудешь, только вопрос, в каком виде... Сказал, оттолкнулся легко и помчался-полетел, взметая серебристую снежную пыль. А я стояла, щурясь от слепящего искрящегося снега, собирая по каплям, лелея и пестуя в себе уверенность. И уходил постепенно страх, и сердце перестало ломиться в ребра, и склон казался не таким уж страшным и крутым. Заскользили сперва тихонько, постепенно набирая скорость, новенькие лыжи. Набросился на меня ледяной встречный ветер. И птицей билась одна-единственная мысль-молитва: я доеду...
И на последнем повороте дрогнули колени, пропала уверенность, и затопил меня жаркий душный страх...
И тренер, помогая мне собирать обломки новеньких лыж, сказал:
- Начиная что-то, иди до конца. Не уверена, что дойдешь – не начинай.
Теплым летним вечером под шелестящий голос Моли искала я в себе уверенность, чтобы дойти до конца. И обжигал мне щеки ледяной злой ветер заснеженной вершины.
«Когда я увидел твои глаза, я почувствовал, что начинается жизнь...», - герой черно-белого французского фильма издевался надо мной с экрана маленького убитого телевизора, каким-то чудом уместившегося на перекошенной деревянной полке под потолком. Моя жизнь могла закончиться, так и не начавшись. Ибо, какой смысл в жизни без смысла? В жизни с утраченным смыслом? Будет кочевать по свету пустая оболочка, словно воздушный шарик – болтаться на тонкой ниточке рядом с кем-то и дергать периодически за палец, на который ниточка намотана – отпусти, мол... Отпустит, удержит... Не велика разница. Как в детской загадке-шутке: то потухнет, то погаснет. Моль замолчал, очевидно, выцарапывая из недр своего богатого лексикона очередное прилагательное. Прошедший мимо официант поздоровался с кем-то за моей спиной. В изрядно опустевшей бутылке бесновался коньячный джинн и клялся в исполнении желаний за мизерную плату – еще по пятьдесят и – мир у ваших ног! Не нужен мне мир, полцарства и конь в придачу. Моя раскрутившаяся, словно мячик на веревке, жизнь замедлила свое бешеное хаотичное движение, найдя, наконец, пристанище в мягких женских ладонях. И когда Она, глядя мне в глаза, подняла вопросительно бровь и слегка улыбнулась, я поднялась и, не выдумывания никаких причин, не ища оправданий, не вытаскивая из закоулков памяти затертых сальных историй и вычурных цитат, отправилась прямиком на этот взгляд. За моей спиной бурчал вдохновенно Моль, не заметивший моего ухода. Ласкал длинными крахмальными пальцами темницу коньячного джинна, пытался выманить того в дымный гомон разгулявшегося кафе. Джинн игриво подмигивал и предлагал еще по сто.
- Привет, - сказала Она. Так, словно мы давным-давно договорились встретиться дивной южной ночью в середине летнего месяца в неуютной переполненной пивнухе. Лейла. В какой-то момент я испугалась, что мираж рассеется, разлетится осколками треснувшего зеркала, поплывет сизым сумеречным дымом, и исчезнет русалка, оставив после себя лишь тихий звон дверного колокольчика да запах ветра.
- Я искала тебя, - сказала я, не дав Ей исчезнуть. Она не удивилась, не возмутилась, дрогнули в легкой полуулыбке губы. Она знала. Она видела меня насквозь. Читала меня, не нуждаясь в переводчиках и словарях. Наш роман свернутым пергаментом лежал перед Ней. От начала до конца. Судьбы главных героев были очевидны, сюжет продуман. Это я знаю сейчас. А тогда в полумраке кафе, сходя с ума от этой ее полуулыбки, умирая от безумного желания дотронуться до ее руки и старательно избегая кощунственной мысли о вкусе ее губ, я шагнула вперед с вершины отвесного склона... Я говорила – Она внимательно слушала, иногда хмурилась, порой согласно кивала. А я бессвязно, сбивчиво, перескакивая с одного на другое, путаясь в предлогах и окончаниях, рассказывала о каплях на Ее теле, о ветре и потопленном корабле, о квартирной хозяйке и засушенной морской звезде, о Кафке и своем бой-френде, и снова о Ней, о Ней, о Ней... Я захлебывалась Ее пристальным взглядом и не могла отвести глаз... Я, словно осужденный, которому дали последнее слово, несла это слово Ей...
Москва сгорела от грошовой свечки. Я плавилась горячим воском слов, пытаясь сжечь сторожившую Ее крепостную стену. Стену из событий, фактов, недоверия, людей, безумств, страхов, страстей, обстоятельств... И говорила, что это Она – огонь:
- Ты манишь всех крылатых на свой свет...
Она недоверчиво улыбалась и шутила, что надо прикрутить фитиль.
Я говорила, что Она – земля:
- Ты – обжигающий песок пустыни, и ни один путник не пройдет по тебе босиком...
Она качала головой – путников ждет смерть от жажды.
Я говорила, что Она – вода:
- Ты – озеро в сопках прозрачное и глубокое, прогретое солнцем до самого дна...
Она усмехалась – в сильные морозы замерзают самые глубокие озера.
- Хочешь, я расскажу о себе?
Нет. Я не хочу ничего знать. Вслушиваюсь в мелодику Ее голоса, ублажаю слух, но не разум. Мне не надо этой сбивающей с ног реальности. Этой взаправдашней жизни, зло хватающей меня за пятки, словно дворовая шавка, уверенная в своей уличной правоте. Мне не нужны белые лилии Ее северных ночей, дерзкие майские рассветы и томные летние ночи не со мной. И перебить Ее не решаюсь. Плыву по зеленоватым волнам Ее голоса, не вслушиваюсь в текст. Но порой все же сталкиваются со мной и жалят быстро слова-медузы, роятся вокруг, берут в плен невыносимым колышущимся кольцом: муж... у сына в институте... сосед пьет... мама... муж...
Она оклеивала меня этими отдельными словами, будто стену новенькими обоями. И когда на мне не осталось живого места, а в воздухе отчетливо витал запах клейстера и старых газет, Она замолчала.
Где ты сейчас, позолоченная рыбка? Может, и тебя окружили прозрачные равнодушные медузы...
Я бросилась вперед прямо на электрические уколы торжествующих желейных комочков:
- Я люблю тебя.
Она встала:
- Здесь слишком душно.
Кто-то дернул меня за рукав, я оглянулась – покачивающийся Моль, глупо улыбаясь, предложил:
- Малышка, пойдем купаться под звездами.
В ту ночь я познала Ее. Я держала Ее в ладонях – мою родниковую воду. Закрывала Ее своим телом, словно щитом, от страшного в своей непримиримости мира. Непримиримый мир. Забавное сочетание... Мир воюющий, потрясающий копьями и бряцающий браслетами на запястьях пленных. Воюющий и потрясающий где-то там – за грубой полотняной ширмой натянутой строго от пола до потолка предприимчивой бабкой. Потрепанный парус нашего корабля, за которым можно укрыться от палящего солнца и соленого ветра.
- Я люблю ветер, - сказала Она, целуя меня. Тогда я не придала никакого значения Ее словам. Не нужны мне были слова, а тем более их смысл. Но уже тогда заныло, беспокойно затренькало что-то в груди. И баюкала-усыпляла я это странное тревожное чувство ласками Ее горячими, жадными, шепотом Ее прерывистым...
На рассвете, сидя верхом на тумбочке, точно тот черный кот, посетивший меня много дней назад, я смотрела, как Она спит. Трогательно, как ребенок. Улыбаясь каким-то своим светлым снам. Я хотела Ее до дрожи в пальцах судорожно вцепившихся в края тумбочки. Так сильно, словно и не было этой сладкой ночи. Хотела любить Ее. Познавать Ее снова и снова. Как море, что не устает познавать шелковистый песчаный берег – снова и снова, снова и снова – спокойно, размеренно, на грани флирта в полуденный зной; яростно, бешено, врываясь штормом, охваченным страстью обладания и подчинения; и снова – легко и нежно, едва касаясь кромки берега прозрачными прохладными волнами своими. Я сидела неподвижно, как каменный идол, боясь неосторожным движением разбудить Ее. А внутри меня бушевали стихии, и боги сражались с титанами. Я смотрела на Нее, и хотелось плакать от нежности, судорожно перехватывало горло, и я быстро отводила взгляд. Но, поблуждав немного по комнате, он неуправляемо возвращался обратно...
Когда в параллельном мире за полотняной ширмой зашевелились невидимые соседи, зашуршали пакетами и бумагой, зашлепали босыми ногами по дощатому полу, Лейла проснулась и, тревожно глянув в сторону ширмы, повернулась ко мне:
- А если они слышали?
Я спрыгнула с тумбочки, подошла к Ней и села на пол рядом с кроватью:
- Хочу тебя поцеловать.
Она настороженно прислушивалась к шевелению обитателей второй половины комнаты, потом махнула рукой, улыбнулась мне и блаженно вытянулась на кровати:
- А, плевать на соседей, прохожих, знакомых, незнакомых и на весь этот дурацкий мир тоже. Знаешь, - она приподнялась на локте и серьезно посмотрела мне в глаза, - я рада, что ты меня нашла...
...
Три недели мы не замечали никого и ничего вокруг. Двадцать один цветной квадратик, вмонтированный нами в привычную черно-белую ленту. Везде заканчивалось лето, а здесь в Крыму сезон был в самом разгаре – лишь холодней становились ночи, да солнце по утрам не так быстро разгоняло рассветную сырость. Местные уже не купались. Но какое дело нам было до местных, дикарей, санаторных и командировочных! Мы забирались на теплый волнорез и целовались там до умопомрачения, видные только чайкам и дельфинам. Мы не говорили о прошлом и не думали о будущем. Она читала линии моих ладоней и говорила что-то про ум и сердце. Смешно хмурилась, выискивая линию любви:
- Ну вот... Меня нет в твоих ладонях... Может потому, что ты не называешь меня по имени?
Я притягивала Ее к себе и шептала, что она – Лейла, и нет имени более прекрасного, более подходящего, более олицетворяющего Ее.
- Ты выдумала меня, - тихо отвечала Она, глядя куда-то в сторону, - меня нет. Есть только никому не принадлежащее имя...
- Оно всегда будет принадлежать только тебе. И моему голосу. Больше никому.
...
- Когда заканчивается твой отпуск?
Мы лежали на золотистом песке, и наши тела впитывали его золото и зной. Я пропускала песок сквозь пальцы, он стекал маленькими жаркими реками, а я, улыбаясь, вспоминала, как ночью пропускала сквозь пальцы Ее волосы, и они скользили светлым прохладным шелком.
- Ты как леди Годива проедешь обнаженной по городу на вороном коне, и волосы твои укроют тебя. А я ослеплю глупца, осмелившегося взглянуть в твою сторону.
- Ты слышишь меня?
Я вздохнула:
- Да. Ты спросила, когда заканчивается мой отпуск. Знаешь что, - я приподнялась на локте и посмотрела на Нее, - а давай построим замок? Огромный песочный замок, который на рассвете сожрет прилив.
Она улыбнулась:
- Детка, кто тебя научил не отвечать на вопросы?
- Просто я не хочу поднимать эту тему. Сначала ты узнаешь, когда закончится мой отпуск, потом скажешь, когда закончится твой. И я буду жить последующие дни, как смертник, узнавший дату своего расстрела.
- Хм... А если мне нужно уезжать уже сегодня?
Я беззаботно помахала головой:
- Неа.
- Откуда такая уверенность? Если я не собираю вещи, это еще ничего не значит.
- Ты можешь собрать сто миллионов вещей и сложить их в сто миллионов чемоданов, засесть на вокзале с билетом в кулаке и все равно я тебе не поверю! Потому что, - я наклонилась и поцеловала Ее, - потому что ты это я, твое сердце бьется во мне. И сегодня оно не готово меня покинуть... Я это чувствую.
...
Мы бежали по полоске мокрого песка, по самой границе моря и суши. И волны послушно слизывали наши следы, заботливо оберегая нас от охотников с факелами и начиненными серебром ружьями. Мы смеялись. Ветер относил наш смех дальше от берега, кидал его дельфинам, будто яркий глянцевый мячик. Охотники останавливались и, улыбаясь, смотрели, как играют дельфины нашим смехом. А мы бежали дальше. На рубеже моря и суши.
- И все-таки меня нет в твоих ладонях, - остановившись, сказала Она, - нет той любви, о которой ты говоришь.
Она помолчала, задумчиво глядя на воду, потом посмотрела на меня:
- Думаешь, ерунда? Твои руки не любят меня.
- Мои руки любят тебя каждую ночь.
- Я не о том...
Я подняла одну из ракушек, которыми был усеян весь пляж – сухие ребристые пластинки, высушенные солнцем и ветром, маленькие острые лезвия, заточенные самой природой – и с силой вонзила в ладонь. Тогда я была готова на любые безумства. Ради Нее...
- Смотри, - ладонь пересекала ярко-алая линия от большого пальца до мизинца, - смотри, это - ты. Ты – кровь моя. Ты – одна-единственная линия ладоней моих. Видишь, ты перечеркнула все остальные.
Лейла изумленно смотрела на мою руку:
- Ты... Ты безумна...
Любые безумства в нашей жизни оставляют следы видимые или незаметные. Тонкая ниточка шрама на моей ладони навсегда осталась воспоминанием о том безумстве. Шрам, перечеркнувший линии руки... После я никому не давала разглядывать свои ладони. Там был тайный код, шифровка, предназначенная лишь Ей. Линия моей любви. Ни один хиромант не разгадает скрытого смысла ее. Лейла...
Двадцать один день безумного счастья.
Первый – Ее губы на моих губах.
Второй – Ее руки в моих руках.
Третий – Ее бедра на бедрах моих.
Четвертый – Ее глаза на расстоянии поцелуя.
Пятый – Ее дыхание на коже моей.
Шестой – плавные волны голоса Ее.
Седьмой – запах Ее пьянящий.
Восьмой – нежный жар грудей Ее.
Девятый – стаккато Ее сердца под щекой моей.
Десятый – влага Ее на пальцах моих.
Одиннадцатый, двенадцатый, тринадцатый...
Я могу придумать название каждому дню, часу, каждой минуте, проведенной с Ней. Это была Ее эра. Эра Лейлы...
...
А потом появилась Полина – рыхлое безликое существо с рваной челкой и взглядом брошенного щенка. Я еще не знала, но это было знамение начала новой эпохи. И как следствие – конца эры.
- Девушку с глазами дикой серны полюбил угрюмый капитан, - пела Лейла, дразня меня.
Жарким сентябрьским полднем на песке нашего пляжа появились новые следы.
- Знакомьтесь, - сказала Лейла.
Знакомить кого-то с кем-то в словаре живого великорусского языка определяется, как дать случай узнать друг друга по имени и знаться вперед. Не хотела я знаться вперед. И имени ее не надо было мне – Машакатясветарита – бесконечный список подходящих для нее имен. Любое славянское имя смотрелось бы на ней, как влитое.
Она смотрела на Лейлу своим наивным щенячьим взглядом и иногда на меня – как на человека с палкой – подозрительно, но с надеждой, что палка может оказаться для игры, а не для битья. «Зря надеешься», - зло думала я, вздрагивая вместе с нею каждый раз, когда Лейла брала ее за руку.
- Понимаешь, - Лейла взялась оправдывать ее, себя, меня, песок под нашими ногами и небо над головой, когда «девушка с глазами дикой серны» решила искупаться – ее поселили в соседний номер, она здесь совершенно одна, никого не знает, ни с кем не общается. Они познакомились, когда Лейла, забежав в пансионат переодеться, столкнулась с этим печальным созданием в коридоре.
- Меня остановил ее взгляд, ты видела, КАКИЕ у нее глаза? Кофе со сливками. И черточки в них такие золотистые, - Она провела пальцем по песку, видимо изображая одну из золотистых черточек в кофейных глазах.
У Лейлы глаза рысьи – светлые, зеленовато-серые. У меня – абсолютно серые, без золотистых черточек и щенячьей наивности. Цвета северного моря – так определил их мой бой-френд. Но разве дело в глазах?!
...Много позже, скучая в метро, я лениво листала газету и наткнулась на статью, вернувшую меня на какой-то миг в тот жаркий сентябрьский полдень: «...особая роль в общении уделяется первому взгляду. То мгновение, когда партнеры встречаются и приветствуют друг друга, сопровождается первым взглядом глаза в глаза. Наше сознательное восприятие другого человека всегда происходит с помощью непосредственного зрительного контакта. Если ритуальный взгляд не соблюден, человек обычно чувствует себя проигнорированным. Вряд ли он может противодействовать оскорбленному чувству: «Ты меня не принимаешь во внимание...»
Противодействовать оскорбленному чувству не пришлось – Лейла приняла ее во внимание. Приняла во внимание все ее проблемы и обстоятельства. И несуразное, совсем не спортивное тело, и челку ее рваную, и даже ее идиотское «чё?», от которого у меня сводило челюсти, как от зубной боли. Она приняла ее. Запив водой, как таблетку от спазмов. Таблетку от меня...
- Что ты делаешь?! – я пыталась докричаться до Нее. Но здесь необходимо было срочное врачебное вмешательство, противоядие и промывание желудка. Все мои слова воспринимались не как руководство к действию, и даже не как слова, сказанные мной – пустые звуки, фантиками кружившиеся вокруг. Она со смехом ловила их, словно снежинки, и они, словно снежинки, таяли в Ее ладонях. Она стряхивала мелкие серебристые капельки на знойный песок и... все.
Пришел день, когда Она ее поцеловала. Черный день. И название у него не очень-то приятное – среда. Середина. Посреди крайностей. Оглянуться – виден день моей встречи с Ней, вперед всмотреться – океан безвременья, сивый морок, в котором я – одинокий и скучный солдатик, уставший от всего.
Она поцеловала ее. Не зная, что я рядом, не чувствуя вонзившегося в меня кинжала. И ветер – Ее преданный слуга – швырнул мне под ноги последним даром запах Ее...
Она поцеловала ее... Мягко, едва касаясь, словно боясь спугнуть. Не так, как целовала меня – с бешенством и напором, врываясь языком в мой рот, будто победитель в павший город. И несся к царю стольник с сеунчем, что город взят. И праздник был...
Глядя на их поцелуй, я вспомнила Ее полушутливые размышления днем раньше. Я не поняла, а Она попрощалась со мной:
- Она называет меня по имени, понимаешь? А мне нравится! Нет, русалкой, богиней и женщиной на пересечении вселенных быть, несомненно, почетно. И, думаю, любой польстят подобные сравнения. Но, детка, ты придумала сказку и отвела в ней для меня определенную роль, не зависящую от реальности... А ведь реальность есть. И она вокруг нас, она в нас! Вот что ты знаешь обо мне? Ты знаешь, откуда я? Как я жила все эти годы до нашей встречи? Ты закрывала мой рот поцелуями при любой попытке открыть тебе истину. А она знает... Да, она не целует мне руки, не дарит звезды, не посвящает стихи. Она просто рядом. Ближе и понятнее.
- Но ведь я люблю тебя... – по-моему, Она говорила страшные глупости, и я пыталась мягко поправить Ее, - я очень сильно люблю тебя.
Она тряхнула волосами и заговорила уже более серьезным тоном:
- Слишком любишь. Ты горишь сама, и сжигаешь меня. Погибнем...
Она поцеловала ее. Просто решила остаться в живых. Глядела в широко распахнутые кофейные глаза в золотистых черточках и видела там свое отражение. Все правильно.
Той ночью я уехала домой.
Часть 2
- ...метод экстракции фактически является разновидностью метода соотнесения и также предусматривает выделение вклада улучшений из общей цены продажи недвижимости. Однако он применяется обычно для...
О, Господи! Я повернулась к Юсе – новому приятелю, уговорившему меня пойти на курсы какой-то экономической религии.
- Юсь, а Юсь, объясни мне, пожалуйста, что есть экстракция?
Он отмахнулся и с удвоенным вниманием уставился на маленького лысеющего дядечку, размахивающего указкой.
Юся – хороший парень. Таких в пору моей школьной и студенческой юности называли ботаниками. Очки, обязательный галстук не всегда в тон костюму, аккуратная стрижка и чистые ботинки. Юся – не имя, кем-то придуманное детсадовское прозвище, приклеившееся к нему намертво. На все вопросы о происхождении этого загадочного прозвища Юся уклончиво отвечает:
- Так сложилось.
Вообще у него всегда все «так складывается». Так сложилось, когда он не поступил в институт и работал в каком-то магазинчике на подхвате. Так сложилось, когда его женила на себе беспринципная девица с большими амбициями. Так сложилось, когда она же бросила и Юсю и их маленького сына, укатив с каким-то бородатым геологом.
Юся оптимист. И отлично бьет чечетку. Воспитывает мелкого и пишет диссертацию. У него в холодильнике всегда есть банка зеленого горошка, которая спасает в дни прихода незапланированных гостей. Как можно кормить гостей консервированным горошком? Понятия не имею. Но Юся умудряется делать это с такой неподкупной искренностью и какой-то английской элегантностью! В итоге – гости остаются исключительно довольны и обещают непременно заглянуть еще. Заглядывают.
Что мне понравилось в Юсе? Горошек, да. И абсолютная противоположность моему бой-френду. Мой бывший был словарем Брокгауза и Эфрона в кожаном тисненом переплете, Юся – Кафка в нелепой обложке. Он появился маячком в кромешной мгле, окружившей меня. Таскал меня по театрам и выставкам, кормил молочным шоколадом и зеленым горошком, на ходу выдумывал какие-то нелепые истории и ничего не спрашивал.
- Так сложилось, - часто говорил он.
- Так сложилось, - согласилась я и впустила Юсю в свою жизнь. Осторожно, на самый краешек.
...
Я познакомилась с ним через месяц после своего возвращения с Крыма. Пустой месяц, в котором дни лениво наползали друг на друга, громоздились серыми студенистыми массами, нехотя превращаясь в недели. Я была космонавтом, пролетевшим, Бог знает сколько световых лет, чтобы попасть на Землю – непреодолимая сила тяжести сгибала меня пополам, наливала свинцом руки и ноги.
Подруга, тщетно пытаясь вытянуть из меня подробности моего длительного отпуска, натыкалась на колючую проволоку ничего не значащих слов, опутавшую меня: морские звезды, чайки, море, песок, прибой, горы, пляж, загар, медузы, вино, крабы, ночь. И проч. проч. проч. В конце концов, она махнула на меня рукой и бросила, уходя, будто листом жести накрыла:
- Депрессия.
Я согласно кивнула головой:
- Да, наверно, акклиматизация спровоцировала...
...
Мама долго, тревожно, по-птичьи поворачивая голову, всматривалась в мое лицо, будто что-то потеряла в нем где-то в районе между лбом и верхней губой. Ничего не обнаружив, она вздохнула и сказала звенящим от страшного подозрения голосом:
- Все. Я так и знала. Это сглаз. Порча. Приворот.
- Мам, ну перестань... Я просто очень устала за это лето. Вымоталась.
- Нет, нет, - она уже полностью уверилась в своем подозрении и судорожно искала способы моего спасения, - это приворот.
Гадалка с длинными ногтями и волосами поводила тонкими сухими руками над моей жизнью... Нашла меня в стеклянном шаре и ткнула острым ярко-красным ногтем. Хотела кому-то путь указать, да сил не рассчитала и попала точно в сердце. Стеклянный человечек в шаре взмахнул испуганно руками, будто улететь пытался, но не взлетел – на колени упал, пытаясь сердце прикрыть ладонями...
...
Бой-френд стоял между мной и ослепительно светлым прямоугольником окна. Он любил стоять вот так, чтобы его красивое мужественное лицо с упрямым подбородком и прямым чеканным носом оставалось в тени. Злость и обида затвердели в нем до такой степени, что, казалось, он нашпигован цементом. Его черный неподвижный силуэт напоминал мишень в тире. Обманчивое впечатление... Это он смотрел на меня сквозь прорезь прицела и цедил слова, безжалостно выкидывая местоимения:
- Любишь только себя. Как мог жить с такой? О свадьбе думал! Трахалась с ней? Господи! Изменила с девкой!
Он выкручивал себя этими фразами, как белье после стирки. Я слышала треск непрочной материи, видела последние капли его гнева. Сейчас он встряхнется, расправит себя, развернет. Подсохнет голос. И на невидном лице появится насмешка. Я не достойна быть свидетелем его гнева, а тем более его обиды. Он шевельнулся, хрустнул пальцами и натянуто-шутливо произнес:
- А впрочем, милая, решай сама. Взрослая девочка. Глупая, правда. Глупая! Если что – звони.
И, насвистывая, ушел. Не уточняя, если «что».
...
Целый месяц выматывающих разговоров с милым, мамой и подругой, заканчивающихся истериками и взаимными оскорблениями, довел меня до состояния близкого к помешательству. В конце концов, я запретила им поднимать эту тему:
- Ничего не было, - сказала я. И день за днем пыталась заставить себя поверить в это. Я боролась с собственным сердцем. Тщательно, день за днем я возводила каменную стену, отделявшую меня от каких-либо воспоминаний. Создавала пустоту. Искусственный вакуум, в котором погибали молекулы моей памяти... Словно культурист, упорно наращивающий мышцы, создающий рельефы своего тела, я создавала рельефы нового мира. И помимо тренажеров, эспандеров и гантелей были у меня свои стероиды и анаболики.
...
Я тяготилась ими. Не познавала. Не изучала. Не любила. Дарила цветы и избитые фразы. Делала все быстро, сильно и уверенно, с нацеленностью на результат. И не было в этой злой нацеленности и капли той нежности, что я испытывала к Лейле. Мелькало где-то на вспышке страсти равнодушно-одобрительное: «Какая ладная фигурка...», прорывалось горячим дыханием чуть слышное: «Люблю...». Логика фальши или фальшь логики: занимаюсь с тобой любовью, значит люблю.
На исходе ночи, едва на горизонте показывалась полоска еще неуверенного рассвета, я уходила из дома, неизменно оставляя на столике у кровати чашку кофе и ключи с запиской: «Оставь под ковриком». Гуляла по не проснувшемуся еще городу, пытливо вглядывалась в какие-то смазанные утренней сонливостью лица редких прохожих, зябко курила у покрытого ночной сыростью фонаря, выжидала. И они уходили, послушно оставляли под ковриком ключ, вычеркивали себя из моей жизни, а меня из своих записных книжек. Иногда после мы случайно встречались, но я не помнила имен... Они же, скользнув по мне обиженно-отчужденным взглядом, спокойно проходили мимо. А одна не ушла. И ключ под коврик не спрятала. И на мое удивленно-злое: «Что ты тут делаешь?» пожала плечами и осталась. Ей понравился холодный кофе и мой неровный почерк:
- Как у пацана, - сказала она.
- Ты замороженная, - говорила она пару месяцев спустя, - в тебя будто вдохнули зиму. И дыхание у тебя холодное не от ментоловых жвачек.
Она задалась благой целью – меня разморозить, как советский холодильник: раскрыть на всю катушку и ножом для ускорения процесса лед откалывать... Но вскоре нож сломался, поранив ее. Всхлипывая в большой клетчатый платок на моей кухне, она обвинила меня в большой нелюбви. Мой тоненький веснушчатый прокурор:
- Ты никогда не научишься любить. Тебе это недоступно. В тебе смешались лед и секс – отвратительный коктейль, который вечером возбуждает и пьянит, а утром отзывается жуткой головной болью.
...
Юся знал многое, но, по сути, не знал ничего. Провожая взглядом восхитительную в своем совершенстве спину очередной претендентки на мое ложе, он покачал головой:
- Коллекционируешь ты их что ли. Как бабочек. Прекрасных легкокрылых бабочек. Пришпиливаешь их словно иголкой своей болью, надеясь, что они ничего не чувствуют. А потом легко забываешь.
- Юсь, так надо.
- Кому надо? Ты выматываешь себя в этом сумасшедшем марафоне. Иногда я не могу смотреть тебе в глаза – там тоска в чистом виде. Отфильтрованная, концентрированная тоска. Девочка, что ты делаешь с собой?
- Юся, ты ничего не знаешь.
Он грустно улыбнулся:
- Знаю. Ты бежишь от себя. От своего прошлого, не понимая, что оно в тебе, и никуда от тебя не денется. Поговори со мной.
- Прости, но мне пора. Она ждет. Созвонимся.
...
Лишь однажды я позволила себе проникнуть за выстроенную стену, преодолевая сомнение и страх, я шагнула на запретную территорию. И каждый шаг отзывался почти физической болью и отчаяньем.
Морозным январским вечером мы с Юсей сидели в моей комнате, завернувшись в пушистый теплый плед, пили испанское вино и лениво спорили по поводу недавно прочитанной книги. Юся выбрался из пледа, подошел к стеллажу с книгами:
- Ну вот возьмем к примеру Кафку, - он вытащил книгу и начал листать. Я улыбнулась – теперь он не успокоится, пока не склонит меня на свою сторону.
- Хм, красивая фотография. Кто это? – он повернулся ко мне, держа в руках маленький глянцевый квадратик, подписанный синим фломастером.
Я окаменела.
- Где... Где ты это взял? – спросила я шепотом.
- В книжке было. Господи, да на тебе лица нет! Кто это? – Юся сел рядом, разглядывая самую прекрасную в мире женщину, - Слушай, а может летом на море махнем? В Крым. Там такие места!
Он откинулся на спинку дивана и закрыл глаза.
- Снимем комнату у какой-нибудь милой бабульки. Мелкого с собой возьмем.
Юся повернул голову и легко толкнул меня плечом:
- Эй...
Я не видела ее - эту фотографию – почти полтора года. Думала, что потеряла. И решила, что это к лучшему. Я никогда не решилась бы выкинуть, порвать ее. И, словно наркоман, вводила бы каждодневно очередную дозу боли...
Юся пощелкал пальцами перед моим лицом:
- Да что с тобой?
- Последний раз я была на юге пару лет назад, - отрешенным голосом сказала я, - с моим бывшим. Заболела серьезно. Жар, бред и прочие прелести. Мне нельзя в Крым. Не рекомендуется. Во избежание рецидива.
Я взяла карточку – по пальцам словно разряд тока пробежал. Лейла...
- Что? Что с тобой? – Юся развернул меня к себе и тревожно посмотрел мне в глаза, - почему ты плачешь?
Плачу... Я провела ладонью по щеке. Да. Мои первые слезы с тех пор, как я приехала домой. Я запретила себе плакать еще тогда, на пляже, когда, вернувшись пожелать спокойной ночи, увидела, как Она целует другую.
- Я назвала Ее Лейла... Неважно, какое имя ей дали при рождении – наверняка ничего оригинального. Машакатясветарита – бесконечный список неподходящих для нее имен. Я назвала ее Лейла. И всякий раз, глядя на нее, перекатывала во рту это сладкое и какое-то восточное слово, напоминающее о персидских сказках и восхитительных с непонятными названиями лакомствах, вот так: лей-ла...
Юся слушал, не перебивая, не шевелясь, почти не дыша. Он знал – то, что я расскажу сейчас, не повторю больше никогда. Он видел, как больно было мне, как нестерпимо больно. И я, как ребенок, плакала от этой боли и пряталась у него на груди. Юся обнимал меня, баюкал, а я слышала, как стучало его сердце, и рассказывала о стаккато Ее сердца под моей щекой.
- Все пройдет... Все... Ты поправишься. Освободишься от Нее. Я обещаю, - шептал он мне. Я поверила ему. Он с каким-то первобытным суеверием относился к словам. С большой осторожностью давал, тщательно взвешивал, аккуратно отмеривал, никогда не забирал обратно и всегда держал. Словам в его мире отводилось почетное место, он даже произносил их со вкусом, смакуя каждый звук. Я знала, что он не обманет.
Больше мы никогда не говорили о Ней. Вдвоем соблюдали некое табу, странный обет молчания, запретивший нам произносить имя Ее.
...
- Ба! Какие люди! – радостный вопль над моим ухом заставил меня вздрогнуть. При виде источника звука я вздрогнула еще раз и быстро отвела глаза. Это была... Я вновь посмотрела, надеясь, что первоначально ошибся взгляд. О, Господи! Скорым поездом промчалось мимо меня прошлое, обдав полуденным зноем черноморского пляжа. В слившихся в сплошную полосу окнах – смутные силуэты моих воспоминаний. Она наклонилась, нависла надо мной, неотвратимо, как беда. Я закрыла глаза, надеясь, что это только плод моего пьяного воображения и стоит щелкнуть пальцами, как он испарится, исчезнет, уберется в никуда. И услышала:
- Не узнаешь?
Как же... Я узнала ее сразу же, будто мы виделись последний раз вчера, а не два года назад на крымском побережье. Как там? Ах, да – девушка с глазами дикой серны. Унылое создание с глазами дикой серны, рваной челкой и мешковатой фигурой. Мне ли не узнать тебя? Тебя... Будь у меня нож, я, не раздумывая, вонзила бы его в твое серное сердце. Я ухмыльнулась – словосочетание «серное сердце» отдавало адом и чертями. Впрочем, особой ненависти я не испытывала. Раздражение, что случай столкнул меня именно с ней в центре огромного густонаселенного города. Она разбила стеклянный колпак, под который была неимоверными усилиями загнана моя память о Лейле. Колпак, который пусть медленно, но покрывался серой пылью забвения. Она постучала передним копытцем по столу:
- Эй! Крым... Море... Горы...
- Мой, загоревший до шоколадности, белобрысый благодаря южному солнцу и абсолютно счастливый бой-френд, - отрешенно добавила я, не открывая глаз.
- Какой бой-френд? – удивилась она. Я приоткрыла глаза и стала разглядывать ее сквозь ресницы. За эти годы она не изменилась ни на йоту. Есть такие люди, которые не меняются вообще. Они рождаются, живут и умирают, существенно не трогая свой облик. Она из таких. Неуклюжая, нелепая, с чересчур длинными руками и коротенькой шеей. Принятый алкоголь позволил мне в каком-то расслабленном дурмане оценивать ситуацию со стороны. Мозг, не спеша, обрабатывал поступающую информацию, идентифицировал ее и выдавал коротенькие спокойные мысли-выводы: «Что Она в ней нашла?», «Серна – животное между козой и оленем с неветвистыми рогами», «Надо заказать еще коньяка». Последняя мысль привела меня в чувство, я открыла глаза, обернулась и махнула официантке. Передо мной появился маленький изящный графинчик и блюдо с дольками лимона. Я залпом выпила рюмку коньяка, поморщившись, заела лимоном и, не, торопясь, закурила. Посмотрела на нее, и она тут же уцепилась за мои зрачки, вворачиваясь штопором своего взгляда, пытаясь проникнуть дальше, глубже, туда, где так спокойно билось отвлеченное алкоголем сердце. Я покачала головой – ничего не выйдет, дорогой мой джейран. Я научилась ставить замки, пароли и коды, недоступные самому опытному взломщику душ человеческих.
Освобожденная память вперемешку с болью, усталостью, обидой затапливала меня, словно вода налетевший на рифы корабль. Она хлынула весенним паводком, закрутила меня в своем водовороте, побежала по венам прямо в сердце. И я уже не могла понять боль во мне или я растворилась в ней. Юся, как же так? Ты же обещал, что я освобожусь от Нее. Гладил меня по голове, пришептывал что-то, заговаривал меня, обереги ставил. Теплыми пальцами собирал слезы с моего лица, когда я оплакивала Ее. Выплакивала Ее из себя. Юся, мой добрый мягкий Юся, ты же всегда держишь слово. А тут – не получилось, не удержал. Упало оно, разбилось. Девушка с глазами дикой серны прошла по осколкам слова твоего, превратив их в серебряную пыль.
- За-чем? – спросила я у нее, - зачем ты ходишь рядом со мной и превращаешь в пыль слова? Зачем ты пытаешься взломать мой взгляд и проникнуть в сердце? Что тебе нужно? Кто ты?
Она улыбнулась. А я обратила внимание на ее рот. Странно, я никогда не обращала внимания на ее рот. Она, как грабитель банка, прятала внешность за маской своих золотисто-кофейных глаз. И оставались незамеченными за этими бесподобными глазами удивительной формы губы, в которых четкий упрямый контур сочетался с наивной детской мягкостью. Это были губы без малейшего изъяна.
Великолепное творение гения.
- Почему ты уехала тогда? – она ловила меня губами, глазами и глупыми вопросами, как бабочку сачком.
Я пожала плечами:
- Так сложилось.
- Ты убила Ее.
Я снова пожала плечами и, разозлившись на себя за этот неуместный жест, сорвалась на ней:
- Черт возьми! Тебя это не касается, понятно? Тебя не касается моя жизнь и то, что в ней происходит! А ты вламываешься, ты упорно вламываешься в нее. Бесцеремонно, по-хамски. Ломаешь и давишь, крушишь то, что возводилось не тобой!
У нее дрогнули губы и, чуть помедлив, сложились в усмешку:
- Не вини меня в собственных ошибках. Не будь меня, появилась бы другая. Тебе никогда не быть с Ней. Запомни это. Никогда! Она так близко наклонилась ко мне, что я явственно разглядела золотистые черточки в ее глазах.
- Ни-ког-да...
И я разбила поцелуем восхитительно четкий изгиб ее рта, страшась материализации ее мыслей, переложенных на музыку слов. Замолчи! Я вложила в этот поцелуй все оттенки вкуса намешанного во мне коктейля: боль и отчаяние, ярость и страх, беспомощность и злобу, страсть и любовь. Да-да, любовь. Разбежавшаяся по венам щемящая память моя несла в себе обжигающие угольки любви. Любви к Ней. Лейла! Бушевал во мне немой крик. Зов, на который в тот момент могла отозваться только девушка с глазами дикой серны...
- Мстишь? - она отстранилась и с улыбкой посмотрела на меня. В ее кофейных глазах плескалось желание. Оно размыло золотистые черточки и затуманило взгляд. Я фальшиво рассмеялась:
- Тебе? За что?
- Не мне. Ей.
Ей... Я откинулась на спинку стула, закрыла глаза и попыталась нарисовать Ее на внутренней стороне век.
...Шелковистые нити золотых волос, разметавшихся по подушке...
...Тонкие трепещущие ноздри, ловящие запах нашей страсти...
...Узкая мягкая ладонь, собирающая стоны мои...
...Маленькая родинка на предплечье...
Фрагменты, кусочки мозаики, разноцветное конфетти. Я тщетно искала Ее в собственном подсознании. Вышколенная память хоть и обрушила на меня водопад эмоций – не воссоздавала образ Ее.
Ей... За что мне мстить Ей? За собственную глупость? За постоянный страх потерять Ее? За трусливое бегство? Я почувствовала, как во мне просыпается ярость – толчками, словно ее генерировало и выталкивало с кровью само сердце. Я стиснула зубы так, что заломило в висках.
- Эй, девушка с глазами дикой серны, проводи меня до рассвета. Я боюсь спать одна...
...
В глаза било нахальное утреннее солнце. Яркое, еще не утомленное жизнью большого города, не задохнувшееся выхлопными газами оно весело ворвалось в комнату и плашмя упало на мою кровать.
- Привет, как жизнь? – спросило солнце, критически оглядывая комнату.
- Хуже некуда...
Я с размаху влетела в паутину и глупо барахталась там, в самом центре. Циничная, умело расставленная паутина из серебристых ниточек зыбких надежд моих и клейких узелков чьих-то обещаний. И где-то недалеко зорко сидел паук, держал в лапах сигнальную нить и выжидал, когда отчаянно бьющаяся жертва устанет и безвольно повиснет в центре шелковистой сети. А может, и я была пауком. Самцом, которого сожрет после ночи любви удовлетворенная самка.
...
- Ты зря Ей мстишь. Между нами ведь ничего не было. Ничего. Да и не могло быть. Она слишком сильно любила тебя. Писала твое имя на мокром песке и смотрела, как его слизывает море. Она искала тебя. Сердилась, что ты пропала, не сказав ни слова... Себя винила. Говорила, что ты – ветер, запутавшийся в ее волосах. И как ветер умчалась куда-то, не оставив адреса. Знаешь, а Она любила...
- Ветер.
- Да, - девушка с глазами дикой серны расстегивала пуговицы на моей рубашке, гладила мои плечи, целовала ключицы, рассказывая эту страшную быль-сказку. Я закрывала глаза, задыхалась не от страсти – от ужаса, не зная, что все самое страшное – впереди.
- Она искала тебя. Уехала, когда поняла, что тебя нет. Сдалась. Знаешь, у Нее такой же потухший взгляд, как у тебя сейчас. Озера горечи. Неразбавленная тоска, - она говорила все быстрей, срываясь на хриплый шепот, - Она не может жить без тебя. Ты не можешь жить без Нее. Но вам никогда не быть вместе... Понимаешь? Никогда не быть...
Она была во мне, рвала меня изнутри на части, вбивалась в меня, чтобы остаться навсегда. А я истекала болью, ужасом и блаженством.
- Замолчи... Не надо... Я не хочу ничего знать... – молила я ее. И боялась, что она замолчит. Но она продолжала, не обращая никакого внимания на мои слова. Да и вряд ли слышала меня.
- Она сдалась. Уехала. Поклялась, что забудет тебя... Уже забыла. А я искала. Я нашла тебя. Знала, что рано или поздно найду...
Она взяла меня в плен. Опутывала меня собой. Я пропадала в ней, словно в густом тумане – не видела ни дороги, ни неба, ни земли. И сквозь этот душный туман долетали до меня обрывки фраз:
- Ты предложила Ей царство... Но корону оставила себе... В твоем мире нет места двоим... В твоем выдуманном мире...
Я впилась пальцами в ее плечи так, что у меня побелели костяшки, а она нахмурилась, прикусила губу и замолчала. Я вывернулась и уложила ее на лопатки:
- Что ты несешь?! Какое царство? Я нашла Ее один раз, найду снова, поняла?!
Она накрыла ладонью мой рот и, притянув меня к себе, прошептала на ухо:
- Как? Ты даже приблизительно не знаешь, откуда она... Как Ее зовут? Сколько Ей лет? Где живет и чем занимается? Ты не знаешь ни-че-го... Ты будешь всю жизнь искать дым вчерашнего костра...
А после девушка с глазами дикой серны привела свою сказку-быль к финалу:
- А впрочем, я могу тебе помочь. У меня есть номер Ее телефона. Я дам его тебе. Если только...
Она снова была надо мной, на мне, во мне, вела меня кончиками пальцев по краю пропасти, по краю наслаждения. Она знала, что я соглашусь на все «если только». Наклонилась ко мне, поцеловала глубоко и на последнем аккорде, когда тело мое накрыла сладостная волна, назвала свою цену:
- Если ты останешься со мной.
Часть 3
«...Возьми, сестра, эту книгу. Возьми ее от безумца – высокопарного глупца и тихого мечтателя... От человека возьми, сестра моя, от человека, который шел подле жизни – мимо нее...»*?
Как могла я принять ее предложение? Как могла не принять его? По-моему в шахматах это называется вилкой – любое решение приведет к потере, ибо сама ситуация есть следствие какой-то ошибки в прошлом. Ошибкой была моя встреча с ней, запланированная кем-то свыше.
В золотистых черточках кофейных глаз я видела, что бесполезно доказывать абсурдность этой сделки. Нет спасенья. Выбор страшен – тщетно искать постоянно ускользающий фантом, оглядываться на улицах, набирать случайный номер телефона в надежде услышать голос Ее, или же раствориться в кофейной горечи, стискивать ночами зубы, кусать подушку, заглушая рвущийся крик, перебирать в памяти заветные цифры без надежды воспользоваться ими...
- Я позвоню в субботу. Решай... Да, кстати, мне не нужен твой красочный нереальный мир. Я не люблю сказки. Называй меня по имени,
- сказала она, сложив свои безупречные губы в милую улыбку.
...В воскресенье, напевая какой-то незатейливый мотивчик, она хозяйничала в моей квартире.
А ко мне пришло спокойствие. Накрыло меня, словно ватным одеялом – не пробирались туда льдистый холод упреков и сквозняки сомнений. Стылый болотный сумрак стопроцентного пофигизма. Вроде бы в какой-то момент я начала испытывать удовольствие от этого странного состояния. Я тонула, не сопротивляясь, и наслаждалась видом бегущих наверх пузырьков и равнодушно глазеющих на меня ярких ядовитых рыб. Не отчаяние – уверенность в том, что так и надо. Тешила себя мыслью, что не мы виноваты в своих проколах – кто-то все решает за нас. Неси свой крест.
Я называла ее по имени, не привязывая имя к ней – три слога, пытающиеся заполнить пустоту между нами. Слишком мало.
- По-ли-на, - произносила я так, будто читала транскрипцию только что выученного иностранного слова.
- По-лина, - выдыхала облачко пара на морозе.
- Поли-на, - рисовала по хрустальной глади горного озера.
- Полина, - и черемухой вязало рот.
Иногда я дарила ей цветы. Не потому что хотела сделать приятное – их безмолвная красота очаровывала меня. Бордовая бархатистая элегантная роза – каждый лепесток безупречен и безупречностью этой соперничает с ее губами. Но гораздо большее эстетическое удовольствие получала я от лепестков этих, от всех вместе и каждого в отдельности, нежели от правильной формы ее рта. Тонкая строгая лилия, прозрачно-белая, надменная леди – любоваться ее аристократичным изяществом могла я не один час, не обращая никакого внимания на ту, которой эта лилия была преподнесена.
Иногда мы гуляли по городу, и она держала меня за руку. Я не чувствовала ее. Нет, ее ладонь несла тепло ладони моей, но это было тепло десятков знакомых мне рук. Ничего особенного. Ничего личного. Ничего...
Мы целовались в парке, желтые клены осыпали нас листьями, и касание каждого листа ощущалось гораздо острее быстрых горячих касаний ее языка.
Она ничего не замечала. Или делала вид. А ко мне пришло спокойствие. Условия сделки были полностью выполнены обеими сторонами. Она дала мне номер Лейлы. А я осталась с ней. С Полиной. Когда-то давно она смотрела на меня, как на человека с палкой – подозрительно, но с надеждой, что палка может оказаться для игры, а не для битья. «Зря надеешься», - думала я тогда. Ошибалась. Палка оказалась для игры. Для увлекательной игры в любовь. Игры по ее правилам.
Куда-то пропал Юся. Говорили – повез мелкого к родителям на Урал. «К лучшему», - думала я. Его старомодная мягкость и небезразличие к моей жизни серьезно угрожали приобретенному спокойствию. Брошенный Юсей в зеркальную глубину этого спокойствия камушек мог разнести ко всем чертям, разметать амальгамными осколками, обнажить картонную изнанку моего серебряного мира.
...
- Расскажи мне о ней, - попросила я.
- О ком?
«Как же ты любишь глупые вопросы...». Полина сидела спиной ко мне за столом и что-то писала. Иногда выпрямлялась и двигала лопатками, будто крылья разминала перед полетом, но, передумав улетать, снова склонялась над тетрадью. Наверняка писала одну из этих дурацких историй, которые нафаршированы всякими романтическими глупостями, как арбуз семечками. Иногда ее печатали. Иногда нет. Но почти каждый вечер она с завидным упорством выводила в толстой тетради кругленькие аккуратные буквы, словно салфетку вязала...
Я пялилась в телевизор, тянула горьковатое чешское пиво и была в состоянии того хмельного азарта, когда хочется непременно довести окружающих до ручки. Вот уже несколько месяцев окружала меня только Полина. Логично было сорваться на ней.
- О ком, о ком... О Лейле. А то как-то нечестно получается – ты знаешь о ней все, а я ничего. Давай-ка, делись.
Полина повернулась ко мне и сдвинула брови:
- Во-первых, мы так не договаривались. У тебя есть ее телефон – позвони и узнай все, что тебя интересует.
Я засмеялась:
- Перестань... Слов тебе жалко, что ли? У тебя вон их сколько – целая тетрадь! Тысячи толстопузеньких красивых слов...
Она отвернулась и снова пошевелила лопатками:
- Отстань. Слов-то может и не жалко...
Я вздохнула:
- Ну вот. И хочется поговорить, а не с кем. А давай баш на баш, ухо на ухо? Я тебе о тебе расскажу, а ты мне о Ней?
У нее напряглась и затвердела спина, а я продолжала гнать во весь опор, несмотря на скользкую дорогу и кромешную темноту вокруг:
- Итак, что мы имеем. Простите, КОГО Я имею? Так наверно будет правильней. Полина К. 31 год, не замужем, детей нет. Втрескалась по самое не могу в загорелую девчонку на благословенном крымском побережье. Как же это... Ах, да! – Я выкинула вперед руку и басом пропела, - Стройная фигурка цвета шоколада помахала с берега рукой... Пам-пам-пам... Но однажды ночью с молодым ковбоем стройную креолку он увидел на песке... Ой, нет. Нет, нет, нет. Это уже совсем другая история, господа! Итак, влюбилась, значит, но стройная креолка однажды ночью пропала. Испарилась, словно рассветный дым. С молодым ли ковбоем, нет, история умалчивает. Но не Полиной бы была Полина, если на бескрайних просторах нашей Родины не нашла бы свою любовь! И ей, представьте, повезло – они жили в одном городе. И на почве этого стали жить в одной квартире.
Ее спина нервно молчала. Я открыла очередную бутылку и с упоением продолжила:
- Да, в одной квартире. Полина работала в редакции вполне раскрученного дамского журнала, на страницах коего довольно часто появлялись милые женские рассказики, написанные ею же! Уфф... – Я перевела дух, - Вполне возможно, что за должность в журнале ей пришлось переспать с главным редактором, то есть редакторшей конечно, но сей момент к нашему повествованию не относится. А...
- Прекрати... – будто кнутом стегнула, но меня было не остановить.
- А что же креолка? О! Это самый замечательный хеппи-энд, господа! Самый хеппиэндный хеппи-энд! Она дарит ей цветы и целует руки, ерошит волосы и варит кофе по утрам. Она у ног ее. Она привязана к ней. Невидимой, но прочной нитью. От сердца к сердцу. И когда раздается удар на одном конце нити, на другом – болезненный спазм. Ибо не бьются сердца их в такт. Тук-тук...
Я устала говорить - покатил кураж в обратную сторону – запрокинула голову и закрыла глаза:
- Тук... тук... тук... тук... пииииииииииииииииииииии...
Я услышала, как Полина развернулась на стуле, и почувствовала ее горячий взгляд. На мне образовывались дымящиеся воронки в тех местах, на которые она смотрела. Бах! – рана на губах, я слизнула кровь. Бах! – дырка в щеке - ерунда! Не смотри мне в глаза, только не смотри мне в глаза! Я хочу увидеть Ее. Еще раз. Пусть последний. Не смотри мне в глаза... Не смотри на руки мои... Я хочу любить Ее, любить этими руками, как когда-то... Любить руками и видеть, как Она отдается этим рукам, видеть, как плавится страстью тело Ее, как искажается лицо Ее сладкой судорогой оргазма... Бах! – прошито насквозь плечо. Бах! – в сердце. Навылет. Полина встала и вышла из комнаты, шелестя тетрадью. А я слушала, как затягиваются на мне раны, саднят, зудят, покрываются коркой запекшейся крови моей. Открыла глаза – вижу. И руки целы. Пронесло на этот раз...
- Как же ты ошибаешься, - сказала она из-за двери, будто выстрелила вдогонку. Расплылось под лопаткой алое пятно...
- На счет редакторши? – съязвила я.
- На счет всего...
Мне надо было дожать, довести ее до правды. Докапать так, чтобы переполнилась чаша ее терпения и полилась бы истина, пенясь обидой и неприязнью. Но – пропал хмельной азарт, навалилась мне на плечи равнодушная усталость, опечатала молчанием мои уста. Я прошептала:
- Да к чертям всё, - и пошла спать.
...
Иногда Полина режет меня. Когда лава в ее взгляде остывает, а ей лень раскочегаривать эту топку, она берет стальную заточку, изготовленную за многие месяцы в камере одиночного заключения, и начинает резать по живому:
- Ты никто. Тряпка, безделушка, пустячок. Вся твоя ценность – в умении работать руками и ртом.
Она пьяна и беспощадна. Бросаемые петли ее фраз падают мне на плечи, затягиваются, врезаются в горло:
- Кого ты любишь, кроме себя, а? Кого? Ее? - она противно захихикала. – Ты никогда не простишь Ее за тот поцелуй. Потому что в тебе дерьма полно. Ты никто! Молчишь... Конечно, тебе ответить нечего! Кто ты? Кто?
Терпеть не могу в стельку пьяных женщин – их разбирает либо похоть, либо неуправляемая злость.
Полина в ярости, она готова убить меня, но не может встать с кресла. Это бесит ее еще больше. Она бросается вперед, чтобы расцарапать мне лицо, но безвольно повисает на моих руках. Пока я тащу ее в спальню, она шепчет:
- Кто ты? Кто ты?
Этот вопрос не дает ей покоя.
...Полина, к чему тебе этот ад? Она спит, но лицо искажено злобой. И во сне она ненавидит меня. Я провожу ладонью по ее щеке: - Зачем я тебе?
Утром она будет прятать глаза и натянуто просить прощения. Сложно извиняться, когда не помнишь за что. Я заварю ей свежий чай с мятой, найду таблетку аспирина, включу ее любимый фильм. А потом, сидя в кресле, буду смотреть в телевизор невидящим взглядом и слово за словом убирать из себя ее вчерашние пьяные выкрики, вытапливать ненужную обиду и горечь, укрощать взметнувшееся было раздражение...
Шагами измеряют пашни,
а саблей тело человеческое.
Но вещи измеряют вилками.*?
Следуя этому положению дел профессора Гуриндурина, Полина измеряла тело мое саблями, шагала по перепаханному вдоль и поперек полю моей души. Через какое-то время я была в шрамах и ее следах. Она измеряла меня и вилками, как свою привычную вещь. Я покорно соглашалась. Отдавала себя на растерзание, видя в этом какой-то смысл. Я взяла в долг золотой слиток и расплачивалась теперь за него вытертыми медяками...
Однажды Полина заплакала. Я испугалась, что что-то случилось. Оказалось – просто резала лук для рагу. А я подумала, что во всем есть своя двоякость. Кругом сплошные вытертые медяки с реверсом и аверсом. Или луны с темной обратной стороной. С медяками проще: подкинул на ладони и – опа! – орел, еще разок – решка. Никаких тайн. Слезы от лука, смех от марихуаны, любовь от похоти, смерть от суицида – поиграем в реверси? Выигрывает проигравший...
...
Она смотрела так, будто собралась разобрать по частям и растащить меня на сувениры.
- Полина, что случилось?
Она отвела взгляд:
- Ничего.
Мы сидели на скамейке в опустевшем уже парке. Откуда-то издалека доносился приглушенный шум улицы, словно пропущенный через старый патефон, а здесь – под тенью большого старого клена было сыро, сумрачно и торжественно. В такой атмосфере объявляют войну, предают анафеме и создают фантасмагории. Мы не занимались ни первым, ни вторым, ни третьим. Полина смотрела на меня и решала, кому раздарить будущие миленькие сувенирчики. Я курила, выпуская колечками дым в темнеющее небо, нависшее над парком по-осеннему прозрачным флером.
- Ты любишь меня? – спросила она куда-то в сторону.
- Нет. И ты об этом прекрасно знаешь.
- Почему ты со мной?
Я растерянно посмотрела на нее. Не задаваясь никогда подобными вопросами, я применила к ситуации универсальную Юсину формулу: так сложилось. Полина улыбнулась:
- Ты дура. Почему не позвонишь ей, сидишь тут со мной и отвечаешь на нелепые вопросы? Жалеешь меня? Ненавидишь? Почему ты сейчас не с ней?!
- Полина, послушай...
- Нет, это ты послушай! Я знаю, почему ты со мной. Дело вовсе не в твоей хваленой честности. Ты благородно соблюдаешь условия сделки, как старуха Великий пост? Как бы не так. Ты со мной, потому что мы на обочине. Мимо проносятся машины, никто не останавливается, всем насрать! А нам насрать на них. Мы изгои, отморозки. Нас похоронят на меже, как самоубийц. Только суицида никто не заметит, потому что у нас это не мгновение – раз и нет! – мы занимаемся этим постоянно, день за днем. И сколько дней у нас осталось, никто не знает... У меня такое чувство, что я оборотень. Выродок племени человеческого. И моя луна, которая заставляет быстрее биться сердце, которая гонит меня прочь от людей, которая рядит меня в шерсть, клыки и когти, скоро не зайдет, останется навсегда на моем небосклоне. И твоя луна тоже. Посмотри на себя – ты бежишь от реальности, ненавидишь прохожих, бесишься от соседей. Но у тебя есть надежда на спасение – Она. Ты еще можешь успеть.
Я бросила на землю окурок и стала тщательно вдавливать его носком ботинка в холодный песок:
- А ты?
Я боялась смотреть ей в глаза. Казалось, один взгляд – и вырвется из горла волчий рык-стон.
- А что я... Она не любит меня.
- Я не понимаю... – она настолько запутала меня этими оборотнями, лунами и суицидами, что я не могла уловить смысла этой фразы. От меня ускользало что-то важное и огромное, как смысл жизни. – Кто не любит тебя?
Полина устало ответила:
- Ты назвала ее Лейла...
...Повальная гигантомания – вспарывающие облака небоскребы, мосты, стремящиеся соединить континенты, корабли размером с небольшой город... И сжигающее стремление к большой любви. Настоящей! Так, чтобы крышу прочь, чтобы бессонница и аритмия, чтобы воздуха не хватало, чтобы страшно было от любви этой... Выстоишь, выдюжишь? Кто, я? Да я! Да я россыпь роз благоухающую, звезды с неба, кораллы со дна морского!
И тонут титаники, губя своих создателей...
- Ты никогда не задумывалась, что я делаю рядом с тобой? Роковая любовь? – Она усмехнулась. – Возможно. Не к тебе. Тебя можно только пожалеть. Ты гибнешь. Твои глаза давно пусты. И живешь ты только благодаря мечте когда-нибудь оказаться рядом с Ней. И возможно проживешь с этой мечтой и пустыми равнодушными глазами до глубокой старости. А у меня даже мечты нет. Тогда в Крыму я поняла, что мне не быть с Ней. Единственный поцелуй, вкус которого я помню до сих пор... Выпрошенный, вымоленный... И где-то была та, которой досталось все. Та, которая привыкла к Ее поцелуям и принимала их, как нечто должное. И которая позволила себе страшную глупость из-за собственной гордыни. Отвернулась и ушла. Исчезла.
Я слушала Полину так, как всё делала в эти дни – спокойно, почти безразлично. Я всегда знала, что кроется какая-то большая лажа за нашей сделкой. Не всё так просто. Не всем так просто. Она сказала, что мы похожи. Да. Как две параллельных линии, стремящиеся к одной цели. Две стрелы на поле с одной мишенью. Две ладони, никогда не встретившиеся в рукопожатии. Да, мы похожи. Совершенной ненужностью друг другу.
Я замерзла – промозглый вечер хватал меня за кончики пальцев, забирался под широкие штанины джинсов и в распахнутый ворот толстовки. Я замерзла. У меня зуб на зуб не попадал. Я растирала ледяные ладони, пыталась согреть их своим холодным дыханием. А Полина все говорила. И я не могла прервать ее и сказать, что мне холодно, мне ужасно холодно. Еще чуть-чуть и я потеряю сознание. Она смотрела вверх, в поредевшую листву клена. Так смотрят, когда хотят спрятать слезы, но они дрожали в ее голосе и делали влажными слова:
- Я никогда не смогу сказать: эта женщина спит на моем плече. А ты уже можешь. Скажи мне, Она спала на твоем плече? Ты вдыхала запах ее волос? Слушала ее дыхание?
Полина резко толкнула меня, я чуть не разбилась – во мне тоненько зазвенели льдинки, стукаясь друг о друга. Словно тосты поднимали. Они пили за этот прекрасный вечер. Им было весело.
Я не могла пошевелить замерзшими губами и поэтому кивнула один раз на все ее вопросы.
- Да, - горячо продолжила она, - Да... Но ты исчезла. Почему? Разве я виновата в том, что ты идиотка? Я знать тебя не знала! А Она обещала тебя найти! И нашла бы... Но ты недостойна Ее! Ты понимаешь? Недостойна!
Она была похожа на марафонца после длинной дистанции – волосы растрепались, над верхней губой выступили капельки пота, дыхание жаркое – каждое слово вырывалось на волю облачком пара и несколько мгновений висело между нами в воздухе.
- Я сделала все, чтобы этого не произошло! Я, заметь – я, не Она, нашла тебя! Я сразу еще тогда поняла, что мы похожи. А, увидев тебя здесь в клубе, поняла, что стали похожи еще больше. Ей нужно было время забыть тебя. Тебе - время добить себя. Чтобы попасть на обочину, тебе нужно было трахнуть меня. Все, дорогая, круг замкнулся.
«Круг замкнулся, круг замкнулся, круг замкнулся» - тоненько звенело в ушах. Полина так же жарко что-то говорила – я видела, как змеились ее губы, как напрягались мышцы шеи, шевелился кончик носа. Мне было легко. Легко и пусто. Меня наполнял приятный звон, растекался по телу теплыми покалывающими волнами.
Полина, сама того не зная, была тем плотиком, который все это время не давал ледяным волнам сомкнуться над моей головой. И вот на моих глазах этот плотик разошелся по бревнышку. Я упала в черную холодную воду. И темнота поглотила меня...
...
- Истощение, - белый веселый доктор крутился вокруг койки, разглядывая меня со всех сторон. Лицо доктора было в шрамах и ссадинах. Наверно однажды он лопнул со смеху, и его пришлось собирать по кусочкам. Он положил руку на мой лоб, засмеялся. – Ну что, голубушка, и сколько же мы не ели – десять дней, пятнадцать?
«Пару тысяч пустых неспокойных лет...»
- Сколько, сколько? - он наклонился ко мне, приложив ладонь к уху. Ухо было большим и конопатым. Я скосила глаза – в руку была вставлена прозрачная трубка, конец трубки был где-то вне пределов видимости, но, судя по вертикальному положению, уходил прямо в небо. Дернешь три раза – поднимайте, мол, воздух заканчивается. Может быть, поднимут...
Через неделю меня выписали. Дали лист бумаги с перечнем продуктов и часами их приема. «Строго придерживаться!», - сказал не очень убедительно веселый доктор.
Дома было спокойно и пусто. Исчезла Полина со всеми вещами. Будто и не было ее никогда. А может, и правда не было? Может она лишь плод истощенного нехваткой витаминов и минералов, белков и углеводов, утомленного передозировкой никотина сознания? Я перерыла всю квартиру, но не нашла ни одного подтверждения ее пребывания здесь. Пропала засушенная белая лилия, толстая тетрадь, даже аромат духов бесследно испарился. Исчезла и фотография Лейлы. Но мне уже было все равно. Я решила выздоравливать – два с лишним года это явный перебор...
...
- Алло, алло, привет, слышишь? Привет, - встревоженный голос Юси в телефонной трубке меня неожиданно обрадовал. – Я вчера вечером приехал. Тебе звоню – никто не отвечает. Позвонил твоей матери, она сказала, что ты в больнице, что случилось? Алло!
Я улыбнулась ему, жалко не видит:
- Юсенька, приезжай ко мне вино пить. Правда, мне строго настрого запретили алкоголь, никотин и антидепрессанты... Но, думаю, от пары бокалов ничего не будет.
Юся приехал. Загорелый, вихрастый, без очков и галстука. Поездка к родителям, несомненно, пошла ему на пользу. Мелкий остался там набираться здоровья в чистом уральском климате.
Мы выпили вина в полнейшей тишине.
- О ком скорбим? – я похлопала Юсю по плечу и улыбнулась, - Юсь, жизнь, в общем-то, замечательна, и нет повода обижаться на нее.
Мы все делаем сами.
Юся согласно тряхнул вихрами и поднял бокал:
- Давай за то, чтобы то, что мы делаем, не давало нам повода обижаться на жизнь!
- Ну ты завернул! Но, в общем, правильно. Знаешь, раньше, когда мне приходилось куда-то добираться на метро, я сидела в вагоне и просила небо о большой настоящей любви. Такой, чтобы крышу прочь, чтобы бессонница и аритмия, кофе ночью и лихорадочный блеск в глазах... Не подумала я о том, что в метро преисподняя ближе, нежели небо.
- Ты думаешь, любовь от дьявола?
- Не знаю... Сумасшедшая, сбивающая с ног, заставляющая ненавидеть всех и вся, кроме одного человека – может быть. Любовь должна быть спокойной, как полноводная река, и такой же насыщенной. А если тебя крутит и бьет в водовороте, если у тебя возникают мысли о самоубийстве, если в тебе бушует негатив ко всему миру, что это?
Юся задумчиво потягивал вино – искал слова. Но не всегда есть правильные слова. Не придумал мир универсальных слов. Я хочу сказать Ей: «Я люблю тебя», но в эти три слова, в эти три банальных слова не вмещается буря, разрывающая меня...
Иногда я понимаю парней, которые колошматят на автостоянке бейсбольными битами чужие машины. Мгновенная опустошающая вспышка, выплеск ярости и злобы, хрустящая осколками на асфальте ненависть. А потом – прохладное спокойствие внутри, только пальцы дрожат, отходя и успокаиваясь... А если всё остается в тебе?! Адская топка, убивающая исподволь.
Юся хрустнул пальцами и неловко начал:
- Знаешь... Тебе нельзя одной быть. Ну, по крайней мере, сейчас. Вдруг ты опять поесть забудешь... Посмотри на себя – ты же скелет ходячий!
Он взял меня за руку и обхватил запястье большим и указательным пальцами.
- Хочешь меня окольцевать?
Юся поморщился:
- Зачем ты так. Помощь предлагаю.
Я мягко разъединила этот теплый живой браслет и погладила Юсю по плечу.
- Солнышко, помощь нужна тем, кто в ней нуждается. Тем, кто глазами ищет пристанище в других глазах. Тем, кому еще можно помочь. Я же однажды неправильно взмахнула крыльями, и завертело испуганный белый комок в жестоком штопоре... А из штопора нужно выходить без посторонней помощи...
На следующий день я разместила объявление в газете о продаже своего барахла: двуспальная кровать, шифоньер, стол письменный, стол обеденный, книжные полки, книги с этих полок, телевизор, магнитофон, два кресла, декоративная лиана, чешская люстра, разношерстные стулья и табуретки, один пуфик, кофеварка, холодильник, маленький диван и много-много-много прочей ерунды, заполонившей мою жизнь. Все то, что невозможно было продать, я безжалостно выбросила: старые игрушки, журналы и письма, выношенные вещи, впитавшие в себя запахи, эмоции, впечатления пережитых зим и весен...
Теплый рыжий безнадежно устаревший свитер. Он был на мне морозным январским вечером на даче у однокурсника. Там я познакомилась со своим будущим бой-френдом, который сразу же произвел на меня неизгладимое впечатление – яркий, красивый до неприличия, одетый с небрежным шиком в какие-то заграничные шмотки. Все отправились фотографироваться на улицу, а мы сидели на полу у камина, пили превосходное бордо, болтали о каких-то пустяках. А в воздухе витала такая сексуальная энергетика, что, казалось, между нами проскакивают искры. Он наклонился ко мне, прижался щекой к плечу и засмеялся:
- Колючий...
Странно... От свитера до сих пор пахло заснеженными елями, огнем и мужским парфюмом. Я смяла свитер и равнодушно кинула в коробку.
Через пару недель я была как погорелец в одночасье оставшийся без годами наживаемого хлама. Правда, в отличие от погорельца у меня от этого предприятия осталась на руках энная сумма, которую можно было потратить на приобретение хлама нового, не несущего на себе суровый отпечаток прошлого. Чем я собственно и занялась, развив в этом направлении кипучую деятельность.
Мать, увидев мою абсолютно голую квартиру, всплеснула руками:
- Где отцовский комод?
На родительскую свадьбу какой-то хороший папин друг привез огромный черный комод с блестящими ручками. Комод был перевязан шпагатом на манер подарочной ленточки. В детстве он частенько нагонял на меня уныние и страх – в черной лакированной поверхности мерещились мне монстры и чудища, глазеющие в уютный мирок моей комнаты из какого-то потустороннего мира. Развод родителей и раздел нажитого имущества привел к тому, что страшный комод очутился в моей квартире.
- У тебя мебели пока немного. Возьми, пригодится, - сказал отец, виновато глядя в сторону. Он думал, что вновь перевязанный шпагатом на манер подарочной ленточки комод как-то приглушит чувство утраты, вызванное отцовским уходом к другой женщине. Вообще чувство вины очень часто заставляет человека совершать неверные поступки. Нет, он вовсе не хотел откупаться комодом, но чувствовал себя именно так. И заставил меня чувствовать то же самое. Мы неловко молчали, глядя в загадочную поверхность комода. И видели там каждый своих монстров...
- Где комод? – громко повторила мать. Судя по всему, он для нее был каким-то мрачным символом, семейным тотемом, который при любых обстоятельствах должен оставаться в родных стенах.
- Комод... Ах, комод! Ммм... Он в хороших руках. Да, именно так – в хороших руках! Чудный дедулька в шляпе-канотье сказал, что это именно то, что он искал.
Мать недовольно пожевала губами. На обиженном лице лежал отпечаток терзавшего ее сомнения – в своем ли я уме. Она проворчала: «Делай, как знаешь...» и ушла, громко хлопнув дверью, выразив тем самым свое недовольство.
Меня всегда удивляло это ее выражение: делай, как знаешь. Господи, если бы я знала КАК! То, что я вчера считала правильным и незыблемым, сегодня становилось сомнительным и жидким, как растаявший пломбир. Я плутала по собственной жизни, будто загулявший студент по чужому городу. Но все же не очень прибыльную продажу комода я записала в дела стОящие. От монстров нужно избавляться...
...
В разгар ремонта нагрянул бывший. Он скептически осмотрел отодранные от стен обои, пол, усеянный стружкой и кусками штукатурки, меня в джинсовом потрепанном комбинезоне и ярко-красной надетой козырьком назад бейсболке, ухмыльнулся и протянул шуршащий целлофаном и бумажными лентами букет.
- Здравствуй... Ремонт затеяла? Дело хорошее. Позвонила бы – приехал, помог.
Я взяла букет и кинула его на засыпанный строительным сором подоконник.
- Спасибо.
Он осторожно прошелся по комнате, стараясь не запачкать одежду и стильные новенькие туфли.
- Возводишь очередную Башню? Учти, когда она рухнет, твои строители перестанут понимать друг друга... Хаос, неразбериха...
Знакомый сюжетец, не находишь?
- Ты зачем пришел?
Он поднял вверх руки:
- Ну-ну-ну... Не заводись. Я с мирными намерениями. Без змей и скорпионов. Чаем угостишь?
- У меня электричества нет. Могу предложить яблоко.
Бывший засмеялся:
- Яблоко... Символично. – Он закрыл глаза и процитировал сам себя. – Прохладное яблоко взял он из теплой руки. Многие после писали о нем стихи. О нем и о яблоке.
- Бедняжка, - съязвила я.
- Ой, - он улыбнулся. – Узнаю мою девочку. Говорят, стрессы стимулируют выработку огромного количества защитных веществ. После всех твоих перипетий ты должно быть в броне.
- Так зачем ты все-таки явился? – Пустая болтовня с бывшим начала меня утомлять. Да и дел было невпроворот. Однако обидное «явился» его ничуть не задело.
- Я долго думал. И решил тебя простить.
- За что?
- Ну как... За ту поездку. За измену. В общем...
Я улыбнулась:
- Я не о том. За какие такие заслуги ты решился меня простить? И что за этим твоим прощением должно последовать?
Он сумрачно посмотрел на меня. Я знаю, что ему претят всяческие выяснения отношений. От всех «как» и «почему» ему взвыть хочется. Но, видимо, он настроился решительно:
- Не за заслуги... Мы хорошая пара. Нельзя же несколько лет серьезных отношений выкинуть псу под хвост...
Начал он хорошо, но закончил паршиво:
- Из-за какой-то девки.
Я прикусила губу и отвернулась к окну. На подоконнике лежал, поразительно не вписываясь в обстановку, большой букет. Я повернулась к бывшему и устало сказала:
- Понимаешь, мы с тобой как твой букет и моя квартира. Ты – яркий, пафосный, манящий. И я - обрывки газет столетней давности, пустота и неизвестность...
Надеюсь, он понял, что я хотела сказать.
...
Я люблю свечи. Поздним вечером сижу посреди своего разоренного жилища на куче какого-то строительного мусора, ем яблоко и, прищурившись, смотрю на дрожащий золотой огонек. Он ласков и совсем не опасен. Ангел, танцующий на кончике иглы. С ним мне не одиноко и совсем не страшно в пустой квартире. Между мной и танцующим ангелом стоит телефон. Я хочу протянуть руку и набрать Ее номер. Просто чтобы удостоверится, что с Ней все в порядке. Просто чтобы услышать Ее «алло» или «пошла ты к черту». Просто чтобы сказать ей «это я».
Но у меня есть как минимум три причины не делать этого:
Во-первых, уже слишком поздно, Она спит.
Во-вторых, уже слишком поздно, Она спит не со мной.
В-третьих, уже слишком поздно, Она давно вычеркнула меня из списка тех людей, которым позволено так поздно названивать и радоваться, услышав Ее сонный хрипловатый голос.
А еще у меня ремонт и новая жизнь, в которой я найду себя, в которой нет места безумным страстям и ревущему пламени – лишь ласковые танцующие золотые ангелы.
Я отодвигаю ногой телефон за границу очерченного свечкой круга. Я доедаю яблоко и кидаю огрызок в темный дверной проем. Хочется выпить, выругаться, заорать так, чтобы соседи проснулись. Я беру неровный кусок обоев, огрызок карандаша и начинаю быстро писать. Я пишу: Лейла. До тех пор, пока не гаснет свеча. Лейла. Лейла. Лейла. Лейла. Лейла. Лейла. Лейла. Лейла. Лейла. Лейла. Лейла. Лейла. Лейла. Лейла. Лейла. Лейла. Лейла. Лейла. Лейла. Лейла. Лейла. Лейла. Лейла. Лейла. Лейла. Лейла. Лейла. Лейла. Лейла.
Лейла. Лейла. Лейла...
Думаете, помогло? Черта с два!
Похожая на кляксу ночь густо падает откуда-то сверху, прижимает меня к полу. Я лежу на спине, руки раскинуты, в лопатку впивается что-то острое, но пошевелиться нет сил – сидит на мне сверху темнота, ладони холодные на плечи мне положила, бедра мои костлявыми коленями сдавила. Я закрываю глаза и стараюсь думать о хорошем. Это всё Юся. Он как-то сказал мне:
- Думай, пожалуйста, о хорошем.
О хорошем... Я плюю на устав новой жизни, основной принцип коего не думать о Ней. Все равно никто не узнает, а с собой я как-нибудь договорюсь. Я представляю, что не ночь навалилась на меня сверху – сидит на мне Лейла, прижимает весом своим к прохладному полу. И так сладостно становится от тяжести Ее, от пальцев нервных тонких в мои плечи впивающихся, от встречных движений бедер Ее. Я чувствую Ее запах, золотистые локоны ложатся мне на лицо, когда Она целует меня. Центр тяжести смещается – Она сбоку, на моей щеке Ее дыхание, Ее рука пробирается сквозь все препоны и преграды и ловит меня... У меня перехватывает дыхание, и сквозь стиснутые зубы прорывается то ли стон, то ли плач.
Я хочу прижаться к Ней так, чтобы почувствовать всю, увидеть Ее на ощупь, нарисовать на вкус... Я шепчу: «Лейла» и боюсь открыть глаза и увидеть темную пустоту.
...
- Юся, приезжай на новоселье! Моя квартира наконец-то готова к приему дорогих гостей!
Юся задумался. У него большая любовь. А в условиях большой любви очень трудно найти время на осмотр чьей-то квартиры. Пусть даже после великого ремонта. Пусть даже квартира принадлежит не абы кому – очень близкому человеку. Большая любовь ревнует ко времени вне нее. Юся осторожно осведомился:
- Ты не обидишься, если я заеду ненадолго? На часок?
Я не обижусь. Я рада за него. Я, правда, рада, что его взгляд на меня из слегка влюбленного превратился в стабильно дружеский. Юся походил по квартире, оценил старинное кресло-качалку, на которое я ухлопала уйму денег, остановился около напольных часов с боем и уставился на стрелки – вляпавшись в большую любовь, начинаешь следить за минутами и везде натыкаешься на циферблаты. - Юсь, ты мне пообещал часок. Еще сорок пять минут. Прости, конечно, но факты говорят сами за себя.
Он еще раз взглянул на часы и кивнул:
- Да-да...
- Ну, расскажи.
Юся смущенно улыбнулся. Ее зовут Марина, она прекрасна, нежна и хладнокровна. Именно так – хладнокровна. Она как вороненая сталь. Опасна и тяжела. Юся поцеловал ее запястье и был счастлив безмерно. Я, шутя, уточнила левое или правое, он серьезно объяснил, что правое.
- Под моими губами бился ее пульс, а у меня кружилась голова. Понимаешь? С ней я чувствую себя мальчишкой. Краснею, как дурак. Боюсь ляпнуть какую-нибудь глупость...
Я слушала его и завидовала до слез. Шутила, стараясь не выдать себя. Юся! Ну почему именно ты?! Не сосед по площадке, не подруга, не симпатичный кареглазый мальчик из группы маркетинга, а ты, мой серьезный, рассудительный, разумный Юся сорвался в эту пропасть? А в том, что уже сорвался, я была уверенна на сто процентов – выдавали его беспорядочные жесты-взмахи и пепел на волосах – он посыпал им голову, заранее предчувствуя-предвкушая разлуку с той, чей пульс собирал своими губами. Юся стоял на пороге жуткого открытия: сколько бы времени он ни провел с ней, его будет ничтожно мало и беспредельно много. Он начал отсчитывать время уже сейчас, еще не осознавая этого. В нем включился невидимый секундомер, и замелькали на слюдистом табло быстрые циферки – пошел отсчет. Не важно пять минут или двадцать лет – все закончится, когда мигнет последний раз и погаснет зеленоватый дисплей. Обнимет ласково серое непрозрачное безвременье, и эти пять минут, двадцать лет или двадцать один день превратятся в один короткий миг твоей жизни, самый важный, который, в общем-то, и есть вся твоя жизнь...
И, несмотря ни на что, я отчаянно завидовала ему – один раз испытанное чувство пьянящего полета заламывало высокие цены, но, Боже, оно стоило того!
И не мог быть на месте Юси красивый мальчик из группы маркетинга – нет в его карих глазах этой решимости: камнем рухнуть, если придется, или взлететь, ломая-выворачивая крылья. Ровная не каменистая дорога приведет кареглазого симпатягу к ажурному замку, в котором играют на флейтах и пьют сладкое вино, поднимая тосты за любовь. И девушки или юноши в его постели будут нежны и терпеливы, заменимы и забываемы... И никогда не скажет он о них: вороненая сталь.
Юсин взгляд в тысячный раз коснулся циферблата напольных часов. Я улыбнулась и похлопала Юсю по руке:
- Иди уже...
Он для приличия помялся полминуты, сказал что-то о хорошем ремонте и, пробормотав смущенное «извини», ушел. Может быть, дежурить под ее окнами в надежде увидеть будто вырезанный из черной бумаги силуэт на фоне ярко-желтого квадрата.
...
Мне не помог ремонт и новая жизнь, кодекс которой я умудрилась нарушить не один раз. Изменились декорации, но здание старого театра, дощатый пол видавшей виды сцены, вытертый бархат портьер и кресла в зрительном зале остались прежними. Я могла бы переехать в другой город, в другую страну, сто раз поменять работу, гражданство, фамилию, выйти замуж или сделать пластику груди – все это ровным счетом никак не отразилось бы на молекулярном составе вдыхаемого мной воздуха. В нем витал запах фальши – ароматы чьих-то духов, цветов, пота, хлопка, льна и шелка, привкус страсти и страха, сквознячок цинизма, сигаретный и сигарный дым, пряные букеты изысканных вин и полынная горечь травяных настоев.
...
Ее голос был в изломах и линиях – японская игрушка-оригами.
...В последний момент, когда в трубке после нескольких длинных гудков раздался щелчок, меня парализовало от ужаса, что Полина обманула – дала первый пришедший на ум номер. Она презирала меня и вполне могла пойти на такое. Но, услышав спокойное «алло», я забыла о Полине.
- Лейла... – сказала я.
Трубка окаменела. Потом я услышала вздох – будто ветер коснулся степного ковыля.
- Это ты, - безучастно сказала Она.
«Ты нужна мне! Я без тебя не умею жить... Я ищу тебя в лицах, руках и звуках. Ведь ты - единственная линия ладоней моих...».
- Да, - ответила я.
- Ты хочешь мне что-то сказать?
«Только то, что я люблю тебя. Все остальное – бред, мираж, бессмыслица...»
- Все что с нами было... Это неправильно. Не так.
Ее голос с хрустом ломается, обозначая еще одним изгибом колючее крыло бумажного птеродактиля. Журавликов такими голосами не создают...
- С нами было? С нами? Детка, что-то было с тобой. Правильно, неправильно... Ты создаешь миры, ты их разрушаешь, мой маленький неопытный демиург. Позвони, когда сотворишь идеальный мир. А до тех пор тренируйся на ком-то другом. На Полине к примеру.
«При чем тут Полина?! Я люблю тебя!!! Ты стихия моя. В имени твоем моя суть».
Она ждет еще минуту, но мне нечего сказать – во мне много слов, но я не вижу нужных. Во мне раздражение, обида, злость – это не те чувства, с которыми признаются в любви. Во мне сарказм и холодная мятная насмешка. Я с силой отбрасываю от себя трубку – боюсь, что скажу что-то ужасное, что оттолкнет Ее от меня навсегда. Закрываю глаза, прижимаю к ушам ладони, стискиваю зубы – всё, я сам по себе существующий вид, отвалите все от меня, оставьте меня в покое!!! Я мысленно прокручиваю наш коротенький диалог: «Позвони, когда сотворишь идеальный мир...».
И тут я нахожу слова. Я хватаю трубку – стучат горошинами гудки, судорожно набираю номер, но Она больше не подходит к телефону. Лейла! Я знаю, что сказать: «Без тебя любой из моих миров никогда не станет идеальным».
Часть 4
Эй, кто-нибудь! Дайте на время пособие для начинающих демиургов! Я творец идеального мира для любимой женщины. Там должны быть апельсиновые деревья, белоснежные песчаные дорожки, алые розы, хрустальные озера. Там должны быть я и Она.
Бред какой-то.
Она не подходит к телефону. Иногда трубку берет Ее муж, иногда сын: «Нет, вы знаете, в данный момент ее нет дома. Передать что-нибудь?».
«Нет, спасибо, я перезвоню».
По номеру телефона я узнала Ее адрес – город (совсем недалеко от моего), улица, дом, квартира. Я могу в любой момент поехать на вокзал, прыгнуть в электричку (отправление каждые сорок минут) и через два часа сидеть на скамейке у Ее подъезда. Или, если хватит решимости, давить на кнопку дверного звонка.
Но в моем кармане нет подходящего стеклянного шара, из тех, что волшебники дарят послушным детям. Потрясешь его – и падает пушистый мягкий снег на маленькую уютную избушку со светящимся оконцем...
...
До Нового года еще полтора месяца, а прилавки магазинов, ларьки и лотки уличных торговцев вовсю пестрят елочными игрушками. У одного такого лотка я остановилась, увидев разного размера и содержания те самые пресловутые стеклянные шарики, которые дарят волшебники послушным детям. Шариками торговала толстая громкоголосая тетка в перевязанном крест-накрест пуховом платке. Тетка зябко переминалась на месте, сторожко цепляла взглядом черных глаз-бусин шедший мимо народ и зычно переговаривалась с сухонькой бабулькой, продающей шерстяные носки:
- Слышь, Андревна, у тя в носках шерсть-то, небось, нечистая? Разойдутся через неделю, и поминай, как звали!
Она раскатисто захохотала, заглушая робкие попытки Андревны защитить качество реализуемой продукции.
- Так, девушка, положьте-ка взад! – это уже мне. Я взяла один из шаров посмотреть поближе.
- Да я просто посмотреть...
Тетка забыла про старушку с носками и переключилась на меня:
- Взад, я говорю, положь! Ходят тут, товар руками трогают...
Бабуля с носками шершаво захихикала, будто оберточную бумагу смяла.
- Че лапаешь-то? Ты или бери, или мимо иди! – тетка уставилась на меня своими блестящими бусинами.
Я послушно положила шар на место. Эта тетка почему-то вдруг оказалась сильнее со своим рыночным хамством и этим панибратским тыканьем. На какой-то параллельной социальной лестнице в границах ее ареала она была на порядок выше меня в этой своей деловитой базарной хамоватости. А я, уже отходя от прилавка, подумала о том, что у этой грубой женщины наверняка есть какая-то своя правда жизни, и эта ее правда гораздо фундаментальнее и прочней зыбких очертаний моего мира. Примитивный список ее ценностей простой и четкий, как десять заповедей.
Я оглянулась – еще раз посмотреть на нее, она же, цепко ухватив мой взгляд, крикнула мне вслед:
- Ты чего конкретного ищешь? Так у меня сортимент широкий! Иди-ка сюда.
И опять я, будто под гипнозом ее басовитого голоса и колючего взгляда блестящих черных глаз послушно повернулась и подошла к лотку.
- Што ищешь-то? – благодушно поинтересовалась она, не переставая прощупывать взглядом толпу.
- Шар. Там должны быть апельсиновые деревья, белоснежные песчаные дорожки, алые розы, хрустальные озера.
Торговка воровато огляделась с видом бывалого фарцовщика, перегнулась через свой лоток и быстрым полушепотом сообщила:
- Есть. Дома у меня есть. Завтра вечером загляни. Вот адрес.
Я рта не успела раскрыть – она сунула мне в руку бумажку с адресом и, выпрямившись, заголосила:
- Игрушки новогодние, сувениры, дождик! Игрушки новогодние, сувениры, дождик!
Жила она в каком-то промышленном районе. Темным вечером я, чертыхаясь и утопая в грязи, с трудом нашла нужный дом. Фонари не горели, двор скудно подсвечивался желтыми квадратами окон и тонким серпиком молодого месяца. Что я тут делаю?!
Торговка открыла не сразу – судя по шорохам, доносившимся из-за обитой дерматином двери, она пристально разглядывала меня в дверной глазок. Через несколько минут раздался щелчок замка.
- А, ты что ли, - поприветствовала меня тетка.
- Здравствуйте, - я смело шагнула в прихожую. Меня накрыло плотной густой волной хорошо настоявшихся звуков и запахов – будто кто-то открыл перед моим носом кастрюлю с только что сваренным борщом. Где-то кричали дети, бубнил телевизор, слышался затяжной старческий кашель.
- Стой тут, - приказала торговка и ушла, оставив меня в неосвещенной прихожей. ЧТО Я ТУТ ДЕЛАЮ?! В безвоздушном коридорном пространстве под странную мелодию из ползущих со всех сторон звуков лезла мне в голову всякая жуть: картинки немощеных улочек средневековых городов и многолюдных рыночных площадей.
- Ежики зеленые, - донеслось откуда-то из-под ног. Я испуганно отпрыгнула в сторону.
- Кхе-кхе, - источник звука находился где-то под вешалкой, на которой беспорядочно громоздилась груда бесформенной одежды. Когда глаза привыкли к полумраку прихожей, я разглядела какую-то лежанку. Голос принадлежал выглядывающей из-под тряпья голове. Кому принадлежала голова – установить было довольно затруднительно. Я попятилась к двери, решив, что с меня, пожалуй, достаточно. Но тут в прихожую вышла тетка. Она прикрикнула на голову, которая тут же скрылась под тряпьем, и протянула мне большой стеклянный шар.
- Пятьсот, - деловито сообщила она.
В темноте прихожей невозможно было разглядеть содержимое шара, и я попросила включить свет.
- Лампочки нету, - хмуро пояснила торговка и недовольно кинула, - че там рассматривать-то: цветы, апельсины, дорожки энти... Я, слышь, покупателя-то не обманываю. Деньги давай, мне тут с тобой некогда лясы точить.
- Ежики зеленые, - глухо подтвердила голова.
Дома я достала добытый шар и, рассмотрев его со всех сторон, молча кинула в корзину.
Фантастический темно-фиолетовый пейзаж навевал мысли о неземных цивилизациях. Застывшая зеленая капля то ли лужи, то ли небольшого пруда. С неба падали какие-то синие хлопья... И еще – там не было апельсинов!
...
Юся научил меня бережно относиться к словам.
- Что-то ты не больно разговорчива, - сказала подруга, - ты изменилась и, надо сказать, не в лучшую сторону. Куда ты себя спрятала? Эй!
Она потрясла меня за плечи, думая наверно, что бывшая я выпаду откуда-нибудь, будто завалявшаяся в кармане монетка. Я улыбнулась. Не все люди достойны Слова. Очень мало людей достойны Слова. Моего Слова. Не шелухи, оскверняющей мои уста и слух ничего не подозревающего собеседника. Слова яркого, чистого, возникшего из переклички жаворонков в синеве над ржаным полем, из шума прибоя на рассвете, из детского смеха. Мне нечего было ей сказать. Я старательно избегала сора, а жемчуг хранила для Лейлы.
- Да, кстати, твой бывший все мне рассказал, - подруга прищурилась и пристально посмотрела на меня. – Всё.
Стало противно. Она будто обвиняла меня в чем-то – укор в голосе, насмешливая жалость в глазах, прямая осанка и вскинутый подбородок человека уверенного в своих подозрениях. Она резко подалась вперед. А меня на секунду оглушило ее запахом. Так пахнут знающие себе цену женщины. Так пахла Лейла. Морем, дорогим табаком, ванилью, ветром, жасмином, мятой, чистотой. Вплетался туда тонкий аромат французского парфюма и теплый запах нагретого солнцем камня.
- Ну и как это – с женщиной?
Я пожала плечом:
- Нежно. Чувственно. Органично.
Ее интересовал секс, а меня убивала любовь. Как странно – самое светлое чувство в мире порождало во мне сплошной негатив. Сделало меня отстраненной от всех. Я не смеялась над анекдотами, видя в них несусветную глупость и пошлость. По той же причине не вызывали слез романтические фильмы и книги. Лиргерои были скучны и пресны. А извечные женские сплетни из серии «кто с кем трахался» нагоняли сон.
Подруга задумчиво посмотрела на меня и вдруг предложила:
- Приходи в субботу ко мне. Тебе развеяться надо. Напьемся, в конце концов! Будет парочка интересных человеков. Она принялась перечислять «человеков», которые украсят своим присутствием party под названием Субботний бум. Признаться, мне было абсолютно наплевать на список гостей, да и на подругу тоже. Но отказываться было неудобно.
...
Субботний бум мало чем отличался от обычной квартирной попойки. Подруга познакомила меня с «Архитектором с большой буквы», с «Виолончелистом с мировым именем», с «Художником-модернистом» и с прочими представителями так называемой богемы.
- Кто вы? – спрашивали меня, - чем занимаетесь?
- Я беглец. Я учусь жить чужими страстями, не справившись со страстью своей. Я тень чьей-то тени. Но во мне не найдут долгожданной прохлады пересекающие пустыню караваны. Мной много дней растрачено впустую – уйма безликих календарных квадратиков без номера и названия.
Они не слышали меня. У каждого из них на одежде было много карманов, из которых они доставали стеклянные шарики остроумных правдивых историй. Архитектор с большой буквы с нетерпением поглядывал на Виолончелиста с мировым именем, который уж очень затянул занимательную историю о гастролях в Греции. У Архитектора с Грецией тоже было связано немало воспоминаний, которыми ему хотелось поделиться. Он ерзал на стуле и нервно улыбался, боясь пропустить то самое мгновение, когда Виолончелист закончит свое соло.
- А вы знаете, что многочисленные острова Греции были созданы Богом в последний день сотворения? Он бросил в воду горсть разноцветных камушков, - дождался своей очереди Архитектор.
Мое внимание привлек человек, ворующий привычки. Он молча наблюдал за присутствующими и у каждого изымал нечто, принадлежащее только ему. Через пару часов у него было с десяток чужих привычек:
он стряхивал пепел, как Архитектор, держа сигарету большим и указательным пальцами, средним аккуратно постукивая по ней; у Виолончелиста позаимствовал чуть приподнятую бровь и скептическое «Да?» при общении с незнакомыми;
Модернист постоянно ставил рюмку в центр салфетки, закрывая донышком рисованный тюльпан – и рюмка вора оказалась точно в центре; дама в накинутой на плечи шали лишилась права единоличного использования подрагивающих уголков губ при попытке взять высоту закрученного вопроса;
хозяйка дома так же не осталась без внимания – незнакомец взял у нее манеру теребить мочку уха во время разговора.
Какое-то время меня занимал вопрос, что же он мог перенять у меня. Я внимательно наблюдала за ним, стараясь не пропустить ни единого движения. Но вскоре занятие это мне наскучило – не было у вора моих привычек. Уж я-то узнала бы себя наверняка.
После, когда я рассказала подруге о странном незнакомце, она подняла меня на смех:
- Какая чушь! Он – Писатель. – Она сказала именно так «Писатель» - с большой буквы. – Он просто наблюдает за людьми и делает какие-то свои выводы. Запоминает характеры, нравы, ну и привычки конечно тоже. Профессия обязывает.
Но я почему-то представила себе дом Писателя, забитый сундуками с украденными привычками. Вечерами он, как старик Кощей, чахнет над ними, перебирает, сортирует, любовно раскладывает и осторожно примеряет...
- Да, кстати, у меня нет привычки теребить ухо во время разговора, - сказала подруга, пряча руку в карман...
Минуты пробивали в Субботнем буме сквозные дыры, в которые утекали голоса и табачный дым. Подруга раскатисто хохотала над шутками какого-то Пока неизвестного, но очень перспективного.
- Любой мир, существующий во мне, намного целесообразней происходящего вокруг меня, - негромко сказала я своим мыслям.
Подруга, подумав, что это шутка снова звонко рассмеялась. Криво улыбнулся Архитектор – он положил руку подруге на колено и выжидал положенное время. Она не возражала, и Архитектор, придвинувшись ближе, жарко и быстро зашептал ей в шею.
- Вот уж не думал, что встречу вас здесь. – Рядом со мной сел невысокий поджарый мужчина в черных джинсах и белом вязаном свитере. Его взгляд уже тронула зрелость, но внешне мало кто мог дать ему больше тридцати пяти. Наша встреча не была судьбоносной или жизненно необходимой. Она просто состоялась. Мы постепенно двигались друг другу навстречу. Из пунктов А и С в пункт В, как в задачке по арифметике. С разной скоростью, с разными целями, с разными остановками по пути следования. И вот однажды его день совпал с днем моим и накрыл меня своей тенью.
- Мы знакомы? – Я знала его, но не хотела сознаваться в этом. Меня ничуть не удивило его присутствие на Субботнем буме – у подруги тьма тьмущая всяких разных знакомых. Почему бы и ему не оказаться в их числе? Я не верю в случайности и совпадения, вполне возможно он намерено пришел сюда.
- Давайте погуляем? На улице чудный предзимний вечер. Снега еще нет, но в воздухе слышен такой легкий звон, знаете, от первого морозца, - он рассказывал про погоду так, будто приглашал меня в театр на хороший спектакль, который я не видела никогда, а он – десятки раз.
Я огляделась – Архитектор вполне уверенно обнимал подругу за талию, угощал ее оливками и заглядывал в глубокий вырез блузки. Художник-модернист в полной задумчивости разглядывал цветок нарисованный на бумажной салфетке. Виолончелист курил, стряхивая пепел в пустую тарелку.
Наш уход остался незамеченным – слишком пьян и весел был вечер. Этот вечер жил своей жизнью, подчиняя ее течению всех присутствующих. А у них не было ни желания, ни сил выбраться из странного водоворота.
Мы шли в звенящем воздухе, и звуки наших шагов взлетали вверх, как маленькие быстрые ракеты.
Он молчал – ждал от меня вопроса.
- Зачем вы нашли меня? – я угадала направление разговора – он чуть улыбнулся и развел руками.
- У вас есть время выслушать меня?
Я кивнула. У меня есть время. Сколько угодно времени. Сколько вам угодно, мой господин?
Мы разговаривали всю ночь. На улице, в кофейне, у меня дома. На рассвете, вымотанная этим длинным тягостным разговором, я уснула в кресле. А он укрыл меня пледом, выключил свет и ушел, неслышно притворив за собой дверь...
...
- Алло! Алло! Ну, ты, подруга, даешь! Ты куда вчера пропала?
Я посмотрела на часы – почти полдень. После ночи проведенной в кресле жутко ломило спину. Я попыталась выпрямиться и сморщилась от боли.
- Алло!
- Ну не кричи ты так. Привет, - вступать в диалог с подругой желания не было, но она на такие мелочи обычно внимания не обращала, а посему намеки были бесполезны.
- Тебя не учили прощаться перед уходом?
- Прости, ты была слишком занята общением с Архитектором, да и остальным было как-то не до меня.
- Надеюсь, у тебя хватило ума такси вызвать?
Я зевнула:
- Нет, не хватило. Меня проводил мужчина в белом свитере из твоей компании.
Подруга на секунду задумалась, затем уточнила:
- В белом свитере?
- Ага.
- В белом свитере... А звать-то его как?
- А никак. Его не звали. Он сам пришел. За мной.
Подруга хмыкнула:
- Новый хахаль что ли?
- Типа того.
- Ой, темнишь ты что-то, дорогая. Впрочем, в последнее время с тобой это часто случается.
- Ну да. Ладно, пока.
Я положила трубку и посмотрела на предмет, лежащий рядом с телефоном. Его оставил мужчина в белом свитере.
Часть 5
Я встретил Ее, когда моя юность, пресытившись доступной красотой, жаждала благородства и невинности. Раздвинутые ножки моих подруг не вызывали более священного трепета. Рты, тщательно очерченные яркой помадой, не манили к поцелуям. Это была передозировка женскими прелестями. И в этот переломный момент, когда я размышлял, какая же карьера лучше – финансиста или военного, появилась Она. Королева в плену дешевых ситцевых одежд. Милая студенточка филфака, боготворившая Шекспира и Бродского. Ах, эти бесподобные глаза! Я влюбился, как подросток. Весь мир остался где-то в стороне. Оттуда доносились обрывки фраз, и прилетали хлопья смеха, там звонили колокола, и пиликала скрипка, там жили люди, не познавшие любви. Так думал я.
Знаете этот миф о половинках? Я нашел Ее. Нашел свою половинку. Нашел себя, свою жизнь, смысл в ней. Нашел ручей в лесу и ромашковый луг. Нашел небо и землю. Обрел вселенную. Но оказалось это лишь половинка половинки. Она никогда не принадлежала мне целиком. Она вышла за меня замуж, родила мне сына, но и это не сделало Ее полностью моей. Она не растворялась во мне, как я в Ней. Какая-то часть Ее была ощутимо чужой и незнакомой. Будто запертая комната в большом доме – нет ключей, и взламывать глупо – пространство там, за дверью принадлежит не тебе. Покрывается пылью рояль, кренятся со временем свечи в тяжелых серебряных подсвечниках, выцветают обои... Но всё там, в этом неизведанном тобой мире терпеливо ждет кого-то другого. Третьего.
В этом почти невидимом, но все же ощутимом, как пыльца в воздухе, ожидании прошло семнадцать лет. Я никуда не отпускал Ее одну. Глупо, правда? Казалось, что тот – третий тут же улучит минуту и ворвется в ту самую запертую комнату. Впрочем, так и случилось...
То лето было непривычно сухим и пыльным. Ветер с Балтики не приносил прохладу – лишь вязкую душную влажность. Ночью простыни липли к телу, а в распахнутое настежь окно втекали лишь ленивые звуки улицы. Они слегка раскачивали занавески на окнах и, затихая, оседали на стенах и полу.
Все жили в ожидании грозы, но тучи проходили мимо, оставляя на обращенных к небу лицах тень какого-то тревожного предчувствия. Старуха-соседка, что смотрит сериалы и новости в мебельном магазине, потому что ей самой телевизор не купить, а детки не очень-то хотят раскошеливаться, сказала:
- Нехорошее лето. Беды будут.
Вытерла рот ладонью и, ткнув пальцем в сторону кустов смородины, подытожила:
- Ягода не родится. Жди беды.
И ушла в мебельный магазин за очередной порцией свежих новостей.
Тем странным летом Она поехала в Крым. Одна. Какая-то натянутость в отношениях, неприятности на работе, суматошность и усталость – мне нужен был отдых и одиночество. Она уехала в Крым, сын – на Байкал, а я, запершись дома, читал Кафку и слушал Вивальди.
Идиот!
Вернулась Она осенью. Задумчивая и какая-то опустошенная. Она рассказала мне все. Но еще раньше я с удивительной четкостью осознал, что появился он – тот самый третий, которого в последнее время ожидало всё в Ней.
- Я полюбила другого человека, - сказала Она, и мир под моими ногами дрогнул, - женщину.
- Женщину? – я рассмеялся. А что я мог сделать в тот момент? – Дорогая, никогда не замечал в тебе склонности к гомосексуальным отношениям.
Шутка, сарказм, насмешка – оборонительные шипы, о которые обязан уколоться соперник. Особенно в том случае, когда ждет откровенности на откровенность, когда его сердце открыто и беззащитно в этой своей наивной открытости. Она слегка наклонила голову и исподлобья посмотрела на меня. Этот новый рисунок лег на наши отношения безобразной карикатурой – никогда раньше Она не смотрела так. Удивление в Ее взгляде сменилось болью, боль – жестким холодным блеском. Я закрыл глаза, не в силах вынести этот чужой взгляд, глухо извинился:
- Прости. Я... Все это так неожиданно...
Я налил Ей кофе, себе коньяка и попросил рассказать все, как есть.
Девушка. Ее возлюбленная. Я старался держать себя в руках, смотрел Ей в глаза, успокаивал сам себя: «Тверже. Ты – мужчина. Не тряпка. Держись, осел!». Но пришлось поставить бокал на стол – дрожали пальцы.
Она назвала Ее Лейла. Придумала для моей жены какое-то непонятное имя, будто ярлык наклеила, а та легко согласилась с этим ярким восточным лейблом. Боже... Я не узнавал Ее. То, что я долгие годы принимал лишь за запертую комнату, оказалось сутью Ее. Я – понимаете, я! – отвоевав себе малую толику Ее души, почувствовал себя властителем Вселенной и оказался запертым в тесной темной комнате, навсегда лишенный Ее мира, бушующего снаружи...
- Ты бессилен, я люблю ее.
Да, силы покидают меня. Моя душа отправится за тобой, куда бы ты ни пошла. Ведь она принадлежит тебе. Она просочится, будто легкий аромат, через покровы мои, час за часом делая меня слабее и тише.
Но та, которая могла царить и властвовать в этом мире безраздельно, ушла. Исчезла. Испарилась. Оставив мне мизерный шанс вернуть любимую женщину.
Два с лишним года я пытался покорить ту вершину, на которой не был никогда. Безрезультатно. С течением времени Она становилась всё дальше. Прозрачнее и тоньше становилась ниточка некогда соединявшая нас. Но я не терял надежды. Все-таки у нас семья. Сын, удивительно похожий на Нее. И серым комочком гнездился во мне страх, что та, другая, осознав свою ошибку, появится на пороге нашего дома. На пороге моего краха.
Давно, когда я был счастлив, субботними вечерами, длинными и светлыми, как накрученная на палец прядь Ее волос, мы устраивали посиделки. Я готовил ужин, покупал бутылку хорошего вина, накрывал на стол, выключал электричество и зажигал свечи. Банально, не правда ли? Но пропадали все штампы, когда входила Она... В белом платье, волосы по плечам расплавленным золотом, мягкая полуулыбка и тысяча и одна ночь во взгляде. Мы не занимались ничем особенным: пили вино, шутили, слушали музыку, читали по очереди вслух, зимой выискивали созвездия, а летом в дымке белых ночей Она гадала по моим рукам и находила там себя. После Ее возвращения субботние вечера постепенно становились вязкими и глухими, словно вата, в которой тонули слова, а выражения лиц не менялись подобно гипсовым маскам. А потом и вовсе пропали. В нашей неделе не было суббот. После пятницы наступало воскресенье, с ним приходило похмелье и равнодушная усталость.
Наконец я дождался своей бури, которая принесла мне покой. Эта неопределенная болтанка последних месяцев настолько вымотала меня, что я жаждал развязки. Как читатель плохого детектива я догадался, что всех убил адвокат, но все же надеялся на какой-то авторский фортель в конце. Но, увы и ах...
Телефонный звонок однажды вечером между пятницей и воскресеньем. Безучастный голос жены:
- Это ты...
А после Она стала прежней. Почти. Хочешь, я буду любить тебя? Она смеялась и находила себя в линиях ладоней моих. Вернулись робкие субботние вечера. Она вроде бы стала моей. Но выдавал Ее задумчивый взгляд, задерживающийся порой на черной матовой пластмассе телефона.
Она старательно возводила шаткий карточный домик якобы прежнего мира, но хитро щурились короли и прикрывались веерами дамы, видящие изнанку происходящего. Один легкий щелчок – и полетит к чертям зыбкая постройка, порскнут в разные стороны и упадут рубашками вверх никому ненужные карты.
А я... Я радовался появившимся в начале серого дождливого ноября солнечным денькам. Знаешь, что зима возьмет свое, но все равно глупо надеешься, что завтра будет солнце, а столбик термометра вопреки всем прогнозам двинется вверх.
Какое-то время мы жили в этом странном, искусственно поддерживаемом мире. Будто два врача-реаниматора, мы пытались вдохнуть жизнь в тело, которое покинула душа. Душа нашего мира находилась где-то далеко. Наверно там, где находят приют души всех погибших миров. Надеюсь, она попала в рай...
Я плакал во сне, просыпался с мокрым от слез лицом. Что мне снилось?
...Милая студенточка филфака:
- Лилии? Это мне? Боже, какая красотища!
- Я люблю тебя, дорогая...
Она не слышит. Спрятала лицо в белоснежном облаке букета, шепчет что-то, целует шелковистые лепестки.
- Я люблю тебя!
Она смеется, смотрит куда-то мимо меня, а в глазах столько света, что, кажется, можно ослепнуть, встретившись с ней взглядом. Я оглядываюсь – позади какие-то люди. Лица размыты, силуэты смазаны. Кому Она улыбается? На кого смотрит ТАК? Где-то поет Челентано, звенит дверной колокольчик. Я поворачиваюсь к Ней, но передо мной пустота... Я пытаюсь выкрикнуть, выкинуть из себя Ее имя, но не помню его. И срывается тихим стоном с губ:
- Лейла...
Мне казалось, что я сошел с ума. Возможно, так оно и есть.
Как я попал на Субботний бум? Черт его знает. Позвонил товарищ, сказал - интересная компания, а мне надо было сбежать из дома. Я стал бояться субботних вечеров с их неизменными попытками придать окружающей фальши более четкие очертания, сделать краски насыщенней, а контуры уверенней.
Я поехал. В городе зашел в сувенирный магазинчик, купил хозяйке небольшой презент. Но я забыл о презентах, правилах приличия и прочих мелочах – войдя в комнату, я сразу же увидел ее. Женщину, которая разбила наш мир. Я не мог ошибиться. Стальной взгляд равнодушных ко всему на свете серых глаз, тонкие хрупкие пальцы, помнящие тепло кожи моей жены, белая ниточка шрама, пересекающая ладонь.
- Вот уж не думал, что встречу вас здесь...
- Мы знакомы? – спросила она просто так, ибо узнала меня так же, как я узнал ее.
Я не помню, о чем мы говорили. Кажется, я пригласил ее погулять. Мы долго бродили по холодным безлюдным улицам. Наши шаги отчетливо звенели в морозном воздухе. Я украдкой разглядывал ее – тонкая бледность узкого лица, падающая на глаза челка, очень худые запястья, едва заметный шрам на подбородке. Она нервно прикусывала нижнюю губу. Волновалась? Возможно. Она не смотрела на меня. Я был ей неинтересен. Не нужен. Нелепый персонаж, вписанный кем-то в ее пьесу. Но в любом случае персонажу отводилась определенная роль и реплики, прописанные в сценарии.
- Зачем вы нашли меня? – она, наконец, посмотрела в мою сторону – взгляд скользнул по пуговицам пальто, задержался на подбородке и остановился точно на моих зрачках.
- У вас есть время выслушать меня?
Она кивнула и снова стала смотреть под ноги – на хрустящий под подошвами мерзлый песок.
- Я хочу предложить вам сделку.
И тут она неожиданно рассмеялась. Я несколько растерялся – странность этой женщины затягивала меня в какую-то туманность, где я не мог точно определить, что правильно, что нет. Она погладила меня по плечу:
- Простите. Позвольте вопрос – а людские отношения могут складываться вне экономических понятий? Судя по всему – нет. Ну что ж, ваши условия? Диктуйте, монсеньор!
Мы остановились в свете уличного фонаря, который своеобразно подретушировал окружающий пейзаж и нас в нем. Ее смех, совершенно сбивший меня с толку, мелкими бисеринками рассыпался вокруг нас и заискрился в неверном фонарном свете. Я закурил, собирая в кучу разбежавшиеся во все стороны мысли.
- Ну? – теперь уже она внимательно и серьезно смотрела мне в глаза.
Неожиданно для себя я спросил:
- Ну что ты можешь ей дать?
Этот резкий скачок на «ты» перевел нашу беседу в несколько другую плоскость. В рыжем пятне искусственного света, казалось, остановилось время – колючие маленькие снежинки, не падая, висели в морозном воздухе, образуя между нами некое подобие звездной карты: точно мне в лоб целился безжалостный стрелец; жаркое дыхание злых гончих псов опаляло щеки; перебирала дева цвета белого серебра струны невидимой лиры...
- Дева цвета белого серебра? – она слегка приподняла бровь. Я не заметил, что произнес это вслух, - Да, вы правы. Цвета белого серебра....
Она вдруг озорно по-детски улыбнулась:
- А какого вы цвета, монсеньор?
- Почему вы называете меня монсеньором?
- Кто научил вас не отвечать на вопросы? – спросила она, не заметив, что мой первоначальный вопрос так и остался без ответа. Она тряхнула головой, откидывая назад челку. Снежинки, напуганные этим резким движением, которое так поразительно не вписывалось в тускло-рыжее безвременье, брызнули в стороны. Я невольно залюбовался ей.
- Так какого вы цвета?
- Цвета... – в ее глазах вспыхивали и таяли звезды. Эта женщина любит мою жену. Мало того! Притяжение между ними настолько велико, что меня выкидывает какая-то невидимая, но очень могущественная сила с этого отрезка ИХ пространства. Я нервно взъерошил волосы – есть у меня такая дурная привычка – и задал еще один вопрос, надеясь на ответ и одновременно очень боясь его. Проще было кружить вокруг да около этаким безвольным мотыльком, но крылышки наливались усталостью, и тянуло к земле.
- Зачем она вам?
Она удивленно вскинула на меня взгляд, затем отвела его и почти неслышно прошептала:
- Я без нее не умею жить
Я усмехнулся:
- Детка...
- Я не могу без нее, понимаете? – вдруг с жаром перебила она меня, - Она мой воздух. Заканчивается искусственный кислород воспоминаний. Мне нечем дышать. Мне нечем больше обманывать себя. Я перепробовала все. Вы верите мне?! ВСЕ. Каждая минута моего дня кричит о том, что в этой самой несчастной минуте нет Ее! У меня были другие женщины. Жалкая попытка заменить Ее кем-то... Ее невозможно заменить.
Да. В этом она была права. Эта тонкая девочка со взглядом, обращенным в прошлое пророчила будущее мне. Нет, это уже было моим настоящим. Мы с ней стояли на одной линии, в свете одного фонаря, но насколько громадная пропасть разделяла нас! Мне предстояло уйти, а ей остаться. Остаться с той, что так небрежно смешала наши жизни... Она дрожала.
- Я знаю здесь недалеко неплохую кофейню. Не откажетесь от чашечки горячего кофе?
Она молча кивнула, и мы, наконец, вышли из очерченного фонарным светом безвременья, и попали в реальный мир, в котором утомленную душу вполне можно было подбодрить благами цивилизации...
Мы зашли в теплый полумрак уютного кафе, сели за столик. Я принес кофе и пирожные. Она благодарно посмотрела на меня и легко улыбнулась. Значит, не все так плохо – раз ей еще удаются такие вот легкие мерцающие улыбки. Я попытался в ответ растянуть губы, но рот замерз, и по всей вероятности улыбка вышла кривоватой. Во всяком случае, она отвернулась и стала смотреть в окно.
- Вы любите Ее? – спросила она, внимательно разглядывая пустую улицу.
- Да, – зачем срываться в эпитеты и сравнения, когда и так все понятно.
Она кивнула:
- Наверно вы ненавидите меня.
Наверно...
- В том, что произошло, что происходит сейчас лишь часть вашей вины. Кто-то закрутил все так, что вы встретились. Какой черт понес вас в то лето на море?! – резко выкрикнул я.
Она вздрогнула, опустила плечи, сжалась вся как-то. Я испугался, что она заплачет. Мне в тот момент только слез не хватало. Но она не заплакала. Посмотрела на меня горько:
- Если бы вы знали, как часто задавала я себе этот вопрос... Конечно не тогда на юге. После, – она задумчиво усмехнулась, - Мы купались в море в чистой-чистой воде, я видела Ее всю. Всю до пальцев ног. До родинки на щиколотке. Такая прозрачная была вода. Я могла дотронуться до Нее. Я слушала Ее смех. Видела обращенные ко мне глаза. И я была счастлива. Так счастлива, что в какой-то момент подумалось: «Мне сейчас не жалко умереть»... Сегодня я часто это вспоминаю. И, знаете, в той мысли был какой-то толк. Человек, теряющий подобное, ломается легко, словно соломинка.
- А вы жестоки, - заметил я, - вы рассказываете мне о том, как любили мою женщину.
Она приподняла бровь:
- Вы сами вызвались на этот разговор. Нет? Кинули мне перчатку, - она снова легко улыбнулась.
От этой ее порхающей улыбки мне выть хотелось. Я всегда надеялся, что она не такая. Что мои шансы не столь низки, как кажется... Может быть, я рассчитывал увидеть вторую Полину. (Давняя знакомая моей жены, которая бывала в нашем доме довольно часто и, как мне кажется, была тайно влюблена в нее. Впрочем, возможно у меня паранойя... И во взгляде Полины не было ничего такого, что мне чудилось). Но, нет... Женщина, сидевшая передо мной, была амазонкой. Вороненая сталь. Беда моя. Будь мужчиной – говорили ее глаза. Я верил им и старался соответствовать. Улыбка ее сводила с ума, а взгляд обещал падение в пропасть...
- Перчатку? Я не вызывал вас на дуэль... Дуэли – удел мужчин, - я старательно играл роль, предписанную мне обществом. Не мог же я, как невротик, забиться в истерике: «Отдай Ее мне!!!». Она пила кофе, а я в очередной раз поразился хрупкости ее рук. С какой легкостью эти тонкие прозрачные руки разбили, казалось бы, нерушимый монолит моей жизни. Нашей жизни...
- Вы говорили о какой-то сделке? – она поставила пустую чашку на блюдце и достала сигареты.
- О сделке? Да... Позвольте, я провожу вас домой. Вы устали.
- Да, конечно. Мой мимолетный галантный кавалер.
... И снова шли мы по пустынным улицам. Мерцали в темноте холодные безучастные воды Невы. Город спал и видел теплые летние сны. Мы шли молча. Она ждала, а я думал. Думал о той женщине, которой зримо не было с нами, но чье присутствие ощущалось так явственно, так реально, что казалось – поверни голову, и вот она – прямая, строгая, невероятно красивая и безумно желанная. Мы миновали темную арку, узкий мощеный дворик и остановились у подъезда.
- Так что о сделке?
- О сделке... Послушайте, - у меня разбегались мысли, - я... Наверно это неправильно...
Она внимательно смотрела на меня. На мои жалкие потуги быть мужчиной. А я чувствовал себя малолетним мальчишкой, у которого хулиганы отобрали воздушного змея и развлекались с ним на вершине зеленого холма. Я не мог ничего сделать... «Ты бессилен. Я люблю ее».
- Давайте поднимемся ко мне. На улице холодно. И закончим, наконец, этот тягостный разговор.
Я послушно зашел за ней в подъезд, поднялся по лестнице. Она открыла дверь в квартиру и пригласила меня войти. Внутри было тепло и пахло чем-то новым. Наверно здесь недавно был ремонт.
Мы прошли в комнату, она показала рукой на диван, сама привычно села в большое кресло-качалку, откинулась на спинку и, чуть покачиваясь, стала смотреть на меня из-под опущенных ресниц. Ну что, монсеньор? – говорил этот взгляд, - вы так и будете молча сидеть, искать и не находить подходящие слова? Зачем вы здесь?
Я разозлился на себя, на ее взгляд, на эту квартиру, которая ждала, всегда ждала вместе с ней мою жену; на напольные часы, безучастно дробящие пространство на минуты... Разозлился и заговорил.
Я говорил долго и жарко. Она молча слушала, не двигаясь, не перебивая меня. Легко и равномерно раскачиваясь в старом кресле. А я словно читал молитву, обращенную ко вселенной, ко всему миру, к женщине, сидевшей передо мной в кресле-качалке. Я видел в ней силу и склонность к роковой любви. В большинстве своем люди не очень-то стремятся прыгать в пропасть. Некоторые рискованно ходят по краю, осторожно поглядывая вниз, но свойственное им чувство самосохранения не дает сделать шаг, один-единственный шаг вперед – в пустоту, в ревущий навстречу ветер, в неизвестность. Остальным ближе блестящие елочные шарики своих стандартных мирков, в которых вся жизнь проста и понятна, словно нарисованная карандашом линия. Она не превратится никогда в ленту Мебиуса, и слава Богу.
- Мы с вами падаем. Поздравляю, - я даже пытался шутить, но она не улыбнулась. – Послушайте, я знаю... Я вижу, что вы любите ее. Более того, я, как это ни печально, знаю, что она любит вас. Я, в общем-то, проиграл. И готов уйти. Да мне больше ничего не остается... Но знайте, я просто отойду в сторону, но никогда не уйду навсегда. Я буду где-то рядом. И буду ждать ошибки. Вашей ошибки. А потом я верну Ее себе. Слышите?! Я верну Ее. Как и субботние вечера. Наши вечера...
Она перестала раскачиваться и, закрыв лицо руками, глухо сказала:
- Господи, как я от вас устала... Как я устала от себя. И от того, что мой мир не нарисованная карандашом линия...
Больше мы не разговаривали. Я стоял у окна и смотрел, как в город вплывает промозглый ноябрьский рассвет. Она, не двигаясь, сидела в кресле.
- Ну вот и все. Утро, – я повернулся. Она спала.
Я накрыл ее большим клетчатым пледом, который нашел в шкафу. Надев пальто, я сунул руку в карман и наткнулся на лежащий там предмет. Забытый презент для хозяйки Субботнего бума... Я развернул яркую бумажную упаковку, встряхнул подарок и несколько секунд смотрел, как осыпаются на белую дорожку лепестки цветущих апельсиновых деревьев, укрывая, словно снегом, алые розы и легко ложась на хрустальную гладь маленького пруда...
Я тихо вернулся в комнату, положил шар на столик около телефона и ушел, неслышно притворив за собой дверь.
...
- Боль и горечь в твоих глазах. Ты любишь Ее?
- Я без Нее не умею жить...
...
Сухопарый мужчина в черном пальто, белом вязаном свитере сидел на скамье в парке и смотрел в небо, нависшее над ним по-осеннему прозрачным флером.
- .... и ушел, неслышно притворив за собой дверь... Вот... Спасибо, что выслушали меня. Наверно мне пора...
Мужчина поднялся, взъерошил волосы и неспешно побрел по поддернутой первым ледком тропинке.
Седой старик долго смотрел ему вслед, улыбаясь каким-то своим мыслям. Затем достал из кармана цветной глянцевый квадратик, пробежал глазами по синей надписи на обороте снимка, перевернул, и ни к кому не обращаясь, а может, говоря со светловолосой женщиной на фото, прошептал:
- Лилит... Рано люди забыли о тебе... Рано... Сколько еще сердец? Сколько душ?
Он положил фотографию на край скамьи и ее тут же унес ветер, бережно прижимая к невидимой груди. Старик сложил перед собой сухие ладони, похожие на два древних пергамента. Сложил письменами внутрь, чтоб никто не смог прочитать их...
А питерский ветер середины ноября неожиданно отчетливо пах морем, знойным песком золотистых пляжей, нагретым камнем и высушенными ребристыми ракушками.
Часть 6
...Если отпить вина из ее бокала,
Вы заболеете ее любовью,
И долго еще целуя женщин,
Вы будете чувствовать
На их губах едва уловимый
Аромат ее дыхания и печали....
Елизавета Величутина
- Не включай свет.
- Но я ничего не вижу...
- А разве нужно что-то видеть? Чувствуй...
- Я хочу видеть тебя. Я так соскучилась.
Она не ответила. Ее пальцы скользнули по моей щеке, я дернулась, как от удара. Она стояла рядом и у меня кружилась голова от Ее запаха. От желания. Она положила руки мне на плечи и... да! ворвалась языком в мой рот, словно победитель в павший город. И несся к царю стольник с сеунчем, что город взят... И праздник был...
... и приятная тяжесть тела Ее...
... и влага на пальцах моих...
... и снова и снова как море...
... и встречные движения бедер Ее...
Я назвала Ее Лейла.
Я отпила из Ее бокала.
Я прыгнула ради Нее в пропасть.
The End.
Fueled by Johannes Gensfleisch zur Laden zum Gutenberg

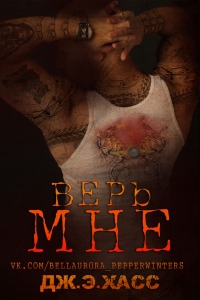



Комментарии к книге «Ветер середины ноября», Татьяна Евгеньевна Щербанова
Всего 0 комментариев