Хилари Норман Чары
МОЕМУ БРАТУ НИЛУ ПОСВЯЩАЕТСЯ
НЬЮ-ЙОРК 18 декабря 1968 года
1
Квартира была на Семьдесят четвертой улице. Снаружи было холодно и промозгло – моросил то ли дождь, то ли снег. Обычно в такой отвратительный вечер все стремились поскорее к домашнему теплу, но сегодня соседняя Амстердам-авеню и квартал к западу от Бродвея кишели людьми, целеустремленно сновавшими в поисках рождественских подарков или просто одержимыми предпраздничным весельем. С сумками, набитыми свертками, они спешили в бары, вываливались, раскрасневшиеся, на ярко освещенные улицы, ныряя под зонтики, и гнались за автобусами или ловили такси и, проворонив, шли пешком.
В углу гостиной квартиры Мадди, уютной и теплой, стояла залитая огнями чудесная рождественская елка. В другом углу Бинг Кросби заливался соловьем с экрана телевизора. Гидеон Тайлер смотрел на маленькую коробочку на обеденном столе. Перевязанная голубой атласной лентой, она была сделана из глянцевого белого картона. Он знал, что там внутри – улика, и что он не должен трогать коробку, но все же он взял и открыл ее.
Прошло несколько секунд, прежде чем он понял, что лежало в коробочке, рядом с запиской. На первый взгляд это было похоже на кусок материи, что-то вроде коричневой замши. Но когда он прикоснулся к этому лоскутку, он узнал. Ошибки быть не могло.
Дасти, такса, подаренная Гидеоном Мадди и ее сыну в День Благодарения, исчезла на прошлой неделе во время прогулки в Центральном парке с шестилетним Валентином и его приходящей няней, Дженнифер Малкевич. Дасти все время крутилась возле них, носясь по подлеску и обнюхивая кусты и траву. Потом она вдруг исчезла.
Теперь до Гидеона окончательно дошло – то, что лежало внутри, было куском собачьего уха. Коричневый шелковистый кусочек, который весело трепыхался на ветру и смешно подскакивал, когда бегала такса. Он был холодным на ощупь, а дно коробки намокло и слегка порозовело. Гидеон подумал, что ухо, наверно, было обложено льдом – или даже снегом.
Тело Дженнифер Малкевич всей тяжестью навалилось на кухонную раковину; кровь из раны на затылке все еще медленно сочилась на нержавеющую сталь. Чайник со снятой крышкой был зажат в ее правой руке. Дженнифер была высокой девушкой с длинной талией, и смерть швырнула ее вперед, словно сломав посередине; босые ноги бессильно касались носками линолеума пола.
Гидеон знал, что у него не было другого выбора, как только позвать полицию, но ему нужно было какое-то время, чтобы все хорошенько обдумать и вычислить свой следующий шаг, прежде чем они приедут, и он окажется под подозрением – по крайней мере, на несколько часов. Девушке уже ничем нельзя было помочь, и спешка все равно ничего бы не изменила. Другое дело – Валентин.
Еще до того, как он вставил ключ в замок, Гидеон знал, что ребенка нет в квартире. Сначала он позвонил – своим особым звонком, на который Валентин всегда бежал к двери – если, конечно, он не спал. Было уже больше десяти часов – время, когда большинство шестилеток давно дремали в кроватках, но малыш Мадди был полуночником – как и его мать, – редко когда засыпавшим до одиннадцати и поздно встававшим по утрам.
Уже испугавшись, Гидеон прошел во вторую спальню – комнату Валентина. Увидев, что она пуста, он замер на пороге. Страх спазмом свел живот. Дверь в кухню была закрыта; открыв ее, Гидеон почуял запах крови, дыхание смерти и увидел Дженнифер. Но не было никаких признаков ребенка.
Только ухо таксы – в маленькой коробочке. И записка – напечатанная на простой белой бумаге и адресованная Мадди:
Жизнь ребенка – за Eternité[1]
Мадлен пела – в кафе Лила на Второй авеню; ее короткие золотистые волосы мерцали, как нимб, в свете юпитеров – когда вошел Гидеон. Она пела от всей души и сердца, потому что только так она и умела петь: пела, зная, что позже – когда все закончится, – она сможет вернуться в свою скромную квартирку, которую изо всех сил старалась превратить в тихий, мирный и счастливый дом для Валентина. Конечно, она могла бы иметь несравнимо больше – миллионы долларов… В сущности, у нее было бы все, чего она только пожелает. Но Мадлен нужны были ее независимость и ее гордость.
И нежный шестилетний мальчуган с блестящими темными волосами и преданными большими темно-голубыми глазами был под стать ей.
Она пела «Yesterday», когда увидела Гидеона. Выражение его лица, угрюмость всей его фигуры, – она никогда не видела его таким прежде, – испугали ее. Мадди чуть не запнулась посреди музыкальной фразы, но заставила себя допеть песню до конца. Шепнула пару фраз сопровождавшему ее трио и быстро пошла прямо к нему.
– Валентин?
Он бережно взял ее под руку и вывел на свежий холодный воздух. При свете уличного фонаря он показал ей записку.
– Его похитили, Мадди, – проговорил Гидеон, слова застревали у него в горле. Он взглянул на нее – на ее милое прелестное лицо, на бирюзовые глаза, раскрывавшиеся все шире и наливавшиеся ужасом, и едва смог принудить себя продолжать. – И это еще не все.
За всю их дорогу домой она не проронила ни слова и ни разу не заплакала. Она только слушала, что ей рассказывал Гидеон – у нее не было слов, как не было слез. Она пережила столько горя и боли за эти годы, прежде чем поверила, что они с Валентином – в безопасности.
Сначала – собака. Теперь – ребенок.
Мадлен знала, что стояло за этим. Записка сказала все. Eternité. Приз высотой не больше четырнадцати дюймов, творение чистой совершенной любви. Она не видела его тринадцать лет, и в эту минуту с радостью разбила бы вдребезги, на десять тысяч никчемных кусочков, если б такой ценой можно было б вернуть Валентина домой. Приз, не стоивший и капли боли и страданий, которые он породил.
Как ничто не могло стоить их.
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ МАГДАЛЕН Швейцария
2
В ту ночь, когда она ушла из дома – два месяца спустя после своего шестнадцатилетия, – три желания неотвязно вертелись в голове Магги Габриэл: оказаться подальше от своей семьи, напасть на след Eternité, творения ее деда, и найти отца.
Ее самые ранние счастливые воспоминания были связаны с тем, как она сидела на коленях Александра, своего отца, нежно прижавшись к его груди, а он читал ей разные рассказики. Только это не были волшебные сказки, которые рассказывают своим малышам большинство родителей, а детективы, ужастики Дэшиэлла Хэммета, Джорджа Хэрмона Кокса и Рэймонда Чандлера.
– Еще, папочка, еще! – требовала Магги, если Александр вдруг закрывал книжку и делал попытку вернуть ее на полку, где стояли ее первые книжки и которую она еще не успела заполнить.
– Тебе давно пора в кроватку, Schätzli.[2] Мамочка рассердится на меня, если ты опять долго не сможешь заснуть.
– Я усну, папочка, усну!
Не то чтобы она внимательно следила за хитросплетениями интриги или по-настоящему понимала, о чем идет речь в этих рассказах, которые Александр придирчиво сокращал или переделывал, чтобы защитить нежные уши ребенка от становившейся иногда вдруг слишком суровой реальности и жестоких диалогов. Просто сердечко Магги замирало от напряженного драматизма происходивших там событий и от взволнованного голоса отца, и девочка ни на что на свете не променяла бы эти часы радостной близости к отцу, проводимые по вечерам в библиотеке.
Они жили в большом красивом доме на Аврора-штрассе – на легком живописном склоне Цюрихберга, одного из самых идиллических и изысканных пригородов Цюриха. Вилла, построенная в 1865 году прадедушкой и прабабушкой Магги – Леопольдом и Элспет Грюндли, – была уютно обставлена и начинена всем мыслимым комфортом, но Магги всегда немного подавляло ее размеренное великолепие. Конечно, ей нравился безукоризненно чистый задний дворик, но окрестные леса привлекали гораздо больше. При любом подвернувшемся удобном случае, возвращаясь из школы в одной из красных кабинок подвесной канатной дороги, сновавших над горой с утра до вечера, она сознательно проезжала мимо своей остановки и ехала дальше наверх, к утопавшей в зелени конечной станции. Там она бродила, радуясь мягкой сочной траве, льнувшей к ногам, сидела на упавших стволах деревьев, смотрела на птиц и смешных белок и кроликов и с наслаждением дышала свежим, изумительно вольным воздухом, и часто пела во весь голос. Это была свобода, о которой так мечтала Магги – потому что она никогда не чувствовала себя по-настоящему независимой дома.
Она любила петь; она была бы рада петь с утра до ночи. Магги знала, что у нее мелодичный красивый голос, хотя и немного хриплый, и сам момент пения и отпускания на волю мелодии делал ее счастливой. Она чувствовала тогда, что живет. Но пение дома было запрещено, и даже в школьном хоре ее постоянно одергивали, заставляя петь вполголоса и по установленному образцу – так, чтобы ее очень индивидуальная манера не бросалась в глаза.
Хотя прадедушка и прабабушка Магги умерли в двадцатых годах, а их дочь Хильдегард уже была замужем за Амадеусом Габриэлом с 1914, цюрихский «Грюндли Банк» продолжал финансировать семью и влиять на стиль ее жизни; и даже спустя многие годы после того, как их сын Александр женился на соседке, Эмили Губер, дом на Аврора-штрассе был по-прежнему известен местным жителям, коммерсантам, туристам и прислуге как Дом Грюндли.
В сущности, до того времени, как ей исполнилось семь лет, а ее брату Руди – четыре, девочка не чувствовала себя по-настоящему несчастной; было только безотчетное ощущение, что чего-то не хватает в ее жизни. Если бы Магги не была маленькой девочкой, если бы ей только позволили блуждать по тем местам Цюриха, которые она любила больше всего, – узким непарадным улочкам старого города, где она могла фантазировать все, что угодно… Она придумывала о людях, что жили здесь, самые невероятные вещи или просто пыталась представить себе, кто бродил по этим переулкам во времена язычников или в эпоху глубокой набожности, о которых узнала в школе. Она могла бы гулять по берегу озера и кормить лебедей, и она смотрела бы в ясный приветливый день на высокие горы – стань только все эти «если» реальностью, Магги была бы совершенно счастлива. Но когда ее бабушка или мать брали ее с собой в город, ей полагалось крепко держаться за их руку и чинно идти по Банхоф-штрассе, пока Эмили делала свои покупки. Магги ненавидела это занятие – в особенности, когда они покупали что-то для нее самой, потому что тогда ей приходилось стоять смирно в душной, тесной примерочной комнате, а взрослые – которые ничего не понимали в той удобной одежде, которую ей хотелось бы носить – притаскивали все новые и новые платья с жесткими накрахмаленными воротниками и, что хуже всего, с элегантными пугающими пиджачками.
– Посмотри, в этом ты совсем, как маленькая леди, – говорила дочери Эмили, но в голосе ее слышался легкий упрек. По мнению Эмили, Магги была небрежной и неаккуратной в манере одеваться, и это служило предметом постоянных огорчений матери.
– Но оно мне жмет, – возражала Магги, ее голосок звучал нерешительно, потому что она знала: за этим мог последовать более ясно выраженный укор в дурном вкусе и дурных манерах.
– Спасибо, мы берем его, – говорила продавщице Эмили, словно дочь ей ничего не ответила, и щеки девочки начинали пылать от расстройства, но она уступала, молча поклявшись себе, что никогда не наденет ненавистное платье.
Но больше всего доставалось волосам Магги. Именно они были объектом самого сильного и постоянного недовольства Эмили и Хильдегард. Магги была свободолюбивым и своенравным ребенком, и ее непокорные золотистые кудри, казалось, были отражением ее порывистой натуры, и даже тщательно убранные с лица и укрощенные на первый взгляд косичками, они все равно выбивались наружу – неважно, как туго пытались их заплести каждое утро. Но чаще всего им помогала в этом сама Магги – расплетала и зачесывала их назад, так, как было для них естественно, и они становились похожими на неистовый золотой нимб. И тогда Магги наказывали – словно за какой-то настоящий смертный грех.
– Пока ты предпочитаешь казаться дикаркой, Магдален, – говорила ей Хильдегард (ее всегда называли полным именем, когда ругали), – ты не можешь рассчитывать на то, что тебя посадят за стол с приличными людьми. – И Магги отправляли наверх в ее комнату, куда экономка, фрау Кеммерли, приносила девочке хлеб, ломтик сыра и стакан воды – и это было все, по крайней мере до тех пор, пока отец не прокрадывался к ней чуть позже, прихватив с собой шоколад. Он постоянно покупал его для дочери в ближайшей кондитерской.
От Руди, ее брата, Магги не приходилось ждать поддержки. Он был слишком маленьким и слишком хорошо себя вел, и только досаждал Магги своим послушанием. Часы, которые она проводила с Александром, отцом, ее любимым папочкой, были ее сокровищем. Но больше всего Магги радовалась, когда он брал ее с собой в горы, навестить Амадеуса, дедушку Магдален.
Амадеус Габриэл, будучи, как и его отец, ювелиром по роду занятий, истовым жителем гор и заядлым лыжником по призванию, перебрался из Берна, своего родного города, в Цюрих в 1913 году. Ему было двадцать два года. Вскоре он был уже просто одержим любовью к хорошенькой кокетливой девушке из известной и влиятельной семьи банкиров Грюндли. Хильдегард тоже влюбилась – в широкоплечего юношу с льняными волосами, и после стремительного и короткого периода ухаживания (по благоразумным стандартам Грюндли) они были помолвлены и поженились через год. Не имея особого пристрастия к ювелирному мастерству, переданному ему по наследству отцом, Амадеус, беспечный юноша с легким нравом, не возражал, когда родители жены предложили ему работу в банке. «Грюндли Банк» был, по общему признанию, самым большим частным банкирским домом, но он был устойчивым и почтенным. Леопольд Грюндли, которому было уже под семьдесят, по-прежнему правил Советом твердой рукой, и если он пожелал, чтоб для его зятя нашлось место в банке, никто не решился пойти против его воли.
Инвестиционный банк был основан в 1821 году отцом Леопольда и имел филиалы во Франкфурте и Нью-Йорке, но деловая сердцевина была в доме на Пеликан-штрассе, совсем неподалеку от Банхоф-штрассе, куда основной филиал банка переехал в 1872-м году. Хильдегард была единственной наследницей; одно только личное имущество семьи стоило целое состояние, и на стенах дома висели бесценные шедевры искусства – картины Рембрандта, Ван Дейка и Гейнсборо; большинство из них можно было увидеть в Большом Зале, где все служащие банка собирались каждое утро перед тем, как исчезнуть в своих респектабельных офисах, далеко не таких внушительных, как Зал.
Амадеус появился в банке в качестве ученика, которому платили зарплату. Его обязанностями было просто смотреть, слушать, учиться, а затем – как ожидалось – он должен был остановиться на каком-нибудь деле, которое ему больше всего по душе. Но подобное дело никак не вырисовывалось. Мир финансов и финансистов, от которого, как заметил юноша, у многих загорались глаза блеском восторга и возбуждения, стал его постепенно утомлять и раздражать. Еще хуже было то, что его молодая жена быстро перестала быть кокетливой – вместе с флиртом ушла и ее любовь к Амадеусу. Ее губы, казавшиеся ему раньше такими мягкими и нежными, и всегда готовыми к поцелуям, теперь были словно стиснутыми в узкую твердую полоску, и голубые глаза, обычно искрившиеся улыбкой, смотрели мимо или впивались в него с равнодушным мимолетным обвинением.
Амадеус пытался приписать перемену, происшедшую с Хильдегард, тому, что она была беременна, убеждая себя – может, она клянет свои утренние недомогания и тошноту и переносит раздражение на него. Весь период беременности был трудным, роды Александра, их сына, – мучительными и долгими, и врачи со всей определенностью сказали Хильдегард, что теперь ей опасно иметь еще детей.
Амадеус был просто на седьмом небе от радости, когда увидел маленького Александра. И еще он надеялся, что жена, оправившись после физических страданий, придет в себя и станет прежней; но девушка, которую он встретил и полюбил, исчезла навсегда. Они жили вместе в Доме Грюндли, терпя друг друга и не чувствуя себя особенно несчастными. Но сказать про себя, что они довольны жизнью, они не могли.
В феврале 1922-го, когда Александру было уже семь лет, Амадеус отправился на свой обычный зимний отдых в Давос. Он всегда ездил один, потому что Хильдегард была убежденной городской жительницей, стойкой в своих привычках, и недолюбливала зимний спорт. Амадеус останавливался в отеле Флуэла в Давос Дорф, просыпался рано утром, оборачивал свои лыжи тюленьей кожей и долго и упорно карабкался вверх на Парсенн, а потом скатывался с горы на лыжах с превеликим наслаждением. В отель он возвращался обычно только с сумерками. Но однажды в полдень он рано прервал свою прогулку – из-за неудачного падения, причинившего ему сильную боль. Амадеус прислонил свои лыжи к стене снаружи кафе Вебера и зашел внутрь, чтобы выпить согревающий глинтвейн.
Тогда-то он впервые и увидел Ирину. Она сидела за столиком у окна в углу комнаты, одетая в вишневый пуловер. Темная соболья шубка была накинута на ее плечи. Она сняла меховую шапочку, и ее волосы, подколотые наверх в мягкой французской манере, были роскошного насыщенного коричневого цвета. Большие темные глаза ее излучали свет, а щеки горели румянцем. На коленях, слизывая с ладони розовым языком маленькие кусочки пирожного с кремом, сидела лоснящаяся длинношерстная такса.
Амадеус оглянулся по сторонам и увидел, с безотчетным легким удовольствием, что все остальные столики были заняты. Он подождал еще минуту, внутренне собираясь, а потом направился в угол.
– Pardon, gnädige Frau,[3] – сказал он и поклонился. – Вы позволите мне сесть за Ваш столик?
Она кивнула, слегка улыбнувшись.
– Конечно.
Амадеус сел напротив нее. Такса зарычала чуть слышно, показывая зубы. После того, как официантка принесла ему его подогретое вино и кусочек шоколадного торта, Амадеус положил несколько маленьких кусочков на бумажную салфетку и предложил их собаке. Такса жадно съела все до крошки, а потом опять зарычала.
Женщина засмеялась. Смех был похож на звон колокольчиков – теплый, веселый и ободряющий. И Амадеус понял, что никогда еще не был по-настоящему влюблен.
Ее полное имя было графиня Ирина Валентиновна Малинская, и родом она была из Санкт-Петербурга. Она бежала из России от Красного террора в 1918-м вместе со своей сестрой Софьей и прелестной таксой, которую звали Аннушка. Отец девушек был убит а уличной перестрелке, мать умерла от родов за много лет до этого. Молодые женщины отправились сначала в Финляндию, пожив какое-то время в Териоки, потом двинулись дальше в Стокгольм, а оттуда – в Париж, прежде чем приехать в Швейцарию. Софья, у которой врачи обнаружили туберкулез, лечилась здесь в одном из самых известных санаториев Давоса.
– Как чувствует себя ваша сестра? – рискнул спросить осторожно Амадеус.
– Она умерла. Четыре месяца назад.
– Какое несчастье, – сказал он мягко и удивился, почувствовав, что на глазах у него навернулись слезы.
– Да.
Они сидели в кафе Вебера уже два часа. За это время одежда Амадеуса успела высохнуть, но он заказал особым образом приготовленный большой бифштекс – не столько для себя, сколько для Аннушки, надеясь завоевать одобрение и расположение таксы, чтоб она не рвалась домой к своей миске. Ему не хотелось, чтобы Ирина Малинская встала и ушла; он боялся, что никогда больше ее не увидит.
– Вы сейчас живете в Давосе? – спросил ее Амадеус.
– Да, – ответила Ирина. – Я останусь здесь навсегда.
– Это – очаровательное местечко.
– Правда? – обронила она.
Они говорили на французском, языке русской аристократии и на одном из трех языков, распространенных в Швейцарии, и Амадеус удивлялся ее искренности и непринужденности в обращении с незнакомцем. Словно она почувствовала – с первой минуты, когда увидела его, – что может доверять Амадеусу Габриэлу. И еще – как будто это не имело особого значения, если она ошибается.
– Я сохранила за собой комнату, которую сняла в санатории – в последние месяцы жизни Софьи, когда мне нужно было быть рядом с ней. Этот санаторий больше похож на отель, чем на клинику.
– Но теперь… – Амадеус запнулся.
– Потом, – продолжала Ирина, – я собиралась вернуться в Париж.
В первый раз она показалась задумчивой.
– Я обожала Париж.
– Тогда почему же Вы остались здесь? Пожатие ее плеч было легким, но красноречивым, понятное без слов, оно заставило сердце Амадеуса похолодеть от скорби и жалости – к ней и к самому себе, он вдруг понял: он только что нашел Ирину и уже потерял ее.
Они были одержимы друг другом: Ирина, больная, но все еще сильная и энергичная, жаждала нормального человеческого общения, а Амадеус – любви, душевного тепла и страсти. Это началось там, в кафе, и разгоралось на Променаде: она куталась в свои соболя, а он – в радужный флер восхищения, фантазии и обожания. Ревнивая Аннушка требовала соблюдения этикета, решительно вклиниваясь между хозяйкой и незнакомцем с волосами цвета льна; и когда Амадеус ласковым и легким движением трепал ее по ушам, такса кусала его за палец, одетый в перчатку, и не давала им идти дальше, пока он снова не отходил от Ирины на почтительное расстояние. Они смеялись опять и опять, и их дыхание стыло невесомым облачком в морозном воздухе – но вот только дыхание Ирины часто перехватывало, и она начинала кашлять, и Амадеус был просто в отчаяньи. Но он не поддастся этому ужасу, он не позволит ей сдаться. Может, у ее сестры было слабое здоровье, но ведь Ирина – сильная. Он не может… нет, невозможно ее потерять.
Они встречались почти каждый день – обычно во время прогулок Ирины; это входило в курс рекомендованного ей лечения. Амадеус начал интересоваться и вскоре много узнал о туберкулезе и методах борьбы с ним. Санаторий не был таким уж малосимпатичным местом, говорила ему Ирина, – он куда лучше, чем подобные заведения в других странах. Еды было предостаточно – но всегда строго в одно и то же время, и повар не отличался полетом воображения. Говоря попросту, есть это было скучно. Что же касается самого лечения, то оно заключалось, в основном, в отдыхе и частом и длительном, и оттого надоедавшем, измерении температуры, и неутомительных прогулках – если она чувствовала себя сносно, и погода позволяла.
– Ты уверена, что нельзя гулять в такую погоду? – спросил ее как-то в полдень Амадеус, когда они бродили под мягко падавшим снегом вокруг катка в Давос Плаце.
– Нельзя! Так сказал бы профессор Людвиг, – ответила Ирина с огоньком в глазах. – Но уж я-то лучше знаю свое тело и свое настроение – куда лучше, чем любой врач. И вот что я скажу: если я не буду выходить наружу, когда захочу, я просто завяну.
– Но что они все-таки делают здесь для тебя? Кроме всяких запретов и советов? – хотел он знать. – Сдается мне, что вообще ничего – и ждут, что ты сама поправишься. Как они собираются тебя лечить?
– Нет уж, спасибо, – Ирина состроила гримаску. – Конечно, полным-полно всяких методов так называемого лечения – этих жутких медицинских штучек. Однажды они ввели Софье кровь бедных маленьких кроликов, зараженных туберкулезом от людей и коров. Теперь, я слышала, вакцину берут от черепах.
Она улыбнулась.
– Все это кажется таким диким – все равно что хвататься за соломинку, – она замолчала, и лицо ее помрачнело. – Когда Софье стало еще хуже, они сжали одно ее легкое в надежде, что оно сможет отдохнуть и поправиться. Они кололи ее опять и опять своими огромными иглами, только мучая Софью. Все напрасно.
Одна только мысль о том, что так же мучиться придется и Ирине, ужаснула Амадеуса. Он успокаивал себя разными словами, но суть их сводилась к одному – конечно, нельзя отрицать, что Ирина больна, и часто ее лихорадило под вечер и ночью, но все же по большей части казалось, что она чувствует себя сносно. Софье, должно быть, было гораздо хуже, даже на этой стадии; и то, что она все-таки умерла, еще ни о чем не говорит.
Но когда он сам побывал в санатории, настроение Амадеуса стало еще более подавленным. Как и говорила Ирина, это было совсем не леденящее душу место, и вся администрация и персонал были добры и милы с больными и навещавшими их посетителями – но сам воздух в этом заведении был пропитан страхом и бедой. В прошлом Амадеус побывал во многих больницах, и было немало неуловимых штрихов и флюидов, по которым он мог угадать боль и страдания, немую трагедию – но все же в обычных больницах большинство пациентов лежали там затем, чтобы их лечили, и они от этого выздоравливали. Здесь же, несмотря на атмосферу похвальной бравады, в которую играли Ирина и ее товарищи по несчастью, было слишком много мужчин и женщин, у которых не было ни малейшей надежды. И даже если они заявляли, что чувствуют себя лучше: кто – вслух, кто – просто всем своим видом, Амадеус понимал, что сами они никогда не верили тому, что говорили. Казалось, они стали полностью поглощены своей болезнью – постоянными разговорами о температуре, уродливыми маленькими склянками для мокроты, которые многие из них носили постоянно, а еще – последними слухами о том, кто умер ночью и кто попросил позвать священника.
Когда Амадеус вернулся назад в отель Флуэла, он был настолько потрясен и взбудоражен увиденным, что ему понадобилось несколько стаканов шнапса, чтоб хоть как-то прийти в себя и успокоиться. Ему едва удалось заснуть. Хотя Ирина и была не такой, как другие женщины в этом заведении, пропитанном неестественной атмосферой, сломившей их надежду и волю бороться, но искры жизни стали в ней гаснуть.
И он принял решение. Ирина должна покончить с санаторием до того, как он победит ее, убьет так же, как ее сестру. Он будет заботиться о ней вне этих страшных стен, в реальном мире. Конечно, он будет делать все, что решат врачи – но он может сделать для Ирины гораздо больше, чем все они, вместе взятые. Его любовь вернет ее к жизни.
– А как же твоя семья?
– Да, это будет для них нелегко, Хильдегард будет меня ненавидеть. Я никогда не хотел причинить ей боль… но ранена будет лишь гордость – не сердце. Она давно уже перестала любить меня.
– А Александр, твой мальчик? – ее голос был бережным, как мягкий легкий дождь.
У него не было ответа. И он не знал, как и где его найти, не находил и в бесконечных разговорах с Ириной, с тех пор, как сказал ей о своих намерениях. Ее чувства лихорадило: она была то в экстазе радости и благодарности, то вдруг почти теряла рассудок от стыда и вины. Она разделяла восторг и счастье, в котором Амадеус словно парил до сих пор после их первой встречи в кафе. И хотя он сказал ей, что женат и у него есть маленький сын, она уже не могла отказаться от его дружбы. Но оба они знали с самого начала: то, что предлагал Амадеус, и чего так желала сама Ирина – это было нечто большее.
Ее вина тяготила ее. Бремя было тяжелым, и лишь тлеющая обида на несправедливость и жестокость судьбы слегка смягчала это чувство вины. Ее детство было беззаботным, и юность, хотя и была омрачена внезапной смертью матери, прошла среди веселья и любви. Все обожали девочек Малинских – они были такими красивыми, милыми, а иногда и смелыми. И им нравилось, что их жизнь полна чудесных развлечений. Но с усиливавшимся влиянием революционеров, а потом и властью большевиков рос страх, превратившийся в шок после смерти их отца. Потом было кошмарное бегство из Петербурга, и как только все эти ужасы стали слегка отдаляться в их памяти, заболела Софья. А теперь Ирина нашла этого человека – этого чудесного, необыкновенного мужчину, который любит ее – но благопристойность велит ей постараться отослать его от себя, к его жене и ребенку.
Благопристойность ли потерпела поражение, или Ирина не очень старалась – но в любом случае Амадеус был слишком влюблен, чтобы обращать внимание на что-то другое. Он был одержим Ириной – и своей потребностью быть с ней рядом, помогать ей, спасти ее.
Он бросил свою семью. Дело было сделано – однажды он совершил мучительное путешествие вниз в Цюрих и взглянул в лицо Хильдегард и ее внушавшим если не страх, то неуютное чувство, родителям. А потом он попытался, но безуспешно, объяснить маленькому Александру, что он любит его и будет любить всегда. Взяв большую часть из того, что принадлежало лично ему, он покинул Дом Грюндли навсегда. Его единственным глубоким сожалением был сын, но к тому времени, как Амадеус достиг Ландкарта, где должен был пересесть на другой поезд, он уже решил, что когда пепел их брака осядет на землю, он одолеет Хильдегард, и она позволит ему регулярно видеться с сыном. А сейчас он сосредоточил все свои мысли и чувства на той минуте, когда увидит Ирину.
Он посвятил себя устройству их жизни в Давосе. Никогда еще за свои тридцать с лишним лет он не чувствовал такого прилива энергии, такого ясного понимания цели. С финансовой помощью своего отца, жившего в Берне, Амадеус открыл ювелирный магазин в Дорфе, вернувшись таким образом к своему изначальному ремеслу с умноженным рвением – чтобы он мог отдать деньги, взятые взаймы в местном банке на покупку дома, где они будут жить с Ириной.
Это был маленький и скромный, если не сказать начавший немного ветшать, деревенский домик в долине Дишма, на нижних склонах Шварцхорна, с прочным фундаментом. Там была конюшня, и хранилища для зерна у задней стены дома, крошечные окошки со свинцовыми рамами и резной раскрашенный фриз под двускатной крышей.
– Ну как? – спросил он взволнованно, когда впервые повез Ирину посмотреть на домик.
Она смотрела, ничего не говоря.
– Тебе не нравится?
– Нет, – ответила она.
Разочарование так сильно сдавило ему горло, что какое-то время он не мог говорить. Он проклинал себя – каким он был дураком, что не показал домишко Ирине, прежде чем принять решение. Конечно, у себя в России она привыкла к размаху и роскоши, к нарядному красивому дому в городе и великолепной даче – в пригороде. Только потому, что он не обращал внимания на комфорт в Доме Грюнди, Ирина – графиня, в конце концов – должна согласиться на скромную деревенскую жизнь?
– Прости меня, – проговорил он с несчастным видом.
– За что?
– За мою тупость. У меня были такие планы – я увидел этот дом и сразу стал мечтать… я словно грезил наяву.
– Грезил? – перебила Ирина. – А теперь?
– Я не знаю, смогу ли продать… – продолжал Амадеус, зная, что это будет почти невозможно, но он знал и другое: он сделает все возможное и невозможное, чтобы сделать ее счастливой.
– Но зачем тебе думать о продаже? – спросила мягко Ирина.
– Ты сказала, что он тебе не нравится.
– Это так, – Ирина встала между домом и Амадеусом, пристально глядя в его глаза своими темными глазами. – «Нравится» – слишком обычное слово. Оно ничего не выражает, – она помолчала. – Я уже полюбила этот дом.
Он нахмурился.
– Ты говоришь это просто для того, чтобы мне было приятно.
Ирина улыбнулась.
– Это правда – я могла бы это сделать, если б было нужно – но сейчас ты ошибаешься. Я сказала тебе то, что думаю. Это – чудесный дом.
– Пока еще нет, – перебил ее Амадеус. Мрачность его испарилась, и легкость снова вернулась к нему во всей полноте. – Но клянусь тебе, он будет таким. Вот увидишь. Всего несколько месяцев – и он станет уютным.
– Я не хочу ждать несколько месяцев.
– Ну тогда недель – я буду работать быстрее.
– А почему мы не можем переехать прямо сейчас?
– Потому что здесь холодно и сыро, и нет для тебя ванной – ты ведь не можешь жить без ванной. И даже если б смогла, я б никогда тебе не позволил. Да и потом, здесь нет кровати.
Ирина засмеялась, все тем же серебристым, как звон колокольчиков, смехом, который покорил Амадеуса в кафе Вебера в середине февраля. Неужели это правда было всего три месяца назад, изумлялся он. Амадеусу казалось – он знал ее вечно.
– Я сделаю для тебя кровать, – заговорил он снова. – Для нас.
– Правда? – румянец на ее щеках стал еще гуще, и на этот раз краска на лице Ирины доставила ему удовольствие: он слишком часто боялся ее приливов как одного из симптомов болезни.
– Я смастерю ее из дерева, сам, но матрац мы купим вместе – он должен быть таким, какой тебе нравится… самая удобная кровать на свете, где ты будешь спать.
– Или где меня будут любить, – улыбнувшись, добавила она.
Амадеус работал днями и ночами. Монотонно текли дни в магазине между восемью утра и четырьмя часами пополудни. Но зато потом! Потом он закрывал дверь – неважно, оставались у него дела, или нет – и отдавал себя целиком дому и дорогим для него заботам, как сделать его для начала хотя бы сносным для жилья и необременительным для Ирины. Настолько, насколько он мог. Стоял август, когда он приехал в коляске, запряженной лошадьми, чтобы забрать ее из санатория в последний раз – и навсегда. А потом он повез ее в маленький домик и перенес через порог, понес вверх по ступенькам и положил на красивую, большую кровать, которую сделал для нее своими руками и украсил резными узорами.
– А ты не боишься? – спросила она тихо.
– Чего?
– Туберкулеза.
Ее глаза вдруг стали тревожными и грустными. Амадеус сел на краю кровати и взял ее руки в свои.
– За себя?
Ирина кивнула, без слов.
– Я боюсь лишь единственной вещи на свете, – ответил Амадеус, и его глубокий голос задрожал. – Потерять тебя.
Ее глаза наполнились слезами, но она по-прежнему молчала – только протянула ему руки. Он покорился этому объятию, лег с ней рядом. До этого дня они еще ни разу не были близки. Они оба мечтали об этом, чувствовали, как их тела томятся и жаждут друг друга, но его брак и ее жизнь в санатории стояли между ними. До этой самой минуты Ирина была прежде всего пациентом, пленницей своей болезни. И теперь она вдруг опять стала нормальным человеческим существом.
Женщиной.
Ее тело было таким бледным, что казалось полупрозрачным. Ей было двадцать пять лет – в расцвете своей физической красоты: стройная, с шелковистой кожей и хрупкая. Амадеус боялся близости с ней, он волновался, что в пылу своей страсти он может причинить ей вред – он был сильным мужчиной, и каждую секунду он думал о ее уязвимости. Но когда они начали целовать и обнимать, а потом касаться и ласкать друг друга, он почувствовал в ней волшебную перемену, увидел, как ее кожа замерцала бледно-розовым сиянием, тело напряглось под его пальцами, ощутил, как удивительная сила, жажда и легкость вливаются в нее.
– Je t'adore,[4] – сказала она, когда он впервые вошел в нее, стараясь сдержать себя, заставляя себя быть очень осторожным. Казалось, само сердце говорило ее голосом, и Амадеус вдруг почувствовал, что все его существо переполняет любовь – разве вчера б он поверил, что можно любить еще сильнее, чем прежде? И Ирина открыла ему всю себя без остатка, и начала двигаться в такт с ним, стараясь помочь ему, освободить от страхов, желая его неистовости, его желания, чтобы он забыл прошлое и будущее – все, кроме настоящего, этого мгновения, этого триумфа их любви.
Прежде чем забрать Ирину из санатория, Амадеус долго говорил с профессором Людвигом и другими врачами, как лучше всего ухаживать за ней. Поначалу они изо всех сил сопротивлялись, но напор его решимости и воля их пациентки победили их сомнения, и в конце концов все сошлись на компромиссе – раз в месяц Амадеус будет привозить Ирину на осмотр, вести температурный лист и записывать все изменения в ее состоянии.
– Нет, – сказала Ирина. – Я туда больше не поеду.
– Но это всего лишь раз в месяц. Только осмотр, дорогая.
– Нет, – ее лицо было решительным.
– Но я обещал им, что буду заботиться о тебе, – удрученно возразил Амадеус.
– Ты и так заботишься обо мне – так чудесно, что лучше не бывает.
Она взглянула в его встревоженное расстроенное лицо и заколебалась.
– …Ну хорошо, пусть они приезжают сюда раз в месяц, если им это так необходимо. Пусть стучат по мне своими молотками по спине и по груди, слушают шумы в легких, а я буду для них кашлять, а потом они могут уехать восвояси и оставить нас в покое, – она изобразила какое-то подобие улыбки. – Ну вот, не о чем больше спорить.
– А что если они не согласятся?
– Или так, или вообще никак.
Он рассчитал и строил главное – щедро освещенную солнцем террасу – чтобы такой важный для нее отдых не зависел от погоды, и она могла бы греться на солнышке и дышать знаменитым альпийским воздухом, будучи защищенной от ветра, дождя или снега. Ирина смотрела, как он работает, и один вид его, звук его голоса – когда он напевал или насвистывал что-то – без рубашки, строгая, стуча молотком и иногда прерываясь, чтобы взглянуть на нее и угадать по лицу, все ли с ней в порядке, или подходя, чтобы поцеловать ее в губы, – делал для нее гораздо больше, чем все эти месяцы, проведенные в санатории. Терраса была закончена, Ирина стала отдыхать на шезлонге, с Аннушкой на коленях, а Амадеус сидел рядом с ней, читая или глядя по сторонам, на дикую красоту, окружавшую их, или просто смотрел на Ирину. Как и обещал, профессор Людвиг приезжал каждый месяц, и казался вполне довольным. Но он не заговаривал о реальном улучшении. И что еще хуже, он никогда не произносил слов, которых так жаждал услышать Амадеус – что ее можно вылечить.
Конец лета принес удар, которого совсем не мог ожидать Амадеус. В лихорадочной спешке найти дом он не сообразил, что дом расположен в долине – с горой Якобсхорн спереди и Шварцхорн – сзади, и это означало, что большую часть зимы солнце будет находиться за этой естественной преградой. Жизнь в Альпах, не в сезон, только теперь начал понимать Амадеус, может быть беспросветно блеклой. Без отдыхающих – или наезжавших по праздникам туристов – Давос Дорф и Давос Плац теряли свое нарядное веселье и оживленность; здесь оставались только стоические, грубоватые жители гор и пациенты и персонал клиник. И что еще хуже, как начал бояться уже Амадеус, их дом, находившийся на порядочном расстоянии от маленькой дороги, петлявшей к Давос Дорфу, мог оказаться отрезанным, если вдруг повалит снегопад. Он думал не о себе – в конце концов, он здоровый и сильный мужчина, но Ирина! Ей нужны были тепло и солнечный свет. И еще – безопасность… Кто ей сможет помочь, если ей вдруг станет хуже, а дорогу завалят сугробы? Амадеус был просто в отчаяньи и злился на себя за свою тупость. Он хотел дать ей все самое лучшее, но чего он добился в итоге? Дом был сырым и холодным, и солнечная терраса оказалась бесполезной. Он потерпел поражение.
Ирина никогда не жаловалась, но в ноябре она схватила сильную простуду, и впервые с тех пор, как они встретились, Амадеус оказался лицом к лицу с жестокой правдой – с неумолимым доказательством, что она смертельно больна, как и говорили врачи. До этого момента весь этот ужас казался скорее абстрактным, до тех пор, пока Ирина вела себя благоразумно и Амадеус заботился о ней без ошибок, они могли жить, почти позабыв о существовании страшной ловушки. Но теперь его заставили прозреть, и он увидел – маленький дьявол просто спал в ее теле, дурача их своей временной пассивностью.
Лихорадка Ирины усилилась. Кожа стала нездорового пепельного цвета, а на щеках появились неестественные красные пятна. Глаза ее были влажными, но тусклыми, с залегшими под ними кругами; она потела и дрожала, у нее не было аппетита. Она часто страдала от приступов боли; она хрипло и мучительно кашляла, все чаще пряча платок от Амадеуса, но он знал, с нарастающим страхом, что она кашляет кровью. Профессор Людвиг рекомендовал отвезти ее назад в санаторий, и Амадеус с тяжелым сердцем вынужден был согласиться, но Ирина отказалась наотрез.
– Это только для твоей пользы, дорогая, – пытался он убедить ее. – Совсем ненадолго.
– Да, конечно… но вот только это не будет «совсем ненадолго», – с трудом проговорила она, и хрип в ее горле причинил Амадеусу невыносимую боль. – Ты же знаешь, милый – они никогда не выпустят меня оттуда.
– Я их заставлю.
– Ты не сможешь… а как только они начнут свои анализы и лечение, у меня уже не будет сил бороться с ними.
Ее глаза умоляли его.
– Это пройдет, mon amour,[5] если я останусь здесь. Она и слышать не хотела ничего о санатории, и Амадеус устроил так, что вежливый внимательный врач приходил через день к ним на дом. Амадеус, вне себя от страха, ходил туда-сюда снаружи под дождем, пока врач осматривал Ирину. Это были минуты полные почти нестерпимого кошмара – он был уверен после каждой очередной консультации, что сейчас услышит ее смертный приговор. Он винил, он клял себя за то, что подверг ее опасности, он готов был заключить молчаливую сделку с Богом или хоть с самим сатаной – с кем угодно, лишь бы тот согласился купить его жизнь в обмен на жизнь Ирины.
К Рождеству она оправилась – болезнь в очередной раз спряталась внутрь. Она похудела, но ее силы хотя бы отчасти быстро восстанавливались, и Ирина воспряла духом. Они вместе катались на коньках, взявшись за руки и смеясь – совсем как другие беззаботные пары на катке; они ели пирожные в кафе Шнайдера в Давос Плаце, романтично обедали при свечах в ресторане отеля Флуэла, ели сыр с белым вином в уютных маленьких городских ресторанчиках, а потом возвращались домой и предавались любви. Они даже катались вместе на лыжах с невысоких, покрытых снегом склонов, и Амадеус был благодарен судьбе больше, чем когда-либо… Он смотрел на нее иногда с мучительной душевной болью, пристально, долго, словно не мог напоследок наглядеться – он знал, что этот приподнятый, пронзительно веселый период их жизни вместе был взят взаймы, и неизбежна расплата.
Так они пережили самые тусклые зимние месяцы, а как только пришла весна, Амадеус и Ирина стали ходить на долгие прогулки, беря с собой и Аннушку. Такса крутилась у них под ногами, смешно подпрыгивая и заливаясь лаем, и Ирина улыбалась. Казалось, Ирина окрепла, и вместе с ярким весенним солнечным светом стала рассеиваться тьма и над ее жизнью, и она больше не желала страстно возврата старых петербургских дней. Она обожала горы, их дикую неистовую красоту, укрощенную летом, любила роскошное изобилие альпийских цветов, красовавшихся изысканными пучками цвета даже на самых суровых скалистых уступах; любила лежать на спине в высокой траве жаркими днями, отталкивая коврик, который Амадеус пытался подложить под нее – ей хотелось чувствовать, как стрелки травы гладят ей руки и щекочут ступни.
Как раз во время одной из таких прогулок она набрела на место, не так далеко от их дома, которое глубоко запало ей в сердце. И постепенно, незаметно, оно вдруг стало наполняться для нее особым смыслом – пока не превратилось в зримое совершенное воплощение победоносной красоты, которой осенил ее жизнь Амадеус. Это был водопад – просто маленький водопад, каких было множество в горах, и забреди сюда какой-нибудь беззаботный веселый турист, он, может статься, не обратил бы на него никакого внимания. Но Ирине он казался особенным, неповторимым. Он завораживал ее, и она словно во власти удивительных прекрасных чар подолгу смотрела на него, на это естественное непрекращающееся буйство движения, полное игры цвета, света и жизни. Массивная скала, напоминающая очертаниями гнома, нависала над водопадом, но тот не сдавался и не тушевался.
– Посмотри сквозь него, mon amour, – говорила она Амадеусу. – Смотри, как цветы отдают свои краски воде и искрятся в каскаде! Словно радуга ожила.
– Я вижу, – отвечал он, обнимая ее, и Ирина прижималась к нему, все еще глядя на бурлящую низвергающуюся воду.
– Везде так жарко сегодня, так душно, так… обычно, – сказала она, улыбаясь слабой улыбкой. – Везде – но только не здесь. Смотри… вокруг него такая свежесть и прохлада. Он такой прелестный… и такой сильный – я завидую ему… его вечности, его бессмертию.
И даже когда снова настала зима, водопад все еще завораживал ее и притягивал, как магнит. Даже теперь, когда большинство упругих струй повисли, не долетев до земли, искрящимися промерзшими иглами, Ирина грезила, что по-прежнему видит вечную непобежденную жизнь, чувствует ее биение внутри ледяных тенет. А когда неожиданно, в первые недели 1924-го, она заболела опять и стала слишком слаба, чтоб пытаться выйти наружу, водопад стал для нее еще и символом надежды – это была сила, которая так нужна была ей самой, чтобы жить.
– Принеси мне бинокль, – шептала она Амадеусу. Ее голос был хриплым – ее горло мучительно болело, и профессор Людвиг был бессилен помочь и облегчить эту боль. – Я хочу посмотреть на него… ну хоть ненадолго.
– Тебе нужно поспать, любовь моя, – убеждал ее Амадеус, но все равно в конце концов сдавался и приносил бинокль, передвигая ее шезлонг на самый край террасы. Оттуда она могла лишь видеть замерзший каскад, а не встать возле него, как прежде и чувствовать всем своим существом его живительную силу. Но Ирине были дороги даже эти минуты, и Амадеус не раз отворачивался, пряча набегавшие слезы.
Амадеус знал, что она умирает… На этот раз не будет ремиссии, и он знал – сколько б он ни молился, как ни искушал бы сатану взять его душу за жизнь Ирины, ему не победить болезни, которая, казалось, вдруг стала жадно и ненасытно пожирать Ирину. Никогда еще он не чувствовал себя таким беспомощным – теперь у него не было даже надежды. И глядя на мужество, с каким Ирина смотрела в лицо судьбы, в пропасть, которая со всей неумолимой ясностью отверзлась перед ней, он иногда удивлялся, что сердце его еще не разорвалось от такой бездны горя и боли.
– Что я могу для тебя сделать? – то и дело спрашивал он ее, словно пытаясь прогнать неизбежное вдруг загоравшейся искрой надежды.
– Побудь со мной, – всегда отвечала она.
– Я хочу быть возле тебя всегда.
Лишь однажды ее бледное, заострившееся, но все еще прелестное лицо исказилось страхом – словно жуткая мысль поразила ее и пробила брешь в ее самообладании.
– Qu'est ce que tu as, mon amour?[6] – спросил он. – Что случилось?
– Не отправляй меня туда, – ее голос прервался – Я не хочу умирать в санатории.
– Зачем ты так говоришь? Я ни за что не отдам тебя им, любовь моя! Здесь твой дом, здесь, со мной и с Аннушкой.
– Ирина мучительно боролась с собой, пытаясь приподняться хоть немного и сесть, и изобразить хоть слабое подобие улыбки…
– Когда я уезжала… когда ты забирал меня, они мне сказали… я должна вернуться перед концом. Они сказали, что сделают это более легким для меня… – ее голос снова прервался, и в глазах блеснули слезы, – …и что они смогут помочь мне побольше спать, чувствовать чуть меньше…
– Тогда, может…
– Non! Jamais,[7] – она слабым движением сжала его руки. – Я не хочу терять ни единой минуты, ни единой драгоценной секунды, когда я могу быть рядом с тобой. Ни одного мгновения.
Амадеус почувствовал, что его душат немые бессильные слезы. Он закрыл лицо ладонями, и они вдруг стали влажными изнутри.
– Спасибо, – прошептал он еле слышно, не в силах говорить.
– За что ты меня благодаришь?
– Ты подарила мне… ты показала, как нужно жить – и любить.
– Мы оба подарили это друг другу, – Ирина притянула к своим губам его руки и покрыла их поцелуями. – Если б ты не нашел меня, не увез оттуда… может, у меня было б еще несколько месяцев… Но это были бы месяцы, похожие на те, что я прожила до встречи с тобой. Тогда я была уже мертва много лет.
Губы ее задрожали.
– Я думала, что жизнь моя кончилась со смертью Софьи… после того, как они сказали, что у меня это… тоже… Но я не знала, что все лучшее еще впереди.
Такса, лежавшая на стеганом одеяльце возле кровати, вдруг заскулила, и Амадеус взял ее на руки и положил поближе к хозяйке.
– Бедная Аннушка, – вырвалось у него.
– У нее будешь ты, – сказала Ирина, а потом добавила мягко, – а ты? Что будет с тобой? После…
Он не ответил.
– Я знаю, – она заговорила опять, и ее слабый голос был полон жалости к нему. – Я знаю, каково это… каково было бы мне, если б ты первый…
Она замолчала. Ее дыхание было уже несколько дней совсем затрудненным, но сейчас оно было даже более хриплым, чем вчера.
– Но мне это поможет… если я услышу, что ты будешь жить.
Амадеус кивнул.
– Я буду жить.
Ирина покачала головой.
– Не так – не как живой мертвец. Обещай мне, что постараешься – ты будешь думать и хотеть…
– Чего, любовь моя?
– Жить, – сказала она.
На десятый день апреля Ирина, немного оправившись, попросила Амадеуса помочь ей спуститься вниз и выйти наружу на террасу. Это был чудесный день, солнечный свет пробился сквозь зимнюю застоявшуюся дымку, и дыхание свежей ранней весны проникало в деревянный домик.
– А не будет это слишком трудно для тебя? – спросил он осторожно.
– Мне это нужно…
– Тогда давай заключим сделку. Если ты выпьешь немного бульона, я отнесу тебя вниз на террасу.
Ирина почти ничего не ела уже несколько дней.
– Так я подогрею суп?
Она улыбнулась.
– Если ты настаиваешь…
Он покормил ее легким овощным супом с ложки, и ей удалось съесть половину тарелки, а потом она снова откинулась на подушки – чтоб отдохнуть, как сказала она, просто несколько минуток… Когда она проснулась, день уже клонился к закату, и он подумал – она, наверно, уже не захочет спускаться вниз до завтрашнего дня, но он ошибся. Ирина опять попросила его, и на этот раз она была настойчивой.
– Я хочу посмотреть на свой водопад, – сказала она, и в ее хриплом голосе была такая настойчивость, что он не смог устоять.
Он завернул ее в толстый плед и подхватил на руки, и сердце его упало и сжалось от муки – она была такой легкой, она весила едва ли больше маленького ребенка. И он понес ее на залитую солнцем террасу и положил бережно и заботливо на шезлонг, и посадил Аннушку ей на колени.
– Я принесу бинокль.
– Не сейчас. Подержи мою руку… немножко.
Он сел рядом с ней, взяв ее хрупкую бледную руку; он гладил ее щеки и нашептывал ей ободряющие, нежные простые слова любви и ласки.
– А теперь, – сказала она, – пожалуйста, принеси бинокль.
Она была слишком слаба, чтобы держать его самой, и Амадеус поднес бинокль к ее глазам и помог ей повернуть лицо в нужном направлении – чтоб она могла видеть то, что хотела.
И Ирина смотрела на далекий водопад, ставший еще победоноснее в лучах заката. А потом она отвела глаза от бинокля и посмотрела опять на Амадеуса, и ее прекрасные глаза наполнились слезами.
И она сказала ему в последний раз.
– À l'éternité.
До встречи в вечности.
3
Амадеус был просто раздавлен страшной утратой. Он чувствовал себя одиноким, как перст. Его единственной компанией была Аннушка, оплакивавшая на свой лад Ирину так же безутешно, как и ее новый хозяин. Амадеус не видел своего сына, Александра, почти полгода, его короткие визиты в Цюрих в последние два года становились почти невыносимыми из-за сурового присутствия – во время одного-единственного часа, когда ему позволялось побыть с сыном – его тещи, Элспет Грюндли, и Амадеус терпел, сколько мог, но все-таки сдался. После смерти Ирины он стал полузатворником: он работал по инерции, сидя на скамейке на задворках своего магазина. Он даже нанял местную девушку, чтобы та общалась с покупателями – сам он не хотел видеть никого.
Первый раз за все это время он покинул Давос, чтобы поехать в Берн на похороны своей матери. Через три месяца он уже хоронил отца. А когда прямо перед Рождеством, в этом же году, он узнал от Хильдегард, что ее родители, – оба, и Леопольд и Элспет Грюндли, – погибли в автокатастрофе, он заставил себя отправиться вниз, в Цюрих, на еще одно погребение. Александр – которому теперь уже исполнилось десять лет, и по крайней мере внешне он был более легко сложенной, худощавой копией отца – с такими же льняными волосами и живыми голубыми глазами – встретил его по понятным причинам отчужденно; но, к удивлению и благодарности Амадеуса, Хильдегард, казалось, почти сочувствовала ему. Но все дело было в том, что теперь, когда ее соперница была мертва, Хильдегард была готова развестись с ним. Конечно, глаза б ее больше не видели этого Амадеуса, думала она с обидой. Но вслух она сказала, что позволит ему приезжать на лэнч к Александру раз в месяц – если он хочет. Ребенок должен знать своего отца – даже если этот отец этого вовсе не заслуживает.
На следующий год, в один апрельский полдень, в Давос приехал адвокат из Цюриха, чтобы увидеться с Амадеусом по поводу последней воли и завещания графини Ирины Валентиновны Малинской.
– Моя фирма приносит вам извинения за то, что мы не сразу связались с вами, герр Габриэл, – галантно сказал седовласый адвокат, – но это было вызвано тем, что нам было необходимо удостовериться в подлинности завещания и убедиться, что не осталось никого в живых из ее родственников, как она и заявляла.
Амадеус побледнел и слегка задрожал.
– Может, мы присядем, герр Габриэл? – сказал гость сочувственно, увидев его шок.
Они все еще стояли перед входной дверью: Амадеус уже отвык от посетителей и позабыл – из-за тяжелых событий последнего времени – простые хорошие манеры.
Амадеус кивнул.
– Прошу вас, – он указал жестом на кресло, ближайшее к окну и взял шляпу и пальто адвоката. – Хотите чаю? Или что-нибудь покрепче – может, шнапса?
Он был несказанно удивлен. Ему никогда и в голову не приходило, что Ирина могла ему что-то оставить; они никогда не говорили о собственности за время их совместной жизни.
Адвокат согласился на шнапс – как ради своего удовольствия, так и ради Амадеуса.
– С вашего позволения я зачитаю вам завещание, герр Габриэл, а потом – если вы сочтете это удобным для вас в данный момент, мы посетим санаторий, где графиня была пациенткой.
– Зачем? – спросил резко Амадеус, потому что от одного только упоминания об этом месте сердце его сжималось от боли.
– Графиня Малинская и ее сестра абонировали сейф в хранилище директора санатория, герра Джагги. Мне необходимо, чтобы вы сопровождали меня – вы должны забрать содержимое сейфа и подписать кое-какие важные бумаги.
Амадеус одним глотком выпил свой шнапс; тот немного обжег ему горло, но придал сил.
– А вы знаете, что в этом сейфе?
Адвокат позволил себе неуловимейшую улыбку.
– Согласно завещанию я имею смелость полагать, что там находятся драгоценности семьи Малинских.
* * *
Драгоценности. Такое бесцветное слово для описания сокровища, что лежало внутри стального ящичка, который Ирина и Софья оставили герру Джагги в 1920 году, по приезде в санаторий. Рубины, изумруды, бриллианты и сапфиры… потрясающая коллекция – по любым самым придирчивым стандартам. Эти камни были просто ошеломляющими по их чистоте, и по размеру и качеству. Амадеус не мог поверить своим глазам. Ирина никогда и словом не обмолвилась о драгоценностях. Конечно, он понимал, что у нее должны были быть какие-то средства, чтоб оплачивать дорогостоящее пребывание в санатории и медицинские услуги. Но он считал, что это не его дело – расспрашивать, да и сама Ирина не говорила по этому поводу ничего.
Короткое письмецо с объяснением было вложено в конверт и положено вместе с драгоценностями в стальную коробочку. Драгоценности были частью коллекции ее матери – и это было все, что сестрам Малинским удалось вывезти тайком во время их бегства из России. Они завернули каждый камень в темно-коричневый, превосходный тонкий шелк и прятали их в своих длинных, густых волосах, специально украшенных разными шпильками и надежно подколотых наверх. Ирина писала, что ей пришлось продать несколько камней – еще тогда, давно, в Париже и Швейцарии, но особо ценная часть коллекции была в сохранности.
– Мне было велено подождать, пока вы откроете ящик, прежде чем отдать вам еще одно письмо, – сказал адвокат Амадеусу после того, как они зашли в его банк, чтобы арендовать сейф перед возвращением в деревянный домик. – Оно было послано нам в Цюрих вместе с завещанием графини, в начале 1923-го.
Ирина написала письмо вскоре после того, как чуть оправилась от сильной простуды. Оно было написано просто, скромным спокойным тоном, – но любовь ее сквозила в каждой строчке. Амадеус дал ей величайшее счастье и радость, какие она только знала в своей жизни, величайший дар, какой только мужчина может преподнести женщине, и Ирина хотела, чтобы ему остались все драгоценности семьи Малинских, кроме одного: роскошного, бархатно-зеленого колумбийского изумруда.
«Я надеюсь, что этот драгоценный камень когда-нибудь будет отдан моему очень дорогому другу, Константину Ивановичу Зелееву из Санкт-Петербурга. Ты, наверно, помнишь, мой любимый, что я часто рассказывала тебе о нем? Мы никогда не забывали, что именно он помог нам, сделал так, что мы с Софьей живыми и невредимыми спаслись из России. И теперь я всего лишь плачу малую часть неоплатного долга, в котором мы всегда были перед ним».
Ирина всегда молила бога, чтоб Зелеев – золотых и финифтяных дел мастер, ученик своего отца, который, в свою очередь, работал исключительно для Карла Фаберже, – благополучно бежал из России. Она оставляла свои адреса во время путешествия по Финляндии, Швеции и Франции и никогда не расставалась с надеждой, что в один прекрасный день он появится в Давосе и сделает ее счастье совсем полным.
Когда Амадеус немного оправился от шока, вызванного завещанием Ирины и ее изумительным посмертным даром, он стал более внимательно рассматривать драгоценные камни. В конце концов, он все-таки был ювелиром – и не таким уж и плохим, хотя и неопытным, но, правда, он никогда не испытывал ни малейшего восторга, а уж тем более страсти к своему ремеслу. И, конечно, он видел предостаточно драгоценностей – своей жены и тещи, и их друзей, и знакомых. Но никогда, никогда он не держал в руках ничего похожего на то, что лежало сейчас перед ним. И теперь это принадлежало ему.
Как всякий ничем не выдающийся ювелир, его отец тоже работал с довольно обычными драгоценными камнями – но он любил свое дело и понимал, что пути судьбы неисповедимы, и может статься так, что его сыну в один прекрасный день посчастливится держать в руках действительно выдающиеся, замечательные камни. И поэтому он сумел внушить сыну, учившемуся без особого энтузиазма, что необходимо знать хотя бы минимум об этом чуде природы и научил его неплохо разбираться в них. Амадеус никогда не видел кашмирского сапфира или рубина из Могока, но был абсолютно уверен, что сейчас они были у него перед глазами – во всей своей славе васильково-синего и кроваво-красного цвета. Здесь также были сверкающие бледно-голубым огнем бриллианты, безупречно и прихотливо ограненные, и поистине изумительный уникальный золотистый алмаз – в пятнадцать каратов и без единого изъяна…
Амадеус уже знал, что он сделает с этими камнями. Конечно, он хорошо понимал – продай он хотя бы малую часть этих сокровищ, и он будет богатым человеком. Но богатство его мало интересовало. Да и к чему оно ему в деревне? Ведь он никогда не покинет дом, где они жили с Ириной, никогда не вернется к жизни в городе. И у него нет ни малейшей тяги к путешествиям. Завещание родителей сделало его обеспеченным человеком, дела в его собственном магазине шли неплохо. И самое главное – разве годы процветания в доме Грюндли принесли ему счастье?
Он не знал, как начать. Его опыт в ювелирном искусстве был очень ограниченным и не мог подготовить его к выполнению задачи, которую он поставил перед собой. Задачи такого масштаба, что даже страшно было подумать. Но все равно – ничто не сможет его остановить. Он собирался сотворить памятник Ирине, и именно для этой цели он хотел использовать драгоценности Малинских – чтоб воссоздать в скульптурной миниатюре ее любимый водопад. Ее «Вечность».
Именно Зелеев, приехавший в домик в долине почти через два года после смерти Ирины, в феврале 1926-го, превратил абстрактную мечту Амадеуса во вполне конкретный и мощный творческий порыв и замысел.
Бесспорно, он был запоминающейся наружности – легче сложенным и ниже ростом, чем Амадеус, но сильным и энергичным, с рыжими волосами, зелеными глазами и густыми, но тщательно ухоженными усами над широким чувственным ртом. Узнав, что и Ирина и Софья умерли, он был потрясен и плакал, не стесняясь, и Амадеус, сердцем ощутивший безутешное горе тридцатипятилетнего незнакомца, был тронут и почувствовал себя с ним так легко и просто, как не чувствовал ни с кем со времени смерти Ирины.
– Я никогда не видел Софью, но мне кажется, мы оба любили Ирину, – сказал Амадеус бережно и проникновенно, когда русский наконец отер глаза. Первый взрыв чувств миновал.
– Я обожал ее, – глаза Зелеева были отстраненными и скорбными. – Никогда на свете не будет другой такой женщины. Даже подобной ей! Конечно, ее сестра была чудесной девушкой, но Ирина Валентиновна была…
Его голос дрогнул, и он замолчал.
– …сама радость и жизнь, – закончил он.
– Вы побудете здесь немного? – предложил Амадеус. – Если честно, именно этого она всегда хотела. И я сам буду рад вашему обществу.
– Спасибо.
Они были почти совсем непохожи друг на друга, но стали друзьями с первой минуты. Амадеус отдал Зелееву колумбийский изумруд и пленительный рубин и поделился своими надеждами и мечтами о сотворении скульптуры.
Константин вернул Габриэла к жизни. Он пошел с ним в горы, чтобы взглянуть на любимый Иринин водопад, а когда они вернулись, Зелееву было достаточно лишь беглого взгляда на пока еще сырые наброски, которые ему показал хозяин, чтоб понять, что видел в своих мечтах Амадеус. Была еще лишь середина зимы – время, когда жизненная сила и выразительная красота Альп словно затихает, блекнет, но Зелеев, похоже, заглянул в самую душу водопада, а когда еще и солнце пробилось сквозь пелену облаков и заиграло в струях каскада, увидел то, что видел Амадеус, и что видела сама Ирина – алмазы и сапфиры в причудливом танце полузамерзшей воды.
– Это возможно? – чуть позже спросил Амадеус, когда они пили горячий кофе в деревянном домике.
– Возможно?.. Да… но и чертовски трудно.
– Скажите мне, как.
Зелеев улыбнулся.
– Что мне сказать вам, мой друг… Вы – ювелир в маленьком городке. Конечно, есть здесь и поставщики высокого традиционного ювелирного искусства. Есть и сами ювелиры. Вот вы, например… Вы продаете обручальные кольца, ремонтируете ожерелья, вам заказывают выгравировать что-нибудь на этих обручальных кольцах – а иногда вы делаете пару сережек сообразно со вкусом клиента.
– Это правда – мои возможности ограничены.
– Между тем, у вас прекрасное воображение и решимость осуществить то, что запало вам в душу, – Зелеев сделал паузу. – Что же касается меня, то я – золотых дел мастер, и финифтяных тоже… но не простой, а, возможно, незаурядного таланта.
Он опять улыбнулся.
– Я не вижу смысла в ложной скромности, mon ami,[8] продолжал он. – Если б не большевики, я, может статься, поднялся б до высот Михаила Евлампьича Перчина – вы, конечно, знаете о нем.
Амадеус покачал головой.
– Просто человек, которому мы обязаны одними из самых выдающихся шедевров Мастера… Вы не слышали о нем? – Зелеев покачал головой, словно не веря. – Ну да это я так, к слову… Просто я хотел сказать, что вместе мы сможем – у нас есть все необходимое, чтоб создать шедевр из мечты, которая у вас есть. Но не радуйтесь раньше времени. Даже если это и так, и мы сможем начать работать, боюсь, мы часто будем блуждать впотьмах, прежде чем доберемся до конца, который нас обрадует и удовлетворит.
– Вы говорите – мы, – заколебался Амадеус. – Должен ли я понять это так, что вы готовы помочь мне?
– Вам никогда не удастся создать это без меня, – напрямую ответил Зелеев.
– Но ваш дом… Ваша жизнь?
Русский рассказал Амадеусу, что какое-то время жил в Лондоне, работая с известнейшими мастерами Варскими, прежде чем переехать в Женеву; а теперь, похоже, он решил отказаться от спокойного размеренного существования ради соблазна мечты, которая была даже не его.
– Я – художник, – сказал Зелеев. – Ваше воображение – изумительное, но не обижайтесь, если я скажу: мое – волшебное. Я посмотрел на ваши наброски и на сам водопад, и в голове уже нарисовал вещи, которые – еще раз прошу на меня не обижаться – вам никогда бы даже и не приснились: сама гора – из белого золота, с перегородчатой эмалью; рубины и изумруды, искрящиеся гроздьями на лике горы… чтобы передать краски лета. И филигранный каскад с прозрачной эмалью по рельефу, сквозь которую может сиять свет, переливающийся волшебной радугой бриллиантов и сапфиров среди горного хрусталя и сосулек из алмазов.
Амадеус словно потерял дар речи. Он молча и неотрывно смотрел на своего гостя, видел его зеленые глаза, искрившиеся возбуждением, и почувствовал, что месяцы – а может, даже и годы – которые раньше расстилались перед его глазами, как необозримая унылая бесплодная пустыня, теперь вдруг наполнились ощущением смысла и цели.
– Это будет трудно, друг мой, – сказал опять Зелеев, – но, я думаю, мы сделаем это, n'est-ce pas?[9]
– Ради Ирины, – сказал Амадеус, и на какое-то мгновение ему показалось, что он чувствует ее присутствие – здесь, в этой комнате, рядом с ним, и в первый раз за все два года он ощутил облегчение и некоторое подобие покоя.
Оба они понимали, что на это уйдут годы. Сначала нужно выбрать из драгоценных камней Ирины самые подходящие и продать остальные – чтобы купить материалы и инструменты, которые им были необходимы; сократить до минимума необходимую дневную работу в магазинчике Амадеуса, чтобы в оставшееся время заняться оборудованием совершенно новой мастерской и студии в его доме; сделать печь для сушки и обжига – чтоб изготовить первоначальную модель из глины, по которой будет создана, сотворена прочная золотая скала; соорудить кузнечный горн, где будет пылать неистовое пламя – необходимое для того, чтобы расплавить золото, а позднее, и для того, чтобы плавить и обжигать эмаль.
Когда они только начинали, пока Амадеус занимался организационными вопросами и работой в магазинчике и в мастерской, Зелеев ездил туда-сюда в Цюрих и Женеву, Париж и Амстердам. Там он выбирал и покупал материалы – с огромной тщательностью и придирчивостью. Он начал привозить кое-что из своих вещей из квартиры в Женеве. Чаще всего он захватывал с собой книги. Однажды он привез два романа – «Анну Каренину» и «Отверженных». Он признался Амадеусу, что даже не помнит, сколько раз он их перечитывал, находясь под бесконечно-ярким, непритупляющимся впечатлением от лиризма и глубокой трагичности обеих книг. Привозил Зелеев еще и одежду, очень элегантную и удобную. Это были костюмы из шелка, пуловеры из кашмирской тонкой шерсти, рубашки из чистейшего хлопка, которые сидели на нем, как влитые. Как-то раз Амадеус вернулся домой и увидел в комнате удивительные по красоте вещи – это были остатки прошлого, как называл их Зелеев, тайком вывезенные из России. Амадеус восхищался чудесным серебряным самоваром и, затаив дыхание, рассматривал две реликвии славных дней Фаберже: ящичек для сигар, украшенный красной эмалью, и покрытый гравировкой кинжал с рукояткой из нефрита с позолотой.
Амадеус был заинтригован своим гостем. Да и было отчего! Никогда еще Амадеус не видел субъекта с такой сложной, своеобразной, прихотливой и прямо-таки уникальной в своей противоречивости натурой. С одной стороны, Зелеев был утонченным и даже требовательным и капризным в своих манерах и привычках, и в высшей степени потакал своим слабостям и желаниям. Дважды в день он принимал ванну, нежась под струей теплой воды, слегка ароматизированной бергамотным маслом, которое он периодически покупал в Женеве; затем – также дважды в день – он подолгу брился остро отточенной бритвой, и обихаживал свои золотисто-рыжие усы маленькими острыми ножницами. Каждое утро (независимо от погоды) он занимался зарядкой на террасе почти с военным педантизмом и дисциплинированностью – прежде чем отправиться любоваться своей наружностью в большое зеркало с подвижной рамой, в которое никто не заглядывал со времен Ирины – у самого Амадеуса не осталось ни малейшего интереса к тому, как он выглядит. Зелеев хранил свои вещи на своих местах, спальня его была скрупулезно опрятной и чистой, и если на его кожаных ботинках ручной работы появлялась хоть малейшая полоса или пятнышко, он мог целых полчаса полировать их, пока они не засверкают опять безукоризненным блеском.
Но многое вдруг менялось, когда Зелеев работал. Как только будущее творение оказывалось у него перед глазами, он покидал реальный мир и оказывался совсем в другом – таком же далеком от скромного деревянного домика, как Санкт-Петербург от Давос Дорфа. Работая с драгоценными материалами и превосходными инструментами, он был доволен и сохранял изысканность манер. Но если вдруг чего-то не хватало или инструмент был неудобным для его руки, или Амадеус, его добровольный подмастерье в мастерской, не успевал мгновенно схватить то, что от него требовали, Зелеев тут же впадал в неистовую ярость и начинал швыряться чем попало – и часто в Амадеуса.
– Я не могу Вас понять, – протестовал Амадеус, сам доведенный до бешенства, что с ним редко прежде случалось. – Вы холите тело и лицо, словно вы – красивая капризная женщина, проливаете настоящие слезы, когда читаете все эти книги, будто вы молоденькая девушка, а потом рычите на меня и беснуетесь в моем доме, как раненый медведь!
– Со мной трудно, – спокойно допускал Зелеев.
– Трудно? Да кто вам это сказал? Вам, наверно, просто польстили. Да вы просто невыносимы!
– Я – гений, – спокойно заявлял Зелеев.
От алкоголя перемены были еще более разительными и драматичными. Зелеев не пил во время дневной работы – иногда вообще не пил по месяцу, но когда начинал, то это уж точно была водка, и всегда он пил, как дюжая лошадь. Такое зрелище с лихвой превосходило самые смелые и буйные догадки, которые могло бы предложить по этой части Амадеусу его воображение. К тому же – хотя Зелееву и требовалось какое-то время, чтобы изрядно опьянеть, обычно это случалось к середине его кутежа – он вдруг становился сильно чувственно возбужденным и решительным. Этот момент хотя и был связан с дозой выпитого, но не напрямую, и всегда был неожиданным и непредсказуемым. И тогда Зелеев вырывался из дома, как бык, и устремлялся в деревню, взнуздав старый опель Амадеуса или залезая в почтовый автобус, если таковой подворачивался, или просто топал вниз всю дорогу – ради неуемной потребности в женщинах он готов был стать пешеходом.
Чаще всего он оставался с носом, потому что женская половина Давоса охотнее поворачивалась к нему спиной – или, если хорошенько спровоцировать, отвешивала ему, не скупясь, изрядную пощечину, – нежели покорно сносила его приставания. И поэтому Зелеев отправлялся в какой-нибудь кабачок и продолжал там свой кутеж, пока не оказывался пьяным вдрызг, и Амадеусу приходилось доставлять его домой.
– Вам лучше пить во время поездок в город, – сказал он Зелееву после того, как однажды тот получил предупреждение от полиции. – В Давосе нет проституток, мой друг, и ни одна порядочная женщина не посмотрит на вас дважды в таком состоянии.
– Нецивилизованное место, – буркнул Зелеев.
– Если оно вам так не нравится, почему не уезжаете?
– Уеду, – пообещал Зелеев. – Завтра.
Но на следующий день, едва оправившись от крутого похмелья, он отправлялся в мастерскую и снова уходил с головой в работу, потому что чем больше затягивала его мечта, которой его увлек Габриэл, тем немыслимее казалось ему отказаться от нее. Константин Зелеев был человеком, чьим далеко не скромным амбициям был нанесен революцией в России жесточайший и резкий удар; теперь же он видел возможность достичь подлинного величия и признания, и, может, даже обрести бессмертие. Eternité, он был убежден, будет не только его лучшим детищем. Это будет самое выдающееся и неповторимое произведение скульптуры, которое когда-либо создавали человеческие руки.
Прошло целых полгода, прежде чем оба они остались довольны глиняной моделью, сделанной для начала. Теперь можно было рискнуть сделать первую из экспериментальных проб из самого дешевого металла. Они достигли почти совершенства, но потом случайно, по неосторожности, форма треснула. Зелеев пришел в бешенство, и Амадеусу едва удалось обуздать его прежде, чем русский смог бы разнести вдребезги глиняную модель.
– Вы сошли с ума! – он держал их детище высоко над головой – для верности. – Вы месяцы тратили на мельчайший штрих, на малейшую деталь, а теперь хотите шмякнуть модель об стенку, как пустую бутылку из-под водки!
– Да потому что я работаю с неуклюжим безруким уродом! – бушевал Зелеев, кипя от ярости и обиды. – Нет никакого смысла продолжать, если вы будете поганить совершенство, которое я пытаюсь достичь, своими корявыми, варварскими пальцами! Да у вас не руки, а молоток! Грабли!
– Вы сделали трещину в модели!
– Да только потому, что мне пришлось выхватить ее у вас из-под носа! Пока вы не успели испортить ее своим дурацким штрихом! Слава богу, я успел! Потому что вы – деревенский ремесленник, mon ami. У кузнеца больше искусства в прикосновении, чем у вас!
– А у вас – самообладание маленького ребенка! Я работаю с вами только ради Ирины!
Лицо Зелеева, и без того пунцовое от злости, стало багровым.
– Вы не стоите того, чтоб произносить ее имя! Ирина Валентиновна, наверно, повредилась в уме, когда заболело ее тело – если доверила вам свою жизнь! Позволила быть рядом с ней!
Амадеус сильно врезал ему в челюсть, но потом в ужасе отскочил назад. Он никогда не бил человека с тех пор, как ему было шесть лет, тогда его довел до этого мальчишка из породы обидчиков.
– Простите меня, – сказал он.
Русский медленно опустился на скамью и потрогал свою челюсть.
– Впечатляет, – пробормотал он, осторожно двигая челюстью, чтоб убедиться, что она не сломана.
– Мне нет прощенья, – Амадеус дрожал. – Я назвал вас невменяемым, а сам вел себя как животное.
– Я заслужил это.
– Нет.
Теперь Зелеев улыбался, хотя все еще озабоченно ощупывал лицо.
– Полностью заслужил. И не спорьте. Вы были правы, друг мой. И слава Богу, вы спасли модель.
Амадеус все еще сжимал ее в левой руке. Он держал модель мертвой хваткой даже тогда, когда бил Зелеева кулаком правой руки.
– Теперь можете поставить ее на место. Ей уже ничто не угрожает, – опять улыбнулся Зелеев.
Амадеус поставил модель на стол.
– Может, мы начнем делать другую форму прямо сейчас?
– А вы не слишком устали?
– Я никогда еще не чувствовал себя бодрее. Зелеев усмехнулся.
– Видите, борьба вам на пользу, мой друг. Тремя месяцами позже пассивная на вид гора, литая из белого золота, была закончена, и они готовы были начать обсуждать следующий этап работы. Опять Амадеус добровольно взял на себя роль подмастерья, и Зелеев терпеливо объяснял ему технику работы, называвшейся «самородок», – благодаря ей грубая невыразительная поверхность металла превращалась в восхитительный лик горы. Хотя Зелеев видел, как это делается, в России, сам он еще ни разу не пробовал применить свои знания на практике. Но он знал, что эффект будет потрясающий. Получится как раз то, что им нужно. Они должны попытаться – потому что ничто другое не сможет его удовлетворить.
Напряжение достигло просто кошмарных пределов, когда эксперимент близился к концу. Особенно много хлопот доставляло им то, что золото, которое они нагревали, должно было плавиться при строго определенной температуре – если, конечно, они хотели получить то, чего желали, а не бесформенную глыбу.
Придя просто в экстаз от результатов своей работы, оба они решили немного отдохнуть. Зелеев нуждался в заряде жизненной энергии, который он получал от своих поездок в город, а Амадеус все время помнил, что не видел Александра уже много месяцев. Они расстались в приподнятом настроении – русский предвкушал свою веселую жизнь в Париже, но, к радости Амадеуса, согласился опять начать совместную работу ранней весной.
Между тем, время шло, наступил уже конец мая, а Амадеус все еще с нетерпением ждал возвращения Зелеева. К середине июня он по-прежнему был один в своем деревянном домике, и только присутствие любимых зелеевских вещичек работы Фаберже давало надежду, что Зелеев может неожиданно вернуться в Давос.
Он приехал в августе, но отнюдь не извинялся и не объяснил ровным счетом ничего. Он выглядел больше помятым, чем посвежевшим, и Амадеусу стало ясно – по крайней мере последнюю неделю Зелеев провел в угаре дикой вакханалии.
– А я уж решил, что вы умерли.
– Как видите, нет.
– От вас не было ни строчки, ни одной весточки. Я ждал, что вы вернетесь в марте.
– А что, вы теперь моя жена?
Амадеус проглотил отповедь – потому что был рад, что Зелеев вообще вернулся. Дом, который до того вполне устраивал Амадеуса, после отъезда русского стал казаться неожиданно невыносимо пустым – он успел привыкнуть к своему новому другу, со всей его бешеной эксцентричностью. Да и потом, хотя он уже начал свыкаться с мыслью, что ему в одиночку придется заканчивать скульптуру, он с болью осознавал, что без Зелеева, без его мастерства и дерзости у него ничего не получится.
Когда они взялись за работу, Амадеусу досталась филигрань золотой нитью, она должна была служить основой каскада, а Зелеев тем временем экспериментировал с различными видами эмали – он хотел добиться, чтоб ни одна деталь скульптуры не бросалась в глаза и не разрушала общего впечатления от их творения. Когда они завершат Eternité, это будет магический мощный символ волшебства природы; и смотрящий на нее будет созерцать это уникальное произведение искусства с наслаждением – целиком, а не просто поражаясь совершенству и роскоши драгоценных камней Малинских или фрагментам, где будет использована прозрачная эмаль вместо французской перегородчатой.
Зелеев исчезал дважды, прежде чем была завершена работа – и оба раза со своей обычной внезапностью и безапелляционностью. Однажды в январе 1929-го он с Амадеусом катался на лыжах и сломал левое запястье. Оба они впали в мрачное, подавленное настроение, и им стало немножко полегче только тогда, когда пришло письмо из Цюриха – в нем говорилось, что Хильдегард позволяет Александру, которому теперь было уже четырнадцать, навестить Амадеуса в его собственном доме. Эта новость очень обрадовала Амадеуса, но потом он вдруг запаниковал.
– Я едва его знаю, – пытался он объяснить Зелееву. – Мой собственный сын – и как будто просто знакомый. Я приезжал к нему на лэнч… мы сидели за едой и часто даже едва находили, о чем говорить. А когда я почти знал, как разбить лед, разделявший нас, пора уже было вести его назад в этот проклятый дом.
– На этот раз все будет по-другому, – сказал ему русский. – Вы будете на своей собственной территории, и он увидит вас таким, какой вы есть – настоящий. А что? Из вас получился славный житель гор, вы здесь – как рыба в воде.
– Да я даже не знаю, хочет ли мальчик приехать сюда.
– Конечно, хочет. Из того, что вы рассказали мне о своей бывшей жене, mon ami, я понял – она никогда не отпустила б его сюда, если б он ее не умолял.
– Но почему он это делает? – спросил угрюмо Амадеус. – Он ведь уже не тот ребенок, каким был, когда я бросил его и его мать. Он уже достаточно взрослый, чтобы понять – это было предательство, и я знаю – он ненавидит меня за это.
– Может, он надеется понять больше – теперь, когда он стал взрослее. Может, он вырос настолько, что уяснит – Вы не тот гнусный предатель, каким он вас тогда считал.
Но Амадеус все еще казался встревоженным.
– Вы остаетесь? – Амадеус боялся, что Зелеев, которому наложили гипс в Париже, убежит в один из своих любимых городов – в неопределенно долгую поездку. – Может, в вашем присутствии Александр не будет так зажат и замкнут.
– Я могу его разочаровать. Уверен, его матери я уж точно пришелся б не по вкусу.
– Но вдвоем со мной он быстро заскучает… я скучный человек.
– Ирина Валентиновна никогда бы не полюбила скучного человека, – великодушно заявил Зелеев. – Если б ваш сын знал ее, он бы понял вас сразу.
– Но он ее не знал.
Потребовалось несколько дней, чтобы городская скованность Александра исчезла. Помог снег – Александр много лет мечтал о катании на лыжах, и Амадеус был в восторге, когда мальчик попросил научить его. Он не был храбрым, и ему было трудно совладать со своими нервами и не бояться, когда его лыжи спотыкались о неровности трассы; чаще всего он сам садился на снег, чтоб избежать падения. Но вольный воздух и счастливый смех других детей делали для него гораздо больше, чем все эти города и приморские курорты, куда его возила Хильдегард – когда на нее нападал такой стих.
Зелеев, как и надеялся Амадеус, как мог, помогал разрядить атмосферу, смягчить неловкости между отцом и сыном, и бедная Аннушка – тоже. Ей было уже двенадцать лет, и она слабела день ото дня. Такса, редко признававшая незнакомцев, без заметного усилия и мужества привязалась к сыну Амадеуса почти сразу, позволяя мальчику брать себя на руки и нести себя туда, куда тому вздумается. Она брала лакомство из его рук и выбрала его кровать местом для сна.
– У Вашего сына доброе сердце, – говорил Зелеев Амадеусу, когда они оказывались одни. – Он так нежен с Аннушкой – он даже никогда не сердится, когда она устраивает переворот в его комнате.
Один только факт, что такса была так дорога Ирине, удерживал русского от того, чтобы выбросить старую собаку на снег, когда становившаяся иногда вдруг очень шустрой, такса переворачивала его спальню.
– В Доме Грюндли никогда не было собаки, – объяснял Амадеус. – Как не было младших братьев и сестер. Александру не было о ком заботиться.
– Мне он нравится.
– Он от вас просто в восторге, Константин. И вы обращаетесь с ним как с равным – он никогда не видел этого в своем доме, – Амадеус покачал головой. – Это звучит горько, и я не имею права так говорить. Я бросил их ради Ирины, и Хильдегард имела полное право воспитывать его так, как считала лучшим для него.
– И у нее неплохо получилось, – заметил Зелеев.
– И она позволила ему приехать в Давос – за это я ей буду всегда благодарен.
Он заколебался.
– Но в Александре есть какая-то мягкость, которая меня тревожит – хотя я и не знаю, почему. Нет, мне гораздо больше нравится, что у моего сына нежное сердце, чем если б оно было суровым, но…
– Необходима некоторая доля твердости, чтобы выжить в далеко не милосердном мире, – закончил Зелеев.
– Именно так.
Зелеев улыбнулся.
– Вы не можете ждать, что что-то измените или вообще окажете на него большое влияние за три недели его пребывания здесь, mon ami. Считайте, что вам повезло, если он позволит быть его другом.
За два дня до того, как Александр должен был уехать назад, в Цюрих, Аннушка умерла во сне. С ее спиной творилось что-то не то, и Амадеус боялся, что ее парализует – рок, который висел над многими таксами. И хотя он видел, что Аннушка больна, ее неожиданная гибель глубоко его поразила; его боль была тем сильнее, что с потерей собаки порвалась еще одна зримая ниточка, связывавшая его с Ириной.
Александр был безутешен.
– Она лежала на моей кровати – я даже не заметил, что она больна.
– Она спала, – успокаивал его Амадеус. – Ты ничего не смог бы для нее сделать. Это самая легкая смерть. Все к лучшему – для нее.
– Как это – к лучшему? – вспыхнул мальчик, глаза его были полны слез. – Аннушка – мертва.
– Она была старой, Александр, – попробовал вмешаться Зелеев – Ей было больше, чем восемьдесят по человеческим срокам.
Они закопали ее возле деревянного домика, под серебристой елью, возле которой она часто летом спала. Александр настоял на том, чтоб самому выкопать маленькую могилку – задача была не из легких, потому что земля промерзла, и когда Амадеус положил собачку на место ее последнего успокоения, глаза мальчика были мокры от слез. Заплакал и Амадеус. Ему вспомнились скорбные, одинокие годы, которые он провел вместе с Аннушкой, и ту радость, которую она дарила ему. Александр опять заплакал. Когда все было кончено, и они вернулись назад в дом, он все еще выглядел бледным и несчастным.
– Мы все должны выпить, – сказал Зелеев.
Амадеус нашел бутылку абрикосового шнапса и налил немножко в бокал Александра.
– От этого тебе станет немножко легче.
– Но мама не позволяет мне пить алкогольные напитки…
– Ты никогда их не пил? – Зелеев сказал в изумлении.
– Так, почти что нет. Только каплю вина на Новый год. Но мне понравилось.
Амадеус посмотрел на бутылку водки, стоявшую в углу буфета, но потом подумал – лучше не провоцировать Зелеева на кутеж, особенно когда еще не уехал Александр, и налил обоим бренди.
– Давайте выпьем за нее, – сказал он, поднимая свой бокал. – За Аннушку.
– За Аннушку, – эхом отозвались остальные, а потом все выпили. Александр слегка закашлялся, когда от жгучего шнапса у него перехватило дыхание.
– Осторожней, – встревожился Амадеус. – Пей помедленней.
Мальчик отпил еще немного и посмотрел в бокал.
– Оно согревает, – сказал он и понюхал напиток. – Хорошо.
Он отпил еще, а потом опять поднял бокал.
– За Аннушку, – повторил он и неожиданно выпил залпом все остальное.
– Александр! – засмеялся Амадеус. – Не так.
– Тебе лучше? – спросил Зелеев. Александр задумался и облизнул губы.
– Немножко.
– Выпей еще, – русский встал, чтобы взять бутылку.
– Он опьянеет, – предостерег Амадеус. – Или ему станет плохо.
– Вовсе нет, – щеки Александра стали менее бледными, но голубые глаза все еще были скорбными. – Пожалуйста, Константин, – сказал он. – Налейте мне еще немножко.
– Тебе нужно попробовать водку, – улыбнулся Зелеев.
– Нет, – неожиданно голос Амадеуса стал твердым.
Тем вечером за ужином мужчины пили пиво, а Александр – только воду, но позднее, проснувшись на рассвете, Амадеус увидел свет внизу, спустился и застал своего сына сидящим на полу со стаканом бренди в руке.
– Господи Боже, что ты делаешь?
– А на что это похоже? – голос мальчика был немножко глухим, и слова звучали неразборчиво.
Амадеус взял у него стакан.
– Сколько ты выпил? – спросил он резко.
– Немного.
– Но почему?
– Я не мог уснуть.
– Это не выход, – Амадеус был расстроен. – Ты должен был прийти ко мне. Для тебя это плохо.
– Раньше ты говорил другое, – его голос был вызывающим и слегка сердитым. – Ты говорил – хорошо.
– Один глоток после похорон. Даже второй был ошибкой. И я никогда не говорил, что ты должен пить Branntwein.[10]
– Поначалу она жжет даже сильней, чем шнапс – но мне понравилось.
– Тебе может стать от него плохо. Ты слишком молод.
– А почему тебе должно быть до этого дело? – впервые за все время, прошедшее с его приезда, Александр выказал признаки обиды.
– Конечно, мне есть до этого дело.
– С каких это пор? Амадеус не знал, что ответить.
– Иди спать.
– Сначала дай мне допить, – алкоголь сделал его дерзким.
– Делай то, что говорит тебе отец.
Амадеус и Александр обернулись и увидели Зелеева, стоящего у подножия лестницы. Даже с перевязью на левой руке он выглядел щеголеватым и безукоризненно элегантным в своем шелковом халате.
– Иди спать, – сказал он мягко, и мальчик, неожиданно залившись краской стыда, встал на ноги и пошел наверх, немного нетвердо ступая по ступенькам.
– Не принимайте это близко к сердцу, – сказал Амадеусу Зелеев. – Утром у него в голове будет стучать молотком, и тошнота ему обеспечена. Он больше не будет этого делать наспех.
Хотя утром Александра и впрямь мучало похмелье и тошнота, к нему вернулись хорошие манеры, и он искренне и с видимой болью просил у них прощения – и у отца, и у Зелеева, а когда, на следующий день, все они стояли на платформе железнодорожного вокзала в Давос Дорфе, и он благодарил их за все, он говорил с настоящей неподдельной теплотой.
– Мне так жалко Аннушку, – проговорил он и протянул отцу руку. Амадеус колебался только долю секунды, а потом отдался своим чувствам и обнял сына, и благодарность захлестнула его, когда Александр ответил ему тем же.
– Пожалуйста, скажи спасибо маме за то, что она разрешила тебе приехать, – сказал Амадеус, голос его был хриплым от волнения. – Я напишу ей сам, конечно.
– А мне ты тоже напишешь?
– Если ты хочешь.
– Конечно, хочу! Очень.
Александр повернулся к Зелееву.
– И вам тоже спасибо, Константин. Как жалко, что у вас сломано запястье. Надеюсь, вы скоро поправитесь.
– Еще несколько недель – и будет полный порядок, – Зелеев тоже обнял Александра, и его зеленый глаз подмигнул. – Твой отец уверен, что я плохо повлиял на тебя той ночью.
– Так оно и есть, – вмешался Амадеус.
– Я не хотел огорчить тебя, папочка.
– А я уже забыл об этом.
Поезд подкатил к станции, остановился ненадолго, дав пассажирам выйти и зайти внутрь, а потом, без долгой проволочки, запыхтел дальше. Они махали друг другу рукой – Зелеев достал большой белый платок и размахивал им на прощанье. Поезд исчез из виду, и русский обернулся, чтоб посмотреть на Амадеуса, ожидая увидеть на его лице грусть. Каково же было его изумление, когда вместо этого он увидел настоящую радость и безоблачное веселье. Просто – хотя Зелеев и не заметил это – Александр только что назвал Амадеуса папочкой, впервые за семь лет.
* * *
Eternité была закончена двумя годами спустя, весной 1931 года. Им понадобилось пять лет, и они работали гораздо медленней по мере того, как работа близилась к завершению – частично потому, что уникальность их творения требовала особой осторожности и заботы. Но была и еще одна причина: оба они понимали, что как только скульптура будет окончена, у них не будет причин оставаться вместе. Несмотря на разницу в их характерах и стычки, которые продолжались, временами переходя во взрывы бешенства – как в мастерской, так и дома, – оба они полюбили друг друга. И Амадеус знал – он боится завершения работы, боится пустоты, которая придет ей во след.
Законченная скульптура стояла во всей своей красе, высотой в триста пятьдесят миллиметров, и Зелеев подозревал, что если б ее увидел сам Фаберже, он бы отверг ее – по сверхтребовательным меркам Мастера в ней был только одному русскому заметный изъян. Но все же Константина Ивановича Зелеева никогда еще не переполняла такая распирающая гордость и чувство удовлетворения – потому что Eternité, без сомнения, была именно тем, о чем он мечтал, и чем она должна была стать: изысканным, бесценным произведением искусства, сделанным безошибочной рукой настоящего мастера из бесценных материалов в едином порыве вдохновения, с любовью, мастерством и бесконечным терпением.
– Ну, что теперь? – спросил Зелеев в тот день, когда были закончены последние работы по отделке скульптуры, и оба они уснули в креслах в полном изнеможении.
– Я не знаю, – Амадеус почувствовал внутри пустоту. – Что вы собираетесь делать?
Зелеев пожал плечами.
– Уеду.
– В Женеву?
– Думаю, в Париж, – русский немного помолчал. – Париж, это – именно то, что мне нужно сейчас.
Он опять сделал паузу.
– Вы тоже могли бы поехать, mon ami, – сказал он через некоторое время.
Амадеус улыбнулся.
– Я так не думаю.
– Вы останетесь здесь?
– Только здесь мое место.
В сущности, они были посторонними людьми друг для друга, незнакомцами, которых познакомила и соединила вместе любовь к Ирине и общая цель. И теперь, когда их греза воплотилась в жизнь, различия в характерах, казалось, снова могли стать причиной обоюдного дискомфорта. Но, однако, ни тот, ни другой не хотели сделать друг другу больно; оба чувствовали, что взаимная привязанность останется надолго – даже если сейчас им придется расстаться.
– Что будете делать с ней?
– С Eternité? – Амадеус покачал головой. – Ничего.
Зелеев подался вперед в кресле, его зеленые глаза заблестели.
– Это – уникальное произведение искусства, mon ami. И даже великое.
– Хочется верить.
– Великие произведения искусства должны видеть все, друг мой.
– Да… если они создаются для этого, – Амадеус помолчал. – Но все, чего я хотел – это воссоздать Иринин водопад… во имя памяти о ней… использовать ее дар, чтоб воплотить наше видение в жизнь. И благодаря вам это нам удалось – именно так, как мы дерзали мечтать. Может, я и неправ… но мне не нужно, чтоб кто-нибудь видел ее – разве что мой сын… Я был бы очень рад, если б Александр взглянул на нее и понял, что мы смогли создать.
Зелеев молчал, но недолго. Потом он спросил:
– Вы позволите мне взять ее с собой в Париж?
– Нет, – Амадеус покачал отрицательно головой. – Мне хочется, чтобы она осталась здесь. Здесь ее место. Мне очень жаль, Константин. Простите меня.
– Но тогда мы могли бы свозить ее по крайней мере в Женеву, или в Цюрих – если это вам больше понравится. Нет, я хорошо понимаю, что драгоценности и золото – ваша собственность, mon ami. Но согласитесь, вы допускаете, и я в этом совершенно уверен, что львиная доля труда в создании скульптуры принадлежит мне. Что уж там говорить, я – отличный ремесленник. Но это не все. Я – еще, без сомнения, художник и, естественно, я хочу, чтоб мое творенье увидели.
Напряжение в комнате стало почти физически ощутимым, и между ними словно начала вырастать пока еще небольшая стена. Амадеус всегда думал, что Зелеев понимает и разделяет его чувства и намерения. Совершенство скульптуры, достигнутое их совместным трудом, не имело для него ничего общего с ее стоимостной ценностью или возможным публичным признанием ее высоких художественных достоинств.
– Я думал, что вы понимаете, Константин, что я чувствую, понимаете с самого начала… что такое для меня Eternité, – пытался он объяснить Зелееву. – Мне казалось, вы понимаете… это – моя сокровенная любовь к Ирине. Просто воплощенная память о ней. Это – очень личное, и не имеет никакого отношения к другим.
Русский встал с кресла.
– Я понимал это, – холодок закрался в его голос. – Но на нее ушли пять лет моей жизни – так же, как и вашей, мой друг. В нее влилась вся моя творческая сила, моя душа – не только ваша.
Амадеус в упор взглянул на него.
– Чего вы хотите? – не выдержал он.
– Совсем немного, – Зелеев сделал паузу. – Итак, это – моя лучшая работа. Из всего, что я сделал. Звучит не как пустые слова, не правда ли? И, я это чувствую, – самая прекрасная. Я также верю, что она может стать самой завораживающей, магической игрой фантазии, которая когда-либо была воплощена со времен исчезновения Дома Фаберже. И это тоже – не хухры-мухры, mon ami. Я не прав?
Какое-то время он поглаживал свои рыжие усы, и глаза его были подернуты дымкой.
– Я хочу, чтобы кто-нибудь – пусть только один человек, если это все, что вы можете мне позволить… но только пусть это будет человек, обладающий талантом и знаниями истинного ценителя, – мог взглянуть на скульптуру и вынести свой приговор.
– Что именно он должен оценить? Ее стоимость?
– Не смешите меня, mon ami. Вы отлично понимаете, что дело не в деньгах. На предмет ее совершенства, – голос и глаза Зелеева подчиняли себе Амадеуса. – Это все, о чем я прошу. Это что, очень много?
Амадеус не отвечал какое-то время.
– Нет, – сказал он наконец. – Но при одном условии.
– Каком?
– Анонимность, – он заставил себя прямо взглянуть на Зелеева. – Вы можете взять Eternité – как вы и хотите, и показать ее одному-единственному эксперту. Но вы не должны ни словом обмолвиться о ее связи со мной или с Ириной. Не должно быть ни единого слуха о драгоценностях Малинских.
Огонек иронии резко полоснул в зеленых глазах Зелеева.
– Позволено мне упомянуть мое? Мою заинтересованность в создании этого шедевра?
– Ради бога, – Амадеус опять сделал паузу. – Но если ваш эксперт сделает хотя бы малейший намек на ее стоимость – я ничего не хочу об этом знать.
Он протянул руку.
– Вы согласны?
– Полностью, – пальцы Зелеева крепко ухватились за руку Амадеуса. – И я вам благодарен.
– Вам не за что благодарить меня, Константин. Кривая, но вполне пристойная усмешка появилась на лице русского.
– Нашлись бы многие, кто согласился б с вами, мой друг. И хотя, похоже, вы сомневаетесь во мне, я вас понимаю, Амадеус Габриэл.
Зелеев уехал неделей позже – в неопределенном направлении. Скульптура была любовно завернута и положена в самый маленький его кожаный саквояж.
– Я ни за что не выпущу ее из рук, – убеждал он Амадеуса. – И я вернусь через неделю – клянусь вам в этом.
Он улыбнулся.
– Вы доверяете мне?
– Полностью.
– Многие назвали бы вас за это дураком.
– Это их дело. Я вам верю, – Амадеус спокойно смотрел на русского. – Так же, как верю, что вы не будете напиваться, пока это находится в ваших руках. Потому что знаю – вы дорожите ею так же, как и я.
Зелеев вернулся на шесть дней позже.
– Ну что? – тихо спросил Амадеус.
– Вы хотите знать?
– Только то, довольны ли вы, Константин Иванович, – Амадеус пристально рассматривал лицо своего друга, ища на нем признаки удовлетворения или разочарования, но не увидел ничего. – Вы, наверно, азартный игрок и могли бы отлично выигрывать в покер.
Зелеев усмехнулся.
– Да, имел такую славу.
– Так вы довольны? – Вновь спросил Амадеус.
Зелеев улыбнулся.
– Спасибо вам, мой друг.
Он остался в Давосе на месяц – отчасти потому, что опять должен был приехать Александр, в середине мая. Мальчик был здесь уже дважды после своего приезда в 1929-м, и оба раза – хотя отец и Зелеев работали в поте лица над скульптурой – они даже мельком не позволяли ему взглянуть на то, что у них получалось и не объясняли, что же именно такое они пытаются создать.
Теперь Александру было уже шестнадцать. Он был высоким, как отец, хотя и легче сложен, и с привлекательным лицом – чему был обязан больше Хильдегард, чем Амадеусу.
– Оно окончено, правда? – сказал он в день своего приезда.
– Откуда ты знаешь? – удивился Амадеус.
– Обстановка в доме – она другая. Спокойнее.
Амадеус посмотрел на Зелеева.
– Покажем ему?
– Вам решать.
– Папочка? – Александр повернулся потом к русскому. – Константин, вы не хотите, чтоб я видел?
Зелеев засмеялся.
– Я хочу, чтоб весь мир увидел ее, Александр.
Глаза Амадеуса потеплели.
– Пойдем.
* * *
Она стояла под покрывалом, на центральном столе мастерской, в задней части дома. Когда Амадеус стянул покров, его ноги вдруг ослабели, а руки задрожали. Александр смотрел во все глаза, пытаясь не зажмуриться. Несколько минут он стоял неподвижно, потом медленно обошел вокруг стола, разглядывая скульптуру под всеми возможными углами, словно стремясь вобрать ее в себя взглядом – всю.
Никто не произносил ни слова, но через некоторое время Зелеев подошел к столу и молча указал Александру на три драгоценных камня, под которыми были выгравированы инициалы: его собственные, под большим сапфиром, сверкавшем на суровом склоне горы из золотого самородка; Амадеуса – под русским изумрудом в дальней части водопада в пене филиграни и стекающего эмалью прозрачного водопада с его острыми, как иглы, хрустальными сосульками с крошечными бриллиантами, и наконец, инициалы Ирины Валентиновны Малинской – под огромным, золотистым алмазом, сиявшим, как солнце, на вершине каскада.
– Ну? – Амадеус больше не мог утерпеть. Александр все еще неотрывно смотрел на скульптуру и не мог отвести взгляда.
– Я не могу насмотреться. Я не могу поверить… – пробормотал он вполголоса. – Я никогда не видел ничего подобного.
– Я говорил твоему отцу – она уникальная, – спокойно и тихо сказал Зелеев.
– Это… она просто волшебная, – выговорил Александр, а потом замолчал. – Самое прекрасное – из всего, что только я видел.
Борясь с соблазном, он наклонился и осторожно погладил миниатюру пальцами.
– Ты можешь потрогать, – сказал Зелеев и посмотрел на Амадеуса, на чьем лице отразилась целая буря чувств. – Она называется – Eternité.
Александр коснулся указательным пальцем левой руки золотистого бриллианта.
– Это ради нее? – он обернулся, чтобы взглянуть на отца. – Папочка?
Амадеус подошел ближе.
– Я расскажу тебе все.
* * *
На закате они вышли из дома и пошли к водопаду – вдвоем, Зелеев тактично заявил, что ему нужен отдых.
– Этого не скажешь словами, папа. Он… такой прекрасный… и величавый.
Оба они, не отрывая глаз, смотрели на водопад.
– Я могу понять, почему она так любила его, – голос Александра был тихим и грустным. – Но твой по-своему даже прекрасней.
– По-своему.
– Я никогда не думал, что ты любил ее так сильно, папа. Ты мало говорил мне о ней, а мама всегда вела себя так, словно ее вообще не существует.
– Ты не можешь винить ее за это.
– Нет. Конечно, нет.
Какое-то время они молчали, а потом Александр сказал:
– Должно быть, она очень…
Он запнулся.
– Дорого стоит? – закончил за него Амадеус. – Похоже на то.
– И тебе правда все равно, папочка, да?
– Тебе это не нравится?
– С чего ты взял? Зачем ты так говоришь?
– Многим сыновьям бы не понравилось, – Амадеус по-прежнему смотрел в сторону, на водопад. – Твоей маме бы не понравилось… не ради себя – ради тебя.
– Маме это было бы безразлично, – ответил Александр, слегка покраснев.
– Конечно, – согласился Амадеус. – Конечно, ты прав.
Они пошли опять по густой травянистой тропинке к дому. Луг, поросший жирянкой и венериным башмачком, отливал странными бликами в розовом свете заката, пара рыжих белок искрой пронеслась над их головой. Воздух был ясным и еще теплым.
– Константину так хотелось показать Eternité на какой-нибудь выставке, – сказал вдруг Амадеус.
– Это можно понять.
– Ты думаешь, я неправ… несправедлив, решая ее судьбу один?
Александр покачал головой.
– Она существует только благодаря тебе.
– Я никогда не создал бы ничего подобного без него. Я мог только мечтать… Гений Константина сделал мечту реальностью.
Амадеус вздохнул и добавил:
– Пусть все именно так… но даже теперь я не могу сделать то, чего он хочет.
Александр взял отца за руку.
– Это – твое право. И тебе решать.
Через неделю после того, как Александр вернулся в Цюрих, Зелеев уехал из Давоса. В их последний вечер вместе Амадеус отдал ему неограненный рубин и два ограненных, как бриллианты, алмаза – половину того, что осталось от собрания драгоценных камней Малинских.
– Вы – глупец, – сказал Зелеев.
– Это я уже слышал от вас, – засмеялся Амадеус. – И не раз.
– Вы могли бы стать баснословно богатым – а теперь еще отдаете и то, что осталось.
– Мне достаточно того, что у меня есть.
Зелеев пожал плечами.
– А как насчет Александра? Вы говорили с ним об этом – и о том, что собираетесь делать с оставшимися камнями?
– У матери Александра больше денег, чем она могла бы потратить и за десять жизней. В этом отношении ему нечего бояться.
– Радости права первородства не всегда измеряются в деньгах, mon ami. Эти драгоценные камни, конечно, ему ни к чему… но от нашей скульптуры глазки у вашего сына загорелись.
Амадеус покачал головой.
– Он понимает мои чувства – то, что значит для меня Eternité.
– Но это не значит, что он их разделяет. Он не только ваш ребенок – он еще и сын Хильдегард, и я советую вам не забывать об этом, друг мой.
– Что вы пытаетесь мне сказать, Константин? Что Александр захочет взять себе наш чудесный водопад, когда меня не станет? Но я только счастлив, если это так.
– Да, мой друг – но вам не приходило в голову, что не только он один? – сказал мягко Зелеев. – Когда ты создаешь такой шедевр… бесценной красоты и совершенства, всегда найдутся те, кого он заворожит, и они захотят обладать им. Любой ценой.
Амадеус зорко в упор взглянул на Зелеева.
– Вы предали мое доверие к вам, когда брали Eternité с собой? Вы же обещали мне полную анонимность! Никто не должен был знать.
– И я сдержал свое слово.
– Тогда ваши предостережения лишены всякого смысла. Чего мне бояться? Меня не волнует, что случится с моей собственностью после моей смерти – это относится и к Eternité. Я знаю, что она значит для меня. Разве этого недостаточно?
Наступило молчание. Амадеус оглядывал гостиную, замечая пустоты там, где раньше были вещи Зелеева. Тот их уже упаковал.
– Вы думаете – вам будет одиноко? – Зелеев словно прочел его мысли.
– Конечно, – Амадеус стал опять грустным, и голос его стал мягче. – Я думал, что моя жизнь кончена, когда Ирина покинула меня. А потом ее дар и ваша щедрость вернули меня к жизни – и я всегда буду вам благодарен за это.
– Это были чудесные годы, – сказал Зелеев, в глазах его стояли слезы. – Вырванные из плена реального времени, украденные у дикого и грубого реального мира.
– Вы обязательно вернетесь.
Зелеев кивнул.
– Но этих лет уже не вернуть.
Наутро, прежде чем отправиться на станцию, оба они пошли взглянуть на скульптуру. Уже не осталось и следа от мастерской – она сослужила свою службу, и теперь помещение снова превратилось в конюшню с сеновалом.
Именно на сеновале они решили спрятать свое сокровище – в тайнике, выбитом в стене и укрытом за тюками соломы. Они показали тайник Александру перед его отъездом домой, и никто, кроме Зелеева, Амадеуса и его сына даже и не догадывался о его существовании.
До появления Магги.
4
Она родилась у Александра и его жены Эмили 7 декабря 1939-го, через три месяца после всеобщей мобилизации швейцарской армии и через десять месяцев после того, как брак соединил две семьи, жившие по соседству на Аврора-штрассе. У Губеров была большая типография, и их дом был добротным и внушительном. Но несомненное превосходство Дома Грюндли и их собственности над богатством Губеров – хотя и немалым, но меркнувшим перед состоянием Грюндлей – отгоняло саму мысль, что можно принимать всерьез благосостояние их новых родственников. У Эмили было двое братьев, и они управляли имуществом компании Губеров, и поэтому с самых ранних лет счастливая звезда ее судьбы для ее семьи означала удачное замужество – и не более того. Хильдегард хорошо была осведомлена об относительно скромных надеждах на прибавление состояния Грюндлей, связанных с невесткой, но, с другой стороны, она в равной степени понимала, что в ее сыне есть нечто, что не позволяет мечтать о браке с наследницей какого-нибудь громко известного семейства Цюриха.
Александр пил слишком много. Он был очаровательным молодым человеком, красивым, с располагающей к себе открытой улыбкой, и всегда был ей хорошим сыном. Но в последние девять лет он проводил много времени с отцом, с паршивой овцой для Грюндлей – гораздо больше, чем хотелось бы Хильдегард, и она с очевидностью, которая ее донельзя раздражала, понимала, что сын обожает и уважает Амадеуса, мужчину, который не заслуживал ни восхищения, ни уважения. Хотя, конечно, у Амадеуса, по крайней мере, была сильная индивидуальность – несмотря на безответственность и эгоизм. Александр, боялась Хильдегард, был куда более слабым. И он слишком много пил.
Поначалу, после женитьбы на Эмили и особенно в первые годы после рождения Магдален, казалось, что стабильность в доме уравновешивала Александра, давала ему твердую опору. Конечно, они жили в Доме Грюндли, потому что ничто иное и не мыслилось, по крайней мере, со стороны Эмили. Она поладила с Хильдегард. А сам Александр служил в Грюндли Банке. В период между 1939-м и окончанием войны Александра мобилизовали и демобилизовали несколько раз, и это насилие над его натурой не оставляло времени для скуки. Но когда Александр просиживал на работе в банке, ему приходилось делать над собой значительное усилие. Женитьба, если и требовала от него некоей уравновешенности и здравомыслия, то он и сам не многого больше хотел бы просить у жизни. Ему нравилась его прелестная, дивноволосая жена – когда она к нему не придиралась, и он обожал свою маленькую дочку, Магги, с ее непослушными золотистыми кудряшками и восхитительными глазками, отливавшими, как говорил ее дед, ляпис-лазурью, а иногда – персидской бирюзой.
– Она – свет моей жизни, – сказал Александр Амадеусу в один из своих приездов в Давос; Магдален тогда было четыре года.
– И не только твоей, – Амадеус смотрел на свою маленькую внучку, рывшуюся на полках его книжного шкафа и изредка одаривавшую обоих сияющими улыбками.
Они приезжали так часто, как только могли при их обстоятельствах, то есть когда Хильдегард не говорила ничего, а Эмили терпела. Она знала о его чувствах, но с самого начала отказалась ездить вместе с мужем и дочкой, демонстративно оставаясь в Цюрихе и жалуясь, когда они возвращались домой со слишком счастливыми лицами. Давос сильно разросся за последние десять лет – когда стал известным зимним курортом; не последнюю роль сыграли открытие подъемника для лыжников и хитроумное приспособление под названием Holzbügel-Skilift, позволявшее лыжникам хвататься за деревянные и железные перекладины, прикрепленные к стальному тросу, и поэтому они могли взбираться на гору на лыжах самостоятельно без особого труда. Все это сделало городок гораздо более привлекательным для разного рода праздных любителей лыж – не то что в прежние времена, когда только самые закаленные и выносливые энтузиасты типа Амадеуса приезжали сюда регулярно.
Магги любила эти уик-энды и праздники год от года все больше. Это были ни с чем не сравнимые дни, которые она проводила только с папой и Опи. Ее братик Рудольф, появившийся на свет в 1942-м, ровно за три месяца до ее третьего в жизни дня рожденья, был теперь достаточно большим, чтобы присоединиться к ним, но они по-прежнему ездили в Давос вдвоем.
Цюрих подвергался иногда бомбардировкам, и Александру и дворецкому Максимилиану приходилось время от времени таскать на себе винтовки и тяжелую амуницию с 48 боевыми патронами, отправляясь туда, куда их пошлют. Но жизнь в городе по-прежнему изобиловала комфортом мирного времени и была все также четко организована. Магги спала на красивых шелковых простынях, и ее спальня – за исключением тех дней, когда строго соблюдался режим светомаскировки – играла всеми оттенками бледно-розового цвета в свете ламп и ночников. Когда она стала уже слишком большой для того, чтобы ее купали, горничная по-прежнему помогала ей, когда она выбиралась из ванны, и держала наготове заранее согретое турецкое полотенце с ее монограммой. Семейные трапезы проходили в огромной Speisezimmer[11] – дворецкий Максимилиан подавал еду на серебряных подносах. В мирное время он был также и шофером машины Хильдегард и Александра. Но теперь, из-за все же появившихся разных ограничений – в частности, горючего – личному автотранспорту не позволялось появляться на дорогах.
Магги учили – хотя это не означало, что она научилась – шить, вышивать и вязать и быть настоящей леди в любое время дня и ночи. «Быть настоящей леди» означало всегда иметь при себе свежевыглаженный носовой платок – но пользоваться им только в случае крайней необходимости, никогда не высказывать своего мнения и вообще не говорить – до тех пор, пока к ней не обратятся, и никогда не бегать в общественных местах, и уж само собой не петь – только в церковном хоре.
В деревенском доме деда, прилепившемся высоко в горах, весело трещали дрова в печи, и Магги спала на простой перине из гусиных перьев на льняных простынях и укрывалась – особенно когда было холодно – грубым шерстяным одеялом. Они с отцом и Амадеусом ели простую вкусную еду: бифштексы или жареную колбасу с соусом и жареным луком, или сыром, расплавленным над пламенем печи на большой вилке, и дедушка разрешал ей сдувать пену с его кружки с пивом и поощрял петь в полный голос, чтобы легкие девочки наполнялись свежим горным воздухом; а еще он позволял ей бегать, где вздумается, и учил кататься на лыжах и коньках и подыматься в горы. И жизнь здесь была веселой и казалась такой простой и открытой – какой никогда не бывала внизу.
Все изменилось в один вечер 1947-го. За один только вечер, всего-то за несколько часов, все, что любила Магги, рухнуло.
Ей было семь лет, а брату Руди – почти пять. Война в Европе кончилась два года назад. Александр и Эмили Габриэл были женаты уже восемь лет, но не были довольны жизнью даже и близко к тому, как ожидалось. В свои двадцать девять лет Эмили была по-прежнему прелестной и бездумной женщиной, чтобы не сказать пустой. С мужчинами она могла быть мягкой и пикантно-глуповатой, но с женщинами не церемонилась и не считала нужным играть. Она уважала свекровь, Хильдегард ей была по душе, но в ее обращении с Магги сквозило нетерпение и даже нетерпимость, и ничем не объяснимая суровость, подчас переходящая в свирепость. Руди был мальчиком и, следовательно, по ее понятиям, чем-то более стоящим. Но вот муж был для Эмили большим разочарованием. Они с Александром часто ссорились из-за детей – да и вообще поводов для размолвок хватало, не говоря уже о том, что Александр, как и до того его отец, находил работу в банке не такой важной, как хотелось бы его семье, и совершенно неинтересной. Но в отличие от Амадеуса, нашедшего силу бросить все, Александр Габриэл был слабым человеком, которому не хватало храбрости, твердости и уверенности в себе.
Все чаще и чаще Александр думал о том, как сбежать от честолюбивых и энергичных жены и матери – сначала он искал убежища в круто заверченных американских романах и – когда удавалось – в поездках в Давос, но постепенно он пристрастился к походам в питейные заведения Цюриха и к проституткам. Бары, куда он зачастил, становились все более грязного пошиба, и вскоре он пристрастился к наркотикам. В сомнительных домах, больше похожих на притон, он курил марихуану, якшался с продажными женщинами, не менее хищными, чем его супруга, и пил виски и жевал коноплю. А потом возвращался домой, на Аврора-штрассе, и старался снова быть сыном, мужем и отцом. Работа тяготила его все больше – в сущности, он был уже едва способен выполнять ее, и все растущая потребность в наркотиках, стимуляторах и галлюциногенах засасывала его. И вот вскоре ничто уже не могло привлечь его внимание больше чем на пять минут – ни его прежде любимые детективные истории, ни Руди. Ни даже Магги.
Был субботний июньский вечер, когда Магги, с любопытством перегнувшись через перила наверху винтовой лестницы, смотрела на экономку фрау Кеммерли, впускающую в дом незнакомца. Это был человек с прямыми рыжими волосами и ухоженными усами.
– Herr Gabriel, bitte,[12] – мужчина слегка поклонился и подал экономке визитную карточку.
– Einen kleinen moment, bitte,[13] – фрау Кеммерли исчезла, направившись в библиотеку. Незнакомец посмотрел наверх, увидел Магги и улыбнулся. Его глаза были зелеными, а улыбка – теплой и даже радостной, словно он знал, кто она такая, хотя они никогда не встречались.
– Константин! – Александр вбежал в холл, протягивая навстречу обе руки, и Магги подалась назад и спряталась – на всякий случай, если мать неожиданно выйдет из туалетной комнаты и застанет ее здесь.
– Александр, как поживаешь?
– Уже лучше оттого, что вижу Вас. Когда Вы приехали? Видели уже отца?
Магги прокралась назад к ступенькам; любопытство победило – она знала, кто этот гость. Дедушка часто, говорил о русском, его большом друге. Константин Иванович Зелеев. Уже одно его имя завораживало девочку – хотя она всегда представляла его себе темноволосым, с карими глазами и в меховой шапке.
– Нет еще, – ответил он на вопрос Александра. – Я поеду в Давос через несколько дней, но сначала мне бы хотелось отобедать с тобой. Поедем куда-нибудь. Если ты, конечно, не занят.
Опять он взглянул наверх, отлично зная, что Магги все еще там – смотрит и слушает. Она поднесла пальчик ко рту, будто хотела сказать ему: «Молчи!», и он, словно они с Магги были сообщниками, отвел взгляд и посмотрел опять на Александра.
– Я сейчас все устрою, – ответил ему отец. – Я дам вам немного выпить, а сам пойду скажу Эмили.
– Но если у тебя есть планы на сегодня, тогда… – На этом их голоса оборвались, потому что они зашли в гостиную и закрыли дверь. Магги поджидала, переминаясь с ноги на ногу. Ей так хотелось зайти внутрь, очень хотелось, чтоб ее представили русскому, и она знала, что отец не будет возражать, но вот мама и бабушка – они-то уж точно будут. Да и потом, если она не попадет в какую-нибудь историю, папочка обещал отвести ее назавтра в зоопарк.
С отвращением она медленно потащилась к своей спальне. Если она будет идти по-настоящему медленно, может, ей удастся привлечь внимание отца, когда он пойдет наверх к ее матери. Но когда Александр вышел, он пошел прямо в туалетную комнату Эмили и даже не заметил Магги. Она подождала еще несколько минут, слыша, как родители повышают понемногу голос – очевидно, начиная ссориться – и сдалась.
Десятью минутами позже дверь ее спальни открылась.
– Папочка! – Магги прыжком вылетела из кровати. Это был такой фарс – отправлять ее спать в половине седьмого, хотя все знали, что она не могла уснуть раньше десяти, а иногда даже и позже. Магги никогда не чувствовала себя наутро усталой, как они вечно зловеще предрекали.
– Все еще не спишь, Schätzli.
Александр протянул ей обе руки, и она бросилась в его объятья и крепко сжала руками его талию, прижавшись щекой к холодной пряжке его пояса.
– Ты уходишь, папочка? С русским?
Он легонько отодвинул ее на расстояние вытянутой руки.
– Ты опять подслушивала на ступеньках?
– Да, папочка, – сказала она, подмигнув ему. В ее душе и характере не было хитрости. Она знала, что в любом случае, что бы там ни было, может быть честной и откровенной с отцом. – Это ведь русский друг Опи, правда, папочка? Тот, который жил с ним?
– Тот самый.
– А я могу сейчас спуститься вниз и познакомиться с ним?
– Нет. Не сегодня, Schatzli. Ты должна вернуться в кроватку и взять себя в руки.
– Куда ты идешь?
– Пообедать – вот только пока не знаю, где.
– А мама недовольна? Александр улыбнулся.
– Совсем немножко. А теперь сделай то, что тебе сказали, Магги.
Она прыгнула назад в кровать, и отец задернул занавеси над ее головой, наклонился и нежно поцеловал в лоб.
– Сладких снов.
– А ты придешь ко мне, когда вернешься домой?
– Это будет слишком поздно.
– Ну пожалуйста, папочка. Если я буду знать, что ты хотя бы заглянешь, мне будет легче уснуть, а иначе я не буду спать до тех пор, пока ты не возвратишься.
– Это шантаж, – он погладил ее по волосам, поцеловал еще раз и пошел к двери. – Я загляну, когда вернусь, но лучше всего будет, если ты крепко уснешь.
– Да, папочка, да.
Они ехали в такси – машину Зелеев оставил, оказывается, ждать его у дома – вниз по пологим улицам к Ремерхофу, потом направились на запад, пересекая Квэбрюке, в центр города.
– Я очень благодарен тебе, Александр, – сказал Зелеев, сидя на заднем сиденьи машины. – Эмили очень сердита на меня за то, что я увез тебя?
– Не больше, чем обычно. У нас не было особых планов – только пообедать вместе дома. Моя мать там, так что она не будет в одиночестве.
– Куда ехать? – водитель посмотрел на них.
– «Баур-о-Лак»? – спросил Александр Зелеева. – Думаю, мы можем начать с гриль-бара, а потом продолжим – и так весь вечер. Я тут по случаю набрел на одно-два местечка, которые могут вас заинтересовать, с тех пор, как мы виделись.
Зелеев улыбнулся.
– А ты – не скучный человек, Александр, верно? Не всегда самый мудрый, но вот унылый – редко.
Тон Александра был ироничным.
– Моя жизнь, по большей части, безвылазно скучная, Константин. И бог свидетель, я должен с этим как-то бороться.
В Доме Грюндли Хильдегард совершала свой вечерний обход, прежде чем отправиться спать. Сначала она пошла взглянуть на Руди и убедиться, что мальчик сладко спит – как обычно, нежно поцеловать его золотистую головку и тихо закрыть дверь, прежде чем пройти мимо комнаты его няни в спальню Магги.
Девочка крепко спала, лежа на спине, ее длинные локоны разметались веером вокруг лица, одной рукой она сжимала подушку, простыни сбились и торчали из-под одеяла. Хильдегард почувствовала, как сердце ее сжалось при виде спящей внучки, почувствовала укол сожаления оттого, что знала – Магги она кажется мрачной строгой бабушкой. Это была ее вина, Хильдегард понимала это, но она не могла ничего с собой поделать и не быть поборницей размеренности, дисциплины и хороших манер. Если б только Магдален могла быть такой же хорошей, как ее маленький брат! Жизнь для нее стала б тогда гораздо легче и проще – и для Эмили тоже. У ее невестки, к сожалению, не было природной склонности к материнству, думала Хильдегард. В идеале матери не должны преувеличивать недостатки своих детей, а, наоборот, любить своих сыновей и дочек вместе с этими самыми недостатками. Конечно, Магги, может, и не безукоризненно воспитанная и послушная девочка, но в ней есть природная теплота чувств и искренность, и щедрость, и бесспорная храбрость, которые, в конечном счете, могут оказаться куда важнее традиционных достоинств.
Теплоту натуры, предположила Хильдегард, Магги унаследовала от Амадеуса; она помнила природное мягкосердечие и добрый нрав юноши, в которого она влюбилась так много, много лет назад. Она никогда не простит ему того, что он сделал, но она была достаточно честной женщиной, чтобы понимать, что отчасти она сама оттолкнула его. Мужеством Магги тоже обязана Амадеусу, думала она – потому что хотя у Эмили и были замашки сильной, властной женщины, едва ли она обладала той отважной свободой и силой духа, которая была у девочки. И уж, конечно, не Александр привил ей это.
Она вздохнула, закрывая дверь спальни Магги: Александр всегда старался сбежать – от ситуации, от ответственности, от жизни. И вот пожалуйста – сегодня вечером он опять за свое! Уехал незнамо куда и незнамо с кем – предпочтя своей жене друга отца. И только Бог знает, в каком состоянии он вернется домой – если вообще вернется раньше утра.
– Тебе пора домой, – сказал Александру Зелеев.
– Почему?
– Твоя жена будет ждать тебя.
– Эмили? – Александр сделал пренебрежительное лицо. – Да она уже сейчас в постели. Мы все должны рано расползаться по кроватям. Моя мать и жена – они следят за соблюдением правил.
Его глаза были налиты кровью, и речь была уже невнятной. Они перебрались из элегантного «Баур-о-Лак» в расслабленную атмосферу «Цойгхаускеллер», огромного пивного зала на Банхоф-штрассе, где Александр опустошил шесть кружек пива Херлиманн, а Зелеев запросто выпил полбутылки водки.
– Ну, по крайней мере у тебя есть женщина в постели. Эмили ведь вполне хорошенькая, правда? – Зелеев никогда не видел фрау Габриэл-младшую, но он слышал, что она более чем очаровательна.
Александр пожал плечами.
– Она – красивая женщина, внешне, но чертовски разочаровывает. Невозможно заслужить ее одобрение.
– Она чувственная? – зрачки зеленых глаз Зелеева стали больше, и его мужское естество напряглось. Он знал, что такие безудержные возлияния делают многих мужчин бессильными, но у него водка, как всегда, только распаляла похоть.
– Когда-то она была неплоха, – Александр поднял кружку к губам, и струйка пива побежала по его челюсти. – А теперь мне приходится искать наслаждения на стороне.
– В этом городе? В таком чопорном, демонстративно-рафинированном? – глаза Зелеева насмешливо блестели.
– Вы знаете это, может, лучше меня. Папа говорил мне о ваших срывах… – он запнулся. – О вашей ненасытности.
Русский рассмеялся.
– Мое буйство преувеличено твоим отцом. Что касается меня, это просто способ расслабиться и отдохнуть.
Александр наклонился к нему, и его лицо неожиданно стало казаться хитрым, почти лисьим.
– А сегодня ночью хотите расслабиться, Константин?
– Даже больше, чем писать, – подчеркнуто лениво Зелеев встал со скамейки и огляделся вокруг. – Вы можете это устроить?
– Считайте, что все уже устроено.
В половине одиннадцатого Эмили отложила свежий номер «Die Elegante Welt» на столик возле кровати, посмотрела на часы на каминной доске и со вздохом выключила свет.
Через две двери, в своей гостиной, за столом сидела Хильдегард и разыгрывала смиренное терпение. Ей не нужно было смотреть на часы, чтоб узнать, который час – вопреки своей воле последний час она считала каждую минуту, отлично зная, что сын еще не вернулся. Это ее раздражало, как это частенько бывало, а еще ей было досадно и грустно – Хильдегард жалела Эмили и детей. Но сегодня было и что-то еще – что именно, она даже не смогла бы сказать себе, – отчего она чувствовала смутное беспокойство и страх.
В детской, в дальнем конце этажа, спал сладким сном Руди Габриэл – тихо и безмятежно. Ему было только четыре года, и все, кто значили для него больше всего – его мать, няня и бабушка – были дома, вместе с ним. Он был окружен любовью и добротой, теплотой и заботой.
В розовой спальне его сестра видела сон. Она каталась на лыжах с отцом – на чудесной занесенной снегом горе. Снег был густым, мягким и хрустящим, и она неслась на лыжах вслед за отцом, совсем как взрослая, повторяя все его повороты, все его движения – так смело и уверенно, что ей совсем не приходилось думать о том, что ей нужно делать; это было как полет – только еще лучше, и снежная пелена, взвихренная стрелами лыж, бешено кружилась вокруг нее, как серебристое облако.
– Не бросай меня, папочка! – кричала она ему вслед, неожиданно испугавшись, когда его фигура пропала в снежном тумане.
– Ни за что на свете, Schätzli, – выкрикнул он в ответ через плечо, и Магги почувствовала, как он любит ее – и этот внезапный страх исчез, и остались только его ласка и забота, и этот волшебный полет вниз по крутому склону горы.
Зелеев и Александр были в неряшливо прибранной маленькой комнате в обшарпанном доме на темной улочке на Недердорф-штрассе – длинной, узкой, мощеной булыжником щели, словно трещина бегущей параллельно реке. По обеим сторонам ее прилепились в изобилии бары, кафе и прочие развеселые забегаловки. Александр докуривал последнюю сигарету с марихуаной. Он ощущал в груди какую-то тяжесть и чувствовал, что мышцы его слушаются гораздо хуже, чем всегда. Но эйфория от наркотика, мгновенно затопившая его, была что надо – если только, конечно, она не улетучится в самый неподходящий момент. И если только сигарета будет последней, успел подумать он.
Перед русским стояла новая бутылка водки – так еще и не початая. Пока что он в ней не нуждался – как и в наркотиках, которые настойчиво предлагал ему молодой Александр. Тот отчаянно тревожился, что Зелеев еще не достиг высот кайфа, на которые занесло самого Александра. Но у Зелеева и так было все, чего он хотел – в стеклянном бокале и на кровати. Ей было около двадцати пяти – в хорошей форме, с каштановыми волосами, глазами цвета ореха, и с большой грудью и чистой гладкой кожей. У них на двоих была одна женщина, но сейчас он собирался получить то, что ему всегда нравилось – в подходящей обстановке.
– Готов, Александр?
– Нет еще, – Александр вынул две пилюли из пакетика. – Водки, – улыбнулся он и протянул руку.
– А это еще что такое? – Зелеев подумал: молодой Александр выглядит так, что может вырубиться. Одно то, что он намешал кучу напитков, уже плохо: Александр выпил виски перед обедом, потом – красного вина, потом несколько сортов пива, и сверх всего – наркотики. А теперь еще он запил пилюли водкой прямо из бутылки.
– Что он выпил? – женщина подала голос впервые с тех пор, как они зашли в комнату. – Не хватало мне еще чего-нибудь скотского.
– Не беспокойся, – ответил Зелеев, глядя на Александра. Он не имел ничего против, чтобы переждать более молодого мужчину. Его собственная эрекция была стойкой, как скала; предмет его мужской гордости никогда еще не подводил. Он выпьет еще чуток, и будет наблюдать, как раздевается Александр. Он не видел его обнаженного тела со времен первого приезда мальчика в Давос – много лет назад, когда Зелеев зашел в ванную комнату, а сын Амадеуса стоял под душем и нежился под теплой струей. Русский подумал тогда – как он красив, а теперь ожидание влило свежую жадную волну крови в его вены. Он редко проделывал это с юношами – но как только они начнут с девицей и немного побалуются, он нацелится на эти круглые мужские бедра, и тогда… До тех пор, пока его мозг не взорвется.
Шло время. Лицо Александра менялось, пьяная летаргия стекала с него, уступая место мощному заряду энергии. Амфетамины, подумал Зелеев. Габриэл уронил галстук на пол и начал расстегивать рубашку нетерпеливыми пальцами.
– Нужно прибавить, – сказала женщина.
– Заткнись, – спокойно проговорил Александр, и Зелеев ощутил новый прилив могучего возбуждения при мысли, что вся эта бесконтрольная чувственность бушует в другом мужчине, стоявшем перед ним.
Брюки и рубашка Александра оказались там же, где и галстук – на грязном ковре. Его тело было бледным – хотя и не таким белокожим, как у Зелеева, а пикантный предмет – меньше, но воинственно вздернутым. Зелеев перевел взгляд с него на девицу. Она напряглась, и он видел, что вопреки себе она тоже была по-настоящему возбуждена.
Какая-то темная сила вызревала в замызганной комнате – растущее исступленное маниакальное ожидание, общий накал жара тел. Обезумевшее помрачение ума.
Они были готовы. Все трое.
Магги разбудил страшный крик. Кричала ее мать: в истерике и шоке – но крик быстро оборвался, словно подрезанный гулом голосов. В темноте Магги села в кровати, сердце ее бешено колотилось, а уши боялись услышать, что же будет дальше.
Она слезла с кровати и побежала к двери, чтобы лучше слышать. Голоса не умолкали – мужские и женские, то пронзительные, то приглушенные, и ничего нельзя было разобрать или узнать, кто говорил. Она открыла дверь и, босая, шагнула за порог в коридор.
– Магдален, что ты тут делаешь? – на Магги надвинулась бабушка, в ночном халате персикового цвета, седые волосы отливали серебром в неярком свете. Она наклонилась над Магги, растопырив руки – словно чтоб остановить ее и толкнуть назад в комнату.
– Я слышала крик, Оми.
– Ничего страшного, детка, – лицо Хильдегард было мертвенно-бледным.
– А мама? Что с ней случилось?
– У твоей матери был легкий шок, но теперь опять все хорошо, а ты должна вернуться назад в кровать.
– А папа дома? – Магги попыталась проскользнуть мимо бабушки, но Хильдегард крепко и жестко схватила ее за руку.
– Назад в кровать. Немедленно.
Это был приказ.
Она попыталась снова уснуть – но теперь это было невозможно. Голоса снова загудели – и надолго, иногда они возвышались до крика, потом вдруг смолкали или становились похожими на жужжанье. Наконец, любопытство стало просто невыносимым, и Магги подкралась снова к двери и обнаружила, что она заперта – снаружи. Но они еще никогда не запирали ее дверь! Магги была потрясена и хотела было уже кричать и протестовать, но какой-то инстинкт подсказывал ей молчать, и она ретировалась назад в кровать и скорчилась калачиком под одеялом. Неожиданно по коже ее побежали мурашки. Ей стало очень страшно.
Время ползло медленно – до тех пор, пока звук мотора не заставил ее слететь с кровати и броситься к окну. Магги отчаянно вглядывалась в темноту ночи. Машина бабушки стояла на улице с зажженными фарами, освещая вход в дом. Минутой позже из парадного входа вышел Максимилиан, их шофер. Какой-то человек шел рядом с ним. Магги изо всех сил напрягла зрение и увидела, что это был русский, Константин Зелеев – он забрался на заднее сиденье машины и захлопнул дверь как раз в тот момент, когда Максимилиан повез его прочь.
Наверно, решила Магги, ее отец и рыжий дядя вернулись домой немного навеселе. Она несколько раз слышала, как ее мать жаловалась – отец подолгу пропадает вне дома и «плохо себя ведет». Она часто слышала, как родители ссорились – из-за этого, и из-за многого другого. Магги припомнила героев книжек, которые читал ей отец – они пили виски и пиво; это казалось вполне нормальным в книжках, чем-то таким, что обычно делают мужчины – и не больше. И Магги не задумывалась и не беспокоилась, что это же самое делал отец – ведь все равно он возвращался домой. И всегда любил ее. Если он только что вернулся, он отопрет дверь и придет сейчас к ней, чтоб обнять ее – своим быстрым, успокаивающим объятьем, она сможет снова уснуть, и поутру все будет опять в порядке.
Но он не пришел. Магги ворочалась в кровати, беспокойно, тревожно, все время просыпаясь и слыша звуки шагов по дому. Мимо ее спальни, по лестнице, по паркету холла вниз… Опять голоса – они шепчутся, потом голос бабушки, громкий – похоже, она говорит по телефону. Магги опять услышала голос матери, довольно отчетливо, а потом – папин, а когда взглянула на часы, то увидела, что почти пять утра, и страх снова сдавил ее сердечко. Почему папа не зашел к ней, как обещал? Мама иногда говорила, что на него нельзя положиться, но Магги-то знала, что может верить ему во всем. Он был таким «настоящим», родным, и он любил ее больше, чем кого-либо на свете – больше, чем маму, и даже больше Руди, и, конечно, она обожала его. Но была уже глубокая ночь, а папочка все не шел к ней.
Она толкнула снова в дверь и, обнаружив, что она по-прежнему заперта, начала изо всех сил колотить в дубовые панели. Никто не шел на ее шум. И тогда она ужасно разозлилась и одновременно растерялась – она продолжала лупить кулачками, плача навзрыд от досады и раздражения. Ведь в замочную скважину она отлично видела, что весь дом на ногах, везде горят огни. Она слышала гул голосов, топот ног – они бегали туда-сюда в непонятной девочке спешке и тревоге и полностью игнорировали Магги.
А потом, почти сразу же после утренней зари, вернулась бабушкина машина, и Магги снова бросилась и прильнула к окну. Максимилиан вышел из машины, потушил фары, но мотор оставил включенным. Затем он вошел в дом, а потом, через несколько минут, появился опять на улице. Но на этот раз рядом с ним шел отец.
Глаза Магги широко раскрылись от изумления. Папочка тяжело опирался рукой на плечо шофера – тогда как рука Максимилиана крепко держала его руку, а в другой руке у него был большой чемодан. Магги не удавалось увидеть лицо отца, и она все еще старалась осмыслить происходящее, когда из боковой двери вышли Эмили и Хильдегард – в ярком свете, лившемся из окон холла нижнего этажа их фигуры были видны очень отчетливо. Обе они были одеты не по-домашнему: на них были туалеты для улицы – элегантные костюмы темного цвета, безукоризненно облегавшие фигуру. Прически тоже были явно не в беспорядке. И Магги вдруг вспомнила тот день, когда все они ехали из дома на похороны дедушки – отца Эмили: на лицах женщин было то же сухое, непроницаемое и безлико-застывшее выражение, и ее мать вот также держала у губ носовой платок.
Магги не могла больше вынести этого. Она изо всех сил рванула шпингалет и широко распахнула обе рамы окна.
– Папа! – не помня себя, закричала она. Александр обернулся и взглянул наверх на нее долгим остановившимся взглядом. Его лицо, помятое, было пепельно-серого цвета – он выглядел больным, и даже в слабом и чем-то пугающем свете еще не окрепшей зари Магги видела, как в глазах его стояли слезы. И он ничего не сказал.
– Папочка! Папа! Что случилось? Папа!
Максимилиан слегка подтолкнул его к машине.
Александр оглянулся назад на жену, сказал что-то, чего Магги не могла услышать – но обе женщины стояли, как статуи, монументальные и безжалостные. Магги стало страшно. Ее захлестнуло отчаянье. Ее отец уезжает! Его выгоняют, увозят, и неожиданное мучительное предчувствие пронзило ее – она никогда больше его не увидит!
– Нет!!! – незнакомый, дикий крик вырвался у нее из самой глубины ее существа, и с недетской силой она вцепилась в раму и вскарабкалась на холодный камень карниза. – Мама! Что он сделал плохого? Я хочу знать, что случилось!
– Магдален, немедленно слезь с окна! – резанул по ней жесткий окрик бабушки, тогда как Эмили, как прежде, стояла рядом молча, безо всяких эмоций на наглухо застывшем лице.
– Не слезу! Нет!! Я хочу к папе! Выпустите меня отсюда! – она стояла на наружном подоконнике, ранний свежий утренний ветерок вздувал ночную рубашку вокруг ног. – Папа! Заставь их! Пусть они выпустят! Папа!
– Магги, пожалуйста… – голос отца был странным и слабым. – Слезь с подоконника, это опасно.
– Но папа… Я хочу поговорить с тобой!
– Schätzli. Солнышко мое.
Это было все, что он сказал, но Магги видела, каким испуганным и страдающим было его лицо, и только ради него, ради него она подчинилась и слезла вниз с окна на пол. Слезы потоком лились по ее щекам. А когда она оглянулась назад и посмотрела вниз, из окна, Александр, шатаясь, уже садился на заднее сиденье машины, и Максимилиан захлопнул дверь с последним безвозвратным звуком, резким, как выстрел.
– Папа?! – сказала Магги слабо, дрожа всем телом, когда шофер запихнул чемодан в темное пещерное чрево багажника и сел за руль. Мотор завелся. Машина тронулась и исчезла из виду.
Магги, видя и не видя, смотрела вниз, на мать и бабушку, но они, казалось, забыли о ее существовании, словно не слышали рыданий, которые сотрясали ее тельце. Медленно пошли назад в дом, закрыли тяжелую входную дверь, потушили свет и оставили ее наедине с тусклым мертвенно-бледным предутренним небом.
Только час спустя в замке повернулся ключ, и фрау Кеммерли вошла в спальню Магги.
– Сладенькая моя, – сказала экономка, в голосе ее была доброта. Она посмотрела на залитое слезами детское личико и прижала девочку к своей груди.
– Что случилось, фрау Кеммерли? – Магги попыталась немного отстраниться, но обнимавшие ее руки экономки были крепкими и сильными. – Куда уехал мой папа? Почему они меня заперли?
– Ну, ну, деточка, – приговаривала фрау Кеммерли, гладя ее по волосам. – Все будет хорошо.
– Что будет хорошо?
Экономка отпустила ее.
– А теперь давай умоемся и оденемся, чтобы идти в церковь. Тебе станет лучше после хорошего завтрака…
– Я не хочу завтракать!
Совсем измученная, Магги оттолкнула ее и выскочила из комнаты за ней. В доме теперь было тихо, все остальные двери на этаже были закрыты. Она побежала прямиком в кабинет отца и распахнула дверь. Там было все, как всегда – папины бумаги и ужастики Чандлера, и ничто не предлагало ключа к разгадке.
Магги выбежала назад, пронеслась мимо двери Хильдегард и внезапно остановилась около половины родителей. Она услышала плач и без стука повернула дверную ручку.
Эмили Габриэл сидела в обитом ситцем кресле. Она уже сняла темный костюм, который надела для расставания с мужем и теперь была в атласном неглиже экзотической расцветки.
– Магги, – сказала она и с необычным проявлением теплоты раскрыла ей объятья. Магги забежала в них, безотчетно ища защиты и ласки. Но вид такого явного страдания матери испугал ее больше, чем что-либо. Глаза Эмили были красными, и в правой руке был стиснут белый кружевной платок, весь мокрый от слез.
– Мама, ну что случилось? – Магги взглянула вниз и увидела на ковре около кресла разбитую свадебную фотографию родителей в серебряной рамке. – Куда уехал папа?
Момент близости миновал, и руки Эмили беспомощно упали с плеч дочери.
– Он уехал, и хватит об этом.
Какая-то твердая окончательность в голосе матери обострила страх Магги.
– Но куда он уехал? И почему ты кричала, мама? Я слышала это – и слышала голоса – и видела того человека…
– Какого человека?
– С рыжими волосами.
Магги заставила себя сосредоточиться на произнесении имени, которое она запомнила потому, что всегда думала – это такое чудесное имя. – Константина Ивановича Зелеева. Друга Опи.
– Откуда ты его знаешь? – тон Эмили неожиданно стал холоднее.
– Я не знаю его, но Опи рассказывал мне о нем. Он из России, и я видела, как он пришел в наш дом сегодня вечером, – Магги слегка покраснела, когда поняла: она признается, что подсматривала со ступенек, но сейчас это было для нее неважно. – И я видела, как он уехал с Максимилианом ночью.
Она запнулась.
– Почему ты кричала, мама?
Эмили промокнула покрасневшие глаза носовым платком.
– Иди и оденься, Магги.
Магги смотрела на нее в нерешительности.
– Но я хочу знать…
– «Ты хочешь». Юная леди вообще не может ничего «хотеть», Магдален, – сказала твердо Эмили; вся ее теплота исчезла окончательно. – Я хочу остаться одна. У меня была ужасная ночь, и я просто выжата.
– Но папа…
– Ни слова больше о твоем отце. Иди и оденься. Фрау Кеммерли отведет тебя и Руди в церковь.
– Но папа выглядел больным…
– Не сейчас, Магдален, – Эмили почти кричала на дочь, потом вдруг разразилась рыданиями, неожиданность и сила которых встревожила Магги так, что она отступила назад в замешательстве.
– Прости меня, мама, – сказала она, а потом с уколом неожиданной жалости к матери подбежала к ней, чтоб успокоить ее. – Пожалуйста, не плачь. Я просто…
– Оставь меня одну, – голос Эмили прозвучал хрипло, и на лице ее застыло выражение, которое показалось дочери бескомпромиссной неприязнью. – Прочь отсюда!
Магги выбежала вон.
Объяснение, данное позже Магги ее матерью и бабушкой, было туманным, неудовлетворительным, и даже еще больше повергло ее в шок и разбередило горе. Это произошло как раз перед лэнчем, и Руди был в детской с няней – взрослые решили, что вовсе ни к чему без нужды расстраивать четырехлетнего мальчика. Он слишком мал, чтобы понять, да и в любом случае он сам привыкнет к тому, что взрослые считают лучшим в его же интересах.
– Твой отец, – сказала Магги Эмили, – из-за своей невоздержанности повинен в ужасной истории.
– Что значит – невоздержанность? – спросила Магги.
– Это значит, что твой отец – пьяница, – Эмили была теперь спокойней; хотя болезненная припухлость глаз предательски выдавала ее, манера поведения была почти ледяной в своей бесстрастности. – Ты понимаешь, что такое – пьяница?
– Уверена, она понимает, – быстро вмешалась Хильдегард. Она тоже владела собой почти так же, как всегда, но лицо ее было бледнее, чем обычно, и ловкие руки с широкими пальцами чуть-чуть дрожали.
– Тебе самой не раз пришлось быть свидетельницей его безволия… он всегда потакал своим прихотям, – продолжала бить в одну точку Эмили, тон ее становился все жестче. – К несчастью, твой отец никогда не выказывал особой любви к тебе и Руди – не говоря уже о своей жене и матери.
Теперь Эмили смотрела дочери прямо в глаза.
– Так что больше нет никакого смысла скрывать от тебя правду, так, Магги?
– Да, мама, – Магги ждала в тревоге.
– Правда состоит в том, что он навлек бесчестье на нашу семью и впутал нас в грязный скандал, и навсегда покинул наш дом.
– Нет!
– Боюсь, что это правда, хотя и отвратительная.
– Но он никогда не сделает этого! – лицо Магги стало белым, как мел. – Папа никогда не бросит меня!
– Сделает. И уже сделал, моя дорогая, – отрезала Эмили. – И теперь ты должна забыть его.
– Никогда! – обжигающие слезы подступили к глазам Магги.
И тут опять вмешалась Хильдегард.
– Конечно, ты не можешь совсем забыть своего отца, – сказала она более мягко. – Но твоя мать поставила тебя лицом к лицу с голыми фактами только потому, что мы обе чувствуем – ты уже большая храбрая девочка, и мы не хотим тебе лгать.
Она сделала паузу.
– Поверь, это ужасно шокировало всех нас. Твой отец – мой единственный сын, Магги – я люблю его так же, как и ты.
– Он не стоит любви, – эфемерное спокойствие Эмили начало покидать ее, и голос дрогнул от горечи.
– Но я по-прежнему не знаю, что произошло, – выкрикнула Магги. – В какой скандал он впутал семью? И куда он уехал?
Она умоляла их обеих.
– Куда его увез Максимилиан? Я знаю – он не хотел уезжать! Я видела это по его глазам…
– Куда уехал твой отец – не тебе знать, – резко оборвала ее Эмили, желая положить конец разговору. Голова ее разрывалась – она была почти больна. – Александр Габриэл – порочный, отпетый человек, настоящий грешник.
– Нет! – голос Магги стал пронзительным от отчаянья. Она бросилась к бабушке. – Скажи ей, Оми, скажи! Скажи, что папа – не порочный. Это она – она сама порочная, если так говорит!
Правая рука Эмили уже была готова хлестнуть дочь по щеке, но она совладала с собой. Хильдегард стояла рядом с ней, резко выпрямившись. Она колебалась, но не говорила ничего.
– И ты не смеешь больше упоминать о своем отце в моем присутствии, – проговорила Эмили, разворачиваясь, чтобы покинуть комнату.
Она не станет есть лэнч; она думала, сможет ли она вообще опять когда-нибудь есть.
– Никогда, ты слышишь меня?
– А мне все равно! Мне неважно все, что ты говоришь! – Магги теперь уже просто кричала. – То, что будто сделал папа! Мне ВСЕ РАВНО – я тебе не верю!
– Магдален, – стала выговаривать ей Хильдегард. – Не говори с матерью в таком неуважительном тоне.
– Но ведь она лжет про папу – и она заставила его уехать от нас!
– Нам всем крупно повезло, что он уехал, – сказала Эмили, и ледяное спокойствие опять возвратилось к ней.
Магги пыталась докопаться до правды, но все было безуспешно – слуги были строго проинструктированы, и ни няня Руди, ни фрау Кеммерли, ни Максимилиан не сказали ей ничего, чего бы ей уже не говорили. Шофер жалел девочку, но он служил в Доме Грюндли уже много лет, и его преданность хозяевам была абсолютной.
Это была первая мука в коротенькой жизни Магги, и она была совершенно бессильна что-либо изменить. Она презирала их всех, она обижалась и негодовала, но Магги не могла не понимать одну горькую вещь – ей было всего семь лет, и для них она была всего лишь ребенок, которому можно было не объяснять ничего, или лгать, считая, что она не имеет права требовать правды. Конечно, она никогда не считала своего отца святым. Но он был такой восхитительный, от него всегда веяло весельем и теплотой, так часто он смеялся с нею взахлеб, ласкал ее, баловал – он любил ее. Никогда – даже на секунду, Магги не поверит, что ее папочка – тот порочный человек, о котором говорила ее мать. Это гнусная ложь. Но никому на свете не было до этого дела, он был не нужен никому, всем наплевать на то, что случилось с Александром – кроме Магги и, может, еще Опи; и она знала – хотя никто не говорил ей об этом – что ей больше не позволят навещать Амадеуса. Что касается Руди, он, конечно, задавал вопросы об исчезновении отца – но мальчик всегда был любимцем Эмили, ее сладким малышом, и в его годы он, казалось, больше думал о настоящем, о том, чем была заполнена его жизнь, а не жалел о том, что утратил.
Магги угадала верно. С отъездом Александра пришел конец ее поездкам в Давос. Она с болью поняла, что потеряла тех двух единственных на свете людей, которых она любила по-настоящему. И эти явные несправедливость и жестокость превратили ее в постоянного и неумолимого судью матери. Если раньше причина проделок Магги коренилась в бьющей через край энергии и потребности жизни, то теперь ее упрямство и непослушание шли от несчастья и полного одиночества – а еще, от чувства, которого она никогда раньше не знала.
Магги ненавидела свою мать.
5
Теплым сентябрьским утром 1950-го, через три года после того, как Александр покинул Цюрих, Эмили Габриэл оформила развод на основании исчезновения своего мужа и вышла замуж за богатого торговца оружием по имени Стефан Джулиус. Ему было сорок четыре года – на двенадцать лет старше Эмили. Это был второй брак для обоих. Они идеально подходили друг другу. Это был мужчина с пепельными волосами, серыми глазами и респектабельной, внушительной наружностью. Он угодил Грюндлям во всем – именно так ощущали себя Хильдегард и Эмили, угодил гораздо больше, чем когда-либо Амадеус и Александр, вместе взятые. С Джулиусом в дом семейства Грюндли пришел еще более грандиозный достаток; там, где раньше сквозило изящество и комфорт, теперь были роскошь и бьющее в глаза изобилие.
У Джулиуса не было детей от предыдущего брака, и поэтому Магги и Руди были единственными «подружками» и «пажами» невесты на бракосочетании в кирхе Святого Петера. Жизнь их теперь изменилась. Но если Руди от души радовался происходящему, то Магги была подневольной спутницей матери в этой новой ее жизни. Она терпеть не могла своего серого, безликого и расчетливого отчима, и Джулиус платил ей тем же. Он узурпировал место главы семьи, которое принадлежало по праву только ее отцу, и – к ее досаде и боли – как показало время, сделал это ловко, мастерски держа ситуацию под контролем. И, похоже, узурпировал навсегда.
– Я ненавижу его, – сказала она как-то Руди.
– Правда? – ее брат, которому было уже восемь, казалось, искренне удивился. – А мне он нравится.
– Потому что он приносит тебе подарки? – презрительно спросила сестра.
– И делает так, что мама смеется.
Этого Магги не могла не признать. Благодаря своему новому мужу к Эмили вновь вернулись ее прежние игриво-пустые, но претендующие на многое женские повадки, почти усохшие за время жизни с так разочаровавшим ее Александром. Она чувствовала себя довольной, на своем месте, и бесконечно счастливой, и это делало ее более приятным спутником жизни для окружающих. Хильдегард была за нее рада, одобряла ее брак, и ей приносило удовлетворение, что Стефан – хотя и внесший кое-какие перемены в их жизнь, все же оценил незыблемые ценности и имущественное положение Дома Грюндли и не собирался оспаривать ее статус матриарха дома и семейства. Руди же любил всякого, кто был с ним добр, в нем не было ни затаенной вражды, ни притворства. Только Магги оставалась саднящей занозой в плоти матери, диссонансом, вносящим беспорядок в ее новую полноценную и правильную жизнь.
– Ты что, не можешь сделать над собой усилие и быть полюбезнее со своим отчимом? – спросила Эмили свою дочь месяцев через шесть после свадьбы. – Пока вряд ли можно сказать, что ты хотя бы вежлива с ним. Он мирится с этим только ради меня, и я не вижу причин, почему он должен это делать.
– Он относится ко мне с неприязнью, – глухо сказала Магги.
– А почему он должен относиться иначе, если ты такая? – Эмили сделала паузу, пытаясь сдержать свой гнев и быть настолько терпеливой, насколько возможно. – Чего ты ждешь от него, Магги? От всех нас? Чего ты хочешь, детка?
– Я хочу видеть своего отца.
Все они говорили ей, что она забудет его, но Магги знала, что не забудет никогда, и однажды, всем им на зло, увидит его.
– Это невозможно, – слабо сказала Эмили.
– Почему ты так говоришь?
– Ты хорошо знаешь сама, почему.
– Это – неправда, – бирюзовые глаза Магги вызывающе смотрели на Эмили. Она никогда не простит своей матери то, что она забыла ее отца, и чем больше проходило времени, тем сильнее крепла решимость Магги. Она не простит.
– Ах, Магги, – вздохнула Эмили. – Неужели ты не можешь немножко смириться? Прошлое нельзя изменить – неважно, как горячи твои чувства.
Магги подождала минуту.
– Тогда дай мне по крайней мере увидеть дедушку.
Ее мать покачала головой.
– Ты никогда не успокоишься, не уступишь, ведь так? Ты и впрямь самая несносная девчонка на свете.
– Если ты дашь мне увидеть Опи, обещаю, я постараюсь вести себя иначе.
Если б это касалось другого ребенка, тут можно было бы заподозрить хитрость, но Эмили знала, что ее одиннадцатилетняя дочь была слишком честной, слишком прямой для этого. Внутренний мир Магги всецело строился на чувствах, но при этом в ней была необыкновенная решимость. Ее предложение было логичным, своего рода компромисс. Если они позволят ей увидеться с Амадеусом, тогда она – Эмили в это поверила – постарается по крайней мере сделать усилие.
– Я поговорю с твоим отчимом, – сказала Эмили. – Но я не могу тебе ничего обещать.
Оказалось, что ее плохие отношения со Стефаном имели одно преимущество, о котором Магги никогда не могла бы догадаться. Стефана она настолько раздражала, что он только обрадовался бы, если б ее отсутствие в доме длилось как можно дольше, и поэтому поездки Магги в Давос были узаконены, и атмосфера в доме стала чуть разряжаться.
Амадеусу не было и шестидесяти, но со своими побелевшими волосами и обветренной горным воздухом и частой зимней непогодой кожей он казался Магги очень старым. Он доехал до Ландкарта, чтоб встретить цюрихский поезд, и вся радость, переполнявшая его сердце, была написана у него на лице. Его голубые глаза сияли, его большие сильные руки крепко обняли ее, и Магги почувствовала, что ей не было так хорошо и спокойно уже много лет.
На второй вечер после приезда Магги сидела на террасе деревянного дома, когда Амадеус пошел к входной двери, услышав стук. Когда он вернулся, он был не один.
– Schätzli.
Голос заставил Магги прыжком вскочить на ноги. Глаза ее широко раскрылись, словно блюдца, щеки залил жаркий румянец радости.
– Папочка!
Оба они стояли, не двигаясь с места, а потом, через секунду, Магги бросилась на шею Александру, всхлипывая от счастья, а Амадеус смотрел от порога, ничего не говоря.
– Папочка, я знала, знала, что если приеду сюда, то увижу тебя! Ох, папочка, мне было так плохо без тебя! Я так ждала тебя! – все время плача навзрыд, Магги прижималась к отцу, и слова так и лились из нее фонтаном. – Где же ты был? Куда ты уехал? Почему они заставили тебя? Ведь они заставили тебя, правда?
Александр обнимал ее крепко, чувствуя ее рядом, видя ее, вдыхая ее сладкий запах, вновь ощущая любовь своей дочери. Никто – из всех, кого он знал – не любил его с такой силой, неистовостью и честностью, как его Магги, и горечь сознания того, что он покинул ее, была просто невыносимой.
Весь вечер она не переставала спрашивать и спрашивать его о той ночи, когда он покинул их дом. Но Александру удавалось уходить от ответов и ничего не сказать, кроме того, что он любил ее тогда и сейчас, и будет любить всегда – всем своим сердцем. Амадеус сидел молча и курил свою пенковую трубку, к чему недавно пристрастился, и смотрел задумчиво на них. Александр и Магги прижались друг к другу, и отец рассказывал дочери свои старые детективные истории, словно пытаясь вернуть утраченные счастливые дни – но его голос и манеры изменились. Он вообще во многом изменился, поняла Магги, он был гораздо более безрадостным и задумчивым, чем она его когда-либо видела, и глаза его были несчастливыми.
– Почему ты такой грустный, папа? – спросила она его мягко.
Александр улыбнулся.
– Совсем нет – не сейчас, когда я с тобой.
– Это хорошо, – сказала она и поцеловала его самым нежным из своих поцелуев. Но все равно он выглядел другим: худее, помятее, с кругами под глазами и руками, которые часто дрожали. И она поняла – по тому, как он продолжал уходить от ответов, – что он не скажет ей ничего; по крайней мере до тех пор, пока она еще ребенок. И она была расстроена, но не сердита. Разве могла она сердиться на своего папочку – ведь она так любила его, да и в любом случае теперь все это не имеет никакого значения. Главное, сейчас они снова вместе.
Но это была недолговечная радость. Хотя Магги приехала к Амадеусу на шесть дней, Александр уехал, пробыв всего двое суток.
– Ну почему ты должен ехать, папочка, почему? Она опять плакала – но теперь уже от безысходнейшего горя.
– У меня нет выбора, Schätzli.
– Но я не понимаю!
Дедушка попытался объяснить ей кое-что – как мог. Он сказал, что ее семья думает, Александра нет в Швейцарии. Могут быть неприятности, если они узнают, что он здесь. И Магги поклялась, что никому ничего не скажет. Но это ничего не изменило. Ее отец уезжает и покидает ее – опять.
– Ты такая несчастная, Магги. Не надо, – умолял он ее. Он выглядел таким подавленным, каким Магги не видела его никогда. – Я не смогу этого вынести.
– Тогда останься здесь.
– Я не могу.
– Еще один денечек, и я обещаю, что не буду мешать тебе уехать, – ее глаза заглядывали в его глаза с отчаянной надеждой. – Никто никогда не узнает, что ты…
– Это невозможно, Schätzli, – он остановил ее. – Но твой дедушка даст мне знать, когда ты опять приедешь к нему, и тогда – клянусь, я приеду к тебе опять.
– Но где ты будешь, папочка? Где? Куда ты едешь? – теперь Магги уже точно знала, что он ничего ей не скажет. Но она должна была спросить, должна сделать все, что в ее силах, чтобы остановить его, не пустить его назад в эту черную дыру, в это страшное, пустое, таинственное место, где он прячется от ее семьи. Но почему? Почему? Неужели она никогда не сможет понять?
Но ей по-прежнему было всего лишь одиннадцать, и ничто не было в ее власти. Она ненавидела это – быть ребенком. Пустая трата времени. Жизни. И она поклялась, что когда вырастет, никогда не выпустит свою судьбу из своих собственных рук.
– Когда я вырасту, – сказала она Александру перед самым его отъездом, – мне не придется ждать, пока они скажут – ты можешь ехать в Давос. И я не буду ждать, пока ты приедешь ко мне. И даже если ты не скажешь, где мне искать тебя, я все равно найду. Хоть на краю света! Я приеду и буду жить вместе с тобой.
Ее отец наклонился и взял ее за подбородок – так, чтобы были видны ее чудесные глаза.
– Когда ты вырастешь, моя маленькая Магги, ты станешь красивой женщиной, и много, много мужчин полюбят тебя, и у тебя не останется времени для твоего глупого, испорченного старого папочки.
– Ты – не испорченный, и у меня всегда, всегда будет время для тебя!
Александр проглотил слезы.
– На всем свете нет такой, как ты, моя Schätzli, – он поцеловал ее золотоволосую головку. – Благослови и храни тебя Бог.
И оба они были как потерянные – в слезах и скорби, прижимались друг к другу тесно-тесно, пока Амадеус не подошел и тихо не тронул сына за плечо, и не сказал ему, что пора ехать.
После этой встречи Магги ездила в Давос почти каждые каникулы, и дважды Руди было позволено поехать вместе с ней. И им было хорошо там всем вместе. Амадеус так радовался, что его внук тоже наконец навестил его, а Руди был все тем же мальчиком с добрым легким нравом. Но у него не было ни отваги, ни решимости сестры; он был послушным и податливым, и всегда делал то, что ему говорили. Когда Магги и дедушка хотели покататься на лыжах, он, естественно, соглашался, но когда Амадеус сажал его рядом с сестрой на стул горного подъемника, Руди становился белым, как снег, окружавший его, и всю дорогу дрожал так сильно, что это было заметно. Магги искренне жалела его, и ободряюще обнимала за плечи, чтобы защитить от страха, но потом она жаловалась Амадеусу:
– Лучше бы он не ходил с нами – он такой слабак.
– Это – не по-доброму, Магги, – Амадеус хмурился и смотрел с упреком из-под бровей, ставших немного лохматее с возрастом. – И непохоже на тебя.
– Но ему не нравится – на самом-то деле. Магги сделала паузу:
– Да и потом, когда Руди здесь, папочка не приезжает.
Амадеус погладил ее руку.
– Я знаю, Herzli,[14] – это тяжело.
– Но почему он не может приехать, когда здесь Руди? Разве папа не доверяет ему?
Ее дедушка колебался, прежде чем ответить. Он испытывал противоречивые чувства. По правде говоря, у Александра не было такой же веры в сына, как в дочь. Симпатии Руди – если б случилось их испытать – были бы безо всякого сомнения на стороне Эмили и Стефана, и это вполне понятно, потому что мальчик едва ли помнил своего отца. Но в то же время Амадеусу казалось, что было бы неправильным дать понять Магги, что ее маленький брат не заслуживает доверия. Неважно, по какой причине.
– Руди не видел твоего папу с тех пор, как ему было четыре, – проговорил он наконец, как всегда сознавая, как это важно – говорить Магги правду. – И если он не испытывает к отцу тех же чувств, какие есть у тебя, Магги, это – не его вина. Он просто не может. Он очень искренний и открытый мальчик – такой же, как ты в его годы.
– Я никогда не была такой, как Руди, – сказала Магги со снисходительным отвращением.
– Ты всегда была открытой и честной – и такой же твой брат. Настолько такой же, что первое, что он сделает, приехав домой – если увидит твоего отца – это расскажет твоей матери и отчиму. Даже если мы попросим его не говорить, он может легко об этом забыть.
Но когда бы ни приезжала Магги в Давос одна, Александр появлялся там буквально через день-два после ее приезда. Он никогда не говорил, откуда приехал, и исчезал всегда так же загадочно, как и в их первую встречу. И Магги чувствовала, что по-настоящему живет только в те дни, когда она бывает вместе с Амадеусом и Александром. Там, внизу, в Цюрихе она просто существовала. И ждала.
Хотя Эмилия Джулиус и верила, что ее бывший муж благополучно исчез из Швейцарии, и не имела ни малейшего понятия о том, что ее дочь видит его регулярно, она была недовольна – Магги совершенно явно все больше попадала под влияние «первой паршивой овцы» семейства Габриэлов. Но Стефан по-прежнему поощрял эти поездки, и Эмили, впервые счастливая в своем замужестве, не собиралась делать что-то, что могло бы подвергнуть риску ее брак.
Если б только Магги могла бы быть такой, как ее дорогой Руди, – он был покладистым, хорошо вел себя дома. И он обожал своего отчима.
Приезд Магги в Давос в начале зимы 1953-го особенно запомнился. В первое же утро приехал Александр, неся в руках маленькую жесткошерстную таксу.
– Папочка, да она просто красавица, – у Магги перехватило дыхание, когда отец протянул ее ей. – Сколько ей?
– Всего шесть месяцев.
Амадеус был просто очарован.
– А у нее уже есть имя?
– Ее звали Хекси[15] – потому что может так очаровать, что ты сделаешь все, что ей хочется.
Александр на мгновенье замолчал.
– Я никогда не забывал Аннушку, папа, и когда я увидел эту малышку и узнал, что она продается, то просто не мог устоять. Я подумал – она будет тебе неплохой компанией.
– Где ты нашел ее? – быстро спросила Магги, надеясь что-нибудь узнать об отце.
Александр улыбнулся.
– Во время одной из поездок, Schätzli.
Хекси была настоящая чаровница. Она была сильнее, смелее, и более открытой и общительной, чем Аннушка когда-то. Она была законченным воришкой, невероятно ловко стягивая кусочки ветчины с тарелок за ужином и тапочки из-под кроватей. Но когда ее начинали ругать, она только внимательно смотрела в их лица своими маленькими карими глазками, и через минуту все трое уже улыбались.
Двумя днями позже они сидели за лэнчем, когда услышали стук во входную дверь. Ни слова не говоря, Александр встал и поспешил наверх, а Амадеус быстро вымыл тарелки сына, бокал и протер стол там, где он только что сидел.
– Опи? – нервы Магги были на пределе. – А что делать мне? – прошептала она.
– Веди себя как обычно – мы с тобой одни, ты и я, ты понимаешь?
Она кивнула, и ее дедушка спокойно пошел открывать дверь.
– Кстати, о времени – я думал, что ты уже умер.
Амадеус разразился хохотом и обнял человека, стоявшего в дверях.
– Константин Иванович! Глазам своим не верю!
– Собственной персоной, вот он я во всей красе.
Магги, словно завороженная, наблюдала, как человек снимал меховую шапку. Она сразу его узнала, потому что тот почти не изменился. Его волосы были такими же рыжими, и усы все также безупречно ухожены и густы. Русский. Мужчина, с которым ушел ее отец в тот злополучный вечер, больше чем шесть лет назад.
– А кто эта очаровательная юная леди? – спросил по-французски Зелеев, заходя в комнату вместе с порывом холодного воздуха.
Амадеус закрыл входную дверь, оставив снаружи снег, который уже было начал залетать в дом.
– Это моя внучка, Магдален.
Магги встала, глядя в знакомые дружелюбные зеленые глаза.
– Возможно ли? – подмигнул Зелеев. – Девочка на лестнице? Но та была совсем ребенком, а вы – настоящая юная леди.
Он сделал паузу.
– Сколько вам лет – если это не очень нескромный вопрос?
– Мне – четырнадцать, мсье, – с достоинством ответила Магги.
– Константин! – Александр сбежал по ступенькам вниз. – Quelle bonne surprise![16]
– Для меня – тоже, – сказал Зелеев, и они тоже тепло обнялись. – Как ты жил, Александр?
Он отодвинул Александра на расстояние вытянутой руки и внимательно изучал его лицо.
– Не слишком хорошо, а?
Александр отстранился.
– Не все легко на свете.
На какой-то момент он залился багровой краской, но потом подошел к Магги и обнял ее.
– Вас уже представили моей дочери?
– Магдалене Александровне? – сумрачно сказал Зелеев. – Да, я имел это удовольствие.
– А почему вы меня так называете? – спросила Магги.
– Так обращаются друг к другу в России, – ответил он. – Это называется – отчество, но это второе имя означает просто то, что вы дочь Александра. Вам это нравится?
– Очень, – она сделала паузу. – Но немножко длинно для ежедневного общения, не так ли? Почти все зовут меня Магги.
– Тогда я внесу поправки – в своем вкусе, – улыбнулся Зелеев. – Конечно, Магги – это прелестно, но не очень подходит для такой обворожительной и умной молодой леди, как вы.
– Не пытайся обольстить мою внучку, ты, старый греховодник, – вмешался Амадеус и хихикнул.
Зелеев тоже засмеялся, но Александр отвернулся, и Магги, ощущая его беспокойство, подошла к нему и взяла его руку в свою. Несмотря на то, что папа был явно рад видеть русского, она чувствовала, что его присутствие тревожило его, и она понимала, почему. Та ночь. Ее тоже беспокоил этот человек, по-своему, но все же она была возбуждена – наконец-то она почувствовала, что можно будет узнать, что привело к неожиданному изгнанию ее отца. В лице их странного гостя.
Она ждала три дня. Магги уже достаточно хорошо узнала скрытность взрослых, чтоб понять – слишком прямое или поспешное приближение к интересующему ее вопросу сделает лишь то, что тайна шестилетней давности станет не за семью, а за восемью печатями. Они отлично нашли общий язык – она и Зелеев. Многие друзья и знакомые ее матери и отчима отпускали ей комплименты по поводу ее золотистых волос или цвета ее глаз, и она понимала, что эта лесть могла быть не всегда искренней; но русский смотрел на нее так, что она знала – он имел в виду то, что говорил: он находил ее особенной, ему нравилась ее индивидуальность. И хотя Магги еще ни разу не встречала никого, подобного ему – с такими странно утонченными, даже привередливыми замашками и внезапными взрывами юмора и темперамента, или не всегда понятных чувств, – она могла с уверенностью сказать, что он тоже ей нравился.
Ее шанс выпал однажды днем, когда они вместе поехали в Давос Плац. Зелеев хотел купить новую расческу – потому что его старая сломалась вечером, и он не успокоится до тех пор, пока не найдет ей замену. Конечно, что касается него, это не может быть просто любая расческа – какая ни попадя, жизненно важно, чтобы она была сделана в Англии, и если он не найдет здесь то, что ищет, то без всяких колебаний отправится в Цюрих. Амадеус и Александр отправились на весь день кататься на лыжах. Магги же чувствовала себя непривычно нехорошо, ей пришлось сидеть дома все утро. Прежде чем она решила ехать с Зелеевым.
К счастью, они нашли расческу Кэнт, которая как раз была ему и нужна, во втором же магазине, в который зашли, и у них осталась еще уйма времени до вечера. Они пошли в кафе Шнайдера. Зелеев заказал большой облитый шоколадом торт и хрустящие пончики в сахарной пудре, и какое-то время они сидели молча; русский ел уже второй кусок торта, а Магги с удовольствием уплетала пончики, запивая горячим чаем.
Зелеев заговорил первым.
– Ну-с, когда же это начнется?
– Что начнется?
– Допрос с пристрастием, – улыбнулся ей Зелеев. – Я ждал несколько дней. Ты была очень терпеливой.
Он увидел, как она покраснела.
– Не смущайся, ma chère.[17] Было очень просто заметить огонек решимости в глазах, когда ты впервые попробовала расколоть меня.
Магги посмотрела на него.
– Вы имеете в виду – насчет папы?
– Конечно.
– Просто я… – Она замолчала и прикусила губу.
– Продолжай, продолжай.
– Просто я его очень люблю, и мне невыносимо не знать ничего – быть бессильной помочь ему.
– Ты помогаешь уже тем, что любишь его, – сказал Зелеев.
– Но этого недостаточно, – Магги говорила тихо, хотя за соседними столиками не было никого. – Он должен иметь возможность вернуться домой.
– Твои родители в разводе, Магги.
– Но тогда, по крайней мере, он мог бы жить в Цюрихе. Я даже не знаю, где живет мой собственный отец. – Она глубоко вздохнула. – И он так напуган. Вы бы видели его – когда приехали и постучали в дверь. Он просто побелел и сразу побежал наверх, словно…
– Словно что?
– Словно его сейчас арестуют или еще что-нибудь похуже.
Она замолчала.
– И я уверена, что он не сделал ничего, чего надо было бы стыдиться. Не сделал. Не мог сделать.
Зелеев наклонился ближе.
– Никто не собирается арестовывать твоего отца. Пока он осторожен, все будет в порядке.
– Но почему он должен быть осторожен? Я не понимаю. Мне нужно знать, что произошло той ночью. Вы ушли вместе с ним – Вы должны знать.
– Мне нечего сказать тебе, Магги, – проговорил Зелеев мягко. – Твой отец – единственный человек, который может…
– Но он не станет! – перебила его Магги, забыв на мгновение свое желание говорить тихо. – И как я могу помочь ему, если я ничегошеньки не знаю? Моя мама сказала, что папа влип в скандал, что он – пьяница, что он навлек позор и бесчестие на нашу семью. Но я знала, что она лжет – это все не может быть правдой!
Она помнила каждое слово, произнесенное Эмили, и жгучую, мучительную боль, которую причиняло ей каждое слово матери, каждый его слог.
– А ты уверена, что справедлива к своей матери, Магги?
– Но она говорила про него такие ужасные вещи! Даже если и был какой-то странный случай, даже если папа и пил…
Она запнулась и ждала, что скажет Зелеев, но он молчал.
– Мой отец – хороший человек, – настаивала Магги. – Добрый. Помните, как он принес дедушке таксу – он знал, что Опи очень одиноко.
– Да, это доброта.
– Я думаю, что получилась ужасная несправедливость – похожая на то, что произошло с капитаном Дрейфусом.
Магги внимательно слушала в школе, когда они проходили дело Дрейфуса, и это чудовищное недоразумение запало ей в душу, и Магги мечтала о том дне, когда ее семья будет умолять отца простить их.
– Мне жаль тебя, Магги, – сказал Зелеев, – больше, чем ты можешь себе представить.
– Ну тогда, пожалуйста, расскажите мне! Вы были с ним. И вы были в моем доме поздно ночью. Я вас видела – видела, как вас увез Максимилиан.
– Ты не можешь не понимать, что это – личное дело твоего отца. У меня нет права решать за него и рассказывать кому бы то ни было. Когда он сам решит, что пришло время объяснить тебе все, я не сомневаюсь, он сам расскажет тебе. Сам.
– Но он все еще думает, что я слишком маленькая.
– Может, и так. Тебе нужно набраться терпения, ma chère, и думать о том, что важнее всего.
– А что важнее всего?
– То, что вы вместе, прямо сейчас – ты и твой папочка, и дедушка, высоко в горах, в этом чудесном месте.
– И вы тоже.
Он улыбнулся.
– И я тоже.
Он протянул руку и нежно сжал ее ладонь.
– Вы должны научиться жить настоящим моментом, Магдалена Александровна. У вас по-прежнему есть отец – вопреки всем, и вы гордитесь друг другом. И никто не может у вас это отнять.
Магги ничего не ответила. Внезапно она ощутила себя просто выжатой – словно вся ее энергия ушла в эту мольбу. И теперь, хотя к ней снова вернулось то же томительное и напряженное ожидание и тревога, к которым она привыкла за эти годы, у нее не было больше сил бороться. Она вдруг почувствовала себя очень усталой и, извинившись, вышла из-за стола и пошла вниз в туалетную комнату. Когда вернулась, смесь смятения, беспокойства и страха снова были в ее душе.
Зелеев вежливо поднялся, но она не села снова за столик.
– Мы уже уходим? – спросил он.
– Пожалуйста…
Лицо ее было бледным, с двумя алыми пятнами краски на щеках.
– Но…
Она запнулась.
– Что случилось, ma petite?[18] – Зелеев нахмурился. – Тебе нехорошо? Ты заболела?
– Нет, – сказала она. – По крайней мере, мне так кажется.
Не говоря больше ни слова, Зелеев заплатил официантке, взял за руку Магги и вывел ее на улицу. Свежий холодный воздух слегка оживил ее, но смятение осталось.
– Может, поедем на санях?
Ему нравилось звяканье колокольчиков и лошадиные запахи пролетавших мимо саней – они напоминали ему о тройках, дома, в старые, но незабытые времена.
Магги беспомощно огляделась по сторонам.
– Мне нужно в…
– Что тебе нужно? Ты что-то хочешь купить?
– Да, – кивнула она. – В аптеке.
– Обязательно.
Он все еще держал ее руку, и он хотел уже было повести ее по направлению к ближайшей аптеке, но Магги словно застыла на месте и не двигалась. Он взглянул вниз на ее лицо.
– Что-то случилось, n'est-ce pas? Ты уверена, что с тобой все в порядке? Тебе плохо?
Она покачала головой, и ее щеки залила жаркая волна краски.
– Я не больна, но…
Она смотрела на белую, заметенную снегом землю, чувствуя просто пытку смущения.
– Я боюсь далеко идти, – сказала она с трудом.
– Но почему?
Отчаяние Магги стало просто невыносимым. В другое время, при обычных обстоятельствах, она не сказала бы ему ни за что на свете, но рядом не было никого другого, и уж лучше вытерпеть унижение перед одним мужчиной, чем перед целым городом незнакомцев. Она встала на цыпочки и прошептала:
– У меня кровотечение.
На одну мимолетную секунду Зелеев оказался в замешательстве, но потом он понял. Видя и понимая ее смущение, он тоже нагнул голову и спросил чуть хрипловатым голосом:
– Это – впервые, Магги?
Она кивнула, лицо ее все еще пылало. Она так мало знала об этом – кроме того, что у большинства ее одноклассниц уже началось, и для всех них, казалось, это было чем-то хорошо известным, потому что матери подготовили их. Эмили же ни словом не обмолвилась на эту тему, а сейчас внезапно, посреди улицы…
– Пойдем, ma petite, – Зелеев взял на себя ситуацию, останавливая проносившиеся мимо сани. – Залезай туда и накройся полостью.
Он помог ей и обратился к извозчику:
– Подождите меня немного – мне нужно кое-что купить.
Вскоре он уже спешил назад к ждущим его саням, держа в руках бумажный сверток. Он сел рядом с Магги.
– Все в порядке?
Она благодарно кивнула.
– Тогда давай поедем домой.
К тому времени, как они добрались назад в дом в горах, Магги чувствовала себя уже просто еле живой от стыда и тревоги. Обычно она носила брюки, но сегодня она надела клетчатую шерстяную юбку и привлекающую внимание своей изысканностью шляпку, которую Эмили купила ей в Цюрихе недели две назад.
Зелеев был в ударе. Он быстро выбрался из саней, пошел наверх и включил ей теплый душ, брызнув в ванну немного своего любимого бергамотного масла – обычно он не делился им ни с кем. А потом он отдал ей бумажный сверток из аптеки и спокойно, но осторожно объяснил, что нужно с ним делать.
– А теперь иди и прими душ, ma chère, а когда закончишь, мы слегка это отметим, пока не вернулись остальные.
Магги теперь была спокойнее, но ей все еще было неловко.
Зелеев нежно погладил ее по золотистым волосам.
– Ты становишься женщиной, – сказал он. – И я имел честь разделить с тобой этот момент.
Этот день как-то сблизил ее с русским. Магги ощущала его доброту и поддержку, и еще его такт, когда он оказался в несколько не обычной для мужчины роли, осторожно объясняя ей особенности ее женской природы. Он делал это так, что это звучало, словно он даже завидует ее способности к продолжению человеческого рода. Он успокоил ее, и даже дал ей свое любимое пушистое банное полотенце, и подбодрил, когда она устала за день. А после этого он больше никогда не возвращался к этому эпизоду, и за это Магги была ему благодарна – больше, чем за все остальное. Константин Иванович Зелеев, без сомненья, был человеком, которому можно доверить любой секрет, он доказал это, отказавшись предать доверие Александра – даже ей.
Спустя два дня после их поездки случился еще один запоминающийся эпизод. Это было чудесное солнечное утро, и все они завтракали вместе за столом на террасе, когда Амадеус встал.
– Я думаю, время пришло, Александр, – сказал он. – Пора показать твоей дочери Eternité. – Он сделал паузу. – Вы оба согласны?
– Как я могу быть против? – сказал Александр.
– Константин?
Улыбка Зелеева была немного кривой.
– Ты же знаешь – даже после всех этих лет, mon ami, – если б это зависело от меня, я показал бы ее всему свету. Но даже если это и так, нет ни одного человека, кому бы я хотел показать наше сокровище больше, чем Магги.
– Сокровище? – Магги с удивлением и любопытством посмотрела на дедушку.
– Зарытое сокровище, – вмешался Александр и засмеялся.
Они надели ботинки и вышли наружу, обойдя дом. Они дошли до его тыльной Части и зашли в конюшню. Куры Амадеуса, запертые внутри на зиму, подняли возню, раскудахтавшись, когда Амадеус подошел к сеновалу.
– Здесь? – спросила Магги.
– Потерпи, Schätzli, – засмеялся Александр, пока Амадеус и Зелеев орудовали граблями, чтобы скинуть вниз снопы сена. – Папа, дай я.
Александр взобрался на кучу, расшвырял сено и вытащил солому из тайника, а потом он забрался внутрь и вытащил спрятанную скульптуру.
– Вот она, – сказал он и мягко и бережно передал ее Амадеусу.
Как и у ее отца двадцать лет назад, у Магги перехватило дыхание от изумления, и глаза ее стали огромными.
– Ну? – вывел ее из забытья голос Зелеева.
– Это – водопад, да? Тот, что недалеко от долины? – спросила она еле слышно, глядя неотрывно на скульптуру и медля коснуться ее, словно боялась причинить ей вред. – Тот, что искрится даже в темноте.
– Ты права, – сказал Амадеус, бесконечно тронутый: она увидела не золото и бриллианты, а то, что видели они.
– Мы назвали его Eternité.
– А откуда она у вас?
– Ее сделали мы, – ответил Амадеус.
Она посмотрела на него, словно не веря его словам.
– Вы?
– Константин и я. Больше он, чем я – если по правде.
– Неужели? Разве это возможно? – она посмотрела на Зелеева, ища подтверждения. – Когда?
– Мы начали в 1926-м, – сказал Зелеев, его голос стал слегка мечтательным от воспоминаний. – И закончили через пять лет. В те дни я жил здесь, с твоим дедушкой и Аннушкой.
– Таксой Ирины, – сказала Магги. – Той, которую ты помогал хоронить, папочка.
Ее отец и Амадеус часто говорили с ней о тех старых временах, но всегда сдержанно и осторожно, памятуя о матери Магги и, конечно, о Хильдегард. Это были хорошие минуты, особенно для Амадеуса, которому всегда хотелось быть честным и открытым с внучкой, – но он всегда помнил, что маленького ребенка могут ранить эти разговоры, или она может обвинить свою семью, и, что еще хуже, это может привести к запретам на ее приезды сюда, в горы.
Но между тем сейчас Магги было уже четырнадцать. Она была очень развитой для своих лет, и у нее был здравый смысл и уверенность в себе, столь редкие для ребенка, все еще живущего под жесткой опекой семьи. Даже теперь, в одиннадцать лет, Руди казался на много лет меньше Магги – не по интеллекту, а по качествам повседневной жизни, таким, как отвага, амбиции и энергичность. Ни Амадеусу, ни Александру не приходило в голову показать Руди Eternité – они понимали, что это небезопасно: но когда Амадеус убедительно сказал Магги, что никто больше не должен знать о существовании скульптуры – потому что людям будет дело только до ее денежной стоимости, а не истинной ценности, – он знал, что может доверить Магги не только тайну, но и саму свою жизнь. Достаточно было только взглянуть в широко раскрытые внимательные глаза внучки, чтобы понять – он не ошибался.
– Расскажи мне еще об Ирине, – просила его она после того, как услышала историю про драгоценности Малинских. – Расскажи, как ты любил ее.
– Я любил Ирину, – начал Амадеус, – всей своей душой, каждой ее крохотной частичкой. По правде говоря, думаю, я ее обожал – а это не самый мудрый и безопасный путь любви. Но Ирина дарила мне в ответ даже больше, чем я мог дать ей, и дала мне счастье верить, что меня тоже обожают.
Хотя он охотно говорил об Ирине, он редко когда открыто пускался в разговоры о глубокой насыщенности и стремительности их романа, о силе их чувств. Но теперь, видя рядом с собой Зелеева и своего сына и внучку, он начал говорить прямо и очень откровенно – словно отпирая свое замкнутое, полузабытое сердце, и вся его любовь, все обожание, боль и горе хлынули из него – как полноводный Иринин водопад.
Никогда еще Магги не слышала такой романтичной, такой трагичной и прекрасной истории, не видела ничего великолепнее и трогательнее, чем эта скульптура, которую создали двое мужчин во славу женщине.
– Может, – рискнула она как-то сказать, – если б ты объяснил все Оми, она смогла б тебя лучше понять.
Ей всегда было больно слышать, как они говорили об Амадеусе, называя его Schwarzes Schaf.[19] Ей ответил Александр.
– Если б моя мать узнала, что они делают с драгоценностями, или что на пять лет двое мужчин ушли от мира, вкладывая всю свою душу и жизнь в произведение искусства – и только во имя любви, думаю, она постаралась бы упрятать моего отца в психушку.
– Может, она и Эмили и теперь не прочь сделать это, если узнают, – спокойно вмешался Зелеев.
– Я никогда им не скажу, – твердо ответила Магги.
– Мы это знаем, Schätzli, – сказал Александр. – Иначе Опи никогда бы не доверил тебе свою тайну.
Магги повернулась к Зелееву.
– Расскажите мне побольше о старых временах – когда вы жили в России и были с ней друзьями… и о Доме Фаберже…
Словно завороженная, она слушала несколько часов. Хекси заснула у нее на коленях, а рядом с Магги сидели трое мужчин, которых она считала своей единственной семьей. И Магги попала под странное обаяние Ирины Валентиновны, которая даже сейчас, спустя тридцать лет, заставляла сиять глаза Амадеуса и Зелеева, когда они говорили о ней. Зелеев продолжал бесконечные истории о Петербурге его юности – потом, когда устал и стал немного грустным, – о потекших вслед за этим годах, которые он провел в Париже и Женеве, и месяцах, которые прожил в Лондоне и Берлине, и Амстердаме, великих городах Европы, где промышленные ювелиры и коллекционеры продавали и покупали драгоценные металлы и камни, и фантазийные миниатюры…
– Париж – из них самый великий, – говорил он своим слушателям. – Как говорил Гюго, Париж – это крыша человечества. Человек может там чувствовать себя влюбленным, даже если он совсем один.
– Так вы теперь там живете? – спросила его Магги.
– К несчастью, нет, – ответил с сожалением Зелеев. – Я должен жить там, где найду наилучшую работу, а на сегодняшний день это – в Женеве. Хотя я чувствую, что никогда – и боюсь, что чутье меня не обманывает, – никогда я не создам ничего даже равного тому, что мы создали здесь, в этом маленьком доме.
Как всегда, когда Магги была в доме дедушки, ее поощряли петь в той манере, за которую преследовали в Доме Грюндли, и Зелеев научил ее своей любимой песне – «Жизнь розы», и Магги она сразу же полюбилась. Она быстро ее запомнила – потому что способности к музыке и поэзии далеко превосходили ее прилежание в школе, где она чаще всего скучала и чувствовала себя раздраженной. И хотя она была еще такой юной, ее роскошный, с приятной хрипотцой голос произвел сильное, захватывающее впечатление на троих мужчин и заставил бледные, золотисто-рыжие волоски на руках Зелеева буквально подняться.
– Посмотри, что ты наделала, – он показал ей, вызвав у нее озорной смешок. – Это дано только великим певцам, Магги. Ах, ты еще и смеешься! Ну, смейся, смейся, и смущайся, ma chère… но мое чутье – тонкая штучка, и оно не врет, а реакция на звуки – чисто инстинктивная и верная.
– Вы думаете, я правда смогу стать певицей? – спросила она, неожиданно совсем застеснявшись.
– Ты – уже певица, – доверительно сказал Зелеев. – Но при правильном обучении и тяжком труде ты заставишь слушателей повскакивать со стульев.
Он помолчал, а потом посмотрел на Амадеуса.
– Знаешь, mon ami, иногда она напоминает мне нашу Ирину Валентиновну – ты не знал ее в юности, когда она вся дышала здоровьем. У них обеих – одна и та же свежесть души.
Александр обнял свою дочь, ничего не говоря, и Магги прижалась к нему в ответ, наслаждаясь его близостью, хотя и ощущала странную, скорбную дрожь в его теле, с болью сознавая, что через несколько коротких дней, а может – часов, они расстанутся опять.
– Париж… – начал опять мечтательно Зелеев. – Вы должны побывать в Париже, Магги, поехать туда – в один прекрасный день, так, как сделала она. Этот город заставляет сиять даже уродство. Они понимают там красоту и талант – именно они придумали радости жизни. Если вы попадете в Париж, Магдалена Александровна, я думаю, вы покорите его, ослепите его своим блеском.
И она ему верила.
6
Прошло два года. За это время Магги ездила в Давос бессчетное множество раз, и всегда эти поездки были счастливыми – драгоценные дни, и Александр всегда приезжал к своему отцу и дочери. Но Магги так и не узнала правды о том, что же произошло той ночью, и со временем мучительность этого желания немного притупилась, потому что у нее по-прежнему был ее папочка, и их тайная, хотя и недолгая, жизнь вместе в доме в горах, в конце концов, была всем, что имело значение для нее в этой жизни.
Но зимой 1955-го, когда Магги было шестнадцать, на Давос свалились обильные и почти непрекращающиеся снегопады, и дорога, ведущая к деревянному домику, была завалена снегом. В Цюрихе Магги, Руди, Хильдегард и Стефан заболели гриппом, и хотя Магги почти уже выздоровела, Эмили не собиралась позволять ей навещать дедушку, пока погода не наладится, и вся семья не поправится.
Магги чувствовала себя, словно зверюшка в клетке, в доме Грюндли, пропитанном запахами Kamillentee[20] и эвкалиптового масла. Она очень волновалась за дедушку, который сам казался больным, когда она видела его в последний раз, и она горевала об утраченной возможности быть вместе с отцом. Она так надеялась увидеться с ним на Рождество, думая, что ей удастся отделаться от семейных торжеств и поехать в Давос. Но с тех пор, как ее мать и фрау Кеммерли стали зависеть от ее помощи – нужно было Магги ухаживать за Руди и бабушкой, чтобы Эмили могла всецело посвятить себя мужу, – нечего было и мечтать о том, чтобы попасть в горы до наступления Нового года.
Амадеус предчувствовал, что это его последняя зима. Ему было только шестьдесят четыре, но за последние месяцы он начал чувствовать себя старым, очень старым. Он знал причину своего недомогания, своей слабости – знал это очень давно. Он смотрел в зеркало в ванной комнате, вставленное в свое время для Ирины, и видел потухшие глаза и неестественный румянец на щеках. Он уже видел это раньше – больше тридцати лет назад.
Магги не раз спрашивала его – еще несколько месяцев назад – показывался ли он врачу, слыша по ночам кашель и хрипы. Выражение его лица было таким безмятежным, таким уверенным в себе, и, конечно же, он ответил ей «да», и что ей не о чем беспокоиться. Но он сказал ей неправду – потому что ему не нужно было идти к врачу, чтобы узнать диагноз. Он не собирался лечиться антибиотиками, которые были недоступны в Иринино время. Жизнь была благосклонна к нему – в целом ему повезло больше, чем он того заслуживал. Но пик его существования – его величайшая радость и глубочайшая скорбь, единственное время, когда он по-настоящему чувствовал свое сердце и душу, свое истинное «я» – были заключены только в двух годах. Двух коротких, бессмертных годах.
Он был готов умереть. Но как-то ему удавалось все еще жить, и он ждал и надеялся получить весточку о приезде Магги. Тогда он пошлет записку Александру. Он хотел уйти от них в небытие не внезапно, а повидав их перед смертью. Уйти спокойно. С любовью.
Но снег продолжал валить. А там внизу, в Цюрихе, в сумрачном старом доме на Аврора-штрассе грипп, оставив в покое Хильдегард, Руди и Стефана, перекинулся на Эмили и фрау Кеммерли, сделав для Магги совсем неосуществимым ее желание поехать в Давос.
Весть о смерти Амадеуса достигла Цюриха в первую неделю февраля, но хотя дороги теперь были в полном порядке, а обитатели Дома Грюндли совершенно поправились, Стефан и Эмили запретили Магги присутствовать на похоронах.
– Я обязательно должна поехать, – Магги была в шоке.
– Боюсь, что нет, – сказала Эмили, но без враждебности. – Это будет неразумно.
– Как можно говорить о разумности? Он же – мой дедушка.
Магги была вне себя от ярости, горя и страха. Боль и мука утраты настигла ее сразу же, как только ей отдали письмо от фрау Кранцлер, занимавшейся делами магазинчика Амадеуса в Давосе вот уже пятнадцать лет, но эта боль стала просто невыносимой и поглотила все ее существо, когда она поняла, что единственная прочная ниточка, связывавшая ее с отцом, оборвалась вместе с кончиной Амадеуса.
– Если бы не вы, я была бы с ним, когда он нуждался во мне, – бросила она в лицо своей матери и отчиму.
– Ты была нужна здесь, – отрезал Джулиус. – Твоя мать нуждалась в тебе.
– Я никогда не была ей нужна.
– Это, конечно, неправда, – Эмили парировала с достоинством, тогда как Стефан побагровел от злости на свою падчерицу. – Ты сама достаточно давала понять, что предпочитаешь общество этого человека своей семье. Ты не можешь делать из черного белое и наоборот только потому, что тебе так удобно.
– Но Опи – тоже наша семья! – запротестовала Магги. – А Вы оставили его умирать одного.
– Мы не знали, что он умирает, – сказала жестко Эмили. – И кроме того, он сам выбрал свою судьбу много лет назад.
Магги боролась с собой, чтобы успокоиться, понимая, что гнев не поможет выиграть сражение.
– Но вы разрешали мне часто ездить к нему – вы даже Руди разрешали, иногда. Почему же нельзя сейчас – именно в этот раз, а не тогда? – спрашивала она уже более спокойно. – Разве это не естественно, что я хочу быть там? Я вас не понимаю.
– А ты подумала о своей бабушке? – спросил Джулиус.
– Она не против.
– Ты очень ошибаешься.
– Как? – удивление и замешательство Магги было совершенно искренним. – Сейчас – после стольких лет – когда он умер?
Ей ответила мать.
– Потому что он будет похоронен рядом с ней, – ее голос был суровым. – Его любовницей.
– Рядом с Ириной? Конечно.
– Не произноси ее имени в этом доме, – вмешался резко ее отчим.
– А какое Вам до этого дело?
– Потому что мне есть дело до твоей матери, и твоей бабушки и до того, на чем зиждется наша семья, на чем она держалась до того, как ее устои запятнали Габриэл и его сын.
В первый раз ее отчим – ни рыба, ни мясо, бесцветное пятно, каким она всегда его считала – обратился к ней со словами, в которых сквозило нечто, напоминавшее человеческое чувство. Джулиус никогда не притворялся, что питает к ней какую-либо привязанность, и его частая злость на нее проявлялась во взрывах раздражения, сменявшихся холодным пренебрежением. Но сейчас Магги услышала в его голосе гордость и увидела ее в его серых глазах, и с удивлением поняла, что он любит ее мать и, что может еще важнее, уважает. И еще она поняла, что все дальнейшие споры и аргументы будут бесполезны – потому что у Стефана не было такого же уважения к ней, и никогда не будет. Ни он, ни Эмили не позволят ей быть на похоронах. И хотя они весьма условно были согласны на то, что она иногда виделась со старой паршивой овцой при его жизни, теперь респектабельные манеры Грюндлей-Джулиусов наконец возобладали, и решение было принято. Этому давно нужно было положить конец.
Амадеуса положили на место его последнего успокоения три дня спустя. Магги же бдительно стерегли: в школе – учителя, а дома – ее семья или фрау Кеммерли и Максимилиан. И она выплакивала свою боль без слез и держала свое горе и страхи в себе. Но она не собиралась сдаваться или отказаться от своего права попрощаться с дедушкой. Ей было шестнадцать, и она уже больше не была ребенком, у которого нет другого выхода, как только позволить, чтоб его жизнью распоряжались другие. После похорон они ослабят свою бдительность, и тогда у нее будет шанс. Она поедет в Давос, пойдет на могилу дедушки, опять увидит свой любимый дом. И тогда, может быть, она увидит своего отца – потому что он тоже мог не приехать на похороны. Ведь Александр мог даже не знать, что Амадеус умер; а когда узнает, он обязательно приедет, и вдруг счастливый случай сведет их там снова.
Она ускользнула из школы в полдень, через шесть дней после похорон. Магги села на трамвай, идущий к Гауптбанхоф, успела на поезд на Ландкарт, потом перебралась на маленькую железнодорожную ветку, петлявшую среди гор, и приехала в Дорф, когда первые лыжники уже возвращались со склонов. Она уже однажды побывала с Амадеусом на маленьком кладбище – когда он показал ей могилу Ирины, рядом с ее сестрой, и теперь Магги шла по следу своей памяти по истертым ступенькам некрополя, ища их троих. Сумерки уже начали спускаться на горы, и розовато-лиловый отсвет окрашивал это молчаливое, занесенное снегом царство вечного покоя в странные тона, вызывая тревожное чувство – нечто сродни дурному предчувствию или страху перед чем-то неведомым. Но Магги знала, что не может рисковать, дожидаясь утра – ведь Стефан и Эмили могли уже узнать, что она сбежала из школы без разрешения.
Их надгробные камни разделяло лишь несколько футов, и Магги увидела, что кто-то смел шапку снега с памятника Ирины. Теперь оба надгробия были одной высоты и ниже, чем те, что их окружали, давая ощущение единства. И Магги пришло в голову, что оба влюбленных лежат так близко друг к другу, что, кажется, могут протянуть руки, укрытые щедрой швейцарской землей, и соединить их навеки.
Она посмотрела на простую надпись, выгравированную на памятнике дедушки:
ПОКОЙСЯ С МИРОМ
– Я приду опять, – проговорила она сквозь слезы. – С цветами.
Но сейчас у нее так мало времени, и поэтому она поспешила назад в Дорф, и дошла до магазинчика на Променаде, ища фрау Кранцлер. Она всегда была приветлива с Магги и добра к Амадеусу. Дверь была на замке, окна закрыты ставнями, и маленькая надпись в траурной рамке извещала о кончине владельца.
Она нашла фрау Кранцлер в ее доме на Тшугген-штрассе, ее волосы с сильной проседью были спрятаны под платком, ее всегда нарядный и подтянутый вид теперь портил уродливый цветастый фартук. Она раскраснелась от работы – смерть ее работодателя позволила ей раньше, чем обычно, приступить к тщательной и большой уборке в доме, которой обычно занималась лишь с приходом весны. Она обняла Магги, завела внутрь и приготовила чай.
– Герр Габриэл умер во сне, – сказала ей фрау Кранцлер. – Я узнала об этом, когда пришла к нему – от него не было вестей больше дня. Ты же знаешь, твой дедушка не каждый день приходил в магазин. Я не раз говорила ему, чтоб он поставил себе телефон, но он все не хотел. Я приходила к нему почти каждый день, когда он чувствовал себя плохо, или он отправлял мне весточку с почтальоном.
– Он сильно страдал?
– Не очень, – сказала бережно фрау Кранцлер. – Доктор сказал, что его, сердце просто остановилось. – Она замолчала. – Он говорил о тебе постоянно.
Лицо Магги застыло.
– Они не давали мне приехать.
– Я знаю. Грипп.
Фрау Кранцлер опять помолчала.
– Он понимал.
Магги допила чай так быстро, как только могла. Больше всего на свете ей хотелось спросить об отце, но насколько она знала, никто в магазинчике не догадывался о его приездах. Магги могла допустить, что фрау Кранцлер осуждала ее семью за то, что они оставили одного старого больного человека и не пускали к нему Магги, – она знала это почти наверняка, и, может, Магги могла бы ей доверять – ведь она сочувствовала девочке и была по-своему привязана к ней, – но все же риск был очень велик.
– А где Хекси? – спросила она. – Я подумала, может, она у вас?
– Ее взяли Майеры. Похоже на то, что герр Габриэл договорился об этом несколько месяцев назад.
Майеры были фермерами, жившими немного подальше в долине.
– А дом тоже заперт – как магазинчик? – спросила Магги.
– Ja, ja,[21] – закивала головой фрау Кранцлер. – У герра Вальтера, адвоката, есть ключи. У него офис на Обер-штрассе в Плаце.
Она встала со стула.
– Ты хочешь, чтоб я ему позвонила?
– Нет, – быстро ответила Магги. – Спасибо вам, но сейчас слишком поздно. Я лучше дождусь до утра.
– Конечно, конечно. Где ты будешь ночевать?
– В Бельведере.
Магги сказала неправду. А потом она осторожно спросила:
– Кто-нибудь приезжал к дедушке за последние недели, фрау Кранцлер?
Сердце Магги забилось быстрее.
– Никто – с ноября, – фрау Кранцлер поджала губы. – Кажется, его друг-иностранец приезжал на неделю. Мсье Зелеев.
– И с тех пор никого? – во рту у Магги пересохло – несмотря на чай.
– А кто еще мог тут быть? – женщина опять стала доброй. – У него была только ты. И его воспоминания.
Магги уехала на такси – фрау Кранцлер настояла, чтобы вызвать его, и велела шоферу отвезти девочку в Бельведер, – но как только машина с Магги исчезла из виду фрау Кранцлер, Магги сказала водителю довезти ее до Дишма-штрассе. Она знала, что нет смысла идти к адвокату за ключами, потому что он должен будет сначала позвонить в Цюрих за разрешением, прежде чем отдать их ей. А ей хотелось побыть здесь одной, не видя никого. И тайно.
Она заплатила шоферу и дошла пешком последние несколько ярдов, наслаждаясь хрустом глубокого белого снега у нее под ногами. Ночное небо было кристально чистым, искрясь яркими звездами: тонкий диск новой луны парил высоко над Якобсхорном, и воздух был прозрачным, холодным и полным тишины. Магги посмотрела вперед и увидела дом. Всегда такой приветливый и гостеприимный, он теперь казался пустой раковиной: окна были темными, а из труб не шел дым.
Она разбила боковое окно, вытащила осколки стекла и перелезла через наружный подоконник в гостиную. Несмотря на безжизненную тьму, дом был полон Амадеусом. Старые знакомые запахи: его трубка, аромат дерева, его любимый шнапс, мыло в ванной. Электричество было отключено, и Магги нашла свечу в буфете и зажгла ее. Она бродила по комнатам, смотря, касаясь, вспоминая. Она немножко постояла на террасе, которую сделал Амадеус для Ирины больше тридцати лет назад, а потом вернулась внутрь и села на стул, на котором обычно сидел Александр. Магги закрыла глаза и стала молиться о чуде – Господи Боже, сделай так, чтоб приехал отец, прямо сейчас. Ведь он всегда приезжал, когда она была здесь – словно дедушка, как волшебник, просто взмахивал рукой и звал его. Но теперь больше нет волшебника, и Магги знала, что чуда не будет, что времена доброго колдовства ушли вместе с Амадеусом, оставив ее совсем одну.
Все его нехитрое хозяйство было вокруг нее, потому что Опи был человеком, для которого материальные вещи не имели такого значения, как для других людей. Дешевый эстамп Ходлера на стене, подставка для курительной трубки, вырезанная местным умельцем, и фотографии: одна Ирины, закутанной в ее соболя, другая, где ее руки обнимают Амадеуса – они были сняты на Парсенне, совсем как безмятежная и счастливая семейная пара; фото Александра, держащего на руках двухлетнюю Магги, а еще – Зелеева, в шелковистом смокинге, красивого человека, развернувшегося к смотрящему. Магги поднялась по деревянным ступенькам в свою старую комнату и прилегла на кровать, зарывшись лицом в плед и отдавшись чувству безопасности, спокойствия и счастья, которые всегда были с ней здесь, в этом старом, дорогом ей доме. А потом она взяла свечу и пошла назад, вниз из дома, и зашла на конюшню.
В первый раз она подумала об Eternité.
Она накапала воску на половицу и прочно поставила свечу. Все выглядело так, как всегда. Схватив грабли, она взобралась на сеновал и сбросила вниз несколько снопов соломы, прежде чем добралась до тайника. Дрожа от физического усилия и внезапного ожидания, Магги вытащила оттуда солому и заглянула внутрь.
Скульптуры там не было. На ее месте, придавленная большим камнем, лежала сложенная бумажка. Магги слезла вниз и поднесла бумажку к свету свечи, скорчившись на полу. Это была короткая записка, написанная рукой ее отца.
«Я дам знать Зелееву, где найти меня. Не говори никому. Благослови тебя Бог, моя Schätzli. Верь мне.»
Магги перечла ее три раза, потом сожгла драгоценный клочок в пламени свечи. Сердце ее бешено колотилось. Быстро, как только могла, двигаясь почти механически, она залезла снова наверх, засунула в тайник солому и положила на место снопы на сеновале граблями, а потом слезла вниз, взяла свечу и отковырнула застывший воск с пола. Сеновал выглядел так, словно никто не касался его. Магги обошла дом и зашла внутрь. А потом она пошла снова наверх, на этот раз в дедушкину спальню, и легла на его кровать, чувствуя, как его близость и теплота окутывают ее в последний раз. И, плача, она уснула.
Адвокат, герр Вальтер, разбудил ее в восемь утра. Он провел тревожную ночь после того, как его поднял с постели звонок Стефана Джулиуса, требовавшего найти Магги как можно быстрее и препроводить ее под охраной в Цюрих.
– Вы сказали фрау Кранцлер, что остановились в Бельведере, – сказал он мягко, против своей воли тронутый этой милой, взъерошенной девчушкой, у которой хватило смелости забраться в этот дом – и одной, во мраке ночи.
– Извините, что причинила вам столько беспокойства, – ответила она покорно.
– Мне придется позаботиться о том, чтобы вставили стекло в окне.
– Хотите, я сделаю это сама? – предложила Магги.
– Думаю, вам лучше вернуться домой, – сказал Вальтер. – Вы готовы?
Он посмотрел на ее наручные часы.
– Если вы голодны, мы можем сначала позавтракать, может, в кафе Вебера?
– Вы так добры, – колебалась Магги. – Но что мне действительно хотелось бы – если вы не возражаете – так это увидеть дедушкину собаку, прежде чем я уеду. Фрау Кранцлер сказала, что она на ферме Майеров.
Не видя в этом ничего дурного, адвокат с любезностью отвез ее на ферму и подождал ее в машине.
Магги нашла фрау Майер и Хекси на кухне – дверь была широко открыта, и Магги увидела таксу, свернувшуюся калачиком у ножки стола. Увидев Магги, собачка зашлась в экстазе радости, громко лая и виляя в восторге хвостом, а седоволосая женщина встала с места, вытирая руки об фартук.
– Grüezi mitenand, Fröili Gabriel,[22] – сказала она громко, чтобы ее услышали сквозь лай Хекси. Они виделись всего пару раз за все эти годы. – Фрау Кранцлер сказала мне, что Вы можете приехать.
Они пожали друг другу руки, и затем Магги обратила все свое внимание на таксу, дрожавшую с головы до ног от возбуждения радости и заливавшуюся лаем.
– Вы так добры, что взяли ее, – сказала Магги, отстегивая карабин от ошейника Хекси.
– Это было последнее, что мы могли сделать для герра Габриэла, – сказала фрау Майер, смотря на Магги в замешательстве. – Нам пришлось привязать ее. Чем бы ни был занят, нельзя спускать ее с поводка.
– А почему? – спросила Магги, беря собачку на руки. – Она причинила вам неприятности?
– Неприятности – не то слово, Fröili, – щеки фрау Майер порозовели, а глаза заблестели смехом. – Это существо просто невыносимо – она постоянно лает, носится туда-сюда – и днем и ночью, наскакивает на коров и пугает кур. Какое облегчение, что вы приехали за ней – я даже и не знаю, сколько б еще герр Майер стал это терпеть.
Магги колебалась только секунду. В Доме Грюндли никогда не было ни единой зверюшки, и она хорошо знала, что собаку Опи там ждут меньше всего, но перспектива того, что Хекси проведет всю свою жизнь привязанной…
Адвоката, ждавшего в машине, это застало врасплох.
– Вы не возражаете, герр Вальтер? – улыбнулась ему Магги. – Я буду держать ее на коленях.
Глядя в ее бирюзовые глаза, герр Вальтер обнаружил, что – несмотря на кожаные сиденья всего три месяца назад купленной машины – он вовсе не против, хотя и не был уверен, что Стефан Джулиус будет столь же покладистым.
– Так вы берете ее с собой домой, фройлейн?
Магги забралась в машину. Хекси прижалась к ее груди.
– Я заберу ее в Цюрих, – сказала она и поняла, с уколом скорби, что не может назвать дом на Аврора-штрассе своим домом. Домом был старый деревянный домик в Давосе, который, она знала, только что покинула навсегда.
Именно такса невольно вызвала последний, но сокрушительный взрыв в Доме Грюндли. Ни Хильдегард, ни Эмили вовсе не хотели собаки в своем обжитом респектабельном доме, где порядок охранялся с почти свирепой тщательностью, но самым ярым противником затеи Магги оказался Стефан. Если б ему когда-нибудь захотелось завести собаку, сказал он с угрюмо-угрожающей миной, уж будьте уверены, это была бы настоящая собака, а не избалованное сосископодобное существо с кривыми лапами. Хекси делала все, чтоб его злость не угасла. В первый же вечер она сделала лужу на кремовом абиссинском ковре в туалетной комнате Эмили. В свое первое утро она оставила недвусмысленную кучку в ванной Хильдегард и в этот же день куснула Руди за ляжку.
– За что она меня? – спросил Руди, его удивление было даже большим, чем физическая боль. Брат Магги совершенно не привык к непочтительному или недоброму обращению в доме – ни с чьей стороны, разве что иногда только Магги… Она не могла справиться с предубеждением против него за то, что он не поддерживал отца и ладил со Стефаном.
Буря разразилась часом позже, вскоре после того, как Эмили и Стефан вернулись с делового лэнча из Долдер Гранда и узнали от фрау Кеммерли о том, что случилось. Магги была в саду на заднем дворике, пытаясь уговорить Хекси делать свои дела на пышную густую цветочную клумбу, а не на ухоженные газоны и обожаемые ковры в доме.
– Магдален!
Она услышала голос отчима и сразу же поняла, что это Руди порассказал байки. Гнев и раздражение стали закипать внутри нее, и она подозвала к себе Хекси – но куда там! Такса была занята исследованием обрезанных голых розовых кустов.
– Выуди оттуда эту паршивую тварь и иди немедленно в библиотеку!
Ее поджидали бабушка и братец. Руди казался огорченным, но сидел тихо, как послушный ребенок. Скамья обвинителей, подумала Магги, глядя на них, и ее ярость стала еще сильнее.
– Где маленькое чудовище? – спросил ее Джулиус.
– Она в моей спальне.
– Дверь заперта?
– В ней только двадцать сантиметров, – ответила с вызовом Магги. – Как она достанет до ручки?
– Ты видишь? – Джулиус обернулся к жене. – Все, что я от нее вижу – это новые и новые дерзости, а ты хочешь, чтобы я с ними мирился?
– Магги, – начала Эмили. – Ты должна понимать…
– Уж конечно, она понимает, – рявкнув, вмешался Джулиус. – Она – не дурочка. Она отлично знает, что ей запретили ездить в Давос, и отлично знает причины, но она все равно ездит. Она всегда была невыносимым ребенком…
– Я – не ребенок, – не могла удержаться и перебила его Магги.
– Тогда все еще хуже – ты доказала, что ты – предательница и тебе нельзя доверять.
– Стефан, не расстраивай себя, – попыталась вмешаться Эмили.
– Ее поступок никому не навредил, – резонно заметила Хильдегард.
Это правда, она была очень недовольна и расстроена предательством Магги в такой важный момент. Но если б Стефан просто почтительно поддержал тещу и позаботился о ней перед похоронами, она бы поговорила с Магги наедине и успокоилась. А теперь она боялась, что дело было раздуто сверх меры, и это угрожало скандалом, внося опасное беспокойство в размеренную атмосферу дома.
– Не навредил? – Джулиус редко кричал, но он больше не собирался оставлять вопрос дисциплины своей падчерицы в руках ее матери. – Девочка лгала, предала нас и, могу вам напомнить, нарушила закон. Если б Петер Вальтер не позаботился обо всем, нам, может, уже позвонила б полиция.
– Но они не позвонили, – возразила Эмили.
– И вдобавок ко всему она приносит это нелепое создание, у которого не больше самоконтроля, чем было у ее хозяина, а если и этого всего вам недостаточно – полюбуйтесь, оно кусает Руди ни с того, ни с сего!
– Ну, это пустяк. Ничего страшного, – в первый раз заговорил Руди.
– Оно тебя укусило.
– Совсем легко, – сказал мальчик. – Правда, папа, это был крошечный укольчик.
Магги повернулась к нему.
– Если такой крошечный, почему ты нажаловался им?
– Я не жаловался.
– Тогда откуда они узнали? – спросила она осуждающе. – От Хекси?
Эмили защитила своего сына.
– Нам сказала фрау Кеммерли. Это все же случилось, и от кого мы узнали, не меняет дела.
– А зачем он пошел к ней, плача? – с отвращением сказала Магги. – Ему уже четырнадцать лет, а ведет себя, как малявка.
– Да как ты смеешь критиковать своего брата? – взорвался Джулиус, разбушевавшись, как гроза. – Только потому, что он имеет понятие об элементарной вежливости, о правилах хорошего тона…
– Как и я, – перебила его Магги.
– Отлично. Тогда ты должна понимать, что не может быть больше и речи об этом животном.
– Что вы имеете в виду? Джулиус игнорировал ее.
– Эмили, если ты отыщешь в телефонной книге номер ветлечебницы, я позвоню туда прямо сейчас – ее может отвезти Максимилиан.
Эмили посмотрела на часы.
– Уже слишком поздно сегодня.
– Для чего? – голос Магги стал напряженным.
– Ладно, – сказал Джулиус. – Первым делом сделаем это утром.
– Что? – спазм страха сдавил живот Магги.
– Укол. – Джулиус говорил теперь ледяным тоном. – Уверен, это то, что нам нужно. Достаточно безболезненно, насколько я знаю.
– Ты хочешь убить Хекси? – Магги сразу поняла, что задумал ее отчим, но она была не в состоянии поверить в это. – Только за одну маленькую ошибку?
– Папа, пожалуйста, – Руди побледнел. – Думаю, я сам виноват… Я, наверно, испугал собачку… она такая маленькая… уверен, она не хотела сделать мне плохо.
Хильдегард тоже казалась взволнованной.
– Это выглядит некрасиво, Стефан, – сказала она мягко и примирительно. – Может, Магги удастся придумать совсем другой выход, который устроит всех в нашем доме. Может, она найдет ему другой дом? Других хозяев?
– Где? В деревне? – Джулиус просто источал сарказм. – Она так хорошо вела себя у тех людей, что они были вынуждены держать ее на привязи – днем и ночью. Магдален сама же нам и рассказала об этом – чего уж больше. – Он сделал паузу. – Нет, я принял решение и я не уступлю. И кончено с этим.
– Вы не сможете, – решительно сказала Магги.
– Он говорит разумные вещи, – Эмили было противно, но так как ее муж редко требовал от нее неприятного, она чувствовала себя обязанной поддержать его. – Магги, ты должна видеть…
– Я не вижу ничего, кроме жестокости, – отрезала Магги.
Эмили закусила губу.
– Впрочем, у тебя есть выбор, – сказал своей падчерице Джулиус отрывисто и безапелляционно.
– Какой?
– Я могу застрелить эту бестию.
Как и всякий мужчина-швейцарец в стране, он всегда хранил свою армейскую винтовку дома.
– Ты предпочитаешь это, Магги?
– Отец, – начал Руди, но остановился.
– Ну? – Джулиус ждал.
Магги била лихорадка, ей стало плохо. Она поняла, что держала себя в руках многие годы. Поездки в Давос спасали ее от невыносимого, почти удушливого рабского существования и давали ей силы страдать в молчании. Каждый раз перед отъездом Амадеус предупреждал ее, что ни слова об Александре не должно было сорваться с ее губ. И Магги возвращалась в Цюрих во всеоружии скрытности, пряча свои чувства под маской молчания.
Но теперь она взорвалась.
– Вы – мерзкий человек, – сказала она Джулиусу, ее голос дрожал. – Меня от вас тошнило. Всегда. Я поняла вас с самого начала, как только увидела – но я была всего лишь маленькой девочкой, без всяких прав.
– У тебя всегда были права, – сказала потрясенная Хильдегард.
– Правда? У меня были какие-то права, когда вы прогнали папу, даже не дав мне поговорить с ним?
Она резко обернулась, чтобы взглянуть в лицо матери.
– Ты думаешь, что я забуду ту ночь, когда вы заперли меня?
– Это было для твоей же защиты, – сказала Эмили.
– Я тебе не верю. И я никогда не прощала тебе – и никогда не прощу.
– Ну уж хватит, – вмешался Джулиус. Но Магги не могла остановиться.
– По вашему хватит? Вы все вели себя так, словно папа был преступником… что он не может даже появиться в Швейцарии – не может видеть меня. Но он видел.
Щеки ее полыхали румянцем, а глаза горели от ярости.
– Он видел меня часто – каждый раз, когда я только была в Давосе!
– Только не тогда, когда я там был, – широко раскрыл глаза удивленный Руди.
– Конечно же, нет. Папочка не приходил, когда ты там бывал, потому что он знал, что не может доверять тебе.
Подсознательно, даже в пылу гнева, Магги поняла, что она чересчур сурова к брату, что в том вовсе не его вина была, но не могла заставить себя остановиться.
– Я же говорила вам, – прошептала Хильдегард, побелев в лице. – Я говорила, что Амадеус поможет Александру – что бы тот ни натворил.
– Он ничего не натворил, – бросила ей Магги в лицо. – Ничего, что могло бы сравниться с тем, что вы сделали с ним – со мной!
Она сделала глубокий вздох.
– Но мы перехитрили вас всех. Мы чудесно проводили время на зло всем вам, и вы ни о чем не догадывались.
Вся ненависть Магги и все ответные обвинения хлынули из нее – в едином порыве чистой, ничем не разбавленной страсти, вместе с так долго сдерживаемыми словами ее неистребимой, неиссякаемой любви к отцу и дедушке. В совершенном отчаянии она сказала им все, зная, что теперь все кончено, что нечем теперь рисковать, – потому что никто на свете не в силах вернуть ей это назад. Они слушали ее в гробовом потрясенном молчании, а она описывала им счастливые дни и ночи, проведенные с Амадеусом и Александром, говорила о Константине Зелееве и его завораживающих бесконечных историях про Ирину и Санкт-Петербург и Париж – и о скульптуре из массивного золота и бриллиантов, сапфиров и рубинов, прекрасней которой им даже не снилось ничего.
– Расскажи нам, – сказал наконец Стефан Джулиус, в первый раз прерывая страстный поток ее восторженных слов, и в голосе его было стальное спокойствие. – Расскажи нам побольше об этой скульптуре.
Слишком поздно Магги поняла свою ошибку. Будущее Хекси было забыто на время; отошло на задний план даже открытие о ее встречах с Александром. Ее отчим стал перебивать ее, и в его хорошо контролируемой вражде было что-то жуткое.
– Герр Вальтер не упоминал о скульптуре, когда говорил о собственности старика. Он не говорил о золоте или драгоценностях. Он сказал, что у него не было ничего ценного – кроме самого дома.
Магги молча кляла себя за свое глупое поведение.
– Она все это сочинила, – неуверенно сказала Эмили.
– Не думаю, – ответил Джулиус, его взгляд не отрывался от лица падчерицы. – Она могла приукрасить немного – но за этим что-то стоит.
Больше Магги не сказала ничего. Она думала о записке, которую написал отец, и поклялась молчаливой клятвой, что никогда больше не предаст его ни единым словом – что бы с ней ни случилось.
– Эти волшебные времена… – глаза Эмили стали холодными. – Как они могут быть волшебными, если вы торчали в обшарпанном доме вместе с прелюбодеем и садистом?
Магги впилась в мать ненавидящим взглядом, испытывая жгучее желание взорваться опять.
– Ты правда веришь, что твой отец – хороший, достойный человек, а, Магги? – отчетливо спросила Эмили ледяным тоном. – А почему бы и нет – если никто не хотел, чтоб ты узнала правду.
– Эмили, – предостерегла ее Хильдегард.
– Мы не хотели ранить тебя больше, чем это уже случилось, – продолжала Эмили. – Ты думала, что мне наплевать на тебя, что я – порочная и мстительная. А все эти годы я держала в себе правду – как бы ты ни была невыносима, как ни гадко ты пыталась меня наказать.
– Эмили, – попыталась опять Хильдегард, но Джулиус остановил ее.
– Пусть она продолжает, – сказал он спокойно. – Девочка достаточно взрослая, чтобы знать все.
– Но Руди? – Хильдегард была шокирована. Какой-то момент Эмили колебалась, глядя на сына, сидевшего по-прежнему тихо, выпрямившись, но потом покачала головой.
– У Руди никогда не было беспочвенных фантазий насчет Александра – он вряд ли помнит его, ведь так, дорогой?
Она улыбнулась быстрой, кривой улыбкой.
– Может, у него и фамилия Габриэлов – но не натура. Он не такой, как Магги.
Магги все время стояла, с самого начала, как вошла в библиотеку. Теперь у нее ноги стали вдруг слабеть и она села на ближайший стул.
– Какую новую ложь ты собираешься мне рассказать, мама?
– Никакой лжи, – сказала Эмили. – Только чистую уродливую правду.
Александр Габриэл, сказала дочери и сыну Эмили, был слабым и аффективным человеком, который годами оглушал себя не только алкоголем, но и наркотиками, которые помогали ему трусливо бежать от реального мира. До той ночи в июне девять лет назад ему удавалось сохранять подобие самоконтроля – но в тот раз случилось иначе. Он зашел слишком далеко. Той ночью старый знакомый приехал в город. Мужчина, которого Магги расписала как героя сказки. Это был русский, Зелеев.
– Я не знала, что это – друг вашего дедушки. Для меня он был просто незнакомцем – я даже не видела его до тех пор, пока он не привез домой вашего отца – посреди ночи.
Эмили взглянула в упор на Магги.
– Ты «рекомендовала» его нам как самого элегантного мужчину, какого только видела. А когда я столкнулась с ним, я увидела только смердящего омерзительного пьяницу.
– Продолжай, мама, – голос Магги дрогнул лишь чуть-чуть. Она почувствовала, как ее охватывает оцепенение, вызванное странным ощущением нереальности происходящего.
– Именно этот русский рассказал мне, что произошло. Ваш отец едва соображал в тот момент – помню, понадобился океан черного кофе, чтобы он хоть как-то понял, где он и кто он. И помню, как мы с бабушкой все лили и лили в него этот кофе… Помню, как он хрюкал, его рвало прямо на нас.
Ее лицо исказилось при этом воспоминании. Хильдегард подошла и коснулась ее руки.
– Мне очень жаль, что ты это делаешь, – сказала она. – Ничего хорошего из этого не выйдет.
– А мне от этого легче, – хрипло ответила Эмили.
– Продолжай, мама, – опять сказала Магги.
– Русский сказал нам, что он сам выпил слишком много водки. Он делал это нечасто, но когда напивался этой гадости, то вел себя отвратительно. Он сказал также нам с бабушкой, что мой муж пил виски, вино и пиво – и он курил марихуану. Потом они подобрали шлюху на Нидердорф-штрассе и привезли ее в комнату где-то на задворках улицы.
– Мама, пожалуйста, – сказал тихо Руди.
– Я не могу остановиться, Руди. Извини, – безжалостно продолжала Эмили. – Русский сказал, что Александр был слишком пьян, обкурен и расслаблен, чтобы воспользоваться проституткой, и вопреки предостережению заглотил таблетки. Бензедрин, сказал русский, вид амфетамина. Я никогда и краем уха не слышала о таких вещах до той ночи, но этот Зелеев объяснил, что они отгоняют сон, взбадривают, ускоряют обмен веществ.
Она сосредоточила все свое внимание на Магги, и история материализовывалась гладко, последовательно и без истерии.
– Но в случае с твоим отцом они привели его на грань безумия, сделали из него дикого зверя.
– Я не верю тебе, – Магги стала терять свое защитное оцепенение – кокон вокруг ее сердца и ума стал истончаться. Она крепко стиснула кулаки, поджала кончики пальцев внутри туфель.
– Верь мне, Магги, это – правда. Такую правду не может изобрести ни один достойный человек. Он был моим мужем – помни об этом, – а не только отцом моих детей. Твоим обожаемым Папочкой…
Она выждала, прежде чем нанести удар.
– который изнасиловал, зверски избил и почти задушил женщину, прежде чем его приятель оттащил его от нее.
– Как ты можешь… такую клевету? – прошептала Магги.
Но Эмили еще не закончила. Зелеев, продолжала она, к его чести, сохранил достаточное присутствие рассудка, чтобы вынести проститутку незамеченной из дома и положить ее на улице с суммой денег, достаточно внушительной, как он надеялся, для того, чтобы купить ее молчание, когда она придет в себя. А потом он доставил Александра назад – полуволоча, полутаща на себе – в Дом Грюндли.
– Твоя бабушка все потом устроила, от меня не было никакого толку – из-за шока.
– А кто не был бы в шоке от такого? – ввернул Джулиус.
– Хильдегард знала, что Александру невозможно было оставаться в доме даже на одну ночь. Если женщина позвала полицию, или если ее нашли, могло случиться все, что угодно. Наш брак совершенно очевидно развалился – я не могла вынести его присутствия в этом доме, остаться с ним наедине. Да и потом, у нас есть вы, дети, о которых нужно думать.
– Теперь ты понимаешь? – спросил Джулиус Магги, но она не ответила – не могла ответить.
Тогда за нить рассказа ухватилась Хильдегард.
– Я разбудила своего адвоката, настояла на том, чтобы он немедленно приехал и составил необходимые бумаги. Я велела Максимилиану отвезти русского на Гауптбанхоф и быть готовым перевезти Александра через немецкую границу через несколько часов.
Ее голубые глаза блестели, и она дрожала.
– Тебе было только семь лет, Магги. Мы заперли дверь, чтоб спасти тебя от ранившей бы тебя правды. Для тебя было лучше… пусть лучше ты будешь испытывать к нам вражду, чем лицом к лицу столкнешься с тем, что натворил твой отец.
– Как вам удалось заставить его уехать? – голос Магги был теперь совсем бесстрастным. Шок и ужас, и – несмотря ни на что – недоверие бросали ее чуть ли не ежеминутно из одного состояния в другое: она была то на взводе, то чувствовала себя слабой и опустошенной. – Как вы заставили его бросить меня?
– У него не было выбора, – ответила Эмили. – Он не мог оставаться здесь, и он знал, что не вынесет, если его арестуют и посадят в тюрьму. Он был таким патетичным, – сказала она опять. – Мы поставили его под холодный душ, помогли ему надеть свежую одежду – мы сожгли ту, что была на нем. Он подписал все, что положил перед ним адвокат – я помню, как дрожала его рука, когда он писал свое имя.
– Что вы заставили его подписать?
– Один документ, в котором он отказывался от всех прав на имущество твоей бабушки, и еще один – на имущество отца…
– Таким, каким оно было, – закончила за нее Хильдегард.
– Может, оно больше, чем мы думали, – заметил Джулиус, вспоминая скульптуру.
– Он подписал еще одну бумагу, подтверждающую, что он оставляет меня и не будет опротестовывать наш развод, и не будет предъявлять мне никаких требований.
Эмилия, приближаясь к концу истории, не умолчала и об этом.
– И последнее.
– Что? – глаза Магги горели.
– Твой отец поклялся, что никогда не увидит больше ни тебя, ни твоего брата – всю оставшуюся жизнь.
Все чувства Магги, смятенные, израненные, годами подавляемые, вылились в один-единственный отчаянный ответ. Если она и думала раньше, что почти всю свою жизнь в Доме Грюндли испытывала ненависть, теперь она поняла, что это была просто бессильная ярость ребенка, тривиальная по сравнению со жгучим неистовым омерзением и гадливостью, которые она почувствовала сейчас.
Ее мать лгала – Магги это было ясно, как день. Она никогда не поверит в эту якобы так героически утаенную историю – никогда. Что-то кошмарное, жуткое произошло той ночью – но это не могло быть то, что ей пытались навязать. Ее мать – которая теперь замужем за мужчиной, сделавшим свое состояние на торговле оружием, несшим смерть и разрушение (незадолго до войны он продавал его немцам) – говорила об ее отце как о растленном чудовище. Но Магги знала, что Александр Габриэл был добрым сердечным человеком, любящим, нежным и заботливым отцом и сыном.
И Магги, очень медленно, встала со стула и оглядела их всех – это семейство, собравшееся вместе, чтобы устроить ей суд. Ее тошнотворный отчим, всегда такой самоуверенный и непробиваемый, и считавший, что именно такими бывают порядочные и воспитанные люди; ее бабка – женщина, способная на то, чтобы вышвырнуть своего сына из дома и дать ему погибнуть; Руди, ее собственный брат, с потрясенным и белым, как мел, лицом, но не сделавший ничего, чтоб защитить своего отца и сестру. А потом она посмотрела на Эмили – самую отвратительную из них, казавшуюся сейчас потрепанной и жалкой, словно все ее усилия хитрости, эгоизма и жестокости оставили на ее лице и теле уродливые шрамы.
Теперь Магги знала, что такое настоящая ненависть.
7
Магги покинула Дом Грюндли той же ночью.
Она взяла с собой свою Хекси, несчастную обреченную таксу, маленький кожаный чемодан и свой паспорт, который потихоньку вытащила из секретера в кабинете отчима, и выскользнула на улицу. Было четыре часа утра.
Она не чувствовала сожаления. Может, легкую тень чувства, похожего на вину – перед Руди… но не больше. Она и ее младший брат казались похожими, но у них не было ничего общего – они никогда не были друг другу близки и не делились ни одним из своих, даже самых пустячных, секретов. Был только один человек, который что-то значил для нее в этой жизни, и Магги решила, что обязательно найдет его.
* * *
Она шла вниз по Ремерхоф и, бредя по маршруту Восьмого трамвая, миновала Шауспильхаус и пошла по Ремиштрассе. На мосту Магги остановилась в нерешительности: путь по набережной был более коротким и прямым, но тогда она наверняка столкнется с ночными искателями приключений, а ей совсем не хотелось попасть в какую-нибудь скверную и опасную историю. Она перешла по мосту, оглянулась на темную воду слева, и на дальний другой берег, угрожающе залитый огнями, и пошла по Беркли Плац, свернув потом направо на Банхофштрассе.
– Это – одна из самых элегантных улиц в мире, – сказала она Хекси, которая обнюхивала корни большой липы, а потом, завиляв коротеньким хвостиком, натянула свой поводок и стала рваться вперед – куда бы они не шли. – Мама и Оми провели здесь полжизни, ходя по магазинам, попивая кофе и сплетничая, – но уж спасибо, это все не по мне.
Большинство людей, которых она знала, любили этот город; цюрихцы гордились им, а туристы и приезжие заявляли, что это – самый цивилизованный и очаровательный город на свете. Магги иногда думала – может, все было б иначе… она бы чувствовала все совсем по-другому, родись она в другой семье и вырасти совсем в других условиях, где не было б такого давления. Ее друзья по школе были очень счастливыми – и, если быть честной перед собой, она тоже бывала достаточно счастлива, пока не уехал отец…
Парадеплац была пустынной – мягкое шарканье ботинок Магги и легкий стук коготков Хекси были единственными звуками, нарушавшими ночную тишину и покой. Было всего пять часов утра. Они миновали «Франц Карл Вебер», большой магазин игрушек, потом «Голдшмидт», любимый магазин Оми, потом универмаги «Джемоли» и «Глобус», постояли около сада Песталоцци, потом дошли до двух отелей в начале улицы, «Сен-Готард» и «Швейцерхоф», залитых огнями внизу и источавших тепло и уют, но сонных и темных наверху. Тишина окружала ее, и все казалось призрачным, нереальным, но Магги чувствовала странное успокоение, словно что-то спасало ее натянутые нервы, воодушевляло идти вперед.
На вокзале Хауптбанхоф было тоже тихо и мирно, каждый легчайший звук гулко отдавался в огромном здании. Магги купила билет в один конец до Женевы, а потом закрылась с Хекси в маленькой кабинке дамского умывальника и стала дожидаться отхода первого поезда.
Беспокоясь, что собачка может вести себя непоседливо во время путешествия – а Магги совсем не хотела привлекать к себе внимание, она присела с Хекси на полу багажного вагона и стала стараться думать здраво. Она едет в Женеву потому, что когда в последний раз видела Константина Зелеева, он сказал, что там он работает. Записка папы ясно сказала ей, что русский – единственный человек на свете, кому она может доверять. Магги во что бы то ни стало нужно найти Зелеева.
Она опустошила свою копилку – забавную фарфоровую хрюшку, которую подарил ей отец, когда Магги было четыре, и в которую он почти ежедневно – пока не ушел – бросал монетки и бумажные денежки; а еще она взяла с робой свою личную чековую книжку – на ее имя открыли счет в «Швейцерише Банкверейн» в день ее двенадцатилетия. Она понимала, что, может, ей не удастся снять деньги со счета без разрешения родителей, а средства, вложенные для нее в Грюндли Банке, потеряны навсегда, но все же она может попытаться. На ней были две дорогие, украшенные драгоценностями, вещи – платиновые часы «Патек Филипп», подаренные Хильдегард на день рожденья в прошлом году, и маленькое золотое кольцо-печатка с выгравированными на нем ее инициалами – последний дар ее отца. Она оставила им все свои драгоценности: ее прелестные сережки с сапфирами, чудесный золотой браслет и восемнадцатикаратовый золотой крест и ожерелье, подаренные в день Конфирмации. Все это она получила уже после того, как мать вышла замуж за Стефана Джулиуса, и Магги не хотела иметь у себя их подарки. Она лучше умрет, чем продаст свое золотое кольцо, но если будут нужны деньги, она расстанется с часами.
Путешествие было восхитительным, но больше всего ее поразила, при выезде из Лозанны, красота Женевского озера – такого захватывающего дух великолепия Магги не видела еще никогда, и когда она наконец очутилась на вокзале Корнавин, она была уже просто в экстазе восторга. Она знала, что Женева меньше Цюриха, но город казался больше – он был более броским, нарядным и «иностранным». Глядя по сторонам широко раскрытыми глазами, она положила свой чемодан в ячейку камеры хранения, купила плитку молочного шоколада, которую съела вместе с Хекси, а потом вышла наружу, на Альпийскую улицу, и очутилась на набережной де Монблан у Женевского озера.
Утро было ясным и холодным, ледяной ветер дул с озера, когда Магги пересекла Женевский рейд, глядя на живописные суденышки и знаменитый фонтан, извергавший струи воды высоко в небо. Больше двух часов она бродила по улицам, вдоль озера, переходила туда-сюда Рону, с одного берега на другой, наслаждаясь ярким солнечным светом, звуками французской речи и глазея с любопытством в витрины магазинов. Это был город часов, подумала она, видя сотни и сотни часов, дорогих и красивых; «Бауме-э-Мерсье», «Блан-пэн», «Ролекс», «Одемар Пике», «Вашерон Константэн». Ясно, что Женева была не тем городом, где нужно пытаться продать свои «Патек Филипп». Она опять вспомнила, как терпеть не могла ходить за покупками дома – хотя магазины казались нарядными и веселыми, а Банхофштрассе – чудесной, когда липы были в цвету, но всегда ее очарование рассеивалось от нравоучений и муштры матери или Оми; но этим утром она была наконец свободна от них. Вот только одно отравляло ей удовольствие: Магги понимала, что не может остаться здесь долго – риск был слишком велик. Корпорация Джулиуса имела большие офисы на рю Ротшильд, и ее отчим регулярно, каждую неделю, ездил в Женеву, обычно по понедельникам, и хотя сегодня была среда, но Магги не хотела неприятных случайностей. Да и потом она приехала сюда с единственной целью.
Зелеев говорил ей о фирме золотых дел мастеров, называвшейся «Перро и сыновья». И Магги, потуже натянув поводок Хекси, зашла в телефонную будку и легко нашла адрес в книге. Ее настроение поднялось – скоро она снова увидит русского, а потом найдет своего отца.
Здание фирмы «Перро и сыновья» на рю дю Рон было старым и внушительным с виду, демонстрационный зал для розничной продажи занимал два этажа – тихое место, дышавшее атмосферой чинности и респектабельности, напоминавшее Магги Большой Зал их семейного банка. На обитом бархатом стуле в дальнем углу сидела дама, которую обслуживал седовласый господин в серой визитке. На даме были меха, и она прижимала к груди крохотную собачку. Магги, увидев бледно-розовый ковер, сделала то же самое с Хекси; такса отчаянно пыталась вырваться, но Магги прижала ее к себе еще крепче, когда другой элегантный продавец подошел к ней.
– Bonjour, Mademoiselle.[23]
Он говорил с безукоризненной вежливостью и галантностью, но неодобрение сквозило в каждой черточке его лица. Этим она обязана своей одежде, мгновенно поняла Магги. Обладая гардеробом, набитым дорогой, высшего класса одеждой, выбранной, в основном, Эмили – туалетами, которые были бы пропуском и гарантировали прием и уважение в любом самом респектабельном месте и обществе, – она убежала из дома в своих любимых черных лыжных брюках, ярком бирюзовом просторном пуловере и старом пиджаке из овечьей шерсти. Такое можно было надеть в горах, на Шварцхорне, но не в это святилище истеблишмента и изысканности, да к тому же еще и после ночи, проведенной в умывальной комнате для дам и после путешествия в багажном вагоне.
– Я ищу мсье Зелеева, – сказала она и затаила дыхание. Хекси вертелась у нее в руках и поскуливала.
Лицо продавца осталось бесстрастным.
– Вы должны встретиться с этим господином здесь, мадемуазель?
– Нет, мсье. То есть, я надеюсь с ним встретиться, но…
Она остановилась в замешательстве.
– Мсье – наш клиент?
Он слегка наклонил голову.
– Боюсь, я не смогу вспомнить клиента по фамилии…
Он колебался.
– Зелеев, – повторила Магги. – Он работает здесь.
Неодобрение возвратилось опять.
– Нет, мадемуазель.
Сердце Магги замерло.
– Или он работал здесь раньше. Недавно.
– Как давно это было?
Дверь открылась, и почтенного вида пожилая чета появилась на пороге. Продавец поклонился в их направлении.
– Два или три года назад, – ответила Магги, – но мсье Зелеев не работал в демонстрационном зале. Он – ювелир.
Она прочла скуку в его глазах, и попробовала более сильное средство.
– Раньше он работал на Дом Фаберже в Санкт-Петербурге.
– Правда? – его рот криво изогнулся в уголках губ. – Догадываюсь, что это было так давно, n'est-ce pas? Как бы там ни было, но этот господин не работает в данный момент на «Перро и сыновей». Очень сожалею.
Но Магги заехала слишком далеко от дома, чтобы так вот просто сдаться.
– Может, вы могли бы посмотреть в ваших старых записях?
– В этом нет необходимости.
– Но мне это необходимо, – настаивала она. Хекси подвывала в ее руках; настырный негромкий звук из самой глубины ее пасти. – Для меня жизненно важно найти мсье Зелеева.
Неодобрение превратилось в неприязнь.
– Тогда я могу предложить вам оставить свое имя и адрес, если отыщется какой-нибудь след этого господина, мы вам напишем.
– Я не могу этого сделать – я имею в виду, что не смогу дожидаться записки. Это – очень срочное дело.
– В таком случае, я ничего не могу для вас сделать – только пожелать вам приятно провести сегодняшний день.
Он плавно двинулся к двери и взялся за ручку.
– Пожалуйста, мсье, – Магги просила его в последний раз, но без всякого толку. Дверь была открыта.
– Bonjour, Mademoiselle.
Продавец намеренно не сказал ей au revoir.[24] Дверь за ней закрылась. Магги ободряюще погладила таксу – потому что собаке тоже пришлось натерпеться – и спустила ее на землю.
– А что теперь? – спросила она, и не получив ответа, сама ответила на свой вопрос. – Мы пойдем дальше.
Зная, что не может позволить себе тратить время попусту, Магги быстро обежала столько ювелирных магазинов, торгующих золотом, серебром и драгоценностями, сколько смогла найти. Перед ее глазами промелькнула целая вереница блистательных магазинов на рю де Рон, набережной Женераль Гизан, Пляс дю Моляр и на другом берегу реки, на Пляс де Берже. Впечатления были яркие, но удручающие – никто не знал Зелеева и никогда не слышал о его существовании. Магги зашла в почтовое отделение на рю де Мон Блан и начала рыться в книге адресов города и окружавших его пригородов, но не нашла жителей с его фамилией. Тогда она подошла к кассе и разменяла франки на сантимы и стала звонить из автомата в каждый ювелирный магазин и лавочку, в которые не смогла зайти сама. Хекси, устав и проголодавшись, стала совсем беспокойной – она вертелась, скулила, виляла хвостом, царапала когтями стену, а потом начала лаять, не давая Магги слышать то, что говорилось в трубку. Но Магги уже поняла, что ее затея провалилась. У нее было мало времени, и если Зелеев и жил в Женеве – в чем она уже сильно сомневалась – она его не найдет.
Впервые после ухода из дома она почувствовала, что нервы ее на пределе. Скоро будет темно, а ей негде было остановиться на ночь. Конечно, ее окружали экстравагантные, красивые отели, но какой от них прок? Ведь Магги понимала – если она начнет платить за подобные номера, ее деньги не задержатся в ее кармане больше нескольких дней. Но если она сейчас сдастся, вернется в Цюрих, она будет быстро сожрана жадным настырным миром Грюндлей и Джулиусов, словно беззащитная устрица, поданная на блюде. Ее индивидуальность, ее надежды и стремления будут растерты в порошок. И она может больше никогда не увидеть отца.
Она побрела, теперь уже медленно, к маленькому парку возле озера, где Хекси, под покровом вечера, растянулась на траве и блаженствовала несколько минут, но потом, словно вспомнив о голоде и усталости, побежала назад к Магги и стала царапать ее своими маленькими лапками, пока Магги наконец не сдалась и не взяла ее на руки.
– Ну, что теперь? – проговорила она.
Она сёла на скамейку, посадив на колени Хекси.
– Как тебе понравится провести здесь ночь?
Такса сунула свой длинный нос в карман Магги, где, она помнила, лежала съеденная теперь шоколадка. В парке, казалось, было безопасно, размышляла Магги… но если ее начнет расспрашивать полиция, она наверняка к рассвету уже окажется в Цюрихе, и это будет конец для Хекси. И для нее тоже.
Но потом собственный ответ поразил ее своей очевидностью. Конечно, им нужно идти вперед – но не просто лишь бы куда. Ведь на самом деле она знает одно-единственное место, словно посланное ей самой судьбой. Господи, да как это она сразу не сообразила! Город, о котором столько говорил Зелеев – так восторженно, живо, так поэтично; город, в котором была так счастлива Ирина Валентиновна – женщина, которую Магги никогда не встречала, но на которую она, как ей часто казалось, была похожа больше, чем на свою собственную мать. Именно туда мог поехать Зелеев, если он покинул Женеву. Город, в котором, так он говорил Магги, она блеснет.
– Именно так, – пробормотала она и поцеловала Хекси в жесткое ухо.
Она приняла решение. Она вернется к железнодорожному вокзалу и найдет комнатку в дешевой меблирашке, а утром сделает еще одну попытку отыскать русского в этом городе. А потом она и Хекси сядут на ближайший отходящий поезд и покинут Швейцарию.
Они поедут в Париж.
Она успела на утренний поезд, и началась еще одна поездка без всяких удобств, потому что хотя на этот раз Магги и попыталась устроиться в вагоне второго класса вместе с Хекси, проводник вагона решил отправить непоседливую собачку в багажное отделение одну, и Магги пришлось отправиться вслед за ней.
Но Магги не замечала неудобств, потому что за окном проносился мир во всех своих красках. Паспорт Магги проверяли уже дважды – первый раз на швейцарской стороне, а второй – на французской. Альпы остались позади нее, они ненадолго остановились в Лионе, а теперь ехали вдоль реки Соны на север через южную Бургундию. За окном медленно проплывал сельский пейзаж, казавшийся таким прелестным, несмотря на тусклый февраль – покатые холмы, леса, луга, виноградники и стада скота.
Сразу после их остановки в Дижоне проводник, чувствовавший себя неловко оттого, что изгнал красивую девушку в багажное отделение, появился в дверях, держа маленький поднос. На нем была тарелка с сыром камамбер, паштетом и корзиночка с хрустящим хлебом, бокал красного вина и льняная салфетка.
– Pour vous, Mademoiselle, avec mes compliments.[25]
Он поставил поднос на один из упакованных контейнеров и улыбнулся на таксу, не знавшую покоя – она постоянно виляла хвостом и поскуливала от голода.
– Может, вашей petite amie[26] понравится паштет, – сказал он. – А что касается вас, мадемуазель… мы недавно проехали чудесный городок Бон. А так как это почти богохульство – уехать из этих мест и даже просто не попробовать, я принес вам стаканчик превосходного местного вина с отличного виноградника.
– Merci beaucoup, Monsieur.[27]
Магги была тронута и польщена. Не успела она покинуть дом, как с ней уже обращаются, как со взрослой – это было потрясающее чувство. Она вспомнила, что Зелеев неожиданно подарил ей похожее ощущение ее собственной индивидуальности и значимости – но хотя ей это и понравилось, она понимала, что это был один из атрибутов своеобразного шарма русского. Но сейчас, глядя на этого незнакомца, этого человека в униформе, она почувствовала, что действительно очаровала его, что он в самом деле увидел в ней не просто подростка, а молодую женщину.
Это было немножко странно, подумала Магги – что она так мало жалеет, что покидает свою родную страну. Она любила саму Швейцарию, ее красоту и великолепие – она уже думала об этом в Цюрихе и знала, что, может, была бы счастлива среди ее людей, не родись она в семействе Грюндли. Но ее жизнь там была уже в прошлом. Она двигалась вперед – еще и еще, оставляя позади край виноградников и плавно скользя на северо-запад по Иль-де-Франсу. К новой жизни.
Поезд медленно въехал на Лионский вокзал вскоре после шести, и Магги, бодрая и оживленная, но все же еще не позабывшая свои вчерашние бесполезные блужданья, взяла в правую руку чемодан и поводок Хекси – в левую, и пошла сквозь бурлящий, шумный нетерпеливый людской поток из здания вокзала на бульвар Дидро. Магги знала, что она с головы до ног покрыта пылью, что она растрепанная – ее густые непослушные волосы давно уже выбились из-под атласной ленты, которой она завязала их рано утром. И еще она понимала – если она чувствовала себя одинокой, беззащитной и потерянной в Цюрихе, то по логике вещей она в десять раз больше подвергается риску здесь, в этой terra incognita,[28] столице чужой страны. Но все же она никогда еще не чувствовала себя более уверенной в себе, более убежденной в правоте того, что она делает.
Инстинкт подсказал ей свернуть налево на многолюдный широкий бульвар и привел ее на набережную де ла Рапе. Здесь, по ту сторону улицы, текла Сена. Река ее детских стишков и песенок, которые они пели в доме дедушки в те счастливые дни, которые она никогда не забудет.
– Это – добрый знак, Хекси, – сказала она таксе, которая, чувствуя ее восторг, вертелась, как юла, и радостно подскакивала. – Подожди немножко – нам нужно перейти улицу.
Она перешла, сначала – улицу, потом – свой первый Парижский мост, потому что увидела на другом берегу каменные ступеньки, ведущие вниз к реке. Ее ожидания и нетерпение возросли – это определенно был добрый знак – и новые силы влились в ее длинные ноги, когда она сбежала вниз и опустила Хекси на дорожку. Она была широкой и усыпанной галькой, с островками травы и деревьев, и маленькая собачка, вне себя от радости, что ее спустили с поводка, носилась кругами, обнюхивала землю, скакала, смешно встряхивая ушами и часто подбегая к Магги и заливаясь тонким пронзительным счастливым лаем.
Было уже темно и довольно холодно, но Магги по-прежнему не чувствовала ничего похожего на ту тревогу и грусть, которую она ощущала в этот же час в Женеве. Она чувствовала себя в безопасности, свободной – никто не станет искать ее здесь. Пусть она даже и упомянула вскользь Париж – когда она взорвалась перед ними в библиотеке (разве могло это быть всего два вечера назад?) и выплеснула им в лицо всю правду о ее отце и их встречах, о Зелееве и его приключениях и рассказах. Ведь упомянула-то она этот город просто в качестве своеобразной словесной иллюстрации к своему рассказу. Кому взбредет в голову, что она может быть здесь? Если ее семья и ищет ее, они будут искать в горах, потому что знают, что именно там она была счастливее всего. Кожаный чемодан в ее правой руке вдруг стал казаться легче, и ее интуиция, сильная и естественная, отчетливая, как чей-то явственный человеческий голос, подбадривала и воодушевляла ее: иди вперед, говорила она ей. Все будет хорошо – иди, иди вперед.
Густой туман спустился на Париж. На берег реки, освещенный только случайными газовыми фонарями, легли глубокие тени, он стал более темным и менее гостеприимным. Плакучие ивы грациозно наклонились над широкой дорожкой, и время от времени мимо проходили пары, двигаясь довольно быстро и тесно прижимаясь друг к другу – может, они пришли к реке в поисках романтики, но поняли, что для прогулки слишком холодно. Хекси, опять уставшая и все еще не дождавшаяся обеда и уюта, прыгала у ног Магги, требуя, чтобы ее взяли на руки. Проходя мимо стоявших на якоре барж, Магги почуяла запах, который нельзя было спутать ни с чем – запах готовящейся пищи, и остановилась – теплый воздух, выливавшийся из открытой двери одной из барж, окутывал ее, слышался смех и громкие звуки голосов. Магги пошла дальше, ее желудок стал неприятно поднывать – после утренних хлеба и сыра она не съела еще ничего. Такса ерзала на ее правой руке, а чемодан стал опять казаться тяжелее.
– Нам нужно принять решение, – сказала она Хекси чуть попозже, увидев в нескольких ярдах впереди ступеньки, ведущие от реки на одну из улиц, и поднялась по ним, надеясь обнаружить какое-нибудь приветливое симпатичное местечко, которое бы ее воодушевило и вернуло пошатнувшийся оптимизм. Но вместо этого она почувствовала себя потерянной и встревоженной и уныло спустилась вниз на насыпь реки; чемодан бил по ее ногам, а ступни замерзли и начали болеть. Наверно, это потому, что Сена – такой знаменитый ориентир, подумала Магги; она почувствовала, что пока она рядом с рекой, ей не будет казаться, что она заблудилась в этих туманных темных улицах.
Ее уверенность стала таять. Был февраль – один из самых малоприятных месяцев в году почти во всех странах. Париж, о котором так восторженно рассказывал Зелеев, был городом весны – городом веселых нарядных бульваров и уличных кафе, где девушка может сидеть за единственной чашечкой кофе или бульона столько, сколько ей захочется, глядя, как мимо проплывает мир импрессионистов…
– Я должна была обдумать все еще на вокзале, – пожаловалась она Хекси. – Мне нужно было обменять часть денег на французские франки. Я должна была купить карту и попросить у кого-нибудь совета.
Она разозлилась на саму себя; она всегда такая импульсивная, вечно куда-то спешит вместо того, чтоб сначала понять, что ей нужно делать дальше – или заранее задуматься о последствиях своих поступков.
Большой, ярко освещенный пароход проплыл мимо нее, и Магги увидела сквозь окна иллюминаторов мужчин и женщин, которые пили и ели. Они казались счастливыми – в тепле, в безопасности… Голыши под ногами Магги казались большими и отшлифованными временем, ей было трудно идти. Чемодан теперь казался просто набитым кирпичами, плечи болели. Она опустила Хекси на землю, но собачка скулила и яростно царапала ее ноги, требуя вернуть ее назад на руки.
– Нет, – сказала Магги, и Хекси резко залаяла и даже куснула чуть-чуть, но Магги не стала обращать на нее внимания. Какой-то человек приближался к ней сквозь туман – он шел, ссутулившись, на голове его была кепка. Когда он подошел ближе, она увидела, что одежда его была изношенной, и большой шрам пересекал его щеку; от него пахло застарелым потом, чесноком и плесневелыми овощами, словно он ночевал в куче отбросов, И его тяжелый взгляд, изучавший ее с головы до ног, заставил Магги занервничать. Ускорив шаги, она подтянула Хекси на поводке поближе к себе, и такса сердито залаяла, ковыляя на коротеньких лапках. Ее лай был воинственным – словно она угрожающе предупреждала незнакомца, и Магги с облегчением увидела, что он уходит.
Впереди, прямо перед ними, река разделялась на два рукава, отделенных друг от друга маленьким островом – вернее, двумя островами. Огни их зданий мерцали в тумане, как маяк. Магги остановилась. Огромный и красивый собор с башенками и контрфорсами вырисовывался в густой дымке, и восхитительно-прекрасные центральные островерхие башни пронзали облака тумана. Ее сердце забилось радостью узнавания. Нотр-Дам де Пари. Собор Парижской Богоматери. И остров, на который она сейчас смотрела был не просто каким-нибудь обычным островом, а Иль де ла Ситэ, островом Ситэ, сердцем Парижа, словно плывущим вдоль Сены.
Почувствовав, что внезапно ноги ее ослабели, Магги просто рухнула на скамейку. Ей было так холодно, горло словно скребли изнутри, она начала дрожать. Хекси скулила, и Магги взяла ее и посадила на колени, расстегнула жакет, и такса прижалась к ее телу. Ну, сказала сама себе Магги, сейчас самое время принять решение. Может, ей нужно вернуться на Лионский вокзал и пристроиться где-нибудь там до утра. А может, ей надо перейти через призрачный мост, который она видит сейчас впереди – соединяющий берег реки с Иль де ла Ситэ. Может, Нотр-Дам де Пари – не только один из самых больших и великих соборов Европы, но и место, где она сможет найти прибежище и уют? Как бы там ни было, она не может оставаться там, где она сейчас – здесь слишком холодно, слишком сыро…
Но когда Магги попыталась встать со скамейки, она ощутила приступ дурноты; ее голову словно пронзали иглами, ноги отказывались держать ее, и ей пришлось сесть опять. Впервые после ухода из дома у нее появилось сильное желание заплакать, и слезы начали набухать в ее глазах. Но вместо этого она сделала то, что часто делала раньше, когда чувствовала приступы отчаянья – она стала петь, мягко, сама себе. Слова песни, которой научил ее Зелеев, свободно слетали с ее губ, когда она пыталась согреться, представив себе Сену жарким августовским днем – ее воды нежно-прохладны, они мягко плещутся о камень набережной, словно слегка аккомпанируя шагам влюбленных собственной мягкой музыкой.
Она пела негромко, с легкой хрипотцой, но горячо и вдохновенно. Хекси иногда лизала своим маленьким язычком ее кожу, которая виднелась в просвете между рукавами пуловера и перчатками.
А потом Магги вдруг услышала еще один голос – мужской и очень приятный, который запел ей в унисон.
Внезапно разнервничавшись, Магги перестала петь. Голос казался затерянным в пространстве – словно он исходил от человека, лишенного тела, он шел откуда-то из тумана. Ее сердце встревоженно застучало, и она крепко прижала к себе Хекси, услышав, как собачка заскулила.
Но потом Магги увидела его – он шел к ней, сначала похожий на призрак, постепенно обретавший форму и плоть. На мужчине был просторный плащ с поднятым воротником и фетровая шляпа, руки были засунуты в карманы дождевика. Он по-прежнему пел, изо рта его вырывался пар, когда он закончил оборванную Магги песню. Он подошел и встал напротив скамейки.
– Bonsoir, Mademoiselle.[29]
Он улыбнулся и галантно снял шляпу. Хекси перестала скулить.
Магги взглянула наверх и увидела мужчину лет тридцати, с мягким взглядом карих глаз и темными, немного редеющими волосами.
– Bonsoir, Monsieur.[30]
– Надеюсь, я не потревожил вас, – сказал он вежливо. – Я услышал ваш голос и был заинтригован – кто это поет эту летнюю песню, такую грустную, в холодный февральский вечер?
Он казался добрым, и отношение его к Магги было уважительным. Она протянула ему свою руку.
– Магдален Габриэл, – сказала она.
– Ной Леви, – ответил Он и улыбнулся на таксу. – А это ваш прелестный друг?
– Ее зовут Хекси.
– А-а, – сказал он. – Маленькая колдунья.
– Вы говорите по-немецки, мсье?
– Я родился в Берлине.
Он помолчал.
– Вы не возражаете, если я сяду?
Магги покачала головой, и он сел, на почтительном расстоянии от нее. Он посмотрел на ее чемодан.
– Вы приехали или уезжаете?
– Приехала.
– И вам негде остановиться?
– Вы угадали. Пока что негде.
Он был вежливым, внимательным, с ним было легко – человек, несколькими словами и без всякого усилия вызвавший доверие и желание быть с ним откровенной. За те десять минут, что они просидели вместе на скамейке, он понял ее затруднительное положение и предложил простое разрешение ее проблем.
– Одно дело, если вы хотите сами провести такую трудную и неприятную ночь на этой скамейке в незнакомом городе, да еще и в такую погоду – если вы, конечно, уже выбрали именно это. Но совсем другое – такса, которую вам поневоле придется втравить в это дело.
Таксы, напомнил он Магги, особенно прихотливы в том, что касается комфорта; хотя, конечно, Хекси уже постаралась найти для себя самое теплое и уютное место, какое только можно было обнаружить при сложившихся обстоятельствах. Уж кто-кто, а он-то хорошо знает такс – он вырос вместе с ними, потому что у его родителей были две такие собачки.
– Прежде чем я буду продолжать, думаю, мне следует назвать вам свой полный титул – чтобы вы не истолковали неверно мои намерения.
– У Вас есть титул?
– Я – его преподобие Ной Леви.
– Священник? – Магги была удивлена.
Он покачал головой.
– Un chantre, – сказал он. – Кантор.
Магги улыбнулась.
– Вы поете в синагоге.
– Exactement.[31]
Леви сделал паузу.
– У меня есть большая квартира в районе Оперы, с двумя пустыми спальнями. Для меня будет огромным удовольствием предложить вам и Хекси постель и крышу над головой – пока вы не найдете себе что-нибудь подходящее.
– Я не могу, – в замешательстве быстро ответила Магги.
– Я понимаю, – продолжил он сразу же, – что прекрасно воспитанная молодая барышня из хорошей швейцарской семьи, естественно, отвергает двусмысленные предложения незнакомого мужчины, но…
– Наоборот, – перебила его Магги.
– Правда?
– Что-то подсказывает мне, что могу принять его, – сказала Магги и внезапно покраснела. – Но я всегда следую своим чувствам… а я обещала себе, что впредь не буду такой импульсивной.
– Понимаю, – сказал его преподобие Леви и задумался на мгновение. – Но в данном случае, Магдален, какая у вас есть альтернатива? Конечно, нельзя оставаться здесь – вы до смерти замерзнете.
Магги закусила губу.
– Я думала, может… церковь.
Он перехватил ее взгляд.
– Нотр-Дам? – он улыбнулся. – Немножко великоват, не правда ли? Хотя я подозреваю, что ваша мама предпочла бы священника или пастора, а не кантора.
– Я не понимаю, почему вы так подумали – мы не особо набожны.
– Тогда, значит, вы пойдете со мной?
Он посмотрел на Хекси – собачка дрожала.
– Если не ради себя, то ради la petite.
Магги внимательно посмотрела на него.
– Вы так добры, – сказала она мягко.
– Просто обычный парень. Из тех, кто понимает.
* * *
И Магги провела свой первый вечер в Париже, ужиная куриной лапшой, жареной печенкой и заливной рыбой в уютной квартире иудейского кантора в доме номер 32 по бульвару Осман.
Ной Леви, как он рассказал Магги, родился в Берлине в 1925 году и провел первые тринадцать лет своей жизни в изяществе и комфорте, живя вместе с родителями, обожавшими музыку, двумя сестрами и двумя таксами – пока нацисты не стерли с лица земли всю его семью. В живых остался только юный Ной. Его прятал до конца войны бельгийский мясник-протестант. И Ной узнал, что еврей может существовать и на свиных отбивных, если нет другого выбора – и вообще много чего об искусстве выживания. У этой прелестной молодой девушки, – с ее непослушными золотистыми локонами и замечательными глазами, и странным меццо-сопрано – впереди вся жизнь, и Ной Леви был просто не в состоянии оставить ее на улице, где она подвергалась такому риску.
– Мы можем вернуться туда, если вы захотите, – сказал он за едой, – когда наступит день, и вы увидите рыбаков и торговые баржи, разгружающие свои товары по всей Франции. А потом вы увидите clochards – самых избранных и снобистских бродяг на свете. В такую погоду, как сегодня, они частенько забираются на баржи, когда нет владельцев, и спят там, и даже готовят.
– Мне кажется, я проходила мимо них вчера вечером.
Магги вспомнила чудесный аромат, который так усилил ее голод.
– Но вчера вы чувствовали себя такой беззащитной и немного нервничали, – заметил Леви. – Через день или два вы почувствуете себя совсем иначе… теперь, когда у вас есть дом, куда вы можете вернуться в любой момент, когда захотите. Вы будете чувствовать себя настоящей парижанкой.
Магги смотрела на un chantre, когда он пел свои странные звучные молитвы после ужина, когда он стелил свежие чистые простыни на кровать, которая была теперь ее кроватью. Потом пристегнул поводок к ошейнику Хекси, чтобы они все вместе могли пойти на последнюю в этот день прогулку. Она увидела, как он улыбнулся искренней снисходительной улыбкой, когда сконфуженная собачка сделала большую лужу на паркетном полу в холле перед входной дверью. Никогда еще Магги не чувствовала себя так легко и не радовалась такому гостеприимству с тех пор, как дедушка встречал ее на пороге дома в Давосе в минувшем сентябре.
И она опять подумала, что была права – уехав из Цюриха, права, что приехала в Париж. Здесь она сможет сама построить свою жизнь. Она найдет Константина Зелеева, а через него – своего отца.
Его преподобие Ной Леви был вторым добрым знаком.
ЧАСТЬ ВТОРАЯ МАДЛЕН Париж
8
Когда в свое первое утро в Париже Магги вышла из своей спальни, она увидела его преподобие Ноя Леви сидящим на крохотном узком балкончике, примыкающем к его petit salon;[32] большая чашка кофе с молоком стояла на белом крашеном металлическом столике, справа от него. На коленях его сидела Хекси и поедала щедро намазанные маслом рогалики.
– Bonjour, Maggi.
– Bonjour, Monsieur.
Какой-то момент она стояла в нерешительности. Такса завиляла хвостом в знак приветствия, но не сдвинулась с места.
– Разве мы не договорились, что вы будете звать меня Ной? – хозяин указал на второй стул за столиком. – Пожалуйста, будьте как дома. Налейте себе кофе и съешьте небольшой завтрак.
Магги протиснулась наружу и села на стул. Было холодное утро, и она была рада, что как следует оделась, прежде чем выйти из комнаты. На ней был еще один пуловер, из тех, что она захватила с собой. Но несмотря на невысокую температуру воздуха, солнце сияло, и поток людей под балконом уже спешил на работу по широкой мостовой. Магги ощущала, как от них исходит заряд жизненной силы и энергии, поднимавшийся наверх и окутывающий ее, и ей захотелось спуститься и присоединиться к ним.
– Voici Paris, – улыбнулся Ной. – И он вам уже понравился.
– Он чудесный, – Магги взяла чашку с кофе обеими руками. – Я так хорошо сегодня спала, и в тот момент, когда проснулась, я знала, где нахожусь, и была так счастлива. И я не могу поверить в свою удачу – что встретила вас.
– C'était le bon Dieu,[33] – сказал Ной. – Всемилостивейший Господь послал мне вечернюю прогулку, на которую я сам бы не отправился, по крайней мере, раньше марта.
Он был тишайший и спокойнейший человек из всех, кого она только видала, готовый принять любые карты, которые раскинет ему bon Dieu – хотя и необязательно без борьбы. В отличие от других взрослых, он не суетился и не поднимал шума. Когда Магги сказала ему, что хочет продать часы – чтобы заплатить за свое пребывание в квартире, если, конечно, Ной по-прежнему позволяет ей остаться, пока она не найдет работу и свое собственное место, где жить, – он не стал спорить.
– Я уже сказал вам вчера вечером, что вы и Хекси можете жить здесь столько, сколько захотите… или будете вынуждены.
Он помолчал.
– Единственное, что я могу вам предложить взамен продажи ваших часов, это отвести вас на mont-de-piete.
– А что это такое?
– Это место, куда французы идут, чтобы заложить свои вещи. В некоторых местах вы можете пойти просто к ростовщику, ссужающему деньги под залог, и сказать, что хотите оставить часы chez ta tante, но здесь, в Париже, вы поступите более мудро, если пойдете в муниципальный ломбард. Они немедленно выдадут вам часть стоимости часов, но самое главное – вы можете им доверять. Если вы захотите потом выкупить их, будьте уверены, вы получите их назад без проблем.
Когда Леви доел свой последний рогалик, Хекси спрыгнула с его колен и забралась к Магги.
– Какая ты бессовестная.
– Все они такие, – он смахнул крошки со своего галстука. – У меня есть только одно условие, Магги: вы должны известить свою семью, что с вами все в порядке, и вы – в безопасности.
– Хорошо.
– И вы должны дать им мой адрес.
– Нет, – она покачала головой. – Я не могу этого сделать.
Леви наклонил голову немного набок и посмотрел на нее в упор.
– Вам – только шестнадцать, Магги. Они будут волноваться за вас.
– Я им напишу.
– А адрес?
– Если вы настаиваете, чтобы я дала им адрес, – сказала она твердо, – тогда мне придется уйти. Я не буду ждать, пока они приедут сюда и силой утащат меня назад.
Она сделала паузу.
– И они приедут вовсе не потому, что волнуются и заботятся обо мне. Они думают, что я – их собственность, думают, что могут распоряжаться моей жизнью.
– Они могут – по закону.
– Я им не позволю. Больше не позволю.
Они пришли к своего рода компромиссу. Магги напишет письмо немедленно, отошлет его с почтамта на рю де Лувр, а потом потратит две недели на поиски работы и Константина Зелеева. Ной попросит une dame respectable[34] из его прихожан поселиться временно в его второй пустой комнате – чтобы Магги была должным образом под присмотром; и если до конца второй недели Магги не найдет ни русского, ни работы, ни подходящей квартиры, Ной лично свяжется с Джулиусами. Но если, с другой стороны, Магги будет настаивать на том, чтобы уйти отсюда, и Ной почувствует, что она приняла честное здравое решение, он признает ее права и не скажет ничего. Леви считал себя хорошим знатоком человеческих характеров. Эта девушка была юной, но отважной, и с решительной натурой. И она была абсолютно честной – в этом он был уверен. Он доверял ей.
* * *
Помня об их уговоре, в тот первый день, Ной не выпускал ее из виду. Он показал ей окрестности Оперы, купил ей маленький путеводитель, в котором были карты и маршруты автобусов и метро, а затем, отведя Хекси назад в квартиру, пошел вместе с Магги в муниципальный ломбард на рю де Франк-Бурже, где она рассталась со своими часами «Патек Филипп» в обмен на значительную сумму французских франков, которую Ной положил в карман своего жилета для сохранности. Оказавшись в своей любимой части города, районе Марэ, он показал ей Пляс де Вогэз, старейшую площадь Парижа.
– Я прихожу сюда, – сказал он Магги, – когда хочу немного отдохнуть от окружающей меня суеты. Она такая красивая и distingue[35] – но не пышной, холодной красотой, а очень мирная и прелестная.
Они съели лэнч в Коконнасе, расположившись на стульях в стиле Людовика XIII и глядя из окна на площадь. Их окружали в основном бизнесмены. Магги, взглянув на цены в меню и, беспокоясь, что Ной обдуманно выбрал дорогой ресторан, какое-то время молчала в замешательстве.
– Я была бы рада съесть сэндвич, – наконец шепнула она ему.
– Ну уж нет! Вы можете есть сэндвичи – или baguettes – в любой день недели, когда вам вздумается, – улыбнулся Ной. – Но не со мной и не в ваш первый день новой жизни в этом городе ресторанов.
После ресторана они сходили в синагогу Ноя на причудливой длинной улочке недалеко от улицы Монмартр. Ной объяснил ей, что теперь они находятся в deuxième arrondissement,[36] и что Париж разделен на двадцать таких районов, и каждый из них обладает своим собственным характером и колоритом.
– Не ждите, что быстро узнаете этот город, – говорил он Магги. – Думаю, вы часто будете теряться поначалу… но потеряться в Париже – это одно из громаднейших наслаждений. И абсолютно безопасное: все, что вам нужно сделать, это – спросить, и вскоре вы опять будете на верном пути.
На первый взгляд синагога казалась тусклой, однообразной и не вдохновляющей. Но когда Ной показал ей все помещение, со спокойной гордостью указывая на Святую Арку, шкаф для хранения свитков Торы, Магги ощутила простой и естественный дух общности и причастности тайнам. Она раньше не встречала ни одного иудея; Ной Леви казался ей христианином больше, чем кто-либо из тех, кого она знала.
Они почти не останавливались весь день. Из синагоги Ной повел Магги в метро и оттуда вверх, на Монмартр, чтобы взглянуть на Сакре-Кер, полюбоваться величественным видом с холма, и площади на холме, прелестной, усыпанной голышом площади, окруженной множеством кафе, ресторанов и очень милых кабачков, и даже в это время года здесь было много местных художников, пытавшихся продать свои работы туристам.
В шесть часов, как и сказал Ной, в квартиру приехала dame respectable. Мадам Вольфе, седоволосая женщина, строгого, но одновременно и заботливого вида, рассматривала Магги с нескрываемым подозрением, а когда Хекси сделала лужу на персидском ковре в гостиной – и с осуждением.
– Сколько они здесь останутся? – спросила она Ноя, словно они были одни, хотя Магги тоже была в комнате. – Полагаю, не больше нескольких дней?
– Две недели – по крайней мере, – ответил Ной с довольным видом, потому что он не мог припомнить дня, когда он в последний раз больше радовался жизни… – А может, и дольше.
– А ее семья это одобряет?
Мадам уже начала смягчаться – она считала его преподобие импульсивным молодым человеком, но она также знала, что он не способен на дурное.
– Как же они могут не одобрять?
Если раньше Магги он нравился, то теперь она его просто обожала.
Мадам Вольфе поужинала с ними, проследила, чтобы Магги как следует умылась и с удовлетворением пронаблюдала за ее отходом в спальню. Утром она позавтракала с Магги и его преподобием, прежде чем Ной отправился исполнять свои обязанности, а потом мадам Вольфе была свободна идти к себе домой до вечера. Магги, смотря, как закрывается за ней входная дверь, и слыша перестук ее каблуков по каменным ступенькам, улыбнулась Хекси и вздохнула от облегчения и удовольствия. Они были чудесными, добрыми людьми, но по-своему они ограничивали ее свободу, как и ее семья.
– Еще пару часов, – сказала она вслух, – и я бы просто умерла от покровительства.
Она расчесывала свои волосы до тех пор, пока они не затрещали от электричества, потом погладила Хекси по голове, пристегнула ее поводок и вышла из квартиры, вооруженная картой. Ной сказал ей, что самые элитные ювелирные магазины расположены вокруг Вандомской площади, и что большинство ювелирных мастерских находятся на рю дю Тампль в районе Марэ. Но прежде чем она начнет свою охоту на Зелеева, прежде чем сдержит свое обещание, данное Ною, найти работу, Магги хотела уделить всего несколько часов самой себе.
– Никакой цели, – сказала она Хекси. – Никакого эскорта. Никакой защитной сетки.
Когда она, выйдя из дома, оказалась предоставленной самой себе, все, что она видела вчера с Ноем, выглядело совсем по-другому. Шумный перекресток с Галереей Лафайет справа и целой кучей указателей, смущал и искушал ее. Некому было сказать ей, куда идти – это был только ее выбор.
Независимость, думала она с растущим радостным возбуждением. Свобода. Именно так нужно жить в реальном мире. Она увидела цветочный магазинчик на углу и сказала про себя, что нужно купить большой букет на обратном пути, чтоб украсить комнату в знак благодарности. Но сейчас она пойдет дальше. Она пересекла первый бульвар, потом – рю де ла Шассе д'Антин и повернула налево, на рю Галеви, направляясь к пляс де л'Опера. О-о, площадь была огромной, величественной и красивой – как и сама Гранд Опера, с ее прелестными ступеньками, колоннами и фризами. Магги подумала было взобраться по ступенькам и заглянуть внутрь, но потом решила – не сегодня. И вообще, это занятие – для туристов, а не для нее, не для новоиспеченной парижанки. Смотреть наскоком. Сегодня она была как готовая вылететь из лука стрела, направленная в будущее; впереди еще много дней, чтоб медленно бродить и смотреть, с наслаждением рассматривать все детали и черточки, которые и есть настоящее лицо города. Но не сегодня. Не этим утром.
Она шла легко, переполняемая энергией и уверенностью, чувствуя себя в безопасности, потому что знала, что у нее есть по крайней мере на две недели уютный надежный дом и друг. И еще – у нее есть свобода, о которой она так долго мечтала и тосковала. Она потеряла своего любимого дедушку, но в это чудесное утро ей почему-то казалось, что Амадеус здесь, рядом с ней; она чувствовала его одобрение, и это было все равно, что если б он взял ее за руку и вел вперед по авеню де л'Опера к рю де Риволи и дальше, в сад Тюильри.
Здесь ей неожиданно захотелось присесть – не потому, что она устала, а просто ей так хотелось, и она села на скамейку в тихом, почти пустом саду рядом с каруселью, на которой не было ни души, и отстегнула поводок Хекси, чтоб собачка могла носиться туда-сюда и наслаждаться свободой, которую она тоже заслужила. Странно, думала Магги, что она чувствует себя так уютно в этом парадном саду, где было больше усыпанных гравием дорожек, чем зеленых лужаек. Но сидя здесь, рядом с одной из маленьких, поросших травой площадок, украшенных чудесными скульптурами, она ощущала какую-то странную интимность, покой. Утро было холодным, и только изредка кое-кто из редко забредавших сюда в это время посетителей шел по центральной аллее, но Магги чувствовала, как внутри нее разливается тепло: словно это место было для нее особенным, хотя она и не знала, почему.
Покидая Тюильри, Магги остановилась ненадолго при виде огромной пляс де ла Конкорд – площади Согласия, раздумывая, пойти ли туда и ощутить эти невероятные ширь и размах, захватывающие дух, но потом решила увести Хекси подальше от шумного транспорта, на рю де Рояль. Справа от нее был «Максим» – она помнила, как часто Зелеев с восторгом и почтением говорил о «Максиме», а потом, на другой стороне, она заметила ювелирный магазин и «Кристофль», где продавались изделия из золота. Но внимание Магги уже приковало здание в конце улицы, похожее на замок в стиле неоклассицизма. Подойдя ближе, она увидела, что несмотря на его неприветливую коринфскую колоннаду, это была церковь, стоящая посреди приятного вида площади и окруженная с обеих боков прелестным цветочным рынком.
Святой Марии Магдалины, прочла она. La Madeleine.
– Моя церковь, – сказала Магги для Хекси, которая стала выказывать признаки усталости. Она взглянула наверх и увидела уличный указатель. – Place de Madeleine.[37]
– Моя площадь, – сказала она и улыбнулась.
На площади было два продовольственных магазина, в двери которых регулярным потоком входили и выходили из них роскошно, изысканно одетые покупатели. «Фушон» и «Хедьяр»; оба они, подумала Магги, рискнув подойти поближе, выглядели внушительно. Она постояла какое-то время возле окон «Фушона», и каждый раз, когда открывались двери, до нее доносился аромат колбас, свежеиспеченного хлеба, сыра и шоколада, заставлявший ее сглатывать слюну.
Хекси стала поскуливать.
– Мы не можем.
Это было очень дорого – ясно, как день, и Магги знала, что при ее обстоятельствах, когда она даже не знает, как долго не сможет найти работу, она должна покупать батон хлеба с ветчиной в дешевом кафе и делиться им с Хекси… Но сегодня был особый день, и к черту все правила!
Было странно, и даже противоестественно, чувствовать больший душевный подъем при виде хорошей еды, больший, чем от знаменитых красот Сакре-Кер или от щедрости Ноя Леви. Но в те три четверти часа, которые Магги бродила внутри двух зданий, составлявших «Фушон», у нее было любопытное ощущение, что с ней происходит какая-то метаморфоза. Она больше не неслась стремительно вперед, почти обезумев от неистовой радости, свободы и страха, что ее могут снова отнять, она внезапно как-то притихла, у нее появилось ощущение какого-то гипнотического роскошного покоя, словно она бродит взад-вперед по райским кущам. Хекси, привязанная снаружи, была временно забыта, когда глаза Магги раскрылись на пол-лица, а рот переполнился слюной. Конечно же, в Цюрихе тоже должны были быть красивые гастрономы, подумала она – но она никогда там не была. У нее даже не было нужды заходить туда, потому что фрау Кеммерли, которую отвозил Максимилиан, закупала всю провизию для Дома Грюндли.
Внутри было просто разлито блаженство. Магги смотрела, как какой-то господин рассыпал на полу немного сушеных пряных трав и отошел в сторону, удовлетворенно наблюдая, как покупатели разнесли их по полу своей обувью, обогатив и без того божественно благоухавший воздух едва уловимым, тонким и изысканным ароматом. Вокруг были восхитительные, внушающие восторженный трепет экзотические фрукты и овощи, Деревянные кадочки с pate de foie gras,[38] аппетитные пышные колбасы, трюфеля, консервированные петушиные гребешки – здесь было просто царство изобилия, земной рай для гурманов. Это был город Зелеева и, может, в один прекрасный день – и ее город тоже.
Магги купила сосиску, запеченную в бриошь, и нехотя вышла на улицу, к оставленной и начавшей уже паниковать таксе.
– Извини меня, извини, Хекси.
Она подхватила Хекси опять на руки, и нос собачки, почуявший благоухающий запах из ее сумочки, засопел с голодным недовольством. Но мысли Магги были все еще не о собачке, они все еще были заняты ее продолжавшейся трансформацией. Она вошла в «Фушон» все еще бездомным, все еще смущенным швейцарским подростком, сбежавшим из дома; но пока она блуждала по магазину, и теперь, когда она снова оказалась на площади Мадлен, которую пересекали утренние покупатели, она почувствовала себя захваченной этим городом, затянутой в него. Она изменилась таинственным, чудесным образом. Une Parisienne.[39] И к тому времени, когда она, уставшая, вернулась назад в квартиру на бульваре Осман, нашла вазы для цветов, которые купила по пути домой, привела себя в порядок и заперла Хекси в своей спальне. Прежде, чем отправиться в первый из магазинов haute joaillerie,[40] она уже решила, что поменяет свое имя на новое, больше отвечающее ее новой сущности. Ей никогда не нравилось ее имя; Магдален было слишком старомодным, слишком святым, тогда как Мадлен звучало иначе, в нем было что-то живое, уютное и изящное…
Мадлен Габриэл.
Ей понравилось.
Ей не удалось обнаружить никаких следов Константина Зелеева на Вандомской площади – как ни в одном из наиболее известных ювелирных и торгующих золотом магазинов, так и в quartier des bijoutiers[41] в последующие дни. Никто из художников-ювелиров и золотых дел мастеров не знал русского, и как она могла заключить из ее рысканья в книгах адресов и целенаправленных поисков в районе между вокзалом Сен-Лазар и площадью Батиньоль, где, как ей сказали, жило много русских эмигрантов в старые времена, Зелеев не жил ни в Париже, ни в его пригородах.
Стиснув зубы, чтобы скрыть свое сильное разочарование, она приступила к решению другой своей первоочередной задачи – поискам работы. Они оказались такими же безрезультатными. Шестнадцатилетняя девушка-швейцарка, без необходимых для работы документов и даже без удостоверения личности, без квалификации и опыта и не желающая вдаваться в подробности о своей семье, была малопривлекательным кандидатом на рабочее место. Конечно, Мадлен могла бы мыть посуду в ресторанах и барах, прислуживать официанткой за столиком, дожидаясь чаевых, или стать фотомоделью для какого-нибудь капризного сомнительного фотографа, но она знала, что Ной скорей отвезет ее назад в Цюрих – даже если она будет брыкаться и кричать, – чем позволит ей заняться такой неподобающей ей работой.
Ее две недели были почти на исходе. В последний день февраля, в половине четвертого пополудни, сидя за кофе со сливками в кафе «Флора» и просматривая газеты и журнальчики, Мадлен подняла голову как раз вовремя, чтобы увидеть, как черноволосая девушка за соседним столиком вдруг упала со стула в обморок.
– Все в порядке. Все хорошо, – успокаивала ее Мадлен, когда девушка пришла в себя и дала Мадлен себя поднять. – С вами все хорошо.
Мадлен позвала официанта.
– Un cognac s'il vous plait, Monsieur.[42]
– Извините меня, – слабо проговорила девушка и закрыла глаза.
– Пустяки, – ответила Мадлен.
Принесли коньяк, и она бережно поднесла рюмку ко рту девушки – так, что лишь чуть-чуть влилось через ее губы.
– Не принимайте это близко к сердцу, я никуда не спешу.
– Третий раз, – сказала девушка и заплакала.
– Не надо, – сказала Мадлен, расстроившись. – Может, вам просто нужен свежий воздух – давайте, я помогу вам выйти на улицу?
Девушка покачала головой.
– Не сейчас.
Она нашла носовой платок в своей сумочке и отерла глаза.
– Извините, – повторила она. – Мне так неловко.
– Почему? – спросила Мадлен. – Вам просто стало плохо – вот и все.
– Я не больна, – проговорила девушка, и слезы опять потекли из ее глаз. – Я – беременна.
– Ох, – вырвалось у Мадлен, заметившей, что на ее пальце не было кольца. Она не знала, что сказать.
– Вернитесь к своему кофе, – сказала девушка. – Теперь со мной все хорошо.
– Нет, не все хорошо.
Мадлен помолчала.
– Как Вас зовут?
– Симона.
– Пейте коньяк, Симона.
Девушка повиновалась.
– А ваше имя?
– Мадлен Габриэл. – Она помолчала опять. – А вы уверены?
– Насчет беременности? Полностью.
Глаза Симоны были похожи на спелые черные вишни, с красными кругами вокруг них, ее кожа была бледно-оливковой, нижняя губа была пухлой, даже немного опухшей, словно она кусала ее.
– Три месяца, – сказала она. – И когда они узнают, я окажусь на улице.
– Кто?
– Мсье и мадам Люссак – я у них работаю. Я – bonne à tout faire,[43] их горничная, и я недостаточно сильная, чтобы скрывать от них правду – я уже три раза падала в обморок.
– Может, они вам помогут?
– Нет, – Симона покачала головой. – Как они могут? Они – приличные люди с маленькими детьми. И в любом случае, есть вещи, которые я делать больше не должна – если хочу сохранить ребенка…
– Конечно, вы хотите его сохранить. Симона пожала плечами.
– Было бы проще… – она замолчала. Мадлен посмотрела на нее.
– Пойдемте.
– Мне еще не пора – мне хочется еще посидеть.
– Мы пойдем не к вам на работу.
– Тогда куда же?
– Со мной, – улыбнулась Мадлен. – Домой.
Мадлен уже выложила ей то, что самой Мадлен показалось блестящим и гениальным по своей простоте планом. Даже если б хозяева девушки были и более добросердечными, и более широко мыслящими, чем можно было заключить со слов Симоны, ей все равно бы пришлось оставить это место, потому что она не смогла бы выполнять свои тяжелые обязанности. И это освобождает вакансию, для которой Мадлен была не так уж неквалифицированна, как в случае с любой другой работой.
– Я – сильная, – говорила она решительно Симоне. – У меня есть воля, и мне отчаянно нужна работа. И там есть, где жить – все просто идеально!
– А я? – спросила разумно Симона. – Где же буду жить я?
– Ты можешь остаться здесь, с Ноем, – Мадлен предусмотрела все. – Ему нужна горничная – но это будет гораздо более легкая работа, чем та, к которой ты привыкла. Он – добрейший, тишайший и заботливейший человек на свете.
– Но он меня даже не знает. Ты же ничего не знаешь обо мне – ты просто подобрала меня с пола в кафе. Я для тебя – полная незнакомка, ты даже не знаешь моей фамилии.
– А я ведь могу ее узнать?
– Дайя.
– А что это за фамилия?
Впервые за время их знакомства Симона улыбнулась.
– Мой отец – алжирец, а мать – француженка.
– Bon,[44] – сказала Мадлен. – Теперь я знаю твое полное имя.
Когда Ной вернулся домой, Мадлен была уже наготове. Велев Симоне оставаться в спальне, она встретила кантора самой трагической передачей истории девушки, на какую только была способна, и выпалила планы на свой собственный счет.
– Я могу сама представиться мадам Люссак в ее grand appartement[45] – они занимают два этажа на бульваре Сен-Жермен в районе Бурбонского дворца – прежде чем она даже узнает о ждущей ее проблеме. Это же здорово, Ной! Ей даже не придется тратить время и нервы на поиски новой горничной – ведь я могу приступить к работе сразу же, как только ее оставит Симона.
Она в первый раз перевела дух и посмотрела на реакцию Ноя.
– Теперь я могу высказать свое мнение? – спросил он мягко.
– Конечно.
– А как это поможет Симоне?
Мадлен приступила ко второй части своего плана.
– И, пожалуйста, не говорите, что вам не нужна прислуга – потому что она вам нужна. Господин такого положения, как ваше, просто должен иметь экономку. У вас есть более важные, более духовные вещи, о которых вы можете думать – а не тупые однообразные домашние дела. Симона может ходить за вас по магазинам…
– А мне нравится покупать самому, – вставил он.
– Конечно, отдельные вещи – но не все эти утомительные и скучные необходимости… такие, как мыло или крем для чистки ботинок. Да и потом, вы не очень любите мыть и стирать, правда, не любите? И я знаю, как вы ненавидите гладить рубашки. А Симона гладит просто превосходно!
– Вы уже видели ее за работой? – поинтересовался Ной.
– Еще нет, но она говорила мне, и я ей верю – у нее честное лицо.
– А, может, мне тоже покажут это лицо? – предложил Ной. – Думаю, именно поэтому Хекси скребется в вашей спальне.
– Я позову ее.
– Будьте так любезны.
Симона была скованной от смущения, глаза ее еще больше покраснели.
– Мне так стыдно, мсье, – прошептала она.
– Где живет ваша семья?
– В Авиньоне, мсье.
– А может, вам лучше вернуться к ним, домой?
– В свое время, – допустила Симона. – Может случиться так, что у меня не будет другого выбора… но все же я надеюсь, что… – Она густо покраснела.
– …что мой друг женится на мне.
– Вы любите его?
– Очень.
– А он знает, что вы ждете от него ребенка? – спросил осторожно и вежливо Ной.
Симона кивнула.
– Думаю, он испугался… Но он – неплохой парень… может, он вернется ко мне. Но если я сейчас уеду из Парижа, тогда – надежды никакой.
– Понимаю.
– Правда? – быстро подхватила Мадлен. – Я знала, что Вы поймете.
– Я понимаю, что мадемуазель Дайя в плачевном положении.
– Но оно не настолько плачевное – по крайней мере, теперь, – глаза Мадлен блестели ярче, чем обычно. – Это такое чудесное волшебное разрешение проблемы – оно поможет нам всем.
– Это невозможно, – сказал Ной.
– Ерунда! Это не только единственно возможное решение – оно и еще очень удобное. Для всех нас. Вы говорили, что если я найду подходящую безопасную работу и место, где жить, вы одобрите мои действия, а мсье и мадам Люссак – очень почтенные уважаемые люди.
– Так оно и есть, – эхом отозвалась Симона.
– А чем занимается мсье Люссак? – спросил Ной девушку.
– Он имеет дело с антикварной мебелью, мсье, у него галерея на Фобур Сент-Оноре, и вся квартира полна красивыми вещами.
– Звучит чудесно, – подхватила Мадлен. – Я не могу дождаться, когда увижу все это.
– Конечно, я не могу удержать вас от попытки… – мрачно посмотрел на нее Ной. – Но мне кажется, будет лучше, если мадемуазель Дайя сама расскажет мадам Люссак о своем положении, прежде чем вы пойдете туда, думая, что есть свободное место.
– Но для Симоны это слишком тяжело, да и потом, если она может остаться здесь…
– Нет, – твердо ответил Ной.
Симона опять начала плакать, и Мадлен, словно защищая, обняла ее за плечи.
– Но это только на время. На оговоренное время, – взывала она к Ною. – С вашей помощью Симона сможет переговорить со своим другом и выйти замуж – а если нет, она вернется назад, в Авиньон, в любом случае – когда родится ребенок.
Ной молча смотрел на обеих девушек: на одну, такую импульсивную и настойчивую, и на другую – несчастную, отчаявшуюся и потерянную.
Даже если б я и мог что-то сделать, – сказал он, – я не могу не учитывать мнения моих прихожан. Они, конечно, не одобрят этого, и нельзя ждать, что мадам Вольфе станет опекать ее – я в этом уверен.
Мадлен взглянула на часы на каминной доске и поняла, что через какие-то минуты в квартире должна появиться la dame respectable. И еще Мадлен вспомнила еврейское слово, которое мадам Вольфе часто повторяла за эти двенадцать дней – в основном, в отношении Ноя. Мицва.[46] Оно означало хорошее доброе дело, особенно благотворительного толка.
Она вынула свой собственный платок из кармана и протянула его Симоне, чтобы та вытерла нос. А потом она взглянула на Ноя – в упор, вызывающе, прямо в его карие глаза.
– Вы сделаете такое чудесное мицва, – сказала она торжественно, зная, что это была ее козырная карта, и что если она будет бита, дело пропало.
Улыбка появилась на губах Ноя, как долгожданный луч солнца из-за туч, прорывая его внутреннюю оборону, – что и нужно было Мадлен. А он понял, без тени сомнения, что она убедит неизвестную ему мадам Люссак и станет возможно самой необычной bonne à tout faire, какую только эти добрые люди когда-либо знали.
И еще он понял, что ему будет ее не хватать.
9
– Так у вас нет опыта, так, Мадлен?
– Нет, мадам, но я молодая и сильная.
– Вы, конечно, умеете шить?
– Oui, Madame.[47]
– И гладить?
– Naturellement, Madame.[48]
– Отец Бомарше сказал мне, что вы выросли в приличной семье, и что в вашем доме было много красивых вещей. Он считает, это означает – вы будете бережно обращаться и с нашей собственностью.
– О да, мадам.
– Ваши волосы довольно неопрятны, Мадлен. Мсье Люссак и я хотим, чтобы вы были чистой и опрятной всегда.
– Конечно, мадам. На улице довольно ветрено сегодня.
Мадлен сделала паузу, думая, чем произвести впечатление.
– Я довольно хорошо готовлю, мадам.
– У нас есть чудесная повариха, Мадлен. Хотя, конечно, вам придется прислуживать во время семейных обедов, а также во время более скромных обедов с гостями.
– Я буду делать это с удовольствием, мадам.
– Тогда очень хорошо.
Через сорок восемь часов после знакомства с Симоной Дайя Мадлен уже поселилась в своем новом жилище – маленькой, выкрашенной белой краской комнатке в мансарде с покатым потолком, слуховым окошком и окном размером не больше мужского носового платка. Ее единственной мебелью была узкая кровать, маленький столик и всего один стул, на котором она сидела в свой первый вечер здесь, пытаясь справиться со своей первой работой – подогнать на себя две униформы Симоны. Мадлен, бывшая всегда честной, бессовестно солгала насчет своих портновских способностей. Конечно, ее и вправду учили шить – сначала Хильдегард, а потом – в школе, но это требующее усилий и утомительное занятие всегда было для нее сущим наказанием, и она никогда не выказывала никаких признаков старания.
– А теперь я за это расплачиваюсь, – бормотала она самой себе, когда уколола палец в пятый раз, слизнув маленькое алое пятнышко раньше, чем оно испортит белый воротник или манжеты на черной униформе; ей отчаянно хотелось бросить это занятие, но она знала, что завтра утром ей нужно выглядеть особенно аккуратной, опрятной и подтянутой – иначе все старания Ноя пропадут зря.
Он сделал маленькое чудо, позвонив отцу Бомарше, местному священнику, своему другу, с просьбой посодействовать. Когда святой отец отправился навестить мсье и мадам Люссак на бульваре Сен-Жермен, чтоб объяснить затруднительное положение Симоны и предложить Мадлен в качестве отличной и надежной замены, Ной и Симона решили поработать над самой Мадлен, ища что-нибудь подходящее, в чем она может пойти на эту встречу, и пытаясь обуздать ее непокорные волосы так, чтоб они казались вполне смирными.
Единственной спорной вещью была Хекси. Невозможно было представить себе обстоятельств, при которых Габриэль Люссак согласится принять маленькое животное в свой красивый ухоженный дом. И опять прелестные глаза Магги обратились к Ною Леви.
– Никто лучше вас не знает такс, Ной, – сказала она чуть льстивым тоном – из самых лучших побуждений.
– А еще я знаю сколько с ними хлопот, – ответил он без энтузиазма.
– Симона будет с ней гулять – это хорошо для ее ребенка. Это заставит ее заглатывать достаточно свежего воздуха. Ведь ей это так необходимо! А я буду приходить к вам всякий раз, как только смогу.
– У вас будет не так много времени, вы же понимаете, Мадлен, – вежливо и осторожно предупредил ее Ной. – Вы приехали в Париж в поисках свободы, но боюсь, вы потеряете ее уже через две недели.
– Но это же было ваше жесткое условие – чтоб я за две недели нашла работу, – напомнила ему Мадлен. – И вы были совершенно правы. Я приготовилась работать не на шутку, и если будет очень тяжело, я напомню себе, что это просто средство для того, чтоб остаться независимой.
Уже меньше чем через неделю Мадлен знала, что, как обычно, она действовала под влиянием порыва. Трудно было отыскать человека, который бы еще меньше подходил на роль горничной, чем она. Но все же Мадлен была настроена решительно – она будет продолжать работать! Она знала – у нее нет выбора. Пока она не подыщет себе что-нибудь получше – а на это пока было непохоже – или не отыщет отца или, по крайней мере, Зелеева, она должна считать себя везучей, что твердо стоит на ногах.
Это была роскошная квартира, вся заполненная – как и говорила Симона, разными чудесными вещами: красивые и мягкие, как пух, ковры, идеально повешенные портьеры и занавески, коллекция хрупкого фарфора, внушительного вида тяжелая мебель, прекрасные произведения искусства, любовно начищенное серебро. Мадлен выросла в доме простой роскоши, и она была ребенком, считавшим эти дорогие вещи просто тем, что должно доставлять удовольствие. Теперь она видела, что для Габриэль и Эдуарда Люссаков все то, что их окружало, было по-настоящему важно – они всю жизнь собирали эти драгоценные находки. Задачей Мадлен было заботиться о них, и эта ее новая ответственность тревожила ее.
Она всегда чувствовала себя измотанной к концу дня. За все свои шестнадцать лет она никогда еще не работала так много. Ее хозяева вовсе не были недобрыми, но их претензии были высокими. Двое их дочерей, Андрэ, четырнадцати лет, и Элен, на два года моложе, были живыми, хорошо воспитанными девочками и доставляли Мадлен мало хлопот: большинство времени они проводили вне дома – или в школе, или у друзей, да и потом мадам Люссак доставляло удовольствие самой заботиться о своих детях.
– Мадлен лишь немногим старше Андрэ, – сказал Эдуард Люссак своей жене. – Мне иногда кажется – она с трудом удерживается, чтоб не подружиться с ними.
Габриэль Люссак кивнула.
– Мне кажется, что Мадлен вообще многое дается с трудом, должна тебе сказать. Она не привыкла много работать.
– Но она старательная, n'est-ce pas, chérie?!
– О да, конечно, она очень старается, – улыбнулась мадам Люссак. – И иногда ей кое-что удается… но это не происходит естественно, само собой.
Обязанностью Мадлен было содержать каждый сантиметр красивого и огромного пола двухэтажной квартиры в безукоризненной чистоте, на ней лежала вся стирка и утюжка, она должна была помогать мадам Блондо, поварихе – внушительно сложенной пятидесятипятилетней женщине незаурядной силы – если это было необходимо; чистить семейное серебро – непрерывное и неблагодарное занятие, как казалось Мадлен – потому что как только она заканчивала, ей приходилось начинать все сначала; сервировать стол перед каждой едой и подавать ее – от завтраков в постель мадам Люссак до званых обедов, которые ее хозяева, может, и считали скромными, но Мадлен казались роскошными и утомительно частыми.
Как и заметили ее работодатели, она очень старалась, отказываясь сдаваться, и так как она была молодой и сильной, то знала, что эта работа доступна ей физически. Но дисциплина и монотонный надоедающий характер работы шли вразрез с ее натурой. Мадлен хотелось убежать на свободу, бродить по городу, и, самое главное, ей нужно было время, принадлежавшее только ей – чтоб найти Зелеева и отца. Конечно, она добровольно ушла от своей семьи, и до сих пор считала, что приняла тогда верное решение – но теперь Магги боялась, что ее исчезновение сделало невозможным для Александра найти ее. Она обнаружила, чем больше проходит времени, тем больше ей не хватает Амадеуса и его любящего взгляда, и тепла его заботы, и ей все больше и больше не хватало отца – хотя они провели вместе так мало времени за последние годы. Если б она хотя бы знала, где он, она постаралась бы пока смириться с их разлукой. А сейчас она не знала ничего, и Александр Габриэл мог быть уже мертв. Так же, как и ее дедушка.
В июле парень Симоны Дайя пришел в дом номер 32 по бульвару Осман, чтоб потребовать ее и еще неродившегося ребенка. Дом Ноя Леви стал снова принадлежать только ему одному. Правда, там осталась еще Хекси, которая была довольно капризной, но он был ей рад, потому что чувствовал себя одиноким после ухода Мадлен. Симона была хорошей и благодарной девушкой, и изо всех сил старалась сделать так, чтоб Ною было хорошо, но Мадлен… Мадлен – это Мадлен, и этим все сказано. Хотя она и пробыла в его квартире всего две недели, эти золотистые волосы и редкие бирюзовые глаза, ее отвага… он мог назвать это только chutzpah… оставили на его сердце отметину надолго. Их дружба, конечно, будет продолжаться… но Ной чувствовал, что эта девушка не останется навсегда в Париже. А больше никогда не увидеть Мадлен – да, это было бы несомненным несчастьем. Она оказывала такое влияние на людей – очаровывала всякого. И Ной подозревал, что так будет всегда.
Совершенно очевидно, что Люссаки тоже попали под ее обаяние – потому что иначе они бы уволили ее давным-давно. Как она ни старалась, Мадлен никогда не выглядела так, как должна была выглядеть прислуга. Ее волосы словно обладали своим собственным характером и волей. Они упорно отказывались оставаться подколотыми и спрятанными под скромной белой наколкой, которую ей полагалось носить – и вообще Мадлен была просто не в состоянии выглядеть скромно. И, что еще хуже, все ее попытки преуспеть на своем новом поприще пропадали втуне. Всего за пару месяцев Мадлен прожгла утюгом шелковые простыни Люссаков, оставила выбоины и вмятины на их серебряном чайном сервизе викторианской эпохи, переколотила бесчисленное количество изделий из севрского фарфора и уйму мейссенских статуэток, и выстирала красный пуловер Элен из шерсти ягнят вместе с любимым кремовым кардиганом мсье Люссака.
– Когда я его вытащила, он был весь в розовых подтеках и пятнах, – жаловалась она Ною в один из своих выходных дней. – А он был так добр со мной – хотя я знаю, что он наверняка рассердился.
– Думаю, он понял, что это была ошибка, – сказал Ной в своей обычной вежливой и бережной манере.
– Конечно, это была ошибка, но я делаю так много ошибок!
Мадлен сидела, устроившись на канапе Ноя, и трепала Хекси по ушам, чтобы успокоиться.
– Кажется, я такая неуклюжая. Нет, правда, чаще всего я нерасторопная, но иногда я просто слон!
– Не принимайте это так близко к сердцу, – посочувствовал ей Ной.
– Легко сказать! Как я могу не принимать это близко к сердцу? Они ведь так хорошо ко мне относятся – она может быть строгой – но никогда недоброй или несправедливой! Вот мадам Блондо – та меня обзывает, один раз она меня даже шлепнула…
– Ты шутишь, – Ной подался немного вперед, успокаивая ее.
– Но я ее не виню. Я уронила посудину в ее превосходное сырное суфле – оно было готово, и можно было уже подавать. Правда, потом она извинилась, что вышла из себя, но я уверена – она ненавидит меня.
– Чепуха.
– Но я не собираюсь сдаваться, – Мадлен встала. – Они дают мне шанс за шансом, и я буду все больше и больше стараться.
В ее глазах был решительный блеск.
– Я стану хорошей горничной – даже если это сведет меня в гроб.
На следующий день она уговорила мадам Люссак не отсылать новый пеньюар из атласа и кружева к Мюссэ на Фобур Сент-Оноре, где должны были вышить монограмму. Ей хотелось, чтоб мадам увидела, как она преуспела в работе с иголкой. Но увы! Как оказалось, Мадлен заварила эту кашу лишь для того, чтобы обнаружить, что она прошила сразу несколько слоев атласа, и в карман стало просто невозможно залезть рукой. Тремя днями позже убирая со стола после обеда, она залила воском скатерть, и прожгла ее свечой, которая, как ей показалось, давно потухла. А в свой выходной в ноябре, после часовой прогулки с Хекси на бульваре, Мадлен провела ее через парадную в холл, и такса немедленно сделала лужу на мягком зеленом ковре Люссаков.
Но все же они не уволили Мадлен. Иногда она почти хотела, чтоб они сделали это.
В течение нескольких месяцев Мадлен регулярно помещала объявления в двух журналах – каталогах изделий из драгоценных камней, золота и серебра. И однажды днем в апреле 1957-го ей позвонили.
– Allo?
– Магдалена Александровна, это вы?
– Не может быть! – ее сердце бешено заколотилось от радости. – Где вы?
– В Париже.
Они встретились за поздним ужином в «Брасьери Лип» напротив Сен Жермен-де-Пре. Прошло четыре года с тех пор, как они в последний раз виделись, но Магги показалось, что Зелеев почти не изменился. Его волосы были такими же рыжими и безупречно причесанными, а его усы – такими же густыми и ухоженными, и глаза – все те же зеленые и изменчивые.
– Магги, ты прекрасно выглядишь!
Его объятье было крепким, а щеки благоухали его любимым знакомым бергамотным маслом.
– И вы тоже – но теперь я Мадлен.
Они сели – напротив друг друга. Ресторан, оформленный в духе art nouveau,[49] был, как всегда, полон; в воздухе стоял гул разговоров, и пиво лилось в кружки.
– А почему ты изменила имя?
– Мне показалось, что это нужно сделать. Я изменила свою жизнь, и значит – я тоже изменилась?
– Тебе нет нужды меняться – но Мадлен тебе подходит.
– Где вы были?
Мадлен до сих пор не могла поверить, что он здесь; у нее было сильное искушение протянуть руку и коснуться его – чтоб убедиться, что он – настоящий.
– Как вы меня нашли?
– Я приехал в Париж два дня назад, – рассказал ей Зелеев. – А вчера мой коллега с рю дю Тампль показал мне твое объявление – я был так счастлив, что просто полетел к телефону. Я несколько раз писал тебе в Цюрих – но не получал ответа.
– Потому что я оттуда уехала – больше года назад.
– После смерти Амадеуса, – сказал Зелеев и кивнул. – Я поражен.
– Но где же вы были? Я месяцами давала объявления, и я была в Женеве, прежде чем приехать сюда – никто там о вас не слышал.
– Какая короткая у них память, – проговорил Зелеев с кривой улыбкой.
– Я вспомнила, что вы работали на Перро и сыновей.
– Ты ходила туда?
– Только в магазин – но они не захотели мне помочь.
– Я был в Америке, – сказал Зелеев. – В Нью-Йорке. Мои таланты стали немного не соответствовать вкусам Европы – но там, за океаном, меня оценили. – Он сделал паузу. – Но я по-прежнему люблю путешествовать, и ненавижу подолгу быть далеко от Парижа.
– А теперь мы здесь оба, – Мадлен помолчала и почувствовала, что все ее тело напряглось. – А мой отец?
– Боюсь, я мало что о нем знаю.
– Но вы хотя бы знаете, где он? Он оставил мне записку… Он написал – вы будете знать, как найти его, и скажете мне. – Вся ее боль и тоска были в ее голосе. – Где же он?
– Если б я только мог сказать тебе, Магги! – Он улыбнулся. – Я не могу перестать называть тебя так – ты не возражаешь?
– Конечно, нет.
Они заказали ужин и эльзасского пива, прежде чем Зелеев стал продолжать.
– Здесь, в Париже, у меня многие годы сохранялся обычный адрес моего пристанища – твой отец его знает, но я получил весточку от Александра всего один раз, вскоре после смерти Амадеуса.
– Когда?
– Через три месяца. На письме был штемпель Гамбурга, но не было адреса, и Александр писал, что вскоре снова тронется в путь. И с тех пор больше – ничего.
– Что же он написал в этом письме? – Мадлен чувствовала себя совсем как погибающий от голода – если нельзя получить целый обед, то драгоценны и крошки. – Оно у вас с собой?
Зелеев покачал головой.
– Я даже и не мечтал о таком счастье – встретить тебя, ma chère.
– У вас его нет… – разочарованно протянула Мадлен.
– Но я могу вспомнить.
– Правда?
– Он написал коротко – в основном, о тебе, а еще – об Eternité.
– Значит, вы знаете? – тихо спросила Мадлен.
– Что он взял ее? Да, он написал мне. Он боялся, что Джулиусы или Хильдегард могут найти ее прежде, чем ты сможешь приехать туда, и поэтому на всякий случай он прихватил ее с собой. Он писал, что любит тебя еще больше, чем прежде… и что не видеть тебя – это самое большое горе в его жизни. Но он верит, что в один прекрасный день он сам сможет отдать Eternité тебе. А пока он клянется, что сохранит ее – ради тебя и отца.
Принесли пиво. Зелеев пил его жадно, а Мадлен смотрела на него и изнывала от желания услышать еще что-нибудь. Но больше ничего не было.
– Если он напишет вам опять, вы ведь сможете сказать ему, где я, правда?
– Да. Если только он даст мне свой адрес.
– Но разве он может снова не дать? Почему? – умоляюще спросила она.
– А вдруг у него просто нет возможности?
– Но почему? – она помолчала. – Из-за женщины? Из-за того, что случилось той ночью?
Зеленые глаза Зелеева стали зорче и жестче.
– Кто тебе сказал?
– Моя мать. Вот почему я ушла из дома – из-за ее лжи.
– Понимаю.
– Разве?
Мадлен была просто вне себя от радости, что снова видит Зелеева, она была счастлива, что снова нашла важную ниточку, связывавшую ее с прошлым. И самое главное – ее отец жив: по крайней мере, год назад он был цел и невредим в Германии. Но снедавшая ее мука, что она оказалась совсем оторванной от него в ту ночь, когда уехала из Цюриха, злое чувство к Эмили, и довлевший над всем этим страх, что кое-что из рассказанного матерью об Александре могло быть правдой, сидели в ней, и Мадлен с тоской и болью все эти годы бессознательно ждала момента, когда наконец эти страшные мысли оставят ее.
– Пожалуйста, Константин, скажите мне правду. Она увидела, как его бледные щеки залила краска.
– Ведь я больше не ребенок. Она ждала.
– Вы не можете сделать мне хуже, если расскажете, что произошло. Пожалуйста.
– Прямо сейчас? – спросил он.
– Я ждала десять лет, – ответила она, и голос ее дрогнул. – Я больше не могу. Поймите, я больше не могу.
Глаза его сузились от знакомого Мадлен отвращения, но потом потеплели от жалости к ней. А потом он рассказал ей. Ту же самую историю, которую она слышала от Эмили – хотя он рассказывал иначе, его голос был бережным и дрожал иногда, когда он пытался преуменьшить преступление отца.
– Мы оба виноваты, – говорил он. – Мы оба были пьяны – я был жутко, чудовищно пьян. Но наркотики… эти проклятые наркотики, которые принял Александр – они довели его до безумия и уничтожили его достоинство. Он не понимал, что делает.
– Продолжайте, – сказала Мадлен, горло ее сдавило.
– Твой отец заплатил за свои грехи – за слабость и безрассудство – в тысячу раз более дорогой ценой. Той ночью, Магги. Но я никогда не переставал проклинать себя за свою роль в этой истории.
– Но вы не били женщину, – прошептала с несчастным видом Мадлен. – Вы не пытались ее убить.
– Нет, но все равно мне есть за что себя проклинать. – Внезапно лицо Зелеева исказилось от боли воспоминаний. – Если б я не приехал в Цюрих в тот день, если б я, как безмозглый мальчишка, не напился так по-свински, чтоб купить шлюху… если б я не потащил женатого мужчину неизвестно куда на ужин – ваши отец и мать по-прежнему были бы вместе, пусть не очень счастливы, но вместе, и ты бы жила дома, в уюте – где тебе и должно жить.
– Вы думаете, мне важен комфорт?
– Нет, – его голос звучал горько. – Но это важно мне.
Они встречались так часто, как только было возможно. Зелеев вскоре должен был снова уехать из Парижа. Иногда Мадлен чувствовала, что эти встречи были самой большой радостью, какую только она испытывала с тех пор, как видела его в последний раз в Давосе. Но в другие разы они отчаянно спорили – Константин был твердо убежден, что она занимается не своим делом – роль горничной ей совсем не подходит, и она зарывает в землю богом данный ей талант.
– Тебе надо брать уроки пения, – не уставал он ей повторять. – Никакого драянья полов! Такое самоуничижение хорошо в романах – но не в реальной жизни.
– Но вы ведь обожаете свои драгоценные романы, – дразнила его Мадлен, памятуя о том, что сказал ей когда-то Зелеев: он никогда не ездил куда-либо без своих любимых «Анны Карениной» и «Отверженных».
– Да, я счастлив вновь и вновь проливать слезы над страданиями Фантин и бедной Анны, – отрезал он. – Но у меня нет никакого желания видеть и слезинку в глазах тех немногих людей, которых я люблю.
Они обнялись – Мадлен была глубоко тронута его заботой о ней, хотя его гнев и забавлял ее, что немало расстраивало Зелеева. Она познакомила его с Люссаками, надеясь, что встреча с ними еще больше поднимет ему настроение. Но он сказал потом только, что был бы рад, если б Габриэль и Эдуард Люссак были ее друзьями. Но они – ее работодатели, добавил он, и, значит, ошибочно считают, что они выше ее. Он также встретился с Ноем Леви и был очень рад, когда Хекси стала радостно лаять и носиться вокруг него, но Магги чувствовала, что он держится с Ноем отчужденно, и это ее очень расстроило.
– Я вас не понимаю, – сказала она ему позже. – Ведь Ной, в сущности, спас мне жизнь, когда я приехала в Париж. Если б не он – даже и не представляю, что б тогда могло со мной случиться.
– И я ему за это, конечно, благодарен, – ответил Зелеев. – Но тем не менее, он не для тебя, Магги.
– Мадлен, – поправила она. – И я не понимаю, что вы имеете в виду, говоря, что он – не для меня. Слава Богу, он – не мой парень.
– Не будь вульгарной.
– А вы не будьте таким сердитым – на вас это непохоже. И Вам это не идет.
Однажды Зелеев встретился с ней в ее выходной, и лицо его просто сияло от восторга.
– Какое у меня было утро, Мадлен!
– А где вы были?
– Les egouts, – сказал он ей. – Клоака.
– Но зачем?
– Конечно, ради Жана Вальжана.
– Кого?
– Героя «Отверженных» Виктора Гюго, Жана Вальжана. – Он закатил глаза. – Боже! Ты до сих пор не читала? Совершенно ясно, что нет.
– Извините, – улыбнулась она.
– Это было потрясающе. Я давно собирался это сделать – я вообще не понимаю, почему я до сих пор не собрался? Но теперь, когда я наконец сподобился, я приобщился!
– К канализации?
– К преисподней Парижа.
Они сидели у Фуке на Елисейских полях – как всегда, здесь собирались представители блистающих верхов. Те, кому меньше повезло, рады были поглазеть на них и послушать их беззаботную болтовню, и на лицах их явно читалась надежда – может, когда-нибудь дойдет очередь и до них, и они тоже будут сиять и прожигать жизнь так же бездумно, как эти просто лоснящиеся благополучием баловни судьбы.
– Итак, начиная с сегодняшнего дня вы будете ездить только на метро, – пошутила Мадлен.
– К черту метро! – огрызнулся слегка Зелеев. – Все-то тебе шуточки, Магги. А у меня в голове гораздо более захватывающая перспектива.
– А можно узнать, какая?
– Вот подожди и увидишь.
Он заплатил по счету и вывел ее на улицу, где поймал такси.
– Площадь Данфер-Рошро, – сказал он коротко водителю.
– А что там такое? – спросила заинтригованная Мадлен.
– Рядом кладбище Монпарнас.
– Так мы едем на кладбище?
– В некотором роде.
Выйдя из такси, Магги увидела группу людей, стоявших перед дверью, выкрашенной в зеленый цвет. Туристы – с камерами наперевес, в солнечных очках, с картами и путеводителями, возбужденно переговаривались между собой.
– Где мы?
– Смотри, – Зелеев указал на надпись у нее под ногами. Три слова четко выделялись на асфальте: ENTRÉE DES CATACOMBES. Вход в катакомбы.
– Нет, – сказала она и взглянула на него. – Константин?
– Ты ведь не боишься темноты, правда?
– Не особенно – но я больше люблю солнечный свет.
– Ну тогда после часа тьмы солнце засияет для тебя еще ярче и покажется еще чудеснее.
Дверь открылась спустя несколько минут, и группе ожидавших позволили войти. Зелеев пошел, заплатил за вход и стал, улыбаясь, подталкивать ее к ступенькам.
– Viens,[50] – сказал он.
Ступеньки были очень узкими и вились бесконечной спиралью, уходя все ниже и ниже в землю, пока не достигли дна, и туристы, спустившиеся вместе с Мадлен и Зелеевым, начали двигаться по направлению к первому тоннелю, бормоча себе что-то под нос, с неуверенными и нервными смешками.
– Зачем мы здесь?
– Ради удовольствия. Она состроила гримаску.
– Вы – человек странных вкусов.
– Пойдем, – сказал он, взял ее руку и повел вперед. Они прошли по ряду тоннелей, темных и сырых – мрачного, унылого вида. Здесь пахло отбросами и запустением. Иногда они освещались слишком слабым светом ламп, но глинистая земля была почти невидима, и Мадлен несколько раз спотыкалась.
– Мои туфли будут совсем в жутком виде, – пожаловалась она.
– Я сам почищу их – ради тебя, chérie, – Зелеев все еще держал ее за руку. – Обещаю тебе, это стоит того.
Он остановился и заглянул ей в лицо.
– Ты боишься, ma petite?
– Конечно, нет, – солгала она. – Вот еще!
– Ни чуточки?
– Извините, что разочаровала вас. Капля воды упала ей на волосы.
– Пойдемте быстрее, – она устремилась вперед, чтоб побыстрее пройти и выйти наружу.
Они все шли, и глаза Мадлен постепенно привыкали к темноте, но ее тревога возрастала, когда они все дальше углублялись в то, что совершенно очевидно было лабиринтом тоннелей; безопасность их пути обеспечивалась заградительными барьерами и еще – цепями, чтоб предотвратить поворот в непредусмотренный маршрутом тоннель.
– Если мы только изменим маршрут, – сказал Зелеев, его голос отдавался глухим эхом под подземными сводами, – то вскоре обязательно заблудимся.
Мадлен содрогнулась и крепче сжала его руку.
– Сколько еще идти?
– Скоро мы будем в самом их сердце.
Где-то впереди них послышался легкий общий возглас испуга, сменившийся одним за другим раздававшимися смешками, и вскоре они с Зелеевым – буквально через несколько минут – пришли к внутреннему входу, выкрашенному в черное и белое.
– Взгляни, ma chère, – сказал Зелеев, указывая рукой вверх.
ARRÊTE! C'EST ICI L'EMPHAE DE LA MORT.[51]
– A это что? – спросила Мадлен, внутренне похолодевшая от надписи.
– Империя смерти, – ответил он просто, и подтолкнул ее к двери. – Лучшая часть катакомб.
Мгновением позже Мадлен внезапно застыла на месте и выдернула руку. Она, как загипнотизированная, смотрела на стены, которые их окружали. Они не были больше из глины. Они не были темными. Они не были больше уныло и гнетуще одинаковыми. Они были из костей. Длинных костей человеческих тел. Большие берцовые и бедренные кости… И черепа. Больше всего было черепов – с пустыми глазницами, древних и жутких.
– Уведите меня отсюда, – наконец выговорила она хрипло.
– Но ведь это совсем недалеко, – сказал Зелеев, и его глаза с большими и черными зрачками блестели восторгом. – Фантастика, n'est-ce pas?
– Немедленно, – сказала Мадлен: неожиданно ее голос зазвучал резко и настойчиво. – Я не хочу смотреть на это – я не хочу больше оставаться здесь ни минуты. Я хочу, чтоб Вы вывели меня отсюда. Немедленно! Вы слышите меня? Или я больше не буду с Вами разговаривать. Никогда.
– Тебе уже лучше? – спросил Зелеев, когда они были опять на свежем воздухе. – Может, хочешь чаю? Или коньяка?
– Я хочу домой.
Несмотря на огромное облегчение, что она опять оказалась в реальном мире – таком чудесно-благоуханном реальном мире, полном солнечного света, цела и невредима, как и час назад, – Мадлен была все еще в ярости.
– Неужто это и впрямь было так ужасно для тебя? – сказал задумчиво Зелеев. – Я и подумать не мог, что это тебя так расстроит, ma chère.
– Да?
– Конечно, нет. – Он выглядел огорченным. – Легкий укол страха – как при катании в парке аттракционов, возможно, но не больше.
– Это были кости человеческих существ, – бросила ему в лицо Мадлен. – Я никогда не думала, что вы такой бесчувственный, Константин Иванович… а грязь и вонь? Как вы выносите вонь? – она неистово потерла руки. – Как вам понравилась грязь, Константин Иванович? Вам, который принимает ванну дважды в день?..
– По меньшей мере.
– Это не смешно.
– Конечно, нет – если это принесло тебе столько тяжелых переживаний, – сказал он бережно. – Я думал, что это тебя заинтригует – то, что ты видишь настоящую преисподнюю Парижа… я не должен был втравливать тебя в это.
– Да, не должны.
– Мне правда очень жаль, – сказал он смущенно. – От всего сердца.
Мадлен ничего не сказала.
– Вы меня простите?
Она посмотрела ему в лицо.
– Я словно попала в западню – там, внизу.
Он опять взял ее за руку, полный благодарности, когда она позволила ему сделать это.
– Простите меня, Магги, пожалуйста.
Его сокрушенность была видна на его лице.
– Конечно, я вас прощаю, – сказала Мадлен, но она чувствовала, что открыла в своем друге незнакомую, резко диссонирующую черту.
И позже, этой ночью, ей снилось, что ее заживо погребают под падающим градом черепов, а вокруг танцуют скелеты, и кости пощелкивают, как кастаньеты, в этом чудовищном гротескном фламенко; она проснулась в холодном поту, ее руки беспомощно цепляли воздух. Ее била дрожь. Сердце ее бешено колотилось. Мадлен коснулась лица и поняла, что она плакала.
– Не глупи, – сказала она, убеждая себя. – Ничего этого не было. Это – просто сон.
Но прошло еще несколько дней, прежде чем она смогла спать до утра, не просыпаясь по ночам; две недели горел у нее ночник до рассвета, и только через месяц Мадлен смогла заставить себя снова зайти в метро.
В последний день пребывания Зелеева в Париже он купил Мадлен подарок: прелестные старинные часы в дорогом магазине на рю Бонапарт, чтобы возместить потерю ее «Патек Филипп», давным-давно уже проданных для нее на аукционе муниципальным ломбардом.
– Это тебе – как напоминание о том, – сказал он ей, – что время бежит вперед, а не назад. Эта самая твоя, с позволения сказать, работа…
– Я думала, вы поняли, – перебила его Мадлен и вздохнула.
– Да. Я понял. По крайней мере, я допускаю, что в жизни иногда необходим компромисс. Но я хочу, чтоб ты мне поклялась, что запомнишь – это лишь временная мера, способ отстоять свою независимость, как ты сама сказала.
– Я клянусь, Константин.
– Каждый раз, когда я думаю о тебе – в униформе, там, на побегушках у хозяев – какими бы милыми они ни были, – я содрогаюсь.
Словно чтоб подчеркнуть свои слова, Зелеев театрально содрогнулся. Мадлен улыбнулась.
– Я буду помнить.
– Ты совсем не поешь, – продолжал он. – А тебе надо петь – не полы драить.
– Но как это возможно?
– Ты что, не хочешь больше петь?
– Конечно, хочу.
Мадлен старалась не думать о своем тоскливом желании петь. Она пыталась видеть в нем просто еще одно из лишений своей жизни – и не больше. Да и потом, чтоб петь, нужно иметь силы – а у нее они все уходили на дневную работу. Но все же, против своей воли, она всегда помнила это волшебное, магическое чувство освобождения, парящего счастья, которое всегда охватывало ее, когда она бродила с песнями по лесу в окрестностях Цюриха или пела в доме у дедушки.
– Никогда не отказывайся, – сказал Зелеев. – Ни от пения, ни от всего остального, чего тебе хочется в жизни.
После того, как он вернулся в Нью-Йорк, у Мадлен появилось ужасное ощущение жизненного спада. Она чувствовала пустоту и унылое однообразие внутри себя – словно она потеряла цель, ориентир. Долгожданная встреча с Зелеевым состоялась, и хотя он поклялся ей во время их взволнованного прощания со слезами на глазах, что позвонит ей, как только получит весточку от Александра, все же Мадлен пришлось призвать на помощь все свои силы, какие у нее только остались, чтоб продолжать верить, что однажды она снова увидит отца. А пока не оставалось ничего больше, как только терпеть.
Самым худшим было то, что теперь, после стольких лет неуверенности, она знала правду о той ночи. Но разве ей стало от этого легче? Наоборот, теперь она не могла не признать, что Эмили все-таки не лгала. Это было тяжелое чувство – словно признать свое поражение. Но, как бы там ни было, это только еще больше подчеркивало, насколько она была другой, не такой, как Эмили и Хильдегард. И Мадлен поняла, что ее любовь была независимой ни от чего, и именно этим она отличалась от всей ее семьи. Ее любовь была безусловной, а именно это и есть свойство настоящей любви. Ее отец был человеком с изъяном, он не был больше лучезарным героем ее детства – но это ее не пугало. Но теперь она сама уже не была больше ребенком, и Мадлен всем своим сердцем чувствовала и понимала, что слабость Александра, и даже его грехи не могли убавить ее любовь и заботу о нем. Это неподвластно времени и обстоятельствам.
Она жалела только, что романтика и приключения ушли из ее жизни. Мадлен приехала в Париж, чтобы найти отца и сделать новый рывок, чувствуя себя героиней фильма, готовящейся принести жертвы во имя того, что, она знала, было правильным. Теперь она осталась один на один с реальностью – и знанием того, что оставила позади жизнь, полную роскоши, комфорта и безопасности ради работы под неким названием bonne a tout faire, и свободы у нее было не больше, чем раньше. Когда у нее выдавался выходной, Мадлен бродила по богатым улицам города. Они напоминали ей о том, что она оставила без оглядки. Она смотрела на окна Гермеса, вспоминая бабушкины перчатки из шевро, которые периодически отсылались назад на Фобур-Сент-Оноре для чистки; она смотрела сквозь витрины Луи Вуттона и узнавала темно-коричневые с золотыми буковками чемоданы своего отчима. Она вдруг ясно припомнила, как он хвастался – они достались ему от его отца, и что у Джулиусов есть свои собственные зарегистрированные замки и ключи, зарезервированные еще и для их потомства на авеню Марсо. Она проходила мимо магазинов Баленсиаги, Ги Лароша и Нины Риччи и словно наяву слышала восхищенные вздохи наслаждения Эмили, рассматривавшей дома глянцевые модные журналы. Мадлен видела мраморные ванны и турецкие махровые халаты, отели grand luxe и роскошные рестораны, а потом она возвращалась в свою крошечную, не слишком-то теплую комнатку и надевала черную с белым униформу, в которой чувствовала себя не очень уютно, и спешила вниз на кухню, чтобы помочь мадам Блондо с приготовлениями к обеду.
Мадлен была слишком честной, чтобы лгать самой себе, чтоб отрицать, что жалеет кое о чем. Но все же у нее не выходили из головы слова Зелеева, согласившегося с ней – это временная мера, временное средство отстоять свою независимость.
И она знала – несмотря ни на что, она была права, покинув Дом Грюндли. И она не вернется туда никогда.
10
Эдуард и Габриэль Люссак продолжали терпеть необычную горничную, хотя и сами не совсем понимали, почему. Единственное, что они знали – это то, что Мадлен привносила в их дом чуть-чуть больше солнечного света и веселья, которые радовали и их, и Андрэ с Элен. А еще они знали – их замучает чувство некой иррациональной вины, если они попросят ее оставить это место.
Мадлен, между тем, стало совсем скучно. Она по-прежнему восхищалась Парижем – но у нее было слишком мало возможностей наслаждаться тем, что мог предложить этот город. У нее был друг – Ной, вежливый, мягкий и верный ей человек, и она была счастлива, когда узнала, что он теперь помолвлен и собирается жениться на Эстель Галан, по уши влюбленной в своего жениха и так же, как и он, поладившей с Хекси. Мадлен она сразу же понравилась своим юмором, добротой и терпимостью – но счастье ее друга сделало еще более очевидной одну вещь, которую она все время пыталась игнорировать. Пустоту ее собственной жизни. Она была одинока.
За день до дня ее восемнадцатилетия, в декабре, Мадлен, как всегда, поддалась одному из своих порывов, выплеснув таким образом все накопившиеся у нее разочарование и усталость. Она знала, что волосы ее красивы – но они просто сводили ее с ума. Всю жизнь от них были одни только неприятности. Когда она была маленькой, Хильдегард, Эмили и ее учителя вечно донимали ее тем, что она неаккуратная, неподтянутая, и как можно туже заплетали упрямые косички, пытаясь поймать в их капкан каждую золотинку волоска, выбившегося на лоб или щеки. Конечно, мадам Люссак и в голову не пришло бы прикоснуться к Мадлен хоть пальцем, но ее сдержанные и даже мягкие взгляды, в которых, однако, явно сквозило неодобрение, были достаточно красноречивы.
И Мадлен вдруг почувствовала, что с нее хватит. Она схватила ножницы из ее злополучной корзиночки со всякими вещами для шитья, отправилась в ванную комнату, встала около зеркала и стала яростно стричь. У нее вырвался возглас досады – слишком маленькие, слишком тупые! Она сбегала назад в свою комнату и принесла ножницы для ткани. Чик, чик – Теперь ей показалось, что слишком медленно. Она осмелела и стала кромсать более решительно, укорачивая то с одной, то с другой стороны. Она остановилась только тогда, когда увидела, что основная масса золотистой копны волос лежит у нее под ногами.
Задолго до того, как Мадлен покончила с этим занятием, она поняла, что совершила еще один непростительный промах. И это был даже не промах, а самая настоящая нелепая и глупая ошибка, самая глупая из всех, что она когда-либо сделала. Она хотела выглядеть шикарной и в то же время опрятной и причесанной достаточно строго. Но сейчас, глядя на себя в зеркало обескураженными глазами, она увидела, что напоминает ничто иное, как перевернутую вверх кухонную швабру.
– Мадлен!
Она услышала голос мадам Люссак, звавший ее, и поняла, что опаздывает. Внезапно на нее напала паника. Мадлен, как могла, причесала волосы, засунула отрезанный золотистый ворох волос в бумажный пакет и побежала назад в свою комнату, чтобы надеть униформу. В какой-то момент она была даже рада, потому что белая наколка легко утвердилась на ее голове, и забрать волосы не составило никакого труда.
– Мадлен, ну где же вы были? Я уже опаздываю на прием к дантисту, а мне еще нужно дать вам список покупок, которые нужно сделать.
Ее хозяйка была в такой спешке, что к счастью для Мадлен даже не взглянула на нее, когда девушка брала список. И уж конечно Мадлен как можно быстрее бросилась с глаз долой, бормоча про себя молитвы благодарности. Она сделает все, что от нее требовалось, а потом попробует что-нибудь сделать со своими жуткими волосами прежде, чем соберется вся семья. Что ж, у нее будет достаточно времени оплакать свой катастрофический вид, потому что Мадлен уже поняла – ей придется жить с этим не один месяц.
По случаю дня рождения мадам Люссак дала Мадлен лишний выходной, и ее ждали на лэнч в квартире Ноя. День был очень холодным, и это дало ей возможность натянуть шерстяную шапочку сильно на уши. Хотя она и настаивала, что сядет в таком виде за стол – несмотря на поддразнивания Ноя и Эстель, и действительно села, но Ной со смехом протянул руку и стащил шапочку с головы Мадлен.
– Dieu![52]
Смех увял на его лице. Хекси заскулила.
Нижняя губа Мадлен дрогнула, но она взяла себя в руки.
– Вам нравится? – спросила она бодро. – Последний писк.
– Что случилось? – поинтересовалась Эстель.
– Ты их случайно подожгла? – Ной внимательно посмотрел на нее. – На тебя напали?
– Не смешите меня, – неловко улыбнулась Мадлен.
– Но что ж тогда произошло?
– Я их отрезала.
– Ной, не будь таким ехидным, – выбранила его Эстель.
– Простите меня – это просто от шока. Твои прекрасные волосы!
– Знаю, – Мадлен смотрела в тарелку супа, которую поставила перед ней Эстель. – Но пожалуйста… могли бы мы больше это не обсуждать?
Эстель встала.
– Viens, – сказала она.
– Куда? – спросил Ной.
– Я не тебе. Мадлен, пойдем со мной.
– Зачем? – Мадлен посмотрела снизу на нее.
– Срочный ремонт.
– Нет, серьезно, ты думаешь, что сможешь что-нибудь сделать? – надежда блеснула в глазах Мадлен. – Я старалась – и так, и эдак, но становилось все хуже и хуже.
– Я не осмелюсь и прикоснуться к ним, – сказала Эстель и исчезла из комнаты, но вскоре вернулась, неся в руках пальто свое и Мадлен. – Но хороший парикмахер творит чудеса.
– Правда? – в голосе Мадлен было сомнение.
– А ты просто пойди, – посоветовал ей Ной. – Делай то, что говорит Эстель. Вот помяни мое слово – она почти всегда права. – Он сделал паузу. – Во всяком случае, уж хуже не будет.
Мадлен встала, и Хекси снова заскулила.
– Похоже, у меня нет выбора.
– Это точно, – согласился Ной. – Никакого.
– Да, но как же лэнч? – спросила Мадлен у Эстель, чувствуя себя виноватой. – Я причиняю вам столько беспокойства. Может, сначала поедим?
– Нет, нам нужно срочно идти. – Эстель протянула Мадлен пальто. – У Шарля в Ритце все расписано на неделю вперед по крайней мере, а то и на месяцы. А это значит, что нам придется буквально умолять. Я надеюсь только на то, что если кто-нибудь на тебя посмотрит, то сразу же посадит в кресло.
Прошло три часа. Обе молодые женщины вышли из salon de beauté[53] – одна из них не изменилась, но другая! Другая чувствовала себя полностью преобразившейся.
– Нет, это не я, – прошептала Мадлен, все еще дрожа и сжимая руку Эстель. Она взглянула на подругу, ища поддержки. – Этого не может быть.
– Могу тебя успокоить – это точно ты, – Эстель бросила одобрительный, восхищенный взгляд на Мадлен. – Я чувствую себя почти Пигмалионом.
Мадлен оглянулась, чтобы посмотреть на свое отражение в окне.
– Чудесно, n'est-ce pas?
– Просто сногсшибательно.
– Спасибо, – Мадлен повернулась к невесте Ноя, и ее глаза засветились благодарностью. – Я даже не знаю, как благодарить тебя, Эстель. Ты меня просто спасла… я думала… я надеялась – может, им удастся сделать так, чтоб от меня хотя б не шарахались на улицах, но теперь я выгляжу…
– Красивой, – закончила за нее Эстель.
– Правда?
Эстель улыбнулась.
– До сегодняшнего дня твои волосы – конечно, чудесные, красивые волосы, эдакий неукротимый нимб… но они словно заслоняли собой тебя – твое лицо, тело, даже твою индивидуальность, – она внимательно разглядывала Мадлен. – И неожиданно я вижу, что у тебя прелестные скулы и идеальная шея – и чувственный рот.
– В самом деле? – Мадлен ощутила, что краснеет.
– Все, что тебе теперь нужно – это новый гардероб.
– Но я не могу себе позволить покупать одежду. Это пальто съело все мои сбережения.
Мадлен засунула руки в глубокие карманы твидового пальто с капюшоном, которое купила в прошлом месяце. Она никогда раньше не носила бывшую в употреблении одежду, и ее вовсе не прельщала такая перспектива – но это пальто понравилось ей сразу, даже издалека.
– Оно тебе не нравится? – спросила она Эстель. – Оно – такое симпатичное.
– Нет, оно мне очень нравится, но ты же не можешь находиться в помещении в пальто, правда? – Эстель помолчала. – Позволь мне купить тебе что-нибудь новенькое.
– Конечно, нет, – решительно отказалась Мадлен. – Ты и так была уже ко мне слишком великодушна и щедра.
Эстель настояла на том, чтоб заплатить по счету у Шарля в Ритце, сказав – это подарок ко дню рождения Мадлен, от нее и Ноя. Но как бы яростно ни спорила Мадлен, она знала, что не сможет найти деньги для покупок.
– Тогда купи себе только одну вещь, – не отступала Эстель. – Мы никуда не спешим – давай просто зайдем и посмотрим. На рю де Севр.
Мадлен остановилась на пуловере из шерсти ягненка цвета ляпис-лазури, который, как уверяла Эстель, очень шел к ее глазам – они казались еще огромнее и ярче, теперь, когда ее волосы больше не затеняли их собой; а потом Мадлен обняла Эстель с любовью и благодарностью, но, извинившись, отказалась вернуться с ней на бульвар Осман – было уже довольно поздно, да и потом она вдруг почувствовала сильное и неодолимое желание побыть одной. Она чувствовала, что это и впрямь была новая Мадлен – прежняя Магги-ребенок исчезла навсегда. Это было особенное, волнующее ощущение, и она хотела разделить его с Парижем – городом, который уже дал ей так много: хороших друзей, весьма сносную надежную работу и крышу над головой. А еще – постепенное осознание своего нового, меняющегося и развивающегося «я».
Начался снегопад, но Мадлен так не хотелось накидывать на голову капюшон. Она даже не надела на голову вязаную шапочку. Ничто на свете не заставит ее спрятать свою новую чудесную прическу. Большие влажные белые хлопья мягко ложились на ее волосы, оставляли капельки воды на щеках и холодили маленькие точеные и открытые теперь уши, но какое сейчас ей до этого дело? Внутри у нее все ликовало.
Неожиданно проголодавшись, она обнаружила, что находится рядом с площадью Мадлен, и пошла в Фушон. Она не заходила туда с того самого второго дня в Париже, но сегодня был день ее восемнадцатилетия – сегодня все должно быть иначе. Она стала другой. Мадлен купила два крохотных лотарингских пирожка и слоеное пирожное, потом купила две маленькие коробочки глазурованных орехов: одну – для Эстель, а другую – для мадам Люссак. Прижав к себе покупки и мешочек, в который продавщица положила ее старый пуловер, она быстро пошла к саду Тюильри.
Сумерки уже сгущались над садом, и Мадлен только что смахнула со скамейки мягкий снег, чтоб сесть и съесть пирожки, как увидела мужчину.
Он был всего в нескольких ярдах от нее – так близко, что можно было коснуться его рукой. Высокий и худой – очень худой – немного угловатый, но изящный. Черный пуловер и черные брюки были видны под расстегнутым оливково-зеленым плащом. На нем не было шляпы, и волосы его были прямыми, темными и густыми, а глаза в тусклом свете казались темно-голубыми, с густыми черными ресницами. Сигарета в уголке рта выглядела настолько естественно – словно часть его самого, своеобразное продолжение.
Снег перестал падать, и Мадлен смогла рассмотреть незнакомца, он казалось, не видел ее. Его кожа выглядела гладкой, чистой и бледной – словно редко видела солнечный свет, а руки его, без перчаток, были изящными, с длинными пальцами. Красивый мужчина, подумала Мадлен.
Он кормил птиц – стайку маленьких городских птичек – тем, что было похоже на крошки от рогалика, и через несколько секунд Мадлен поняла, что он разговаривает с ними приятным тихим голосом. Она продолжала смотреть, затаив дыхание, когда воробышек порхнул к нему на ногу, крохотные лапки смешно семенили по кожаному ботинку, и Мадлен вдруг расхотелось есть – она боялась даже поднести пирожки ко рту, она боялась пошевелиться, чтобы не вспугнуть очарование этого момента.
Крошки кончились, и большинство птичек уже разлетелось в разные стороны, унося в клювиках угощение. Но мужчина стоял неподвижно и продолжал мягко говорить что-то птенцу, усевшемуся на ботинок. Но вот пепел, копившийся на кончике сигареты, упал на снег, и чары рассеялись. Воробышек улетел, и мужчина повернулся к Мадлен.
– Спасибо, что подождали, – сказал он.
Какая теплая и искренняя улыбка у него, подумала Мадлен. Она догадалась, что он часто улыбается – его лицо хотя и было молодым, вокруг глаз и рта сбежались морщинки.
– Хотите присесть? – она не почувствовала никакой неловкости, что расчищает для него место возле себя.
– Merci. Он сел.
– Выглядят вкусно, – он посмотрел на пирожки.
– Хотите один? Я просто не съем оба.
Мадлен протянула ему другой пирожок, и он охотно взял его.
Они начали болтать, и теплое ощущение удовольствия и какого-то восторга охватило все ее существо – словно внутри нее включили некое центральное отопление. Это все были подарки сегодняшнего дня, ее особого дня. Он сказал, что его зовут Антуан Боннар.
– Как художника? – спросила она.
– Exactement.
Он родился и вырос в Нормандии, жил в Париже уже семь лет и работал менеджером в маленьком ресторанчике в Сен-Жермен.
– Он называется Флеретт, – сказал он, и Мадлен увидала гордость в его глазах. – Когда я туда пришел, дела шли отлично, но теперь там все даже еще лучше.
Какое-то время они молчали и ели, и она заметила, что зубы его были белыми и острыми, и от него чудесно пахло легким ароматом одеколона, смешанным с запахом сигарет, которые он курил до того и закурил снова, как только окончил есть.
– Вам здесь нравится? – спросил он.
– В Тюильри? – она кивнула. – Очень. Хотя, конечно, в Париже есть сады и получше, правда?
– По мне, так самый лучший – это Люксембургский, – сказал он. – Там так красиво и весело круглый год, он весь полон радости. Я иду туда, когда у меня мрачное настроение, и мне нужно взбодриться, чтобы не огорчать посетителей.
– А здесь?
– Сюда я хожу, когда я доволен чем-то и потому великодушен – и особенно зимой, потому что знаю, что голодных птичек в этом парадном парке реже кормят прохожие, чем в Люксембургском саду.
Они говорили уже почти час, поделили пирожное, он выкурил еще две сигареты, а Мадлен выложила незнакомцу все, что могла, о своей жизни в Париже – хотя она лишь вскользь упомянула о Магдален и других подробностях ее прошлой жизни. Она бегло рассказала ему о своей работе горничной, и он смеялся, когда слушал рассказ про все ее ошибки, которые Мадлен продолжала делать. И она не забыла доброту четы Люссаков и ее чудесных друзей – Ноя и Эстель, и, конечно, она рассказала о Хекси. А еще она не скрыла мечты стать певицей, но посетовала, что невозможно их осуществить – ей негде учиться и нет денег, чтобы платить за уроки, в которых она так нуждается.
И пока Мадлен все говорила и говорила, словно облегчая душу, и словно они были друзьями уже многие годы, Антуан Боннар слушал внимательно каждое ее слово, облизывал крем со своих пальцев, и закуривал еще сигарету. Стало уже темно, и зажглись фонари, четко обозначившие дорожки сада.
– Вы не замерзли? – спросила его Мадлен, неожиданно почувствовав, что продрогла до костей.
– Просто окоченел.
– Мне пора идти.
Но ей не хотелось уходить.
– Могу я вас проводить?
Они вместе вышли из сада на площадь Согласия, и Мадлен подумала – как чудесно, что они живут и работают всего в нескольких километрах друг от друга на левом берегу, хотя и встретились на правом, в том самом месте, где она была лишь один раз – два года назад в неприветливый холодный день. Уже тогда она почувствовала почти мистическую важность, которую приобрел для нее Тюильри. Они перешли реку по мосту Согласия, и Антуан Боннар шел рядом с ней, совсем рядом, но он не касался ее, даже случайно, и Мадлен подумала – он так же вежлив и галантен, как и красив. И она уже просто не могла дождаться минуты, когда снова увидит его.
Они дошли до дома, где была квартира Люссаков, и Мадлен вдруг захотелось сделать вид, что она живет дальше по бульвару – чтоб идти с ним еще и еще, не прощаясь. Но чувство ответственности остановило ее.
– Мне нужно сюда.
– Какой чудесный дом, – Антуан Боннар заглянул сквозь высокие витые железные ворота на маленький дворик перед внушительного вида зданием. – Совсем неплохое место для работы.
– Да, – сказала она. – Но, наверное, не такое, как Флеретт.
– Вы правы, – он помрачнел. – Как обидно работать в день рождения.
– Но они дали мне лишний выходной. А сегодня у них вечеринка.
– И вы им нужны.
– Чтоб пролить суп на гостей, – она засмеялась озорным смехом. – И это будет не в первый раз. Я просто не могу понять, почему они не выгонят меня?
– Думаю, я могу понять. – Он открыл ей ворота. Неожиданно он взял ее правую руку, снял с нее перчатку и поднес ее руку к губам для легкого поцелуя.
– Joyeux annieversaire,[54] – сказал он.
А потом он повернулся и стал уходить, медленно, вниз по бульвару Сен-Жермен, отбросив сигарету и машинально закурив другую. А Мадлен смотрела ему вслед, видя, как он становился все меньше, все более далеким, рука ее все еще трепетала от его поцелуя, и только теперь она внезапно, с уколом боли, поняла, что они не договорились о новой встрече.
– Я этого не вынесу, – сказала она вслух. Ей так хотелось побежать за ним по улице, позабыв про Люссаков, но потом она вспомнила о гордости, и о том, что пришла почти на час позже, чем обещала мадам Люссак. И ноги ее отяжелели, она вошла в дом, поднялась наверх, в свою комнату, сняла чудесный лазурный пуловер и надела униформу.
Теперь ее белой наколке больше не нужно было ничего скрывать; теперь она сидела, как влитая на голове Мадлен с ее новой удивительной протеской. Когда она сошла вниз, ее увидела Габриэль Люссак и приподняла брови в удивлении, а потом улыбнулась, хотя Мадлен почувствовала, что это была далеко не улыбка одобрения.
Реакция мсье Люссака была даже еще более смущающей.
– Что ты наделала, Мадлен? Он казался разочарованным.
Он задумчиво рассматривал ее, и она заметила отблеск восхищения в его глазах.
– Очень мило, – допустил он. А потом с некоторым беспокойством она почувствовала, что он быстро отвел взгляд.
Гораздо позже, ночью, когда Мадлен сняла черное платье и выстирала белый фартук, и устало стягивала толстые теплые чулки, она взглянула на свое отражение в зеркале и неожиданно увидела то, что, как она догадалась, повергло в изумление ее хозяев. Новая прическа сотворила нечто большее, чем просто подчеркнула ее красивую внешность. Она стерла ту безыскусную невинность и наивность, которую придавали ей нимб ее упрямых волос, и выявила в ней нечто ярко-новое и броское. Чувственность. До сегодняшнего дня Мадлен в униформе вызывала чувство умиления, некоторой забавы и симпатию; она казалась Габриэль и Эдуарду Люссакам молоденькой девочкой из хорошей среды, попавшей в затруднительное положение и борющейся за то, чтоб вести достойное существование в условиях, к которым она не была предназначена и не привыкла. Теперь, поняла Мадлен, она выглядит пикантно провокационно. И это открытие заставило ее думать об Антуане Боннаре и гадать, что же он подумал о ней.
Вешая чулки сушиться, она вдруг вспомнила его так ясно и живо, словно он только что стоял перед ней, такой сильный и стройный – некая напряженная сила, как натянутая тетива… его голубые глаза цвета моря, его губы, в которых была сигарета… его бережную заботу о птицах, тепло его улыбки… поцелуй на ее руке…
– Антуан, – сказала она вслух. Его имя звучало чудесно, оно наполняло ее ощущением красоты, и ее губы сложились в поцелуй на втором слоге. – Антуан.
И только тогда, когда она потушила свет и легла в постель, она поняла, что же произошло с ней сегодня в занесенном снегом саду Тюильри.
– Ich bin verliebt, – пробормотала она, а потом, вдруг почувствовав желание услышать звуки французской речи, к которой уже привыкла и которая очаровала ее, произнесла: – Je suis amoureuse.
Это было одно и то же на всех языках. Мадлен была влюблена.
Подошло Рождество и прошло, а за ним – Новый год. Grand appartement ярко сияла праздничными огнями, дышала весельем и bonhomie.[55] Люссаки, заботливые, как и всегда, наняли на время прислугу со стороны, чтоб Мадлен не чувствовала себя слишком загруженной, а потом Андрэ и Элен стали умолять своих родителей, чтоб те позволили Мадлен в сочельник сесть с ними за праздничный стол, хотя Габриэль Люссак больше склонялась к тому, чтобы им отказать – ей хотелось пощадить чувства мадам Блондо. Но в конце концов Мадлен пригласили в качестве гостьи на праздник святого Сильвестра. Смущавшая мадам Люссак проблема разрешилась сама собой – кухарка отправилась домой в Марсель на неделю.
– Что же мне делать? – спросила Мадлен у Ноя и Эстель, которые тоже пригласили ее провести с ними новогодний вечер. – Мне бы гораздо больше хотелось побыть с вами… но они были так добры, что пригласили меня – я не хочу их обижать.
– Наверняка они не очень огорчатся, – сказал Ной. – Или, скажем так, не будут задеты.
– Ты не прав, – возразила Эстель. – Они очень даже могут быть задеты. Я уверена, Мадлен – первая горничная, которую они когда-либо приглашали к себе на праздник.
– И поэтому они будут безутешны, – поддразнил ее Ной.
– А почему бы и нет, chéri? Что касается нас, Мадлен может быть уверена – нас-то не заденет, если она откажется. А вот что до мадам и мсье Люссак… тут она может рисковать их дружеским расположением.
Мадлен, одетая в черное бархатное платье Эстель с глубоким вырезом оказалась под Новый год в компании торговцев антиквариатом, целым сонмом аристократов, актрис и плейбоев, смешавшихся воедино в уютной атмосфере vielle richesse.[56] За ней ухаживал какой-то восьмидесятилетний граф, увивался трижды женатый господин, разводивший лошадей, и на какие-то опасные полчаса новый парень Андрэ, семнадцатилетний юноша из золотой молодежи по имени Марк, жужжал вокруг Мадлен, со всем энтузиазмом пчелы, впервые вылетевшей на сбор меда. Но она избавилась от них грациозно и тактично, и держала Марка на расстоянии всю ночь. И хотя во многих отношениях она еще никогда так весело не проводила время, того человека, которого она хотела видеть больше всего, увы!.. здесь не было.
Она не могла выбросить Антуана Боннара из головы. Миновали праздники, и Мадлен попыталась окунуться в работу, но обнаружила, что видит его лицо везде, повсюду, что бы она ни делала – мыла, скребла, вытирала пыль или гладила – на каждой простыне и салфетке, на рубашке и блузе, которые она гладила, и всякий раз, как она думала о нем – а это было почти постоянно, – ее просто переполняло желание петь во весь голос, и Мадлен приходилось успокаивать себя, с еще большим неистовством принимаясь за работу.
Она три раза ходила в сад Тюильри, захватив с собой пакетики с хлебными крошками, но все было совсем не так, как в прошлый раз – то ли птицам были не нужны ее крошки, то ли просто она не была Антуаном, но они не приближались к ней. И она ни разу не видела Антуана.
– Может быть, я слишком молода, чтобы быть высокого мнения о себе, – сказала она Хекси на третий раз, когда уже направлялась к бульвару Осман, чтоб отвести туда таксу на попечение Ноя. – Может, мне нужно найти его ресторан – его Флеретт. Может, я должна пойти к нему.
Хекси, всегда бурно радовавшаяся прогулкам, сейчас уже устала и рвалась поскорее домой, в тепло, к своему обеду и собственному уютному креслу. Она бежала вперед, изо всех сил натягивая поводок, но все же основательно чихнула в ответ.
– Ной говорит, что я его едва знаю… и что мне не следует разговаривать с незнакомцами в парках… Но если это так, я бы никогда не познакомилась с Ноем и Эстель, не правда ли?
На перекрестке на рю де Риволи, такса решила, что теперь самое время взять ее на руки, и стала яростно скрести по ногам Мадлен, и та, как всегда, подчинилась.
– Тебе нужно на что-нибудь решиться, – указала себе Мадлен, глядя в умные глазки собачки. – В следующий выходной пойду я его искать или нет? Если ты согласна, что мне нужно пойти, лизни меня в лицо.
Такса лизнула ее нос.
– Слушай, ты такая умная собачка, ты это знаешь, Хекси?
Хекси лизнула ее в щеку. Окажись в этот момент рядом Ной, он бы обязательно заметил, что такса обожает лизать лицо почти так же, как свежеподжаренные куриные ножки – но его не было рядом.
Час спустя, когда Мадлен входила в дом, где жили Люссаки, она услышала скрип голыша во дворе позади нее, а потом мягкий спокойный голос.
Она обернулась. Это был он – Антуан стоял, облокотившись на железные ворота. Он выглядел совсем так же, как и в тот раз, словно он гулял по улицам все время, прошедшее со дня ее рождения – весь в черном, не было только его оливково-зеленого плаща, прямые темные волосы немного падали ему на лоб, и во рту была сигарета.
– Привет, – проговорила она, и сердце ее замерло.
– Я хочу послушать, как вы поете, – сказал он просто.
– Сейчас?
– Если это возможно, – он помолчал. – Можно? И не задумываясь и даже не оглянувшись, Мадлен пошла с ним из ворот на бульвар. Как и прежде, они шли рядом, по-прежнему не касаясь друг друга – его руки были в карманах, она безотчетно примерялась к его шагам, не осмеливаясь заговорить.
Они зашли в метро у Палаты депутатов и вышли наружу у Сен-Лазара, и за это время Антуан Боннар произнес всего несколько слов, просто брал ее под руку на перекрестках, пока они не дошли до дома на Римской улице.
– Где мы? – спросила Мадлен.
– Вы все сами увидите, – ответил Антуан. Он пошел впереди, когда они поднимались по ступенькам. А на третьем этаже он открыл дверь, и они оказались в танцклассе с зеркалами и станками по всему периметру зала и роялем, стоящим в его конце на возвышении.
– Дайте-ка мне свое пальто, – улыбнулся он, потом снял свой плащ, сложил его, и уронил его вместе с ее пальто на деревянный пол. А затем он сел за рояль и откинул крышку.
– Chante-moi quelque chose,[57] – сказал он. Мадлен молча смотрела на него. Она думала, а вдруг ей все это снится… может, это одна из желанных грез, которые одолевали ее с тех пор, как они познакомились. Но нет, она же знает что бодрствует – никогда в жизни она еще так остро не ощущала реальность. И если Париж стал неотъемлемой частью ее судьбы, и сад Тюильри был ей так важен, точно так же она чувствовала, что этот мужчина был нужен ей, жизненно важен. И раз он хочет, чтоб она пела – что ж, она будет петь.
Она начала с «J'ai deux amours», а он ей аккомпанировал – мягко, бережно, следуя за ее голосом, потом двигаясь вперед вместе с ней, приноравливаясь к ее манере. Она дошла до конца песни и остановилась. Она ждала.
– Продолжайте, – сказал он.
И она продолжала. Она пела все песни, какие только знала, какие сохранила ее память – слышанные по радио, в кафе и на улицах. А когда она забывала слова, она импровизировала, и ее голос, необработанный и лишенный практики, становился хриплым и уставшим, но Мадлен продолжала петь, и все это время мужчина аккомпанировал, сопровождал ее и иногда вел за собой, и глаза его не отрывались от ее лица.
Наконец, она совсем сбилась с мелодии и голоса, и Антуан Боннар взял еще пару мягких завершающих аккордов, закрыл крышку рояля и протянул ей правую руку.
– Viens.
И Мадлен пересекла зал и подошла к нему. Он встал со стула, наклонил голову и поцеловал ее шею, ее горло.
* * *
Он повел ее в ночной клуб возле Елисейских полей, и Мадлен позвонила мадам Люссак, извиняясь, что ее задержало дело невероятной важности – она даже не может объяснить его по телефону. Антуан заказал виски для себя и vin chaud[58] для Мадлен, чтоб согреть и промочить ее уставшее горло. Потом закурил сигарету и начал наконец говорить.
– Я был бы рад отвести вас во Флеретт, но сегодня вечером там закрыто – и потом здесь есть одна певица, и мне хочется, чтоб вы взглянули на нее и послушали.
Но Мадлен хотелось смотреть только на него. Он казался теперь другим: казалось, он отдыхал, но в нем чувствовалась какая-то еще большая сила и внимательность, даже пытливость. Она была очарована клубом и его посетителями, медленно заполнявшими зал, но ей с трудом удавалось оторвать глаза от Антуана.
– Хорошо? – спросил он ее.
– Просто замечательно, – ответила она.
Там, в танцклассе, песни и само пение поглощали Мадлен, словно возносили ее куда-то ввысь, из глубины души, как это бывало всегда, когда она пела. Но теперь она была снова на земле и рядом с Антуаном Боннаром… И вдруг ее охватило неодолимое желание коснуться его. Он был таким реальным – после всех волшебных этих фантазий, сидел рядом с ней, устроившись на стуле, как некий черный лоснящийся кот с глазами цвета моря. И Мадлен впервые ощутила физическую тягу к мужчине. Она чувствовала его тело, пылавшее под тонким черным шерстяным свитером – она так сильно хотела обнять его и прижаться щекой к коже его груди и вдыхать ее аромат…
– Может, мы закажем обед? – спросил он.
– Закажите за меня, – ответила она нерешительно. Мадлен была рада позволить сделать это ему – у нее не было аппетита, ей было неважно, что она будет есть и будет ли есть вообще, хотя она и сделала вид, что пьет красное вино, налитое в ее бокал.
– Я думаю, если вы согласитесь, можно брать уроки пения, – мягко сказал Антуан. – У меня есть друг – он учитель.
– А захочет ли он, как вы думаете?
– Он прослушает вас и решит.
Закончив свое первое блюдо, он закурил и наклонился немного ближе.
– Вам нужно подобрать репертуар, Мадлен. Если вы это сделаете, и уроки пойдут на лад, я надеюсь, что вы сможете петь для гостей во Флеретт. – Он помолчал. – Как вы думаете, это вас заинтересует?
– Очень, – ответила она еле внятно. Но на какой-то момент, хотя она и знала, что должна просто прыгать от восторга, она ощущала только горькое разочарование. Он по-прежнему говорит только о ее пении, тогда как она сама давно уже думает только о нем.
– Mange un p'tit peu, – сказал он ей. – Если вы не будете есть, у вас иссякнут силы. Tu es asser fragile.[59]
– Я сильнее, чем кажусь, – сказала Мадлен, а потом посмотрела смело ему в глаза глубоким прямым взглядом, и Антуан Боннар ответил ей точно таким же взглядом. И в этот момент она поняла, что хотя он, может, еще и не готов говорить о том, что чувствует, он тоже думает о чем-то большем, чем просто ее уроки пения, и охваченная и согретая этим неожиданным открытием Мадлен вся засветилась изнутри.
И в этот момент заиграла музыка.
Мадлен никогда не была в boîte de nuit,[60] никогда не сидела в прокуренном, пропитанном запахом виски и анисового аперитива переполненном джаз-клубе. Она никогда еще не видела людей, которые сидели словно завороженные, с полузакрытыми глазами, молча, а если и говорили, то их голоса были тише и легче, чем шелест шепота. И все из-за музыки. Из-за певицы.
– Кто она? – шепнула она на ухо Антуану.
Он слегка повернул голову.
– Просто смотрите, – сказал он. – Просто слушайте.
Это была американка, негритянка, лет пятидесяти по меньшей мере и не отличавшаяся физической красотой, но она заставляла слушателей затаить дыхание одним своим присутствием, своим голосом и своим талантом. Она начала с «Ветреной погоды» и продолжала петь, в основном, на английском, и Мадлен мало что понимала, но оценила все. Ее голос не шел ни в какое сравнение с тем, что она слышала до того – глубокий и грудной, мелодичный, словно скользящий и ускользающий на некоторых нотах, потом возвращавшийся к исходной ноте опять – часто октавой ниже или выше. Это было эмоциональное, возвышенное, чувственное пение. Оно словно сжало Мадлен горло, все внутренности, ее сердце, и слезы покатились у нее из глаз – но когда она на секунду перевела дыхание и бросила украдкой взгляд на Антуана, то увидела, что вместо певицы, несмотря на всю ее магическую мощь, тот смотрит на нее, и новая волна радости захлестнула Мадлен. Было уже больше двух, когда они ушли из клуба.
– У вас будут неприятности? – спросил ее Антуан, когда холодный ночной воздух повеял на их теплые лица.
– Может быть.
– Мне очень жаль. Извините меня.
– Это неважно.
Мадлен сознавала, что ей должно быть важно, но важно не было. Ей казалось, что ее жизнь в качестве bonne à tout faire y Габриэль Люссак была какой-то невсамделишной, нереальной, и только этот вечер, эта ночь была реальностью. Ей хотелось никогда не расставаться с Антуаном – чтобы он отвел ее к себе домой, в маленькую квартирку, в которой, как он говорил, он жил над его рестораном. Она хотела, чтоб он любил ее – и к черту последствия.
Но вместо этого он нашел такси и дал водителю адрес Люссаков, и проводил ее через железные ворота в дом и наверх до самой квартиры.
– Это было просто волшебно, – прошептала Мадлен, и повернулась к нему.
– Я рад, – сказал он, и морщинки смеха обозначились четче у его глаз.
Но все ее мечты развеялись. Он даже не поцеловал ее – ни в губы, ни даже руку. Он едва коснулся пальцами ее щеки, бережно, нежно. А потом он ушел.
На следующее утро Мадлен приблизилась к увольнению ближе, чем когда-либо. В десять часов она должна была забрать полдюжины изысканных облитых сахаром орхидей от знаменитой мадам Лапьер для званого обеда, который ее хозяева давали в тот вечер, но по пути домой она уронила и сломала их. Все ее попытки компенсировать их свежими орхидеями, даже с помощью мадам Блондо, потерпели провал.
– Mais qu'est-ce qui s'est passe?[61] – мадам Люссак, все еще ожидала объяснений Мадлен по поводу ее вчерашнего отсутствия. Но теперь ее ждал новый неприятный сюрприз, и она в ужасе взирала на уже совсем поникшие цветы. – Что ты наделала?
– Я уронила коробки на мостовую, мадам, – сказала Мадлен, ее глаза были виновато опущены. – Я надеялась… может, свежие смогут их заменить, но…
– Так почему же ты не попросила саму мадам Лапьер заменить их живыми?
– Она всегда так занята – да и потом, мадам, я подумала, что будет уже поздно…
– Я позвоню ей прямо сейчас, – мадам Люссак была в расстроенных чувствах. Она быстро нашла номер в своей записной книжке, подошла к телефону и начала говорить. А затем она посмотрела на Мадлен. – Вообще-то я наконец хочу узнать, что это такое за важное дело, о котором ты даже не могла говорить по телефону. Поговорим об этом позже.
– Конечно, мадам.
Несмотря на все свои старания, Мадлен была все также абсолютно не способна врать. Оказавшись лицом к лицу с хозяйкой – после того, как срочно организованный заказ был выполнен кудесницей мадам Лапьер, она выдала чистую и неприукрашенную правду.
– Я была так счастлива видеть его снова, мадам – я просто пошла с ним.
– Забыв о своих обязанностях.
– Боюсь, что так.
– И ты, конечно, очень сожалеешь?
– Конечно, мадам, хотя…
– Хотя? – брови мадам Люссак опасно приподнялись.
Мадлен решила все же продолжать.
– Хотя это было так чудесно, мадам. Мне только очень жаль, что я так расстроила вас и мсье Люссака. Вы заслуживаете гораздо лучшего с моей стороны.
– В самом деле. Это верно.
Мадлен ждала, когда на нее опустится карающий меч, но так и не дождалась. То же самое непонятное, хранящее Мадлен чувство, столько раз не дававшее Габриэль Люссак уволить девушку, сработало и сегодня. Какой бы рассерженной она ни была, почему-то ее гнев испарялся. Вот и сейчас… Если она вышвырнет Мадлен Габриэл на улицу из-за этого идиотского романтического дурмана, которым набита ее голова, один Бог знает, какая судьба постигнет ее.
Прошла целая неделя без весточки от Антуана. У Мадлен все валилось из рук, и она словно грезила наяву – то ей казалось, что он волшебным образом появится сейчас в квартире мадам Люссак или на улице, или в овощном рынке, но через минуту она уже чувствовала себя несчастной и покинутой, и холодела от ужаса, что никогда больше его не увидит.
Консьержка дома, рыжеволосая женщина с кислым, как лимон, выражением на лице, отдала Мадлен записку на восьмой день после того, как она рассталась с Антуаном.
«Ваш первый урок пения с мсье Гастоном Штрассером состоится в танцклассе на Римской улице в два часа дня в следующий понедельник. А.Б.»
И это было все – никакого упоминания о том, будет ли Антуан сам присутствовать на уроке или нет, ничего воодушевляющего, ни единого личного словечка. Мадлен в минутном порыве разочарования, боли и отчаяния, смяла записку в комок и отшвырнула. Но вскоре она уже сидела на коленях, расправляя бумагу, перечитывая записку в поисках скрытого смысла, изучая почерк – с отчетливым, легким наклоном вперед, – пытаясь понять его характер.
– Я получила записку, – сказала она Андрэ после обеда. Старшая из дочерей Люссаков зачастила в комнату Мадлен. Она доверяла ей те маленькие секреты отношений со своим парнем, Марком, которыми она не рискнула бы поделиться с матерью и которые не хотела открывать сестре.
– От него? – спросила Андрэ, и ее темные глаза вспыхнули любопытством. – Покажи.
– Это просто записка.
– Не любовное письмо?
– Конечно, нет. Он договорился об уроках музыки для меня – вот и все.
– Правда? Как романтично.
– В нем нет ни капельки романтики, Андрэ, – заверила Мадлен шестнадцатилетнюю подружку. – Он даже не подписался полным именем.
– Тогда покажи мне, – Андрэ взяла этот клочок записки, рассматривала ее пару минут, а потом поднесла к лицу, понюхала и закатила глаза.
– Что ты делаешь?
– Нюхаю – аромат.
– Это его одеколон.
– Мне он нравится, – глаза Андрэ были все еще закрыты. – А еще она пахнет специями и рыбой. Он, наверно, писал его на кухне.
– Ты все выдумываешь, Андрэ, – засмеялась Мадлен.
– Нет, не выдумываю. Подожди… – и она понюхала. – Сигареты «Житан».
– Теперь я точно знаю, что ты все это придумала, – Мадлен взяла у нее назад записку. – Между прочим, он курит «Голуаз».
– Мне нравится его почерк. – Андрэ была неуемна. – Честная и артистичная натура.
– Все-то ты знаешь.
– А почему бы и нет?
Мадлен пожала плечами.
– В любом случае, это не имеет никакого значения. Ясно, как день, что он договорился об уроках, чтоб избавиться от меня.
– Но Мадлен… Если это так – зачем ему вообще беспокоиться о тебе?
– Потому что обещал.
– Я же сказала тебе, что он – честный, – Андрэ с любопытством смотрела на Мадлен. – Могу побиться об заклад, он придет. А если нет – что ты тогда будешь делать?
– Ничего. Просто петь, – Мадлен вздохнула. – И даже это будет напрасной тратой времени мсье Штрассера, потому что я не смогу заплатить больше чем за один урок.
– Он придет, – уверенно заявила Андрэ. – Как же! Забудет он тебя… Ты слишком роскошна для него, чтоб о тебе забыть.
Мадлен засмеялась.
– Все до одного говорят – ты слишком красива, чтоб быть нашей горничной. Я знаю, Марк хотел приударить за тобой на той вечеринке – и только потому, что ты отогнала его, а я пригрозила переломать ему ноги, он вернулся ко мне.
Мадлен улыбнулась.
– Все-то ты знаешь. А ты уверена, что тебе всего шестнадцать?
– Шестнадцать двадцати стоят, мама говорит, – Андрэ сделала паузу. – Что ты наденешь на урок?
– Вообще-то, я еще не думала.
– Ты можешь надеть свое черное платье…
– Днем, на рю де Ром?
– Ты ведь будешь петь – ты должна выглядеть шикарно и торжественно.
– Мсье Штрассер – учитель, а не кинопродюсер, Андрэ. Я могу надеть хоть мешок – это не имеет никакого значения.
– Тогда надень свой лазурный пуловер – тот, который идет к твоим глазам.
– Антуан меня в нем уже видел.
– Ну и что? Это не имеет значения.
Мадлен отправилась в студию в следующий понедельник, надев кремовую шерстяную блузу (одолженную у Эстель) с бирюзовым шелковым шарфом (предложенным Андрэ), повязанным вокруг шеи, и черную шерстяную юбку с застежкой впереди на пуговицах (свою собственную). Она приехала на десять минут раньше и сильно дрожала.
Когда приехал Гастон Штрассер, дрожь стала даже еще сильнее.
– Мадемуазель Габриэл?
– Bonjour, мсье Штрассер.
Мадлен протянула руку в знак приветствия. Потом она немного осмелела и стала украдкой рассматривать своего учителя. Ему было далеко за сорок, а когда он снял шляпу, оказалось, что его голова была лысой, как яйцо, а сам он был неожиданно и шокирующе мускулист.
– Может, мы начнем? – он подошел к роялю, открыл крышку и сел на стул.
– Начнем? – ее голос дрогнул.
– Со слов Антуана Боннара я понял, что вы хотите петь. Он что, сказал неправду?
– Нет, конечно, нет, – испугалась Мадлен.
– Тогда пойте. Она побледнела.
– Что мне петь, мсье?
– А что вы пели Боннару?
Он заметил, что ее руки дрожат.
– Вам холодно, мадемуазель?
– Нет, мне страшно, мсье. Я боюсь.
– Меня?
– Да.
Штрессер немного смягчился.
– Боязнь сцены – обычный недуг, мадемуазель Габриэл, и поэтому так необходим некий трюк. Что вы обычно делаете, когда вам не по себе?
Мадлен улыбнулась.
– Пою.
– Alors.[62]
Она начала, как и с Антуаном, с «J'ai deux amours». Голос ее немного дрожал при первых нотах. Но вскоре воодушевление, всегда охватывавшее ее, когда Мадлен начинала петь, словно подняло ее ввысь, и Гастон Штрассер, казалось, одобрительно поглядывал на нее из-за рояля. В отличие от Антуана, который быстро приспособился к ее индивидуальной манере пения, Штрассер аккомпанировал с безукоризненной точностью, не позволяя Мадлен задерживать ритм, когда ей этого хотелось, или использовать голос для личной интерпретации, которая отличалась бы от музыки, которую он играл и которая была так написана и опубликована.
– Continuez,[63] – скомандовал он, когда песня была окончена, и она повиновалась. Мадлен снова запела, Штрассер то аккомпанировал ей, то вставал со стула, обходил вокруг нее и заглядывал ей в лицо своими цепкими серыми глазами.
Он остановил ее через двадцать минут.
– Я услышал достаточно, – сказал он. – Начиная с данного момента, вы будете практиковаться в гаммах, вокале и упражнениях по контролю за правильным дыханием каждое утро. Вы когда-нибудь пробовали гаммы?
– Это было несерьезно, мсье – только в школьном хоре.
– Я вас научу. Но вы должны обещать мне практиковаться.
– Но мне негде это делать, – сказала в замешательстве Мадлен. – Мои хозяева не одобрят – это будет им мешать.
– Во сколько вы встаете по утрам?
– В половине пятого.
– Тогда на будущее вам нужно вставать, по крайней мере, на полчаса раньше – чтоб вы могли выйти наружу и петь. Идите домой к своему другу или даже в метро – а если погода хорошая, можно в парк – куда угодно, лишь бы петь.
– Oui, Monsieur.[64]
Штрассер опять внимательно посмотрел на нее.
– У вас есть ларингит, мадемуазель?
– Нет.
– А частые простуды?
Мадлен покачала головой.
– У меня хорошее здоровье, мсье.
– Тогда почему ваш голос такой хрипловатый? Вы курите?
– Совсем не курю. Он всегда был таким.
– Может, болезни детства?
– Ничего похожего, мсье.
– Но ведь невозможно иметь хрипловатый голос без всякой причины. Ваше горло когда-нибудь обследовал специалист?
– В этом не было необходимости… Я же говорю – мой голос всегда был таким, даже когда я была совсем маленькой. Он хрипловатый, но сильный.
– У меня есть уши, мадемуазель.
– Да, мсье, – быстро согласилась она.
– Если вы хотите петь, как сказал мне Боннар, тогда это желание должно быть сильнее всего остального. Важнее вашей работы, личной жизни – всего.
Какое-то мгновение Мадлен молчала, а потом собрала всю свою храбрость и спросила:
– Как вы думаете, у меня есть какой-нибудь талант, мсье Штрассер?
– Своеобразный, – ответил он, закрывая эту тему.
Когда она попыталась заплатить ему за урок, Штрассер отказался, сказав, что, во-первых, пока не за что, а во-вторых, он кое-чем лично обязан Антуану Боннару.
– Вы из Швейцарии, n'est-ce pas?
– Вы правы, мсье.
– Я родился в Вене, – сказал Штрассер. – Мы с вами оба – иностранцы.
– Я чувствую себя почти как дома в Париже, а вы, мсье?
– Ровно настолько, как и везде.
И это было все, что пугающий, лысый учитель рассказал Мадлен о себе, и стало ясно, что прослушивание подошло к концу.
– А гаммы? – спросила Мадлен, когда Штрассер надел пальто и взялся за шляпу. – Когда вы научите меня гаммам, мсье?
– В следующий раз.
– На следующей неделе? Здесь?
– Если вы хотите.
Впервые за все время прослушивания Мадлен почувствовала себя спокойнее.
– Мне бы очень хотелось, мсье.
Она была бы просто вне себя от счастья, что выдержала это трудное испытание – но Антуан не пришел, и когда Мадлен брела назад домой, она чувствовала себя сбитой с толку и одинокой больше, чем всегда.
Он пришел на следующий день, подойдя к парадной двери вместо черного входа, как было бы уместнее. В руках у него был букет из дюжины бархатно-алых роз.
Открывая дверь в своей униформе и чувствуя присутствие мсье Люссака за спиной в холле, Мадлен понимала – как горничная, она должна бы испытывать скорей замешательство, чем что-то иное, а как хорошо воспитанная молодая женщина она должна реагировать сдержанно.
– Bonjour, Мадлен, – сказал проникновенно Антуан и протянул ей розы.
Явная ее радость, глубокий вздох облегчения при появлении его, да еще и с букетом цветов, такое долгожданно-открытое проявление его чувств… все это было слишком для нее.
– Merci, – сказала она и без стеснения бросилась в его объятья, и мсье Люссак вопреки себе улыбнулся.
Этим вечером Антуан, с позволения мадам Люссак, отвел Мадлен во Флеретт. Ресторан был на углу улицы Жакоб, в веселом, очаровательном и приветливом местечке, в самом сердце Сен-Жермен-де-Пре. Он был уютно маленьким, больше похожим на bistrot chic,[65] чем на ресторан, безыскусно и непретенциозно прелестным, как и обещало его название.[66]
– Я так часто проходила мимо него, – восторженно сказала Мадлен. – Господи, я даже и не подозревала!
– И я тоже – что ты проходишь мимо, – Антуан смотрел на нее. – Тебе нравится?
– Да здесь просто чудесно! А владелец живет в Париже?
Антуан покачал головой.
– У него есть еще один в Провансе, и по крайней мере сейчас он предпочитает жить там. А управлять рестораном он доверил мне. И поэтому я иногда верю, что он почти мой.
– А почему бы и нет – раз ты сделал его таким процветающим?
Он пожал плечами.
– Да, вроде дела идут хорошо.
Три из дюжины столиков были уже заняты, и все новые и новые посетители заходили на обед, но Антуан нашел время, чтоб представить Мадлен своему персоналу из шести человек – Грегуару Симону, chef-de-cuisine,[67] Патрику Гюго, его ассистенту, и Суки, их plongeuse,[68] на кухне и Жоржу, Жан-Полю и Сильвии, работавшим непосредственно в зале.
– Мне повезло, что я нашел Грегуара – именно тогда все во Флеретт пошло по-другому, – сказал Антуан, ведя Мадлен к маленькому, отдельно стоявшему в глубине комнаты столику. – Он вырос всего в нескольких километрах от того места, где я раньше жил. Вообще мне давно хотелось, чтоб у нас была еще и нормандская кухня – это очень вкусно, да и к тому же я разбираюсь в ней лучше, чем во всякой другой… а тут как раз я познакомился с Грегуаром – и словно по волшебству, он нигде тогда не работал и согласился.
– Они выглядят счастливыми, – сказала Мадлен.
– Надеюсь, что так. Патрик и Жан-Поль живут вместе на рю де Бюси – всего в нескольких минутах ходьбы отсюда.
– А откуда Суки?
– Родилась на Сингапуре, но живет в Париже с тех пор, как ей исполнилось пять лет. В свободное время она рисует акварели, и у нее двухлетний сынишка – она приводит его сюда иногда, когда его отец не в настроении заниматься ребенком.
Жорж, один из официантов, круглолицый молодой человек с прекрасными волосами, принес меню.
– Я сам приму у нее заказ, – сказал Антуан.
– А ты тоже поешь со мной? – спросила Мадлен.
– Мне нужно работать, но я тебя обслужу сам. – Он указал ей на карточку в ее руке. – Можно я тебе кое-что рекомендую?
– Пожалуйста, выбери сам.
– Vraiment?[69]
– Absolument.[70]
– Ты простишь, если я тебя покину?
Мадлен откинулась на своем стуле, совершенно счастливая, глядя на Антуана в его привычной обстановке. Пусть Флеретт и не принадлежал ему, но отпечаток его вкуса и стиля лежал на всем. Он принес ей potage cressonnière,[71] подождал, пока она попробует, а потом налил ей в бокал белого вина.
– Это просто мускат – но превосходный. А как тебе понравился суп?
– Очень вкусно.
– Ты не возражаешь, если я опять тебя покину? – Он был заботлив.
– Конечно, оставь меня наедине с супом.
Он принес ей палтус, поджаренного омара, morilles,[72] шампанское и взбитые сливки, она ела потихоньку и смотрела на него. Жорж и Жан-Поль, официанты, время от времени поглядывали на нее дружелюбным взглядом. Сильвия же, хорошенькая длинноволосая брюнетка, смотрела на Мадлен, как ей показалось, с подозрением и, может, даже почти враждебно. Но какое это имело значение? Ничто не могло испортить ей настроение.
– Ça va? – все время спрашивал Антуан, и Жорж предлагал ей пропустить по-нормандски маленькую рюмку кальвадоса между блюдами, но она отказывалась.
Она никогда даже и не мечтала о том, чтоб встретить такого красивого мужчину – и смотреть на него часами, словно он был прекрасным произведением искусства. Глядя на Антуана, занятого своей работой, она восхищалась его сноровкой и изяществом. Чего стоили одни только его руки, красивые, с длинными пальцами. Они были постоянно в работе: выписывали счета, открывали бутылки, расстилали свежие скатерти, раскладывали на колени салфетки, пожимали руки, брали телефонную трубку, открывали и закрывали входную дверь. Он был общительным и очаровательным, хотя и держал себя независимо с посетителями, внимательно и зорко следил за своим персоналом – казалось, он точно знал, когда нужно их по-дружески «подстегнуть», а когда дать им возможность немного расслабиться и наслаждаться своей работой и собой в этой работе. Но весь вечер, каждую свободную минуту, его глаза, эти глаза, которые она уже любила – она знала, что полюбила с той самой первой минуты, как увидела в саду Тюильри – обегали зал, чтобы остановиться с радостью, удовольствием и теплотой на ее лице.
Они были не одни до глубокой ночи. Наконец Антуан закурил свою первую сигарету, налил им обоим кальвадоса и устало опустился на стул рядом с ней.
– Раньше, чем обычно.
– Правда?
Он кивнул и немного выпил.
– Такие вот дела. Лэнчи, обеды и ужины, каждый день, кроме понедельника – а потом несколько часов отдыха перед походом на рынок с Грегуаром. Иногда он ходит один, но мне это не нравится – я люблю ходить сам.
– Я могу это понять, – сказала она мягко.
– Правда? – он улыбнулся. – Мне это нравится, но другим выносить нелегко. Нелегко иметь девушку.
Он подавил зевок.
– Ты, наверно, устал – мне нужно идти домой.
– Нет, нет, я оживу через несколько минут – как всегда.
– Но ты сказал, что тебе остается поспать лишь несколько часов.
– Но я все равно сегодня не усну, – он посмотрел ей прямо в глаза. – Мне нужно поговорить с тобой, мне нужно объяснить…
– А что нужно объяснять?
– Причину, по которой я не приходил раньше.
– Зачем? Это не нужно, – быстро проговорила Мадлен. – Ты пришел – и только это имеет значение.
Неожиданно она почувствовала какое-то беспокойство, почти страх, что он скажет ей что-то такое, что может испортить все.
– Но я хочу быть честным, – сказал Антуан. – Это очень важно для меня.
Он глубоко затянулся сигаретой, выпустил через ноздри дым.
– В последнее время у меня были отношения с одной девушкой. Ты ее видела – это Сильвия Мартин.
Темноволосая официантка с недружелюбными глазами… Мадлен молчала – она ждала и слушала.
– Мы не были влюблены друг в друга – но были любовниками. – Он помолчал. – Но я не из тех мужчин, которые любят играть – не люблю лгать. – Он пожал плечами. – Между нами все кончено. Сильвия понимает. Я знал, что все должно кончиться, когда впервые увидел тебя – в тот день перед Рождеством. Это было так важно для меня – le vrai coup de foudre.[73] Со мной никогда такого не было.
– И со мной – тоже, – тихо сказала Мадлен.
– Я это понял.
– Да? – она покраснела. – Я никогда не была влюблена. У меня даже никогда не было парня…
У нее не было слов, и ее румянец стал еще гуще. Она казалась такой наивной и неопытной. Ей хотелось быть искренней и правдивой – но она боялась показаться глупой.
– Ты уверен, что Сильвия понимает? – быстро спросила она, меняя тему.
– Не сомневаюсь, – Антуан отпил еще немного кальвадоса. – Сильвия – милая девушка, но немного властная и жесткая. Она – не такая, как ты, Мадлен. Она опытная – у нее уже было много парней. Она мне говорила, что уже знает, что к чему. Не беспокойся насчет Сильвии.
Они стали говорить прямо, открыто, изливая душу друг перед другом. Мадлен чувствовала, что пространство между ними словно исчезало, хотя соприкасались лишь их руки. Ей казалось, что мысли их сливаются, переплетаются Друг с другом, и это было новое и потрясающее ощущение. И она знала, что уже сейчас Антуан значит для нее то, что мог бы значить позже, и это чувство будет только углубляться, а не изменится или исчезнет: Мадлен обнаружила, что ей хочется рассказать ему все – о своем детстве, о своей жизни в Швейцарии, о Грюндлях и Габриэлах, о ее дедушке и Ирине, и отце, о своей матери и Стефане, и Руди. И об изгнании Александра, и о Зелееве и Eternité. А еще она поняла с огромным облегчением и радостью, что Антуану тоже хочется знать о ней все, как и ей о нем.
– Теперь расскажи ты, – сказала она, когда закончила свой рассказ.
– Ну, тут не о чем много рассказывать – моя жизнь была обычной до тебя.
– Нет, пожалуйста, расскажи что-нибудь.
– У нас маленькая семья, – начал он. – Отца зовут Клод, а мать – Франсуазой. У меня еще есть сестра, Жаклин, на два года моложе меня.
– Но я не знаю, сколько тебе лет.
– Двадцать семь. В марте я буду на десять лет старше тебя.
– Разве это важно?
– Не для меня.
– И не для меня – тоже. – Она улыбнулась. – Продолжай рассказывать.
– У нас есть небольшой пансионат прямо на выезде из Трувиля. Пансионат Боннаров. Одно из тех чистых уютных местечек, куда туристы любят возвращаться опять и опять. Постели мягкие и теплые, мой отец – добрый и гостеприимный человек, а мама готовит самые восхитительные супы, какие только можно представить.
– Конечно, ты скучаешь по ним?
– Очень. И я скучаю по Нормандии – но не настолько, чтоб уехать из Парижа. Конечно, из-за своей семьи и их пансионата я мог бы уехать, если нужно, но думаю, этого никогда не потребуется.
– Я полюбила этот город в ту же минуту, как приехала, – сказала Мадлен. – Потом мне стало немного страшно, а потом появился Ной, и все стало хорошо.
– В Париже есть все, чего бы я хотел от города, – сказал ей Антуан. – Он смелый и дерзкий – боец за выживание. Он напоминает мне красивую женщину, влюбленную в жизнь и в ладах с самой с собой.
– Человечный город.
– Exactement, – он закурил еще сигарету. – В Париже есть все – блеск и очарование, музыка и искусство, вкусная еда и страсть.
Он приехал в 1950 году, когда ему было двадцать, не тронутый войной и влекомый жаждой путешествий. За месяц он нашел работу во Флеретт – официантом, уже через полгода стал менеджером, и погрузился в атмосферу напряженной работы, контролируемого хаоса и ублажения посетителей.
– Хотя в глубине души настоящий Антуан Боннар – сочинитель песен.
– Правда? – Мадлен была поражена. Она должна была сама понять – по тому, как он ей аккомпанировал, заинтересоваться, почему restaurateur[74] так интересуется ее пением.
– Я написал свою первую песню – и музыку и слова, когда мне было девять лет.
Всю войну он писал язвительные песенки, высмеивающие нацистов, а когда приехал в Париж, была издана его первая песня.
– Она называлась «Les Nuits lumineuses».[75]
– Мне так хотелось бы услышать ее.
– Ты услышишь, – улыбнулся Антуан. – Я ношу ее все время с собой – листочек музыки, лежащий в кармане жилета, как бумажный талисман. – Он помолчал. – Только один певец исполнял ее до сих пор – Гастон Штрассер… когда пел один сезон во Флеретте.
Он опять замолчал.
– С того самого момента, как я услышал твой голос… когда ты мне пела, Мадлен… когда я услышал твой голос, я понял, что эта песня для тебя. Твоя песня.
Она просто не могла говорить. В глазах ее появились слезы.
– Если ты не возражаешь, – сказал мягко Антуан, – я лучше отвезу тебя домой.
– А мне кажется, что я здесь дома, – прошептала она.
– Да, – сказал он.
Мадлен хотелось знать еще и еще – о нем, о его музыке, о каждой самой мелкой подробности его жизни. Но она знала, что у них еще будет долгое, неопределенно долгое время вместе, тогда как теперь, почувствовав наконец усталость и желание спать, она с безжалостной ясностью увидела, что уже три часа ночи, и что ей завтра опять вставать в шесть и быть горничной. Но когда Антуан провожал ее домой, держа ее руку в своей руке, ее вдруг одолело любопытство по поводу одной вещи.
– Расскажи мне о Гастоне Штрассере, – сказала она. – Он кажется таким странным.
– Он пытался внушить тебе благоговейный страх?
– Да. И ему это удалось.
– В душе Гастон – сущий котенок, но он хочет защитить себя.
– От меня?
– От любого незнакомого человека. От мира. Какое-то время они шли молча. Город постепенно затихал. Хотя он никогда не засыпал совсем, музыка становилась мягче, жизненная энергия – приглушеннее, неутомимые философы и спорщики успокаивались, любовники мирно спали в объятиях друг друга. Антуан Боннар и Мадлен Габриэл, все еще узнавая друг друга, открывали для себя чудо идти, тесно прижавшись друг к другу, переплетя руки.
– Как ты думаешь, сколько лет Гастону? – спросил ее Антуан.
– Сорок пять, пятьдесят?
– Только-только сорок.
Холодный ночной воздух пощипывал уши и шею Мадлен, но она не замечала этого, не хотела накидывать на голову капюшон пальто. Ей все еще нравилось ощущение свободы и легкости, которые давали ей ее короткие волосы, а потом ей так не хотелось прятать лицо от Антуана.
– Может, он выглядит старше оттого, что у него нет волос.
– Он бреет голову, ты знаешь? Таков имидж, который он выбрал, в котором он нуждается.
Гастон Штрассер, рассказал ей Антуан, был способным студентом консерватории, когда ему пришлось бежать из Вены от нацистов в 1938-м в Париж, к кузенам его матери-француженки.
– Он еврей?
– Гомосексуалист. В те дни это было одно и то же. Опасно. После оккупации Парижа Штрассер обнаружил, что он не в большей безопасности, чем был в Австрии. В двадцать лет у него была легко сложенная стройная фигура и на голове целая шапка мягких белокурых волос. Идеальная мишень. Жертва. Однажды ночью в 42-м он попался на пути банде нацистских подонков и подвергся зверскому насилию и избиению. Он оправился физически, но его психика была настолько травмирована, что у него началась глубокая и хроническая депрессия. Его кузены вышвырнули его на улицу после освобождения.
– Как? – Мадлен была потрясена.
– Они сами были ханжи, и полагаю, он должен был быть для них источником постоянного беспокойства и раздражения. Когда это произошло, он принял решение.
– Какое?
– Он взглянул в зеркало и увидел вдохновенное колоритное существо, которое в любую минуту снова может стать жертвой. И тогда он решил, что ему нужно изменить себя.
Штрассер сбрил волосы и стал заново лепить себя – он заставлял себя есть простую здоровую пищу, даже когда у него совсем не было аппетита, а еще он подружился с менеджером гимнастического зала, где тренировались боксеры. Гастон сделал себя сильным и непривлекательным. Никто не любил и не понимал его – но зато никто и не смел ему угрожать. Его мечты о карьере тенора развеялись, как дым, и теперь он выглядел скорее как укротитель львов из цирка, чем как оперный певец. Понимая свою новую роль и ограничения, которые она накладывала на него, Штрассер брался за ряд работ, которые вовсе не соответствовали его характеру и требовали физической силы: он был то телохранителем, то вышибалой в ночном клубе, то ночным сторожем. Поначалу у него было чувство небольшого удовлетворения от того, что он достиг своей цели, но это чувство вскоре исчезло, и у Гастона началась новая депрессия, продолжавшаяся до 1951-го года – когда он встретил Антуана.
– А где вы познакомились? – спросила Мадлен.
– В Люксембургском саду.
– Наверно, ты был в плохом настроении, – сказала Мадлен, вспомнив, что он ей говорил в саду Тюильри.
– По-моему, я пытался сочинять, а ничего не выходило.
Он замолчал, вспоминая.
– Гастон сидел на траве под деревом, глядя на маленьких детишек в театре Гиньоль. Только он не смеялся, а плакал. Я сидел рядом с ним, и мы разговорились.
– И ты взял его певцом во Флеретт? Антуан пожал плечами.
– У него был – да и сейчас есть – прекрасный голос, а Сен-Жермен привык к колоритным личностям.
Между тем, искусственно созданное уродство Штрассера обернулось в ресторане против него, и дела пошли плохо. Венец предложил уволить его, но Антуан не позволил ему сдаться. Это была его идея, чтобы Гастон начал учительствовать, но Антуан поставил условие – пока ему не удастся найти платежеспособных учеников, он должен продолжать петь во Флеретт.
– Посетители вскоре снова зачастили в ресторан – они знали, что всегда найдут там прекрасную кухню и обслуживание было, как всегда, отличное. Да потом, по мере того, как росла уверенность в себе Гастона, он научился делать свою внешность более респектабельной. Он принял вид и тон некоей насмешливой свирепости, которая стала частью его имиджа. Публика даже была в восторге.
– Так вот почему он не взял денег, – сказала Мадлен. – Он сказал мне, что обязан тебе. Я решила, что это денежный долг – но это гораздо больше.
– Да нет, это все пустяки – просто шанс. У Гастона есть мужество.
– Конечно, – согласилась Мадлен, но думала она уже совсем о другом. Она испытывала трепет – даже еще больший, чем перед конфирмацией. Она полюбила этого щедрого, доброго человека. Если б только ей не надо было заходить внутрь, думала Мадлен, когда они приближались к дому Люссаков. Если б только эта ночь никогда не кончалась.
Они остановились.
– Что будет завтра! – подмигнул он, глядя вниз на нее. – Ты будешь такой замечательной горничной, какой не была еще никогда.
Он взял ее лицо в свои ладони.
– Вот увидишь, сначала ты что-нибудь расколотишь, а потом у тебя подгорит их завтрак.
– Я не готовлю – мне не дает мадам Блондо.
– Мудрая женщина, – с улыбкой заметил Антуан.
– Но я могла бы хорошо готовить.
– Очень может быть.
Мадлен посмотрела на него сонным взглядом.
– Мое лицо в твоих ладонях… Почему?
Его голубые глаза цвета моря были темными и глубокими.
– Жду.
Мадлен почувствовала, как по ее телу прошла дрожь.
– Нашего первого поцелуя.
Он помолчал.
– Можно?
Она кивнула, не в силах сказать ничего.
Он наклонился. Она почувствовала, как его губы, прохладные, мягкие и упругие, коснулись ее губ с такой нежностью, что на глазах у нее навернулись слезы. О-о, это было самое прекрасное ощущение на свете – она закрыла глаза и ответила на поцелуй, и его губы раскрылись; его рот был таким теплым и живым, и на какое-то мгновение их языки соприкоснулись легко, как ласка птичьего пера, и она стала слабеть, слабеть от счастья…
А потом он отстранился.
– И все это – лишь в одном поцелуе, – едва слышно проговорила она.
Антуан улыбнулся – его зубы блеснули белизной в темноте.
– И даже больше, – сказал он нежно и отнял руки от лица, а потом взял ее руку в свою и открыл ворота.
Наверху, у входной двери, он шепнул ей:
– Скажи им, что это я виноват в твоем опоздании – скажи им, что больше такого не случится… просто нам нужно столько времени, чтобы лучше узнать друг друга, чтобы быть вместе.
– Но как же нам быть? – неожиданно Мадлен встревожилась. – Ведь иногда ресторан не закрывается до двух? Как же нам быть?
– Net'en fas pas, chérie, – успокоил он ее. – У нас будет еще много времени, не волнуйся. Это ведь наш первый вечер – не последний.
– Наш первый поцелуй.
Выражение лица Антуана было радостным и решительным.
– И это только начало, – сказал он.
11
– Расслабьтесь.
– Я уже расслабилась.
– Да, как натянутая струна – да не волнуйтесь так.
– Но я волнуюсь из-за вас.
– Давайте начнем снова. Наклонитесь – направо. От талии. Теперь уроните голову, пусть все расслабится – как у тряпичной куклы. Теперь начинайте медленно – очень медленно – выпрямляться, спина, т-а-ак, голова – последняя. Теперь расслабьте плечи, встряхните ими легко – чтобы грудь тоже встряхнулась – так, хорошо, хорошо… А теперь дышите часто, как собака – не нужно так сосредотачиваться, просто дышите.
Мадлен сделала то, что ей велели.
– Теперь запомните, что поддержка должна идти из диафрагмы. Пусть ваше горло будет открытым – нужно достаточно пространства, чтобы выходил звук, без всякого усилия. И начинайте опять – ля ля ля…
Гастон вернулся к роялю, и начал опять – и так до бесконечности, все играя и играя гаммы. Мадлен чувствовала себя словно во власти какой-то безумной армейской муштры, но повиновалась, ненавидя каждую минуту занятий.
– Ля ля ля ля-я-я ля ля ля.
– А теперь ми-и ми-и ми-и…
И опять все по новой.
– Это ужасно, – говорила она Андрэ и Элен. – Я просто хочу петь, но мсье Штрассер заставляет меня повторять гаммы, опять и опять – пока мне просто уже хочется кричать.
– Но разве всем певцам не нужно распевать гаммы? – спросила Элен.
– Да, конечно, но не все же время, да еще и одни только гаммы!
– А что, он не дает тебе петь ничего, кроме гамм? – удивилась Андрэ.
– Ничегошеньки. Он заставляет меня делать упражнения на дыхание. Самое забавное – это когда он зажигает свечу и подносит ее к моему лицу.
– А это еще зачем?
– Чтоб быть уверенным, что я ее не задую.
– А как же тогда тебе дышать?
– Да пламя даже не должно колебаться! Ну, конечно, у меня оно мечется, как бешеное, а потом гаснет, и тогда мсье Штрассер или кричит, или, наоборот, становится очень-очень спокойным, что еще хуже.
– Ты хочешь сказать, что тебе даже нельзя дышать?
– Конечно, можно, Андрэ. Но певец должен сделать вдох, а потом так контролировать дыхание, что только крошечная струйка воздуха выходит наружу зараз. Штрассер говорит, что для звука вообще не нужен воздух.
– Кажется, все это жутко трудно.
– Еще бы, chérie! Очень трудно.
– Так почему ты не бросишь эту затею?
– Потому что я хочу петь.
* * *
– Гастон ненавидит мой голос, – пожаловалась она Антуану однажды днем в садике возле церкви Сен-Жермен-де-Пре.
– Глупости! Конечно, нет.
– Нет, он ненавидит – и он прав. Представляешь, в первый раз, с тех пор, как мы занимаемся, он разрешил мне петь – по-настоящему петь. Это было из Шуберта – Lieder,[76] вовсе не то, чего бы мне хотелось, но все равно очень красивое, и уже гораздо, гораздо лучше, чем упражнения и гаммы.
– И получилось плохо?
– Плохо – это не то слово! – Мадлен была страшно расстроена. – Во-первых, я забыла все, чему училась в школе – чтение с листа… Господи, ну почему я не старалась тогда получше запомнить!
– Я уверен, ты вспомнишь.
– Но Гастон стал очень нетерпеливым – он даже грохнул по роялю кулаком. Потом он рассвирепел на себя, что поколотил дорогой инструмент…
– А пение? – осторожно и мягко спросил Антуан.
– Кошмарное!
– Уверен, что нет.
– Но ты же знаешь мой голос. Разве он подходит для Lieder?
– Может, и нет, но…
– Я знаю, знаю, но это все – часть обучения, – перебила она расстроенно.
– Правильно.
– Конечно, я буду стараться, но Гастон никогда не будет доволен мной. Он – классически выученный певец, учитель классики. Для него музыка священна в том виде, как она написана, и на нее нельзя посягать певцу – и уж тем более такому бестолковому и бездарному зеленому новичку, как я.
Антуан хихикнул.
– Не могу представить, чтобы Гастон – или вообще кто-нибудь – считал бы тебя бестолковой или бездарной, ma chérie. Может, новичком – это еще куда ни шло, но…
Но Мадлен не была расположена шутить.
– Ты просто не понимаешь, – продолжала она с горячностью. – Гастон хочет, чтоб я пела как великие, классические меццо-сопрано, и уж, конечно, я так никогда не смогу. Нет, я буду очень стараться исправиться и как можно больше работать, работать, но мне хотелось бы использовать и то, что у меня есть.
– У тебя хороший слух – настоящий абсолютный слух.
– Но я хочу чувствовать себя свободной, когда пою – использовать свой ум, свое сердце, а не чье-то другое, не чье-то представление, как все должно быть.
Она остановилась, чтобы перевести дыхание, и начала понемногу успокаиваться.
– Гастон говорит, что нужно сначала научиться ходить, прежде чем бегать, что я должна научиться контролю над эмоциями.
– Как ты думаешь, он прав?
– Полностью. – Мадлен покраснела. – И когда я сейчас слушаю себя, то думаю – какой, наверно, я кажусь тебе заносчивой, и мне так стыдно за себя… потому что, несмотря ни на что, мне так нравятся мои занятия, и так благодарна Гастону, что просто нет слов… и, конечно, я знаю, что он прав, и я должна научиться технике и контролю. Но если б он только позволил мне спеть всего одну вещь – песню по моему собственному выбору, свободно, дал бы мне всего один шанс за весь урок – все сразу бы стало по-другому.
– Хочешь, я с ним поговорю? – тихо предложил Антуан.
– Нет! – воскликнула Мадлен и вскинула голову. – Я хочу заслужить уважение Гастона, а не его презрение. Если он будет считать, что тебе приходится решать мои проблемы, он возненавидит меня даже больше, чем мой голос.
Антуан протянул ей руку.
– Viens, ma belle.[77]
Она подошла, и он прижал ее к себе.
– Гастон уже тебя уважает – он сам мне сказал. Ему нравится, когда ты бросаешь ему вызов. Но не обольщайся сразу – он никогда не поддастся тебе. И он знает, что тебе хочется петь баллады и популярные песни, и, может, немножко джаза, и что ты любишь эмоциональную, страстную музыку. А еще он знает – ты найдешь свой путь, свое «я» в пении.
– Но мне нужно быть терпеливой, – мягко сказала Мадлен.
Она смотрела на двух ребятишек, гуляющих с матерью – мальчику было около пяти, и он бежал вприпрыжку за красным мячом, а его сестричка, которая едва еще умела переставлять ножки, смотрела ему вслед с явным расстройством.
– Как этой малышке – пройдет еще немало времени, прежде чем она сможет бегать быстрее, чем ее брат. Просто ждать так трудно.
Антуан посмотрел ей в лицо.
– Я дам тебе спеть во Флеретт – если ты чувствуешь, что уже готова.
– Нет. Еще нет, – улыбнулась ему она. – Но однажды – очень скоро… если ты подождешь.
– Pour toujours,[78] – сказал он.
Они виделись так часто, как только могли – хотя их работа вносила некоторые препятствия в их стремительный роман. Антуан приводил Мадлен в свою квартиру, четырьмя пролетами ступенек выше ресторана, и они говорили без конца и обнимались со все растущим пламенным желанием, и Мадлен поглядывала на его кровать, но Антуан отказывался от их близости.
– Мне двадцать восемь лет, – говорил он ей в свой день рождения на третьей неделе марта. – А тебе восемнадцать.
– Но ты сказал, что тебе это неважно.
– Конечно. Но ты мне сказала, что я – твоя первая любовь, и что у тебя никого не было, – он поцеловал ее левое ухо. – И поэтому особенно важно, если наступит такой момент, ты должна твердо знать, что это именно то, чего ты хочешь.
Мадлен знала, чего она хочет. У нее не было ни тени сомнения. Он заполнял все ее мысли и мечты – она могла сосредоточиться на чем-то другом только во время занятий со Штрассером. Теперь, когда она начала понимать его, ее учитель больше не пугал и не раздражал ее, и она знала, что, несмотря на разницу в их вкусах, он был прав и учил хорошо. Его одержимость нудным утомительным вокалом и упражнениями на дыхание по-прежнему доводила ее до умопомрачения от нетерпения и мысли, что она лишь чуть-чуть приблизилась к самой себе. Но Мадлен чувствовала, как ее исполнительское мастерство и творческая энергия стали богаче и выразительнее, и ее голос, его уникальное звучание стали многообразнее и ярче, и свободнее. И стали поддаваться контролю.
В первый понедельник апреля, вскоре после того, как Мадлен накрыла лэнч для Люссаков и должна была переодеться, чтобы встретиться с Антуаном, она услышала звонок во входную дверь.
– Griiezi, Magdalen.
В дверях стоял Стефан Джулиус собственной персоной. Прошло два года с тех пор, как она в последний раз видела его, но он совсем не изменился. Его костюм был серым – как и его галстук, его волосы и глаза. Мадлен уставилась на него, думая – если она зажмурится, исчезнет ли он так же внезапно, как и появился?
– Ты не собираешься пригласить меня войти?
– Конечно, – Мадлен отступила назад, страшно жалея, что ей не удалось снять униформу до того, как он увидел ее. Она почувствовала себя неуютно в черном платье прислуги, фартуке и наколке, Которую ее правая рука безотчетно потянулась поправить.
– Не беспокойся, – сказал Джулиус. – Ты выглядишь очаровательно.
– Что вы здесь делаете? – Мадлен стало нехорошо от шока, когда она закрывала дверь. – Как вы меня нашли?
– Очень милое приветствие, – сказал он холодно. – Я думал – может, после долгого отсутствия ты обрадуешься встрече?
– Мадлен? – Эдуард Люссак зашел в холл.
– Мсье Люссак, как я догадываюсь? – Стефан протянул руку. – Моя фамилия – Джулиус.
– Это – мой отчим, мсье, – Мадлен почувствовала, как ее щеки заливает румянец. – Извините, что вас побеспокоили.
– Вовсе нет, – он пожал руку Джулиуса. – Enchanté, Monsieur.[79]
– Нам лучше подняться наверх в мою комнату, – быстро сказала Мадлен.
– Даже не хочу об этом слышать, Мадлен, – тепло улыбнулся ей мсье Люссак. – Почему бы тебе не проводить своего отчима в petit salon?[80] Вы можете там спокойно поговорить.
– Merci, Monsieur.
– Собственно говоря, – сказал Стефан Джулиус, – я бы попросил вас уделить мне несколько минут, мсье Люссак. Дело в том, что моя жена очень тревожится и считает, что я, по крайней мере, должен поговорить с работодателями ее дочери.
– О чем речь, мсье Джулиус! Конечно, конечно. Моя жена, Габриэль, будет очень рада познакомиться с вами. Может быть, все-таки пройдем в гостиную? – Люссак взглянул на Мадлен. – Пойдемте с нами, моя дорогая.
Ей удалось улыбнуться.
– Un instant, Monsieur.[81]
Дверь закрылась, и в ту же секунду Мадлен пошла к антикварному овальному зеркалу в дальнем конце холла и взглянула на свое отражение. Она стащила с головы наколку, сняла фартук, взглянула опять и почувствовала себя лучше. Она ощутила легкий укол стыда: до сегодняшнего дня униформа еще никогда не повергала ее в замешательство, не заставляла чувствовать себя ничтожнее, ощущать себя стоящей ниже кого бы то ни было. Она была горничной – вполне непредосудительное занятие. Только Джулиус, одной своей покровительственной и высокомерной репликой, смог смутить ее, вывести из равновесия.
Собравшись с духом, она вошла в гостиную. Они сидели в креслах с высокими спинками и ждали ее.
– Садись, Мадлен, – улыбнулась мадам Люссак. – Ты хочешь чаю?
– Нет, благодарю вас, мадам.
Ей не хотелось оставлять его наедине с ними ни на секунду.
– Уверена, что мадам Блондо не будет возражать. Это был тактичный намек на то, что Мадлен теперь не у дел.
– А вам, мсье Джулиус?
– Не беспокойтесь, мадам.
– Может быть, чего-нибудь покрепче? – предложил Эдуард Люссак.
– Нет, спасибо.
– Eh bien,[82] – сказал Люссак приятным голосом. – Что мы тогда можем сделать для вас, мсье Джулиус? Кроме того, что сказать, как мы ценим Мадлен.
Стефан улыбнулся.
– Мы слышали, что Магдален поменяла имя.
– Оно не так уж сильно изменилось, – заметила мадам Люссак. – Просто оно больше подходит к ее новому окружению.
– Это верно.
Люссаки сидели спокойно и ждали.
– Какая жалость, – сказал Джулиус, кладя ногу на ногу и скрещивая руки на одетой в элегантный костюм груди, – что нам пришлось узнать о перемене имени Магдален, впрочем, как и обо всем остальном, неизвестно от кого, а не от самой Магдален.
– Действительно, жалко, – согласился Эдуард Люссак.
Джулиус продолжал:
– Магдален исполнилось в декабре восемнадцать лет, мсье Люссак, и я не знаю, было ли известно вам, когда вы ее нанимали, что она возмутительным образом убежала из дома и заставила свою семью волноваться и беспокоиться за нее.
– Мы знали о ее кое-каких семейных затруднениях, – ответили Люссаки, подхватывая его спокойную галантную манеру.
– Но вы не знали, что Магдален – из состоятельной, почтенной и уважаемой цюрихской семьи.
– Но у нас никогда не было принято выпытывать личные подробности о жизни тех, кого мы нанимаем, – очаровательно улыбаясь, заметила Габриэль Люссак. – Конечно, Мадлен – искренняя, честная, но очень молодая девушка, и мы кое-что узнали о ее окружении и обстоятельствах.
– Что, однако, не натолкнуло вас на мысль – может, было б правильнее сначала связаться со мной или ее матерью?
– Нет, – мадам Люссак слегка наклонилась вперед. – Можем ли мы сказать вам еще что-нибудь, мсье Джулиус, что бы успокоило вашу тревогу по поводу вашей приемной дочери и ее жизни с нами?
– Возможно, этого было бы и достаточно, если бы это предложение было сделано раньше, – ответил Джулиус. – Но не теперь. Недавно я узнал более чем достаточно, и настроение мое далеко от спокойного и безоблачного.
Тут впервые за все время Мадлен заговорила.
– Откуда именно вы узнали?
– Из достоверного источника.
– Откуда именно?
Стефан слегка наклонил голову и впился своими серыми глазками в ее лицо.
– Я узнал о пошибе людей, среди которых ты вращаешься со времени своего приезда в Париж. О твоих первых неделях жизни вместе с Леви – мужчиной, который подобрал тебя на берегу Сены…
– Ной вовсе не подобрал меня, – горячо перебила его Мадлен, – и его титул – Его Преподобие Ной Леви.
– И я полагаю, тебе понятно, как твоей матери и бабушке будет приятно и лестно узнать, что ты жила с иудейским кантором, неженатым мужчиной? Но я уверен, что это составляло часть твоего вызова нам – ты знала, что намеренно глубоко ранишь и оскорбляешь свою семью.
– Но именно ближайший друг его преподобия Леви, отец Пьер Бомарше, представил нам Мадлен, – вмешался Эдуард Люссак. – Я могу вас заверить, что ваши опасения лишены всякого основания.
– В самом деле? Но мне напротив, стало совершенно ясно, что Магдален сделала все, что в ее силах, чтобы ранить и оскорбить нас, затронуть нашу честь – изменив свое имя, прическу, взявшись за совсем неподобающее ей дело – за одно из самых неподобающих, – беря уроки пения у известного всем извращенца и повиснув самым бесстыдным образом на каком-то выскочке-официанте.
– Да как вы смеете? – Мадлен одним прыжком вскочила на ноги. – Как вы смеете являться сюда без приглашения, чтобы оскорблять моих работодателей и моих друзей?! Вы и понятия не имеете, о чем говорите.
– Очень сожалею, но я смею и знаю, о чем говорю. Мадлен изо всех сил боролась с собой, чтоб держать себя в руках – во имя Люссаков, понимая их растущее отвращение и гадливость. Она давно не была так потрясена и шокирована. Мадлен считала себя в недосягаемости для диктата Грюндлей и Джулиусов, начала другую, новую жизнь, и ей теперь и в голову не приходило, что все это однажды могут отравить.
– Что же вы сделали? Наняли детектива?
Волна горько-сладких воспоминаний захлестнула ее; может, герои любимых книг ее отца теперь словно материализовались и хотят навредить ей?
– Совсем наоборот, Магдален, – парировал Джулиус с блеском удовлетворения в глазах, – компания, которую ты избрала себе в новые друзья, предала тебя.
– Никто из моих друзей не способен на такое. Джулиус пожал плечами.
– Ну, не друг, разумеется. Молодая женщина, написавшая твоей матери анонимное письмо, рассказала, что ты украла ее дружка – того официанта, Боннара. Она подумала, что нам следует узнать о жалкой, недостойной жизни, которую ты ведешь.
Сильвия Мартин. Мадлен была потрясена. Антуан сказал, что они не были влюблены друг в друга, что Сильвия смирилась с тем, что их связь порвалась. Она – милая, но жесткая и властная девушка, сказал Антуан, которая легко найдет другого мужчину. Мадлен почувствовала ее враждебность, но не придала ей значения, потому что была так счастлива.
Она опять села.
– Зачем вы здесь? – спросила она Джулиуса. – Уверена, вы ждете, что я вернусь с вами домой – и не хотите этого?
– Пока ты сама этого не захочешь.
– Никогда, – сказала она. – И я не позволю вам украсть у меня мою жизнь – мою свободу. Мне нелегко досталось то, что я имею, и я очень счастлива.
– Отскребая полы и спя с официантами, ты чувствуешь себя счастливой, моя дорогая Магдален? Тогда я не могу и мечтать, чтобы помешать такому счастью.
Он сделал паузу.
– Я пришел сюда, потому что хотел уверить Эмили и Хильдегард, что с тобой все в порядке и ты – в безопасности.
– Слава Богу, и то и другое – правда.
– Если это все, – сказал Эдуард Люссак, – тогда…
– Не совсем, – Джулиус все еще смотрел на Мадлен. – Мне также хотелось знать, знаешь ли ты о местопребывании твоего отца. Ты виделась с Габриэлом, Мадлен?
– Нет.
– Правда? Верится с трудом. У нас сложилось впечатление, что убежала ты в основном затем, чтоб найти его. Я помню, как ты свирепо встала на его защиту, когда мы говорили в последний раз.
– Я его не нашла. Мадлен помолчала.
– А какое вам до этого дело?
– Просто потому что я верю, что у него есть кое-какие ценности, исчезнувшие из дома твоего дедушки после его смерти. Я уверен, ты помнишь, Магдален, как именно ты привлекла наше внимание к имуществу Амадеуса.
Eternité. Она редко думала о скульптуре, но неожиданно она вспомнила настойчивость Стефана в тот вечер перед ее побегом из дома Грюндли – когда она по неосторожности выдала секрет Опи. Господи, они скопили такое богатство, которое им не истратить и за всю свою жизнь – но им по-прежнему нужно наказать Амадеуса и Александра за их старые, непрощенные грехи.
– Я не знаю, где мой отец, – сказала она опять, твердо.
– А если б и знала – все равно б не сказала, – закончил за нее Джулиус.
Эдуард Люссак встал с кресла.
– У нас никогда не было повода сомневаться в честности Мадлен, мсье.
– Может, это потому, что вы никогда не встречали ни ее дедушку, ни отца – иначе бы вы поняли, какой племенной штришок и грешок мог искушать ее на ложь.
– Мадлен – не животное, мсье Джулиус, – подчеркнула Габриэль Люссак; голос ее был по-прежнему спокойным, но теперь уже без всякой приветливости.
– Но это, должно быть, только благодаря ее матери, – сказал Джулиус, – потому что оба Габриэла были едва ли лучше, чем похотливые быки.
– Я буду вам очень признателен, если вы не будете выражаться подобным образом в моем доме, – Эдуард Люссак побледнел. – Пожалуй, будет лучше, если вы уйдете.
Мадлен сидела тихо и неподвижно. Она была просто в агонии ярости и смущения и боялась говорить, не доверяя своему самообладанию. Его гнусные оскорбления в адрес отца и Опи не были для нее неожиданностью – но то, что эти порядочные, достойные уважения люди вынуждены выслушивать мерзости Джулиуса из-за нее… вынести это было почти невозможно.
Все показное слетело с Джулиуса, его глаза сверкали открытой злобой и враждебностью.
– Я знаю, что это нарушение закона – нанимать на работу особу, у которой нет легального права работать во Франции.
– Если вы хотите официальной ссоры с нами, мсье, – быстро и отрывисто сказал Люссак, уже направляясь к двери, – тогда я могу предложить вам обратиться за инструкциями к адвокату, а пока…
Он открыл Дверь.
– Магдален было шестнадцать лет, когда она убежала из дома, – злобно произнес Джулиус, тоже вставая. – Я – не лицемер, и поэтому не буду делать вид, что огорчен ее исчезновением из нашего дома. Она всегда была груба и вела себя со мной вызывающе. Но ее мать и младший брат, и ее бабушка, старая почтенная дама, настоящая леди, очень страдали от неизвестности и страха, что может приключиться с девочкой…
– Да вы настоящий лжец! – взорвалась Мадлен, ее голос дрожал.
Ее отчим игнорировал ее.
– Вы сознательно дали ей убежище, мсье Люссак. А ваша жена к тому же еще была рада заполучить дешевую выносливую рабочую силу…
– Пожалуйста, немедленно уходите, – в голосе Эдуарда Люссака была сдерживаемая ярость.
– Я ухожу, но не думайте, что на этом все закончится…
– Вон отсюда!
Джулиус прошел мимо него.
– Если б я был на вашем месте, мсье Люссак, я бы вышвырнул девчонку до того, как она преподнесет вам серьезные и неприятные сюрпризы.
Он повысил голос, обращаясь назад в глубь гостиной:
– Adieu, Magdalen.[83]
Когда за ним захлопнулась дверь, Мадлен уже плакала безудержными, надрывными слезами, не в силах больше их удержать. Габриэль обняла ее за плечи.
– Простите меня, – всхлипывала Мадлен. – Мне так неловко.
– Это – не твоя вина, моя дорогая.
– Конечно, это я виновата.
– В том, что у тебя такой неприятный отчим? Едва ли.
– Мне так жаль, – сказала опять Мадлен, шаря в кармане в поисках носового платка и вытирая слезы. – Я должна была ему сразу сказать, чтоб он уходил – мне нельзя было позволять ему говорить с вами.
– Ты не смогла б его остановить, Мадлен, – Габриэль взглянула наверх, когда в комнату вошел Эдуард Люссак. – Ça va, chéri?
– Oui, oui.
Он сел. Он выглядел напряженным и растерянным.
– Может, мне нужно было сдержаться и дальше, но боюсь, у меня было такое сильное желание ударить этого человека, что лучше было увидеть его спину…
– Он подлый и гнусный человек, – сказала Мадлен. – Простите меня.
– Перестань извиняться, ma chère, – успокаивала ее Габриэль. – Нам всем нужно выпить чаю, или что-нибудь покрепче, и вернуться к нормальной жизни.
Она взглянула на часы на каминной доске.
– Ты куда-нибудь пойдешь сегодня, Мадлен?
– Я собиралась, мадам, но…
– Тогда иди и переоденься.
– Но… – Мадлен колебалась. – То, что сказал мой отчим… что меня нужно уволить… я думаю, вам нужно это сделать.
– Глупости, – уверенно сказал Эдуард.
– Но он будет делать вам гадости – я не могу этого допустить.
– У моего мужа отличный адвокат, – возразила Габриэль. – И поэтому тебе не о чем беспокоиться.
Антуан ждал ее в кафе уже больше часа, когда пришла Мадлен. Увидев ее лицо и разъяренные глаза, он заказал коньяк и заставил ее выпить несколько глотков, прежде чем позволил ей говорить.
– А теперь расскажи мне что произошло. Что плохо?
– Все.
– Уверен, что нет, – он погладил ее по щеке. Она рассказывала ему, и ее страдания вырастали по мере того, как она говорила.
– И теперь у меня нет иного выбора, как только уйти с этой работы.
– Люссаки никогда не предложат тебе такое.
– Конечно, я знаю – но я убеждена, что Стефан сделает то, что он грозился сделать, если я останусь. Я не вынесу, если стану причиной их беспокойства и неприятностей – они были так добры ко мне.
– Viens, – сказал Антуан, бросив деньги на столик и вставая.
– Куда?
– В лучшее место для решения проблем.
Они пошли в Люксембургский сад, и обнаружив, что бельведер не занят, сели. Оттуда был виден фонтан Медичи – вокруг них кипела жизнь, но сами они были в чудесном уединении.
– Все испорчено, – сказала Мадлен. – Теперь, когда они знают, где я. Париж был мой, – она в отчаянии прижимала руки к груди. – Моя жизнь была полностью отделена от них, без прошлого. А теперь они вторглись в мой собственный мир.
– Не совсем, – сказал Антуан. – Может быть, сейчас тебе так кажется, но это не так.
Он пожал плечами.
– Это был твой секрет, и теперь они, может, знают кое-какие факты – просто мелкие детали, вроде того, где ты была, и с кем ты виделась. Но это просто голый остов – и ничего больше.
Они ведь не проникли в твое сердце или твою голову – они не могут изменить твой опыт или твои чувства.
– Но у меня такое чувство, что за мной следят – даже теперь.
– Если б только не Сильвия послала это письмо, – Антуан покачал головой, его волосы слегка упали на лоб. – Мне тяжело думать, что это она предала нас.
– А кто еще мог это сделать?
– Действительно, кто? – его глаза были рассерженными. – Я думал, мы друзья – ты знаешь. Она работала у меня четыре года, а наш роман длился лишь три месяца. Я никогда не намекал на какие-либо обязательства, но и она тоже.
Мадлен сказала тихо:
– Ты говорил с ней о нас?
– Совсем немного – но Сильвия часто была в ресторане, когда мы с тобой разговаривали, да? Думаю, она слышала больше, чем нам кажется.
Его рот сжался в твердую полоску.
– Я так хотел остаться ее другом… я хотел, чтобы она знала – я ценю ее как человека, хотя люблю тебя.
– Что ты будешь делать?
Он закурил сигарету.
– Сильвия уйдет оттуда сегодня вечером.
– А ты уверен?
– Как ты можешь сомневаться?
Они ушли из бельведера и побрели, рука в руке, к восьмиугольному пруду, где дети играли с маленькими корабликами. Мадлен немного успокоилась, но у нее все равно оставалось тяжелое чувство, что ей нужно что-то менять, что семья Люссаков, которой она стольким обязана, не должна подвергаться риску – даже самого тривиального юридического толка.
– Поэты и писатели всегда приходили в этот парк в поисках вдохновения, – сказал ей Антуан. – Бодлер, Гюго, Жорж Санд – и художники тоже. Если я приходил сюда во время кризиса, то часто уходил, приняв мудрое решение. – Он улыбнулся. – Или по крайней мере с новой песней.
– А мой кризис?
– Он уже разрешился.
Антуан бросил на землю свою сигарету, затушил ее каблуком ботинка, и закурил новую.
– Пойдем ко мне, – сказал он мягко. – Пойдем со мной, во Флеретт – работать со мной, петь для меня. И жить со мной.
Мадлен посмотрела ему в лицо.
– Тебе просто нужна новая официантка, – сказала она, лишь наполовину поддразнивая его.
– Правильно.
– Ты думаешь, я готова? Я могу петь для публики?
– Мы скоро увидим – когда посетители уйдут или останутся.
– А твоя кровать? – она нежно бросила ему вызов. – Ты готов наконец разделить ее со мной?
Ее щеки запылали при этом вопросе.
– Мою кровать? – повторил он, и глаза его потемнели. – Мою жизнь… мое сердце.
Он помолчал.
– Если ты хочешь.
– Я хочу этого, – сказала Мадлен. – С того самого момента, когда впервые увидела тебя в саду Тюильри. И никогда не переставала хотеть.
Мадлен поселилась в маленькой квартирке над рестораном на углу рю де л'Эшад и рю Жакоб две недели спустя. Люссаки сначала пытались отговорить ее, и Андрэ плакала, не желая расставаться с ней, но вскоре семья Люссаков все же согласилась, что визит Стефана Джулиуса может иметь самые неприятные и непредсказуемые последствия.
– Ты нас не забудешь? – сказала Габриэль Люссак, когда пришел Антуан, чтобы забрать Мадлен. – А мы тебя, конечно, никогда не забудем, ma chère. Ты была самая необычная горничная, какую я только знала…
– Уникальная, – подхватил Эдуард, широко улыбаясь.
– Она была для нас больше, чем просто горничная, – всхлипнула Андрэ.
– Она была нашим другом, – сказала Элен.
– Вы думаете, дорогие, – улыбнулась Габриэль, – что мы сомневались в этом? Хоть один день?
– Мы никогда не относились к ней иначе, – проговорил Эдуард.
– Это правда, – Мадлен обняла Габриэль. – Могу я иногда заходить к вам, мадам? Если это удобно?
– Как это может быть неудобно? – ответил за них всех Эдуард, а потом повернулся к Антуану и крепко пожал его руку. – У меня такое чувство, словно у меня есть третья дочь, и я даю вам свое разрешение забрать ее с собой от нас. Хорошенько заботьтесь о ней, друг мой.
– Я надеюсь, вы как-нибудь зайдете к нам в гости во Флеретт? – спросил Антуан.
– Очень скоро, – обещал Эдуард. Вдруг Мадлен стала очень серьезной.
– И пожалуйста, вы должны мне поклясться, что скажете, если мой отчим станет причинять вам беспокойство.
Она помолчала.
– И что бы он ни делал, не говорите ему, где я.
– Ты теперь взрослая, ma chère, – сказала Габриэль. – Что ты делаешь, где ты живешь – касается только тебя, и никого больше.
В тот их первый вечер Антуан пошел вниз в ресторан один, чтобы дать время Мадлен распаковать свои вещи и спокойно приготовиться к работе. Но когда в половине восьмого она тоже сошла вниз, немножко волнуясь от мысли, что ей придется обслуживать столики, то обнаружила, что Флеретт был совершенно пустой.
– Никаких посетителей? – спросила она Антуана, расстроенная.
– Ни единой души, – засмеялся Антуан. Он указал ей на входную дверь, закрытую на замок, а потом повел, взявши за руку, в угол комнаты. Один столик – их столик – был накрыт на двоих, мягко освещенный светом свечей.
– Просто не могу поверить, – проговорила она.
– Ты что, правда, думала, что я позволю тебе работать сегодня вечером, mon amour.[84]
– Конечно, – она позволила ему усадить себя и положить на колени салфетку. – Это же работа – и я готова, мне хочется работать вместе с тобой.
– Так и будет – но не сегодня вечером.
Они тихо пообедали, устрицами и суфле из лосося – но они были слишком влюблены друг в друга, чтоб есть с обычным аппетитом, слишком переполнены чувствами, чтоб даже просто говорить, как всегда. Чуть позже Антуан сел к роялю возле бара и начал играть, а Мадлен пела, только для него, все те песни, которые Гастон не позволял ей даже попробовать петь – живые, чувственные, взволнованные песни, по которым она так тосковала…
– А теперь попробуй вот эту, – Антуан перелистнул пару страниц своих нот и показал ей.
– Это твоя?
– К сожалению, нет, но одна из любимых.
– Но она на английском.
– Все равно – попробуй. Она была написана еще до того, как ты родилась.
Он заиграл начальные аккорды, и Мадлен слегка наклонилась над его плечом, глядя в ноты, а потом начала петь «Я буду смотреть на тебя», сначала оробев, но постепенно обретая уверенность в себе.
Антуан встал, когда она закончила, и повернулся к ней, и Мадлен увидела, что глаза его стали влажными.
– Посетители не просто останутся, – сказал он ей немного хрипло, – они будут ломиться сюда, чтоб услышать тебя.
Она покраснела.
– Что ты имеешь в виду?
– Эта песня, chérie, была для меня последним доказательством, – он вытер глаза и улыбнулся. – Всякий, кто поет ее так, как нужно ее петь… тогда у меня наворачиваются слезы. А если ее поют плохо – мне больно.
– Ты сошел с ума, – она улыбнулась.
– Совсем немножко. В этом деле на мое чутье можно положиться.
В порыве любви Мадлен обняла его за шею.
– Спасибо тебе, спасибо, – шептала она у его груди. – За это, за все, за сегодняшний вечер – за то, что ты любишь меня…
Он прижался губами к ее золотистым волосам, вдыхая их аромат, ощутил ее хрупкость, распознал ее силу – и был побежден.
– Пойдем, – он не мог больше ничего произнести.
– Куда? – она отстранилась и взглянула ему в лицо, и ощутила, как ее щеки залила жаркая волна румянца, как все тело ее стало словно горячим, почувствовала, что ее пальцы, даже кончики пальцев на ногах стали пылать от незнакомого прежде восторга и ожидания. Наконец, подумала она, долгожданное наконец…
Она подумала – когда они раздевались, помогая друг другу, когда в первый раз их обнаженные тела соприкоснулись, и они легли в постель рядом друг с другом, туда, куда она так долго и мучительно-сладко жаждала лечь, – что если б она была не певицей, а художницей, она бы отстранилась от него, просто для того, чтоб навсегда запечатлеть в своей памяти это блаженство видеть его. Он был таким же красивым, каким она и мечтала увидеть его, и взглянув на свое тело, Мадлен заметила в нем перемену – как оно окрасилось в другие тона, как все оно дрожало от его поцелуев в плечо… Они были словно пара нежнейших парящих обнаженных Матисса, или мраморных мерцающих любовников Родена, внезапно обретших жизнерадостную плоть, и от живых сердец заструилась упругая кровь по человеческим венам…
– Даже твои пальцы чудесны, – сказал Антуан, и неожиданно, когда он коснулся губами кончиков пальцев ног, Мадлен почувствовала, словно электрический разряд желания пронзил все ее тело, и она перестала быть только замиравшей от счастья наблюдательницей и всем сердцем отдалась своим ласкам. Если он мог сделать такое для нее, просто целуя ее ноги, если смог разбудить в ней это утонченное, но неистовое желание – то она тоже хочет отдать ему такое же счастье. Так вот что такое любовь – блаженно отдавать друг другу ласки и чувства.
– Поцелуй меня, – горячо прошептал Антуан, и она поцеловала его самым самозабвенным поцелуем, каким только могла, открытым и щедрым, и доверчивым, полным любви и силы, и страсти, и почувствовала, как он ей отвечает. И он обнял ее и положил ее голову на подушку, и смотрел на нее, словно вбирая в себя долгим, глубоким и любящим взглядом.
– Ma belle, – проговорил он, целуя ее шею, чуть пониже правого уха. Она затрепетала и поцеловала его в ответ. Его руки гладили ее, и он услышал ее стон наслаждения. А потом, к его восторгу, он почувствовал, как она отвечает ему, как ее пальцы скользят по его телу, гладя кожу, касаются легко и невесомо, как крыло бабочки. Вдруг Мадлен нежно оттолкнула его, и он перекатился через нее и оказался сбоку, лицом к лицу. И он увидел черные зрачки ее сияющих бирюзовых глаз, словно пивших его, как нектар, изучавших его.
– Пожалуйста, – прошептала она, ее голос был тихим и дрожащим. – Я хочу почувствовать тебя внутри меня…
– Не сейчас, – левая рука Антуана ласкала ее шелковистые крепкие бедра, и Мадлен выгнулась и потянулась к нему губами.
– Пожалуйста, – настаивала она и обняла его и, повторяя его движения, заскользила руками по его телу и почувствовала, как напряглись его сильные мускулы, отвечая ее ласкам.
– Сейчас, – прошептала она. – Сейчас! Антуан обнял ее и бережно положил на спину, целуя опять и опять ее рот, ее шею, грудь, все ее тело, и его правая рука крепко сжимала ее руку, и она задохнулась от ожидания. И Антуан взглянул на нее, замиравшую от наслаждения, и тоже застонал от счастья перед тем, как войти в нее, и начал двигаться, и Мадлен двигалась вместе с ним, природное чутье вело ее к их взаимному наслаждению.
– Не останавливайся, chéri, – прошептала она, почувствовав, что он колеблется.
– Я не могу сделать тебе больно.
– Ты не сделаешь…
А потом он почувствовал, как ее пальцы неожиданно впились в его спину: услышал короткий подавленный стон боли и хотел остановиться, но она не позволила – пока пылающий жар в их телах не достиг восхитительного пика наслаждения.
Позже, когда они лежали, прижавшись друг к другу, полные неизъяснимого удовлетворения и покоя, Антуан мягко сказал:
– Я хотел остановиться, но я не смог.
– Чтоб не было ребенка? – Мадлен улыбнулась в темноте. – Мне бы хотелось этого больше всего на свете – иметь твоего ребенка.
– У нас будет еще для этого много времени, mon amour, – он поцеловал ее в волосы. – В следующий раз я буду осторожней.
Она немного отстранилась чтоб видеть его лицо.
– Я бы не вынесла, если б ты остановился. Это было самое лучшее ощущение на свете – то, что было потом.
– Есть и другие способы.
– Конечно, – сказала она и услышала его смешок. – Почему ты хихикаешь?
– Из-за мудрости прелестной швейцарской девственницы.
Мадлен слегка укусила его за ухо.
– Но прелестная швейцарская девственница живет в Париже, – сказала она. – Невозможно жить в Париже и ничего не знать об этом… Это кричит со стен, разлито в воздухе. – Она помолчала. – Было чудесно, правда? Ведь правда?
– Кроме того, что я сделал тебе больно, – сказал Антуан.
– Даже это было чудесно, – возразила она. – Прекрасная боль. Но только подумай, chéri, – я никогда не испытаю ее опять – как грустно. – Она задумалась на мгновение. – Следующая прекрасная боль будет тогда, когда я буду рожать твоего ребенка.
– Надеюсь, что это будет не скоро. Мадлен привстала.
– Ты не хочешь, чтобы у нас были дети – никогда?
– Конечно, хочу. Но я ни за что на свете не хочу причинять тебе боль.
Его глаза стали мрачными от этой мысли, и Мадлен вдруг заметила в нем какую-то уязвимость и беззащитность, от которой внутри нее поднялась волна огромной любви и желания заботиться о нем.
– Мы так здорово будем жить вместе, правда? – сказала она. – Флеретт станет самым процветающим рестораном в Сен-Жермене, и твой patron сделает тебя своим партнером. А потом, со временем, мы выкупим у него ресторан и будем жить здесь всегда.
– Не слишком ли здесь будет тесно, когда нас станет шестеро? – тревога исчезла из глаз Антуана, и теперь они весело блестели.
– Шестеро?
– По крайней мере.
– Я согласна. Но зачем на этом останавливаться?
* * *
Она спала так крепко, так сладко и безмятежно, что даже не почувствовала, когда Антуан встал, оделся и вышел, и проснулась только тогда, когда он вернулся и поцеловал ее нежно в щеку.
– Bonjour, соня.
– Привет, – Мадлен улыбнулась ему и с удовольствием потянулась. – Почему ты не здесь, со мной?
– Кто-то же должен приготовить завтрак.
Она резко привстала, простыня соскользнула с нее.
– Разве ты не пойдешь на рынок вместе со мной? Антуан улыбнулся.
– Не сегодня. Грегуар уже ушел без меня. Мадлен взглянула за его спину.
Она до этого момента не замечала, что вся их маленькая спальня была заставлена вазами с розами – роскошно-распустившимися чайными розами разных оттенков розового, бледно-желтого и белого цвета. Она спрыгнула с кровати и бросилась в его объятия.
– Мне все время снились тонкие, благоухающие духи – а это был ты и твои розы, – она начала расстегивать его рубашку и покрывать его грудь поцелуями. – Ты самый красивый мужчина на свете…
– И самый счастливый, – пробормотал он сквозь их поцелуи, отрываясь от нее только для того, чтобы поставить у кровати деревянный поднос с завтраком. – Я подумал, может, ты хочешь есть?
Она посмотрела на поднос и увидела белую фарфоровую миску с клубникой, красивую сахарницу и лепестки роз, уроненные на белоснежную салфетку, и мягко сказала:
– О-о, это словно картина – та, которую я люблю. Внизу, на стене ресторана, висел эстамп Ипполита Лукаса «Клубничный чай», про который Антуан сказал ей – он напоминает ему летние дни в Нормандии.
– Но у нас еще есть кофе и теплые рогалики, – Антуан снял салфетку с небольшой корзиночки. – Voilà, Mademoiselle.
– Но мы накрошим в постели.
– Я тебя всю засыплю крошками – а потом все это съем.
Быстрым грациозным движением Мадлен вернулась в постель, расправила простыню.
– Мы слишком много болтаем, – сказала она. – Возвращайся в постель и давай есть.
Антуан расстегнул ремень.
– Проголодалась?
– Как волк.
Они стали жить вместе, в простой уютной квартирке, которая стала теперь их общим домом. Антуан продолжал заниматься делами Флеретт, но только теперь, когда рядом с ним была Мадлен, он мог тратить чуть больше времени на свои песни, которые стали еще лиричнее и романтичнее, чем прежде.
Мадлен была в восторге от своей новой жизни; она даже не могла себе представить, что можно желать чего-то еще. Дважды за каждый вечер, шесть раз в неделю, она снимала свой фартук и пела для посетителей, и они отвечали ей своим вниманием, обожали слушать и смотреть на нее – казалось, она становилась все красивее с каждым проходящим месяцем. У них словно начался медовый месяц, и ее жизнь была яркой и насыщенной, ее отношения с Антуаном – честными и естественными, их близость стала еще более восхитительной и волнующей. Они проживали каждый день настолько интересно и насыщенно, что даже часто мало спали – после закрытия Флеретт они окунались в бурное многообразие ночного Парижа: шли в Ла Купол или клуб Марс послушать джаз, или заходили в Голубую Ноту или Бильбоке, а потом отправлялись в Ле Халлз около четырех утра. Здесь они покупали свежие продукты на весь день; болтали со знакомыми за тарелкой лукового супа и смотрели, как владелец бакалейной лавочки нагружал их тележку свежими ароматными овощами, фруктами, мясом и сырами; а потом они иногда, если еще оставались силы, танцевали щека к щеке «У курящей собаки». Они вместе навещали своих друзей – они делали вместе все, что только возможно. Они были молоды, очень влюблены друг в друга и с уверенностью смотрели в завтра.
Счастье сделало ее великодушной и понимающей. Мадлен отметила свою первую годовщину вселения на рю Жакоб, написав письмо своему младшему брату.
– Сомневаюсь, что он мне ответит, – сказала она Антуану, – но я думаю, пришло время восстановить оборванное – по крайней мере, с Руди. Хватит лжи – той, что вылили на него Стефан, моя мать и Сильвия. Она помолчала.
– Ему уже почти пятнадцать, и я так хочу знать, каким он стал теперь.
– Он – твой брат, – улыбнулся Антуан. – Думаю, этим все сказано.
– Ты думаешь, я имею право сделать это прямо сейчас?
– Без всякого сомнения, – он взял ее руку. – И еще я думаю, что нам пора поехать в Нормандию. Моя семья просто сгорает от любопытства увидеть тебя.
– Но как мы можем бросить ресторан?
– Гастон знает дела достаточно хорошо, чтоб заняться Флеретт – несколько дней не сделают погоды.
Глаза Мадлен засияли.
– Когда же мы поедем?
Они попросили «пежо» у Ноя и Эстель и выехали в Нормандию в следующее воскресенье, приехав в пансионат Боннаров, очаровательный, увитый плющом домик с соломенной крышей, как раз к лэнчу. Мадлен с радостью смотрела на безыскусно теплое воссоединение семьи, пока ее саму не засыпали шквалом добрых слов, объятий и поцелуев. Мать Антуана, Франсуаза, была маленькой оживленной женщиной сорока семи лет с естественно вившимися черными волосами, с легкой проседью, голубыми глазами, немного более светлыми, чем у ее сына, и всегда просящейся на лицо улыбкой. Клод Боннар, его отец, был высоким и сильным, лысеющим, но красивым мужчиной с белокурыми усами и замечательного фиалково-синего цвета глазами. А Жаклин, сестра Антуана, была так похожа на брата, что Мадлен казалось – она без труда бы узнала ее на улице.
– Мы знали, – сказала ей Жаклин, пока мадам Боннар накрывала на стол, принесла неотразимо-аппетитного вида цыплят с запеканкой из риса с овощами, а Клод наливал вино в бокалы, – что вы – совсем особенная. И мы никогда не сомневались, что сердце Антуана будет отдано только тому, кого он любит по-настоящему.
– И мое тоже, – мягко сказала Мадлен, – с той самой минуты, когда я его увидела…
– В саду Тюильри, – закончил за нее Клод. Он широко улыбался, блестя нижним золотым зубом. – Да, Антуан написал нам в тот самый день, как его настиг «удар молнии» – любовь с первого взгляда. Но вы ведь гораздо лучше, чем гром среди ясного неба – вы созданы из плоти и крови.
– Tais-toi,[85] Клод, – шутливо выбранила его Франсуаза. – Ты смущаешь Мадлен.
– Pouf,[86] – отмахнулся он. – Она ведь не сердится, да моя дорогая?
– Как я могу? – улыбнулась Мадлен.
Дом стоял посреди яблоневого сада, недалеко от живописного густого леса, и если пройти совсем немного вперед, открывался чудесный вид на Кот-Флери. В следующие четыре дня Антуан и Мадлен помогали родителям в их делах с пансионатом, беспечно болтали в кругу семьи, а потом шли гулять по лесам или ездили в своем «пежо» по окрестностям, наслаждаясь видом мирных сочных лугов, деревянных домиков фермеров и пасшихся на зеленой свежей траве коров, что давали их хозяевам знаменитые местные сливки и сыры.
– Ты не скучаешь по такой жизни? – с любопытством спросила Антуана Мадлен.
– Ужасно – иногда, – он пожал плечами. – Но еще больше я бы скучал по Парижу.
Он посмотрел вниз на нее и погладил ее по щеке, и она положила свою руку на его.
– Может быть, когда-нибудь, когда мы будем старше, когда нам надоест большой город, мы вернемся в Нормандию… когда мои отец и мать устанут, и им будет нужна наша помощь.
– Они так много работают, – сказала Мадлен. – И Жаклин тоже.
Антуан кивнул.
– Когда Жаклин выйдет замуж, и у нее будут дети, родителям станет еще труднее. Им придется нанять чужого человека – а этого они никогда не хотели.
– Ты заговорил о сестре и ее замужестве… Ты думаешь, твои родители не одобряют нашу жизнь… ну пусть хоть немножко?
В вопросе Мадлен не было ни тени неловкости. Они иногда вскользь говорили о браке, но они были так счастливы, так полны радостью, которую приносил им каждый новый их день, что у них просто не оставалось времени думать об этом, и они просто знали, что сделают это, если будет в этом такая необходимость.
– Конечно, они не одобряют – в религиозном смысле, – ответил Антуан. – Но они – реалисты, и любовь для них значит гораздо больше, чем все остальное. Моя мать всегда боялась за меня – ведь я живу в такой богемной обстановке. И поэтому она очень благодарна тебе, chérie, – за то, что ты спасла меня от самых невообразимых опасностей.
Мадлен засмеялась.
– Но я вряд ли образец невинности.
Антуан улыбнулся.
– Но у тебя есть здравый смысл и замечательная интуиция – мама знает это. И ты любишь меня.
Они возвратились в Париж и нашли ответное письмо от Руди. Было ясно – по той быстроте, с которой он ответил, что он рад получить весточку от сестры. Тон его письма был сдержанным, но теплым и искренним – в нем сквозило понимание, почему Мадлен покинула дом без оглядки и не попрощавшись с братом. Он мало что писал о Стефане и Эмили, и о бабушке, но между строк Мадлен прочла и почувствовала, что ее брат шагнул далеко вперед от того бессловесного, послушного мальчика, которого она оставила в Доме Грюндли. И еще, она многое угадала – не из того, что написано, а больше из его умолчания. Живя теперь в грехе, – как они безусловно считали, сваливая почти все на растлевающее влияние Сен-Жермен-де-Пре, – работая вместе со своим любовником официанткой и ничтожной шаньсоньеткой, Мадлен стала воплощением сбывшихся самых мрачных пророчеств Стефана Джулиуса, какие он только когда-либо изрекал. Она была schwarzes Schaf в третьем поколении – третьей паршивой овцой из породы Габриэлов.
– Он скучает по тебе, – сказал Антуан, прочтя его письмо.
– Разумеется, нет. Мы никогда не были близки друг другу, и я никогда не была приветлива с ним, – честно ответила она, чувствуя укол вины. – Я заслуживаю его ненависть – и если б все сложилось по-другому, может, я бы тоже ненавидела его. Антуан покачал головой.
– Сомневаюсь. Ты говоришь о ненависти, но мне кажется, единственный человек, кого ты действительно ненавидишь – это Стефан Джулиус.
– Я ненавижу свою мать.
– Твое чувство – слишком страстное, chérie. Это не одно и то же.
– Я ненавижу ее за то, что она сделала моему отцу…
– Даже после того, что ты знаешь о его поступке? – осторожно и нежно спросил Антуан.
Мадлен посмотрела ему прямо в глаза.
– Ты думаешь, что я смогу перестать любить тебя, даже если ты сделаешь что-то плохое, если совершишь ужасную ошибку? – Она помолчала. – Я не в силах перестать любить.
– Тогда почему же ты думаешь, что Руди перестал любить тебя?
– Я не знаю, – мягко и тихо ответила Мадлен. – Может, потому, что я никогда не понимала, что он может любить меня больше других.
Она написала Руди опять, рассказывая об их поездке в Нормандию и о семье Антуана. И даже задолго до того, как между братом и сестрой наладилась регулярная переписка, оба они были так благодарны судьбе за эту новую связь между ними. Об Александре не было никаких новых вестей. Мадлен получала письма и от Зелеева из Нью-Йорка, но русский тоже ничего не знал об ее отце. Но хотя это было по-прежнему важно, боль ее немного поутихла, потому что Мадлен больше не была одинока. У нее была семья. Не та чинная, упорядоченная семья, в которой она родилась, но та, которую создала она сама – та, о которой она мечтала. Ее любовь, ее общение с Руди; ее дорогие друзья, Ной и Эстель, и Гастон Штрассер, Люссаки. Но Антуан был ее счастьем, самой сущностью ее жизни. Он понимал ее лучше, чем когда-либо кто-либо на свете, и песни, которые он писал для нее, трогали ее сердце своими чудесными мелодиями, их чувственным, неизбывным лиризмом.
Но его первая песня оставалась ее самой любимой. Когда Мадлен пела «Les Nuits lumineuses» во Флеретт, она чувствовала, что сливается с песней воедино, просто растворяясь в ее словах, его любви. Их ночи, те короткие, отгороженные от всего мира часы, проводимые вместе в их крохотной квартирке над рестораном, были напоены благословенным светом, и их дни – тоже, и когда Антуан слушал, как она поет его песню, он знал, что написал ее в порыве истинного вдохновения.
Десятого июня 1961 года, после того, как они узнали, что Мадлен ждет ребенка, они обвенчались в тиши, среди мирной красоты средневековой церкви Сен-Северин в Латинском квартале. Это была счастливая, веселая свадьба, на которую приехали родители Антуана и его сестра из Нормандии, и Руди из Цюриха.
– Не могу поверить, что ты здесь, – Мадлен потрясла головой в удивлении. Они пили шампанское перед лэнчем, – Грегуар Симон готовил его для них во Флеретт. – Стефан, наверное, рвет и мечет?
– Не могу сказать, что он доволен, – ответил Руди с кривой улыбкой, – хотя мама и Оми не особенно возражали. Думаю, они понимали, что это напрасная трата времени. Да и потом, хотя мама бы ни за что не призналась в этом перед Стефаном, я чувствовал, она рада, что кто-то от нас будет здесь.
– А может, это то, во что тебе хочется верить? Конечно, поначалу Мадлен было трудно увидеть в нем нечто большее, чем просто восемнадцатилетнего молодого человека, – он так был не похож на мальчика из ее детства, – когда он, не колеблясь, обнял ее в день их первой встречи тем утром и крепко пожал руку Антуана. И даже теперь, когда она была так счастлива, Мадлен неожиданно начинали одолевать сомнения. Она всегда была так уверена в себе, так убеждена в правильности своих ощущений, своей интуиции – разве могло случиться, что Руди так изменился? Ведь люди в конце концов не меняются коренным образом – разве что ее прежние представления о брате не были верными?
– Вы так похожи, – говорил Антуан, присоединяясь к ним, лицо его сияло улыбкой. – Вы запросто могли бы быть близнецами.
– Я всегда считала, что мы отличаемся друг от друга, как день и ночь, – мягко сказала Мадлен и снова стиснула руку Руди. – Кажется, я ошибалась.
– Ты была маленькой, – сказал легко Руди. – А я был еще меньше. Да и потом, в отличие от тебя, я всегда был трусливым ребенком.
– Я так не думаю, – Мадлен посмотрела в лицо, которое было так похоже на ее собственное, с болью понимая, что знает так мало о том, что за жизнь скрывалась за этими красивыми, правильными чертами. Она знала только одно – ее брат проявил великодушие и решимость, приехав сюда, в Париж. – У тебя были другие чувства, другие мысли. А я была убеждена, что ты должен разделять мои.
– А теперь, – вставил Антуан, – у нас есть еще один шанс.
– Слава Богу, – сказал Руди.
– Да, – Мадлен оперлась о плечо мужа. – Я не думала, что что-то может сделать меня еще счастливее, но это сделал ты, Руди.
– Я хотел спросить… – Руди колебался. – Я хотел спросить – может, ты приедешь навестить дом, как-нибудь?
– Никогда, – сказала она тихо, но твердо. – Я никогда туда не вернусь.
– Никогда – это слишком долго, chérie, – проговорил Антуан.
– А жизнь коротка, – сказала она тихо и грустно. – Но ничто на свете не может изменить мои чувства к ним. Тебе было только четыре года, когда папа покинул дом. Руди, ты просто не мог ничего понять. Но я их никогда не прощу.
Но потом выражение ее лица прояснилось.
– А сейчас я хочу забыть о них всех и думать только о тебе и о дне моей свадьбы. Ты уже видел чету Леви, Руди, а как тебе Люссаки?
У Мадлен начались боли 14 февраля 1962-го, в день святого Валентина, когда она с Антуаном гуляла в саду Тюильри. Кружился легкий снег, и Антуан захватил большой пакет с хлебными крошками, чтобы покормить птичек, и Мадлен, как всегда, с удовольствием смотрела на него, когда первый укол боли пронзил ее, вызвав пока лишь удивление.
– Qu'est-ce que tuas[87] – спрашивал ее Антуан, глаза его не отрывались от ее лица. – Схватки?
– Думаю, что да.
– Тогда пойдем скорее?
– Подожди, – улыбнулась она. – Пусть птички поедят.
Следующий приступ случился через пятнадцать минут, да такой сильный, что Мадлен слегка застонала от боли и шока. Антуан бросил оставшиеся крошки на землю и бросился к ней, подхватив ее под руку.
– Мы едем прямо в больницу, – сказал он, его лицо было напряженным от тревоги.
– Мне хотелось бы вернуться домой, чтоб захватить кое-какие вещи, – возразила Мадлен. – Уверена, есть еще много времени. Еще нескоро.
– Я сам принесу тебе вещи, потом, – с Антуаном было бесполезно спорить. – Ты можешь идти, chérie, или я тебя понесу?
– Конечно, могу, – она взглянула на него, и глаза ее сияли восторгом. – Он готов, Антуан, он идет к нам!
– Моя дочь, ты хочешь сказать.
Они играли в эту бесконечную игру всю ее беременность. Им было неважно, какого пола родится ребенок, они знали, что будут любить его. Дай Бог, чтобы был только сильным и здоровым.
Это продолжалось в больнице Сен-Винсент-де-Поль больше девяти часов, и почти все это время, вопреки желаниям акушерок и обслуживающего персонала, Антуан был рядом с ней, давая ей впиваться ногтями в его пальцы, вытирая пот с ее лба прохладной влажной салфеткой и шепча на ухо слова ободрения и успокоения. Но в момент рождения ребенка его не было, он вышел на минутку в туалетную комнату, а когда возвратился, то обнаружил, что его не пускают назад. И Антуан находился снаружи – до той минуты, когда все уже было позади.
– Сын, – сказал ему, улыбаясь, врач двадцатью минутами позже. – Отличный здоровый мальчик.
– А моя жена? С ней все в порядке?
Широкая улыбка одобрения расплылась на лице акушера.
– Мадам Боннар – просто образцовая пациентка, мсье. Сильная и храбрая. После небольшого отдыха она станет примерной матерью. – Он слегка поклонился. – Желаю вам долгой счастливой жизни. И нового прибавления семейства.
– Merci, Docteur, – Антуан обнял врача. – Спасибо от всего сердца.
Мадлен лежала, откинувшись на белоснежных подушках, ребенок на ее согнутой руке. Ее влажные золотистые волосы разметались, глаза прикрыты от усталости, но улыбка сияла.
– Прости меня, mon amour, – сказал Антуан, наклоняясь, чтобы поцеловать ее.
– За что?
– Они не дали мне войти – я не находил себе места.
– Если честно, – улыбнулась Мадлен, – я не уверена, что заметила бы тебя.
– Было так ужасно?
– Ужасно и чудесно – последние минуты я думала, что он разорвет меня на части, но я хотела этого, мне нужна была боль. Я говорила тебе, chéri, – это будет прекрасная боль.
Она взглянула на него вопросительно.
– Ты не хочешь подержать нашего сына?
– Сначала я хочу посмотреть на тебя.
Убедившись, что с ней все в порядке, Антуан переключил все свое внимание на ребенка. Разглядывая крошечное существо, закутанное в пеленки и мирно спавшее у груди его жены, он увидел маленькое личико, сморщенное, с розоватыми щечками и лобиком, с плотно сжатыми глазками, ресницами, темными, как и влажные волосы, крошечным, чуть посапывавшим носиком и нежными причмокивавшими губками.
Он молча протянул руки, и Мадлен, с встревоженной бережностью первого материнства, отдала ему ребенка.
– Поддерживай ему головку, chéri.
Какое-то время Антуан все молчал. Держа на руках их ребенка, он чувствовал, что делает что-то самое важное, самое правильное и естественное за всю свою жизнь. Малыш был таким легким, таким близким и знакомым, что Антуану захотелось развернуть его пеленки, чтобы хоть на мгновение прикоснуться к его тельцу, плоти от плоти его, дотронуться до его кожи, почувствовать его тепло, биение маленького сердечка.
И любовь волной затопила его, все его мысли, и когда Антуан снова закутал ребенка, малыш открыл глаза, такие же темно-голубые, как и у него самого, и неожиданно начал громко плакать.
– Bon Dieu,[88] – прошептал Антуан и обнаружил, что он тоже плачет.
– Ты думаешь, он проголодался? – спросила Мадлен.
– Уже?
– У него был долгий и трудный путь, – улыбнулась Мадлен, и Антуан положил малыша обратно ей в руки, где он мгновенно затих.
– Умный мальчик, – сказал Антуан, а потом, вспомнив, добавил:
– А его имя, chérie? У него должно быть имя.
Во время беременности они иногда говорили об этом, но в последние месяцы, боясь сглазить, вдруг перестали, решив дождаться вдохновения в нужный момент.
– У меня есть идея, – сказала Мадлен. – Если ты, конечно, согласен…
– Скажи мне скорей.
– Валентин, – сказала она мягко. – Немножко в честь святого Валентина, в честь любви. А еще – в честь моего дедушки – его grand amour,[89] Ирины Валентиновны.
Она замолчала, а потом спросила:
– Ты согласен?
– Это просто чудесно!
– Валентин Клод Александр Боннар, – Мадлен посмотрела на Антуана. – Так?
– Лучше не бывает, – сказал Антуан.
12
Год и день спустя, вечером, когда отметили первый день рождения Валентина, Антуан у столика посетителя открывал бутылку вина и вдруг уронил ее на пол. Он схватился правой рукой за голову, огляделся вокруг в замешательстве и внезапно нахлынувшем страхе, ища глазами Мадлен, и рухнул на пол без сознания.
Гастон Штрассер, игравший на рояле, мгновенно оказался около него, пощупал пульс.
– Немедленно вызовите скорую, – скомандовал он Жан-Полю. – Где Мадлен?
Ресторан замер. Жан-Поль молча уставился, не в силах двинуться с места от шока.
– Не стой, как столб, кретин! – Гастон, изо всех сил стараясь не впадать в панику, осторожно повернул Антуана на бок, смахивая в сторону осколки разбитой бутылки. Жан-Поль очнулся от оцепенения и помчался к телефону, а посетители стали в тревоге ерзать на своих стульях.
– Мадлен! – звал Гастон, нежно гладя Антуана по волосам.
– Она наверху, с ребенком, – ответил Грегуар низким испуганным голосом.
Гастон поднял свою бритую голову; вены на его висках бешено пульсировали.
– Мадлен! – взревел он.
Они сказали ей, что с Антуаном случился удар. Если он выживет в первые три недели, он поправится до определенной степени. Пострадало левое полушарие его мозга, и это вызвало поражение правой половины его тела. И это, возможно, повлияет на его речь и его способность понимать, что ему говорят.
Когда Мадлен впервые увидела его на больничной койке, неподвижного, в бессознательном состоянии, она подумала, несмотря на то, что ей только что говорили врачи и сиделки, что он умер. На кровати лежал мужчина – но это не был ее Антуан, который всегда был таким подвижным, деятельным, полным жизненной энергии. А этот человек казался частью больничной палаты, такой же безжизненный, как мебель или стены, его лицо и тело сливались с белым льном простыней и подушки.
– Он умер, – сказала она больничной сестре, стоявшей рядом с ней, и Мадлен показалось, что она тоже умерла.
– Нет, мадам.
– Он такой тихий. И отсутствующий.
Сестра осторожно и сочувственно коснулась ее руки.
– Погладьте его щеку. Возьмите за руку. Не бойтесь, не надо.
Но только через два дня после того, как к Антуану вернулось сознание, весь ужас случившегося обрушился на них со всей своей силой; не только полупаралич, от которого вся правая половина его тела стала слабой и вялой, не только пугающее поражение речи и то, что он не понимал, что ему говорили – это был еще и страх, беспомощная паника, которую чувствовали они оба. И пока это было единственное чувство, которое они могли разделить друг с другом.
Мадлен была в отчаянии, она была раздавлена и замкнута в кошмаре того, что обрушилось на их жизни, пожрало их радость. Они пытались ей объяснить.
– Удар, – они старались говорить просто, – случается, когда приток крови перестает поступать в мозг. А в случае с мсье Боннаром, мы думаем, это было вызвано кровотечением.
– Я не понимаю, – сказала Мадлен, едва слыша их слова.
– Мы думаем, мадам, что у вашего мужа была врожденная слабость стенок артерии, питающей мозг, и она лопнула, вызвав поражение этой области мозга.
Они говорили ей что-то еще и еще, но она едва ли понимала, что ей говорили. Она хотела знать только одну вещь – выживет ли Антуан? А когда ей показалось, что будет именно так, она ощутила прилив жадной надежды и не хотела знать больше ничего. Она хочет, чтоб с ним опять было все хорошо. Она хочет его прежнего.
– Он слишком молод для этого, – повторяла она с мукой в голосе. – Ему только тридцать три – он всегда был таким сильным и здоровым.
– Иногда такое случается, мадам.
– Да, – сказала она, но ее мозг все еще отказывался верить.
– Вы должны принять это, – сказал ей однажды днем врач твердо. – Я знаю, это трудно, но очень важно. – Вы и ваш муж должны перестать убеждать себя, что это был просто кошмарный сон, который скоро рассеется.
– Я это не могу принять, – в рассерженных глазах Мадлен была горечь и боль. – Мой муж опять станет прежним. Мы должны бороться. Уверена, вы не ждете от нас, что мы сдадимся?
– Конечно, нет, мадам. Просто примите все, как есть.
Сидя у кровати Антуана Мадлен начала разговаривать с ним почти непрестанно. Но если сначала, в первые дни после того, как он пришел в сознание, она говорила только, что любит, обожает его, что он совсем поправится, и все, чего он лишился, вернется к нему, то теперь Мадлен говорила все, что приходило ей в голову. Валентин так ужасно скучает по нему, говорила она, потому что, разве можно найти такого другого хорошего папочку? Папочка всегда был так бесконечно добр к малышу, менял пеленки, кормил, купал его и играл с ним всякий раз, как только мог. Во Флеретт все хорошо – они неплохо управляются без него, но разве может быть все по-прежнему, когда его нет – он так нужен, отчаянно нужен многим людям…
– Спать, – сказал Антуан своим новым, словно пьяным голосом.
– Сейчас, дорогой, – говорила Мадлен и продолжала говорить.
– Уходи, – говорил он, и она видела оголенную боль в его глазах и знала, что он считает ее жестокой в ее решимости и воодушевлении, что он хочет, чтоб она остановилась, но чутье подсказывало ей продолжать. Он так быстро выстроил стену болезни вокруг себя, скрывавшую его страх, что это стало напоминать поражение и приводило Мадлен просто в ужас.
Она спросила, можно ли ей привести с собой Валентина повидать отца, но они сказали, что дети не допускаются в. больницу. Мадлен по секрету шепнула Антуану, что хочет украдкой привести мальчика вопреки всем. На лице Антуана появился ужас, и он так расстроился, что потребовалось немало времени, чтобы успокоить его. Но она продолжала слушаться только своего внутреннего голоса и однажды утром, в самое напряженное время в больнице, когда все были так заняты, она накинула на себя самое просторное старое пальто Антуана, спрятала под ним Валентина, для которого это было восхитительной игрой, вошла в палату, задернула занавески и посадила пухлого годовалого мальчика на кровать мужа.
– Нет, – сказал Антуан. – Нет.
Он отвернулся от мальчика, на лице его была мука.
– Он настаивал, чтоб я взяла его с собой, – сказала мягко Мадлен. – Ему так нужно видеть тебя.
Антуан с трудом посмотрел глазами, полными слез.
– Ненавижу тебя, – сказал он очень отчетливо.
– Я знаю.
Валентин сидел очень тихо, смотря своими большими, озадаченными и любопытными глазами, и в какой-то момент Мадлен показалось, что он сейчас заплачет.
– Вот твой папочка, – сказала она нежно и взяла беспомощную руку Антуана в свою руку. И Валентин тоже протянул свою пухлую ручку и дотронулся до бедной правой руки отца.
– Папа, – сказал он и весь засиял. – Папа, – повторил он.
Слезы покатились по щекам Антуана. Мадлен, всхлипывая, убрала свою руку, взяла левую руку Антуана и прислонила ее к щечке ребенка.
– С этой рукой все в порядке, – сказала она тихо и спокойно. – Пользуйся ею, чтобы любить его. Пользуйся ею – и все остальное придет.
Антуан заметно пошел на поправку в следующие две недели, и они сказали, что для него вполне безопасно возвратиться домой. И он, Мадлен, Гастон и Грегуар пытались весело смеяться, когда поднимали его вверх на четвертый этаж в их квартирку. Он продолжал поправляться еще неделю, а потом вдруг его выздоровление прекратилось.
Мадлен была воодушевлена первыми успехами, она была просто в экстазе оттого, что ему позволили вернуться на рю Жакоб. Теперь она опять пала духом. Врачи объяснили им обоим, что быстрее всего выздоровление происходит в первые три недели, когда многие органы, находящиеся вне зоны поражения, спонтанно восстанавливаются. Но после этого процесс замедляется, хотя это совсем не означает, что они должны оставить надежду на дальнейшее улучшение состояния.
Просто теперь они должны бороться еще упорнее, чтобы добиться этих улучшений.
– Вам обоим повезло, мадам, – сказал врач, пришедший осмотреть Антуана. – Последствия для вашего мужа относительно минимальны. С вашей помощью и поддержкой, с его сильной волей, которой, я верю, он обладает, он будет в состоянии, по крайней мере, вставать с постели самостоятельно и опять ходить – на костылях.
Да, им повезло – к счастью, расстройства речи Антуана были уже минимальными, и хотя самые знакомые слова иногда вдруг неожиданно, к его отчаянью, ускользали из его памяти, они могли опять общаться почти нормально, и казалось, временная агрессия по отношению к Мадлен в больнице, исчезла. На их стороне была любовь и надежда, и сила молодости, и врачи говорили, что с их помощью они смогут добиться существенного выздоровления.
Мадлен знала, что была сильной – эмоционально и физически, и что нет у нее ни единой мысли, даже тайной, которая бы толкнула ее перестать любить и заботиться об Антуане. Но каждая проходящая неделя еще больше ранила ее исходящее болью сердце и изматывала ее и без того измученное тело. Когда Клод и Франсуаза Боннар, потрясенные увиденным, начали просить ее уговорить Антуана вернуться назад, домой в Нормандию, Мадлен сначала легко поддалась, но она знала, что это означает бросить Флеретт. Ресторан и Париж были миром Антуана, жизнью, которую он любил: если он сейчас откажется от всего этого, надежда может быть потеряна навсегда.
Их друзья изо всех сил помогали им. Эстель Леви приходила почти каждое утро и забирала Валентина на бульвар Осман поиграть вместе с ее двумя маленькими дочками. Ной заходил по крайней мере раз в день, за исключением только субботы, поговорить с Антуаном и помочь ему делать его упражнения. Но именно Гастон Штрассер просто спасал их, отправляясь по утрам на рынок за продуктами, когда не мог этого сделать Грегуар Симон, и управляясь днем и вечером с делами во Флеретт, не требуя в награду ничего, кроме оплаты расходов и хорошего обеда. На плечах Мадлен оставалась только работа с бумагами ресторана, и каждый вечер она пела.
Да, им повезло, думала она горько. Валентин был таким добрым мальчиком, с легким нравом и удивительно чувствующим и понимающим не по летам. Он был полон природной энергии. Но когда Мадлен положила на его щечку здоровую руку отца, он каким-то образом почувствовал, что ему нужно быть терпеливым и послушным. Крушение всех надежд и несчастье Антуана надрывали ей сердце. Теперь он еще реже жаловался, но ограничения его новой жизни сводили его с ума. Необходимость спускаться вниз, медленно скользя со ступеньки на ступеньку, а потом быть вывезенным в инвалидной коляске на свежий воздух – все это было болезненно и унизительно и часто жалеющие глаза незнакомых людей загоняли его назад наверх, где Антуан опять лежал на кровати, с закрытыми глазами, выжатый усилиями и своим несчастьем. И часто Мадлен, глядя на него, боялась, что он на грани нового удара.
Впервые за семь лет, прошедшие со времени ее отъезда из Цюриха, Мадлен стало не хватать чувства безопасности и защищенности. Она попыталась убедить Антуана просто поговорить о возможности вернуться домой в Нормандию и жить им вместе с его семьей. Но Антуан не хотел и слышать об этом. Пансионат был слишком маленьким, чтоб принять их всех на долгое время, не нарушив сложившегося уклада жизни Боннаров.
– Но твои родители были бы так рады видеть нас у себя, chéri, – сказала Мадлен.
Антуан покачал головой.
– Я всегда говорил, что, может, когда-нибудь, мы поедем помочь им. Это было бы естественно, это было бы правильно.
– А разве не правильно позволить им помочь тебе?
– Нет, – его лицо стало замкнутым. – Не для меня и не для них.
Он попытался немного смягчить свой тон.
– Все наладится со временем, mon amour. Постарайся так не волноваться.
Но каждый день был борьбой, и Мадлен не оставалось ничего другого – только наблюдать, как это изводит Антуана. Ему рекомендовали бросить курить и начать правильно питаться, но его пристрастие к сигаретам было слишком сильным, чтоб от него отмахнуться. В прошлом он курил ради удовольствия, но теперь сигареты вместе с аперитивом и вином, которые он пил слишком много, стали для него такими же подпорками, как костыли, которыми он начал пользоваться.
В конце августа Константин Зелеев приехал в Париж повидать Мадлен, и отдал ей письмо, посланное на его постоянный адрес Александром.
– Слава Богу! – воскликнула она, почти вырывая письмо из его рук. – С ним все в порядке? Что он пишет?
– Не так уж много. Лучше прочти его.
Письмо было послано в июне из Амстердама. Оно было грустным, в нем сквозило одиночество и чувство вины, и Мадлен ощутила в нем тоску отца и его желание узнать, что у нее все хорошо, что она счастлива. Но он так и не дал своего адреса.
– Ну почему он не говорит, где он? – спросила в отчаяньи Мадлен. – Он же знает, что может мне доверять – он знает, что вы скажете только мне, и что оба мы никогда не предадим его.
– По-моему, он очень встревожен, – сказал Зелеев. – Мы же не знаем, что с ним происходит, что он делает, ma chère, и как ему удается выжить и какие люди его окружают.
– Вы думаете, он боится?
– Может быть. Мадлен покачала головой.
– Если б не мое несчастье, может, я бы поехала в Амстердам, стала искать его и не сдалась бы до тех пор, пока не нашла б его, но это – невозможно. Господи, ну почему все так!
Зеленые глаза Зелеева были полны сочувствия.
– Мне так жаль, ma petite, у меня просто нет слов, чтоб сказать, что я чувствую. Мне казалось, что ты так счастлива, так переполнена радостью жизни. Я не был уверен, что Антуан тот человек, который нужен тебе, но твои письма убедили меня, что он именно такой.
– И он по-прежнему именно тот человек, Константин.
– Да, конечно.
Зелеев был потрясен, увидев измученную Мадлен и жалкое состояние ее мужа. Он со всей ясностью вспомнил те прежние дни, в Давосе, когда он заронил мечты о Париже в золотоволосую головку девочки, которая жила если не среди любви, то по крайней мере в комфорте и безопасности, и груз ответственности всей тяжестью обрушился на него. Он слушал, как она пела в ресторане, видел увлажнявшиеся глаза посетителей – личное горе Мадлен выливалось в ее песню и сделало ее голос таким выразительным. Он глядел, как она устало поднималась наверх к своему мужу и их маленькому сыну, и с горечью думал о том, как эта жизнь, полная боли, отличается от той, которую он нарисовал ей когда-то.
Как только он услышал о болезни Антуана, он стал наводить справки в Нью-Йорке и узнал, что здесь можно пройти особый курс лечения с использованием кислородной барокамеры, лечение, говорят, приносит хорошие результаты.
– Может, они смогут помочь Антуану, – предложил он Мадлен.
– Если б мы были там – возможно.
– А почему бы вам не поехать туда?
– А почему бы нам не полететь на Луну? – ответила она с грустной улыбкой.
– Неужели это и впрямь так абсурдно, ma chère? Я ведь летаю туда-сюда, правда? Если дело только в деньгах, я могу помочь.
– Я не могу вам этого позволить.
– Но почему?
– И дело не только в деньгах. Антуан даже и слышать не хочет о том, чтоб поехать к его семье в Нормандию – разве он согласится покинуть Францию, уехать из Европы?
Но Зелеев был не из тех, кто так просто сдается. Когда-то давно он нарисовал ей радужную и волнующую картину Парижа; теперь он точно так же, почти бессознательно, манил ее в Нью-Йорк. Это – настоящий город чудес, говорил он Мадлен, город самых поразительных контрастов; замечательной красоты, которая от начала до конца была творением рук человеческих – и такого же почти завораживающего уродства, словно созданного для того, чтоб уравновесить эту красоту. Эдакий гигантский симбиоз. Нет такой вещи на свете, которую нельзя было б найти в Манхэттене; здесь можно встретить любой из бесчисленных типов людей: людей выдающейся культуры – и филистеров, богобоязненных мужчин и женщин – и отъявленных негодяев, баснословных миллионеров и едва перебивающихся с хлеба на воду нищих.
– Это обитатели ночлежек – они ничем не отличаются от клошаров Парижа, – Зелеев смотрел на Мадлен. – Там есть огромный парк – в самой гуще зданий из стекла и бетона, сотни акров душистых лугов, густых тенистых деревьев и чистых озер, и площадок для игр. Я где-то прочел, что в Нью-Йорке больше тысячи парков, хотя сам я был всего в двух – но это очень человечное место, Мадлен, и самый восхитительный город на свете.
Зелеев уже больше сорока лет был оторван от России, но не утратил тяги к лиризму и трепетности. Его зажигательный энтузиазм застал Мадлен врасплох, словно маленькую девочку, его обаяние и тут сделало свое дело. Зелеев заметил это с удовольствием и стал еще больше настаивать.
– Ты должна подумать о том, чтоб поехать туда, ma chérie. Ну хорошо, пусть это будет не навсегда… Но хотя бы на время – ради Антуана, ради его здоровья. В конце концов, ради вашего будущего. Я позабочусь обо всем. Я найду уютное, хорошее местечко, где вы будете жить, пока он будет проходить курс лечения. А потом вы сами решите, что делать дальше… вы сможете вернуться в Париж, если захотите.
Он помолчал.
– Хотя, может, ты и не захочешь уезжать. Ведь Манхэттен – царство музыки. Ты уже попробовала себя как певица… в Нью-Йорке они будут тебя обожать. А если уж они будут носить тебя на руках, Мадлен, то… о-о! Так, как нигде, в этом мире…
– Остановитесь, Константин, это невозможно.
– Нет ничего невозможного, ma petite, – глаза его сверкали. – И если ты чувствуешь себя свободной в Париже, ты почувствуешь себя в тысячу раз свободнее в Америке.
Она грустно улыбнулась, с тоской и сожалением.
– Все это звучит чудесно.
– Скажи только слово – и я все устрою.
– Я не могу.
– Тогда по крайней мере подумай над этим. Мадлен пожала плечами.
Искушение было очень сильным – она понимала, что их лучшие времена в Париже уже миновали и могут больше не вернуться вообще. И все же она по-прежнему боялась, что, увезя Антуана из его привычной обстановки, от того, что он хорошо знал и любил, она может подвергнуть его еще большей опасности. Пока рядом были их дорогие друзья, помогали, заботились о них, пока занимались делами ресторана и держали его на плаву даже в эти худшие месяцы, она все еще верила, и. в сердце ее было местечко для надежды.
Но потом, вдруг, без предупреждения, владелец Флеретт, Жан-Мишель Барбье приехал в Париж из Прованса, и случилось непредвиденное и ужасное. Никто не уведомил его о состоянии Антуана. А еще, он и понятия не имел о том, что без его личного одобрения в его отсутствие делами ресторана заправляет Гастон в качестве менеджера. Барбье сразу же сильно невзлюбил Штрассера. Хотя Барбье и сочувствовал несчастью Антуана, но все же решил, что для него, как для владельца Флеретт, будет лучшим выходом предупредить их, чтоб они освободили квартиру в течение месяца – он собрался нанять нового менеджера. Мадлен умоляла его не делать этого, и Ной несколько раз приходил, чтобы взывать к его лучшим чувствам. Гастон Штрассер же, презиравший хозяина ресторана, в порыве негодования сначала оскорбил его, а потом заехал кулаком ему в нос. И если Барбье раньше был полон решимости, то теперь он стал просто непреклонен.
И тогда Эстель Леви написала Руди, умоляя его безотлагательно приехать в Париж. Она встретила его на Лионском вокзале и отвезла в квартирку на рю Жакоб, чтоб Руди сам, своими глазами мог увидеть случившееся с семьей его сестры.
– Если честно, я немного удивлена, – говорила ему Эстель по пути с вокзала, – что вы не приехали раньше.
– Если б я только знал… – тихо ответил Руди. – Если б я только знал, что дела так плохи – я давно был бы здесь.
– Разве Мадлен не написала вам об Антуане?
– Да, она писала немножко. Но с ее слов можно было подумать, что ничего страшного не произошло. Что болезнь Антуана чуть похуже, чем грипп. – Он покачал головой. – Думаю, она боялась, что я случайно проговорюсь отчиму или матери.
– Она очень гордая.
– И упрямая.
Руди не терял времени даром. Ясно одно, сказал он сестре, уведя ее из комнаты больного, вниз, в ресторан, она должна поехать вместе с ним в Цюрих за теми деньгами, которые принадлежат ей по праву. Тогда она сможет отвезти на них Антуана в Америку или остаться во Франции.
– Об этом не может быть и речи, – сказала Мадлен. – Ты же знаешь, я никогда не попрошу у них помощи.
Руди посмотрел на Эстель.
– Вы можете подменить мою сестру, пока я свожу ее куда-нибудь на лэнч?
– Но мы можем поесть здесь.
– Пойдем, Магги, – сказал он. – Нам нужно кое о чем поговорить.
– Но ведь можно и здесь, – возразила Мадлен.
– Тебе не помешает прогуляться, правда? – заметила Эстель.
Он увел ее из Сен-Жермена, подальше от Левого берега, в уютное кафе. Руди заказал обоим телячью печенку, обжаренную с луком. Какое-то время они молчали, а когда Мадлен вопросительно посмотрела на него, Руди сказал – ей потребуются все ее силы.
– Ты стала похожа просто на щепку.
– Ну, спасибо!
– Конечно, на прелестную щепку, но с таким измученным лицом, что мне больно смотреть.
– Не переживай из-за меня, – сказала Мадлен, тронутая его вниманием. – Да, наступили тяжелые времена, но мы все преодолеем.
– Но, Магги, ты ведь не станешь возражать, если я скажу – легче преодолеть, имея деньги.
Она вздохнула.
– Конечно, ты прав… но это ничего не меняет. Пожалуйста, не заставляй меня спорить с тобой, Руди – я не дотронусь до денег Грюндлей, и уж конечно, никогда не попрошу куска хлеба у Стефана Джулиуса.
– А я и не прошу тебя об этом.
– Тогда что же? – вздохнула она. – Ты пытаешься одолжить мне денег?
– Нет, – сказал Руди. – Ведь мои деньги, конечно, из того же источника, и поэтому я даже и не буду пытаться тебя уговорить.
Официант налил немного вина в бокал Руди. Он отпил немного и одобрил.
– Чудесное, – сказал он Мадлен. – Выпей тоже немножко.
– Чуть попозже.
– Сейчас.
– Ты изменился, – сказала она чуть сухо.
– Мне нужно тебе кое-что сказать – о нашем дедушке… – Руди отломил маленький кусочек хлеба и жевал его какое-то время. Наконец он заговорил.
– Две недели назад я случайно слышал разговор мамы с Оми. Они были в гостиной Оми. Дверь была приоткрыта. Они не знали, что я дома.
– Продолжай.
– Они обсуждали письмо, оставленное Амадеусом. Он хотел, чтобы все его имущество перешло к тебе. Дом, все его содержимое – и скульптура, о которой ты говорила тогда, когда уходила из дома. Eternité.
Он помолчал.
– Но самое важное – из того, что я услышал, Магги, – он наклонился к ней через столик и заговорил тихо, – это то, что наш отчим уничтожил это письмо.
– Но зачем ему это понадобилось? Я уверена, адвокат, герр Вальтер… Он ведь, наверно, производил опись имущества в доме и нашел его…
– Если это было просто письмо, а не официально оформленное завещание, он мог отдать его нераспечатанным. Ему платит Стефан, и похоже, адвокат не очень расположен вмешиваться в семейные дела.
Мадлен задумалась.
– Значит, имущество Опи перейдет к нашему отцу – но они, вроде, заставили его отказаться от прав наследования собственности дедушки. – Она колебалась. – Значит ли это, что оно перейдет к нашей матери – или к нам двоим?
Руди пожал плечами.
– У меня нет определенной идеи – но это ничего. Я просто подумал – продав дом, ты можешь немедленно получить необходимые деньги, Магги. А что касается этой таинственной скульптуры…
– Ее там нет, – тихо и спокойно сказала Мадлен.
– Но тогда где же она?
Мадлен взглянула в лицо брату и почувствовала облегчение – она поняла, что может ему доверять. Слава Богу, это и в самом деле был ее брат.
– Наш отец забрал ее, – ответила она. – Лишь трое – кроме самого Опи – знали, где была спрятана скульптура: папа, я и Константин.
– Русский?
– Опи никогда не создал бы ее без него. Они жили вместе пять лет. Они вложили в нее все, Руди, всю свою душу – ради Ирины, потому что оба они так любили ее.
– А эти драгоценности… ты думаешь, они настоящие?
– Константин говорил, что эта скульптура просто не имеет цены, – она ответила мягко. – Одни только камни стоят целое состояние. А еще вся она сделана из цельного белого золота, и Константин вложил в нее весь свой талант, все свое искусство и то, чему научился у отца, который тоже работал на Дом Фаберже.
Она покачала головой.
– Она была просто необыкновенной, уникальной, хотя Опи никогда не думал о ее денежной цене.
– И он хотел отдать ее тебе.
– Уверена, папа надежно сохранит ее для меня.
– Да? – бережно спросил Руди.
– Как ты можешь сомневаться? Кому же мне еще доверять? – Мадлен бросила ему вызов, мягкий, но все же вызов. – Человеку, который любит меня без оглядки, или мужчине, настолько ничтожному и подлому, что он мог наплевать на последнюю волю моего дедушки?
Она остановилась, чтоб перевести дух.
– Не говоря уже о моей матери, которая позволила ему сделать это.
– Она чувствует себя виноватой… и голос у Оми был грустный. Они говорили недолго, но мне стало ясно – они не одобряют его.
– Но ведь они не остановили Стефана.
– Нет, – Руди посмотрел ей прямо в глаза. – И именно поэтому я говорю тебе – ты должна поехать в Цюрих.
– Я не хочу унижаться.
– Нет, не обвинять их, не клясть – я знаю, ты этого не сделаешь. Но Стефан просто обокрал тебя, Магги, и у тебя есть нечто большее, чем просто моральное право требовать финансовой помощи.
Пока они ели, Руди расспрашивал ее о состоянии Антуана, о лечении, которое предлагал ей Зелеев, о тех возможностях, которые откроются перед ней, если она последует его совету.
– У меня нет выбора, да? – спросила она устало, когда они шли назад по площади Оперы. – От одной только этой мысли мне становится плохо… но если я не возьму то, что мне принадлежит, я не смогу помочь своей семье…
– Я буду с тобой, – Руди взял ее руку, слегка пожал ее. – Сколько тебе нужно времени, чтоб собраться?
– Нисколько. Мы можем поехать завтра утром. Если я замешкаюсь, то не смогу этого сделать никогда.
Начал накрапывать дождик, и все такси, обычно выстраивавшиеся около Гранд Отеля, разъехались, но Мадлен не обращала внимания на погоду.
– Я возьму с собой Валентина. Но не хочу останавливаться дома – мы поселимся в гостинице.
– Конечно. Я понимаю.
– Самой обычной, недалеко от вокзала, и только на одну ночь. О, Господи! – она почувствовала, как внутри нее начинает разгораться паника, и крепко сжала руку брата. – Я поклялась, что никогда не вернусь туда.
– Но ты ведь не возвращаешься, Магги, дорогая.
– Я еду назад, чтоб пресмыкаться.
– Не нужно таких слов, – голос Руди стал неожиданно чуть резким. – Ты неспособна пресмыкаться, и даже не смей так думать. Это просто деловой шаг, и ни больше, ни меньше. Они много должны тебе, Магги, и они это знают – и мы тоже знаем. Ты только берешь частицу того, что принадлежит тебе по праву. Только то, что всегда было твоим.
Во время путешествия, плавно скользя среди прелестного пейзажа, двигаясь по старой, знакомой земле, Мадлен пыталась расслабиться, но это ей не удалось – ее пальцы напряженно впились в руку, а голова раскалывалась от боли. Ее мучили сомнения – права ли она, оставив одного Антуана даже на день, взяв с собой Валентина в качестве эмоционального оружия? Но хуже всего было то, что ей придется просить Стефана Джулиуса – неважно о чем.
Руди повез их прямо в отель Централь, недалеко от вокзала, нехотя согласившись с ее отказом поселиться в пятизвездочном отеле, который он выбрал для них.
– Нас ожидают к трем часам, – сказал он ей. – Может, оставить тебя ненадолго? Ты отдохнешь, что-нибудь съешь в своей комнате – я могу найти приходящую няню для Валентина. Хочешь?
– Нет, – Мадлен так крепко прижимала к себе сына, что он издал слабый писк протеста. Он так замечательно вел себя во время поездки, изредка забираясь на колени к Мадлен и своему дядюшке, глядя завороженно в окно или на людей в вагоне. А последний час он просто спал.
– Я возьму его с собой.
– Да? – Руди слегка удивился. Он ожидал, что Мадлен не захочет, чтоб ее сын переступал порог Дома Грюндли. Он чувствовал – его сестре кажется, что воздух там был неподходящим для невинного ребенка.
– Я подумала обо всем, как ты мне и предлагал. Это деловая встреча. Конечно, для них я неблагодарная беглянка, строптивый ребенок. Но с Валентином я мать их внука, правнука Оми, – глаза ее заблестели. – Пусть они увидят то, чего у них никогда не будет.
Все это было напряженно, неприятно и даже скорбно. Мадлен показалось, что она заметила отблеск удовольствия в глазах Хильдегард, когда бабушка впервые увидела Валентина, и холодные руки Эмили слегка задрожали, когда они коротко приветствовали друг друга. Но ледяное отношение отчима сделало совсем слабыми эти и без того хрупкие связующие ниточки.
– Насколько я знаю от Руди, ты здесь потому, что тебе что-то нужно от нас. Чего ты хочешь, Магдален?
Мадлен собрала все свое мужество. Она напомнила себе, что она уже взрослая, усилием воли отбросила все болезненные старые воспоминания, которые могли сделать ее слабой и уязвимой.
– Деньги, – сказала она отчетливо. – Мне нужны деньги.
Она говорила прямо, честно и искренне. Мадлен делала упор на том, что случилось с ее мужем, подчеркивая свою растущую надежду на успех курса лечения, который, как ей сказали, можно пройти в Америке.
– Дела обстоят у нас так, что мы не можем поехать в Америку. И вы не можете не понимать – я просто не могу позволить, чтоб что-то стояло на пути выздоровления Антуана. Именно поэтому мы здесь.
Руди встал на ее сторону.
– Я сказал Магги – я знаю, вы позаботитесь о том, чтоб у нее было все, в чем она нуждается.
– Любопытно. Что же дает тебе такую уверенность? – спросил Джулиус.
– Ее права, – ответил Руди.
– А разве твоя сестра сама не отказалась от них, когда сбежала из дома?
Руди посмотрел отчиму прямо в глаза.
– Мы не говорим о твоих деньгах, – сказал он спокойно, но твердо. – И речь идет вовсе не о состоянии Грюндлей. Мы говорим о ее собственных правах.
– А что, у нее они есть?
– Я думаю, вы знаете, что я имею в виду.
Холодок повеял между старшим и младшим. Джулиус взглянул с открытой неприязнью. Мадлен понимала – она присутствует при молчаливом окончательном крахе отношений Руди и отчима. Совершенно очевидно, эти отношения стали давать серьезную трещину после того, как Руди поехал на ее свадьбу два года назад.
– Стефан, – впервые заговорила Хильдегард. – Я хотела бы сделать предложение. Ты не возражаешь?
– Конечно, нет. – Джулиус резко отвернулся от Руди.
Хильдегард мало изменилась. Она казалась старой женщиной всегда, сколько помнила ее Магги, старой, но красивой. Ее парадный строгий вид редко смягчался улыбкой. Но когда она давала немножко воли чувствам, она была способна на настоящую теплоту.
– А ты думала, Магдален, о том, чтоб привезти своего мужа и сына домой?
– Домой?
– В свою родную страну. В Цюрих.
– В этот дом, вы имеете в виду? – тон Мадлен был холодным.
– Естественно, – Хильдегард помедлила. – Я знаю, до настоящего момента вы жили в крошечной квартире, почти на верхнем этаже, без лифта. В Нью-Йорке может быть еще труднее. Насколько я знаю, там еще сложнее найти более или менее сносные условия для жилья, чем в Париже. Так что, как ты смотришь на мое предложение?
– Об этом не может быть и речи, – спокойно и вежливо ответила Мадлен.
– В этом доме, – продолжала Хильдегард, – у твоего мужа будет спальня, сделанная специально для него, для его особых нужд. Она может быть на первом этаже, с выходом в сад.
Эмили, бледная, молчавшая до сих пор, добавила:
– Его можно будет показать лучшим врачам, Магги. Может, будет правильно… ты поступишь мудро, если привезешь его сюда хотя бы ненадолго. Стоит проконсультироваться со специалистами перед тем, как отправляться за тридевять земель… в погоне за так называемым лечением, которое может оказаться ничем иным, как благими намерениями.
– Может, это и было бы мудро, – ответила Мадлен, и что-то неожиданное, похожее на благодарность, к ее удивлению, шевельнулось в ее душе. Она подняла голову и встретилась глазами с матерью. – Но это невозможно. Вы должны это понимать.
Валентин, сидевший на скамеечке рядом с ней, начал вдруг ерзать. Руди быстро взял его на руки и начал вполголоса напевать ему что-то на ушко, и ребенок, всегда охотно отвечавший на любовь и ласку, тихонько засмеялся и вцепился в белокурые волосы своего дядюшки.
– Но, может, ты все же подумаешь над этим, Магдален? – спросила мягко, но настойчиво Хильдегард.
– Ты уверена, Магги? – спросила Эмили, отводя глаза от лица Стефана. – Разве это не безумие – выбирать трудности, когда можно выбрать комфорт и безопасность?
Она помолчала.
– И разве ради своего мужа ты не обязана хотя бы просто посоветоваться с ним?
В комнате повисло молчание.
– Я поговорю с Антуаном, – сказала Мадлен, а потом опять собрала всю свою решимость. – Но сегодня я приехала сюда за деньгами.
– Сколько? – внезапный голос Стефана, жесткий и неприязненный погасил искорку человечности, которая ненадолго смягчила атмосферу. – Каков счет за твою последнюю выходку?
Получив от Джулиуса чек на пятьдесят тысяч швейцарских франков и положив его в сейф в отеле, Мадлен ужинала в тот вечер вместе с Руди в прелестном маленьком ресторанчике. Она не захотела оставить Валентина с приходящей няней, и Руди отвез их обоих в это местечко. Владельцами его были двое молодых людей, его друзья, и Мадлен могла быть уверена, что на ребенка здесь никто не будет смотреть хмуро.
– Как ты себя чувствуешь? – спросил ее Руди, когда нашелся высокий стульчик для Валентина, и они сделали заказ.
– Просто выжата.
– Но ты довольна, что приехала?
– Да, – она взглянула на него. – Знаешь, если б не ты – этого бы никогда не произошло, правда?
– Кто знает…
– Нет, тут даже нечего сомневаться… – Она помолчала. – Ты сделал для меня гораздо больше, чем я заслужила.
– Чепуха. Я – твой брат.
– А разве я была тебе сестрой?
– Обстоятельства, – отмахнулся Руди. – И я знаю теперь, Магги, ты бы сделала то же самое для меня.
Он погладил пухлую ручку Валентина.
– Ты спросишь Антуана?
Мадлен кивнула.
– Но ты не веришь, что он согласится приехать в Цюрих, – его голос был грустным и сожалеющим. – Знаешь, Магги, я не могу не хотеть этого… хотя, наверно, это и эгоистично. Но я был бы так рад, если б ты опять вернулась домой.
– Но здесь я никогда не была по-настоящему дома, Руди.
– Я знаю, – согласился он грустно.
– Если мы только согласимся, – сказала Мадлен, и от одной только мысли ей уже стало дурно, – конечно, у Антуана будет весь мыслимый комфорт и уход. Да, он сможет спокойно отдыхать в саду, зная, что его жене не приходится целыми днями работать. Но цена будет слишком высокой, Руди. Мы с Антуаном потеряем свое «я» и нашу свободу. Но что еще хуже, они отнимут у нас нашего сына. Его просто проглотит их мир.
Она слабо улыбнулась, глядя на мальчика.
– Этот чек все меняет, Руди, что бы там ни произошло. И несмотря ни на что, я им благодарна за это.
– Это их долг, Мадлен.
– Но здесь даже больше, чем я хотела взять.
– Но они твои – по праву.
– Они так не думают.
– Потому что мы не поймали их за руку, – заметил Руди.
– Может, это и к лучшему. Если б мы это сделали, Руди, вообрази, к чему бы это привело? Стефан никогда не простил бы тебе… а я не хочу быть причиной вашего раздора. Ты и так для него уже полное разочарование, хотя, может, мне и не следует так говорить. Она запнулась. – Как ты думаешь, он простит тебя?
– Если честно, – сказал Руди, – мне все равно. Поединок с семьей совсем измотал Мадлен. Но вкусная еда, располагающая атмосфера ресторана, теплое сочувствие брата – все это вызвало у нее приступ такого аппетита, что Мадлен изумилась. И к тому времени, когда она устало упала на мягкую удобную кровать, она уже не раз подумала – как было бы глупо не поехать сюда.
Она почти с точностью предугадала ответ Антуана. Если уж он не хотел обременять любящую его семью в Нормандии, то разве мог он согласиться получать ежедневную помощь людей, от которых его жена убежала еще подростком? Одна мысль об этом была для него совершенно невыносимой. Он знал, как уютно, как легко может быть в Доме Грюндли. А что касается медицинской помощи, то в Нью-Йорке нет ничего такого, что было бы недоступно в Швейцарии – что бы там ни говорил Зелеев. Но Антуан также знал, что Мадлен будет глубоко несчастна в этом пропитанном горечью доме, и именно ее унизительное положение будет для него самой тяжелой вещью на свете.
– Раз мы потеряли Флеретт, – говорил он ей, – мы потеряли наш Париж. Значит, нам нужно воспользоваться шансом, который сам плывет нам в руки, и двинуться дальше.
Он улыбнулся ей ободряющей улыбкой.
– По крайней мере, Америка – это приключение, – подмигнул он нерешительно смотревшей на него Мадлен. Первые искорки оптимизма проскользнули в его голосе. – Уж лучше это, чем самая роскошная тюрьма.
Константин Зелеев был прав, думала Магги, когда пророчествовал, что она найдет счастье в Париже. Русский был замечательным другом дедушке. И он был единственным человеком во всем мире, через которого шла ниточка ее связи с отцом. Он был ее союзником – с тех пор, как ей исполнилось четырнадцать лет, и хотя она так редко видела Зелеева, она верила ему безраздельно. Она могла доверить ему все.
Даже жизнь своего мужа.
Они улетели в Нью-Йорк в третью неделю февраля 1964-го, сразу после второго дня рождения Валентина. До того два месяца провели вместе с Леви, Эстель и Хекси в квартире на бульваре Осман – в той самой, где восемь лет назад Мадлен начала свою жизнь в Париже.
Они вылетели дневным рейсом из аэропорта Орли, перелет оказался отнюдь не коротким – семь беспокойных утомительных часов. Боинг-707 был заполнен до отказа. У пассажира, сидящего позади них, оказалась аллергия на табачный дым. Насильственный отказ от стойкой привычки, да еще и неудобное самолетное кресло довели Антуана просто до исступленного состояния, и его стресс передался Валентину – мальчик плакал и кричал всю дорогу, что было на него совсем непохоже. Мадлен пыталась убаюкать малыша и успокоить мужа, хотя сама была просто на взводе. Все время полета она не сомкнула глаз, глядя на них, как оберегающая свое семейство львица. Ей даже стало казаться, что она просто сейчас поседеет раньше времени, прежде чем самолет принесет ее сквозь облака в неизвестное. В чужой незнакомый город.
Зелеев уже ждал их в международном аэропорту Кеннеди с инвалидной коляской и длинным просторным черным лимузином, и Мадлен нашла наконец облегчение и успокоение в его сильных объятьях. Но скоро ее настигло молчаливое разочарование, близкое к настоящей депрессии. Они неслись по скоростной дороге Лонг Айленд к городу. Все было таким уродливым, думала Мадлен – даже эта дорога. А эти странные маленькие домики! Они выглядели так, словно по ним просто шмякнули молотком и забили в них пару десятков гвоздей. Ей казалось – они были сделаны безо всякой любви и грации, словно только для того, чтоб дать их обитателям крышу над головой. И даже когда через двадцать минут лимузин взлетел на небольшой мост, и знаменитые небоскребы Манхэттена словно взорвались перед их глазами буйством солнечного света, пылавшего в окнах, и Мадлен почувствовала прилив неподдельного восторга и возбуждения, на лице Антуана она увидела такую скорбную потерянность, что ей понадобилась вся ее воля, чтоб не сказать шоферу повернуть назад в аэропорт.
Зелеев забронировал для них номер в Эссекс Хаус, сорокаэтажном отеле на Сентрал Парк Саус, где их сразу же провели в их комнату, просторную, с видом на парк, огромной кроватью, хорошенькой кроваткой для Валентина и небольшой кухней.
– Константин, это совершенно излишне, – сказала она, глядя на категорию номера, помеченную на двери. – Честно говоря, я думала, что мы едем в небольшую квартирку.
– Это – мой вам подарок, – спокойно сказал ей Зелеев. – После того, что вам пришлось вынести, вы заслужили немного комфорта.
– Об этом не может быть и речи, – вмешавшись, твердо сказал Антуан. – Вы очень добры, но мы просто не можем принять.
– Серьезно? Ну так вот что я вам отвечу – вы не можете отказаться, не обидев меня. И очень сильно обидев, – он поглаживал свои усы, по-прежнему ярко-рыжие и ухоженные. – Всего на три ночи, mon ami. Он сделал паузу.
– Если вы не хотите сделать это ради себя, то хотя бы ради жены – ведь ей приходилось так много работать.
– Не знаю… – Антуан вспыхнул краской замешательства.
– Просто отдохните, – предложил Зелеев. – И подумайте об этом позже. Не сейчас.
– Разве здесь не чудесно? – воскликнула Мадлен, когда он ушел. Она прилегла на кровать и смотрела, как Валентин с удовольствием ползал по мягкому ковру, его маленькое личико светилось любопытством. – А вид! Какой отсюда вид!
– Тихая комнатка, – сказал неопределенно Антуан. – А где мои костыли?
Мадлен быстро встала с кровати и протянула ему костыли.
– Куда ты хочешь идти? Могу я помочь тебе, chéri?
– Я просто хочу пойти в туалет – разве нельзя? Он выбрался из своего кресла и направился к ванной комнате.
– Если твой друг вообще принимал меня в расчет, он должен был понять – мне придется привыкать к двум новым местам вместо одного.
За ним захлопнулась дверь, и жаркие слезы брызнули из глаз Мадлен, и словно в ответ, Валентин зашелся плачем. Она подхватила его на руки и прижала к себе, чувствуя, как его маленькая грудка сотрясается при каждом рыдании. Мадлен вдруг стало совсем тоскливо. Если б она могла также свободно излить всю тяжесть, скопившуюся у нее на сердце!
Дверь снова открылась. Антуан стоял в полосе света за его спиной, и смотрел на них.
– Прости меня, – проговорил он.
– Мне нечего тебе прощать, – Мадлен быстро стерла слезы со своих щек, а потом со щечек ребенка. – Я знаю, как тебе тяжело.
Она помолчала.
– Может, я не могу знать до конца – но я чувствую, что твоя боль – это моя боль.
– Я знаю. Но было бы лучше, если б это было не так.
Он опустился на кровать и лег, вздохнув с облегчением.
– Немного крепковат, – сказал он, ощущая под собой матрац. – Но совсем неплохо.
– А какой большой! Он кивнул.
– Отличная кровать.
Мадлен, все еще держа на руках Валентина, присела рядом с мужем.
– Ты хочешь, чтоб мы уехали отсюда, chéri?
– Конечно, нет, – он криво улыбнулся. – Я был так груб. Все эти дни я просто чудовище. Твой друг хотел только сделать как лучше – я извинюсь перед ним.
– Он понимает, я уверена.
– Но я все равно извинюсь.
Зелеев позвонил из холла два часа спустя.
– Я подумал, не помешает хорошая легкая прогулка, перед закатом. Если сейчас долго отдыхать, разница во времени не даст вам уснуть всю ночь.
– Я даже и не знаю… – проговорила в замешательстве Мадлен.
Зелеев понял.
– Чем раньше Антуан выберется в город, тем лучше для него. Какой смысл менять одну тюрьму на другую, chérie?
– Вы правы.
– Как всегда, mon ami.
Антуан немного поворчал, но потом сдался и позволил Мадлен вывезти себя в инвалидной коляске в лифт, потому что слишком устал, чтоб ходить на костылях. Да и потом она была такой удобной и легкой в обращении после той, к которой он привык в Париже; Валентин сидел у нега на коленях и улыбался ему. Швейцар приподнял фуражку и пожелал им приятной прогулки. И погода была такой восхитительно ясной, несмотря на холод. И хотя они знали, что находятся в Новом Свете, в чужом городе, было что-то такое в Центральном парке, что напоминало им немного о Париже. Тротуары были таким широкими, а дорога по краю парка – такой гладкой, и мягко ложилась под колеса, и пешеходы казались такими безразличными к проносившимся мимо машинам и спешили вперед – одни целеустремленно, а другие задумчиво и безмятежно.
– Ну-ка, посмотри на лошадок, – сказал Антуан Валентину, показывая на прелестные экипажи, стоически поджидавшие туристов, которые никак не хотели появляться. – Может, мы как-нибудь на них покатаемся, chéri.
Зелеев посмотрел на Мадлен.
– Помнишь нашу поездку на санях в Давосе – целую жизнь тому назад?
– Только десять лет, – сказала Мадлен.
Они углублялись, медленно, безмятежно, в парк, проходя под высокими, густыми деревьями с влажными, без листьев ветвями, смотрели на стайки семенивших вразвалку голубей, клевавших что-то в грязи; пара белок мелькнула рыжими хвостами у них над головой.
– Тут недалеко есть очаровательный пруд, – сказал Зелеев. – Может, мы отдохнем там немного? Валентин посмотрит на уток и лебедей. А потом перед тем, как мы вернемся, вы можете взглянуть на Пятую Авеню. Ça va, Антуан?
Антуан кивнул.
– Ça va bien.
– В этом парке ездят верхом на лошадях, – рассказывал им русский, – и есть специальные велосипедные дорожки. Неподалеку отсюда большая игровая площадка – хотя наш мальчик еще очень мал для нее. Есть зоопарк – он Валентину очень понравится. А когда выпадает снег, ребятня катается даже на санках и на коньках.
Они вышли из парка на Пятую Авеню, пересекли Пятьдесят Девятую улицу у отеля Плаца и возвратились в отель Эссекс, пройдя мимо отеля Сент-Мориц. Мадлен улыбнулась на щеголеватых посетителей за окнами ресторана отеля, а Зелеев сказал, что можно забавно провести время в Румпельмейере, съев там лэнч или выпив хорошего чаю.
– Элегантные женщины здесь всегда сидят на диете, – весело заметил он, – хотя их постоянно искушают совершенно гаргантюанские сырные пироги. А салаты! Вы бы видели их салаты! Даже если они и озабочены своими фигурами, их салатами можно запросто накормить целую семью.
Пробираясь сквозь бурлящий поток нью-йоркцев – кто-то шел домой с работы, другие – просто туристы на прогулке, кто-то спешил на вечеринку или просто выпить где-нибудь коктейль с мартини – Мадлен почувствовала себя затерянной в этой толпе. И хотя она улавливала лишь случайные слова из гула разговоров на английском, она вдруг поняла, что быть здесь иностранкой, незнакомкой, даже со всеми проистекавшими из этого трудностями, – подарок судьбы несмотря ни на что. Волна благодарности к Зелееву нахлынула на нее. Это он вытащил их из боли и отчаянья, захлестнувших их в Париже. Кто знает – удалось бы им избавиться от этого самим?
Вернувшись назад в номер, Антуан вдруг как-то охотно поддался окружавшей их роскоши. Удобству и быстроте сервиса, – огромные бифштексы так и таяли во рту, купание в ванне с ароматной пеной было долгим и приятным, невообразимо пестрая толчея на телеэкране показалась забавной. Взрослые понимали, что это было лишь недолгой передышкой, радужной эйфорией перед тем, как им придется перенести новые испытания с переездом на новую квартиру, а Антуану – приступить к курсу лечения в медицинском центре Маунт Синай. Но в эти недолгие дни они не хотели беспокоиться ни о чем – не хотели даже думать. Они могут расслабиться, не чувствуя за это никакой ответственности, не вспоминая о прошлом и не заглядывая в тревожное будущее. Они могли наслаждаться ощущением, что они снова живут. Болезнь Антуана настигла их, как удар грома среди ясного неба, всего лишь год назад, но, казалось, прошла целая вечность с тех пор, как они в последний раз ощущали себя такими беззаботными.
В тот вечер они были близки, и это само по себе казалось им чудом. Впервые после удара молчаливый Антуан ощутил свою безжизненную правую половину тела. Все еще возможно, понял он теперь, глядя в сияющие глаза Мадлен и любуясь ее шелковистой кожей – он все еще может дарить радость своей любимой жене.
– Это было так… ну словно наш дом превратился в тюрьму, – пытался объяснить ей он позже, когда они лежали, прижавшись друг к другу, в большой американской кровати. – И пока мы были там, все напоминало мне о том, чего я теперь не могу.
Мадлен ничего не говорила, просто лежала, благодарная хотя бы за то, что он мог с ней разговаривать.
– Я знал – потому что они мне так говорили – что мне повезло, что могло быть гораздо хуже. Но вместо того, чтоб думать о той части тела, которая все еще могла работать, была нетронутой – большая часть меня, я позволил больной части, бесполезной, взять верх надо мной.
– Совсем не бесполезной, – нежно возразила Мадлен. Опершись о локоть, она позволила своим глазам легко и свободно странствовать по его телу, на что она не отваживалась вот уже год. – Ты все такой же красивый, ты всегда самый лучший для меня – как в ту ночь, когда я поселилась во Флеретт.
Она помолчала.
– И я не верю, что ты не станешь сильнее опять. Ты поправишься. Все будет хорошо.
– Не надейся слишком на многое, chérie, – сказал Антуан.
– Но разве это мне важно, как ты не видишь? – сказала она ему. – Мне больно из-за того, что чувствуешь ты, что ты думаешь – о себе, о жизни, как смотришь на Валентина.
Она взяла его правую руку и поцеловала каждый палец.
– Мне не нужно ничего больше того, что у меня есть сейчас… только чтоб ты был счастлив опять, полюбил снова жизнь.
Она запнулась.
– Мы никогда не говорили вслух – но мы оба боялись этого, правда?
– Близости? – глаза Антуана потемнели. – В прошлом я редко боялся. Я был везучим парнем, потом удачливым мужчиной. А потом, ни с того, ни с сего, я стал трусом.
– Не говори так, – запротестовала Мадлен. – Я была ранена так же, как ты. Врачи часто говорили – это будет скорей всего удача, чем риск, но это ничего не меняло. Я слышала только «скорей всего», «риск».
– Поворот колеса рулетки…
Она прижалась теснее.
– А теперь мы не будем бояться.
У них осталось это позади, думала радостно Мадлен. Она чувствовала себя легче, смелее, моложе. Они рискнули, сыграв «ва-банк», покинули страну, где узнали радость и где ее потеряли, и очутились чужестранцами в чужой незнакомой стране. Удивительном месте, где могут случаться чудеса.
– Константин, вы просто гений – Мадлен была права!
– Конечно.
– И как всегда, сама скромность, – засмеялась Мадлен.
– Оставим скромность лицемерам, ma chérie, – с улыбкой парировал Зелеев. – Вы думаете, здесь вам будет уютно?
– Да здесь просто замечательно!
– Отлично!
– Я рад, – Зелеев сделал паузу. – По правде сказать, все дело решил случай. Я рассказал своей квартирной хозяйке – прекрасной женщине из Москвы – о том, что вам необходимо. Я объяснил ей, что комфорт и приятная обстановка жизненно важны для успеха лечения Антуана. А потом она узнала – благодаря своим связям, что в один из этих домов можно ненадолго вселиться. Это большая удача, потому что обычно здесь бывает все занято.
Он удовлетворенно улыбнулся.
– Et voilà.
Они сняли маленький живописный кирпичный домик в Хендерсон Плейс, небольшом квартальчике неподалеку от Восемьдесят Шестой улицы, Ист-Энд Авеню и Карл Шурц Парк, прелестного парка. Благодаря реке Ист Ривер в дальнем конце парка воздух в Хендерсон Плейс был свежим, чистым, и все дышало миром и покоем. Поблизости стояли приветливые жилые кварталы.
– Они построены в стиле английской королевы Анны, – рассказал им Зелеев. – Сначала было двадцать четыре дома, соединенных друг с другом, но осталось лишь несколько. Их только нужно немного подновить. К сожалению, вам придется спускаться вниз на пять ступенек.
– Только пять ступенек, – улыбнулся Антуан. – После четырех пролетов это просто ничто, да и потом, Это будет для меня прекрасной тренировкой.
В зеленых глазах русского заплясали огоньки.
– Если вам нужна тренировка, mon ami, вам нужно пойти как-нибудь со мной в гимнастический зал.
– Вы ходите в гимнастический зал? – спросила Мадлен.
– А как иначе бы я поддерживал себя в форме? – Зелеев пожал плечами. – Всю жизнь мне нравилось держать себя в форме, быть ловким и сильным. И нельзя делать передышек.
Антуан опять улыбнулся.
– Думаю, пройдет еще какое-то время, прежде чем я буду готов присоединиться к вам, Константин.
– Совсем необязательно, mon ami.
– Сколько ему лет? – спросил Антуан Мадлен после того, как русский ушел, и они остались одни.
– Я не знаю точно, – Мадлен задумалась. – Я никогда не думаю о возрасте, когда вспоминаю Константина. По-моему, он человек без возраста. Время над ним не властно.
– Он обожает тебя, – сказал Антуан. – Боготворит.
– Он ко мне добр и привязан, я знаю.
– Больше, чем просто привязан.
– Ты так думаешь?
В их распоряжении был нижний этаж, только с одной спальней, маленькой жилой комнатой, крошечной кухней и еще более крошечной ванной комнатой. Удобства отеля уже стали сладким далеким сном, но все равно квартирка была роскошной по сравнению с тем, как они жили на рю Жакоб. В их первый полдень Мадлен оставила Антуана дома с книжкой, взяла с собой Валентина на Йорк Авеню, а потом прошлась по магазинам на Первой Авеню, охотясь за тем, чего вдруг неодолимо захотелось: за патефоном и пластинками. К наступлению темноты они чувствовали себя уже почти как дома. Маленький холодильник был полон едой. Валентин посапывал в своей кроватке в спальне. В жилой комнате стоял уютный аромат жареных цыплят с эстрагоном, мешавшийся с запахом сигарет Антуана. И Мадлен пела в унисон пластинке Кармайкла.
На десять часов утра назавтра было назначено первое посещение Антуаном медицинского центра. Оба они все еще присматривались к Нью-Йорку, но у Мадлен было ощущение правильности их выбора – похожее на то, какое она испытала, приехав в Париж. Нью-йоркцы, с которыми они уже познакомились неумного поближе, были добрыми и куда более терпеливыми к незнанию их языка, чем большинство парижан с иностранцами. Невысказанная тревога, которую они оба поначалу ощутили в этом царстве бездушного стекла и бетона, стала понемногу таять. У них была вновь вера в интуицию, приведшую их сюда. Первоначальное разочарование, с каким они смотрели на город во время поездки в лимузине, было забыто. Если их решимость начать лечение, вера в него могли иметь какое-то значение для выздоровления Антуана, они смогут добиться огромных результатов.
Валентин проснулся с плачем в полночь, и Мадлен была в мгновение ока на ногах, взяла его из кроватки и баюкала на руках.
Он быстро успокоился и вскоре уже сладко и крепко спал.
– Он такой спокойный малыш, – сказала Мадлен, когда забралась обратно в постель. – Нам повезло.
– Моя мама говорила, что я был спокойным и уравновешенным ребенком. – Антуан прижал ее снова к себе, чтоб опять чувствовать ее рядом всей своей здоровой половиной.
– Он – такой же необыкновенный, как и ты – во всем, – улыбнулась Мадлен.
– Pauvre petit,[90] – посочувствовал Антуан.
– Счастливый мальчик, – сказала она.
– И мужчина, я надеюсь.
Они опять стали близки, и это была самая сладкая, нежнейшая, чистейшая близость, какая у них только была, И они улыбались в темноте, глядя в глаза друг другу и ощущая безмятежное спокойствие, надежду и радость. А потом они уснули, и тела их по-прежнему касались друг друга, теплые и счастливые.
* * *
Когда она проснулась около семи утра, еще до звонка будильника, даже раньше Валентина, Мадлен испугало то, насколько холодной была кожа ее мужа по сравнению с ее. И несколько мгновений она лежала неподвижно, едва дыша. Слушая. Чувствуя. Ожидая.
И она уже знала.
Она повернулась, очень медленно, чтобы взглянуть ему в лицо. Солнечный свет ласкал его темные разметавшиеся волосы. Он выглядел совсем таким же, как вчера, перед тем, когда она закрыла глаза. Но бесконечно спокойным и умиротворенным.
Мадлен посмотрела туда, где все еще спал Валентин, ни о чем не подозревая, и каким-то нечеловеческим усилием воли нашла в себе силы подавить рвущийся наружу крик горя и муки, и с губ ее не слетело ни звука. Легкая, словно плывущее само по себе маленькое облако, мысль промелькнула в ее голове – она может просто положить подушку на личико их сына и дать ему уснуть навсегда в вечном неведении, прежде чем сама возьмет снотворное Антуана и покончит счеты со своей собственной жизнью.
Но потом Валентин тоже проснулся. Он сел в своей постельке, очень прямо, и посмотрел в упор на нее, улыбаясь утренней сонной улыбкой. Она поднесла к губам указательный палец, и он понял, и молча лег обратно в кроватку, и ждал, привыкнув не беспокоить отца.
И Мадлен легла опять в эту последнюю постель, которую ей было суждено разделить с Антуаном, и прижалась к нему, навсегда впечатывая в свое тело и сердце ощущение его тела и запаха, всего его в своей памяти. А потом, очень медленно, она встала с кровати, подняла, не видя, халат, подняла Валентина с кроватки и пошла в холл позвонить Константину.
ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ МАДДИ Нью-Йорк
13
Горе навалилось и поглотило ее. Незнакомая земля, поманившая их мимолетной надеждой на чудо, оказалась вместилищем кошмара и ада. И кому здесь было дело до ее горя? Мадлен знала только двух людей в Соединенных Штатах Америки, и одним из них был двухлетний малыш. Она не понимала никого, и никто не понимал ее. Но сейчас ей было все равно.
Как только тело Антуана унесли из дома на Хендерсон Плейс в черном мешке, словно белье, увозимое в стирку, она ушла из реальности, уплывала из жизни. Она не замечала ничего, даже Валентина – и меньше всего себя. Она редко говорила, не ела, существуя на нескольких глотках подслащенного чая, которые почти силой вливал в нее Константин.
– Мы должны поговорить, – говорил он ей осторожно и бережно.
Мадлен молчала.
– Нужно кое-что решить, ma chère.
Ни слова в ответ – только монотонный, едва заметный кивок головы.
– Похороны. Где они будут – здесь или дома?
Зелееву было так больно видеть ее застывшее лицо, прелестные глаза, в которых потухли все искорки света и жизни, скулы, которые все заострялись – она сильно исхудала.
В другом конце комнаты Валентин сидел на полу, играя с мягкой пушистой игрушечной собачкой, ее левое ухо было изрядно пожевано. Время от времени он подползал к матери и дергал ее за юбку, но безуспешно – она его не замечала.
– Мне кажется, родители Антуана хотели бы, чтоб он вернулся домой в Нормандию, к ним. Но решать тебе, ma chère.
Он замолчал.
– Ты хочешь, чтобы его похоронили здесь, в Америке?
– Здесь? – ему показалось, что она содрогнулась, едва заметно. – Нет.
Зелеев взял ее руку, холодную и безжизненную.
– Что ж, во Францию.
Он взял на себя все дела. Он общался со следователем, ведущим дела о скоропостижной смерти, и заказывал авиабилеты; он писал письма и делал телефонные звонки, упаковывал их вещи и закрывал дом. И спустя восемь дней после смерти Антуана он повез Мадлен и Валентина, в другом лимузине, в аэропорт.
И только после того, как проверили их багаж, после прохождения всех формальностей Мадлен неожиданно с шоком вернулась к жизни. Увидев самолет, она попятилась.
– Нет! Я не пойду туда без Антуана.
– Все в порядке, ma petite. Не волнуйся, – пытался успокоить ее Зелеев. – Мы с тобой…
– Нет!
С неожиданной силой она оттолкнула его и ручную кладь, лежавшую на земле.
– Вы не заставите меня!
Валентин начал плакать, но она не видела его.
– Где он?!!
Видя их затруднения, два служащих аэропорта поспешили на помощь, но Мадлен быстро стряхнула с себя их руки. Она теперь плакала, в первый раз, едва понимая, почему плачет. Мальчик с темными волосами и голубыми глазами цвета моря пронзительно кричал, и рыжеволосый мужчина пытался обнять ее, но она не позволяла им коснуться себя – она хотела только его…
– Антуан…
Стюард пошел вперед и заговорил с Зелеевым.
– Мы не можем взять ее на борт в таком состоянии, сэр.
– Может, врач… позовите врача! – Зелеев был совершенно раздавлен. – Транквилизатор – ей нужен транквилизатор.
Но Мадлен невозможно было помочь ничем. Стены смыкались над ней, незнакомые люди проходили мимо и смотрели, смотрели ей в лицо – как уродливые искаженные рыбы во время кормежки, наплывая на нее, расплываясь, теряя очертания… И она не понимала, что кричит, безумно, истерически, и даже тот единственный образ, который она могла удержать в своем сознании, его, ее Антуана, стал отлетать от нее, ускользать за пределы достижимого, и здание аэропорта и весь мир превратились в слепящее месиво, и она все кричала, кричала…
– Кто-нибудь, позвоните в скорую!!! – слышался чей-то громкий голос.
– Я могу сопровождать, – выдохнул Зелеев.
– Не думаю, сэр, – сказал стюард.
И гроб с телом Антуана прибыл один, без сопровождения, в конец своего последнего скорбного путешествия, и были похороны на церковном кладбище возле Трувиля, где лежал прах трех поколений его предков, а его молодая вдова лежала без движения, молча в больничной палате в больнице Ямайка, в Нью-Йорке, в муниципальном округе Квинз.
Зелеев забрал ее из больницы, несколько дней спустя, и привез в свою квартирку на Риверсайд Драйв, с одной спальней, где жил все это время, заботясь о Валентине. Пришел его собственный врач и осмотрел Мадлен, прописал умеренные транквилизаторы и залечивающее раны время. Мадлен была слишком слаба, чтоб протестовать, когда он настоял – она с Валентином будет спать в его спальне, тогда как сам он будет ночевать по-походному на софе.
Квартира, на четвертом этаже красивого серого каменного дома недалеко от пересечения Риверсайд Драйв с Семьдесят Шестой улицей, была небольшой, но окно гостиной выходило на бульвар и Риверсайд Парк, а за парком была река Гудзон и Нью Джерси Пэлисейдз, создавая ощущение простора. Зелеев сотворил свой собственный удивительный мирок, и когда на город опускалась темнота, когда задергивались тяжелые портьеры, гостиная становилась уютной и изолированной от всего мира, здесь он жил, окруженный сохранившимися осколками его старой любимой России.
Хотя Мадлен и не могла припомнить, чтоб ее старый друг говорил с ней когда-либо о религии, красивая написанная маслом икона висела на выкрашенной красной краской стене. Почти рядом с ней – три изящно обрамленные фотографии. На двух из них были родители Зелеева, его отец, строгий с темными усами, и мать, со спокойным и утонченным лицом, а на третьей – сестры Малинские, Ирина и Софья, молодые, смеющиеся и очень красивые, закутанные в соболя, с темными, высоко подколотыми волосами, волосами, в которых они спрятали фамильные драгоценности во время побега из России. Тут были также свидетели славных дней Фаберже: на отполированном ореховом столике стоял изукрашенный роскошный серебряный самовар, на другом столике – резной кинжал с нефритовой и позолоченной рукояткой и красный, изукрашенный эмалью ящичек для сигар.
– Эти вещи странствовали вместе со мной, – сказал Зелеев Мадлен, после того, как она на третий день вышла ненадолго из спальни, в халате, посидеть немножко и выпить чашечку чая. – Они были со мной, когда я жил в Париже и Женеве, и даже в те годы, когда я был вместе с твоим дедушкой, они украшали наш дом.
Квартира была именно тем местом, в котором Мадлен нуждалась. Она выходила из состояния почти кататонического шока и теперь утонула в своем горе, но, к счастью, была окружена теплотой и комфортом, которые дарил Константин ей и ее сыну. Шли недели, а она все еще редко рисковала выйти на улицу. Затворничество было созвучно ее горю, тогда как мир снаружи, который казался таким привлекательным в их первые дни в Америке, теперь пугал ее.
В Нью-Йорк пришла весна, и Зелеев приносил новости из города, бурлящего восторгом – открывалась Всемирная выставка под лозунгом «Мир через Понимание», и сотни тысяч гостей начали наводнять шестьсот или больше акров территории Квинза. В квартире на Риверсайд Драйв Мадлен не знала ни мира, ни понимания, но первые смягчающие дуновения весны принесли перемены в ее настроении. Теперь она была раздавлена чувством вины. Она не смогла ничего сделать для Антуана, предала его. Если б только она была сильнее, смелее – он не потерял бы Флеретт и Париж. Если б она не была такой гордой, такой несгибаемой, может, он был бы сейчас жив в Цюрихе. Она воодушевила, поманила и, может, даже толкнула его в Америку. Прямиком к смерти. Она позволила своим малодушным, эгоистичным физическим желаниям возобладать над его инстинктивными и мудрыми страхами той последней их ночью и лишила его жизни вообще. И в довершение всего, она позволила, чтобы его зарыли в землю в одиночестве, без жены и сына, которые могли бы попрощаться, оплакать и положить цветы на его могилу. Она бросила его. На все лады Мадлен обвиняла себя, и ее отчаянье было безысходным и просто непереносимым.
У нее началось что-то вроде болезни замкнутого пространства, квартира давила ее, и Мадлен начала выходить, чтоб блуждать по улицам, иногда катя перед собой Валентина в коляске, но чаще одна. На короткое время установилась теплая погода, и Риверсайд Парк, с его цветущими благоуханными вишнями, стал ее прибежищем, где можно было сидеть в тиши и обдумывать свою вину. Потом вдруг похолодало, и Мадлен шла на Семьдесят Девятую улицу и смотрела на реку и лодки, смотрела, но почти не видела, а потом шла дальше к причалам, где швартовались большие пассажирские лайнеры, вниз по Гудзону. Она содрогалась от холода, но даже не понимала того, что замерзла.
– Во мне есть что-то порочное, – думала она.
Впервые такие мысли пришли в ее голову. Ее семья, в конце концов, не так уж была неправа. Она ничем не лучше, чем оба мужчины из Габриэлов, которых она прославляла. Теперь Мадлен казалось, что на самом деле они были неудачниками и предателями. Хильдегард была справедлива в своем осуждении Амадеуса, и один Бог знает, что Александр предал даже свою дочь. Габриэлы знали, как надо любить – но им нельзя было верить, и нельзя было на них положиться.
Мадлен вдруг ощутила отчаянную и острую жалость к Валентину и начала просто исступленно заботиться о нем, о каждой его малейшей нужде, стала одержима желанием сделать для него все – чего не смогла сделать для Антуана. Желая искупить хоть часть своей вины перед Антуаном и быть как можно ближе к нему опять, она искала его во всем, что с ним связано. Она обошла пять табачных магазинов в поисках его любимых сигарет «Галуаз», и, найдя их на Амстердам Авеню, начала курить непрерывно – не потому, что ей это понравилось, но просто, чтоб окружить себя его старым знакомым запахом. Она всегда ненавидела анисовые аперитивы – но из-за того, что их любил Антуан, она регулярно ходила в винные отделы супермаркетов на Бродвее, а потом дома, в квартире Зелеева, выпивала их залпом, не чувствуя вкуса, и становилась пьяна. Она одевалась в черное, как он, носила один из пуловеров Антуана; она не могла даже и подумать о том, чтоб его постирать – она боялась потерять навсегда запах его кожи.
Однажды в полдень, в начале мая она сидела на деревянной скамейке в Риверсайд Парке и курила, когда средних лет женщина с золотисто-каштановыми волосами и слабым ароматом духов «Джой» подошла и села рядом с ней.
– Вы оплакиваете, – проговорила она.
– Pardon? – сказала Мадлен.
– Vous êtes en deuil.[91] И это был не вопрос.
Она была из Монреаля, и она была бережно настойчива. Путем осторожных умных вопросов вытянула из Мадлен ее историю и предложила свой выход. Они встречаются на будущей неделе. Если Мадлен удастся установить связь со своим мужем, может, это поможет ей жить дальше и смотреть в будущее. Мадлен согласилась. Она пошла на сеанс днем в следующее воскресенье. Он проходил в квартире, расположенной в районе, где сосредотачивались предприятия швейной промышленности и магазины, на углу Тридцать Шестой и Восьмой Авеню; местечко, где в будни сновали рабочие-швейники и их менеджеры, неся в руках охапки образцов тканей, и образцы изготовляемой одежды висели в витринах по обеим сторонам дороги; все куда-то спешили, кричали, звали кого-то. Но в этот воскресный день здесь было непривычно тихо и спокойно, и атмосфера в квартире была пропитана чем-то, что внушало суеверный страх, а воздух пропах благовониями. Мадлен заплатила мужчине, стоявшему у входной двери, пятнадцать долларов и села у круглого столика, вытянув руки вместе с пожилым немцем и девушкой из Бруклина, которая потеряла обоих родителей. И спирит во главе столика пытался – но без видимого успеха – установить контакт с усопшим. А потом Мадлен села в автобус и поехала назад на Риверсайд Драйв и, даже забыв покормить Валентина, выпила аперитив и впала в забытье.
В конце месяца, вызванный Константином, Руди Габриэл приехал в Нью-Йорк. Потрясенный худобой Мадлен и измученным, раненым выражением ее лица и болью, которая таилась у нее в глазах, он выплеснул ее ликер в кухонную раковину, сварил кофе и начал приводить ее в чувство.
– Могу я оставить с вами Валентина? – спросил он Зелеева.
– О чем речь! – Зелеев развел руками в беспомощности и отчаяньи. – Просите о чем угодно. Сам я ничего не могу с ней поделать – я начинаю опасаться за ее здоровье.
– Я собираюсь отвезти ее в мой отель, если она согласится. Может, перемена обстановки поможет ей прийти в себя.
– Она поедет, – сказал русский. – В эти дни она уже ни с чем не борется – она сдается, как полуживой ягненок.
Он понизил голос.
– Она полна ненависти к себе, mon ami, и это хуже всего.
Руди посадил Мадлен в такси и повез ее в отель Плаца, повел по устланным коврами входным ступенькам, мимо Фонтана Изобилия и шпалер ярких вьющихся весенних цветов, в свой номер с высокими потолками и роскошной мебелью. Раздел ее, словно она была его малышкой-сестрой, отправил принять теплую ванну и заказал в номер суп-пюре из цыпленка с крекерами и минеральную воду.
– Я не могу есть, – сказала она слабым голосом.
– Я тебя покормлю.
– Нет.
– Ты хочешь умереть, тоже?
– Да, – сказала она.
– Ты хочешь, чтоб Валентин остался сиротой?
Он помолчал.
– Они сразу же заберут его в Дом Грюндли, ты сама это знаешь, и Стефан будет его растить и воспитывать. Он не будет помнить тебя и Антуана, его обязательно усыновят. Магги, он станет Джулиусом и вырастет только затем, чтоб продавать винтовки и ракетные установки.
– Но я все еще не проголодалась.
– А если ты сойдешь с ума и тебя заберут в больницу или просто изолируют, с ним случится то же самое. Ты именно этого хочешь, Магги?
– Не называй меня так, – сказала она. – Я не была Магги уже много лет.
Голос ее дрогнул.
– Я придумала, что буду Мадлен, на второй день после приезда в Париж – наверно, я просто нашла себя. Я больше не чувствую себя Магги.
Она вдруг заплакала – сначала слезы ее текли медленно, словно с усилием. Но потом, когда брат обнял ее и стал нашептывать слова утешения, тепло его близости и пронзительные волнующие воспоминания о недолгих, драгоценных днях, прожитых с Антуаном в Эссекс Хаус, словно отворили запертые створы, и горе хлынуло из неё с отчаяньем, безнадежностью и болью. Она оплакивала Антуана на сотни разных ладов, но до этого момента она таила свои слезы, они мучительно остро переполняли ее сердце – но Мадлен молчала. А теперь, в объятиях брата, безудержные рыдания сотрясали все ее тело, пока слезы не вылились из нее до последней капли. Руди дал ей выплакаться, а потом покормил ее с ложечки супом и дал ей поплакать опять, пока она не уснула – спокойней, чем за все эти месяцы. А утром, после завтрака, поданного ей в постель и съеденного почти без протестов, он спросил ее, осторожно и бережно, что она собирается делать.
– Что я могу делать? – сказала она уныло и подавленно.
– Много чего, – ответил Руди. – Ты можешь поехать со мной домой. Там уютно, и ты сможешь спокойно и в безопасности растить Валентина. Не забывай, я буду с тобой.
– Ты же знаешь – для меня это невозможно.
– Ты можешь вернуться в Париж. По крайней мере, у тебя там есть замечательные друзья, которые будут заботиться о тебе. Они помогут начать все сначала. – Руди помедлил. – Или ты можешь начать здесь?
– Тут? – руки Мадлен задрожали, и она поставила чашку с кофе на поднос. – Тут, где я его потеряла?
– Страшные вещи случаются повсюду. И чудесные – тоже, – голос Руди был очень спокойным и тихим. – Антуан мог умереть и в Париже, Магги, или если б он поехал в Нормандию, или в Цюрих – это могло случиться где угодно.
– Но это случилось здесь.
– Тогда возвращайся в Париж.
– Без Антуана? – она покачала головой. – Я не знаю, смогу ли вернуться туда вообще, Руди. Наша жизнь в этом городе… она словно была полна до краев… ты же знаешь… И мы выпили ее до самого дна – словно знали, что с нами случится.
Руди взял поднос и поставил его на накрытый белой салфеткой столик, который привез официант.
– Если ты решишься… когда ты будешь готова принять такое решение…
Он замолчал.
– Что, Руди?
Он повернулся к ней.
– Если ты останешься в Нью-Йорке, я тоже останусь с тобой.
– Что ты имеешь в виду?
– У банка есть здесь отделение, помнишь? – он пожал плечами. – Смею надеяться, если я захочу – они все устроят.
Он смотрел в ее лицо.
– Ну как?
– Ты делаешь это для меня? – голос Мадлен был нетвердым. – После того, как я с тобой обходилась?
– Я думал, мы оба договорились – это все в прошлом, – Руди кивнул. – Да, я сделаю это ради тебя. И ради себя – тоже.
– А я думала, что ты счастлив в Цюрихе.
– Я люблю этот город. Я люблю Швейцарию.
Он помолчал.
– Но люди – важнее, ведь правда?
– Да, мне тоже так кажется. А как же мама и Оми?
– Конечно, им это небезразлично, – лицо Руди стало вдруг напряженнее. – Но если им придется выбирать, они будут на его стороне.
– Стороне Стефана, ты хочешь сказать?
– Конечно, – он выдавил из себя улыбку. – Я понимаю, этот разговор преждевременен, Магги.
Он скорчил слегка смешную рожицу.
– Я никак не могу перестать называть тебя так – просто так я о тебе думаю, по-прежнему.
– Это неважно, – сказала она мягко. – Ты хочешь рассказать мне что-то, Руди? О том, что произошло дома?
– Еще нет. Не сейчас, – он присел на краешек кровати. – Я просто хочу, чтоб ты знала – если ты захочешь остаться здесь, ты не будешь одинока. Но тебе еще рано принимать важные решения – тебе сначала нужно просто отдохнуть.
– Но Валентин…
– Он – в хороших руках.
– Константин? – Мадлен откинулась на мягкие теплые подушки. – Бедный дорогой Константин! Я просто не представляю, каково ему пришлось. Он сделал для меня все, что только возможно, все – а я была…
Ее рот дрожал.
– Поспи еще, Магги, – Руди взял ее руку. – А когда ты проснешься, мы немного поедим, а потом ты снова отдохнешь. И если ты хочешь плакать – плачь. Не держи все в себе – это еще хуже. Выпусти это – выпусти, не мешай.
– А ты?
– Я буду рядом.
Через два дня они забрали Валентина с Риверсайд Драйв, чтоб дать немного отдохнуть Зелееву. А еще они хотели дать ему возможность вернуться к его работе на ювелирной бирже на Сорок Седьмой улице, где, как сказал он Мадлен, он работал столько, сколько ему было удобно – как человек его опыта и таланта. Зелеев был необыкновенным – на этом сходились и Руди, и Мадлен. Ему было за семьдесят, но он выглядел не больше, чем на шестьдесят, и владел телом как пятидесятилетний благодаря регулярным занятиям в гимнастическом зале.
– Он был первым человеком, который дал мне почувствовать, что я – женщина, – сказала Руди Мадлен, когда они сели в такси, и она держала на коленях Валентина. – Он никогда не обращался со мной, как с ребенком. А потом, когда приехал в Париж, так рассвирипел, что я работаю горничной… Ты бы видел его, Руди! Так забавно. Он убежден, что я должна стать певицей, звездой.
– Он ведь тебя очень любит, я знаю.
– И это же самое сказал Антуан, – она улыбнулась слабой, грустной улыбкой. – Мне кажется, он старается заботиться обо мне так, как заботился бы папа, если б был рядом. Я часто чувствовала – он клянет себя за то, что случилось с папочкой той ночью.
– Может быть.
– Что ты имеешь в виду?
– Ничего, – Руди пожал плечами. – Только то, что мне кажется – он смотрит на тебя не по-отцовски.
Мадлен поцеловала Валентина в темноволосую макушку.
– Ну и как же тогда он смотрит на меня?
– Так, как мужчина смотрит на красивую женщину.
Она улыбнулась.
– Не забывай – просто это Константин. Он такой. Кварталом подальше от Плаца был Ф.А.О. Шварц, самый большой магазин игрушек, какой только видела Мадлен, и полтора часа она провела там, смотря на Валентина, на его восторженное удивление, когда он бродил по супермаркету и вышел наконец с большой пушистой белкой в руках, и это дало израненной душе его матери больше, чем все остальное за эти долгие мучительные месяцы. Они купили горячие сосиски с соусом, и Руди настоял, что пора уже его племяннику попробовать кока-колы. А потом они пошли в Центральный парк съесть завтрак, и Валентин чихнул, брызнув фонтаном колы, и пролил кетчуп и горчицу на свои брючки – но им всем было очень хорошо. – Ты уже готов поговорить? – спросила брата Мадлен.
Руди кивнул.
– Но не здесь, – он огляделся вокруг, наслаждаясь прелестью денька в начале лета, свежим, благоухающим ароматами воздухом, который еще с месяц будет таким же пряно настоявшимся, любуясь сочной зеленой травой и листвой, которые станут жухлыми и матовыми от пыли к августу. – Здесь слишком хорошо. Я не хочу отравлять это.
И только с наступлением темноты, когда Валентин уснул, он начал разговор.
– Когда я еще был очень маленьким, я думал, что мама меня просто обожает. Я не помню, чувствовал ли я это, но мама часто мне так говорила. А когда она вышла замуж за Стефана, я знал, что и он отдает предпочтение мне – может, потому, что ты его так явно не любила.
– Меня от него просто тошнило.
– Но меня – нет. Он хорошо со мной обходился и делал маму счастливой, и все время покупал мне подарки. Он баловал меня – поэтому он мне и нравился.
– Но в этом нет ничего плохого, – сказала мягко Мадлен.
– После того, как ты убежала из дома, я еще очень долго оставался просто шелковым и балуемым ребенком. Вовсе не потому, что я был каким-то особенным – просто по контрасту с тобой, я так думаю. Думаю, я всегда любил тихую и мирную жизнь. Я ненавидел споры и ссоры, которые, как мне казалось тогда, ты провоцируешь.
– Так оно и было.
– Я знаю, ты кляла меня за то, что я не разделяю твою неприязнь к нашему отчиму и веру в нашего настоящего отца. И еще я понимал – ты никогда не знала, как я тебя обожаю.
Руди помолчал.
– В ту ночь, когда ты убежала из дома, я видел тебя. Я смотрел на тебя из своего окна, видел, как ты украдкой уходишь с Хекси и чемоданом и, помню, я плакал и надеялся, что ты обернешься и увидишь меня.
– Но я не обернулась, – Мадлен встала с кресла и подошла к нему, и села рядом на софу. – Мне так жаль, Руди. Если б я только знала…
Она колебалась.
– И тебя по-прежнему нет дома. И у тебя чувство вины передо мной. Не нужно… Это не поможет ни мне, ни тебе.
Руди выдержал обучение в школе достойно, но не блестяще, и именно после окончания он впервые пошел против отчима, когда тот решил – Руди будет работать на индустрию Джулиуса. Стефан заглядывал в будущее – ему нужен был молодой человек, на которого он мог бы положиться в своем бизнесе, кто-то, кого он мог бы слепить по своей мерке и желанию, сделать его своим. Но он не учел пацифистской натуры Руди. В детстве мальчик избегал играть с игрушечными ружьями, пистолетами и солдатиками, которые отчим в изобилии и часто покупал для него. Но эта жилка мягкости особо не замечалась Стефаном и не раздражала его – в основном потому, что Руди было гораздо легче контролировать и помыкать им, чем его сестрой. Военная служба вышибет из него слабость, был уверен Стефан. Когда ему исполнится девятнадцать, когда по закону Руди должен будет взяться за винтовку и научиться ею пользоваться, он победит свою антипатию к оружию. Но Руди уже задолго до своего ожидаемого военного обучения знал, что ничто его не изменит. Но он, конечно, не стал делиться своим открытием с Джулиусом, а когда ему предложили работу в Грюндли Банке, согласился без особого отвращения.
– Я знала, что между вами есть какое-то противостояние, – сказала Мадлен. – Это было совершенно ясно, когда я приехала с тобой в Цюрих, что Стефан тобой недоволен. И твои письма… и приезд в Париж на мою свадьбу.
– Думаю, в конце концов он бы плюнул на все это – и даже на мой отказ работать в его индустрии. Если б только этим я его разочаровал – он бы злился, но не так.
Его тон был странным, а улыбка – кривой.
– Так что же еще? – спросила Мадлен. Руди посмотрел ей прямо в лицо.
– Я – гэй, – сказал он. – Гомосексуалист, Магги. Она молчала.
– Это все решило. Когда я понял, что должен им сказать. Это было последней каплей для Джулиуса.
Медленное, постепенное осознание своих необычных интересов стоило Руди боли, а признание потребовало мужества. Он надеялся на их понимание и поддержку – но его иллюзии быстро развеялись. Джулиус даже не делал попытки скрывать свое отвращение и презрение, и с того самого дня неизменно вел себя с Руди склочно и оскорбительно.
– А мама? – спросила Мадлен. – Уверена, она за тебя. Неважно что я к ней чувствую… но я не могу поверить, что может найтись причина, по которой она может перестать любить тебя.
– Она и не перестала. Она давала мне понять, тайно – тогда и сейчас, что всегда будет любить меня, что бы я ни сделал, – в его голосе появились горечь и грусть. – Но для нее это преступление. Тоже. Или, по крайней мере, грех.
Он сделал паузу.
– И ей до сих пор нравится Стефан. Ей нравится быть его женой. Она никогда открыто не пойдет против него.
– Да, – согласилась Мадлен.
– А ты, Магги? – спросил он ее. – Что чувствуешь ты… что ты думаешь обо мне, теперь, когда все знаешь?
– Как ты можешь даже спрашивать?
– У меня нет выбора.
– Хорошо, – Мадлен помолчала. – Знаешь, тут две половинки… То, что я чувствую к тебе как к брату – это довольно просто. Первые восемнадцать лет твоей жизни мы были далеки друг от друга. Но в тот момент, когда я впервые увидела тебя в день моей свадьбы в Париже, у меня просто не было слов, чтоб сказать, что я чувствую к тебе.
Она взяла его за руку и крепко сжала.
– И с того самого дня ты не перестаешь изумлять меня, Руди. Я даже и не знала, что ты – такой храбрый, такой добрый и великодушный.
– А сейчас я изумил тебя опять.
– Но для меня это ничего не меняет – разве обязательно должно что-то значить? Ты – это ты, ты Руди Габриэл, мой брат. Просто теперь я еще знаю, что ты – гэй.
– И это – вторая половинка, да? Мадлен кивнула.
– Если ты спрашиваешь, как я отношусь к гомосексуализму – это немножко сложнее, на это труднее ответить. В Париже я знала несколько подобных мужчин – и женщин тоже. Патрик, помощник шеф-повара, жил вместе с Жан-Полем, официантом. Но это были их дела, и я ни на секунду не задумывалась об этом.
Потом она нахмурилась.
– Вот только Гастон… ты помнишь Гастона Штрассера?
– Твоего учителя пения?
– Это было так страшно для Гастона – потому что он жил в годы нацистов. Я знаю, что он пострадал… так ужасно, но это совсем другое дело. Те люди были просто чудовищами. Подонками.
Она замолчала.
– Ты был влюблен?
Руди улыбнулся неожиданности ее вопроса.
– Только один раз, – ответил он. – Его звали Юрг, и мы встретились как раз после моего дня рождения. Девятнадцатилетия. Сейчас все кончилось, но длилось два года.
Его роман кончился, как рассказал он Мадлен, неожиданно для Руди, с помолвкой его друга с девушкой, которую одобрили его родители. Руди был больше ранен нечестностью друга, чем самим предательством, хотя гнев и помог ему пережить разрыв их отношений. Но это сделало его недоверчивым. Ему стало казаться, что многие люди просто порхают от романа к роману, не беря себе в голову, тогда как он, редко имевший друзей, так горестно влюбился.
– Наверно, это просто потому, что я такой, – сказал он сокрушенно. – Люди, которых я люблю, так много значат для меня.
– И от этого еще тяжелей, когда они бросают тебя.
– Да, – Руди кивнул. – Очень больно.
Резкое ухудшение отношений со Стефаном было, как понимал Руди, одним из главных мотивов его желания переехать в Нью-Йорк. Ему даже казалось, что он сделает жизнь Эмили в чем-то легче, оставив ее наедине с мужем. Если Мадлен согласна остаться в Америке, его перевод в Манхэттенское отделение банка будет означать одно – они наконец снова вместе.
– Я даже не знаю, что ты делаешь в банке, – сказала Мадлен.
– Работаю с личными вкладами – конечно, я там просто мелкая сошка. В таком заведении, как наше, нужны годы, или даже десятилетия, чтобы завоевать не только уважение, но и доверие к себе, – он сказал и встал. – Я никогда не буду птицей высокого полета и таким сильным, как ты, Магги.
– Нет, нет, ты неправ, – начала протестовать Мадлен. – Ты – именно такой. А еще – ты храбрый.
– Только когда меня довести до ручки, – он слегка улыбнулся грустной задумчивой улыбкой. – Но я могу много работать, и вообще – люди, которые работают со мной, меня уважают. Я не представляю угрозы ни для одной души, и поэтому если я попрошу перевести меня в Нью-Йорк, думаю, они мне не откажут.
Мадлен тоже встала и подошла к окну. Багряные сумерки спускались на парк, движение по вечерней Сентрал Парк Саус было свободным от пробок, и проносившиеся мимо машины с зажженными фарами создавали какую-то иллюзию безмятежности городского пейзажа.
– Здесь замечательно, – проговорила она мягко. – Так легко окунаться в роскошь.
– Ты можешь иметь ее запросто.
– Вряд ли.
– Потребуй то, что принадлежит тебе по праву рождения.
– Я сделала это, когда приехала в Цюрих. У нашего дедушки не было ничего ценного – для тех, кто оценивает все с точки зрения денег. Кроме, конечно, Eternité. Но если б она была у меня, я никогда б ее не продала. Никогда.
Руди посмотрел на сестру.
– Ты сказала, что я сильный – но я не такой. Если я и сбегу из Дома Грюндли, то только в роскошную квартиру. Мне нравится комфорт, среди которого я вырос. Мне он нужен.
– В этом нет ничего плохого, Руди.
– Мне скоро нужно возвращаться, – сказал он ей. – С тобой будет все в порядке?
Мадлен кивнула медленно.
– Думаю, да. Благодаря тебе.
Они вместе пошли взглянуть на Валентина. Малыш лежал на спине, обе ручки были видны из-под одеяльца, и губы слегка приоткрыты. Мадлен нагнулась и нежно погладила его по волосам.
– Вот, кто мне нужен, – сказала она очень спокойно и тихо. – И мне нужен его отец, так нужен… но я знаю – я никогда не смогу вернуть его назад. У меня никогда его больше не будет.
Знакомый горький комок боли подступил к горлу, но она подавила уже готовые было вырваться наружу слезы.
– Я так буду рада, Руди… даже больше, чем я могу выразить, если мы будем вместе.
– Так ты уже решила? Ты остаешься?
– Я попытаюсь.
– Это будет не легко, – голос Руди тоже был тихим. – Тебе нужен покой и безопасность – пусть не для себя самой, для малыша.
– Я могу много работать. Теперь уже я привыкла, – она улыбнулась, глядя в его глаза. – Я знаю, ты хочешь мне помочь – я чувствую это даже тогда, когда ты ничего не говоришь. Но ты должен позволить мне идти своим путем, Руди.
– До тех пор, пока ты позволишь мне любить тебя, – засмеялся он. – Вас обоих.
– Всегда, Руди. Всегда.
Руди возвратился в Цюрих подготовить почву для своего переезда в Нью-Йорк, и постепенно, болезненно Мадлен стала возвращаться к жизни. Для нее было непреложной очевидностью – она больше никогда не будет счастлива, и не это сейчас имеет значение, – но все же ей казалось, что она очнулась от какого-то могильного бесцветного сна. Боль ее потери – жить без Антуана – по-прежнему убивала каждый ее день, но другие люди опять стали для нее что-то значить, и особенно Валентин.
Зелеев был ее опорой, соломинкой, за которую она держалась в жизни. Он отвел ее в Колумбийский университет, на Вэстсайде, и помог записаться на курсы английского языка, которые она сможет посещать три раза в неделю. Щадя ее гордость, он уступил ее настойчивым просьбам и вернулся назад в свою спальню. Было нереально для нее даже пытаться найти свое собственное жилье, но он воодушевлял и поддерживал ее в ее стремлении найти работу и зарабатывать самой на жизнь.
– Я могу повозиться с Валентином, пока ты ищешь работу.
– Но как же с вашей собственной работой?
– Я же говорил тебе – я могу работать в любое время, даже ночью, если необходимо.
– Но должен же быть предел тому, о чем я могу вас просить, Константин.
– Почему, из-за моего возраста?
– Возраст – нематериален, – сказала Мадлен.
– Ты в это веришь?
– Все свое детство меня подавляли и унижали только потому, что я маленькая. Люди слишком много ставят на возраст.
– Так ты не считаешь меня старым? – Зелеев спросил и подмигнул ей.
– Никогда я так не думала.
– Вот и я тоже.
Он вернулся к разговору о поиске работы.
– Ну, а как насчет твоей карьеры? Как твое пение? Он по-прежнему верил в ее талант и был убежден, что в Нью-Йорке талант должен быть отшлифован, открыт и в конце концов вознагражден.
– Но это теперь совсем неважно, – сказала она.
– Почему? Потому что нет Антуана? – Зелеев замолчал на мгновение. – Тебе столько раз вредили в жизни, Мадлен. Не вреди же себе сама.
– Но у меня нет ощущения, что мне вредили.
– О, да, я знаю, – на какую-то секунду его голос окрасился горечью. – А мне знакомо это чувство.
– Расскажите мне, – сказала она.
Он покачал головой, словно стряхивая налетевшую тяжесть и мрак.
– Не так уж это интересно и важно, ma chère.
– Вы никогда не жалуетесь, Константин. Наверно, вам часто приходилось туго в жизни, но вы почти не говорите о плохом.
– Потому что я расправляюсь с этим по-своему. Я тренирую свое тело, я балую себя – и пью водку.
– А женщины? – спросила, улыбаясь, Мадлен. – Я знаю, вы любите женщин, а они, должно быть, любят вас.
Зелеев неожиданно вспыхнул краской, хотя его зеленые глаза не оторвались от ее лица.
– Конечно, – сказал он, а потом добавил: – Я – оптимист, ma belle. И в этом мой секрет.
Тем сентябрем Зелееву переслали письмо, пришедшее на его адрес, который все еще оставался у него в Париже, от Александра Габриэла. Мадлен не было дома, когда он вскрыл письмо. Габриэл писал, что он – в Париже, и у него большие проблемы. И впервые он дал свой адрес. Он умолял своего старого друга помочь ему.
Ничего не сказав Мадлен о письме ее отца, Зелеев полетел во Францию два дня спустя – сказав ей только, что ему нужно срочно уехать по делам. Прибыв в Орли после десяти вечера, он поселился в Крийоне, своем любимом отеле, а потом взял такси прямо на рю Клозель, неподалеку от Пигаль.
При виде дома рот Зелеева сложился в небольшую гримасу отвращения. Здание само по себе было очень старым и в запущенном состоянии, ступеньки были сломаны в некоторых местах, перила – обшарпанными, и в воздухе стоял запах сырости и затхлости.
На верхнем этаже он постучал в дверь. Никто не ответил. Он застучал громче и резче.
– Габриэл, c'est moi,[92] Зелеев.
Какое-то время не было ответа, а потом он услышал шорох где-то далеко за дверью.
– Я один, Александр, открой.
Ключ повернулся в замке, и дверь открылась.
– Привет, Константин.
– Я уж подумал, что ты оставишь меня здесь, снаружи, одного – в этой дыре.
– Заходи, заходи – хотя внутри не лучше, – Александр закрыл дверь и быстро опять повернул ключ в замке. – Спасибо, – сказал он.
Зелеев уставился, даже не стараясь сделать вид, что он не шокирован. Мужчине, который стоял перед ним, не было еще пятидесяти, но выглядел он лет на десять старше русского. Его волосы поседели и поредели, голубые глаза ввалились и были обведены темными кругами, кожа вокруг рта преждевременно сморщилась, а сами губы были словно изжеваны и потрескались, и он был небрит.
– Не очень приятное зрелище.
– Да, – согласился Зелеев.
– Спасибо, что приехал, – опять сказал Александр, голос его был хриплым. Он вынул измятый платок из кармана брюк и вытер им нос, порывисто, как мальчишка, который старается не заплакать.
– Конечно, я тут же поехал, – сказал Зелеев. – Но почему сейчас? Почему не много лет назад? Почему ты ждал так долго?
Он подумал о Мадлен и обо всем, что ей пришлось пережить, и обрадовался, что не сказал ей.
– Мне нужна помощь.
– Я это вижу и сам.
Габриэл тяжело опустился на постель. Здесь была только одна кровать, расшатанный стол и один стул; никакого ковра или коврика на деревянном полу, у дальней стены стоял треснутый таз.
– Как Магги?
– Красивая, смелая. Повзрослела.
– Она замужем? У нее есть дети?
– У нее сын. Они живут в Нью-Йорке, со мной.
Александр посмотрел наверх, на него, впервые вполне сосредоточившись и слушая.
– Я думал, ты здесь, в Париже, а она – все еще в Цюрихе.
– Ты слишком много предполагал.
– Расскажи мне.
– А тебе есть до этого дело? – приподнял бровь Зелеев.
– Конечно! Господи! Да я думаю о ней все время.
– Она тоже всегда о тебе думала, – сказал Зелеев с намеренной жестокостью. – Подозреваю, что думает и сейчас – иногда. Может, если бы ты писал ей – или сказал, где ты находишься…
– Я не мог.
– Почему? Страх?
– Тебе даже и в голову не придет… – сказал Александр.
– Ты всегда был трусом. Боялся своей жены, своей матери – боялся ослушаться их правил… вдруг они выдадут тебя или сдадут в тюрьму.
Зелеев сделал паузу.
– Да если б Мадлен была моей дочерью, я б лучше сел в тюрьму, чем потерял ее.
– Мадлен?
– Ты ничего не знаешь о ней.
– Расскажи мне, – попросил опять Александр. – Пожалуйста.
* * *
– Если б я только знал… – проговорил он позже.
– И что б от этого изменилось? – спросил Зелеев. – Ты вернулся б назад в Швейцарию или приехал сюда?
– Может быть.
– Что ж, этого мы никогда не узнаем.
В замызганной комнате наступило молчание.
– На чем ты?
– Морфий, – ответил Габриэл. – Ты поможешь мне, Константин?
Он взглянул на свои руки, увидел, что они дрожат, на грязь, скопившуюся под ногтями, и посмотрел на пришедшего.
– Я не буду клясть тебя за отказ.
– Какая помощь тебе нужна? Что ты натворил?
– Я просто сошел с ума.
Он помолчал.
– Несколько недель назад, в Амстердаме, я отчаянно нуждался в деньгах. Мой обычный источник иссяк, и я пошел к ростовщику. К настоящей акуле, – он облизнул губы. – И я сделал именно то, что поклялся никогда не делать – я оставил в залог Eternité.
Его глаза нервно метнулись к Зелееву, а потом он отвел взгляд.
– Продолжай.
Позже, той же ночью, рассказал Зелееву Габриэл, полный раскаяния и отваги, подогреваемой морфием, который ему удалось купить, он вернулся к офису ростовщика, вломился туда и украл скульптуру. Назавтра, поняв всю необъятность глупости, которую он вчера сморозил, он сбежал из Амстердама в Париж, надеясь, что Зелеев – единственный человек на свете, который может понять его потребность хранить при себе Eternité – и что тот по-прежнему живет в городе, в котором оставил свой адрес. Эти полторы недели, с того дня, как отправил письмо, Александр жил в постоянном страхе и ужасе, едва рискуя выходить наружу из снятой квартиры. Он больше не знал, что делать, куда бежать и где прятаться Он знал так много стыда и позора в этой жизни, упускал своими руками каждый шанс, который мелькал перед ним с тех пор, как его мать и Эмили вышвырнули его из дома. Но подойдя так близко к потере скульптуры, которую, он знал, Амадеус хотел оставить его дочери, Александр испугался и был совершенно раздавлен чувством вины.
– Хорошо, – сказал Зелеев.
– Ты поможешь мне?
– Где скульптура?
– Здесь, – Габриэл шевельнулся, но Зелеев его остановил.
– Не сейчас.
– Ты не хочешь видеть ее?
– Конечно, хочу. Но не сейчас.
Мощная волна радости захлестнула его при мысли о том, что он опять увидит Eternité. Его шедевр… Но прошло целых десять лет с тех пор, как он видел его в последний раз. Зелеев был человеком стиля. Момент должен быть выбран подходящий.
– Сначала, – сказал он Габриэлу, – мы засунем что-нибудь в твой желудок. Тебе нужно подкрепиться, чтоб мы могли поговорить и обсудить наши планы на будущее.
– Но у меня здесь ничего нет…
– Еще бы! – Зелеев отправился к двери, голова его стала раскалываться от усталости. – Я куплю что-нибудь поесть – закрой за мной дверь.
Он оглянулся.
– На тебя можно положиться, Александр? Если ты опять будешь накачивать себя этим дерьмом – тогда считай, пришел конец моему сочувствию и дружбе.
– Мне нельзя доверять, – слабо ответил Габриэл. – Но у меня ничего не осталось, и нет наличных денег, а если учесть, что ты будешь ходить недолго… в общем, ты найдешь меня таким же, как и оставил.
Не теряя времени, Зелеев ушел и вскоре вернулся с теплым жареным цыпленком, батоном хлеба, свежими аппетитными сырами и бутылкой водки, прихваченной в основном для того, чтобы взбодриться после долгого и утомительного путешествия. Более молодой оказался очень голодным – он отрывал большие куски хлеба и с жадностью набросился на цыпленка, но в течение ужина несколько раз давился и начинал кашлять, и Зелеев снисходительно наливал ему водки несколько глотков, памятуя о морфии, который до сих пор бродил в его крови.
– Отлично, – сказал наконец Зелеев. – Теперь я готов.
Он чувствовал, что эмоционально и физически достаточно созрел, чтоб видеть сейчас то, за чем – как он понял сейчас – он приехал в Париж. Нет, конечно, в основном ради Мадлен – но если художник создает всего один уникальный шедевр за всю свою жизнь, то без сомнения, этим его шедевром была Eternité.
Габриэл опустился на колени и достал сверток из-под кровати, и увидев, что Александр завернул скульптуру в отвратительную грязную пижаму, Зелеев ощутил укол настоящей боли. Он знал цену этой скульптуре, видел ее красоту и знал источник этой красоты и совершенства, и вдохновения – как не знал никто другой и не узнает никогда. Ей место – на бархате, под защитным стеклом. Не в этой грязной затерянной черт знает где комнате. Не в дрожащих руках этого сентиментального, ничего не стоящего, просто ничтожного человека.
А потом, с бережностью и даже нежностью, на какие его считал неспособным Зелеев, Александр поставил ее на стол.
– Боже правый! – у Зелеева захватило дух. – Она совершенна.
Почти с кошачьей бесшумностью и проворством он подошел к столу. Он рассматривал ее сначала всю целиком, узнавая ее – как отец, спустя десятилетие, видит, что его дитя стало взрослым. Он видел проработанный рельеф золотой горы, филигранный каскад Амадеуса, великолепные драгоценные камни Малинских и свои plique-a-jour и cloisonne,[93] и он убедился – да, это был тот самый почти невозможный в своем совершенстве бесценный шедевр, который хранила его память. Господи, хоть время на этой земле не обмануло и не предало его!
– Она цела и невредима, – произнес он, смягчаясь.
– Ты думаешь, я способен причинить ей вред? – спросил Александр. – Зная, что она значила для отца – и для тебя тоже?
Зелеев взял бутылку с водкой.
– За Амадеуса, – сказал он и выпил залпом. – За Ирину.
Он выпил опять.
– Можно мне? – спросил другой мужчина, неуверенно – как мальчишка.
– Разве что совсем чуть-чуть.
Зелеев сел на стул, нога на ногу, и стал долго и с наслаждением рассматривать свое творение. Он наклонялся вперед и с невыразимой нежностью и осторожностью приподнимал висячие драгоценные камни, проверил свое клеймо под сапфиром и позволил кончику указательного пальца задержаться на инициалах Ирины под золотистым алмазным солнцем.
– Как она прекрасна, – проговорил Александр, тяжело опускаясь на кровать.
Зелеев игнорировал его слова – как и само его присутствие. Он держал бутылку водки в левой руке и периодически отпивал из нее, и ему стало казаться, что тошнотворная окружающая реальность, в которой они сейчас сидели, стала постепенно таять и исчезать, пока он пил – словно грация и прелесть, и магическая сила красоты и священного смысла скульптуры смогли уничтожить эту мирскую грязь.
– На это ушло пять лет, – сказал он.
– Я знаю.
– Ничего ты не знаешь!
Врожденная русская экспансивность вдруг проснулась в нем – она лишь дремала на дне его души и сердца, как осадок на дне вина. Он вдруг впал в поэтическое, даже идиллическое настроение, так глубоко взволнованный Eternité и обилием и роскошью воспоминаний, нахлынувших на него, и неожиданно он ощутил потребность говорить, вспомнить вслух тот период жизни, когда они с Амадеусом делали эту скульптуру.
– Разве ты знаешь, от чего я тогда отказался? – говорил он мягко. – Мое время, жизнь, которая сложилась после отъезда из России – все, чего я достиг, образ жизни… Амадеус же не потерял ничего – без Ирины он был ничто.
– Но ты был к нему привязан…
– А почему бы и нет? Я был тронут им – его мечтой. Но он никогда не знал – и так и не узнал, как не знаешь и ты – сколько я сделал для него. Что я сделал…
Зелеев опять выпил из бутылки.
– Твой отец был глупцом, дураком во многих отношениях, и я не раз говорил ему об этом, и он улыбался и знал, что я прав. Но он хотя бы знал, как любить – не то что ты, Александр.
В неожиданном порыве сочувствия и симпатии он протянул Габриэлу бутылку, позволил хлебнуть дважды, а потом отнял опять.
– Любить – это талант, mon ami.
– У меня никогда не было особых талантов, – развел руками Александр. – Ни к чему на свете.
– У Мадлен – есть, – продолжал Зелеев. – Как у Ирины – она знала, как любить… порывисто, щедро, сильно. Она совершала ошибки, она выбирала неосторожно и неблагоразумно – она б научилась, если б ей было отпущено время. Мадлен очень похожа – страсть вместо рассудка… но она научится.
Он слегка улыбнулся.
– Я ее научу.
– Я хочу видеть ее, – Габриэл облизнул свои пересохшие губы кончиком языка. – Господи, у меня во рту сухо. И я – трезвый. Дай мне бутылку.
Зелеев убрал бутылку.
– Мне нужно выпить.
– Ты хочешь видеть свою дочь или пить? Что-то я не пойму.
– Ты не всегда был таким бессердечным.
– Больше из жалости. Взгляд Зелеева стал жестче.
– Чего ты ждешь от меня, Александр? Что я, по-твоему, должен делать? Заплатить тем людям из Амстердама?
– Я не знаю…
– Разве ты не понимаешь – даже если я заплачу твои долги… ведь они уже видели Eternité, они уже поняли ее ценность.
Он опять наклонился через стол и любовно погладил скульптуру.
– Они возьмут мои деньги, а потом заберут еще и скульптуру.
– Может, и нет, – с надеждой проговорил Александр.
– И ты собираешься рискнуть? – Тон Зелеева становился все холоднее. – Разве для Мадлен уже не достаточно потерь? Ты что, не понял, что я тебе рассказал о ее жизни?
– Да, конечно! – ввалившиеся глаза Александра наполнились слезами. – Все, что я наделал, все мои ошибки, моя вина – я знаю, я знаю.
– Тогда самое важное для нас – сохранить Eternité для нее, – русский опять говорил мягко. – Утром, в первую очередь, я положу ее в банковский сейф – пока ты не будешь готов передать это Мадлен собственноручно.
– Как я могу встретиться с ней – лицом к лицу?
– Я найду тебе врача, Александр, – Зелеев опять взял бутылку и посмотрел на Габриэла сквозь пустой стакан. – Но ты знаешь – тебе придется покончить с такой жизнью, с этим твоим миром, mon ami. Ты должен приготовиться взглянуть в лицо своему прошлому и будущему – так же, как своей дочери.
Он посмотрел на дрожащие руки Александра.
– Ты – наркоман, – сказал он просто. – Тебе нелегко будет бросить.
– Но я хочу.
– Но тебе, прямо сейчас, нужен морфий, n'est-ce pas?
– Ты ведь сам знаешь – да.
– А мне нужна водка – но только водка, и то редко теперь. И я по-прежнему от нее встаю на дыбы – ты помнишь это, Александр? Она всегда вливала жизнь в мою мужскую штучку, подбавляла жару, ты помнишь?
– Конечно, я помню, – уныло ответил Александр.
– Та ночь, – настаивал Зелеев, разгоряченный спиртным. – И это ты помнишь – да? И это? Нет, ты не помнишь – и к лучшему, ох как к лучшему!
– Не напоминай, – Александр, сидевший, сгорбившись, на кровати, спрятал лицо, зарывшись в старый продавленный матрац.
– Просто помни о всех трудностях, друг мой. Тебе нужно их все одолеть, если ты хочешь увидеть Мадлен. И своего внука.
– Расскажи мне о Валентине, – попросил Габриэл, отчаянно хватаясь за перемену темы. – Он золотоволосый – как Магги?
– Темноволосый – как его отец, с темно-голубыми глазами, иногда совсем цвета индиго… при другом освещении, – Зелеев помолчал лишь секунду. – Если ты будешь сообразительным, ты поймешь – теперь отличный момент для Стефана и Эмили. Теперь, когда даже твой сын – на которого они возлагали столько надежд, которого так баловал его отчим… пошел по стопам всех Габриэлов… разочарование только распалит их угрозу.
– Перестань, – Александр еще глубже зарылся лицом в ладони.
– Твой сын – порченый, ты знаешь, Александр?
Дрожащие руки взлетели в стороны от побелевшего лица Александра.
– Что ты имеешь в виду?
– Руди, твой сын – гомосексуалист. Милый, хороший молодой человек, но только – гей. Догадываюсь, как взбешен его отчим.
– Бедный малыш Руди!
– Ему уже двадцать два, mon ami. Высокий и красивый – так похож на сестру, которую он обожает. Мне он нравится – очень. Он напоминает мне тебя – много лет назад, но он – сильнее.
– Какой ты жестокий сегодня, Константин!
Зелеев пожал плечами.
– Допустим. Лететь через океан, чтоб пообедать в этой клоаке – это не делает меня добрым. Или я неправ?
Александр ничего не ответил.
– Зачем ты забрал Eternité, Александр?
– Чтоб спасти ее… конечно… и ты это знаешь.
– Тогда завтра утром у тебя будет шанс достичь своей цели.
– Если бы банки были открыты, я бы сделал это немедленно.
– Отлично, – Зелеев широко зевнул. – А теперь тебе лучше отдохнуть.
– А ты не пойдешь в отель? – спросил Александр.
– Я не оставлю тебя одного этой ночью.
– Тогда ложись на мою кровать.
– Тебе привычнее спать со вшами, чем мне, mon ami. Я просто посижу здесь – несмотря на маленькие неудобства. Но я потерплю.
Меньше чем через полчаса Зелеев, допив бутылку водки, крепко уснул, навалившись на стол, лицо его упало на руки. Было уже больше трех ночи. У Александра сна не было ни в одном глазу, и он просто смотрел на русского. Безжалостность Зелеева больно ранила его, но он был достаточно честен перед собой, чтоб согласиться – все справедливо. Да и потом, немногие бросили б все и полетели через Атлантику – к такому дегенерату-неудачнику, каким он себя считал.
– Конечно, – произнес он мягко. – Никто. Кроме Магги.
Этот человек опекал и защищал его дочь, когда собственный отец так и не смог этого сделать. Этот человек двадцать лет назад спас его от тюрьмы и все еще не отрекся от него. И он был единственной ниточкой, тянувшейся к Магги и внуку.
Очень бережно, стараясь не пробудить Зелеева от пьяного сна, он поднял его со стула, обхватил за талию и отвел на кровать. Константин слегка застонал. Александр снял с него щегольские, сиявшие блеском ботинки и укрыл его дорогим, безупречно сшитым пиджаком. Несмотря на тошноту, мутившую желудок, Александр улыбнулся. Да, этот человек никогда не менялся, не расставался со своими дорогостоящими привычками и запросами. Он высоко держал свою планку. Габриэл слегка коснулся рубашки Зелеева из чистого шелка, расстегнул пуговицу у ворота и вдруг напомнил себе, что Зелеев тоже не без греха и изъяна. Уж кто-кто, а Александр лучше других знал, что русский был способен на периоды самого необузданного разгула. Но тем не менее – вот он лежит, по-прежнему джентльмен, такой безупречный и сильный. И все еще друг.
Зелеев начал шевелиться.
– Спи, спи, – прошептал Александр и сел на стул. Вцепившись пальцами в свою пропахшую потом рубашку, он видел, как его руки дрожали, и знакомые боли в желудке опять начались. Ему так отчаянно нужен был морфий – и он лгал, говоря Зелееву, что нет больше дозы. Он был наркоманом. А наркоманы всегда лгут.
Он должен завязать, он знал – это будет самым трудноодолимым решением за всю его жизнь. Он знал свою слабость. Он может не выжить. Но нужно пытаться – иначе нельзя.
Но это все – завтра. Он посмотрел на свои дешевые наручные часы – слабое напоминание о красивых вещах, что он имел в том далеком и уже нереальном прошлом. Ничего не осталось – все ушло на оплату его слабостей. Было четыре утра. Если сейчас он использует последнюю дозу – бодрящий эффект пропадет очень скоро. Значит, ему нужно ждать, стиснув зубы – насколько еще хватит сил. Потому что завтра утром ему нужно действовать, нужно мужество – чтоб выйти из комнаты и вести себя так, как другие на улице. Нормальные, здоровые. Обычные люди.
Он опять почувствовал тупую боль в желудке и подавил стон. Он протянул руку и коснулся скульптуры, которая стала еще больше значить теперь для него. Самое дорогое, что было у его отца. И теперь, больше, чем когда-либо, он был уверен – она принадлежит Магги. И если он сможет сделать всего одну только вещь – отдать Eternité в ее руки, увидеть опять в глазах ее радостный блеск… Господи, это стоит всех самых невероятных усилий на свете.
Он посмотрел опять на Зелеева, зябко свернувшегося на кровати, которую он отверг. Его ресницы слегка трепетали, и рыжие усы взлетали вверх-вниз от ровного дыхания.
Александр промокнул вспотевший лоб рукавом.
– Я на страже, мой друг, – прошептал он чуть слышно. – Ни одна тварь не будет пить твою кровь, пока я с тобой.
Когда Зелеев проснулся, с чугунной головой, около десяти, Александра не было в комнате. Он сел, ощущая, как кровь стучит в висках, а потом быстро встал и пошел посмотреть, нет ли Габриэла в ванной.
– Merde![94]
Вещи Александра были все на месте – но его собственный пиджак исчез, как исчез и старый чемодан, который он заметил вчера у стены. И пропала скульптура.
Бешенство разлилось по его телу, как горный поток. Какой он дурак, тупица и тряпка! Он подошел к надтреснутому тазу, налил холодной воды и ополоснул лицо, потом вынул платок из кармана и вытерся. Его бумажник остался в пиджаке – там достаточно денег для недельной дозы морфия, больше чем достаточно, чтоб купить Александру билет в один конец – на небеса. Может, он уже мертв, валяясь один, Бог знает где.
Зелеев вдруг отряхнулся, как собака – боль в его голове была просто чудовищной. Такого похмелья он не знал вот уже много лет. И это теперь, когда ему нужно решать, нужно думать, иметь ясную голову… Дверь распахнулась.
– Где тебя черти носили?
– Сделано!
– Где она?!
– В надежном месте.
– Ради всего святого, что ты сделал с моей скульптурой?
Александр опять дрожал – от волненья и усилий, ему нелегко было взбираться по ступенькам. Но глаза его были почти сияющими, и в них явно читалось удовлетворение. Он поставил чемодан и тяжело сел на кровать.
– Извини за пиджак, – сказал он, снимая его осторожно. – Мой собственный жутко заношен. А в твоем я выглядел почти респектабельно.
– К черту мой пиджак! – взревел Зелеев. – Где Eternité?!
Он схватил чемодан, но понял по весу, что он пустой, и отшвырнул его прочь.
– Александр, сукин сын, говори, что ты наделал!
– То, что ты мне сказал, – Габриэл неожиданно обмяк. Он уже использовал свою последнюю дозу морфия в семь утра – иначе он не мог бы справиться со своей задачей. А теперь он уже вплотную подошел к началу ломки и жутко боялся. – Она в банке, в Национальном Банке, на бульваре Рошешуар. В их сейфе.
Зелеев опустился на стул.
– Почему ты не разбудил меня?
– Зачем? – Александр все еще дышал с трудом. – Да и потом… мне было так важно сделать самому.
Русский молчал.
– Ведь именно этого ты и хотел, – сказал Александр. – Ради Магги.
– Да.
Александр посмотрел на него.
– Я напугал тебя. Извини.
– Пустяки.
– А что теперь? – вопрос был нерешительный, робкий. – Мне нужен врач, Константин.
Он запнулся.
– Если мне срочно не помогут – со мной все кончено.
Зелеев, немного придя в себя, пошел и взял с кровати пиджак, смахивая пыль и встряхивая его.
– Пойдем в отель Крийон – мне нужно принять ванну, а позже мы можем позвонить Магги.
– Нет.
– Почему?
– Я не могу идти в хороший отель в таком состоянии. Посмотри на меня… ты думаешь, я не понимаю, как я выгляжу? – он потер рукой глаза. – Да и потом, пройдет еще несколько часов – и я не смогу вести связную беседу. – Он взглянул наверх, и его рот задрожал от волнения. – Я хочу говорить с ней. Лучше сделать это прямо сейчас, или будет слишком поздно.
– Но сейчас еще нет и пяти в Нью-Йорке. Ты об этом подумал?
– Ты думаешь, она будет недовольна? – Его темные глаза были умоляюще заискивающими.
– Конечно, нет, – смягчился Зелеев. – Ты готов с ней говорить?
– Я не уверен, что вообще когда-нибудь буду готов.
За три с половиной тысячи миль от почтового отделения на бульваре де Клиши, в квартире Зелеева на Риверсайд Драйв, Мадлен услышала звонок телефона и оторвала голову от подушки, едва соображая после сна.
– Мадлен?
– Константин? – в гостиной было еще темно. – Что-то случилось? Плохое?
– Вот уж нет, – Зелеев сделал паузу. – Со мной рядом кое-кто, кто хочет с тобой поговорить.
– Кто это? – она терла глаза. – Ной?
– Твой отец.
Мадлен почувствовала, как ее ноги слабеют, и она схватилась за стену.
– Папа?
– Он здесь, здесь, ma petite. Даю ему трубку. Она едва могла дышать.
– Магги?
Горячие слезы хлынули у нее из глаз.
– Папа? – она тесно прижимала к себе трубку. – Это, правда, ты?
– Правда, я, – у Александра перехватило горло. – Как ты, Магги?
– Хорошо, папочка… – ее голос дрожал и прерывался. – А ты?
– Не так уж плохо, Schätzli.
– О, Господи! – проговорила она.
– Я знаю.
Это было так странно и неловко – неожиданное и растерянное словесное воссоединение двух людей, которые так лелеяли свое прошлое, любили свои воспоминания – почти что миф. Александр оставался для Мадлен ее удивительным, любящим и ласковым, всегда обнимавшим ее папочкой, трагичным в своих заблуждениях, но всегда бесконечно любимым. А он так мечтал увидеть опять свою Магги, свою малышку с упрямыми волосами, с запахом детства, великодушную и порывистую девочку Магги.
– У тебя теперь есть внук, – сказала она ему взволнованно и быстро. – Ты уже знаешь?
– Мне сказал Константин, – ответил Александр. – Твой муж… – он колебался. – Мне так жаль, Магги, так жаль…
– Как он нашел тебя, папа? Или это ты нашел его? Ты приедешь вместе с ним? – слова так и рвались из нее.
– Нет еще, Магги – но скоро… очень скоро.
Она услышал дрожь в его голосе.
– Но почему, папа? Почему?
– Пока это невозможно.
– Тогда я приеду к тебе!
– Нет, Магги.
– Ради Бога, не нужно… не нужно терять больше времени, – она умоляла. – Я люблю тебя, папа! Я так люблю! Все остальное неважно – неважно… ничто!
Мадлен рыдала, и голос ее обрывался, но она бросилась вперед, боясь потерять хоть секунду.
– Я знаю, что случилось тогда… той ночью в Цюрихе, но мне все равно… я хочу, чтоб ты приехал ко мне, приехал домой! Я хочу дать тебе Валентина… ты возьмешь его на руки… папочка!.. он такой чудесный… самый лучший ребенок на свете…
– Прости меня, Магги.
– За что? Что мне прощать?!
– Я знаю, что я наделал, Schätzli. И я никогда не смогу объяснить и искупить…
– Папа, не надо, это все…
– Нет, подожди, пожалуйста… Я просто хочу, чтоб ты знала, как я люблю тебя, Магги. Как я жалею обо всем, что случилось – больше, чем ты даже можешь представить – и чтоб ты знала, я буду пытаться… изо всех моих сил.
– Я слышу тебя, папочка, слышу, – Мадлен едва могла говорить, но она все пыталась сказать. – Мы будем ждать тебя, папочка… Руди и я… он скоро приедет… скоро. Константин сказал тебе про Руди? Он так вырос… он такой замечательный! Я даже и не мечтала, что мы снова будем все вместе…
В трубке затрещало, и его голос стал слабеть.
– Магги, ты еще меня слышишь?
– Да, папочка, да!
– Храни и благослови тебя Бог, Schätzli.
– И тебя, папочка, и тебя!
Связь прервалась – в трубке стало тихо. И в темноте гостиной, в тихой квартире на Риверсайд Драйв Мадлен стояла неподвижно с телефонной трубкой в руке, и слезы радости и потери лились по ее щекам.
Зелеев отвел Александра назад в ту жуткую комнату на рю Клозель, а потом опять ушел и вернулся, принеся два сэндвича с ветчиной, сыр и бутылку вина.
– Еще я купил аспирин, – сказал он Габриэлу. – Чтоб тебе стало полегче, если будет ломать. Да, и вот еще…
Он положил на стол книгу.
– Я помню, ты обожал Чандлера. Александр взял ее.
– Спасибо. – Его руки опять дрожали, и он быстро положил книгу на стол. – Тебя долго не будет?
Зелеев покачал головой.
– Мне нужно принять ванну и немного отдохнуть.
– Я закрою дверь.
Русский ободряюще улыбнулся, почти ласково.
– Не бойся так, Александр. Если никто не вышел из тени сегодня утром, когда ты шел в банк, значит… сомневаюсь, что они знают, где ты.
Он сделал паузу.
– Ты хочешь, чтоб я забрал с собой ключ от сейфа – для надежности?
– Нет, спасибо. Со мной полный порядок, – Александр снял свой изношенный пиджак. Он начал покрываться потом. Телефонный разговор выжал его, и он надеялся, что сможет уснуть. – Как я рад был слышать ее голос, Константин! Я никогда не смогу ничем отплатить тебе за твою доброту.
– Просто оставайся здесь, mon ami. Не исчезай опять. Это все, о чем я прошу, – Зелеев пошел к двери. – Когда я немного отдохну, разузнаю про хорошего врача. А потом вернусь сюда.
– И все же я не могу перестать благодарить тебя. За то, что примчался сюда по первому зову, а теперь… это больше, чем я заслужил.
Зелеев пожал его руку.
– Просто не огорчай больше Мадлен. Думай о ней. И о внуке.
Роскошь и комфорт отеля Крийон были просто бальзамом для Зелеева после похмелья, и вообще он устал. И он нырнул в глубокую ванну и нежился там, пока вода не остыла. А потом уснул на мягких хрустящих простынях в большой чистой постели, и все его сны были прекрасными: Мадлен, с золотистым алмазом Ирины на шее, и Eternité, выставленная на мягчайшем бархате на обозрение обмершей от восхищения публики…
Он проспал до шести, и резко проснулся, голодный, и съел превосходных жареных голубей на обед, выпил рюмку коньяку в баре, а потом, чувствуя себя бодрым и посвежевшим, заставил себя вернуться на рю Клозель.
Его нос морщился от отвращения, когда он поднимался по ступенькам и стучался в дверь. Как и в прошлый раз, ответа не последовало, и поэтому он забарабанил сильнее.
– Александр! – звал он громко, а потом, не услышав ничего в ответ, заколотил еще усерднее, и звал опять и опять.
Согнувшись, он приложился глазом к замочной скважине. Ключ был по-прежнему в замке. Ничего не оставалось, как только вышибить дверь. Немного отойдя назад и благодаря свою физическую силу он саданул по двери правым плечом, и дверь поддалась с сильным треском.
Габриэл лежал навзничь на кровати. Зелеев перевернул его, пощупал пульс на шее и понял, что он мертв, и заметил, что бутылка с аспирином на полу возле кровати была пустой. Два листка сложенной бумаги лежали на столе. Взяв их, Зелеев увидел, что это были листки обложки Чандлера, оторванные из-за отсутствия писчей бумаги. Он быстро пробежал их глазами. Почерк Александра был торопливым и дрожащим, но смысл записок был ясен. Он не хочет быть оставленным в одиночестве в Париже или отвезенным в Швейцарию. Он просит Константина о последней услуге – сделать так, чтоб его тело было отправлено в Америку, к его любимой дочери.
Его записка к Мадлен была очень короткой, но трогательной и мучительно-горькой.
«Я бы только огорчил тебя опять. Прости меня, если можешь».
Приехала полиция, и карета медицинской помощи увезла тело. Они взяли обе записки, дали Зелееву расписку и обещали вернуть их так скоро, как только возможно.
– Если хотите, мы вас уведомим, – сказал офицер, – что нет никаких осложнений.
– А они могут быть? – полюбопытствовал Зелеев.
– Это все вещи мсье Габриэла? – ответил вопросом на вопрос другой офицер.
– Насколько я знаю.
– У покойного не было дома, как вы нам сообщили?
– Он был наркоманом, – сказал Зелеев. – Он вел кочевую жизнь.
– И вы считаете, он умер от чрезмерной дозы аспирина?
– Бутылка была полной, когда я уходил от него днем.
Зелеев сделал паузу.
– Думаю, сегодня утром он употребил морфий, хотя мне сказал, что у него больше его нет. Только аспирин. – Зелеев посмотрел полицейскому в глаза. – Я дал ему только аспирин.
– Зачем вы это сделали, мсье?
– Потому что знал – ему что-нибудь потребуется. И подумал, лучше пусть он заглотит немного аспирина, чем пойдет искать наркотики. Бог знает, какой дряни он мог бы наглотаться.
– Вы не думаете, что у него были причины покончить с собой?
– Напротив, – ответил Зелеев. – Когда я уходил, Александр был… Он казался полным надежд и собирался искать помощи, чтоб покончить с наркоманией.
– А что вселило в мсье Габриэла эти надежды?
– Я сопровождал его на почтовое отделение – чтоб он мог поговорить по телефону с дочерью. Они не говорили друг с другом вот уже много лет, и этот разговор был для него огромной радостью. В сущности, единственным выходом. Она хотела, чтоб он приехал в Америку и жил с ней и внуком.
– Тогда, как вы думаете – почему же он принял такую дозу аспирина?
– Боязнь поражения, – спокойно ответил Зелеев. – Похоже, я недооценил тяжести его состояния. Совершенно очевидно, что его нельзя было оставлять одного.
Он опять сделал паузу.
– Хотя, конечно, он по большей части был один вот уже много лет.
– Итак, вы не знаете ничего определенно, мсье?
– Нет.
Зелеев сделал все необходимое для того, чтоб гроб с телом Александра мог быть отправлен в Нью-Йорк неделей позже. Зелеев не мог решиться сообщить страшную новость Мадлен по телефону, и он боялся за ее рассудок, если она будет встречать их в аэропорту.
Были улажены все формальности и подписаны необходимые бумаги, и он мог свободно покинуть Париж, но Зелееву нужно было сделать еще один визит. С того самого момента, когда он увидел труп Александра, он знал, что сделает это, что это было его право. Он поступает правильно.
Он вынул ключ из кармана брюк Габриэла, прежде чем позвонить в скорую. Если б они нашли его, начались бы бесконечные вопросы, и нет никакой гарантии, что скульптура добралась бы наконец до Мадлен. У него есть теперь ключ, и если необходимо, он может предоставить и acte de décès[95] и документы, дающие ему право на соответствующие распоряжения и сопровождение тела своего друга в Соединенные Штаты Америки.
Он приехал в банк на бульваре Рошешуар вскоре после десяти утра в свой последний день в Париже. Он вышел оттуда через час, с пустыми руками. Бешенство просто душило Зелеева. Предпоследний поступок Александра Габриэла был – сознательным или бессознательным, этого Зелеев никогда не узнает – предательством их дружбы. Его инструкции банку были четкими и недвусмысленными. Никто, кроме самого Габриэла или его дочери Мадлен Боннар, урожденной Магдален Габриэл, причем лично, не имел права доступа к содержимому сейфа.
– Но мадам Боннар живет сейчас в Нью-Йорке, – повторял Зелеев управляющему.
– Я уверен, что она захочет, согласно инструкции, посетить нас лично в Париже.
– Но я боюсь, ей будет тяжело приехать сюда.
– Тогда я очень сожалею, мсье – но до этого момента сейф останется невскрытым.
Зелеев знал, что теперь, сильнее, чем когда-либо, Мадлен не захочет возвращаться в Париж, и даже если б она захотела поехать, все это не так просто. Она недавно начала работать в Нью-Йорке без официальных документов, и у нее будут трудности с иммиграционной службой, когда она захочет возвратиться в Соединенные Штаты. Он клял последними словами неожиданную ясность и рассудительность ума Габриэла, который по идее должен был быть одурманен и разрушен наркотиками. Этот придурок сначала дал исчерпывающие инструкции Национальному банку, а потом сделал для Мадлен необязательным ее приезд в Париж для организации похорон во Франции. Если б Зелеев знал, что все так обернется, он бы уничтожил эту злополучную записку, никогда не позволил бы полиции прочесть ее.
Ему было трудно поверить, проглотить эту пилюлю, избавиться от горечи и бешенства, которое душило его, когда он думал об этом. Господи, каким он был идиотом! Eternité была в его руках – пусть ненадолго. А теперь он ее проворонил. Она заперта. Она ускользнула из его рук. Она – вне досягаемости. Ему придется вернуться в Нью-Йорк, к Мадлен, ни с чем. Кроме гроба.
Через две недели состоялись похороны. Шел теплый дождь. Стоя у открытой могилы отца, рядом с братом и Константином, Мадлен пыталась слушать пустые слова священника, старавшегося восхвалять человека, которого он даже не знал.
АЛЕКСАНДР ЛЕОПОЛЬД ГАБРИЭЛ
ЛЮБЯЩИЙ И ЛЮБИМЫЙ ОТЕЦ МАДЛЕН И РУДОЛЬФА
1915–1964
Это новое горе было совсем другим, оно так отличалось от всепоглощающей муки, которая разрывала ее после смерти Антуана. В этой утрате, она понимала – даже сейчас – было что-то от умирания мечты, которая питала ее большую часть жизни. Мадлен было семь лет, когда отец исчез из их дома, и с тех пор Александр был лишь постоянно ускользавшей грезой, которая иногда материализовывалась. И этот единственный телефонный звонок… когда оба они смогли наконец высказать, как они любят друг друга… этот звонок помог ей вынести боль страшной новости, которую привез ей Зелеев из Парижа, сделал даже этот момент безысходной агонии чуть легче. Если б Александр приехал в Нью-Йорк, и она видела б его день за днем… кто знает, может, ей пришлось бы осознать все его слабости. Ведь знать и осознать – это разные вещи. А теперь, навсегда, ее отец останется для нее некой абстрактной силой, в которой черпала надежду ее душа и фантазия.
Никто по-настоящему не знал Александра Габриэла. В его жизни были стороны, о которых, Мадлен понимала, она не знала совсем ничего – но разве это значило что-то, тем более теперь? Одна мысль разрывала ей сердце, когда она бросала комья холодной американской земли на его гроб. В сущности, он был похоронен заживо уже много лет – своей собственной болью и чувством вины, и скорбью. И Мадлен, даже под конец, так и не смогла ему помочь.
Он был ее отцом, и она любила его и любит сейчас.
14
– Что я могу Вам предложить сегодня, мсье?
– Как насчет белой рыбы?
– Превосходная, мсье.
– Я возьму два фунта. А осетр?
– Magnifique,[96] как всегда. Сколько вы хотите?
– Не торопите меня. Что мне лучше взять – белую рыбу или осетра?
– А почему не все вместе, мсье?
– Как пахнет рубленая селедка – можно просто умереть!
– Сегодня воскресенье, мсье – у вас хватит времени, чтоб съесть еще и это.
– От сельди у меня сердцебиение.
– Тогда только белую рыбу и осетра?
– Послушайте, да вы напористы, вы знаете это?
– Извините, мсье.
– Ничего, ничего, все о'кей – чтобы дать вам возможность побыть настоящим ловкачом, я куплю еще, пожалуй, фунт копченой лососины.
– Шотландской, мсье?
– Да вы что, думаете, я – Рокфеллер?
Шел 1965-й, и Мадлен работала упорнее и больше, чем когда-либо, больше даже, чем в Париже – но ей было все равно. Она нашла себе две работы, обе неподалеку от квартиры Зелеева. Одна из них – в Забар и K°, прославленном магазине деликатесов на Бродвее, известном в последние тридцать лет своим иудейским уклоном. Но сегодня в продаже были сорок видов хлеба, свежеподжаренного кофе, прилавки просто ломились от сыров и ставшей даже еще более популярной старой доброй копченой рыбы и разных колбас. По понедельникам и вторникам Мадлен работала в Забаре с двух дня до половины двенадцатого ночи, отдавая утро Валентину. Со среды по субботу она работала в утреннюю смену, и проводила с сыном день, прежде чем пойти на вторую работу в ресторан около Тайм Сквер. Там она обслуживала столики с шести вечера до времени закрытия и надевала смокинг, чтобы петь песенки из популярных шоу вместе с другими официантами и официантками. По воскресеньям, самым удобным для Зелеева дням, когда у него было много времени для Валентина, она работала весь день с девяти утра до полуночи в Забаре. Мерри Клейн, владелец, бранил ее, что она так надрывается на работе, но Мадлен, наоборот, старалась быть как можно больше занятой. Когда она работала, все ее горести уходили куда-то на самый краешек ее сознания – да и потом, чем больше она работала, тем больше денег было у нее для семьи.
Ее единственной целью теперь было создать спокойную и безопасную жизнь для Валентина. А еще она надеялась в один прекрасный день хотя бы частично вознаградить Зелеева за его щедрость и великодушие, и она хотела вернуть долг семье – неважно, как часто Руди повторял ей, что это просто ерунда. Но все это – в будущем, о котором она определенно знала только одно: то, что оно совершенно неопределенно. Единственным требованием Зелеева было – она должна снова начать петь. И когда она наконец предприняла первую, робкую и стыдливую попытку выступать, даже ночи ее стали заняты работой. По всему городу были разбросаны ночные клубы, где новичков привечали и поощряли – если, конечно, они приглянулись – спеть песню-другую. Шли месяцы, и Зелеев и Руди частенько сидели среди гостей в Бон Суар или в О-го-го! или Баре № 1, расположенных в Гринвич-Виллидж. Иногда она пела в Рэт Финк Рум у Джекки Кэннона, кабачке, где посетители пили, в основном для того, чтоб служить потом мишенью изощренных насмешек и измывательств Кэннона, и где уж совсем туго приходилось незнакомцам, которым «посчастливилось» чем-либо ему не угодить. В эти ночи Мадлен одевалась в черное, взбивала свои короткие волосы так, что они начинали отливать белым золотом в свете прожекторов, и называла себя Мадди Габриэл – потому что так легче произносить. И ей так нравилось.
Руди успешно перебрался на Манхэттен как раз перед Рождеством 1964-го. Он нашел квартиру на двадцатом этаже импозантного здания на Пятой Авеню, по своему вкусу, недалеко от Вашингтон-сквер. Каждое утро, встав гораздо раньше, чем обычно в Цюрихе, он шел в банк на Брод-стрит, в самом сердце района Уолл-стрит, и упорно осваивал искусство и науку обращения с вкладами. Он вдруг обнаружил, что делает это с удовольствием, чего с ним никогда не случалось раньше.
– Знаешь, оказывается, у меня есть интуиция, – говорил он с удовлетворением Мадлен. – Я даже и не подозревал об этом раньше! Я просчитаю пятнадцать различных вариантов, прежде чем приму решение.
Руди тоже понравилась жизнь Гринвич-Виллидж – она была таким восхитительным контрастом его дневному существованию удушенного белым хрустящим воротничком и галстуком молодого человека. Почти каждый вечер он отправлялся на обед в какой-нибудь из бесчисленных оживленных ресторанчиков и итальянских кафе на Бликер-стрит или забирался чуть подальше в саму Маленькую Италию или в колоритный треугольничек Чайнатауна. После приятного обеда он возвращался домой отдохнуть пару часиков, а потом, взбодренный и посвежевший, снова выходил из дома, чтобы поддержать сестру, когда она где-нибудь пела, или поняньчиться с Валентином, чтоб Зелеев мог тоже пойти послушать Мадлен. Руди легко заводил друзей; нью-йоркцам, с которыми он сталкивался, нравилась его открытая прямая натура и легкость в общении даже с незнакомыми людьми, и он чувствовал себя гораздо свободнее, внутренне и внешне, и смелее. Этот переезд так много ему дал, что Руди просто не мог нарадоваться, как это он так легко и удачно совершил самый мудрый в его жизни шаг. Единственным огорчением для него было то, что Мадлен по-прежнему упорно отказывалась принимать от него финансовую помощь.
– Одно дело – что ты покупаешь подарки Валентину, – настаивала она мягко. – Но деньги – это совсем другое. Пойми, Руди, я просто не могу позволить тебе платить за наше жилье, и мы не можем переехать к тебе. Ведь у тебя самого не так много места.
– У меня столько же места, сколько и у Константина.
– Но не больше, и даже если б и было…
– Ты бы не переехала, потому что банк платит за мою квартиру, – закончил за нее Руди.
– Не обижайся, пожалуйста, Руди, не обижайся.
– А я и не обижаюсь, но почему ты не хочешь понять, как мне хочется тебе помочь?
– Спасибо, я так тебе благодарна, но ты должен меня тоже понять.
– Я знаю, знаю. Я понимаю, – он уже слышал это и раньше. – Но почему я просто не могу одолжить тебе какую-то сумму – чтоб ты могла начать свою собственную жизнь, в своей собственной квартире? Я даже позволю тебе вернуть мне эти деньги – хочешь, даже подпишем необходимые бумаги, если тебе будет от этого легче.
– Да ну тебя, Руди! Я и так перед вами в неоплатном долгу – чем я смогу отблагодарить вас с Константином за вашу доброту?
Мадлен нежно погладила брата по щеке.
– Ну, же, Руди, не сердись. Если я когда-нибудь по-настоящему окажусь в беде, ты – первый, к кому я пойду просить помощи.
– Поклянись в этом.
– Руди, перестань!
Но Руди не так-то просто было остановить, и эти споры из лучших побуждений продолжались – месяц за месяцем, но Мадлен была неуступчива. Конечно, Руди был теперь ей по-настоящему родным человеком. Но деньги, которые он зарабатывал, были деньгами Грюндлей. Нет, ей не хотелось бы говорить это Руди – зачем давать ему повод задуматься и уйти куда-нибудь из банка? И ей вовсе не хотелось ранить его своей непреклонностью. А еще ее мучила одна вещь – хотя она и знала, что деньги, данные ей семьей во время болезни Антуана, были ее деньгами – по праву, но ей было все равно противно, что она их приняла. Больше она ничего у них не возьмет. Никогда.
У Забара были сотни постоянных покупателей. Были такие, что бывали в магазине по нескольку раз в неделю и уходили, нагруженные просто пугающими своими размерами сумками и свертками. Были такие, что заходили сюда каждый день за каким-то одним любимым деликатесом. Некоторые просто звонили в это гаргантюанское заведение и делали заказ на доставку на дом, и их даже не знали в лицо. Некоторые просто проводили здесь часик-другой, бродя по этажам, прежде чем купить в смущении какую-нибудь мелочь и уйти, чтоб наутро снова прийти и продолжать это своеобразное самоистязание.
Мадлен сразу узнавала постоянных клиентов в лицо. Она даже знала большинство по именам, но у нее был один, ее любимый. Это был высокий, большой, словно медведь, мужчина с внимательными карими глазами, вьющимися каштановыми волосами и дружелюбной, часто внезапной, улыбкой. И он был настоящим гурманом. Он заходил в Забар в разное время – но как-то так получалось, что он появлялся всегда в часы работы Мадлен. И хотя она знала, что его привлекают сюда покупки, она также заметила, что ему нравится, когда обслуживает его именно она. Его звали Гидеон Тайлер, он жил в Гринвич-Виллидж на Бликер-стрит, у него был офис неподалеку от магазина, и иногда он заходил, неся в руках старенький видавший виды саксофон. Это было все, что она знала о нем, и больше ей ничего не нужно было знать.
Она, конечно, не могла знать, что Гидеон был в Забаре в тот день, когда она пришла сюда на интервью, прежде чем получить работу. Он случайно подслушал ее разговор с Мерри Клейном, а потом отвел хозяина в сторонку и, не спрашивая его позволения, высказал ему свою точку зрения. Упустить такую девушку, которая так соблазнительно расписывает и предлагает кусок сыра рокфор, что его просто невозможно не купить – это все равно что прошляпить такой же увесистый кусок удачи! Лучшей продавщицы магазину нечего просто и желать.
– Вы что, учите меня моей работе? – улыбнулся Клейн, уроженец России.
– Я просто хочу сказать, мистер Клейн, что тратил бы здесь больше своего времени и денег, если б вы взяли ее на работу.
– Вы и так уже мой лучший покупатель, – заметил Клейн.
– Ну, тогда вам просто не придется уступить меня Манганарам.
– Ни в коем случае, – ответил уверенно Клейн. – Да и потом, вы что, держите меня за осла? Я ее уже принял.
* * *
На Манхэттене было не так уж много людей по имени Гидеон Барух Джошуа Тайлер. Своей фамилией он был обязан случайности, приключившейся с его дедушкой на Эллис Айленд в 1898-м. Русская фамилия была слишком труднопроизносимой для чиновника иммиграционной службы, чтоб ломать над ней голову, и хотя юноша на ломаном английском пытался объяснить, что он просто портной, a tailor,[97] по профессии, его так и не поняли или не захотели понять, и он навсегда превратился в Баруха Мойше Тайлера.
Двадцатилетний Барух и Марошка, его жена, поселились вместе с кузенами и кузинами, жившими на Ривингтон-стрит на Ист Сайде, там родились их трое детей, включая отца Гидеона, Эфраима – он появился на свет в 1900 году. Потом им наконец удалось обзавестись своим собственным жильем на Сотой улице в Гарлеме. Гидеон родился в 1920-м и жил в тесной трехкомнатной квартирке с родителями, двумя сестрами и бабушкой до 1933-го, пока все они не переехали в Джерси-Сити в предместье Гринвилля.
Гидеон, которому к тому времени уже исполнилось тринадцать лет, скучал по большому городу и присущим ему соблазнительным опасностям и приключениям. Знай только Мириам, его мать, что ее сын часто садится на троллейбус, идущий на Джорнал-сквер, а потом через гудзоновский тоннель переправляется в Гринвич-Виллидж, она бы уж точно упала в обморок. Иногда, очень редко, она отправлялась туда с подругой, в основном за единичными покупками, на Бродвей, а если они чувствовали прилив храбрости, то могли прогуляться до Вашингтон-сквер, где сидели на скамейке в тени вязов около величественной Арки Вашингтона. Они глазели на студентов Нью-Йоркского университета, мам и детишек из Итальянского квартала, и местных художников и артистов – и тогда они ощущали себя так, словно им давали представление в большом экзотическом цирке. И Мириам Тайлер всегда была рада спастись бегством назад в Гринвилл, в их знакомый и безопасный еврейский квартал.
Но Гидеон любил смешиваться с толпой и обожал ощущение риска. Его всегда удивляла и обижала узость кругозора и жизненного пространства родителей; он легко заводил друзей – среди евреев, протестантов, католиков, черных, итальянцев, восточных людей. Для Гидеона люди были просто людьми, и ничем больше; хочешь – дружи, не хочешь твое дело. Конечно, в Джерси-сити были кафе-мороженое, где можно было вкусно полакомиться «глазированным» или простым двухцентовым мороженым или особым яично-шоколадным кремом с сиропом, но Гидеон обожал тратить свои деньги именно в Виллидж. Да и потом, уже в тринадцать лет он обзавелся вкусами и привычками, которые бы уж точно шокировали его повернутых на кошерности родителей – позволял себе небольшое гурманство в китайских ресторанчиках Чайнатауна или покупал cannoli в Феррара в Маленькой Италии. Идея же самого Эфраима Тайлера о восхитительном вечерке вне дома всегда означала погрузиться в их старенький седан и поехать в кошерный ресторан в Ньюарке.
Их домик в Гринвилле был уютным, с прелестным ухоженным двориком, и у Гидеона даже была собственная спальня с рукомойником и зеркалом. Но все это было так скучно. Так безопасно.
Да, Гидеон обожал рисковать. Ему нравилось, когда в жилах загоралась кровь – он то и дело попадал в драки с разъяренными детьми итальянцев или в разборки с ножом среди типичных авантюристов Виллиджа – но при этом он чувствовал в себе и сильную тягу к наведению порядка. Но только к пятнадцати годам он понял, что есть места, куда не стоит совать нос, если не хочешь, чтоб его перешибли. Существовала нешуточная, настоящая опасность на улицах большого города – настоящие преступники, часто зловещие и порочные, по которым просто плакала тюрьма, или просто обычные люди, доведенные до озверения нищетой и отчаяньем. И, подрастая, Гидеон решил для себя: самое важное в жизни – это равенство, закон и правопорядок. Что ж, думал он, совсем неплохо принять участие в этой борьбе справедливости против насилия. И совсем неплохо б ему стать полицейским.
Внедриться в Полицейское Управление Нью-Йорка было совсем непросто. Начиная с того, что соискатель должен был быть официально жителем Нью-Йорка не меньше года. Во-вторых, времена были тяжелые – ходили разговоры о войне, и Америку все еще разъедала Депрессия; тысячи здоровых, сильных американцев были безработными, и конкуренция в поисках хорошей работы была очень сильной. Департамент установил свои «закупочные стандарты» для будущего урожая кадров – имевший шансы на успех новобранец должен был весить не меньше ста сорока фунтов и быть в идеальной форме, физически и умственно – его коэффициент интеллекта должен быть очень высоким, и он должен обладать почти всеми мыслимыми способностями, особенно теми, что необходимы для работы в полиции.
Гидеон ушел из дома в восемнадцать лет, переехав на Салливан-стрит в Гринвич-Виллидж. Там, в квартире на пятом этаже, с ним жили еще два новичка-офицера, с которыми он подружился. В девятнадцать он успешно сдал письменный экзамен на Гражданской Службе, получил документы, удостоверяющие его психологическое и физическое состояние, почетную грамоту, и был направлен в школу подготовки. Там он не только выжил, но и отличился и был готов приступить к своим обязанностям после своего двадцатилетия. Его родители были в шоке. Эфраим, портной – как и его отец и дедушка до него – имел виды на второй небольшой магазинчик в Нью Джерси и надеялся, что им будет заправлять его сын. Эфраим был добрым человеком – но и твердым в своих взглядах ортодоксом, читавшим Талмуд каждую свободную минутку, тогда как Мириам читала чувствительные любовные романы и поэзию – когда не жарила и не парила, или не шила и не наводила чистоту в своем любимом доме. Оба они были осторожными людьми, с унаследованным инстинктивным отвращением к любым действиям полиции и к полиции вообще. Оно родилось благодаря рассказам о кошмарных зверствах казаков – рассказам, занесенным на американскую землю Барухом и другими еврейскими иммигрантами, свидетелями погромов в Восточной Европе.
– Ты любишь справедливость – почему бы тебе не стать адвокатом? – твердила ему Мириам каждый вечер в пятницу, когда он приходил к ним на обед. Он так еще и не решился сказать им, что работает по субботам – как и все другие новобранцы. Религиозные чувства отца наверняка бы не вынесли такого удара.
– Но у меня никогда не было желания стать адвокатом, мама. Да и потом, у меня мозги не так устроены.
– Но еще не поздно – ты можешь поступить в колледж и будешь прекрасным адвокатом.
– Он мог бы быть портным, – вмешивался Эфраим. – А если он уж так любит закон, мог бы по крайней мере читать Талмуд, как достойный еврей.
– Я и так могу быть достойным человеком, папа, – твердо, но бережно отвечал Гидеон. – И оттого, что я начал служить в полиции, я не перестал быть евреем.
– Тебя подстрелят, – подавая куриный суп, Мириам в сотый раз начинала плакать. – Моего единственного сына застрелят на улице!
– Да не убьют его, мама, – начинала ее разуверять Абигайль, младшая сестра Гидеона.
Марианна, старшая, вышла замуж два года назад, и сейчас восседала за своим собственным обеденным столом в Бруклине.
– Меня не убьют, – быстро и нежно подхватывал Гидеон. – Я регулирую движение транспорта и чиркаю квитанции на парковку. Да я б скорей отрезал себе палец ножницами или проткнул руку иголкой, если б стал портным.
Но Мириам снова была в расстроенных чувствах – теперь уже из-за другого.
– А что ты ешь всю неделю? Ты говоришь, что умеешь готовить, но когда ты жил дома, ты ухитрялся спалить даже воду.
Слезы опять брызнули у нее из глаз.
– Эфраим! Если они его не подстрелят, он просто умрет с голоду!
Так и продолжалось, неделю за неделей, работа немного изматывала его, но он был крупным, сильным мужчиной, просто гигантом по сравнению с матерью. Но он был нежным и любящим, и она часто жаловалась, что он идет против своей природы, выбрав такую профессию и так огорчая своих родителей. Однако, не неодобрение Эфраима и Мириам заставило его бросить службу через два года после ее начала.
Он встретил, полюбил Сусанну Клейн, милую хорошенькую девушку из Бруклина, и женился на ней – и все это в течение первых трех месяцев 1941-го. Оба его родителя одобрили Сусанну, и невеста нашла восхитительной и грандиозной мысль иметь мужем красивого полицейского. Все ее подруги вышли замуж за совсем обычных мужчин: один был врачом, другой – кошерным мясником, еще были банковские служащие и аптекари. Быть женой офицера полиции означало некий безобидный маленький вызов традициям, ей даже казалось, что это более чувственно, и если она и понимала, что у Гидеона нет честолюбия, она сама могла восполнить это с лихвой. Сусанна уже нарисовала себе их радужное будущее и ждала его появления на горизонте: сержант – через год или два, лейтенант, затем – капитан, а потом – почему бы и нет – еврейский уполномоченный инспектор?
Между тем, у самого Гидеона были совсем другие мысли. Он любил Сусанну и свою семью, и ему многое нравилось в его работе и больше всего – его сослуживцы. Он знал, что его новая квартира, которую он нашел для них в северной части Бликер-стрит, между Салливан и МакДугал-стрит, была больше в его вкусе – его жена мирится с ней больше из любви к нему, и он это ценил. И он знал, что Сусанна, в сущности, не понимает, чем его так привлекает его работа, не понимает, как такой тонкий человек, как Гидеон, любящий музыку, цветы, хорошую еду, может одновременно обладать телом и волей уличного драчуна. Гидеон ел с удовольствием и пониманием истинного гурмана, наполнял их близость нежностью и теплом, покупал жене маленькие подарки, когда мог, а потом упорно тренировался каждый день, чтоб поддерживать себя в состоянии, необходимом для его работы. Он был высоким и широкоплечим, и выглядел привлекательно и внушительно в своей синей форме. Но все больше и больше он чувствовал себя в ней неловко.
Гидеон был всегда далек от политики, но ему не потребовалось много времени, чтоб понять – Полицейское Управление Нью-Йорка, как и другие полицейские подразделения, изобиловало враждовавшими между собой конкурентами, маневрировавшими и так, и эдак в борьбе за власть. Это горькое открытие потрясло его – ведь правила приема сюда были изначально правильными и справедливыми: здесь могли работать только лучшие, самые квалифицированные. Но на поверку оказалось, что очень часто важно не то, что ты делаешь и как ты исполняешь то, что тебе предназначено делать; важно, с кем ты заодно, кто тебя прикрывает и каково твое честолюбие. И это недавно приобретенное знание постепенно стало влиять на него – он стал чувствовать себя неуютно, стал спорить. И тогда на него посыпались обвинения, что он поднимает слишком много шума, создает много проблем или вообще не соответствует занимаемой должности. Лишившись иллюзий, он начал подумывать о том, чтоб бросить это занятие.
А потом японцы стали бомбить Перл Харбор, и Америка оказалась втянутой в войну, и весной 1942-го Гидеон Тайлер был призван в качестве пехотинца. Он служил три года на европейском театре военных действий, видел кровь, смерть, ужас, поддержку друзей, героизм и трагедию всего происходящего, а когда возвратился домой, получил почетное увольнение из армии с сохранением чинов и знаков отличия и оказался перед выбором – снова поступить на прежнюю работу, где для него сохранялась вакансия, или опять стать гражданским человеком. Он предпочел уйти в отставку.
Целый год он изо всех сил старался войти в колею нормальной жизни, но он был совершенно неподготовлен к какой-нибудь заурядной спокойной или скучной работе, и даже если б захотел, не смог бы стать портным – он не унаследовал ни крупицы таланта, ни тяги отца к иголке и ножницам. Сусанна, чьи честолюбивые мечты постиг крах, какое-то время старалась поддерживать его, но потом стала ощущать, что ей становится все труднее иметь дело со своим чокнутым мужем. Она делала все правильно, нашла работу на оборонном заводе, встречала его дома с распростертыми объятьями… но она ждала известной стабильности, чтоб растить детей – оба они хотели их больше всего на свете. Когда в 1947-м Гидеону стукнуло в голову, что он нашел то, что искал – он получил лицензию на работу частным детективом, Сусанна взорвалась. Через шесть месяцев их брак приказал долго жить.
Гидеон остался в квартире на Бликер-стрит, используя ее сначала еще и под офис, пока не нашел более подходящее для бизнеса помещение на Вестсайде, на Бродвее, недалеко от Девяносто Первой улицы. Он тяжело переживал развод, чувствовал себя виноватым, что оказался неподходящим мужем для Сусанны и причинил ей боль. Но шло время, и постепенно он начал понимать, что самой большой его ошибкой было то, что он женился слишком рано и чересчур импульсивно. И когда он узнал, что Сусанна помолвлена с каким-то дантистом, он почувствовал, словно часть вины свалилась с его плеч, и он снова стал радоваться жизни. Чаще всего, в те дни и ночи, когда он был на работе, он шпионил за людьми – а Гидеон вовсе не был по натуре соглядатаем. Его клиенты в основном хотели от него одного – помочь ему найти кого-либо или избавиться от кого-то, чаще всего при помощи развода, и большинство заказчиков нельзя было назвать приятными людьми. Но опыт и зрелость научили Гидеона понимать – не может быть каждое дело, или даже каждый день, всегда интересными или стоящими затрат его сил. И тогда он решил – он сам должен позаботиться о том, чтоб приятно и наполненно проводить свое свободное время. Как-то раз, ища в очередной раз улики, он наткнулся в одном месте на видавший виды саксофон, принес его домой и трудился над ним усердно и с любовью. Наконец, на нем можно стало учиться играть. И как раз тогда Гидеон познакомился с саксофонистом, который начал давать ему уроки музыки в обмен на разрешение бесплатно пользоваться кушеткой Гидеона в течение полугода. Гидеон научился вполне сносно играть на саксофоне, и инструмент стал его постоянным спутником – куда бы он ни пошел. Теперь, когда у него кроме вкусной еды была в жизни еще и музыка, он чувствовал себя вполне счастливым человеком. А если еще и подворачивалось интересное дело! О-о! Тогда Гидеон шел на работу с таким же удовольствием, с каким он садился за обеденный стол.
Именно еда и привела его к Мадди.
Вкусная еда была для Гидеона одной из приятных необходимостей жизни. Да и потом, он же не мог работать целыми днями и ночами без передышки? И иногда он давал себе отдых и отправлялся за чем-нибудь вкусненьким и хорошим кофе. Он старался всегда выкроить хотя бы пятнадцать минут, чтоб заскочить в свой любимый магазин. Но с того самого дня, как там стала работать Мадлен, Гидеон был вынужден признаться себе, что осетрина, колбасы и швейцарский сыр, несмотря на всю свою притягательность, отошли на второй план.
Девушка была сущим ангелом, самым милым и прелестным существом из всех, кого он только видел. Тайлер был ростом в шесть футов и три дюйма и крепко сложенным, но когда он впервые увидел Мадлен Боннар, у него перехватило дыхание, и ноги стали слабеть, и всякий раз, как он слышал ее голос, такой теплый, с легкой приятной хрипотцой и чудесным, мягким акцентом, по всему телу его пробегала дрожь. Почти шесть месяцев вид ее обручального кольца делал его неразговорчивым, но однажды, озабоченный тем, что не увидел ее на работе, он справился о ней у одного из служащих и услышал, что у нее простудился сын. И еще из короткого разговора узнал, что его ангел – вдова.
– Давно?
– Даже и не знаю. Она вообще мало рассказывает о себе.
– А она с кем-то общается?
– Она никогда не упоминала об этом.
Мадлен и понятия не имела о его чувствах. Ей нравилось, как он с ней говорил, с подчеркнутой вежливостью и дружелюбием, как справлялся о ее здоровье – словно действительно хотел знать, как она себя чувствует, и она вполне оценила то, что он никогда не пытался с ней флиртовать. Она представляла его себе с женой, или с постоянной девушкой, и, по крайней мере, двумя детьми. Но она никогда не расспрашивала его – как никогда не переступала черту, отделявшую ее от других покупателей. Они общались всего лишь в течение тех пяти минут, когда он делал свой выбор продуктов; их разговор вертелся вокруг соуса, который кончился только вчера, и есть ли у него настроение купить халву или мороженое, болтали о погоде – и это было все.
Так было до тех пор, пока однажды, в середине мая 1966-го, Тайлер не зашел в магазин, и, сделав покупки почти беззвучно, пошел было уже к выходу, но неожиданно вернулся. Мадлен стояла у прилавка с сырами.
– У меня есть два билета на концерт Мендельсона, в филармонию, сегодня вечером – вы не хотели бы пойти со мной?
Мадлен была потрясена этим неожиданным приглашением. И от кого – от этого, как была она убеждена, абсолютно сдержанного и по-прежнему едва знакомого ей человека – на личную встречу, вне магазина! Ее замешательство было так сильно, что она уронила острый нож, которым отрезала большой кусок сыра.
– О, Господи! – воскликнул испуганный Тайлер. – Вы не порезались?
– Нет, все хорошо, – она наклонилась, чтоб поднять нож, и уронила три камамбера на пол.
– Merde![98] – воскликнула она едва слышно и тут же стала пунцовой. – Ой, извините меня.
– Нет, это вы меня извините – с вами все в порядке?
– Да, спасибо.
– Билеты… – опять начал, покраснев, Тайлер. – Вы случайно не свободны сегодня?
– Нет.
– О-о…
– Да нет, я имела в виду…
– Ничего, ничего, все хорошо.
Словно его отругали, Тайлер засунул билеты назад в карман, извинился и вышел из магазина, оставив Мадлен в таком смущении, в каком она уже давно не была. Господь знает, она не хотела, чтоб это звучало так обидно и расстраивающе. Он был милым человеком и таким замечательным покупателем. Она быстро нагнулась, чтоб поднять сыры, и обрадовалась, что ее босса не было поблизости, что он не видел, как она была неуклюжа.
На следующее утро, когда он пришел, она уже была внутренне готова.
– Мистер Тайлер, можно вас на минутку?
– Конечно, но если вы о вчерашнем…
– Да.
– Послушайте, мне так неловко – я не должен был спрашивать.
– Но почему же? – Мадлен огляделась вокруг, чтоб убедиться – никто не слышит, и глубоко вздохнула. – Мистер Тайлер, позвольте мне объяснить…
– Но вам нечего объяснять.
– Нет, есть, – настаивала она.
– Ну хорошо, – со смущением сдался Тайлер.
– Я была бы рада пойти с Вами на концерт, но я работаю каждый вечер.
Она запнулась.
– А еще, я чувствую, что должна вам сказать – я не хожу на личные встречи…
– Я понимаю.
– Но мне нужны друзья.
У него немного отлегло от сердца.
– Тогда, может, в другой раз?
– Ну, если вы понимаете…
– Конечно, – Гидеон смотрел ей в глаза, чувствовал знакомую слабость в ногах и благодарил Бога, что это незаметно для других. – А где вы работаете по вечерам?
– Иногда – здесь, а в остальное время – в ресторане около Таймс-сквер.
– О, да вы занятая леди.
Он выяснил название ресторана и пошел туда назавтра. Это был субботний вечер, и очень оживленный. Он смотрел, как Мадлен приносила подносы, принимала заказы, наливала напитки, а потом, божественно прелестная в своем смокинге, пела вместе с другими песенки из «Оклахомы», «Вестсайдской истории» и «Оливера». Когда она задержалась у его столика, налив ему кофе, Гидеон был осторожно дружелюбен, боясь оказаться назойливым и бесцеремонным. Да и потом, ведь это он сам ее нашел, не она его, и это не давало ему права на дружеские отношения. Когда она принесла ему чек, он просто сгорал от смущения. Разве можно оставить деньги женщине, в которую влюбился? С другой стороны, он не хотел, чтоб она догадалась об этом; и если он даст ей щедрые чаевые, ей может показаться, что он смотрит на нее свысока. Но если он даст мало, она может подумать, что он мелочится из-за денег. Поистине, дурацкое положение!
Они стали настоящими друзьями две недели спустя – при идеально естественных, ненавязчивых обстоятельствах. Будучи любителем джаза, Тайлер часто посещал многие местечки в Гринвич-Виллидж, иногда – чтоб просто послушать, иногда – брал с собой свой саксофон, если симпатизировавший ему управляющий уделял ему пять минут. Управляющий сам был непрочь излить разочарования и неудачи прошедшего дня этому – кто знает? – может быть, будущему отличному исполнителю блюзов в стиле Чарли Паркера. Гидеон считал себя средним исполнителем и малого таланта, но его энтузиазм иногда так захватывал слушателей, что они были необыкновенно щедры на аплодисменты.
Этим вечером он сидел в нише кафе О-го-го! потягивая кофе, который уже остывал, когда вдруг услышал:
– Вы полюбили ее в прошлый раз, и поэтому мы пригласили ее снова. И вот – с вами снова она, искорка света Парижа в ночи – Мадди Габриэл.
Когда она появилась в островке света на сцене, Гидеон резко выпрямился, едва веря своим глазам. Она выглядела такой миниатюрной, хрупкой, такой головокружительно красивой, что, казалось, он мог задохнуться от восхищения и обожания. Оркестр заиграл вступительные аккорды прославленной пронзительно ранящей мелодии, Мадлен запела «Девушку из Ипа-немы».
Правой рукой Гидеон так сильно сжал чашку, что она треснула. Холодный кофе пролился на стол и его джинсы, осколок фарфора впился в его палец, но он ничего не заметил. На ней были черные брюки в обтяжку и черная простая однотонная блузка, обрисовывавшая ее грудь и подчеркивающая стройность ее фигуры. Плечи и изящные руки слегка отливали шелковистым серебром в свете прожекторов. Ее голос изумил его, привел в неописуемый восторг – он был сильный и хорошо поставленный, звучал так естественно. Она пела в стиле bossa nova одну из его любимых песен 30-х годов, «Ветреная погода». На глаза Гидеона навернулись слезы. Его чашку убрали, вытерли стол, но он не замечал ничего, кроме Мадлен. У него было такое чувство, что его вознесли на небеса, и у него не было никакого желания возвращаться с них. И когда она закончила, трудно было понять, откуда раздался самый бурный взрыв аплодисментов – от него ли самого, или с другого столика, где сидели двое мужчин – старый и молодой, очень похожий на Мадлен. Весь зал словно взорвался громом рукоплесканий.
Она заметила его, увидела его искреннее восхищение и улыбнулась ему теплой улыбкой. Через десять минут он уже познакомился с двумя самыми важными мужчинами в жизни Мадлен Боннар – Константином Зелеевым и ее братом Руди. Третий, маленький Валентин, крепко спал за кулисами в импровизированной постельке. Как только Гидеон увидел четырехлетнего малыша с розовыми щечками, длинными ресницами и такого по-детски красивого, он почувствовал, что сердце просто тает у него в груди. Мадлен увидела растроганное выражение лица Гидеона, то, как он смотрел на ее сына, и безо всякого сомнения поняла, что у нее появился еще один удивительный, особенный друг.
Нью-Йорк стал приобретать для Мадлен свое собственное очарование, ненавязчивую живую прелесть. Хотя большую часть времени она проводила на работе, у нее оставалось все же несколько свободных часов, когда она могла рассматривать город, и он постепенно становился ее новым настоящим домом. Она выбирала для прогулки какой-то один район поблизости и, беря с собой Валентина, старалась получше узнать эти улочки, скверы, аллеи, дома, понять дух и привычки их обитателей. Очень часто она ощущала себя словно туристом, мимолетным приезжим, восхищавшимся тем, что он видит, но остававшимся все же чуть-чуть отстраненным. Она вспоминала свои первые дни в Париже, неповторимое чувство ее причастности к городу, и понимала, что общение с Нью-Йорком было немного иного рода. Константин назвал это точно, со всей присущей ему поэтичностью – то был город контрастов. Конечно, они есть в любом из больших городов – но ни один из городов, как казалось теперь Мадлен, не мог быть таким неожиданным и полнокровным.
Она и Гидеон теперь стали часто встречаться. Он приходил в Забар дважды в день, взволнованный, но по-прежнему боясь показать свои чувства. Говорил ей простые обычные слова и беспокоился, как мало она заботится о себе.
– Вы едите недостаточно.
– Да что вы, я ем, как две лошади, – отвечала со смехом она.
– Что-то я никогда этого не видел.
– Ну вот, вы говорите, как Константин. Он тоже обо мне слишком беспокоится.
– И правильно делает – вы слишком много работаете.
– Ничего, я к этому привыкла, – она пожимала плечами. – И мне это нравится.
– Но вы ведь не высыпаетесь!
– А мне и не нужно много спать.
Гидеон называл ее Мадди – как и все, кроме Константина и Руди, которые по-прежнему звали ее Магги. Гидеону нравились звуки ее французского имени, когда его произносила она – но он ненавидел, как это звучит у него самого. Единственным иностранным языком, на котором бегло говорил Гидеон, был испанский – он был нужен ему почти ежедневно по работе. Он вспомнил, как ему нравилось прислушиваться к разным говорам и акцентам, когда он три года служил в армии в Европе. Но у него никогда не было тяги к иностранным языкам, и если он и учил французский в школе, то все давно благополучно забыл.
– Жалко, что я не говорю по-французски.
– Вы все забываете, что я – швейцарка, а не француженка, – засмеялась Мадлен. – Вы бы только послушали, как мы с Руди говорим на Schwyzertütsch – даже немцам трудно понять из него хоть слово.
– Но все равно несправедливо, что вам приходится тратить столько сил на английский.
– А мне нравится говорить по-английски. Все эти занятия в Колумбийском университете… правда, я думаю, одна неделя в Забаре научила гораздо большему… Там так много интересных людей, и все они говорят на одном общем языке.
– На каком?
– На языке еды.
Мадлен чувствовала себя хорошо и спокойно с Гидеоном. Она знала – он понимает, что ей не нужен любовник, ей хочется только дружбы, и поэтому она могла быть с ним простой и открытой, рассказывать ему о своем прошлом и объяснять свое настоящее. Она рассказала ему почти все: о своей семье в Цюрихе, об Амадеусе и Ирине, о своем отце и том, как обрадовался бы Александр, если б встретил настоящего живого частного детектива на Манхэттене – его мечты и истории из книг стали бы реальностью. Она даже доверила ему самое дорогое, ее Антуана – но, правда, она вспоминала лишь хорошие дни, их радость и счастье, потому что ни один человек в мире не мог и не должен был знать о глубине ее горя.
Гидеон все больше и больше поддавался ее очарованию. В начале их дружбы у него было искушение относиться к ней, как Мириам относилась к тем крошечным изумительным украшениям, которые дарил ей муж по большим юбилеям и к праздникам. Но постепенно он узнавал, насколько Мадди была сильнее, чем казалась. Она была женщиной, жившей чувствами. Душа и сердце диктовали каждый ее поступок – даже теперь, когда она наглухо закрыла ту часть души, что отдала Антуану Боннару. Но иногда Гидеону казалось, что под нежной кожей и плотью Мадди – несгибаемая сталь.
Отец и мать умерли, но у Гидеона оставались две его сестры, старшая, Марианна, переехала с семьею в Чикаго, а Абигайль поселилась в Филадельфии. У Гидеона было тоскливое желание – которое, Гидеон знал, не может осуществить – познакомить их с Мадди, сказать им – вот женщина, которую он любит, девушка, которую он ждал столько лет… Но пока он мог только отвести Мадди и Валентина в дом дяди и его жены, которые до сих пор жили в Гринвилле.
Однажды в воскресенье они пошли к ним на чай – Мадлен взяла выходной. Гидеон с удовольствием заметил восхищение, мелькнувшее в глазах дядюшки Морта, когда тот впервые увидел Мадди. Заметил он и инстинктивную плохо скрываемую тревогу тетушки Руфь. Гидеон знал причину тревоги – десять лет он ни разу не показывался с подружкой, и тут вдруг привел вместо девушки женщину с ребенком, иностранку и шиксу[99] с головы до ног.
– Гидеон так много мне рассказывал о вас, – сказала Мадлен, когда в смущении присела в гостиной.
– Да, похоже, больше, чем нам о вас, – рот Руфь Тайлер слегка искривился вопреки ее желанию быть вежливой.
– Но это вполне понятно, – спокойно ответила Мадлен. – Ведь я – просто друг, а вы – семья.
– Просто хорошие друзья, а? – спросил Морт Тайлер и подмигнул.
– Именно так, мсье.
– Пожалуйста, называйте меня Морт, хорошо? – С удовольствием.
– Сколько вашему малышу? – спросила Руфь.
– Мне четыре года, – вдруг сам ответил Валентин. Он рос, легко говоря на двух языках, а когда начал больше времени проводить без Мадлен и Зелеева, английский Валентина стал более непринужденным и американским по духу. Но, конечно, малыш перенял акцент матери.
Руфь Тайлер принесла чай, добавила в чашку Мадлен слишком много молока, но та выпила его, словно нектар, и приняла вторую чашку.
– О, мой Бог, – неожиданно воскликнула она.
– Что случилось? – спросила Руфь.
– Ваш сырный пирог!
– Да, и что с ним? Вам не нравится?
– Совсем наоборот! – Мадлен положила вилку на тарелку, рядом с большим куском пирога. – Гидеон мне рассказывал, что вы печете самые чудесные сырные пироги на свете, но, боюсь, я не вполне могла себе представить, насколько они вкусные.
– Это – старый еврейский рецепт, – сказала Руфь. – Вы умеете печь пироги, Мадди?
– Боюсь, нет.
– Гидеон говорит, что вы поете?
– Немножко, – скромно ответила Мадлен.
– Ее учил кантор, – добавил обманщик Гидеон, отлично зная, что Мадди учил Гастон Штрассер, но он обожал поддразнивать тетушку.
– Это ты серьезно? – немного оживившись, спросила Руфь, но не совсем веря.
– Конечно, тетушка Руфь. Как вы можете сомневаться? Леви были лучшими друзьями Мадди в Париже, Ной Леви имел на нее большое влияние.
– Ну и хорошо, – глаза Руфь заблестели, и она повернулась к Мадлен с новым интересом. – Скажите мне, дорогая, ваш покойный муж – упокой Господь его душу – он, случайно, не был евреем?
– Нет, мадам, – голос Мадлен был почти извиняющимся.
– Но этот Леви был, правда, кантором?
– Конечно, мадам.
– Ну, по крайней мере, это уже что-то, – Руфь взяла пирог, разрезанный на две части. – Еще кусочек, моя дорогая?
Валентин привязался к великану-американцу сразу. Гидеон знал, как часами играть с ребенком, никогда не утомляя его и самому не уставая от игр. Руди Габриэлу тоже понравился Тайлер. Достойный человек, так тепло и искренне относящийся к Мадлен, просто не мог быть никем иным, как только хорошим человеком.
И только Зелеев был недоволен.
– Разве тебе нужно проводить столько времени с этим мужчиной?
– С Гидеоном?
– Господи, да с кем же еще? С кем еще ты видишься так часто, когда у тебя и так мало свободного времени? Конечно, я имею в виду Гидеона.
– А чем он плох? – мягко и растерянно спросила Мадлен.
– Во-первых, у тебя с ним мало общего…
– А что еще?
– Он – детектив. Он ведет низкую и сомнительную жизнь.
– Чепуха.
– А ты думаешь – это романтично, быть частным сыщиком, ma chère?
– Гораздо романтичнее, чем стоять за прилавком целый день и приносить домой запах копченой рыбы. Определенно, что Гидеон никогда сознательно не гонялся за романтикой, как и я тоже.
– Ты сознательно делаешь вид, что не понимаешь, о чем я, – укоризненно заметил Зелеев. – Конечно, против своей воли, я должен допустить, что есть на свете вещи, которые приходится делать, чтобы выжить.
– Неподобающие занятия? – подкинула Мадлен. – Такие, как быть горничной или обслуживать столики в кафе или работать в магазине?
– Но этот человек гораздо старше тебя – кстати, сколько Тайлеру?
– Сорок шесть.
– Ну вот. Мужчина средних зрелых лет, которому не приходилось в шестнадцать лет убегать из дома. Должно быть, у него была не одна возможность выбрать в жизни более полезное занятие.
– Он был полицейским, Константин.
Она увидела на его лице гримасу и продолжала:
– И если б он не поступил на работу в полицию, мог бы стать портным, как его отец. Это бы вам больше понравилось? Сомневаюсь.
– Ты извращаешь мои слова, Мадлен. Гидеон Тайлер – ничем не примечательный человек. Конечно, он – не тот мужчина, который тебе нужен.
– Но он мой друг – не любовник.
Мадлен старалась не терять терпения, что иногда было довольно трудно. Она уже и раньше не раз сталкивалась с подчеркнутым снобизмом Зелеева и пыталась его вышучивать – но сегодня он зашел слишком далеко.
– Я знаю, ты слишком упряма, чтоб принять помощь от своего брата, – продолжал Зелеев. – Но ты могла б хотя бы познакомиться поближе с его друзьями. Чувственный, богатый уолл-стритский брокер – может, это бы сейчас подошло… Не идеальный вариант, но разумный.
– Да? Но сейчас это как раз тот тип людей, с которыми я не хочу иметь ничего общего.
– Но ты же общаешься с Руди.
– Он – мой брат, Константин.
Зелеев проглотил эту легкую отповедь, зная, что будет неумно сейчас продолжать. Мадлен недавно начала поговаривать о том, чтоб найти свое собственное жилье. Такая перспектива повергла его в глубокое уныние и расстройство. Его красивая, с решительным сердцем девочка будет жить в какой-нибудь затхлой серой комнатушке – чем это лучше жалкой квартиры, где она жила со своим мужем? И без него – без его руководства и влияния. Эта мысль заставила его содрогнуться.
– Гидеон – интересный, умный, добрый человек, – говорила Мадлен. – И он очень хорошо меня понимает.
– Да как он может понимать женщину твоего класса?
– Константин, вы стараетесь меня рассердить?
– Что за мысль, ma chère, – сказал он и замолчал, уже решив про себя, что откажется сидеть с Валентином в следующий раз, когда она захочет увидеться с Тайлером. Конечно, уже одно то, что она встречалась с ним каждый день во время работы, было плохо… но Зелеев-то уж точно не собирается поощрять" ее проводить время с каким-то еврейским неудачником-полицейским, чьи предки жили наверняка в захолустной российской дыре.
Спустя несколько недель, как-то в полдень, в среду, Мадлен уходила из Забара после окончания утренней смены. Гидеон стоял и ждал ее на улице, облокотившись об открытую дверь машины.
– Прыгайте внутрь. Мадлен засмеялась.
– Я вряд ли хочу ехать домой на машине. Эта прогулка пешком – единственная зарядка, какую я делаю.
– А я и не повезу вас домой, – сказал Гидеон.
– Но мне все равно нужно ехать?
– У вас ведь есть полчаса, правда? – он завел мотор. – Пожалуйста, Мадди – я бы не просил вас, если б это не было так важно.
– О'кей, – согласилась она. – Куда мы собираемся ехать?
– Это – сюрприз.
Он остановил машину на Сентрал Парк Вест, около одного из внушительного вида старых зданий, окна которых выходили на парк.
– Вот мы и приехали.
– Куда?
– Пойдемте.
– Но куда, куда?
– Посмотреть на сюрприз.
Мадлен смотрела, озадаченная, как Гидеон быстро разговаривал со швейцаром в униформе, прежде чем взять ее за руку, завести в один из лифтов и подняться с нею на двадцатый этаж.
– Ну вот, теперь мы совсем пришли, – сказал он перед дверью квартиры под номером 12 Ц.
Мадлен засмеялась.
– То же самое вы сказали внизу, у входной двери.
Гидеон отпер дверь.
– Но мы и вправду пришли.
Он ввел ее в холодный темный холл.
– Чья это квартира? – спросила Мадлен.
– Моя.
– Ваша?
– Похоже на то.
– Вы не могли бы сказать пояснее? – попросила она мягко.
Гидеон закрыл дверь.
– Похоже, мне оставили квартиру.
– Эту квартиру?
– Да, то, что вы сейчас видите перед собой.
– Что вы имеете в виду под словом «оставили»? – она казалась озадаченной. – Кто-то умер?
– Клиент.
Он смотрел на ее лицо в слабом свете.
– Я знаю, я сам это ощущал – не так-то просто принять, правда?
Он отворил несколько двойных дверей.
– Пойдемте, походим и осмотримся. Мне нужно знать, что вы думаете.
Они были в большой гостиной, даже огромной по манхэттенским стандартам, темной, как и холл, из-за ставень, закрывавших свет из окон, и немного пахнущей запустением из-за того, что здесь никто не жил. Но когда Гидеон раскрыл ставни, и полуденное солнце ворвалось в комнату сквозь окна, Мадлен оглянулась вокруг и увидела прекрасный паркет пола, роскошные карнизы, необыкновенно красивый мраморный камин. Посмотрев наверх, она увидела и восхитительную изысканную люстру.
– Dieu, – тихо произнесла она.
– Вот и я то же самое подумал, – Гидеон улыбнулся. – Здесь все такое стильное – кроме кружочков от моли.
– От моли?
– В каждом стенном шкафу. А еще они рассованы в маленьких мешочках по ящикам столов и шкафов. Такие же использовала моя мать, и только после того, как я покинул дом, я понял – не каждый свитер обязательно пахнет камфарой или другими подобными штучками.
– А кто же был этот клиент? – Мадлен была заинтригована.
– Старая леди по имени Лилиан Бекер. Я как-то, давно, занимался ее делом – десять, может, одиннадцать лет назад.
– А что вы для нее сделали?
– Я искал ее дочь, – Гидеон пожал плечами. – Ничего особенного, Мадди. Это было даже не настоящее дело о пропавшем без вести человеке, а так… Просто недоразумение. Они из-за чего-то повздорили за несколько лет до того, и старой леди захотелось опять увидеть свою дочь.
– И вы ее нашли?
– Во Флориде, – он припоминал подробности. – В Майами Бич. Ее совершенно не взволновало, что ее выследили – как и то, что ее мать хочет ее видеть опять. Подозреваю, я просто уговорил ее.
– Это было частью вашей работы?
– Может, и нет, но это было совсем нетрудно. И миссис Бекер мне неплохо заплатила – оговоренную сумму плюс издержки. Она была счастлива, и я был счастлив.
Гидеон сделал паузу.
– Как мне кажется теперь, воссоединение с дочерью преобразило всю ее жизнь. Я тогда сначала даже думал: может, она тяжело больна и хочет помириться с дочерью перед смертью – такой был у нее огорченный и уставший вид. Похоже, так оно и было. Зато потом… Месяц назад она была еще жива. Правда, ее адвокат мне сказал, что она перед этим долго лежала в больнице.
– Это так чудесно, что она о вас не забыла и позаботилась, – сказала Мадлен. – Но целую квартиру! Особенно такую большую…
Она задумалась на секунду.
– А как же ее дочь? Она не рассердилась, что мать не оставила ее ей?
– Как сказал адвокат, дочь получает дом где-то в Массачусетсе и виллу в южной Франции. И поэтому ей просто нет до меня дела – она знала о желании своей матери. И она не любит Нью-Йорк, да и потом, ей совсем неохота возиться с арендой.
– Если это арендованная квартира, – спросила Мадлен, – как же миссис Бекер могла вам ее оставить?
– Вряд ли в этом городе есть люди, которым в действительности принадлежат их квартиры. Лилиан Бекер оставила мне договор об аренде сроком на пять лет с перспективой продления, но так как она знала – я не смогу платить арендную плату, она даже учредила специальный денежный фонд для этих целей. Адвокат сказал мне, что вообще-то это нетипичный случай, но если арендатор в хороших отношениях с владельцем – тогда все о'кей.
Он помолчал.
– Просто фантастика, правда?
– Да, да, это замечательно! Когда вы сюда переедете?
– Я не перееду.
– Но почему?
– Вы можете представить меня себе здесь? Совсем одного, с привычками Виллиджа, с моим саксофоном?
– Стены кажутся толстыми.
Гидеон чуть помолчал, прежде чем ответить.
– Я подумал – если вам понравится… – он колебался. – Я подумал, может, вы с Валентином будете не против поселиться здесь.
Изумленная Мадлен почувствовала, как ее щеки стали горячими.
– Я не могу позволить себе такую квартплату.
– Но ведь ничего не нужно платить. Завещание, помните? Фонд.
Казалось, молчание повисло навечно.
– Но вы ведь все еще меня совсем не знаете, Гидеон…
– О, Господи! – воскликнул он расстроенно. – Я вас обидел.
– Нет, нет, – она покачала головой. – Я – тронута, а не обижена. – Она помолчала. – Если б я даже могла принять – я бы все равно не смела и мечтать о такой чудесной квартире. Но я не могу.
– А почему?
Она была все еще розовой от смущения и замешательства.
– Я как раз хотела вам сказать сегодня вечером, но вы пришли и увезли меня сюда… Я просто не успела…
– Сказать мне что?
– Я нашла квартиру. Я уже ходила на нее взглянуть, сегодня рано утром – а вечером я должна подписать договор об аренде. Мы ударили по рукам.
– А где это? – Гидеон казался расстроенным.
– Семьдесят четвертая, недалеко от Амстердам-авеню. Две спальни. Извините меня. Мне так неловко.
– Ну что вы! Не нужно…
Мадлен осторожно выбирала слова.
– Я не хочу того, что мне принесут уже готовым, на блюдечке, Гидеон. Я во многом так сильно зависела от Константина – с тех пор, как мы приехали в Америку. Я не знаю, выжила бы я без его помощи, но я уже давно готова встать на свои собственные ноги… я ждала потому, что мне не хотелось его огорчать. Но все же время пришло.
– Я понимаю, Мадди. А тут еще я…
– Вы хотите помочь, – она опять помолчала. – Вы исключительный друг, и я люблю вас за то, что вы думаете о нас. Но мне все же нужна моя независимость… Нет, я не имею в виду, что вы не хотите, чтоб я оставалась независимой, если бы я это приняла… но я буду так себя ощущать…
Она запнулась, почувствовав, что не может выразить свои чувства словами.
– У вас будет тяжело на душе?
– Да.
– Ну что ж, – сказал Гидеон с немного натянутой улыбкой. – В таком случае, мне придется сдаться и стать владельцем этой квартиры. – Он покачал головой. – Я никогда, в сущности, не одобрял легкие деньги, но, боюсь, я к ним привыкну.
Она улыбнулась.
– По крайней мере, вам теперь будет легче приходить к нам каждый раз, когда вам только захочется, – проговорила она, уверенная, что Гидеон хорошо понимал – Зелееву не нравятся его визиты.
– А когда я смогу на вашу квартиру взглянуть? Мадлен улыбнулась ему.
– Сейчас мне нужно идти домой, чтоб забрать Валентина, но мне хотелось бы, чтоб вы были рядом, когда я буду подписывать договор. Я так ценю ваши советы.
– Я польщен.
* * *
Мадлен и Валентин переехали на новое место в первую неделю 1967-го. Их квартира была на четвертом этаже симпатичного, респектабельного вида дома на Семьдесят четвертой улице. Всего несколько Домов отделяло ее от Амстердам-авеню. Зелеев жил неподалеку, всего в трех кварталах. Но это не мешало русскому жаловаться и пытаться вытащить ее оттуда назад.
– Тебе бы нужно поискать себе что-нибудь среди этих домов на Вэст-Энде, – говорил он ей. – У них есть марка, они добротно сделаны – и там швейцары у дверей.
– Но там плата дороже.
– Зато улица широкая – там гораздо светлее и безопаснее.
– Но у меня и так солнце весь день, – сказала Мадлен. – Да и потом, Гидеон и Руди несколько раз специально прошлись там ночью, и они думают – там не опаснее, чем в других местах.
– Но не так безопасно, как на Риверсайд Драйв.
– Но я же не могу вечно оставаться с вами, Константин, – мягко напомнила ему она. – Валентин подрастает, ему нужно больше пространства. Да и мне – и вам.
– Мне нужна ты.
– Но ведь вы меня не теряете. И никогда не потеряете…
– Вот как раз именно в этом я не уверен, – мрачно ответил Зелеев.
Валентину квартира понравилась. Он был нормальным, живым и энергичным ребенком, но сколько он себя помнил, у него никогда не было места, чтоб вволю поиграть. Конечно, Мадлен водила его в разные парки и на игровые площадки, но в квартире Константина ему все время приходилось быть осторожным, чтобы что-нибудь не сломать или не разбить. А теперь у него была своя собственная комната, и мама позволяла ему играть, где угодно – если только у нее не было гостей или тогда, когда ему уже пора было спать. Только в эти моменты они и спорили.
– Но я совсем не устал, мамочка, – сказал он как-то, в один из поздних вечеров, когда она пришла к нему укладывать его в кроватку. Он говорил правду, потому что ему казалось – когда наступают сумерки, ему еще больше хочется играть.
– Ну вот, опять то же самое, – говорила ему Мадлен. – Уже поздно, и тебе нужно спать.
– Но я не усну. Я буду просто лежать тут и смотреть в потолок.
– Тогда я немножко почитаю тебе на ночь. Валентин сел, прислонившись к подушкам.
– Константин говорит, что я ночная сова – как и ты, мамочка.
– Но даже совы должны спать, дорогой.
– А когда здесь дядя Руди, он разрешает мне не спать почти до твоего возвращения. – Он улыбался во весь рот.
– Правда? Ах, он разбойник!
– Он говорит, когда ты была маленькая, тебя не так-то просто было загнать в постель.
– Я всегда послушно ложилась в кроватку, – сказала Мадлен. – У меня не было выбора. Моя мама была со мной очень строга. Даже если мне совсем не хотелось спать, я должна была лежать тихо и делать то, что мне сказали.
– Но ведь тебе не хотелось спать, мамочка, не хотелось?
– Нет, не всегда.
– Тогда ты должна знать, каково мне. Мадлен потрепала его по волосам.
– Да, chéri, я знаю.
– Мама?
– Что, мой родной?
– А можно нам… у нас будут в квартире цветы? Пожалуйста. Я имею в виду эти… в горшках, чтобы было, как в саду.
– Конечно, chéri, это отличная идея.
– Мама?
– Что?
– А мы можем купить телевизор?
– Нет, мой дорогой. Не сейчас.
– А почему?
– Слишком дорого.
– Мама?
Мадлен поднесла к губам усмиряющий палец.
– Последний вопрос.
– Ты разрешишь Гидеону отвезти нас на Кони Айленд? Он говорит, там – здорово!
– Да, конечно, chéri, но я не знаю, когда. Я сейчас так много работаю сверхурочно.
– А мы можем поехать в следующее воскресенье? Гидеон говорит, там есть целый парк специально для детей.
– С воскресеньями все сложно, малыш. Ты же знаешь – я работаю в Забаре весь день.
Лицо Валентина стало грустным.
– Мне так скучно и грустно, когда ты на работе, мама.
– Я знаю.
Подгоняемая чувством вины, Мадлен взяла на следующее воскресенье выходной, чтоб Гидеон мог отвезти их на Кони Айленд. Они провели несколько приятных часов в детском парке, и Валентин смог вволю накататься на всем, чего только его душа пожелала, а потом пошли прогуляться у воды. Теплый ветерок обвевал их щеки, Валентин повизгивал от радости, носясь туда-сюда и с замиранием сердца смотря на парение чаек над океаном и шумный пестрый карнавал на стороне материка. Они забрели на пляж, сняли обувь и бродили, утопая ногами в песке и слушая шум прибоя. Мадлен крепко сжимала левую руку Валентина, а Гидеон – правую, на случай, если радость вдруг завела б его слишком глубоко в воду.
– Ему нужны друзья его возраста, – сказал Гидеон Мадлен позже, когда они сели на скамейку и наблюдали за Валентином, чьи губы и щеки были еще липкими от конфет, самозабвенно игравшим в песочнице. – Он такой отважный парнишка, – Гидеон засмеялся. – Пожалуй, он был бы непрочь покататься на «русских горках», если б вы ему разрешили – и если б он знал, что доставит нам удовольствие.
– Но он проводит все свое время со взрослыми, – сказала Мадлен, и ее блестящие глаза затуманились.
– Ему сейчас пять, Мадди, ему нужно в школу.
– Я знаю – я думаю об этом все время. Но как это возможно?
Она намеренно отгоняла мысли об опасной нестабильности их полулегального проживания в Америке. Она въехала как человек, прибывший на время, и уже больше двух лет работала, не говоря своим хозяевам, что у нее нет официального разрешения на работу. Позже это беспокоило ее все больше и больше, но она не знала, что предпринять.
– Вам нужно срочно что-то сделать, Мадди, – сказал Гидеон. – Или в любой момент кто-нибудь может донести, что здесь живет маленький мальчик, который никогда не выходит за порог дома в школу.
Мадлен знала, что он прав. Это же самое повторял ей Руди, и ее почти что пилил Константин. Видеть своего веселого подвижного мальчика, который нуждался в сверстниках и занятиях, сидящим здесь в одиночестве… – все это просто надрывало сердце Мадлен. Но она по-прежнему боялась рисковать, боялась предпринять любой официальный шаг, чтоб не разворошить осиное гнездо. Она сравнивала себя со страусом, прятавшим в минуту опасности голову в песок. Надеялась, что все само собой разрешится чудесным образом.
– Я придумал выход, – неожиданно сказал Гидеон.
– Какой?
– Давайте сначала взглянем на альтернативы, хорошо? Даже если вы решитесь пойти работать в вашем семейном банке – а вы не хотите, я знаю… должен сказать, что на самом-то деле нет ни одной банковской работы, для которой бы у вас была квалификация. И, значит, чтоб получить эту работу, вам нужно будет обратиться к своей матери, чтоб она для вас что-то подобрала.
– Не раньше, чем от этого будет зависеть жизнь Валентина, – твердо сказала Мадлен.
– Второй шанс для вас – отдаться на милость Департамента иммиграции. Они могут быть снисходительны – но могут и заупрямиться, потому что вы сознательно столько оттягивали.
– Вы думаете, они могут нас выслать? – спросила она тихо.
– Сомневаюсь, – Гидеон подавил дрожь. – Но все же я бы не стал рисковать.
– Тогда что же мне остается?
– Только одно, что может дать гарантии.
– Ради Бога, что же это? – Мадлен умирала от нетерпения. – Скажите мне.
– Замужество, – сказал Гидеон. – Брак с гражданином Америки.
Он хотел, чтоб голос его звучал спокойно и непринужденно, но его волнение и тревога все же закрались в его тон.
– Фиктивный брак.
– Вы шутите?
– Я хочу и могу это сделать для вас, – он почувствовал, что краснеет. – Конечно, мы будем жить отдельно – это будет просто соглашение между друзьями.
Он ждал ее ответа, но она молчала, и он продолжал:
– Мадди, я просто очень волнуюсь за вас и Валентина. Я не хочу, чтоб вам обрубили корни, которые достались вам так тяжело.
Мадлен была слишком поражена, чтоб отвечать. На секунду она даже забыла, где она, забыла присматривать за Валентином. Она знала, что такие браки были обычным делом во время войны, но теперь? И она была по-прежнему женой Антуана – душой и сердцем. У нее не было даже минутного искушения посмотреть на другого мужчину.
– Но это будет всего лишь клочок бумаги, – сказал Гидеон, угадывая ее мысли. – Это ничего общего не имеет с настоящим замужеством.
Мадлен попыталась взять себя в руки.
– А как же вы? – спросила она. – Разве это будет справедливо по отношению к вам, Гидеон? Вы можете влюбиться, вы можете захотеть жениться опять – ни одна девушка на свете не поймет…
– Что-то непохоже, что это случится, но… хорошо, если даже и так, мы сможем развестись.
– Это – безумие.
– А я так не думаю.
Она взглянула ему в лицо – такое доброе, сильное лицо.
– Многие люди делали мне добро, Гидеон, но это – самая добрая, самая бескорыстная вещь, какую только кто-либо хотел для меня сделать, и я так люблю вас за это.
– Тогда, хорошо? Вы согласны?
Чайка пронеслась над головой, и Валентин засмеялся.
– Но это безумие!
– Ну разве что совсем чуть-чуть.
– И это просто невозможно.
Они поженились седьмого апреля в ратуше. Руди и его друг, Майкл Кэмпбелл, двадцатишестилетний уоллстритский брокер, с которым Руди жил вместе в квартире вот уже девять месяцев, были свидетелями. Ну а Зелеев – тот недвусмысленно выразил свое неодобрение и раздражение по поводу того, что он назвал «шарадой», но тем не менее приготовил торжественный обед в своей квартире, чтоб отметить новый юридический статус Мадлен – он намеренно не называл это браком.
Ее имя по официальным документам стало миссис Гидеон Тайлер. В клубах, где она продолжала петь, завоевывая все большую популярность, она оставалась Мадди Габриэл. Но в сердце своем она по-прежнему была Мадлен Боннар.
Теперь Валентин посещал школу, именовавшуюся незатейливо ПС 87, которая была совсем близко от дома, и друзья стали звать его Вэл. Это было здорово для Мадлен, но каким-то образом фиктивный брак, казалось, провел незримую черту между Гидеоном и Мадлен. Ей казалось более мудрым пореже видеться со своим другом – чтоб чувствовать, что она не утомляет и не надоедает ему, навязывая себя или сына. Ей не хотелось ломать его жизнь. Когда он встретит кого-то, кого действительно полюбит, не уставала она ему повторять, он должен ей сразу сказать, и они исчезнут с его пути – a если это станет серьезно, если он станет подумывать о настоящей женитьбе, она гарантирует ему моментальный развод без секундного колебания.
Бывали минуты, когда Гидеону казалось – он больше не выдержит. Он знал, что, наверно, слишком стар для нее, знал, что она никогда не смотрела на него иначе, кроме как просто на друга – но всякий раз, как она упоминала слово «развод», он чувствовал себя так, словно его изо всех сил ударяли в солнечное сплетение. Он тоже давал ей больше «свободы», чем раньше, подписывал необходимые бумаги в качестве мужа, ходил в школу Валентина, когда было нужно, но никогда не относился к их браку так, как это могло бы ее расстроить. Он окунулся с головой в работу, взвалил на себя больший, чем обычно, груз дел, ходил по пятам неверных жен и мужей, брал у адвоката кое-какие уголовные дела, соглашался на роль телохранителя в случаях, когда свидетели нуждались в особой безопасности, и рыскал по Нью-Йорку в поисках пропавших людей. Он потерял аппетит и сбрасывал вес, тренируясь в гимнастическом зале в Бронксе, чтоб поддерживать себя в форме. И заставлял себя не делать Валентину подарки чаще, чем раз в месяц.
Руди Габриэл знал, что Гидеон любит его сестру, и Константин Зелеев – тоже знал. Но Гидеон заставил Руди поклясться на Библии, что тот ничего не скажет Мадди. А Зелеев и сам не сказал бы ей ни за что – даже если б Гидеон приставил к его виску пистолет и умолял его сделать это.
15
В сентябре карьера Мадлен неожиданно взлетела наверх, когда менеджер по имени Джоуи Т. Каттер услышал ее пение в Лила, вечернем клубе на Второй Авеню. Последние четыре месяца она регулярно пела там три раза в неделю. Она исполняла полдюжины песенок дважды за вечер. В один из вечеров она оставила микрофон и стала изящно ходить от столика к столику, напевая для каждого гостя – словно именно только для него она приходила сюда.
Каттер, пораженный искренностью ее чуть хрипловатого голоса и ее красотой, оставил ей визитную карточку с пометкой, приглашавшей ее посетить его офис в Брилл Билдинг.
– Вы хотите стать звездой – или просто петь? – спросил он ее, не успела она присесть. Она нервничала и неуверенно смотрела на него через стол.
– Если честно?
– Абсолютно.
Мадлен посмотрела на него, и он ей понравился.
– Если честно, мне никогда и в голову не приходило стать звездой. Мне говорили, что это – плохо, и, может, так оно и есть, но все, что я хотела – это петь, – она ему улыбнулась. – И если мне удавалось петь, чтоб зарабатывать на жизнь – для меня это было просто чудо. Как сказка.
– Вы замужем?
– Да.
– А вашему мужу нравится, что вы поете?
– Очень.
– У вас есть дети?
– Один сын.
– У вас проблемы с поездками?
– Это зависит от того, куда поехать и насколько.
– А сможет ли ваш муж присмотреть за ребенком, ну, скажем, неделю?
Мадлен пристально посмотрела на него.
– Это зависит от обстоятельств, мистер Каттер. Менеджер взял маленькую сигару и стал жевать ее кончик.
– Как насчет того, если я предложу вам номер-другой в кабаре, мисс Габриэл? В таких городах, как Бостон, Майами – может, даже в Лас Вегасе?
– Это звучит очень заманчиво, – ее сердце дрогнуло.
– Я говорю пока только о сопровождающих ролях, вы понимаете?
– Конечно, мистер Каттер.
– Но вас это не заденет, – сказал он иронично, – раз вы не стремитесь стать звездой, правда?
– Вовсе нет, – ответила она честно.
– Вы – француженка, верно?
– Я из Швейцарии.
– Швейцарка, правда? – Он задумался. – Но мы все же подадим вас как француженку – это лучше идет к вашему стилю.
Он сделал паузу.
– У вас когда-нибудь выходил диск?
– Диск?
– Ну, пластинка, вы знаете. Вас когда-нибудь записывали?
– Еще нет, – сказала она. – А вы думаете, я бы могла?
– Конечно, почему бы и нет? – Каттер опять пожевал свою сигару. – Мы говорим о пробном диске, мисс Габриэл. Я занимаюсь не только певцами. Я также разыскиваю композиторов-песенников. И что же получается? Вы записываете песенку определенного автора, и ее слышит кто-нибудь из представителей известных фирм грамзаписи… Он пожал плечами.
– Иногда певец выпускает диск, который хорошо продается, и вдруг кто-нибудь вспоминает, что на пробном собственном диске голос певца звучал еще лучше. Тогда, если вам повезет, вы можете получить контракт.
Он опять сделал паузу и подмигнул.
– Только не падайте в обморок.
Мадлен, у которой никогда не было своего агента или менеджера, была в восторге, когда ее заработки стали возрастать – даже в тех нескольких клубах, где она пела уже два года. И хотя ни одно из тех кабаре, о которых говорил Каттер, так еще и не материализовалось, она уже записала несколько демонстрационных дисков. Каттер, которому очень нравился ее стиль, воодушевлял ее работать еще больше, развивать то, что дано ей природой, учил ее управлять аудиторией и наиболее выгодно подавать свою внешность и поведение на сцене.
– Но могу я просто оставаться собой? – однажды спросила его она.
– Конечно, это будете вы – но, может, чуть-чуть еще лучше.
Прошел год, как Мадлен и Гидеон оформили свои отношения. Зелеев, придя к ней однажды вечером в крошечную гримерную в Лила, сделал неожиданное предложение. Может, сказал он, уже настало время съездить в Париж и забрать Eternité?
– Теперь ты можешь официально ездить туда-сюда, ma chère, и, если честно, мне больно думать, что наше прекрасное дивное сокровище пылится в сейфе.
Мадлен почувствовала легкую дрожь. Конечно, она тоже любила ее, и ей бы тоже хотелось ее снова увидеть, но мир, в котором она видела ее в последний раз, казался ей удаленным на миллионы лет от того, в котором она жила сейчас.
– Я даже и не знаю… – проговорила она. – Там она в безопасности.
– Но она может быть в такой же безопасности и здесь, в сейфе в Нью-Йорке, – подчеркнул Зелеев. – А здесь мы сможем еще и видеть ее время от времени.
Баснословная ценность скульптуры тревожила Мадлен еще и по другой причине. Она никогда не видела в творении ее деда ничего, кроме уникального выражения его любви к Ирине – но теперь, когда это стало ее, стало принадлежать ей, сама мысль о том, что это можно продать, стала обременительна. Как еще она могла отблагодарить их всех за их доброту – и как она могла дать Валентину все то, что так хотела бы дать?
– Я не уверена, – произнесла она нерешительно.
– Я не понимаю.
Она попыталась объяснить.
– На самом деле, мне всегда хотелось бы сделать с Eternité то, чего ждал бы от меня Опи. Но что?
– Амадеус никогда не загадывал наперед, – мягко сказал Зелеев. – С него всегда было достаточно мысли, что он причастен к ее созданию. Как-то раз он мне даже сказал, что ему все, равно что с ней станет потом.
– Но он думал о ней как о памятнике.
– Ирине? Конечно. И я так думал всегда.
– И той короткой жизни, которую они прожили вместе в Швейцарии.
Мадлен колебалась, боясь ранить Зелеева.
– Я не вижу смысла привозить ее в Америку – вообще.
Лицо Зелеева помрачнело.
– Я никогда не думал, что ты можешь быть нечестной, – сказал он с вызовом.
Она была удивлена.
– Не думаю, что я сейчас нечестна.
– А я думаю, – он усмехнулся. – То, что ты на самом деле чувствуешь, ma chère, так это страх. Тебе страшна сама мысль поехать в Париж – даже ненадолго. В этот город, который дал тебе самое большое счастье – и отнял его, и причинил самую большую боль и горе.
Он сделал паузу.
– Ты просто боишься.
С этим Мадлен поспорить не могла.
* * *
– С Константином все в порядке? – спросил ее несколько дней спустя Гидеон, заглянув в Забар, где Мадлен по-прежнему работала каждое утро шесть раз в неделю.
– Я думаю, да. А почему вы спрашиваете?
– Я имею в виду не его физическое состояние.
– Тогда что же? – Она удивилась и задумалась. – Я даже не знала, что вы его видели.
– Он ходит в гимнастический зал. В Глисон'з.
Мадлен пожала плечами.
– У него всегда был пунктик на том, чтоб держать себя в форме. За все время, пока мы жили вместе, он ни разу не пропустил там своих занятий.
Она улыбнулась.
– Если погода была подходящей, он шел еще и в парк, а если шел дождь или снег, делал зарядку дома или делал эти свои ужасные качки.
– Вы говорите, он всегда был фанатиком?
– На грани того.
– Ну вот, теперь он за гранью, – сухо сказал Гидеон. – Этому мужчине уже за семьдесят, но могу поклясться, Мадди, он старается соревноваться со мной. Нет, я знаю, это звучит нехорошо, но если бы вы только увидели – тогда вы бы поняли сами. Глисон'з – это, в основном, зал для борцов, и мне это необходимо для работы – но он, похоже, совсем спятил, что появляется там.
– Для него это так опасно?
– Бог свидетель, он даст сто очков вперед любому пожилому мужчине. Но, Мадди, он уж точно искушает свою судьбу! Прыжки, кувырки – это ладно. Но если я иду к боксерской груше, Константин пользуется ею сразу же после меня. Если я играю в спидбол – и он тут как тут. Если я толкаю штангу или гири… я видел, как он повторяет за мной, словно хочет быть уверен, что возьмет столько же, сколько и я.
Гидеон покачал головой.
– Но самое сверхъестественное – он все это делает, Мадди. А я ведь сам в отличной форме.
Мадлен заметила, что Мерри Клейн смотрит в их сторону.
– Мне нужно возвращаться к работе. Если честно, я даже и не знаю, что на это сказать…
– Я всегда знал, что Константин меня недолюбливает. И еще больше с тех пор, как мы поженились.
Он тряхнул головой.
– Может, мне самому следует охладить пыл в гимнастическом зале – чтоб ему было не так тяжело.
– Заставить его подумать, что вы – выдохлись, что он вас измотал, так?
– Он много значит для вас, Мадди, я знаю это. Я не хочу видеть, как он себе вредит, и, конечно, не хочу быть причиной его инфаркта.
– Наверно, мне нужно было бы с ним поговорить, – сказала нерешительно Мадлен. – Но я знаю, что в этом нет никакого смысла. Если уж Константину вошло что-то в голову – никто на свете не сможет его остановить.
Неделю спустя Зелеев пригласил Мадлен на обед.
– В моей квартире, во вторник – по-моему, ты не работаешь во вторник по вечерам, я не ошибся?
– Вы хотите, чтоб я пришла пораньше с Валентином, или попозже – одна?
– Попозже, ma chère. Определенно попозже. Когда Мадлен пришла, экзотическая гостиная с красными стенами была залита светом свечей, во льду виднелись шампанское и икра, серебряная супница с борщом стояла на столе.
– Mais comme c'est beau![100] – воскликнула она в восхищении. – Что мы празднуем, Константин? Может, я что-то забыла?
– Нет, ты ничего не забыла, – успокоил ее Зелеев. – Я просто хочу, чтоб ты отдохнула – расслабилась и порадовалась жизни; две милые способности, которые ты, я боюсь, можешь начать терять. – Он откупорил бутылку. – Немного шампанского?
Он был в странно приподнятом настроении – он был просто в ударе. Он налил ей шампанского, а сам пил короткими глотками холодную водку, совершенно отказываясь объяснить ей повод такого, как ей упорно казалось, вызванного чем-то торжества.
– Валентин шлет вам самый горячий поцелуй, – сказала она. – Он чуть-чуть рассердился, что его не пригласили, но потом вдруг стал очень взрослым и сказал, что я заслужила вечерок отдыха.
Она слегка засмеялась.
– Что это там печется? Запах просто потрясающий.
– Кулебяка с семгой – надеюсь, ты голодна, ma belle?
– Как волк.
– Тогда давай начнем.
Сначала они поели икры – белужьей, поданной с мелко рубленым яйцом, луком, лимоном и черным хлебом, а потом Зелеев разлил борщ в глубокие тарелки. Его манеры были блестящими, изысканными и отточенными – словно он был характерным актером, игравшим роль метрдотеля.
– Ну как, вкусно? – спросил он, садясь напротив нее.
– Просто нет слов!
Он ел понемногу, продолжая пить свою холодную водку, и посматривал на Мадлен, как бдительная, быстрая и зеленоглазая лиса. Она обнаружила, что смотрит на его безупречные волосы и усы, как всегда тщательно причесанные, и вдруг представила его себе возле зеркала в ванной комнате – как он долго расчесывает их и так, и эдак.
– Ты улыбаешься, ma chère, – сказал Зелеев. – Вот и хорошо.
Мадлен слегка покраснела.
– Вы едва прикоснулись к борщу.
– Я просто щажу себя. У нас еще будут вареники на десерт, в вишневом соусе.
– Обычно вы не такой подчеркнуто «русский», Константин, – сказала Мадлен.
– Но сегодня – не обычный вечер.
– А почему? – она спросила опять, но Зелеев только поднес свой указательный палец к губам заговорщическим жестом и не сказал ничего. Он налил ей еще шампанского, сам проглотил еще немного водки и принес главное блюдо из кухни.
Мадлен не могла припомнить, чтоб хотя бы раз чувствовала себя неуютно в обществе Зелеева. Но постепенно, пока вечер плавно катился по накатанным рельсам, внутри нее стало расти странное беспокойство. Все ее попытки поддерживать обычную беседу терпели неудачу, ее аппетит стал слабеть, подкошенный вкусной сытностью икры и борща, исчезая по мере того, как водка стала загораться краской на щеках ее старого друга, и она ощущала, как внутри него тоже росло напряжение.
– Я не уверена, что осилю вареники, – сказала она намеренно весело. – Все было так вкусно.
– Пустяки.
– Вам нехорошо, Константин? – спросила она осторожно. – Вы почти совсем ничего не едите.
– Никогда я еще не чувствовал себя лучше. Он встал, чтобы убрать со стола.
– Можно, я вам помогу? – спросила она, тоже вставая.
– Нет, – сказал Зелеев. – Ты посиди. Она села.
Когда он вернулся с кухни, он вынул маленькую бархатную коробочку из кармана и положил ее на стол перед Мадлен. Его руки дрожали.
– Вместо десерта. Мадлен посмотрела на него.
– Мой день рождения – в декабре, – сказала она.
– Я знаю это очень хорошо, – ответил он. – Я знаю про вас все, Магдалена Александровна.
– Что там внутри? – она старалась, чтобы ее голос звучал беззаботно и непринужденно, но против ее воли в него закралась предательская дрожь. – Этот вечер был сам по себе замечательным, Константин. Не нужно еще и подарков.
Ее живот вдруг свело странным и непонятным ужасом.
– Да и потом, мне нечего вам подарить.
Зелеев, встав около нее, наклонился и открыл коробочку. Внутри, на атласе, лежало золотое кольцо с большим роскошным зеленым изумрудом изумительного цвета.
– Этот камень оставила мне Ирина Валентиновна, – тихо и спокойно сказал он. – Он просто потрясающий, колумбийский изумруд.
Мадлен прикованно смотрела на кольцо, ее щеки просто пылали. Она не могла говорить, да и не знала, что сказать. Неожиданным сильным порывистым движением Зелеев схватил обе ее руки и опустился перед ней на колени. Она вдруг почувствовала чудовищное по своей неуместности желание расхохотаться, но ей удалось его подавить.
– Выходите за меня замуж, chérie, – сказал он, и голос его словно задохнулся.
Конечно, ее рассудок сыграл с ней злую шутку, подумала она. Константин просто не мог сказать то, что она только что услышала. Она припомнила озабоченность Гидеона его поведением, его тревогу, что Зелеев пытается соревноваться с ним таким эксцентричным образом, и поняла теперь, что он был прав. Но как это может быть? Ведь это был ее друг – в течение всей ее жизни, друг деда, почти что наперсник ее отца…
– Я хочу, чтобы ты стала моей женой, Мадлен, – сказал он, и глядя в его лицо, она поняла, что он был абсолютно серьезен.
– Пожалуйста, – пробормотала она, все еще в шоке, – встаньте, Константин.
– Не раньше, чем ты мне ответишь. Его чувства взорвались потоком слов.
– Я полюбил тебя с той самой минуты, как только увидел – эту изящную изысканную девчушку на ступеньках лестницы в Цюрихе, а потом полуподросшую девушку. Ты помнишь, Мадлен? Помнишь, как это было у нас? С самого начала? Как ты мне доверяла – инстинктивно, но верно. Эти инстинкты – мудрее, чем те, что пришли позже, чтоб смущать тебя.
– Константин, пожалуйста…
– Конечно, тогда я любил тебя как ребенка. Ты была самим воплощением чистоты и невинности, моя маленькая Магги, но я знал – как никто другой бы не мог угадать – что ты родилась для великих вещей. Я ждал, пока ты вырастешь в женщину, я жаждал увидеть то, что в тебе расцветает – и когда я встретил тебя опять в Париже, восемнадцать, ты стала самым красивым, самым завораживающим созданием, какое только я видел – вот тогда-то я и полюбил тебя так, как люблю и сейчас.
Он держал ее руки в своих, и Мадлен, все еще ошеломленная, попыталась их освободить, но его хватка была крепкой.
– Я не хочу это слушать, Константин, – умоляла она.
– Но ты должна – пришло тебе время выслушать это, – его было невозможно остановить. – Я знал, что ты была еще слишком молода… конечно… и если б я заговорил с тобой об этом, ты была бы в шоке, я бы не вынес… я не мог рисковать нашей дружбой. А потом, когда мы увиделись снова, ты была уже женой Антуана.
– И вы ревновали к Антуану? – прошептала Мадлен скептически. От предательства, которое она начала ощущать, ее стало мутить.
– Не сердись так, ma belle. Я принял то, что потерял тебя навсегда. Когда он заболел, я просто плакал о тебе. Я хотел, чтоб он снова поправился – ради тебя, и поэтому я так гнал тебя в Америку… чтоб снова он выздоровел, и опять ты стала счастливой.
Он остановился, чтобы перевести дух.
– А когда он умер, я понял твое горе, как никто другой, и знал – тебе нужно время, чтобы оправиться.
Ужас Мадлен возрастал. Все эти месяцы, когда она жила с Валентином в его доме, в его квартире, спала в его кровати много недель, умирала от горя и тоски по Антуану, Константин хотел ее, хотел, похотливо…
– Я знал, что уже стар, – начал он опять, – что я теряю драгоценное время – но я всегда понимал цену qualité. Один единственный год с тобой, год радости и полноты жизни стоил бы двадцати лет без тебя.
На какое-то мгновение у нее закружилась голова. Он все еще держал ее за руки, и она смотрела сверху вниз на его лицо. Она никогда не принимала всерьез его возраст, никогда не относилась к нему как к старику. Но тут она увидела все его семьдесят шесть лет – складки морщин, вялую бледную кожу, редкие, тщательно уложенные и какие-то неуместно рыжие до сих пор волосы – и она ясно поняла, что все часы суровой тренировки в гимнастическом зале не были соперничеством с более молодым Гидеоном. Эта тренировка предназначалась ей. Она заставила себя говорить, но ее голос сильно дрожал.
– Вы забываете, что я опять замужем, Константин. Она хотела остановить его, не причиняя ему боли больше, чем это было необходимо.
– Я – жена Гидеона.
Он отмахнулся от этого, отшвырнул это прочь.
– Развод – обычное дело в Америке, да это и не было настоящим браком.
– Но благодаря этому мы находимся здесь, это сделало нас американцами.
– Если ты хочешь остаться здесь, развод ничего не изменит, – он сжал ее руки еще даже сильнее. – Но если ты выйдешь замуж за меня, мы сможем поехать куда угодно. Я отдам тебе все, чем владею. Я покажу тебе, Мадлен, чудеса. Мы сможем поехать вместе в Париж… там я защищу тебя от прошлого… Мы сможем забрать Eternité – как хотели…
Ей наконец удалось освободить руки, но Зелеев, проворный и ловкий, быстро вскочил на ноги и взял в ладони ее лицо, поцеловал ее. Застигнутая врасплох, Мадлен попыталась вырваться, но руки его крепко держали ее щеки, и мягкие, старые, влажные губы жадно приникли к ее рту…
С невероятным усилием ей удалось оторваться от него и вскочить со стула, опрокинув его. Она задыхалась, и отвращение, которое душило ее, обнажилось у нее на лице и в залитых слезами глазах.
– Мадлен, прости… – он увидел, что он сделал.
– Не прикасайтесь ко мне.
– Прости меня… – он старался удержаться на ногах. – Я не хотел… я не хотел напугать тебя.
Она искала свою сумку, нашла на кресле и схватила ее.
– Мадлен, не уходи, пожалуйста, умоляю тебя… Но она уже открыла входную дверь и бежала вниз по ступенькам, прочь из этой квартиры, прочь от Зелеева, наружу, на Риверсайд Драйв, бежала к Семьдесят второй улице, к людям и проносившимся мимо машинам, к своему дому и ребенку, к своему рассудку.
Она редко видела его после этого вечера, избегая его так, как только возможно. Вместе с рассветными лучами солнца наутро к ней пришло какое-то понимание, сочувствие и бесконечная жалость. Она искала внутри себя чувство вины, спрашивая – может, она когда-нибудь его поощряла, завлекала его, но она знала, что этого не было никогда. Никогда, даже на долю секунды, она не видела в нем кого-то иного, а не старого и верного друга.
Она ненавидела себя за свою жалость, не хотела быть недоброй к нему и месяц спустя начала звонить ему раз в неделю, чтоб убедиться, что с ним все в порядке. Но в тех редких случаях, когда они виделись, Мадлен всегда делала так, чтоб они не оставались наедине. Она разрешила ему периодически видеться с Валентином – в парке, или внутри ресторана или кафе, но когда ей нужно было оставить с кем-то сына, она просила Руди или Гидеона, или девушку из агентства с хорошей репутацией. Она никому не рассказала о том, что произошло в тот вечер – даже своему брату; ей совсем не хотелось унижать своего старого друга, чья многолетняя доброта, щедрость и великодушие не могли быть просто так вот сняты со счетов из-за одного опрометчивого поступка.
Осенью объявился опять Джо Каттер с целым ворохом многообещающих предложений по поводу кабаре; весь октябрь она пела в отелях Бостона, Лэйк Тахо, округа Вашингтон и Майами Бич, а в начале ноября Мадлен уже выступала в Лас Вегасе, в том же шоу, что и Тони Бенетт. Руди и Гидеон по очереди присматривали за Валентином, пока она путешествовала, тот или другой летели вместе с ней, воодушевляя ее перед выходом на сцену и радуясь ее успеху. Публика обожала Мадди Габриэл, тронутая ее искренностью, она отогревала их сердца. К тому времени, когда она наконец возвратилась в Нью-Йорк, изнывая от желания поскорей увидеть Валентина, Джо Каттер уже подписал для нее соглашение на выступления в Нью-Йорке.
– У нас накопилось уже много материала для записи, – говорил он ей, довольно потирая руки. – Ты счастлива, золотко?
– Очень. Но еще больше я рада вернуться домой.
– Знаешь, ты выглядишь так, словно огребла миллион долларов.
– Спасибо, Джо, – засмеялась она и поцеловала его в щеку. – Можно вопрос?
– Хоть целую кучу.
– Ты когда-нибудь курил эти свои сигары?
Каттер хихикнул.
– Один раз. Только один раз. Кто-то мне сказал, когда я пошел в гору, что мне не хватает сигары – ну как занавески для окна, ты меня понимаешь? Вот только мне не понравилось курить. Мадлен засмеялась.
– И поэтому теперь ты их просто жуешь.
Мадлен приготовила свой первый настоящий обед в честь Дня Благодарения, пригласив всех хороших друзей, какие только жили в Нью-Йорке – своих и друзей Валентина. Мерри Клейна и Лилу Новак, терпеливо ждавшую ее, пока Мадлен разъезжала по стране, Джо Каттера и Бетти, его жену. И, конечно, Константина. Валентин мог веселиться со своим лучшим другом, Хауи Блуштейном, Руди пришел с Майклом, а Гидеон – с незнакомкой по имени Дасти, короткошерстной таксой. Это был подарок ко Дню Благодарения для Мадди и Валентина.
– Да она просто красавица! – в восторге воскликнула Мадлен. Прошлой осенью Ной написал, что Хекси умерла от старости, и Мадлен частенько подумывала о том, как чудесно было бы завести еще одну таксу.
– Она – жертва разбитого дома, – объяснил ей Гидеон. – Принадлежала моему клиенту, который нанял меня, чтоб доказать неверность его жены. Боюсь, что я доказал – decree nisi[101] было подписано окончательно несколько дней назад.
– Это означает, что они развелись, – сказал Руди Валентину.
– Я знаю, что это означает, дядя Руди, – надменно ответило дитя.
– И никто из них обоих не хочет оставить себе Дасти? – спросила Мадлен.
– Муж просто не в состоянии присматривать за собакой, а жена хочет путешествовать. В ее чемоданах нет места для таксы.
– А раз ты больше не работаешь у меня, – сказал Мерри Клейн, – то можно сказать, что таксе крупно повезло.
Дасти сразу же смогла распознать хороший дом. Ее прежняя хозяйка вечно сидела на диете, а какая уважающая себя такса второй раз взглянет на домашний сыр? Квартира Мадди была уютной, обжитой, и была полна ощущения настоящего безыскусного домашнего тепла и сердечности, а сегодня здесь еще так восхитительно пахло жареной индейкой и другими разными вкусностями. Весь вечер самой большой проблемой для собаки было решить, чьи колени самые удобные, чья рука – самая ласковая, и кто из гостей роняет ей самые белые кусочки мяса.
После обеда Мадди немного попела и всплакнула – к чему имела склонность, когда по-настоящему была взволнована, и Гидеон помог ей прибрать в доме после гостей, а потом пристегнул поводок к ошейнику Дасти, чтоб выйти с ней на прогулку.
Мадлен пошла с ним до входной двери.
– Вы всегда знаете, – проговорила она мягко, – что может сделать меня счастливой.
– Надеюсь, что да, – Гидеон посмотрел на нее с высоты своего роста, и его тоска и тяга к ней стала такой сильной, что, казалось, могла разорвать его изнутри. Она по-прежнему была его ангелом, и все таким же недостижимым, и бывали моменты – такие, как сейчас, когда он едва мог это вынести.
– Спасибо вам, – сказала она. – За все.
– Ну что вы, – ответил он и почувствовал, как у него перехватило дыхание. – Мне это только в радость. И ваш дом… это всегда больше, чем просто гостеприимство.
– Вы мне не льстите?
– Нисколько.
А потом она оказалась в его объятьях, прижалась к его груди и неожиданно то, что началось как просто проявление благодарности и дружеской приязни, превратилось в нечто другое. Они оба поняли это, ощутили прилив более сильного чувства и неожиданного – по крайней мере, для Мадлен, желания. Гидеон чуть отстранился – бережно, словно боясь ее хрупкости, и ужаснувшись, что мог испугать ее. Но он так хотел бы никогда ее не отпускать, и Мадлен – тоже. Она просто стояла растерянно и неподвижно, пока Дасти, взведенная, как маленькая пружинка, от нетерпения, не начала громко и выразительно лаять, и они отошли друг от друга почти с настоящим отчаяньем.
– Вам лучше взять ее на руки, – едва внятно сказала Мадлен.
– Да, – согласился Гидеон, не двигаясь с места. Она улыбнулась.
– Ну, идите.
И он пошел, и какое-то время Мадлен стояла неподвижно, пытаясь успокоиться и понять то, что же сейчас произошло. Она была так удивлена, но ощущение парящей легкости и счастья разливалось по всему ее телу. На какую-то секунду она искала в себе огорченье, протест – но их не было. Она вдруг подумала – как давно он чувствует это к ней? И ответ пришел немедленно – простой и ясный, и она поняла, что сама уже давно была слепой. Непростительно слепой.
Вспомнив о гостях, она обернулась. Константин стоял в дверях гостиной. И Мадлен поняла, что он наблюдал за ними.
И хотя это быстро исчезло, растаяло и растворилось в его улыбке, то, что промелькнуло в его глазах, когда она обернулась, пробрало ее дрожью ужаса до самых костей.
16
Прошло одиннадцать дней после Дня Благодарения. Гидеон полный боли и смущения, мучимый сомнениями, избегал Мадлен. Валентин и его приходящая няня, девушка по имени Дженнифер Малкевич, которая нравилась малышу, гуляли на игровой площадке в Центральном парке, когда Дасти пропала.
Маленькую собачку уже несколько раз спускали с поводка побегать вволю, и никогда не было никаких проблем. Ей понравилась ее новая жизнь, и такса не делала попыток убежать, особенно после того, как Мадлен стала давать Валентину пакетик с нарезанной колбасой, который он носил в кармашке своей куртки – так, на всякий случай, как приманку для Дасти. Но в этот раз такса стремглав умчалась в густые кусты и не вернулась, и никакие крики, колбаса и поиски по парку ничего не дали. Валентин был безутешен. Дженнифер плакала, чувствуя себя виноватой. Мадлен бродила тем вечером с Руди по парку больше двух часов и развесила объявления с обещанием вознаграждения почти на каждом столбе и дереве на милю вокруг. Но шли долгие дни и ночи, и никто не шел и не звонил.
Всю следующую неделю Мадлен сама забирала Валентина из школы, и они каждый день, в любую погоду, прочесывали парк, и сердце ее просто разрывалось, когда она видела лицо сына, оно загоралось надеждой – он окликал собачку опять и опять, пока они не сдавались наконец и не шли домой, заглядывая по пути в местное отделение полиции. Гидеон по телефону спросил Мадлен, хочет ли она, чтоб он сам попытался найти Дасти до Рождества. Но Мадлен мало на то надеялась, она уже слишком хорошо знала, что такое горе. Валентин узнал Дасти недавно, но успел ее полюбить, и пройдет очень много времени, прежде чем он сможет осознать, что потерял ее насовсем.
Во вторник днем, за восемь дней до Рождества, домой Мадлен позвонил Руди.
– У нас посетитель, – сказал он.
– Кто?
– Наш отчим.
Укол отвращения воткнулся ей в сердце.
– Он один? Что ему нужно?
– Он – один, и хочет тебя видеть, – Руди сделал паузу. – Он ждет уже полчаса. Он позвонил мне на работу, и мы с Майклом вернулись домой. Сейчас мы угощаем его чаем.
– Ну и как?
– Все идет как по маслу.
– Господи, – сказала она. – Мне придется прийти?
– Если ты не хочешь, чтоб он заявился к тебе.
Она была в Виллидже уже через сорок минут. Всю дорогу, пока ехала в такси сквозь деловую часть города, твердила себе, что Стефан Джулиус теперь для нее не опасен, что он не может ей навредить. Ее жизнь его вообще не касается. Эта уверенность пропала, как только она увидела его, сидевшего в мягком кресле спокойно и нагло, нога на ногу.
– Магдален, – сказал он и встал.
– Стефан.
Он выглядел старше, но все же не изменился.
– Теперь миссис Тайлер, насколько я знаю.
– Это верно.
– Твой американский период жизни – и американский муж ему под стать.
Он посмотрел вдаль, за ее спину.
– Ах, какая жалость, а я-то надеялся его увидеть.
– У него другие дела.
– Не беспокойся, – он снова сел. – Твоя мать шлет свою любовь тебе и твоему сыну. Валентин здоров?
– Вполне. Спасибо. Как мама и Оми?
– Твоя бабушка стареет, как и все мы, а у Эмили все прекрасно.
Он помолчал.
– Руди говорит мне, что ты делаешь успехи. Сдается мне, в нашем роду до сих пор не было ни одной певицы кабаре?
Он бросил взгляд на Майкла, сидевшего рядом с Руди на диване, и обронил:
– Что ж, все в этой жизни может случиться впервые.
– Сядь, Мадди, – сказал Майкл, указывая ей место рядом с ними. Она села, радуясь их присутствию и испытывая приступ тошноты при виде Стефана. Как всегда.
– Итак, теперь Мадди? – Стефан улыбнулся. – Очень мило. И звучит уютно – по-домашнему.
– Что привело вас в Нью-Йорк? – спросила Мадлен.
– Дела, дела… И, конечно, хотел повидать вас обоих, – он сделал паузу. – И навестить могилу.
Никто не проронил ни слова.
– С тех пор, как мы узнали, что твой отец был похоронен – довольно загадочная история, как нам показалось – на кладбище в округе Вестчестер, мы решили, что по крайней мере одному из нас следует отдать дань уважения его праху.
– Он хочет убедиться, что папа мертв, – сказала Мадлен Руди, белому, как мел, но внешне спокойному. – Что ж, в этом нет никакой тайны, – добавила она для Стефана. – Наш отец хотел, чтоб его похоронили рядом с теми, кого он любил и кто любил его.
– Уверен, никто из вас не был против этого? – спросил Руди.
– Ни против его смерти, ни против его похорон, – ответил Стефан. – Если честно, для него это просто облегчение – по сравнению с его жизнью.
Мадлен встала.
– Что-нибудь еще?
Гнев просто душил ее, клокотал в ее венах и, казалось, зажег каждый кончик ее нервов. Но этот гнев придал ей и силы.
– Только один вопрос. – Он был задан Стефаном осторожно. – Где скульптура? Я был бы непрочь взглянуть на нее – после стольких лет загадок.
– У меня ее нет, – сказала Мадлен. – А если б и была, сомневаюсь, что подпустила бы вас к ней даже на милю.
– Ты ее продала?
– Я никогда ее не продам.
– А ты не будешь так любезна сказать мне, где она?
– С удовольствием. Она – в банковском сейфе.
– В Нью-Йорке?
– Нет, – ответил Руди, вставая рядом с сестрой. – Какое вам до скульптуры дело?
– А ты ее видел, Руди?
– Нет.
Джулиус улыбнулся.
– Может, ее и вовсе не существует?
– Какое вам до этого дело, Стефан? – Мадлен повторила вопрос брата. – Конечно, она прекрасна и даже бесценна – но вам она вовсе не нужна. Имея все деньги Грюндлей и все эти ваши собственные поганые деньги, почему вы так упорно интересуетесь Eternité?
– Любопытство, – ответил он. – И потом, мне никогда не нравилось, когда меня надувают. Такой я чувствительный.
– Никто вас не надувает, – холодно отрезал Руди.
– И я также не в восторге, когда надувают мою жену.
– Единственный человек, которого всегда надували, это – Магги, – ответил Руди. – И вы это отлично знаете.
– Ах, Магги! – опять улыбнулся Джулиус. – Женщина, которая постоянно меняет имена. Один год – швейцарка, потом вдруг – француженка, а теперь вот – американка.
Он встал и опять обратил все свое внимание на Мадлен.
– Насколько я знаю, власти в этой стране не жалуют фиктивные браки, или я не прав?
– Не понимаю, что вы имеете в виду, – сказала холодно Мадлен.
– В самом деле?
– Думаю, вам пора уходить, – вмешался Руди.
– А ты, сколько ты платишь за то, чтоб отлынивать от ежегодного призыва в армию? Твой долг гражданина, а?
– Почему бы вам не вернуться в Цюрих и не поразвлечься слегка, выясняя?
– Ох, Руди! – Джулиус протянул правую руку и погладил своего пасынка по белокурым волосам. Руди, весь серый в лице, не шевельнулся. – Ты стал для меня таким большим разочарованием – и для мамы тоже. Бедная мама!
Он посмотрел свысока на Майкла, все еще сидевшего на диване, а потом, взглянув с отвращением на свою руку, достал носовой платок и вытер пальцы.
– Вон отсюда, – проговорил Руди.
– С превеликим удовольствием.
– Какой обаятельный человек, – сказал Майкл после того, как Джулиус ушел.
– Магги? – Руди взглянул на сестру. – Ты в порядке?
– Нет.
– Нет, – согласился он. – И я – тоже. Мадлен села, ее ноги ослабели – теперь, когда отчим ушел.
– Это просто нечто – то, как он действует на меня. Я вижу его только третий раз – с тех пор, как ушла из дома – и все равно по-прежнему в его власти выводить меня из себя.
– Из всего того, что рассказал мне о нем Руди, – медленно произнес Майкл, – я понял, что Джулиус привык получать все, чего бы ни захотел. Такие типы привыкли повелевать. А вы оба ускользаете из-под его власти, и это бесит его – просто до безумия. Он способен на что угодно.
– Мне не нравятся его угрозы по поводу твоего брака, Магги, – нахмурился Руди. – Ты думаешь, он начнет строить козни?
– Кто может знать? – Мадлен покачала головой. – Он грозил мне и в Париже… но ничего не предпринял. Хотя, конечно, грозил он Люссакам, а не мне напрямую.
– Может, Гидеону нужно переехать к тебе – на время? – предложил Майкл. – На случай, если отчим все же начнет делать пакости. А если и начнет, – добавил он, – ну и пусть, пусть себе лезет вон из кожи. Найдется куча людей, которые мгновенно ослепнут и поклянутся, что вы – самая счастливая пара на свете.
– Да я даже не видела Гидеона вот уже две недели. Откуда мы знаем, что Стефан за нами не следил?
Она криво улыбнулась:
– Может, один частный детектив следил за другим.
– Давайте-ка не будем доставлять ему удовольствие. Будто он довел нас до паранойи, – твердо сказал Руди. – Сдается мне, он приехал в город по делу, а мы для него – так, побочное развлечение.
Мадлен молчала, вспоминая, как в Париже отчим заставил ее чувствовать, будто за ней шпионят. Он выгнал ее из дома Люссаков. И, похоже, ему б легко удалось поломать ей жизнь, не встреть она тогда Антуана. Но тогда Стефану не повезло. А теперь – теперь она тоже не намерена ему в этом помочь. Валентину здесь хорошо живется, и она будет за это бороться. На какое-то мгновение она позволила себе погрузиться в воспоминания о тех минутах, которые они с Гидеоном пережили в День Благодарения. Ей уже почти начало казаться, что она просто придумала эту неожиданную, головокружительную близость. Но если быть честной с собой, это было на самом деле, и терпение и время могут подарить им это опять.
Если только Стефан не сделает что-то, чтоб это разрушить.
– Магги, да ты вся дрожишь, – сказал озабоченно Руди, беря ее руку.
– Все это так странно, – проговорила она. – Когда Стефан приехал в Париж, он добился только того, что я оказалась в объятиях Антуана. По странному капризу судьбы, он подтолкнул меня к величайшему счастью моей жизни. И все же…
– Что, дорогая?
– У меня такое чувство, что он – посланец несчастья.
– Какая скотина, – быстро сказал Майкл. – Успокойся, Магги, это все – чепуха.
– Правда?
* * *
На следующий вечер, в среду, в четверть девятого, вскоре после того, как Мадлен ушла из дома на работу в Лила, Дженнифер Малкевич читала на ночь Валентину одну из его любимых книжек в тщетной надежде, что ребенок наконец-то уснет. Он постоянно недосыпал, но, странно, это никак не сказывалось на его здоровье. Но Мадлен все равно очень беспокоилась.
Вдруг раздался звонок. Звонили во входную дверь с улицы.
– Если это Санта Клаус, что-то рановато, – засмеялся Валентин.
– Тогда я пойду и скажу ему, что он ошибся. Пусть приходит в следующую среду.
– Правильно, Джен, – Валентин взял книжку. – Могу я дочитать?
Звонок зазвенел опять.
– Застегни пижаму, малыш. Простудишься.
Дженнифер Малкевич нажала в холле кнопку домофона.
– Кто это?
Она слушала какую-то секунду, а потом отпустила кнопку и открыла входную дверь.
До Рождества оставалось еще семь дней, но посетитель держал в руках две нарядные коробки, обернутые в подарочную бумагу: одна была большой, а другая – поменьше. Валентин в пижаме выглянул из своей комнаты, издал вопль удовольствия и понесся было обратно, заметив укоризненный взгляд Дженнифер.
– Это мне? – спросил он с округлившимися глазами.
– Да. Та, что побольше. Посетитель улыбнулся Дженнифер.
– Вас не очень затруднит сварить мне чашечку кофе? На улице так холодно.
– Конечно. Сию секунду.
Она пошла на кухню и включила кран. Проходило всегда несколько секунд, прежде чем вода становилась холодной. Валентин выскочил из своей комнаты, побежал к коробке, лежавшей у телевизора, который мама наконец-то после концертного турне купила, и стал разрывать яркую обертку.
Посетитель пошел за Дженнифер на кухню и закрыл за собой дверь.
* * *
Гидеон, зная, что Мадлен поет сегодня вечером, вдруг ощутил сильное желание пойти и проверить, все ли в порядке с Валентином. Он позвонил в квартиру почти сразу же после десяти. Не получив ответа, он хотел уже было уйти. Но потом вдруг припомнил, что сегодня вечером Руди и Майкл отправились на обед на Уолл-стрит, и поэтому Валентин никак не мог находиться в их доме, а Константина Мадди теперь больше не просила взять к себе на время малыша. Вынув из кармана запасной ключ, который дала ему Мадди несколько месяцев назад, он открыл дверь и пошел наверх.
На первый взгляд все было в порядке. Огни мерцали на рождественской елке, был включен телевизор, Бинг Кросби напевал «Снежное Рождество». Большая пустая коробка лежала на полу, и клочки подарочной оберточной бумаги были разбросаны возле нее. Но Валентина нигде не было – ни здесь, ни в его спальне, ни в спальне матери.
Сердце Гидеона упало от испуга. Он увидел, что дверь на кухню закрыта. Прежде такого он не видел никогда. И он ее открыл.
Даже не пощупав пульс, он знал, что девушка мертва. Он смотрел на чайник в ее руке, на ее длинные коричневатые волосы набухшие кровью, вытекшей из раны в затылке. В ужасе он машинально оглянулся вокруг, ища глазами оружие. Но его не было. И в эту секунду он пришел в себя, и его захлестнула неистовая ярость, и жалость, и боль, его потянуло поднять девушку, унести от этого страшного места, распрямить уродливый надлом ее тела, пока смерть не сделала тело неподатливым. Но он знал, что этого делать нельзя, и, справившись со своими чувствами, не тронул ничего. Потребовалось какое-то время, пока он окончательно взял себя в руки и вернулся в гостиную.
Там он увидел вторую коробку – на обеденном столе. Маленькая белая коробочка, перевязанная голубой атласной лентой и словно просившая, чтоб ее открыли. Гидеон открыл ее и нашел там пропитанный кровью кусочек уха Дасти. И прочел записку:
«ЖИЗНЬ РЕБЕНКА – ЗА ÉTERNITÉ».
Она была напечатана на механической печатной машинке, и шрифт ее не так уж отличался от того, что выдавал его старенький ремингтон, когда Гидеон печатал отчеты.
Гидеон никогда не видел Eternité, загадочное сокровище Мадди – но он знал от нее, что скульптура прекрасна и просто бесценна. И он стал смутно припоминать – да, конечно, однажды Константин, за рюмкой водки, обронил… в Европе найдутся жесткие и алчные люди, готовые даже убить за нее.
Люди, которые не знают, что у Мадди на самом деле нет скульптуры, что она даже мельком не видела ее за последние десять лет.
Гидеон подумал – скольким людям Зелеев уже успел похвастаться своим творением? Когда русский перебирал лишнего, водка развязывала ему язык… и он терял здравый смысл.
Он опять взглянул на записку и впервые понял, что он весь дрожит. Страшная картина возникла у него перед глазами – Валентин в руках неизвестного Подонка, убившего Дженнифер… Неважно, умерла ли она сразу после удара по голове или медленно истекла кровью. Шустрый, красивый, сообразительный и пышущий здоровьем мальчуган, который давно уже стал единственным смыслом существования Мадди…
Гидеон пошел к телефону, взял трубку, но потом передумал и положил ее опять на аппарат. Если он сейчас вызовет полицию, если завертятся шестеренки официальной машины, они надолго задержат его для допроса, и пошлют машину в Лила и напугают Мадди. Нет, он должен увидеть ее первым, сам сказать ей страшную новость – как бы тяжело ему ни дались эти слова…
Мадлен пела «Yesterday», когда увидела Гидеона, входящего в клуб. Выражение его лица, угрюмость, которую она никогда не замечала за ним раньше", сказали ей, что произошло что-то ужасное. Заставив себя допеть до конца, она тихо переговорила с трио сопровождения, стоявшим позади нее, и пошла прямо к нему.
– Валентин?
Он коротко кивнул.
– Несчастный случай?
– Нет, Мадди, нет… пойдем, я расскажу тебе в машине.
За весь путь до дома – после того, как он рассказал ей все, что знал, и пока они стояли, застряв в трех автомобильных пробках – она не произнесла ни слова, не пролила ни слезинки. Но Гидеон, посматривавший на нее время от времени, видел, как руки ее были сжаты добела в кулаки на коленях, а когда он помогал ей выйти из машины в конце их казавшейся бесконечной поездки, на пальцах ее были крошечные капельки крови от ногтей.
– Не ходи туда, – сказал он наверху, глядя на закрытую дверь кухни. – Я вызову полицию, а потом мне придется оставить тебя ненадолго.
Он ни за что на свете не хотел бы оставить ее одну! Но есть вещи, которые он должен сделать как можно быстрее. А полиция пусть занимается тем, что ей положено делать – вместо того, чтобы зря тратить время, допрашивая его.
– Что ты собираешься делать? – она заговорила впервые, и ее голос был странным, словно полуудушенным от шока и страха.
Он нашел бутылку коньяка в шкафу и налил ей немного.
– Я пойду поспрашиваю, может, кто-то что-то слышал или видел – любые слухи. Сейчас важно все.
– Стефан, – сказала она неожиданно.
– Что?
– Мой отчим, – Мадлен была белой, как мел. – Он здесь, в городе. По крайней мере, был вчера – у Руди.
Она посмотрела на Гидеона остановившимся взглядом.
– Он мне угрожал.
– Угрожал? Как?
– Наш брак… – только и смогла сказать она. Гидеон сел на диван и протянул ей коньяк:
– Твой отчим не мог этого сделать. Правда?
– Но он спрашивал про Eternité, – сказала Мадлен. Она пыталась поднести рюмку к губам, но ее пальцы так сильно дрожали, что она не могла отпить и глотка. – Нет, конечно, он бы не смог – это безумие.
– Может, совпадение, – Гидеон пошел к телефону. – Расскажи все полиции, когда они приедут… расскажи им все, что ты знаешь или думаешь – неважно, насколько диким тебе это кажется.
Он дозвонился до полиции, а потом она пошла с ним к входной двери.
– С тобой будет все в порядке? – спросил он, зная, что это – невозможно.
– Иди, – тихо сказала она. – Со мной все будет хорошо.
– Вряд ли Руди и Майкл уже дома, но пытайся им дозвониться каждые пятнадцать минут. И скажи Руди, чтобы он быстрее ехал сюда. А кроме этих звонков… пусть линия будет свободной – на случай…
– На случай, если они позвонят.
– Может, лучше мне не уходить… – сказал, колеблясь, Гидеон.
– Если кто-то и может найти Валентина, так это – ты.
Мадлен быстро открыла дверь, и когда он протянул руки, разрешила себе тесно прижаться к нему на мгновение, а потом отступила назад.
– Иди, – проговорила она.
– Запри за мной дверь.
– Теперь уже поздно… – едва слышно сказала она, и впервые в голосе ее были слезы.
– Ох, Мадди…
– Иди.
Первыми приехали два офицера в форме. Спокойные, добрые и уверенные, они быстро записали то немногое, что могла сказать им Мадлен, бегло осмотрели кухню и остальные помещения квартиры, а потом позвонили в 20-й полицейский участок, чтобы связаться с детективами.
– И что будет теперь? – спросила Мадлен.
– Дежурный капитан и сержант патруля примут у нас это дело, мэм. Здание будет оцеплено – иначе сейчас тут будет слоняться куча разного народу, по дому, да и по всей улице.
– Что могу сделать я?
– Просто сидите и постарайтесь успокоиться, мэм. Они будут фотографировать, снимать отпечатки пальцев и расспрашивать всех ваших соседей – может, кто-то что-то видел; вы были бы удивлены, мэм, если б знали, как много люди видят, даже не отдавая себе отчета и не зная, что это – очень важно.
– Но мой сын? Кто ищет моего сына?
– Ребята из отдела поиска без вести пропавших будут здесь с минуты на минуту. Им понадобится все, что вы только можете им дать – фотографии, полное описание, одежда. Вы помните, в чем был одет ваш сын, мэм?
– В пижаме, – сказала она, и ее голос задрожал. – Хлопчатобумажная пижама, со слоником на кармашке рубашки. Он уже ложился спать, когда я уходила.
– И вы говорите – ваш муж вернулся первым? Это он нашел тело, и записку?
– И собачье ухо.
– Хорошо, мэм, – молодой офицер сделал паузу. – Только я не уверен, что понимаю – зачем он ушел и оставил вас здесь одну, миссис Тайлер? В таком состоянии… Вы сказали, он пошел искать вашего сына, я не ошибся?
– И поговорить с людьми.
– С какими людьми?
– Я не знаю. Я ведь вам сказала, он – частный детектив… его друзья, связи… – Мадлен смотрела на него. – Он сам был офицером полиции – много лет назад.
– Почему он оттуда ушел? – Война – его призвали.
– А потом – он не вернулся туда?
– Нет, – Мадлен поняла, как прав был Гидеон, уйдя до их приезда. Он сказал, что они будут зря тратить на него время и не ошибся. – Когда вы собираетесь начать искать моего сына? – спросила она.
– Они будут здесь скоро, – это дело нескольких секунд, мэм, и как только они получат то, что им необходимо, они сразу же начнут искать. Они оповестят всех в районе, расклеят объявления с фотографиями и описанием Валентина, и каждый полицейский на Манхэттене будет знать об этом и искать его. А тем временем другие офицеры будут искать здесь, поблизости от вашего дома – они зайдут в каждую квартиру, в каждое здание, а потом отправятся в другой квартал…
Приехали детективы, молодой офицер куда-то исчез. Следователи, заряженные новой, нерастраченной энергией, казалось, все свое внимание сосредоточили на Валентине. Но когда Мадлен дала им полное описание и несколько фотографий, сделанных в День Благодарения, они переключились на Дженнифер.
– А когда ее отсюда увезут? – устало спросила Мадлен появившегося вновь молодого офицера – всякий раз, как она вспоминала о теле бедной Дженнифер на кухне, чувства вины и ужаса становились непереносимыми.
– Еще немного потерпите, мэм. Они не могут спешить – вдруг они пропустят что-нибудь. Вы были бы удивлены, мэм, если бы знали, какие крошечные фитюльки иногда становятся главными уликами.
Они сняли ее отпечатки пальцев, обшарили каждый – как показалось Мадлен – сантиметр поверхности ее квартиры, сделали фотографии под всеми мыслимыми углами и допросили ее наконец. Они были явно недовольны, что их вызвали с таким опозданием, и что первый свидетель в этом деле ушел, не поговорив с ними, а когда Мадлен сказала им, что они с Гидеоном живут отдельно друг от друга, она увидела на их лицах подозрение.
– А как насчет моего отчима? – спросила она. – Я имею в виду… я не могу себе представить, что он мог сделать такое, но у него есть деньги и определенная власть – он мог нанять кого-нибудь, чтобы…
– Похитить вашего сына? Убить? – спрашивавший ее детектив смотрел на нее намеренно в упор. – А каковы мотивы? Эта статуя?
– Скульптура, – поправила его Мадлен, а потом сказала нерешительно: – Нет мотива… это дико – даже предположить такое. Просто он был здесь, а Гидеон велел мне рассказать вам все, даже дикие мысли.
– Что ж, по крайней мере хоть в этом он был прав, – сухо заметил полицейский.
Они ушли как раз перед рассветом, в четверть восьмого, после того, как медицинский эксперт решил, что тело Дженнифер Малкевич можно уже увозить. Они были у Мадлен больше восьми часов, и все это время она ощущала, что рассудок ее висит на волоске.
В какой-то момент ей даже показалось – если эта толпа незнакомцев немедленно не оставит ее одну хотя бы на время, она просто отключится. Но ей нужно было оставаться в здравом уме – ради Валентина. Один Бог знает, как это возможно, если Гидеон не вернет сына назад в ближайшее время… Нет, лучше не думать! Мадлен вспомнила это чувство отчаяния и беспомощности – она узнала его в ту ночь, когда с Антуаном случился удар, и она так молила Бога, чтобы никогда такого больше не испытать.
– Гидеон его найдет, – сказала она вслух, обращаясь к стенам.
Ее муж – который вовсе и не был мужем, стал ее самым близким другом. Их лучшим другом – Мадлен знала, как сильно он любил Валентина, и как ее сын обожал Гидеона.
Гидеон найдет Валентина.
Она побрела в кухню, бездумно, чтобы сварить кофе, но увидела остатки крови на раковине и бросилась прочь, с бешено бьющимся сердцем, чувствуя приступы дурноты и приближение обморока. Она попробовала опять позвонить Руди, но там по-прежнему никто не отвечал. Она попыталась вспомнить, где они обедали предыдущим вечером – ее брат и Майкл обожали отели, и бывало превращали эти уоллстритские пиршества в пирушку на целую ночь. Значит, тогда Руди может пойти оттуда прямо в банк – но час был ранний, и было бесполезно пытаться найти его там.
Она блуждала по квартире, видя лицо Валентина везде, куда ни смотрела. Она закрыла глаза и попыталась мысленно послать ему заряды силы, прося его быть храбрым и молясь, чтобы с ним ничего не случилось. Ничто на свете, ничто не имело сейчас для нее значения – кроме него, ее сына…
Поводок Дасти все еще висел на крючке у входной двери. Она привинтила этот крюк к стене всего три недели назад – низко над полом, специально для Валентина, чтобы он мог достать, не вставая на цыпочки. Мадлен подумала о таксе, о белой коробке, ставшей розовой внутри от ее невинной крови, и неистовая дикая ярость, какой она никогда не знала прежде, стала подниматься внутри нее, но Мадлен взяла себя в руки.
Сейчас не время думать об этом.
Если она будет думать о таксе, то станет представлять себе то, что произошло с Дженнифер, и что может твориться сейчас с Валентином. И если она только это представит, она сойдет с ума.
Когда около восьми часов прозвучал звонок, Мадлен побежала к домофону.
– Гидеон?
– Это – Константин, ma chère.
– Это Гидеон попросил вас прийти?
– Именно так.
Она отпустила кнопку и разрыдалась от облегчения. Должно быть, она сошла с ума, когда думала, что хочет быть одна – она так отчаянно нуждалась, чтобы кто-то был с ней рядом, кто-то, кому было до нее дело.
– Мадлен? – он стоял в дверях, элегантный, как всегда – в темно-сером кашемировом пальто, с изысканнейшей мягкой шляпой в руках.
– Слава Богу… – она бросилась в его раскрытые объятия, благодарная за их тепло, прижалась к нему, но потом отстранилась, невольно вспомнив то, что недавно произошло между ними. – Я так рада, что вы здесь, – сказала она, стараясь скрыть свою неловкость и чувство вины, которое снова кольнуло ее.
– Полиция ушла? – спросил он.
– Совсем недавно, – ответила она, – но мне кажется, словно я одна уже целую вечность.
– Но теперь здесь я.
– Проходите и садитесь. Что вам сказал Гидеон? Он уже что-нибудь узнал?
– Я хочу, чтобы ты собрала вещи – ну, небольшую сумку… самое необходимое на одну ночь.
– Зачем? Я не могу никуда ехать.
– Ты должна пойти со мной, ma chère, – настаивал Зелеев.
– Я не понимаю, – Мадлен была в недоумении. – Гидеон сказал вам, что я должна куда-то идти? А что, если позвонит похититель?
– Он не позвонит.
– Он может, – тон Мадлен стал тверже. – Вы так добры, Константин, правда, но сейчас не время мне быть у вас. Полиция хочет, чтобы я оставалась дома – на случай…
– Собирай свои вещи.
Мадлен с удивлением посмотрела на него, уловив резкость в его голосе.
– Думаю, вы не понимаете, Константин. Я остаюсь здесь. Могут быть новости… или вдруг понадобится, чтобы я что-нибудь сделала, – в глазах ее блеснули слезы. – Или Валентин вернется домой.
– Это ты не понимаешь, – сказал Зелеев, и теперь его голос был хриплым и грубым. – Ты будешь делать все, что я скажу. А если будешь тянуть время, еще хоть минуту, никогда больше не увидишь Валентина.
Он опустил правую руку в глубокий карман своего пальто, и Мадлен в ужасе увидела, как он вытащил нож. Резной кинжал Фаберже из его гостиной. Он вытянул руку перед собой, и острое лезвие блеснуло ярким бликом, а пальцы Зелеева крепко сжимали золоченую и нефритовую рукоятку.
– О, Господи! – едва проговорила она, и слова, казалось, повисли в воздухе, удерживаемые силою ее шока. – Только не вы…
Зелеев посмотрел в сторону кухни.
– Я ударил девчонку тупым концом. Понятно? – он коснулся рукоятки двумя пальцами левой руки. – Жаль, конечно, но…
Он пожал плечами и развел руками.
Мадлен вдруг стало совсем нехорошо. Всего месяц назад этот человек огорошил ее своим предложением выйти за него замуж. А теперь это. Она изо всех сил боролась со своей слабостью, с ускользающим ощущением реальности.
– Где Валентин?
– Он в безопасности, с ним все в порядке – пока.
– Где он?
– А вот это тебе нет нужды знать, ma chère. Все, что от тебя требуется, – это собрать вещи и дать мне свой паспорт.
– Ради Бога, зачем?
– Мы отправимся в небольшое путешествие, – он посмотрел на свои часы. – И у нас мало времени, так что делай это немедленно.
Его взгляд был пронзительным и колючим.
– И я хочу ключ.
– Какой ключ?
– Тот, что я дал тебе, когда привез твоего отца из Парижа. Ключ от сейфа.
Мадлен бессильно упала на стул.
– Так вот в чем причина этого?
Она не могла поверить. Это было невозможно.
– Вы убили девушку из-за скульптуры? – она неотрывно смотрела в это лицо, лицо, которое она знала – думала, что знала – многие годы. – Ивы можете из-за этого… убить моего сына?
– Мне семьдесят семь лет, – сказал Зелеев. – Конечно, я под стать мужчине на двадцать лет моложе – но все же время работает против меня. Я больше не намерен ждать, Мадлен.
– Я отдам вам ее, – поспешно, с рвением сказала она быстро, голос ее дрожал. – Если вы приведете Валентина домой, я поеду в Париж прямо сейчас и привезу ее.
Она протянула руку и коснулась его левой руки, но он стряхнул ее руку.
– Я не скажу ни единой душе о Дженнифер. Я клянусь в этом.
– Я тебе больше не верю, Мадлен, – ответил он спокойно.
– Но вы же должны знать, что я сделаю все, что угодно ради Валентина.
– Именно поэтому делай то, что тебе говорят сейчас.
– Я не могу.
– Тебе решать, ma belle, – улыбнулся Зелеев. – Или ты едешь со мной сегодня утром в Париж, отдаешь мне Eternité, и твой прелестный дорогой Валентин будет цел и невредим…
– Или? – казалось, ее сердце сейчас выскочит из груди.
– Или он умрет.
Хотя это было обычное буднее утро, машин на улицах было мало, и они быстро доехали до аэропорта и без труда купили билет. Ощущение того, что она оказалась во власти самого гротескного из кошмаров так пристукнуло Мадлен, что она даже не заметила, как проверяли их паспорта, как они садились в самолет. И теперь она сидела у круглого окошка, брала у улыбающейся стюардессы прохладительные напитки и слушала, но на самом деле не слышала голос командира из громкоговорителя. Она летела в Европу в первый раз за четыре года – с человеком, который был ее другом половину ее жизни.
С убийцей.
Вдруг он заговорил.
– Я не хотел убивать девушку, – сказал он мягко. – Я хотел сделать так, чтобы она заснула на час или два… чтобы мне удалось забрать Валентина и напугать тебя, и продолжать наказывать страхом. Чтобы ты поверила в записку.
– А Дасти? Вы ее убили?
– Она была жива, когда я уходил.
Мадлен взглянула на его профиль.
– Мне трудно… – начала она и покачала головой, – нет, не просто трудно – невозможно поверить, что именно вы вытворяете все это с нами, Константин. – Она запнулась: – Может, вы не в себе? Заболели? Что случилось… что заставило вас пойти на это? Вы – мой самый давний друг… Вы делали все, чтобы нам помочь, – всегда.
– Я должен объяснять?
– Если можно…
– Это не трудно понять – если ты выслушаешь.
– Я выслушаю.
Он посмотрел на нее.
– Я люблю тебя. Я говорил тебе не так давно, что люблю тебя – с тех самых пор, как ты повзрослела. Я всегда хотел вас, Магдалена Александровна.
Он отвернулся и уперся взглядом в спинку сиденья напротив них.
– Так же, как всегда хотел Eternité.
– Так почему же вы мне никогда не говорили? Что хотите ее иметь для себя?
– До последних лет ты даже не знала, где она. А потом она была уже заперта, пылилась в сейфе в Париже. Ты могла предъявить на нее свои правд. Но ты слишком боялась возвращаться туда. – Зелеев сделал паузу. – И я хотел ее не для себя, ma chère. Я хотел, чтобы она была нашей.
Она принадлежала ему по праву, говорил он. Драгоценности Малинских должны были быть оставлены ему, а не Амадеусу, этому простому жителю гор. Тогда, дома, до того, как она покинула Россию, и горести и беды погубили ее, Ирина любила Зелеева. И она была его первой любовью в этом пропащем мире – в те блистательные петербургские дни, когда она еще была здорова, сильна и полна радости жизни, которую Амадеус Габриэл уже в ней не застал.
– Я приехал в Давос в поисках Ирины и нашел там только твоего дедушку. Но я понял, что он тоже сильно любил ее, и ради Ирины, ради памяти о ней, я помог ему воссоздать ее любимый водопад.
Он искренне привязался к Амадеусу, отдал их совместному творению всего себя, вложил в него всю свою душу, умение и талант, но те первые раны до конца так и не затянулись. Ирина оставила ему один единственный изумруд, а этот простой ювелир-ремесленник отдал ему рубин, и потом, позже – когда их работа была окончена, еще три драгоценных камня и решил, что этого достаточно.
Самолет стал покачиваться, пассажиры вокруг них беспокойно заерзали на своих местах, экипаж с улыбками успокаивал их и проверял ремни. Но Зелеев, начав, казалось, уже не мог остановиться. Он говорил выплесками слов, монологами, слова лились из него потоком, и в них сквозила обида, которая копилась десятилетиями.
– Я никогда не говорил тебе о тех несправедливостях, которые мне пришлось вынести за все эти годы. Я хотел, чтобы ты поверила тем историям, которые я рассказывал твоему дедушке и Александру – о блестящей жизни, которую я вел в величайших городах Европы.
– Так это была неправда? – ни секунды не проходило, чтобы Мадлен забыла о Валентине, помнила – она здесь ради него, ради спасения его жизни. Но все же она боролась с собой, пытаясь говорить разумно, почти вежливо. – Ни одна из этих историй?
– Нет, все было не так уж и плохо – относительно, – улыбнулся Зелеев горькой улыбкой. – У меня всегда была работа – на это мог рассчитывать не каждый эмигрант. Но меня не ценили по заслугам. Те, кто понимал, кто уважал меня, говорили, что не могут позволить себе содержать мастера такого таланта и опыта, но большинству просто не было дела до меня.
Многие из них насмехались над прошлым. Они напоминали мне – будто сам я этого не знал – о размерах империи Мастера – больше пятисот ювелиров работали на Фаберже на уровне самого высокого класса, а я, Константин Иванович Зелеев, говорили они, был всего лишь сыном надомника.
– Но они были невеждами.
– И я презирал их за это, ненавидел за их тупость и чванство. Я знал себе цену. Я знал – если б хоть кто-то из этих невежественных крестьян лишь одним глазком увидел мое лучшее творение – о-о! они бы ползали у меня в ногах…
– Опи как-то сказал мне, – сказала с усилием Мадлен, – вы брали с собой Eternité, чтобы показать ее эксперту, но вернувшись, ничего не рассказали…
– Потому что я ни с кем не встречался, – его рот сжался тверже. – Был там один известный швейцарский коллекционер, Морис Сандоз. Он был знаменит своим собранием самых блестящих шедевров Мастера. Я узнал, что он – в Женеве, и поехал туда. Но его там не оказалось.
– И вы привезли ее назад в Давос – как обещали.
– Я всегда был человеком чести, Мадлен. Я бы никогда не предал твоего дедушку – как он меня.
– Вам кажется, что вас предали потому, что он оставил скульптуру мне?
– Естественно. Он всегда допускал, что ее бы и вовсе не существовало без меня. Я понимал, что он всей душой привязан к ней из любви к Ирине – при жизни. Но после смерти, я полагал, она будет моей – по праву.
Он сделал паузу.
– Если бы она перешла к тебе – как и хотел Амадеус… я бы проглотил свою обиду и разочарование. По крайней мере я бы знал, что она попала в нежные, любящие руки. И я знал, что ты умна и справедлива, и поймешь – Eternité заслуживает того, чтобы ее увидел мир. На какой-нибудь выставке.
– Но ее взял мой отец.
– Александр был дураком всю свою жизнь, одержимый наркотиками, страхом и комплексом неполноценности. Они-то его и погубили.
Если б Зелеев не примчался к Александру в Париж по первому зову, скульптура могла бы попасть в руки каких-нибудь ублюдочных, алчных воров, золото бы переплавили, бесценную финифть просто смяли – выжили б только драгоценности – в виде обычных камней.
– Александр Габриэл не стоил и мизинца своего отца или дочери, – сказал он Мадлен, после того, как стюардесса унесла их подносы с нетронутым лэнчем. – И даже в своей смерти, после того как я примчался за тысячи миль, чтобы помочь ему, он предал меня, оскорбил. Если бы он не сделал это невозможным, ma chère, я привез бы скульптуру тебе еще в 64-м, и наши жизни могли бы сложиться по-другому.
Они приземлились в Орли в четверть десятого вечера, и Зелеев повез ее в Крийон, держал ее за руку, когда им показывали большой и красивый номер с видом на площадь Согласия – комнату только с одной кроватью. Мадлен подумала – если он прибегнет к насилию, она просто умрет. Но она знала – она должна вынести даже и это, лишь бы был жив Валентин. Но Зелеев не прикоснулся к ней, только смотрел на нее, все эти часы, пока она не уснула; и даже потом, когда она часто просыпалась от своей неспокойной, тяжелой дремы, его глаза были открыты и глядели на нее. Он едва ли сказал ей пару слов за все это время – словно монолог выжал его до самого дна, лишил дара речи.
Утром, в десять часов, они поехали на такси в Банк Националь на бульваре Рошешуар и были допущены к сейфу без всяких проволочек. Мадлен показала свой паспорт и подписала необходимые бумаги. Зелеев даже не взглянул на скульптуру, все еще завернутую в грязную пижаму Александра. Он просто ощупал ее, зная, что она наконец-то в его руках, и положил ее в кожаную сумку, которую прихватил с собой.
В Крийоне они пошли прямо в комнату. Зелеев отпер дверь, открыл сумку и поставил скульптуру на инкрустированный стол из красного дерева, поближе к окну, чтобы солнечный свет, падал на нее, заставляя мерцать.
– Enfin,[102] – сказал он. – Наконец, и в подходящей оправе.
Он швырнул ей старую пижаму.
– Твоего отца – может, ты хочешь ее сохранить. Он пошел в ванную комнату, и Мадлен услышала, как он моет руки. Он вернулся, все еще вытирая их с брезгливой тщательностью турецким полотенцем. – Ты знаешь, ma chère, колонны при входе в отель были сделаны вашим однофамильцем, Жак-Энжем Габриэлом? Это всегда был мой любимый отель в Париже – и близко к Максиму.
– Константин?
– Qui, ma chère?
– Наконец она ваша.
– Что верно, то верно.
– А что теперь?
Он отнес полотенце в ванную, вернулся и встал перед ней.
Его по-прежнему яркие рыжие волосы блестели в лучах солнца, лившихся из окна, но лицо его было в тени.
– У тебя есть последний шанс, – сказал он.
– Какой? – спросила она тихо.
– Разводись с Тайлером. Выходи замуж за меня. Он сделал паузу, и голос его дрогнул.
– Я дам тебе все. Я буду любить и обожать тебя всю оставшуюся жизнь.
Ее ответ был быстрым и резким, без секунды колебания.
– Я лучше умру.
Он отвернулся, резко, словно она дала ему пощечину, и солнце ударило ему в лицо. И Мадлен смотрела, как последние остатки его любви к ней тают, растворяются в маске ненависти. И она поняла, что он собирается ее убить.
17
Уйдя от Мадлен около одиннадцати прошлым вечером, Гидеон быстро проехался по Манхэттену, связываясь с теми, кто, как он надеялся, могли слышать хоть что-то, что может стать важным. Даже самые отъявленные забулдыги могли оказаться полезными, когда дело касалось похищения ребенка – но на этот раз ему не удалось выудить ни крупицы информации. Тогда он стал действовать наугад, объезжая аэропорты, вокзалы и основные остановки междугородних автобусов в надежде, что кто-нибудь видел человека с шестилетним мальчиком с голубыми глазами. Потом он поменял тактику и стал проверять все лучшие отели города, чтобы определить местонахождение отчима Мадлен. Потребовался всего час, чтобы выяснить – Стефан Джулиус уехал, чтоб успеть на вечерний рейс самолета через несколько часов после того, как встречался с Мадди и Руди. Это исключало его из числа подозреваемых – если только он не нанял кого-нибудь себе в помощь, и в этом случае искать нужно будет неизвестно кого.
А потом Гидеону пришло в голову, что Константин Зелеев мог бы лучше других подсказать, кто мог знать о скульптуре или – как он сам обронил, выпив лишнего – хотеть ее настолько, что способен из-за нее убить или похитить ребенка.
Он пытался дозвониться до него всю ночь, но никто не отвечал, и тогда, около восьми утра Гидеон поехал к нему на Риверсайд Драйв и, позвонив в дверь, узнал от соседа, что Зелеев совсем недавно ушел.
– А вы уверены? Я всю ночь звонил…
– Уверен? По-вашему, я что, похож на слепого?
– Нет, сэр, – Гидеон помолчал. – Он был один?
– Совсем один.
– Могу я воспользоваться вашим телефоном?
– Интересно, наш дом похож на почтовое отделение?
– Но это действительно срочно, сэр.
– Тогда воспользуйтесь платным таксофоном. Дверь захлопнулась у него перед носом, и откуда-то из недр дома гавкнула собака. Гидеон заехал за угол, ища телефонную будку, когда первый укол тревоги заставил его похолодеть, волосы на затылке зашевелились от страха.
Он нашел телефон и позвонил Мадди. После того, как ему никто не ответил, он испугался уже в полную силу. Он попытался позвонить Руди домой и, не дозвонившись, стал рыться в телефонной книге, пока не нашел Цюрихский Грюндли Банк, и набрал номер Руди. Руди только что уселся за свой стол.
– Что стряслось?
– Быстро поезжай к Мадди – немедленно.
– Да что случилось?
Гидеон ему рассказал.
– Господи! – воскликнул Руди. – Уже выезжаю.
– И позвони в полицию.
Гидеон не вскрывал замок уже тыщу лет, но это искусство не так-то просто забывается. Первое, что он увидел, была пишущая машинка «ремингтон» на письменном с раскрытыми ящиками столе русского.
– Валентин! – позвал он. – Ты здесь?
Голос был тихим и испуганным.
– Гидеон?
– Где ты?
– В ванной.
Дверь была заперта, и ключа в замке не было.
– Отойди от двери и закрой лицо, – прокричал Гидеон. – Я ее сейчас вышибу.
– Вот будет здорово.
Гидеон позволил себе слабую улыбку и врезался в дверь. Валентин скорчился в углу, под раковиной, прижимая к себе Дасти.
– Он отрезал ей полуха, – сказал Валентин, готовый вот-вот разреветься.
– С тобой все в порядке? Дай мне ее, – Гидеон взял таксу в левую руку и поднял мальчика с пола правой рукой. Валентин тесно прижался к нему.
– Он тебе сделал больно?
Валентин покачал головой.
– Ты уверен? Дай посмотрю. – Гидеон отодвинул его на расстояние вытянутой руки. – О'кей, отлично. А теперь ты можешь мне рассказать, что случилось?
– Поехали домой, пожалуйста.
– Сейчас, сейчас, Вэл – сначала расскажи. Личико ребенка было заплаканным и усталым, но в глазах было облегчение.
– Я был дома, в постели вчера, и пришел Константин. Он дал мне пушистого тигра – я вытащил его из коробки там, на коврике – а потом он и Джен пошли варить кофе…
– А потом?
– Потом он вышел из кухни и сказал мне, что нашел Дасти, и что он позвонил маме в Лила, и она разрешила мне поехать с ним. И я поехал.
– Конечно.
Гидеон вывел его из ванной, усадил на диван и посадил все еще дрожавшую таксу к себе на колени.
– Что он сказал про Дасти?
– Он сказал, что нашел ее в парке, недалеко от того места, где мы ее потеряли. Но я понял, что он врет. Я спросил у него про ухо, а он ответил, что наверно это из-за драки с какой-нибудь собакой. Когда я пришел, Дасти была так рада мне, но она скулила и выла, как сумасшедшая, когда мимо нее проходил Константин. А ведь Дасти никогда не рычит, правда?
– А когда он запер вас в ванной?
– После того, как я спросил – когда мы поедем домой? Он сказал, что мы должны остаться здесь на ночь. Я сказал, что хочу показать ухо Дасти маме, а когда он ответил «нет», я заплакал. Тогда он втолкнул нас сюда и запер.
– Так ты был заперт всю ночь? – ярость Гидеона просто клокотала внутри него.
– Он даже не дал нам ничего поесть, – сказал Валентин. – Он был похож на настоящую ведьму. – Он помолчал. – Я больше не люблю Константина.
– Да, – сказал Гидеон. – И я тоже.
Гидеон позвонил к Мадлен, но Руди еще не приехал, никто не отвечал. Дав Валентину и Дасти попить воды, он быстро начал обыск, но он сам не знал, что он ищет, и не нашел ничего.
Он попытался позвонить Мадди опять, и на этот раз Руди сразу же взял трубку.
– Полиция вошла вместе со мной, – сказал ему Руди. – Но Мадди нет. Где ты, Гидеон?
Прежде чем Гидеон успел ответить, трубку взял детектив.
– Послушайте, Тайлер. Если вы не поедете прямо сюда, и, как вы понимаете, немедленно, вы можете сказать «прощай» своей лицензии. Это я вам обещаю.
– Я нашел мальчика, – сказал скупо Гидеон. – Но моя жена…
– С ним все в порядке?
– Он не ранен. Но я думаю…
– Мне неважно, что вы думаете, Тайлер. Я хочу, чтобы вы приехали немедленно.
* * *
В машине, во время короткой поездки к Семьдесят четвертой улице, Гидеон попытался сделать все, чтобы смягчить для мальчика то, с чем ему придется неизбежно столкнуться. С Дженнифер случился небольшой несчастный случай, говорил он Валентину, а Мадлен нужно было уехать ненадолго. Полиция здесь из-за того, что Константин сделал с ним и с Дасти, и если они будут задавать ему много вопросов, он не должен пугаться и должен рассказать все, что знает.
– А куда уехала мама?
Гидеон посмотрел на бледное измученное личико мальчика и решил, что доля правды будет лучше, чем ложь, которую ему еще, возможно, предстоит невольно услышать в предстоящие несколько часов.
– Я не знаю, Вэл.
– А с ней все хорошо? – голос ребенка зазвучал неожиданно испуганно.
– Конечно, – Гидеон помолчал. – Как только полиция закончит со мной, я пойду ее искать и приведу домой.
– Ты мне клянешься?
– Да чтоб я умер!
Они быстро и осторожно расспросили Валентина, но когда настала очередь Гидеона, допрос был въедливым, неприятным и казался бесконечным. Гидеон вдруг понял, что детективу понравилась идея, что этот странный муж – человек, который в юности добровольно отказался от службы в Полицейском Управлении Нью-Йорка – мог быть замешан в этом деле, понравилась гораздо больше, чем бредовое заявление, что какой-то невидимка-русский с его баснословной золотой скульптурой является виновником манхэттенского убийства и похищения ребенка.
– Посмотрите на это дело с нашей точки зрения, Тайлер. Прошлой ночью у нас было одно тело, пропавший ребенок и полубезумная мать. Этим утром вы, как в сказке, появляетесь с ребенком, а его мать – ваша жена, с которой вы не живете – предпочитает исчезнуть.
Гидеон боролся с собой, стараясь держать себя в руках.
– Вы же говорили с Валентином – он вам сказал, что сюда приходил Зелеев, что он пошел в кухню с девушкой. Он рассказал вам, что русский увез его и запер.
– Но этого зловещего русского мы и в глаза не видели, его здесь нет – чего нельзя сказать о вас.
– Да вы хоть собираетесь искать Зелеева?
– За кого вы нас принимаете – за кучку дилетантов?
– О Господи!
– Кому понравится человек, сующий нос не в свое дело, Тайлер?
Их препроводили назад на Риверсайд Драйв, чтобы Валентин показал детективам, где его держали, и Руди сказал, что возьмет мальчика, и они поедут показать собаку ветеринару. Гидеона отвезли в 20-й полицейский участок для дальнейшего допроса. Его освободили только после четырех часов дня, строго предупредив, чтобы он не утаивал ни малейшей крупицы улик, если он не хочет оказаться за решеткой.
Гидеон отправился прямо в квартиру Зелеева и начал повторный обыск. На этот раз он нашел то, что необходимо, в считанные минуты. Расписание авиарейсов, внутри ящика тумбочки. Оно было в мягкой обложке, и можно было без труда увидеть, на какой странице его недавно открывали. Засунув его в карман пиджака, он помчался вниз по лестнице, запрыгнул в свою машину и словно помешанный, понесся к Мадди.
– Ее паспорт, – сказал он по телефону Руди. – Ты знаешь, где она его держит?
– Я не уверен – но она хранит самые важные документы в шкафу, на дне ящика с бельем, в спальне.
Гидеон нашел их собственное свидетельство о браке, твердый конверт со свидетельством о смерти Антуана и act de mariage[103] с ним, свидетельство о рождении Валентина, несколько фотографий и предсмертную записку ее отца. Никакого паспорта.
Гидеон позвонил Руди.
– Они улетели в Париж.
– Ты уверен?
– Я ни в чем не могу быть уверен, но похоже на то.
– Ты сказал полиции?
– Еще нет, – Гидеон посмотрел на часы. – Слишком поздно, чтобы просить кого-то задержать их в Орли. Сегодня было два утренних рейса из аэропорта Кеннеди. Если не было никакой большой задержки, они уже покинут аэропорт до того, как сможет начать действовать Интерпол, – если только мне вообще кто-нибудь поверит.
– Что же нам теперь делать?
– Я позвоню в полицию – чем больше людей их будет искать, тем лучше. Но я не буду звонить им до тех пор, пока не окажусь почти что на борту самолета.
– Ты летишь?
– А что ты думаешь на этот счет?
– Я соберусь мгновенно.
– Но у тебя Валентин.
– Пришел Майкл. Да и потом, с каких это пор ты говоришь по-французски? Если хочешь найти что-нибудь в Париже, нужно иметь при себе человека, знающего язык.
– Я позвоню в аэропорт, а потом перезвоню тебе.
Спустя десять минут он опять разговаривал с Руди.
– На рейс Пан Амэрикэн все забито, но нам достались два места на Эль Аль – самолет вылетает в десять и доставит нас в Орли к одиннадцати утра.
– Раньше ничего нет?
– Безнадежно. Нет даже грузовых самолетов.
– Тогда я буду собираться поосновательней.
Руди сделал паузу.
– Может, ты заскочишь ко мне и заберешь меня? Я думаю, лучше рассказать Валентину, что происходит. Кажется, он думает – ты Филипп Марлоу и Супермен в одном лице.
Улыбка Гидеона была мрачной.
– Я буду у тебя около семи.
Он чувствовал свой бешеный пульс и попытался заставить себя успокоиться, зная, что они ничего не могут поделать, пока не доберутся до Парижа.
– А Майкл сможет побыть с Валентином, пока мы не вернемся?
– Конечно. И я думаю, нужно позвонить Джо Каттеру – пусть он скажет Лиле.
– Может, позвать еще Джо и Бетти? Валентину они нравятся.
– Я оставлю Майклу все номера телефонов – на всякий случай.
Руди колебался.
– Гидеон?
– Да?
– Что Зелееву нужно? Зачем он ее туда повез? Нет, я понимаю, что это из-за проклятой скульптуры, но ты думаешь – это все?
Гидеон почувствовал, как его сердце сжалось.
– Я хотел бы быть Господом Богом – чтобы знать.
Когда утром в пятницу Гидеон и Руди приземлились в Париже, у них уже было достаточно времени, чтобы все обсудить. Они пришли к выводу: так как Мадлен и Зелеев прилетели вечером, когда банки были уже закрыты, они должны были провести ночь в отеле – но уговорить хозяев парижских отелей позволить им взглянуть на книги регистрации прибывающих гостей было делом не более легким, чем найти банк, в котором Александр Габриэл оставил Eternité.
– Я просто не могу поверить, что она никогда не говорила тебе, где скульптура.
– Она была счастлива оставить ее там, где она есть. Ты же знаешь, она не хотела возвращаться сюда, и мы никогда много не говорили об этом. Ты же знаешь мою сестру – ее нельзя назвать практичной женщиной.
Гидеон стал вглядываться в улицы города. Париж был все таким же очаровательным, с этим только ему присущим шармом, каким Гидеон помнил его со времен войны, и в другое время он был бы рад и взволнован, что видит его снова – но теперь город казался ему воплощением ада на земле.
Таксист сказал что-то, чего он не понял.
– Он хочет знать, где нас высадить.
В Орли они сказали ему, чтобы он их отвез в центр города.
Гидеон открыл записную книжку, которую взял из гостиной Мадди.
– Скажи ему – бульвар Осман, 32.
– К Леви?
– Нам нужна любая помощь, какую мы только можем найти, – сказал Гидеон. – Нам нужны почтенные французские граждане.
Ной уже ушел, но Эстель была дома и знала, где его найти. Услышав, что Мадлен попала в беду, Ной бросил все и помчался домой. Он никогда не видел Гидеона, но Мадлен писала им про их фиктивный брак и об их большой дружбе. Ною потребовался только один взгляд на этого большого, кареглазого и полубезумного от тревоги американца, чтобы понять – вне зависимости от того, знает это Мадлен или нет – они идеально подходят друг другу.
– Раз вы не знаете точно название банка и его местонахождение, – подчеркнул Ной, – да и в любом случае – Зелеев уже побывал там и взял то, что ему было нужно, – вам лучше всего заняться отелями.
– А вы не знаете, где он обычно любил останавливаться, когда был здесь?
Ной покачал головой.
– Я видел-то его всего один раз, давно, когда Мадлен еще работала у Люссаков, и я и понятия не имел, где он жил в тот раз, а возможно, он предпочитал останавливаться каждый раз в разных отелях.
Он сделал паузу.
– Но я припоминаю, он говорил о grand luxe с большим удовольствием и Предпочтением. Если он прилетел в Париж, чтобы заполучить то, на чем уже давно свихнулся, вряд ли он выберет отель ниже классом, n'est-ce pas?
– Может, Люссаки помнят? – предположил Руди.
– Сомневаюсь, – сказал Ной.
– Я им позвоню, – вызвалась Эстель. – Но независимо от этого, я думаю, вам нужно начать поиски.
Они начали с Плаца-Атэнэ на авеню Монтень.
18
Зелеев почти совсем не разговаривал с Мадлен с той самой минуты, когда она сделала свою последнюю роковую ошибку. Теперь она понимала, что должна была принять его предложение, соглашаться на что угодно. И она также знала, глядя на его новое, изменившееся, словно гранитное лицо, что слишком поздно что-то предпринимать, чтоб он передумал. До этого момента для нее было просто невозможно – несмотря на страшное открытие, что это именно он убил Дженнифер, несмотря на их путешествие через океан, на долгую фантасмагорическую ночь и это утро в банке – все еще невозможно было даже подумать, что Константин Иванович Зелеев мог сойти с ума.
Он всегда был эксцентричным человеком, с прихотями и фантазиями, переменчивого и живого темперамента, человек невероятно высокого о себе мнения – но он не был сумасшедшим и не был, Мадлен все еще была уверена, злодеем. Он был ее другом. Или это была гротескная шарада? Если мысленно прокрутить назад эти годы, десятилетия, даже к той ночи, ночи изгнания ее отца…
Ей было страшно даже подумать.
Он заказал им обоим легкий лэнч, бутылку вина для нее и водку для себя. Когда пришел официант, Зелеев заплатил ему у дверей и сам ввез столик в комнату, все время наблюдая за Мадлен. А потом он опять запер дверь и сел между ней и телефоном. И стал читать.
– Опять Виктор Гюго? – обронила Мадлен, и ее голос был хриплым от страха.
– Для меня эта книга – всегда захватывающая, ты знаешь, – он наклонил голову, и Мадлен заметила, что на самом деле он не читает эту давно назубок затверженную книгу, а просто смотрит неподвижно в страницу.
– Ты должна поесть, – сказал он, даже не взглянув на нее.
– Я не голодна.
– Очень жаль.
* * *
В час дня Зелеев встал и принес из ванной два льняных полотенца, в которые завернул скульптуру – пальцы его были нежными и любящими.
– Пошли.
– Куда?
– К сейфам отеля.
– А потом?
– Увидишь.
– У вас теперь есть Eternité, – сказала она. – И нет больше причины мне здесь оставаться.
Она помолчала.
– Я хочу вернуться домой.
– Домой?
– К Валентину.
– И Тайлеру.
– К моему сыну.
Зелеев пошел к двери.
– Помни, – сказал он, и его голос был очень спокойным, – когда мы будем внизу. Жизнь Валентина все еще в моих руках, даже если я здесь.
Мадлен посмотрела в его жесткое лицо.
– Я даже и представить себе не могла, что дойду до того, что буду вас ненавидеть, Константин, – сказала она.
Он кивнул.
– Это просто замечательно, не правда ли – какие любопытные повороты есть у жизни про запас для всех нас?
Он открыл дверь.
– Пошли.
Они покинули отель в половине второго, не собрав свои вещи, оставив все в комнате. Константин надел свое кашемировое пальто, мягкую шляпу и черный кашемировый шарф. На Мадлен был брючный костюм с длинным пиджаком и широкими брюками – то, что было на ближайшей вешалке, когда Зелеев дал ей всего несколько минут, чтобы переодеться. Было очень холодно, и она дрожала, пока Зелеев просил швейцара найти такси, но ей казалось, что она точно так же дрожала бы, если б температура на улице скакнула до семидесяти градусов жары.
Подъехала машина-такси. Зелеев дал швейцару щедрые чаевые и буквально запихнул Мадлен на заднее сиденье, потом наклонился, сказал водителю сквозь открытое стекло, куда ехать, и наконец сам сел около нее.
– Куда вы меня везете?
– Небольшой сюрприз, – ответил он, и больше ничего.
Она быстро закрыла глаза и стала молиться. В тот момент, когда она увидела, что они приближаются к площади Данфер-Рошро, Мадлен поняла.
– Нет! – сказала она в ужасе. – Ради Бога, умоляю, Константин, нет!
– Потише, – сказал Зелеев. – Помни о Валентине.
– Я думаю – вы блефуете… насчет Валентина.
– Ты так уверена?
Они вышли из такси, и он просунул руку ей под руку, крепко прижав ее к себе.
– Не забывай про кинжал, ma chère. Клянусь тебе – если ты сделаешь хоть малейшую попытку привлечь к нам внимание, то я сделаю твоего сына сиротой тоже без малейшего колебания.
Она посмотрела на него, помня, что лежит там, куда он ее ведет.
– Я думаю… мне всегда казалось, что вы немного сошли с ума, когда привели меня туда много лет назад.
– Это было в 57-м, – сказал он. – Был апрель месяц.
– После меня мучали кошмары по ночам, целую неделю, – проговорила она, и неожиданно, с нахлынувшими омерзительными воспоминаниями пришло новое, странное чувство оцепенения и пустоты, словно кто-то впрыснул новокаин в ее мозг. – Тогда я думала, что никогда вам этого не прощу. И я жалею, что простила.
Но он продолжал вести ее по улице, словно она ничего не сказала.
– Отлично, – сказал он. – Дверь открыта. Мадлен смотрела на мостовую, на слова, которые видела одиннадцать лет назад, выложенные на асфальте.
ENTRÉE DES CATACOMBES[104]
– Пожалуйста, – сказала она. – Не заставляйте меня.
– Заткнись, – отрезал он и, вытащив свою руку из под ее руки, схватил ее цепко другой рукой и толкнул к кассе. – Мы идем вниз.
Она вспомнила все – словно никогда и не забывала: эти ужасные узкие, словно бесконечные ступеньки винтовой лестницы, страшное и головокружительное ощущение, что ты зарыт глубоко под землей. Он спускался вниз позади нее, так, чтобы у нее не было другого выбора – только идти, вперед и вперед, все ниже и ниже, пока, наконец, они не дошли до дна, и она оступилась, но Зелеев быстро подхватил ее под локоть и удержал.
– Иди, – сказал он. И теперь, хотя тоннель и не был широким, он опять взял ее под руку.
– Так, на всякий случай – чтоб обе руки были свободными, – объяснил он ей с гротескной галантностью. – Одна – для кинжала, а другая – для фонарика.
Он зажег маленький фонарик, который вытащил из правого кармана пальто.
– Вы можете меня отпустить, – прошептала Мадлен. – Я не убегу.
– Спокойно, – сказал Зелеев. – Просто иди.
Казалось, она даже не могла думать, она не чувствовала ничего, кроме безымянного ужаса, который сдавил ее грудь, как гигантская рука, сжимая ее сердце и живот. Тоннели все тянулись и тянулись, раздваивались и делали повороты, мокрая глина чавкала у нее под ногами, влажный холод проникал ей в ноздри, морозил горло – ей стало трудно дышать. Грязная мерзкая вода капала ей на голову с потолка, и Мадлен гадала – была ли канализация сверху или снизу, под ними. Земля под ногами была неровной, и она опять оступилась, ухватившись за него, и услышала, как он тихо прошипел проклятье.
– Извините, – произнесла она, но голос ее задыхался.
– Будь осторожнее, – сказал он, и они пошли дальше.
Мадлен вспомнила, что в тот раз здесь были туристы, влекомые курьезной смесью любопытства и страха, древнего, как мир, но сейчас они были одни – потому что кому придет в голову забираться в это жуткое небытие всего за несколько дней до Рождества? Никому. Только тому, кто сошел с ума.
– Bon Dieu, – выговорила она неожиданно громко, даже не понимая, что молится, и Зелеев, чтобы ее наказать, прижал ее еще теснее к себе – чтобы она чувствовала его силу, его мускулы, даже сквозь пальто и пуловер. – Bon Dieu, sauvez-moi…[105]
– Я же сказал – спокойно! Тихо! – прорычал он, и страх Мадлен, ее цепенящий, полузадавленный, ноющий страх, стал расти и шириться внутри нее, потому что она знала, что они приближаются к центру катакомб, их сердцевине, и она помнила это, о Боже! Как хорошо она помнила это…
Зелеев направил луч фонарика на надпись над раскрашенным в черное и белое входом, и она знала, что ее кошмар только начинается.
Они входили в империю смерти.
Гидеон, Руди и Ной выяснили, что Зелеев был зарегистрирован в Крийоне – вместе с одной особой, молодой женщиной. Телефон в их номере не отвечал, но они не отметились при выходе.
– Может, они в баре, – предположил консьерж. – Или, может, они еще в ресторане после лэнча?
– Мы уже смотрели, – сказал Гидеон. – Их там нет. Руди наклонился вперед и заговорил тихо:
– Нам просто жизненно важно осмотреть номер мсье Зелеева.
– Но это просто невозможно.
– Спроси его, воспользовался ли он сейфом, – вмешался Гидеон.
– C'est une affaire absolutment privée, Monsieur.[106]
Он дал понять, что дальнейшие расспросы нежелательны, и потребовалась вся выработанная банковской работой дипломатия Руди и предложение Ноя взять всю ответственность полностью на себя, пока они смогли выудить из него, что у них есть сейф на имя мсье Зелеева – и самый большой.
Было уже три часа дня, когда они наконец получили доступ к спальне. Гидеон увидел сумку Мадлен, кое-какие необходимые вещи, которые она второпях запихнула туда. И это неопровержимое доказательство того, что он был прав, что ее силой вытащил из дома сумасшедший старик и потащил ее в город, в который она была даже не готова вернуться, наполнило его новой, неистовой, но бессильной яростью.
– Где же они? – спросил Ной, зная, что у них нет ответа.
– Раз скульптура – в сейфе, почему они не здесь? – спросил с гримасой муки Руди.
– А если она знает, что это он убил девушку… – Ной замолчал.
Гидеон, ничего не говоря, упорно осматривал номер, обшаривая глазами каждый дюйм, ища хоть малейший ключ к разгадке – хоть что-то, что поможет им найти Мадди прежде, чем будет уже слишком поздно.
– Посмотрите-ка на это, – сказал Руди. Он взял с тумбочки открытую книжку, «Отверженных». – Что-то здесь было отмечено – стерто, но все же…
Он побледнел и передал книгу Ною.
– Переведи это Гидеону, хорошо?
– Канализация, – прочел Ной, – в старом Париже была местом упокоения всех неудач и всех усилий.
Он посмотрел на Гидеона.
– Ты читал эту книгу?
– Нет.
– Гюго без конца пишет о клоаке, канализации Парижа, целом лабиринте тоннелей под городом – по-моему, эти лабиринты вдохновляли его. Клоака – не просто стоки, – объяснял Ной, – там проложен водопровод, телефонный кабель и пневматическая телеграфная сеть. Эти тоннели тянутся из конца в конец. Кто-то сказал, что они тянутся до самого Стамбула.
Ной помолчал, голос его напрягся.
– Это – идеальное место, чтоб спрятаться. Гидеон словно наяву увидел вновь тело Дженнифер Малкевич, ее пробитую голову и кровь, сочившуюся из раны.
– А еще это, – сказал он тихо, – идеальное место, чтобы убить.
Они позвонили в полицию.
* * *
Константин Зелеев и Мадлен стояли в самом сердце огромного нелепого погребального дома, более древнего, чем городская канализация. Стены из костей, которые она не могла забыть все эти одиннадцать лет, словно наступали, окружали их, исподтишка, удушливо-мерзко. Кости давно умерших и черепа, расставшиеся с давно истлевшей плотью, сгнившей в гробах, из которых их вытащили более века назад. Мадлен смотрела на черепа, смотрела, как загипнотизированная, сквозь пустые глазницы, и невольное видение – черви, копошащиеся, жиреющие – вызвало у нее приступ такой дурноты, что, казалось, ее сейчас стошнит, или она упадет в обморок.
– Почти пришли, – сказал Зелеев.
Мадлен не могла говорить. Все оцепенение теперь испарилось, и не осталось ничего – ни отупляющей пустоты шока, ни ощущения нереальности происходящего. Ничто теперь не защищало ее от этого ужаса.
– Они обчистили все кладбища Парижа и превратили эти катакомбы в некрополь, – сказал Зелеев тихим, спокойным голосом. – Ты знаешь, ma chère? В восемнадцатом и девятнадцатом веках – когда им понадобилось место для новых трупов в могилах.
Он все еще вел ее вперед, но теперь он немного замедлил шаг.
– Эти тоннели тянутся на многие мили под городом, ты понимаешь? Ты видела цепи, барьеры, закрывающие многие проходы? – он указал своим фонариком. – Они – для нашей безопасности, чтоб мы не совершили ужасную ошибку. Потому что если мы свернем с этого пути, если мы заблудимся – нас уже никогда не найдут.
Внезапно он замолчал.
– Что?.. – начала Мадлен, но он дернул ее за руку, чтоб она замолчала.
Он тоже больше не заговаривал. Она подумала – он прислушивается, и она тоже напряглась и стала пытаться уловить хоть малейший звук идущих людей, кого угодно, кого она могла бы позвать – его кинжал больше не пугал ее так, как неизвестные, невообразимые ужасы и опасности, которые заготовил для нее Зелеев.
Но потом вдруг, безо всякого предупреждения, Зелеев зашевелился. Толкая Мадлен к одной из темных отверзтых пастей тоннелей, он вытянул одну руку, вырвал цепь из стены сильным коротким движением и потащил ее во тьму. Она начала кричать, но он хлестнул ее ладонью по лицу, придавил к стене, а потом быстро и грубо пальцами расцепил ее рот и запихнул туда носовой платок, почти весь, сплющив ее язык – так, что она задохнулась и закашлялась, и стала судорожно дышать, и горячие слезы хлынули у нее по щекам.
– Не сопротивляйся, – прошептал он близко у ее уха.
На какой-то момент ей показалось, ее мозг перестал работать. Она почувствовала, что на грани истерики, из которой она никогда не вернется, на волоске от смерти – намертво зажатая в объятиях человека, которого больше не знала. Незнакомца. Сумасшедшего. Убийцы.
– Теперь мы должны ждать, – сказал его голос ей в ухо, и она ощутила его теплое дыхание. И вдруг, как резкая вспышка света, пришло понимание – они ждут закрытия катакомб, того времени, когда будут совершенно одни.
Она заставила себя дышать через нос, пыталась не глотать, не чихать. Она неотрывно смотрела на тусклый свет, лившийся из основного тоннеля, оставленного позади. И молча, про себя, она молилась.
Долгое время никто не проходил мимо. Потом два голоса – мужской и женский, молодые и беззаботные, и веселые. И потом – снова тишина. А пятнадцатью минутами позже прошли два сторожа, уставшие и раздраженные, проверяя, не остался ли кто-то внутри. Мадлен молила Бога, чтобы они заметили оборванную цепь. Хватка Зелеева стала еще крепче, чем прежде. Голоса мужчин, отдаваясь эхом, стали все слабеть и слабеть, пока не пропали совсем.
Свет потух.
И тогда Зелеев заговорил.
– Я собираюсь тебе рассказать, – сказал он тихо, слегка ослабляя свою хватку, – об Александре Габриэле. Негоже тебе умирать, не узнав правды – о своем отце, о его жизни и смерти.
Мадлен застонала, и ее глаза, ослепшие в темноте, повернулись к нему, но ему не было до этого дела.
– Вы никогда не верили, не считали его способным на то, в чем его обвиняли, так, Магдалена Александровна? Вы были правы. Это я, я напал на ту женщину, на шлюху, – он сделал короткую паузу. – Действие водки, времени, места и вообще атмосферы. Александр был так накачан наркотиками, настолько был не в себе, что просто не мог ничего помнить. Было так легко заставить его поверить, что это он виноват – потому что это запросто мог бы быть он.
Мадлен почувствовала, что земля уходит у нее из-под ног, стены поплыли на нее, и тьма навалилась ей на лицо, глаза, давя внутри нее жизнь. Неожиданно Зелеев выдернул кляп у нее изо рта, прислушиваясь к ее прерывающемуся дыханию, влажным платком отер ее лицо, зная, несмотря на темноту, что по нему льются слезы.
– Я знал, что его семья – богата, у них есть власть. Деньги и власть – что еще нужно, чтобы помочь в этом мире? Я знал, что он не кончит свои дни в тюрьме, тогда как я…
– Да вы просто чудовище! – Мадлен едва узнала свой собственный голос, низкий, хриплый и задыхающийся после кляпа – и от неожиданно взорвавшейся ненависти, от того, что он так вызывающе подтвердил ее давние подозрения.
– И это еще не все, – усмехнулся Зелеев. – Неужели ты правда верила, Что я оставил ту бутылку с аспирином твоему отцу без всякого умысла? Так, по неосторожности? Ну да, конечно, ты верила – ты всегда была во многом наивным ребенком.
Она смотрела в темноту остановившимся взглядом.
– Вы его убили, – вдруг отчетливо произнесла она.
– Не совсем – я просто помог ему, на случай, если он хочет умереть. Он говорил мне, что будет бороться, что хочет, чтобы ты гордилась им, ma belle Мадлен. И если б он, правда, хотел или был бы способен на это, может, он все еще был бы жив. Но я знал его слабость. Я оставил его в той жалкой комнате со сверхдозой аспирина, которого он, я уверен, хотел. Я знал, что к наступлению темноты он может быть уже мертв, и, конечно, так оно и случилось.
– А теперь вы собираетесь убить меня.
Это был не вопрос. Констатация факта.
– Если б ты только приняла мое предложение, Мадлен… если бы ты только была способна солгать! Если б ты только не была такой честной – и такой жестокой, мне никогда бы не пришлось рассказывать тебе эти вещи, и мы могли бы жить вместе, как муж и жена до моей смерти. Всего несколько коротких лет с тобой, с Eternité – это все, о чем я просил. Но теперь нет никаких альтернатив, – он заметно содрогнулся. – Я зашел так далеко не для того, чтобы умереть, сгнивая в тюрьме.
– И что же вы собираетесь делать теперь?
– Взять то, что мое по праву, – и жить.
– Но почему я должна умереть? – прошептала она. – Разве вам совсем больше нет до меня дела? Пусть не до меня, но Валентин?
Она вдруг похолодела от новой страшной мысли.
– Вы не убьете его, как меня? – она едва могла пошевелить правой рукой, но схватила его непослушными пальцами. – Вы не сделаете этого, Константин, ради всего святого. Вы не можете!
– Нет, – сказал он даже нежно. – Я этого не сделаю.
– Тогда выведите меня отсюда, – стала она тихо умолять его. – Я вам помогу… всем, чем хотите. Я скажу им, что вы не собирались убивать Дженнифер, и у вас останется Eternité…
– Я тебе не верю.
– Я вам никогда не лгала – вы сами это сказали…
– Но ты предала меня, так ведь, так? Меня предавали всю жизнь… сначала – Россия, потом – Ирина, потом – Амадеус и твой отец, и наконец – ты, ты тоже. После всего, о чем я мечтал для тебя… ты оказалась лишь немногим лучше, чем все другие Габриэли. Ты всегда разочаровывала меня, не оправдывала…
– Ваших надежд – не моих.
– А теперь, под конец, ты еще и наплевала на меня, на мою любовь к тебе.
– Это не так, Константин.
– Но даже теперь, – сказал Зелеев, – несмотря ни на что, я все еще хочу тебя, ты знаешь это, Мадлен? Здесь, во тьме, где я даже не могу увидеть твоего милого лица… я чувствую аромат твоих волос, твоей кожи…
Она почувствовала его лицо – так близко, и боролась с желанием оттолкнуть его.
– Тогда, пожалуйста, Константин, сделайте так, как я прошу, выведите меня отсюда…
Он все еще держал ее цепко своей сильной левой рукой, а другой расстегнул жакет и нащупал грудь, лаская ее сквозь пуловер и сжимая ее. Мадлен задохнулась, чувствуя подступившую тошноту, отчаянно желая освободиться, отшвырнуть его, кричать, царапать его лицо, ударить его в пах, но его тело, навалившееся на нее, было слишком тяжелым, да и потом она знала, что если сейчас будет бороться с ним, она пропала – он убьет ее без малейшего колебания.
– Поцелуй меня, – сказал он. Она даже не могла говорить.
– Если хочешь жить – поцелуй меня.
Его рот нашел ее рот, его мягкий, влажный, омерзительный язык силой вторгся сквозь ее губы, и Мадлен безотчетно застонала от отвращения. Его колено вдавилось у нее между ног, рука покинула грудь и стала двигаться ниже, по бедру.
– Нет! – она изо всех сил оттолкнула его, всем своим телом. Она услышала, как он взвыл, как животное, от боли, а потом, почти мгновенно, он опять взял себя в руки и придавил ее к стене.
– Теперь ты видишь? – он задыхался. – Ты видишь, как ты меня предаешь, какая ты маленькая сучка… лгунья! Я бы мог носить тебя на руках, я был бы самым лучшим, самым нежным любовником… какой тебе и не снился, но ты превратила меня в ничто, довела нас до этого.
Она ощутила, как он немного напрягся, и услышала слабый шорох, когда его свободная рука задвигалась, доставая что-то из кармана пальто. Нож, подумала она, и глаза ее широко раскрылись, глядя в никуда.
– Вас никогда не найдут, Магдалена Александровна.
Раздался щелчок, луч фонарика прорезал темноту, и Зелеев направил его вниз, на влажную глину. Мадлен на мгновенье зажмурилась от яркого света, а когда она опять их открыла и посмотрела на стену, то впервые увидела, что она сделана целиком из черепов – из маленьких, иногда просто крошечных детских черепов…
Он заломил ей руки за спину, быстро прижал ее всем весом своего тела, освободив свои обе руки. Его дыхание было горячим и влажным, и Мадлен слышала свое собственное, прерывистое от отвращения и страха. Зелеев залез во внутренний карман и достал маленькую стеклянную бутылочку, потом – большой, скомканный носовой платок, отвинтил пробку бутылки и брызнул содержимое на платок.
Мадлен почувствовала запах хлороформа.
Она глубоко вдохнула, собрала все свои силы, которые еще остались в ее измученном теле и толкнула его всем своим телом. Зелеев, застигнутый врасплох, потерял равновесие и сильно пошатнулся, и тогда она изо всех сил ударила его правой ногой, цопав ему в ногу. Что-то шлепнулось на землю, и она знала, что это – кинжал. Рыдая, хрипя, задыхаясь, она быстро нагнулась, скорчилась над землей и стала искать его, ее пальцы наугад шарили по влажной глине, но она нашла его.
– Сука, – он чертыхался и неожиданно схватил ее.
Одним прыжком Мадлен вскочила на ноги, держа кинжал мертвой хваткой, и, резко взмахнув рукой, всадила его в Зелеева. Она почувствовала сопротивление ткани пальто, а потом ощутила, как резное лезвие вошло, скользнув по кости – в его тело, в его плоть…
Зелеев вскрикнул – резко, отрывисто.
– За моего отца! – проговорила она, задыхаясь. Он упал на нее, нога его задела фонарик, и свет его бешено заметался по полукруглому потолку, его раненое тело стало еще тяжелее, чем прежде – и тут Мадлен вдруг поняла, что пропитанный хлороформом платок все еще в его руке, и почувствовала как он пытается добраться до ее лица. И тогда она стала мотать головой из стороны в сторону, колотила по его телу, пытаясь сбросить его с себя, но он изловчился и зажал ее нос и рот мокрым, отвратительно вонявшим платком…
Мадлен пыталась кричать – но чувствовала, как слабеет, скользит, падает на землю. А потом тьма стала еще чернее.
* * *
Они решили, что Ной останется в Крийоне на случай, если вернется Зелеев, а Руди и Гидеон поедут встречать полицию у главного входа в канализацию на набережной Д'Орсей.
Было уже около шести, когда заместитель управляющего отелем пришел вместе с одним из швейцаров отеля в номер Зелеева.
– У нас есть для вас новая информация, мсье Леви.
Швейцар, получивший до того несколько часов отдыха, только что вернулся в отель и узнал о переполохе от портье. И швейцар вспомнил, как искал такси для русского господина и белокурой дамы.
– Но они не поехали к клоаке, мсье.
– Откуда вы знаете?
– Да потому что господин сказал мне, прежде чем мне вызвать такси, что он хочет поехать на площадь Данфер-Рошро, – швейцар пожал плечами. – Конечно, потом они могли пойти на набережную д'Орсей, но по любопытному совпадению вход в катакомбы расположен именно на этой площади.
– Может, это ни о чем и не говорит, – вставил заместитель управляющего, – но я подумал, что будет лучше известить вас немедленно, мсье Леви.
– Вы были абсолютно правы, и я вам очень благодарен за это, – Леви, впервые в жизни позабывший про субботу и свою синагогу, стремительно соображал. Пытаться связаться с полицией займет гораздо больше времени, чем поехать прямо на место. – Если это возможно, мог бы я воспользоваться машиной отеля?
– Вы хотите поехать сейчас, мсье?
– Немедленно.
Когда Ной приехал на набережную д'Орсей, ко входу в катакомбы, он обнаружил там всплеск деловой активности. Расспросив четырех человек, прежде чем получить ответ, он узнал, что Гидеон уже внизу, изучает карты вместе с égouters, специалистами, которые чистили и поддерживали в нормальном состоянии канализацию, и которые вызвались ему помочь в его поисках.
– Ради всего святого!
Ной услышал Гидеона раньше, чем увидел его – американец был в бессильной ярости от медлительности полиции.
– Гидеон! – позвал его Ной, осторожно спускаясь вниз к нему, он был рад, что его не просили остаться тут или идти еще глубже. От мысли, что он может увидеть там хоть одну единственную крысу, по коже его пробегали мурашки.
– Ной, слава Богу! Можешь ты объяснить этим людям, что я хочу сейчас от них только одного – чтоб дали мне сапоги, а их карты – да пошли они на…!
– Гидеон…
– Я знаю, они хотят, как лучше, и я знаю, что Мадлен и Зелеев к этому времени могли уже забрести черт знает куда, но если мы еще даже не начали искать…
– Гидеон, ради Бога, дашь ты мне, наконец, сказать?!
– Что?
– Они не здесь.
Голова Гидеона вздернулась вверх, а в глазах блеснула надежда.
– Что?? Они вернулись? Они – в Крийоне? С Мадди все о'кэй?
– Нет, нет, просто послушай меня.
Отведя американца в сторону, Ной рассказал ему то, что услышал от швейцара, и еще – что он вспомнил в тот момент, когда швейцар упомянул катакомбы.
– Зелеев уже водил туда ее раньше – десять, одиннадцать лет назад. Он просто свихнулся на Гюго и на клоаке, и он подумал, что будет забавно взглянуть на них вместе с Мадлен. Она все рассказала Эстель – жена потом мне сказала, что Мадлен была просто в шоке, – лицо Ноя было страдальческим и виноватым. – Как это я раньше не догадался, когда увидел книгу! Но…
– Ничего, – перебил его Гидеон. – Как мне туда попасть?
– Отель дал мне машину и шофера.
– Я возьму ее, – Гидеон уже бежал туда, откуда пришел Ной, а сам Ной просто несся, чтобы от него не отстать.
– Но ты не можешь идти один, Гидеон.
– Могу, черт возьми, – Гидеон говорил быстро, отдавая команды. – Найди Руди – он здесь, разговаривает с полицией. Расскажи ему все, что ты знаешь – пусть он им скажет, чтобы они действовали быстро, а потом возвращайся в отель.
– Я поеду с тобой.
– Ты – кантор, – сказал Гидеон, с мрачной улыбкой взглянув на Леви, который уже просто едва дышал. – На тебе лежит ответственность, да и потом, мне нужно, чтобы ты был в Крийоне – вдруг и вернутся.
– У тебя есть оружие? – волновался Ной.
– У меня есть револьвер и фонарик – только не говори полиции, пока я не вернусь.
– Гидеон? – Ной, тяжело дыша, схватил его руку. – Будь осторожен.
Глаза Гидеона были очень мрачными.
– Я собираюсь найти Мадди, – сказал он. – Чего бы это ни стоило.
Мадлен боролась, пытаясь очнуться от сна, который мог стать вечным; ее нос и горло все еще были полны тошнотворного запаха хлороформа. Ее голова просто раскалывалась, ее мутило, и земля под щекой была мокрой, холодной и противно воняла. Она открыла глаза и увидела только черноту; подняв голову, она поднесла окоченевшую руку к лицу. Но она даже не могла увидеть своих пальцев – она была слепой…
А потом она вспомнила.
Ее сердце начало сильно колотиться. Медленно, осторожно, она села, оглядываясь по сторонам, и стала шарить рукой в поисках фонарика, и ее рука коснулась чего-то холодного и мягкого. Мадлен едва слышно вскрикнула и отдернула руку, рванулась назад и ударилась о стену плечом, но, вспомнив черепа и кости, отшатнулась и разрыдалась…
– Господи, Господи… – она боролась с собой, пытаясь успокоиться. Какое-то мгновение она прислушивалась – но вокруг была лишь тишина – зловещая, гробовая тишина. Если Зелеев был здесь, рядом с ней, он уже давно, должно быть, был мертв. С ним было все кончено, и больше он не мог причинить ей зла. – Найти его, – вдруг пробормотала она вслух.
Она опять скорчилась и, широко раскинув руки, стала шарить по земле. То, что ее так напугало, было его шляпой, его щегольской мягкой шляпой с поперечной вмятиной посередине. – Найди его, твердила она себе. Найди его и убедись, а потом ты можешь выбираться отсюда.
Но его нигде не было.
Мадлен знала, что ударила его кинжалом, она чувствовала, что резной клинок врезался в его плоть, скользнул по ребрам и пошел дальше легко, словно смазанный кровью.
Но он выжил, усыпил ее хлороформом. А потом он исчез.
Она отчаянно пыталась думать здраво, не впадать в панику, не сдаваться.
– Спички, – подумала она. Мадлен вспомнила, что клала их в карман жакета; она захватила их из пепельницы в отеле – безотчетно, безо всякой цели. И теперь, вслепую, она нашла их, оторвала одну спичку от упаковки и попыталась зажечь – но было сыро, и спичка сломалась, и Мадлен бросила ее на землю. Спокойно, спокойно, сказала она себе, спокойно, и оторвала еще спичку. Пламя вспыхнуло и погасло, оставив Мадлен после себя только запах серы. Она попробовала еще раз – теперь она прикрывала пламя ладонью. На секунду вспыхнул свет, и сотни безглазых черепов уставились на нее своими пустыми глазницами, словно насмехаясь, тысячи костей замерцали белым светом, и рука Мадлен затряслась так сильно, что она уронила спички и снова осталась в темноте.
Она никогда раньше не знала, что тьма может быть такой черной, такой густой и беспросветной. Она была чернее смолы и пахла смертью, и кровь Константина была на ее лице, на одежде – ей казалось, что она вся в его крови.
Она сидела, поджав колени и обняв себя за плечи. Ей хотелось уснуть. Она хотела умереть – сейчас, мгновенно, чтобы кончился наконец весь этот ужас. Она знала, что если пойдет дальше, покинет это место, она потеряется в лабиринте, будет умирать медленной смертью, во власти кошмара, пока последняя капля жизни не вытечет из нее.
Кровь тяжелыми ударами стучала у нее в голове, сердце колотилось так бешено, словно хотело выскочить из груди, голова ее кружилась, и ей стало казаться, что она начинает терять способность ориентироваться в пространстве. И Зелеев был где-то здесь, в темноте, поджидая ее.
И вдруг Мадлен поняла, что она ошибалась. Она не хочет уснуть, она не хочет умирать. Всей своей душой и телом, всем своим существом она хочет жить.
Гидеон в секундной задумчивости стоял у входа на площади Данфер-Рошро. Было тихо, и ни души вокруг. Потом он навалился на запертую зеленую дверь, и плечом и рукояткой пистолета вышиб ее. Она легко поддалась и открылась. Он вбежал в нее, включая фонарик, который он взял у молодого офицера у входа в коллектор. Он понесся вниз по ступенькам винтовой лестницы. Каждый мускул его тела был, как пружина. Леви был прав. Это было то самое место. Мадди была здесь, внизу, где-то там в темноте. Он мог бы своей жизнью поклясться, что не ошибается.
Гидеон боялся темноты – с самого детства, хотя редко кому признавался в этом. Ночные вылазки были в городе не проблемой – фонари горели до самого рассвета. Но он не любил темноту, ненавидел находиться под землей, редко ездил в метро, и ни за что на свете не согласился бы работать шахтером – даже если бы это было единственно доступной ему работой.
И теперь, подавляя эти глубоко загнанные внутрь страхи, он добрался наконец до дна, где кончались ступеньки, и свернул в первый тоннель, зная, что должен ступать мягко и двигаться тихо, слышать, но не быть услышанным. Это было самое отвратительное место, в каком он только когда-либо бывал. Но он отогнал эти мысли и стал думать только о Мадди и злобном сумасшедшем, который затащил ее в это жуткое, безжизненное небытие, в эту преисподнюю. Он чувствовал и слышал, как земля чавкает у него под ногами, влага капает с потолка на волосы, и представил себе канализацию наверху, реку нечистот, несущуюся по древней крыше у него над головой.
Мадди! Ему хотелось кричать. Мадди, я иду, не бойся, я иду к тебе. Но он справился со своей тоской и отчаянием, прибавляя шагу, однако сдерживая себя, чтобы не бежать. Ему казалось, что его собственное дыхание звучит громко в тишине, и он заставлял себя даже дышать потише. Зелеев мог увидеть его первым, увидеть его фонарик, револьвер в его правой руке. Свет сам по себе был опасен, но без него Гидеон стал бы такой же беспомощной жертвой, как и Мадди, – и совершенно для нее бесполезным.
В тот момент, когда он увидел первые черепа, он застыл, как вкопанный, пригвожденный к месту шоком и отвращением.
– Милостивый Господи, – сказал он, задыхаясь. – Я не смогу.
Он хотел повернуть назад, выбраться из этого ада, побежать вверх по этим проклятым ступенькам наружу, на свежий, чистый воздух. Но потом, борясь с собой, он вытащил из памяти воспоминания о том, как он впервые совсем еще ребенком побывал в павильоне ужасов на Кони Айленд. Тогда он думал, что просто там и умрет, никогда не выберется из того места, но кончилось тем, что он вернулся домой уставшим, как собака, но очень даже живым. Теперь ему было сорок восемь лет, и женщину, которую он любил, заманило в эту кошмарную ловушку настоящее чудовище – у Гидеона просто язык не поворачивался назвать Зелеева человеком. И он, Гидеон, обязан найти ее. Он посветил вокруг фонариком, заставляя себя не отводить взгляда от страшной стены из костей и черепов, и, думая о Мадди и о Валентине, который ждал их там, в Нью-Йорке, двинулся вперед, во второй тоннель.
Он пробыл под землей уже полчаса, когда почувствовал запах духов. Просто слабую струю аромата, след его, настолько мимолетный, что какую-то секунду или две он даже подумал, что, может, это было некое безумное по своему неправдоподобию исполнение желаний. По потом он закрыл глаза и вдохнул полной грудью, и тогда он с уверенностью понял, что она где-то здесь, недалеко.
И, не в силах сдержаться, он позвал ее.
Мадлен, на земле, в своем собственном аду, сжавшись в комок, поджав колени и стараясь сдержать непрерывную дрожь, выбраться из замкнутого круга своих мыслей, почувствовала, что у нее начались галлюцинации. Она знала, что такое бывает в пустыне, когда проведешь несколько дней без воды – видишь то, что хотел бы увидеть. Слышишь то, что хотел бы услышать больше всего на свете.
– Мадди…
Опять. Но это просто невозможно. Гидеона просто не может здесь быть. Откуда взяться ему в этой огромной гробнице – за тысячи миль от Манхэттена?
Но потом она поняла, что все это – правда, что это был его голос, и она подняла голову с колен и почувствовала, как кровь прилила к ее щекам. И она ответила ему – так громко и ясно, как только могла:
– Я здесь!
То, что они почувствовали, невозможно было выразить словами.
– Мадди! Я иду! – он замолчал. – Мадди, ты одна?
– Да, – донесся ответ. – Одна.
Ее голос звучал отдаленней, чем прежде, звук был слабее и странно гулким и пустым. Было ужасно трудно понять, откуда шел голос, потому что эхо его отдавалось под потолком и вдоль стен.
– Говори со мной, Мадди, – крикнул он. – Не переставай говорить. Тебе нужно привести меня к себе…
– Гидеон, ты меня слышишь? Я не знаю…
– Я слышу, – он почувствовал, как у нее начинается паника. – Мадди, я слышу тебя! Не двигайся с места. Я иду, все будет хорошо.
Он почувствовал запах крови за долю секунды до сильнейшего удара, когда Константин Зелеев врезался в него сзади со всей быстротой, безжалостностью и обезумевшей мощью раненого быка. Гидеон упал, сильно ударившись головой и закувыркавшись по земле, и пистолет и фонарик вылетели у него из рук. Луч фонарика Зелеева полоснул по его глазам, потом метнулся бешеным зигзагом по земле, когда русский искал оружие…
Когда раздался выстрел, двухсотлетняя стена из костей, голых, лишенных плоти голов и рук давно умерших мужчин, женщин и детей, содрогнулась, зашаталась и обрушилась.
И засыпала двух мужчин на влажном глиняном полу.
От звука выстрела и грохота рушившейся стены паника охватила Мадлен с новой силой, подбросила ее на ноги и погнала прочь, прочь от страшных звуков, от Зелеева, вглубь лабиринта. Единственным звуком, который она слышала, было ее собственное прерывистое дыхание, захлебывавшееся от рыданий. С отчаянно заломленными руками, она неслась, как обезумевшая – два, три раза она врезалась в стены, от навалившегося на нее ужаса она перестала понимать: где она, что с ней и куда она бежит…
А потом вдруг она остановилась, внезапно, резко опустилась на землю, и рассудок снова вернулся к ней. И она поняла, что совершила самую большую и страшную ошибку. Если Зелеев жив, он ее не найдет. Но если остался в живых Гидеон – он тоже ее не найдет. Никто не найдет ее. Никогда.
Она заблудилась. Непоправимо, навсегда.
Казалось, прошла целая вечность, прежде чем раздался голос – из ниоткуда, из пустоты. Он шел издалека – мягкий и приглушенный.
– Мадлен!
Она сидела без движения, продрогшая до костей, и всем своим слухом, каждым нервом пыталась понять, чей же голос позвал ее. Катакомбы, древние и зловещие, съедали все естественные обертоны и характерные тона голоса, словно закутывая его в плотный, влажный туман.
– Мадди, – потом снова тишина. – Он мертв, Мадди, мертв. Все хорошо.
Она услышала их снова – звуки, слоги ее имени, словно умолявшие, звавшие ее – с любовью и лаской. Но потом опять, зловеще и вкрадчиво, из темноты стали подползать смерть и безумие. Все отупляющая, парализующая слабость стала завладевать ее телом, ее мозгом, всем ее существом. У нее нет больше сил, нет слез, нет страха, нет ничего. Одна пустота, приближение конца.
– Мадди, пой для меня, – позвал неожиданно голос. – Пой, чтоб я мог тебя найти…
Все кончики нервов Мадлен впились в нее, как иголки, возвращая ее назад из небытия, заставляя мозг выплыть из мрака навстречу проблеску мысли… Теперь она знала, что делать. Ей нужно пытаться – все, что угодно, только выйти отсюда, не думая, жизнь впереди или смерть.
Ее собственный голос зазвучал очень странно, болезненно отдавая в голову, возвращаясь эхом от жутких скелетов стены.
– Скажи, что мне петь! – крикнула она в мрак темноты. – Я не знаю. Скажи!
Казалось, ответа не было целую вечность. Он понял, он знал, что ей хотелось, что ей нужно услышать. Но нечеловеческое напряжение всех его чувств и возможностей тела словно выжало до капли его самого и сковало память.
Усилием воли он стряхнул с себя пустоту. И он вспомнил.
Его голос был уверенным, сильным.
– Мадди! Пой «Невозможно забыть».
Мадлен стала дрожать даже сильнее, чем прежде. Ей стало казаться, что ее разорвет на куски, что ее тело словно превратилось в одну натянутую струну, в одно огромное бешено бьющееся сердце. Оно не вынесет звука.
Он выбрал песню, которую она пела в Лила на другой вечер после их свадьбы и которую никогда не исполняла до того вечера. Мадлен вспомнила, что тогда она всплакнула немного и думала лишь об одном Гидеоне, своем лучшем и верном друге.
Константин устроил ужин в их честь. Но он не пришел на их свадьбу. Как не пришел тогда и в Лила.
И она собрала все свои силы и запела.
Желание поскорей отыскать ее было таким неистовым, что он метнулся бежать, как сумасшедший, на звук ее голоса. Но потом рассудок взял верх, и он включил свой фонарик, зная, что ему нужно оставлять какие-то метки, чтобы он мог по ним вывести ее назад к основному тоннелю.
Кости. Это было почти кощунством, и противно и жутко, но в этот момент он не стал произносить проклятий. Кости были тем единственным, что могло найтись под рукой. Он стал собирать их кучками – большеберцовые, бедренные, даже целые черепа…
– Продолжай петь! – умолял он ее. – Я иду, Мадди, – все будет опять хорошо – только пой! Просто пой!
И Мадлен пела – ее голос был хриплым и прерывающимся от холода, сырости, усталости, страха и шока, но она не остановилась бы ни за что на свете, даже, чтоб перевести дыхание, она пела и пела.
Он нашел вырванную цепь и понял, что он к ней все ближе, но мрак и запутанный лабиринт все же играли странные, зловещие шутки с его слухом, способностью ориентироваться и даже с возможностью сохранять равновесие. Он сворачивал, внезапно чувствовал, что он заблудился, впадал почти в безумное отчаяние и возвращался назад, не забывая поднимать кости там, где он бросил их раньше – пока не ощущал, что он на верном пути. Он не осознавал, что плачет, не замечал боли и усталости. Он хотел лишь одного – найти ее, обнять, вывести ее из этого ада, наверх, к солнцу, к свету…
Ее голос почти совсем затих, когда его ноздри ощутили слабый запах серы, а слух уловил новый, тихий, чиркающий звук…
И в луче фонарика он увидел ее.
Она скорчилась на земле, колени почти вдавились в грудь, но она пела почти беззвучно и чиркала спичками, зажигая одну, бросая, и зажигая другую.
– Мадди?
Казалось, она не слышала его – просто смотрела слепым взглядом на свет. Ее лицо было застывшим ужасом, блестящие, но невидящие глаза – огромными, и она все еще шептала слова песни «Невозможно забыть», не понимая, что уже нечего было слышать…
Гидеон прошел последние шаги, разделявшие их. Его ноги тряслись, он бессильно опустился возле нее и с порывистой нежностью коснулся ее щеки.
И тогда Мадлен перестала петь.
– Ты можешь встать? – спросил он, и его собственный голос был едва ли громче шепота.
Она кивнула, и, помогая ей встать, он увидел на ней кровь, и в отчаянье стал водить лучом фонарика по ее телу, пытаясь и боясь увидеть, где она была ранена.
– Не моя кровь, – с трудом прошептала она.
– Слава Богу!
Он попытался обнять ее. На какое-то мгновение она оттолкнула его. Когда глаза ее привыкли к свету, она увидела и поняла, что это и вправду был Гидеон, с лицом, перекошенным от страха и тревоги. И тогда она начала тихо и слабо плакать.
– Мадди, любовь моя, – очень осторожно он обнял ее и услышал, как она застонала на его груди от боли, облегчения и радости. – Теперь все хорошо, любовь моя, теперь все хорошо, – он приговаривал мягко, прижимая ее к себе, баюкая бережно, словно она была маленьким, хрупким ребенком.
Она что-то сказала, едва слышно, в его грудь.
– Что, моя дорогая?
Она подняла лицо – совсем чуть-чуть.
– Валентин? – она прижалась к нему. – Ты нашел Валентина?
– Он жив и здоров, – он поцеловал ее в волосы. – Жив и здоров.
Он взял ее на руки, поражаясь ее легкости. Освещая фонариком землю, пошел назад по своим собственным, абсурдно зловещим следам – назад, к живому, реальному миру…
– Dieu! – услышал он, и взглянул вниз, он увидел, что они проходят мимо тела Зелеева, полупогребенного стеной из скелетов, рухнувшей на него, когда грянул выстрел, покончивший с кошмаром.
– Не смотри, – шепнул он ей в ухо. И почувствовал, как она расслабилась – впервые, ему вдруг захотелось кричать от счастья, выплеснуть миру свою благодарность и ликование. Но вместо этого он шел молча и упорно, благословляя драгоценную ношу на руках.
Казалось, он шел уже целую вечность, когда показались винтовые ступеньки, и ему пришлось поставить ее на землю, хотя ему ни за что на свете не хотелось отпускать ее даже на секунду.
– Здесь очень тесно, – сказал он встревоженно. – Я не могу тебя нести. Как ты думаешь, ты сможешь идти сама?
– Я попытаюсь, – прошептала она.
– Я буду рядом, сзади тебя.
И оба они пошли очень быстро, не думая о том, как много им надо пройти. У Мадлен так закружилась голова, что она едва не упала на Гидеона, и он дал ей маленькую передышку, прежде чем идти снова наверх. Он поддерживал ее рукой за спину, помогая ей, защищая, пока оба они не почувствовали дуновения свежего, благословенного воздуха и не услышали приглушенный гул города, на который спустился ранний вечер.
Гидеону казалось, что он пробыл под землей много-много часов, хотя на самом деле прошло чуть больше девяноста минут. Многочисленные силы полиции лишь недавно прибыли, моторы некоторых машин еще работали, горели прожекторы, зеваки судачили, глазея на происходящее.
– Магги!
Руди бросился к ней. Его лицо было белым, как мел, и он буквально выхватил сестру из рук Гидеона и обнял ее сильно, до боли.
– Со мной все хорошо, – слабо прошептала она и обмякла в его руках.
– Слава Богу! – плечи Руди тряслись: он плакал навзрыд. Когда он немного успокоился, глаза его обратились к Гидеону с вопросом и страхом:
– Зелеев мертв, – коротко ответил Гидеон. – Кончено.
Руди кивнул с облегчением.
Инспектор полиции вышел вперед и набросил на плечи Мадлен шерстяное одеяло.
– Мы вызвали для вас скорую, мадам.
– Нет, нет, подождите минутку, – сказала Мадлен, тихо, но решительно, и посмотрела на Гидеона. Полицейский отступил назад понимающе. Брат, увидя выражение лица Гидеона, мягко подтолкнул ее в объятия высокого американца.
Они ни разу не целовались до этой минуты – как любовники, как муж и жена. Этот первый поцелуй, на морозном воздухе чистого прозрачного декабрьского вечера, был чем-то большим, чем просто соприкосновением губ, это была сама страсть, прорвавшая все преграды.
В поцелуе была разделенная радость, облегчение и благодарность жизни, физическое и душевное осознание того, что они снова живут. Но это было и проявление любви, которую они так долго скрывали, награда за те страшные часы, когда они боялись, что эта минута никогда не настанет.
Кошмар был позади. Впереди было только начало.
19
Выйдя по своему желанию из больницы меньше чем через сутки, Мадлен приехала к Гидеону в отель Сен-Симон, очаровательный и уютный отель, всего в нескольких минутах ходьбы от бульвара Сен-Жермен. С этими местами было связано столько воспоминаний – воспоминаний, которые она таила от самой себя все эти четыре года. Но теперь она была готова. После всего, что случилось, это было непросто – столкнуться лицом к лицу со своим счастливым и горестным прошлым. Но Мадлен не хотела больше бояться. Она будет приветствовать все – и радость, и боль, и откроет Гидеону милые ее сердцу сокровища памяти. Она была готова.
Почти весь этот первый день Гидеон провел в полиции, убеждая следователей оставить в покое Мадлен и не бередить ее душевные раны, и когда они поняли наконец, что он прав, они согласились. Руди, организовав все в отеле, должен был лететь обратно в Нью-Йорк в воскресенье утром. Он собирался вернуться назад с Валентином утром в понедельник – ему так хотелось порадовать Мадлен, собрав всю семью вместе на Рождество в Париже.
Мадлен лежала и слышала, как Гидеон говорит по телефону. Она попросила его сделать два звонка – сама она не могла из-за ларингита. Ее уставшее горло не выдержало, и у нее пропал голос. Гидеон позвонил ее сыну, а потом – в Квинз, убитой горем семье Малкевичей, чтобы сказать, что Дженнифер – отомщена, и ее убийца – мертв. Мадлен уснула и проспала почти всю субботу безо всяких снотворных. А вечером, проснувшись в спальне, в которой она была впервые вместе со своим мужем, Мадлен чувствовала себя такой бодрой, и все существо ее переполняло такое облегчение и радость, что она в ту же минуту подумала, что такое не может долго продлиться.
– Они ведь тебе говорили, – спросила она Гидеона, – что когда человек на волосок от смерти, его желание жить достигает наивысшего пика?
Она смотрела на него и видела, как он выжат до капли всем этим кошмаром и долгим общением с властями.
– Боюсь, что я скоро опущусь на грешную землю и разобьюсь.
– Нет – если смогу тебе помочь, – сказал Гидеон, наливая себе виски, и рука его слегка дрожала от усталости.
– Как жалко, – сказала тихо Мадлен.
– Что, дорогая?
– Что ты прозеваешь нашу первую ночь вместе, в одной постели.
– Кто сказал, что я собираюсь ее прозевать?
– Твоя жена.
– Это еще почему?
– Да потому, что ты уснешь, как только твоя голова коснется подушки.
Он был слишком уставшим, чтобы спорить.
– Извини, – сказал он.
– За что? – удивилась она.
– Как глупо – терять драгоценные минуты этой ночи, когда мы можем быть с тобой вдвоем.
Мадлен начала снимать с него одежду.
– У нас еще будет много, много ночей…
Он крепко проспал семь часов, и почти все это время Мадлен была рядом с ним – но не касаясь его. Она лежала, опершись о локоть, и смотрела на Гидеона. Она привыкала к этому мужчине, которого уже так хорошо знала, но вдруг поняла, что во многом он ей совсем незнаком. Когда Гидеон спал, ворочался во сне, и одеяло сползало в сторону, Мадлен, наконец решилась рассмотреть его получше, вглядываясь в каждую черточку, каждый волосок, в каждый мускул, каждый видимый изгиб его тела, такого безмятежного во сне.
А рано утром, когда он проснулся, она была уже готова встретить его, и Гидеон, который ждал, как ему казалось, уже целую вечность, теперь был весь переполнен благодарностью и почти экстатической радостью. Ничто, ни одно мгновение их драгоценной близости не должно было быть второпях, ни один глоток нектара ее наслаждения не будет отравлен его пылом и нетерпением…
Поначалу, какое-то время, хотя ее тело отвечало, загоралось и наполнялось жаждой желания, Мадлен почти сознательно держала в уме дистанцию. Она хотела запомнить каждую секунду, проникнуться ее значением, осознать и оценить драгоценное и волнующее изменение в отношениях с этим мужчиной, с этим отважным, спокойным, уверенным, замечательным человеком. Она была близка до того только с одним мужчиной, и у нее не было и капли вины в душе, что она берегла память о нем. Антуан всегда казался ей таким красивым, таким нежным и мягким даже в своей силе и мужском начале, таким интригующим ее девическое воображение – он казался ей мечтой, воплотившейся в жизнь и принесшей ей радость, счастье, жизнь и любовь. А теперь она была здесь, в этом же вечно прекрасном городе чудес и любви, с Гидеоном, ее новой любовью, с таким сильным, как большой медведь, стойким и красивым, таким земным, и надежным, и страстным мужчиной – и таким изумляюще искусным, что она, с удивлением, благодарностью и наслаждением подумала, что она просто взлетает от счастья…
И Мадлен позволила своим воспоминаниям отлететь, отпустить Антуана, зная, что в душе и сердце он всегда будет вместе с ней – но теперь там есть еще место и для новой любви, новой жизни. Оказывается, у человеческого сердца есть способность возрождаться, как феникс, и эта радость и счастье были только началом…
– Merci, mon amour, – прошептала она, чувствуя его глубоко внутри себя.
– Спасибо, любовь моя, – эхом отозвался Гидеон, и в глазах его блестели слезы.
Глаза Мадлен были закрыты, когда ее муж, ее возлюбленный, проникал все глубже и глубже, и она дрожала от счастья, прижимая его все теснее, теснее к себе, но мозг ее бодрствовал, запоминая, узнавая, все понимая…
– Это – жизнь, его и моя, – говорила она себе. – Теперь мы вместе – навсегда.
* * *
А потом, в течение нескольких следующих дней, когда приехали Руди, Майкл и Валентин, и рождественские каникулы начались и миновали, она водила их по дорогим ей местам, где бывала с Антуаном. Для нее это тоже было узнавание – узнавание вновь. И она отвела их во Флеретт на рю Жакоб, хотя сама отказалась зайти – потому что никогда, до самой смерти, она не простит Жан-Мишеля Барбье, владельца, за то, что он сделал ее мужу. В их последний вечер в городе Ной и Эстель устроили обед в их честь и пригласили Гастона Штрассера, и Люссаков, и Грегуара Симона, и Жан-Поля из ресторана. Этим утром Руди сходил в полицию и забрал у них Eternité, и все, кто пришел в дом Леви, смотрели на нее с восхищением и изумлением. Мадлен горько всплакнула, думая о чистоте и силе запретной любви, давшей жизнь Eternité, и зловещем, опасном наваждении, которое тянулось за скульптурой, как хвост кометы, принося горечь, горе и смерть тем, кто в него попадал.
Они сели на поезд, идущий в Цюрих, на следующее утро, потому что Мадлен хотелось поехать к своей семье как можно скорей. Она чувствовала, что должна немедленно восстановить справедливость и смыть грязь с чистого имени ее отца раз и навсегда. А еще – вернуть долг, который все еще тяжелым грузом лежал у нее на душе.
Руди рассказал матери по телефону о событиях двух последних недель. Эмили встретила их у парадной двери Дома Грюндлей, и когда руки ее потянулись к дочери, Мадлен не совсем отстранилась от этих объятий, однако в кольце обвивавших ее рук стояла неподвижно.
– Я просто не могу поверить, что все это случилось с тобой, – сказала Эмили. – Об этом даже подумать-то жутко.
Она протянула свою ледяную, нервно дрожавшую руку Гидеону:
– Мистер Тайлер, я знаю, что мы перед вами в неоплатном долгу.
Гидеон ответил на рукопожатие.
– Я так рад познакомиться с вами, фрау Джулиус.
Он обнял Мадлен за плечи, а Эмили прижала к себе Руди, потом поздоровалась с Майклом Кемпбеллом, а затем, с некоторым промедлением, взяла руку своего смущенного, чувствовавшего себя немного неуютно внука.
– Ты меня не помнишь, Валентин? – мягко спросила его Эмили.
– Нет, – честно ответил Валентин.
– Как он может помнить? – сказала Мадлен. – Он видел тебя всего один только раз – тогда ему не было еще и двух лет.
– Где Оми? – спросил Руди.
– В гостиной, со Стефаном, – Эмили замолчала. – Она себя не очень хорошо чувствовала, а плохие новости ее очень расстроили.
– Тогда, может, Мы поговорим без нее? – сказала Мадлен с нотой страсти в голосе. – Потому что то, что я собираюсь сказать, ее еще больше расстроит.
Эмили взглянула на нее почти с благодарностью.
– Нет, – ответила она. – Мне кажется, что эта что-то такое, что должны слышать мы все.
– Хорошо, – согласилась Мадлен и пошла к гостиной.
– Хочешь, я посижу где-нибудь в другом месте с Валентином? – догнав ее, предложил Майкл.
– Нет, спасибо тебе, – улыбнулась ему Мадлен. – Он тоже – наша семья, и ты – тоже.
Она протянула руку и погладила сына по голове.
– Правильно, chéri?
– Конечно, мама.
Она пересказала им все то, что – по словам Зелеева – произошло на Нидердорф-штрассе субботней ночью июня 1947-го – ночью, ставшей переломной в жизни всей ее семьи. Ночью, окончившейся изгнанием Александра Габриэла из дома и из страны, когда ей было всего семь лет, а Руди – четыре. Мадлен увидела, как ее бабушка побледнела и застыла, и Эмили начала плакать, а ее отчим приосанился на стуле и сел еще более прямо, чем всегда.
– Но он никогда этого не отрицал… – прошептала Эмили.
– Потому что верил Зелееву, – возразил Руди.
– Как и ты, мама, – Мадлен была достаточно спокойна.
– И ты не можешь ее за это винить, – вмешался Стефан. – Только не ты! Ведь ты сама – знавшая этого человека гораздо дольше и лучше, чем твоя мать, – ты сама верила, что он твой друг, пока он не попытался тебя убить.
– По-моему, вы не поняли, – ответила Мадлен, и ее голос был тихим, но сильным. – Дело совсем не в Зелееве. Я обвиняю ее – и мою бабушку тоже, в том, что они не верили в моего отца, как верила я. Права я или нет, справедлива или нет – я всегда буду винить их за то, что они разлучили его с детьми, старались отравить их любовь к нему. И сломали ему жизнь.
– Это сделал Константин Зелеев, – сказал Стефан. – Ты – честная женщина, ты должна знать, что, по сути, это так.
– В конце концов я могу кое-что допустить, – она помолчала. – Наш отец был слабым человеком, не без изъянов и был далеко не лучшим мужем, но разве это что-то меняет? Ведь он был не способен на насилие. Разве вы это не знали? Даже когда я была маленькой, я это знала. Этого невозможно было не видеть. Вы должны были знать – его жена и его мать. Особенно мать.
Хильдегард заговорила в первый раз, и ее голос дрожал, а в голубых глазах стояли слезы.
– Мне придется унести это с собой в могилу, Мадлен.
– Да, Оми, – сказала тихо и мягко Мадлен. – Мне очень жаль.
– Что же нам делать? – спросила Эмили.
– Ничего, – ответила Мадлен. – Просто я хотела, чтобы вы узнали правду.
Она улыбнулась Валентину, сидевшему рядом. Его маленькое личико было хмурым, он словно впитывал в себя все, прислушивался и старался понять. Он видел встревоженность и печаль на лицах старых леди, но заметил горе и какую-то странную удовлетворенность на лице матери. Гидеон и Майкл, двое посторонних, сидели молча. Им было больно смотреть на все происходящее – они понимали, что должны были чувствовать Руди и Мадлен. Но они знали – этот разговор был необходим.
Мадлен повернулась к Стефану.
– Конечно, вас не было здесь в 47-м, – сказала она. – Но я во многом перенесла на вас свою ненависть – с той самой минуты, как вы вошли в наши жизни.
Она сделала паузу.
– Я вас всегда не любила, а вы – меня, и сомневаюсь, что когда-то это изменится, – она взглянула в его холодные серые глаза. – Но то, что случилось с нашим отцом – это не ваша вина. И если я, как вы сказали – честная женщина, то должна вам признаться: больше всего я виню вас в том, что вы были заодно с моей матерью.
Челюсть Джулиуса была, как всегда, гордо вздернута, но какой-то едва уловимый проблеск уважения промелькнул в его глазах.
– Ваша жена, – сказал он Гидеону, – боюсь, всегда пробуждала во мне самое плохое, мистер Тайлер.
– Какая жалость, – спокойно ответил Гидеон. – Обычно она пробуждает в людях только хорошее.
Мадлен вынула скульптуру из сумки, в которой привез ее Гидеон, и поставила на низкий столик, где все могли ее видеть. Но когда она сказала матери, что только так она может возвратить долг – те деньги, которые они ей дали в 63-м, Эмили сказала решительно:
– Нет.
– Вы должны ее взять, – сказала Мадлен, почти резко. – Правда, она вещь красивая? – спросила она Стефана, видя в его глазах едва уловимое восхищение, когда он мысленно оценивал камни и искусность работы. – Возьмите ее в руки. Вы ведь хотите знать, она полая, или нет?
– Не трогай ее! – Эмили Джулиус окончательно потеряла душевное равновесие. – Она твоя, Магги – ты же знаешь, она твоя.
– Я не знаю, чья она по праву, – ответила Мадлен, уже более мягко. – Я знаю только – мой дедушка не хотел, чтобы она принесла кому-то хоть крупицу несчастья. И больше ничего. По крайней мере, она снова в Швейцарии – и это его бы обрадовало…
– Магги… – пыталась перебить ее Эмили.
– Делайте с ней, что хотите – продайте, если так нужно.
– Магги, пожалуйста, послушай меня, – Эмили, даже сейчас боясь идти против мужа, не рискнула взглянуть на Стефана. – Ты нам ничего не должна, ни единого сантима. Наоборот, это мы тебе много должны.
Ее пальцы теребили носовой платок, лежавший на коленях.
– Твой дедушка оставил письмо…
– Мама, пустяки, все в порядке, – остановила ее Мадлен.
– Нет, дай мне сказать… пожалуйста.
– Говори, мама, – сказал тихо и спокойно Руди.
– Он хотел, чтобы Eternité осталась у тебя – так же, как и его дом, и все, что у него было. Бог свидетель, его имущество не так уж велико, но ведь это неважно. Все это может быть тебе очень дорого, Магги, и ты должна это получить, – Эмили начала плакать опять, беззвучно, прижимая ко рту платок.
– Не надо, – сказал Стефан и встал, чтобы обнять свою жену. – Не расстраивай себя так – в этом не ты виновата.
– Это было назло, – коротко сказала Хильдегард. – Глупая, бессмысленная месть – и все из-за меня, из-за гордости отвергнутой женщины.
Она посмотрела своей внучке прямо в лицо.
– Никто не собирался лишать тебя этого, Магдален, лишать навсегда. Когда обнаружилось письмо, твое бегство все еще казалось нам временным – просто умопомрачением, от которого ты скоро оправишься.
– Мы не могли предвидеть того, что случилось – что ты окажешься такой сильной, решительной, – подхватила Эмили. – Что твой муж так тяжело заболеет, и тебе так остро будут нужны деньги. Письмо было брошено в огонь в приступе гнева, под влиянием минуты, и к тому времени, как ты приехала просить нас о помощи, было уже поздно признаваться в содеянном нами.
– В содеянном мной, – резко вмешавшись, отрывисто бросил Джулиус. – Скульптура – твоя, Магдален. Забери ее ради Бога.
Он взял ее со столика и отдал ей в руки.
– Одни только камни стоят целое состояние – чего не могу сказать о работе, поскольку не знаю. Но когда я хочу купить скульптуру, я иду на аукцион и торгуюсь, а когда хочу купить жене драгоценности, то иду покупать ожерелье в Картье.
* * *
Понимая, что осознание вины дорого стоило Эмили, гости не уехали сразу. Мадлен ночевала в доме на Аврора-штрассе впервые за тринадцать лет. И поздно вечером, когда Валентина положили спать, а Гидеон с Майклом пили коньяк в библиотеке, Мадлен и Руди сидели в гостиной у камина, в котором уютно потрескивало большое полено, и говорили с Эмили уже более непринужденно, спокойно и открыто – такого искреннего разговора с ней не мог припомнить даже Руди.
Мадлен было шестнадцать, когда она уехала из Цюриха, а теперь ей оставалось меньше года до тридцати. Но во многом она ощущала себя все такой же – живущей импульсивно, сильными, долго не затухающими чувствами. Она всегда останется честной и часто даже опрометчивой, и будет делать ошибки из-за своего сильного характера. Но она так много узнала – больше о любви и меньше – о ненависти. Все эти годы она была убеждена, что по-настоящему ненавидит свою мать, и только теперь она поняла, что чувство это было ничем иным, как горьким, часто просто невыносимым разочарованием. Она никогда не сможет простить до конца, и, конечно, никогда не забудет совсем. И она не совсем поверила Эмили, когда та прошлым вечером сказала, что всегда любила Мадлен. Но мать еще сказала, что уважает ее и брата. Может, подумала Мадди, это почти так же важно, как любовь.
Руди и Майкл возвратились в Нью-Йорк, а Мадлен, Гидеон и Валентин поехали в Давос. Конечно, Мадлен не могла не повидать дом, с которым у нее было связано столько дорогих ей воспоминаний. Но была и еще одна причина. Оба они уже решили – если на их предложение согласятся, они отдадут Eternité на постоянную экспозицию в музей в Давос Дорфе. Пусть скульптура вернется в мир, который вдохновил на ее создание.
Какая-то незнакомая семья жила в деревянном домике в долине, но они оказались добрыми людьми. Они слыхали об Амадеусе и Ирине, и они пригласили гостей зайти внутрь, взглянуть на дом, посидеть на солнечной террасе, которую прадедушка Валентина собственными руками сделал для своей любимой.
И как раз тогда, когда они пошли на маленькое кладбище, где любовники лежали рядом, бок о бок, Мадлен впервые подумала о погребении Константина Зелеева. Ей вдруг стало больно от мысли – несмотря на все, что он ей сделал, – что у него нет никого, кто бы о нем горевал и знал, где он похоронен. И Гидеон отвел ее в сторону, пока Валентин играл на снегу, рассказал ей то, что не хотел говорить в Париже.
Полиция спустилась в катакомбы после того, как оттуда вышли Мадлен и Гидеон; они увидели обрушившуюся стену из костей и кровь. Но они не обнаружили тела Зелеева.
– Но это просто невозможно! – изумилась Мадлен, содрогнувшись. – Я видела его – и ты тоже.
Она в упор посмотрела на Гидеона.
– Я ударила его кинжалом в бок – я чувствовала, как клинок вошел в него.
Гидеон обнял ее, крепко прижимая к себе.
– А я знаю, что моя пуля пробила ему грудь.
Старый человек никогда бы не смог в таком состоянии взобраться по ступенькам, не мог бы покинуть старинный некрополь живым. Официальное заключение парижской полиции и Интерпола было таково – Зелеев блуждал вслепую и забрел еще дальше в лабиринт, безнадежно заблудился и вскоре после этого умер.
– Похоронен заживо, – Мадлен опять сильно содрогнулась.
– Он получил именно то, что приготовил для тебя, – бережно сказал Гидеон.
– Да. Это так.
Они хотели сделать еще один визит перед тем, как вернуться в Нью-Йорк. Они поехали к родителям Антуана в Нормандию. Клод и Франсуаза Боннар ждали долгие, тяжелые годы, прежде чем увидели своего внука опять. Но помня, как горько оплакивала Мадлен Антуана, они были счастливы увидеть ее спокойной рядом с большим американцем. Таким не похожим на их сына.
Мадлен пошла одна – впервые – на его могилу. Она несла бархатистые, темно-красные розы – такие, какие он ей чаще всего дарил. Долго сидела на траве у его надгробия и говорила с ним, рассказала все, что с ней произошло за эти годы, о своей американской жизни, о Валентине и о Гидеоне. И когда она покидала церковный дворик, такой неброский, трогательно красивый даже в этот блеклый зимний месяц, она ощутила то же, что поняла в их первую ночь с Гидеоном. Что ее горе, ее боль потери Антуана не прошли и не пройдут никогда – даже если б она прожила и сто лет. Но теперь в ее сердце есть еще место и для счастья, и для новой любви.
20
Они прилетели назад, в Нью-Йорк, и Гидеон переехал в ее квартиру. А четыре месяца спустя, после того, как они узнали, что Мадлен беременна, они все перебрались в красивую квартиру на Сентрал Парк Вэст, оставленную Гидеону Лилиан Бекер. И хотя Джо Каттер подыскал Мадлен целую кучу ангажементов в Лас Вегасе и Флориде, он не позволил своей любимой клиентке петь после пятого месяца беременности. Она записала первый альбом для Коламбии в ноябре 1969-го. Но перед этим, решительная, как и всегда, она поставила Джо условие – она согласится на запись, только если «Les Nuits lumineuses» будут на диске.
– Но они никогда на это не пойдут, помяни мое слово, – говорил ей Джо, по привычке пожевывая сигару.
– Тогда я не хочу записывать этот альбом.
– Мадди, ты – крепкий орешек.
– Я просто беременна. И ты должен меня смешить.
Они веселили ее, и она продолжала петь в Лила большинство вечеров. А однажды она пошла на работу и вдруг почувствовала приближение родов, и пять часов спустя родила дочку, которую назвали Алекса.
А когда Алексе, прелестной девчушке с густыми, непослушными золотистыми кудряшками и бирюзовыми, как у матери, глазами, было уже два года, а Валентину – десять, когда казалось, что прошла уже целая вечность со времен их страшного приключения в Париже, и дом Константина Зелеева на Риверсайд Драйв давно был закрыт, а все его имущество было выставлено на продажу на аукционе – Мадлен и Гидеону позвонили из музея в Давосе и сказали, что музей был ограблен прошлой ночью. И почти ничего не пропало. Только Eternité.
Спустя три дня, воскресным вечером в середине марта 1972-го Гидеон и Мадлен смотрели теленовости по 2-му каналу и услышали, что днем какой-то неизвестный вошел в Музей современного искусства, поставил на музейный столик массивную золотую с финифтью скульптуру и всего несколько мгновений спустя смертельно ранил себя старинным кинжалом.
На следующий день Гидеон пошел на опознание. Русский выглядел постаревшим, усы и редкие волосы были теперь седыми, а так одержимо, маниакально холеное сильное тело теперь было бессильно распростерто на столе.
– Собственно говоря, у нас не было особых сомнений, – сказал сопровождавший его детектив. – На теле обнаружены два шрама, соответствующие вашему описанию – один на его левом боку, а под другим – старая пуля в груди. Но мы хотели быть уверены.
– Это – Зелеев, – сказал Гидеон. Вечером после похорон Мадлен спросила его:
– Как ты думаешь, он всегда был таким? Безумным, жившим своими прихотями, порочным человеком? Или мы невольно стали причиной, что он так изменился? – ее глаза искали ответа. – Может, все мы предали его дружбу?
– Не думаю, – сказал Гидеон, твердо и убежденно. – И если честно, я не думаю, что теперь это имеет значение.
– О, нет, – возразила Мадлен. – Нет, Гидеон. Имеет.
– В таком случае, – ответил Гидеон, – поступим так, как всегда учили мои родители. Не будем говорить плохо о мертвых.
Она молчала.
– Зелеев, – задумчиво сказал Гидеон, – был очень одаренным человеком. Он хотел обладать всем. И в нем было много хорошего. Я тебя понимаю – но рискну предположить… Прости, Мадди, но, мне кажется, – он всегда был подонком. Он вбил крюк, когда ты была еще совсем ребенком, Мадди, и потом подтолкнул к нему твоего отца. Как бы там ни было, смерть твоего отца на его совести. Он состряпал ее. И он отрезал ухо маленькой собачке. Он отнял жизнь у чудесной, ни в чем не повинной девушки. Он похитил твоего сына. И он сделал все, на что только был способен его проклятый обезумевший мозг, чтоб попытаться убить и тебя, – Гидеон остановился, чтобы перевести дыхание. – И, знаешь, Мадди, я рад, что он похоронен по-человечески. И я рад этому больше, чем многим вещам за последние годы – а ведь я радовался очень многому.
– Ну что ж, хорошо, – медленно проговорила Мадлен, слегка улыбнувшись себе вопреки. – Если ты думаешь именно так…
– Да, – Гидеон помолчал. – Ну, а что теперь?
– Дети уснули, а Дасти уже погуляла.
– Итак?
Она улыбнулась опять.
– По-моему, ты собираешься налить нам что-нибудь выпить.
– А потом?
– А потом ты поможешь мне все это забыть.
– А у меня получится?
– У тебя это получалось всегда.
Примечания
1
Вечность (фр.).
(обратно)2
Золотко (нем.).
(обратно)3
Извините, сударыня (нем.).
(обратно)4
Я тебя обожаю (фр.).
(обратно)5
Любовь моя (фр.).
(обратно)6
Что с тобой, любовь моя? (фр.)
(обратно)7
Нет! Никогда. (фр.)
(обратно)8
Друг мой. (фр.)
(обратно)9
Не так ли? (фр.)
(обратно)10
Коньяк (нем.).
(обратно)11
Столовая (в квартире) (нем.).
(обратно)12
Пожалуйста, позовите герра Габриэла (нем.).
(обратно)13
Пожалуйста, подождите минутку (нем.).
(обратно)14
Сердечко (нем.).
(обратно)15
Hex (амер.) – колдунья.
(обратно)16
Какой приятный сюрприз! (фр.)
(обратно)17
Моя дорогая (фр.).
(обратно)18
Малышка (фр.).
(обратно)19
Паршивая овца (нем.).
(обратно)20
Настой ромашки (нем.).
(обратно)21
Да, да (нем.).
(обратно)22
Добрый день, фройлейн Габриэль (нем.).
(обратно)23
Добрый день, мадемуазель (фр.).
(обратно)24
До свидания (фр.).
(обратно)25
Это – вам, мадемуазель, – вместе с моими комплиментами (фр.).
(обратно)26
Маленькая подружка (фр.).
(обратно)27
Большое спасибо, мсье (фр.).
(обратно)28
Неизвестная, неизведанная земля (лат.).
(обратно)29
Добрый вечер, мадемуазель (фр.).
(обратно)30
Добрый вечер, мсье (фр.).
(обратно)31
Именно так (фр.).
(обратно)32
Маленькая гостиная (фр.).
(обратно)33
Это добрый Боженька (фр.).
(обратно)34
Одна почтенная дама (фр.).
(обратно)35
Изысканная, изящная (фр.).
(обратно)36
Второй округ (фр.).
(обратно)37
Площадь Мадлен (фр.).
(обратно)38
Печеночный паштет (фр.).
(обратно)39
Парижанка (фр.).
(обратно)40
Высокое ювелирное искусство (фр.).
(обратно)41
Квартал магазинов бижутерии (фр.).
(обратно)42
Пожалуйста, один коньяк, мсье (фр.).
(обратно)43
Прислуга за все (фр.).
(обратно)44
Вот и хорошо (фр.).
(обратно)45
Большая квартира (фр.).
(обратно)46
Мицва (евр.) – заповедь Торы.
(обратно)47
Да, мадам (фр.).
(обратно)48
Естественно, мадам (фр.).
(обратно)49
Новое искусство (фр.).
(обратно)50
Пошли (фр.).
(обратно)51
Остановитесь. Здесь страна смерти (фр.).
(обратно)52
Боже! (фр.)
(обратно)53
Салон красоты (фр.)
(обратно)54
С днем рождения (фр.).
(обратно)55
Добродушие, простота (фр.).
(обратно)56
Богатство старины (фр.).
(обратно)57
Спойте мне что-нибудь (фр.)
(обратно)58
Подогретое вино (фр.).
(обратно)59
Поешь немного. Ты такая хрупкая (фр.).
(обратно)60
Ночное кафе (фр.).
(обратно)61
Но что же произошло? (фр.).
(обратно)62
Ну, пойте (фр.).
(обратно)63
Продолжайте (фр.).
(обратно)64
Да, мсье (фр.).
(обратно)65
Шикарное бистро (фр.).
(обратно)66
Fleurette – цветочек (фр.).
(обратно)67
Шеф-повар (фр.).
(обратно)68
Посудомойка (фр.).
(обратно)69
Правда? Серьезно? (фр.).
(обратно)70
Совершенно (фр.).
(обратно)71
Суп из кресс-салата (фр.).
(обратно)72
Сморчки (фр.).
(обратно)73
Любовь с первого взгляда; удар молнии (фр.).
(обратно)74
Содержатель ресторана (фр.).
(обратно)75
«Светлые ночи» (фр.).
(обратно)76
Песни (нем.).
(обратно)77
Пойдем, моя хорошая (фр.).
(обратно)78
Договорились (фр.).
(обратно)79
Рад вас видеть, мсье (фр.).
(обратно)80
Маленькая гостиная (фр.).
(обратно)81
Одну минутку, мсье (фр.).
(обратно)82
Ну что ж (фр.).
(обратно)83
Прощай, Магдален (фр.).
(обратно)84
Любовь моя (фр.).
(обратно)85
Замолчи (фр.).
(обратно)86
Глупости (фр.).
(обратно)87
Что с тобой? (фр.)
(обратно)88
Боже мой! (фр.)
(обратно)89
Большая любовь (фр.).
(обратно)90
Бедный мальчик! (фр.)
(обратно)91
Вы в трауре (фр.).
(обратно)92
Это – я (фр.).
(обратно)93
Ажурная вязь и перегородчатая эмаль (фр.).
(обратно)94
Дерьмо! (фр.).
(обратно)95
Свидетельство о смерти (фр.).
(обратно)96
Великолепный (фр.).
(обратно)97
Портной (англ.).
(обратно)98
Черт! (фр.).
(обратно)99
Нееврейка (амер., слэнг.).
(обратно)100
Как это здорово! (фр.)
(обратно)101
Условно-окончательное решение суда (вступившее в силу с опред. срока, если оно не будет до этого отменено) (лат., юр.).
(обратно)102
Наконец (фр.).
(обратно)103
Свидетельство о браке (фр.).
(обратно)104
Вход в катакомбы (фр.).
(обратно)105
Боже спаси и помилуй меня (фр.).
(обратно)106
Это – сугубо личное дело (фр.).
(обратно)





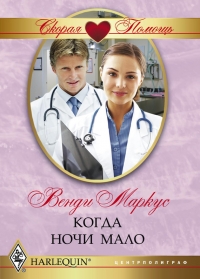

Комментарии к книге «Чары», Хилари Норман
Всего 0 комментариев