Дэвиду Тигу посвящается
Ты — Нил.
Ты — Пизанская башня.
Глава 1 Корнелия
Моя жизнь — моя настоящая жизнь — началась, когда в нее вошел красивый незнакомец в идеально сшитом костюме. Да, я понимаю, как это звучит. Моя подруга Линни обязательно бы фыркнула, и ее трезубец феминистки пронзил бы и саму идею, что мужчина вообще в состоянии изменить жизнь женщины, и мысль о том, что новая жизнь может начаться у женщины после тридцати лет. И вообще она с презрением относилась к способности некоторых людей превращать значимые моменты своей жизни в кинокадры.
Со мной такое случается чаще, чем надо бы. Но было что-то особенное в том, как он вошел в кафе, где я работаю менеджером. Если бы зал не был загроможден столиками, стульями, людьми и собаками, осеннее утреннее солнце запечатлело бы на полу узкую тень незнакомца — совсем как в кадре Орсона Уэллса. И пусть Линни тычет в меня своим трезубцем презрения, сколько ей вздумается, я все равно буду твердить, что моя жизнь по-настоящему началась в то октябрьское утро, когда незнакомец вошел в кафе «Дора».
День был обычным. Суббота, шумно, дым уже стоит коромыслом. Я сидела там, где сидела всегда, когда не обслуживала клиентов, — на высоком стуле за стойкой, и смотрела, как Хейс и Хосе играют в шахматы. Все говорили, что они хорошие шахматисты. «Не то чтобы экстра-класс, — говорил Хейс, — не то, что русские. Но играем совсем недурственно». Хейс был родом из Техаса и вел колонку в «Филадельфии инквайерер», писал о винах. Он любил материться, но не слишком назойливо, еще ему нравилось войти, со стуком перевернуть стул и сесть на него верхом.
Пока я за ними наблюдала, Хосе поднял лохматую голову, печально взглянул на Хейса влажными глазами и передвинул шахматную фигуру на доске. Я плохо разбираюсь в шахматах, но, по-видимому, то, что сделал Хосе, было чем-то необычным, потому что Хейс удивленно воскликнул:
— Черт возьми, парень! Ты этот ход наверняка не из своей головы выдернул! — У Хейса появился хитрый блеск в глазах, и я слегка скривила губы в ответ. «Что ты можешь сделать?» — словно говорило мое лицо.
Но не обращайте слишком большого внимания на Хейса. Поскольку он уже находился в комнате, он никак не мог быть тем мужчиной, который нес на своих плечах мою новую жизнь. Да и вообще он играет очень незначительную роль в этой истории. Почему я начала с Хейса? Может быть, потому, что во многих отношениях он является типичным воплощением старой жизни: самовлюбленный, неглупый, вполне привлекательный, любитель выпить, предпочитает ковбойский стиль в одежде, способен на относительно остроумные замечания. В общем, возможно, неплохой человек, а может, и нет. В школе я прочитала книгу «Петр-пахарь», где герой по имени Уилл отправляется путешествовать и сталкивается с разными типами. Считайте и Хейса одним из таких персонажей. Меня всегда утешали аллегории. Когда вы встречаете людей, которых зовут Враль или Воздержание, вы можете и не испытывать восторга, но зато вы четко знаете, с кем имеете дело.
Вошла еще одна постоянная посетительница, Федра: взлохмаченные ветром каштановые локоны, кожаные штаны и грудь кормящей матери. За собой она тащила гигантскую английскую коляску с большими белыми колесами. Пятеро мужчин вскочили и, едва не сталкиваясь лбами, кинулись придержать дверь. Федра бросила укоризненный взгляд на пару, сидевшую за ближайшим к двери столиком, хотя в этом взгляде уже не было необходимости. Мужчина и женщина поспешно допивали кофе, хватая куртки, сумки с фотоаппаратами и рюкзаки на металлических каркасах.
— Корнелия! — пропела Федра, обращаясь ко мне через всю комнату именно таким музыкальным голосом, которого вы от нее и ждали. — Пожалуйста, кофе латте, много сахара… И что-нибудь греховное…
В нашем кафе за столиками не обслуживают. Федра беспомощно пожала плечами, кивнув на ребенка, демонстрируя тяжкий груз материнства. Федра меня раздражала. Совсем другое дело Аллегра. Я вышла из-за стойки с кофе и круассаном и зигзагом отправилась через зал, обходя столики и собак. Делала я это только ради дочки Федры.
И вот она передо мной, завернутая в одеяло с рисунком под леопарда. Только-только просыпается. Голубоглазая, очаровательная маленькая ведьмочка. В прокуренной комнате она была свежей, как только что испеченный хлеб. Аллегра была похожа на Федру — такая же белая кожа, такой же великолепный лоб а-ля Кэррол Ломбард, только волосы у нее были морковного цвета и торчали в разные стороны. Я ждала приступа щемящей боли и дождалась. Когда я видела Аллегру, мне всегда хотелось до нее дотронуться, хотелось, чтобы она спала на моих руках. Я поставила кофе перед Федрой, положила круассан и скрестила руки на груди. Аллегра снова уснула, губы у нее шевелились, видимо, она видела детский сон.
— Признайся, ты хочешь ребенка, — заметила Федра. Я с трудом перевела взгляд с великолепного ребенка на великолепную заразу, ее мать. — Видишь? — продолжила Федра, — тебе приходится буквально силой отрывать от нее взгляд.
«Надо же», — подумала я и присела, чтобы поболтать с ней минутку. Неправильное употребление Федрой слова «буквально» отозвалось теплом в моем сердце.
— Как бизнес? — спросила я. Федра была дизайнером ювелирных украшений.
— Ничего хорошего. Начинаю думать, что люди в этом не разбираются, — сказала Федра. Ее именные вещи, вернее, те, что стали бы именными, если бы их кто-то купил и стал носить, были сделаны из отшлифованного морем стекла и платины — эдакое противоречивое сочетание. Федра утверждала, что хочет заставить человека изменить понятие о «стоимости» и «ценности». Многие люди этого не понимали. Или понимали, но их это не трогало настолько, чтобы отсчитать восемьсот баксов за браслет, сделанный из старых пивных бутылок.
Федра поднесла чашку к губам, разглядывая меня сквозь поднимающийся пар.
— Корнелия, а почему бы тебе не поносить какие-нибудь мои вещи в кафе, чтобы возбудить интерес? — По ее тону можно было подумать, что идея у нее возникла только что, хотя просила она меня об этом уже в третий раз.
— Я не могу носить украшения на работе, — только и сказала я, не вдаваясь в подробности, но слегка закатывая глаза, что, как я надеялась, подразумевало, что правят мной какие-то высшие силы, запрещающие носить украшения. Но правда заключалась в том, что я вообще никогда не ношу украшений. Роста во мне всего пять футов, и сложением я напоминаю двенадцатилетнюю девочку. Вешу я восемьдесят пять фунтов в мокрой одежде, поэтому боюсь, что при такой миниатюрности украшения сделают меня похожей на блестящую елочную игрушку. А жаль, ведь я обожаю украшения. Пожалуй, не такие, как делает Федра, — прохладные и угловатые, — а настоящие бриллианты. Браслеты, ожерелья, броши, напоминающие падающие звезды тиары. Как на Джин Харлоу или Айрин Данн на пароходе в «Любовном романе».
Аллегра зашевелилась в своем леопардовом гнезде, зевнула и вытащила кулачок. Федра взяла ее на колени. Изогнув свою лебединую шею, она спрятала лицо в волосах малютки, чтобы вдохнуть детский запах. Естественное движение, автоматическое, ненадуманное. Я почувствовала, как по рукам побежали мурашки. Я коснулась пальцем ручонки Аллегры, и она крепко за него ухватилась.
— Тебе обязательно нужно завести ребенка, — завела свою волынку Федра, и я сразу же ощетинилась, но увидела ее лицо, которое светилось добротой. Федра всегда становилась более мягкой, когда держала на руках Аллегру. Поэтому я рассмеялась и весело ответила:
— Я и ребенок. Ты можешь себе такое представить?
— Разумеется, могу. Легко, — заявила Федра. — Да и ты сама можешь.
Хотя мне не нравилась ее самодовольная улыбка, и я бы скорее сдохла, чем призналась бы ей в этом, но отчасти она была права. Я могу себе это представить. И, если честно, представляла, и неоднократно. Но каждый раз меня заставляло одуматься убеждение, что прежде чем женщина принесет в мир новую жизнь, она должна устроить свою.
Впрочем, я толку воду в ступе и занимаюсь этим уже довольно долго. Если вы удивитесь, почему женщина, которой тридцать с хвостиком, таскается в университет и продирается сквозь дебри средневековых аллегорических текстов, но не продвинулась в своей карьере выше менеджера кафе, я на вас не обижусь. Я и сама удивляюсь. Но я не придумала ничего лучше. Пока. Если бы я стремилась получить настоящую профессию, а не пробавлялась дурацкими увлечениями, мне прежде всего нужно было бы ее полюбить, а я по опыту знаю, что не так уж легко определить, что ты любишь. Ты часто ошибаешься, попадаешь впросак. Кроме того, если ты остаешься на одном месте достаточно долго, оно превращается в целый мир.
Я вдруг устала смотреть на Федру и сверкающую коляску. И если про женщину весом менее девяноста фунтов можно сказать, что она тяжело поднялась, именно так я поднялась со стула и потащилась на свое место за стойкой.
Своим рассказом я хочу продемонстрировать заурядность моего трудового дня. Вы должны понять, какой была моя жизнь «до», для того чтобы осознать, насколько она изменилась «после». Обычная-обычная. За минуту до того, как дверь кафе открылась в очередной раз. И обычный день изменился.
Свет, проникающий сквозь арочные окна, из мягкого стал ярким, превратив старую медь кофеварки в чистое золото. И музыка — Сара Воан, которую я обожаю — неожиданно птицей взлетела вверх, над сигаретным дымом и болтовней. Кофе пах прекрасно, цветы, которые я купила утром, привлекали своей синевой, зазубринки на кофейных чашках исчезли, и чашки казались тоньше яичной скорлупы и светились, и я, в красном свитере, замшевой юбке и сапогах, чувствовала себя почти высокой.
Дверь в кафе «Дора» открылась, и вошел Кэри Грант.
Если вы не видели «Филадельфийскую историю», бросьте все, чем вы занимаетесь, возьмите ее напрокат и посмотрите. Возможно, это будет перегибом, но пока вы не увидите этот фильм, ваша жизнь будет неполной. Он точно находится в списке настоящих ценностей. Вы понимаете, что я имею в виду. В этот список входит «Великий Гэтсби», здание фирмы «Крайслер», Элла Фицджералд, поющая «Это ничего не значит», бутерброды с сыром, поджаренные на гриле, белые пионы и маленькие рисунки Леонардо да Винчи.
Если вы видели фильм, то наверняка помните, как Кэтрин Хепберн в роли Трейси Лорд выходит из домика у бассейна. На ней прямое белое платье, которое спадает с ее худеньких плеч, не платье, а мечта, легкое, как облачко дыма; внизу оно расходится, но Кэтрин сохраняет стройность греческой колонны. Не платье, а парадокс, такое правильное, что зубы болят.
Впервые я увидела этот фильм в четырнадцать лет, за три дня до Рождества. А в моей семье это всегда означало и будет означать перегрузку, свойственную Святкам: каждая комната до предела набита остролистом и гирляндами, во всем доме гремит голос Джонни Мэтиса, а в гостиной возвышается огромная елка, украшенная разнообразными игрушками, включая десятки самоделок, не поддающихся описанию, которые я и мои братья смастерили в школьные годы.
Мой четырнадцатый год был для меня не слишком удачным. Я задержалась в росте и была тощей, как голодная кошка. Вещи мне все еще покупали в детском отделе. У меня появилась стойкая аллергия на всех членов моей семьи, и я была твердо уверена, что ничто не может меня осчастливить.
И вдруг мои долгие скитания по каналам открыли мне черно-белое чудо: Трейси и ее платье.
Меня как током ударило. Я едва не поперхнулась, отпив «севен-ап». А когда Трейси расстегнула пояс на своей тонюсенькой талии и обнажила свое безукоризненное тело, сняв безукоризненно сшитое платье, я вскочила и закричала:
— Чудовищно! Зачем ей этот купальник! — Чего мой отец, который в это время сидел на полу и надевал колокольчики на шеи нашим котам (кроме шуток), совсем не одобрил.
Я вся, до последнего атома, погрузилась в фильм. Кто-то носился по комнате, потому что кто-то всегда носится по комнатам, особенно мои братья Кэм и Тоби, которым в то время было восемь и девять соответственно. Но я ничего не замечала. Даже если бы вулкан начал выбрасывать потоки лавы в сантиметре от меня. Я сидела и смотрела.
Я провела ладонью по своему лицу, пытаясь обнаружить крылатые скулы Трейси. А когда Декстер (Кэри Грант) призвал Трейси к порядку, сказав ей: «Ты никогда не станешь первоклассной женщиной или первоклассным человеческим существом, если не будешь сочувственно относиться к человеческим слабостям», я поняла, что это весьма мудро, и стала думать, а есть ли это сочувствие во мне, а если нет, то как его обрести.
В колледже я ходила в класс, где изучали кино. Он назывался что-то вроде «Переворачивание формулы с ног на голову». На занятиях преподаватель говорил о том трюке, который удался режиссеру «Филадельфийской истории». Он выстроил потрясающую любовную сцену между героями, которые друг друга не любили, заставив зрителя переживать за них во время этой сцены, но тем не менее ничуть не расстроиться, когда они нашли себе других партнеров.
Пока у вас не успело сложиться неправильное впечатление, вам следует знать, что я никогда не относилась к числу тех киноманов, которые могут спорить до хрипоты по поводу теории режиссуры. Я ничего не знаю про ракурсы, и у меня отсутствуют энциклопедические знания о довоенной немецкой кинематографии, но я почти влюбилась в нашего преподавателя, когда он посмотрел на нас сияющими глазами и торжественно заявил: «Нет, этот трюк не должен был сработать. Но он сработал!» Потому что преподаватель был прав.
Когда я услышала, как Майк (Джимми Стюарт) сказал Трейси своим нежным, удивительным голосом: «Нет, ты состоишь из плоти и крови. И в этом заключается весь сюрприз. Ты же золотая девушка, Трейси», — я ухватилась за свой остренький подбородок и взмолилась: пусть она убежит с ним. Еще я поклялась, что когда-нибудь мужчина обязательно скажет мне эти слова, а иначе я умру. Когда фильм закончился, мой отец, услышав вопли восторга, пошел посмотреть на свою обычно спокойную дочь-подростка, которая колотила кулаками по подлокотникам кресла. Я повернулась к нему «лицом, открытым, как цветок» (слова отца) и шепотом сказала сквозь слезы:
— Она выходит замуж за Декстера, папа.
Я всегда немного гордилась тем, что в четырнадцать лет, при всем своем невежестве почти во всех вопросах, у меня хватило ума понять то, что наверняка является истинной правдой: Джимми Стюарт всегда останется самым лучшим мужчиной в мире. Если, конечно, вдруг не появится Кэри Грант.
Его звали Мартин Грейс. Замечательное имя, состоящее, как вы могли заметить, практически из тех же букв, что и Кэри Грант. Разумеется, если вы не являетесь ошибкой природы, вы, вероятно, этого не заметите, так что вам будет приятно узнать, что и мне это не сразу пришло в голову. Только позднее, уже лежа в постели, я все это сообразила, мысленно вычеркивая буквы воображаемым карандашом, но делая вид, что меня это не слишком интересует, и даже небрежно наклоняя голову над подушкой, хотя, кроме меня, в комнате никого не было.
Откровенно говоря, я немного суеверна в отношении имен. Еще учась в колледже, я встречалась с высоким блондинистым туповатым парнем из Батон-Руж исключительно из-за того, что его звали Уильям Пауэлл, как актера, которого все знали по фильмам «Тонкий человек» и «Оклеветанная». Он один из тех мужчин, в чью красоту ты веришь полностью, даже если знаешь, что ничего особенного в нем нет.
Моя мать познакомилась с этим парнем и сразу поняла, что меня зацепило.
— У тебя нос, как у Мирны Лой, — сказала она. — Довольствуйся этим.
Но я все равно бросила Билла только через несколько вечеров, после того как побывала в особняке времен короля Георга, превращенном в пещероподобное студенческое общежитие, и увидела, как Билл, голый до пояса, танцует на столе, а его несчастный живот колышется подобно медузе. Медуза пульсировала, и Уильям Пауэлл, деликатно пожав плечами, отмежевался от Билла навсегда и исчез в ночи, благоухающей жимолостью.
Скользкое это дело — имена. И все же Мартин Грейс — хорошо. Очень хорошо.
Он стоял в дверях, темноглазый, с легкой улыбкой на губах. Высокий. Костюм, волосы, контур лица — все по высшему классу. Великолепно стройный — это выражение из какой-то книжки, которую я читала в четвертом классе. И почему-то оно пришло мне в голову. Только, как я позже вспомнила, главный герой застрелился. Но у этого мужчины, моего мужчины, впереди была достойная, интересная и спокойная жизнь. Я преувеличиваю, но не слишком, когда говорю, что когда он шел к стойке, когда он шел ко мне, собаки, шахматисты, коляски и все остальное расступались перед ним, как волны Красного моря.
— Привет, — сказал он. Голос у него не был сладкозвучным или громоподобным, он не говорил в нос, но тем не менее он и стал главным героем. И разумеется, вы знали это заранее, у него была ямочка на подбородке, и пару секунд я раздумывала, не коснуться ли ее и не спросить, как он бреет свой подбородок, потому что, уж если кому и подражать, то пусть это будет Одри Хепберн. Я сдержалась, но почувствовала, что эта ямочка навсегда врезалась в мое сознание.
— Привет, — сказала я.
— Кофе, пожалуйста. Черный. — И я сразу поняла, что это то, что он действительно любит, и что он не выдает себя за мачо, как ковбой Мальборо, за которым его мужественность тянется как длинный, глупый хвост.
Когда я подавала ему кофе, то слегка задержала на чашке указательный палец, когда он брал ее. Мне хотелось верить, что чашка превратилась в маленький проводник и вздрогнула от нашего электричества. Так или иначе, но кофе выплеснулся на мою руку, я вскрикнула и прижала ее к губам, как двухлетний ребенок.
Он взглянул на меня с беспокойством и сказал:
— Меня следует запереть в клетке.
— Профессиональный риск, — отмахнулась я. — Все путем.
— Путем? В самом деле? Потому что если это не так, то вы должны мне сказать, и я пойду и утоплюсь в Делавэре.
— Не говорите ерунды, — заметила я, — Скуйкилл куда ближе.
— Зато Делавэр глубже. У меня не хватит мужества утопиться на мелководье даже ради вас.
«Даже ради вас, даже ради вас», — запело мое сердце.
— Хотя… — сказал он.
— Хотя что? — огрызнулась я.
— Хотя можно попробовать Темзу. Я улетаю в Лондон через два часа.
Может быть, вы и не почувствовали, что земля качнулась, но, поверьте мне, это почувствовала я. С первой секунды между нами возникло интуитивное созвучие, которое я могу сравнить только с шестым чувством — им обладают играющие в ансамбле музыканты, если, разумеется, я хоть немного разбираюсь в джазе. Это был разговор, которого я ждала всю жизнь.
Так мы с ним и перекидывались фразами. Он рассказал о своей деловой поездке — четыре дня в Лондоне, что-то связанное с финансированием, и о том, что в Лондоне действительно туманно.
Я была напряжена, краснела, но не нервничала. Чудо да и только, но я была готова к встрече с этим идеальным мужчиной. Я была в «теме». У меня даже хватило расторопности в присутствии Мартина Грейса выполнять свою работу, потому что такова жизнь, не правда ли? И именно тогда, когда я наслаждалась разговором с Воплощением своей мечты, двое мальчишек ввалились в кафе, высыпали на прилавок горсть мелочи и заказали два кофе латте. Не нашли другого времени! Твои глаза прикованы к сногсшибательным карим глазам с густыми черными ресницами! И тут я слышу:
— Почему бы вам не поехать со мной?
Это сказал он. Мартин Грейс. Мне.
В тот вечер, лежа в постели, я снова услышала эти слова, возвращенные моей слуховой памятью. Услышав голос Мартина, я села, потом встала и подошла к окну в белой ночной рубашке, словно призрак, и опустилась в кресло. Это кресло я год назад обтянула цветастым тяжелым шелком, который когда-то был чудовищным бальным платьем и висел в скупке в Буэна-Висте (произносится — Бьона), штат Виргиния. Я открыла окно — окно в мою Филадельфию, в тот ее кусочек, который принадлежал мне и позволила своей любви к ней подняться вверх, как аромат цветка, и исчезнуть в прохладном воздухе Спрюс-стрит с ее машинами, огнями, синагогой на углу и геями перед ней, такими молодыми, что щемило сердце. При виде их у меня возникали сразу два желания: я хотела, чтобы машины останавливались, и не хотела, чтобы машины останавливались.
Я бы могла сейчас быть в Лондоне. Лежала бы на незнакомой английской подушке рядом с Мартином Грейсом.
Почему меня там не было — длинная история, такая длинная, что, возможно, это вовсе и не история. Но то, что я сказала тогда в ответ, просто идиотизм с моей стороны. Человек к тебе со всей душой, а ты его мордой об стол.
Я постояла с минуту, взвешивая здравый смысл и желание, осторожность и импульс. Но, несмотря на смятение, я знала, что ответ может быть только один.
— Я бы хотела, но не могу. Моей маме не понравится.
— Так мы на этот раз оставим ее дома. Она сможет поехать с нами в Париж.
Пока я сидела на подоконнике, вспоминая тот разговор, одинокая, в ночной рубашке, с горящими щеками и почему-то счастливая, я увидела вдалеке вертолет и луч прожектора, скользивший из стороны в сторону. Я представила себе пару в вечерних туалетах, которая танцевала и пела на улице внизу, и юбка женщины при поворотах вздувалась и становилась похожей на белую гвоздику.
Затем я представила, как мама будет сопровождать меня и моего не очень юного (лет на пятнадцать старше?) любовника в Париж. И саркастически воскликнула: «Ха!»
Моя мать расставляла специи на полочке по алфавиту, ходила в теннисных туфлях и никогда бы не сунулась с одиннадцатью предметами в экспресс-кассу, где выбивали только за десять. Она — президент садового клуба. И на первый взгляд моя жизнь совсем не похожа на ее — я об этом позаботилась. Но дело в том, что я все же дочь своей матери, а это, как говорится, навсегда.
И все же я постаралась, чтобы Мартин Грейс не ушел из кафе без номера моего телефона. Я наклонилась, отвернула лацкан его пиджака и сунула бумажку во внутренний карман. Затем одарила его взглядом Вероники Лейк и почти почувствовала, как на мой глаз скользнул несуществующий светлый локон.
Глава 2 Клэр
Все началось с полотенец. Десять полных комплектов. Толстые, из египетского хлопка, выкрашенные в сливовый, бледно-розовый и желтый цвет. Мать опустила тяжелые пакеты, набитые этими полотенцами, на пол в комнате Клэр, затем бегом вернулась к машине за другими пакетами.
— Подожди, я тебе сейчас покажу, солнышко. Такие красивые. Самые лучшие.
Клэр прислонилась к притолоке, дерево врезалось ей в плечо. Она слушала болтовню матери, смотрела, как она разбрасывает полотенца по кровати, встряхивает их, и они разворачиваются, как флаги в воздухе, а салфетки падают на пол, как маленькие птицы. Светло-зеленые, алые, густо-синие. Клэр закусила большой палец. Она не грызла его, просто держала во рту.
— Ты когда-нибудь видела такие прекрасные полотенца? Эти цвета пробирают меня до костей. А тебя, Клэри? — Мать Клэр тяжело дышала, почти задыхалась, как будто смотреть на полотенца было так же трудно, как бежать или танцевать.
— У нас же есть полотенца, — сказала Клэр.
Мать подошла к ней и накинула на нее мягкое полотенце. Оно было огромным. Клэр шел уже одиннадцатый год, и она была рослой для своего возраста, но полотенце обернулось вокруг нее дважды. Она почувствовала себя совсем маленькой. Мать мягко взяла лицо дочери в ладони. Клэр заметила, что под макияжем ее лицо раскраснелось.
— Обязательно нужно их постирать, прежде чем пользоваться. Причем стирать нужно каждый комплект в отдельности, чтобы не испортить цвет. Ты понимаешь? — Она говорила тихо и серьезно, и Клэр кивнула. Мать опустила руки и оглянулась на постель, заваленную полотенцами и салфетками.
— Давай пойдем вниз, мама, и что-нибудь поедим, — попросила Клэр.
— Ой, глядя на них, мне хочется плакать, — сказала мать Клэр. Она легла на полотенца и зарыдала.
На следующее утро Клэр сидела в своем пятом классе и составляла списки.
Сироты. Все самые любимые герои Клэр были сиротами, и она написала их имена в конце тетради, пока учительница задавала вопросы по биографии Хелен Келлер, с книгой которой класс только что ознакомился. Вопросы были записаны на листке бумаги рядом с ответами карандашом, листок лежал на парте Клэр.
Мать называла эти рабочие листки с заданиями «бездушными» не только потому, что вопросы были глупыми (мать платила за дорогую школу, и они могли бы придумать что-нибудь поостроумнее, чем рабочие листки), но из-за того, что они были отпечатаны на ксероксе. Она рассказывала Клэр о копировальных машинах ее молодости — тонкая скользкая бумага, алые чернила, которые пачкались, и запах! Аромат, с которым ничто не могло сравниться.
— Первым делом я брала этот рабочий листок и нюхала его, Клэри! Этот запах был запахом школы.
В ответ на это Клэр хотелось рассказать что-нибудь интересное, что-нибудь оригинальное о своей собственной школе, что-то такое, что показало бы матери, что они едины, двое интересных людей, которые замечают запахи и бездушие. В присутствии матери Клэр изо всех сил старалась небрежно выдать забавное замечание, сострить, как делали девочки в книжках, которые она читала. Иногда в школе или дома в присутствии их домработницы Макс, девятнадцатилетней девушки с татуировкой между худыми лопатками — восстающий из пепла Феникс, — Клэр вполне могла острить. Но часто с матерью говорить ей было трудно. Клэр замечала, что она тащится сзади, в то время как голос ее матери рвется вперед, возвращается назад, маневрирует самым удивительным образом.
Анна Ширли, Сара Крю, Мэри Леннокс. Три главных сироты, причем Анна была на мили впереди остальных. Клэр написала их имена карандашом крупными буквами, почти каллиграфическим почерком, учитывая скромные художественные данные. Когда она была еще в младшем классе, она иногда рисовала их рядом с именами: три бледные, большеглазые, почти идеально треугольные фигуры, заканчивающиеся сверху рыжими, черными и желтыми волосами. Кроме Большой тройки, были и другие. Джеймс и Софи. И немного страшноватая Пэппи Длинныйчулок. Клэр верила, что отец Пэппи утонул и вовсе не был королем людоедов. А еще Том, Хак, Дэвид, Пип и Эстелла. Оливер и остальные, бредущие сквозь туман по грязным улицам. Джейн Эйр. И сегодняшние сироты и полусироты из бестселлеров, потерявшие мать, с добрыми экономками.
Клэр группировала сирот по возрасту, полу, цвету волос, по стране, откуда они родом, социальному статусу. Клэр как раз начала составлять список бедных, которые потом стали богатыми, когда услышала, что учительница перестала говорить. В общем, вне зависимости от этих листков, мисс Пакер была милой и, возможно, хорошей учительницей, хотя, как думала Клэр, ей было далеко до Анны Ширли, которая любила каждого ученика, как своего собственного ребенка, и сумела завоевать доверие проказницы Джен Фрингл и рассмотреть в красивом Поле Ирвинге будущего знаменитого поэта. У мисс Пакер был громкий голос, широкая талия, жиденькие волосы, а ее стиль в одежде вызывал недоумение: сандалии с носками, кольца на большом пальце и отсутствие лифчика (о чем говорили шепотом). Но она любила книги и иногда говорила об их героях как о живых людях, со слезами на глазах, сдавленным голосом. Она не была замужем, и Клэр понимала, что она не вышла замуж только из-за того, что безумно любила Чарльза Дарни, и никакой мужчина не мог с ним сравниться. Накануне, по предложению мисс Пакер, Клэр заложила уши ватой, завязала глаза и так провела два часа (после того как она прищемила палец ящиком, разбила подбородок о стол и разлила стакан чаю со льдом). Она сидела в кресле и думала, что быть глухой и слепой означает быть одинокой, привязанной только к своим мыслям и ощущать постоянное беспокойство.
Мисс Пакер остановилась на середине предложения, подняв карандаш, и смотрела в конец классной комнаты. Когда Клэр вместе с другими повернулась, чтобы понять, куда она смотрит, то обнаружила, что в дверях стоит ее мать. В облегающем платье, в туфлях на высоких каблуках, в темных очках, с ярко накрашенными губами. Она была стройной и элегантной, и ее волосы шелковой волной падали на плечи. Она взглянула на Клэр и улыбнулась. Клэр почувствовала, что узел, который затянулся где-то в ее грудной клетке, ослабевает. «Моя мама, — подумала она. — Взгляните на нее — кто станет волноваться по поводу такой женщины?»
Но тут она заметила миссис Джордан, помощницу директора школы, стоящую за спиной матери. Она выглядела как-то странно, и Клэр вспомнила, что родители никогда не появлялись в классных комнатах. Они всегда ждали в приемной, а миссис Джордан посылала кого-нибудь за ребенком. Клэр представила себе, как мама, подобно модели, шагает по коридору, а миссис Джордан бежит за ней и вежливым голосом напоминает о правилах. Узел снова затянулся.
— Простите, что я вас прерываю, мисс Пакер, но мне нужна Клэр, — с улыбкой обратилась к учительнице мать Клэр.
Затем она изящно наклонилась, как танцовщица, отбросив назад свои волосы и протянув руки к Клэр так, как будто она маленький ребенок.
— Ты нужна мне, Клэр, — сказала она.
Пока мисс Пакер и миссис Джордан озадаченно переглядывались поверх головы ее матери, Клэр выбрала, на какой она стороне. Она перевела взгляд с учительницы на помощницу директора, затем улыбнулась матери, стараясь, чтобы эта улыбка коснулась не только губ, но и засветилась в глазах. Затем она засунула книги и тетради в рюкзак и встала.
— Вы перешлете мне домашнее задание по электронной почте, мисс Пакер? — деловито спросила она учительницу, слегка подняв голос в конце предложения, превратив его, таким образом, из утверждения в просьбу.
Она взглянула на свою подругу Джози, чей стол стоял рядом, и заметила знакомое выражение на ее лице: смесь восхищения и дружеской зависти. Джози всегда так смотрела на нее, когда появлялась мать Клэр. Джози как-то сказала, что ее мать представляется ей гибридом между сказочной принцессой и экзотическим животным или птицей, такой, например, как павлин. Джози была девочкой умной, но лишенной особых творческих способностей, так что это ее изречение было самым интересным из всего, что она когда-либо говорила Клэр, и это доказывало, насколько Джози восхищалась ее матерью. Даже когда мама Клэр делала что-то совсем обычное для матери — подавала им тарелку с печеньем, Джози смотрела на нее с таким изумлением, будто она совершала чудо. Хотя появление матери в классе было необычным явлением, Джози явно так не считала, потому что она всегда ждала от нее чего-то странного и необычного. Правила, которым должны были подчиняться другие родители, на нее не распространялись.
Мисс Пакер кивнула Клэр, ее брови все еще были сдвинуты. Клэр круто повернулась, так же ловко, как делали героини ее книг, направилась к двери и сделала то, чего не делала уже много лет, но сейчас ей было безразлично, что думает о ней класс, — она взяла мать за руку.
Клэр старалась шагать в ногу с матерью. Голову она держала высоко, и завязанные в хвост волосы раскачивались. Так они прошли по коридору школы, обшитому дубом, вышли в холл и оттуда через входную дверь на улицу. На парковке мать посмотрела на Клэр и сказала с оттенком раздражения в голосе:
— Не о чем беспокоиться, Клэри. Я твоя мать. Я имею право забрать тебя из школы, не прыгая через обручи.
— Да, мам. Я не беспокоюсь. Я правда не беспокоюсь, — сказала Клэр, слегка подпрыгнув. — Мисс Пакер и миссис Джордан… Они нормальные, вот только немного… консервативные.
Мать сжала руку девочки.
— Иногда, моя дорогая, мама может бросить все дела и повести свою дочь пообедать.
— Я согласна, — почти пропела Клэр и почувствовала, что все хорошо — даже больше чем хорошо. Она произнесла умное слово, «консервативный», причем легко, смеясь, и мама назвала ее «моя дорогая», этими старыми и дорогими ласковыми словами, которые Клэр тысячи раз встречала в книгах, хотя ее саму никто так никогда не называл.
Когда они вошли в ресторан и ее мать еще не сказала все эти немыслимые вещи, Клэр была счастлива. Сначала она была счастлива, потому что решила, что она счастлива, а потом она расслабилась и действительно почувствовала себя счастливой.
В ресторане было прохладно, все официанты — в отглаженных белых рубашках, на столах в маленьких вазочках — тугие букетики пурпурных цветов. Это было такое место, где должно быть шумно и весело, и Клэр подумала, что здесь чудесно. Клэр нравилось, как пузырится в стаканах вода, нравилось меню, напечатанное на одной бледно-желтой карте, маленькие, яркие картинки, висевшие на равных расстояниях на одной из стен, — все это ее очаровывало.
— Если вы скажете нам, какое из этих двух вин вы предпочитаете, вы наш человек, — сказала мать Клэр красивому черноволосому официанту. Она протянула ему лист с перечнем вин и указала на два, ею выбранных, при этом слегка коснувшись его руки изящными пальцами с длинными ногтями. Она говорила низким голосом, и официант улыбнулся. Его передний зуб был с щербинкой, и Клэр заметила, что он очень молод. «Вот так мужчины улыбаются прекрасным женщинам», — подумала она с гордостью, даже этот паренек, почти еще мальчик, не устоял перед чарами ее матери.
Он принес вино, наполнил бокал матери и задержал бутылку над бокалом Клэр. Клэр уже собралась отказаться, но он смотрел не на нее, а на мать, а она, к ее удивлению, кивнула. Клэр смотрела, как темное вино поднимается в бокале, и не знала, что ей делать. Может быть, ей напомнить матери о ее собственной сестре, которая в девятилетнем возрасте после вечеринки проскользнула вниз и выпила остатки из всех бокалов? «Ее нашли на лужайке, она смотрела на луну и смеялась. С того дня она превратилась в безнадежную пьяницу. Безнадежную». Собственные слова ее матери, ее рассказ. Невероятно, чтобы она об этом забыла.
Но мать взяла бокал и посмотрела на Клэр, подняв брови. Бокал был большой, на высокой ножке, Клэр никогда не держала такого в руках, тем более не пила из такого. Она обхватила пальцами ножку и, взглянув на мать, подставила ладонь под донышко и подняла. Мать одобрительно кивнула. Может быть, так и надо, так и положено?
— Важно знать, когда можно нарушить правила, а когда нужно им подчиняться. Давай выпьем за прогул! — Она чокнулась с Клэр, и Клэр сделала глоток, ощутив странный вкус, но она все равно проглотила. На глаза навернулись слезы, и она быстро моргнула. «Господи, пожалуйста, не превращай меня в пьяницу», — взмолилась было она, затем передумала. Наверное, некоторые люди могут стать безнадежными пьяницами, а другие не могут, и ее мама знает об этом, знает, что Клэр из тех, кто не может. Если бы ее мама этого не знала, она никогда не позволила бы Клэр пить вино, ни за что в жизни. Она представила себе, как мать выбивает бокал из ее руки, когда она подносит его ко рту, стекло разбивается, на стене возникает бурое пятно.
Еда оказалась забавной: какие-то невероятные сооружения, лежащие в центре большой тарелки, соус образует сияющие узоры, мясо уложено на овощи, а не рядом. Клэр едва успела разобрать одно из сооружений и попробовать его, как принесли другую тарелку. Слишком много еды — невероятно много, — но это ничего, потому что мать ела с аппетитом, даже с жадностью, и Клэр вспомнила, что в последнее время мама очень мало ела. Она бродила во время обеда по кухне, присаживалась на стол, скрестив ноги, и болтала одной, но сидела так недолго. Ее мама всегда была стройной, но в последнее время Клэр заметила, что она очень похудела: руки стали прозрачными, пальцы похожи на когти, кожа на скулах натянулась. «Она выглядит как модель», — убеждала себя Клэр. И ей было радостно видеть, что мать ест с аппетитом.
— Послушай, Клэр, — неожиданно сказала мать, — на это Рождество мы забудем про все эти американские скучные Святки и поедем в Испанию, в Мадрид. — Она отпила большой глоток вина, затем покачала головой. — Нет, нет, в Барселону! Ты глазам своим не поверишь. Это же сказочная страна! Что ты по этому поводу думаешь?
Клэр ликовала — ее спрашивают, что она думает! Она сказала:
— Я думаю, определенно да.
Хотя она обожала рождественские праздники в Филадельфии. Они всегда были только вдвоем. Родители Клэр были единственными детьми в неполных семьях. Клэр никогда не видела своего отца на Рождество. У них была традиция — вместе ужинать под Новый год, хотя вряд ли это можно назвать традицией, поскольку обычно она не соблюдалась. Отец Клэр часто бывал в отъезде или был слишком занят, но Клэр это мало огорчало.
Так что каждый год Клэр с матерью садились в поезд и отправлялись в город, чтобы полюбоваться праздничной иллюминацией, а затем вместе садились на пол в «Лорд Тейлор» и смотрели световое шоу. Они обе обожали рождественские песнопения, и мама научила Клэр петь «Молчаливую ночь» и «Ангелы-вестники поют!», слов которых почти никто не знал. В канун Рождества они ужинали в деревенской гостинице, где женатая пара, Джуно и Ларс, угощали их рождественской едой — гусем, грушами, каштанами и настоящим пудингом из фиников. Клэр чувствовала себя спокойно и уютно, сидя за столиком со своей матерью в комнате, полной шумных, смеющихся, разодетых незнакомых людей. Над крышей дома нависало деревенское небо, и Рождество медленно приближалось к ним, как легкий снег.
Но мать с таким воодушевлением описывала яркие шпили, украшенные завитками, рисовала их в воздухе руками, планировала вместе посещать уроки каталонского, что Клэр не стала возражать против каникул в Испании. Голос матери звучал несколько выше, чем обычно, и в него вкрадывались лихорадочные нотки, но Клэр решила, что все дело в приливе энергии благодаря сытному обеду.
Мать Клэр внезапно замолчала и взглянула на розовые стены.
— Мой муж приводил меня сюда, — сказала она таким жестким голосом, что девочка похолодела. Родители Клэр развелись, когда ей было два года. Хотя Клэр иногда встречалась с отцом, мать никогда не говорила, почему он ушел, она вообще о нем почти не говорила и, разумеется, никогда не называла его «мой муж». Больше всего Клэр потрясло, как внезапно и резко изменился голос матери, как будто он принадлежал другой женщине.
Когда через секунду подошел официант, глаза матери стали мягче, она обратила на него все свое внимание, и на губах появилась улыбка. К удивлению Клэр, мать взяла руку мужчины двумя руками, повернула ее, взглянула на ладонь, затем слегка отодвинула его манжету, чтобы взглянуть на часы.
— Вижу, у вас есть время, — заметила она прежним голосом. Официант посмотрел на Клэр и улыбнулся матери.
— Принести счет? — спросил он. Его рука все еще лежала в ее ладонях. Она кивнула, разжала пальцы и отпустила руку, как птичку.
Как только официант ушел, мать Клэр встала, аккуратно сложила салфетку, положила ее на стол и нежно взглянула на Клэр.
— Схожу в дамскую комнату, дорогая. Подожди здесь, — сказала она, только теперь слово «дорогая» прозвучало совсем безлично, как будто она вовсе и не с Клэр разговаривала. Внезапно она снова села на свой стул, наклонилась к дочери и прошептала: — Никогда не верь, если кто-нибудь станет тебе говорить, что мужчинам хочется секса больше, чем женщинам. Твой отец в постели был пустым местом, но с настоящим мужчиной секс — великолепная вещь. Великолепная! Прислушивайся к своему телу, Клэр. — Она встала и удалилась.
Клэр как будто ударили. Она тяжело дышала, ее подташнивало. Она прижала руки к груди, обняла себя за плечи, чтобы унять дрожь. Что происходит? Ей хотелось думать, что мать пьяна, но она знала, что это не так. Ее бокал с вином был почти полон. Мама, которую она знала, никогда бы не произнесла этих слов, никогда бы не забрала ее из школы, чтобы повести в ресторан, никогда бы не предложила ей вина и никогда не стала бы прикасаться к официанту. Нужно ли ей кому-нибудь об этом рассказать? Кому? Не попадет ли тогда ее мама в беду?
Клэр знала, как нужно себя вести, когда кто-то, кого ты любишь, умирает. Ты берешь себя в руки, держишься прямо, как принцесса, элегантно принимаешь соболезнования, не плачешь, только потом рыдаешь, роняя обильные, очистительные слезы в подушку. Но ни одна из книг, которые она прочитала, не научила ее, что нужно делать, если твоя мама не умирает, но превращается в человека, которого ты не знаешь и который больше о тебе не заботится.
Глава 3 Корнелия
Если вы не слишком верите в знаки судьбы, то знайте, то у нас с вами много общего. Если вас почти до тошноты раздражают люди, бесконечно рассказывающие вам истории про совершенно незначительные совпадения, которые они считают (после многозначительной паузы) знаками свыше, мы с вами по одну сторону баррикад. И если вы заметили, что такие люди обращают внимание только на те знаки, которые указывают им направление, в каком они и без того собираются двигаться, не обращая внимания на уйму других вполне отчетливых знаков, то тогда, друг мой, мы с вами вместе.
Например, Лука, парень с прилизанными волосами, завсегдатай нашего кафе, который, как-то приехав из Нью-Йорка и дрожа от эмоций, поведал, что встретил там женщину, которую назвал своей «половинкой». После этого он сделал паузу, как будто выдал что-то новое и необыкновенное, а не стандартное определение, которое абсолютно ничего не значило для человека, обладающего хотя бы одной извилиной. А закончил он свой рассказ об этой идиотской истории так: они оба оказались в этот вечер в одежде коричневого цвета. Коричневые рубашки, коричневые брюки, коричневые носки, коричневые туфли. Даже коричневые ремни! И коричневые ремешки у часов! (Именно эти «кожаные детали» произвели на него наибольшее впечатление.) После паузы Лука торжественно заключил:
— Это был знак, что мы предназначены друг для друга.
Самое печальное, что по меньшей мере пять человек уже слышали эту историю, и ни один из них не обозвал его идиотом. Наоборот, они сидели, как бы потеряв дар речи, улыбались и медленно кивали ему. Луку никто не любил, потому что любить его было абсолютно не за что, но некоторые относились к нему с трепетом, потому что он был самым богатым человеком, которого мы знали лично. Сам он занимался тем, что выгуливал собак; его прадедушка обеспечил несколько поколений, изобретя какую-то хитрую штуковину. Но я должна была выступить, поэтому, пробившись сквозь денежный туман, сказала:
— А как насчет того, что она замужем и у нее двое маленьких детей? Этот знак о чем говорит?
Так что вы можете представить себе мое смущение, когда на следующий день после встречи с Мартином я стала собирать свою собственную коллекцию знаков. Рада доложить, что коллекция получилась небольшой. Всего три знака. Но зато третий был очень серьезным.
Первый знак я даже поначалу как знак и не восприняла, пока на следующее утро, то есть примерно через двадцать четыре часа после того, как этот знак проявился, я не вошла с моей подругой Линни в антикварную лавку. Я имею в виду мое упоминание о матери, когда Мартин пригласил меня поехать с ним в Лондон.
Я практически ни с кем не разговариваю о своих родителях. Они замечательные люди. Я их люблю. Не ждите, что я открою вам какой-нибудь мрачный секрет из детства. И надеюсь, что я не из тех отпрысков-неудачников, которые винят родителей за свою неудавшуюся карьеру, или за подаренные дорогие туфли, которые жмут, или за сломанный тостер (туфли у меня, кстати, всегда удобные). Просто с довольно раннего возраста домашняя жизнь казалась мне съемочной площадкой, на которую я забрела случайно. Если вы видели Кэтрин Хепберн в роли китайской революционерки в фильме «Потомство дракона», вы поймете, о чем я говорю. Благие намерения, талантливые актеры, все очень стараются. Но неудачный кастинг.
Так или иначе, но то, что я заговорила с Мартином о вещах, о которых говорю только с самыми близкими людьми, знаменательно. Я посчитала это знаком.
— Я считаю, что это знак, — сказала я Линни.
— Это знак того, что у тебя крыша поехала, — громко произнесла подруга в прохладной тишине магазина. И постучала пальцем по своей голове. На голове Линни был ужасный, чудовищный синтетический шарф, заляпанный водяными лилиями Моне.
— Ш-ш-ш, — прошипела я, заметив, что мистер Фрингер бросил на нас строгий взгляд поверх очков. Его магазин не относился к числу элегантных, таких как на Райн-стрит, и в его витрине не красовался секретер восемнадцатого века, напоминающий балерину на пуантах. Ничего такого. Но хороший магазин, мой любимый. Хлам, но симпатичный, соседствовал с потрясающими вещицами — если не обращать внимания на оборванный подол, отсутствие ручки, жирное пятно, порванную обложку. Все эти предметы объединяло одно: в какой-то период жизни мистер Фрингер их любил.
Мистер Фрингер был суровым, но он нравился мне по двум причинам. Первое — он был абсолютно без ума от своей жены, развесил ее фотографии в позолоченных рамках над письменным столом и умудрялся упомянуть о ее красоте в любом разговоре. Она действительно была красива — тип Ингрид Бергман, широкоплечая и царственная. Самое удивительное в любви мистера Фрингера к жене заключалось в том, что она не была мертва, как можно было предположить. Я даже пару раз ее видела. Меня трогало, что мужчина способен сохранить любовь и верность жене, к которой возвращался каждый вечер после работы.
Вторая причина, почему мне нравился мистер Фрингер, заключалась в том, что он был человеком разумным, с ним можно было торговаться. Однажды я уговорила его продать мне за двести долларов большую люстру времен Депрессии, за которую он просил пятьсот. Люстра была в плохом состоянии, но ее можно было спасти, во всяком случае, я так решила, хотя абсолютно не разбиралась в антиквариате. И я оказалась права. Я не хвастаюсь, но есть вещи, относительно которых интуиция меня не подводит. Я отполировала бронзу, разыскала подходящие хрустальные подвески и уговорила квартирного хозяина повесить ее на мой высокий потолок. И теперь вечерами я любуюсь, как она сверкает, будто моя собственная галактика. Так что если мистер Фрингер хотел, чтобы в его драгоценном магазине было тихо и торжественно, я рада была подчиниться.
— Ты правильно поступила, что отказалась. Может, он маньяк-убийца, — театральным шепотом произнесла Линни.
Я взяла в руки черное, асимметричное, перевернутое вверх ногами торнадо из фетра.
— Может. Только он не маньяк. Ты же не знаешь, ты не видела его глаз. Они карие, — прошептала я.
— Чего же ты мне раньше не сказала? — фыркнула Линни. — Ты дала ему номер своего телефона? И что это такое, черт побери?
— Шляпа. Дала. Написала прекрасным почерком. — Я положила шляпу на место. Очень оригинально, но, я не Грета Гарбо. Кроме того, некоторые вещи не в состоянии совершить прыжок из прошлого в настоящее, и эта шляпа в число прыгунов явно не входила.
Молодой человек в одеянии, которое можно было только назвать блузоном — нечто разрисованное, с широкими рукавами на резинке у запястья, — вошел в магазин с таким видом, будто прогуливался. Он тащил битком набитый походный мешок, который он, наверное, называл рюкзаком. Я увидела, как загорелись глаза у мистера Фрингера. Он не отрываясь следил за рюкзаком, который находился в опасной близости от хрупких предметов. Мистер Фрингер откинул голову и расправил плечи — словно готовая к броску кобра.
Взгляд молодого человека остановился на Линни. Он явно ее узнал, лицо его потемнело, и он приблизился, вздувая рукава.
— Ваша поэзия — только для птичек, — заявил он, подняв брови. Несколько лет назад Линни отложила свое поступление в юридический колледж и работала в книжном магазине.
— Чирик-чирик, — громко прочирикала Линни, выдержав паузу нужной длины. Линни у нас специалист по паузам. Парень удивленно уставился на нее, затем выскочил из магазина. Мистер Фрингер одобрительно улыбнулся Линни. Она улыбнулась в ответ, скромно пожала плечиками, и затем с улыбкой повернулась ко мне.
— Его рубашка, — только и сказала она.
Я даже глаза закрыла, чтобы не вспоминать.
— Я от нее в восторге, — заявила подруга.
Я открыла глаза и внимательно посмотрела на Линни: шарф, полосатый рабочий комбинезон и вышитые китайские тапочки. Меня окатила волна любви. Линни в самом деле единственный человек, который носит то, что ей заблагорассудится. Если она когда-нибудь поступит в юридический колледж, преподаватели, возможно, отправят ее домой переодеться. А может, и нет. Вполне вероятно, что одним прекрасным утром она скатится с постели, потянется, под настроение сдаст вступительные экзамены в юридическую школу и получит оценки, которые заставят всех пускать слюни, как бассет.
— Мне нравится вот это, — сказала я. Божественное, идеальное, сшитое лет семьдесят пять назад, но специально для меня. Черное, без рукавов, узкая заниженная талия, немного черных бус, возможно, настоящий янтарь. Легкое, как перышко, и, слава Богу, никаких выцветших пятен под мышками. Самое подходящее платье для первого свидания. Умереть можно! Платье для первого свидания, ради которого Луиза Брукс бы повесилась. Я знала, что оно мне подойдет.
— Годится только на китайскую собачонку, — заметила Линни.
Это был второй знак.
На удивление мало людей знают, что до того, как стать чудовищем с бровями, похожими на взъерошенных ворон, Джоан Кроуфорд была милой и забавной сильфидой. В конце фильма «Пожертвовав всеми другими», фильма, который вас очарует, но не повлияет решительным образом на вашу жизнь, Джоан выясняет, что именно старый приятель Кларк Гейбл, а не любовь всей ее жизни Роберт Монтгомери, как она полагала, в день ее предполагаемой свадьбы наполнил комнату любимыми цветами героини — подсолнухами. Когда друзья рассказали ей об этом, прелестное лицо Джоан просияло и пелена упала с глаз. Цветы были знаком! Кларк был ее мужчиной! Ко всему прочему, несмотря на довольно милую внешность, сравнивать Роберта Монтгомери с Кларком Гейблом было просто смешно, не говоря уже о том, что Роберт надрался и женился на девице с неприятным искусственным голосом за день до того, как он должен был жениться на Джоан. Именно цветы выгнали Джоан из дома, когда Кларк Гейбл должен был на корабле навсегда покинуть ее.
Но после того как Линни напомнила мне, что Мартин Грейс вошел в мою жизнь вовсе не с экрана кино, я впихнула подругу в книжный магазин, а сама заглянула в кафе «Дора», хотя у меня был выходной.
И они там были, две дюжины, во всей красе. И послал их Он. Целое облако белых великолепных пионов, надежда и обещание. Я кивнула им, и двадцать четыре снежные головки кивнули мне в ответ.
Знак номер три.
Глава 4 Клэр
Клэр сидела на своей постели с блокнотом и сортировала героинь. Они распадались на две категории: девочки, которые достигали всего лаской, и девочки, которые брали препятствия отвагой. В «Маленьких женщинах» встречались оба типа. Бет Марч была мягкой и робкой, так что даже страшный сосед мистер Лоуренс подарил ей пианино. А когда Джо Марч, посмотрев ему прямо в глаза, заявила, что он совсем не такой красивый, как ее дедушка, он засмеялся и заметил, что у нее есть характер.
Клэр было важно выяснить, что нужно делать, чтобы понравиться мужчине, ведь она решила позвонить отцу. В ее отце не было ничего путающего. Он не был безобразен или лохмат, он не кричал, и она даже не могла припомнить, чтобы он когда-нибудь на нее злился. Нет, Клэр не боялась его, но при мысли о звонке ее сердце колотилось. Она никогда не звонила ему. Когда она сказала об этом Макс, их домработнице, та начала пыхтеть, сердиться и вытирать стол рывками, как будто давала ему пощечины.
— Милостивый Боже, тебе одиннадцать лет, и ты никогда не звонила своему собственному отцу! Этот урод наверняка здорово постарался, чтобы ты чувствовала себя с ним неловко. — Клэр улыбнулась спине Макс, на несколько секунд вырванная из тумана своего беспокойства бурной тирадой. Клэр считала, что у Макс самый неожиданный голос, какой только может иметь человек. Хотя Макс была с виду вполне крутой современной девицей — тощая брюнетка, с пирсингом, пряди в середине челки коротко подстрижены, цветные линзы, имитирующие кошачьи глаза, — но ее голос напоминал мультяшное чириканье. Ее эпитеты вылетали как серебряные пузырьки в аквариуме с рыбками.
— Ты только подумай, он считает, что достаточно выписать чек, и все его отцовские обязанности выполнены. Забудь о встречах. Забудь об участии в жизни ребенка. Настоящий обормот, думаю, ты считаешь так же. — Она замолчала и взглянула на Клэр.
— Точно. — Клэр пожала плечами. Она не звонила отцу раньше не потому, что он ей не велел. Ей это просто не приходило в голову. Она задумалась: может быть, ей давно следовало позвонить ему и рассказать о новой подруге или своей роли в школьной пьесе? Может быть, это она обормотка? Клэр решила было спросить об этом Макс, но потом передумала.
Наблюдая за Макс, Клэр заметила, что она вытирает пыль так же, как делает все, — уверенно, с расправленными плечами, аккуратно. Она представила себе, как играют мускулы Макс под татуировкой. А может быть, вообще выбросить из головы идею звонить отцу? И вместо этого все рассказать Макс? Может быть, она сможет ей помочь?
Но все же Клэр решила ничего не рассказывать Макс. Хотя сама Клэр считала Макс взрослой, она знала, что не все так думают, считая ее еще ребенком. А детям трудно заставить взрослых выслушать тебя, особенно если у тебя татуировки и смешные очки. Кроме того, если кто-нибудь и выслушает Макс, ей, чтобы получить помощь, придется рассказать, что в доме все изменилось, что мать Клэр теперь уже не заботится о дочке и уже не такая хорошая мама, а эта мысль пугала Клэр.
Клэр попыталась представить себе жизнь с отцом — и не смогла. Она была уверена, что и отец не сможет это себе представить. Если Клэр и знала что-то об отце, так это то, что он никогда не позволит разлучить Клэр с матерью. Если отец решит помочь, он найдет решение, при котором мать и дочь останутся вместе.
— Как бы мне хотелось добраться до этой задницы. — Голос Макс звенел как колокольчик. И Клэр подумала, что, может быть, Макс именно то, чего ее отцу не хватает. Как Мария, она ворвется в дом фон Траппа со своим мешком и смешной стрижкой, разбудит всех, сошьет одежду из занавесок и заставит капитана фон Траппа полюбить музыку, своих детей и ее. Хотя Клэр в этом сомневалась. Она вспомнила, как скривились губы капитана, когда его маленькая дочь Гретель забыла свое имя на перекличке. С самого начала у вас возникало чувство, что под внешне суровым обликом у капитана фон Траппа мягкое сердце, а с отцом у Клэр никогда такого чувства не возникало, хотя он все время улыбался и называл ее ласточкой. К тому же капитан фон Трапп был вдовцом и меланхоликом, а отец Клэр не был ни тем ни другим.
— Он не то чтобы плохой, — начала Клэр, — он просто…
— Что просто? — Макс перестала полировать стол и повернулась к ней. Сняв рыбацкий свитер, она устроилась на полу рядом с Клэр, вытянув тонкие, как палки, ноги в джинсах. На Макс обычно было надето несколько слоев одежды: кофты с капюшонами, нижнее белье, байковые рубашки, топы детского размера и иногда большое смешное пончо пурпурно-зеленого цвета поверх всего остального. Один раз она оставила это пончо в доме Клэр, и Клэр с удовольствием расхаживала в нем по заднему двору, наслаждаясь ощущением уюта и безопасности, которое оно создавало. В этом пончо она казалась себе бабочкой. Сейчас на Макс была простая футболка с надписью «Домохозяйка», сделанной розовыми готическими буквами.
— Как он на меня смотрит! Так смотрит мама, когда мы идем на обед к Шрюсбери, — она улыбается, разговаривает, смеется, но можно сразу понять, что ей скучно. Вот так и папа на меня смотрит, как будто не может дождаться, когда от меня отвяжется, — высказалась Клэр. Она радовалась, что поделилась с Макс и что сумела подобрать правильные слова. Она никогда раньше об этом не говорила.
Макс обняла Клэр за плечи.
— Он больше теряет, лапочка.
Когда Клэр было девять лет, ее лучшая подруга Молли переехала в Таос, в Нью-Мексико. Клэр болезненно переживала этот эпизод своей жизни. Самым трудным было расстаться с семьей Молли и их большим старым домом в стиле Тюдор.
У матери Клэр был бизнес: она устраивала вечеринки. Она, по сути, владела большей его частью, хотя постепенно передавала текущую работу своей партнерше Сисси Шиган и медленно превращалась в своего рода номинальную фигуру. Хотя раньше, когда она всерьез занималась делом, мать Клэр брала на себя планирование, организацию заказов — дневную работу, как она это называла, — однако на самом мероприятии присутствовала только Сисси. Клэр все время недоумевала, как мать может так поступать: тщательно выбирать свечи, еду, тарелки, цветы, музыку, иногда даже устраивать тематические вечеринки, вникать в такие детали, как освещение, решать, вешать ли гобелены на зеленые стены, чтобы зал не выглядел так, будто после желтухи, а потом даже не съездить и не взглянуть, что получилось. Когда Клэр ее об этом спросила, мать ответила:
— Я все вижу, Клэр. Все здесь. — Она коснулась головы, улыбнулась и взяла Клэр за подбородок. — И вообще я лучше побуду с тобой, — заключила она, чтобы Клэр поняла, почему она делает только дневную работу.
Иногда, особенно во время сезона отпусков, то или иное событие оказывалось для заказчиков настолько важным, что матери Клэр приходилось присутствовать на празднестве самой. Тогда она надевала длинное платье из крепа или джерси, чаще всего черное, ничего яркого или блестящего, за исключением, возможно, серег в форме маленьких люстр, если уж событие было слишком значительным. Мать как-то сказала Клэр, что суть в том, чтобы быть невидимой, хотя Клэр прекрасно знала, что ее мама в любом случае будет сиять, как звезда. Тогда она завозила Клэр в дом Молли, частенько даже выходила из машины, чтобы поговорить с Лив, матерью Молли. Или с ее отцом, Джимом. Иногда она шутливо крутилась в своем платье или делала реверанс. Бывало, мать забирала Клэр на следующее утро. Она обычно приезжала, когда они еще завтракали. Она тоже присаживалась на минутку, выпивала кофе вместе с Лив и рассказывала коротенькие забавные истории о вечеринке: как рассыпались профитроли, пьяный гость выступил с тостом, обильно сдобренным матом, а хозяйка мучилась в тугом корсете. Клэр очень дорожила этими моментами: вкусом булочки с корицей, цветами на столе, веселым смехом матери. Две девочки, две женщины — счастливые друзья.
Когда семья Молли переехала, Клэр уже не с кем было оставлять, поэтому ее мать наняла для Сисси помощника Сета, и они стали делать всю вечернюю работу. Правда, матери Клэр пришлось присутствовать на еще одном большом торжестве, которое проходило на горном курорте, — свадьбе детей из двух враждующих семей.
— Мне обязательно следует там быть. Нужно проследить, чтобы они не налили яда в мартини друг другу. Для бизнеса плохо, когда гости покидают вечеринку на носилках. — Голос матери смягчился. — Но это в последний раз, Клэри.
Итак, после шести лет коротких дневных визитов Клэр оказалась в квартире отца в Сити, где должна была провести все выходные. Отец заполнил каждую минуту этих дней походами в Музей естественной истории и Художественный музей, пикником в парке, где они ели не бутерброды, а взятую в ресторане еду из забавных маленьких коробочек. Они ходили по магазинам, и отец купил ей кожаные сапоги на высоком каблуке, которые мать сочла неподходящими для восьмилетней девочки и ни разу не позволила надеть, красное шерстяное двустороннее пальто с вышитыми на обшлагах цветочками и шляпу в тон. В первый вечер они ужинали в ресторане в гостинице «Времена года», после чего Клэр заснула в обнимку с новым плюшевым медведем величиной с трехлетнего ребенка.
Но во вторую ночь она проснулась около полуночи, неожиданно испугавшись незнакомой комнаты, куда через высокие окна проникало слишком много света. Она подошла к одному из окон и посмотрела вниз на спешащие куда-то машины и людей на тротуаре. Ей стало одиноко при виде всей этой буйной деятельности внизу и звуков, которые она не могла слышать. Она задумалась, почему ей так хочется домой, несмотря на то что отец был с ней очень мил. Может быть, дело в том, что он забывал имена людей, о которых она ему рассказывала, или дважды задавал один и тот же вопрос? Но больше всего ее печалило, даже возникало желание исчезнуть во время бесед с отцом, когда взгляд его скользил по ней, потом уходил в сторону. Его внимание было таким же рассеянным, как у ребенка, находящегося в комнате с телевизором, и Клэр видела, как бегают его глаза, как будто в любой момент может появиться другая дочь, получше.
Клэр захотелось пить, и она тихо проскользнула мимо спальни отца в кухню. Ей пришлось поискать стакан, и когда она наконец налила воды, из гостиной до нее донесся странный, какой-то животный звук. Она едва не кинулась назад, в гостевую спальню, но вспомнила о Мэри Ленокс из «Тайного сада»: та услышала чей-то плач в английском особняке, куда ее отправили после того, как родители умерли от холеры, и смело пошла по страшному коридору, разыскивая источник звука.
Клэр затаила дыхание и незаметно прошла в гостиную, осторожно держа перед собой стакан с водой, как будто это свеча, освещающая ей путь. Она чуть не уронила стакан при виде незнакомой женщины, полулежащей на диване, — волосы сбились в сторону, одна рука вяло висела, из открытого рта вырывался храп. Клэр резко вскрикнула и кинулась в спальню отца, расплескивая воду, но в комнате никого не было. Плача, она позвонила матери на мобильный, и та сразу же уехала с курорта в горах. Клэр собрала свои вещи, села в лифт и стала ждать мать. Сердце ее колотилось. Мать приехала только через два часа, и только тогда Клэр смогла спрятать горящее лицо в шерсти ее пальто. Отец так и не вернулся, а женщина, которой он велел присматривать за дочерью, так и не заметила исчезновения девочки.
После этого случая Клэр стала по-другому относиться к отцу. Это была не злость, а настороженность, но для теплых чувств места не осталось.
«Я должна быть смелой», — подумала Клэр. Она сидела и смотрела на телефон. Вдали слышалось завывание пылесоса, смешанное с несколько фальшивым сопрано Макс: «Ты ушла, ушла навек! Как же жаль, Климентина!» В исполнении Макс песня звучала весело.
Клэр еще немного послушала пение Макс, затем сбросила книги с кровати и решила: смелая она или нет, но все же лучше позвонить, пока Макс в доме.
Кроме того, мама может вскоре вернуться домой с пакетами, набитыми дорогой едой, которую она покупает в разных магазинах и специальных лавочках. В последнюю неделю мать охватила лихорадочная страсть к готовке. Она накупила кучу книг с рецептами блюд, журналы «Продукты и вина» и «Гурман», а также кухонные принадлежности, очень дорогие и крайне специфичные. Например, огромную кастрюлю для паэльи с собственной газовой горелкой.
Клэр наблюдала, как мать разбирает пакеты. Осторожно, как бесценный хрупкий подарок, держит в тонких руках продукты: сморчки, шафран, дуврскую камбалу, белое трюфельное масло, маленькие пурпурные картофелины, длинный стебель брюссельской капусты, похожий на винтовую лестницу. Затем она начинала с сумасшедшим энтузиазмом готовить, иногда выбрасывая наполовину готовое блюдо в помойное ведро и начиная все сначала, а иногда вынимая из духовки золотистое ароматное суфле или булки и расставляя все это перед Клэр. Иногда Клэр просыпалась среди ночи и слышала, как ее мать что-то режет. Клэр ждала, когда она ляжет спать, затем на цыпочках спускалась вниз и выключала везде свет, а пару раз даже конфорки на плите.
Клэр набрала номер телефона в офисе отца и, когда секретарша ответила, решительно сказала:
— Это Клэр. Пожалуйста, позовите моего папу. Мне нужно немедленно с ним поговорить.
После паузы секретарша спросила:
— Как ты поживаешь, Клара? — Если судить по голосу, она была молодой, напористость Клэр ее не смутила и тон у нее был сочувствующий. Хотя она и неправильно произнесла ее имя, секретарша показалась ей милой. Что слегка сбило Клэр с толку. Легче проявлять отвагу, если требуется преодолеть сопротивление.
— Хорошо, — сказала Клэр невольно более мягким тоном.
— Твоего отца нет в офисе, но я могу попросить его тебе перезвонить. Годится?
Клэр расстроилась. Нет, она не уверена, что он станет перезванивать, но если даже он и позвонит, возможно, будет слишком поздно. Мама уже придет домой. Может даже сама снять трубку.
— Нет, — заявила Клэр, невольно повышая голос, — мне нужно поговорить с ним немедленно. Пожалуйста.
После паузы женщина сказала:
— Послушай, милая, я только что говорила с ним по телефону, так что почти уверена, что успею захватить его. Он перезвонит тебе через несколько минут. Ну как?
— Нормально, — тихо сказала Клэр. — Спасибо.
Она положила трубку и ждала, как ей показалось, очень долго, положив одну руку на телефон. Когда он зазвонил, она подпрыгнула и отдернула руку, как будто телефон внезапно загорелся. Затем ответила:
— Алло.
— Ласточка? — услышала она голос отца. — Как твои дела?
Вот так просто — «как твои дела», как будто он звонит ей каждый день. Клэр даже подумала, нет ли кого-нибудь с ним в одной комнате, кто может слышать.
— Мне нужно с тобой поговорить.
— У меня всего пять минут, что печально, но эти пять минут я полностью в твоем распоряжении.
Клэр взяла себя в руки.
— Это важно. Может занять больше пяти минут. Это о маме.
Клэр ждала, что он что-то скажет, о чем-то спросит, но не дождалась.
— Она заболела, я так думаю. Хотя заболела — не совсем правильно… — Клэр запнулась, — она меняется. Она ведет себя совсем по-другому. И это продолжается уже довольно долго.
— Да не о чем волноваться, Клэр, — сказал он. — Люди меняются. Каждый раз, когда я тебя вижу, ты другая. Например, когда ты в последний раз здесь была, ты отпила только пару глотков сливок, а помнишь, как ты их раньше любила?
Игривость в его тоне вызвала в ней приступ ненависти.
— Нет. Нет. Тут совсем другое. Это не обычные перемены. Послушай же меня!
— Я слушаю, — устало произнес он.
— Она все время готовит, иногда даже ночью.
— Ну, не вижу в этом ничего страшного. Продолжай, — сказал ее отец.
— И покупает странные вещи. Большие кастрюли и кулинарные книги.
— Ну, она всегда легко тратила деньги, — сухо заметил он.
— Да нет, ты не понимаешь. Она купила эти полотенца — всех цветов… — Даже самой Клэр это показалось несерьезным. Она услышала, как отец прикрыл трубку ладонью и заговорил с кем-то. Она запаниковала, понимая, что не может до него достучаться.
— И она забрала меня из школы, чтобы пообедать. И налила мне вина! — Ей не хотелось, чтобы в ее голосе слышалось отчаяние. Но она действительно была в отчаянии.
— Ну, полагаю, это мудро. Французские дети моложе тебя пьют вино, Клэр. Тебе понравилось?
— Мне понравилось? Отвратительно. И она флиртовала с официантом, совсем молодым, держала его руку. И она мне говорила вещи, которые не должна была говорить. Которые она раньше никогда бы не сказала. Вещи о… — Клэр уже плакала.
— Успокойся, ласточка. О чем?
Клэр закрыла глаза.
— О сексе.
«Ну вот, я сказала, — подумала она. — Теперь я предательница». Поверить невозможно, но отец рассмеялся.
— Послушай, Клэр, твоя мама взрослая женщина, одинокая женщина и, если я правильно помню, очень красивая женщина. Если ей вздумалось пофлиртовать с официантом или с кем-нибудь еще, это ее личное дело. Возможно, ты чувствовала себя неловко, но это вполне естественно. И тебе ведь уже почти одиннадцать лет. Я даже удивлялся, почему она до сих пор не поговорила с тобой на эту тему.
Клэр не обратила на его слова внимания.
— Я только думаю, что это все летучая мышь виновата.
— Летучая мышь?
— Как-то прошлым летом мы проснулись, а в доме летает летучая мышь. Мама рассказала об этом доктору Аду-бе, и он сказал, что на всякий случай нам следует сделать прививки от бешенства. Но не в живот. Мама считала, что не может быть, чтобы человека укусила летучая мышь, а он бы этого не заметил, но она все равно велела сделать мне уколы. Сама же не делала. И теперь она заболела.
— Да нет у твоей мамы бешенства, Клэр. — Он говорил уже голосом отца, демонстрирующего терпение. На мгновение, несмотря на все усилия, отчаяние победило гордость. И она заговорила более жалобно, чем ей бы хотелось.
— Папа, то, что происходит, пугает меня. Я не могу спать.
— Абсолютно нечего бояться. Уж поверь мне. А теперь мне очень жаль, но я должен идти.
«Он собирается повесить трубку, — подумала Клэр. — Держись, держись, держись».
— Ничего тебе не жаль. Но ты мой отец, ты должен помочь. — Последовала пауза.
— Говорю тебе как твой отец, что все в порядке, Клэр. Я тебе скоро позвоню. — И он повесил трубку.
Клэр посмотрела на телефонную трубку в своей руке, затем сунула ее под подушку, чтобы не видеть. Сползла на пол, подтянула коленки к груди и крепко обняла их.
«Глупо чувствовать себя еще более одинокой после этого разговора», — подумала она. Она ничего не потеряла, поскольку терять вообще было нечего. Тем не менее она все равно чувствовала себя очень одинокой.
Глава 5 Корнелия
Меньше чем через двадцать четыре часа после того, как я получила цветы, он позвонил. И не просто позвонил, учтите, а позвонил из Лондона. Услышав его голос, я почувствовала запах ячменной лепешки и творога рядом с ним на столе и увидела красные двухэтажные автобусы на улице.
— Привет, — сказала я.
— Ты ешь? — спросил он.
— Иногда, — ответила я.
— Я имел в виду, что ты ешь?
— Ну, разное, — ответила я. Прижала два пальца к запястью. Пульс сумасшедший. Голос спокойный.
— Вегетарианка?
— Всеядная.
— Ты ешь буквально все?
— Никаких языков. И лакричных конфет.
Он рассмеялся чистым, теплым, золотистым смехом, заставив меня почувствовать себя чистой, теплой и золотистой.
На мне было платье, короткое легкое темно-красное шерстяное пальто с узкими обшлагами и мои любимые черные сапоги до колена. Единственное преимущество карликового роста — это то, что и ступни тоже маленького размера, что позволяет разгуляться на обувной распродаже. (Не пугайтесь, я не собираюсь нагружать вас описанием всех моих туалетов, хотя прекрасно помню, что ребенком мне именно это нравилось в книгах Нэнси Дрю. «Нэнси в прозрачной голубой кофточке открыла дверь», «Нэнси накинула мягкий желтый кардиган на худенькие плечи и скользнула в кабриолет», «Нэнси сняла блузку, юбку и туфли и надела бледно-зеленое платье и жемчужное ожерелье». Иногда важно, что на тебе надето.)
Будучи истинной дочерью своей матери, я не стала прислушиваться к внутреннему голосу, орущему что было сил: «Доверься этому мужчине полностью!» — и когда Мартин спросил, куда ему заехать за мной, предложила встретиться в ресторане. Через пять дней я вошла в ресторан, где он меня ждал. Не стану распространяться насчет его внешности, скажу только, что он был великолепен, как бывают великолепны вырезанные вручную деревянные фигуры: такие ровные, гладкие, изогнутые, сияющие и настолько совершенные, что только через несколько секунд вас как молнией озаряет: «Господи, вот же стул!» Вы садитесь и хотите остаться там навсегда.
Ресторан был маленький, напоминающий шкатулку для драгоценностей: кабинки и стулья обтянуты серебристо-серым бархатом, электрический камин в стене, как картина в рамке. Еда — чудесна. Не сомневаюсь, что приготовлена она была из свежих продуктов, хорошо прожаренная сверху и нежная, тающая внутри, простая, но оригинальная. Я смутно помню, что меня удивил вкус фиников и что я подносила ложку чего-то сливочного, по цвету напоминающего закат, к губам. Но мой разум, похищенный Мартином, плохо запомнил эту, возможно, лучшую в моей жизни трапезу.
Мы говорили, говорили, говорили. Может быть, любовь входит в глаза, но женщины любят ушами, во всяком случае, об этом говорит мой опыт. Пока мы общались, в моей голове вспыхивали звездочки; к концу ужина я была настоящим планетарием.
Он сказал, что ему нравится мое имя, что есть несколько женских имен, в сравнении с которыми все остальные имена — сладкая вата, и мое имя среди них.
— А какие еще? — поинтересовалась я.
— Элеонора, Мерседес, Августа. — Он без запинки назвал еще несколько имен, как будто читал стихотворение, и тогда я рассказала ему о девушке, с которой я жила вместе в комнате, когда училась в колледже, девушке из Саванны с безупречными лодыжками и древним аметистом величиной с грецкий орех, который она носила на цепочке на шее. Она говорила на безукоризненном французском и своей милой улыбкой, показав длинные кошачьи зубки, могла уложить поклонников-студентов, как карточный домик. Если бы она была не такой красивой, а ее семейные деньги не такими древними, я уверена, что она каждый раз задирала бы свой вздернутый носик в моем присутствии. Но поскольку ее собственное социальное положение было неоспоримым, она могла позволить себе любить того, кто ей нравился. А я ей нравилась. Я это знала, потому что она говорила другим своим мелодичным, слегка хрипловатым голосом (наверное, приходилось много кричать, играя на поле в лакросс), свойственным всем будущим президентам компаний: «Корнелия — чудесная девушка!» Мне она тоже нравилась, потому что она была милой, а также потому, что от нее исходил золотистый свет, который падал на все вокруг, включая ее соседку по комнате величиной с муравья.
Но через пару недель она решила, что мое имя слишком вычурное, и стала придумывать производное имя от моего.
— Ну, совершенно очевидно, что… — сказал Мартин, поморщившись.
— Не смей говорить. Даже не смей думать, — велела я ему. — Или все же думаешь?
Мартин отрицательно покачал головой и перекрестился. Я сообщила ему, что она в конечном итоге решила называть меня «К.К.», хотя мое второе имя «Роуз» с буквы «К» не начинается, а фамилия и вовсе Браун, то есть тоже не начинается с «К». И два семестра я была «К.К. Браун».
— А как звали твою соседку?
— Селкирк Далримпл, — сказала я.
Он засмеялся своим мягким смехом, и я почувствовала себя ребенком на вечеринке, который разорвал пиньяту. Победительницей с сокровищами.
Он рассказал мне о своем первом соседе по комнате в колледже, парне, который обожал девушек в беретах и соблазнял их по методике: в разговоре бросал небрежно, как бы между прочим, что он читал «В поисках утраченного времени» Пруста, причем все семь томов. И это всегда срабатывало. Когда я спросила Мартина, действительно ли его сосед по комнате прочел все семь томов Пруста, он сказал, что в этом-то и заключалась вся прелесть. Те люди, которые больше всего ему завидовали и, соответственно, сомневались в том, что он действительно все прочел, были одновременно и теми, кто бы скорее умер, чем признался, что сам Пруста не читал или по крайней мере не ушел дальше первых страниц и, соответственно, не мог уличить его.
Вот такие были у нас разговоры: мы веселились, дарили друг другу забавные истории, немного их приукрашивая, и принимали их с удовольствием. Мы не открывали своих душевных тайн и не позволяли нашим душам плясать голышом в ресторане, но эти наши маленькие истории были беглыми взглядами внутрь, вглубь, вроде цветных открыток из миров Мартина и Корнелии. Хорошее начало.
Потом Мартин проводил меня до дверей дома, где находилась моя квартира. Под фонарем он посмотрел на меня и провел рукой по моим волосам, задержав ладонь на несколько секунд на моей шее.
— Она тебе идет, эта шапочка из волос, — сказал он.
— Взгляни на себя, — улыбнулась я. — Эти ресницы. Похожи на миниатюрные щетки. — Он засмеялся, взял мою руку и поцеловал прямо в середину ладони.
На следующее утро.
Линни: Дай-ка я догадаюсь: ты проследила, как он уходил, потом поднялась по лестнице, перепрыгивая через ступеньку и напевая «Ты всегда умеешь меня позабавить».
Корнелия: Ошиблась, ошиблась, ошиблась.
Линни: Ну, что-нибудь другое из Синатры.
Корнелия: Изверг. Изверг рода человеческого.
Линни (самодовольно напевая): «Не будь плохой, детка. Иди к маме, иди к маме ско-о-о-рей».
Во время второго свидания мы ели руками в эфиопском ресторане, отделанном ало-золотистыми драпировками; открыв рты дивились неземной, изысканной, длинношеей красоте всего обслуживающего персонала — от официанток до гардеробщика с их миндалевидными глазами. Затем мы целый час гуляли, причем я держала его под руку и очень жалела, что на мне нет красивых перчаток до запястья с перламутровыми пуговицами. Затем в фойе моего дома мы пять минут целовались так нежно, так трогательно и деликатно, что потом, осторожно поднимаясь по лестнице, я стараясь сохранить этот момент, будто шар, наполненный бабочками.
На следующее утро.
Линни: Знаю, эфиопы просто потрясающие. Поверишь ли, Питер Берд, фотограф, заработал отменную репутацию, когда разыскал Иман. В их стране разыскать красотку нелегко! Тут нужен точный глаз.
Корнелия: Мне кажется, Иман на самом деле из Сомали.
Линни: Зато сексапильная.
Корнелия: Мило. Очень мило. Ты большой знаток.
Разумеется, я могла рассказать Линни о перчатках до запястья и шаре с бабочками, но это было бы равносильно тому, что воткнуть себе в ухо вилку для канапе.
На третьем свидании мы отправились смотреть пьесу Тома Стоппарда, которая привела меня в полный восторг. По дороге из театра я размышляла о страстях человеческих, о сочувствии и безжалостности, о том, как я сидела в театре и дрожала, сознавая, что происходящее на сцене делает меня другой, делает меня лучше. Мартин заметил, что он чувствовал то же самое.
— Вот только когда ты смотрела на сцену, я смотрел на тебя.
Удивительно, верно? Разве может быть что-то еще удивительнее? Оказалось, может.
— Я люблю фильмы, а пьесы обычно вызывают у меня смятение, — призналась я.
На ступеньках моего дома мы снова целовались — почти двадцать минут.
На следующий день.
Линни: Значит, у тебя и твоего нового друга крыша поехала в одном и том же направлении.
Корнелия: Катись сама в этом же направлении.
Во время нашего шестого свидания, за ужином во вьетнамском ресторане, я рассказала, как изображала на празднике Чарли Чаплина. Я была практически его копией: такой же узенький пиджачок — не так-то легко было найти на такую мелкую фигуру, как у меня, большие ботинки, большие глаза, тросточка… Все, кроме, пожалуй, трех человек решили, что я изображаю Гитлера, но я-то знала, кого я изображаю. Потом я призналась в своей самой плохой черте.
— Я трусиха. Основательная трусиха, излишне осторожная, полностью лишена авантюризма. Всего боюсь.
— Ты не трусиха, Корнелия, — заявил Мартин.
— На старшем курсе я отказалась от поездки в Испанию всего за три дня до моего предполагаемого отъезда, хотя мне до смерти хотелось попасть туда. Я не купаюсь в океане, потому что на меня может напасть большая белая акула. У меня никогда не было собаки, потому что эти уроды умеют кусаться. Я училась в колледже в своем родном городе. Том самом, где на медицинском факультете преподавал мой отец, и я никогда не была в Нью-Йорке. К тому же — отказалась поехать с тобой в Лондон.
— В том, чтобы бояться, нет ничего плохого. В некотором отношении бояться даже полезно, — сказал Мартин, макая булку в соус.
Я протянула руку через стол и коснулась его щеки, как бы благодаря за попытку меня утешить, но на самом деле просто потому, что я могла это сделать и приходила от этого в восторг. Кожа его была гладкой и теплой.
— Моя бывшая жена часто говорила мне, что я трус, — сказал он, — но в детстве у меня был мопс, которого звали Пагги, так что, наверное, она ошибалась.
Я продолжала держать руку у его щеки еще несколько секунд, чтобы продемонстрировать, насколько спокойно я восприняла известие о его бывшей жене, потом убрала ее с легкостью мотылька. Он медленно жевал булочку. Он не уронил ни одной капли соуса, ни одной вермишелинки. Мартин был самым аккуратным едоком из всех, кого мне приходилось видеть. Я поблагодарила Господа за то, что не включила в свой список боязнь разведенных мужчин.
— И как долго вы были вместе? — спросила я, разглядывая пятно от арахисового масла на скатерти и трогая его пальцем, как я надеялась, с рассеянным видом. Хотя, вспоминая об этом позже, я решила, что уделила этому пятну слишком много внимания, что скорее всего выдало меня с головой и показало, что мое спокойствие напускное.
— Чуть больше года. У нее была болезнь дыхательных путей и изо рта пахло гнилой цветной капустой. Я уехал на неделю, а когда вернулся, она исчезла.
Я смотрела на него, все еще держа палец у пятна.
— Она к тому же была ужасно несдержанна.
Я продолжала рассматривать пятно.
— Четыре года, — добавил он.
— Что случилось? — спросила я.
— Ничего интересного. Сначала было все хорошо. Но для длинных дистанций мы, видимо, не годились.
Такой галантный и добродушный, такой легкий и цивилизованный, прямо Кэри Грант. Мне должен был понравиться его ответ, но вместо этого он привел к тому самому моменту. Вы знаете, о чем я говорю. Моменту во взаимоотношениях, когда после пяти с половиной недель парения в воздухе вы обнаруживаете, что снова ходите по земле.
— Ты говоришь о ней, как о скаковой лошади. Или как о героине из пьесы, — заметила я, надеюсь, шутливо.
— Знаешь, вот ты это сказала, и я подумал, что в Вивиане было и то и другое. Длинные ноги, прекрасное воспитание и склонность все драматизировать.
Спасибо, что у меня вообще есть ноги.
— Вивиана. Она латиноамериканка? — Дженнифер Лопес, Сальма Хайек, Пенелопа Крус. Они начали двигаться в моей голове на бесконечных ногах. Еще Камерон Диаз, хотя она вроде не латиноамериканка. Того и гляди появится Натали Вуд. Короче, я заволновалась.
— Вивиана Хоббс. Стремление англосаксонских аристократов к экзотике. — И тут перед моим мысленным взором мгновенно появилась Грейс Келли и смела прочь всех латиноамериканских красоток одним взмахом своей знаменитой сумки.
В тот вечер, когда я целовала Мартина на прощание, я взглянула через его плечо (я стояла на несколько ступенек выше его). И вдруг мне показалось, что я мельком увидела, как Грейс Келли в образе Вивианы Хоббс смотрит на нас. Но ее взгляд, который встретился с моим, не был холодно-голубым взглядом Грейс из фильмов «Поймать вора» или «Высшее общество». Это были глаза Джорджа Элиджина из «Деревенской девушки», полные печали, терпения и одиночества.
За яичницей в доме Линни.
Линни: Можно мне задать тебе два вопроса?
Корнелия: Нет.
Линни: Первое. Ты услышала «англосаксонские аристократы» и начала терзать себя образом Грейс Келли. Зачем это тебе? Разве Грейс Келли единственная англосаксонская аристократка в мире? Ты когда-нибудь думала о Джеки Кеннеди? Тебе не приходило в голову, что у Вивианы Хоббс вообще глаза по бокам головы, как у выдры?
Корнелия: Надо признаться, нет.
Линни: Я так и думала.
Корнелия: И вообще, меня беспокоила вовсе не Грейс Келли, мне не понравилась легкость.
Линни: Легкость?
Корнелия: Его тон. Как будто брак — это ресторан.
Линни: Пожалуйста, поподробнее.
Корнелия: Или теннис. Или костюм-двойка. Поносил — выбросил, поиграл — бросил.
Линни: Вроде как «Я был женат, но в этом нет ничего личного».
Корнелия: Вроде как четыре года в браке ничего не значат.
Линни: Ладно, но по крайней мере он не похож на того парня в фильме, который ты заставила меня посмотреть.
Корнелия:?!.
Линни: Ну, там еще этот парень, он одержим своей мертвой женой.
Корнелия: Точно. Он был одержим ею, потому что самолично просверлил дырки в дне лодки и отправил ее тело на морское дно.
Линни: Вопрос номер два. Что, кто-то принял закон, запрещающий секс?
Шесть свиданий. Надо признать, в логике ей не откажешь.
И наступило седьмое свидание. Свидание, которое я люблю называть «Свидание семь, или Этой ночью все случилось».
Глава 6 Клэр
Три дня после разговора с отцом Клэр жила внутри шторма — черного, крутящегося урагана страха. Она ложилась спать, слыша его рев в ушах и, если удавалось заснуть, слышала его снова, стоило только открыть глаза. Она ничего не читала. Не ходила в школу. Когда позвонила школьная секретарша, Клэр слышала, как мать объяснила, что дочь больна, и от уверенного тона матери шторм вокруг Клэр стал еще чернее. То, что ее мать могла казаться нормальной, когда на самом деле все, абсолютно все было не так, ужасало ее; ее пугал и тот факт, что мать ни разу не мерила ей температуру, ни разу не принесла чашку чаю или одеяло и, казалось, вообще ее не замечала.
Кожа Клэр казалась обветренной и чесалась, глаза и щеки горели, но бывали моменты — особенно когда Клэр пыталась заглянуть подальше в будущее, — когда ее охватывала крупная дрожь.
«Я от страха заболела, — сказала Клэр себе. — У меня болит сердце». Но если раньше Клэр помогало, когда ей удавалось определить ее состояние, то, что ее пугало или смущало, нужными словами, теперь от этого не было никакой пользы. Она обхватила себя за плечи, чтобы согреться, чувствуя собственные кости, а потом впилась пальцами в локти, да так сильно, что стало больно. «Я там внутри настоящий скелет», — прошептала она, обращаясь к бледно-желтым стенам своей комнаты.
На третий день Клэр услышала, как мать быстро и легко поднялась по лестнице и вошла в свою спальню. Затем послышался звук открываемых и закрываемых ящиков. Мать то пела во весь голос, то мурлыкала песенку, и Клэр затаилась. Клэр почувствовала, как в груди закипает гнев. Она соскользнула с постели, и ее босые ноги на полу удивили ее — какие-то странные контуры, а между двумя пальцами виднелся кусок желтого коврика.
Клэр неуверенно прошла по коридору к комнате матери. Дверь была открыта, и Клэр остановилась на пороге, затаив дыхание и слушая, как мать поет. «Какой большой ветер», песня Нины Саймон, которую они с мамой любили ставить в машине. Эта песня была десятой на диске, а вторую — «Черт бы побрал Миссисипи» — они обожали, включали звук на полную мощность и пели во все горло, делая особый упор на слово «черт». Мимо мчались машины, но они находились в своем собственном мире, и воздух, дрожащий от их голосов, мерцал. Теперь она слушала, как мать поет одну из этих песен, их общих песен, странным голосом, то грубым, то бархатным, и создается впечатление, что она поет эту песню кому-то. Клэр невольно сделала шаг в комнату, чтобы посмотреть, кто же это такой.
Разумеется, в спальне, кроме матери, никого не было. Она только что надела узкое летнее платье и поправляла его на себе, проводя руками по бедрам, бокам и ногам. Когда Клэр вошла, она даже головы не повернула.
— Сейчас декабрь, — сказала Клэр. Голос у нее был хриплым и скрипучим, как у старой женщины.
Мать, казалось, не слышала, но продолжала петь тем же непривычным голосом. Она села в кожаное кресло винного цвета, в котором обычно читала («кларет» — так она называла этот цвет), чтобы надеть сандалии на высоких каблуках и с ремешками. Клэр заметила, что сандалии были точно такого же кремового цвета, что и ноги матери. На полу лежали пакет и коробка из-под обуви. Ничего не понимая, Клэр уставилась на эти предметы — смятый пакет из зеленого пластика с буквами более темного цвета сбоку и на четкий прямоугольник коробки. Она смотрела, пытаясь понять, что делают здесь эти две вещи. Много месяцев спустя Клэр прочтет поэму Уильяма Карлоса Уильямса о красной тачке и цыплятах и вспомнит эти обычные предметы. Зеленый пакет и коробку из-под обуви.
Когда Клэр сообразила, что происходит, что-то внутри лопнуло. Гнев, когда мать запела громче, заполнил ее легкие, затем все клеточки тела, как дым. Клэр закричала, она задыхалась, давилась криком, сама ужасаясь тем звукам, которые издавала. Она ворвалась в комнату — похудевшая, с взъерошенными волосами и трясущейся головой, — пнула коробку, наступила на нее, схватила пакет и попыталась его порвать. Пластик впился ей в ладони.
— Ненавижу тебя! — повторяла она снова и снова. — Ты меня убиваешь! Тебе все безразлично, тебе все безразлично, тебе все безразлично.
Потом, обессилев, Клэр опустилась на пол у кровати матери и руками, по сути, когтями, потянула на себя одеяло, сдернув его с кровати. Оно было тяжелым, путовым, в прекрасном пододеяльнике из ткани с флорентийским рисунком темно-кораллового, розового и светло-зеленого тонов. Она обернула его вокруг себя и почти робко взглянула на мать.
Мать перестала петь и посмотрела на дочь. Клэр вдруг осознала, сколько времени прошло с тех пор, как мать смотрела на нее так, прямо в глаза. Во взгляде матери не было шока или страха, с трудом верилось, она и есть та женщина, которая поехала и купила туфли, когда ее дочь лежит в кровати и едва не сходит с ума от одиночества. Мать смотрела на нее с грустной лаской.
— Мамочка, — тихо сказала Клэр, — мамочка, ты не можешь в этом пойти. Сейчас зима. На улице холодно.
Мать Клэр улыбнулась материнской улыбкой.
— Твои новые туфли, — шептала Клэр, — они не должны продавать летние туфли зимой.
Не сбросив одеяла, Клэр подползла к матери и положила голову ей на колени.
— Пожалуйста, останься, пожалуйста, останься, пожалуйста, останься, я так по тебе скучаю, — взмолилась Клэр.
Мать осторожно, двумя руками подняла голову Клэр с колен, как будто она была сделана из стекла, и обошла ее, перешагнув через одеяло. Клэр смотрела на нее и ждала.
— О, Клэри, — сказала мать терпеливо и ласково. — Курорт. Ты же помнишь.
Клэр отрицательно покачала головой.
— Курортная одежда. Она продается. Всегда. Даже зимой.
Мать Клэр вышла, громко стуча каблуками по деревянному полу коридора, затем по лестнице.
Клэр сидела на полу как в тумане. Какое-то время в голове было пусто, затем она начала вспоминать вечеринку для детей, на которой она побывала прошлой весной перед окончанием занятий б школе. Там были две популярные девочки двенадцати лет, с выщипанными бровями и длинными развевающимися волосами. Они решили сыграть в игру под названием «Макияж» и выбрали себе в жертву самую некрасивую девочку, с которой Клэр училась в школе с четырех лет и чья ужасная робость останавливала даже самых строгих учителей, и ее почти никогда не вызывали. Звали ее Роза, и имя это настолько ей не подходило, что детям казалось: так к ней обращаться будет жестоко, поэтому почти никто этого и не делал. Старшие девочки намазали лицо Розы ужасным кремом и разрисовали дикими красками — оранжевой, розовой и синей. А потом запутали ее жиденькие волосы.
— Ты великолепно выглядишь, Роза. Совсем как кинозвезда, — любовно говорили девицы Розе и оглядывались, призывая других девочек поучаствовать в забаве. Некоторые так и сделали, сгрудились вокруг Розы и принялись ее хвалить, а раскрасневшаяся Роза, потеряв дар речи, только счастливо хлопала намазанными липкой тушью ресницами.
Клэр, сидя на полу в спальне матери, вспомнила, как ей было стыдно и больно, оттого что Роза безропотно позволяла над собой издеваться. И она не выдержала.
— Заткнитесь вы, подруги! Вы знаете, что выглядит она ужасно. Почему бы вам не оставить ее в покое?
Все девчонки уставились на Клэр, а одна из заводил заявила:
— Что?! Думаешь, ты самая крутая? Посмотри, заставила ее плакать!
И это было хуже всего — Роза поняла, что над ней с самого начала потешались. Выходя из комнаты, чтобы позвонить маме и попросить забрать ее, Клэр заметила, как эти двенадцатилетние девицы обнимали Розу, утешая, и девочка позволяла им это делать.
Клэр не следовало вмешиваться, она это знала, но то, как девчонки разговаривали с Розой, их тон, взбесило ее. Такая жестокость за ласковыми словами, причем направленная тому, кто безмерно нуждался в любви.
Хуже, чем ударить. Самое плохое, что можно сделать. И снова она вздрогнула, как человек, которому приснилось, что он падает. И снова она слышала голос матери, говорящей «О, Клэри», заманивающей ее в доверие и надежду. Клэр какой-то частью своего сердца не верила ей, но разум восставал при мысли, что мать злая и ненавидит ее.
Она вернулась в свою комнату, легла и услышала, как хлопнула входная дверь. Клэр выглянула в окно и увидела, что мать идет через лужайку — шаг упругий, почти танцующий. Пальто на ней не было. Она размахивала длинными обнаженными руками, как будто стояло лето, в одной руке у нее была корзинка для пикника, в другой термос. Она вошла в лес, отделяющий их дом от соседнего строения.
Мать вернулась поздно ночью. Клэр забылась в глубоком, тревожном сне, так что хлопок тяжелой входной двери она не расслышала.
Клэр исполнилось одиннадцать лет, и она была одна в беде, из которой не видела выхода. На четвертый день, в воскресенье, она встала с постели и продумала распорядок предстоящего дня.
— Сначала душ, потом завтрак, — твердо приказала она себе, как будто могла отказаться. Как только она встала под душ, сообразила, что все перепутала. Голова болела уже несколько дней, но под теплой струей воды головная боль расцвела, как роза, красная, со множеством лепестков. Боль билась внутри ее головы, ушей, шеи. Клэр закрыла кран и присела на край ванны. В ушах звенело. Еда. Ей нужно поесть.
Накинув пушистый халат, пошла на кухню и схватила первое, что увидела, — банан. Клэр с жадностью съела его. Ее тут же вырвало в раковину. Тогда шоколадное молоко. Ей стало лучше. Потом Клэр сделала два тоста, разрезав хлеб так, как она любила, по диагонали, намазала их маслом и съела, закрыв глаза. Клэр собиралась с силами. Она верила в кусок хлеба, в соленость масла на языке; она почувствовала, что ее душа ожила, во всяком случае, настолько, что она сможет подняться по лестнице, как следует вымыться в душе и одеться. Когда она чистила зубы, она взглянула на себя в зеркало.
«Та же старушка Клэр. Прежнее лицо», — сказала она своему отражению, пытаясь вселить в себя уверенность, и это было почти что правдой. Кожа натянулась на скулах, небольшие круги под глазами, но в целом то же самое, что и раньше.
«Та же старушка Клэр», — повторила она и едва не рассмеялась от облегчения.
Клэр положила блокнот, два карандаша и за компанию книгу «Анна из Эвонли» (книга про Анну, где было мало печальных событий) в свой рюкзак. Затем направилась в библиотеку, где по непонятным ей причинам мать теперь спала по ночам.
Она и сейчас была там, лежала на диване, укрывшись старым коричневым кашемировым пледом с кистями, свернувшись калачиком и повернувшись лицом к спинке. Клэр обрадовалась, что не видит ее лица, но стояла и смотрела на волосы матери, которые волной свисали с дивана — даже в полутьме они казались медовым сверкающим водопадом. Такая уж у нее была мама, она привлекала к себе весь свет в комнате и делала его частью себя. Внезапно на Клэр навалилась тоска. Она была всюду, целиком заполнила комнату. Клэр даже задержала дыхание, как человек, оказавшийся под водой. Затем огляделась в поисках сумочки матери. Она аккуратно стояла на полке. Клэр достала бумажник, вынула банковскую карточку матери и, даже не взглянув на спящую женщину, выбежала из комнаты. Отдышавшись, Клэр позвонила и вызвала такси.
Она попросила водителя подъехать к дому ближайших соседей. Кохены были пожилой парой, лет под семьдесят, которые проводили зимы на острове в Карибском море, название которого они держали в большом секрете, но мистер Кохен однажды назвал его Клэр, потому что она ему очень нравилась.
— Смотри не проболтайся, сестренка, — сказал он и подмигнул. — Если туда притащится весь город, нам придется искать новое место. — Клэр все удивлялась, что Кохены делают на этом острове и почему они не хотят, чтобы соседи узнали. Тем не менее она хоть и записала название в блокнот, никому об этом не сказала. Кохенов сейчас не было, но несколько рабочих меняли черепицу на крыше дома. Один из них помахал Клэр. Молодой, лицо загорелое, волосы желтые, как у серфингиста, и Клэр даже подумала, что человеку, выглядевшему так по-летнему, должно быть особенно холодно там, на крыше. Она помахала в ответ.
Водитель такси оказался человеком небольшого роста. Клэр подумала, что он слишком молод, чтобы водить машину, но потом разглядела водительскую лицензию на стекле и попросила отвезти ее в банк в центре города. Во время поездки они не разговаривали, а слушали оперную певицу, исполняющую арию. По тому, как голос певицы сначала поднимался, а потом внезапно опустился, Клэр догадалась, что с женщиной что-то случилось — что-то сначала разозлило ее, а потом опечалило.
Мать Клэр обычно расплачивалась кредитной карточкой, когда что-нибудь покупала, но если они направлялись куда-то вместе, она разрешала Клэр снимать наличные с карточки в банкомате, Клэр была еще достаточно юна, чтобы этот процесс казался ей волшебным. Кодом служила дата рождения Клэр. Клэр ввела цифры и замерла, уставившись на экран: 0212, второе декабря. Сегодня было третье.
Клэр почувствовала острую жалость к самой себе, но тут же пожала плечами. «Подумаешь», — сказала она, обращаясь к четырем цифрам. Это выражение дети употребляли постоянно, и именно по этой причине Клэр предпочитала его избегать, но в данный момент она почувствовала его силу. Она нажала другую кнопку и все цифры исчезли. За всю свою жизнь у Клэр редко бывали основания для жалости к самой себе, но, стоя перед банкоматом, она поняла, что чувство это нависает над ней, грозит ее поглотить. Оно напоминало ей дремучий лес, на опушке которого она стояла. Если она туда войдет, может так случиться, что ей никогда не удастся оттуда выбраться.
Когда на маленьком экране появилось имя матери, Клэр на мгновение ощутила себя воровкой, но тем не менее все равно взяла деньги, они были ей необходимы. Клэр еще мало представляла себе, что такое одиночество, но она знала, что одиноким людям нужны деньги. Сто долларов. Большие деньги, Клэр никогда не держала в руках столько денег. Она быстро сложила бумажку и, сунув ее в кошелек для мелочи, спрятала его поглубже в рюкзак и вышла из банка.
Центр города состоял из одной длинной улицы, вдоль которой тянулись красивые магазины и рестораны. Даже хозяйственный магазин был очень симпатичным, с вывеской в виде пилы и золотыми буквами в витрине. Клэр практически нигде не бывала, но знала достаточно, чтобы понять, что этот центр города не был типичным. Прежде всего тротуары были кирпичными, и кое-где стояли каменные вазоны, в которых в разное время года росли разные растения. Сейчас они были полны зелени. Там же стояли маленькие елочки, увешанные фонариками.
В магазине игрушек продавались красивые деревянные игрушки, удивительные старомодные поезда, а также куклы в нарядных платьях с лицами как у настоящих детей. Был там и бутик с модной, дорогой женской одеждой конфетно-розового, желтого, как серединка у маргаритки, и зеленого, как древесная лягушка, цвета. Здесь же продавались платья в тон для дочерей, при взгляде на которые Клэр и ее мама поднимали глаза к небу и говорили: «Лучше сдохнуть!» А в маленькой пекарне пекли ароматный хлеб и лучшие в мире именинные торты (мама Клэр однажды купила один в форме замка). А еще там был настоящий итальянский мармелад с ароматами хурмы, корицы и кофе.
Клэр знала, что центры многих городов заброшенны, как ненужные декорации для фильма, и постепенно разваливаются, здесь же будто кто-то взмахнул волшебной палочкой и все стало намного лучше, свежее, красивее, дороже. И она радовалась, что ей повезло жить в таком приятном месте.
Естественно, заведение, в которое зашла Клэр, называлось «Домашняя еда Лорелеи». Здесь подавали необычную и вкусную еду. Клэр часто приходила сюда с матерью. Больше всего ей нравился пирог из индейки с сыром, а на гарнир листья базилика и картофельное пюре с чесноком и сливками. Сегодня было воскресенье, и весь день подавали второй завтрак. Клэр узнала одну из официанток, которая кивнула ей и усадила за столик на двоих у окна. На столе стояли сливочник, сахарница со светло-коричневыми кусками сахара и вазочка с маргаритками.
Когда официантка подошла с двумя меню, Клэр четко выговорила:
— Я сегодня одна. — Официантка на мгновение замерла, между бровями появилась озадаченная морщинка, и Клэр уже начала придумывать объяснение и собралась сказать, что мама ходит по магазинам, а она проголодалась, но официантка улыбнулась и сказала:
— Прекрасно, душечка. Кофе? Какао?
Клэр улыбнулась.
— Какао.
Когда принесли какао и Клэр сделала заказ — омлет по-крестьянски, буйволиный сыр и копченая ветчина, — она спросила, действительно ли буйволы живут на ферме. Официантка рассмеялась. Клэр достала блокнот и начала составлять список. Сверху она прописью вывела: «ЧТО ДОЛЖНА СДЕЛАТЬ КЛЭР».
1. Позвони маме Джози. Попроси, чтобы она возила тебя в школу и обратно. Скажи, что «М» начинает работать по утрам. Скажи, что «М» не звонит, потому что в данный момент занята приготовлением ужина. Обязательно позвони вечером.
2. Принеси в школу записку с разрешением уходить домой с мамой Джози. Напечатай записку на компьютере, тогда подделать придется только подпись.
3. Закажи в магазине Джордана продукты на дом. Купи макароны, соус, овощные консервы, арахисовое масло, джем, сливочное масло, другие продукты, которые не портятся. Возьми молоко «Пармалат» в коробках. Закажи хлеб и положи его в морозильник. Может быть, еще печенье. Мультивитамины, чтобы не заболеть. Попроси, чтобы привезли утром, до того как идти в школу. И до того как встанет «М».
4. Позвони Макс. Пусть не приходит. Чтобы не видела, как «М» спит на диване. Скажи, что уезжаете из города. Если она спросит куда, скажи, что в Нью-Йорк. Не упоминай ни о каких шоу, иначе Макс потом начнет расспрашивать.
Между кусками омлета и глотками какао Клэр поделила свою жизнь на двадцать четыре части и составила план, который, как она надеялась, поможет ей жить дальше.
И у нее получилось. Более или менее получилось. Было несколько сбоев. Однажды Сисси Шихан, которая заправляла бизнесом матери, забеспокоилась, так как никак не могла с ней связаться, и она не ответила на звонок клиента, с которым они сотрудничали уже много лет.
— Это на нее совсем не похоже, Клэр, понимаешь? С ней что-то случилось, о чем мне следует знать? Я имею в виду, ты бы сказала мне, если бы она заболела, верно?
«Да, я знаю, что ты знаешь, что это на нее не похоже, но это очень похоже на нее такую, какой она стала сейчас; да, что-то случилось; нет, вам не следует об этом знать, да, возможно, вам нужно об этом знать, да, я бы рассказала, если бы она заболела какой-то болезнью, нет, я бы не сказала, если бы она заболела другой болезнью, да, да, да, она больна так, что вы и представить себе не можете». Клэр прокрутила в голове все эти честные ответы и решила ничего не говорить. Не было смысла сердиться на Сисси, но Клэр злилась. «Мне всего одиннадцать, — хотелось ей закричать, — я еще ребенок. Это не моя работа. Ищите ответы в другом месте».
— Сисси, — осторожно сказала она, — с мамой все в порядке, но я думаю… она сейчас в стадии перехода.
— Перехода? Ты думаешь, она собирается продать бизнес? — Сисси явно разволновалась. Клэр знала, что Сисси уже некоторое время хотела купить часть бизнеса, принадлежащего матери.
— Может быть. Я не уверена. Она сейчас занимается самоанализом.
— Господи, да мы все этим занимаемся. Вернее, все бы должны. Мы с Сетом как раз недавно это обсуждали. Живешь так день ото дня, работаешь и вдруг теряешь направление, верно? Теряешь саму себя, свои потребности, свои… как это называется?
— Приоритеты?
— Точно. Господи, Клэр, ты иногда говоришь совсем как взрослая. Ты такая проницательная!
— Я знаю, — улыбнулась Клэр. Значит, вот как нужно разговаривать со взрослыми. Несколько слов из словаря, остальное они сделают сами.
— Ладно, тогда скажи маме, чтобы она не торопилась. Мы с Сетом справляемся, так что никаких проблем. Передай мои наилучшие пожелания. Бог в помощь, так сказать.
— Хорошо. Уверена, что она вам позвонит, — предположила Клэр, хотя на самом деле вовсе не была в этом уверена.
Вот собственных подруг Клэр убедить было совсем не так просто. Как-то днем Джози и Мари, еще одна девочка из их класса, неожиданно появились на пороге дома Клэр. Они приехали на велосипедах от дома Мари, который находился недалеко, но дорога была извилистой и путь для двух одиннадцатилетних девочек на велосипедах был довольно длинным и изнурительным. И вот они стояли перед ней, раскрасневшиеся и запыхавшиеся. Клэр сразу поняла, что для их появления была особая причина, поэтому она вышла из дома, захлопнула входную дверь и вопросительно посмотрела на них. Клэр не пригласила нежданных гостей в дом, потому что, хотя матери дома не было — ушла куда-то рано утром, — она могла подъехать в любой момент. Нельзя, чтобы Джози и Мари были здесь.
— Ты что, вроде уже не хочешь с нами дружить? — спросила Мари, которая всегда задавала глупые вопросы, тем более что она не была близкой подругой ни Джози, ни Клэр. Клэр всегда думала о Мари как о девочке с громким голосом, которая занимает слишком много места. К тому же она любила задавать дурацкие вопросы, многие терялись, не зная, как ответить.
— Нет. — Клэр решила ограничиться кратким ответом, но потом добавила: — Я все еще хочу.
— Ты теперь никогда не приглашаешь Джози к себе домой, — сказала Мари. — А сама все время торчишь. Ты вроде как там живешь?
Это было близко к правде. Помимо того, что Клэр ездила с Джози в школу и из школы, она стала все чаще делать у нее уроки. Никто не возражал. Наоборот, мама Джози, миссис Артур, была с ней ласковее, чем обычно, бросала на нее жалостливые взгляды и разговаривала с ней низким, утешительным тоном, каким, по представлению Клэр, взрослые обычно разговаривают с сиротами и детьми, больными раком. Клэр знала — миссис Артур не подозревает, что мать Клэр сходит с ума, что с ней что-то происходит. Она просто считает ее ребенком матери-одиночки, которому не уделяется должного внимания.
Однажды, когда Клэр сидела у них на кухне и помогала Джози с домашним заданием, к ним заехала миссис Каслберри, чьи дети были старше Клэр и Джози, но ходили в ту же школу. Поскольку она была из тех взрослых, которые знают о детях значительно меньше, чем полагают, Клэр смогла услышать, что они говорили о ней.
— Почти каждый день, — делилась миссис Артур.
— Ее мать занята? — спросила миссис Каслберри так, будто она уже знала ответ. Хотя они сидели в соседней комнате, Клэр могла представить себе, как поползли вверх ее слишком тонкие брови.
— Работает, — вздохнула миссис Артур. Как большинство матерей подруг Клэр, миссис Артур не работала.
— Ей в этом нет нужды, как ты знаешь. У нее больше денег, чем у Господа. Единственный ребенок родителей, которые тоже были единственными детьми. Невольно вспомнишь про серебряную ложку, — заметила миссис Каслберри.
«Завидует», — подумала Клэр.
— Не понимаю, почему она не выходит замуж. Желающих хватает, — сказала миссис Артур. Клэр посмотрела на Джози, которая закатила глаза и одними губами произнесла ругательство.
— Да уж, мужчин хватает. — Тут они стали говорить тише. Лицо Клэр горело. Ей хотелось ворваться в комнату и сказать этим женщинам все, что она о них думает, своим самым холодным тоном, а затем хлопнуть дверью так, чтобы закачались все идиотские семейные фотографии в рамках, сделанных в специальных ателье, которые миссис Артур развесила по всем стенам. Но если ей нельзя будет находиться в доме Джози, ей придется сидеть у себя, а она не смогла бы этого вынести. Кроме того, мама Джози возила ее в школу и обратно, других вариантов у нее не было.
— Прости, — наклонившись к ней прошептала Джози. Клэр знала, что Джози — хорошая девочка, и она лучше других детей понимала, что дочери не всегда несут ответственность за поведение своих матерей, поэтому Клэр пожала плечами и сказала:
— Да ничего.
И теперь, когда Джози стояла рядом с Мари у дверей дома Клэр, Клэр догадывалась, что она чувствует себя беспомощной, ей стыдно за то, что происходит, она, наверное, спорила с Мари и не хотела сюда ехать. Клэр решила простить Джози: во-первых, она знала, что Джози слабая, а не плохая, и во-вторых, ей была нужна подруга.
— Мама просто теперь работает допоздна, — соврала она, глядя Мари прямо в глаза.
— И что она такое делает? — спросила Мари, для которой понятия «не твое дело» не существовало.
— Работает.
— Никто не должен так много работать, — заявила Мари. — Готова поспорить, что она с кем-то встречается и не хочет, чтобы ты знала.
Как странно, все думают о ее матери одно и то же. Может быть, дело в том, что ее мама очень красива, тогда как большинство других мам нет. Возможно, когда ты такая красивая, все люди вокруг уверены, что знают все о твоей жизни. «Ничего-то вы не знаете», — подумала Клэр, и ей захотелось горько рассмеяться. То, что люди предполагают, не имеет ничего общего с тем, что на самом деле происходит.
— Когда она с кем-то встречается, она мне рассказывает. Я могу с ним познакомиться, если захочу. — И это было правдой, хотя мать Клэр редко заводила мужчин, а если и заводила, то ненадолго. Тут она вспомнила то, что мать говорила ей в ресторане, но она тут же выбросила это из головы.
— Подумаешь, — сказала Мари, что не удивило Клэр. Этим словом рано или поздно заканчивались все разговоры с Мари. Клэр повернулась к Джози.
— Ты на меня сердишься? — спросила она. Джози бросила быстрый взгляд на Мари, набрала в грудь воздуха и отрицательно покачала головой.
— Нет, я не сержусь, — призналась она. Клэр почувствовала, что гордится ею.
— Мне пора, — сказала Клэр.
— Подумаешь, — повторила Мари. Девочки начали усаживаться на велосипеды, и Клэр вернулась в дом. Она решила, что визит прошел относительно благополучно. Она хорошо была знакома с «подумаешь» Мари. Как круги от камня, брошенного в пруд, ее «подумаешь» по поводу Клэр и ее матери вызовет слухи; пока самое худшее из того, что могут приписывать маме в классе, — будто она завела себе таинственного любовника. Клэр не нравилось, что все могут в это поверить, но в то же время это подходящее объяснение ее отсутствия и странного поведения. Кроме того, она знала: воображение у Мари убогое и та вряд способна придумать что-то особенное. Никто ведь не поверит, что ее мать встречается с серийным убийцей, президентом или международным шпионом. Клэр эта уверенность одновременно слегка утешила и разочаровала.
В плане Клэр появилась большая загвоздка, как жить в одном доме с матерью, если мать все реже бывает в этом доме. Ей следовало составить список голосов, какими следует разговаривать с матерью, тем для разговора; аспектов материнского поведения, которые следует игнорировать, и куда девать глаза и руки, пока игнорируешь эти аспекты; и сколько времени можно позволить себе смотреть в лицо матери, чтобы понять ее намерения.
Первые двадцать четыре часа все это не имело значения. Их дом всегда был до нелепости велик для двух человек, с множеством комнат, куда никто не входил, кроме Макс, которая стирала пыль с мебели, пылесосила ковры, по которым никто не ходил, и разгоняла, как она выражалась, «духов». Макс иногда в шутку вешала какую-нибудь картину вверх ногами, чтобы посмотреть, заметит ли кто. Теперь же, когда один человек в доме старался уединиться, а другой метался сквозь дни и комнаты, как планета, окруженная атмосферой своего собственного безумия, дом казался идеальным. Он вполне подходил Клэр, потому что помогал им держаться вдали друг от друга.
Но утром в среду, когда Клэр доедала тост, в комнату вошла мать с газетой и села напротив Клэр.
— Доброе утро, Клэри, — сказала она.
Клэр положила тост и подумала, что каждое обычное действие стало требовать решения. Решения положить тост. Решения посмотреть в лицо своей собственной матери. Она посмотрела. Мать в мягком бежевом свитере, без макияжа, с волосами, стянутыми на затылке в пучок, как у балерины, выглядела совершенно нормальной. Более того, она выглядела невероятно красивой. Но Клэр уже трудно было провести. Красота может быть ложью, как и все остальное, а надежда стала игрой, в которую Клэр больше не играла.
И она была права, что не играла. Мать принялась читать ей отрывки из газетных статей, сначала вполне обычных, и Клэр реагировала охами и многократной репликой «в самом деле», но затем все истории стали печальными и тема их сводилась к насилию. Молодые солдаты в Африке. Террористы-смертники. Снайперы, расстреливающие людей, заправляющих свои машины или ведущих детей в школу. Мать начинала одно предложение, потом перескакивала на другое, голос становился надрывным, как у человека, переходящего бурный поток, перепрыгивая с камня на камень.
— Столько сердечной боли и беспорядка. Как может мир все это выдержать? — трагическим тоном вопрошала мать. Клэр смела крошки со стола на тарелку и встала. «Оглянись, мама, — хотелось ей сказать, — сердечная боль и беспорядок прямо здесь, перед тобой». Вместо этого она молча отнесла тарелку в раковину.
Затем мать принялась обсуждать политику президента, всячески понося его, в чем не было вообще-то ничего странного, поскольку она всегда считала его глупым и опасным, но на этот раз в ее словах было особое раздражение и гнев, как будто он нанес ей личное оскорбление.
— Дайте мне провести один день в Белом доме, всего один день, — сказала она, — я бы ему прочистила мозги.
Клэр хрипло рассмеялась.
— Ну еще бы, мамочка. Из тебя выйдет превосходный мировой лидер. Мы будем в надежных руках, если ты встанешь во главе государства.
Клэр никогда так с матерью не разговаривала. Ей почти сразу же захотелось забрать эти слова назад, такими они были грубыми и злыми. Но, взглянув на мать, она поняла, что та не слышала этих слов. Даже если кто-то не замечает, что ты злорадствуешь, это не означает, что ты этого не делаешь. Клэр решила, что это даже хуже: будто обижаешь маленького ребенка. «Следует быть осторожной, — подумала Клэр, — иначе я могу стать очень плохим человеком».
В школе, сидя за своим столом, Клэр достала блокнот и написала прописными буквами: «П.О.Д.У.М.А.Е.Ш.Ь.». Если ты ни на что не обращаешь внимания, ты не можешь превратиться в жестокого человека. Затем она перевернула страницу и на чистом листе начала составлять список имен: мисс Хэвишэм, тетя Спондж и тетя Спайкер, мисс Мин-чин, Урия Гип, Волдеморт, Спейп. Люди, которые позволили жизни превратить их в злючек, которых все ненавидели. Люди, какими никто не хотел бы стать.
Клэр никогда не составляла список потерянных «вещей». Если бы у нее хватило мужества для составления такого списка, она наверняка включила бы туда не все. Она бы сосредоточилась на ежедневных, мелких потерях, но это скорее всего сузило бы список до определения «Потерянные вещи, о которых я не знала, что они у меня есть». В начале стояло бы слово «молчание». Или, вернее, не молчание, а тишина, в которую она, ее мама, ее дом и все в нем были погружены теперь каждую ночь. Как только она выросла из колыбельных, сама тишина стала ее колыбельной.
В ее новой жизни ночь превратилась во время, когда нужно было прислушиваться, лежать без сна или в полусне, ожидая грохота сковородок, хлопанья дверями, музыки, скрипа половиц, когда кто-то ходил по той части дома, где ей нечего было делать. «Подумаешь» ночью не срабатывало. Ночью для Клэр, лишенной тишины, все имело значение.
Однажды ночью, примерно через неделю после того, как Клэр обедала одна в ресторане, она проснулась от какого-то звука, сразу не поняв, действительно ли она слышала что-нибудь, но уже точно зная, что в доме находится посторонний человек. Клэр вяло сползла с постели, прошла в коридор, затем вернулась, чтобы взять телефон. Если этот человек опасен, она сможет позвонить в полицию; помимо всего прочего, ей необходимо было держать знакомый предмет в руке — так ей было не совсем одиноко.
Пока она осторожно спускалась по лестнице, машинально минуя скрипучие места, звуки, которые доносились до нее, начали складываться в картину. Ей казалось, что она точно знает, что они означают. Она могла вернуться в свою комнату, но ей хотелось быть храброй. «Лучше знать, — подумала она, — а уже потом, узнав, решать, что предпринять завтра».
Хотя Клэр ожидала увидеть то, что увидела, потребовалось несколько секунд, чтобы она поняла. Перевернутая буква Т. Длинные темные волосы ее матери раскачивались в такт ее движениям. Издаваемый ею звук не был ни смехом, ни рыданием. Лежащий под ней мужчина вытянулся. Лунный свет из окна освещал его мускулистое бедро и лицо. Именно лицо привело Клэр в шок, она задрожала, как колокол, в который ударили, и ее затошнило. Серфингист с крыши Кохенов, тот самый, который помахал ей рукой. То, что она его узнала, делало все происходящее более реальным и ужасным.
Они ее не видели. Клэр попятилась и кинулась к задней двери. Рядом с дверью висела шуба ее матери, которая когда-то принадлежала бабушке. Она схватила ее и выбежала из дома. Холодный воздух ударил в лицо, пахло снегом, хотя небо было чистым. Клэр уронила телефон, надела шубу и уставилась на свой двор — забор, свисающие с дуба качели, а на небе — большая белая луна. Клэр не заплакала, просто села на землю в шубе, как белка или енот. Прислонившись спиной к дереву и не закрывая глаз, стала ждать утра.
Глава 7 Корнелия
Если вам придет в голову обсуждать вашу сексуальную жизнь в сырном магазине в Южной Филадельфии, немедленно отловите эту мысль и сверните ей ее тонкую, худую шею.
Почему?
Я вам скажу почему, можете быть в этом уверены. Но прежде я хочу заметить, что в общем и целом ничего не имею против сырных магазинов. Больше того, один в Южной Филадельфии я особенно люблю — тот самый, который фигурирует в этой истории. Причем так преданно и нежно, что он мне даже несколько раз снился. Пару лет назад, когда я сдалась под давлением общественности и начала заниматься йогой, инструктор попросил нас вообразить, что мы находимся в любимом, знакомом месте. Другие, по-видимому, отправились на берег моря, на ферму к дедушке и бабушке, но я устроилась между кругами пармезана, прекрасными белыми кусками моцареллы и гигантскими проволоне, свисающими с потолка, как боксерские груши.
Это вовсе не означает, что я дружу с работающими там людьми. Если честно, то я их всех и не упомню, потому что, как мне кажется, они постоянно меняются, причем все они близкие или далекие родственники и все одинаково милые люди. Говорят они о сыре, причем не только о сыре, но и об оливках, холодном мясе и паштете, причем с той комбинацией небрежности и страсти, которая обычно свойственна работникам справочных отделов библиотек. Здесь все со мной разговаривают на простом, незамысловатом языке. Это место совершенно не похоже на другие. Из Италии, Висконсина, Франции, Аргентины, Ирландии, Греции сыры попали прямо сюда, в этот особенный, ярко освещенный мир на Девятой улице в Южной Филадельфии, ко мне, если, конечно, я могу себе это позволить. Умом я понимаю, что такое же можно сказать о многих магазинах, что все это результат заказов и телефонных переговоров, но именно в этом магазине мое сердце верит в удачу.
Кроме этого раза. День после седьмого свидания. Меня угораздило войти в этот магазин с Линни, решившей именно в этот момент в своей раздражающей манере продолжить разговор, начатый за два квартала отсюда, нить которого она оборвала для того, чтобы ворваться в магазин и купить кепку прямо с головы витринного манекена. Манекен явно обрадовался, что удалось от нее избавиться.
Ладно. По причине, которая скоро станет вам ясна, предпочитаю изложить эту историю в третьем лице, чтобы увеличить дистанцию между ней и мной. Итак. Магазин сыров в тихий вечер. Двое мужчин средних лет за прилавком. Входят Линни и Корнелия. И тут трах-тарарах:
— Мне очень жаль, что секс с Мартином тебе не понравился, — чирикает Линни.
Мужчины средних лет сочувственно улыбаются Корнелии.
— Я не говорила, что секс мне не понравился, — шипит Корнелия.
Мужчина средних лет номер один говорит:
— Совсем не понравился. Секс не понравился совсем.
Корнелия возражает, но не визгливо (пока):
— Секс был нормальным!
Объемистая старуха, возможно, мать вышеупомянутых Мужчин средних лет, выплывает из задней комнаты магазина, чтобы сочувственно улыбнуться Корнелии.
— Нормальный? Чертовски скупая похвала, — вступает в разговор Мужчина средних лет номер два.
— Правда? — На Линни его слова явно произвели впечатление.
— Я совсем не то хотела сказать, — пытается вставить слово Корнелия, но никто ее не слушает.
— Он ничего не выдумал! — ревет объемистая женщина, тыча пальцем в грудь Мужчине средних лет номер два, как будто он безудержно занимался плагиатом многие годы, и больше она не может выносить этого ни секунды.
Ловко ухватившись за возможность повернуть разговор в другое русло, подальше от ее сексуальной жизни, Корнелия восклицает:
— Шекспир?
— Папа, — мягко поправляет ее Мужчина средних лет номер один. Голос его полон сочувствия, почти скорбный. Она не умеет читать, она не умеет говорить и она не умеет заниматься сексом — вот о чем он думает.
Объемистая женщина протягивает два круглых куска сыра Линни и Корнелии. Линни берет свой, вдыхает его аромат и засовывает в рот. «Подлизывается», — думает Корнелия и начинает качать головой. Но объемистая женщина поднимает брови, и Корнелия понимает, что не следует ждать эмоций — гнева или обиды. Она берет сыр и ест.
— Полегчало? — спрашивает объемистая женщина.
— Да. Нет, в смысле, я и так чувствую себя отлично. В смысле, лучше некуда. Подождите, я хочу сказать, все в порядке. Я чувствую себя в порядке. — Теперь уже Корнелия говорит визгливо, вы ведь знали, что так и будет, дайте ей только время. От природы у нее голос не визгливый, ее просто довели этим безудержным потоком жалости и сочувствия.
— Тогда, как я понимаю, остается посочувствовать Мартину, — вздыхает Линни.
Кроме Корнелии, все в магазине, возможно, все на тротуаре у магазина, возможно, все в целом городе понимающе кивают.
— Да нет, все не так. Разумеется, все не так! — Корнелии кажется, что проблема ее сексуальной жизни, подобно щенку, которого в здравом уме ни в коем случае нельзя было спускать с поводка, носится теперь как сумасшедшая среди совершенно незнакомых людей. Доведенная до ручки, Корнелия отбрасывает всякие приличия, голос ее звучит, как сирена. — Это было в первый раз! И если в первый раз искры не полетели, это не значит, что они не полетят никогда! Мы люди, мы взрослые, мы учим друг друга, мы общаемся. Фейерверк не просто выстреливает, он раскручивается.
Все замирают, потрясенные невероятной абсурдностью этой метафоры. И в этой тишине объемистая женщина произносит:
— Ошибаешься. — Затем повторяет: — Ошибаешься.
— О Господи, сейчас она начнет излагать историю своей сексуальной жизни, — стонет Мужчина средних лет номер один.
— Вовсе не собираюсь рассказывать о своей сексуальной жизни, хотя могла бы. Я говорю о науке.
— Науке? — удивляется Линни.
— Феромоны. — Женщина поворачивается к Корнелии. — Химические вещества в нем взывают к тебе, химические вещества в твоем теле отвечают. Это либо происходит, либо нет.
Корнелия теряет дар речи. Женщина поворачивается к Линни:
— Она никогда не слышала о феромонах?
— Я слышала о феромонах, — стонет Корнелия. Вид у нее жалкий.
— Корнелия у нас наукой не интересуется, — поясняет Линни, обращаясь к объемистой женщине. — У них в семье ученый — ее сестра Олли. Вроде бы генетик. И невероятно красивая. Высокая. И посмотрели бы вы на ее мужа!
Объемистая женщина хлопает в ладоши и кивает, как будто слова Линни многое объясняют. Возможно, это и так, но это вовсе не их дело, черт побери! И вообще, Корнелия не назвала бы женщину ростом в пять футов шесть дюймов высокой.
— Чтоб вы знали, у меня были отличные оценки по всем предметам! Всю среднюю школу только самые высокие оценки, — блеет несчастная Корнелия.
Именно поэтому не следует обсуждать свою сексуальную жизнь в магазине сыров в Южной Филадельфии. Потому что результат может быть только один: ты стоишь посредине магазина, тебе тридцать один, голова запрокинута и ты орешь диким голосом по поводу отметок в твоем табеле.
Возвращаясь в мою квартиру, мы с Линни, как водится, остановились на углу Одиннадцатой и Ломбард-стрит, чтобы через забор полюбоваться детишками. Стоял декабрь, и приближался вечер, но дети на площадке, казалось, не замечали холода. Они носились в расстегнутых пальто, карабкались по перекладинам без варежек. На мне были кожаные перчатки, и я держала в руке стаканчик с горячим кофе, но мои ладони будто вспомнили ощущение ожога от холодных перекладин. Заплакал ребенок, когда мамаша отодрала его от шеста, на котором он висел. Он хотел продолжать игру, он не хотел возвращаться домой.
— Помнишь? — спросила Линни. — Это нежелание остановиться, даже если уже промерзла до костей? Как ты думаешь, куда они подевались, эти порывы?
Она всегда так делала — высказывала вслух то, о чем думала я. Мне захотелось рассказать ей, как после катания на санках Кэм, Тоби, Олли и я, а иногда наши друзья Стар и Тео сидели на полу в прихожей, мокрые насквозь, и снимали сапоги, и как мы понимали, что замерзли, только после того, как наши руки и ноги отогревались и начинали сильно болеть. Но я наказывала Линни за сцену в сырном магазине, поэтому только пожала плечами.
— Ты не умеешь на меня сердиться, Корнелия. Ты же знаешь, что не умеешь, так зачем пытаться?
Я промолчала. Мы продолжали наблюдать за детьми. Малыш лет трех или около того, в комбинезоне и смешной многоцветной шапке из флиса все еще качался на качелях. Мать раскачивала его, а он пел, фальшиво, но с большим энтузиазмом: «Я сложу свой щит и меч на берегу реки, на берегу реки, на берегу реки».
«Мне бы такого пацана», — подумала я.
— Я бы вон того взяла, — сказала Линни, показывая на мальчика. — Но обязательно вместе с его шапкой.
Я взглянула на нее:
— Дело не в том, что я не умею на тебя долго сердиться. Я и рассердиться-то не могу. Если бы я могла, то так бы и сделала. Так и знай.
Мы зашагали дальше. «Я не буду больше воева-а-а-ть!» — разносилось над нашими головами.
Секс плохим не был. Просто вечер был таким утонченным, без малейшего недостатка во всех отношениях, что секс должен был бы быть открытием. Он должен был бы доставить нас на луну. Но не доставил — не совсем.
Когда я сказала все это Линни уже в квартире, она заметила:
— Значит, ты хочешь сказать, что единственное, чего не хватало ночи невероятного, идеального секса, так это невероятного, идеального секса?
О Линни! Аллегория всей моей жизни.
— Я вовсе не это хотела сказать. Ты бы только видела, какой ужин он приготовил. Цветы на столе. Как свет проникал через окна. Если бы ты могла видеть его лицо, когда он смотрел на меня. И слышала бы, что он говорил, и не только до, но и после. Кстати, после было потрясающим. Я была в восторге от после, а ведь ты прекрасно знаешь, как иногда неловко бывает после. — Я замолчала.
Я обожаю намеки, уклончивость, благоразумие, объектив камеры, устремленный вверх — в небо, на часы с кукушкой над кроватью, на бурную реку. Сексуально — это когда Джимми Стюарт и Донна Рид говорят одновременно по телефону, когда их гнев постепенно перетекает в желание, возникающее из близости губ и тел. Я хочу сказать — вас не нагружают деталями, во всяком случае, детальными деталями. Если вы похожи на меня, а я, как большинство людей, считаю, что большинство людей такие же, как я, вас все устроит.
Разобравшись с этим и рискуя показаться вам сумасшедшей или по крайней мере ужасно странной, я расскажу вам о седьмом свидании, так как именно оно врезалось мне в память. Итак, все в последовательности:
• Комплимент первый
• Почти «Окно во двор»
• «Дурная слава»
• Не «Касабланка»
• Комплимент второй
• Еда
• Сон без сна
Комплимент первый
Не он уговорил меня лечь в постель (если вы так подумали). Это не означает, что я не могу купиться на лесть. Могу, но на лесть изысканную, задрапированную, а в данном случае она была именно такой. Дело в том, что еще до комплимента, сразу после того как Мартин пригласил меня на ужин в своей квартире, за три дня до роковой ночи, я поняла, что постель неизбежна. Мы оба знали, что это случится, равно как мы оба знали, что оба знаем, что это произойдет, но не позволяли себе ни единого намека на такую возможность.
Квартира его оказалась идеальной — ничего удивительного. «Холостяцкая берлога», — предупредил он меня. Но единственным холостяцким качеством в ней была идеальная аккуратность (как ни странно). Вся мебель, от шезлонга и дивана до стульев в столовой, и все остальные предметы — лампы, тарелки, шейкер для мартини, мельница для перца — все было идеально чистым, соблазнительным и продуманным. Моя собственная квартира была неровной, захламленной, местами неприбранной, но она существовала вокруг меня органично. Я все в ней любила — любила каждый отдельный предмет особой любовью. Но девять с половиной из десяти человек, безусловно, предпочли бы интерьер Мартина — слепок из журнала. Он наверняка долго обретался в голове какого-то дизайнера, прежде чем воплотился в реальность. И даже я, упрямо цепляющаяся за свою смешную, персональную идею дома, получала удовольствие от возможности быть половинкой кинозвезды в элегантной квартире Мартина.
Мартин наливал вино, пока я стояла у огромного окна, выходящего на Риттенхаус-сквер, сверкающую рождественскими огнями. На расстоянии казалось, что город находится под водой. На столике рядом с окном красовалась орхидея с одним белым цветком.
— Эту квартиру я купил из-за открывающегося отсюда вида, если честно, — сказал Мартин. Он протянул мне прохладный стакан с мартини. Я посмотрела на него, а он взглянул в окно. — Агент расхваливала квартиру и бесшумную посудомоечную машину. Знаешь, я еще никогда не сталкивался с таким красноречием. Наверное, все заранее написала, но получилась полная импровизация. Настоящая ода была посвящена паркетному полу. А я только ходил от окна к окну и смотрел. — Его голос — низкий, теплый — казался мне музыкой. Гобой, может быть, или французский рожок.
Он повернулся ко мне.
— Она меня ненавидит, этот агент. Я встречал ее в городе несколько раз за эти годы, так она всегда грубо воротила от меня нос. Знаешь, что я больше всего в тебе люблю? — Вот так просто, такой переход.
Мне понадобилась минута, чтобы сказать «Что?», потому что слово «люблю» летало по комнате, хлопая крыльями. Я посмотрела на маленькое светящееся личико орхидеи, ища помощи, но, как все орхидеи, она была занята только собой, погружена в свою красоту.
— Твою неподвижность. Когда ты слушаешь. Я не знаю ни одного человека, кто так неподвижен, когда слушает.
Комплимент, свет, орхидея, напитки в наших руках, Чер Бейкер, тихо поющий «Время от времени». Это был один из упавших с неба серебристых моментов, когда ты стоишь и веришь, что все в этом мире изящно, очаровательно и гармонично, особенно ты сама. Поставив стакан, я подарила губам, которые наградили меня такими бесценными словами, поцелуй высшей пробы.
Почти «Окно во двор»
Грейс Келли сама похожа на орхидею и смотрит на мир отстраненно. Она может усмехаться, может флиртовать, да так, что никому мало не покажется. Это мне больше всего нравится в «Окне во двор»: какой естественной она становится, когда видит Джимми Стюарта, как блестят ее глаза, когда она открывает потайное отделение в своей сумке от Марка Кросса, и мы видим пеньюар и домашние тапочки, которые она принесла с собой. «Были ли у нее планы на вас, мистер?» — говорят пеньюар и тапочки с потрясающей откровенностью.
В тот момент, когда я наклонилась к Мартину, чтобы поцеловать его, мы покачнулись, задев столик с орхидеей. Орхидея, конечно же, и глазом не моргнула, не сдвинулась с места, но моя сумка, стоящая на другом конце столика, полетела на пол, раскрылась, и часть вещей вывалилась. Не все, только два предмета. Мы с Мартином одновременно наклонились, чтобы поднять их, едва не стукнувшись лбами. Я схватила зубную щетку, он — трусики. Я собралась извиняться, но потом передумала и усмехнулась. Мартин, да благословит его Господь, тоже усмехнулся.
«Дурная слава»
Нашим усмешкам помешал звон кухонного таймера, и моей первой мыслью было: пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста, только бы он не сказал «Звонок как раз вовремя», потому что это будет чересчур очевидно и неловко. Но разумеется, он ничего такого не сказал, я видела, что такое даже не пришло ему в голову, чего — куда уж тут денешься — нельзя сказать обо мне. Он направился в кухню и по пути обернулся, чтобы бросить мне трусики и улыбнуться. Я сунула все в сумку и пошла за ним на кухню.
Это была утка, она мерцала и пахла божественно. Мартин стоял и тыкал в нее вилкой с уверенностью, которую я редко проявляю, когда готовлю, хотя в принципе я довольно хорошая повариха. Я подошла к нему сзади и обняла за талию. Благодаря моим невероятно высоким каблукам и многолетнему опыту стояния на цыпочках, мне удалось положить щеку ему на плечо. Свитер у него был светло-зеленый и самый мягкий из всех, к каким мне доводилось прикасаться.
— Обожаю мужчин в свитерах, — прошептала я.
— Я как раз мужчина в свитере, — ответил он.
— Расскажи мне про утку, — попросила я, и он повернулся — я не разжала объятий — и стал делать именно то, о чем я попросила. Он сказал, где он ее купил, таким образом положив начало сегменту вечера под названием «Дурная слава». Знаю, снова Хичкок, но этот парень умел снимать любовные сцены. Ингрид и Кэри целуются и смеются на балконе гостиной во время телефонного разговора, не переставая говорить об ужине — что они останутся дома, она приготовит цыпленка, они будут есть его руками. Целуя его, она обвиняет его в том, что он ее не любит. «Когда я тебя разлюблю, непременно тебя об этом извещу», — говорит он, целуя ее. Мы не говорили друг другу ничего подобного. Я вспоминаю сейчас об этом, потому что эта строчка великолепна; к тому же мы говорили об утке, а не о цыпленке, но переход из одной комнаты в другую, улыбка на губах, нежность в каждом взгляде и прикосновении были как раз в точку.
Не «Касабланка»
— Самая прекрасная черта у утки, — сказал мне Мартин между поцелуями, — это то, что она может подождать. — Это как раз тот момент, когда камера должна отвернуться, может быть, заняться чувственными линиями мебели, выглянуть на улицу за окном и отдохнуть на утке, охлаждающейся на сковороде.
Если вас интересует, не из тех ли мужчин Мартин, которые великолепно выглядят в одежде, но проигрывают без нее, так нет.
У него были совершенно восхитительные простыни.
Мы нашли тот труднонаходимый баланс между страстью и добротой, требованием и щедростью. В самом деле нашли.
Не было ни одной неловкой паузы, ни одной попытки устроиться поудобнее, никаких «ой, моей руке неудобно… вот так лучше». Ритм давался нам без усилий, мы танцевали вальс или танго.
И земля не покачнулась под нами. А должна бы была. Обязательно должна. Но не вышло.
Даже не могу сказать почему. Но еще не успев перевести дыхание, я взглянула на его безукоризненный профиль, длинные ресницы, на ямочку на шее, одно из самых любимых мной мест… Наблюдая всю эту безукоризненную красоту, знаете, о чем я подумала? «Кто ты такой? Кем ты был раньше? Что ты делал и о чем думал?» Когда Рик сказал это Илзе, они уже знали друг о друге все, что стоит знать. Вы видели их в Касабланке, видели глаза Рика, когда Илза входила в комнату в белом платье, его темные, тоскующие глаза, и вы видели, как она подняла лицо, чтобы взглянуть на него, ее глаза наполнились слезами, и вы понимаете, что, несмотря на войну и разлуки, они связаны друг с другом навеки самыми прочными узами.
Нельзя сказать, что я была разочарована. Но я лежала в постели Мартина и нутром чувствовала, что эта ночь не приведет к моменту в будущем, когда мы с Мартином будем стоять одни и вне времени, а мир вокруг нас будет сходить с ума, а мы будем говорить друг другу:
— У нас всегда будет Филадельфия.
Не такая это была ночь.
Комплимент второй
Мартин сказал, что я хорошенькая.
Вы должны кое-что знать обо мне. Я хорошенькая. Правда. Я бы соврала, если бы сказала, что нет. Я даже отдаленно не блондинка, но у меня копна волос в стиле Миа Фэрроу («Ребенок Розмари»). Или Джин Сиберг. Это имя часто можно услышать в кафе. Желание поговорить о Жан-Люке Годаре переполняет киноманов, и они пользуются любой возможностью уступить этому желанию.
Они постоянно сравнивают обычных людей со знаменитостями. У парня, который доставляет выпечку, прическа и слегка выдающиеся зубы, как у Хэмфри Богарта, девушка, которая катается на роликовых коньках около музея, — точная копия Джун Эллисон в версии «Маленьких женщин» 1949 года; бухгалтер ваших родителей издалека так похож на Сидни Пуатье в «Полевых лилиях», что дух захватывает. Так что, глядя на меня, люди часто вспоминают знаменитых женщин с маленьким треугольным личиком, которые благодаря своей знаменитости красивее меня.
Да, кстати, двое мужчин сравнили меня с Одри Хепберн. Хотя в этом сравнении нет ни капли правды. Я должна отдать им должное: они знают, с какой стороны у них хлеб маслом намазан.
Итак, я хорошенькая — достаточно хорошенькая. Беда в том, что не такая, какой мне хотелось бы быть. Я много раз слышала все эти слова: похожая на мальчика, пикантная, легкая, дальше придумывайте сами. И еще фея… Фея? Надо же такое придумать. Женщин, которые хотели бы походить на существ с острыми ушками, собирающих грибы и надевающих на голову желудь вместо шляпы, днем с огнем не найдешь. Мы все знаем, что на самом деле значат все эти слова. Еще чуть-чуть, и скажут — забавная. А забавная — это уже унижение.
И все же все мои поклонники всегда уверяли меня, что я хорошенькая (я встречалась даже с одним неудачником, который говорил: «В тебе главное — лицо, Корнелия»). Перевод (как будто он вам или еще кому-нибудь нужен): «Фигуры у тебя, считай, нет. Твое лицо — кость, которую швырнули тебе при зачатии, и не каждый мужчина это оценит. Но я ценю».
Но Мартин, Мартин, Мартин! Пока я лежала и думала обо всем этом, Мартин сделал то, что заставило меня не то чтобы выбросить эти мысли из головы, но хотя бы задвинуть их в дальний пыльный угол. Мартин приподнялся на локте и с великой осторожностью стал водить пальцем по моему лицу. Он делал это долго, и в его глазах и в кончиках пальцев чувствовалось благоговение, самый сладкий вариант почтения. Мои кости и кожа становились золотыми под его прикосновениями.
Наконец он сказал:
— Я теперь не могу смотреть на другие лица. Приходится менять свое мнение о каждом лице, которое мне когда-то нравилось.
Затем он улыбнулся, и в его глазах я не прочла: «Какой забавный маленький подбородок!» Его глаза шептали: «Гарбо, Гарднер, Бэколл не идут ни в какое сравнение с тобой, Корнелия».
Еда
Мы болтали, мы смеялись, мы ели утку. Это было чудо из чудес.
Сон без сна
Мы снова отправились в постель. Мартин обнял меня. Заснул. Он был из тех, кто спал достойно, спокойно, не храпел, не говорил во сне, его профиль бросал элегантную тень на стену, на кровать, на женщину в его объятиях. Я была женщиной в его объятиях, и в эту ночь я не сомкнула глаз.
Глава 8 Клэр
Рассказ назывался «Анника и медведи».
Начало рассказа на самом деле было его концом. Анника смотрит расширенными глазами в бархатную темноту. Глаза ее были когда-то карими, сверкающими, цвета солодового пива, но теперь они стали пустыми, бесцветными, как лед. Анника ждет, когда ее тело согреется и она сможет заснуть, и пока ждет, вспоминает жизнь за пределами этой тьмы, вспоминает мир, который любила и который вдруг изменился. Когда-то ее дом назывался Страной весны и осени, потому что таким он и был — местом, где времена года не сменяли друг друга, а накатывали, как морские волны. Осень становилась весной, потом опять осенью, потом снова весной. Но каждый раз наступал момент идеальной гармонии, как у детских качелей. Анника больше всего любила это время, потому что распускались бутоны на ветках рядом с красными и желтыми листьями, среди кукурузы появлялись крокусы, и под осенним небом рождались у животных малыши. В Стране весны и осени никогда не бывало слишком холодно, можно было всегда играть на улице, ручьи никогда не замерзали и не пересыхали. С деревьев никогда не осыпались листья, а люди и животные никогда не старели и не умирали.
Но тут в стране появилась ведьма, очень злая, причину ее гнева никто не понимал, и она наслала на страну проклятие, погрузив ее в вечную зиму. В Стране зимы начали происходить ужасные вещи. Люди и животные заболевали, кашляли, у них поднималась температура. Чтобы согреться, люди в отчаянии начали убивать своих друзей-животных, чтобы закутаться в их шкуры. Еды почти не осталось, и все начали драться друг с другом за то немногое, что еще было. И самое странное: каждое живое существо в этой стране, способное дышать, становилось белым, как мел, бесцветным, как снег, когда его не освещает солнце.
Однажды Анника сидела у окна и печально смотрела на пустой мир и тут вдруг увидела, как по снегу бредут ее лучший друг медведь Джон и его семейство. Некоторые из медведей были белыми, другие тускло-серыми, только Джон все еще сохранял роскошный каштановый цвет. Медведи брели, опустив свои огромные головы, некоторые из них плакали, роняя слезы в снег. Слезы, коснувшись земли, превращались в лед. Анника выбежала из дома и позвала Джона по имени. Он остановился, посмотрел на нее своими добрыми глазами и сказал, что они идут в пещеру, которая находится глубоко в горах, окружающих Страну зимы.
— Спать, — объяснил он. — Ждать.
Анника обняла Джона, зарылась лицом в его замечательную шерсть и потом долго стояла, наблюдая, как медведи понуро уходили в свое длинное путешествие.
В ту ночь Анника неожиданно проснулась. Она села на кровати и увидела, что ее волосы, падающие на плечи, стали белыми, как молоко. Она кинулась к зеркалу. Она смотрела на свое отражение, и розовый цвет исчезал с ее щек.
— О нет, — прошептала она. — Все-таки это происходит. Я превращаюсь в кого-то другого. В зимнюю девочку. — Она быстро надела туфли и свое самое теплое шерстяное пальто и выбежала из дома. Цепочка хрустальных слезинок медведей сверкала под светом луны, которой удалось выбраться из-за облаков, и Анника пошла по следу, хотя холод пробирал ее до костей.
Когда девочка добралась до пещеры и отодвинула камень, закрывавший вход, все медведи спали, кроме Джона. Он положил свою лапу на мягкую землю:
— Располагайся, дорогая, — сонно пробормотал он. Затем он поставил камень на место и снова лег. Анника свернулась калачиком между Джоном и другим медведем, прислушиваясь к их сонному дыханию. Тела медведей быстро согрели ее. Тепло проникало внутрь. Последним согрелось сердце, и Анника уснула.
Рассказ кончался так: «Представьте себе самый глубокий сон, каким вы когда-либо спали. Умножьте его глубину на число звезд на небе и рыб в море. Тогда вы узнаете, каким сном спали Анника и медведи».
Это был самый длинный и самый лучший рассказ из всех, которые написала Клэр. Она трудилась над ним весь семестр, заполняя страницы на каждом свободном уроке в школе. Мисс Пакер иногда просила Клэр прочитать отрывки из рассказа в классе. Мисс Пакер была в безумном восторге от Страны весны и осени и написала «Отлично!» на полях. В декабре, когда рассказ был почти закончен, мисс Пакер посоветовала Клэр подарить его на Рождество маме.
— Это же потрясающий рассказ! — воскликнула сна. — Я просто уверена, что ей понравится, разве ты не разделяешь мое мнение?
Клэр тогда улыбнулась и кивнула и в тот же день начала переписывать рассказ на кремовую бумагу без линеек. На уроках рисования она стала делать обложку. Сначала нарисовала коричневую медвежью голову на голубом фоне, затем вырезала из тонкой бумаги снежинки и наклеила их повсюду, и на морду медведя тоже. Она замазала всю картинку разведенным клеем, чтобы придать ей блеск, и когда закончила, медведь еле просматривался, через снежинки его трудно было разглядеть, но он точно там был.
Мисс Пакер читала конец рассказа, пока дети ели ленч. Клэр не была голодна, к тому же ей хотелось поскорее услышать мнение учительницы, а она была уверена, что ее похвалят, поэтому и попросила разрешения остаться в классе. Она сидела за своим столом и делала вид, будто что-то пишет в блокноте. Когда мисс Пакер дочитала, она села рядом с Клэр, и Клэр с тревогой увидела, что ее глаза наполнились слезами. Мисс Пакер взяла обе руки Клэр в свои.
— Милая ты моя, — сказала она дрогнувшим голосом.
Клэр отвернулась. Ее руки казались ей холодными камнями в ладонях учительницы. Клэр хотелось, чтобы мисс Пакер ее отпустила, но она этого не сделала.
— Что случится, когда Анника проснется? — спросила мисс Пакер.
— Что вы имеете в виду? — Клэр удивил вопрос.
— Мне верилось, что Анника придумает, как снять проклятие, но она этого не сделала. — Клэр покачала головой и посмотрела на обувь мисс Пакер. Это были красные кеды с белой резиной на носках. «Идиотские кеды для маленьких мальчиков», — сердито подумала Клэр.
— Она просто засыпает, — продолжила мисс Пакер, и Клэр почувствовала ее взгляд на своем лице, догадалась, что она от нее чего-то хочет. Клэр попыталась представить себе, каких слов ждет от нее мисс Пакер.
— Верно. Она просто засыпает и ждет, когда закончится зима, — пояснила Клэр. — Мне кажется, это хороший конец. — Клэр убрала руки. — Я думала, вам понравился рассказ, — сказала она. «Только не реви, только не реви, только не реви», — твердила она себе.
— Дело не в том, что мне не понравился рассказ. Он чудесный. Правда замечательный. Мне только хочется знать, что будет, когда Анника проснется? Будет ли уничтожено проклятие? Придет ли снова весна?
Клэр пожала плечами:
— Может быть. Я не знаю. Это же всего лишь рассказ.
Мисс Пакер поколебалась, потом дотронулась пальцем до подбородка Клэр, чтобы повернуть ее лицо к себе. Клэр машинально отшатнулась.
— Я хочу пойти поесть, — заявила Клэр, делая попытку подняться. Мисс Пакер остановила ее, нажав на плечо. Рука была твердой, но не грубой, но Клэр съежилась от этого прикосновения и села.
— У тебя дома не все в порядке. — Мисс Пакер не спрашивала, она утверждала.
— Нет, все хорошо, — быстро ответила Клэр. Она чувствовала, как бьется сердце и пульсирует кровь в висках, и старалась дышать ровно, глубоко. Клэр замечала, что мисс Пакер последние недели то и дело поглядывала на нее. «Так же она смотрит на кроссворд во время перемены, — написала Клэр в своем блокноте, — как будто у меня какая-то проблема, в которой надо разобраться». Но уже когда она писала эти слова, она чувствовала их несправедливость. Мисс Пакер заботилась о ней, она это понимала. Учительница подозревала, что дома у нее не все в порядке, и она была права.
Хотя Клэр не могла определенно сказать, почему неурядицы у нее дома стали тайной, которую она старалась тщательно скрыть. А она была не такая маленькая, чтобы ее можно было спрятать глубоко в кармане или в кулаке. Секрет этот следовал за ней повсюду, шуршал занавесками, сидел на корточках в углу комнаты, ходил с места на место, и весь день Клэр старалась отвлечь людей от присутствия этого секрета. На это уходили все ее силы. Но она справлялась. Она верила в это.
Она много улыбалась, смеялась и шутила с девчонками во время ленча и в школьном дворе до начала занятий. Она брала с собой много полезной еды на ленч, выполняла все домашние задания и тщательно следила за своей внешностью, каждый день разглядывая себя в большое зеркало перед тем, как выйти из дома. Чистая, отглаженная одежда, аккуратный хвостик на затылке, шарфы, шапки и перчатки в холодную погоду. Она мылась и чистила зубы тщательнее и чаще, чем раньше. Короче, Клэр стала идеальным ребенком, как с картинки, о котором хорошо заботились и которого любили.
Поэтому, когда мисс Пакер начала приставать со своими вопросами, Клэр могла сказать с уверенностью:
— Почему вы решили, что что-то не так? Я чувствую себя нормально. Выгляжу тоже. Разве нет?
Мисс Пакер печально вздохнула.
— Ты выглядишь… — Затем она, похоже, передумала. — Да, ты выглядишь нормально. — Она улыбнулась. — Я не хотела тебя огорчать, Клэр. Иди, ешь свой ленч.
Этот разговор с мисс Пакер состоялся за три дня до начала зимних каникул, и хотя Клэр ненавидела каждую его минуту, он некоторым образом пошел ей на пользу. Даже помог. На самом деле Клэр с ужасом думала об окончании занятий. Подобно человеку, повисшему над обрывом, Клэр цеплялась за знакомый школьный распорядок. Школьные каникулы ужасали ее: почти месяц просидеть дома, днем и ночью с матерью — каждый день с матерью, — ждать, когда что-нибудь случится, обязательно плохое, и помимо всего этого Рождество, которое не будет радостным. Клэр изо всех сил старалась об этом не думать, но тяжелые мысли наваливались на нее в любой момент. Жужжащий рой, от которого некуда скрыться.
Но мисс Пакер сказала: «У тебя дома не все в порядке», превратив, таким образом, и школу во врага. Внезапно каникулы в стенах дома показались благом: дом давал Клэр возможность по-прежнему хранить свою тайну. Осталось потерпеть всего три дня.
На третий день перед уходом домой дети сняли со стен и вынули из коробок подарки, которые они приготовили для родителей. Клэр сняла свой рассказ «Анника и медведи» и легонько провела ладонью по обложке. «Рассказ — всего лишь слова, живущие в голове человека, — подумала она, — они невидимы». Но она написала эти слова, сделала книжку, получился предмет, который занял свое место в мире предметов. Она гордилась весом книги. Никогда еще ей не удавалось так точно воплотить в жизнь свой проект. Она накинула лямку от рюкзака на плечо и пошла по коридору, осторожно держа книжечку двумя руками. Дети обгоняли ее, веселые, шумные. Кто-то крикнул: «Счастливого Рождества!» И все сразу закричали — радостно и громко.
Клэр отошла в сторонку, прислонилась к стене, согнула одну ногу в колене, поставила на колено рюкзак и рывком расстегнула молнию. Одним резким движением она сложила рассказ, как будто это был какой-то пустяк, журнал, которым прибили муху, и сунула его в рюкзак, смяв обложку.
«Прекрасно», — сказала она. Когда Клэр подняла голову, она увидела мисс Пакер, которая смотрела на нее. Клэр повернулась и стремглав побежала по коридору.
Выбежав на воздух, Клэр глубоко вздохнула и обернулась, разыскивая Джози. Она крутила головой из стороны в сторону, с отчаянием разглядывая толпу. Клэр забыла, что нужно постоянно думать о том, как она выглядит, ей хотелось только одного — поскорее уехать. Наконец она увидела темно-синюю машину мамы Джози, на которой Клэр должна была ехать домой. Машина трогалась с места. Она побежала к ней, размахивая руками и крича:
— Остановитесь! Вы меня забыли! — Но машина уехала. Клэр опустила руки и замерла. Толпа поредела, большинство детей уже расселись по машинам и отправились по домам.
И вдруг послышался автомобильный гудок. Гудеть, когда разбирали детей, не разрешалось, но звук не прекращался. Он доносился с учительской парковки.
— Мисс Пакер, — прошептала Клэр, и поскольку она была уверена, что бибиканье не прекратится, она повернулась и посмотрела.
Вовсе не мисс Пакер. Ее мать. Она не сидела в их белом «лендровере», а стояла рядом. Высокая, как королева. Одна рука просунута в открытое окно и нажимает на клаксон, другая поднята вверх и машет Клэр.
— Ох, нет, — сказала Клэр. — Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста.
Когда мать увидела, что Клэр идет к ней, она села в машину и завела мотор.
— Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста, — продолжала бормотать Клэр, садясь в машину и захлопывая дверцу. Она наклонила голову и прижала обе ладони ко лбу. При этом она слегка раскачивалась.
— Пожалуйста что, Клэр? — спросила мать спокойно, но Клэр сама не знала. Слово не относилось ни к чему конкретному, иначе то, о чем думала Клэр, было бы надеждой. А Клэр ни на что не надеялась. Для Клэр «пожалуйста» было простым выражением желания.
Клэр сидела так несколько минут, держась за лоб, подобрав колени и прижав локти к телу, как будто она в буквальном смысле держала себя в руках. Когда она наконец опустила руки и подняла голову, она не узнала дороги, по которой они ехали, причем ехали очень быстро — узкая дорога с поворотами и ухабами, большие деревья с каждой стороны. Клэр слышала глухие удары: предметы в багажнике бились о стенки машины. Клэр машинально потянулась к ремню безопасности.
— Сбрось скорость, — сказала она тоже машинально, прекрасно зная, что мать не послушает.
Мать сказала что-то, но Клэр не разобрала. Она не сводила глаз с дороги. Мать снова что-то сказала, тоже непонятное, уже громче, и рассмеялась. Краем глаза Клэр увидела что-то синее, движущееся взад-вперед.
— Что ты говоришь? — спросила она. — Ничего не понять. — Клэр глубоко вздохнула и повернулась, чтобы взглянуть на мать. Она была в мягком толстом белом свитере с высоким воротом, темно-синих джинсах, с бриллиантовыми серьгами на винтах. Волосы аккуратно заправлены за уши. Клэр ненавидела ее за то, что она так выглядит — как актриса или модель в отпуске. В руке мать держала два синих конверта.
— Счастливого Рождества в Каталонии, дорогая! — пропела мать. — Ты ведь не забыла?
Билеты на самолет — два билета на самолет в синих конвертах. Предметы в багажнике — багаж. Барселона. Из горла Клэр вырвался стон, и мать повернулась, чтобы взглянуть на нее.
— Нет, нет, нет, мы не можем лететь в Барселону, мама. Ты больна. Мы не можем быть в самолете, или в Испании, или где-то еще, пока ты больна. Разве ты не понимаешь, что с тобой что-то не так? Останови машину, мама. Пожалуйста. — Клэр говорила с матерью как с маленьким ребенком. Она понимала, что не должна паниковать. Если она сдастся, случится беда. Но пока она говорила, Клэр заметила что-то странное в лице матери. Ее правый глаз был большим, с черными ресницами, а левый глаз — меньше, ненакрашенный, почти незаметный. Две стороны лица не совпадали, и это сломило Клэр. Ее опять охватил гнев, и она закричала. В ярости она кричала «Остановись!», лягалась и колотила кулаками по приборной доске.
Мать остановила машину, съехав на обочину и переведя рычаг в режим парковки.
Потребовалось время, чтобы гнев Клэр утих и она пришла в себя. Даже когда ее дыхание выровнялось, она не могла унять рыдания. Сама Клэр наблюдала такое только у грудных младенцев. Ей казалось, что ее вот-вот вырвет. Она обхватила руками живот и взглянула на мать.
Как ни странно, но ее мать плакала. Слезы катились по лицу и падали на свитер. Ее щеки и уголки рта дрожали, и эта дрожь продолжалась очень долго. Потом мать открыла рот, словно задыхаясь.
— Ты права, Клэри, это должно прекратиться. Все. Все. Ты права. — Такого печального голоса Клэр никогда еще не слышала.
Мать Клэр нагнулась и открыла дверцу машины со стороны дочери.
— Мне так жаль. Как так вышло, что все полетело к чертям? Я не знаю. Я не хотела этого. Мне очень жаль, Клэри. — И ей действительно было жаль, Клэр это видела.
Делать было нечего. Клэр отстегнула ремень безопасности, открыла дверцу пошире и вышла на гравий. Мать все еще плакала, закрыв глаза и откинув голову на подголовник.
— Мамочка, — сказала Клэр, наклоняясь ближе, чтобы оставить это слово внутри машины. Затем она отступила и захлопнула дверцу.
Машина тронулась с места. Клэр следила за ней, пока дорога не повернула и машина не исчезла. Небо над ней и дальше, над деревьями, было тусклого блеклого цвета.
— Все кончено, — сказала она деревьям и небу. В ее голосе не было облегчения. Клэр надела рюкзак на оба плеча и зашагала.
Глава 9 Корнелия
— Что разбило тебе сердце? Твое сердце было разбито? Скажи мне. Когда твое сердце было разбито? — спросила я у Мартина. Потому что, если ты собираешься задать глупый и неприличный вопрос, ты вполне можешь повторить его несколько раз подряд без особых вариаций. Бестактный вопрос, я это знала еще до того, как его задала, прежде чем он разнесся в воздухе фальшивой нотой, прежде чем я увидела это выражение — «ну вот, приехали», промелькнувшее у него на лице и тут же исчезнувшее. Вопрос не получился безразличным, тем более что я задала его в трех экземплярах, к тому же лежа в постели — моей, не его, а дома и стены помогают. Но самое ужасное — я задала его сразу же после моего собственного повествования о разбитом сердце.
Я несколько дней раздумывала, спрашивать или нет, я уже надоела сама себе, потому что понимала, насколько неоригинальной делает меня этот вопрос. Подобно злой фее этот вопрос одним махом превращает меня в эфемерное действующее лицо со страниц книги «Сделай сам», которого называют только по имени. Иногда, когда мы сильно простужены и бездумно бегаем по каналам телевизора, о существовании которого мы вообще почти забыли, мы вдруг попадаем на передачу, где обсуждается такая книга. И мы вынуждены признать, как бы нам это ни было неприятно, что кое-что в этой книге правда или похоже на правду, чего мы не ожидали. «Он не хочет со мной разговаривать», — ноет Корнелия, и только посмотрите, она уже не Корнелия, но аллегорическая ноющая женщина. Инопланетянка. Может быть, с Венеры. А Мартин с Марса.
Единственное, чем я могу утешиться, — я придала этому нытью свою окраску, «а-ля Корнелия». Нет, не подумайте, что Мартин не хочет со мной разговаривать. Он разговаривает, мы многим делимся, он подробно рассказывает о себе.
Кроме того, что вы уже о нем знаете, я выяснила, что он родился и вырос в Райе, штат Нью-Йорк. В детстве он был белокурым малышом. Учился он в Чикагском университете и получил степень магистра делового администрирования в Гарварде. Я узнала, что есть многое, что он должен бы любить, но не любит: лошадей, бумажные предметы из переработанного мусора, стихи Лэнгстона Хьюза, французское кино, город Новый Орлеан, сыр на десерт. И вещи, которые он не должен любить, но тайно любит: спортивные машины, оранжевые арахисовые орехи, олимпийское фигурное катание и фильм Джерри Льюиса «Золушка». (Как видите, его тайные пристрастия довольно скромны. А вы чего ждали?) Я узнала, что после «Экзорциста» ему все еще снятся кошмары и что он чувствовал себя патриотом один-единственный раз, когда слушал гимн «Прекрасная Америка» в исполнении оркестра. И что, когда ему было тринадцать, его вертолетом эвакуировали из леса, где он наткнулся на пчелиное гнездо во время пребывания в летнем лагере. И что он тратит астрономические суммы на рубашки по заказу и чувствует себя из-за этого виноватым. И самое главное — он находит меня смешной, красивой и умной.
Он говорил со мной. Я говорила с ним. Мы вообще редко молчали. Сточки зрения болтовни мы были как Джинджер и Фред — крутились, скользили, били степ, наклонялись. Без всяких усилий. Тэппити, тэппити, тэаппити, бам — это я. Тэппити, тэппити, тэаппити, бам — это Мартин. И еще он меня кружил, как никто не кружил раньше, платье развевается, волосы платинового цвета сияют, как луна.
Но я начинала понимать, почему наша сексуальная жизнь оказалась не слишком выдающейся, и если честно, то очень далекой от совершенства. Несмотря на всю нашу болтовню, обмен мнениями, мы никогда не делились друг с другом чем-то по-настоящему важным. Мы только смеялись и веселились. Я никогда не видела никаких его царапин, полузаживших ран, ничего, что бы болело и беспокоило. И он не видел ничего такого у меня. И я решила, что настоящая близость возможна только тогда, когда есть такие знания. Любовь тоже, хотя в этот момент я еще не была готова думать о любви серьезно.
— Потерпи, — сказала я любви тихонько. — Я скоро с тобой разберусь.
Я не приставала к нему с прямыми вопросами. Он что-то рассказывал после того, как что-то рассказывала я. Поэтому я всегда ждала повода, малейшего приглашения. Но не дождалась. И именно тогда я начала свои рассказы, которых никто не просил, как я уже упоминала. Однажды днем я рассказала ему о своей лучшей подруге Энди, которая в пятом классе умерла от лейкемии. После похорон ее мама отдала мне новое зимнее пальто, надеть которое Энди не успела — алый капюшон оторочен мехом. Вместе с этикетками я вешала его в шкаф везде, где мне приходилось жить, включая мою нынешнюю квартиру.
Я рассказала ему, что бросила аспирантуру после половины семестра, потому что я так ненавидела занятия, что если бы осталась там, то не прочла бы больше ни одной книги в жизни. Однако потом я с тоской вспоминала об этом, о моей первой большой неудаче. Несколько недель не могла собраться с силами, чтобы кому-нибудь рассказать о своем поступке.
Я рассказала ему о моей сестре Олли, которая старше меня на два года, о том, как страстно мы любили друг друга в детстве, а теперь выросли и отношения усложнились. Это был даже не рассказ, в нем отсутствовал сюжет. Но была человеческая драма — мы перестали быть сестрами. Я готовила салат и говорила о сестре, когда я начала плакать, то решила, что всему виной лук, и выбросила салат в помойное ведро.
Делиться подобными откровениями было непросто, мне не больше других нравится быть уязвимой, возможно, даже меньше. И все эти события и чувства из разряда тех немногих тем, важность которых я не могу спрятать за шутку или насмешливый тон. Это говорит о том, насколько дорог становился для меня Мартин.
Нельзя сказать, что он облегчал мне задачу. Каждый раз, когда я пускалась в рассказ о своем разбитом сердце — а я говорила без надрыва, как можно спокойнее, только один раз заплакала, — я замечала, как он старается всем своим видом показать свой живой интерес, но на самом деле просто терпел мою исповедь. Он терпел и умел при этом выглядеть нежным и красивым. И каждый раз он печально улыбался, отчего в углах глаз появлялись морщинки, и гладил меня по руке. Ничего не было в этом плохого, не на что жаловаться, но только эти прикосновения стали мне вскоре казаться просто снисходительным участием.
Как раз перед тем, как я вылезла со своим «Что разбило твое сердце?», я рассказывала Мартину про миссис Голдберг, Сюзетту Голдберг. Я довольно естественно перешла на тему о Сюзетте, хотя эта тема была частью моего проекта по внедрению в душу Мартина. Миссис Голдберг точно не стала бы возражать, я абсолютно уверена.
Как я уже упомянула, мы с Мартином лежали в постели, положив под спины подушки. Моя голова склонилась ему на плечо, мы лежали тихо, и я решила нарушить молчание, сказав:
— Mousquetaire.
— Мушкетер? — спросил Мартин.
— Нет, Mousquetaire. — Я показала на противоположную стену спальни. — Оперная перчатка. Они их так называли.
Они были в рамке, эти оперные перчатки. Конец девятнадцатого века, белая кожа, перламутровые пуговички. Я разместила их на сиреневом бархате. Если в моей квартире когда-нибудь случится пожар, перчатки в рамке будут первыми, что я схвачу, чтобы спасти.
— Миссис Голдберг подарила мне эти перчатки, — начала я. — Она была нашей соседкой, и хотя она была слишком старой, чтобы быть моей матерью — я не помню, чтобы она когда-нибудь не выглядела старой, — она давала мне то, что моя настоящая мать дать мне не могла. О ней можно рассказывать без конца, и все будет мало. (Когда я описывала ее Мартину, мои воспоминания показались мне неинтересными и скучными, тогда как сама миссис Голдберг и мое отношение к ней были чем-то исключительным.) Она угощала меня печеньем «Мадлен» и свежими финиками. Она рассказывала мне о своей жизни в Нью-Йорке и своем муже, Гордоне, в которого она влюбилась, когда ей было одиннадцать лет, а ему семнадцать.
Мы часами сидели на ее уютном чердаке, разглядывая ее аккуратно сложенные сокровища: все разложено по коробкам или завернуто в лоскуты мягкой ткани. Разрисованный веер, венецианское кружево, четыре нитки сияющего жемчуга, каждая с застежкой в форме насекомых: стрекозы, бабочки, божьей коровки, шмеля. Она и три ее сестры получили по нитке, когда им исполнилось по шестнадцать лет. Альбомы с фотографиями и бесчисленные семейные портреты, некоторые не больше почтовой марки, другие в человеческий рост. Руки у миссис Голдберг были волшебными, и каждый предмет, к которому она прикасалась, сразу становился реликвией из Атланты или Трои.
И каждый предмет обязательно имел свою историю, и эта история окружала его как нимб. Все рассказы миссис Голдберг были яркими, со множеством деталей, от них исходил свет Нью-Йорка, они были связаны с войной, музыкой и танцами, путешествиями. Мы говорили и о любви, хотя миссис Голдберг была не из тех, кто гордится тем, что разговаривает с детьми, как со взрослыми. Когда мы с ней беседовали, я чувствовала себя избранной, особенной.
— Ты видишь, как изогнут этот каблук, Корнелия? — спрашивала она, передавая мне туфлю. — Разумеется, для дальних прогулок не годится, но я много ходила в этих туфлях, когда летом жила в доме сестры Гордона, мне тогда было девятнадцать.
Моя настоящая дружба с миссис Голдберг началась, когда мне исполнилось восемь лет, и даже после поступления в колледж я навещала ее по крайней мере раз в месяц. Я любила ее больше, чем нуждалась в ней, но я и нуждалась в ней. Ее жизнь была такой замечательной, что возможность прикоснуться к ней делала меня богаче, внушала надежду, когда я сама не могла разобраться со своими делами.
Туман появился, когда я училась на последнем курсе колледжа. Сначала еле заметная дымка, которая с годами сгущалась. Альцгеймер, решила я, хотя никто, ни мои родители, ни ее дети никогда не произносили этого слова в моем присутствии. Я понимала, что бесполезно валить все на природу, и представляла себе плохие гены, забравшиеся в какую-то далекую хромосому, как в дом, и проклинала их от души. Невозможно не видеть злого умысла в этой ужасной болезни, доставшейся на долю именно этой женщине, человеку, который был копилкой, ларчиком для драгоценностей (простите мою не слишком удачную метафору), где хранилось столько воспоминаний, удивительных и уникальных, настоящие яйца Фаберже с воспоминаниями. Ее дети выбрали пансионат для пожилых людей с медицинским обслуживанием, расположенный в чаше долины в горах Блю-Ридж, довольно близко от наших мест. Она и думать не хотела о том, чтобы продать дом, поэтому они и не стали этого делать. Ее дочь Руфь позвонила мне в Филадельфию.
— Она хочет, чтобы вы помогли ей выбрать вещи, которые бы она могла взять с собой. Только не очень много, — предостерегла Руфь. И я поехала.
День выдался славным. На самом деле день был ужасным, хорошим он был только потому, что болезнь миссис Голдберг немного отступила, чтобы мы могли набрать из ее пещеры Али-Бабы одну маленькую коробку сокровищ. Перед моим отъездом она подарила мне перчатки.
— Они принадлежали моей матери, теперь они твои, дитя моего сердца, — сказала она. Хороший день, прекрасный подарок, но как жестока жизнь.
Мартин похлопал меня по голове. Нет, не хлопал он меня по голове. Погладить — это вовсе не похлопать. А он погладил, два раза, как будто два раза лучше, чем один, как будто эта история стоит двух поглаживаний. Дело в том, что, рассказывая Мартину эту историю, я почти забыла, что он рядом. Так что когда я дернулась, почти отшатнулась и даже рассердилась, вот и выпалила эти дурацкие вопросы.
— Что разбило тебе сердце? Твое сердце было разбито? Скажи мне. Когда твое сердце было разбито?
Надеюсь, в моем голосе не было вызова. И требования не было, хотя требование есть требование, как ни крути.
Надеюсь, я не призывала поквитаться, что было бы ужасно. Уверена, мои вопросы прозвучали жалостливо. Есть старая песня Шейлы Е., она поет о женщине в магазине белья, которое она не может себе позволить. Почему я об этом заговорила? Скорее всего не следовало бы этого делать, но это имеет какое-то отношение к вопросам Мартину. Вы хоть немного понимаете, что я хочу сказать? Вопросы, задавая которые вы уничтожаете саму причину, вынуждавшую вас их задать. Понятно? Что-то вроде: «Если вы вынуждены спрашивать, то вы никогда не получите ответ, на который надеетесь». Или вот так еще: «Если вы задаете этот вопрос, чтобы его удержать, девушка, то его уже и след простыл».
Когда выражение легкого недовольства исчезло с лица Мартина, он стал самим собой. Улыбнулся, взял мое лицо в ладони. Нежно, сплошное очарование, смешинка в голосе. Он сказал:
— Я сдавал все это на хранение. Берег для тебя, К.К. Браун.
Он был невероятно мил и ласков. Я все еще в это верю.
На следующее утро довольный Мартин удалился, так ни о чем и не догадавшись, за чем последовали несчастные сорок восемь часов. Я в халате бродила по квартире, плакала, пила чай, ела горячий суп и другую пищу для больных. Открывала и закрывала книги. Снимала телефонную трубку и снова опускала ее. Вспоминала его голос и все те необыкновенные слова, которые он мне говорил. Валялась на диване, придавленная грузом собственного несчастья, и пыталась посмотреть фильм «Знакомьтесь с Джоном Доу». Несмотря на общепринятое мнение, я уверена, что никто не показывает так правдиво темные стороны жизни, как Капра. Я старалась убедить себя, что мое разочарование и одиночество не идет ни в какое сравнение с разочарованием и одиночеством других, что оно мелкое, несерьезное. Фильм плохо повлиял на меня, потому что во всех фильмах Капры побеждала любовь, а я была убеждена, что в моем случае этого не произойдет.
В субботу утром, очень-очень ранним утром, я проснулась от фантастического свечения из окна. Снег. Снег под светом фонарей и просыпающееся небо. Голубоватое, чистое, безмолвное. День никогда не выглядел таким новым.
— Глупая девочка, — прошептала я, — что с тобой стряслось? Каким образом мне удалось убедить себя, что все зависит от одного вопроса? Я привела его в смятение, застала врасплох. Стыд и позор. Но не все потеряно. Все? Неужели я действительно так думала? Ничего не потеряно, абсолютно ничего.
Я стояла у окна и наслаждалась чувством облегчения. Затем приняла душ, слопала огромный завтрак и под снегом отправилась на работу.
В этот день в кафе будет много народу — рождественские покупатели и гости из других мест, но пока еще было почти пусто. Жак, косящий под француза юнец, которого я недавно наняла, опаздывал, но я не сердилась. Я вообще не могла ни на кого сердиться. Все еще вспоминая прогулку по сверкающему снегу, я сделала всю подготовительную работу, наслаждаясь запахом корицы и шоколада, разливая жирные сливки в молочники. Я поздоровалась с Бобом, который привез выпечку, как с давно потерянным и вновь обретенным братом, спела арию круассанам и фруктовым тортам, и, когда появились Хейс и Хосе, одарила их приветливыми улыбками.
Еще через десять минут, нарезая лимоны, я подняла глаза. Передо мной стоял Мартин Грейс. И рядом с ним — маленькое существо с каштановыми волосами в старинном, до пола, норковом манто.
Я моргнула и тряхнула головой, чтобы опомниться — нет, в самом деле я так и сделала — и вновь посмотрела на крошечную женщину. Ребенок, очаровательный маленький ребенок. В глазах невероятное выражение — напряженное, гневное, испуганное и безмерно печальное. Не было нужды спрашивать у этой девочки, не разбито ли ее сердце.
Я заметила выражение глаз прежде, чем заметила сами глаза. Стоило мне их увидеть, как я все поняла. Бесспорное сходство.
— Корнелия, это Клэр, — сказал Мартин, слегка улыбаясь. Девочка начала дрожать, но задрала подбородок.
— Клэр Хоббс, — сказала она чистым и гордым голосом и расплакалась. Слезы потекли ручьем, она уже рыдала. Мартин слегка отступил. Хейс встал, подал сигнал Хосе, и они оба вышли, оставив чашки с дымящимся кофе на столе. Мы остались втроем, двое взрослых и один ребенок. И потому что кто-то должен был это сделать, я подбежала к Клэр и обняла ее. Мы были с ней одного роста. Я обняла ее крепко, так, как умела.
Глава 10 Клэр
Клэр лежала на боку в гостевой спальне в квартире своего отца. Она не спала и пыталась представить себе, что она — ветка плывущего по воде дерева. Она подобрала колени и обхватила их руками, вся сжавшись, чтобы казаться как можно меньше. Ей хотелось, чтобы каждая часть ее тела касалась другой части, и она чувствовала бы все свои края и все места, где кончалась Клэр и начинался мир. «Плыви, — подумала она, — плыви дальше». Хотя ей вовсе не хотелось об этом думать. Она взглянула на лампу, стоявшую на столике у кровати. Предмет, которому никогда не нужно думать. Думать, воображать, решать, волноваться — Клэр со всем этим покончила. Плыви, несомая ветром. Она даже слегка покачалась в постели, позволяя волнам перекатываться под ней, унося ее в неизвестную даль.
Но даже когда она лежала там, став предметом и отказавшись от всего, она понимала, что ничего у нее не получается. Отказаться от всего — значило заснуть, и именно этого отчаянно хотело ее тело. Но как только все начинало путаться в голове, веки тяжелели, и она все глубже погружалась в сон, Клэр немедленно возвращалась к реальности, говоря: «Нет, в последний раз я сказала, что никогда больше не буду здесь спать, и я не буду. Никогда».
Есть кому до этого дело? Она постаралась уверить себя, что никто больше о ней не беспокоится. Потому — плыви. Пусть случится то, что случится. Ведь уже случилось, разве не так?
Но в голове все еще настоятельно звучали слова: «Нет. Никогда. Нет. Нет. Нет». Клэр неохотно села. При этом то, что казалось ей непонятным шуршанием и шумом в соседней комнате, превратилось в голоса. Ее отец и его подруга, очень маленькая женщина с мальчишеской стрижкой, которая обняла Клэр, когда она заплакала.
Клэр ненавидела себя за это: завыть, как младенец, перед отцом. Но она не смогла сдержаться. Эти слезы случились, как все теперь случалось, подобно грозе — налетела, прошумела, и снова тихо. Маленькая женщина не отпускала Клэр, даже когда она опустилась на пол. Когда плач прекратился, женщина помогла Клэр сесть на стул, ни на секунду не убирая своих рук с ее плеч, отдала какие-то распоряжения высокому изумленному взлохмаченному парнишке, который, очевидно, появился незаметно для Клэр. Затем женщина присела перед Клэр на корточки и посмотрела ей в глаза.
— Ты готова? — спросила она. Через несколько секунд Клэр кивнула. Тогда, не говоря больше ни слова, даже отцу Клэр, маленькая женщина повела Клэр к двери, оттуда на улицу и дальше, через площадь, к отцовскому дому, в его квартиру.
«Они говорят обо мне», — подумала Клэр. И хотя ей совсем не хотелось этого делать, как, впрочем, ничего другого, Клэр соскользнула с постели и прошла по коридору, чтобы лучше слышать, о чем они говорят. Она села на пол и положила подбородок на подлокотник шезлонга, сделанного из кожи и металла. Клэр запомнила его со своего последнего визита в эту квартиру. А когда она была маленькой, ей казалось, что шезлонг похож на стрекозу. Клэр, по сути, и не пряталась, просто притихла. Отец и его подруга сидели за обеденным столом лицом друг к другу. Клэр было видно только лицо женщины. Если женщина посмотрит в эту сторону, она увидит Клэр.
— За эти несколько месяцев я научился читать твое лицо, Корнелия. У него свой язык, у твоего лица.
Корнелия. Имя удивило Клэр. Она вообще не думала, как зовут женщину, но как только отец сказал «Корнелия», она поняла, что ждала чего-то другого: Мег, Кейт, Джил. Что-нибудь коротенькое, как сама женщина, что-нибудь отрывистое, как команда. Корнелия. Длинное, целых три слога или даже три с половиной, и старомодное. В книге «Дом мечты Анны» есть действующее лицо, и ее зовут Корнелия. Она подруга Анны. Эта Корнелия — подруга ее отца, и Клэр совсем не была уверена, что хочет узнать ее получше. Но если Клэр захочет как-то ее называть, она сможет называть ее Корнелия.
— Мартин, — сказала женщина-Корнелия. Клэр решила, что про себя она может называть женщину этим именем, ведь никто не услышит, что она это делает.
— Я и сейчас пытаюсь. Я думаю, у меня получается. Но, наверное, я читаю неправильно, потому что не вижу в нем гнева. Ты должна на меня злиться. Любой бы разозлился. — Голос низкий и серьезный. Клэр подумала, что он прав. В лице Корнелии было все, что угодно, но злости не было.
— Злиться, — повторила Корнелия спокойно, как будто раздумывая. Она сидела неподвижно.
— За то, что вот так явился, вместе с ней. Я пока не понимаю, что случилось, но знаю, что неразбериха страшная. И я знаю, что это не твоя неразбериха, а теперь я тебя впутал. — Отец Клэр протянул руку через стол и положил ее на ладонь Корнелии. Он несколько секунд смотрел на руку, потом сказал: — Ты очень правильно себя с ней повела. Спасибо тебе.
— Не благодари меня. — Голос Корнелии звучал напряженно. — Ты думаешь, я что-то имею против девочки? Не хочу ей помочь? Твоей дочери? — Корнелия произнесла слово «дочь», как будто она его только что выучила, как будто это иностранное слово, которое она старается произнести правильно. Клэр видела, как Корнелия посмотрела на их руки на столе. Затем она убрала свою руку и немного выпрямилась на стуле.
— Мы с тобой говорим не о том, о чем нужно говорить, Мартин. Нам придется поговорить обо мне и о нас, о том, злюсь я или нет, но не сейчас. Что случилось? Что случилось с Клэр?
— Я мало что знаю. Сегодня рано утром мне позвонила девушка, взбешенная, злая, как черт. На меня, так я думаю. Она пришла убираться и обнаружила, что Клэр одна в доме. Клэр только сказала, что ее мать уехала.
— Что значит — «уехала»? — спросила Корнелия.
— Все, ничего больше. Уехала. Клэр больше ничего не сказала. Когда я приехал, Макс — так зовут девушку — ждала меня вместе с Клэр. Клэр сидела рядом с ней на диване в этой шубе, с рюкзаком на коленях, и смотрела куда-то в пространство — так мне показалось. Макс проводила нас до машины, и мне казалось, что Клэр не отпустит ее руку.
Клэр заметила, что глаза Корнелии полны слез.
— Бедняжка Клэр. Бедная маленькая напуганная девочка. — Корнелия сказала это так, что Клэр не рассердилась, хотя она не хотела, чтобы ее жалели.
— Макс что-то прошептала Клэр на ухо и положила ей что-то в карман. Только тогда Клэр ее отпустила и села в машину.
— Она сказала что-нибудь еще о матери? О том, что произошло?
— Она вообще ничего не говорила, и я решил, что лучше к ней не приставать. Когда я у нее спросил, завтракала ли она, она лишь покачала головой.
— И ты привел ее в кафе. Чтобы накормить завтраком. — Впервые в голосе Корнелии зазвучали сердитые или обиженные нотки, но едва заметные. Но когда отец снова заговорил, голос у него остался обычным, как будто он не заметил перемены.
— Да, я подумал, может быть, она съест круассан и выпьет какао.
Корнелия уставилась в потолок и шумно выдохнула.
— Не обращай внимания, — сказала она. — Ты можешь догадаться, почему ее мать так поступила? Она делала что-нибудь подобное раньше?
— Не могу сказать с полкой уверенностью. Думаю, что нет, но Вивиана всегда была…
Клэр услышала, как он назвал ее по имени. Тогда она встала и крикнула:
— Нет! Она бы меня не бросила. Она не хотела. С ней что-то случилось.
Корнелия встала, уронив стул.
— Нам нужно позвонить в полицию, Мартин! — Она повернулась к Клэр. — Кто-нибудь за ней заезжал? С ней все будет в порядке, но ты должна нам все рассказать. Она что, просто уехала и не вернулась домой? Она уехала на машине?
Клэр оцепенела, обдумывая, что можно рассказать. Она так долго хранила эту тайну, к тому же она этих людей не знала, даже отца. Она не могла им доверять. Но нельзя допустить, чтобы они звонили в полицию.
— Не надо звонить в полицию. Вы не можете так поступить. Никто ее не увозил. Она заболела. Была не в себе. И уехала. Я не знаю, вернется ли она когда-нибудь. Но вы не должны звонить в полицию, потому что она не хотела делать то, что сделала. — Слова вылетели, как пули. Клэр увидела, что Корнелия направляется к ней, но девочка подняла руку, чтобы остановить ее.
Клэр смотрела прямо на отца, который все еще сидел за столом.
— Она была больна, — сказала Клэр ледяным тоном. Корнелия выжидающе посмотрела на Мартина.
— Я ничего не знаю, — сказал он, поднимая руки вверх, как бы демонстрируя свою непричастность. Клэр слушала, как он это говорит. Он ничего не значит. Он никогда ничего не значил, не значит и теперь.
— Я бы хотела сейчас поехать домой, — заявила Клэр Корнелии. — Она может вернуться.
— Ты думаешь, она вернется? — мягко спросила Корнелия.
Клэр вспомнила, как мать говорила, что ей очень жаль, таким печальным-печальным, прощальным голосом. Клэр покачала головой. И, почувствовав, как по щекам потекли слезы, закрыла лицо руками.
— Твой папа вернется в дом и оставит для мамы записку, — сказала Корнелия. Теперь она стояла совсем близко от Клэр, но не касалась ее. Клэр не хотела, чтобы ее касались. — Тогда она узнает, что ты здесь, и сможет тебя найти. Но даже если она не вернется, мы ее обязательно найдем. Мы ее найдем и поможем вылечиться.
Несколько недель Клэр изо всех сил старалась держать себя в руках, не позволяя распуститься. И сейчас, оттаяв, ей очень хотелось поверить Корнелии. Клэр была рада, что Корнелия здесь, что она говорит эти слова. Если бы Корнелии не было, Клэр осталась бы совсем одна. И когда Корнелия спросила: «Договорились?» — она кивнула.
Она села на шезлонг-стрекозу, а Корнелия села рядом.
— Но я здесь не останусь. Я тут все ненавижу. Я могу жить в гостинице или где-нибудь еще. Может быть, я могу пожить у Макс. Она дала мне номер своего мобильного телефона. — Клэр вытащила из кармана карточку. На ней рядом с номером было написано: «В любое время». Слово «любое» было подчеркнуто тремя чертами. — Но здесь я не останусь.
— Почему бы нам не пойти куда-нибудь прямо сейчас и не поговорить об этом? — спросила Корнелия.
— Ладно, — согласилась Клэр, хотя ей уже больше не хотелось разговаривать. Она очень устала. Веки отяжелели. Шуба мешала двигаться.
— Тогда подожди здесь минутку, я поговорю с твоим отцом. — Корнелия встала и пошла на кухню. Клэр могла их слышать. Наверное, они спорили, но она не была в этом уверена. Когда Корнелия вернулась, в ее глазах тоже появилась усталость, но она улыбалась.
— Твой папа оставит записку для мамы в вашем доме. А мы поедем ко мне домой, если ты не возражаешь. Это близко. А он приедет позже, верно, Мартин?
— Разумеется, — сказал отец. Обращался он к Корнелии.
Клэр и Корнелия пошли к выходу, Мартин шел за ними. Когда они все втроем стояли у двери, он начал что-то говорить, замолчал, потом протянул руку, чтобы коснуться локона Клэр, который упал ей на лицо. Он не подергал его шутливо, не заправил за ухо, как сделала бы мама, а задержал прядь между большим и указательным пальцами на одну-две секунды. Девочка ждала, когда он уберет руку. Они вышли из квартиры. Корнелия пошла по заснеженному тротуару, то и дело оглядываясь, чтобы убедиться, что Клэр идет за ней. Клэр в тяжелой шубе сделала несколько шагов, устало передвигая ноги, совсем как медведи из ее рассказа.
Когда они добрались до квартиры Корнелии, Клэр вошла и остановилась, слегка покачиваясь. Над головой сверкала люстра, но все остальное в квартире она видела нечетко. Корнелия взяла ее за локоть и отвела в спальню. Клэр упала на кровать и продолжала падать, падать, падать. Когда она проснулась, было темно, и в этой темноте Клэр пыталась найти свою мать.
Глава 11 Корнелия
«Не бойся быть родителем; некоторые родителями рождаются, другие становятся ими, третьим эта обязанность навязывается».
Да, несмотря на похвальбу в сырном магазине, я достаточно хорошо знаю Шекспира, чтобы признать, что цитата эта не точна. Хотя я всего два месяца посещала курс английской литературы. «Двенадцатая ночь» не самая моя любимая пьеса, но я отношусь к ней очень трепетно. Мне она нравится за остроумие и очарование; «Короля Лира» я люблю за глубину вечных истин. «Сбалансированная диета, прекрасно представлены потребители ментальной и эмоциональной пиши». Мне приходилось бывать на вечеринках, где подобного рода высказывания были равносильны выплескиванию ведра окровавленной рыбы в аквариум с акулами: злобное щелканье зубами, и никому не удавалось выбраться без царапин. (Если вообще удавалось выбраться.) Я такого рода споры люблю, но стараюсь избегать их, потому что, с одной стороны, искусство — важная вещь, и, из-за него стоит завестись, но, с другой стороны, я могу колотить кого-то по голове сценой примирения Лира и Корделии, на что кто-то просто ответит: «Быть или не быть?» И куда нас все это заведет? Мой опыт говорит мне, что люди любят то, что любят.
Или не любят того, чего не любят. Вот так просто. Это было небольшое отступление, но главная и единственная тема для меня сейчас — ребенок, Клэр Хоббс — когда-то Клэр Хоббс Грейс, дочь Мартина Грейса, как Корделия была дочерью Лира.
Я привела ту цитату только для того, чтобы доказать, что она только частично справедлива, потому что, насколько я могу судить, родителем человек часто становится по принуждению. Никто не бывает полностью к этому готов. Судьба выбирает вас в родители.
Пока бы еще не успели поднять все свои колючки — мне эти колючки нравятся, нормальные колючки, у меня самой их навалом, — я должна пояснить, что я говорю не о выборе в том смысле, в каком мы обычно понимаем это слово. Не о том выборе, где вы просто высказываетесь «за» или «против». Я говорю о выборе в прошедшем времени, о зачатом ребенке. И разумеется, я снова вижу эти поднятые колючки, потому что знаю, что многие люди приходят к выводу, что они должны спихнуть родительский долг на кого-то с большими возможностями. Я не осуждаю этих людей и не пытаюсь призвать их к ответственности. Если я и хочу взвалить на кого-то вину, а я явно хочу, то на таких людей, у которых достаточно средств (если ты можешь позволить себе пентхаус, несколько фотографий Эдварда Уэстона с автографами и шезлонг от Нис ван дер Роэ, ты можешь позволить себе и ребенка, верно?), они вполне взрослые, обладают великолепным здоровьем и красотой и поэтому заслуживают, чтобы им не давали сорваться с крючка.
Я говорю о Мартине. Потому что пока его усталая одиннадцатилетняя дочь с разбитым сердцем спала в соседней комнате в чужой постели, Мартин, сидя рядом со мной на диване, сказал:
— Я не гожусь кому-то в родители. Никогда не годился. — Он аккуратно снимал себя с крючка, при этом даже ничуть не помяв свою английскую рубашку, сшитую на заказ.
Вот только я не могла это так оставить. Я могла бы восхититься его прямотой, я могла бы заглотнуть этот долгожданный кусочек душевного откровения, почувствовать его сладость на языке и продолжать жить дальше. Было бы так легко пропустить это мимо ушей, но я не могла.
— В отцы, — сказала я.
— Что?
— Не годишься в отцы. Ты сказал «родители», — объяснила я.
— Какая разница? Какое это имеет значение? — спросил он упавшим голосом. Я снова вспомнила песню Шейлы Е.: «Если ты должен спросить, если ты не можешь себе позволить…» Я сдержалась и не пропела эти слова, за что мысленно записала себе несколько жалких плюсов.
— Может быть, ты делаешь свое дело не потому, что ты для этого создан. Может быть, ты это делаешь потому, что твой ребенок в этом нуждается. — Сказала я. Последовала длинная пауза.
— Мы с тобой еще мало знаем друг друга, Корнелия. Но между нами что-то есть. Я так думаю. Во всяком случае, я бы не стал делать о тебе поспешные выводы. Я бы сначала все взвесил. А ты не могла бы поступить со мной так же? — Голос у него был тихий.
А он мог бы сказать мне: «Тебе тридцать один год, ты не замужем, детей нет, менеджер в маленьком кафе. И ты не знаешь, что значит быть родителем». Или: «Наверное, приятно сидеть на таком высоком моральном пьедестале, Корнелия. Там чистый воздух. Все недостатки других людей прекрасно видны оттуда».
Но он был нежен и печален и куда более справедлив, чем я заслуживала, и, несмотря на обиженного ребенка, спящего в соседней комнате, я хотела быть с Мартином и все еще не потеряла надежды. Я хотела, чтобы наша взаимная любовь состоялась. Кроме того, знала, что все, чего он не сказал, хотя мог бы, было вполне справедливо, и мне стало совестно. Могу ошибаться, но я не выношу, когда поддерживаю неправого.
— Извини, Мартин, — сказала я. — Мне очень жаль, и ты прав, я могла бы сделать то же. — Слезы навернулись мне на глаза, я взяла его руку и поцеловала ее. — Но уж раз мы заговорили о нас, хочу спросить (заткнись, заткнись, заткнись, Корнелия), почему ты мне ничего не сказал о Клэр? — Милостивый Боже, неужели я никогда не научусь держать язык за зубами? Неужели это невозможно?
И тут я увидела этот изумленный, незащищенный взгляд на его лице. Этот взгляд говорил: «Я не рассказал тебе о Клэр, потому что мне не пришло это в голову, потому что мне это не казалось достаточно важным, чтобы об этом говорить». Все еще не спрятав это выражение, Мартин начал:
— Я не знаю. Я не думал, что это… — и слово так и повисло в воздухе — слово «важно». Я его видела своими глазами — черное, рваное. Но Мартин быстро опомнился.
— Я хотел тебе сказать. Правда, хотел. Но у меня почему-то не получалось. Как ты уже догадалась, у нас с Клэр были сложные, не слишком хорошие взаимоотношения. Может быть, я боялся, что ты от меня сбежишь.
Ответ был удачным. На «отлично», великолепный ответ. Он ведь признавался в своей уязвимости, разве я не этого хотела? Еще он сознавался, что хотел бы удержать меня, — и этого я хотела тоже, верно? Но он опоздал со своим признанием. Я уже успела заглянуть за занавес, на маленького манипулятора, который прятался за большим Мартином.
Мне нужно будет об этом подумать, определенно нужно будет подумать. Но хотя мне это и нелегко дается, я могу закрыть глаза на жестокую правду, во всяком случае, на время. А Мартин, способный спрятать мысль о своем ребенке, как старые ключи, был как раз такой правдой, для которой существовало слово «потом». Кроме того, мне предстояло решить более срочные вопросы. Факты таковы: никогда раньше ни один ребенок не спал в моей постели. Вчера — никакой маленькой девочки. Сегодня утром — никакой маленькой девочки. А теперь там была маленькая девочка, там была Клэр.
— Что ты собираешься делать, Мартин? Для Клэр? — спросила я.
— Ну, — Мартин сразу стал деловым, — нам нужно найти Вивиану, разумеется. Я сообщу в полицию о пропавшем человеке. Знаю, я обязан это сделать. Если Клэр права и Вивиана больна, или у нее какой-то приступ, она может быть в опасности. Знаешь, я хотел сразу позвонить в полицию, но что-то меня остановило. Возможно, у Вивианы могут быть большие неприятности из-за того, что она бросила Клэр. Юридические неприятности. Могут быть далекоидущие последствия. Более того, Вивиана довольно известная личность в светских кругах города. И ей, и Клэр будет трудно, если об этом станет известно. Клэр нужна ее мама. Нужно, чтобы ее жизнь вернулась в нормальную колею как можно скорее. И чем быстрее, тем лучше.
«Для тебя лучше», — подумала я без всякого сочувствия.
— Вот я и сделал довольно смелый шаг и нанял частного сыщика, — объявил Мартин.
— В самом деле? — спросила я, сразу вспомнив про Сэма Спейда, Филиппа Марлоу и даже типов из черных фильмов, к которым подходило определение «жесткий». Когда я посмотрела на него, обычно холеный, безукоризненно аккуратный Мартин показался мне слегка потускневшим и погрубевшим. Меня это заинтриговало.
— Хорошая детективная фирма, с прекрасной репутацией. Они назвали мне детектива, к услугам которого неоднократно прибегали и остались очень довольны. Конечно, само задание связано с определенной деликатностью, но фирма обещает строгое соблюдение тайны. Как ты думаешь, я правильно поступил? — Я поймала себя на том, что мне снова понравилось, как нравилось и раньше, что Мартин интересуется моим мнением — как будто мой вклад будет невероятно важен.
— Наверное, — сказала я. — Если этому агентству действительно можно доверять. — Но я не была уверена, совсем не уверена. Как я уже говорила, я дочь своей матери, а моя мать — самая осторожная и законопослушная на свете. Она никогда не обратится к частному детективу, сыщику или кому-нибудь еще. Она обратится к властям, куда положено, и пусть карты падают так, как повелит судьба. Вот так и меня воспитывали. Но когда у тебя в голове все перепуталось, лучше держать подобные знания при себе. Клэр была нужна ее мать, и, следовательно, все действия должны быть направлены на то, чтобы они снова были вместе.
— Но тем временем… — начала я, потому что до того, как Мартин выступил с идеей частного детектива, я не думала о поисках Вивианы. Я думала только о девочке в шубе, лежащей на кровати, которая, дай Бог, проснется после того, как ее мать вернется домой. Я была уверена, что она обязательно вернется. — Что насчет Клэр?
Мартин совсем растерялся.
— Я не… Я не знаю. Не знаю, что делать. Ей ведь нужно… — Он замолчал. Затем морщины на лбу разгладились. Он взял с пола рюкзак и протянул мне. Он был от Л.Л. Бин, двух оттенков розового цвета, к карману пришита этикетка со словом «Клэр». — Она оставила это в машине. Может, там есть то, что ей нужно.
Я расстегнула рюкзак и обнаружила блокнот на металлических кольцах, что-то вроде книги, сильно помятый. Я не стала читать. Мартин с надеждой смотрел на меня.
— Наверное, ей это все понадобится, — мягко сказала я. А про себя подумала о зубной щетке, свитерах, пижамах, еде, постели. — Мне кажется, тебе надо отпроситься с работы, чтобы побыть с ней.
Никогда не следует недооценивать силы физической красоты. Она действует на тебя незаметно, и контролировать это ты не можешь. Возможно, красота зависит от генетики или эволюционного развития человека. Как и наше к ней отношение. Об этом мне стоит расспросить свою сестру-генетика, которая изучает такого рода вопросы в какой-то балдежной научной лаборатории в Лонг-Айленде. Но, как я уже говорила, нельзя сказать, чтобы мы с Олли были близки.
Так или иначе, есть нечто неотразимое в приунывшем красавце, а когда я спросила, что делать с Клэр, Мартин превратился именно в приунывшего красавца. Я была тронута.
— О… — произнес Мартин голосом, которого я еще от него не слышала. Он было открыл рот, чтобы заговорить, но тут же закрыл, не произнеся ни слова. Он посмотрел по сторонам, словно ища ответ на вопрос, что делать с Клэр, но увидел только диванные подушки. Он несколько раз потер костяшками пальцев ямочку на подбородке. «Думай, думай, думай». Я почти слышала, как он думает.
Затем он посмотрел на меня, наморщив классический лоб и взметнув густые, но не слишком, брови идеальной, но не женственной, формы, и его темные глаза в обрамлении пушистых ресниц встретились с моими, и то, что я увидела в их чудесной глубине, была простая, голая паника. Я вовсе не каменная. Поэтому я сказала:
— Она может остаться здесь. Со мной. Если захочет.
— Я буду приходить как можно чаще, как только смогу. Я буду делать все, что ты скажешь. Спасибо тебе, Корнелия. — Он едва не прыгал от радости. Его благодарность была безмерной, как океан. — Не знаю, как тебя и благодарить.
— Ты уже поблагодарил. Достаточно. — Мартин был не из тех, кто не обращал внимания на то, как его воспринимают окружающие, и в данный момент его вздох облегчения был просто неприличным. То, что он этого не заметил, свидетельствовало, как далеко его занесло, как ужасала его перспектива общения со своей дочерью. Меня это разозлило.
«Думай о Клэр, — напомнила я себе, — о том, что нужно девочке». И тут я осознала всю абсурдность этой ситуации. За всю мою жизнь у меня не было даже никакого домашнего любимца. Как может женщина, которая не заботилась даже о хомячке, взваливать на себя заботу о ребенке? Я постаралась выбросить эту мысль из головы и сосредоточиться.
— Одежда. Ты что-нибудь взял, когда ездил, чтобы оставить записку? — спросила я его.
Он явно смутился.
— Я ей пообещала, что ты съездишь. Ты не поехал.
— Поеду завтра. Все мои мысли были только о том, как найти Вивиану. Весь день разыскивал подходящее детективное агентство и нанимал сыщика. Кстати, этому детективу — его зовут Ллойд — надо будет побывать в доме, посмотреть, не сможет ли он что-то найти. Я его завтра туда везу. Мы должны ему помочь.
— И ты привезешь одежду для Клэр? — напомнила я ему.
— И я привезу одежду для Клэр. И все остальное, что ей понадобится. Спроси ее. Я привезу все, что она захочет, — сказал он.
Как раз в этот момент из спальни донесся потерянный, тоскливый зов Клэр. Она говорила нам, что ей нужно.
— Мама, мама, мама.
Я вскочила. И сразу же остановилась. Посмотрела на Мартина, который медленно встал и пошел в спальню. Он пробыл там не больше минуты.
— Я ей не нужен, — грустно сказал он. — Она зовет тебя. Она хочет видеть тебя.
Думаю, ничего такого она не хотела, но что она не хотела видеть его, я знала точно.
— Уходи, уходи, уходи. Поезжай домой. Позвони мне утром, — попросила я его.
Он взял мое лицо в ладони, поцеловал и ушел.
Во второй раз за этот день я обняла девочку и дала ей возможность выплакаться. Я гладила ее по волосам, приговаривая «шшш, шшш», и, как ни странно, это помогло. Мои руки, мое бормотание, похоже, успокоили ее. Может быть, дети вообще так устроены. Но самое удивительное, мне это тоже помогло. Двенадцать часов назад я и не подозревала о существовании этой девочки. Я могу сосчитать, сколько слов мы сказали друг другу. Она мне не принадлежала. Но она уже вошла в мою душу, можете мне поверить. Я ее еще не любила. Но, к собственному удивлению, вдруг поняла, что многого для этого не потребуется.
В темноте есть определенная мягкость, стирание граней между людьми. Яркий свет на кухне — совсем другое дело. Когда Клэр перестала плакать и мы вышли из спальни и остановились среди сверкающих поверхностей и острых углов, я неожиданно занервничала, задергалась, как от статического электричества. Наверное, мы обе были в шоке. Вот я и стояла, смотрела на нее, словно ожидала подсказки, что делать дальше. Ее личико было чистым, почти прозрачным, каким оно бывает у детей после слез. Она была похожа на ангела, охваченного печалью. «Скажи мне, что делать», — подумала я, и через несколько секунд вполне разумным человеческим голосом Клэр сказала:
— У меня в животе урчит. Кажется, я проголодалась. А вы голодны?
— Умираю с голоду, — согласилась я.
Накануне я варила куриный суп, так что быстро подогрела две чашки в микроволновке. Пока мы ели, я рассказала Клэр, что ее отец не стал звонить в полицию, но нанял частного детектива, очень умного, чтобы он помог разыскать ее маму. Я спросила, не хочет ли она остаться со мной, и она кивнула. Я не стала говорить, что отец не оставил записку, как я обещала, но сообщила, что он поедет в их дом завтра и возьмет все, что она захочет. Тут мне пришла в голову мысль.
— Клэр, — начала я, — когда я была маленькой, то постоянно составляла списки. А ты когда-нибудь составляла списки?
И когда я это сказала, Клэр улыбнулась.
Глава 12 Клэр
Клэр сидела за столиком в кафе «Дора» и смотрела, как двое мужчин играют в шахматы. Один из них был высоким, с носом с горбинкой и голубыми глазами, и на нем была красная рубашка с белой оторочкой и перламутровыми застежками на груди и карманах. Мальчик из класса Клэр два года назад оделся ковбоем и появился на вечеринке в похожей рубашке. Клэр удивлялась, что шьют такие рубашки и для взрослых. Другой мужчина отличался копной густых черных блестящих кудрей и глазами, как у бассета. У него была удивительная улыбка — широкая, как у кинодивы, когда уголки рта поднимаются и с двух сторон появляются ямочки. Один раз ковбой испугал Клэр, хлопнув в ладоши и заорав:
— Ого, Джоси, ты заставил меня зевнуть! — На что второй мужчина, по-видимому, Джоси, энергично кивнул, и его кудри прямо затанцевали, как будто живые, и широко улыбнулся.
Когда это произошло, Клэр взглянула в сторону стойки, чтобы встретиться глазами с Корнелией. Глаза у Корнелии были большими и слегка приподнятыми в уголках, как у кошки, но они не были желтыми, зелеными или голубыми, как чаще бывает у кошек, они были светло-карими, с капелькой орехового цвета.
У Корнелии были миленький, слегка вздернутый носик, открытая улыбка и слегка заостренный подбородок. Вообще-то лицо ее по форме очень напоминало портреты Анны, Сары и Мэри, которые Клэр рисовала в своем блокноте. Лицо сироты, хотя Клэр не знала, сирота Корнелия или нет. Когда Клэр взглянула на Корнелию, та подняла свои миндалевидные глаза к потолку, осуждая шум, поднятый ковбоем, и хотя она не улыбнулась, Клэр тоже подняла глаза к потолку.
В тот вечер, когда в квартире Корнелии Клэр ела куриный суп — густой, вкусный, с маленькими клецками — и тост с маслом, Клэр поняла, что если она будет внимательнее к тому, что ее окружает, если сумеет сосредоточиться и различит каждую деталь, ее страхи уйдут.
Клэр разглядывала поверхность супа в желтую крапинку, волнистый край тарелки, на которой лежал ее тост, сине-золотую вышитую шаль, брошенную на спинку бархатного дивана Корнелии, а на стене — несколько маленьких старых картин — портреты женщин. Присмотревшись, Клэр обнаружила на каждой картинке что-то странное: безобразную старую болонку с почти человеческим лицом, разбитое, лопнувшее яйцо на подставке, стайку цыплят и свинью за окном. У одной женщины лицо обрамляли кудряшки, напоминающие виноградную гроздь, а вокруг нее извивались лозы. Клэр сначала подумала, что эти женщины — прабабки Корнелии, но, заметив смешные детали, она решила, что Корнелия приобрела картины в разные годы, они ей просто понравились.
После ужина Корнелия спросила Клэр, не хочет ли она принять ванну. Клэр уже давно не принимала ванну, мылась под душем, но она все еще чувствовала себя усталой, поэтому согласилась. Несколько секунд она крепко сжимала мех шубы, ей не хотелось ее снимать, пока Корнелия не сказала:
— Давай я тебе кое-что покажу.
Она прошла за Корнелией в спальню. Рядом с кроватью стояла вешалка со шляпами, шарфами, шалями, меховым жакетиком и парой курток. Корнелия показала Клэр свободное место.
— Мы повесим шубу здесь, чтобы ты могла взять ее, если вдруг ночью тебе этого захочется. Тебе не нужно будет даже вылезать из постели.
Тогда Клэр сняла шубу и тут же об этом пожалела. Ей нравилось, что в шубе она была похожа на медведя, в ней она казалась себе старше и занимала больше места, особенно ей нравилось, что шуба укутывала, защищала, как будто ее кто-то обнимал. И разумеется, она принадлежала ее матери, хотя в данный момент Клэр об этом думать не хотелось. Клэр взглянула на Корнелию, та ободряюще кивнула и повесила шубу.
После ванны Клэр надела пижаму, которую оставила для нее Корнелия — такую красивую, что она казалась нарядом. «Все в квартире Корнелии выглядит особенным, симпатичным, все гармонично подобрано», — подумала Клэр, глядя на себя в зеркало. Корнелия наверняка стояла в магазине, держа в руках белую скользящую ткань, которая струилась в ее руках. «Это я не возьму, — говорила она, — но я возьму вот это». «Элегантно, — сказала Клэр своему отражению. — Я выгляжу элегантно». Она заметила резные края зеркала, пуговицы на пижаме в форме цветков и то, как сама пижама отражает свет.
Таким образом Клэр привязала себя к настоящему, отодвинув будущую неизвестность. Поэтому на следующее утро, когда Корнелия сообщила ей, что возьмет выходной, Клэр подумала и спросила:
— А вы не можете взять меня с собой на работу? Я не буду никому мешать, обещаю. Вы даже забудете, что я там. — Потому что Клэр хотелось быть в обычном, деловом мире, в месте, где все для нее в новинку, где есть люди, на которых можно посмотреть. Когда Клэр предложила это, Корнелии захотелось обнять ее. Клэр поняла это по тому, как Корнелия взглянула на нее. Она не обняла ее, но сказала:
— Знаешь, мы пойдем в кафе, но только если ты пообещаешь мешать столько, сколько тебе захочется.
Заехал отец Клэр, чтобы взять составленный ею список — очень подробный. Другим Клэр просто написала бы «одежда» и подумала, что они найдут все, что нужно. Но с отцом сложнее. Отец поцеловал Корнелию, назвал Клэр ласточкой и спросил, ужинала ли она, хорошо ли выспалась и не надо ли ей чего-нибудь еще из дома, хотя держан ее список в руке, задавая этот вопрос.
Когда он ушел, Клэр и Корнелия не стали о нем говорить. Вместо этого Корнелия повернулась к Клэр, улыбнулась и спросила:
— Хочешь, я одолжу тебе что-нибудь из одежды?
Клэр выбрала толстый мягкий серо-голубой свитер, брюки шоколадного цвета и коричневые сапоги. Все пришлось Клэр впору и дало ей ощущение изысканности и взрослости. Она даже оставила норковую шубу на деревянном крючке и вместо нее надела на удивление легкую коричневую дубленку.
— Ты выглядишь изумительно, — сказала Корнелия.
— У меня такое чувство, что на мне маскарадный костюм, — призналась Клэр и быстро добавила: — Но мне нравится.
Когда Клэр оглядела кафе, ей показалось, что все надели маскарадные костюмы или хотя бы часть костюма. Там был ковбой. И бородатый человек в рубашке работника заправочной колонки с надписью «Баб». Были еще мужчина с козлиной бородкой в черном берете, хрупкая блондинка в огромных квадратных черных очках и прелестная женщина с каштановыми волосами в синем шелковом китайском наряде поверх джинсов. Она совала печенье в рот своей крошечной рыженькой дочке, которая сидела у нее на коленях в шерстяной матроске, шапке и красных туфлях, и то и дело размахивала рукой и посылала кому-то воздушные поцелуи.
Корнелия села за столик рядом с Клэр. Когда мужчина в черном берете вытащил сигарету и приготовился закурить, Корнелия легонько постучала по его плечу.
— Нет, Эгон, — сказала она, грозя ему пальцем. — Дети на борту. Ты знаешь правила.
Эгон зарычал, как злая собака, затем повернулся к Клэр:
— Ты ее опасайся. Настоящий диктатор. Правит железным кулаком.
Клэр очень серьезно посмотрела на него и очень серьезно сказала:
— Обязательно. Большое вам спасибо. — Эгон откинул голову и оглушительно расхохотался, затем надел пальто и пошел курить на улицу.
— Разве я сказала что-то смешное? — спросила Клэр.
— Не обижайся. Забавно, но не до такой степени. Вряд ли что-нибудь в истории всего мира было достаточно смешно для такой реакции. Но если бы Эгон рассмеялся, как нормальный человек, все бы в кафе повернулись, чтобы посмотреть на него и задуматься, какую шутку они упустили.
— Так нет? — спросила Клэр.
— Нет, — подтвердила Корнелия. — Ты умираешь со скуки?
— Мне здесь нравится, — сказала Клэр. — А что, все всегда так выглядят?
— Как будто они зашли в перерыв с двадцати съемочных площадок? Похоже на то. Вот почему моя подруга Линни никогда сюда не заходит. Еще она говорит, что ей следует похудеть на десять фунтов, вставить в скулы имплантаты и сменить имя на Луна, прежде чем мы ее сюда пустим. Но знаешь что?
— Она пришла, — догадалась Клэр.
— В самом деле, — подтвердила Корнелия. — И вот что я предсказываю: она до ушей влюбится в… — Корнелия показала на ковбоя.
— Она влюбится в ковбоя? — изумилась Клэр.
— Нет, не в Хейса. Его зовут Хейс, и он очень даже ничего, надо сказать. Нет, в его рубашку. В эту ужасную, отвратительную, кошмарную рубашку. Линни восхитится и обзавидуется. Ей сразу захочется такую же.
— Господь сказал: «Не завидуй», — заметила Клэр.
— Вот и скажешь это Линни, — предложила Корнелия.
— Я могу задать вам личный вопрос? — спросила Клэр.
Корнелия печально улыбнулась.
— Это будет справедливо, — сказала она. Клэр не очень поняла, что она имеет в виду, но все же решила спросить.
— Вам не обязательно отвечать, но мне интересно — вы учились в колледже?
— Угу, — сказала Корнелия. — В колледже и два месяца в аспирантуре.
— Вы ведь кажетесь очень умной, — заметила Клэр.
— Я действительно довольно умная. Но не сногсшибательно умная.
— Это хорошо. Потому что кто захочет, чтобы его сшибали с ног? Я не захочу, — сказала Клэр. Ей было приятно и легко разговаривать в таком тоне с Корнелией. Может быть, дело было во взрослой одежде. Или в том, что она изо всех сил старалась поддержать разговор и говорила о вещах, о которых когда-то думала.
Корнелия от души рассмеялась.
— Есть еще одна часть у этого вопроса, но вам совершенно не обязательно на нее отвечать, — сказала Клэр.
— Если я такая умная, то почему работаю здесь и подаю кофе компании претенциозных, самовлюбленных типов?
— Я не собиралась говорить про типов, — призналась Клэр.
— Потому что ты слишком хорошо воспитана, — рассмеялась Корнелия, затем снова стала серьезной. — Когда мне было на несколько лет больше, чем тебе сейчас, я влюбилась в один фильм. Видела «Филадельфийскую историю»? — Клэр отрицательно покачала головой.
— Ну, теперь мы знаем, что идет первым номером в списке того, что Клэр следует посмотреть. Именно поэтому я и приехала в Филадельфию. Разве не смешно? — спросила Корнелия. Она говорила легким тоном, но Клэр чувствовала, что ответ на него ее действительно интересовал.
— Нет. Возможно, у вас не было причины поехать куда-нибудь еще, а сюда была, вот вы и приехали, — сказала Клэр.
— Совершенно верно. Действие фильма на самом деле происходит вовсе не в Филадельфии, но я все же решила рискнуть. После того как я бросила аспирантуру, я не знала, что делать. Мне хотелось общаться с интересными людьми, в интересной обстановке. Но я струсила и поехать в Нью-Йорк или Париж не рискнула, вот и устроилась на работу в кафе, куда приходят оригинальные люди из разных занимательных мест, — объяснила Корнелия.
— Разумно, — согласилась Клэр.
— Ты очень славная девочка, Клэр. Я приехала сюда и вскоре стала менеджером и уже не представляла себе, что можно куда-то переехать.
— Вы думаете, что останетесь здесь? — спросила Клэр.
— Нет, я так не думаю. Но я не знаю, что буду делать дальше. Я люблю работать, мне нравится делать то, что у меня хорошо получается. Дело в том, что у меня нет никакого призвания. Пока, во всяком случае. — Корнелия надула щеки, затем с шумом выпустила воздух. — Если что-нибудь придумаешь, не забудь сказать мне.
— Обязательно, — торжественно пообещала Клэр. Корнелия улыбнулась и вскочила, чтобы поприветствовать женщину, которая только что вошла в кафе.
Клэр обернулась и увидела женщину в длинном коконе-пальто винного цвета, шляпе, как у Шерлока Холмса, шарфе всех цветов радуги и высоких резиновых сапогах, в каких мужчины ловят форель. Сапоги были ядовито-желтого цвета. Она выглядела так, будто явилась с четырех съемочных площадок, а не с одной.
— Линни, — сказала Корнелия девочке. — Кстати, насчет сногсшибательного.
Линни, замерев у дверей, осмотрелась и остановила взгляд на Корнелии.
— Нет, ты, наверное, шутить изволишь! — крикнула она.
Корнелия жестом пригласила ее пройти. Линни вошла и протопала через комнату, на секунду приостановившись, чтобы оглядеть красно-белую рубаху Хейса. Корнелия взглянула на Клэр, и брови ее взлетели.
Когда Линни плюхнулась на стул рядом с ней, Корнелия сказала:
— И не начинай. Насчет рубашки.
— Вот еще! — воскликнула Линни. — А ты, должно быть, Клэр. — Клэр кивнула.
— Ничего себе сапожки. Мне надо возвращаться за стойку, — сказала Корнелия. — Но не смей обо мне ничего рассказывать, пока меня нет. И, Клэр, подсаливай все.
Линни пододвинула к Клэр большую солонку с белым порошком.
— Милости просим, — сказала Линни, мило улыбаясь.
— Это сахар, — поправила ее Корнелия и повернулась, чтобы уйти. Клэр положила ладонь на ее руку, Корнелия посмотрела на нее и тут же присела, чтобы ее лицо оказалось на одном уровне с лицом Клэр.
— Барселона, — тихо сказала Клэр. — Мы были в машине, и она плакала, потом остановилась, чтобы высадить меня. Я долго шла, пока совсем не стемнело. И какие-то подростки подвезли меня до дома. Но у нее были два билета. До Барселоны. Она хотела полететь туда на Рождество. Может быть, туда она и отправилась. — Корнелия выслушала Клэр, не шевелясь. Потом погладила ее по лицу и кивнула.
— Хорошо. Спасибо. Это определенно поможет. Ты смелая девочка. — Она поцеловала ее в лоб, что удивило Клэр и, похоже, удивило саму Корнелию. Но Клэр решила, что это нормально, и улыбнулась — не беспечно и весело, но так, как она улыбалась раньше и не улыбалась уже очень давно. Во всяком случае, улыбка показалась ей настоящей.
Оставшись с Линни, с ее шляпой и сапогами и почти обычными серым свитером и джинсами, обнаружившимися под чудовищным пальто, Клэр смутилась.
— Теперь, когда она ушла, это зловредное насекомое, скажи мне, что ты думаешь о красной рубашке ковбоя? Честно, просто блеск, верно? — Линни наклонилась к ней поближе с таинственным видом.
Клэр еще раз взглянула на рубашку и сказала:
— Ну, если она вам так нравится, стоит спросить у него, где он ее взял.
— Очень дипломатично, мисс, — сказала Линни, — я, пожалуй, так и поступлю.
— Его зовут Хейс, — подсказала Клэр.
— Ну разумеется, его зовут Хейс, — простонала Линни. — В этом заведении нормальных имен не встретишь.
На столе перед Клэр и Линни появились сливочный рожок, фруктовый торт с невообразимо идеальными вишнями сверху и пушистый шоколадный круассан, чашка какао для Клэр и кофе с пышной пенкой для Линни. Клэр оглянулась и заметила хрупкую фигурку Корнелии, скрывшуюся за стойкой.
— Кормилица наша, — сказала Линни. — От матери своей унаследовала. Обе они придерживаются философии, что все беды мира можно вылечить сытной и вкусной едой, хотя Корнелия скорее всего в этом не признается.
— Значит, у нее все же есть мама, — задумчиво произнесла Клэр.
— Ты о Платоне слышала? — спросила Линни после паузы, во время которой она отломила кусок сливочного рожка и откусила от него.
— Вроде как, — призналась Клэр. — Мы в этом году проходили мифы, философия будет в следующем году.
— Мифы интереснее. Люди превращаются в деревья, коров, лебедей. Я бы хотела стать павлином, наверное. Правда ведь здорово — хоть на время стать одновременно потрясающе красивой и тупой. Короче, мама Корнелии — Элли. А Корнелия — платонический вариант матери. И если хочешь знать мое мнение, они могли бы больше ее за это ценить. Ее отец тоже прелесть.
— Корнелия — подружка моего отца? — спросила Клэр.
— Да, я думаю, именно так все оно и есть. По крайней мере пока, — сказала Линни с набитым ртом.
— Вы думаете, они поженятся? — Едва задав этот вопрос, Клэр вдруг поняла, что ей очень важно это знать. Она потом сообразит почему.
Похоже, Линни колебалась между двумя ответами или пыталась решить, какого ответа ждет Клэр. Наконец она вздохнула.
— Мы конкретно об этом не говорили. Но если хочешь знать мое личное мнение, то думаю, что нет. Я не думаю, что Корнелия выйдет замуж за твоего папу. Но случается, я ошибаюсь. Я часто бываю права, но не всегда. Она смотрит на него сияющими глазами. Это так.
Клэр не знала, о чем говорить дальше, но выяснилось, что в этом нет нужды, потому что в этот момент она случайно взглянула в сторону входной двери. Там стоял самый красивый мужчина, каких ей только приходилось видеть. Высокий и стройный, в простом темно-синем костюме и сапогах, лицо слегка загорелое, волосы небрежно спадают и такие ярко-зеленые глаза, что Клэр смогла разглядеть их цвет с другого конца зала.
— Ох, — выдохнула Клэр. Линни повернулась, чтобы посмотреть.
— Ну только взгляните, кто к нам пришел, — сказала она. — Мои глаза вдруг тоже засияли.
Мужчина смотрел в сторону стойки. И улыбался.
И тут над шумом в кафе зазвучал голос, напевающий мелодию, которую Клэр сразу узнала. Это был голос Корнелии.
Несколько человек, Линни и Клэр в том числе, присоединились к ней. «Рассвело, и мне пора домой».
Мужчина, стоящий в дверях, слегка наклонил голову и снова смущенно улыбнулся. И снова у Клэр перехватило дыхание. Затем, когда остальные посетители кафе вернулись к своим разговорам, мужчина прошел через зал к стойке, а Корнелия вышла ему навстречу, и они обнялись так крепко, что ноги Корнелии оторвались от пола и она словно закружилась в воздухе.
Глава 13 Корнелия
Я была очень рада его видеть. Знаю, это звучит мелодраматично, но факт остается фактом.
Шок нового. Мне нравится, вам нравится. Нет ничего лучшего новой встряски. Так что когда Тео показался в дверях кафе, у меня сердце чуть не выпрыгнуло от радости. Я предпочитаю удовольствия, которые уже знаю, а для меня нет более знакомого удовольствия, чем видеть Тео. Хотя я давно не вспоминала о нем, но как только я его увидела в этом пальто, которое он носит уже бог весть сколько лет, и волосы, падающие на глаза, то поняла, что никто его не заменит. Никто. Только Матео Сандовал. Тео. Муж моей сестры. Это как весточка из дома.
Нет, нельзя, конечно, сказать, будто все это время я о нем не думала. Можно сказать, что некоторое время я не думала о нем напрямую. Потому что он не один из тех людей, кого я знала или знаю сейчас, кто задерживался ненадолго в моей памяти, а потом исчезал. Он всегда со мной, как Линни, мама, отец, братья и сестра. Тео навсегда занял место в моей душе так давно, что я уже и не помню, когда это случилось.
Даже понятие «зять» кажется мне неверным, и не только потому, что их тайное бегство с Олли два года назад стало для всех нас полной неожиданностью и все запутало, но и потому, что я знала его много лет до того, как он стал моим зятем. Его семья поселилась недалеко от нас, когда мне было четыре года, а Тео семь. Как и мой отец, его отец был врачом. Они все еще играют вместе в гольф. И наши матери были лучшими подругами, членами одного садового клуба, партнершами по теннису и столпами нашего общества. Моя мать хоть и была хорошенькой, но мать Тео, Ингрид, была и осталась красавицей шведкой, блондинкой, которая значительно лучше смотрелась бы на красной дорожке в Каннах под руку с кинорежиссером на двадцать лет себя моложе, чем в парной игре Младшей лиги.
Тео и Эстрелла (его младшая сестра, которую мы звали «Звезда»), Олли, Кэм, Тоби и я провели наше детство в домах друг друга, во дворах и даже постелях в абсолютно невинном варианте. (Хотя первый поцелуй мне подарил Тео, но исключительно по той причине, что мне было четырнадцать лет и мне отчаянно хотелось, чтобы кто-то меня поцеловал, после чего я его поблагодарила, и мы продолжили забрасывать соседских ребятишек снежками.) Он, скорее, был не зятем, а моим братом. Я его любила.
Любить-то любила, но, очевидно, не так, как моя сестра Олли, хотя никто из знакомых никогда об этом не догадывался. Когда они в одно прекрасное рождественское утро появились вместе на пороге нашего дома и заявили, что поженились, мой отец потребовал, чтобы ему показали свидетельство о браке, и только тогда поверил.
— А когда вы успели влюбиться? — промямлил Кэм, мальчик очень славный, но не слишком тактичный. Вопрос заставил Олли рассмеяться, а Тео смутиться, но они так и не ответили, хотя нам всем до смерти хотелось узнать.
Но как только обе семьи оправились от такой неожиданности, они обрадовались, что двое славных, умных, удачливых молодых людей из двух славных, умных и удачливых семей заключили союз; правда, об этом сразу же забыли, поскольку Тео и так был членом нашей семьи, и молодожены в нашем присутствии не допускали никаких нежностей и вели себя как обычно.
Но спали они в одной комнате в доме моих родителей и через пару дней после Рождества вместе уехали, вернувшись в квартиру Тео. Хотя потом Олли часто ночевала в своей квартире, если задерживалась допоздна в лаборатории.
Увидев Тео в дверях кафе, я не подумала об Олли и о наших семьях. Если честно, я вообще в тот момент не думала. Я только чувствовала, и это чувство было радостью.
Я провела Тео через комнату, поставила еще один стул к нашему столику и жестами давала понять Жаку, чтобы он справлялся без меня. Я по опыту знала, что люди быстрее отзываются на команды, когда человек, ими командующий, выглядит слегка идиотом.
— Ты просто замечательно выглядишь, Тео, — сказала Линни, у которой немного перехватило дыхание. — В смысле привет, Тео, ты выглядишь замечательно.
Тео — единственный мужчина во Вселенной, способный заставить впасть в косноязычие мою обычно словоохотливую подругу. Она считает, что Тео — самый красивый из живущих на нашей планете людей, что должен быть закон, запрещающий быть таким красивым, что Тео сияет неземным, возможно, радиоактивным светом и что только красота завоюет Тео место по правую руку от Бога. Я ничего не придумываю. Линни произносила эти и еще другие гиперболические высказывания каждый раз, когда видела Тео, причем лицо ее сияло от священного экстаза.
«Слияние кровей» — так моя сестра, сентиментальная дурочка, объясняла его внешность. Он был плодом брака между шведкой и филиппинцем. Эта генетическая комбинация скорее всего сделала его менее подверженным таким заболеваниям, как болезнь Альцгеймера и малярия. (Может быть, я не совсем точно помню, что она сказала, но что-то вроде этого.)
Хотя я знала, что реакция Линни на Тео граничит с безумием, я все же понимала, что он действительно красив. Правда, я не относилась к Тео как к красавцу. Линни считала, что я смотрела на Тео, как люди, страдающие аутизмом, смотрят на всех людей — как на совокупность определенных черт. Она утверждала, что я видела сумму черт, а не единое целое, которое умных женщин — не всех умных женщин, но и не только Линни — превращало в пускающих слюни лунатиков. Может быть, она и права. Смотря на него, я видела спокойного зеленоглазого мужчину с взлохмаченными волосами, чей стиль почти не претерпел изменений с дошкольных времен, если вообще изменился. Я видела нормального, обычного Тео. Для меня он не купался в небесном свете. Я все еще видела мальчишку, который все лето провел в костюме человека-паука и пытался научиться прилипать к стенам.
— Рад тебя видеть, Линни, — сказал Тео, явно не замечая, какое впечатление он производит на обычно невозмутимую Линни. Даже если бы он заметил, ничего бы не изменилось. Женщины, подобные Линни, приводили его в смущение, что явно делало его еще более привлекательным для них. Это был настоящий замкнутый круг.
— Ну спасибо, Тео, — прощебетала Линни, машинально слегка взбивая волосы.
— И мне кажется, что я не имел удовольствия видеть тебя раньше, — обратился Тео к Клэр. Он сказал это обычным тоном, не пытаясь очаровать или польстить, но Клэр все равно покраснела. Я видела, что она, вне всякого сомнения, была очарована. Было совершенно очевидно, что Клэр укусило то же насекомое, что и Линни. Причем основательно.
— Клэр, это муж моей сестры, Тео. Тео, это Клэр, — сказала я. Клэр потеряла дар речи, но с глубоким вздохом кивнула, как будто хотела сказать, что я права. Она — Клэр!
— Тео, давай дадим пару минут этой парочке, чтобы прийти в себя. Им будет легче, если ты перестанешь им улыбаться, — сказала я. — Лучше расскажи мне, что привело тебя в этот благословенный город.
— Медицинская конференция. На редкость скучная. Я там сидел, слушал тягомотный доклад и чувствовал, как мои кости рассыпаются в прах. Вот и решил навестить мою подругу Корнелию.
— И правильно сделал. А где наша принцесса ДНК? Все еще в погоне за Нобелевской премией, подобно гончему псу? — спросила я. Может, я ошибаюсь, но мне показалось, что Тео поморщился, хотя и очень незначительно. Мне пришло в голову, что, возможно, мое легкомысленное упоминание о его жене ему не понравилось, хотя я меньше всего хотела его огорчить. «Он ее любит», — напомнила я себе. Мне должно быть это понятно, потому что я сама большую часть своей жизни тоже была в нее влюблена.
— Что-то вроде того, — сказал он, грустно улыбаясь. — Она сейчас в командировке, занимается какими-то исследованиями. Ее довольно долго не будет.
— А как же Рождество? — обеспокоенно спросила Клэр, снова спустившись на землю.
— Чересчур успешные люди вроде Тео, Олли и меня существуют на уровне, который выше называемого обычными людьми «сезоном праздников», — сварливо заявила Линни, тоже присоединившись к нам, землянам.
— Ну да, Олли действительно очень много работает, — сказал Тео. И оживился. — Слушай, Корнелия, помнишь те праздники, когда ты заставила всех соседей смотреть «Прекрасную жизнь» каждый день в течение… подожди… месяца?
— Не говори глупостей, — возмутилась я.
— Точно, в течение месяца, — повторил Тео. Он повернулся к Клэр: — Тебе повезло, Клэр, что ты тогда еще не родилась. Она тащила детей в подгузниках из теплых домов и усаживала их перед телевизором. Это был кошмар.
Клэр засмеялась.
— Я знаю ее всего один день, а она уже составляет список фильмов, которые мне следует посмотреть, — улыбаясь сказала Клэр.
— Ну вот, ты уже настроил ее против меня. — Я перегнулась и ущипнула Тео.
— Ей это на пользу, как ты думаешь? — спросил Тео у Клэр. — Когда против нее настраивают?
— Думаю, да, — сказала Клэр и милостиво кивнула.
— Так какие у тебя планы на Рождество? — спросила я Тео и тут же поняла, что сделала ошибку.
— Да никаких нет. Родители собираются к Звездочке в Лондон. Мы с Олли хотели поехать в дом родителей, но тут подвернулось это исследование. Я решил, что без нее не поеду. Возможно, заскочу на несколько дней в январе. А ты? С кем ты собираешься провести Рождество? — Мы все старались говорить легкомысленным тоном, чтобы Клэр продолжала улыбаться, но рано или поздно он бы всплыл, этот вопрос, с уймой других вопросов, требующих трудных и сложных ответов.
— Понимаешь, Тео, — могла бы я сказать, — я не планировала поездку домой, потому что подозревала, что мой не очень щедрый на эмоции друг задумал романтическое путешествие, во время которого я надеялась навести мосты через эту эмоциональную отдаленность, но тут вчера в кафе появилась его дочь, о существовании которой я не подозревала и которую только что бросила ее мать. Она сидит здесь, несчастная и очаровательная, поэтому я понятия не имею, что мы будем делать на Рождество. — Но разумеется, я ничего такого не сказала. Никто ничего не сказал. Клэр опустила глаза и стала рассматривать центр столика, потом свои колени.
Линни оглядела всех и встала.
— Простите меня, — сказала она, — мне нужно поговорить с тем мужчиной насчет рубашки. — Прежде чем уйти, она положила ладонь на макушку Клэр. Линни не собиралась уходить надолго. Я это знала. Я рассказала ей историю Клэр достаточно подробно, чтобы она поняла, что эта история, как ни плохо я была с ней знакома, полна печали. И если придется улаживать ее в этом переполненном кафе, то чем меньше аудитория, тем лучше. Линни двинулась в направлении Хейса, крича:
— Хэллибертон!
Клэр встретилась со мной взглядом.
— Его зовут Хейс, — тихо заметила она.
Я вздохнула неожиданно для себя.
— Знаю, — сказала я. Мне стало трудно дышать.
— Клэр, — мягко произнес Тео, — смотри сюда. — И он начал быстро крутить четвертак в пальцах сначала одной руки, потом второй, взад-вперед. Я уже видела, как он проделывал этот трюк, видела и других людей, делавших то же самое, но только одной рукой, и я знала, что это далеко не самый сложный трюк в мире. Но Тео выполнял его ювелирно, четвертак скользил, как вода, между его длинными пальцами. Усталому страдающему ребенку этот трюк может показаться волшебством.
Глаза Клэр расширились.
— Вы можете меня научить? — почти прошептала она.
Они трудились минут десять, у Клэр ничего не получалось, но это было не важно, потому что с каждой минутой она все больше походила на обычную одиннадцатилетнюю девочку. Я пошла, чтобы взглянуть, как справляется Жак, а когда вернулась, Тео как раз объяснял:
— Есть две ступени. Сначала ты должна научиться, как это делается. Затем ты должна забыть, как это делается, и просто сделать. Выключи мозги и доверься рукам. — Клэр кивнула, и я поняла, что она мысленно записывает его слова, слово в слово.
Затем Клэр неожиданно положила четвертак между своими ладонями, сжала их очень крепко и спросила:
— Вы знали кого-нибудь, кто сошел с ума?
Это был странный вопрос, но Тео, похоже, не слишком удивился, только задумался.
— Думаю, что знал.
— А они выздоровели? — спросила Клэр.
— Конечно. Те, кого я знал, выздоровели. Те, кого я знал, долгое время были обычными, но потом начали меняться. Начали путаться, забывать многое и иногда вели себя так, как ты никогда от них не ожидал. Иногда они даже пугали.
— Они перестали быть самими собой, — сказала Клэр. Она не сводила глаз с лица Тео. Он тоже не отводил взгляда.
— Да нет, не совсем, хотя создавалось такое впечатление. Они внутри сохраняли себя. Они ведь прожили жизнь и любили людей, все это в них осталось.
— Вы в самом деле думаете, что они продолжают любить тех людей, которых любили, когда были здоровы? — спросила Клэр.
— В самом деле. Может быть, у них не получалось сразу понять любовь, и они вели себя не так, как любовь заставила бы их себя вести, но любовь никуда не исчезла. Такого не может быть. У людей, которых я знал, очень чувствительный химический состав элементов в мозгу нарушился, одних стало слишком много, других слишком мало.
— Они так заболели?
— Именно, они так заболели. А лекарства и внимательные врачи помогли им выздороветь.
— А все поправились?
Тео поколебался.
— Нет, не все. Но многие. Ученые с каждым днем узнают все больше о том, как помочь людям выздороветь. — Тео сказал это спокойным, ровным голосом, и Клэр приняла этот ответ. Она положила четвертак и схватилась обеими руками за край стола.
— Моя мама так больна. Она начала меняться в начале октября. Мы же с ней вдвоем живем, и я видела, как ей становится все хуже и хуже. Она начала делать странные вещи, например, забрала меня однажды из школы на весь день без всякой причины, а еще она дала мне выпить вина.
Я с изумлением слушала Клэр. У нее было на редкость выразительное лицо, и ее темные глаза светились доверием. Я уже видела намек на него в тот момент, когда Клэр сказала мне о Барселоне. Но сейчас это был не намек, это было немигающее, сияющее доверие, направленное прямо на Тео. В других обстоятельствах я бы обиделась — почему Тео, а не я, — но здесь было не до обид. Удачно выбрала Клэр, молодец!
— Наверное, тебе было трудно, — сказал Тео, и Клэр кивнула. Глаза ее заблестели от слез. Но буря не разразилась, слезы так и не пролились.
— Она перестала обо мне заботиться. Она всегда очень, очень обо мне заботилась и вдруг перестала. Но она не нарочно. Вот почему я не хотела, чтобы кто-нибудь знал, что она заболела.
— Ты боялась, что люди не поймут? Что она попадет в беду?
Клэр кивнула.
— В последний день перед каникулами она забрала меня из школы, и она опять была другой. Не такая другая, как раньше, по-другому другая. Она много плакала и говорила, что ей очень жаль. И потом она высадила меня на обочине дороги. Вот почему я здесь.
— Корнелия — подруга твоей мамы? — спросил Тео.
— Нет, ее отец мой… — начала я. Я замолчала, перебирая возможные определения, отбрасывая одни, раздумывая над другими. Неожиданно все эти слова показались мне глупыми и неуклюжими, они либо значили слишком много, либо совсем мало. Пока я перебирала их в уме, Клэр опередила меня.
— Корнелия — подружка моего отца.
— Понятно, — сказал Тео, но, разумеется, ничего не было ему понятно, во всяком случае, не вся сложная ситуация, и я постаралась сдержаться и не пустилась в объяснения. Зачем объяснять Тео то, чего я сама еще не понимала? Я просто сидела за столиком с двумя людьми и восхищалась их смелостью и честностью. Может быть, мне тоже хотелось быть смелой и честной. Но пока я старалась жить в мире с собой.
— Знаете, что я думаю? — воскликнула Клэр, и ее лицо просияло. — Я думаю, что вы должны провести Рождество с нами, Тео. Мы с Корнелией можем спать в ее постели, а вы на диване. — Она кое-что вспомнила и повернулась ко мне: — Если вы не возражаете, Корнелия.
Я засмеялась:
— Я не возражаю.
— Там очень большой диван, — добавила Клэр.
Улыбка, которой она одарила Тео, превратила ее в девочку, отказать которой может только самый жестокосердный человек, так что у моего старого друга Тео не было никаких путей для отступления.
Глава 14 Клэр
Тео учил Клэр резать овощи в кухне Корнелии.
Пока Корнелия работала, они вместе обошли Чайнатаун и купили ароматный рис, маленькие желтые манго и другие вкусности для филиппинской лапши. Они с удовольствием выбирали разные десерты, каких Клэр раньше не видела, приготовленные из самых неожиданных продуктов. Например, риса, кокосового молока, сладкого картофеля и каких-то корнеплодов вроде маниоки.
Сердитая пожилая женщина в кондитерской разрешила Клэр попробовать десерты, перед тем как выбрать, хотя предупредила, что обычно она такого не позволяет, и притворилась, что делает это неохотно. Клэр знала, что женщина разрешила, потому что ее об этом попросил Тео.
Он сказал ей, что его отец из Манилы, и она погрозила ему пальцем и пошутила насчет его зеленых глаз и неумения говорить на тагальском. Тео научил Клэр произносить одну из знакомых ему фраз — Maligayang Pasko — Счастливого Рождества — и перед самым уходом он взял руку пожилой женщины и слегка приложил ее к своему лбу.
— Salamat, — сказал он. — Спасибо. — Он потом объяснил Клэр, что жест этот назывался благословением, и дети так делают, чтобы показать свое уважение. Клэр была в восторге. Когда никто не видел, она попробовала повторить этот жест, прикладывая одной рукой в перчатке другую ко лбу.
Возвращаясь из магазинов, Клэр толкала маленькую коляску Корнелии, а Тео положил мешок с рисом на плечо, как Санта, хотя, разумеется, он вовсе не был похож на Санту. Клэр казалось, что он вообще не похож ни на кого в мире, но она перестала поражаться его красоте каждую секунду, хотя думала, что обязательно будет, после того как в первый раз увидела его в кафе.
Когда они шли по наряженному к Рождеству городу, Клэр изумлялась, что ей стало легко. Мышцы ее тела, особенно на шее и спине, между лопатками, расслабились впервые за долгое время. Она уже не ощущала в своем теле тяжесть, которую приходилось таскать с места на место. Большая елка у здания суда, вся в красном, зеленом и оранжевом, гирлянды на Брод-стрит и разноцветные лампочки не раздражали ее. И над всей этой красотой раскинулось синее небо, похожее на огромную чистую простыню. На этом воздухе, пахнущем снегом, под этим небом она могла даже думать о своей маме и всех тех рождественских праздниках, когда они бродили по этим же улицам, и не впадать в панику.
Клэр уже не была такой наивной, чтобы провести один день в кафе со взрослыми и решить, что все будет в порядке. Но после ее общения с Корнелией и Тео Клэр вступила в мир, где порядок был реальностью, где он не казался отдаленной, призрачной вселенной, в которую ей никогда больше не попасть. Глядя на идущего впереди Тео с мешком на плече, который время от времени оборачивался и улыбался, она вдруг осознала, что же так изменилось в ее жизни. Долгое время она была одна, а теперь уже не одна.
Она догнала Тео. Разговаривать ей не хотелось, почти не хотелось. Ей нравилась спокойная тишина, которая шла вместе с ними, но Клэр нужно было задать один вопрос.
— Это ведь нормально — чувствовать себя счастливой? — Она надеялась, что он поймет, что она имеет в виду.
— Верно. Очень нормально, — ответил он, не оглядываясь и не замедляя хода, но улыбаясь в пространство особой улыбкой — больше глазами, чем губами, больше самому себе, чем ей. Затем он сказал: — Ты резать умеешь?
Как выяснилось, она могла. После того как Тео показал ей, как это надо делать, она придавила большим ножом морской гребешок, держа его под небольшим углом, и нарезала цепочку маленьких, сравнительно ровных кусочков.
— Это похоже на трюк с четвертаком, верно? Ты выключаешь мозги и доверяешь рукам, — сказала Клэр.
— Вроде того. Но не слишком доверяй своим рукам, — усмехнулся Тео. — Пока.
Сам Тео работал блестяще: быстро и одновременно точно. Раз, раз, раз — и морковка превратилась в горку кругляшек одинаковой ширины, набегающих одна на другую, как упавшие домино.
— Хвастун! — крикнула Корнелия с дивана.
— Вы хирург? — спросила Клэр, с восхищением наблюдая за ним.
Тео засмеялся.
— Если бы хирурги так резали, они недолго продержались бы на работе. Нет, я специализируюсь в терапевтической радиологии.
— Он онколог, — пояснила Корнелия, входя и хватая кружочек морковки. — Он лечит раковых больных и не любит об этом говорить.
— Но ведь это хорошо — лечить таких больных, — удивилась Клэр.
— Разумеется, хорошо, но слово «рак» способно испортить настроение на любой вечеринке. Я это не раз наблюдала, — сказала Корнелия.
— Да, ты произносишь это слово, и мгновенно все вокруг тебя впадают в уныние, — согласился Тео, нарезая китайскую колбасу с такой же легкостью, словно тасуя колоду карт.
— Тебе следует стать менеджером кафе. Когда я говорю, что я менеджер кафе, все сразу решают, что я неудачница, — заметила Корнелия.
Клэр подумала, что, возможно, Корнелия имеет в виду их утренний разговор, когда она обняла Клэр за плечи.
— Только не думай, что я говорю о тебе, милая. По крайней мере термин «неудачница» подразумевает, что в принципе я способна набольшее. Причем значительно большее.
— С другой стороны, возможно, ты себе льстишь. Может быть, они считают тебя просто лузером, — с невинным видом сказал Тео, и Клэр даже вздрогнула, но Корнелия засмеялась и швырнула в него кусочком колбасы. Он попал Тео точно в переносицу.
— Помнишь, несколько лет назад я сказала, что ты хороший парень? Задний ход. Вообще-то очень милое начало для того, чтобы меня изничтожить, — улыбнулась Корнелия. Клэр уже не беспокоили их шутливые препирательства. Она представила, что когда-нибудь и у нее тоже будет такая дружба, когда друг или подруга будут о ней такого высокого мнения, что смогут позволить себе сказать все, что вздумается.
— История Корнелии заключается в том, что она, бесспорно, умна, — заметил Тео.
— Бесспорно. Значит, и спорить нечего, — согласилась Корнелия.
— Когда мы росли, каждый ребенок в нашей округе постоянно слышал: «Почему ты не можешь получать такие замечательные оценки, как эта маленькая Корнелия Браун?»
— Ключевое слово тут «маленькая», — сказала Корнелия. — Когда тебе тринадцать, а ростом ты с девятилетнего ребенка, ты развиваешь то, что поддается развитию.
— И еще она талантлива. Но среди своих талантов она предпочитает те, которые не всегда способствуют удачной карьере.
— Всегда, — поправила Корнелия, — всегда способствуют карьере.
Тео поднял глаза от разделочной доски и бросил на Корнелию ехидный взгляд. Клэр едва не вскрикнула, но задержала звук в горле, как ребенок, которого застали с сигаретой и ртом, полным дыма. Она думала, что уже привыкла к лицу Тео, но она ошибалась. Сообразив, что у нее перехватило дыхание, она немного попыхтела, чтобы отдышаться. Когда она заметила, что Корнелия наблюдает за ней, она замаскировала пыхтение кашлем.
— Пока мы все учились в медицинской школе, в юридическом колледже, аспирантуре, бизнес-школе или где-то еще, — продолжал Тео, — Корнелия тоже трудилась. Но она изучала странные предметы. Например, забавный разговор, сарказм, интеллект. Я что-нибудь упустил?
— Остроумие. И умение легкомысленно относиться к серьезным вещам. И лесть, неискреннюю, разумеется, — добавила Корнелия, делая вид, что считает по пальцам.
— И стиль. Если верить моим источникам, у Корнелии нет пачек денег, чтобы ими швыряться, но у нее всегда был и есть собственный стиль, — заявил Тео, жестом обводя квартиру.
— Это правда, — с энтузиазмом кивнула Клэр. — У вас замечательный стиль. Чудесные тарелки и пижамы.
Корнелия рассмеялась.
— Я родилась не в тот век. Я бы могла быть замечательной куртизанкой. — Тут она серьезно и с интересом посмотрела на Тео. — Но вот ведь в чем дело, Тео. Ты прав. Ты абсолютно прав. То, что ты сказал, и есть моя сущность.
— Ну разумеется, — сказал Тео.
— Просто я никогда не думала, что кто-нибудь еще об этом знает. Заранее извиняюсь за то, что говорю, как какая-то идиотка-школьница, но я чувствую себя сейчас… разоблаченной. — Корнелия, прижав руки к груди, говорила высоким голосом, и Клэр поняла, что она не шутит.
Тео пожал плечами.
— Извинение принято. — И посмотрел на нарезанное мясо и овощи. Лицо у него было довольное, но смущенное, как в то утро, когда он стоял в дверях кафе. Тео, Корнелия и Клэр какое-то время молча стояли на кухне: Тео смотрел на овощи, Корнелия смотрела на Тео, а Клэр смотрела на обоих. Клэр чувствовала такой покой в душе, как будто стояла в свете солнца в знакомом месте. Дома. На несколько секунд это место стало домом.
Тут послышался стук в дверь, Корнелия открыла, и вошел отец Клэр. Прежде чем он заметил, что в квартире есть кто-то еще, он обнял Корнелию и наклонился, чтобы прижаться лбом к ее плечу. Затем поцеловал ее в макушку, отступил на шаг и опустил руки. Клэр заметила, что у него на лице появилось строгое, даже печальное выражение. И глаза были беспокойные. Клэр вспомнила, как отец говорил, что он учится читать лицо Корнелии. Клэр не так уж хорошо знала лицо своего отца, и все же она видела, что сейчас его лицо отражало истинные чувства.
Тут Мартин заметил ее и Тео.
— Привет всем, — сказал он, и печаль ушла с его лица. Улыбка была уверенной и идеально симметричной.
— Привет, — сказала Клэр. И вдруг его пожалела. Но поскольку жалость к отцу была новым для нее чувством, она добавила: — Папа.
— Мартин, это Тео Сандовал, муж моей сестры Олли. Он появился сегодня утром в кафе, голодный, и мы его приютили, — жизнерадостно сообщила Корнелия. — Тео, это Мартин Грейс.
— Приятно познакомиться, — сказал Тео и пожал руку отцу Клэр. — Простите, но у меня руки в чесноке.
— Что готовите, ласточка? — Отец Клэр расстегнул пальто, и Корнелия помогла ему его снять. Она было бросила его на диван, но потом взяла снова.
— Ты останешься ужинать, Мартин? — спросила она. — Что это я, разумеется, ты останешься ужинать. — Она провела ладонью по волосам и повесила пальто в стенной шкаф.
Клэр вдруг стала рассказывать отцу о походе по магазинам, о том, что они везли продукты в тележке, а Тео нес мешок с рисом на плече, и о блюде, которое они с Тео стряпали. Сейчас ей было легко разговаривать с отцом, и она вспомнила, что и раньше ей бывало легко разговаривать с ним. Между ней и отцом было большое расстояние, пустое место, которое она могла наполнить историями или информацией, потому что ей было безразлично, что ему говорить. Трудности возникали, если она хотела ему понравиться, и такое происходило несколько раз за эти годы, или если ей было от него что-то нужно, но такого до последнего времени не случалось, или когда она на него злилась, как вышло вчера. По крайней мере сейчас этот гнев угас. Он опять стал почти чужим человеком, каким был всегда.
Она рассказала, как Тео благословила женщина в кондитерской.
— Почему бы тебе не показать? — предложил Тео. И Клэр сделала то, что она мысленно делала все время с того момента, как они ушли из кондитерской. Она подошла к Тео, осторожно просунула свою ладошку под его руку, подняла ее и приложила к своему лбу. Тео ей улыбнулся, но тут же быстро взглянул на ее отца. Клэр заметила в его лице озабоченность. Но Мартин беспечно прислонился к стене, скрестил ноги и начал рассказывать о какой-то стране, где он побывал и где дети тоже выполняют этот очаровательный обряд. Отец явно был человеком находчивым.
И все же Клэр была рада, что приготовление еды слишком ее занимало и было поводом долго с отцом не разговаривать. Тео показал ей, как надо чистить креветки и затем разрезать их продольно. Пока она этим занималась, он нарезал вареную свинину, курицу и капусту. Капуста приятно хрустела. Затем он занялся белой фасолью.
Пока они готовили, Корнелия выложила на два подноса закуски: сыр, куски французского багета, клементины и виноград, такой спелый, что он казался черным. Она поставила один поднос на кухне для Тео и Клэр, а второй на кофейный столик и села рядом с Мартином на диван, на некотором расстоянии, но отец Клэр потянулся и положил ладонь на шею Корнелии, как бы пытаясь привлечь ее к себе. Корнелия не придвинулась, но прикрыла его руку своей на несколько секунд. Потом взяла клементин и стала быстро его чистить ловкими, изящными пальцами. Клэр подумала, насколько разочарован был ее отец. Если бы всего этого не произошло, если бы ее здесь не было, он остался бы вдвоем с Корнелией. Он наверняка строил разные планы на Рождество, романтические планы. Клэр представила себе путешествие и массу подарочных коробок. Клэр на мгновение почувствовала злобное удовлетворение. Даже ее отец не может всегда иметь то, что хочет.
Корнелия отдала половину очищенного клементина отцу Клэр. Он есть его не стал, а только покачивал на ладони.
— Я разговаривал с Ллойдом. Хорошие новости — билетами в Барселону так никто и не воспользовался. Более того, он выяснил, что Вивиана и на другой самолет не садилась, — сказал отец Клэр. — Есть и плохие: перед тем как забрать Клэр из школы, она сняла большую сумму денег со счета. Если она пользуется наличными, мы не сможем выследить ее по кредитным картам.
«Я тебя слышу, — хотелось крикнуть Клэр через комнату, — я же не глухая. Ты ведь это знаешь, верно?»
Корнелия, словно услышав ее внутренний монолог, повернулась к Клэр. Их глаза встретились.
— Клэр, — сказала она, — твой отец рассказывает мне, как идут поиски твоей мамы. Хочешь сесть рядом с нами?
Отец Клэр явно удивился, чем вызвал у Клэр отвращение. Она вспомнила, как накануне утром в машине, когда они отъехали от пустого дома, он сказал:
— Могу поспорить, хорошая чашка горячего какао — то, что тебе надо.
А сейчас он думает: «Этот ребенок занят вермишелью и креветками, и не заметит, что мы при ней обсуждаем ее жизнь».
— Нет, спасибо, — спокойно сказала Клэр. — Может быть, вы мне потом все расскажете, Корнелия. — Она сунула в рот виноградину и повернулась к ним спиной, думая, куда бы ей деть руки. Но тут Тео протянул ей большую сковородку и спросил:
— Готова?
Пока Клэр поджаривала лук и чеснок, она постаралась свести свои чувства к простой радости, что мать не уехала из страны. Мысли, где она может быть и что делает, пытались заполнить ей голову, но она приказала себе не обращать на них внимания, выкинуть их и захлопнуть дверь. Только когда Тео положил ладонь ей на руку, в которой она держала смешной металлический шпатель, напоминающий детскую лопаточку, она сообразила, как крепко она в него вцепилась.
— Ну вот, — сказал он, помешивая лук и чеснок на сковороде. — Идеально.
Кушанье получилось необыкновенно вкусным, все так сказали. Клэр даже заметила, что это блюдо вкуснее всех тайских блюд, вместе взятых. Корнелия восхитилась ее тонким вкусом.
— Когда мне было одиннадцать лет, я… — начала Корнелия.
— …никогда не пробовала ничего тайского, — добавил Мартин.
— Когда вы были маленьким, ваша мама готовила это блюдо? — спросила Клэр у Тео.
— Папа готовил. Моя мать рассказывала, как перед свадьбой к ней пришла целая толпа тетушек моего отца познакомиться. Они привезли ей большое кольцо с жемчугом и еще кое-что для свадьбы, но она быстро сообразила, что это был всего лишь предлог. Их главной целью было научить ее готовить.
— И она научилась? — спросила Клэр.
— Конечно. Она научилась. Затем, когда после свадьбы тетушки погрузились в самолет, чтобы лететь домой, она быстро все забыла. Отдала кухню во владение моему отцу, за что мы все были ей благодарны.
Корнелия погрозила Тео вилкой и принялась быстро дожевывать, чтобы сказать то, что собиралась.
Тео со звоном положил свою вилку на тарелку и стал терпеливо ждать.
Корнелия наконец проглотила кусок и обиженно закричала:
— Тео! Ты сочинитель!
Тео закатил глаза, затем поднял указательный палец.
— Одно блюдо, — сказал он. — Единственное.
— Нет, я не могу больше этого выносить. Ингрид Сандовал — прекрасная повариха! Замечательная! — возмущенно воскликнула Корнелия, но ее лицо светилось улыбкой.
Тео засмеялся и покачал головой.
— Одно блюдо. Да по сути, и не блюдо вовсе, — упрямо повторил он.
— Шведские блины. За блины матушки Тео можно было жизнь отдать, — заявила Корнелия, глядя на Тео. — Каждый раз, когда я ночевала в доме Тео, она пекла их для меня. Блины на ужин, что в моем доме было бы таким же нарушением традиций, как стрижка кустов голышом. Но блины на ужин — это что-то волшебное.
Клэр заметила, что ее отец внимательно слушает, как разговаривают Тео и Корнелия. Он переводил взгляд с одного на другую, как будто наблюдал за теннисным матчем. Можно было подумать, что он забавляется, но Клэр решила, что он выглядит несколько неуверенно. До сегодняшнего дня она не помнила, чтобы он проявлял неуверенность и не находился бы в центре событий.
— С сахарной пудрой и морошкой? — спросил он, сначала удивив, а потом рассердив Клэр. Блины принадлежали Тео и Корнелии, а не ему.
— С морошкой, если ей удавалось ее достать, но обычно с клубникой, — сказал Тео.
— А иногда с клубничным сиропом. Помнишь этот клубничный сироп? И они были тонюсенькие — тонкие-претонкие. — Голос Корнелии стих, она вяло откинулась на спинку кресла с закрытыми глазами.
— Стыд и срам, Корнелия, — улыбнулся Тео. — Смерть от блина.
— Смерть от воспоминаний о блине, а не от настоящего блина. Бедняжка, — поправил Тео отец Клэр, вернее, так Клэр показалось, и она вспыхнула от возмущения. Она повернулась к Тео, но он был спокоен. Он улыбнулся ей, и она заметила, что брови у него темнее волос, что они очень прямые, как знаки тире, и лишь слегка вздернуты вверх. Но даже размышляя о бровях Тео, она продолжала злиться на отца.
Корнелия выпрямилась, моргнула и улыбнулась им с видом человека, только что посмотревшего приятный сон.
— Она выжила! — сказал отец Клэр. — И это хорошо, потому что нам надо обсудить важные вопросы.
Клэр резко, не глядя на отца, встала и пошла за десертом, который они купили с Тео. Она не торопясь разложила сладости на большом подносе и очень надеялась, что получилось красиво.
— Например? — поинтересовалась Корнелия.
— Например, завтра канун Рождества, — сказал Мартин. Он протянул руку и взял одно из лакомств с подноса, даже не поинтересовавшись, что это такое, и вообще никак не отреагировав на поднос. Лакомство лежало на кусочке бананового листа, и Клэр сердито подумала, каким надо быть равнодушным человеком, чтобы взять десерт с бананового листа и не спросить, что это такое.
— Тео, я уверен, что у вас есть планы на Рождество, чего нельзя сказать о нас. Мы оставили все на последнюю минуту. — Отец повернулся к Клэр и улыбнулся. — Но, как известно, зачастую это самый лучший способ.
— Это кусочек бибингки, — холодно сказала Клэр. — Тот десерт, что ты ешь. Его делают на банановом листе. И Тео останется здесь со мной и Корнелией. Он проведет с нами Рождество.
К удовольствию Клэр, ее отец растерялся, но ненадолго. Он взглянул на Корнелию, затем повернулся к Клэр.
— Прекрасно, — сказал он вежливо. — Я про бибингку и планы Тео.
— Он вовсе это не планировал, — вмешалась Корнелия. — Так получилось. Олли уехала работать, и мы не можем позволить Тео остаться на Рождество одному, смотреть футбол и есть салат из тунца из картонной коробки, верно?
— Мы совершенно определенно не можем, — сказал отец Клэр.
«Только ты тут ни при чем», — сурово подумала Клэр, глядя на отца. «Мы» Корнелии подразумевало «Клэр и я». Вот что Корнелия хотела сказать.
Ее отец продолжил:
— Поскольку сейчас канун Рождества, Клэр, и у тебя не было возможности походить по магазинам, — Клэр заметила, как Корнелия с волнением взглянула на нее, — я подумал, может быть, мы с тобой завтра займемся покупками? И заодно посмотрим световое шоу у Уанамейкеров?
— Это теперь называется «Лорд Тейлор», — поправила его Клэр. — И я думаю, что я не пойду без… — Клэр закусила губу. Еще раз перед ним она не расплачется. Не дождется. — Мне в этом году вообще не хочется туда идти.
— Я понимаю, — сказал Мартин. Клэр почувствовала, как внутри у нее все напряглось и похолодело.
— Ничего ты не понимаешь, — резко сказала она. Но не почувствовала от этих слов ни облегчения, ни удовлетворения. И все же, хотя позже она могла пожалеть, что это сказала, она не стала себя останавливать. Она подняла подбородок.
— И у меня уже есть планы насчет магазинов. Тео пойдет со мной, — сказала она. Конечно, она только надеялась на это, никаких планов у них с Тео не было. Они вообще не обсуждали этот вопрос. Но Тео не рассердился, даже не растерялся. Он ничего не сказал. Все молчали, как показалось, довольно долгое время.
— Клэр, — почти прошептала Корнелия, и Клэр увидела, что она взволнованна и как бы просит ее о чем-то. Клэр оттаяла, самую малость. Клэр знала, что она не обидела отца, потому что его не трогает, что бы она ни говорила. Возможно, ему было неприятно, что Тео слышал, как Клэр с ним разговаривает, но чувства его не пострадали. Клэр это знала, а вот Корнелия нет, а Клэр не хотела расстраивать Корнелию.
— Тео пойдет со мной, потому что мне нужно купить подарок для тебя, папа. — Клэр обращалась к отцу, но смотрела на Корнелию. Корнелия едва заметно кивнула ей, и морщинки между бровями стали не так заметны.
— А, понятно, — сказал отец. — Тогда ладно. — Выражение его лица и тон были нарочито добрыми, нарочито терпеливыми, как будто он хотел дать всем понять: я взрослый человек, который разговаривает с бедным, травмированным ребенком.
— Тогда все получается просто замечательно. Мартин, мне нужно напоминать тебе о случае с тертыми грецкими орехами? — Корнелия при этих словах взяла отца Клэр за руку. Морщинки на лбу совсем разгладились. Клэр заметила, что слова Корнелии мягко вовлекли ее отца в тот круг, где они были только вдвоем. Что бы ни означал этот случай, он принадлежал только им. Этими словами и жестом она хотела его утешить. «Может быть, это говорит о том, что Корнелия влюблена», — подумала Клэр.
Отец Клэр рассмеялся.
— Если нужно, так нужно, но лучше не надо.
— Значит, ты знаешь, что если я буду одна покупать продукты к Рождеству, я куплю еды на двадцать пять человек. Нам придется нанимать грузовик, а в канун Рождества это сделать нелегко. Ты должен пойти со мной.
— Двадцать пять оголодавших футболистов — ты это хочешь сказать. Ты права. Мне следует пойти с тобой. — Мартин поднес руку Корнелии к губам и поцеловал. Впервые за весь вечер он казался счастливым. Корнелия с облегчением вздохнула.
Клэр вдруг пришла в голову интересная мысль. Если Корнелия выйдет замуж за отца Клэр, тогда она будет с ней. Они официально будут в родстве друг с другом. Визиты к отцу будут означать визиты к Корнелии. Она вспомнила, как в последних книжках Анна Ширли устраивала свадьбы, и все были счастливы. Может быть, Линни ошиблась насчет ее отца и Корнелии. Может быть, с некоторой помощью со стороны Клэр они все-таки поженятся. Почему бы не попытаться? Она представила себе сцену: они с Корнелией завтракают в столовой ее отца, обе в красивых пижамах, они смеются и пьют какао из одинаковых белых кружек, а отец сидит в сторонке, на самом краю сцены и читает газету.
Пока Клэр все это себе воображала, ее отец взял еще одно лакомство с подноса, разрезал его на две части, половинку положил на тарелку Корнелии, а вторую сунул в рот. Корнелия подняла свой кусочек — маленькое красивое пирожное с алой начинкой из пасты — и спросила:
— Теперь расскажи нам, Клэр, почему оно такое пурпурное?
Сцена с их участием тут же померкла. Корнелия была такой милой. Она заслуживала лучшего мужа, чем отец. Клэр вздохнула, и картинка исчезла.
Глава 15 Корнелия
Они все-таки сходили на световое шоу. Клэр и Тео. Они немного побродили по магазинам, немного поговорили, а потом, когда они ели пиццу, Клэр неожиданно спросила:
— Ты знаешь про бронзового орла? Большого бронзового орла между обувным отделом и ювелирным? — Тео подумал, а потом неожиданно спросил:
— В «Лорд Тейлор»? — Хотя я была уверена, что он там никогда не был, поскольку Тео не живет в Филадельфии, не любит ходить по магазинам и утверждает, что на большие магазины у него аллергия — причем буквальная, а не метафорическая. Я несколько раз слышала, как он говорил об этом, вернее, мямлил извиняющимся тоном, когда отказывался от предложения зайти именно в такой магазин. Он ссылался на вентиляцию и чистящие жидкости. Другие люди, как ни странно, легко принимали его объяснения, видимо, вспоминая, что он врач, или просто обезоруженные его способностью к обезоруживанию. Хотя я должна признать, что Тео не использует свою способность обезоруживать часто в отличие от большинства людей.
Тем не менее, несмотря на его «невежество» относительно больших магазинов, он спросил: «В «Лорд Тейлор»?» И Клэр ответила:
— Да. Как раз с правой стороны от орла там самое лучшее место. Если вы сядете ближе, у вас будет болеть шея, а если дальше, на вас могут наступить люди, которые пришли покупать шляпы и шарфы.
И они пошли. Уселись на мраморный пол справа от бронзового орла и смотрели световое шоу, которое проводилось в той или иной форме с 1955 года. Иногда думают, что в наше время детей, имеющих доступ к самому разному кино, видео и компьютерным играм, не сможет заворожить органная музыка, световые щелкунчики и волшебницы, но это не так. Они смотрят как завороженные.
— Ее это шоу изумило? — спросила я у Тео.
Мы сидели на моем диване, служащем Тео постелью. Клэр спала в моей комнате.
И он ответил:
— Да, это точное определение ее состояния.
Мне его слова показались хорошей новостью, и я почувствовала облегчение и надежду. И я стала говорить Тео о гибкости детской психики, но меня вдруг остановило выражение его лица, которое скорее говорило о беспокойстве и удивлении.
— В чем дело? — спросила я.
— Я рассматривал все это по-другому, — сказал он.
— И как ты это рассматривал? — нервно поинтересовалась я.
— Ты в курсе, что Клэр бывала на этом шоу каждый год? Когда она сегодня попросила меня пойти с ней, я подумал: ей одиннадцать, сейчас канун Рождества, мать ее неизвестно где, и она хочет пойти на шоу, на которое ходила с ней каждый год. Я почти сказал «нет», — признался Тео, и вид у него был такой, будто он пожалел, что не сказал «нет».
— Ты не мог сказать «нет», — утешила я его.
— Не мог. И только потому не сказал. Но когда мы там сидели, среди счастливых семей, и ждали, когда шоу начнется, я не мог ни о чем думать, кроме: «С чего ты взяла, что ты такая храбрая? И во что это тебе обойдется?»
— Ох, — выдохнула я. Затем добавила: — Уверена, что ты прав. Уверена, что это было чересчур. — И, как потом выяснилось, он действительно был прав. Разумеется, он был прав. Но прежде чем я расскажу, что из всего этого вышло и что случилось в результате, я хочу рассказать вам, что происходило со мной, пока Клэр сидела, скрестив ноги, на мраморном полу в ожидании светового шоу, которое могло окончательно разбить ее сердце.
Смешно, но я чувствую себя виноватой, что прервала рассказ о Клэр и говорю о том, что еще совсем недавно было бы самым светлым моментом в моей жизни, возможно, единственным сияющим моментом. Было время, когда я готова была громко кричать с крыши о том, что сказал мне Мартин в парке в канун Рождества.
Итак, мой роман с Мартином с появлением Клэр не приостановился. История наша не подождала тихонько в уголке более подходящего времени. Вместо этого она неуверенно и неуклюже продолжала разворачиваться.
Вы знаете стихотворение Одена о страдании? Что в тот самый момент, когда Икар нашел свою смерть в океане, пахарь продолжал спокойно пахать землю. Думаю, вы понимаете, к чему я веду. Пока Клэр страдала, мы с Мартином продолжали пахать, то есть наши отношения продолжались.
Итак, вот что случилось. Мы шли через площадь, чтобы купить индейку разумной величины, и вдруг Мартин усадил меня на садовую скамейку и выжидающе посмотрел мне в лицо. Я, наверное, уже упоминала, что глаза у него поразительно красивые, и в тот момент, на скамейке, я это хорошо понимала. А Мартин умел смотреть на меня так, что мне казалось, будто он ко мне прикасается.
Он долго смотрел. Потом сказал:
— Сейчас не время говорить тебе об этом…
И я сразу догадалась, что он хочет сказать. Я почувствовала, что цепенею. Мне следовало сказать, что я знаю, о чем он собирается сообщить, но я молчала.
— Я каждый день удивляюсь. Я хожу с этим удивлением, лежу с ним и просыпаюсь с ним каждое утро, где бы я ни был. Я никогда не встречал таких, как ты, потому что в мире нет похожих на тебя.
Слова не были гладкими, он волновался, и было непохоже, что он их отрепетировал заранее, если вы это подумали.
— Корнелия, я тебя люблю. Неподходящее время сейчас об этом говорить, но я говорю. Я тебя люблю. И как ни сложно то, что происходит сейчас с Клэр, я надеюсь, что это к лучшему для нас, потому что, если мы собираемся соединить наши жизни, тебе нужно понять, какова моя жизнь, до конца. И я хочу посвятить тебе свою жизнь, Корнелия.
Тревога. При этих словах я почувствовала тревогу.
— Мартин… — начала я.
Но он остановил меня, печально улыбнувшись.
— Нет, я не делаю тебе предложения. Даже я чувствую, как это не вовремя. И я не хочу, чтобы ты сейчас что-нибудь говорила. Более того, я строго запрещаю тебе говорить. Я просто хотел сказать тебе, что люблю тебя, вот и все.
Он поцеловал меня, и я сказала:
— Смею я по крайней мере сказать спасибо?
— Нет, — улыбнулся он.
— Спасибо, — сказала я и тоже улыбнулась.
Может быть, вы знаете, что я должна была чувствовать тогда. Но вам следует понять, что все эти старые метафоры, которые используются, чтобы описать смятение, вдруг ожили, помолодели и весело забарахтались. Моя жизнь напоминала опасный аттракцион «Американские горки». Все развивалось слишком быстро. Мне некогда было перевести дыхание, голова шла кругом.
Нет, Мартин оказался не тем человеком, какого мне хотелось. Да, он прохладно относился к собственной дочери, даже когда она попала в тяжелое положение. Да. Это прохладное отношение меня беспокоило. И да — я ничего не забыла, — мои сомнения по поводу его отношения ко мне уже начали поднимать свои головы еще до появления Клэр в нашей жизни. В моей жизни. Ведь в его жизни она существовала со дня своего рождения, хотя, очевидно, не так, как хотелось и ожидалось.
Все это выглядит достаточно просто, но когда как следует подумаешь, все далеко не так просто. Во-первых, все вышеупомянутые причины, которые по меньшей мере должны держать Мартина на расстоянии, а по большей — заставить порвать с ним, не могут стереть все, что существует между мной и Мартином. Не могут, и все тут. Когда мы с ним вместе, только вдвоем, Мартин зажигал во мне жизнь, делал меня активнее, умнее. Он был ласковым, когда я нуждалась в ласке, нам нравились одни и те же вещи, и от этого за здорово живешь не отмахнешься.
Он был человеком из плоти и крови, такой же, как остальные, кто встречался мне в жизни. Когда он говорил, что любит меня, от его голоса перехватывало дыхание. Вы можете понять, о чем я говорю? Я не говорю о силе физической красоты. Я говорю, что мы с ним были близкими людьми. Я дышала его дыханием, моя кожа знала его кожу, мои нервные окончания искрили от его прикосновения. К такого рода отношениям я никогда не могла легко повернуться спиной. И он обладал вкусом, чувством юмора и элегантностью. Он был неизменно учтив, а о многих ли мужчинах можно это сказать?
Кстати, незнакомые люди останавливали его на улице, чтобы сказать, что он похож на Кэри Гранта.
И он меня любил. Теперь все ясно?
Я совсем запуталась. Не знала, что делать, поэтому поступила как последняя идиотка с человеком, который этого меньше всего заслуживает.
После того как он рассказал мне о световом шоу, мы долго сидели с Тео, расстроенные из-за страданий Клэр. Тео повернулся ко мне и спросил:
— Корнелия, ты уверена в Мартине? — Я не была готова ответить на этот вопрос, мне даже слышать его было тошно. Я была заведена, готовый костер, только спичку поднеси. Я знала, вопрос был по существу, но решила считать его риторическим, а поступать так было трусостью. Линни обязательно обозвала бы меня трусихой.
Но спичка загорелась. Я вспыхнула.
Вспыхнуть-то я вспыхнула, но голос оставался ледяным.
— Выходит, ты за два дня все понял о Мартине?
Что бы сделали обычные люди, услышав такой вопрос? Наверное, психанули бы, что было бы вполне естественно, или бы дали задний ход, извинились и пошутили бы на свой счет, но Тео умел молчать. Он умел очень многозначительно молчать, наблюдая и не суетясь. И он знал вопросы, на которые не следует отвечать. Я всегда восхищалась этими чертами в Тео, но на этот раз для восхищения у меня было неподходящее настроение. Я решила заполнить его зеленоглазый покой своим ядом.
— Ты решил, что он плохой отец и плохой человек. Ты решил, что он эмоционально убог, не так ли?
Молчание.
— Что ты вообще знаешь о детях и об отцовстве, Тео? Довольно легко появиться в жизни ребенка в уязвимый момент и стать героем. Но ты не думаешь, что зашел слишком далеко, решив, что ты эксперт по отношениям между Мартином и Клэр и можешь судить? — Я задыхалась.
— Я не знаю Мартина, — тихо сказал Тео. — Я просто поинтересовался, насколько хорошо его знаешь ты. — Тео разозлился, я догадалась по напряженному взгляду и красным пятнам на щеках. Но даже если он злился, он не опускался до сарказма, когда обсуждал важные вопросы. Но это не имело значения. Я пылала, как лесной пожар, совершенно потеряв над собой контроль.
— А, ты судишь не об отношениях Мартина и Клэр, а о наших с ним отношениях? Верно? Я теперь все правильно поняла? Просто блеск. Замечательно. А как насчет тебя? У тебя такой счастливый брак, что твоя жена оставляет тебя одного на праздники. Ты действительно хорошо знаешь Олли, Тео?
Этот выпад был омерзителен, но у меня были серьезные сомнения по поводу брака Тео и Олли. Этот аргумент я выдвинула в свою защиту, которой, впрочем, совершенно не заслуживала. Ведь сомнения всего лишь сомнения. Вполне возможно, что Тео и Олли провели последние два года в брачном раю, какого невозможно себе представить, и в таком случае моя ядовитая стрела отскочила от его крепких доспехов, не оставив и вмятины. Моя мать думала, что они счастливы. Но лично я сомневалась.
Эти сомнения не возникли из моего природного хорошо развитого цинизма. Цинизм и романтизм соседствуют во мне вполне благополучно. И в настоящую любовь я верю. В списке того, во что я верю, настоящая любовь стоит на первом месте.
Насколько я могу судить, Олли тоже верит в настоящую любовь, потому что за два месяца до брака с Тео она познакомила меня со своей «половинкой» (ее выражение, не мое). Он был ее коллега, быстро поднимающаяся звезда в лаборатории, и отличался необыкновенной красотой. Скорее всего именно поэтому Олли захотела меня с ним познакомить. Шесть с половиной футов ростом, родом с Ямайки, выпускник Оксфорда, серьезный велогонщик, который, возможно, и не стал чемпионом по единственной причине: его широченные плечи и коэффициент интеллекта были настолько весомы, что пригибали его к земле.
Куда более ошеломляющим, чем физические и умственные достоинства «половинки», было то, что моя холодная, как лягушка, сестра в его присутствии превращалась в потерявшую дар речи и хлопающую ресницами девицу. Когда он входил в комнату, Олли почти не отличалась от тех фанаток из серии «Битлы приехали в Америку», которые открыто рыдали, хватались за щеки обеими руками и визжали. За те полтора часа, которые я провела с ними, она даже уступила ему в научном споре.
Короче, в один прекрасный момент они оба подали заявки на существенный грант, который выдавался под проект на Галапагосских островах, и это убило их отношения. Грант присудили только Эдмонду (так его звали, Эдмонд Бэттл), и он его принял. Эдмонд собрал шмотки и уехал. А было: «Олли и Тео, пока смерть не разлучит их». Сами делайте выводы.
Ядовитая стрела попала в цель. И хотя для моего поведения невозможно найти оправдание, я еще раз хочу выступить в собственную защиту. Еще до того как стрела достала его, до того как я увидела, как Тео слегка, но вполне заметно отпрянул и поморщился, как от боли, я все бы отдала, чтобы вернуть эти слова назад. Тео встал, ушел на кухню и просто остался там стоять, придерживаясь одной рукой за стол и глядя в пол. Я смотрела, как он там стоит, мужчина, который неожиданно попал в нашу жуткую неразбериху, но не ретировался, как сделали бы многие, а принялся разбираться в ней, как будто это самая естественная вещь на свете. Мужчина, который остался на Рождество, отдав всю свою энергию, чтобы хоть немного избавить дочь друга своей свояченицы от одиночества и сердечной боли. Мой старый друг, человек необычайной доброты!
Я двинулась к нему сквозь болото стыда, в мутной жиже которого меня стоило навсегда утопить, взяла его за руку и попросила прощения так, как не просила никогда раньше.
И Тео меня простил.
Он улыбнулся, хотя в глазах его все еще стояла боль — дело моих рук, — и сказал:
— Тебе сейчас трудно. Мне бы хотелось, чтобы тебе жилось полегче. Ты мне больше нравишься счастливой. — Улыбка стала шире. — Тебе идет быть счастливой.
— Ты прав, — согласилась я, и мы рассмеялись.
Тео не ошибся и насчет Клэр. За ее смелость пришлось платить. Я проснулась от звука рыданий.
Я села и принялась круговыми движениями массировать ей спину, меня это всегда успокаивало. Через некоторое время она положила голову мне на колени и сказала:
— Я хочу к мамочке.
Я раздумывала над этими словами, понимая, что смысл их куда глубже, чем может показаться на первый взгляд. Они означали то, что означали, но были и отчаянной мольбой о сочувствии. Солдаты после битвы, заключенные, приговоренные к смерти, исследователи, затерявшиеся в пустыне, джунглях, на горных вершинах, все, кто болен или просто устал и растерялся, все мы хотим к своей мамочке. Я подумала о своей маме — прямая спина, всегда улыбается, всегда под рукой салфетки, лейкопластырь, губная помада, аспирин, оптимизм и поддержка. Матери — как они все выдерживают такую нагрузку? Я поежилась.
Клэр хотела, чтобы ее мать была с ней, чтобы мать утешила ее, потому что она потеряла мать. Временно, даст Бог, временно.
— Я знаю, — сказала я.
— Она может вернуться домой на Рождество, — сказала Клэр. — Она не захочет провести Рождество без меня.
Нет, конечно же, нет. Я была в этом уверена. Я посмотрела на профиль Клэр на моих коленях; в темноте получилось разобрать только линию подбородка и полукруг брови над широко распахнутым глазом. «Дочь Вивианы», — подумала я. Наверняка Вивиана обожала это лицо.
— Хочешь поехать домой? — спросила я.
Клэр кивнула. Несмотря на теплое покрывало, она вся тряслась.
— Тогда мы поедем, — сказала я.
Итак, я готовила рождественский ужин вместе с мужем моей сестры (да благословит его Господь!) в кухне пропавшей бывшей жены моего друга, который, возможно, скоро станет бывшим другом. Кухня по размеру и оборудованию не уступала ресторанной. Тем временем мой друг (или будущий жених, хотя я была уверена, что до этого не дойдет) со своей практически брошенной и до последнего времени мне неизвестной дочерью украшали мою елку в гостиной (интерьер прямиком из журнала «Филадельфия стори») бывшей жены. И если вы с трудом поняли данный абзац, только представьте себе, что было в реальности.
Когда чернильно-темное небо за окном моей спальни в какой-то момент посветлело, я разбудила Тео. Он отбросил отросшие волосы с глаз, пару раз моргнул и начал снимать украшения с моей рождественской елки.
— Ей ведь захочется елку, как ты думаешь? — спросил он.
Клэр уже оделась и собирала свои вещи в спальне. Она была в настоящем рождественском настроении — сияющие глаза, разрумянившиеся щеки, — она даже напевала в предвкушении поездки. Такая перемена обеспокоила бы меня, будь у меня время в ней разобраться. Но я торопливо укладывала индейку, пироги (на этот раз я схитрила и купила готовые пироги), сковородки с кукурузным хлебом для начинки индейки, свежую зелень, картошку, сливки и масло и еще массу вещей в пакеты и картонные коробки, принесенные из подвала моего дома.
Уже наполовину собравшись, я вспомнила, что нужно позвонить Мартину, который после паузы ответил на мое развеселое заявление о перемене планов и последующее объяснение, в чем эти перемены заключались, довольно резко:
— Должен сказать, Корнелия, что это довольно нелепая идея.
Услышав это, я перестала укладываться, поставила на пол пакет с зеленой фасолью, который держала в руках, и вышла с телефоном в коридор, чтобы дочь Мартина не услышала, как я напоминаю ее отцу об отцовской ответственности перед морально травмированными детьми. Если есть хоть какая-то возможность выполнить их просьбы, это следует сделать.
Я понимала, что в конечном итоге Клэр может пострадать, что ее мать почти наверняка не появится в тот момент, когда нож для резки индейки будет поднят и в нем отразятся горящие свечи. Но я также знала, что Клэр хочет домой. Я понимала, что она считает неправильным — не быть дома на Рождество. И еще я знала, что Клэр, совсем еще ребенок, на самом деле не верит, что ее мама появится. Она только надеется, надежда эта хрупкая. Прозрачное облачко надежды. Я это знаю, потому что мудрая, но еще и потому, что перед тем как пойти будить Тео, Клэр взяла меня за руку и сказала:
— Ты не волнуйся, я знаю, что она, вероятно, не придет.
Я собиралась сказать все это Мартину, чтобы он не беспокоился о Клэр, и услышала:
— Когда я позавчера забирал Клэр, я побывал в этом доме впервые за семь лет. Мне неуютно будет там на Рождество. — Затем он смягчился. — Ты ведь понимаешь, не так ли, Корнелия? — Я понимала. Я слишком хорошо его понимала. Я понимала, что мои страхи относительно Клэр правомерны, потому что он вообще о Клэр не думал. Я записала этот грустный факт в мой мысленный реестр под заголовком: «Почему не стоит выходить замуж за Мартина». Список с каждым днем становился все длиннее, и я поклялась, что разберусь с ним позже, когда у меня будет время для размышлений, после того как я загружу машину Тео продуктами на Рождество и привяжу к крыше елку.
— Мартин, мы туда едем. Ты можешь поехать с нами, — предложила я, стараясь говорить ровно. — Или можешь не ехать.
— Понятно, — сказал Мартин, и вопреки моим ожиданиям он вроде бы не злился. Такая уж у него была хорошая черта, он был вежлив и спокоен, когда другие на его месте бы бесились. Стоило вам усомниться в нем как хорошем человеке, он тут же доказывал вам, что это вовсе не так. — Ты извини, я не знал, что это так важно. Дай мне пятнадцать минут.
Несмотря на все препирания, Рождество прошло лучше, чем можно было ожидать.
Благодаря Макс в доме было идеально чисто, к тому же там было очень мало следов пребывания женщины, крутящейся в своем собственном странном мире. Здесь жила отчаявшаяся девочка, которая делала все, чтобы сохранить видимость обычной жизни. Было несколько признаков, довольно болезненных. Тео молча повел меня в кладовку и показал аккуратно выстроившиеся ряды банок с зеленым горошком, морковью и куриным супом и три полки с коробками консервированного молока. Позднее я нашла в кухне квитанцию, прикрепленную к холодильнику. Клэр заказала продукты и заплатила кредитной карточкой. Смотреть на кладовку было больно. Поражало не сходство с бомбоубежищем, а огромное количество продуктов. Я закрыла рот ладонью, глаза мои наполнились слезами, когда я представила себе мою маленькую девочку (я уже так думала о ней, ничего не могла с собой поделать), оставленную одну на несколько месяцев одиночества и тайн.
Когда я помогала Клэр отнести вещи в ее спальню, я не хотела подглядывать, но когда она ушла, я задержалась и увидела еще одну доску объявлений, к которой было приколото еще одно свидетельство одинокой жизни в страхе.
Список. Под названием «КЛЭР! НЕ ЗАБУДЬ!». Частица «не» была трижды подчеркнута.
1. Ешь больше на завтрак; не должна казаться голодной; нельзя худеть.
2. Каждое утро принимай душ; мой волосы, аккуратно расчесывай.
3. Одежда: рубашку заправить, в холодные дни — свитер. Проверить, нет ли дыр в одежде, даже в носках. Плащ и зонтик, если дождь. Сапоги, если снег. Всегда шапка и перчатки, если холодно.
4. Слушать прогноз погоды каждый вечер; если есть время, утром тоже.
5. Подделать: разрешение на поход на «Щелкунчика», записку от «М» по поводу пропуска родительского собрания.
6. «М» пропустила рождественский карнавал!!!
Список на этом не кончался и включал еще напоминание о днях, когда забирали мусор, информацию об оплате счетов, напоминание о необходимости позвонить и отказаться от услуг Макс, которая, видимо, убирала каждую неделю, перечень продуктов (включая куриный суп) и витаминов от простуды, чтобы избежать визитов к врачу, что, как я думаю, невозможно без родителей. На полях Клэр написала прописными буквами: «ЗАБЫЛА ПОСЛАТЬ РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ! ПОСЛАТЬ НА НОВЫЙ ГОД. СПИСОК В КОМПЬЮТЕРЕ».
Клэр была просто чудом, способной, предусмотрительной и храброй девочкой, каких можно встретить только в книгах, где они организуют восстания сирот или спасают мир от сил зла. Этот список дал мне надежду, что девочки такого типа в конечном итоге всегда побеждают, всегда. Но я переживала из-за ее одиночества. Мне пришло в голову, что, возможно, она старалась держать все в тайне не только потому, что боялась, не накажет ли как-нибудь мир такую мать, как у нее, но и потому, что для нее это был проект, большой, подробный проект. Способ что-то контролировать.
Но даже Клэр не смогла бы долго все скрывать. Это и из списка было ясно. В любую минуту может появиться кто-то и сказать:
— Знаешь, дорогуша, Вивиана на этот раз не прислала открытку, к тому же, если подумать, мы ничего о ней не слышали уже пару месяцев… И помнишь, как странно она себя вела в последний раз, когда мы встречались?
Даже если Вивиана не исчезла, кто-то мог прийти на помощь Клэр вопреки ее желанию. Эти ряды коробок с консервированным молоком на полках… От мысли, что большая часть из них останется неиспользованной, теплело на душе.
Пока я стояла и смотрела на список, в комнату вошел Мартин. То есть он не то чтобы вошел, а остановился на пороге и смотрел на меня. Только на меня. Он вел себя так все время, пока мы находились в доме, — застревал на пороге, не решаясь войти. Когда я показала ему список, он быстро прочитал и сказал:
— Жаль, что я не знал, что здесь происходит. Жаль, что она мне не доверилась. — Он произнес это с такой печалью, что мне захотелось до него дотронуться, что я и сделала. Провела пальцем от уха к подбородку. Мне всегда эта линия казалась особенной. Он взял мой палец и прижал его к губам.
Как я уже говорила, день прошел на удивление гладко. Мы очень старались, я и Тео, да и Мартин тоже. Думаю, мы все так старались ради Клэр, и она тоже старалась, потому что видела, как сильно нам хочется, чтобы она была счастлива. Она была душевным ребенком. Еще, возможно, день прошел хорошо, потому что все же Рождество есть Рождество. Я вовсе не сентиментальна, но если праздник год за годом — счастливое событие, его ждешь с радостью. Ужин получился хоть и не самым исключительным, но вполне приличным. Во всяком случае, индейка не пересохла, даже белое мясо, чего в любых обстоятельствах не очень легко добиться, а это еще раз доказывает, как мы все старались.
Но долго так продолжаться не могло. Клэр весь день думала о матери, иначе и быть не могло. В какой-то момент она отвела меня в сторону, чтобы показать их общую фотографию. В доме почти в каждой комнате были фотографии Клэр в рамках. Она была прелестным малышом и, с небольшим перерывом на беззубость и взлохмаченность, всегда была очень хорошенькой. Фотографии Мартина отсутствовали, а фото Вивианы я увидела только в библиотеке, его мне показала Клэр. После того как я это фото увидела, я глубоко вздохнула, оценив скромность и сдержанность Вивианы, потому что если бы я так выглядела, потребовался бы Геркулес, чтобы пресечь мои попытки залепить все стены в доме своими фотографиями. Мне сначала показалось, что она похожа на Грейс Келли, но потом я передумала. На самом деле Вивиана необыкновенно походила на малоизвестную актрису по имени Лизабет Скотт, которую часто называют Лорен Бэколл для бедных, хотя она была необычной красоткой, сумевшей переиграть такую актрису, как Барбара Стэнвик в фильме «Странная любовь Марты Иверс». И вообще, насколько беден этот бедняк? В худшем случае у этого парня всего одна вилла и маленькая яхта. Так что не тратьте зря свое сочувствие.
На этой фотографии Клэр лет восемь, она держит руки на уровне подбородка, и понятно, что они только что были сложены лодочкой; она удивленно смотрит вверх. Ее мать рядом, она смотрит на Клэр, и как бы сногсшибательно ни выглядела Вивиана, самое изумительное на фотографии выражение ее лица. Столько в нем любви. Мне захотелось заплакать, когда я подумала, что эта женщина никогда бы не хотела стать человеком, который смог напугать ребенка и бросить его.
— Там была бабочка. Но она в последнюю минуту улетела, — пояснила Клэр, и когда она смотрела на фотографию, улыбаясь самой себе и воспоминаниям, она выглядела очень маленькой девочкой, значительно моложе одиннадцати лет. Мне хотелось обнять ее, но я сдержалась. Я понимала, что этот момент не принадлежит мне.
И хотя Клэр в этот день была спокойна и весела, я знала, что в этом доме, куда она вернулась, мать была везде. Даже я почти что ждала, что Вивиана войдет в дверь, а что чувствовала Клэр, можно только представить.
Наша птичка уже была нарезана, разложена по тарелкам и дружно съедена. Венский хор мальчиков пел «Безмолвную ночь» ангельскими голосами. Лицо Клэр сияло. И в это время в гул разговора ворвался стук в дверь.
Все замерли, повернулись к двери, потом посмотрели друг на друга. Будь мы животными, наша шерсть встала бы дыбом. Никому не пришло в голову, что вряд ли Вивиана стала бы стучать в собственную дверь. Клэр сидела выпрямившись, обхватив себя руками, и дышала так громко, что я слышала ее сквозь музыку.
Затем она метнулась к двери, распахнула ее и отступила на несколько шагов. В дверях стоял очень удивленный мужчина лет тридцати или около того с длинноватыми светлыми волосами, в лыжной куртке и очках. Мартин вскочил и воскликнул:
— Ллойд!
Клэр издала ужасный звук, как будто подавилась, и мы с Тео тоже вскочили. Он добрался до нее первым и обнял за поникшие плечи, но она вырвалась и кинулась прочь из комнаты. Мы услышали, как она бежит вверх по лестнице, и переглянулись.
— Оставить ее в покое? — спросил Тео, и я кивнула. Пусть какое-то время побудет одна. Трудно было решить, что делать. В этом доме мы были чужими, вне зависимости от того, насколько нравились Клэр.
Мартин сказал усталым голосом:
— Входите, Ллойд. — Тот вошел, закрыл дверь, но не стал снимать куртку, да никто и не предложил ему это сделать, даже Мартин, чьи безукоризненные манеры были на уровне рефлекса.
— Простите, что так ворвался. Рождество и все такое. Ехал мимо дома, чтобы просто проверить. Увидел свет.
Ллойд не был похож на крутого детектива, каких мне доводилось видеть, но говорил он в этом стиле. Отрывисто. Никаких личных местоимений.
— Разумеется, — сказал Мартин. — Ллойд, это Корнелия Браун и Тео Сандовал. Моя дочь Клэр открыла вам дверь. Она прекрасно держится, но ей сейчас очень тяжело.
— Докладывать нечего. Никакой почты. Она наверняка ее приостановила. Видел, как двое подходили к двери. — Ллойд достал откуда-то блокнот и открыл его. — Леди с девочкой примерно возраста Клэр. Ездит в «форде». Черном. Номера пенсильванские. И еще высокая дама в белом «мерседесе». Оставила коробку с печеньем и карточку: «Счастливого Рождества. Я уеду на Новый год на Барбадос с Заком. Помнишь его? Кабельщик. Похож на Тома Круза. Сет присмотрит за магазином. Позвоню, когда вернусь. С любовью, Сисси». — Большинство людей не произнесли бы так монотонно — «Похож на Тома Круза», но Ллойд и не принадлежал к большинству.
— Сахарное печенье или шоколадное? — спросила я, потому что стояла молча и чувствовала себя почти идиоткой. Ничего удивительного, что, задав этот вопрос, я ощутила себя еще большей кретинкой, но мой вопрос заставил Ллойда выражаться полными предложениями.
— Сахарное и шоколадное в форме елок и звезд. С глазурью, — сказал он и покраснел. — Я… ну, я подумал… если его здесь оставить, оно может привлечь насекомых и животных и всяких других.
Я кивнула, подумав, кто это — «всякие другие»? Хулиганы, плотоядные растения? Мартин похлопал Ллойда по плечу и одобрительно хмыкнул.
— Все верно, Ллойд, вы правильно поступили. Держите меня в курсе.
Ллойд захлопнул блокнот, кивнул, подобрал губы и немного выпятил подбородок, совсем как шерифы по телевизору. Затем он ушел, а Мартин, Тео и я растерянно стояли, не зная, что делать дальше.
— Все кончили есть? — спросил Тео, но поскольку было бы глупо после того, что случилось, снова садиться за стол, когда аппетит уже пропал, мы с Мартином кивнули.
Тео отправился на кухню, а я начала собирать со стола тарелки. Мартин спросил:
— Мы не могли бы поговорить минутку?
— Конечно, — сказала я, почему-то занервничав, и крикнула: — Тео, я приду помочь тебе через секунду.
Мартин за руку отвел меня в библиотеку — теплую, обшитую дубом комнату, — и мы уселись на кожаный диван. Затем он достал из нагрудного кармана два билета на самолет и протянул мне. Это были билеты в Лондон.
— Я хотел подарить их тебе на Рождество, Корнелия: поездка, от которой ты отказалась в первый день нашего знакомства. У меня дела в Лондоне и в Париже, но я буду свободен уже в середине дня. Я думал, мы могли бы провести по два дня в каждом городе.
Я смотрела на билеты и представляла себе, какой могла бы быть эта поездка. Великолепной. Но мысль эта сразу померкла, истаяла как дым. То время — до Клэр — казалось таким далеким, и каким бы романтичным оно ни было, я не хочу, чтобы оно вернулось без Клэр. Это было совершенно невозможно. Я вздохнула и подняла глаза на Мартина.
— Поедем со мной. У моего приятеля дочь-студентка, она сможет присмотреть за Клэр, она очень надежная девушка. — Должно быть, он заметил выражение моего лица. — Но вероятно, сейчас неподходящее время оставлять ее с чужими людьми.
— Это невозможно, — просто сказала я, затем меня осенило. — Ты сказал, что я могу поехать с тобой?
Мартин кивнул, глядя мне прямо в глаза, вместо того чтобы стыдливо их опустить. Он должен был это сделать.
— Ты в любом случае летишь? — спросила я, и даже в этот момент его взгляд не дрогнул.
— Я пытался отвертеться, но сейчас нет никого, кого можно было бы вместо меня послать. Я улетаю послезавтра, — сказал он. Затем добавил: — Мне ужасно не хочется тебя просить… — Но так ничего и не попросил.
— Я могу взять несколько дней. Побуду с Клэр. Здесь или в моей квартире, это ей решать. Хотя, если мы останемся здесь, придется что-то придумать, почему здесь я, а не Вивиана. Но, Мартин…
Его выдержка дрогнула, не резко, но дала заметную трещину.
— Корнелия, я ей не нужен. Любой это скажет. — Он потер лоб ладонью. — Неужели ты думаешь, что я не понимаю, что то время, когда я должен был быть рядом с Клэр, давно прошло? Я его упустил. У меня были сотни возможностей, я упустил все. Теперь мне нечем ей помочь. Более того, от моего присутствия ей хуже. — Никогда я не видела Мартина таким несчастным. Я не могла ничем его утешить. Все, что он только что сказал, было правдой.
— Я останусь с ней. Ты же знаешь, я останусь. — Я крепко обняла его, и мы долго так сидели — обнявшись. Мне казалось, что ему полезно попереживать. Но сознавать, что ты все потерял и никогда не сможешь вернуть, — самое тяжелое чувство. Я не могла оставить его одного с этими переживаниями.
Когда мы вошли в кухню, Тео уже убрал все продукты и мыл посуду. Я бедром оттолкнула его от раковины, и сама взялась за дело. Мартин взял полотенце и стал вытирать.
— Я проверил, как там Клэр. Она спит, я так полагаю, на кровати матери. Я снял с нее туфли и накрыл одеялом. Она даже не шелохнулась. — Тео прислонился к сверкающему холодильнику и провел рукой по волосам.
Как я уже говорила, я не из тех, чей мир начинает раскачиваться при виде Матео Сандовала. Однако я вынуждена сообщить, что волосы, которые он приглаживал, темно-русые с золотым отливом, что довольно неожиданно для смуглого филиппинца, в сочетании с ясными зелеными глазами, хорошим здоровьем и способностью краснеть придают Тео яркую индивидуальность, какую не каждый день встретишь. Я упоминаю об этом только для того, чтобы пояснить, что каждый, кто проведет с Тео какое-то время, быстро поймет, что его сияние — не могу подобрать более точного слова — усиливается или уменьшается в зависимости от настроения Тео. Это сияние служит своего рода барометром эмоционального состояния Тео, что очень полезно, потому что в отличие от многих людей, меня в том числе, он не тратит много времени на описание своих эмоциональных состояний, особенно если эти эмоции не слишком радостные.
Когда Тео прислонился к холодильнику, от него не исходило никакого сияния. Я подумала, не беспокоится ли он о ком-то еще, кроме Клэр. Может быть, тоскует по жене. Может быть, он слишком много работал. Я дала себе слово, что спрошу его об этом, как только мы останемся наедине. Но когда мы остались одни, я была так взбудоражена, что, к сожалению, этого обещания не выполнила.
— Надеюсь, она будет долго спать, — сказал Мартин. — Она в этом нуждается.
— Верно. И дело не только в неудачном появлении Ллойда. Она эту усталость копила многие недели. — Я рассказала Тео о списке в спальне Клэр.
— Господи, — вздохнул Тео. — Как она все это пережила? Знаешь, она говорила мне о каком-то списке. На следующий день после своего дня рождения, о котором они с матерью обе забыли, она и составила себе план жизни на каждый день.
Мартин отложил тарелку, которую вытирал.
— Жаль, что она так старалась держать болезнь матери в тайне. Она могла рассказать мне. Тогда ей значительно легче было бы жить. Она могла рассказать мне.
Вот тогда это и случилось, рассыпался весь карточный домик, который я сохраняла только усилием воли и стремлением закрывать глаза на очевидные вещи.
Когда Мартин замолчал, Тео сказал всего два слова:
— Она рассказала.
Я круто повернулась, все еще держа в руке мокрую тарелку. Тео уже отошел от холодильника. Он стоял прямо, но в позе не было вызова. Руки он сунул в карманы джинсов, на лице появилось странное выражение, как будто его собственные слова застали его врасплох.
Мартин смотрел на Тео, и я видела, как он краснеет, что было для меня новостью. Когда он заговорил, он заикался, что тоже было новостью.
— Корнелия, я… — И он замолчал.
— Тео, — медленно сказала я, — что ты имеешь в виду? Скажи мне.
Когда Тео заговорил, он обращался к Мартину, а не ко мне, что, как я поняла позже, было данью уважения. Он не хотел говорить о Мартине в третьем лице, когда он стоял рядом.
— Клэр звонила вам. Несколько недель назад. Она рассказала о странном поведении матери, о ее диких покупках, непонятном режиме дня. Клэр вам рассказала, как мать забрала ее из школы и говорила с ней так, что напугала ее. Она сказала вам, что считает, что мать заболела.
Мартин повернулся ко мне.
— То, что она рассказала, не показалось мне опасным, я не понял, насколько все серьезно.
Руки мои тряслись, и я думала, что сейчас уроню тарелку, поэтому повернулась, опустила ее в раковину, и она разбилась на две половинки. Я видела их сквозь мутную воду.
Не отрывая взгляда от разбитой тарелки, я сказала:
— Мартин, она сказала тебе, что боится?
— Да, конечно, сказала, но я не понял, насколько все сложно. Даже не догадывался. Она рассказала мне о всех этих мелочах — полотенцах, вине, кулинарных книгах. Наверное, я не сделал правильных выводов, но я в самом деле не понял, что происходит что-то ужасное.
Именно в этот момент мое теплое чувство к Мартину, все наши счастливые моменты и радостные мысли вспорхнули и улетели, исчезли, как привидения. Пусть это звучит дико, но я физическим почувствовала, как они покидают меня. Когда я стояла у раковины, я почувствовала пустоту и холод там, где они были, в самом центре моей груди. Я содрогнулась.
— Корнелия, пожалуйста, — сказал Мартин.
— Ты знал, что она напугана, — заметила я. — Больше тебе ничего не нужно было знать. Какая разница, увидел ты в ее рассказе смысл или нет? Она просила у тебя помощи. Только это должно было подсказать тебе, что она в отчаянии. Она обратилась к тебе за помощью, а ты ее оттолкнул. — Я почти плакала. — Ничего удивительного, — продолжала я. — Ничего удивительного, что она больше никому ничего не сказала. Наверное, ей казалось, что никто не станет слушать.
Мартин подошел ко мне и осторожно обнял. Через его плечо я увидела, как Тео повернулся и вышел из кухни.
— Корнелия, ты меня знаешь. — На глазах у Мартина были слезы, но это уже ничего не меняло. — Ты знаешь, какой я. Я совершил ошибку. Ужасную ошибку. Но не позволяй этой ошибке ломать все. Ты понимаешь, о чем я?
Я понимала.
— Я тебя люблю. Пусть это тоже что-то значит. Не бросай меня сейчас. Я не могу потерять тебя сейчас. Ты это понимаешь?
Я понимала. Я понимала, но меня с ним уже не было.
Глава 16 Клэр
В самой середине сна, когда Клэр бродила в тумане, она услышала хлопанье двери, затем ее кто-то потянул и резко выдернул из тумана и сна. «Не надо, — была ее первая мысль, — только не надо снова». На несколько полусонных секунд она снова окунулась в кошмарный сон, где в хрупкой, предательской тишине ночи бродила ее мать.
Она села на постели. Постель ее мамы. Она увидела, что одета, и настоящее рывком вернулось к ней. Ночь, она в своем доме, но мамы нет. Сначала Клэр почувствовала облегчение, потом вину за это облегчение.
— Это не значит, что я не хочу, чтобы она здесь была, — прошептала она в тишине.
Когда она открыла дверь и увидела мужчину в маленьких очках, надежда, что мама вернется домой на Рождество, покинула ее, ехидно ухмыльнувшись на прощание. И теперь, услышав, как хлопнула дверь, она не подумала, что это может быть мать. Первой ее мыслью было: отец поехал на своей машине, значит, Тео и Корнелия могли уехать и оставить ее с отцом. Она отбросила одеяло, которым кто-то накрыл ее, и побежала в свою комнату, окна которой выходили на подъездную дорожку. «Если кто-то уехал, — молилась она в темноту, — то пусть это будет мой отец».
Так и вышло. Клэр смотрела, как он пересек лужайку, направляясь к своей маленькой машине, которая серебрилась на фоне снега, как космический аппарат. На половине пути он обернулся, сделал шаг к дому, потом потер переносицу, снова повернулся и пошел к машине. Как только он завел мотор, Клэр спустилась по лестнице вниз. Она услышала, как открылась и захлопнулась еще одна дверь — на этот раз дверь черного хода, — и бесшумно прошла в прихожую, где было окно, выходящее во двор. Клэр осторожно раздвинула сапоги и садовый инструмент и выглянула в окно.
Во дворе было на удивление светло, и Клэр сообразила, что, очевидно, мать поставила фонари, которые должны были светить ночью, когда они куда-нибудь уезжали. Она мельком подумала о том, как таинственно и странно вела себя мать, как легко она переходила от смятения к ясности мышления. Женщина, которая заказывала билеты на самолет и устанавливала таймеры, была той же женщиной, которая вышла на улицу в мороз в летнем платье.
Клэр недолго об этом раздумывала, потому что увидела Тео, сидящего на одном из садовых стульев, и идущую к нему Корнелию со стаканами вина в руках. Когда Клэр убедилась, что они ее не видят, она приподняла раму окна на несколько дюймов. Корнелия отдала один стакан вина Тео, а сама села в другое кресло. Из своего темного убежища Клэр могла видеть их очень ясно. Ей были видны клубочки пара, вылетающие из их ртов, и слезы на глазах Корнелии. У Клэр было впечатление, что она смотрит пьесу. «Я шпионю», — подумала она. Ей стало стыдно, но не слишком. Все вокруг нее решали, как с ней быть. Если она не должна влиять на то, что может произойти, она по крайней мере может быть в курсе.
— Он мне соврал. И это не самое худшее. Он соврал мне дважды, нет, трижды, если считать то, что только что произошло. Несколько часов назад, наверху, он сказал, что жалеет, что ни о чем не знал. Он говорил так… Мне было его жаль. Какая же я идиотка! — Голос Корнелии дрожал от горечи.
— Почему ты идиотка? Потому что поверила человеку, которого любишь? — спросил Тео. Голос усталый, тусклый.
Корнелия бросила на него удивленный взгляд.
— Тео! Неужели ты так думаешь? Нет, все не так. Все не так уж плохо. Он мне нравился. Очень нравился. Но я его никогда не любила. — Она помолчала. — Тебе показалось, что я его люблю?
Тео задумчиво покрутил вино в стакане. Затем взглянул на Корнелию.
— Нет. В смысле я вообще не знаю, как ты выглядишь, когда влюблена. Но нет, полагаю, что нет. Я просто решил, что это так, потому что он… — Тео замолчал. «Что, — подумала Клэр, — что он имел в виду?»
Корнелия подняла глаза к небу.
— Мне хотелось влюбиться, — тихо сказала она. — Меня занесло. Я на многое не обращала внимания.
Тео тоже посмотрел на небо.
— Все захотят, готов поспорить. Я не хочу сказать, что любовь слепа, но вот желание влюбиться — оно незрячее. Тут уж ничего не поделаешь.
— Нет, не ищи мне оправданий. Если я была слепой… Не я не была. Я видела, но не обращала внимания, пыталась оправдать. Я отказывалась понимать, что дважды два — четыре. — Корнелия вздохнула. — И вот еще что. Я вовсе не была так уж потрясена тем, что ты сказал па кухне. Вот если бы я обнаружила, что кто-то — например ты — пренебрег детскими просьбами о помощи, вот тогда я была бы потрясена.
— Ох! — выдохнула Клэр. Она прижала пальцы к губам, но Корнелия и Тео ее не слышали. Значит, вот в чем дело. В ее телефонном звонке отцу.
Корнелия перестала смотреть в небо и взглянула на Тео:
— Не просто была бы потрясена. Я бы убила того, кто посмел бы это сказать. Врун поганый.
Тео отвернулся, но Клэр показалось, что она заметила, как он улыбнулся. Но когда он снова повернулся к Корнелии, его лицо было серьезным.
— Ты прости, что не сказал тебе раньше. Или мне стоит извиниться за то, что вообще рассказал тебе об этом. И сделал это в присутствии Мартина.
Корнелия толкнула его в плечо:
— Прекрати! Не смей! Ты знаешь и я знаю, что ты пытался. Прошлой ночью. До того как я превратилась в гремучку и укусила тебя.
Клэр не знала, о чем говорит Корнелия, но она видела — что бы ни случилось прошлой ночью, сегодня уже никто по этому поводу не злился.
Корнелия хлопнула себя по лбу и прошептала:
— Что со мной такое? Почему мне так сильно хотелось влюбиться в него?
Тео засмеялся:
— Ты хочешь сказать, что ты в нем увидела? Да будет тебе, Корнелия!
— Замолчи сейчас же! — Корнелия ткнула указательным пальцем в его плечо и покраснела.
— Если бы сходство было большим, его, возможно, привлекли бы за нарушение закона об авторских правах. — Тео снова рассмеялся.
— Считаешь себя очень остроумным, да? — Корнелия качала головой, но одновременно улыбалась.
— Наследники Гранта могут вчинить ему иск.
Они дружно расхохотались. Клэр не поняла абсолютно ничего из сказанного, но смех ей понравился. Она помнила, что несколько минут назад она видела слезы на глазах Корнелии, а теперь она и Тео смеялись.
Клэр знала, что они выросли вместе, и задумалась: не так ли ведут себя братья и сестры, когда они вместе? Наверное, нет. Она припомнила знакомых братьев и сестер. Корнелия и Тео напоминали сестру и брата, но одновременно в их отношениях было что-то другое. До нее вдруг дошло — что. Наверное, это дружба между мужчиной и женщиной, и она вдруг возгордилась, как будто ей позволили взглянуть в новый мир.
— И не только это, — сказал Тео, перестав смеяться. — Шарм, остроумие, образованность, прекрасный гардероб — даже я способен оценить. Готов побиться об заклад, что квартира у него выглядит как картинка из глянцевого журнала. Если бы я запросил Интернет показать мне мужчину мечты Корнелии, на экране появился бы его портрет.
— Неужели я так безнадежно поверхностна? — печально спросила Корнелия, и Клэр поняла, что ей нужен серьезный ответ, хотя сам вопрос и не прозвучал слишком серьезно. Корнелия откинулась на спинку кресла и посмотрела в глаза Тео. Он тоже некоторое время смотрел на нее.
— Нет, — ответил он, и тон был решительным. — Насчет тебя — ничего безнадежного.
Они пили вино, уставившись в пространство. Если бы свет снаружи не был таким ярким, они наверняка бы заметили Клэр. Корнелия снова заговорила. То, что она сказала, едва не заставило Клэр вскочить и броситься во двор.
— Он решил немного поездить. Когда он вернется, я скажу ему, что все кончено. Потому что все кончено. Я ухожу.
Тео сидел неподвижно, молча, не глядя на Корнелию. Клэр почувствовала, как трудно ей становится дышать.
— Я не могу остаться с ним, Тео, — сказала она вызывающе.
Но Тео молчал. Корнелия встала и начала ходить. Клэр была в отчаянии. Значит, все кончено, она опять потеряет ощущение безопасности, ее опять ждет одиночество. Кончено, кончено, кончено. Слово вертелось у нее в голове, звучало, как тяжелые шаги, которые все приближались и приближались.
— Я не могу на это пойти. Ты знаешь, что не могу. Это немыслимо. — Корнелия продолжала шагать, голос становился все выше.
— Верно. Это немыслимо, — ровным голосом сказал Тео. — И это продлится недолго. Пока они ее не найдут.
Корнелия остановилась перед Тео, спиной к Клэр, и казалась маленькой девочкой.
— И что мне делать? Притворяться, что я в него влюблена? — Корнелия опустила голову.
Тео быстро встал и положил руку на плечо Корнелии.
— Нет. Разумеется, нет. Ты поговори с ним, выясни отношения.
— Притворяться, что есть что выяснять?
Тео поморщился. Рука его все еще лежала на плече Корнелии. Казалось, он чего-то стыдится, но Клэр не могла понять, чего именно. Но он не отводил взгляда от лица Корнелии.
— Никто не может этого от меня требовать, — сердито заявила Корнелия.
— Нет, — согласился Тео.
— Я просто хочу от него избавиться, — взмолилась Корнелия.
— Я понимаю, — мягко сказал Тео. Клэр верила, что он самый хороший мужчина в мире.
Корнелия потянулась и ухватилась обеими руками за руку Тео. Она плакала.
— Ты прав, — устало призналась она. — Я не могу ее оставить. Конечно, не могу. Особенно теперь, когда я все знаю.
«Ее, — подумала Клэр, — она имеет в виду меня».
— Это несправедливо, — сказал Тео. — Мне очень жаль. — Он притянул Корнелию к себе и обнял.
Жаль, что она не может тоже ее обнять. Клэр шептала: «Спасибо, спасибо, спасибо», — наполняя маленькую комнату, в которой сидела, словами.
— Тео, — почти прошептала Корнелия, — а если я все напутаю?
— Что напутаешь?
— Ты же видел Клэр сегодня, когда она открыла дверь. Она такая хрупкая. Я не знаю, как вести себя с таким хрупким ребенком.
— Ничего ты не напутаешь.
Корнелия отодвинулась от Тео.
— Ладно. Но ты — ты должен уехать. Хорошо? Завтра.
— Я знаю, — сказал Тео. — Уеду.
— Я не вынесу, если ты будешь наблюдать, — призналась Корнелия. — Да и вообще, у тебя своя жизнь. Мы не можем допустить, чтобы тебя уволили. Больница или Олли. — Она резко рассмеялась и вытерла щеки ладонью. И добавила: — Пошли.
Тео забрал стаканы.
— Но, Тео, — сказала Корнелия неожиданно испуганным голосом, — если я тебе позвоню, ты вернешься? — И пояснила более спокойно: — Клэр может захотеть тебя увидеть. Мне кажется, она влюбилась.
«Правильно», — подумала Клэр и мысленно улыбнулась.
— Да, — сказал Тео, — если ты мне позвонишь, я вернусь.
Клэр взбежала по лестнице в комнату матери и нырнула под одеяло. Сердце колотилось. Она долго лежала с открытыми глазами и думала. Корнелия узнала об отношении отца к Клэр и поэтому хочет бросить его, но она все же почему-то решила остаться. Корнелия решила остаться из-за нее. «Наверное, я ей нравлюсь, — радостно подумала Клэр. — И Тео тоже. Я им обоим нравлюсь». И с этой приятной мыслью она заснула.
Когда Клэр на следующее утро спустилась вниз, Корнелия сидела на кухне одна, положив руки на стол и пристроив на них голову. Это была та самая поза, в которой проводили десять минут после ленча ребятишки помладше в школе Клэр. Клэр всегда нравилось это ощущение себя внутри кольца рук, наедине со своим дыханием, когда другие дети тоже были наедине с самими собой. Но здесь Корнелия была одна с опущенной головой, и ей было одиноко.
Клэр заметила, как подстрижены волосы Корнелии сзади; она заметила небольшое углубление в центре шеи и один выпуклый позвонок над воротником рубашки. «Корнелия живет в своем теле точно так же, как я живу в своем, — неожиданно поняла Клэр. — Она — главный персонаж в ее истории, как я — главный персонаж в моей». Клэр не могла объяснить эти мысли или понять, почему так удивилась, когда они у нее возникли. Мысли казались очевидными, но на самом деле таковыми не были. Они были откровением.
— Корнелия, — тихо позвала Клэр.
Корнелия подняла голову и распрямила плечи, как будто вздрогнула, услышав свое имя. «Интересно, она спала или нет?» — подумала Клэр. Увидев девочку, Корнелия расслабилась и мягко спросила:
— Привет. Есть хочешь?
— Ужасно, — ответила Клэр. Она пошарила по полкам и нашла два нетронутых пирога — яблочный и тыквенный. Они не ели десерт без нее. И от этой мысли ей стало тепло на душе.
— Корнелия, — задорно предложила она, — давай съедим пироги.
Корнелия рассмеялась.
— Знаешь, я тоже проголодалась. Если ты отрежешь мне большой кусок яблочного пирога, буду очень тебе обязана.
Пока они ели, Клэр спросила:
— Тео уехал?
Корнелия сначала удивилась, потом ответила:
— Тео — один из тех лунатиков, которые встают на заре и в любой холод отправляются бегать. Он может появиться в любую минуту и будет умолять, чтобы мы сунули его в духовку оттаять. Как ты думаешь, он туда влезет? — Они обе посмотрели на огромную духовку.
— Может быть, мы его будем оттаивать по частям? — предложила Клэр.
— Светлая мысль. — Корнелия улыбнулась, затем сказала серьезно: — Но он сегодня уезжает. Его ждут пациенты.
— Вот как, — заметила Клэр, изо всех сил стараясь казаться огорченной. Она и была огорчена, но знала, что он вернется, как только Корнелия его позовет. Она знала, что снова его увидит. — Наверное, и Олли его ждет.
— Ну конечно. Олли не всегда осознает, что ей кто-то нужен, но Тео ей очень нужен.
— А кому он может быть не нужен? — сказала Клэр. — Он такой, всем пренужный…
Корнелия хитро посмотрела на Клэр:
— Слушай, Клэр, ты не должна позволять мужчинам доводить тебя до уродования языка, какими бы славными они ни были.
— Не мужчин, а Тео. — Клэр засмеялась. — Ладно, а как лучше сказать?
— Например, необходим, — предложила Корнелия. — Тео всем необходим.
В этот момент хлопнула входная дверь. Запыхавшийся Тео вошел в кухню и вздрогнул, упершись руками в колени. Отдышавшись, он выпрямился, затем уселся на пол, прислонившись спиной к стене. На нем была красная футболка с надписью белыми буквами «СТЭНФОРД». Щеки у него порозовели, глаза сверкали. Клэр не могла отвести от него глаз. «Он выглядит как роза», — подумала она, и тут же это сравнение показалось ей смешным. Она хихикнула.
— В чем дело? — спросил Тео.
— У тебя уши горят? — спросила Корнелия. Тео приложил ладони к ушам.
— Теперь горят. Вся голова горит. Думаю, это хороший знак, потому что десять минут назад все мое тело было онемевшим. А где Мартин?
— Полагаю, Мартин принимает душ. Или уже бреется. Ты, Сандовал, тоже мог бы вспомнить о душе и бритье. И волосы твои нуждаются в хорошем парикмахере. Просто вопят от отчаяния. Если честно, то на данном этапе и посредственный парикмахер сойдет. — Тон Корнелии был легким, как перышко, но Клэр заметила, что когда она говорила о ее отце, то старательно отводила взгляд.
— И не пытайся меня цивилизовать, — заявил Тео, вставая. — Это нереально. — Он взял остатки пирога Корнелии и сунул целиком в рот.
— Варвар, — строго заявила Корнелия, прикасаясь салфеткой к углам своих губ.
Клэр услышала шаги отца на лестнице, ботинки гулко стучали по доскам пола. «Рождество уже прошло, — подумала она с неприязнью, — неужели он никогда не слышал о кроссовках?»
Но когда отец зашел в кухню, ей стало стыдно, что она так сурово отнеслась к нему, хотя и про себя. В свитере и шерстяных брюках он казался ниже, под глазами появились тени, лицо побледнело, как будто он не спал всю ночь. И хотя Корнелия вскоре собиралась с ним порвать, Клэр порадовалась, что он не слышал всего, что она говорила о нем вчера во дворе. Клэр вспомнила, как Корнелия сказала с отчаянием: «Я просто хочу от него избавиться». Клэр содрогнулась, представив себе, что отец мог услышать эти слова.
— Мартин, — сказала Корнелия, и что-то в ее голосе заставило Клэр заподозрить, что она думает о том же.
— Всем доброе утро. А я все думал, куда же подевались эти пироги, — сказал он. Даже голос у него изменился.
Клэр встала.
— Мы устроили из них завтрак, папа. Ты какой хочешь — с яблоками или с тыквой?
Он улыбнулся ей.
— Я возьму такой же, как у тебя, ласточка.
Тео встал.
— Где-то тут должен быть душ.
— И постой там подольше, — посоветовала Корнелия, зажимая нос, когда Тео пробегал мимо.
— От Тео не пахнет! — заявила Клэр с шутливым возмущением.
— Сначала он слишком окоченел, чтобы от него пахло, но как только он начал оттаивать… — Корнелия снова зажала нос.
— Похоже, любовь не просто слепа, она еще и нюх отбивает, — пошутил отец Клэр.
Клэр слегка удивилась, что отец заметил ее влюбленность в Тео. Разумеется, ему об этом могла сказать Корнелия. Но в это утро, уменьшившись в размерах, притушив блеск глаз и опустив плечи, отец, казалось, стал мягче относиться к Клэр. Ока слегка покраснела при мысли, что он знает о ее симпатии к Тео. Еще совсем недавно она бы чувствовала себя ужасно неловко, если бы люди вокруг нее о таком факте знали. Но атмосфера, создаваемая Корнелией и Тео, была легкой, приятной и располагающей. Когда Клэр попала в эту атмосферу, она почувствовала себя свободной, как будто все, о чем она думала, было в порядке вещей.
— Не думаю, что любовь слепа, — тихо сказала Корнелия, и Мартин резко к ней повернулся. — Настоящая любовь, возможно, самое проницательное состояние.
Отец внимательно рассматривал свою кофейную чашку, как будто там можно было найти ответ на фразу, которую Корнелия только что произнесла.
— Может быть, ты и права. Может быть, если любовь настоящая, ты видишь все недостатки, но все равно любишь, — сказал он. Затем он изменил тон. — Кстати, кто придумал эту фразу — любовь слепа?
— Возможно, Шекспир. Во всяком случае, у Шекспира это встречается. Но это и не идиома. Как это называется? Штамп?
— Думаю, это скорее пословица, — сказал Мартин, немного подрастая. Во всяком случае, так показалось Клэр. Самую малость.
— Как «Сияй, сияй, звездочка», — сказала Корнелия, но Клэр ничего не поняла. А ее отец повеселел еще больше.
— Вот именно. Сочинил ли эту песню Моцарт, или он просто создал вариации на народную тему?
Корнелия улыбнулась, но ее улыбка не была обычной, хотя отец Клэр вроде бы ничего не заметил. «А может, он просто рад, что они говорят как обычно, перекидываясь словами, как воланом для бадминтона», — подумала Клэр и пожалела, что не может сказать этого вслух. Сравнение показалось ей интересным.
Но Клэр чувствовала, что атмосфера полна беспокойства. Как будто настоящий разговор, серьезный, таился где-то в глубине, как стремительное течение в океане. По лицу Корнелии Клэр поняла, что она тоже это ощущает. Клэр вспомнила, как Корнелия сидела за кухонным столом, положив голову на руки. Если бы она могла, она бы помогла Корнелии.
— Может, нам сегодня стоит уехать отсюда и вернуться в Филадельфию? — сказала Клэр. Если они оставят этот дом, Корнелии не нужно будет так часто видеть отца Клэр. Они будут жить в своих квартирах. Разумеется, она останется с Корнелией.
— Наверное, — обрадовалась Корнелия, а Клэр гордо вскинула голову. Она помогла. — Если ты уже собралась. Кстати, с завтрашнего утра мы с тобой останемся одни на несколько дней. Твой отец улетает в Лондон.
Клэр охватил восторг, но она сделала все, чтобы это скрыть.
— Меня не будет всего несколько дней, — сказал ее отец. Он помолчал, потом добавил: — Но если ты хочешь, чтобы я остался, Клэр, я могу отложить поездку.
Корнелия бросила на него удивленный взгляд, смешавшись на несколько секунд, как будто не могла решить, что думать по поводу этого предложения.
— Да не стоит, папа. Ты можешь ехать, — сказала Клэр. — Я только напишу для мамы новую записку.
Написав записку, она хотела вернуться в кухню, но остановилась. Вверху под звуки льющейся воды Тео напевал песенку, которую Клэр не знала. Наверное, он брился. Затем Клэр на цыпочках подошла к кухонной двери и заглянула.
Отец придвинул свой стул ближе к стулу Корнелии и наклонился к ней.
— Продолжай верить — вот что я хочу сказать. — Он горько улыбнулся. — Если от этой веры хоть что-нибудь осталось.
— Я стараюсь, Мартин, — грустно сказала Корнелия.
Отец Клэр взял руку Корнелии, рассматривая ее, потом коснулся каждого пальца, как бы пересчитывая. И хрипло сказал:
— Можно? — Корнелия кивнула, и он поцеловал тыльную сторону ее ладони, затем перевернул и поцеловал ладонь и держал ее у губ довольно долго. Клэр прижала руки к сердцу. Затем проскользнула в гостиную и долго там сидела, пытаясь разобраться в том, что видела.
И додумалась она до следующего: если кто-то не идеален или даже не особенно хорош, ты не можешь махнуть рукой на их любовь. Любовь — она всегда любовь, у нее своя правда, даже если человек, испытывающий эту любовь, состоит из одних недостатков. Корнелия сказала, что ее отец не обратил внимания на мольбы ребенка о помощи. Даже человек, способный на такое, может испытывать любовь, и от этой любви нельзя отмахнуться. Она сидела выпрямившись в столетнем кресле в гостиной, и ее бил озноб от осознания этой правды.
Тео тихо вошел в комнату и позвал ее по имени. Когда она взглянула на него, то увидела, что волосы его все еще блестели от воды после душа, лицо чисто выбрито, кожа золотисто-смуглая. «Господи!» — едва не восхитилась она вслух.
Перед тем как уехать, Тео пожал отцу Клэр руку. Затем наклонился и расцеловал Корнелию в обе щеки.
— Разве не так они делают в твоем кафе? — усмехнулся он. Корнелия кивнула, но схватила Тео за рукав, и Клэр заметила в ее глазах панику. — До скорой встречи, — твердо сказал Тео, и Корнелия отпустила рукав.
— Не хочешь меня проводить, Клэр? — спросил Тео. Разумеется, она хотела. Тео дал ей руку, Клэр уцепилась за нее и, пританцовывая, вышла из комнаты. В другой руке она держала коричневый бумажный пакет, где лежал ее подарок для Тео.
Когда они стояли у машины, Клэр вынула подарок из пакета. Это был рассказ, который она написала. Она постаралась разгладить смятую обложку.
— Я хотела подарить его маме на Рождество, — просто сказала она.
— Тогда сохрани его для нее, — посоветовал Тео. Он заправил за ухо девочки выбившуюся прядку волос.
— Я сочиню для нее другой. Это тебе и Корнелии. Пополам. Так что тебе придется привезти его, когда будет ее очередь. — Клэр помолчала. — Я думаю, ее очередь придет скоро, верно?
— Ладно. Спасибо. — Тео улыбнулся и отдал Клэр сложенный пополам листок. — Это номер моего телефона. Звони, когда захочешь, договорились?
Клэр кивнула, держа листок обеими руками.
Тео несколько секунд смотрел на дом, потом сказал:
— Клэр, как ты думаешь, ты можешь кое-что для меня сделать?
Клэр даже подпрыгнула. Она сделает все, что угодно.
— Все, все, все, — сказала она.
— Позвони мне, если я тебе понадоблюсь. И позвони мне, если ты решишь, что Корнелия… если тебе покажется, что Корнелия в беде, обязательно позвони мне. Обещаешь?
— Обещаю, — торжественно произнесла Клэр. Затем быстро, пока она не потеряла присутствия духа, она поцеловала Тео в гладкую смуглую щеку.
Когда они возвращались в машине отца в Филадельфию, Клэр писала в блокноте, а ее отец разговаривал с Корнелией. Сначала они говорили о фильмах, большинство из которых Клэр не видела, затем о поэзии — о метафизиках, о которых Клэр даже не слышала, а потом об Эмили Дикинсон, чье имя напомнило Клэр жужжание мухи на подоконнике, а также об Эдне Сен-Винсент Милли, Одене и других поэтах. Их имена были Клэр незнакомы. Только однажды голос Корнелии стал серьезным и задумчивым.
— Это правда. Я высоко ценю иронию. Иронию и ум. Наверное, с перебором, — сказала она.
— Не волнуйся, — беспечно ответил отец Клэр. — Переоценить иронию и ум невозможно.
— Знаешь, можно, я начинаю думать, что можно. Чем старше я становлюсь, тем больше мне нравится Уитмен.
Клэр вспомнила о человеке, который писал о листьях травы. Еще она вспомнила придорожную площадку для стоянки машин на шоссе в Нью-Джерси. «Праздную себя, себя пою!» — всегда восклицала ее мать, когда они проезжали знак. «Ох, мама, — подумала Клэр, — возвращайся домой».
— Уитмен, может быть, очень умен, — заметил отец Клэр.
— Конечно, — нетерпеливо сказала Корнелия. — Но дело вовсе не в уме. Никто никогда не любил Уитмена за его ум. Все дело в его сердце, его огромной щедрости и его плодовитости как поэта. — Казалось, она была в ярости.
— Думаешь, это большие основания любить кого-то? — спросил отец Клэр, голос которого внезапно стал усталым и расстроенным.
— Мартин, ты не думай… — Корнелия вздохнула. — Меня вовсе не занесло. И я не хочу тебя обидеть. Понятно? Я просто говорю о поэзии. Поэзия иногда на меня сильно действует. Превращает меня в зверя. Ясно? — Она подняла руку, хотела коснуться его колена, потом заколебалась. Он взял ее нерешительную руку и сжал.
— Понятно, — сказал он. — Даже если ты зверь, ты не зверский зверь. — Казалось, он снова повеселел.
«Как мало надо, чтобы порадовать его», — подумала Клэр. Затем записала эту мысль в своем блокноте. И еще: «Ему нужно верить, что она тоже его любит».
Глава 17 Корнелия
Есть в предрассветных часах особая нежность, серо-голубая, одинокая нежность при невероятной тишине. Нежность и одновременно надежда. Так что когда Мартин подошел к моей двери на следующее утро после нашего возвращения в Филадельфию, чтобы попрощаться, у меня не осталось ни капельки злости. И вовсе не потому, что я забыла, как он оставил Клэр в беде, бросив ее на больную мать. Когда я увидела, как он стоит в дверях — лицо бледное, никаких следов утонченности и блеска, — я с трудом его узнала. Впервые я смотрела на Мартина и не видела, насколько он красив. Я только видела, что ничто человеческое ему не чуждо.
Тут из спальни вышла Клэр, и Мартин сказал:
— Доброе утро, ласточка. — И голос у него был таким же, как и его лицо, бледным и печальным. Он протянул к ней руку.
Когда она подошла, он положил ей руки на плечи и поцеловал сначала в макушку, потом в щеку.
— Ласточка, я был не прав, что отказался тебя выслушать, когда ты звонила по поводу болезни мамы. — Он помолчал. Я услышала, как участилось дыхание Клэр.
— Мне очень жаль, что я не выслушал. И не помог. Ты прости меня.
Клэр напряглась, и я почувствовала ее смятение. Ее отец никогда с ней так не разговаривал. Она стояла неподвижно, все еще в пижаме, а я боролась с искушением вскочить, что-то объяснить, снять напряжение. Но я не двинулась. Через некоторое время Клэр смогла кивнуть. Потом сказала:
— Увидимся, когда вернешься, папа. — Она повернулась и пошла назад, в спальню.
Мартин проводил ее глазами и еще несколько секунд смотрел в ту сторону уже после того, как она скрылась. Я не могла ничего поделать с собой, я взяла его за руку. Он повернулся, но не подошел ближе, так что мы стояли, пожимая друг другу руки, как люди, заключающие какое-то соглашение.
— Пока меня не будет, ты будешь думать о нас? Насчет еще одного шанса для меня? — Его голос дрогнул, и этого было почти достаточно, чтобы сломить мою решимость и заставить броситься в его объятия. Почти, но не совсем.
— Мартин, — только и сказала я.
— Я тебя не заслуживаю. Но я хочу измениться, — сказал он.
— А Клэр? — взвилась я. — Ты хочешь стать человеком, заслуживающим Клэр?
— Да, хочу. — Он посмотрел на меня взглядом, в котором мольба смешалась с вызовом. — Ты мне поможешь?
«Нет» казалось неправильным ответом, но и «да» — тоже.
— Пожалуйста, подумай об этом, — сказал он без особой надежды.
— Хорошо, Мартин, я подумаю. — Я вздохнула и сразу же пожалела об этом, потому что вздох мог служить признаком нетерпения и неискренности. Его рука была в моей, была теплой и настоящей, и я чувствовала все ее косточки. Я вспомнила, что сказала Тео, что в наших отношениях с Мартином уже нечего выяснять, и поняла — если не порву с ним, я не смогу притворяться. — Я обещаю. Я над этим подумаю.
Он кивнул, крепко поцеловал меня в губы и ушел.
Тот день прощания постоянно всплывал в нашей памяти. Нам с Клэр требовались часы одиночества, чтобы обо всем подумать, но поскольку мы были вдвоем, мы вели себя очень тихо. Клэр читала и писала в своем блокноте, а я читала, вытирала пыль и мыла кухню. В середине дня я принялась за стирку, и Клэр помогла мне сложить высохшее белье. Я догадывалась, что ей нравится этим заниматься по той же причине, что и мне: свежая одежда, теплая на ощупь, и аккуратные стопки в шкафах. Тем же вечером мы с Клэр отправились к Линни попробовать ее коронное блюдо — пасту с биточками, и позволили ей заполнить наши одинокие сердца своей веселой болтовней и добротой. Линни шагает по жизни твердыми, уверенными шагами, в ее присутствии можно забыть про свои собственные неурядицы, по крайней мере на время. Затем мы с Клэр отправились домой пешком по шумным улицам. И дома сразу улеглись спать.
Я проснулась в пять утра. Дверь моей квартиры была распахнута. Клэр исчезла.
Мне нужно вам это описывать? Эту обжигающую, страшную панику, дыхание, переходящее в вой, отчаянные молитвы? Вы, наверное, попадали в такую ситуацию. Мы все это видели. Мать на пляже, отец в большом магазине, нянька в парке, которая на три секунды отвернулась, всего на три секунды. И даже если ребенок всего лишь гоняется за чайкой, или спрятался за висящей одеждой, или гладит собаку в нескольких шагах от вас, вам в этот бесконечный момент кажется, что ребенок исчез навсегда.
Я нашла ее через двадцать минут. Двадцать минут я металась по темному городу как безумная, проклинала себя, снова и снова кричала «Клэр». Эти крики были ужасны. Вы бросаете имя в воздух и слушаете, как оно сразу становится безличным, всего лишь еще один звук в мире, и вы не верите, что он достигнет ушей того, кто вам нужен.
На ней была шуба, сидела она на прикованном цепью стуле около небольшого пустого кафе и кормила чем-то голубей. Я, рыдая, позвала ее, метнулась через дорогу и упала перед ней на колени в пятно фонарного света. Я трогала ее руки и лицо, чтобы убедиться, что она в целости и сохранности.
Когда я немного отдышалась, спросила:
— В чем дело? Что с тобой случилось?
— Я пошла погулять, — сказала Клэр, и безмятежность, с которой она это произнесла, должна была бы успокоить меня. Я это знала. Облегчение должно было омыть меня, как весенний дождь, и я должна была бы обнять Клэр и отвести ее домой.
Но я ничего такого не сделала. Вы должны помнить, что я организовала свою жизнь таким образом, что мне никогда не приходилось нести почти никакой ответственности за других людей, думать о том, где они обретаются. У меня никогда не было никого, за кем надо было ухаживать, и никого, кого я могла потерять, а если вам некого терять, вы не имеете понятия, что следует делать, когда вы потерю находите. Конечно, я просто пытаюсь себя оправдать, потому что, хотя я и не знала, я могла все же сообразить, как нужно себя вести.
Но я не сумела. Мое воображение отказало. Магия предрассветных часов тоже не помогала. Я была так напугана, так подавлена страхом, что сорвалась и пришла в ярость. Я вскочила на ноги, принялась ходить взад-вперед и орать, и была бы рада сказать, что не помню, что я там орала, но на самом деле я помню каждое слово.
— О чем ты думаешь? О чем ты думаешь? Я проснулась, тебя нет, и я бросилась искать тебя, бегала по холодным улицам и кричала, и, Боже, что было бы, если бы я тебя не нашла? Здесь с тобой могло случиться все, что угодно. Все! Что с тобой такое? Что с тобой такое?
— Извини, — тихо произнесла Клэр. Но я ее перебила. И сказала ужасное, чего нельзя было говорить.
— Я знала. Я знала, что мне не надо ввязываться. Наверное, я обезумела, когда решила, что сумею справиться.
Нет, как бы я ни разозлилась, я вовсе не хотела сказать, что она мне не нужна. Но так прозвучало.
Тогда Клэр встала. Я видела, как трясется ее тело под шубой, но голос у нее был ровный и ледяной.
— Тогда не ввязывайся, — сказала она резко. — Оставь меня в покое.
Она сняла шубу и бросила ее на землю передо мной.
— Забирай, если замерзла. Мне она не нужна. Все равно я вас всех ненавижу.
И она кинулась прочь.
Догнала я ее только на Роттенхаус-сквер. Клэр сидела на парковой скамейке. Я села рядом, оставив между нами приличное расстояние. Она не смотрела на меня.
Цветные шары рождественских огней висели над нами, как маленькие планеты, а в освещенных окнах зданий вокруг площади двигались тени. Люди варили кофе, принимали горячий душ, готовя себя к зимнему дню.
Все еще не глядя на меня, Клэр заговорила, и то, что она сказала, напугало меня больше, чем мгновения, когда я проснулась и обнаружила, что ее нет.
— Я хотела исчезнуть.
— Клэр, — пролепетала я.
— Нет, мне просто хотелось понять, как это — вот так взять и исчезнуть. Мне было интересно.
— Что? — удивилась я.
— Интересно узнать, что случится со мной, если я останусь совсем одна. Знаешь, если бы никто не знал, где я и кто я, я все же была бы я? Или кто-то еще?
— И что случилось? — спросила я. — Ты была все еще ты?
— Да. — Она тяжело вздохнула. — Я стала беспокоиться, что ты проснешься до того, как я вернусь. Тогда я и поняла, что я все еще я. Потому что я боялась, что напугаю тебя, и потому что мне захотелось вернуться.
На секунду я подумала, что горечь ее направлена на меня, но когда я увидела ее измученные глаза, глаза человека, которого предали, я все поняла.
— Ты думаешь, твоя мама о тебе не беспокоится?
Клэр зажмурилась и покачала головой:
— Нет, не беспокоится. Она ушла и забыла обо мне. Как всегда делал мой отец. Если бы мама беспокоилась, она бы вернулась.
Мои собственные слова, сказанные несколько минут назад, эхом прозвучали в моей голове. Что со мной такое? Как я могла так орать на ребенка? В мире, наверное, нет человека, которого так часто бросали, как Клэр. Я подвинулась к ней и закуталась вместе с ней в шубу.
— Корнелия, — наконец прошептала Клэр, — я хочу кое-что тебе сказать, но боюсь.
— Не бойся, солнышко, — сказала я, гладя ее по волосам.
— Иногда я так злюсь на нее за то, что она ушла. У меня даже живот болит. Иногда я ее ненавижу.
Я почувствовала, что после этих слов ее тело расслабилось, как будто она до этого держала что-то очень тяжелое, а теперь поставила тяжесть на землю. Ее дыхание замедлилось, как у засыпающего человека, но глаза оставались открытыми.
— Наверное, ты думала, что если ты поделишься этим с кем-нибудь, то твоя мама не вернется? — спросила я. Она посмотрела в темноту, потом кивнула.
— Нужно всегда говорить, что ты на самом деле чувствуешь. Это правильно, честно и смело.
Она снова кивнула.
— Клэр, ты прости, что я на тебя накричала.
— Ничего страшного, — сказала она.
— Я испугалась, что потеряла тебя, — попробовала я объяснить. — А быть с тобой — самое лучшее, что случилось в моей жизни.
Она ничего не сказала. Затем улыбнулась.
— А на тебе пижама.
Я посмотрела на себя и кивнула:
— Точно.
— Тогда лучше поторопиться домой.
* * *
В тот вечер, когда позвонил Мартин, я тоже решила поступить правильно, честно и смело. Решила рассказать ему правду о своих к нему чувствах.
— Мартин, — начала я мягко, — я обо всем подумала и решила, что не могу тебя любить.
— Вот как, — сказал он, и я услышала, как у него перехватило дыхание. — А я так надеялся, что сможешь.
— Я тоже надеялась.
— Значит, у меня вообще нет никакого шанса? — спросил он, немного заикаясь.
Я начала плакать.
— Наверное, нет. Мне очень жаль.
— Не надо ни о чем жалеть, — мягко сказал он. — Спасибо, что пыталась, Корнелия. — Он всегда был джентльменом.
— Мартин, я должна сказать кое-что еще.
— Кое-что еще?
Я набрала в грудь воздуха.
— О Клэр. Я ей нужна. Она так намучилась. Я ей нужна.
— Вот как.
После паузы Мартин заметил:
— Ты не решалась сказать мне, что не любишь меня, потому что боялась, что я не позволю тебе видеть Клэр?
Я не могла говорить.
— Ох, Корнелия, — вздохнул Мартин.
— Дело не только в том, что ей нужна я. Мы оба ей нужны. Сегодня утром… Ну, сегодня утром я осознала, как это сложно — обеспечить ей безопасность, сделать так, чтобы она не боялась. Одному человеку с этим не справиться. Во всяком случае, я одна не справлюсь.
— Ты хочешь, чтобы мы заботились о Клэр вместе? — спросил он, и я расслышала нотку надежды в его голосе, когда он произнес слово «вместе». Это заставило меня занервничать. Я хорошо знала, что надежде свойственно цепляться за все, что попало. А значит, он снова будет надеяться.
Возможно, я выбрала легкий путь. Не знаю. Может быть, мне прямо нужно было сказать Мартину, что надеяться не на что, что мы никогда не будем вместе, как ему бы хотелось. Но позднее я буду радоваться, что не сказала ему этого. И всегда, вспоминая этот разговор, я буду радоваться, что сказала лишь «да».
Глава 18 Клэр
На следующий вечер, когда Корнелия и Клэр мыли посуду, зазвонил телефон, и Корнелия сняла трубку. Она приложила трубку к уху, прижала ее плечом и вернулась на кухню, где взялась вытирать очередную тарелку.
— Да, разумеется, я вас помню. Как поживаете? — последовала длинная пауза. — Что вы говорите? — выдохнула Корнелия, и Клэр увидела, что она очень осторожно отложила тарелку, и все ее тело задрожало. Сердце Клэр заколотилось. «Мамочка». Она произнесла это слово одними губами, но внутри ее оно прозвучало как протяжный, душераздирающий крик.
— Что с ним? Не может быть, — еле слышно сказала Корнелия. — Нет…
С ним. Не с матерью. Не с мамочкой. Она снова могла дышать. «Мамочка, ты жива. Тогда и я буду жить дальше», — подумала Клэр.
— О нет, о нет, нет, нет, нет, — шептала Корнелия в трубку. Она опустила руки. Она смотрела на Клэр и не видела ее. Клэр даже не представляла, чтобы человек мог так выглядеть. «Случилось что-то ужасное. Не с мамой, но что-то ужасное», — подумала она. Ей захотелось заплакать.
Корнелия снова поднесла трубку к уху.
— Мне нужно… мне нужно… Не могли бы вы мне перезвонить через некоторое время? Да. Спасибо. — Она нажала на кнопку.
— Ох, Клэр, — произнесла она дрожащим голосом. Пока Клэр ждала, что она еще скажет, цвет комнаты стал значительно ярче. Единственным бледным пятном была Корнелия. Даже губы белые.
— Тео, — выдохнула Клэр. — Что случилось с Тео? Говори.
На мгновение лицо Корнелии прояснилось, затем снова стало странным.
— Не Тео, Клэр. Мартин. Он в Лондоне попал в автокатастрофу. Мартин умер.
Сама того не желая, Клэр почувствовала огромное облегчение. Не Тео! Она схватилась за живот, согнулась и охнула. Затем, когда до нее дошло, что сказала Корнелия, она выпрямилась и оцепенела, уставившись на нее.
Корнелия прижала Клэр к себе, поглаживая ее худенькие плечи.
— Ох, Клэр, — говорила она сквозь слезы. — Ох, Клэр, мне так жаль, но твой отец умер.
Глава 19 Корнелия
Прежде чем я расскажу что-то еще, я должна заявить следующее: смерть Мартина — не часть моей жизни.
Разумеется, я горевала, я была потрясена. Но его трагическая смерть не моя трагедия и даже не трагедия Клэр, хотя история довольно печальная и может тронуть любого. Я близко знала его в течение трех месяцев, но сорок четыре года он принадлежал себе. Мартин был ребенком, поворачивающим голову на свое имя, затем подростком, изучающим мир, потом он стал мужчиной. Понимаете, о чем я? Забудьте о космическом единстве. Мартин слишком рано потерял свое право на жизнь. В этом трагедия. Не думаю, что я сказала что-то новое. Мне просто нужно было выговориться.
Но я должна вернуться к себе (опять «я, я, я», как стук мотора или биение сердца), к моей истории, потому что она моя и мне ее рассказывать.
Кем я была в те дни после телефонного звонка? Трудно сказать. Многие считали меня почти вдовой. Я присутствовала на похоронах, которые мне помогли организовать секретарша Мартина Тереза Блам и его адвокат Вудс Роулингс, держа за руку Клэр, и представляла себе, что думают люди (а их собралось довольно много), глядя на меня — ростом с ребенка, прямая спина, вся в черном, разбитое сердце, но держусь. Меня почти тошнило. Кроме детей, никто так не вызывает жалость, как хрупкая маленькая женщина, и эта жалость, казалось, вытекала из всех глаз, прилипала к моей руке, когда ее пожимали, и слышалась в голосах, когда высказывали соболезнования. Если вы думаете, что это меня раздражало — так нет. Мне было просто досадно и хотелось все объяснить.
Есть люди, чья смерть заставляет вас глубоко горевать. И есть люди, чья смерть мешает восходу солнца, смерть, которая красит стены в черный цвет в каждой комнате, смерть, которая посылает грозовые тучи, и вы лишаетесь возможности слышать музыку и не узнаете собственную мебель и свое лицо в зеркале.
Я не любила Мартина Грейса. Не любила. Если стремление держаться за этот факт покажется вам бессердечным, особенно в тот момент, когда играют траурный марш Шопена, представьте, насколько было бы хуже притворяться перед всеми и особенно перед собой, что я его любила. Докатиться до такой лжи было бы неприлично и непростительно.
Но Мартин любил меня, и не думайте, что я этого не ценила. Я не хвастаюсь, просто знаю. В любви есть некая святость, не важно, востребована эта любовь или нет, и тот, кто не воспринимает эту любовь с благодарностью, просто эгоист. И в последние секунды я прошептала ему о своей благодарности, и она полетела, как птица, и я надеюсь, что она нашла Мартина.
Помню, что мне было холодно, что мои глаза и сердце были сухими. Но многое стерлось из моей памяти, еще тогда, когда превратилось в мутное пятно, освещаемое вдруг яркими четкими вспышками.
С адвокатом солидной юридической фирмы Вудсом Роулингсом мы встретились в его кабинете. Адвокат повернул ко мне свою круглую голову, вытаращил синие круглые глаза, показавшиеся мне двумя фарами, и спросил через блестящее озеро стола, почему Клэр жила у отца.
— Не совсем обычно, согласитесь. Затянувшийся визит. Миссис Хоббс куда-то уехала? Надеюсь, она здорова, — сказал он элегантным голосом.
— Она здорова, — ответила я, сохраняя спокойствие. — Ей потребовалось побыть одной, попутешествовать и подумать. Мартин, естественно, не мог отказаться, поскольку она столько лет воспитывала дочь одна. Откровенно говоря, я не знаю точно, где она сейчас, хотя она и упоминала Испанию как одну из целей своей поездки. — Я не отвела глаз. Даже не моргнула.
* * *
В дверях стояла Линни в красной ковбойской рубашке.
— Корнелия, — сказала она растерянно, — как мы будем с этим справляться? Как нам себя вести?
— Значит, Хейс сказал тебе, где купить рубашку, — заметила я, тронув одну из перламутровых застежек.
— Сказал, но… — она подмигнула, — эта рубашка его. — И она одарила меня легкой, кокетливой ухмылкой, такой для нее типичной, что я съела ее, как свежее яблоко, и она подкормила мою душу.
В утро похорон появился Тео в синей куртке и брюках цвета хаки. От него пахло дождем.
Еще мне пришлось встретиться с потрясающей рыжей девицей, которая бросилась мне на шею с рыданиями.
— Простите меня, — всхлипывала она, — мне не следовало вам этого говорить, ведь это закончилось много лет назад. Но, Боже, как же я его любила!
Я готовила вафли для Клэр и слышала мягкий, теплый голос Мартина за своей спиной. Слышала его, как бывало, всем своим телом. Его голос был настолько живым, что я обернулась, чтобы увидеть его, и уронила на пол коробку яиц.
— Твоя неподвижность, — сказал он, — твоя слушающая неподвижность.
И еще была Клэр. Клэр, окруженная мною, Тео и Макс (она вырядилась с ног до головы в пурпурное и давала руку людям, которые до настоящего момента даже не ведали о ее существовании).
Клэр среди ночи, распахнув глаза, спрашивала меня голосом, которого я не забуду никогда:
— Корнелия, я теперь сирота, Корнелия? Я сирота?
Глава 20 Клэр
— Ты когда-нибудь читал «Маленькую принцессу»? — спросила Клэр из-под груды пальто.
Они с Тео выбирали для него в магазине новое зимнее пальто. Это было на следующий день после похорон. День выдался холодный и ясный, солнце только слепило, но не грело.
— Пронзительное солнце, — сказала Корнелия, когда они утром втроем выходили из дома, где была ее квартира.
Корнелия с заговорщицким видом наклонилась к Клэр.
— Я очень на тебя надеюсь, Клэр. Если он направится в сторону армейских или морских магазинов, я разрешаю тебе пристрелить его.
— Ведь знал, что нельзя появляться стриженым, — простонал Тео. — Дай ей палец, она всю руку отхватит.
— Клэр, не могла бы ты объяснить Тео, что красота налагает на человека определенную ответственность? Он никогда не мог принять этот факт, во всяком случае, полностью, — сказала Корнелия, качая головой. Клэр заметила синие полукружия под ее глазами. Она подумала, что это игривое препирательство с Тео только кажется непринужденным.
— С красотой приходит ответственность, Тео, — серьезно сказала Клэр.
— И ты еще можешь добавить пару слов про дырки, — предложила Корнелия.
Клэр показала на дырочки в куртке Тео.
— Это дырки от моли, — сказала она.
— Целых три слова, — проворчал Тео.
Ему предложили на выбор бутик модной мужской одежды и большой магазин, и когда Тео начал что-то бормотать про аллергию и чистящие жидкости, чего Клэр напрочь не поняла, Корнелия сочувственно сжала его руку и написала на бумажке адрес бутика.
— Бутик, — тупо повторил Тео.
Но там оказалось совсем неплохо. Более того, Клэр там понравилось. Бутик располагался в старом доме с красивой лепниной — цветы и виноградные лозы. И еще с подсвеченной цветной фреской на высоком потолке.
Продавец, низенький, гладкий и элегантный, напомнивший Клэр тюленя, поинтересовался, что именно им нужно, затем смерил Тео взглядом больших темных блестящих глаз. Когда Тео снял верхнюю одежду, чтобы точнее определиться с размером, продавец сказал:
— Не обязательно, но мне будет приятно… — И он протянул руку, сжав пальцы, чтобы Тео мог повесить на нее куртку, как на вешалку.
Он поставил Тео перед тройным зеркалом и предложил им несколько моделей на выбор. Тео мерил, выслушивал мнение Клэр и затем бросал пальто ей на колени.
Как раз в тот момент, когда она спрашивала его о «Маленькой принцессе», продавец снова возник с непроницаемой улыбкой.
— Я читал, — сказал он. — А как у нас дела с пальто?
— Вы читали? — удивилась Клэр.
— Обезьянка. Обезьянка пришла на чердак, чтобы навестить маленькую девочку. Мне понравилась обезьянка. — Продавец говорил мечтательно, глядя куда-то сквозь стену. Затем снова удалился.
Тео и Клэр переглянулись и расхохотались, стараясь все же не слишком шуметь, чтобы не обидеть продавца. Клэр зарылась лицом в мягкую ткань и смеялась, пока не заболели бока.
Тео сказал:
— Я не читал. Но теперь жалею. Я и не знал, что там есть про обезьянку.
— У этой девочки, Сары Крю, отец умер, — добавила Клэр.
Тео стоял в пальто кофейного цвета, которое сильно смахивало на его куртку, смотрел на Клэр в зеркало и ждал продолжения.
— Это ужасно. В ту ночь, когда она об этом узнала, она впала в дикую, недетскую тоску. — Клэр наблюдала за лицом Тео. — Есть еще одно слово — скорбь. «Скорбь овладела ее юным умом». Правда, это слово больше подходит? Хуже этого уже ничего не бывает.
— Верно, — согласился Тео после паузы. Клэр очень нравилась эта черта в Тео, нравилось, что он не подталкивает, не проявляет нетерпения, но слушает и позволяет ей подобрать свои собственные слова, чтобы выразить мысль.
Тео сел рядом с Клэр на пол и сказал:
— Иногда ты встречаешь человека, и тебе кажется, что ты его знаешь давным-давно. Вот так и с тобой.
Клэр кивнула.
— Тогда я надеюсь, что я могу попросить тебя кое о чем, хотя мы с тобой знаем друг друга совсем недолго.
Клэр посмотрела на длинные руки Тео, потом в его зеленые глаза. Она без раздумий доверилась ему с первой минуты, как его увидела. И хотя она привыкла сначала все тщательно обдумывать, а потом что-то предпринимать, она не расстраивалась, что не понимает, почему так доверяет Тео.
— Я тебе доверяю, — сказала она.
— Тогда вот что я думаю. Ты — хороший человек. Сделана из хорошего материала. Это факт. Олли бы сказала, что это заложено в твоих клетках, встроено в ДНК, вот как, например, твои карие глаза. Но откуда бы это ни взялось, ты хороший человечек. — Клэр сосредоточилась на его словах, изо всех сил стараясь запомнить их и огорчаясь, что они не твердые предметы, которые она могла бы хранить и повсюду носить с собой.
— Я не хочу сказать, что ты, как и все мы, не можешь ошибаться. Но тебе везет больше, чем всем нам, потому что если ты делаешь то, что чувствуем все мы, у тебя все получается. И забудь о зле. Ему пути нет.
Клэр сидела под грудой пальто рядом с большими, сверкающими прямоугольниками зеркал под мягким светом магазинных ламп, и ей казалось, что от нее самой тоже исходит свет. Клэр казалось, что благодарность к Тео заставляет ее кожу светиться.
— Спасибо, — сказала она наконец, надеясь, что он поймет, как много ей хочется сказать этим словом.
Тео улыбнулся и начал подниматься, но Клэр схватила его за рукав, поразившись мягкости ткани. Тео снова сел.
— Знаешь что? — спросила она почти шепотом. Потом откашлялась. — Он меня не любил.
Это была не жалоба, а констатация факта. Ей просто было важно сказать об этом вслух. Она ждала, что Тео будет спорить, хотя он знает — она права. Но он только сказал:
— Тогда он много потерял.
Клэр снова коснулась рукава Тео:
— Мне вот это нравится.
Тео взглянул на пальто и заметил:
— Не кусается. Грязь на нем не будет видна. И Корнелия, эта маленькая мартышка, от меня отстанет. — Он улыбнулся. — Покупаем!
В тот вечер после ужина Клэр отправилась в спальню Корнелии, чтобы записать в свой блокнот слова Тео о том, что она хороший человечек. Очень важно было записать все правильно, а еще — описать его голос и не забыть о чувстве, которое охватило ее, когда он говорил, и после того, как он говорил. Надо было уловить нюансы этого чувства. Она подумала о слове «уловить». Оно делало писателя настоящим охотником. Это значит, что истории разбрелись по миру, а задача писателя поймать их. За исключением, разумеется, того, что писатель никогда не убивал добычу, не делал из нее чучело и не вешал на стену. Истории оставались живыми. Она скептически отнеслась к этим своим мыслям, но все-таки была довольна, что думала об этом.
Когда она услышала, что Тео и Корнелия вышли из кухни и перешли в гостиную, она отложила блокнот и подошла к дверям, чтобы подслушать.
— Я уволила нашего друга Ллойда, — сообщила Корнелия, плюхаясь на диван.
— Да? — удивился Тео. Клэр не видела его лица, но голос звучал странно, настороженно.
— Он не внушал мне доверия. А тебе?
— Не особенно. Но Мартин очень беспокоился, чтобы ничего не вышло наружу, чтобы ее друзья и соседи не узнали, что происходит. Может быть, надо было немного отпустить поводок у Ллойда?
Корнелия села, внезапно возмутившись.
— Как ты не видишь? Длинный поводок нам сейчас меньше всего нужен. Сейчас важнее всего осмотрительность. — Она говорила низким, напряженным голосом.
— Корнелия… — осторожно начал Тео.
— Вивиана путешествует. Клэр остается со мной до ее возвращения. Вот наша история. Она пока срабатывает. Если люди начнут догадываться о том, что происходит на самом деле… Подумай об этом, Тео.
Клэр прижалась к двери. Ей хотелось услышать, что скажет Тео.
— Корнелия, может быть, уже пора обратиться в полицию? — По спине Клэр побежали мурашки.
— Нет, — возразила Корнелия. — Нет, нет и нет. Как ты можешь такое предлагать?
Клэр тоже не понимала, как он может. Тео ничего не сказал.
— Тео, мы сидим здесь и обсуждаем жизнь Клэр. Решаем ее судьбу, как те толстые старухи с нитками и ножницами.
Клэр понятия не имела, что это может значить. Толстые старухи?
— Толстые старухи? — удивился Тео.
— В моем представлении они толстые. Забудь. Я хотела сказать — давай позовем Клэр. Прямо сейчас.
Клэр вспомнила, как Тео сказал, что ее сделали из хорошего материала. Разве это хорошо — подслушивать, когда люди о тебе говорят? Она глубоко вздохнула и вышла из спальни. Тео и Корнелия уставились на нее.
— Я шпионила. Нет, не шпионила, а подслушивала ваш разговор. Наверное, это и есть — шпионить. — Она помолчала, чувствуя, как пульсирует в висках кровь. — Простите. Я боялась, что не буду знать, что происходит.
— Ну конечно, — мягко сказала Корнелия. — Мы и сами хотели тебя позвать. Думаю, мы тоже боялись сказать что-то, что тебе трудно будет понять.
Клэр подошла к дивану и провела рукой по вышитой шали, накинутой на его спинку. Ей не хотелось садиться на такую красивую вещь, сначала хотя бы до нее не дотронувшись.
Корнелия встала и одним резким движением сдернула шаль с дивана; она развернулась в воздухе, как огромная бабочка, и опустилась на плечи Клэр.
— Ты нас простишь? — спросила Корнелия. Клэр не знала, что ответить, ей было непонятно, за что ей надо было простить Корнелию и Тео. Она только кивнула, затем села на диван и подобрала под себя ноги. Корнелия улыбнулась и последовала ее примеру.
— Тео думает, что нам следует связаться с полицией. Чтобы они помогли отыскать твою маму.
— Я не хочу полицию, — твердо сказала Клэр. Ей не понравилось, как она это сказала — как маленький ребенок, который топает ножкой и устраивает истерику. Но она была против полиции. От одной мысли об этом ей становилось плохо.
— Тео? — обратилась к другу Корнелия. Тео покраснел и смущенно поерзал в кресле.
— Насколько я могу судить, — начал он, — полиция должна помогать семьям. Помогать людям держаться вместе. Когда они найдут твою маму, они помогут ей, и она будет заботиться о тебе, как она всегда это делала.
— Я хочу, чтобы она была такой, как всегда. Но я не… — Клэр заколебалась, — но я не хочу снова жить так, как я жила, когда она заболела. Но…
Она перевела взгляд с Корнелии на Тео.
— Но если вы позвоните в полицию, я смогу остаться у Корнелии, пока они ее разыскивают? Я смогу жить здесь, пока они будут помогать ей выздороветь?
Корнелия взяла руку Клэр и сжала ее. Клэр увидела в ее глазах слезы.
— Возможно, — ответил Тео. — Мне кажется, они разрешают детям оставаться с людьми, которых они знают.
— Возможно, да, возможно, и нет, — уныло заметила Клэр. — Верно? — Она представила себе Анну Ширли в сиротском приюте и злую женщину, у которой она жила, прежде чем попасть в приют. Там во дворе росло печальное дерево, и единственными друзьями Анны были воображаемые девочки.
— Я бы хотела подождать здесь, пока моя мама не вернется, — неуверенно произнесла она. — А вы потом, может быть, поможете ей найти доктора.
Тео потер глаза обеими руками, потом взглянул на Корнелию.
— Клэр уже пришлось немало хлебнуть горя, — решительно сказала Корнелия. Но Клэр видела, что в глазах ее в отличие от голоса решительности было куда меньше. — Ты должен это понимать.
— Конечно, я понимаю, — ответил Тео расстроенно, — но ты должна подумать… — Он на мгновение закрыл глаза. Затем, опершись локтями о колени, наклонился к Клэр. — Прости, Клэр, но я должен это сказать.
— Не надо, — с горечью возразила Корнелия. — Не надо, и все. Это настаивание на правде жестоко, разве ты не понимаешь? Кто ты такой? Аттикус Финч? Просто прими это.
Клэр знала, кто такой Аттикус Финч. Отец Скаут и Джема. Герой. Но какое отношение Аттикус имеет к тому, что они обсуждают? Сама удивившись, Клэр рассмеялась.
— Клэр? — повернулась к ней удивленная Корнелия.
— Прости, но… Аттикус Финч? Я совсем запуталась. — Она снова засмеялась. Что с ней такое вдруг случилось? Смех захватил ее, все ее тело, и она подчинилась ему.
— Все ты, — сердито сказал Тео Корнелии. — Ты такая странная.
Корнелия опустила глаза, но уголки ее губ подрагивали. Напряжение между Тео и Корнелией спало. Клэр продолжала смеяться, она уже тяжело дышала, шаль соскользнула с ее плеч, она подняла ее и прижала к груди обеими руками.
— Я знаю, что ты собирался сказать, Тео, — наконец тихо выдохнула Клэр.
Тео не сводил с нее красивых зеленых глаз. Его ясный, добрый взгляд придавал ей сил. Он любил ее, она это вдруг совершенно ясно поняла. Ее сердце екнуло.
— А если моя мама никогда не вернется домой? — сказала Клэр и сама удивилась: как она смогла это сказать? Самое худшее, хуже не придумаешь. Она сказала самое худшее вслух.
— Ох, солнышко. — Голос Корнелии задрожал от сочувствия. И еще от гордости за Клэр.
— Да, мы должны учесть эту возможность, какой бы отдаленной она ни была. — Тео жестом обвел комнату и их троих. — Мы не можем в таком положении оставаться вечно. — Клэр понравилось, что он сказал «мы».
— Ты прав, — согласилась Корнелия. — Но еще немного подождать мы можем, верно?
— А если мы подождем до начала занятий в школе? — Клэр произнесла это решительным тоном. Ей казалось, что она стала на несколько лет старше. — Когда занятия начнутся, все станет очень сложно. Школа слишком далеко, чтобы ездить отсюда каждый день, да и моя учительница, миссис Пакер, уже заподозрила, что у меня не все в порядке. Когда она вместо мамы увидит Корнелию…
— Когда начинаются занятия? — обреченно спросил Тео.
— Каникулы длинные. Мне в школу десятого.
— Значит, осталось еще десять дней, — подвела итог Корнелия. — Если за это время она не вернется домой, мы примем другие меры.
— Какие другие? — скептически спросил Тео. — Можно подумать, ты собираешься рыскать по всей стране!
— Очень смешно, — заметила Корнелия.
— Если Вивиана не вернется домой в течение десяти дней… — начал опять Тео.
— Мы позвоним в полицию, — твердо заявила Клэр. Внезапно она вспомнила. — Слушайте, а ведь сегодня Новый год.
— Ты права! Я даже не заметила. И никакого вам шампанского, ни капельки! — Корнелия сделала вид, что выговаривает Тео. Затем стала серьезной. — У тебя впереди замечательный год, Клэр. Замечательный, полный чудес. Запомни мои слова. — Корнелия говорила с таким нажимом, как будто она хотела силой воли добиться, чтобы этот год был действительно чудесным. И Клэр верила, что если кто и сможет этого добиться, то только эта маленькая женщина, сидящая рядом с ней, которая на самом деле вовсе не маленькая.
И тут до Клэр окончательно дошло: Корнелия тоже ее любит.
Глава 21 Корнелия
Это случилось. Со мной.
Это случилось вскоре после смерти Мартина, так, как это случается с большинством людей в тот или иной момент, если им повезло или, наоборот, не повезло, в зависимости от того, как на это посмотреть. Но я ведь на самом деле в это не верю, ведь так? И вы тоже не верите. Мы не верим, что такой поворот событий (потому что это поворот, причем головокружительный, резкий, удивительный) может считаться невезением. Когда это случается — огромная, как море, перемена, когда жизнь человека превращается в нечто новое, наполненное, это значит, что человеку повезло. Он получил от судьбы подарок.
Как я уже говорила, случилось это со мной вскоре после смерти Мартина. Некоторые скажут — слишком быстро, но это от меня не зависело. Я не была режиссером именно этой сцены. Не знаю, кто был, но точно не Корнелия Браун. Сценаристом она тоже не была. Она играла роль, которую ей поручили.
Огромная, как море, перемена. Я обожаю это выражение. Разумеется, снова Шекспир. Из «Бури». Жизнь бурлила во мне.
Куда меня занесло? «Имея дело с богатыми и могущественными, всегда проявляй терпение», — сказал один мудрый человек. И хотя я не богата и не могущественна, все же это я рассказываю историю. Терпение, друзья. Доверьтесь мне, я приведу вас куда надо. Ведь до этого этапа мы добрались, верно?
И я вовсе не влюбилась в Тео Сандовала, если вы это подумали.
* * *
Все началось с телефонного звонка. Это был второй из двух телефонных разговоров с моей матерью, причем первый разговор состоялся вечером, когда я узнала о смерти Мартина. Как только я смогла нажимать на кнопки, тут же позвонила маме. А вы что думали? Что я чем-то отличаюсь от остального человечества? Когда случается несчастье, я хочу к маме. Она мне нужна, нужна, нужна.
Как обычно, она ответила сразу. Неприлично заставлять людей ждать — это мы слышали постоянно, пока росли, хотя порой для того, чтобы сразу снять трубку, приходилось проделывать цирковые кульбиты через мебель. Если кому и нужен мобильный, то это моей матери. Однако она придерживается мнения, что мобильные телефоны открывают новые возможности для грубости (против чего ни одна душа возражать не станет), и к тому же по совершенно непонятным причинам в районе, где живут мои родители, мобильники не работают. Получается, что мы все эти годы живем в теплом, пропитанном запахом магнолии варианте Бермудского треугольника, что меня вовсе не удивляет.
Короче, я позвонила ей, потому что она была нужна мне. Я хотела, чтобы она уверила меня, что я не виновата в смерти Мартина. Еще я хотела, чтобы она сказала мне, что не я явилась причиной гибели Мартина, отказавшись от поездки в Лондон и заявив, что не люблю его, и это не мой голос, звучащий в его голове, отвлек его на какой-то лондонской улице. Я хотела, чтобы она сказала мне, что думать так глупо. Потому что вскоре после того, как я узнала о смерти Мартина, на меня навалилось чувство вины.
И она помогла мне. Она меня успокоила. И сделала это с таким терпением, заботой и добротой, что я впервые поняла, почему она так несется к телефону. Она была матерью четверых детей. Мне понадобился тридцать один год, чтобы это понять. Стыд и срам.
Но второй разговор, о котором я собралась рассказать, состоялся позже, через пару дней после похорон Мартина. Тео вернулся домой в Бруклин, и я чувствовала, что Клэр по нему скучает, видела это тоскливое выражение на ее лице, даже когда она мне улыбалась, что она делала часто, храбрая девочка.
Не могу сказать, что я тоже не чувствовала себя слегка потерянной. Ведь, как поется в школьной песенке, «нужно три ноги для треножника, чтобы он стоял; и нужно три колеса, чтобы получился трехколесный велосипед». Три — магическое число, особенно если третий — Тео.
Когда он уехал, а мы стояли и смотрели, как его машина скрывается за поворотом, я ждала, когда паника охватит меня своей ледяной рукой. И знаете, что странно? Ничего не произошло. Верно, я нервничала. Без Мартина и Вивианы будет нелегко, и я вовсе не была уверена, что справлюсь. Но когда я смотрела, как она стоит, сунув руки в карманы, слегка запрокинув голову и прищурив глаза от зимнего солнца, я поняла, что она твердо стоит на земле и что мы справимся. И мы бы обязательно справились, если бы не второй телефонный разговор. На этот раз мама сама позвонила мне, и этот звонок был той соломинкой, которая переломила хребет верблюду.
Проще говоря, умерла миссис Голдберг.
Она «сдалась Альцгеймеру», как написала в некрологе одна газетенка, как будто она могла что-то сделать, но не сделала по душевной слабости. Она умерла в частной лечебнице, которая, какой бы дорогой она ни была, не могла заменить ей дом. Ведь она лучше других знала, что такое настоящий дом.
— Она сейчас в прекрасном месте, детка, — успокаивала меня мама.
— Давай без банальностей, мама, пожалуйста. Она терпеть не могла банальности, — сказала я с горечью.
Последовало молчание, и, не выдержав, я разрыдалась.
А мама сказала:
— Я только имела в виду, что теперь ей хорошо. Ты так тяжело реагируешь. — Похоже, она растерялась.
Сегодня все, вплоть до бабушек, говоря о поведении или той или иной реакции, употребляют слово «неуместный». Но моя мама использовала это слово всегда. И если для большинства оно служит подтверждением интеллектуальности, Элеонор Кэмпбелл Браун слово «неуместный» всегда использовала для описания поведения или эмоций, которые «не соответствуют моменту».
Итак, она находит мою реакцию «неуместной», противоречащей правилам, и я уверена, что она прикусила язык, чтобы не произнести этого слова. Действительно, новость подействовала на меня очень сильно. Я любила миссис Голдберг. Но, рыдая по ней, я одновременно рыдала по Мартину (чего я до сих пор не делала, ни единой слезинки не уронила), по Клэр, по Вивиане и самой себе. Этот плач мог бы продолжаться до бесконечности, если бы я не заметила белое лицо Клэр. Она стояла в дверях моей спальни, держась за притолоку, как будто это мачта попавшего в шторм корабля, и с ужасом смотрела на меня.
— Все в порядке, солнышко, — выдохнула я, подавив рыдания. — Это не Тео. Ты ее не знаешь. Все в порядке.
Она лишь кивнула, но я увидела, как страх уступил место обеспокоенности, и она опустилась на пол, чтобы как верный друг побыть со мной.
— Корнелия, я еще должна кое-что тебе сообщить, — сказала мама.
О Господи, хватит, не надо больше ничего.
— Что? — спросила я.
— Руфь сказала, что ее мать упомянула тебя в завещании. — Маме было явно неловко об этом говорить. «Ого, — подумала я, — миссис Голдберг повела себя неуместно, даже уйдя в могилу».
— Она оставила мне жемчужное ожерелье, — попробовала я догадаться.
— Некоторым образом. Она оставила тебе дом со всей мебелью и остальными вещами.
Я потеряла дар речи.
— Она просила, чтобы ты разобрала все, что ей принадлежало, и отдала ее детям то, что, по твоему мнению, может им понадобиться. Остальное твое.
Я все еще не могла вымолвить ни слова.
— Руфь прореагировала нормально. Похоже, кроме дома, у миссис Голдберг было что оставить детям. В сравнении с ее состоянием стоимость дома незначительна. И все-таки как-то неловко, верно?
Как ни напыщенно это прозвучало, я понимала, что неодобрение мамы проистекает из ее заботы о детях миссис Голдберг. То, что мать рискнула обидеть своих детей, как, по мнению моей матери, сделала миссис Голдберг, ей казалось немыслимым.
— Руфь и Берн не станут обижаться. Они знают, что она их любила, — сказала я, и это было правдой. Если миссис Голдберг вас любит, вы об этом знаете.
— Похороны послезавтра. Я сказала Руфи, что, возможно, ты не сможешь приехать из-за Клэр и всего остального. Но когда мать Клэр вернется из поездки, тебе придется сюда приехать и разобрать вещи миссис Голдберг.
— Ладно, — тупо сказала я. — Спасибо, что позвонила, мама.
Я повесила трубку, и Клэр в одно мгновение вскочила на ноги и уселась рядом со мной на диване. Я услышала голос миссис Голдберг, произносящий «дитя моего сердца». Это случилось в последний раз, когда мы были в ее доме. Я не смогла сдержаться и снова заплакала. Плакала и рассказывала Клэр, как когда-то рассказывала ее отцу в этой же самой комнате, о миссис Голдберг — кто она такая и кем она была для меня.
Хотя я иногда и склонна к излишнему драматизму и моя мать находит, что я чрезмерно эмоциональна, но только не сейчас. Я сорвалась с обрыва и упала на скалистую, чужую территорию, туда, где за утешением мне приходится обращаться к одиннадцатилетней девочке, которая так много потеряла сама, что от одного подсчета ее несчастий можно заболеть. Я не собиралась ей плакаться, но она кругами водила ладошкой между моими лопатками, а мне именно такое утешение требовалось, и я ничего не могла с собой поделать.
Когда зазвонил телефон, Клэр шепнула:
— Я сейчас вернусь, — и пошла в кухню, чтобы снять трубку. Я слышала, как она разговаривает, затем она принесла трубку мне.
— Это Тео.
— Тео, — сказала я упавшим голосом. Я слышала шум, какие-то голоса. Наверное, он звонил из больницы. Я представила себе, как он стоит там в своем хирургическом халате и звонит мне среди хаоса жизни и смерти. Смерть и болезни каждый день. Как, наверное, ему тяжело. Хороший знак — я уже начинаю думать о другом человеке. Признак того, что я не свалюсь от жалости к себе. Но это я уже потом решила, не в тот момент.
— Мне только что мама звонила, — сказал он. — Мне ужасно жаль, Корнелия.
— Поверить невозможно. — Но это было неправдой. — Нет, я верю. Вот только я не хочу, чтобы она умерла. Я не хочу, чтобы она болела и умерла.
— Мне это тоже кажется неправильным, — признался Тео. — Но для меня она была кем-то вроде доброй феи. Мне кажется, все дети так думали. Для тебя все было по-другому. Я помню, как однажды заметил, как вы смотрите друг на друга. Она ведь для тебя была членом семьи, правда?
— Доброй феей и членом семьи. И то и другое.
Тео молодец, никаких банальностей. Ничего вроде «ее страдания закончились», что вполне можно было ожидать от человека, который проводит большую часть своей жизни среди людей, страдающих от боли, — среди тел, клетки которых оказались предателями и обернулись против своих хозяев. Он не стал употреблять научные термины, связанные с болезнью Альцгеймера. Есть факты, а есть знание, которое не имеет ничего общего с фактом. Тео из тех, кто это понимает, и не важно, что он врач.
— Я поеду на похороны. Олли не может вырваться, но я поеду… Если только ты не захочешь, чтобы я посидел с Клэр, пока ты отсутствуешь. — В голосе слышалось колебание. — Я обязательно побуду с ней, — продолжал он. — Обязательно. Вот только может показаться… Люди могут…
Я прекрасно понимала, что он имеет в виду. Мужчина, не родственник, остается с юной девочкой, с которой совсем недавно познакомился. Что за безумный мир. Я тут же сообразила, что нужно делать.
— Спасибо, не надо. Клэр останется со мной.
— Ладно, — легко согласился Тео. — Все поймут, почему ты не приехала.
— Да нет, — поправила я его. — Мы поедем. Вместе. Сегодня. Поездом.
— Корнелия, нельзя. Понятно? Я не знаю, нарушаешь ли ты законы тем, что оставляешь у себя Клэр и не сообщаешь об исчезновении Вивианы. Вполне вероятно. Ты это осознаешь?
— Очень даже может быть, — сказала я. Мысль эта приходила мне в голову, но я тут же задувала ее, как спичку.
— Тогда ты должна понимать, что нельзя увозить Клэр, это ты плохо придумала.
Я вдруг вспомнила фразу: «Нарушать государственные законы». Но я никого не похищала. Я была всего лишь женщиной, взявшей на себя ответственность. Мне всегда было трудно врать и нарушать правила, но если та ответственность, которую я взяла на себя, требовала этого, что же, пусть так и будет.
Я подумала о доме, в котором выросла, о деревьях во дворе, о своих родителях и о постоянной, тщательно охраняемой атмосфере радости, от которой я лезла на стенку, когда жила там. В данный момент этот дом был лучшим местом для Клэр, для нас обеих. Я это нутром чувствовала.
— Тео, это ведь не просто похороны, — сказала я.
— Да, понимаю. Я знаю, что тебе хочется домой. И не виню тебя. Я просто не…
Тео не единственный, кто знает, когда надо прикусить язык. Я ждала.
— Ладно. Господи, Корнелия, ладно.
— Ладно, — с облегчением подтвердила я.
— И забудь про поезд. Завтра утром я за вами заеду.
Три — магическое число. Тео тоже это знал.
— Я ведь все равно туда еду. — Он говорил коротко, по-деловому, но одурачить меня ему все равно не удалось.
А сейчас мне хотелось бы сказать несколько слов насчет машин. У меня машины нет, и кое-кто может посчитать, что я веду себя не по-американски. Но я вполне осознанно устроила свою жизнь таким образом, что мне практически никогда не приходилось иметь дело ни с каким моторизованным средством передвижения, включая автобусы. Мои сапоги годятся только для ходьбы. Чтобы оставлять следы пятого размера по всему городу. И я лучше потрачу деньги, сэкономленные на бензине, еще на одну пару замечательных сапог ручной работы, с высокими каблуками, сделанных в горах Италии.
Нет, я не покупаю машину не потому, что поддерживаю зеленых, которые ратуют за очищение планеты от шлаков цивилизации. А машины — это шлаки.
Нет, просто машины меня не интересуют. Это, во-первых. Когда кто-то в кафе однажды спросил меня, какая машина у Мартина, все, что я могла выдать, это что она серебристая.
Во-вторых, я трусиха, о чем я вам уже говорила, и машины меня пугают.
После всего сказанного я должна признаться, что самые мои драгоценные воспоминания связаны с машиной. Может быть, не что-то конкретное, какое-то отдельное воспоминание, а скорее, запомнившееся ощущение радости и благополучия. Детское счастье всегда связано с поездками в машинах, сном на заднем сиденье, когда мягкий золотистый или мягкий серебристый свет льется через окно — в зависимости от времени суток, плечо Олли, Тоби или Кэма, к которому ты прислонилась, музыка по радио, голоса родителей — они всегда там, наши родители, на переднем сиденье, сильные, внимательные, надежные, ведущие нас по правильному пути.
В машине можно дождаться чуда, теплого чуда, которое можно увидеть, если ты находишься в закрытом пространстве и просто мчишься мимо. Никто не может оставить свои беды позади, но можно думать, что тебе это удалось. Вы можете надеяться, что находитесь в таком месте, где беда вас не достанет, и мы с Клэр верили в это, когда сидели в машине Тео и солнце светило в окна. Возможно, Тео тоже в это верил, хотя у него были свои собственные беды, о которых он мне не рассказывал. Но магия срабатывала для нас троих, и у всех троих, по крайней мере на короткое время, стало легче на сердце.
Клэр спала на заднем сиденье, и ее лицо было умиротворенным. Я только что рассказала Тео смешную историю, весь юмор которой заключался в том, что я до смешного маленькая. Но Тео вдруг совершенно неожиданно для меня сказал:
— Знаешь, я не нахожу, что ты маленькая.
— Не находишь? — удивилась я. — Тогда что ты находишь? — Ведь если кто-то высказывает такое невероятное мнение, вы должны проявить любопытство.
Тео помолчал, подбирая правильные слова, затем произнес:
— Низкорослая. — Вот так, на полном серьезе.
— Из тебя получился бы замечательный комик, — сказала я раздраженно. — Если бы ты не был таким на редкость несмешным.
— Серьезно, — сказал Тео. — Наверное, ты действительно маленькая, но я о тебе никогда не думал в таком ключе.
— Ты думал обо мне, как о… — Я подождала.
— Существенной, — сказал он.
Я засмеялась, потому что это было неожиданно, а также потому, что, хотя я не понимала, что это значит, мне понравилось.
— Я хочу сказать: если бы какому-то скульптору дали задание создать скульптуру женщины, используя минимум материалов, но одновременно не обходя углов, он создал бы тебя.
— Ну, Тео, это так мило. — И это действительно было мило, потому что никто раньше не говорил мне, что все мои углы были обойдены.
— Не знаю, мило это или нет, но это правда. Когда видишь тебя среди других женщин, все они скоро начинают казаться сделанными с перебором, как будто того, кто их сотворил, занесло.
— Не уложился в бюджет, — подсказала я.
— Верно. — Тео оглядел меня. — Хотя тот, кто создавал тебя, был несколько экстравагантным, когда занимался лицом, но это скорее всего потому, что нужно было использовать остатки.
— Экономный парень, однако, — засмеялась я. Но повернувшись, чтобы взглянуть на его лицо, я увидела, что выглядел он немного смущенным, вернее, застенчивым.
* * *
Теперь вы, наверное, решили, что я влюбилась в мужчину только потому, что он сказал, будто я не коротышка. Нет, я не настолько легкомысленна и беззащитна. И я вовсе не влюбилась в Тео.
Случилось следующее.
Уютно пригревшись на переднем сиденье под лучами солнышка, как под желтым одеялом, хотя снаружи холодно, я почувствовала, что хочу спать. Иногда, когда меня клонит в сон, я засыпаю, и это был как раз тот случай. Я задремала.
А потом проснулась. Проснувшись, первое, что я увидела, были руки Тео на руле. Смуглые, в мягких золотистых волосках. Я впервые увидела их так ясно, и почему-то это зрелище очень растрогало меня.
«Мой человек, — сказала я себе, — единственный человек». Слова стали моим дыханием. И мой пульс откликнулся на них. Я не думала — «я тебя люблю», это было очевидным, данным, произносить эти слова было излишним.
Но я любила его. Тео. Я была в него влюблена. Я всегда была в него влюблена. Разумеется, была. И сейчас тоже.
Итак, вы видите, что я не влюбилась в Тео Сандовала. Влюбиться — это процесс, а то, что случилось со мной, процессом не было.
Полная трансформация. За одну минуту. Только что я была женщиной, не влюбленной в Тео, а в следующую минуту я была влюблена в него по уши.
— Тео? — с трепетом спросила я.
— Да, Тео. — Он улыбнулся, считая, что я еще не совсем проснулась. — Помнишь меня?
Помню ли я его?
Я только что похоронила своего любовника. Я ехала на другие похороны. На заднем сиденье сидел ребенок, возможно, лишившийся матери, возможно, похищенный, а я обнаружила, что люблю мужа моей сестры. Поверьте мне, никто не планирует, чтобы ваша жизнь стала сюжетом фильма с Бетт Дэвис. А мне все это вот-вот свалится на голову. Но пока, в машине, на время поездки мне разрешено забыть все, кроме Тео. Если хотите, называйте это отречением, я называю это благоволением.
Тео. Его глаза. Его рот. Его плечи под рубашкой. Мне так хотелось до него дотронуться, и вместе с тем мне вовсе и не нужно было его касаться. Полюбив, я словно выросла, стала необъятной.
Клэр спала на заднем сиденье. В окне показались горы цвета морской волны. Я сидела на одном сиденье. Тео сидел на другом. Но он был в моих объятиях всю дорогу.
Глава 22 Клэр
— Надеюсь, когда я сказала, что здесь тихо, ты не поняла меня буквально, — усмехнулась Корнелия, и Клэр рассмеялась, потому что они еще не вошли в дом, а только вылезли из машины и стояли на круглой подъездной дорожке, и Клэр уже слышала шум: музыку, крики, чье-то пение, фальшивое, но звучавшее с большим энтузиазмом: «Пусть снег идет, пусть снег идет, пусть снег идет».
— Интересно, а он знает, что снег не идет? — спросила Клэр.
— Тем, чего он не знает, можно заполнить Большой Каньон, — сказала Корнелия. Она показала на темно-синий старый побитый джип «Чероки» с надписью «Университет Вермонта» на заднем стекле. — Кэм.
— И Тоби, — добавила она, показывая на темно-зеленый джип «Чероки» слегка поновее с надписью «Вермонт» в зеленом овале. Клэр одним взглядом охватила машины и весь двор с большими деревьями, увешанными рождественскими лампочками, и затем сам дом — из красного кирпича с белой окантовкой, темными ставнями и темной дверью с бронзовым молотком в форме ананаса. На каждой створке двери висели венки из сосновых шишек с красными ягодами. Сам дом был не очень большим и не напоминал замок, как дом Клэр, где была даже башня с остроконечной крышей, но Клэр понравились его размах и надежность, с которой он стоял на земле — как будто он пребывал там вечно. Еще ей понравилось, что двор окружал дом кольцом, но не слишком широким: видны были соседние дома с обеих сторон. Обычный дом на обычной улице.
— Вперед? — спросила Корнелия, дергая Клэр за прядь волос.
— Вперед, — согласилась Клэр, слегка нервничая, затем повернулась к Тео, который доставал из багажника чемоданы. — Ты не мог бы пойти с нами?
— Ты шутишь? — сказала Корнелия, улыбаясь Тео. — Если он уедет, не поздравив с Новым годом, его сварят в кипящем масле.
— Фу, — поморщилась Клэр.
— Обязательно, — подтвердил Тео. — Причем дважды. Один раз здесь, а второй — в доме моих родителей. Если моя мама спросит, как поживают Брауны, а мне нечего будет ответить…
— Тогда пойдем с нами, — позвала Клэр. — Дважды вариться в масле плохо.
Корнелия ободряюще улыбнулась Клэр.
— Не беспокойся, солнышко. Туземцы вполне дружелюбны. Шумные, но добрые. — Она взяла Клэр за руку и, вместо того чтобы войти в парадную дверь, повела ее по круговой дорожке к боковой двери. Тео шел следом.
Они вошли в холл с каменным полом, небесно-синими стенами и потолком, где стояли рады сапог и ботинок разных размеров и коробки с кучей варежек и перчаток, со шляпами и яркими шарфами. На бронзовых крючках висели куртки и пальто. Тео помог Клэр снять красную шерстяную куртку, и Клэр повесила ее, с удовольствием заметив, что она внесла свой вклад в буйство красок.
Она вдруг опять почувствовала приступ паники, вспомнив норковую шубу матери, оставшуюся в квартире Корнелии. Но потом она расслабилась. Ничего страшного. Это лишь означает, что есть повод туда вернуться. Ее мама найдет записку, которую они прикрепили к двери квартиры Корнелии, позвонит, и Клэр с Корнелией вернутся, и мама приедет к Корнелии, чтобы забрать Клэр, и наденет шубу. Здесь, в праздничном шуме маленькой комнаты, Клэр легко было в это поверить.
Они пошли в кухню, и не успела Клэр определить, какими пирогами пахнет, как в кухню ворвался высокий неуклюжий парень в лыжном свитере и закричал:
— Ей! — Он схватил Корнелию в охапку и начал скакать с ней по комнате.
— Мам, пап, Тоби! Они приехали! — кричал парень.
«Кэм», — догадалась Клэр.
Появился другой юноша, пониже ростом, с вьющимися волосами. Первый парень перебросил Корнелию на руки второму, который стал кружиться под музыку.
— Тише, — закричала Корнелия. — Настоящие щенки.
Тоби прекратил кружиться и покачал Корнелию на руках, как бы определяя ее вес.
— Слушай, ну ты и растолстела. Не обижайся, Корнелия, но ты стала просто толстухой. — Он поставил ее на пол и повернулся к Тео: — Как вы думаете, доктор Сандовал, я прав?
— Слишком много чизбургеров, — ухмыльнулся Тео. Он протянул руку, и сначала Тоби, а потом Кэм пожали ее.
— Но безобразная, как всегда, — сказал Кэм. Затем прошептал Клэр на ухо театральным шепотом: — Еще безобразней, чем всегда. Но не говори ему, что я это сказал.
Она не успела ответить, как Кэм что-то вспомнил. Он повернулся к Корнелии:
— Полный отстой насчет миссис Голдберг. Ты как, в порядке?
— В самом деле полный отстой, — сухо заметила Корнелия, потом смягчилась. — У меня все в порядке, Кэмми.
— Но жирная, — добавил Тоби. — Жирная, как хрюшка с голубым бантиком.
Он взглянул на Кэма, который в знак одобрения поднял вверх пятерню.
— Уже легче, — ухмыльнулась Корнелия. — А то мы здесь почти две минуты, и ни одной пятерни. Я уж подумала, не заболели ли вы. Возможно, позвоночный менингит.
Она взяла Клэр под руку.
— Это мои братья-хулиганы, — улыбнулась она. — А это Клэр.
Пока они пожимали друг другу руки, в комнату вошли еще два человека — мужчина в проволочных очках с коротко стриженными седыми волосами и в вязаном жилете («Как профессор в кино», — подумала Клэр) и симпатичная женщина с голубыми глазами. Кошачьими глазами, как у Корнелии.
Женщина подошла к Корнелии и крепко обняла ее. Корнелия тоже обвила ее руками. Наконец женщина ее отпустила, Она немного отстранилась и вгляделась в лицо дочери.
— Дай мне посмотреть на тебя, детка, — ласково сказала она. Клэр наблюдала за столь трогательной сценой: Корнелия покорно стояла, что было для нее необычно, и позволяла себя рассматривать. Затем Корнелия улыбнулась самой своей ласковой улыбкой.
— Привет, мам, — мягко сказала она.
Мужчина, отец Корнелии, взъерошил непокорные волосы дочери, потом взглянул поверх ее головы на Тео.
— А ты, как я вижу, все такой же урод, Тео, — жизнерадостно сказал он.
Клэр стояла в окружении семьи Корнелии и чувствовала, как что-то необыкновенное произошло с ней.
Ей казалось, что она летит на диванной подушке в пахнущем корицей воздухе. Ей казалось, что ее подхватили, взяли на руки, как маленького ребенка, покачали. Она чувствовала, как бьется в груди сердце: распускается и закрывается, распускается и закрывается. Еще до того, как родители Корнелии сказали ей добрые слова; до того, как мама Корнелии дотронулась до ее щеки: «Ты, конечно, Клэр»; до того, как на столе появились индейка, бутерброды со смородиновым джемом и булочки с корицей, пушистые, сдобные — лучший пир за всю ее жизнь; до того, как она играла в футбол с Кэмом и Тоби, и холодный воздух обжигал ей легкие; до того, как она зажгла свечи для ужина; до того, как она пошла погулять в звездной ночи, сияющей рождественскими огнями, с Корнелией, и та показала ей горку, с которой можно кататься на санках, дом Тео, место, где ее в первый раз поцеловали, дерево, на которое она больше всего любила лазать, и со слезами на глазах остановилась перед домом миссис Голдберг; до того, как Клэр выиграла у отца Корнелии в шашки; до того, как она спала в мансарде под ароматной тяжестью байковой простыни и одеяла, сшитого вручную из лоскутков, а в окно заглядывали звезды; до того, как она написала слово «дом» в своем блокноте; до всего этого, когда она стояла в кухне, прижав одну ладонь к груди, еще до всего этого Клэр догадалась: она влюбилась. Она влюбилась в дом Корнелии.
Глава 23 Корнелия
Для меня все решило выражение лица Клэр.
Восторг. Когда Клэр стояла в родительской кухне в тот первый день, она была потрясена. Клэр была девочкой из плоти и крови, ее история совсем не была сказкой, но она тем не менее была околдована, причем сразу. Даже моргнуть своими карими глазами не успела.
Не могу отрицать — у моего отчего дома был свой шарм. (Например, он вернул Тоби и Кэма — «временно», но уезжать они пока не собирались.) Для Клэр он был еще более притягательным, учитывая ее ситуацию. Для нее сейчас то, что отражалось от начищенных медных сковородок, чистого кафеля и лиц моих родных, было дивным светом, домашним светом, светом комфорта и радости. И Клэр не смогла устоять.
Такая ее реакция была для меня ожидаемой. Я надеялась на нее. Именно поэтому мы и приехали. Но тем не менее, наблюдая, как Клэр вошла в веселую, по-настоящему добросердечную компанию, какой является моя семья, я хотела сказать ей:
— Полюби это, солнышко. Но не слишком.
Я понимаю, как это звучит, но я не имею в виду отдельных членов моей семьи, которые, безусловно, достойны любви и любимы. Любимы мной безмерно. Я живу и люблю их. Поверьте мне. Я имею в виду абстрактное счастливое семейство. Моя семья — моя крепость: неприступная, недоступная, идеальная. Мы представляем собой прелестную картинку в симпатичной рамке, на которой вырезан девиз: «Не раскачивай лодку».
Но иногда лодку нужно раскачать, лодку нужно направить прямо в центр бури, чтобы оказаться на другом берегу. Потрепанная волнами, но с развевающимся флагом.
Картинки. Лодки. Я что, путаюсь в метафорах? Ладно, согласна, я путаюсь в метафорах. Когда попадаешь в переплет, только путаная метафора и может выручить.
Но иногда душе требуется тихая вода. И Клэр, моей Клэр, нужна была лодка, которая не раскачивалась. Она ее заслужила.
Но вернемся к моему плану. Он начал вырисовываться, когда я увидела зачарованное и сияющее лицо Клэр. Последний штрих добавился на следующий день, во время похорон миссис Голдберг. (Если вы считаете, что мое повествование перегружено похоронами, поверьте мне, это последние.)
Я сидела между отцом и Тоби в черном платье, которое за неделю пришлось вытаскивать второй раз и которое я поклялась сорвать с себя и превратить в пепел, и слушала, как люди рассказывали о жизни миссис Голдберг. Я даже сама рассказала одну историю. Сюзетта Голдберг не была старушкой в общепринятом смысле слова и, как ни странно, пользовалась всеобщей любовью. Любили ее за ее великолепие и мизантропию, за ум и человечность, и дай нам всем Бог прожить так долго и быть столь любимыми.
Я говорила, я слушала, сердце мое стонало, и было очень больно. Миссис Голдберг любила меня. Она меня выделяла. Я вдруг поняла, что эта женщина, оставив мне дом, полный сокровищ, хотела оставить мне больше. Шанс. Больше чем шанс. Вызов. Она бросила мне варежку, замаскированную под театральную перчатку. Лови, Корнелия. Что ты будешь делать?
Бороться за Клэр — вот что я буду делать. Бороться, как росомаха, чтобы удержать ее. Превращусь в смерч из когтей и клыков. Пущу кровь. Найму адвоката, пойду в суд, в десять судов, если понадобится. Буду бороться и выиграю.
Клэр мне поможет. Я вспомнила ее в квартире Мартина, когда она посмотрела на отца и отчеканила три слова, три правдивых, пронзительных слова, которые, как я теперь знаю, были обвинением, нет, больше чем обвинением. Приговором: виновен. «Она. Была. Больна». Я вспомнила холодный огонь в ее глазах. В этой девочке была сталь. Более того, Клэр не была соломинкой, которую швыряет судьба, она была героиней, девочкой из романа, королевой счастливых концовок.
А у меня был дом. Подарок миссис Голдберг. Я этим гордилась. Дом. Во всех замечательных смыслах этого слова. Он существовал вместе со своей крышей, запахом лилий, стеклом окон и слегка наклонной лужайкой. Каждым своим кирпичом дом приглашал: «Войди. Войди и чувствуй себя как дома».
И у меня была семья — моя семья. Которая будет рада воспитать приемного ребенка своей дочери. Счастье моей счастливой семьи слегка снесло мне крышу. Но оно не помешает мне им воспользоваться. Мне помогут все: краснощекие Тоби и Кэм, мой отец в вязаном жилете, целитель по профессии, и моя мать. Я даже надену на нее этот проклятый полосатый фартук, если понадобится.
Таков был план. Вернуться домой. Переехать сюда жить, если и не прямо с моей семьей, то рядом. Жить здесь, где Клэр сможет бегать по ухоженным лужайкам, есть домашний пирог, чувствовать себя в безопасности, где ее душа будет в покое, где ее лицо будет всегда сиять.
Вы, конечно, заметили, что этот план строился на полном исчезновении женщины, которую Клэр любила, женщины, которую я никогда не видела, но которой не желала зла. Да простит мне Господь и все остальные. Господь и все остальные. Вы тоже меня простите.
Как раз перед панихидой у могилы (я обычно избегаю этой части похорон, но сейчас мы хоронили миссис Голдберг, и я осталась до конца), когда я стояла на теплом декабрьском ветру, мне на плечо опустилась рука, опустилась и осталась там, излив поток жара на всю мою левую сторону. Мои глаза поднялись от руки — такой безупречной, смуглой руки — вверх на рукав темно-коричневого пальто и дальше, на лицо, единственное лицо среди всех лиц. Его подбородок, идеальные зубы, линия скул. Мой Тео.
Не мой. Не мой. Муж Олли. Тот короткий час в машине, когда я мечтала о его любви, кончился. Он снова стал принадлежать Олли. Муж Олли. Никогда об этом не забывай.
«Великолепие в траве», «Доктор Живаго», «Римские каникулы», «Касабланка» — все эти фильмы о женщинах, которые не получают своего мужчину, фильмы о неудовлетворенном желании, безутешных сердцах. Вам они нравятся. Мне тоже нравятся. Но вот что я вам скажу: попробуйте любить мужчину, который никогда не будет вам принадлежать, и посмотрите, понравятся ли вам тогда эти фильмы. «Не проси луну, у тебя есть звезды». Ха! Когда я стояла там, на кладбище, и дрожала от прикосновения руки Тео, мне хотелось крикнуть: «А не пошли бы они подальше, эти звезды!» Уж простите за выражение.
Но мне было горько. Горько и больно.
Но представьте себе альтернативу: фильм «В этой жизни». Бетт играет женщину, которую зовут Стэнли. Она отбивает у своей сестры мужа, в результате чего все впадают в скорбь, отчаяние и разорение. В глубочайшую бездну ада. Не надо быть кинокритиком, чтобы понять, что этот фильм декларирует: если ты крадешь мужа у сестры, жди расплаты.
Даже если Тео несчастлив с Олли, он слишком порядочный человек, чтобы сбежать с кем-либо, тем более с ее сестрой. И возможно, он вовсе не несчастлив. Я попыталась представить, что он счастлив, невероятно, заоблачно счастлив с Олли, но мне это не удалось.
— Как ты? — спросил Тео, и я едва не рассмеялась от нелепости вопроса. Могла бы, но не стала. Ведь он все еще Тео, и я люблю его не только по-новому, но и по-старому тоже. Я сжала его руку.
— Порядок, — сказала я, — не то чтобы очень, но выживу.
И я выживу.
Что вам делать, если вы влюблены в мужчину, которого, вы никогда не получите?
Вы думаете о своей реальной жизни.
Жизни без него.
Глава 24 Клэр
Клэр все утро пекла пироги вместе с мамой Корнелии, и теперь, когда она стояла с Корнелией на крыльце дома миссис Голдберг, она все еще ощущала аромат имбиря от своих волос. На мгновение ей показалось, что аромат исходит не от нее, а от самого дома, от кирпичей, колонн и крыши. Сказочный домик, и внутри все прекрасно — в этом Клэр была уверена. И все же, когда Корнелия повернула ключ и Клэр услышала, как щелкнула задвижка, она затаила дыхание. И когда они ступила за порог, она не сводила глаз со спины Корнелии, с точки между ее лопатками.
Потом Клэр огляделась и ахнула. Внутри была магия, но не та, которую она ожидала. Никаких простыней на мебели, превращающих кресла в одиноких призраков, никакого бархата, пыльного, темно-красного, как лепестки африканской фиалки. Дом был живым и ждал людей. Свет врывался в окна и освещал полы и стулья. «Гостиная», — подумала Клэр. Ничего мертвого. Ничего забытого. Даже диван, казалось, открывал ей свои объятия, и она бездумно прошла через комнату и села.
— Ох, — услышала она голос Корнелии, и затем снова: — Ох! — Корнелия шагнула в комнату и медленно опустилась на колени, как будто она в церкви. Клэр сидела тихо, позволяя Корнелии побыть наедине с домом. Через несколько секунд Корнелия сняла пальто и уселась, скрестив ноги.
— Привет, дом, — весело сказала она.
— Он живой, — заметила Клэр.
— Конечно.
Они медленно оглядывали комнату, любуясь золотисто-зелеными обоями и двумя серебряными подсвечниками на мраморной каминной доске, и Клэр захотелось узнать, не ждет ли Корнелия, что дрова в камине загорятся и там появится пламя, оранжевое, потрескивающее, поющее.
Клэр почувствовала другой запах, не имбиря, а чего-то более тонкого и прохладного. Она выпрямилась и присмотрелась к вазе с белыми цветами, стоящей перед ней на столике. Она наклонилась и понюхала, затем легонько коснулась пальцем одного лепестка. Отдернула руку и оглянулась на Корнелию.
— Настоящие, — прошептала она. — Они тоже живые.
Корнелия подошла и тоже коснулась цветка, и в эти несколько секунд Клэр поняла, что они обе верят в чудеса.
Затем Корнелия сказала тихо и печально:
— Гардении. Ну разумеется, гардении. — И добавила: — Мариелла.
— Мариелла?
Корнелия вытерла глаза и улыбнулась Клэр.
— Она убирала в доме миссис Голдберг, сколько я себя помню. Мама сказала, что Руфь и Берн попросили ее приходить сюда, чтобы проветривать дом и вытирать пыль. Наверное, она сегодня кинулась сюда с похорон.
— Она оставила цветы для нас, — предположила Клэр.
— Возможно. Но вообще-то я не знаю. Не удивлюсь, если она приносила цветы каждый раз, когда приходила сюда. Странно, если бы она поступила по-другому. Миссис Голдберг обожала гардении.
И почему-то это показалось Клэр не менее чудесным, чем цветы, которые оставались свежими долгие годы: одна женщина могла любить другую и делать приятные вещи для нее, даже после того как она уехала. Как будто любовь — это привычка, от которой вы не можете отказаться.
— Я покажу тебе все. Весь дом. Гостиную с ракушками, кухонный стол, которому двести лет… Но немного погодя. — Глаза Корнелии засияли от радости. — Но пока начнем с главного. Пошли на чердак. Прямо сейчас. Как ты считаешь?
— Я считаю, что да, — ответила Клэр. — Прямо сейчас.
И она поднималась за Корнелией по лестнице на чердак, причем ставила ноги аккуратно, опиралась на перила, как будто подняться на чердак, который Корнелия так любила, было делом, которое выполнять нужно было точно и правильно. Наконец одним стремительным движением, как будто их вознесло ветром, они оказались в дверях окрашенного в медовый цвет чердака миссис Голдберг.
Глава 25 Корнелия
Я показала Клэр детскую фотографию миссис Голдберг. Здесь ей было одиннадцать лет.
— Как мне. — По ее голосу я поняла, что в этой комнате она ощущает то же, что и я, — она заворожена. Всем домом, не только этой комнатой. Даже когда я начала рассказывать, причем я делала это приглушенным голосом, с особыми ударениями, как делала всегда миссис Голдберг, она не отрывала глаз от фотографии.
— Семья миссис Голдберг приехала сюда из Нью-Йорка, но свой одиннадцатый день рождения она провела в доме своих дяди и тети, на ферме, недалеко отсюда. Ее кузине Сюзан тоже было одиннадцать, и они смотрели, как ее брат Альберт с друзьями играют в бейсбол. У одного из парней были серьезные голубые глаза. Хотя миссис Голдберг была еще в том возрасте, когда мальчиков не замечаешь, этого парнишку она заметила. — Я взглянула на Клэр.
— Я замечаю мальчиков, иногда, — смущенно призналась Клэр. — Ну, только не мальчиков моего возраста, а… — Она замолчала и улыбнулась.
— Интересно, что ты имеешь в виду, — заметила я. — Но и этот мальчик был не ее возраста. Ему было семнадцать.
— Ох! — воскликнула Клэр, как будто заметить семнадцатилетнего парня было куда удивительнее, чем, скажем, мужчину тридцати четырех лет.
— И пока она за ним наблюдала, он стоял у края поля и ее кузен Альберт бросил в него мяч. Высокий мальчик хотел поймать его, но промахнулся, и мяч попал ему прямо в голову.
Клэр поморщилась.
— А миссис Голдберг не сумела сдержаться и расхохоталась.
— Это ужасно.
— Она тоже так решила. Просто пришла в ужас. И побежала туда, где он лежал. Наклонилась, представилась и извинилась. Мальчик улыбнулся, протянул руку и сказал: «Я Гордон Голдберг. И наверное, я выглядел смешно, когда свалился, как подстреленная утка». «Скорее, кегля в боулинге», — поправила миссис Голдберг. Гордон опять улыбнулся и потерял сознание.
— И они влюбились друг в друга.
— Она — да, а ему понадобилось для этого еще шесть лет, но уж тогда он влюбился по уши. Они были женаты более тридцати лет, но потом он умер.
— И она больше не вышла ни за кого замуж, — уверенно сказала Клэр. — Ведь у каждого есть только одна настоящая любовь, верно? — Вопрос сногсшибательный.
— Не знаю. Может быть, у некоторых людей любовь может случиться и не один раз, — ответила я. И подумала: «Пусть, пусть я буду права. Иначе мне не на что надеяться».
Мы с Клэр некоторое время сидели в уютном молчании, разглядывая портреты членов семьи миссис Голдберг. Затем я почувствовала, что Клэр смотрит на меня, и повернулась к ней.
— Моя мама вышла замуж за моего отца, — задумчиво сказала она. — Странно, верно? Наверное, они любили друг друга. И моя мама больше ни за кого не вышла замуж. В смысле пока не вышла. Но не думаю, что это из-за того, что мой отец был ее настоящей любовью.
— Я не знаю, — честно призналась я. Я подумала о рыжей женщине на похоронах Мартина. То, что я не смогла полюбить его, не означало, что никто не может.
Клэр ничего не сказала, но теперь наше молчание не было спокойным, мы словно ожидали чего-то.
— Я видела свою маму. — Я не могла разглядеть, что у нее в глазах. Казалось, она видела нечто, чего в комнате не было. — Однажды ночью. Я ее видела после того, как она заболела. Я ее видела. С мужчиной. Они… — Она смотрела на меня, не в состоянии закончить. Со страхом. Вот что было в ее глазах. Страх и отвращение. Я должна была соображать быстро, чтобы залечить ту рану, которую ей нанесло то, что она видела. Я не хотела, чтобы она росла с таким отношением к сексу.
— Я не знаю, почему твоя мама занималась сексом с тем мужчиной. Секс. Ты ведь знаешь, что это такое?
— Да, — призналась Клэр, и я с облегчением услышала усталость в ее голосе, будто она хотела сказать — что за глупый вопрос?
— В том, чем они занимались, нет ничего плохого. Ты понимаешь, что я хочу сказать?
— Думаю, что да, — помолчав, согласилась Клэр. — И не думаю, чтобы она была в него влюблена. То есть, может, и была, но я так не думаю.
Я перевела дыхание.
— Люди к этому относятся по-разному, тебе придется самой решать. Хочешь знать, что я думаю?
— Да.
— Я думаю, что нет ничего страшного, если ты не влюблена. Тебе может просто нравиться человек, ты ему доверяешь, и если тебе захочется заняться с ним сексом, то это нормально. — Кстати, я пришла к такому выводу довольно давно. И должна сказать следующее: есть любовь, нет любви, но от секса я не откажусь. Не надейтесь.
— Ты была когда-нибудь влюблена? — спросила Клэр, нанеся мне сокрушительный удар без всякого предупреждения. Надеюсь, она не заметила моего дискомфорта, но поскольку я застыла на месте, а по лицу моему стал растекаться жаркий румянец, она должна была быть слепой, как летучая мышь, чтобы не заметить.
— Да, конечно, — сказала я беспечно. Даже чуть не зевнула при этих словах. Затем пожала одним плечом, завершив превращение в карикатуру на беспечного человека.
— В кого?
— Ну, был один. — Это надо же — «был один»! Я вздохнула. — Он не отвечал мне взаимностью.
— Готова поспорить, что ты ошибаешься, — заявила Клэр. — Наверняка любил, зуб даю.
— Благодарю покорно, Клэр, но нет, нет и нет. Кроме того, он женат на другой женщине. — Я вгляделась в ее лицо, боясь увидеть недоверчивое выражение. Но ведь многие достойные любви мужчины женаты на других женщинах. Она посмотрела на меня невинным взглядом. — Он относится ко мне по-родственному, — добавила я для правдивости и, заметив изумленный взгляд Клэр, заторопилась, хотя объяснять ничего не собиралась: — Вообще я не его типа.
— Ты — и не его типа? — искренне изумилась Клэр, что согрело мне душу.
— У меня нет амбиций. — Но это было не совсем то, что я хотела сказать. — Никакой цели в жизни. Наверное, я недостаточно страстная.
Клэр засмеялась. Затем снова стала серьезной.
— Прости. Но это забавно — что ты не страстная. Ты страстная во всем. Во всем, к чему прикасаешься.
Я тоже засмеялась, хотя ее слова меня настолько тронули, что я готова была расплакаться.
— Даже ко мне. Ты ведь страстная даже ко мне, верно? — Ох, Клэр, девочка моя.
— Да, и от всего сердца, — подтвердила я.
— Что ты собираешься делать со всеми этими вещами? — спросила Клэр, оглядываясь по сторонам.
— Я уже об этом думала. Я хочу, чтобы Руфь и Берн, дети миссис Голдберг, забрали все, что пожелают, пусть даже все фотографии. Я хочу составить каталог всех вещей и записать связанную с каждой вещью историю. Все, что мне рассказала миссис Голдберг, потому что все важно.
— Значит, когда они будут решать, что взять, они будут знать, какое каждая вещь имеет значение. Ведь будет несправедливо не рассказать им об этом, верно?
— Верно, — согласилась я, пораженная таким глубоким пониманием со стороны Клэр. — И что бы они ни забрали, истории уйдут с этими вещами.
— Хорошая мысль, — сказала Клэр. Она села и задумалась.
— Твоя квартира очень похожа на этот дом, ведь так, Корнелия? Я об этом подумала сразу же, как очутилась здесь. Как ты подбирала каждую вещь в квартире. Ты точно такая же, как миссис Голдберг. — Мне было очень приятно это слышать.
Из большого чердачного окна мне были видны блестящие листья магнолии, растущей около дома. За ней я разглядела огромный старый белый дуб, чья крона обеспечивала тенью весь двор миссис Голдберг. Еще дальше вдоль улицы стояли дома с трубами в окружении кустарников и клумб. И сумерки уже спускались на их крыши. Каждый дом хранил свои тайны, в каждом жила своя семья. А вдали виднелась полоса Голубого хребта.
— Корнелия? — позвала Клэр.
— Я вспоминала, как миссис Голдберг рассказывала мне все эти истории, — сказала я, смахивая слезы. — И, если захочешь, я когда-нибудь передам тебе свои.
Глава 26 Клэр
— Руки болят? — спросила Элли у Клэр. Мама Корнелии хотела, чтобы Клэр называла ее Элли — сокращенное от Элеонора.
Клэр положила острые садовые ножницы, сняла перчатки и принялась сжимать и разжимать пальцы, получая удовольствие от незнакомых ощущений.
— Да, — ответила она, — но это приятная боль.
Они подравнивали кусты на заднем дворе. Клэр потребовалось время, чтобы научиться пользоваться ножницами и понять, что она не губит куст. Ей казалось жестоким обрезать ветки до восьми дюймов от земли, и она с тоской смотрела на жалкие остатки, одиноко торчавшие из земли.
— Я знаю, выглядит ужасно, но у этих кустов цветут только молодые побеги, — пояснила Элли. — Мы делаем кустам одолжение. И бабочкам тоже. Подожди лета, увидишь, как трудно будет отличить, где цветок, а где бабочка. И колибри тоже будут нам благодарны.
Клэр улыбнулась кусту, над которым трудилась. Мама Корнелии хотела, чтобы она вернулась сюда летом, и не просто хотела — ждала. Клэр представила себе, как они вдвоем сидят на деревянной скамейке, пьют чай со льдом и наблюдают, как крошечные колибри, подобно маленьким моторчикам, кружатся вокруг кустов. И все же, хотя умом она все понимала, руки еще сомневались, верить или не верить, и замирали над кустом, над каждой веточкой хоть на пару секунд.
— У тебя замечательно получается, — похвалила Элли.
Клэр снова улыбнулась кусту.
— Вы когда-нибудь читали «Таинственный сад»? — рискнула спросить Клэр.
— О Господи, дай подумать. Ну конечно, только лет сто назад. Кто же любил эту книгу, Олли или Корнелия? — Даже разговаривая, Элли не прекращала работать. Клэр нравилась абсолютная уверенность ее движений. Вот так же Тео резал овощи. Интересно, а она когда-нибудь сможет делать что-нибудь так же хорошо?
— Спорю, что Корнелия, — сказала Клэр. — Там есть такой мальчик, Дикон, который сразу мог сказать, живое растение или умерло. Мне кажется, они все выглядят мертвыми, но он всегда мог найти живой росток. И когда находил, называл его «хитрым». Я думаю, он был чародеем.
— Есть такие люди, у них это в крови. Но вот что я тебе скажу, Клэр. Я прочитала много книг и статей, прежде чем чему-то выучилась. — Она улыбнулась Клэр треугольной улыбкой Корнелии. — И много растений загубила.
— У нас дома садовник, мистер Поле. Подходящее имя для садовника. Он приходит раз в неделю, но я как-то не обращала на него внимания. — Клэр очень жалела об этом. — Наверное, я думала, что надо просто сунуть что-то в землю, и все будет расти.
— С некоторыми растениями так и поступают, — сказала Элли. Она показала на другой куст. — Этот мирт сам о себе заботится. Но если я не обрежу правильно гортензию, цветов не жди. — Она показала на другой куст, большой.
— У нас тоже есть гортензия, — радостно заявила Клэр. — Я ее очень люблю. Цветы растут целыми букетами. И цвет мне нравится. Такой густо-синий.
— И я больше люблю синие, — сказала Элли. — Когда ты вернешься домой, ты попроси мистера Поле разрешить тебе помочь ему. Мои детки никогда садом не интересовались. Может быть, поэтому Олли и Корнелия живут в городах, где им не приходится ни о чем заботиться.
Элли не выглядела разочарованной или обиженной, говорила о серьезных вещах как бы между прочим, поэтому Клэр сказала больше себе, чем Элли:
— На Корнелию это не похоже. — Она тут же покраснела. Ведь не собиралась возражать. — Простите.
Мать Корнелии улыбнулась и махнула рукой, как бы говоря: «Не за что извиняться».
— Но хотя у Корнелии нет сада, она постоянно о чем-то заботится, причем заботится заботливо. Ведь у нее в квартире все старое, и есть даже очень хрупкое — во всяком случае, мне показалось хрупким, — а она так бережно со всем обращается. Она даже не пользуется посудомоечной машиной, потому что боится, что чашки или блюдца могут треснуть или золотой ободок исчезнет с тарелок. И она стирает пыль со своих маленьких картин веничком из перьев. И по тому, как она относится к своим вещам, можно сразу понять, что она их любит. — Клэр понимала, что слишком разговорилась, но ей было так приятно говорить правду о Корнелии вслух, а не просто писать о ней в своем блокноте.
Впервые с того момента, как они начали подрезку, мать Корнелии прекратила работать. Она задумчиво потерла подбородок тыльной стороной руки в перчатке и взглянула на Клэр:
— Знаешь что? Ты права. Я никогда об этом вот так не думала. Нам с Корнелией редко нравятся одни и те же вещи, но она заботится о том, что любит.
— О людях тоже, — не смогла сдержаться Клэр. — Таких, как я. После того как моя мама исчезла, приехал папа, забрал меня и привез в кафе. И я ничего не могла с собой поделать, разревелась прямо там, посредине кафе. Корнелия подошла ко мне и обняла.
— Твоя мама исчезла? — спросила Элли растерянно, но Клэр ничего не заметила.
— А ведь она меня совсем не знала, — продолжала Клэр. — Никогда раньше не видела. А потом я узнала, что она даже не предполагала, что у моего папы есть дочка. Но она сразу начала обо мне заботиться, как будто так и положено. Могу поспорить, не многие бы так сделали.
— Наверное, ты права, — тихо сказала Элли. — Корнелия всегда была хорошей девочкой. Хорошей и доброй. Я рада, что вы нашли путь друг к другу. А до этого тебе тяжело пришлось?
У Клэр перехватило дыхание. Корнелия сказала Элли, что ее мама путешествует. Поверить невозможно, что она об этом забыла.
Но когда она повернулась к Элли, то сразу перестала нервничать. И начала объяснять, почему Корнелия соврала и в чем заключается правда. Трудно было только начать, дальше пошло легко. Вдох-выдох, обрезай кустик, щелкай ножницами и говори. Закончив рассказ, она взглянула на Элли. Ее лицо выражало бешенство и тревогу одновременно. Такой реакции Клэр не ожидала.
— Мне очень жаль, что тебе пришлось через все это пройти. Каждый день твоя мама все больше отдалялась от тебя, пока не ушла совсем, — жестко сказала она.
— Но она не хотела, — торопливо возразила Клэр. — Она заболела.
Клэр увидела, что лицо Элли смягчилось.
— Ну конечно, — сказала она ласково. — Разумеется, она не хотела. Она ведь тебя любит. — Клэр почувствовала, что успокаивается.
— Я знала одну женщину, которая тоже болела, — сказала Элли. — Не совсем так, но похоже. Она болела очень долго — годы — и ничего не предпринимала, чтобы поправиться. Ничего. Только пила, что, естественно, не помогало.
Клэр не знала, что сказать. Элли взглянула на нее, уронила секатор на землю и сдернула перчатки. И положила руки на плечи Клэр.
— Господи, солнышко, что я такое делаю? Прости. Это старая-престарая история. Я даже не думала, что во мне еще осталась злость по этому поводу. Просто хочется дать себе пинка за то, что я так разболталась.
— Все нормально, — сказала Клэр. И это в самом деле было так. Она улыбнулась. — Корнелия тоже называет меня «солнышко».
— Знаешь, что я думаю? — весело спросила Элли. — Я думаю, что твоя мама делает все возможное, чтобы поскорее вернуться к тебе. На твоем месте я бы перестала беспокоиться и развлекалась, пока она не приехала.
Клэр действительно успокоилась, и не только потому, что поверила Элли, что ее мама вернется живой и невредимой. Бывали моменты, когда она была в этом уверена, но чаще она старалась не думать о том, когда же она увидит свою мать. Она слишком долго прожила в страхе, и сейчас ей уже не хотелось чувствовать себя больной и уставшей от жизни, а беспокойные мысли заставляли ее чувствовать себя именно так.
В ночь перед стрижкой кустов Клэр лежала в постели и пыталась представить себе, что будет, если ее мать вообще не вернется. Ответ пришел сразу, всплыл, как надувной плот в голубом бассейне. «Я буду жить с Корнелией и Тео», — подумала она. Но когда она проснулась на следующее утро и все вспомнила, она поняла, что эти мечты бессмысленны, просто они помогли ей увернуться от демонов и заснуть.
* * *
Два дня спустя Клэр сидела на чердаке за компьютерным столиком. Она была одна в доме. Тоби и Кэм играли во дворе. Игра заключалась в том, что нужно было удержать мешочек с бобами, песком или чем-то еще от падения на землю. Со своего места Клэр видела их в окно. Доктор Би (все звали его «доктор Би» или просто «Би», что смешило Клэр, как будто фамилия Браун была слишком длинной, чтобы произносить ее полностью) ушел в свой офис, а Элли отправилась за продуктами. «На базар», — как она выразилась.
Корнелия снова пошла в дом миссис Голдберг, где Клэр тоже уже побывала с утра. Они продолжали составлять каталог, а Корнелия вносила истории вещей в свой ноутбук. Клэр обожала этот дом со всеми его историями, плавающими в наполненном солнцем воздухе, и ей нравилось сидеть и смотреть, как ловкие пальцы Корнелии нажимают на клавиши.
Но сегодня Клэр ушла раньше, сказав, что они с Элли собрались сходить в парикмахерскую и подстричься.
— Угу, — отозвалась Корнелия. — Не дай Элли уговорить тебя на что-нибудь отчаянное. Никаких ирокезов или пурпурных прядей, слышишь?
Но Клэр знала, что Элли еще не скоро придет и до времени, назначенного парикмахером, оставался еще час. Она, выпрямив спину, сидела перед компьютером, напряженно вглядываясь в экран. В комнате в это время было сумрачно, но она не стала включать свет. В полутьме компьютер светился ровным светом, который почему-то казался Клэр опасным, как радиация, хотя она и понимала, что это глупо.
— Сделай это, — прошептала она. — Возьми и сделай!
И она сделала. Закончив, Клэр взяла черную ручку и аккуратно (уже не в первый раз!) подделала материнскую подпись. Затем напечатала на конверте, который взяла из ящика, адрес, сложила листок втрое и вложила в конверт. Когда она поднесла конверт к губам, чтобы лизнуть клей, она остановилась. Затем сунула конверт под подушку застеленной кровати.
Через несколько часов она увидела, как через лужайку идет Корнелия, на плече в красной сумке раскачивался ноутбук. Клэр бросилась к ней, держа конверт в руке.
— Нет, только посмотрите на нее, — воскликнула довольная Корнелия. — Ну-ка, повернись.
Каштановые волосы Клэр немного не доставали до плеч. Сзади они были подстрижены чуть короче, и получалось, что вперед падают два заостренных крыла.
— Просто блеск! Идеально! — восхитилась Корнелия.
— Нет, ты погляди, — сказала Клэр и сильно качнула головой из стороны в сторону. Когда она замерла, волосы снова легли сверкающим чудом.
— Обожаю, — заявила Корнелия. — Ну прямо как от «Видала Соссуна».
Клэр едва не спросила, что это значит, но не стала отвлекаться. Ей нужно было закончить дело, и если она не позаботится об этом сейчас, она боялась, что потом будет поздно.
Она протянула Корнелии конверт.
— Я едва не отправила его, не показав тебе, — сказала она мрачно. — Но потом не смогла. Мы должны принимать решения вместе.
Корнелия подняла брови, затем вытащила письмо и прочитала его.
— Ох, Клэр, — сказала она.
— У нас всего два дня осталось, — напомнила Клэр.
— И ты не готова уехать. — Корнелия вздохнула. Коснулась волос Клэр, заставив их качнуться.
— Многие задерживаются после каникул. Правда. И всего-то потому, что катаются на лыжах.
— Смотри, чтобы тебя Тоби и Кэм не услышали, — предупредила Корнелия с усталой улыбкой. — Катание на лыжах — их религия. Они думают, что если ты хороший мальчик, то когда умрешь, попадешь прямиком в Куршевель.
— А что это? — спросила Клэр.
— Да тупой лыжный курорт в Швейцарии.
— Мы что, поедем кататься на лыжах? — с надеждой спросила Клэр.
— Нет, думаю, что нет, — сказала Корнелия. — Если честно, то и мне еще совсем не хочется уезжать. Поэтому трудно пока решить насчет этого. — Она слегка потрясла конвертом.
— В смысле?
— В смысле я должна отложить то, что мне бы хотелось, и разобраться, что нужно сделать. Для тебя.
— Я не могу, — сказала Клэр дрожащим голосом. — Я пока еще не могу вернуться. Не могу, и все. Даже представить себе не могу.
— Клэр, письмо даст тебе всего неделю, — напомнила Корнелия.
— Знаю, — быстро ответила Клэр. — Я знаю, и я обещаю, что мы тогда вернемся. Я буду готова.
Корнелия посмотрела на конверт, потом опустила глаза. Клэр ждала.
— Если тебе этого так сильно хочется, солнышко, тогда ладно. Еще одну неделю.
Клэр обняла ее и поцеловала в щеку. «Ого, — подумала она, — очень скоро я стану выше Корнелии».
— Есть еще одно… — внезапно вспомнила Клэр. Она хотела быть с Корнелией предельно честной. Это было важно.
— Что еще?
— В тот день, когда мы стригли кусты, я проговорилась. Я сказала твоей маме, что моя мама заболела, и о том, что она уехала. Все рассказала.
— Ты надо мной смеешься. — Корнелия не рассердилась, она только удивилась.
— Ты не злишься?
— Ох, солнышко, нет. Это твоя тайна. Я только поверить не могу, что моя мама не обмолвилась об этом ни одним словом целых два дня. Я была готова поклясться, что она тут же призовет Национальную гвардию и заставит их искать твою маму. Надо же, как интересно. — Она была крайне озадачена. Потом сказала: — Ладно, я этой темы касаться не буду, разве что она сама заговорит.
— Значит, мы это пошлем? — спросила Клэр, касаясь письма одним пальцем.
— В конце улицы есть почтовый ящик. Давай пойдем туда сейчас же, — предложила Корнелия.
Они было зашагали, но Корнелия вдруг остановилась. Во время этой паузы, казалось, все замерло: вечер на цыпочках, молчаливые, внимающие деревья.
— Ты такая храбрая девочка, Клэр, ты это знаешь? Мне это в тебе очень нравится. — Она на секунду опустила глаза, глядя на руку Клэр, потом взяла ее и сжала. И снова посмотрела на Клэр с радостью и печалью. — Я люблю тебя, — сказала она. — Ты должна это знать.
В этот момент Клэр не чувствовала себя одинокой девочкой, которую жизнь, как щепку, бросает из стороны в сторону. Сейчас под темно-синим небом с редкими ранними звездами она чувствовала себя удачливой и счастливой. И была самой собой. И слова нашлись сразу, потому что они ждали, что их позовут.
— Я тоже тебя люблю, — сказала она. — Очень люблю.
Глава 27 Корнелия
Иногда дом стоит долгие годы, боясь, что у него снесет крышу, и вдруг неожиданно — порыв ветра, и крыша улетает, сначала превратившись в черную точку на горизонте, а затем исчезнув в голубой бездне неба, как будто ее никогда и не было. И что делают люди, живущие там, когда она исчезает? Наверное, в разных домах поступают по-разному, но когда дело коснулось дома Браунов, а порыв ветра явился в виде почтовой открытки величиной с мою ладонь, они сделали следующее.
— Черт побери, — простонал мой отец почти в слезах, вышагивая по кухне, а для него «черт побери» — предел бранных слов. — Черт побери! Это убьет Руди. Говорю вам! Это его убьет.
— Это полностью ее вина, — кипел Тоби, держа в руках футбольный мяч и нервно сдавливая его. — Она считает, что может просто передумать.
Кэм засунул печенье размером в десертную тарелку в рот и невнятно проговорил, роняя крошки:
— Она женщина! Чего ты ждешь? Женщины такие эксцентричные.
Должна признаться, это произвело на меня впечатление. Слова «эксцентричный», готова поклясться, мой брат не знал. Надо же, как его достали. Вспомнил лексику отборочного теста десятилетней давности. Снимаем перед вами шляпу, мистер Каплан.
Клэр тоже сидела за столом, но похожа она была не столько на милую девочку, жующую печенье, сколько на кота, вонзившего зубы в канарейку. Такое сытое довольство. Мне показалось, я даже видела, как она облизала усы.
Проведя на чердаке миссис Голдберг несколько часов, я без всякого предупреждения оказалась в сошедшем с ума мире. Я повернулась к единственному человеку, который в этой комнате выглядел нормальным. Правда, жилы на шее слегка напряглись, но в остальном она выглядела такой же спокойной и собранной, как всегда.
— Мам, что, черт возьми, происходит? — спросила я, и у нее хватило выдержки просто укоризненно взглянуть на меня, как будто «черт возьми» не бледнело перед папиным «черт побери». Но я все же посчитала это хорошим знаком.
Она протянула мне открытку в конверте.
— Если что-то делаешь, нужно это делать толково, — сердито сказала она. — А не так.
Я взглянула на конверт, затем достала из него открытку, рождественскую открытку, опоздавшую на три недели. Открытку от моей сестры Олли. В опоздании ничего удивительного не было. Странным было то, что она вообще ее послала. И, если быть справедливой, у этой маленькой открытки были все основания для опоздания. Отправлена она была с Галапагосских островов.
— Эффект Уестермарка, — тоскливо заметил Тео.
Как только я смогла нормально дышать, тотчас же позвонила ему.
Именно так Олли объяснила ему причину своего ухода. Взяла и сказала. В ее стиле было просто оставить записку (о чем свидетельствует рождественская открытка). Однако предупредила она Тео всего за сутки до отлета. И мне это не показалось порядочным. Но кто я такая, чтобы судить?
Я немного подумала.
— А, помню, это когда бабочка где-то машет крыльями, а потом торнадо гуляет по половине земного шара, — сказала я.
— Это уже будет эффект бабочки, — поправил меня Тео, и улыбка, которую я расслышала в его голосе, успокоила мою душу, хотя я несколько разочаровалась, потому что пришлось отказаться от картинки, которую нарисовало мое воображение: неосторожное насекомое машет крыльями в Пекине и создает ветер, который выдувает Олли из ее квартиры в Бруклине и бросает в объятия Эдмунда Бэттла.
— Эффект Уестермарка — внутренний механизм, который предохраняет нас от женитьбы на собственных родственниках.
— Да, но вы же с Олли не родственники… Ведь так? — Внезапно мне все показалось возможным.
— Нет, Корнелия, конечно, нет. — Голос у Тео был сухим, как пыль. — Но по этой теории мужские и женские особи, выросшие вместе, родственники. Все мужчины и женщины, выросшие вместе, запрограммированы не испытывать сексуальной тяги друг к другу. Это инстинкт.
Да ничего подобного! Я едва не закричала. Пропади он пропадом этот доктор Уестермарк и его научная теория! Я представила себе, как вхожу решительным шагом в какую-то лабораторию, Тео идет за мной, и предлагаю себя в качестве доказательства ошибочности этой идиотской теории. «Смотрите, — восторженно кричу я, — я не могу от него оторваться!» И от одной только мысли я покраснела, дыхание стало прерывистым, потому что (не уверена, что я уже об этом говорила) я безумно влюблена в Тео.
— Ты в это веришь? — спросила я вполне серьезно. На другом конце провода долго молчали. Я едва не кинулась в эту паузу с тирадой, поносящей Уестермарка, этого злостного негодяя, тупого урода с его идиотским эффектом, но сдержалась.
— Я верю в то, что был полным идиотом, когда женился на женщине, которую не люблю. — Голос Тео был таким тусклым, таким подавленным, что я даже не ощутила радости при этом известии. Кроме того, если он в своем уме, а он точно в своем уме, связываться еще раз с семейкой Браунов — последнее, чего можно ждать от Тео Сандовала. Есть этот эффект Уестермарка или нет, зачем рисковать?
Пока мы так сидели, молча купаясь в своих несчастьях, я начала соображать, что если Олли уехала несколько недель назад, то Тео, этот эталон честности, несколько недель носил эту тяжесть в себе, живя рядом со мной и Клэр. Готовил в моей квартире, сидел в садовом кресле во дворе Клэр, ездил на своей машине, и боль была с ним постоянно, как еще одно существо, незнакомка-невидимка. От этой мысли меня скрючило, но я решила не спрашивать, почему он мне не открылся.
— Корнелия, я все собирался сказать тебе, — решился он наконец. — И тогда пришел в кафе, чтобы сказать тебе.
— Да ничего, — пробормотала я. — Не нужно ничего объяснять.
— Но когда я до тебя добрался, столько сразу навалилось. Клэр и Мартин. И затем этот несчастный случай. Разве мог я лезть к тебе со своими пустяками, с этим… дерьмом?
Если Тео, который в обычных обстоятельствах никогда бы не стал принижать значение чего-то хоть сколько-нибудь важного, говорит о своем браке, как о «дерьме», значит, он и в самом деле в критическом состоянии.
— Ох, Тео, — вздохнула я.
— Но я думаю, это только оправдание. Ты бы все равно выслушала все мои глупости. Я же тебя знаю. Ты бы выслушала.
— Обязательно. Я и сейчас могу выслушать. — Сейчас и всю свою оставшуюся жизнь я готова слушать все, что ты захочешь сказать. Испытай меня.
— Я знаю. Забудь мои слова насчет того, что я не хотел тебя беспокоить. Это звучит… не знаю… благородно. А я не был благородным. — Он произнес последнее слово почти что с презрением. Тео говорил так, будто сам себе внушал отвращение. Я не могла этого слушать. — Если честно, то я был рад влезть в чужие неприятности. Помнишь, ты сказала, что мне легко было стать для Клэр героем?
— Тео, — забеспокоилась я, — ты знаешь, что я вовсе не это хотела сказать.
— Не хотела, но была права. Было просто появиться и думать, что можешь помочь, можешь все наладить. Я так устал от себя и от Олли. От всей нашей жизни. И ничего я не мог там наладить… — Он горько хмыкнул. — Да и не стоило там ничего налаживать.
— Что будет теперь? — Было бы приличнее дать ему возможность самому вести разговор, я это понимала, но не смогла удержаться.
— Развод, — вяло сказал он. — А в Нью-Йорке это тебе не прогулка под луной. Либо я должен говорить ужасные вещи про Олли, либо она про меня. Тогда все закончится быстро. Олли именно этого хочет. Или… — Тео, казалось, выдохся, слишком устал, чтобы продолжать, но меня нельзя было сбить со следа.
— Или?
— Или мы разбегаемся, живем врозь год, а в конце этого года тихонько разводимся.
— И ты хочешь пойти этим путем? — Ну еще бы. Все это его порядочность, будь она неладна. Господи, Тео…
— Мне даже подумать противно, что мы будем говорить друг о друге гадости. Для протокола. Это ведь была наша общая ошибка.
— Почему так случилось? Могу я задать такой вопрос? Каким образом вы с Олли оказались вместе? — Потому что если ты решилась изображать из себя пронырливого папарацци, кого добрые люди называют подонками, нечего останавливаться.
— Вскоре после отъезда Эдмунда мы с Олли столкнулись в городе. Ты ведь знаешь, мы знали друг друга всю жизнь. И хорошо друг к другу относились. Мы никогда не притворялись, что влюблены. Олли покончила с настоящей любовью, во всяком случае, она так считала.
— А ты? Ты тоже покончил с настоящей любовью? — Господи, кто меня остановит? Но я должна была знать.
— Да нет, не совсем. Но я был почти уверен, что настоящая женщина, настоящая любовь… что ска… не случится. И мне был отвратителен человек, в которого превращали меня «случайные связи». — Его кавычки в этом выражении сочились горечью. Я тоже чувствовала, что погоня за юбками, все эти мужские развлечения были игрой с эвфемизмами самого что ни на есть макиавеллевского типа. Игрой небезопасной. И тут он добавил неожиданно: — И я устал от больных людей.
Он замолчал, как ребенок, который сказал что-то ужасное и ждал, когда на него начнут кричать. Я кричать не стала. Когда он снова заговорил, голос его был спокойнее.
— Олли сказала, что многие люди женятся по любви, и все равно брак кончается крахом. Мы подумали: почему бы не рискнуть, может быть, любовь придет позже. Олли перечисляла все те страны, где брак заключается по воле родителей и где все в полном порядке.
Я улыбнулась при слове «перечисляла». Олли всегда оставалась Олли.
— Значит, вы вступили в брак, как в авантюру, — сказала я. И представила, как все произошло. Давай попробуем! Птички это делают, пчелки, даже умные блохи. Я могла понять, что им хотелось стать частью жизни во всем ее многообразии. Честно признаюсь, что в последнее время я стала экспертом по такого рода желаниям.
— Я скорее застрелюсь, чем еще раз повторю этот эксперимент, — заявил он. — Мы ведь считали это приключением. На самом деле мы были элементарно беспечны. И умудрились обидеть абсолютно всех, кто о нас беспокоился. Думаю, мы никого не упустили. — Он помолчал, затем сказал с ледяной решимостью: — Теперь все, отрисковался.
Мое сердечко упало в туфли, потому что если и был для него какой-то риск, то риском этим была Корнелия Браун, потому что, потому что, потому что…
Сестра Олли. Подружка детства Тео. Если он решил больше не рисковать, то у меня нет никакого шанса.
Как только я повесила трубку, я кое-что вспомнила и сразу же перезвонила ему.
— Корнелия, — сказал он, как только снял трубку, хотя я знала, что на его аппарате нет определителя номера. Мы с ним оба эти экраны ненавидели. Он считал, что они вмешиваются в личную жизнь человека. Вдруг человек набрал номер, а потом передумал звонить? Я же считала, что эти экраны — еще один способ украсть у жизни тайну.
— Тео, — начала я и внезапно смутилась. — Я только… я подумала… ну… — мямлила я. — Ты сказал, что приехал в Филадельфию, чтобы рассказать мне о себе и Олли. Почему? Почему ко мне, а не к кому-нибудь еще? — Вы, наверное, понимаете, почему я задала этот вопрос, почему я не могла его не задать. А вы что бы сделали на моем месте?
— Потому что ты моя… — О Господи, что? Мое сердце бешено забилось. — Пара чистых глаз.
— Вот как.
Я подумала: ««Пара чистых глаз» — это не «сердечная привязанность», но все лучше, чем ничего».
— Знаешь, ты ведь как лакмусовая бумажка. Я во все это влип, вот и решил, что ты поможешь мне понять, объяснить, пропал я совсем или еще выберусь.
— Вот как, — повторила я.
Он засмеялся.
— Если честно, мне хотелось, чтобы ты взглянула на меня разок и уверила меня, что все не так плохо.
Я вздохнула. Выиграю или проиграю, но рискну.
— Ты хочешь знать, что я вижу сейчас?
— Мы же по телефону говорим, Корнелия.
— Знаю. Но уж такая я способная. Могу видеть, даже если тебя здесь нет. — Везде и всюду, стоит только закрыть глаза, Тео.
— И что ты видишь сейчас?
— Синяки. Довольно большие, но я видала и похуже. Хочешь знать, что еще?
— Что еще?
— Я вижу человека, в котором еще осталось немного желания рискнуть. Мужчину, который должен продолжать верить.
Последовала пауза.
— Доброй ночи, Корнелия, — сказал Тео своим обычным голосом.
Доброй ночи, милый Тео, доброй ночи, доброй ночи. До свидания.
Дождь никогда не идет, он льет как из ведра. Очень удачная идиома. И вот он собирался залить дом Браунов со снесенной крышей, промочив нас всех до нитки.
В тот вечер моя мама пошла с Клэр в гости к Сандовалам. Дипломатическая миссия, хотя я лично не видела в этом большой нужды. Цивилизованные люди не клеймят родителей за поведение их дочери, какой бы беспечной и неверной она ни была, а Сандовалы были людьми цивилизованными. И, без сомнения, Тео заранее поставил их в известность, объяснив, что в их расставании с Олли никто не виноват, хотя, если подумать, это означает, что виноваты оба. К тому же, а это важнее всего остального, Ингрид и Руди любили Элли и Б., и они отвечали им взаимностью.
Мать вернулась домой через час, а Клэр осталась ужинать.
— Клэр стала рассказывать о шведских блинах голосом, каким люди обычно говорят об Эвересте или луне, так что она еще не закончила, а Ингрид уже отмеряла муку, — сказала моя мать. Затем она подошла ко мне и прикоснулась к моему свитеру. А потом к запястью. И улыбнулась. — Она славная девочка, детка. И она боготворит землю, по которой ты ходишь.
— Взаимно, — призналась я.
— Да, я вижу, — ответила мама. Она отпустила мое запястье, снова улыбнулась и отправилась по каким-то делам, надеясь притушить свое беспокойство по поводу Олли домашними делами — выбиванием ковров и мытьем кафеля в ванной комнате. Если бы на улице не было уже так темно, она наверняка пошла бы в свой сад, где мучила бы какое-нибудь растение, чтобы заставить его хорошо себя вести и давать пышные цветы.
Как и она, я не умела сидеть и думать, но я и не набрасывалась на невинные кусты, особенно в стрессе, я раздумывала над проблемой, пытаясь обсудить ее с кем-то, как вы наверняка уже заметили, и я бы сделала именно это, найдись подходящий слушатель. Мне нужна была Линни. Я могла снять трубку, но Линни ведь из тех, кто выражает эмоции с помощью легкой гримасы, шевелением пальцами, пожатием плечами или просто расширяет или сужает хитрые глаза. Мне нужно, чтобы она была рядом, чтобы она была осязаема. Поэтому, когда мама ушла, я села и стала думать. О Тео. О его потерянности. Но больше я думала о Клэр, о том, как все устроить так, чтобы нам было хорошо. Моя мама состояла в правлении частной школы, которую мы все заканчивали, и не важно, середина года или нет, она сделает все, чтобы Клэр туда приняли. Мартин оставил много денег, он все оставил Клэр, что меня удивило, хотя и не должно было бы. Недостатков у Мартина было много, но когда он умудрялся понять, что правильно, а что нет, он почти всегда поступал правильно. Я была уверена, что адвокат Мартина, Вудс Роулингс, если понадобится, найдет деньги для Клэр. Но я надеялась, что она не будет в них нуждаться. Я найду работу и, возможно, параллельно окончу аспирантуру.
Я еще не осознала, на что я хочу потратить свою жизнь, но то, что я хочу воспитывать Клэр, — ясно как день. И еще я знала, что хочу состариться вместе с Тео. Олли говорила, что можно сначала пожениться, а потом уж полюбить. Разумеется, это чушь собачья, но эту философию можно применить к выбору профессии. Я умела читать, писать и относительно гладко говорить. Почему бы не поискать работу в библиотеке, или в больнице, или в музее, или в юридической фирме, а затем постараться если не страстно полюбить, то хотя бы с ней смириться?
Я представила картину в стиле Гойи — я в юридической фирме — и уже собиралась вычеркнуть эту фирму жирным черным маркером, который я держу в своей голове как раз для этой цели, как услышала, что к дому подъехала машина. Наверное, Тоби и Кэм вернулись из кино, где старались утопить свои неприятности. Надо признать, что сочувствовали они Тео вполне искренне, но, несмотря на выражение мужской солидарности на кухне, они оба любили Олли, поэтому не понимали, как им себя вести. Но с ними все будет в порядке, потому что они были способны злиться или беспокоиться только до той поры, пока не отвлекались на футбол или гонки, или не встречали хорошенькую девушку, или не увлекались фильмами про инопланетян. Я вовсе не ерничаю. Мои маленькие братцы гибки и водонепроницаемы.
Раздался звонок в дверь. Значит, не Тоби и не Кэм. Я открыла дверь и увидела на пороге женщину, очень худую женщину в симпатичном верблюжьем пальто, которое было ей великовато. Под лампой, висевшей на крыльце, цвет пальто совпадал с цветом ее волос.
— Да? — сказала я.
Незнакомка глубоко вздохнула, как будто собиралась нырнуть, губы ее сжались, в глазах появился блеск. Я понимала, что вижу перед собой женщину, которая старается взять себя в руки, но не успела она открыть рот, как я поняла, кто она такая. За этим напряженным лицом с заострившимися чертами и густо накрашенными губами я увидела другое лицо — изящное и прекрасное, светящееся любовью, лицо матери с фотографии, наблюдающей за девочкой, отпустившей бабочку.
Сзади ко мне подошла мама. Внезапно меня бросило в жар. Я бессознательно схватилась за руку матери обеими руками.
— Корнелия, детка. — Мама с удивлением заглянула мне через плечо. — Кто это, Корнелия? — спросила она.
— Вивиана, — хрипло ответила я. — Мама Клэр.
К моему удивлению, мать оцепенела. А когда она заговорила, ее голос — голос женщины, чьим главным правилом было «каждый, кто входит в дверь, гость», которая спрашивала рассыльного, не голоден ли он и какой кофе предпочитает, — стал ледяным.
— Надеюсь, вы не думаете, что сразу сможете собрать ее вещи и увезти домой? Вы должны знать, что все не так просто.
Я стояла, объятая ужасом. Бездумно подняла руку, как будто хотела коснуться Вивианы. Рука повисла в воздухе на несколько секунд, прежде чем я ее опустила, но не уверена, что женщина это заметила. Ее глаза, два огромных серых колодца печали, смотрели на мою мать.
— Да, все непросто, — сказала она. Я никогда еще не видела такого тоскливого, одинокого отчаяния.
Глава 28 Клэр
Там, где Клэр жила с мамой, каждый дом хранил свою тайну. Они были отделены друг от друга широкими дорожками, лужайками, рядами деревьев. «Как будто живешь в корзинке», — думала Клэр. Чтобы перебраться от одного дома к другому, можно было идти коротким путем, через вечнозеленые кустарники, потому что основная дорога, которая соединяла дома, была узкой, извилистой и без тротуаров. Иногда люди ходили по этой дороге или ездили на велосипедах, но мама запрещала Клэр это делать. Клэр, ощущая опасность, и сама особого удовольствия от такой прогулки не испытывала. Безусловно, она никогда бы не пошла по этой дороге после наступления темноты.
Но когда Клэр возвращалась из дома Сандовалов в дом Браунов, она совсем не боялась. На улице горели фонари, и все дома купались в неярком свете. К тому же на каждом крыльце и вдоль подъездных дорожек тоже светились лампы. Даже среди кустов прятались маленькие лампочки. Даже не понадобился фонарик, который ей дала с собой Ингрид.
— Мы всегда так делали, когда Корнелия или кто-нибудь из детей возвращались домой в темноте, — сказала Ингрид своим необыкновенным голосом. — Брауны делали то же самое для наших детей, так что фонарики кочевали из дома в дом многие годы. Господи, а ведь кажется, что это было вчера. — Так что, получив этот фонарик, Клэр почувствовала себя частью не только настоящего, но и прошлого. Когда она водила лучом фонарика по домам, лужайкам, стволам деревьев, под которыми она проходила, или сквозь их ветки, она чувствовала себя уютно и надежно, как будто район принадлежал ей и она была одной из его детей.
Сначала она увидела машину. Машину, а затем людей на крыльце — Элли, Корнелию и кого-то еще. Она увидела их раньше, чем они ее заметили. Прежде чем Клэр поняла, что это ее мать, она это почувствовала. Потому что вдруг оказалось, что она бежит по траве, и воздух, сквозь который она бежит, поет в ее ушах все громче и громче. Не добежав футов тридцати до крыльца, она остановилась и застыла, словно не могла больше дышать.
— Мамочка, — прошептала она.
Она прижала руки в перчатках к губам, как человек, пытающийся докричаться до кого-то вдали.
— Мамочка, — снова прошептала она.
Она уже собралась повторить это слово, это главное слово, но мать вдруг обернулась и увидела ее.
— Мама! — закричала Клэр. Ей хотелось броситься к матери, но она как будто приросла к месту.
Мать Клэр охнула и бросилась через лужайку к дочери. Когда руки матери обняли ее, Клэр охватило чувство, какого она еще не знала раньше, очень сложное чувство — восторг, освобождение от страха, который давил ее, как тяжелое пальто, и еще что-то, похожее на печаль. Но когда мать прижала голову Клэр к своему телу, когда она наклонилась и Клэр ощутила ее дыхание на своей щеке, к этому сложному новому чувству прибавилось еще одно: знакомый покой. Вселенная наконец вернулась на свое исконное место. Это чувство было таким знакомым, что Клэр впервые ощутила его как чувство — ведь всю жизнь оно было частью ее существования, как, например, биение сердца или сокращение зрачков от солнечного света.
— Клэри, — прошептала мать ей в волосы. — Клэри. Моя девочка, моя девочка, моя девочка.
Через некоторое время она немного отстранилась и долго смотрела в лицо Клэр.
— Твои волосы, — наконец сказала она. Затем улыбнулась. — Как же я рада тебя видеть, моя красавица.
— Я тоже рада тебя видеть, — тихо сказала Клэр, и ее мать начала плакать. Слезы ручьем потекли по лицу.
Клэр было больно смотреть, как плачет ее мама, поэтому она перевела взгляд на Корнелию, которая все еще стояла на крыльце. Элли выглядывала из-за ее спины, и Клэр увидела, как она обхватила Корнелию рукой, и та прислонилась к ней, как бы ища защиты.
— Мам, — тихо сказала Клэр, — пожалуйста, не плачь. Я хочу, чтобы ты познакомилась с моей подругой Корнелией.
Ее мать кивнула и вытерла лицо обеими ладонями.
Пока они шли к крыльцу, подъехала другая машина — длинная, низкая, красного цвета, с неглубоким грузовым кузовом. Она остановилась, и из нее выскочила женщина. Побежав к Корнелии, она взяла ее лицо в свои ладони. Клэр узнала длинное красное пальто женщины. Линни.
Линни повернулась и шутливо погрозила пальцем матери Клэр.
— Ну и быстро же вы ездите, леди, — сказала она.
Клэр сидела в гостиной Браунов, грея руки о кружку горячего какао, которую ей тут же вручила Элли, и радовалась, что Линни здесь, радовалась ее болтливому, жизнерадостному присутствию. Хотя мать сидела с ней рядом, обняв за плечи, в комнатном вечернем свете и тепле, идущем от камина, Клэр чувствовала себя более отчужденной от матери, чем на лужайке. И хотя она знала всех присутствующих, кроме мужчины, которого звали Хейс (он сидел в углу с несколько смущенным видом и совсем не походил на ковбоя), Клэр заробела. «Я их всех стесняюсь, — подумала она, — даже Корнелию». И ее удивило, что она подумала «даже Корнелию», а не «даже мою маму». Она невольно вздрогнула.
Линни что-то рассказывала. Клэр, как фонарик, направила свое внимание на Линни, поместив ее в центр света и оставив остальных в тени.
— Я зашла, чтобы полить твои цветы, Корнелия, что я постоянно забывала делать, так что вполне вероятно, что без нас они засохнут в горшках к твоему приезду, — сказала Линни.
— Да ничего, — ответила Корнелия, — мне все равно эти растения никогда не нравились. — По тому, как Корнелия смотрела на Линни, Клэр поняла, что она очень радуется ее приезду.
— И она там стояла, уставившись на дверь, как человек, который не достучался и не знал, что делать.
— Очень точное наблюдение, — тихо вставила мать Клэр.
«Ох, где же ты была, мамочка?» — подумала Клэр. Этот вопрос висел над всеми присутствующими в этой комнате. Другие вопросы тоже, но Клэр не хотела их задавать. Она не хотела услышать ответы, пока не хотела.
— Благодарю. И я вас узнала. Я узнала Вивиану. По ее бровям. Ты же знаешь, я специалист по бровям, Корнелия, — заявила Линни.
— Знаю, Линни. Ты коллекционируешь брови.
— Ой, — сказала Клэр, — как Тео — акценты.
— Брови Тео, — провозгласила Линни с видом человека, оглашающего невероятно важную новость, — произведение искусства. Поэмы. Сонеты!
Клэр взглянула на Хейса, который, вероятно, был другом Линни, чтобы проверить, как он прореагировал на это заявление. Он тайком улыбнулся Клэр и поднял глаза к потолку, как бы говоря: «Уж эта старушка Линни». Клэр улыбнулась в ответ. Хейс был тоже довольно симпатичным, с сияющими глазами, слегка горбоносый, что добавляло ему шарма, так что, возможно, он не обижался на Линни за ее слова о Тео.
«Моя мама сидит здесь, а я размышляю о форме носа Хейса», — подумала Клэр.
— У Вивианы тоже красивые брови, хорошей формы, и они спускаются к уголкам глаз. Совсем как у… — Линни повернулась к Клэр.
— У меня, — подсказала Клэр.
— Но как же наша записка? — удивилась Корнелия, обращаясь к Вивиане. — Мы с Клэр напечатали записку и прикрепили ее клейкой лентой к двери моей квартиры. Там был номер телефона моих родителей и адрес. Господи, вы не получили записку?
— Никакой записки не было, — сказала мать Клэр. Голос у нее был усталый. — Я нашла записку в своем доме, поэтому и позвонила в вашу квартиру. Когда никто не ответил, я туда поехала. Я ездила туда дважды. Линни увидела меня во второй раз.
— И я сразу же попыталась позвонить тебе на сотовый, но ничего не получилось, Корнелия, — сказала Линни.
— Бермудский треугольник, — простонала Корнелия. — Это по поводу мобильных телефонов — мои родители живут в Бермудском треугольнике.
— Твои родители живут на Счастливой улице. Поскольку улицу с таким названием забыть невозможно, я и не забыла. И в каком городе, я тоже знала. Но номера их телефона у меня не было. Его нет в справочнике.
Мать Корнелии вошла в комнату, неся на подносе кофейные чашки и тарелки с печеньем. Клэр видела, что она напряжена. Еще когда все стояли на крыльце, Клэр заметила, что Корнелия и Линни переглянулись — карие глаза встретились с голубыми, карие о чем-то спрашивали, голубые отвечали, затем Корнелия повернулась и пригласила всех в дом.
— Врачи, — сказала Элли все еще не совсем своим голосом, — не включают номера своих телефонов в справочники.
— Что могло случиться с запиской? — дрогнувшим голосом спросила Корнелия. — Вивиана, я бы просто так не уехала. Я не… — Корнелия тайком взглянула на мать, которая разливала по чашкам кофе из серебряного кофейника. — Я не хотела никого предупреждать. Мы пытались держать все происходящее… в тайне.
— Я очень вам за это благодарна, — сказала мать Клэр.
— Готова поспорить, что записку забрала девушка, которая у вас убирает. Ты же знаешь, как она тебя ненавидит, — сказала Линни.
— Знаю, — рассеянно подтвердила Корнелия. Она смотрела на мать Клэр.
— Ты такая маленькая. И суетливая. Может быть, она приняла тебя за мышку.
— Я ничуть не суетливая, — возразила Корнелия, поворачиваясь к Линни. — И ты это прекрасно знаешь. — Ее голос снова дрогнул. — Но возможно. Возможно, это была уборщица.
— Уборщица или рука судьбы, — внес свою лепту Хейс.
— Как только я договорилась с Хейсом, что он подвезет меня на своей машине, я приехала сюда. Мы ехали быстро.
— Жали на восемьдесят пять, — гордо сказал Хейс. — Бог милостив, нас даже полиция ни разу не остановила.
— Но Вивиана ехала быстрее. Я-то помнила круговую подъездную дорожку и почтовый ящик в форме маленького домика, но как…
— Их фамилия — на почтовом ящике, — сказала мать Клэр. Она притянула Клэр к себе поближе. Клэр видела, как пульсирует кровь под тонкой кожей на ее виске. Клэр заметила, что Элли тоже смотрит на ее мать.
— Вивиана выглядит усталой, — сказала Элли Корнелии. — Я могу позвонить в гостиницу поблизости или, может быть, в мотель?
Корнелия густо покраснела.
— Мам… — начала она.
— Вообще-то мне бы хотелось поговорить с вами наедине, Корнелия, — сказала мать Клэр. — Клэр может остаться здесь, пока мы прогуляемся? — Она повернулась к Элли: — Спасибо за предложение, но я видела гостиницу по дороге.
Линни встала.
— Мы остановились в гостинице и сейчас туда поедем. Я умираю с голоду. — Хейс тоже встал.
— Ты пойдешь со мной на кухню, и я тебе что-нибудь разогрею, — сказала Элли Линни. — И вам, Хейс.
— Дважды нас просить не придется, — прочирикала Линни. Она пристально посмотрела на Корнелию. Корнелия прижала два пальца к губам и послала Линни воздушный поцелуй.
Когда Клэр, ее мать и Корнелия остались одни, Корнелия сказала:
— Слишком холодно, чтобы разговаривать на улице, но у меня есть место, куда мы могли бы пойти. Только я думаю… — она коснулась волос Клэр, — я думаю, что Клэр стоит пойти с нами.
— Не уверена, что это хорошая мысль, — сказала мать Клэр. Причем довольно резко.
Клэр переводила взгляд с одной женщины на другую. Она видела, как Корнелия на мгновение свела брови, и вздохнула.
— Дело в том, что это жизнь Клэр. Мы с ней решили, что будет лучше, если она будет знать, что происходит.
— Вы решили, — сказала мать Клэр с раздражением.
— Мам, — сказала Клэр, и в голосе ее прозвучала умоляющая нотка. — Мне нужно знать. Чтобы не было ничего неожиданного.
Мать Клэр задумалась. Затем ее взгляд стал мягче.
— Хорошо. Ты узнаешь.
Клэр и Корнелия сидели в гостиной миссис Голдберг, где на полках стояли морские раковины, освещенные приглушенным светом, и слушали рассказ матери Клэр о том, где она пропадала. Она говорила спокойно, размеренно, как будто ей нравилось выговаривать слова.
— Я просто ехала в аэропорт, чтобы улететь в Барселону, но вдруг обнаружила, что еду в неверном направлении. Я не стала разворачиваться. Со мной была сумка, полная наличных, и когда у меня заканчивался бензин, я останавливалась, заправляла машину и ехала дальше. Я думаю… — Она взглянула на Клэр, потом продолжила: — Я думаю, я хотела просто забыться.
Клэр видела, что Корнелия сидит тихо, следит за выражением своего лица и слушает. Ей нравилась, как она внимательно слушает. Своим внимательным взглядом она не бросала вызов, в этом было что-то другое. «Уважение», — подумала Клэр, но это было не совсем верно. Взгляд был скорее дружеским, чем уважительным. Клэр попыталась слушать так же.
История была не столь ужасной. Она могла закончиться значительно печальнее.
Ее мать долго ехала, остановившись только один раз в дешевом мотеле, чтобы поспать пару часов, и в результате оказалась в северном Мичигане в роскошной гостинице.
— Это только я могу, — сказала Вивиана с иронией, — свалиться с приступом в номере за сто долларов в сутки.
Она осталась там на несколько дней, но на сколько именно, она не помнила, и это был тот момент в ее истории, когда, как Клэр поняла, голые факты почти ничего не значили. Когда ее мать описывала свое пребывание в гостинице, ее глаза стали огромными, испуганными и загнанными.
— Двухполюсное состояние, — сказала мать Клэр. — Термин не передает и половины. Я не металась из одной крайности в другую. Я переживала разные крайности одновременно.
Она протянула руку и приподняла подбородок Клэр:
— Ты уверена, что хочешь все слышать?
Клэр взглянула на Корнелию, которая ответила ей взглядом, полным любви, но не давшим ответа. Корнелия позволяет ей решить этот вопрос самостоятельно. Она вспомнила голос Корнелии, когда та говорила, что она храбрая девочка. «Будь смелой», — сказала себе Клэр. И кивнула.
— Я была как в бреду, — продолжала ее мать. — Там был мужчина… — она запнулась и взглянула на Клэр, — незнакомец, которого я принимала за кого-то другого, за человека, которого я знала много лет назад. — Она впилась в ручку кресла. — Слава Богу, что он оказался порядочным человеком. Он… не причинил мне зла, хотя я, наверное, перепугала его до полусмерти. Я даже думала о самоубийстве… — Клэр внезапно почувствовала, что замерзла. — Даже не один раз. Но один раз я дошла до того, что привязала пояс к люстре. — Ее голос надломился. — Ох, Клэри, все, что я сделала, это сидела и смотрела на него. Наверное, я еще не была готова к этому. — Клэр стало казаться, что она просто окоченевает. Ей удалось кивнуть. Мать продолжала: — Горничная просто сняла пояс, не глядя на меня, свернула его, как змею, и сунула в шкаф. — На лице матери появилось изумление, как будто поступок горничной ее шокировал. — Все кончилось тем, что я ночью принялась стучать в разные двери и задавать безумные вопросы. Жильцы вызвали охрану. Но одна женщина, ее звали Мей, взглянула на меня и затащила в свой номер. Вы можете себе представить? Она меня пожалела. — Ее глаза затуманились. — Женщина воспользовалась своим компьютером, чтобы найти ближайшее психиатрическое заведение. Не дурдом, слава Богу. Приличное заведение. — Мать Клэр закрыла глаза, вспоминая.
Какие-то врачи дали ей лекарство, другие уговорили ее все рассказать, и через какое-то время она пришла в себя.
— И как только у меня появилась возможность, я позвонила. Сначала домой. Затем Мартину. Проклятые праздники, людей не было на месте. Рождественские поздравления на их автоответчиках казались мне издевательством. Как пощечины. Сознание у меня все еще было заторможено лекарствами, они не сумели сразу найти правильную дозу. Наконец я позвонила Мартину на работу, и мне сказали, что он умер и что ты, Клэр, у Корнелии. — Она покачала головой, как будто хотела что-то стряхнуть. — Так или иначе, но я тебя нашла.
Вивиана заплакала, сначала молча, потом плач перешел в громкие рыдания.
— Ты прости меня, Клэр. — Она повторила эти слова несколько раз.
Клэр прижалась к спинке дивана, и перед ее глазами мелькнула картинка: они в машине, мать плачет и просит прощения за все.
— Перестань плакать. Пожалуйста, перестань. — Клэр от потрясения перешла на хриплый шепот.
Она увидела, как Корнелия выпрямилась и положила обе руки на подлокотники кресла, как бы собираясь встать.
— Мне не нравится, когда ты плачешь, мама. Пожалуйста, перестань. — Голос стал более высоким.
Мать перестала плакать. Клэр видела, как она вытирает лицо, подавляя рыдания. Затем она повернулась к Корнелии:
— Я хочу поблагодарить вас за все. Я знаю, что Мартин… — Она замолчала. — Я знаю, что вы были нужны Клэр. Спасибо вам.
В глазах Корнелии стояли слезы, она покачала головой, но ничего не ответила.
— Мне сейчас лучше, Клэр, — сказала ее мать, — и я хочу забрать тебя домой.
Разумеется. Разумеется, именно это и должно было случиться. Ее мать приедет и заберет ее домой. Сразу нахлынула тошнота и вместе с ней волна старого, всепоглощающего страха.
— Корнелия, — слабым голосом позвала она, и Корнелия тут же оказалась рядом, опустилась на колени и крепко обняла ее. Клэр казалось, что ее руки — единственная защита от волны страха, готовой унести ее.
— Я не могу, — с трудом выговорила Клэр. — Я пока не могу уехать. Я боюсь ехать. Я не могу.
Корнелия стала раскачивать ее, приговаривая:
— Тихо, тихо, все будет хорошо, солнышко. Все будет в порядке.
Клэр слышала, как мать встала и подняла голову. На лице матери было отчаяние, но Клэр не могла заставить себя подойти к ней.
— Я сниму номер в гостинице. Вернусь сюда утром. Тогда и поговорим. — Ее голос был печальным. Клэр охватил ужас.
— Нет, — почти закричала она, — ты не можешь опять уехать.
Корнелия сказала решительно:
— Нет. Я пойду и поговорю с мамой. Вы останетесь с нами.
Когда она ушла, мать посадила Клэр к себе на колени. Клэр свернулась клубочком, и они сидели так очень долго. Клэр не хотелось говорить. Ей только хотелось, чтобы ее обнимали эти руки, которые были первыми руками, когда-то обнявшими се и прижавшими к теплому телу. Если они не будут разговаривать, а только касаться друг друга, мать будет казаться той женщиной, с которой Клэр чувствовала себя в безопасности, той, которую она знала и любила.
Глава 29 Корнелия
Моя бабка, мать моей матери, умерла, когда маме было двадцать лет. От нее моя мать унаследовала странный, тяжелый гнев, который я расслышала в ее голосе, когда мы стояли на крыльце. Он был и в ее сердце.
Когда я была ребенком, лет одиннадцати или около того, я стала ненавидеть свое имя. Я спрашивала маму, о чем она думала. Почему она назвала меня в честь старой тетки, чьи амбиции сводились к изобретению рецепта яблочного торта, тайным ингредиентом которого был куриный жир? Почему, к примеру, не назвали меня в честь бабки по материнской линии? Сюзан? С этим именем я бы смирилась.
Именно тогда я и увидела проблеск этого тяжелого гнева. И услышала, потому что моя мама огрызнулась:
— Мне бы и в голову это никогда не пришло. — Затем она улыбнулась и сказала спокойно: — Кстати, хорошо кормить семью — не такое уж маленькое достижение. — Мне пришлось оставить эту тему и поверить, что ранняя смерть матерей может быть причиной чего угодно и тайной, в которую таким, как я, лучше не соваться.
Ранняя смерть была только частью айсберга, но далеко не всем. Основное случилось до смерти. И об этом я узнала только сейчас.
— Она была пьяницей, — сказала моя мать, когда я, оставив Клэр и ее мать в доме миссис Голдберг, прибежала домой. Я застала ее за разжиганием огня в камине, причем делала она это с такой яростью, будто кого-то убивала.
Тут вошел мой отец, услышал последние слова и сердито сказал:
— Корнелия, перестань.
— Я ничего не делаю, — сказала я. Но я хотела знать наконец, что за всем этим скрывается.
Мать выпрямилась, мой отец подошел и взял кочергу из ее рук.
— Все в порядке, — сказала она.
Моя бабка была пьяницей, причем буйной, но даже когда она не была пьяной, буйство одолевало ее, как демон. Однажды она выдернула из холодильника все полки, и все, что там было, посыпалось на пол. Когда мама об этом рассказывала, она даже не моргнула. Это и многое другое. Еще хуже.
— Я поклялась, что ничего подобного никогда не коснется моей семьи, — говоря это, она даже подалась вперед — так велика была ее ярость. Мне это напомнило сцену из фильма «Унесенные ветром», когда Скарлетт машет кулачком в воздухе, имение в руинах, а утреннее солнце окрашивает мир в багровый цвет.
Когда она это сказала, я все поняла. Увидела правду сразу, как изображение на экране: эта клятва мамы прошла сквозь дом, через его фундамент, держащие стены и деревянные балки, скрепив их, поддерживая покой и устойчивость каждого дня.
Мама вышла из комнаты, а отец сел рядом со мной и стал смотреть на огонь.
— Именно от этого она защищала нас все время, — изумленно произнесла я.
Мой обычно тихий отец бросил на меня укоризненный взгляд, обвел комнату рукой и сказал почти сердито:
— Ты думаешь, все это досталось даром? Счастья не повстречаешь, если будешь насвистывать и делать вид, что ничего дурного не существует. Нет, не говори ничего, Корнелия. Я знаю, что ты думаешь о том, что, по твоему мнению, происходит в этом доме. Но ты ошибаешься. Счастье зарабатывают, как и все остальное. Его надо добиться. Может быть, ошибка в том, что твоя мать делала вид, что все давалось легко. Она так хотела. — Эта была самая длинная речь моего отца. Высказавшись, он притянул меня к себе и поцеловал. — Пригласи мать Клэр, пусть остановится у нас. Тоби и Кэм разместятся в одной комнате.
— А мама не рассердится?
— Точно не могу сказать. Но она уже пропылесосила ковер, освободила пару ящиков и сменила простыни.
Ложась в кровать, я тщетно пыталась справиться со своими мыслями, заснуть не удавалось. Вивиана, Тео, Клэр, мама и бабушка расталкивали друг друга, старались докричаться, и я слышала эхо их голосов. Так что когда пришла Клэр и молча легла рядом, я все еще не спала и так же молча потерла ей спинку, и она заснула.
— Я сказала: «Хейси, сходи купи вина!»
Мы с Линни сидели в кафе в центре города за ленчем. Я заметила искорку паники в глазах Клэр, когда сказала, что на время уеду, но им с Вивианой необходимо было побыть вместе. И в тот момент я нуждалась в Линни так, как некоторые нуждаются в кокаине. Вы же видели в фильмах, как случайный порыв ветра сметает белые пакетики на пол? Все это безумное ползание на четвереньках?
— И он послушался? — спросила я.
— Нет, негодный упрямец. Поскакал к дому этого типа, как там его. Ну, ты знаешь, президента. Имя вылетело из головы.
— Томаса Джефферсона.
— Точно. Выяснилось, что Хейс обожает Томаса Джефферсона, считает его гением. Он процитировал длинную речь, которую какой-то парень выдал насчет него на обеде в честь нобелевских лауреатов в Белом доме. Что-то вроде: «Сейчас в этой комнате собралось столько умов, сколько здесь не собиралось никогда, кроме того случая, когда Джефферсон обедал здесь один». Обедал один. Я хорошо это запомнила.
— Думаю, парня, который это сказал, звали Джон Кеннеди. Слыхала о таком?
Я сидела, с удовольствием наблюдая, как Линни поглощает бутерброд с зубаткой. Наконец она не выдержала.
— Корнелия?
— Я наслаждаюсь твоим обществом, — призналась я.
— Я так и думала, — заметила Линни, облизывая палец. — Я сказала: «Хейси, марш за вином! Корнелия хочет насладиться моим обществом». — Линни стала серьезной. — Слушай сюда, лапочка. Знаешь, ты ее не потеряешь. Вы останетесь друзьями, будете встречаться. Она не так уж далеко живет.
Моя подруга Линни — она ни за что на свете не причинит мне боль. Но каждое ее слово жалило меня. Когда дело касалось Клэр, я становилась человеком, лишенным кожного покрова. Даже воздух обжигал.
Наверное, Линни это заметила, потому что сказала следующее:
— А не могли бы мы какое-то время не говорить о Клэр?
Я благодарно кивнула.
— Вместо этого ты хочешь поговорить о Хейсе?
— Мы уже говорили о Хейсе, — кокетливо напомнила Линни. — Припоминаешь? Марш за вином? Томас Джефферсон? Обедал один?
— Линни…
Линни поджала губы и уставилась в пространство.
— Ну что, Линни? Нравится. Пока только нравится. И основательно. И я могу себе представить, как это разовьется в правильном направлении. — Она сделала рукой движение, имитирующее взлетающий самолет. Потом легким щелчком коснулась кончика моего носа. — Но что я вижу на этом личике? Признавайся.
Я откинулась на стуле, открыв рот от изумления. Как это у нее получается?
— Как это у тебя получается? — спросила я.
— Всезнание. — Она пожала плечами. Воплощенная скромность. Затем сказала неожиданно серьезно: — Не Мартин. Ты не оглянулась назад и не поняла…
— Нет.
— И на том спасибо, — горячо сказала Линни. Несмотря на свою постоянную ироничность, Линни может быть страстной, если требуется по ситуации.
Она внимательно посмотрела на меня. Я постаралась изобразить на лице загадочность, чувствуя себя как подозреваемый перед испытанием на детекторе лжи.
— Замечательно, — наконец сказала она. — Что же, тут осложнений не предвидится. — И спокойно отпила воды со льдом. — Добро пожаловать на землю живущих! — Она подняла голову и завела: «Могу плакать солеными слезами. Где я скрывалась все эти годы?» Эта песня, если ее петь правильно, длинная. Разумеется, Линни ее исполнила.
Хорошо одетый мужчина за соседним столиком наклонился и вежливо спросил:
— Как долго вы собираетесь продолжать?
Я беспомощно взглянула на него:
— Если бы ее можно было остановить, я бы это сделала.
— Вот как, — сказал он. — Тогда будем надеяться на Господа.
Я расхохоталась, как будто у меня крышу снесло.
Когда мой приступ прошел, я пнула Линни под столом.
— Официант идет. Ненависть с него просто капает. Ты хочешь, чтобы нас выставили до орехового торта?
— Уф, — отшатнулась Линни. — Официант, с которого капает. Корнелия, ты должна ценить мое пение, как я ценю ту музыку, которую ты заставляешь меня слушать.
— Я ценю, мне вот только не нравится твой выбор боеприпасов. Быть застреленной из своего собственного пистолета. И вообще все было не так.
— Подумаешь! — скептически отозвалась Линни. — А как было?
— Сначала никакого света не было. И вдруг в машине, когда мы ехали сюда, появился этот свет.
— Как в Книге бытия, — сухо заметила Линни, поигрывая вилкой.
— Да! — И я пустилась в подробное описание своих переживаний.
— Так, я уже балдею. Давай договоримся. Ты была влюблена в Тео с детства или, возможно, еще до этого, просто ты только сейчас об этом догадалась.
— Нет, — сказала я слабым голосом. — Все не так.
— Ладно, проехали. И что ты собираешься по этому поводу делать?
Я рассказала ей об Олли и Эдмунде и эффекте Уестермарка и, попросив прощения за неуклюжую метафору, заявила, что вряд ли Тео нырнет снова в колодец Браунов. И вообще, зачем рисковать нашей с ним дружбой и его отношением ко мне как к сестре. Тем более что я вовсе не его тип.
— Он тоже не твой тип. Но ты слепа и безумна, потому что существует мир, где типы не имеют никакого значения, и ты сейчас проживаешь именно в таком мире.
— Ты думаешь, я должна ему сказать? Я знаю, ты думаешь именно так. Но это совсем не просто.
— Скажи ему следующее. — К моему ужасу, Линни начала напевать «Ночь и день», и мне пришлось швырнуть деньги на стол и поспешно увести ее из кафе. А думать о том, что она сказала, я буду позже.
Одно дело, когда твоя лучшая подруга разгадывает с раздражающей легкостью твою самую глубокую сердечную тайну, и совсем другое, когда почти незнакомка, а если честно, полусоперница, делает то же самое.
Откровенный разговор между мной и Вивианой был неизбежен. Эдакая душещипательная сцена, когда туфли сброшены, в руках бокалы, и все это на фоне песни «Уважение» в исполнении Ареты Франклин. Но, несмотря на неизбежность и обязательность, а может быть, благодаря им, именно такой сцены мне хотелось избежать.
Послушайте, я была рада, что эта женщина жива. Разумеется, я была рада. Я была счастлива, что она вернулась к своей дочери. Но я не первая, кто держится за мечту уже после того, как она превратилась в прах в моих руках. А мечта воспитывать Клэр была главной мечтой моей жизни. Я должна от нее отказаться, отряхнуть прах с ладоней и продолжать свою жизнь. И если мое сердце наполнится глубокой тоской, то кто из вас станет меня осуждать?
Я любила Клэр. Любила? Я люблю Клэр. Не забывайте.
— Я люблю Клэр, — заявила я Вивиане.
Было уже поздно. Я сидела в кресле, подобрав ноги, со старой детской книгой и стаканом вина, когда в комнату вошла Вивиана. Выглядела она получше, чем два дня назад, уже не такой хрупкой, в глазах появилась жизнь. Снова песнь Ариэля, только наоборот. Эта женщина утонула и вернулась в жизнь.
— Хотите вина? — предложила я. Она отрицательно покачала головой.
— Нельзя, — сказала она. — Лекарства. Мой лечебный курс. — В голосе слышался легкий налет горечи.
— Очень… сурово? — нерешительно спросила я.
— Но помогает вернуться, — сказала она решительно, и я поняла, что эта ее горечь обращена не ко мне, а к самой себе. — Вернуться к Клэр.
Мы поговорили о Клэр, и она снова поблагодарила меня, как сделала в гостиной миссис Голдберг. И так же, как тогда, мне не хотелось, чтобы она меня благодарила.
— Пожалуйста, — попросила я, — не благодарите меня. Я не выношу, когда меня благодарят. Как будто я просто добрая незнакомка. Я люблю Клэр.
— Да, я вижу. Я вижу, что вы не просто добрая незнакомка, — мягко сказала она. Затем добавила: — Могу я задать вам вопрос, на который вам совершенно не обязательно отвечать?
Я улыбнулась.
— На таких условиях — ради Бога.
— Вы были влюблены в Мартина?
Вопрос застал меня врасплох, но я ответила:
— Нет. Почти. — Я покачала головой. — Даже не почти. Но я в самом деле действительно какое-то время хотела его полюбить.
— Я рада. Я рада, что вы не потеряли человека, которого любили. — Я услышала облегчение в ее голосе. Затем она сказала: — Поверить не могу, что он умер.
Когда она это сказала, я поняла, что смерть Мартина тоже заставила ее вернуться. Ей надо было теперь жить с сознанием, что его больше нет.
— Вам больно? — спросила я.
— Думаю, что да, немного. Знаете, а ведь он выглядел человеком, который не может умереть.
Я поняла, что она имела в виду.
— Он был таким самодостаточным, таким красивым, таким очаровательным, всегда говорил правильные вещи. Казался неприкасаемым, как знаменитость или книжный герой. Может быть, он стал мне таким казаться из-за расстояния, которое разделяло нас все эти годы. — Она печально улыбнулась. — Нет, он был таким же, и когда мы поженились. В этом-то и была проблема.
— И у нас была та же проблема. Я никак не могла узнать его душу, понять его глубину. — «Как странно, — подумала я, — разговаривать о Мартине с его бывшей женой. Странно, но почему-то естественно». — И он недостаточно любил Клэр. Я не могла с этим смириться.
— Так же, как и я. Я долго его за это ненавидела. — «Ничего удивительного», — подумала я.
— Знаете, это забавно, — сказала я. — Я так старалась полюбить Мартина. А Клэр я полюбила без всяких усилий. — Я чуть было не добавила «и Тео», но вовремя сдержалась.
— Клэр и кого еще? — к моему изумлению, спросила она. В голосе звучал вызов. Я уставилась на нее. Не важно, на лекарствах она или нет, но эта женщина была умна, и я внезапно догадалась, что она хочет, чтобы я это осознала.
— Извините меня, — сказала она, явно не чувствуя себя виноватой. — Я не должна была спрашивать. Но вы влюблены в кого-то кроме Клэр. — Она утверждала — не спрашивала.
— Это не имеет значения, — наконец нашлась я.
Она улыбнулась.
— Любовь всегда имеет значение.
И не мне было с этим спорить.
Глава 30 Клэр
Тео увидел Клэр и ее мать в саду. Клэр показывала матери кусты, которые она обрезала — жалкие кучки прутиков.
— Даже смешно называть их кустами, — заметила Клэр. — В них нет ничего кустистого.
Ее мать рассмеялась, и Клэр ощутила внутри гордость, как раньше, когда ей удавалось рассмешить мать, но сейчас это было совсем не то, что раньше. Это все равно что войти в дом, где ты всегда жила, и обнаружить там странную мебель и бояться сесть.
Клэр вспомнила, как мать описывала свою болезнь, но не то, как она раскачивалась между двумя полюсами, а какие разные были у нее ощущения, но все вместе они были бессмысленными. Примерно так Клэр чувствовала себя в присутствии матери с той поры, как она вернулась. Клэр постоянно испытывала неловкость и желание уйти. Ей не нравилось, что возникает желание уйти от своей матери, но отрицать этого она не могла. Были моменты, когда ей хотелось открыть дверь и бежать не останавливаясь.
Так что когда появился Тео в том пальто, которое они вместе купили, Клэр охватила радость. Когда Тео обнял девочку, на глаза Клэр навернулись слезы, и она прижалась к нему и простояла так на несколько секунд дольше, чем обычно себе позволяла, чтобы слезы исчезли в мягкой ткани его пальто.
— Тео, — сообщила она, отпуская его, — это моя мама, Вивиана. Мам, это Тео.
— Я столько о вас слышала, — тепло сказала мать Клэр и пожала ему руку.
— Приятного возвращения, — улыбнулся Тео.
Клэр наблюдала за ними. Они стояли под зимним солнцем, под тем же синим небом: ее мама и Тео с улыбкой на губах и зелеными глазами на смуглом лице. «Именно так она когда-то выглядела, — подумала Клэр. — Как будто солнечный свет не только падает на нее, но и исходит от нее. И Тео мог бы жениться на моей маме. Тогда он стал бы моим отцом». Но прежде чем ее занесло дальше, внезапно другая мысль унесла туман с того, что все время было перед ней. Корнелия любит Тео.
Клэр не могла сказать, откуда она это знает, но как только она пришла к этому выводу, она с уверенностью могла сказать, что это истинная правда. И если Корнелия любила Тео, а она его любила, тогда они должны быть вместе. Они обязаны быть вместе. Интересно, чего они ждут?
— Я подумал, что Клэр захочется погулять, но мы можем отправиться на прогулку позже, — сказал Тео.
— Полагаю, вам стоит пойти сейчас, — возразила мать Клэр. — Это хорошая мысль. Если, разумеется, Клэр хочет.
Клэр несколько раз подпрыгнула от удовольствия.
— Да. Хочу!
Ее мать рассмеялась.
Когда они остались одни и пошли по подъездной дорожке Браунов, Тео сказал:
— Ты очень понравилась моей матушке. Ей понравился твой восторг от ее блинов.
— Я знаю, — призналась Клэр. — Она сказала, что я напоминаю ей Корнелию. Я подумала, что это здорово, что она так сказала. Корнелия знает, что ты здесь?
— Нет, — ответил Тео. — Элли объяснила, что она сейчас в доме миссис Голдберг, теперь ее доме, как я понимаю. Я немного поболтал с Элли и Би. Мне пришлось кое-что прояснить. — Он выглядел смущенным.
— Я знаю, насчет Олли, — сказала Клэр осторожно, отлично понимая, что она ступает на взрослую территорию, усеянную ошибками, браками без любви, разводами, напоминающими ураган. Пока она шла, ей казалось, что даже земля под ее ногами другая. Другая, но прочная. Она решила пойти дальше. — Ты скоро будешь чувствовать себя лучше, — заметила она. — Вообще ты выглядишь хорошо.
— Какая же неразбериха, — сказал Тео, носком туфли отбрасывая камень с дорожки. — Я еще сто лет буду чувствовать себя идиотом. Но ты права, я начинаю успокаиваться. — Он улыбнулся ей и добавил: — Спасибо.
И Клэр почувствовала, как заколотилось сердце в груди. С первой минуты, как она увидела Тео, он стал нужен ей, и это была обычная потребность ребенка, которому нужен взрослый человек для утешения. Но если теперь она сама его утешала, это ведь означает что-то другое, не так ли? Клэр знала, что это. Она счастливыми глазами посмотрела на вьющуюся перед ними дорожку, длинную, ярко-белую, с деревьями по бокам. Если она в состоянии его утешить, значит, они друзья.
Клэр показала на клен в соседнем дворе — дворе Янгов.
— Здесь Корнелию в первый раз поцеловали.
Тео с удивлением взглянул на нее, потом ухмыльнулся.
— Она тебе об этом рассказала? — Что-то в его голосе заставило Клэр внимательно посмотреть на него. «Ага, — подумала она, — Корнелия рассказала про первый поцелуй, но не про того, с кем целовалась».
— Угу, — кивнула Клэр. — Она сказала, что это был самый лучший поцелуй в ее жизни. — Она соврала и сразу задумалась, не будет ли она мучиться по этому поводу позднее.
— В самом деле? — снова удивился Тео. Затем добавил: — В это с трудом верится.
— Нет, она действительно так сказала, — быстро подтвердила Клэр.
— Я не об этом. — Тео, прищурившись, взглянул на нее: — Я хотел сказать, что трудно поверить, что какой-то поцелуй мальчишки в четырнадцать лет был самым лучшим в жизни.
— Иногда то, во что трудно поверить, оказывается правдой, — заметила Клэр. — Очень часто. — Затем она добавила: — Корнелия опять на чердаке миссис Голдберг. Она все время сидит за компьютером, ищет данные по серебру, хрусталю и всему остальному. Ты знал, что у миссис Голдберг был серебряный щелкунчик с белкой, который, возможно, принадлежал Роберту Ли?
Тео рассмеялся:
— Нет, не думаю, что я об этом знал.
— Она там все разыскивает. Например, ну… ты знаешь, эту штуку… Уестермарка?
— Да, — ответил Тео, не глядя на нее.
— Она обнаружила, что Олли ошибалась. Если ты встречаешься с человеком после того, как тебе исполнилось три года, ты можешь расти вместе, но эффекта не происходит. Он происходит, если встречаешься до трех лет.
Тео остановился.
— Ты шутишь. — Он сдвинул брови и остановился. Потом снова зашагал. — В такой информации Олли никогда не ошибается. Думаю, она мне это сказала, чтобы я не слишком переживал.
Клэр его последние слова явно не понравились. Она не хотела, чтобы он любил Олли больше, потому что она соврала для его блага.
— Не знаю, зачем Корнелии понадобилось все это выяснять. Я хочу сказать, что она очень заволновалась. Очень. Правда, странно? — Это было очень близко к правде, хотя на самом деле Корнелия ни словом не обмолвилась Клэр о том, что она искала в компьютере данные по эффекту Уестермарка. Просто Клэр нашла распечатку, где абзац насчет трех лет был отмечен звездочкой. Наверняка звездочка означала, что Корнелия волновалась.
Тео ничего не ответил, и когда Клэр на него взглянула, она заметила, что его щеки порозовели. Клэр глубоко вздохнула и коснулась ладонями своего лица. Тео посмотрел Клэр прямо в глаза:
— Знаешь что? Я вообще никогда не верил в этот эффект Уестермарка. Я знал, что это чушь.
Несколько минут они шли молча.
— Тео, — спросила Клэр, — тебе нравилось здесь расти? Потому что мне кажется, что мне очень бы понравилось здесь расти.
Тео спиной прислонился к пятнистому бежево-коричневому стволу дерева и посмотрел на его ветви.
— Вообще-то это было здорово. — Голос у него стал задумчивым. — Мы все заботились друг о друге, что не часто встретишь в других семьях. Нам повезло.
— Мне нравится представлять, как вы с Корнелией были детьми. Иногда я иду по улице и представляю себе, как это было. — Она огляделась. — В таком месте разве что-нибудь случилось бы со мной и моей мамой? Не случилось бы.
— Люди болеют везде, Клэр, — мягко сказал Тео.
— Но был бы кто-то, кому я могла бы все рассказать, если бы мы здесь жили. Кто-нибудь помог бы, прежде чем она уехала.
— Может быть, — согласился Тео.
Клэр подошла к нему ближе.
— Тео, мама показала мне таблетки, которые она должна принимать. Тогда она будет себя нормально чувствовать. Поэтому она мне их и показала. Она хотела, чтобы я знала, что выздоровление возможно. Еще мама сказала, что как только мы вернемся домой, найдет хорошего доктора, который сможет ей помочь. Она показала мне таблетки, чтобы я перестала бояться. — Клэр сложила руки. — Но они такие маленькие, эти таблетки. Я испугалась, что они такие маленькие. Ты меня понимаешь?
Тео сказал:
— Да, Клэр, думаю, что понимаю.
Глаза Клэр увлажнились.
— Я не хочу оставаться с ней одна. Не хочу возвращаться домой, в одиночество, как раньше. Но если я ей это скажу, она огорчится. Я знаю.
Тео обнял Клэр за плечи.
— Иногда нужно говорить все.
— Ты так думаешь? — спросила Клэр, прижимаясь щекой к его пальто.
— Есть ситуации, когда нельзя беспокоиться о том, как прореагируют другие. Ты должен быть предельно честным, а там пусть случится то, что должно случиться.
На ужин в тот день было жаркое с рассыпчатым хлебом домашней выпечки, блестящим от яичного желтка, которым его смазали, перед тем как поставить в духовку. Клэр сама мазала хлеб желтком, она помогала в приготовлении каждого блюда. Когда Элли похвалила ее, Клэр просияла.
В результате Тео провел остаток дня в доме Браунов. Сначала он говорил с матерью Клэр на веранде, одновременно наблюдая, как Тоби и Кэм учат Клэр играть в футбол, а затем, когда Корнелия вернулась домой, сидел на кухне и разговаривал с ней, пока Клэр и Элли готовили.
Даже когда она резала лук, чистила картошку и болтала с Элли, Клэр внимательно наблюдала за Тео и Корнелией. К своему собственному удивлению, она поймала себя на том, что думает об Олли, которая сейчас где-то на острове изучает птиц — как они прыгают, машут крыльями и какой у них клюв. «Я наблюдаю за любовью», — подумала Клэр, и сердце ее забилось.
Клэр пожалела, что под рукой не было блокнота. «Запоминай все, — сказала она себе, — как ученый. Дыхание, поворот головы. Тембр голоса Корнелии, движение ее рук, паузы в ее речи. Во всем этом содержится любовь, как золото в тазике с песком. Процеживай. Сортируй. Обращай внимание на каждую мелочь».
Тео и Корнелия казались вполне обычными. Но Клэр заметила, что когда Корнелия увидела сидящего на крыльце Тео, то сразу же не только ее губы, но и все тело заулыбалось. Она всегда так радовалась появлению Тео? Клэр попыталась вспомнить. Клэр поняла, что и мать ее все заметила. Так что когда Корнелия поцеловала Тео в щеку и взъерошила ему волосы, как маленькому мальчику, Клэр увидела, как мама на секунду встретилась взглядом с Корнелией, и на лице ее появилось выражение, которое Клэр узнала. «Я знаю, что ты задумала», — вот что было написано на ее лице.
За кухонным столом Корнелия и Тео сидели на расстоянии друг от друга. Клэр уставилась в пространство. Она думала, обычный ли воздух между ними, или он кажется Корнелии другим, может быть, теплее, или сама Корнелия наполняет его чем-то, чего никто не может видеть.
И тут, когда она очистила картофелину и держала ее, гладкую, как яйцо, в руке, она заметила беглый, незащищенный взгляд Корнелии на Тео, который повернулся, чтобы что-то сказать Элли. Корнелия смотрела на профиль Тео или, может быть, на его шею. «Вот, — подумала Клэр, — это любовь». И почувствовала, как ее собственные щеки заливает краска.
Клэр дождалась десерта, чтобы сказать то, что она собиралась. Когда все приступили к лимонному пирогу, она сказала:
— Сегодня я многое решила для себя. Вообще-то я уже давно об этом думала, но сегодня я решила все сказать вам, — она перевела дыхание, — все, о чем я думала.
Клэр встретилась взглядом с Тео, и он ничего не сказал, только слегка ей подмигнул, что по непонятной причине заставило ее встать. Она стояла перед всеми рядом со своим стулом и чувствовала себя так, как перед докладом в классе, — она была взволнованна, она нервничала.
— Я так рада, что моя мама вернулась. — Клэр повернулась к матери, которая улыбнулась ей, хотя в глазах таилось беспокойство. — Мама, я так по тебе скучала и знала, что ты обязательно вернешься. Когда ты болела, я лежала ночью с открытыми глазами, прислушивалась и боялась того, что ты могла сделать. И хотя сейчас ты выглядишь здоровой, я знаю, что снова буду вести себя так же. Лежать, слушать и бояться. Ты прости меня, мама. Я не хочу тебя обижать, — Клэр посмотрела на Корнелию, в больших миндалевидных глазах которой закипали слезы, — но я буду очень скучать по Корнелии. — Слезы потекли по щекам Корнелии, и Клэр увидела, как Тоби, который сидел рядом с сестрой, положил руку на спинку ее стула. — И мне нравится здесь. Это лучшее место из всех, которые я знаю. И я решила, что я хочу жить здесь всегда. В доме миссис Голдберг. С моей мамой и Корнелией. — Клэр смотрела на торт в середине стола, чтобы не видеть лица людей, сидящих вокруг. — Тогда я была бы счастлива. Подумайте об этом, пожалуйста.
Она села и расправила салфетку на коленях. Почти минуту никто не произнес ни слова. Когда же молчание было прервано, заговорила не Корнелия и не мать Клэр, а Элли. Она заявила звонким голосом:
— Ну а я как раз сегодня, пока мы готовили, раздумывала, кому бы в городе позвонить, чтобы устроить Клэр в школу Святой Анны. Я могу это сделать запросто, вот так. — Она щелкнула пальцами. Пока Корнелия, мать Клэр и все остальные смотрели на нее, она вилкой взяла кусочек торта и поднесла его ко рту.
— Очень вкусно, — жизнерадостно заявила она. Потом улыбнулась и, не обращая внимания на взгляды всех собравшихся, взяла второй кусочек.
Глава 31 Корнелия
Моя жизнь, моя настоящая жизнь, началась, когда в нее вошел красивый незнакомец в идеально сшитом костюме. Это был Мартин. Но Мартина больше нет.
Вы можете подумать, что настоящая жизнь означает погоню за положительным результатом. Мне эта погоня нравилась, она доставляла радость, позволяла заглянуть в настоящие жизни других людей — Олли, Би, Элли, Тео, миссис Голдберг и других, — как в освещенные окна домов. Я верила, что они реализовали свои сердечные привязанности или находятся в процессе их реализации. Вот. Именно это я имею в виду. Я верила, что процесс реализации желаний и есть жизнь.
Но за месяцы, которые прошли с той поры, как Мартин вошел в кафе «Дора», я пришла к выводу, что настоящая жизнь не означает осуществления моего сердечного желания. Нет, только осознание его, не удовлетворение, а предчувствие. Настоящее — это знать, что ты любишь и почему.
Я люблю миссис Голдберг, потому что, хотя она заболела и умерла, она жива, как и все, кого я знаю. Я люблю деревья в ее дворе и вещи на ее чердаке, потому что это были ее деревья и ее вещи. Я люблю дом моей семьи, потому что он принадлежит моей семье. Я люблю Линни, Тоби, Кэма и Олли, потому что не любить их невозможно. Я люблю моего доброго отца за его целеустремленность и мою мать за ее силу и доброту. Я люблю Тео, потому что он лучший мужчина из всех, кого я знаю, и потому что у меня начинают ныть суставы, когда я не могу до него дотронуться. Я люблю Мартина за то, что он привел Клэр в мою жизнь, и я люблю Клэр, потому что она смелая, любящая, умная девочка. Господи, как же я люблю Клэр…
Я хотела стать матерью для Клэр, но вернулась ее настоящая мать, и дом, в который она вернулась, был моим домом.
Понадобилось тридцать секунд на размышления и один кивок Вивианы, чтобы решиться. Я решила вернуться на улицу, на которой выросла, и жить в доме миссис Голдберг с Клэр и Вивианой. Конечно, это было не то, на что я надеялась, да я и не понимала, что из всего этого может получиться, но решила сделать этот шаг, а проблемы решать по мере их поступления. В тот же вечер я уселась за телефон. Сначала позвонила Линни и стала агитировать ее поступить в юридический колледж, который находится недалеко от того места, где я собираюсь жить; затем уволилась из кафе, организовала перевозку и поговорила с хозяином моей квартиры, упросив его снять люстру и не брать с меня арендную плату за полгода.
И нашла в своей комнате рассказ про девочку, медведя и зачарованную зиму. Я вспомнила эту потрепанную обложку. Рассказ лежал в рюкзаке Клэр в ту первую ночь, когда она спала в моей квартире, и я решила, что это она вытащила его и оставила на моей постели. Но потом я открыла обложку и увидела листок бумаги. Там было написано:
«Подарок нам на Рождество от Клэр. Эту книгу она сделала для Вивианы, но теперь решила, что подарит ее нам. Теперь твоя очередь читать. Крепись.
С любовью, Тео».
Я прижала палец к его имени и поцеловала листок, как влюбленная девчонка, какой я, в сущности, и была. Затем прочитала рассказ. Я прочитала его и сидела над ним, пока не взошло солнце.
Рассказ был потрясающим и поставил меня перед выбором. Было два пути. И оба изрыты колеями. Но один путь был все же легче. Проще всего было предположить, что болезнь Вивианы привела Клэр в такой ужас, что она стала мечтать о бесконечном сне, детали которого даже я с моим воображением представить себе не могу. Значит, этот напуганный ребенок не должен снова жить с женщиной, которая ее напугала. Ребенку нужна я.
Но из этого рассказа можно было вынести и другое, сложное и трудное для объяснения. Когда настала зима, суровый мороз лишил жизни не только внутренний мир Анники, но и ее собственную плоть: волосы и глаза. И даже медведь Джон не мог ей помочь. Только возвращение весны и ее старого мира могло ее спасти. Если смотреть на рассказ в таком ракурсе, вы поймете, что в сердцах матерей и их детей есть таинственная связь, которую никто не может разорвать. Я могу прожить с Клэр и Вивианой сто лет, но эта тайная связь всегда будет с ними.
Два пути, какой выбрать? «Крепись», — написал Тео. Я стояла на развилке и ждала момента, чтобы набраться храбрости.
И когда на следующий вечер Вивиана появилась на чердаке миссис Голдберг и спросила: «Как вы поступите?» — вопрос застал меня врасплох. Я осторожно закрыла ноутбук, оставив его в режиме ожидания. Если бы такое можно было сделать с Вивианой? Выключить ее с вопросом — и все.
— Как я поступлю? — повторила я, стараясь выиграть время. Я знала, о чем она спрашивает.
А она продолжала:
— Чем вы собираетесь здесь заняться? Найти работу? Вернуться в школу? — Я обрадовалась, что она не говорит о главном.
— Господи, я бы очень хотела сказать, что у меня уже есть план.
Вивиана села на пол рядом со мной и взяла зажигалку, о которой я писала. Я смотрела, как она держит этот элегантный предмет в своих изящных руках, которые были просто произведением искусства.
— Я знаю, что вы чувствуете, — сказала она.
— Вы в этом уверены? — Я и сама не была уверена, что хочу получить ответ на этот вопрос, но все равно спросила. — Вырвать корни, жить здесь, вдали от всего…
— Я знаю Клэр, — сказала Вивиана и помолчала, давая мне время. — Я знаю разницу между тем, когда она что-то хочет, и тем, когда она в чем-то нуждается. А это… — она обвела рукой чердак, — в этом она нуждается.
Вивиана посмотрела на меня, и я увидела, что ее напряженность исчезла. Она вздохнула.
— Дело не в том, что уехать будет тяжело. Труднее остаться. Смириться, что за тобой наблюдают. И делиться. Делить Клэр. Я не в укор это говорю.
Я и сама это видела и поражалась, как это у нас получается: перейти от подозрительности к близости, к дружеской беседе.
— Может быть, тут не об этом речь. Может быть, просто мир станет больше.
Вивиана кивнула.
— Нам нужно расширить наш мир. Я это понимаю. Мир двоих слишком мал. — Она откашлялась. — Вернемся к вам. Что вы здесь будете делать?
Я оглядела чердак:
— Мне нужно закончить опись. Это во-первых. Так что я найду какую-нибудь работу, пока я тут вожусь. После этого, может быть, продолжу учебу.
— Что вы хотите изучать? — с интересом спросила Вивиана.
— Точно пока не знаю. Мне нравится делать то, что я делаю. Я пишу обо всем, о чем рассказывала мне миссис Голдберг.
— Труд во имя любви, — сказала Вивиана. — Клэр рассказала мне, как много для вас значила миссис Голдберг.
— Да. — Я почему-то смутилась и быстро сменила тему. — Но так вышло, что все эти предметы связаны с событиями, о которых даже миссис Голдберг ничего не знала. Я основательно порылась в университетской библиотеке, и компьютер помог. — Я взяла забавный серебристый тюрбан и надела его.
Вивиана улыбнулась, разглядывая меня.
— Представляете, что я узнала? Это работа Лили Дач, француженки, которая была знаменитой модисткой в Нью-Йорке в свое время. Кто сейчас знает, что были когда-то знаменитые модистки? — Я не могла объяснить, почему такие подробности волновали меня, но так и было. — И серебро. Есть вещи, сделанные в восемнадцатом веке. А вон та кованая решетка, я думаю, была сделана в Филадельфии бывшим рабом. Все попадало сюда откуда-то. Прошло через столько рук.
Я сняла тюрбан, смущенная собственным красноречием. Сознание, что я буду жить рядом с этой женщиной и ее дочерью, не давало мне покоя. А я сидела и болтала о шляпах и решетках.
— Можно заняться историей искусства, — предложила Вивиана. — Или охраной памятников культуры. — Она замолчала, положила зажигалку и взглянула на меня. — В Делавэре есть прекрасная программа, а рядом музей с великолепными экспонатами, там представлены целые восстановленные интерьеры. Паркетные полы, лепнина, мебель, картины — все. Я устраивала несколько вечеринок для одной дамы из правления. Уверена, она напишет вам рекомендательное письмо. — Она замолчала.
Делавэр.
— Вивиана, — сказала я самым нейтральным голосом, — о чем вы говорите?
— Это не очень далеко, — сказала она твердо, — вы можете ездить туда на выходные, а на неделе быть дома. В смысле у себя дома.
— О чем вы говорите?
Ее бравада иссякла.
— Я слышу, как она каждую ночь ходит в вашу комнату.
Она не станет плакать, я это видела и была ей благодарна. Она сидела выпрямившись, взгляд гордый, как у античной статуи, но под всем этим чувствовалось колоссальное напряжение. «Безжалостная, — подумала я, — эта женщина может быть безжалостной, если понадобится». Я уважала ее за это.
— Я должна быть той, в ком она нуждается, — ровным голосом сказала Вивиана. — В ней вся моя жизнь.
Я хотела заговорить, но не знала, что сказать.
Вивиана встала и направилась к двери. Затем повернулась ко мне.
— Пожалуйста… — начала она. Но я ее перебила. Я не смогу вынести, если эта гордая женщина станет умолять отдать ей ее ребенка.
— Не надо, — сказала я, — не говорите ничего.
И мать Клэр ушла, оставив меня наедине с самой собой.
Глава 32 Клэр
— Я никак не могу решить, красивая она или нет, — сказала Клэр на середине фильма, — или она просто лучше выглядит, чем все остальные.
Корнелия сидела на полу, прислонившись к большому креслу, в котором утонула Клэр. Она откинула голову назад, взглянула на Клэр и засмеялась.
— Вот именно! Она просто сногсшибательная!
Она действительно была сногсшибательной, эта Трейси Лорд — в белом платье, с капризным ртом, скульптурным маленьким личиком и этими удлиненными глазами, выражение которых менялось ежеминутно.
Когда Клэр впервые увидела Декстера, она выдохнула:
— Чудо!
— Чудо в кубе, — вздохнула Корнелия.
— Но не только, — начала Клэр, — он похож…
— На тебя. — Корнелия улыбнулась. — И твоего отца.
«Я похожа на своего отца», — подумала Клэр. Люди постоянно так говорили, и это беспокоило Клэр. Но почему-то теперь ее это уже не волновало. Мартин Грейс был ее отцом. Не важно, умер он или нет, но он был частью ее, а она была его частью.
«У меня глаза моего отца», — сказала она себе. Внезапно ее посетило озарение, как будто открылось яркое окошко. «То, что отец меня не любил, не значит, что я не могу его когда-нибудь полюбить». Окошко закрылось, но Клэр почувствовала что-то новое внутри себя. «У меня папины глаза», — снова подумала она.
Когда фильм кончился, Клэр удовлетворенно сказала:
— Вот так кино должно всегда кончаться. Пусть хорошие люди получают то, что они хотят.
Корнелия выключила телевизор и повернулась к Клэр. Когда Корнелия сидела на ковре, скрестив ноги, Клэр невольно вспомнила, какая она маленькая, как ребенок.
— Клэр, мне нужно тебе кое-что сказать. — Она помолчала. — Ты — не просто друг, ты часть моей семьи. Ты всегда будешь частью моей семьи.
Это было замечательно, именно это и хотела услышать Клэр. Ей бы обрадоваться, но она почему-то испугалась. Голос Корнелии и выражение глаз делали ее еще больше похожей на ребенка. На ребенка, который пытается выглядеть более смелым и сильным, чем он есть на самом деле.
Клэр кивнула, потом сказала:
— Почему бы нам не посмотреть этот фильм еще раз, с самого начала?
— Вы с мамой будете жить в доме миссис Голдберг. — Клэр заметила, что Корнелия дрожит. — А я буду постоянно тебя навещать.
— Нет, — сказала Клэр. — Ты не можешь так поступить, Корнелия. Ты уже сказала, что останешься.
Гнев в собственном голосе удивил Клэр. Ведь на самом деле ей было грустно и страшно. Но она не могла избавиться от этого тона и вскоре на самом деле разозлилась.
— Мы будем вместе проводить праздники и выходные. Ты можешь в любое время навещать меня в Филадельфии или там, где я устроюсь. Но где бы я ни устроилась, это обязательно будет недалеко отсюда.
— Ты обещала, что останешься.
Корнелии было больно. Клэр это видела, и в какой бы ярости она ни была, она не чувствовала удовлетворения от того, что причиняла Корнелии боль. Но ее разочарование было огромным.
— Я пообещала, потому что очень хотела быть с тобой. И до сих пор хочу. Но тебе нужно остаться вдвоем с твоей мамой. — Корнелия так сильно сжала руки, что они покраснели.
— А если она снова заболеет? — запальчиво выкрикнула Клэр. — Ты когда-нибудь об этом думала?
— Ты придешь прямо сюда и все расскажешь Элли и Би. Позвонишь мне, я тут же приеду. И мы все поможем. — Корнелия произнесла это так, будто давала клятву. — Солнышко… — Голос Корнелии дрогнул, и она протянула руку к Клэр. Но Клэр встала и ушла. Корнелия осталась сидеть на полу. Сердце ее было разбито.
Глава 33 Корнелия
Естественно, что чердак миссис Голдберг, место, которое я так любила, должен стать участником моей истории. Естественно, что Тео нашел меня там — платье миссис Голдберг сапфирового переливающегося цвета лежало на моих коленях. Я была спокойна, но тоска постоянно сжимала мое сердце.
— Что это за луч света в темноте? — спросила я и невольно улыбнулась. Мне хотелось, чтобы мои звезды были чистыми и обещали счастье. Если вы похожи на меня, вы цените пьесу не за ее трагический конец, а за то, что в ней талантливо рассказывается о любви. Когда ваш мужчина уходит от вас утром, птичка, которая вас разбудила, — это обязательно соловей, а не жаворонок. А когда мужчина появляется в дверях чердака, он затмевает собой луну. Или солнце, если это происходит среди бела дня.
Пришел Тео и сел напротив меня в оранжевое кресло. Его купил сам Гордон Голдберг и в течение пятнадцати лет упорно отказывался его выбросить, несмотря на логичные доводы его жены. Тео снял пальто, чем меня безмерно осчастливил. «Снимай пальто, — подумала я, — и оставайся здесь навек».
— Я потеряла ее, — сказала я Тео. И показала ему свои пустые руки. Я догадалась, что он уже все знает.
— Она не будет долго злиться, — обнадежил он меня.
— Я знаю, что не будет.
— Она вырастет здесь, как и мы выросли. Вы всегда будете принадлежать друг другу.
— Но не так, как бы мне хотелось принадлежать друг другу.
— Ты бы хотела видеть ее каждый день.
— Я бы хотела видеть ее каждый день. Я бы хотела, чтобы она забиралась в мою постель, когда не может заснуть. Я бы хотела, чтобы она приходила ко мне и рассказывала, что случилось в школе. — Я провела рукой по голубому атласу, стараясь разгладить его, хоть он и так был гладким, глаже некуда. — И все это могло быть. Но это было бы неправильно. — Я подняла на него глаза. — Тео, я всего лишь хотела поступить правильно.
Мне хотелось, чтобы он убедил меня, что я права. И он произнес слова, от которых у меня перехватило дыхание:
— Ну разумеется. Ты так устроена. Разве иначе я бы тебя любил так сильно?
Сомнений в том, что Тео меня любит, не существовало никогда. Он любил меня с четырех лет. Это я знала. Но даже эта неоспоримая двадцатисемилетняя новость заставила мое сердце забиться часто-часто, как у птички.
Теперь представьте следующее: жизнь, потраченная на то, чтобы ждать слов «Я тебя люблю», как поэмы. А тут тебе говорят эти слова как непреложную истину, как будто и говорить-то не стоит, и так все ясно. Как будто любовь Тео ко мне была миром, в котором мы жили всегда. Так оно, наверное, и было.
Когда дар речи ко мне вернулся, я сказала:
— Мне кое-что от тебя нужно.
Он улыбнулся своей открытой доброй улыбкой.
— Ты же знаешь, что можешь получить все. — И даже такой ответ не означал того, во что мне так легко было поверить, поскольку Тео Сандовал был по природе моногамен. Все, кто его знал, знали и это. «Держись», — сказала я себе.
— Я хочу объяснений, — заявила я дрожащим голосом. — Тот вопрос, который ты задал мне секунду назад? Проясни его, пожалуйста. Потому что, если ты имеешь в виду то, что мне бы хотелось… — Я замолчала. — Я бы ради этого пошла на все. — В глазах показались слезы. — Абсолютно все.
Он взглянул на меня с некоторым беспокойством и спросил:
— Здорово ударило, да?
— Ох, Тео, просто пришибло.
Тео не отвечал и смотрел на меня с сочувствием. У меня закружилась голова.
— Полагаю, с тобой этого не произошло, — заикаясь, произнесла я.
— Еще как произошло. — Он не сводил с меня глаз. — Только так давно, что я уже успел к этому привыкнуть.
— Как давно?
— Это мой секрет. — Он улыбнулся. — Я больше ничего не собираюсь от тебя таить, но этот мой.
Если вы думаете, что на чердаке зазвучала небесная музыка, с неба полился звездный свет и передо мной открылся светлый путь в будущее, вы сильно ошибаетесь. Вместо этого — обычное полуденное солнце. Корнелия сидит на полу. Тео — в безобразном оранжевом кресле.
— Хватит объяснений? — спросил Тео.
Я умею быть сдержанной. Но бывает, когда надо отбросить в сторону все приличия, пройти через комнату и плюхнуться к любимому на колени, полагаясь на все восемьдесят пять фунтов веса и на помощь силы тяжести, чтобы пригвоздить его к месту.
— Я тебя люблю, — сказала я.
Я обвила его шею руками, и мое лицо оказалось совсем близко от его лица, и он поцеловал меня. Я поцеловала его. Мы подарили друг другу поцелуи, какие могут быть лишь раз в жизни, раз в сто жизней, в тысячу жизней.
То, что я сказала раньше, правда. Настоящая жизнь не всегда дает желаемое. Самое главное — знать, что ты любишь.
А что сделать, чтобы тот, кого ты любишь, отвечал тебе взаимностью? О, друг мой, это великое чудо.
Когда вы влюблены, вы хотите рассказать об этом всем: рыбам в океане и фонарю на углу, послать эту новость через континенты и моря, чтобы все живущее за тебя порадовалось.
Когда ты любишь мужа собственной сестры или сестру жены, тебе в первую очередь следует известить семью.
Разговор первый.
Мой отец.
Тот же день.
Корнелия: Папа, мы с Тео влюблены друг в друга.
Папа (изумленно щурясь сквозь очки): Ты серьезно?
Корнелия (стараясь выиграть время): Ты хочешь сказать, серьезно ли я отношусь к Тео?
(Пауза.)
Папа: Если речь идет о тебе и Тео, это обязательно серьезно, так что я хочу сказать, серьезно ли то, что ты только что сказала.
Корнелия (от всей души): Да.
Папа (ухмыляясь): Тео не очень похож на Кэри Гранта.
Корнелия (ухмыляясь в ответ): Понятия не имею, о чем ты говоришь.
Папа: Не говори Олли, но я всегда этого хотел. (Глаза отца сияют, Корнелия робко стоит в их свете.)
Разговор второй.
Тоби и Кэм.
Ранний вечер, братья перебрасываются мячом и шутливо переругиваются.
Корнелия (стараясь перекричать шутливую перебранку): Эй, ребятишки, никогда не догадаетесь, что я сейчас скажу. Мы с Тео любим друг друга.
(Руки Тоби замерли на взмахе. Мяч упал на землю. Кэм рванул за ним галопом.)
Кэм (скулит): Я получил его после Олли!
Тоби: Заткнись, урод. Он мой!
(Дерутся.)
Корнелия: Я обожаю вас, ребята, вы это знаете?
(Тоби и Кэм выглядят довольными и смущенными.)
Затем они хватают Корнелию на руки и перебрасывают ее друг к другу под вечерними звездами.
Не стоит говорить, что переговоры прошли значительно спокойнее, чем можно было ожидать. Я легко отделалась. Я это знала и была вполне всем признательна, можете мне поверить. Признательна, признательна. В тот вечер я улеглась в постель, охваченная любовью к своей семье.
То, что я решила сообщить эту новость сначала отцу и братьям, было вызвано исключительно чувством самосохранения: зачем же сразу соваться в клетку с тигром?
Поняли? Это вовсе не трусость, а стратегия.
Разговор третий.
Клэр.
Утро за завтраком.
Корнелия: Мне нужно тебе кое-что сказать.
Клэр (не поднимает головы от миски с кашей):…
Корнелия: Выяснилось, что я влюблена в Тео. И знаешь что?
Клэр (не поднимает головы от миски с кашей):…
Корнелия: Он меня тоже любит.
(Клэр смотрит на Корнелию, Корнелия не может понять, что таят ее глаза.)
Корнелия (делая глубокий вздох): Я собираюсь завтра поехать вместе с ним в Нью-Йорк. Не навсегда, только на несколько дней, пока я не пойму, что смогу находиться вдали от него. Затем я вернусь, соберу вещи в квартире и перееду туда. Вскоре. И знаешь, это ведь Нью-Йорк. Он совсем недалеко. И я научусь водить машину, чтобы иметь возможность приезжать сюда в любое время. Тео тоже будет часто приезжать, со мной или без меня. Потому что мы любим тебя так сильно, что не сможем долго обходиться без тебя. Клэр, солнышко, пожалуйста, скажи что-нибудь.
(Ничего. Потом…)
Клэр: Подумаешь.
Ох, Клэр!
После того как мы вместе позавтракали, я пошла в свою комнату и позвонила Линни. И сообщила то, что и всем остальным.
Она сказала:
— Корнелия, у меня от радости так кружится голова, что я даже не могу пошутить.
— В самом деле? — спросила я. — Потому что, Линни, мне твоих шуток явно не хватает.
Линни подумала немного.
— Я не могу шутить, но я могу спросить тебя о сексе. Тебе этого будет достаточно?
— Возможно, — сказала я.
— Так он есть?
— Линни, опомнись, еще и двадцати четырех часов не прошло.
— Плюс-минус двадцать четыре года.
Я собралась поспорить, но быстро сообразила, что это было бы полным абсурдом.
— У нас пока нет секса, — призналась я.
— Ох, Корнелия. — В голосе Лини внезапно послышался испуг. — Надеюсь, ты не собираешься откладывать это, пока Тео не получит развод?
Хороший вопрос, по делу. Настолько хороший и настолько по делу, что я задумалась. Тео изложил мне его накануне в собственном варианте на чердаке дома миссис Голдберг. Он задал мне его после того, как я отодвинулась, когда его рука скользнула под мой свитер и начала путешествовать по моей груди.
— Значит, будем играть по правилам, — сказал он хрипло. Рука стала вялой, чего я и добивалась, совершенно определенно добивалась, потому что иначе зачем бы я отодвинулась, если бы этого не хотела. Вот только стоило ей исчезнуть, как я бы зуб отдала за то, чтобы вернуть ее обратно.
— Тео, она ведь моя сестра, — вздохнула я, зная, что в наших головах живет одна и та же мысль: в тот момент, когда мы с Тео лежим рядом и портим себе настроение угрызениями совести, Олли и Эдмонд лежат на пляже и занимаются блудом на глазах у Бога и черепах.
Я сказала Линни то же самое, что сказала Тео:
— Мы будем послушны букве закона, но мы будем полностью игнорировать его дух при каждом подходящем случае.
На что Тео ласково засмеялся.
— Только ты можешь такое сказать.
На что Линни ответила с ласковой иронией:
— Тебе бы только выпендриться.
Затем я запинаясь сказала Линни то, что запинаясь сказала Тео:
— По крайней мере такой план на сегодня.
На это Тео ответил великодушно:
— Нет, лучше не оставлять эту дверь открытой, а то у меня может появиться желание тебя переубедить.
На что Линни ответила насмешливо:
— На сегодня? Ха! Да ты неделю не продержишься, сестричка. — Затем она спросила: — Кстати, поскольку они не были влюблены, были ли между Олли и Тео?.. — Линни всегда хочет все знать досконально.
— Линни, они были женаты два года, — спокойно ответила я.
— Признавайся, ты ведь его спросила? Я знаю, что спросила, — многозначительно заявила она.
— Не знаю, откуда ты это взяла, — сказала я.
— Корнелия.
Черт бы побрал эту Линни!
Да, я его спросила. Для того чтобы проверить мою теорию насчет того, что моя любовь к Тео выше ревности. Я спросила, и его ответ ничуть меня не задел. Мое защищенное от ревности сердце продолжало триумфально биться.
— Он сказал, что все было нормально.
— Нормально? Довольно слабая похвала, — заявила моя подруга Линни, и вне зависимости от того, ревнива я или нет, злорадство, которое я расслышала в ее голосе, было музыкой для моих ушей.
* * *
В тот вечер, когда я собирала вещи, в комнату вошла мама с моими старыми джинсами, которые, однако, были идеально отглажены — стрелки как бритвы.
— Не забудь, — сказала она.
Я села на кровать.
— Мам.
Она села рядом.
— Ты все здесь перевернула, — заявила она, и сердце мое упало, потому что я отлично знала, что моя мать не ждала таких перемен.
— Я люблю его всей душой, — призналась я, потому что была в этом уверена.
Она взглянула на меня:
— Ну а почему бы тебе его не любить? Он прекрасный парень.
— Самый лучший в мире.
— Самый лучший в мире — твой отец. — Сила ее любви к своему мужу прокатилась по мне, как волна. Интересно, так было всегда?
— Ты только взгляни на нас, — попросила я. — Две влюбленных горошины в стручке. — И она улыбнулась.
— Когда они смогут развестись? — спросила она. И я ей все объяснила так, как объяснил мне Тео, включая его предложение подождать год.
— Год? — резко переспросила мама. — Это безумие. — И мне показалось, что это я безумна. Или она. Я была уверена, что ей хотелось, чтобы Тео поступил благородно.
— Он не будет говорить гадости про Олли, — вздохнула я. — Не будет, и все.
Глаза мамы заблестели.
— Но можно уговорить Олли, чтобы она наговорила гадостей про него, ты не находишь? Особенно если ее собственная мать как следует ее подтолкнет?
— Мам! — Я была шокирована.
Она коснулась ладонью моей щеки.
— Детка, — сказала она, — почему ты удивляешься? Я всегда была на стороне любви. Разве ты этого не знала?
Когда я хорошенько подумала, то поняла, что действительно знала. Конечно, я знала это всегда.
На следующее утро Клэр не вышла к завтраку.
— Мне очень жаль, Корнелия, — сказала Вивиана. — Больше жаль ее, чем вас, потому что она потом возненавидит себя за то, что не вышла попрощаться. Потом она будет очень жалеть.
Она помолчала, и я приготовилась к очередному потоку благодарностей.
Но Вивиана улыбнулась.
— Когда вы приедете нас навестить, у вас будут три места, где можно остановиться. Этот дом, дом Тео и дом миссис Голдберг.
Приглашение. Я улыбнулась ей в ответ.
— Теперь это ваш дом, — сказала я.
После длительных переговоров, во время которых я настаивала на том, чтобы подарить им дом, а Вивиана соглашалась только на его покупку, я наконец согласилась его продать.
— И дом Клэр, — весело и торжественно заявила я. Потому что на такое способна только любовь. Вы отдаете дом, который был домом вашего сердца почти всю жизнь, и вам кажется, будто вам подарили луну и солнце.
— Планируйте продолжительный визит, — сказала мне Вивиана.
Она ждала очень долго. Напугала меня этим ожиданием. Но когда я ставила свой чемодан в багажник машины Тео, она неожиданно появилась. Только что ее не было, и вот она в моих объятиях.
— Назови меня «солнышко», — попросила Клэр, прижавшись щекой к моей щеке.
— Ох, солнышко, солнышко, солнышко, — твердила я. — Клэр. Дитя моего сердца. Солнышко, мне жутко не хочется от тебя уезжать.
Мне жутко не хотелось от нее уезжать. До дурноты.
— Но ты вернешься, — сказала она, — и мы вскоре увидимся.
— Ты же знаешь, что вернусь.
Она посмотрела на меня чудесными карими глазами и улыбнулась.
— Я хочу, чтобы вы с Тео поженились, — прошептала она, — и всегда были вместе. — Она уже плакала. — Я хочу, чтобы все мы были вместе навсегда. Мне бы хотелось, чтобы кто-нибудь мне это пообещал.
Я поцеловала ее.
— Это твоя самая трудная просьба? Потому что легче не бывает.
Я вспомнила, как Тео спросил: «Как ты думаешь, почему я тебя так сильно люблю?»
— Наша любовь друг к другу — просто мир, в котором мы живем, — сказала я Клэр. — Не важно, где мы, это мир, в котором мы живем.
И Клэр кивала мне в плечо: да, да, да.
Все время до отъезда мне хотелось плакать, а когда мы поехали, я уже не могла сдержаться.
— Как я могла оставить ее? — сокрушалась я. — Я не могла ее оставить.
Тео взял меня за руку.
— Ты думаешь, она знает, как я ее люблю? — спросила я.
— Я думаю, она знает, — ответил он.
Внезапно мне показалось очень важным, чтобы все, кого я люблю, знали об этом. Я повернулась к Тео.
— А ты знаешь, как я тебя люблю? — спросила я.
— Да.
— Нет, я вовсе не валяю дурака, — серьезно сказала я, — это не просто беготня на свидания.
— Я знаю.
Он вел машину, а я смотрела на него, на его сияющую красоту, которая была прекрасной, потому что это была его красота. Тео выглядел так, как не выглядел ни один из живущих. Мне пришла в голову безумная мысль.
— Тео, — начала я, — я люблю тебя не за то, что ты так красив.
Он засмеялся:
— За что же тогда?
«Потому что таких, как ты, больше нет», — подумала я.
Потом мы долго ехали молча.
— И я сразу должна тебе сказать, что я хочу ребенка. Ну ладно, не сразу, но скоро. Совсем скоро. — Вот так — взяла и сказала. Ринулась напрямую.
— Ладно, — спокойно сказал Тео, и я сначала подумала, что он меня недопонял.
— От тебя, — добавила я. — Я хочу от тебя ребенка.
Он не засмеялся. Свернул на обочину, остановил машину и расцеловал мое заплаканное лицо.
— Чем скорее, тем лучше, — улыбнулся он.
И мы поехали дальше, мимо голубых гор, которые вскоре исчезли. Все не совсем так. Горы, Клэр, миссис Голдберг, мои отец и мать, Олли, Кэм, Тоби, Линни, Мартин, Вивиана — все они здесь. И вы тоже. У меня большое сердце, в нем есть место для всех и всего. И для дороги, по которой мы сейчас с Тео едем, вы ее видите? Она бежит вперед и назад. И в какую бы сторону вы ни ехали, она позовет вас назад. Домой.
От автора
Я выражаю свою сердечную признательность всем.
Всем в «Дюноу, Карлсон и Лернер», особенно моему агенту Дженнифер Карлсон за ее невероятную выдержку и терпение и за то, что поверила в книгу еще до того, как она стала книгой.
Всем сотрудникам издательства «Даттон» и моему редактору Лаури Читтенден за ее добрый взгляд и помощь в работе, а также ее коллеге Эрике Канн.
Удивительной Шари Смили.
Моему неоценимому мозговому тресту — Ральфу Ашбруку, Юдианне Бэгготт, Сюзан Дэвис, Дэну Феррелу, Ребекке Флауерс Шеймесс, Энни Пилсон, Кристине де лос Сантос и Дэвиду Г.У. Скотту — первым читателям, которые завалили меня советами и поддерживали громким восторгом в ходе чтения.
Марку Кохи и Киму Пиндеру за помощь и за маленький домик в Вермонте для меня, Корнелии и Клэр.
Диане Шиан, третьей родительнице моих везучих детей.
Артуро и Мэри де лос Сантос, моим родителям, за их неизбывную любовь.
Моим детям, Чарльзу и Аннабель, которые утомляют меня, заставляют смеяться и освещают каждый мой прожитый день.
И самую глубокую благодарность я выражаю моему мужу Дэвиду Тигу, главному человеку в моей жизни, первому читателю, домашнему гению и веселому сообщнику. В мире не хватит слов, чтобы выразить ему мою благодарность.



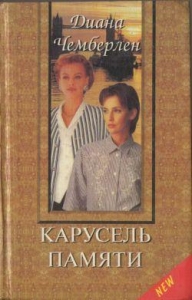
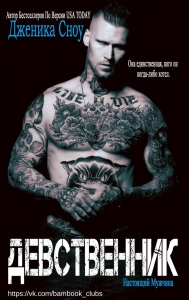

Комментарии к книге «Когда приходит любовь», Мариса де лос Сантос
Всего 0 комментариев