Моей матери
Глава первая
Звонок иглой вонзился в сердце Кейт, от неожиданности напряглась каждая клеточка ее тела. Но такова была ее обычная нервная реакция. И на самом деле Кейт не почувствовала приближения беды, она не подозревала о том, какое несчастье стояло сейчас у входной двери. Просто она испытывала смутный страх оттого, что ее «обнаружили», застали врасплох (и в подобных случаях она имела в виду нечто более абстрактное, чем застиранную, потерявшую форму футболку, стоптанные тапки или неприбранные волосы, — скорее она думала о своем «я», кусочки которого, как части разобранного велосипеда, валялись по всему дому).
Придя немного в себя, она решила, что посетитель вряд ли относится к числу тех, кто имеет какое-либо значение в ее жизни. И, ожидая в худшем случае умеренное посягательство на кошелек — со стороны молочника, к примеру, или со стороны ревностного члена общества защиты природы или кого-нибудь из этих добронравных, ухоженных, глупых школьников, забивающих себе голову всякой ерундой вроде организации голодовок, — она смахнула с комода в ладонь несколько монет.
«И кого там нелегкая принесла?» — поинтересовалась Кейт у кухни, с которой лишь мгновение назад она делила наслаждение от любимой радиоигры и которую призывала аплодировать своим правильным ответам. Откликаясь сама себе: «Да никого», — она потянулась к радиоприемнику, чтобы сделать звук потише.
Однако сквозь узорчатое стекло входной двери Кейт разглядела поникшую женскую фигуру и, открыв дверь, приняла в объятия благоухающую духами «Арпеж», всю в слезах Наоми Маркхем.
— Что с тобой? Что случилось? — Коренастая, босая Кейт, по-прежнему сжимая в кулаке монеты, как могла поддерживала более высокую подругу, рыдающую у нее на плече, и так, вдвоем, напоминая двух боксеров в клинче, они стали продвигаться по узкому коридору в направлении гостиной.
— Я бросила этого несносного человека.
— Опять?
Кейт маневрировала, предотвращая столкновение с уродливой вешалкой, утыканной медными обрубками-крючками и обросшей бесформенной массой курток и пальто. Перед глазами у нее возник образ упомянутого ублюдка: долговязый молчаливый мужчина с округлой головой и с волосами, поредевшими оттого, что он все время их ерошил. Кейт вспомнила его напряженный, направленный внутрь себя взгляд — такой взгляд мог принадлежать человеку, поглощенному дифференциальным исчислением… или бесчисленными нарядами от Версачи, в которые надо было одевать Наоми. Ей не верилось, что Алан Нейш мог совершить сколь-нибудь серьезный проступок. В худшие свои минуты, подавленный заботами, он мог быть слегка желчным, замкнутым, нервным, но не более того.
— Да. И в этот раз навсегда. — От возмущения Наоми ощутила краткий прилив сил и несколько театрально, высокомерно взмахнула рукой, блеснув перламутровыми ноготками в направлении распахнутой входной двери. У обочины, за стрижеными кустами бирючины, стояло такси, а рядом, по всей видимости в ожидании портье, выстроились чемоданы и сумки из «Гуччи» — словно перед гостиницей «Савой» в центре Лондона, а не перед скромным домом номер 28 по улице Лакспер-роуд в Тутинге. — Ты не одолжишь мне десятку? — умоляюще протянула она. — Заплати за меня этому типу, будь солнышком.
Как назло, только сегодня утром Кейт сняла в банкомате пятьдесят фунтов. Она отбуксировала Наоми в гостиную, где пахло разогретыми на солнце подоконниками и сухими цветами, усадила ее на диван в нише, а сама, раздраженно топая, пошла в спальню за сумочкой. Поднимаясь по лестнице, Кейт репетировала про себя, как она будет напоминать подруге о долге, и одновременно готовилась к тому, чтобы простить, забыть этот долг.
Наоми была бессовестно небрежна в подобных делах: сначала она утверждала, что ни о чем таком не помнит, и соглашалась оплатить долг, только когда этого прямо потребуют, а потом с угрюмым и по-прежнему недоверчивым выражением лица перерывала содержимое сумочки длинными наманикюренными пальцами, мелочью набирала необходимую сумму и со стуком швыряла монеты на стол. Возвращая долг не полностью, она никогда не извинялась. Напротив, всем своим видом она словно говорила: «Ты обчистила меня до нитки. Давай, забирай последнее пенни, с тебя станется!»
Каждый раз, когда это случалось — а случалось это слишком часто, — Кейт давала себе клятву, что больше не будет одалживать Наоми деньги. Но в этом вопросе, как и во многих других, ей не хватало твердости характера. Вот и сейчас она решила, что суммы менее двадцати фунтов вообще не стоят того, чтобы требовать их назад — настолько неприятен был ей этот процесс. И она постаралась представить себе этот долг как несущественный, распределив его равномерно на вероятную продолжительность своей жизни. Получилось по двенадцать пенсов в год.
— С молодой леди все в порядке? — спросил у нее водитель такси (мужчина лет шестидесяти с волнистыми седыми волосами), когда она подошла, чтобы расплатиться за Наоми.
В его темных очках с зеркальными стеклами — вроде тех, что носят гангстеры в фильмах, — отражались две недовольные Кейт.
— Надеюсь, — коротко ответила она, щурясь в резком солнечном свете, который рикошетил от черного кузова такси во все стороны. Пыльный асфальт жег подошвы ее босых ног. «К черту Наоми! — хотелось ей выпалить ему в ответ. — А как насчет меня? Как насчет моего дома, моего времени, моей свободы, моей драгоценной субботы?»
Знакомое чувство досады переполнило Кейт. По коже побежали мурашки. Два миниатюрных лица в зеркальных линзах таксиста вспыхнули румянцем раздражения и стремительно выросли в размере, когда она нагнулась к открытому окну с деньгами.
Почему с ее нуждами и желаниями никогда не считались? Как Наоми Маркхем и ей подобные умудрялись всегда оказываться в центре всеобщего внимания, а она, Кейт Гарви, нет? Почему, несмотря на свой невысокий рост, она не вызывала в сильной половине человеческого рода инстинктивного желания защитить ее? Казалось, что мужчины видели в ней — если они вообще ее замечали — только хорошего, надежного и при этом заурядного человека. Они сбивали ее с ног, когда спешили открыть дверь своим очаровательным женам и подружкам; они отталкивали ее, когда тянулись с зажигалками к шикарным блондинкам; они поворачивались к ней спиной, задвигали ее саму и ее сумки в тесный угол, когда подскакивали, чтобы уступить знойным брюнеткам свое место в метро. И бесполезно было говорить себе, что ей все равно, потому что ей было совершенно не все равно. Кейт было горько осознавать, что по сравнению с более красивыми женщинами она считается человеком второго сорта — и это еще более обостряло ее и без того крайне мучительное чувство собственной неполноценности.
— Вызовите ей врача. — Таксист со своими советами действовал на Кейт угнетающе. — Пусть выпишет ей какое-нибудь успокоительное. Она вся на нервах.
Ага, и приедет хмурый, ироничный доктор Боди — а здесь его ждет такая хрупкая, такая нежная пациентка. Можно смело предположить, что после этого субботнего визита его отношение к Кейт с ее женскими недомоганиями станет еще более насмешливым и презрительным, чем обычно. Решив закрыть эту тему как можно скорее, Кейт неодобрительно поджала губы и произнесла со всей холодностью, на какую была способна:
— Не думаю, что это необходимо.
— Когда я заехал за ней, она была в истерике, — упорствовал не потерявший ни капли самоуверенности таксист. Большим пальцем он подтолкнул свои очки вверх по переносице, и оба отражения Кейт подпрыгнули. — Плакала навзрыд.
— Могу себе представить.
Внимание Кейт привлек приборный щиток такси. Таксист сделал из него настоящий алтарь в честь своей семьи, обклеив всю свободную поверхность фотографиями жены и то ли детей, то ли внуков. Там же имелись пластиковый цветок в подставке и неизменное деревце-дезодорант — очевидно, талисман, призванный нейтрализовывать дурно пахнущих пассажиров.
— Мне кажется, кто-то обидел ее.
— Может быть, но я не думаю…
— Я так и спросил у нее: «Вас кто-нибудь обидел?» Вы должны присмотреть за ней. — В его интонации явно сквозил упрек, как будто это Кейт была виновата в бедах Наоми.
— Почему? — спросила она ядовито. — Я что, отвечаю за свою сестру?
— Вы сестры? — Его недоверие было столь же комично, сколь нелестно. Взлетевшие вверх брови красноречиво говорили: «Вы не похожи на сестер».
— Однояйцевые близнецы. Мне всегда казалось, что это очевидно.
— Что?
— Ох, да ладно, я просто пошутила. Мы подруги. Сколько за проезд? Вот, возьмите. — Она протянула ему сложенную десятифунтовую банкноту, тут же прикинула, что десяти фунтов будет едва ли достаточно, и добавила мстительно: — Сдачи не надо. — С этими словами Кейт развернулась, собрала сумки Наоми и, пошатываясь под их весом, побрела к дому по дорожке из черных и терракотовых плиток. Когда она свалила сумки перед лестницей на второй этаж, со стороны потертого кожаного дивана до нее донесся слабый голос:
— Спасибо. — Вся облитая густым послеполуденным светом, Наоми полулежала, опираясь на сложенное валиком индейское одеяло. Она едва заметно шевельнула рукой — как инвалид, который вряд ли протянет до утра. — В понедельник я рассчитаюсь с тобой. Напомни мне, хорошо?
— А как же.
Кейт стояла перед камином, держась пальцами за край каминной полки, и изучала свое отражение в зеркале: в позолоченной раме ее лицо проглядывало между букетом сухих роз и слоном из пальмового волокна. Кейт пыталась понять, что она собой представляет. Она где-то прочитала, что к сорока годам мы имеем такое лицо, какое заслуживаем. Так вот: это не так. Это полная фигня.
Потому что посмотрите на нее: она трудолюбивая, добрая, внимательная, а лицо у нее — да, довольно симпатичное, но такое, в сущности, обыкновенное, незаметное (Кейт считала свою внешность сносной, не более того). А теперь обратите внимание на Наоми, возлежащую на диване, такую себялюбивую, насквозь избалованную, в жизни палец о палец не ударившую — однако удивительно красивую.
— Ну, рассказывай, что там у тебя случилось, — напомнила подруге Кейт, расправляя на висках свои рыжевато-русые волосы в поисках седины и одновременно недоумевая, какой такой важной черты не хватало в ее лице (один нос, один рот, два глаза — все вроде на месте, и все же…). Кейт все ближе наклонялась к зеркалу, пока наконец не стукнулась об него лбом, на миг потеряв сознание. Она поморгала, чтобы смахнуть неожиданные слезы, и в фокус вошел задний план — уютная, тесно заставленная разрозненной мебелью комната с претензией на роскошь, что, однако, совсем не портило общего впечатления.
У дальней стены стояло старое пианино, из которого никому уже не удастся извлечь мелодию. Стулья являли собой остатки трех совершенно разных гарнитуров. Предметы обстановки не имели ни общего стиля, ни общей истории, ни единого места происхождения. И тем не менее каким-то загадочным образом все они очень подходили друг к другу, словно с самого начала подразумевалось, что они будут стоять в одной комнате и что это был лишь вопрос времени. Только Наоми выбивалась из общей картины — при всей своей элегантности она казалась немного нелепой. Такими нелепыми мы бываем в своих тревожных снах, когда, не полностью или неприлично одетые, мы вынуждены делать вид, что все в порядке.
— Так в чем дело?
— О, это был сущий ад. Ты не представляешь.
Наоми тяжело вздохнула, как будто даже разговор о происшедшем был крайне утомителен для нее. Она склонила голову, прижав ладонь ко лбу, и волосы сомкнулись над ее тонким предплечьем. У нее были шикарные светлые волосы, которые выглядели так, словно на них потратили кучу денег: мягко завиваясь, они стекали по ее плечам шелковистыми прядями. Широко посаженные глаза — голубые, чарующие — сейчас лучились непролитыми слезами. Ее кожа была цвета сливок, скулы — высокие и выразительные, а широкий и аппетитный рот, когда не был занят уговорами, жалобами, протестами или нытьем, складывался сам собой в улыбку спокойного самодовольства. Подбородок Наоми был по-прежнему целеустремлен, а тело — столь же многообещающим, каким оно было в юности. Но было в ее красоте что-то нестойкое, непостоянное. Как будто в любой момент Наоми могла испариться. Она могла просто уйти. Или это всего лишь плод желчного воображения Кейт, следствие мелочности ее характера, всего лишь желаемое, из зависти принимаемое за действительное?
— Я сделаю тебе чаю, — предложила она, исходя из того, что даже для непрошеной гостьи она должна оставаться гостеприимной хозяйкой. И, стыдясь своих мыслей, пытаясь хоть как-то искупить вину за вспышку неприязни, она добавила ласково: — Бедняжка.
— А нет чего-нибудь покрепче? — Наоми осматривала на себе одежду, нервно пытаясь собрать с нее несуществующую кошачью шерсть. Словно прикидывая, как извлечь из полосатой шубки Пушкина большую пользу, она направила суровый, оценивающий взгляд на кота, который в блаженном неведении дремал на потертом ковре в квадрате солнечного света. — Я бы сейчас убила за стакан водки с тоником.
К пущей своей досаде Кейт заметила, что Наоми была в брюках клеш. Волнующийся атлас стекал по ее стройным ногам и переливался при каждом ее движении. Проклятый клеш! Проклятая мода! Кейт не хотела иметь к этому никакого отношения. Широкие брюки будут сидеть на ней сейчас не лучше, чем когда она надевала их последний раз. С ее фигурой такие брюки носить было нельзя, о чем слишком живо свидетельствовали ее старые фотографии (особенно одна, при виде которой Кейт бросало в дрожь, в жар и в холод одновременно: на этом фото времен ее увлечения хиппи она была снята в расклешенных брюках с бахромой на коленях — вылитая лошадь-тяжеловоз). Однако этот стиль был создан как будто специально для Наоми с ее стройной фигурой и длинными-длинными ногами.
«Новое — это хорошо забытое старое», — праздно отметила про себя Кейт, имея в виду одежду. А Наоми она сказала почти со злорадством:
— Спиртного, что ли? А у нас нет. Извини. — Тем не менее Кейт принялась суетливо оглядываться по сторонам, словно где-то рядом могла прятаться бутылка. — Я не держу в доме алкоголь. Мы ведь практически не пьем. И как раз вчера за ужином мы допили остатки вина, что покупали к празднику.
— Ну ладно, придется обойтись чаем.
— Вот именно, придется, — эти слова Кейт пробормотала еле слышно. Она никогда не смогла бы сказать такое вслух. И так ее уже мучили угрызения совести из-за того, что она была нелюбезна с водителем такси. Ей было неприятно, что он счел ее злобным человеком, и переживала, что практически вырвала кусок хлеба изо рта его детей (или внуков?).
Насвистывая как мальчишка, правда, не столько от хорошего настроения, сколько пытаясь справиться с раздражением, Кейт отправилась на кухню. Пока чайник наполнялся водой, она стояла у раковины: слушала, как булькает вода, и наблюдала за тем, как за окном Алекс — ее чудо и сокровище — подстригает лужайку ржавой газонокосилкой.
Он вспотел от напряжения. Срезанная трава облепила намокшие, грязные кроссовки и низ джинсов. Каждый раз при виде его Кейт чувствовала, как вырастает в ее груди сердце, наполняясь любовью, и болью, и благодарностью, и огромной собственнической гордостью. Она вдохнула сочный травяной воздух, подержала его в легких несколько секунд, будто стараясь напитать внутренние органы, а потом шумно выдохнула. «Надо купить новую газонокосилку, — решила она, — маленькую, аккуратную электрическую модель». Но потом Кейт представила, как лезвие вонзается в электрический шнур, как в облаке черного дыма исчезает Алекс… в желудке у нее что-то сжалось, и она передумала. В конце концов, газончик у них совсем небольшой и требует минимального ухода.
Когда много лет назад она впервые увидела этот сад, стояло раннее утро и он был наполнен солнечным светом, как чашка молоком. Очарованная, немедленно влюбившаяся в сад, Кейт не раздумывая купила дом и только потом обнаружила, что сад расположен неудачно — с северной стороны, так что уже к полудню последний луч солнца покидал его, оставляя после себя тень и прохладу.
Это было задолго до того, как садоводство стало ее хлебом и ее страстью. А тогда, в пылу безудержного оптимизма, она засеяла сад гвоздиками и живокостью, водосбором, азалиями, жимолостью, геранью, перечником и колокольчиками. На пакетиках с семенами все они цвели буйным разноцветьем, но в сырой комковатой почве они или не всходили вообще, или давали лишь несколько жалких побегов.
Из тех первых посадок выжила только магнолия. Сейчас она уже отцвела и стояла раздетая, окруженная опавшими лепестками. Под ней примостилась покоробившаяся от сырости, покрытая войлоком мха скамейка.
Теперь же, умудренная опытом, Кейт сажала глянцевые, будто восковые цикламены, сочные, полосатые хосты, лохматые папоротники, а также различные вьюнки, в основном выносливых, тенелюбивых сортов. Вьюнки, правда, при всей своей тенелюбивости, так и норовили перебраться через заднюю стену на солнечную сторону — стоило Кейт отвернуться.
И все же она очень привязалась к этому дому, в котором они вдвоем прожили уже двадцать лет. Ее восхищала и его основательность, и то, как прочно он стоял в лондонской глине; и квадратная двухэтажная пристройка-«фо-нарь», накрытая щегольской черепичной шляпой; и нарядная отделка из кованого железа; и балкончик на фасаде, на который нельзя выйти, поскольку был он чисто декоративным элементом, причудой архитектора. Даже одинаковость ее дома с остальными домами на улице странным образом грела ей душу. То, что садик просматривался из спален домов на Брумвуд-роуд, внушало Кейт спокойствие. И было что-то уютное в том, как примыкали друг к другу все эти идентичные полоски земли — край в край, заборчик к заборчику.
Выплаты по ссуде за дом перестали казаться ей серьезными расходами, да и вообще дом был уже почти выкуплен. Счета оплачивались по частям, прямым дебитованием, и больше не висели над Кейт дамокловым мечом. Она зарабатывала вполне прилично, а Алекс — и того больше. В финансовом отношении ее дела никогда не обстояли лучше, чем сейчас. Наконец-то у нее появилось ощущение, что она контролирует ход своей жизни, — ощущение устроенности и безопасности.
Пока она ожидала, когда закипит вода в чайнике, ее взгляд бездумно бродил по кухне, повсюду натыкаясь на беспорядок и передавая в мозг картину ужасного хаоса. Ее окружало так много вещей, столько имущества скопилось за два десятилетия! Даже от случайной мысли о возможном переезде, о том, что ей придется упаковывать и перевозить всю эту неразбериху, у нее кружилась голова и портилось настроение.
На одном только комоде лежали: два непарных носка; сломанный велосипедный звонок; батарейки — то ли пустые, то ли рабочие; погнутая вилка; выкройка из «Вог», свернутая и как попало засунутая в конверт; розовый улыбающийся тостер с таймером, подаренный кем-то на Рождество… «Место для всего, — пошутила Кейт про себя, барабаня пальцами по оконной раме, — и все на месте».
Когда Алекс посмотрел в ее сторону, Кейт жестом попросила его подойти. Газонокосилка дернулась и зарылась в землю. Удрученно ухмыльнувшись, Алекс бросил ее как есть, подошел к задней двери и встал там, опираясь на косяк в своей обычной расслабленной манере, как бы обнимая себя: руки сложены на груди, ноги скрещены, правая стопа по-балетному опирается на носок — для равновесия.
— Наоми приехала, — тихо и конфиденциально проинформировала она его, с мученической улыбкой.
— Да? — Всегда, когда речь заходила о ближайших подругах Кейт, на лице Алекса появлялось выражение добродушной терпимости.
— Она ушла от Алана.
— Опять?
— На этот раз навсегда — так она утверждает.
— Ну, поживем — увидим. — Он расплел руки, чтобы откинуть волосы, упавшие на глаза — серые глаза, в которых отражалось все, что они видели и знали.
— Она примчалась сюда в луже слез — и на такси.
— Автобус нашей Наоми не подходит. И метро тоже не для нее. Своих мужчин она бросает стильно.
— А как же иначе. — Кейт взглянула на часы и ворчливо добавила: — Интересно, что бы она делала, если бы нас не оказалось дома. У нее с собой медного гроша не было. Как бы она рассчиталась с таксистом?
— Так кто же ему заплатил?
— Не догадываешься? — Она развела руки, словно говоря: «А что мне оставалось делать?». — Я вот думаю, не позвонить ли мне Элли. Может, стоит ее позвать.
— Может, и стоит, — задумчиво ответил Алекс, почесывая заложенный цветочной пыльцой нос. — Если тебе действительно нужна ее помощь.
— Ты ведь знаешь ее. Иногда она дает очень разумные советы.
— Иногда. А в остальное время она ведет себя как старая кошелка, — заметил он шутливо, и от улыбки каждая черточка его лица сместилась вправо. — Сначала ответь себе на один вопрос: а не станет ли от ее помощи только хуже?
Алекс не был красивым (хотя Кейт не могла бы объяснить почему), но при этом был настолько обаятелен и симпатичен, что она не смогла удержаться и крепко сжала его загорелый локоть, обхватила бицепс, видневшийся из-под рукава футболки, а потом прикоснулась губами к плечу и вдохнула через влажную, пахнущую стиральным порошком ткань его сладкий, теплый аромат.
— Такой риск существует.
— Все будет зависеть от ее настроения.
— Именно.
Они с Алексом так хорошо понимали друг друга, между ними установились такие открытые, честные отношения. Оценивая прожитое, эти отношения Кейт считала своим наивысшим достижением.
— А ты не уступишь Наоми свою комнату? — Она просительно посмотрела на Алекса. — Может, поспишь в гостевой одну ночь? Или две? Не знаю ее планов — надолго ли она почтила нас своим присутствием.
— Ну конечно, — ответил он, поколебавшись всего какую-то долю секунды. Как и все люди, он тоже испытывал недовольство и досаду, но при этом у него была способность немедленно справляться с этими чувствами. И потом он не вспоминал ни о своей щедрости, ни о людях, которые злоупотребили ею. В отличие от Кейт, он ни на кого не держал зла. — Смотри-ка, чайник сейчас взорвется. Давай я заварю чай, а ты пока иди выражать соболезнования.
— Нет, ты иди, а я займусь чаем. Побудь для Наоми жилеткой — хотя бы пять минут. Поболтай с ней, посиди рядом, повытирай слезы. Составь ей компанию. Утешь ее. Завладей ее мягкой ручкой и позволь ее гневу вылиться наружу. Проследи, чтобы она не вскрыла себе вены. Она ведь так любит разводить мелодраму.
— Да уж.
Алекс не спеша направился в сторону гостиной. Кейт достала старинное, с растительным рисунком блюдо, покрытое паутинкой трещин, и стала перекладывать туда печенье, а сама прислушивалась к его бодрому приветствию, к низкому голосу с успокаивающими интонациями и к ответному нытью Наоми.
Чуть позже Кейт подошла к телефону, сняла трубку, положила ее обратно, снова сняла ее — и снова положила обратно. Ей очень хотелось призвать подкрепление в лице Элли, которая (при соответствующем настрое, разумеется) в подобных ситуациях проявляла недюжинную выдержку.
С другой стороны, она порою бывала слишком жесткой, слишком категоричной, слишком резкой. Словом, Элейн Шарп иногда вела себя как… как Элейн Шарп.
_____
Джеральдин Горст, в девичестве Гарви, королевой восседала в жалобно поскрипывающем шезлонге. Тень от рододендронов, в которой Джеральдин пряталась от неумолимо наступающего солнца, становилась все короче.
Она не очень-то любила жару. Вчера, угощая на кухне миссис Тигни кофе и изо всех сил пытаясь держаться со своей гостьей как с ровней, Джеральдин так и сказала, чтобы поддержать разговор. Она так и сказала, обращаясь к джинсовой спине Кейт, пока та копалась в клумбе с розами. Она так и сказала мойщику окон, запрокинув голову назад, чтобы ее голос достиг верха гибкой лестницы, подвешенной к кирпичной стене Копперфилдса — ее внушительного дома в Суррее. («Я не очень-то люблю жару», — услышал он, приступая к фронтону.) И сегодня утром Джеральдин то же самое сказала кассирше в «Маркс энд Спенсер». Девушка на секунду отвлеклась от складывания белой воздушной нейлоновой сорочки, подняла голову и через ряды ярких блузок и купальников посмотрела в направлении выхода из магазина, еле видного из ее отдела. Наверное, в среде флуоресцентного освещения, кондиционеров и приглушенных голосов о прелестях лета можно было только догадываться.
То, что для одной женщины было идеальным английским полднем, для другой являлось сущим адом. Джеральдин казалось, что и сам день был окутан жарой, завернут в зной как в дополнительный слой одежды. Обмахиваясь, Джеральдин удрученно качала головой.
Пылающий июнь. Невыносимо было даже думать о том, как он проникал во все многочисленные поры на ее теле. Он крал у нее силы, он превращал ее в кусок зрелого бри, так что она вытекала из сандалий и из рукавов хлопчатобумажного платья.
А тут еще, явно с целью усугубить мучения Джеральдин, к ее лицу подлетело какое-то насекомое в желточерную полоску с прозрачными крыльями, похожее на детеныша осы (а бывают ли у ос детеныши, или осы появляются сразу готовыми, из какого-нибудь отвратительного хранилища куколок?). Ее попытки прихлопнуть насекомое ничем не увенчались, и она недовольно надула губы. В этот акр зелени вкладывались огромные средства, но Джеральдин считала, что отдача была несоизмеримо мала, и сознание этого несоответствия ужасно мучило ее. (Над тем, что вся жизнь в принципе такова — ничто и никогда не оплачивается сполна, — она предпочитала не задумываться.)
Только в те редкие воскресенья, когда она открывала свой прекрасно благоустроенный сад для общественного доступа — когда приезжали люди, чтобы бродить повсюду, охать и ахать над африканскими тюльпанами, выпрашивать черенки «Комтес де Бушо»[1] и восхвалять до небес Pelargonium х hortorum[2], когда блестящие, припаркованные бампер к бамперу «воксхоллы», «вольво», «БМВ» и «саабы» не вмещались на гравийной подъездной дорожке и выплескивались на улицу, — только тогда сад стоил своих затрат. А в основном, как, например, сейчас, Джеральдин склонялась к мысли, что расценки Кейт были скорее высокими, чем низкими. Можно даже сказать, грабительскими, право слово.
Джеральдин всегда была очень щедрой, очень бескорыстной по отношению к Кейт, считая себя — такая уж она мягкосердечная! — в какой-то степени ответственной за подругу. «Ведь это я познакомила Кейт с Дэвидом…» — это был первый, пусть не очень внятный, довод. «В конце концов, Кейт — член семьи», — таким был довод номер два. Но любые обязательства должны иметь границы. И существует риск сделать или дать слишком много. А Кейт, и с этим согласны были и Элли, и Наоми, пользовалась этим; она имела склонность к излишней зависимости, и потакать этому не следовало — для ее же блага.
Джеральдин закрыла глаза и прислушалась к плеску, доносившемуся со стороны бассейна, к голосам ссорящихся детей: Люси и Доминик вечно задирали друг друга. И вот самодовольное шлепанье резиновых подошв и неприятный химический запах хлорки сообщили о приближении Люси.
— Мам.
— Да, — отозвалась Джеральдин. Ее ладонь, прикрывающая глаза от солнца, рамкой охватывала фигуру четырнадцатилетней девочки, пухлой, как персик, в сплошном купальнике, еле вмещавшем созревающие формы (на груди буйно цвели экзотические растения). — В чем дело?
— Доминик столкнул меня в воду. — Люси сложила руки на груди, выдвинула подбородок вперед и, мотнув головой, откинула косу за спину. Гнев оживил цвет ее лица и зажег в глазах огонь.
— Ну и что? Ты ведь жива-здорова.
— Но я только что намазалась кремом от солнца.
Люси, склонив голову, преувеличивая свою чувствительность и болезненность, изобразила, как нежно она наносила себе на плечо и предплечье «Солтан-8». Угрюмая гримаса преобразила ее круглое лицо, в обычное время пусть невыразительное, но весьма симпатичное. Брови нахмурились, ноздри раздулись, нижняя губа зажила собственной жизнью.
Еще с младенческих лет Люси умела превращаться в уродину — в буквальном смысле этого слова. Ей это умение передалось по наследству. Мать замечала его в дочери, дочь — в матери. Но ни та ни другая не осознавали (хотя Доминику это было до смешного очевидно), что они с точностью копировали друг друга.
— А теперь из-за него все смылось.
— Так намажься снова. Боже мой. Что ты слона из мухи делаешь.
— Вода будет маслянистой. Папа говорит, что перед тем как идти купаться, мы должны смывать крем в душе.
— О, дети. Прямо не знаю.
— Это все Доминик. Я просто лежала и читала журнал. А он столкнул меня. И журнал весь промок.
— А вот это нехорошо.
— Я говорила ему, что ты рассердишься.
— Ну да, я сержусь.
На самом же деле Джеральдин чувствовала только усталость. И слабость. Родительские обязанности истощили ее. Она не могла справиться с ситуацией. Доминик, несмотря на все ее усилия, несмотря на самое лучшее образование, которое можно купить за деньги, все больше выходил из-под контроля. Он был вылитый Дэвид, в этом все дело. Дэвид до мозга костей. Копия своего непутевого дяди. В семнадцать лет он стал юношей, каким ее брат был почти тридцать лет назад. Доминик больше походил на сына Дэвида, чем собственно сын Дэвида. И как с Дэвидом Гарви всегда были проблемы, так же и с Домиником. Это врожденное свойство. Во многом тут виноваты гены.
С безнадежностью во взгляде Джеральдин смотрела на неторопливо приближающегося подростка. Она отметила про себя его уверенность, его рост, крепость сложения, гармоничность черт лица, его бронзовый блестящий торс, каштановые волосы, отливающие на солнце медью. На нем были только мокрые плавки, мало что оставлявшие воображению. Во всем его облике было что-то испорченное. И какой смысл ругать его? Какая от этого может быть польза? На ум приходило слово «неисправимый».
И все же:
— Доминик, — укорила она его, как требовал того материнский долг, — извинись перед Люси, прошу тебя. Ты поступил очень некрасиво… как маленький. Тебе должно быть стыдно!
— Извини, Люси, — произнес он безразлично, уселся на газоне, широко раскинув ноги, и, переполняемый энергией, принялся рвать и разбрасывать вокруг себя пучки травы. Да, кроме генов, свою лепту вносили и гормоны. Джеральдин старалась не задумываться о его гормонах.
— Теперь ты извиняешься, — фыркнула Люси. — А у меня сердце могло остановиться. Я могла умереть.
— Ну конечно, — насмешливо протянул Доминик и бросил в ее сторону конфетти из клевера и маргариток.
— Так бывает. Может, ты не знаешь, но существует такое понятие, как «термальный шок». — От обиды Люси вся дрожала.
— Не говори ерунды.
Джеральдин закрыла уши руками:
— Вы прекратите когда-нибудь? Вы оба? Все ссоритесь и ссоритесь.
— Она вечно плачет, как маленькая.
— Это все он. Он первый начал.
— А теперь я хочу, чтобы вы оба закончили.
— До следующего раза, — назидательным тоном заметила Люси.
«До следующего раза», — согласилась про себя Джеральдин, глядя на часы. Без десяти четыре.
— Я пойду приготовлю чай. Люси, сбегай к папе. Он моет «ровер». Скажи ему, что у него есть десять минут. Доминик, а ты должен купить Люси новый журнал. И чтобы больше я об этом не слышала.
— Не услышишь, — пообещал Доминик и опрокинулся на спину; широко раскинув руки под синим безоблачным небом. Он закрыл глаза и добавил: — По крайней мере, не от меня. За дурочку Люси я ручаться не могу. — Люси прицелилась и пнула под ребра. — Ой!
Потерпевшая поражение Джеральдин пошла в дом.
— Тебе налить? Оп! Все, поздно, свой шанс ты упустила. — Элли Шарп торжествующе вылила остатки «Пино Гриджио» себе в стакан, покрутила зеленую бутылку перед глазами, чтобы убедиться, что там действительно пусто, и сунула ее в заросли крапивы под стеной. — Чертовски классная погода, — отметила она. Потом, откинувшись на спинку плетеного кресла и отставив стакан в сторону, она удовлетворенно вздохнула и развернула руки ладонями кверху, чтобы подставить солнцу самые бледные участки кожи. — Ах, если бы такая погода стояла круглый год! Ты согласна?
Если Элли и ожидала получить ответ (а, по всей видимости, ей было все равно), то его не последовало. Джуин сидела на краю газона на диванной подушке и с журналом на колене, время от времени опуская руку в пакет чипсов со вкусом бекона и отправляя их поочередно то себе в рот, то в пасть Маффи. Она не подала виду, что слышала вопрос; с ее стороны доносилось лишь сосредоточенное хрумканье.
Элли считала ее смешным, неловким, трудным ребенком. Короткие темные волосы, огромные черные глаза, трогательно тонкие руки и ноги, бледность и мешковатое блеклое платье делали Джуин похожей на уличную бродяжку. Джуин нередко — и открыто — сожалела о том, что она не сирота, и при этом выглядела совершенной сироткой.
В прошлый четверг ей исполнилось шестнадцать лет. Ее назвали в честь месяца ее рождения, но по-французски, что было куда более стильно, куда менее заурядно. Но она упорно отказывалась от французской формы своего имени и всегда представлялась как Джуин. «Джюан, — жаловалась она, утрируя произношение, — звучит так манерно. Я чувствую себя полной идиоткой, когда меня так называют. Как будто я сама себе в задницу залезла».
Морщась в лучах беспощадного послеполуденного солнца, Элли представила себе, как пришлось бы для этого изогнуться, и улыбнулась.
— Ты пойдешь куда-нибудь сегодня вечером? — спросила она после нескольких минут молчания. Этот вопрос требовал ответа.
— Может, пойду, — сказала Джуин, отбрасывая пустой пакет из-под чипсов и протягивая руку своей лохматой дворняжке, чтобы та облизала ее соленые пальцы. — А может, нет.
Элли купила Маффи в подарок дочери три года назад, демонстрируя таким образом свою бережливость. «Даже если есть возможность купить и содержать породистую собаку, — рассуждала она, — зачем это надо?» Элли любила называть Маффи «кусочком»: кусочек того, кусочек этого. И каким-то образом ни у кого не оставалось сомнений в том, что при желании Элли могла бы завести себе вейнарскую легавую или — если бы она захотела — афганскую борзую. Так что бедный старый Маффи был, как смутно догадывалась Джуин, всего лишь шумным и шустрым эквивалентом меховой игрушки.
— Не понимаю я вас. — При мысли о том, как бездарно нынешние подростки тратят свою молодость, из груди Элли вырвался печальный вздох. Она считала их тупицами. Она была в них разочарована. Рядом с ними невозможно было вновь прикоснуться к радостям юности. Хорошо хоть у нее была своя собственная жизнь: стремительная, разнообразная, социально ориентированная и богатая событиями. — В твоем возрасте я каждый вечер была чем-нибудь занята. По субботам дома оставались только мертвые. Все шли или на вечеринку, или в клуб.
— Ты уже это говорила. — Теперь пришла очередь Джуин выразить вздохом свое недовольство.
Элли знала, что говорила это уже много раз и что дочери безумно надоело слушать одно и то же. Да ей и самой надоело! Но она ничего не могла поделать, не могла не удивляться вслух. Она помнила, как строго воспитывали ее и что основными принципами были минимум информации, наказания и запреты.
— Ты сама не знаешь, что ты живешь. Не понимаешь, как ты свободна, что ты можешь все.
Если бы ее мать была хотя бы вполовину такой же понимающей! Если бы она разговаривала с Элли так, как Элли старается разговаривать с Джуин при каждой возможности! Если бы их отношения были такими же честными и открытыми! Вместо советов Элли пичкали страшными историями. А вместо того чтобы выслушать, читали нотации.
Воспоминания о собственной юности наполнили Элли такой злобой, что если бы бедная старая Сибил Шарп (а она в эту минуту невинно поливала бальзамины на своем балконе, выходящем на южную сторону, и прислушивалась к бесконечному ропоту недалекого моря) вдруг почувствовала острую боль между лопатками, то вполне вероятно, что причиной тому был бы не артрит и не «старые кости», как объяснила бы она себе этот приступ.
— Мы все вам очень признательны.
— И есть за что.
Как только юная Джуин проявила интерес к тому, откуда берутся дети, Элли предоставила ей все факты жизни — целиком и полностью — и снабдила их богатым анекдотичным материалом, открыв для исследования собственное прошлое с тем, чтобы дочь поняла: ее мать все пробовала, все знает, везде была и что шокировать ее чем-либо уже невозможно.
Будучи просвещенной родительницей, недавно она уведомила Джуин, что готова сопроводить ее к врачу на предмет подбора противозачаточных средств — как только Джуин почувствует в этом необходимость. Но Джуин не оценила этого жеста, она лишь сердито огрызнулась, нахохлившись, и снова надела наушники, наполняющие ее голову тем, что теперь называлось музыкой — то ли хаус, то ли гараж, то ли какой-то другой индустриальный грохот.
— Знаешь…
Элли носком подцепила второе кресло, подтащила его к себе (на плитках патио оно скрежетало и подпрыгивало) и положила на сиденье многострадальные, деформированные неудобной обувью стопы. Согнув колени, она дотянулась до икры, где горел комариный укус, и почесала больное место. На ней были надеты белые хлопчатобумажные шорты и розовый топик — узкая полоска без бретелек. На спине и плечах отпечатались следы ротангового плетения.
Она с удовольствием отмечала, что до сих пор была в хорошей форме. Ну и что, что талия становится все толще; этого никто и не заметит, если стянуть ее широким поясом и подчеркнуть широкими накладными плечами и к тому же отвлечь внимание мини-юбкой, открывающей ее красивые ноги.
За свои дурные привычки она расплачивалась паршивой, вялой кожей, но считала это невысокой ценой по сравнению с несомненной пользой, которую она получала от выпивки и курева. Она курила, чтобы не поправиться, и пила, чтобы поддерживать в себе задор, бесцеремонность и язвительность. А эти качества были ей необходимы.
Конечно, тяжелые веки и слегка расплывшаяся фигура не позволяли назвать Элли красавицей, но ее живые, нахальные, беззаботные манеры придавали ей определенное очарование. Во-первых, она работала над своим имиджем и, во-вторых, никогда не сомневалась в своей привлекательности — а в чем, как не в этом, и заключалась патрицианская красота? И всякий раз, смотрясь в зеркало — в переполненных ресторанах и барах, в примерочных дорогих бутиков, — Элли встречала одобрительный взгляд уверенной в себе женщины.
Если в глубине души Элли и была мягкосердечной, то она успешно скрывала это под панцирем самоуверенности. Она была очень умной, смелой, громогласной, непоколебимой и, соответственно, идеально подходила для работы в качестве журналиста (она вела колонку в «Глоуб»). Когда-то, еще будучи маоисткой, она стащила полицейского с лошади, но сейчас, два десятилетия спустя, ее политические убеждения то и дело давали крен вправо; ее шкала ценностей менялась в зависимости от практических соображений. Так что теперь никто не мог угадать ее реакцию на тот или иной вопрос, и еженедельная полемика в ее колонке «На острие»[3] неизменно вызывала удивление или возражение читателей.
На титул «Первой леди Флит-стрит»[4] Элли не претендовала, но считала, что четвертое или пятое место по праву принадлежало ей. На улице ее останавливали незнакомые люди и говорили: «Вы — Элли Шарп?» Они говорили: «Я хочу пожать вашу руку». Они говорили: «Я хочу дать вам пощечину». От всего этого она получала огромное удовольствие — особенно от того, что ей хотели дать пощечину. Она обожала быть противоречивой.
— Что? — спросила Джуин.
— Что?
— Ты сказала: «Знаешь…» Я спросила: «Что?» — Джуин почесывала животик развалившемуся на спине Маффи, а тот в восторге закатывал глаза. Его большие уши вывернулись наизнанку — розовой шелковистой подкладкой наружу. — Что я знаю?
— Я просто подумала, что тебе надо организовать вечеринку. Пригласи одноклассников. Я найму какой-нибудь ансамбль. А что? Отлично повеселимся. — Элли тут же представила, как в их высоком белом доме в Хакни (непокорная Джуин считала, что «Хакни» больше похоже на название какой-то кожной болезни, а не района на севере Лондона) пульсирует громкая рок-музыка, гудит жизнь. Элли решила, что нужно будет позвать и нескольких своих друзей. Уж они-то покажут, как надо веселиться.
— Не-а.
Полученный ответ не устроил Элли:
— Почему?
— Не хочется.
— Но почему?
— Просто не хочется, вот и все.
— Ты и вправду странная какая-то. — Элли двумя руками собрала и откинула назад серебристо-белокурые волосы, под которыми скрывались серьги в форме крупных колец. — Ну, тогда позвони Люси, — не сдавалась Элли. Она беспокоилась за Джуин, переживала из-за нее и твердо решила, что расшевелит ее.
— Люси Горст?
— Ну да. Пригласи ее в гости. Скажем, на следующие выходные. Составит тебе компанию.
— Она еще совсем маленькая.
— По-моему, ей уже четырнадцать.
— А ведет она себя так, как будто ей четыре с половиной, — презрительно фыркнула Джуин.
— Это из-за того, что мать от всего ее ограждает. И еще оттого, что Джеральдин ужасная ханжа. Я пыталась вправить ей мозги, я ей так и сказала: «Из-за тебя несчастная курица останется слабоумной», но с ней разговаривать бесполезно.
— Не понимаю, почему тебя это волнует. Тебе-то какое дело?
— И эта их дурацкая школа. Соломенные шляпы и клюшки для лакросса. Нет, я спрашиваю тебя…
— Ракетки.
— А?
— В лакросс играют ракетками.
— Ну хорошо, хорошо, — зевая, согласилась Элли. — Ракетки, клюшки… какая разница?
— Это касается только Джона и Джеральдин. Это их выбор.
— Джон? Ты думаешь, кого-нибудь волнует, что думает Джон? Сомневаюсь. Да он неисправимый слюнтяй. В нем от мужика, наверное, уже ничего не осталось.
— Все равно, — упорствовала Джуин, хотя от слов матери ее передёрнуло, — если они хотят, чтобы она училась в частной…
— Если они хотят выкинуть свои деньги в трубу…
— Да это их личное дело.
— Денег у них, конечно, предостаточно, о чем нам непрестанно напоминают. Но частные школы сейчас страшно дорогие. Горсты платят втридорога. И зачем? Ладно, если бы она была хоть сколько-нибудь умна, бедняжка. Если бы она была предназначена для великих дел. Что касается Доминика — да, есть вероятность, что эти расходы могут быть оправданы. В Доминике есть что-то от Дэвида. У него есть будущее. — При этих словах глаза Элли алчно заблестели. — Но Люси выйдет замуж за первого же попавшегося тупицу, попомни мои слова. Она станет похожей на свою мать, уцепится за какого-нибудь там адвоката или брокера и безобразно растолстеет.
— А мне нравится Джон, — возразила Джуин, которая, по мнению Элли, была чрезмерно лояльна по отношению к родственникам. — И Джеральдин вовсе не безобразно толстая.
— Я этого не говорила.
— Говорила. Ты сказала, что Люси безобразно растолстеет, как ее мать.
— На самом деле я сказала, что она выйдет замуж, как ее мать. И безобразно растолстеет.
— Что означает то же самое.
— Нет, не означает. И вообще, я говорила не об этом, а о том, ради чего это все.
— Ради чего это что?
— Мотив — вот что мне больше всего не нравится. Подспудные мысли. Что, они посылают своих детей в частные школы, чтобы те стали нейрохирургами, или учеными, или — как вариант — известными журналистами? Или они посылают их туда, чтобы потом в гольф-клубе похвастаться этим своим снобам-приятелям?
— А тебе не все равно?
— Нет, — с жаром ответила Элли, потому что ей действительно было не все равно.
Она часто и во всеуслышание заявляла, что раз государственное образование было достаточно хорошо для ее дочери, то значит, что оно достаточно хорошо и для любого другого ребенка («И все-таки, — как однажды насмешливо заметила Кейт в разговоре с Джеральдин, — это образование не настолько хорошо, чтобы Элли не приходилось регулярно наведываться в школу Джуин, надоедая учителям и указывая им на ошибки»). Это заявление Элли являло собой один из тех принципов, что она вынесла с баррикад своей бурной молодости. Но, как и другие ее принципы, он полностью находился во власти ее тщеславия. Да что там Джуин: раз государственное образование было достаточно хорошо для Элли Шарп, то оно достаточно хорошо для всех.
— Тогда почему ты продолжаешь дружить с Горстами? — поинтересовалась Джуин. — Зачем вообще видеться с ними? Зачем приставать ко мне, чтобы я пригласила Люси? По-моему, ты ее терпеть не можешь.
— Это потому что я думаю о тебе. Тебе нужна компания. И честно говоря, Джуин, мне кажется…
В этот момент зазвонил их радиотелефон.
— Спасенная звонком[5], — обыграла Джуин название сериала.
Она взяла телефон, подождала, пока он прозвонит раз, другой, третий, и только потом нажала на кнопку «Соединение». И не странно ли, что как только она это сделала, в эфире как будто появилась дыра, как будто раскрылся туннель длиной в мили, а в ширину — достаточно просторный для того, чтобы встретились и разошлись два голоса?
— Да? — сказала она довольно неприветливо. И потом: — Да, она дома.
Однако она не сразу передала телефон матери, а посидела с ним еще некоторое время, взвешивая его в руке и по-прежнему удивляясь этому чуду технологии, которое позволяло вторгаться в жизни других людей — этому потайному ходу на Лакспер-роуд в Тутинге, где жил…
Ее щеки вспыхнули румянцем, она резко поднялась и протянула телефон матери.
— Кейт, — коротко сказала она. И без особой необходимости добавила: — Тебя.
— Меня? — Принимая из рук дочери телефон, Элли заметила ее волнение и — чудовищная проницательность! — догадалась, чем оно вызвано. — Привет, Кейт, — сказал она в трубку, глядя всезнающими глазами на несчастную Джуин. Но: — Да-да… — повторила она и тут же вся подобралась, физически поднялась навстречу проблеме, сосредоточилась. — О, боже… Конечно, я понимаю. — Привыкшая к многосторонним переговорам, она одновременно стала вводить в курс дела Джуин: — У Кейт сейчас Наоми, — громким шепотом сообщила она ей. — Нет-нет, Кейт, это я говорила с Джуин. У Наоми, кажется, опять нервный срыв… Да, само собой, я приеду. Она хочет, чтобы я поехала и поговорила с нашей легкомысленной подругой. Нет, ничего. Я выезжаю прямо сейчас. Представляешь, что там творится? Бедная старушка Кейт! Да, я как раз говорила Джуин: «Бедная Кейт». Я буду через час. Пока.
— Из-за чего сыр-бор? — спросила Джуин с показной беззаботностью, принимая у матери телефон.
— Просто Наоми опять дурит.
— Да из-за чего? Что случилось-то?
— Она бросила своего Алана. Свалилась на голову Кейт и в настоящее время безутешна.
— А зачем позвали тебя?
— Ну, утешить ее.
— Но если она…
— Значит, я должна убедить ее не расстраиваться. С ней надо проявить твердость, а Кейт, как известно, на это неспособна. Она даже не знает, что означает это слово. Она, в сущности, тряпка, грубо говоря. Конечно, она славная, и милая, и добрая, и все такое, но… — Фразу закончила ироническая усмешка, в которой было все, что Элли думала о доброте: перехваленная добродетель, пригодная только для трусов. Только бы никто не назвал доброй ее. — Она сказала, что уже целый час уговаривает Ла-Маркхем, и чем больше уговаривает, тем больше льется слез.
— И ты теперь летишь на помощь? — Джуин изо всех сил притворялась безразличной.
— Ага. Ты поедешь со мной?
Джуин изучила обгрызенный ноготь на своем пальце, отгрызла от него еще чуть-чуть, снова изучила его.
— Да нет.
— Как хочешь.
Элли осушила свой стакан и, задевая на ходу розовые шары гортензии, вошла в дом через стеклянную заднюю дверь.
Джуин посидела на лужайке еще минут пять, безуспешно пытаясь научить Маффи подавать лапу, а затем они оба, разочарованные друг в друге, тоже проследовали внутрь.
В холле они застали Элли — одетую в красный комбинезон с открытой спиной и в туфлях на высоченных каблуках.
— Тебе обязательно надевать эти туфли? — запротестовала Джуин, морщась, хотя туфли как раз были наименьшим злом. (Любовный роман Элли с одеждой был самым продолжительным и самым неблагодарным в ее жизни.)
— Чем они тебе не нравятся?
— Ты в них как из инкубатора. Все в таких ходят.
— Это, милое мое дитя, «Валентино». За две с половиной сотни.
— Все равно они какие-то заурядные.
— О, моя консервативная дочь! — Элли достала из сумочки помаду и зеркальце и нарисовала себе такое злобное лицо, какое напугало бы и лошадь. — С возрастом это пройдет, не сомневаюсь. Так, меня некоторое время не будет, как говорил капитан.
— Какой капитан?
— Тот капитан. Капитан Оутс[6].
— А-а.
— Очень галантный джентльмен. Так, не забудь поесть, ты слышишь меня? В холодильнике есть салями.
— Ты же знаешь, я ненавижу салями. Все эти гадкие белые кусочки.
— Тогда ешь сыр. Или возьми один из моих диетических наборов.
Вместо ответа Джуин ткнула себя пальцем в горло и скосила глаза к носу.
— Ну-ка, поцелуйчик. — Элли подставила щеку, и Джуин якобы чмокнула ее. — Ты тут справишься сама?
— Конечно, справлюсь. Я ведь не совсем беспомощная, ты же знаешь.
— Знаю, радость моя. — Элли помедлила секунду, задумчиво глядя на дочь. Она думала о том, что Джуин удивительно похожа на отца, на добренького Тима, который по-быстрому оплодотворил Элли, а потом, как и договаривались, исчез с горизонта. Забавно, что, несмотря на все усилия Элли, несмотря на отсутствие Тима, Джуин все равно оставалась творением отца, а не матери. Очевидно, из этого парадокса можно было бы сделать интересные выводы о врожденном и привнесенном, но Элли было не до этого.
— Передашь от меня привет… Кейт? — Балансируя на одной ноге, как аист, Джуин изучала грязную сморщенную подошву другой ноги.
— Обязательно.
— И еще… сама знаешь кому.
— А, конечно.
Джуин вышла с матерью на крыльцо.
— Не пей много, если собираешься сесть за руль, — попросила она, не особенно, впрочем, надеясь, что мать последует совету. — Если выпьешь лишнего, лучше останься у Кейт на ночь.
— Ох, ну спасибо тебе огромное. Так вот за кого ты меня принимаешь? За безвольную алкоголичку?
— Хочешь сказать, что никогда не напиваешься?
— Бывает, но очень, очень редко. По особым случаям или по праздникам.
— Ты напиваешься в стельку. Все время. До бесчувствия. Пожалуйста, мама, будь осторожнее.
— Я всегда очень осторожна. Пока! — И Элли, наклонившись вперед, чтобы не сверзиться с четырехдюймовых каблуков, направилась к своей спортивной «тойоте».
Джуин, оставшаяся с Маффи на крыльце, услышала, как взревел мотор, как стартовала машина, оставляя за собой запах горелой резины. А через несколько секунд с проезжей части донесся визг шин и раздраженные автомобильные сигналы.
Ну, что теперь? Она поднялась на второй этаж, чтобы помыть то немногое, что осталось у нее от волос.
— Если ты так уж хочешь знать, — сказала Элли, — то это Мартин Керран.
— О господи, — рассеяно ответила Кейт, которая хотела знать о последнем амурном приключении Элли лишь постольку, поскольку той хотелось рассказать об этом. В действительности, если бы у нее был выбор, она бы предпочла остаться в неведении. Эти откровения камнем ложились на ее совесть. Ей тут же вспомнилась Руфь Керран, жена Мартина. Кейт всегда испытывала симпатию к этой женщине, чей рецепт penne[7] с томатами и творогом, записанный на обратной стороне старого чека, она использовала уже не раз и с большим успехом. А вдруг они случайно встретятся? Как она будет смотреть Руфи в глаза? Кейт совершенно не хотелось быть причастной к этому обману.
— Руфь ведь тоже не ангел, доложу я тебе. — Элли прочитала выражение лица Кейт и тут же попыталась оправдаться.
«Может, и нет», — допустила Кейт. Но все же было что-то ангельское в широко посаженных незабудковых глазах Руфи, в ее удивительно спокойном (потому что она ни о чем не догадывается?) выражении лица — трудно было поверить в то, что она была грешна.
— И кроме того… — Элли плеснула в свой измазанный помадой стакан довольно щедрую порцию шампанского «Пайпер Хайдсик», которое она купила по дороге, чтобы отметить «новообретенную свободу Наоми». Шампанское, налитое столь небрежно, вспенилось, как пенка для бритья, и медленно истаяло в неудовлетворительную малость. — Нет, ты посмотри, как я себя обделила. — С большей аккуратностью она долила свой стакан. — Кроме того, блаженны неведающие.
— Хм.
— И что значит твое хмыканье?
— Оно значит, что это чушь. Так не пойдет, Элли. Такое не смоется. В каком-то смысле от неведения будет только хуже. Это неправильно.
Кейт вспомнила Дэвида, который наполнил несколько месяцев их совместной жизни таким количеством измен, какого другим мужчинам хватило бы на целую жизнь. Она вспомнила, с каким сочувствием смотрели на нее окружающие. И эти телефонные звонки — незнакомые женские голоса, осторожные ответы Дэвида («Боюсь, я не смогу… Да, я знаю, что говорил… Ну что ты, разумеется, я…»).
Тут же ей вспомнилось о том, как однажды в школе она весь день проходила, не зная, что подол ее юбки сзади оказался заправленным в колготки, — всплыло просто потому, что воспоминания и о Дэвиде, и о несчастной юбке хранились в ее памяти в одной большой коробке под названием «Унижения, разное».
— А что, если Руфь обо всем узнает? — призвала она Элли к ответу. — Тогда ей будет не до блаженства.
— Нет. Она не узнает. С чего бы она узнала?
— С того, что тайное рано или поздно становится явным. Кого-то увидят. Кто-то проболтается. Или останется какое-то свидетельство — гостиничный счет, авиабилет, банковская справка, трусы в бардачке, всякие такие вещи.
— Человека можно застукать, только если он сам этого хочет, — отмахнулась Элли. — Только если он сам, в глубине души, неосознанно хочет, чтобы его поймали. Чтобы его наказали, а потом простили. Или если он хочет открыть карты. Ведь если он не хочет, чтобы его поймали, то уничтожит все следы, так ведь?
«Нет, — думала Кейт, — не уничтожит, если все эти уличающие его билеты, счета и справки можно будет, проявив некоторую изобретательность, предъявить у себя на работе как отчет о расходах на компанию и получить возмещение». С каким злорадством Кейт обыскивала карманы Дэвида и выкидывала эти драгоценные клочки бумаги, которые могли бы вернуть ему деньги, потраченные на волокитство!
— Со мной и Мартином такого не случится, потому что мы оба достаточно умные, уравновешенные, трезвомыслящие и осторожные люди. Кроме того… — Еще одно «кроме того»? — …это всего лишь небольшое развлечение. Это не надолго. К Рождеству уже все закончится, как говорили про Первую мировую.
— Вот именно. И посмотри, как все обернулось.
— Хм!
— И вообще, это была американская гражданская война[8].
— Что — это?
— Война, про которую говорили, что она закончится к Рождеству. — В школе Кейт всегда слушала учителей очень внимательно, не пропуская ни слова, и теперь, будучи крайне педантичной, замечала самые несущественные детали и просто не могла не исправить самую мелкую неточность.
— Это была Первая мировая.
— Нет, гражданская. Впервые так сказали именно про нее. То есть я имею в виду, что про Первую мировую так тоже сначала говорили, но…
— Пусть будет по-твоему, — раздраженно сказала Элли, будто отмахиваясь от надоедливого ребенка. — Я не собираюсь спорить с тобой. Хватит умничать, ладно? Перестань молоть этот ханжеский вздор. А лучше смочи-ка горло «Пайпером». Уф, благородная отрыжка! — пошутила она, не сумев сдержать ее после большого глотка. — Ведь мы здесь, чтобы сплотиться вокруг нашей подруги, чтобы поднять ее боевой дух и утешить в горе!
— Ах да, Наоми. — Кейт поднялась и подошла к комоду, схватила первое, что попалось под руку — велосипедный звонок, и бесцельно позвонила. — Спасибо, — кивнула она Элли, подлившей ей шампанского. — Мне показалось, что после разговора с тобой ей стало лучше.
— С ней надо быть потверже, понимаешь? Бесполезно потакать ей, как ты это делаешь, бесполезно ходить вокруг нее на цыпочках.
— Наверное, — смиренно согласилась Кейт. Это верно, что сколько бы Кейт ни утешала расстроенную Наоми, это не помогало. А вот Элли, с ее бодрым, деловым подходом, за несколько минут добилась того, чего Кейт не достигла за два часа ласковых уговоров. И когда слезы высохли, перед ними предстала притихшая и послушная Наоми Маркхем, которую затем отослали в ванную, чтобы «поправить лицо» и «привести себя в божеский вид».
— Поверь мне, это так.
— Слушай… — Кейт глянула на часы. — Она там уже целую вечность. Думаешь, с ней все в порядке? Может, пойти проверить, как там она?
— Ты шутишь? — состроила гримасу Элли, и они обе громко рассмеялись.
Когда-то, давным-давно, когда им еще не было и двадцати, в квартире в Холланд-парк это сводило их с ума. Тогда они ужасно ссорились из-за того, что Наоми прямо-таки оккупировала ванную комнату, запиралась там на час, на два, тратила на себя всю горячую воду, не отвечала на их стук в дверь и уговоры или же появлялась на мгновение, негодующая, завернутая в полотенце, чтобы сообщить им, по какой именно уважительной причине (надо обработать лицо тоником, сделать маску, нанести крем, побрить ноги) ее нельзя беспокоить.
— Я никогда не понимала, что она там делала так подолгу, — вспомнила Кейт. — Если верить тому, чему нас учат, Бог создал женщину за малую долю того времени, что ей требуется, чтобы подготовится к походу в кафе, — и при этом куда меньше суетился.
— И сырья ему понадобилось всего ничего, — согласилась Элли.
— О да, она всегда тратила кучу денег на косметику.
Слова эти сопровождались пренебрежительным фырканьем. В глубине души Кейт довольно презрительно относилась к рукотворной красоте, и сама никогда не пыталась хоть как-то приукрасить себя. Сейчас всю свою энергию она отдавала созданию прекрасных садов и уходу за ними. Пожалуй, вывод напрашивался сам собой.
— Пора ей вырасти из этой театральности, — изящно выразилась Элли, выбивая из пачки сигарету. — Она уже большая девочка, как и все мы.
— Мне кажется, она не очень уравновешенна.
— Да, она точно психованная, — радостно подтвердила Элли. — Хотя учти, ей сейчас тяжело приходится. Если девушка побывала топ-моделью со всеми вытекающими отсюда последствиями, то вся остальная жизнь покажется ей разочарованием. А если при этом она еще была сногсшибательной красавицей…
— Она до сих пор сногсшибательная красавица, — вставила Кейт, бросаясь на защиту того, что всего несколько минут назад вызывало у нее жалость. — Она очень следит за собой. И я думаю, что выглядит она сейчас прекрасно. Она практически не изменилась. Кстати, ты тоже, — любезно добавила она из чувства долга.
— Ага. — Элли сузила глаза, чиркнула зажигалкой, подвела колеблющийся кончик сигареты к пламени, прикурила, закашлялась и рукой разогнала дым. — А вот Джеральдин состарилась, правда? Конечно, в ее случае это было преднамеренно. Да и ты, милая моя, как ни прискорбно мне это говорить.
— О-о! — Кейт, застигнутая врасплох, не смогла скрыть своей обиды и гнева. В ушах у нее застучала кровь. Элли должна была играть по правилам. Только из вежливости и по доброте душевной Кейт сделала ей комплимент — и в ответ должна была получить вежливость и доброту. Да как смеет эта женщина, потасканная и обрюзгшая, сидеть здесь в своем нелепом костюме и отпускать обидные замечания личного характера?
— Ну, что ты надулась, как мышь на крупу? — спокойно прокомментировала ей Элли. — И не надо так пялиться на меня, а то вдруг глаза выпадут.
— Перестань, ради бога!
— Мне просто показалось, что ты какая-то усталая. Заезженная, понимаешь? Тебе нужен отпуск.
— Позволь тебе напомнить, я только что из отпуска. На Троицу мы с Алексом ездили в Бретань. Я посылала тебе открытку. С птичьим заповедником в Кап-Сизуне. Или с девушкой в национальном костюме.
— А, точно. — Элли вспомнила, что тогда сочла это довольно странным, чтобы двадцатидвухлетний парень ездил отдыхать с мамочкой. Только памятуя об исключительной самобытности Алекса, Элли не стала презирать его за это. — К тому же, — добавила она, — ты седеешь.
Кейт резко села на стул и схватилась за край стола, пытаясь физически удержать себя от того, чтобы не помчаться к зеркалу проверять эти ужасные слова.
— Может, ты тоже седеешь, — выпалила она. — Кто знает, может, ты вообще вся седая под этой… пергидрольной мочалкой. Может, ты вся белая.
— Может, — невозмутимо допустила такую возможность Элли, — кто знает. И самое замечательное в этом то, что никто не знает. Я вот не знаю, так почему меня это должно волновать? И опять мы вернулись к нашему доброму старому неведению и, соответственно, блаженству.
— А я говорила тебе, что не верю в эту идею.
— Да, ты в нее не веришь. Дело в том, Кейт, что тебе идет быть старой. Такие женщины бывают. У тебя очень английское лицо. Пусть оно не отличается особой красотой, зато в нем есть характер, что, согласись, куда более долговечно.
— Должна сказать… — начала Кейт. Но оказалось, что она уже ничего не должна, потому что в этот момент в дверях появился Алекс, и, оборачиваясь, радостно улыбаясь ему, она отбросила незаконченную мысль, отбросила недосказанную фразу и весь разговор.
— Я переезжаю в гостевую комнату. Прибрал там немного, — доложил он, пополняя свалку на комоде набитой окурками пепельницей и двумя кружками с засохшей кофейной гущей. — Ага, мои носки! А я никак не мог их найти.
— Они не парные, — предупредила его Кейт.
— У меня в шкафу есть два точно таких же непарных носка.
— Какое совпадение.
— Мне страшно повезло!
— Эй, красавчик, — позвала Элли, встревая в их шутливый диалог. — Подойди-ка сюда, большой мальчик, и поцелуй тетю Элли.
С шаловливой усмешкой Алекс послушно подошел к ней и нагнулся, чтобы чмокнуть ее в щеку, но она схватила его за шею и подвергла глубокому, влажному, сексуальному целованию. Наконец отпустив его, она принялась за уговоры:
— Послушай, будь другом, сойдись с моей Джуин. Ей не терпится трахнуться поскорее — узнать, что это такое, а мне так хочется, чтобы у нее все получилось. Ну, там, первый раз и все такое. Чтобы у нее был хороший старт. К тому же она запала на тебя, я-то вижу, все признаки налицо.
Какое бесстыдство! Какая невероятная развязность! От негодования у Кейт перехватило дыхание. Как она может так разговаривать с ее Алексом! И говорить такое про Джуин — бедняжка умерла бы от стыда, если бы узнала!
Однако Алекс, без малейшего намека на замешательство, очень вежливо ответил (правда, потрясенная Кейт уловила не больше половины) в том смысле, что Джуин — очаровательная девушка, но что пусть она поступает как сама считает нужным.
— И ведь ей всего шестнадцать. Куда торопиться?
— Куда торопиться? — закатила глаза Элли. — Он спрашивает, куда торопиться. Да мы в твоем возрасте уже были спецами в этом деле.
— Ах, Элли, — вздохнул Алекс с притворным сожалением, — времена меняются.
Все-таки до чего же он обаятелен, сколько в нем внутреннего такта. Откуда в нем это? «Ну, уж точно не от Дэвида», — с отвращением вспомнила бывшего мужа Кейт (такое случалось нечасто; в целом она не могла испытывать чрезмерной неприязни к человеку, который сделал ей самый главный подарок в ее жизни). Но и не от нее, потому что она в этом смысле была абсолютно неуклюжа: то слова вымолвить не может, то вдруг сболтнет что-нибудь лишнее; она не могла точно выразить то, что имела в виду, и говорила то, чего говорить не собиралась.
У нее внутри все сжималось от счастья, когда она смотрела, как он идет из кухни в сад. Не спуская глаз с его удаляющейся спины, она поднесла свой стакан к губам, наклонила, промахнулась и вся облилась шампанским.
Алекс Гарви уселся на заднем крыльце, прислонился спиной к стене, цепляясь футболкой за кирпичи, и ухмыльнулся при мысли о том, как, избавившись наконец от своих сумасшедших гостей, они с Кейт будут вспоминать о них и покатываться со смеху. Подтянув к себе колени, он прищурился и стал рассматривать вымощенный плитками квадрат, где суетились черные муравьи, трудноразличимые, как мелкий шрифт — кошмар дислексика.
В нескольких футах от него раздался плеск: из сливной трубы вырвался мыльный поток, сигнализируя о том, что Наоми наконец вышла из ванной. Значит, дела идут.
Он вдохнул аромат теплой воды, в которой недавно лежала Наоми; это был запах женщины — квинтэссенция женственности — интимный, как телесные флюиды, одновременно знакомый и бесконечно чужой. И что-то потаенное шевельнулось в нем.
В памяти всплыла картина, будто отраженная в елочной игрушке, она мерцала искрами и переливалась. На переднем плане наплывали, искажаясь, лица. Звуки гулким эхом разбегались по коридору лет.
Он видит Наоми и Кейт. Они ведут его за собой по косметическому отделу какого-то универмага. Пакеты, сумочки, подолы курток задевают его по лицу. «…Последний автобус», — раздается сверху чье-то грозное предостережение (ему кажется, что это объявление о скором конце света).
Он видит — но смутно, будто сквозь катаракту глаз памяти, — как Наоми останавливается у прилавка, берет флакончик духов, наносит каплю на запястье…
Огни кружатся все быстрее. Голоса грохочут. И вот он сидит на ступеньках, ведущих в продуктовый зал, опустив голову между коленей. «Тебе лучше? — спрашивает Кейт, обнимая его за плечи. И добавляет, очевидно, в адрес Наоми: — Это из-за низкого сахара в крови, как ты думаешь? Должно быть, он проголодался. Надо купить ему что-нибудь поесть».
Это воспоминание, хотя и принесло с собой дезориентацию и легкое головокружение, все же не было неприятным. Взволнованный, возбужденный, чувствуя себя так, словно его застигли за подглядыванием, он встал и занялся делами: убрал газонокосилку в сарай, запер сарай на замок. И попытался забыть о кратком прикосновении к чужой сексуальности.
Он был привычен к обществу женщин: к взлетам и падениям их настроения, к их циклам, к удивительно откровенному характеру их разговоров — когда раскрываются сердца и изливаются души, к случающимся время от времени проявлениям бесстыдства, к их глубоко личным признаниям, к их безудержному смеху и обильным слезам. Он вырос среди мягких грудей, полных ягодиц, крутых бедер, шуршащего нейлона и упругих резинок. Он был знаком с пышной анатомией зрелых женщин, которая удерживалась в целости только благодаря лямкам, поясам, крючкам и петелькам — такое складывалось впечатление. Он слышал о том, как с помощью карандаша определить пол будущего ребенка, об упражнениях для укрепления мышц влагалища, о прокладках и тампонах, соскобах из матки, предменструальном синдроме… Все это ничуть не смущало его. И в целом эту причастность к миру женщин он считал своей привилегией.
Но бывали моменты, как этот, когда он задыхался, когда этот мир захлестывал его, и тогда ему хотелось простоты и поверхностности братства за стойкой бара, хотелось сыграть партию в дротики и выпить пинту пива, хотелось час-другой отдохнуть.
«Вечером пойду в паб, — решил он и удовлетворенно опустил ключ от сарая в карман джинсов. — А они пусть напиваются и рыдают без меня. Пусть устроят себе настоящий девичник. Вспомнят старые времена».
При этой мысли он внутренне содрогнулся.
Глава вторая
Не все было так уж плохо. Например, что касается седины, то Кейт с облегчением узнала, что Элли если не соврала, то, по крайней мере, очень фривольно обошлась с правдой. Тщательное обследование висков — в безжалостном утреннем свете, с применением частого гребня, — показало, что седых волос со времени последней проверки не прибавилось. Так что унывать по этому поводу не стоило.
Однако оставалась Наоми. Точнее было бы сказать, Наоми оставалась. «Позволь мне побыть у тебя», — попросила она, и оказалось, что она собиралась именно «быть», а не «жить» или «гостить», то есть хотела пользоваться всеми преимуществами крыши над головой, не обременяя себя при этом ни обязанностями постоянного жильца, ни обязанностями гостя.
Прошло уже десять дней, а Наоми по-прежнему не имела понятия, когда, а главное — куда она съедет. Этот вопрос был для нее таким болезненным, что каждый раз, когда он возникал, она закрывала глаза, морщила лоб, сжимала переносицу большим и указательным пальцами и со свистом втягивала воздух.
— Ты должна предъявить ей ультиматум, — такой совет получила Кейт от Элли, когда та позвонила ей в воскресенье утром, чтобы посплетничать. Вообще-то Элли не столько сплетничала, сколько поливала грязью. И то, что в этот раз она мучилась похмельем, не только не смягчало ее суждения, а, наоборот, делало их еще более категоричными.
— Установи срок, — убеждала она. — Скажи ей, что она должна съехать к концу месяца. Будь твердой. Как я. Иначе она просидит у тебя до Рождества.
— Но как так можно? — ужасалась Кейт, стараясь говорить потише, прикрывая рот ладонью, чтобы слова ее не достигли спальни на втором этаже, где почивала Наоми. Действительно, как можно? Если так будет продолжаться, она и вправду скоро поседеет, удрученно думала Кейт, она ссутулится и покроется морщинами. Но как положить этому конец, с ее-то мягкой, миролюбивой натурой? В ней самой не было другого гнева, кроме того, что рождался в ней от презрения, оскорблений или нападок других людей. Прежде чем Кейт решится на конфронтацию, Наоми придется обеспечить ее необходимой силой чувств. Простая самовлюбленность, лень, нечуткость были лишь мелкими неприятностями — их было недостаточно для того, чтобы Кейт разозлилась. И, разумеется, невозможно было сердиться на Наоми за то, что случилось с атмосферой в доме.
— В конце концов, от нее ведь никакого вреда, — оправдывала свою нерешительность Кейт, но, откинув челку со лба, пригладив ее тыльной стороной ладони, она задумалась, а не рассказать ли Элли о «духе Наоми», который наводнил ее жилище.
— Я и не говорю, что от нее есть вред. Но вот…
— Что?
— А ты не хочешь позвонить в муниципалитет?
— Зачем?
— У них ведь есть специальная служба по борьбе с паразитами? Можно позвонить им, и они пришлют людей в масках с опрыскивателем.
— Не будь такой злой, Эл. Она же наша подруга, помнишь? И она нуждается в нашей помощи. Кстати, может, ей стоит пожить у тебя, а? Это идея!
— Ага, идея. Выкинуть на помойку эту идею. Я лучше дерьма поем.
— Мне кажется, ты могла бы поднять ей настроение.
— Я не занимаюсь подъемом настроения. Если бы Господь Бог хотел, чтобы я была солнечным лучиком, то я уже давно бы это заметила.
— Зато у тебя много места.
— А мне нравится, чтобы у меня было много места. Ненавижу тесноту. Кроме того, я очень занята. Может, ты не заметила, но моя жизнь вся расписана по минутам.
— А моя, значит, нет?
— Далеко не в той степени, как моя!
— Ха! — Кейт засунула руку под футболку и почесалась, поддевая пальцами края бюстгальтера, который в последнее время стал прямо-таки впиваться в тело. Общаться с Элли было невыносимо, но с другой стороны, рассуждала Кейт, не общаться с ней немыслимо. Это как если взять свой самый нелюбимый цвет — какой-нибудь особенно отвратительный оттенок лилового — и навсегда удалить его из спектра.
— Это так, ты сама знаешь.
— Ну ладно, Элли, зато ты можешь быть такой убедительной. Ты могла бы вдолбить ей немного здравого смысла.
— С чего ты это взяла? Тебе же я не могу ничего вдолбить. Что я тебе только что сказала? Проведи черту. Скажи ей, что не можешь жить с ней. Все, больше ничего не требуется.
— Честно говоря, она не причиняет мне большого неудобства, — стояла на своем Кейт.
Правда, справедливость последнего утверждения зависела от того, что иметь в виду под словом «неудобство». Например, Кейт не имела ничего против того, чтобы, придя домой, наталкиваться на немытую посуду в раковине, на горелые спички в коробке, на холодный мутный чай в заварном чайнике, на не закрытый крышкой мармелад, в котором осы нашли свою липкую смерть. Она не имела ничего против того, чтобы убирать за своей гостьей, смывать засохшую пену с ванны, выковыривать из сливного отверстия пучки длинных волос, восстанавливать в доме привычную степень беспорядка.
Неудобством же она считала этот слабый, но стойкий след скуки. Повсюду она видела признаки дня, проведенного в бездействии. Передвинутые мелкие предметы, сувениры — подхваченные равнодушными руками, подверженные поверхностному осмотру, потом отставленные. Начатый и брошенный кроссворд, в который неверные ответы сначала были небрежно вписаны, а потом вычеркнуты или заменены другими неверными ответами. Испещренный закорючками блокнот у телефона — цифры и нечитаемые записи свидетельствовали о бесцельных беседах бог знает с кем.
— Хотя что я зря стараюсь: понятно, что ты не станешь ее выпроваживать, — продолжила Элли с присущей ей резкостью, — потому что в душе ты любишь, чтобы на тебе ездили.
— Нет! Я очень этого не люблю.
— Тогда ты просто трусиха! Боишься испортить отношения? Боишься, что тебя не будут любить?
— Ну и что? Все этого боятся. Даже ты.
— Это риск, на который я готова пойти.
— Тебе просто нравится провоцировать, это твой стиль, Элли, хотя тебе так же нужна симпатия окружающих, как и всем нам. В общем, я поговорю с Наоми, но по-своему.
И Кейт поговорила. И, сделав это по-своему, не преуспела.
— Может, съездишь ненадолго к Джеральдин? — отважилась она вчера задать вопрос звенящим от лицемерия голосом. — Я собираюсь к ней завтра. Могу и тебя захватить. Смена обстановки тебе не повредит. И я считаю, что полезно бывает удалиться от своих проблем на некоторое расстояние. Так можно взглянуть на все с совершенно новой точки зрения. Кроме того, свежий воздух пошел бы тебе на пользу. — Кейт действительно верила в благотворное воздействие свежего воздуха, в его оздоровительный эффект. Она уже рисовала в своем воображении, как вывезенная на природу Наоми воспрянет, как на ее бледных щеках вновь зацветут розы. — Ты выглядишь ужасно больной.
Но нет, Наоми была непреклонна, она не может уехать из города, она должна оставаться в Лондоне из-за работы.
— Какой работы? — опрометчиво и нечутко поинтересовалась Кейт.
Опять слезы. Просто реки слез, всхлипывания и утирание щек ладонью:
— Я бросила карьеру ради этого ублюдка, — рыдала Наоми, частенько оперирующая полуправдами. — Я все бросила ради него.
«Она так зависела от Алана», — рассуждала Кейт во вторник утром, снимая с решетки гриля остатки вчерашнего цыпленка. Пушкин и Петал, в состоянии возбужденного предвкушения, вдыхая слегка сернистый запах курятины, с мурлыканием терлись о ее лодыжки.
Кухня была наполнена дрожащим утренним солнцем, которое к полудню уйдет, милосердно забирая с собой разводы с оконного стекла, скопления пыли и другие признаки не самой тщательной уборки.
На комоде лежала нераспечатанная почта. Там было два письма для Алекса — из банка и от строительной компании, обратила внимание Кейт, но бездумно, поскольку прошли те времена, когда по почте приходили загадочные конверты, по-девичьи аккуратно надписанные фиолетовой пастой, надушенные как целый бордель и запечатанные любовным поцелуем. Корреспонденция же последних лет не требовала ни принюхивания, ни разглядывания на свет.
И так же прошли те времена, когда от стука крышки почтового ящика, шуршания газет, свиста почтальона у Кейт замирало сердце: пришел чек от Дэвида или нет?
На лестнице послышались нетвердые спросонья шаги Алекса.
— Как это ужасно, да? — проговорила Кейт почти довольным тоном, адресуя свои слова дверному проему, где вот-вот должен был появиться его силуэт. Сама она наклонилась, чтобы разложить неаппетитные полоски мяса в кошачьи миски.
— Что ужасно? — спросил Алекс без особого интереса.
Кейт со стоном выпрямилась и, держа руки перед собой, пошла к раковине, чтобы смыть жир.
— Как это неправильно, что в то время как половина мира голодает, наши киски трескают откормленных кукурузой цыплят.
— Не думаю, — сказал Алекс, — что наши киски согласятся с тобой. Уверен, что, с их точки зрения, все справедливо. Это вопрос точки зрения.
Тем временем далекие от подобных рассуждений Пушкин и Петал ели и бросали жадные взгляды на миски друг друга, боясь, что другому досталась лучшая порция, пока наконец не убедили себя в этом и не поменялись местами.
— Наверное, ты прав. И к тому же разве можно что-то изменить? Не посылать же объедки в общество по борьбе с бедностью? — Быстро успокоив таким образом внезапный приступ сознательности, она сунула в гриль два куска зернового хлеба и спросила: — Ты завтракать будешь?
— Тосты не хочу. Но, если я не ошибаюсь, тут пахнет свежим кофе…
— Нет, ты должен съесть хоть что-нибудь, — заволновалась Кейт. — К одиннадцати часам ты от голода упадешь в обморок.
— Да? Ну ладно, давай.
Он зевнул, прикрыв рот ладонью. Он сгрызет этот тост, напоминающий по вкусу опилки, только чтобы сделать Кейт приятное. У него был очень мужской аппетит, иногда сильный, иногда не очень, и ел он, как все мужчины, только ежели был голоден — что было трудно понять такой женщине, как Кейт, в которой аппетит и эмоции были перемешаны воедино.
— Если поторопишься, — предложила она, — я подвезу тебя к метро. Но мне надо выехать не позже восьми.
— А, не надо. Я сегодня в офис не пойду. Сначала поработаю дома с бумагами, а в обед у меня деловая встреча.
— Что-нибудь интересное?
— Мне предлагают разработать новый дизайн одного журнала. Думаю, да, это будет интересно.
— Угу. — Улыбаясь, она налила ему кофе.
«Мой сын график-дизайнер», — любила она говорить сама себе и говорила бы другим при каждой возможности («Помогите, помогите, мой сын график-дизайнер тонет!»), не будь в ней так развито чувство самоиронии.
Сейчас ее сын график-дизайнер сидел, положив локти на стол, и вежливо слушал радиопередачу «Мысль дня». Раз уж какой-то человек взял на себя труд поразмышлять о природе и значении человеческих отношений, а потом решил поделиться выводами, то следует, по крайней мере, выслушать его.
— Масло или маргарин?
— Да, спасибо.
— Так что?
— Что? А, извини. Все равно.
Во имя артерий Алекса она выбрала для него полиненасыщенный маргарин.
— Ну а ты? — хотел он знать. — Какие у тебя на сегодня планы?
— Отличные планы. — Она глубоко вдохнула и прикрыла глаза, словно наслаждалась изысканным ароматом розы. — Сначала поеду в центр садоводства. Потом кое-что посажу у Горстов. А после обеда загляну в книжный магазин.
— Но сначала к Джеральдин, да? — Он презрительно фыркнул в кофе, так как из всей человеческой расы одна его тетя вызывала у него неприязнь — из-за ее высокомерного отношения к Кейт. — Она заставляет тебя отрабатывать каждый грош.
— Ну-ну, что ты, — укорила его Кейт. — С Джеральдин все в порядке. Она очень помогла мне, когда ты был еще маленьким. Тогда Дэвид все время запаздывал с алиментами, и мне нечем было платить по счетам.
— И с тех пор она взимает с тебя этот долг натурой.
— Это несправедливо.
— Справедливо. Ты сама знаешь. Она заездила тебя.
— Ерунда, — успокаивала его Кейт рассеяно, мысленно уже поглощенная предстоящим днем. Во-первых, заехать в теплицу, прикидывала она. Заполнить багажник подносами с улыбающимися, кивающими маргаритками. Потом в Суррей. — Так, все, я поехала. Будь паинькой. — Его макушка, с бледной кожей под веселыми завитками темных волос, была невероятно притягательной для Кейт; она прикоснулась к ней сначала пальцами, а потом губами. — Надеюсь, твоя встреча пройдет успешно. Пока.
Она быстро прошла по коридору и скользнула в теплые объятия утра.
— Привет, — сказала она, сталкиваясь у калитки с мальчишкой-газетчиком, пытаясь обойти его, уступить ему дорогу, чтобы он мог доставить «Глоуб» — на растерзание Наоми, когда тремя, четырьмя, пятью часами позже та выйдет из спальни.
Все вокруг сияло, наполняя день ложным обещанием нескончаемого, великолепного лета. Тротуар был забрызган солнечным светом. Казалось, что листья бирючины за ночь стали еще более блестящими. Искрилась даже трава, пучками пробивающаяся между корней платана у обочины.
От этого она ощутила прилив счастья, прилив оптимизма. Она даже напела (фальшиво) несколько нот, пока открывала свой маленький «фиат-панда». Машину эту она выбрала не из-за размера, не из-за экономичности, а потому что ей понравилось название, потому что панды были такими милыми. Сев за руль, она быстренько проверила, не появились ли новые седые волосинки, потом поправила зеркало заднего вида и окинула взглядом открывшуюся панораму: лампочка на потолке, корзина и лопата на заднем сиденье, неудачно припаркованный серебряный «субару» Уилтонов. У нее было приятное ощущение нахождения вне себя, как будто она со стороны наблюдала за своими действиями — действиями деловой, эмансипированной и свободной женщины.
Бедняжка Наоми всю ответственность возлагала на своих мужчин. Она отдавала всю себя своим любовникам. Алан содержал ее, кормил и одевал. Она оставила его, и у нее ничего не осталось.
Положение одинокой женщины представлялось Кейт теперь исключительной привилегией. Как ей повезло, что она самодостаточна! Насколько же обеспечивающий счастливее обеспечиваемого! В каком-то смысле она должна быть благодарна Дэвиду. Это благодаря его распущенности она была вынуждена взять жизнь в свои руки, получить профессию, которую она так полюбила, стать специалистом. Этот адский выкормыш — как теперь она его добродушно называла — тратил на один свой обед с выпивкой больше, чем его жена и ребенок имели в неделю. Но в результате она стала только богаче, так что все это можно простить.
Кейт включила зажигание, и улыбка уступила место ее обычному «водительскому лицу» — выражению опаски. Осторожно, как всегда, она включила первую скорость, отпустила сцепление и двинулась вперед короткими рывками.
— Почему ты никогда не слушаешь, что тебе говорят? — Элли в состоянии кипящей ярости являла собой ужасное зрелище. На верхней губе выступили капельки пота, и вся она будто испускала свечение.
Тревор, однако, оставался невозмутим. Его это не касалось. Грубо говоря, ему на это было наплевать.
— Вы мне ничего не говорили, — напомнил он без выражения.
— Записка! — возопила Элли. — Я оставила тебе записку!
— Записку невозможно услышать.
— Если только это не музыкальная открытка, — вставила бесполезное замечание Джуин, но затем, чтобы показать свою добрую волю, опустилась на колени, похлопала ладонью светлый ковер, осмотрела ладонь, похлопала по ковру еще немного.
— Осторожней! — прикрикнула на нее Элли. — Ты раздавишь ее коленями. — Она подхватила диванную подушку и принялась трясти и взбивать ее. — Я написала записку, чтобы ты, Тревор, прочитал ее. И оставила ее там, где всегда оставляю записки. — Она указала на столик из хрома и стекла у высокого подъемного окна, где, само собой, и лежал желтый стикер с инструкциями на день. Элли пересекла комнату, отлепила листок, поднесла его на пальце Тревору под нос, чтобы тот прочитал и раскаялся. — Как видишь, здесь написано, чтобы ты ни в коем случае не убирался здесь.
В озорном утреннем свете ее тело просвечивало сквозь шелковистый халат цвета слоновой кости — как фитиль свечи сквозь бледный стеарин. На ее лице играли пятна тени, отбрасываемые липой, и странным образом еще более усиливали ее грозную гримасу.
— Да? — Может, для солнца Элли и была непроницаемой, а вот для Тревора — нет: усилием воли он заставил ее раствориться. В его воображении возникла знакомая лондонская улица: ряд аскетических домов, беленых, со снисходительными крылечками. И на ум ему пришла совершенно праздная мысль о том, какими разными были устремления владельцев этих домов, расположенных в одном из тех районов, которые постоянно менялись, не принимая ни одной законченной формы, и где сосед мог оказаться пианистом или продавцом наркотиков, проституткой или кинопродюсером. Элли привлекла сюда некая богемность атмосферы, смешение упадка и обновления, привлекло то, что в ее понимании было «жизнью улицы» и за что она расплачивалась огромными страховыми взносами.
— Ой, мне пора, — забеспокоилась Джуин, вставая с пола и тщательно отряхивая юбку, — у нас сегодня собрание.
— Плевать на собрание, — расправилась с ее тревогами Элли. — И не топай же так. Смотри, куда ставишь ноги.
— И вы ведь не всегда оставляете записки, — стоял на своем Тревор. — Откуда мне знать, есть сегодня записка или нет?
Элли сложила руки на груди. Некоторое время ее горящий взгляд метался между лепными деталями потолка, настенными панелями, мраморной отделкой камина, вазой с искусственными на вид лилиями и итальянской лампой. Могло показаться, что она пытается совладать со своими чувствами; на самом же деле она, скорее всего, просто собиралась с силами. Наконец она заговорила:
— Если я оставляю записку, когда я оставляю записку, значит, тогда ты и должен ее найти и прочитать. И мне кажется, не так это трудно — пойти проверить, нет ли записки!
— Тебе легко говорить. — Джуин подхватила сумку и, порывшись в ней, достала квадратное зеркальце, в котором отразилось ее раздражение. — К тебе же никто не пристает, чтобы ты следила за часами работы, ты ведь уходишь и приходишь когда вздумается. О черт, что у меня с волосами! И где мои ключи? Все, я побежала, а то меня оставят после занятий.
— Тогда вообще не ходи. Скажешь, что заболела.
— Да ты что? У меня вот-вот начнутся экзамены, ты не забыла? Я не могу пропускать занятия каждый раз, когда у тебя что-то случится.
— У тебя было пять лет на то, чтобы подготовиться к этим дурацким экзаменам. И если ты все еще не готова, то это твоя вина, а не моя. О господи, немедленно уберите отсюда это животное! — В дверь влетел Маффи, привлеченный всеобщим оживлением, и занялся исследованием гостиной, вертя хвостом, как знаменем, и обнюхивая каждый предмет. — Брысь! — заорала Элли вне себя, разгневанная отсутствием поддержки на всех фронтах. Два размытых нечитаемых лица; собака — темное пятно, мечущееся по всей комнате. Неужели в этом неуправляемом доме ни на кого — ни на кого — нельзя положиться? Потрескивая разрядами статического напряжения, Элли пустилась вдогонку за собакой.
Сегодня утром ее восхитительно забавный сон был прерван завываниями пылесоса. Во вчерашнем макияже и в отвратительном расположении духа она слетела с кровати. В этот момент с ней было лучше не встречаться. До десяти утра ее, сову по натуре, вообще нельзя было трогать. А когда она, прищурившись, чтобы разглядеть циферблат часов, обнаружила, что еще не было и девяти, то ею овладело убийственное настроение.
— Кроме того, — продолжила она тему, выдворив собаку и все еще тяжело дыша, — кому нужны эти экзамены? Я стала собой не потому, что зубрила день и ночь. Послушай, хочешь, я напишу записку мисс Пушфейс, что ты заболела? А?
— И вообще это не моя проблема, — встрял Тревор со своими оправданиями. Тем временем из-за двери доносилось царапанье и скулеж недовольного Маффи. — Вы сами недоглядели за своими вещами, значит, это ваш собственный недосмотр.
— А если я тебя уволю, то это будет твой недосмотр. — Элли уставилась на него таким ледяным взглядом, что у более восприимчивого человека кровь застыла бы в жилах. (Если бы на такой взгляд наткнулся василиск, то он со стыдом ретировался бы домой размышлять о смене рода занятий.)
Однако Тревор всего лишь пожал плечами и уставился на свою работодательницу не менее ледяным взглядом. Ну и увольняй, говорил весь его вид. Мне-то какая разница?
Он был долговязым, тощим подростком с серовато-бледной кожей. Питался он, насколько можно было судить, исключительно чипсами и вином. Он учился на художника, и его заработок у Элли был лишь прибавкой к его стипендии. Своим поведением он демонстрировал, что не являлся домработником в полном смысле этого слова, а в качестве визиток носил в нагрудном кармане фотографии своих работ — мрачных картин внушительных размеров с апокалиптическими названиями и дерзкими ценами, указанными на обороте.
Если у него и было чувство юмора, то он держал его при себе вместе с другими своими более тонкими чувствами и политическими убеждениями. Что касается последних, то Элли неоднократно пыталась узнать, что они собой представляют, и с этой целью потчевала Тревора рассказами о славных деньках Гросвенор-сквер. Но он открыл только то, что раньше был нигилистом — до тех пор, пока не утратил последние иллюзии.
Столь часто повторяемая угроза уволить его стала напоминать вечно капающий кран: они оба уже не слышали ее. Время от времени Элли задумывалась, а не лучше ли ей нанять нормальную прислугу вроде этой миссис Слиппер-Слоппер, что работала у Джеральдин: какую-нибудь милую старушку с голубым перманентом и больными ногами. Назвать Тревора «сокровищем» при всем желании было невозможно.
С другой стороны, он был необычным, о нем можно было говорить. И к тому же ее ужасно забавляло, что полы в ее доме мыл молодой человек. Когда она была в хорошем настроении, то ее обращение с ним сводилось к унизительным, пошлым сексуальным заигрываниям (вроде тех, что выпадают на долю многих молодых женщин в подчиненном положении). В плохом же настроении, как сейчас, она бранила его на чем свет стоит.
Тревор иногда спрашивал сам себя, что было неприятнее: приставания или поношения. Ответ был всегда одинаков: что шесть штук одного, что полдюжины другого. Но в общем и целом и то и другое он мог вынести. Гораздо больше его раздражала неаккуратность Элли: она как будто намеренно увеличивала объем его работы. Он слышал о хозяевах с обостренным чувством гордости, которых присутствие приходящей прислуги даже дисциплинировало. Такие люди, не желая, чтобы их домработница заметила хотя бы пылинку, встают на рассвете и делают к ее приходу генеральную уборку. Подобные истории вызывали у Тревора приступы глухого, лающего смеха.
— Честно говоря, это уже слишком! — кипятилась Элли. — Я уже не могу вернуться домой после хорошо проведенного вечера, потерять линзу и отложить ее поиски до утра. Обязательно найдется какой-нибудь тупица и с утра пораньше начнет пылесосить! — Она достала сигарету из серебряного портсигара, прикурила с помощью ониксовой зажигалки, потом вынула сигарету изо рта и уставилась на ее тлеющий кончик. — Не вижу другого выхода, — решила она. — Придется тебе проверить содержимое пылесоса.
— Это шутка?
— Ты можешь заняться этим в саду. Расстели газету и просей руками все, что есть в пылесборнике. Что ты сказал?
— Ничего.
— Мне показалось, ты меня как-то назвал.
— Я сказал: «Старая кошелка». В смысле, пылесборник старый. Его надо менять.
— Заодно и поменяешь. Запасные лежат в буфете.
— Да, сахиб.
— И не огрызайся.
— Как прикажете, сахиб.
Он вытащил пылесос на террасу. Потом нашел старый номер «Глоуба», раскрыл его на странице с колонкой «На острие», придавил страницы камнями, высыпал серые пухлые комья прямо на фотографию Элли и приступил к поискам. Игривый ветерок раздувал занавески. Он налетал поочередно с разных сторон: то от дома слева, то от дома справа, принося, соответственно, то звуки регги, то оперные арии. Постепенно дом наполнился удушающими клубами пыли.
— Угадайте, что я нашла! — раздался триумфальный возглас Джуин, выбежавшей из ванной под затихающее урчание сантехники. Она нашла Элли на пути в спальню и сунула ей под нос сжатый кулак.
— Что это? — Элли прижала пальцы к виску. Она не отрицала, что вчера вечером выпила лишнего. Вот только не могла решить, что именно было лишним. Она склонялась к тому, что причиной ее плохого самочувствия был стакан белого сухого в пабе, а не бутылка превосходного красного вина, заказанного позднее в ресторане, и не шампанское, которое они с Мартином выпили по дороге домой «на сон грядущий». Да, в том первом пойле определенно было что-то подозрительное.
— Угадай! — продолжала поддразнивать ее Джуин.
— У меня нет времени на эти игры. Как, впрочем, и у тебя. Ты же опаздывала в школу. У тебя же скоро экзамены.
— Плевать на школу! Плевать на экзамены! — Джуин разжала пальцы. На ее мягкой ладошке лежал маленький цветной диск. — Она была в мыльнице. Пристала к мылу, как пузырь.
— Моя линза. Как она там оказалась?
— Да, вот уж загадка так загадка. Может, ты ее туда сама положила?
— Но я думала, что уронила ее…
— Значит, не уронила. На, забери у меня эту мерзкую штуку, у меня от нее мурашки.
— Спасибо, сладкая моя. Так ты уходишь?
— Ну да.
Элли дошла с ней до крыльца и встала там с горделивым видом большой, хищной птицы:
— Передай Тревору, что линза нашлась, — скомандовала она. — И скажи ему, чтобы он перестал скандалить. И так уже пол-утра потерял. Пусть идет убирать гостиную.
Раздраженная Элли решила, что раз уж ее разбудили, снова идти в постель не было смысла. Вместо этого она улеглась в горячую ванну смывать усталость. Она намеревалась пробездельничать все утро и подняться к себе в кабинет, чтобы почитать газеты, не раньше часа. Или двух.
В те дни, когда над ней не висел срок сдачи материала и не было других дел, в офисе она появлялась в районе одиннадцати. Там она разбирала свою почту, выбрасывая большую часть писем в урну и диктуя презрительные ответы на те послания, чьим авторам повезло меньше, затем проглядывала основные новости и колонки других журналистов, делала несколько личных звонков и перебрасывалась парой слов с теми сотрудниками, кто сидел на зарплате. Таких было много, они днями напролет сутулились перед компьютерами, и Элли шутила, что у них конкурс на то, кто первым заработает синдром длительного напряжения.
Элли любила предаваться воспоминаниям об эпохе строкоотливных машин и настоящей журналистики, об эпохе крови, пота и слез, когда жили на одном энтузиазме, когда мужчины были мужчинами, а Флит-стрит была Флит-стрит, когда всей толпой ходили на бесконечные обеды (состоящие в основном из напитков) в «Кок Таверн», в «Картунист» или «Олд Чешир Чиз». Ее реминисценции, разумеется, производили фурор среди новичков и практикантов, выросших в высокотехнологичном, некурящем, непьющем окружении. О, с какой жадностью слушали они ее рассказы!
Однако по вторникам они были лишены ее красноречия, так как в этот день она всегда оставалась дома, чтобы написать свою колонку. Предполагалось, что текст должен быть сдан в редакцию к часу, но ей нравилось тянуть время, пока ее автоответчик записывал все более и более отчаянные призывы редакторов. Свой текст она посылала по электронной почте только после четырех часов, когда ни у кого уже не было времени вчитываться, проверять факты или задавать вопросы.
С ее поведением мирились, потому что ее редактор (ветеран Флит-стрит, тоже начинавший журналистскую карьеру еще при линотипах) считал ее «ценным работником» и потому что по всеобщему признанию она была одной из лучших. Она была безнравственной и хитрой.
Никто не знал этого лучше, чем сама Элли, и, погружаясь в ванну, вздрагивая от холода эмали, окуная в воду плечи и кончики залитых лаком волос, она купалась в своем себялюбии.
Утренняя схватка с несносным Тревором распалила ее. Сегодняшняя колонка будет особенно едкой. Элли возвела свою испорченность в ранг искусства. По крайней мере, в этом отношении она была предсказуема. Самые оскорбительные поношения она приберегала для добрых дел, героизма, светских событий, популярных личностей, для всего сладенького или идеологически благонадежного. Там, где другие видели добродетель, она находила лицемерие, малодушие, преступную наивность, интеллектуальную лживость, дурной вкус и ханжество. И в то же время она охотно восхваляла сумасшедших, плохих и неблагонадежных. Но как именно она развернет ту или иную тему, куда приведут ее размышления, предвидеть никто не мог, даже она сама.
Обычно она садилась за стол, долю секунду советовалась со своим сознанием и подсознанием и принималась барабанить по клавишам, черпая мысли из неистощимого источника: своего частного мнения. Данный процесс назывался работой и очень неплохо оплачивался. Но для Ла Шарп это было раз плюнуть.
Чувства страха, симпатии или раскаяния были ей не знакомы. Элли не волновало, что ее жертвы протестовали, что они были обижены или разгневаны; она считала, что всем следует быть такими же толстокожими, как она. Если они жаловались или угрожали подать в суд за клевету, она только смеялась и утверждала, что лишь выражает свое мнение. То, что ее мнения являлись ее капризом, ничуть не уменьшало ее уверенности в их непогрешимости.
Ита-ак… Кого выбрать сегодня?
А какой-нибудь политик, телеведущий или другой деятель занимался в этот момент своими делами и не догадывался, что готовилось для него, не знал, как испорчен будет его завтрашний день.
Как хотите, но это власть.
— Половина случаев столбняка оканчивается смертью, — провозгласила Джеральдин, для которой любая информация была чем-то вроде новой шляпы — чем-то, что следовало выставлять на всеобщее обозрение и восхваление. — Бактерии, — продолжила она, — пассивно лежат в почве и ждут случая, чтобы проникнуть в тело через глубокую и загрязненную рану. В этом отношении опасны не только ржавые гвозди, но и розовые шипы. — Казалось, она была очень этому рада.
— Я знаю, — ответила Кейт, про себя сомневаясь в приведенной статистике. Она держала руку под краном. В стальную раковину бежала розовая вода. Завороженная, Кейт смотрела, как потоки ее крови закручиваются воронкой вокруг сливного отверстия и уносятся в канализацию. — Я знаю, что такое столбняк. Нам рассказывали об этом на курсах, и у меня сделаны все прививки.
— Говорят, что они не всегда помогают. — Ее золовка, сопя, смачивала ватку «Деттолом»[9]. — Мышцы сводит судорога. Челюсти сжимаются. На, возьми ватку.
— Спасибо, — сказала Кейт и обработала рану.
Даже на фоне аромата общественной уборной, источаемого антисептиком, она различила запах осуждения. «Неужели этой дурочке так трудно надеть перчатки…» — скажет сегодня вечером Джеральдин своему мужу, когда они вдвоем усядутся перебирать все, что вызвало их неодобрение за день. (Было что-то высокомерное в разговорах Горстов, они были едины, порицая упрямство, глупость и тупость Других Людей, — они вздыхали, качали головами, медитативно смотрели на свои ежевечерние стаканы с джином и тоником.) Огорченно разглядывая грязные руки, обломанные и потрескавшиеся ногти — все разной формы и длины, — Кейт признавала, что в случае с перчатками Джеральдин была права. Но ей просто необходимо было прикасаться, чувствовать, ощупывать, перебирать нежные корешки и побеги, и она не могла допустить, чтобы кончики ее пальцев ослепли.
— Я не выношу уколы, — подала реплику миссис Слак, довольная тем, что ее этой процедуре не подвергнут, может, уже никогда в жизни. Она разливала ароматный янтарный чай «Ассам» по ребристым чашкам тонкого китайского фарфора.
— Я тоже, миссис Слак, я тоже, — с чувством согласилась Джеральдин, снимая с пластыря защитную пленку и заклеивая раненый палец Кейт.
Дом продавался вместе с приходящей прислугой, миссис Слак, которая и по прошествии пяти лет все еще была полна воспоминаниями о своих бывших работодателях, мистере и миссис Робби — судя по ее словам, добрых и крайне щедрых. У самой миссис Слак был очень прямой и открытый характер: каждое ее недомогание доносилось до сведения окружающих. Ее полное имя было дю Слак, но Джеральдин отказалась потакать подобной прихоти домработницы. («О боже, ну и имя, — запротестовала она, когда добрая и щедрая миссис Робби представила их друг другу. — Я никогда не смогу произнести его».)
— Стоит мне увидеть иглу, как я сразу теряю сознание.
— Да. — Джеральдин ушла в кладовую, и поэтому ей приходилось почти кричать. — Вот дантисты — другое дело. А шприц превращает меня в желе.
— А я становлюсь жидкой, — отозвалась Кейт. Сегодня она была необычно бойкой. Перед ее внутренним взором предстала удивительная картина: подрагивающий, переливающийся всеми цветами радуги кусок желе в форме Джеральдин.
— Это одно и то же… — Джеральдин стояла посреди полок, заставленных банками, пакетами, коробками. Запахи ванили, какао, муки смешались сами и смешали ее мысли. Она прикрыла глаза, но в голову так ничего и не приходило.
Это становилось очень утомительным, и оно случалось все чаще. Какая-то необходимость приводила ее к холодильнику, шкафу, полке, она открывала дверцу или ящик и обнаруживала, что не может вспомнить, что именно ей было нужно. Тогда ей приходилось возвращаться туда, откуда она пришла, подниматься или спускаться по лестнице, входить в дом или выходить в сад, ей приходилось возвращаться к тому делу, которым она до этого занималась, потому что только так могла она вспомнить, за чем ходила.
В этом она винила тех, кто так измучил ее — и не только своих беспокойных и драчливых детей, не только своего тихого, послушного мужа (тихие люди тоже ведь требуют заботы, и послушность налагает определенные требования на окружающих), но и всех тех, кто своими приходами и уходами посягал на ее силы. Неудивительно, что она стала такой рассеянной.
Лимонный пирог, квашеная капуста, соус из ревеня… Сейчас ей все это было совершенно не нужно.
Если бы остальные давали немного больше, если бы они брали немного меньше…
Жир, рис, крекеры… Тщетно продолжала она инвентаризацию. Красно-синяя упаковка — «Атора», оранжево-черная — «Джейкобс»[10]. Яркие этикетки узнавались сами собой, почти на подсознательном уровне. Толстая муха то сердито билась о затянутое металлической сеткой окно, то в отчаянии кружила вокруг мутной лампочки; ее движения удивительным образом копировали то, что происходило в голове Джеральдин.
— Нашла печенье? — раздался жизнерадостный вопрос Кейт, и как по волшебству пелена спала.
— Небольшое угощение! — вернулась на кухню торжествующая, вновь все помнящая Джеральдин. Она взмахнула упакованным в целлофан шоколадным рулетом, словно доказывая, что не только святые мистер и миссис Робби могли быть добрыми и щедрыми. Вслед за Джеральдин, возбужденно жужжа, летела большая толстая муха (неужели между ними действительно существовала какая-то странная связь?).
— Здорово, — обрадовалась Кейт.
— Сниму-ка я лишнее… — пробормотала миссис Слак. Ее зад и сиденье стула — старые друзья — воссоединились. Она нагнулась, чтобы расстегнуть ремешки, стягивающие распухшие лодыжки, и высвободила ноги из новых темно-синих летних босоножек. — Они мне немного узки, — приукрасила она действительность, — хотя это мой размер — пять с половиной.
— Может, — рассеянно предположила Кейт, наблюдая за тем, как Джеральдин снимала с рулета обертку, — надо было померить шестой.
— Но я никогда не носила шестерку. — Миссис Слак явно оскорбилась. В чае, который она поднесла ко рту, ходили волны. — Ни разу в жизни, — настаивала она, пытаясь успокоиться перед тем, как сделать глоток. И на случай, если у кого-либо еще оставались сомнения, повторила: — Это не мой размер. — Представление о самой себе у нее сложилось, когда ей было пятнадцать лет, и с тех пор не менялось. То есть она считала, что она по-прежнему могла закидывать ногу выше головы, крутить сальто, танцевать в изящных туфельках, что по-прежнему ее талию можно было обхватить двумя ладонями.
— А, понятно. — Кейт была огорчена и удивлена тем, что ее слова показались обидными. Ей нравилась Молли дю Слак, чьи достоинства Джеральдин явно недооценивала. Они не сводились лишь к аккуратности, с которой миссис Слак вытирала пыль за батареями или боролась с пятнами на кофейном столике; к ним нужно было причислить ее порядочность, честность, чувство самоуважения, исключительную смелость перед лицом бесконечной посредственности. Она была отважна. И все-таки… Взгляд Кейт, украдкой скользя то в сторону, то вниз, остановился наконец на стопе с крупной косточкой, с широкими пальцами. И все-таки, решила она, шестой размер — как минимум.
— Сейчас нельзя доверять размерам производителя. — Джеральдин решительно нарезала рулет и ножом разложила куски по тарелкам. — Ни с обувью, — твердо сказала она, — ни с одеждой. — Лично она находила, что восемнадцатый размер в последнее время стал каким-то маленьким, что слово large на этикетках было преувеличением, но по какой-то причине решила не делиться этим наблюдением.
— Верно, — подтвердила Кейт, стараясь угодить, хотя ей приходилось прилагать усилия, чтобы придумывать такие банальности, не говоря уже о том, чтобы говорить их вслух. Это как если бы кто-нибудь взялся осушать пруд, заранее зная, что на дне обнаружит лишь сгнившую коляску или ржавую кровать. Усилие было неоправданно большим. — Некоторые фирмы экономят на материале гораздо больше, чем другие, — неуверенно заключила она.
— Да, Катарина, — без предупреждения приступила к ней Джеральдин, тоном установив границы, увеличив расстояние между собой и Кейт. — Как продвигаются дела в цветнике?
— Ты имеешь в виду прополку? — Кейт уловила перемену в обращении. Она сделала паузу, чтобы развернуть кусок скрученного шоколадного бисквита в одну полоску. Джеральдин уже давно хотела устранить неясность в их отношениях, раз и навсегда поместив Кейт где-то между дальней родственницей и наемным работником. Сейчас Кейт это показалось забавным, и она нагнулась к чашке, чтобы скрыть ухмылку. — С этим я закончила, — ответила она, придав голосу почтительность. — Или почти закончила.
— На это уходит масса времени, — сказала Джеральдин с неодобрением, которое Кейт должна была понять как: «Более эффективный работник справился бы с этой задачей в два раза быстрее».
— Да, ты не поверишь. — Полоска бисквита разломилась. — Древесная кора, — произнесла она загадочную фразу и сунула кусочек рулета в рот.
— Что?
— Я просто подумала, что если присыпать почву дробленой корой, то сорняков будет гораздо меньше. Конечно, это дорого, но…
— Но прополка тоже стоит денег.
— Вот именно. Со временем ты даже сэкономишь на этом. — Она имела в виду: «Сэкономишь на мне. На моих часах». Но ей было все равно: она могла работать в саду Джеральдин, а могла и не работать. Она годами усмиряла его, удаляя вредную или лишнюю растительность, подрезая, сдерживая в рамках, и постепенно он сломил ее волю. Джеральдин нравились острые как нож края, выбеленные каменные плитки, подметенные дорожки, стриженые газоны, аккуратные бороздки и однотонные клумбы. В Копперфилдсе можно было появиться только по приглашению: в ее саду росло только то, что было посажено. Все выглядело ухоженным, нетронутым, как в муниципальном парке, в этой атмосфере новизны душа томилась, особенно если вспомнить, как здесь все когда-то было.
Большой дом, площадью около четырехсот квадратных футов, был возведен в сороковых годах. Считалось, что раньше на этом участке, среди старинных садов, располагался небольшой монастырь. Супруги Робби, при всей их доброте и щедрости, были, по всей видимости, очень небрежны в содержании сада. Кейт вспоминала берега, ощетинившиеся кустарником, бордюры, заросшие ежевичником и собачьей петрушкой, гнилую дверь в стене из крошащегося кирпича и ржавую тележку, которую оплели и намертво привязали к стене сети вьюнка. Она видела замученные персиковые деревья, пышную траву, усыпанную падалицами; все покрывала мягкая, оранжеватая дымка пыльцы и семян. Все это исчезло после нашествия бульдозеров, уцелела только старинная теплица и живописный участок пляжа в дальней части сада. Будь ее воля, Кейт все сделала бы по-другому. Но ее никто не спрашивал.
— Значит, стоит обдумать этот вариант?
— Да, однозначно. А на альпийских горках можно использовать каменную крошку.
Некоторое время все молчали. Кейт и Джеральдин взвешивали варианты, а миссис Слак не была расположена говорить (редкий случай!), поскольку, к собственному своему удивлению, ей нечего было сказать на предмет мульчирования и декорирования фунта.
— Я говорила, что Наоми все еще живет у меня? — Кейт, улыбаясь, протянула чашку миссис Слак. С некоторой надменностью миссис Слак удовлетворила эту безмолвную просьбу налить еще чаю. («И что это случилось с правилами хорошего поведения? — спрашивала она себя. — Куда подевались „спасибо" и „пожалуйста"?»)
— Как, до сих пор? — осведомилась Джеральдин, прикрывая ладонью зевок. — Должно быть, тебя это так стесняет. Я думаю, что… — Она не договорила фразу, но и так было понятно, что именно она думает.
— Ну да.
— А что ее друг, не появлялся?
— Алан? Нет, не заходил.
— А что она говорит? Какие у нее планы?
— Насколько мне известно, пока никаких.
— Тогда ты сама должна положить этому конец, вот что я тебе скажу, — заключила Джеральдин, неожиданно потеряв к этой теме всякий интерес.
— Да, и Элли говорит примерно то же самое. — Кейт взяла чайную ложку, повертела ее между большим и указательным пальцами. — Я тут подумала, что она могла бы пожить немного здесь.
— Здесь? — Это выглядело дурацкой идеей. Судя по реакции Джеральдин, более разумным было бы отправить Наоми на Северный полюс.
«Какая же я глупая, — подумала Кейт, — зачем я вообще заговорила об этом».
— Не важно, все равно она говорит, что должна оставаться в Лондоне — она ищет работу. Так что можешь расслабиться, она не приедет.
— Ну, разумеется, если она захочет… — предложила Джеральдин, уверившись, что она в безопасности. — Я буду только рада… если это поможет…
— О, надеюсь, мы как-нибудь и сами справимся. До сих пор же справлялись.
Про себя Кейт добавила: «И без вашей помощи».
«Справлялись благодаря мне — в большой степени», — подумала Джеральдин.
— А я считаю, — вставила миссис Слак, которая всегда говорила то, что думала, — что молодая леди сама виновна в своих бедах. — По ее мнению, Наоми имела внешность кинозвезды, а кинозвёзды славились неумением устроить свою судьбу; они были несчастнейшими созданиями во всем свете.
— Ну, не знаю, — ответила Джеральдин, поджав губы и довольно сурово. Миссис Слак находилась не в том положении, чтобы судить ее друзей. Однако при всей своей любви к соблюдению приличий Джеральдин все же не могла устоять от соблазна посплетничать. И поэтому она, мудрая задним числом, поделилась своим наблюдением: — Я всегда думала, что Алан Нейш ей не пара. Или она ему.
Просто у Наоми эго шестого размера, и оно не уместилось в отношениях пятого размера, так решила для себя Кейт. В порезанном пальце забился пульс. Это не совсем неприятное ощущение поглотило ее внимание. Как оперативно в теле начинался процесс заживления! Если бы и душа выздоравливала так же быстро!
— Она кажется такой потерянной, — пробормотала Кейт скорее про себя, чем в чей-то адрес. И, тронутая собственными словами, она наконец сменила недовольство на сочувствие; ей тут же стало легче и одновременно тяжелее. — Вот почему я не могу, ну, взять и прогнать ее. Она совершенно беспомощна.
Задумчиво закусив нижнюю губу, Кейт изучала лицо Джеральдин, все еще симпатичное в своем роде, но как будто не из этого времени. Элли утверждала, что Джеральдин Гарви состарилась сознательно, умышленно. В отличие от Кейт, с которой это произошло помимо ее воли. Так утверждала Элли. Но на взгляд Кейт, Джеральдин была не столько стара, сколько старомодна. Можно было подумать, что она сошла со страниц какого-нибудь женского журнала пятидесятых годов, когда в моде была глуповатая, женственная внешность: неестественно яркий рот, тугие кудряшки, тонкие брови, поднятые в вечном удивлении.
Хотя Джеральдин всегда была ходячим анахронизмом, в шестидесятые она являлась владелицей таких странных вещей, как вечерние перчатки, расшитые блестками сумочки и большие корсеты на косточках. Просто с годами эта ее особенность проявилась в полной мере.
А сейчас Джеральдин поправила пальцами свои химические кудри, приподняла безжалостно выщипанные брови еще на миллиметр, сложила губы бантиком и задумалась: а не мог ли банк, например… Или, если не банк, то родители Наоми. Ее мать. В крайнем случае отец…
— О нет, сомневаюсь. Если верно то, что мы о них знаем, — вряд ли. Эти двое даже не скажут ей, который час. И вообще я не имела в виду финансовую беспомощность, — объяснила Кейт, — хотя действительно у нее нет ни гроша. Скорее, здесь важна инициативность, мотивация. Можно даже сказать, умение выживать.
— Смекалка, — перевела Молли Слак.
— Именно.
— Понятно.
— Потому что, знаете, сама она ничего не умеет делать. Ничего. Она может быть лишь украшением. — Из любопытства Кейт постучала ложечкой по краю чашки. — Я вот думала, не позвонить ли мне Алану. Может, попробовать уговорить его приехать к нам, взять Наоми на руки и отвезти ее домой…
— Но он бы уже давным-давно приехал сам! Если он вообще хотел приехать за ней. Ведь он знает, где она?
— Нет, но ему не пришлось бы долго искать. Где она еще может быть, как не у тебя, у меня или у Элли?
— Я бы на твоем месте подумала, прежде чем ввязываться в это дело.
— Я бы тоже, — раздраженно ответила ей Кейт. — Если бы мне дали такую возможность, я бы обязательно подумала. Но этой возможности у меня не было! Я снова оказалась простофилей, который за всех отдувается.
— Слушай, ну я ведь тоже предложила помочь, помнишь? — С поразительной бессовестностью Джеральдин сказала правду, чистую правду, которая тем не менее была наглой ложью. — Всего минуту назад. Да, я же так прямо и сказала, пусть приезжает, ради бога. Если это поможет, так я сказала.
— Верно, — подтвердила любящая правду миссис Слак. — Она предлагала.
— Да, ты предлагала, — угрюмо согласилась Кейт. Она опустила голову и уставилась на свои бедра, упакованные в джинсы. — Но… — «Но, — думала она сердито, — это были только слова».
В наступившей затем враждебной тишине они услышали скрежет ключа в скважине, клацанье замка, стук входной двери, дерзкие шаги, поскрипывание кожаных подошв на недавно отполированном паркете.
— Что это? — насмешливо спросил Доминик, увидев их. — Женское собрание. Мама, все в порядке, я не сбежал с уроков. Старого Уотмофа свалил грипп. Два французских отменили. Нас распустили. Привет, Кейт. Как дела? Не досаждают всякие мелкие неприятности?
— Мелкие не досаждают, — сухо проинформировала его Кейт, подавляя свою неприязнь. — В отличие от крупных.
Почему же он был ей так неприятен? Конечно, она знала почему. Он был здоровым, хорошо сложенным юношей, излишне самоуверенным, неприлично красивым, бахвалом и насмешником. Он носил школьную форму с демонстративной язвительностью: не столько он выглядел в ней глупо, сколько она — на нем. Расстегнутые верхние пуговицы рубашки и сбившийся набок галстук придавали ему разбойничий вид. Выражение его лица было плутоватым, манеры — свободными. Его рот был слишком подвижным, слишком свободны движения таза. Каждый раз, глядя на него, она вспоминала о своем бывшем муже. Она думала: «Чертов Дэвид!»
Никто не знал, что значило быть Наоми Маркхем. Не знала этого и сама Наоми Маркхем. Ее способность проникать в сущность вещей была очень невелика, и даже этим немногим она не пользовалась, потому что так и не научилась доверять интуиции.
Но в одном она была уверена: причиной ее несчастий могло быть все что угодно, но только не ее красота. О нет! Красота вовсе не была тяжелым испытанием, как нравилось думать некрасивым людям. На самом деле она была исключительно ценным свойством. Во всяком случае, красивой Наоми стала довольно поздно. В детстве же, когда красота действительно может нанести вред, она была почти дурнушкой. Она была слишком высокой для своего возраста, тощей, с ногами и руками как палки. У нее были прямые волосы, слишком жидкие, чтобы скрыть уши, отчего уши жалко торчали из-под полей соломенной школьной шляпы, удерживаемой тупой резинкой. Ее кожа была почти неестественно бледной, глаза окружала болезненная синева, а лицо всегда сохраняло серьезное выражение. (Улыбка пришла позже — с практикой, с профессией, где надо было обнажать безупречные жемчужные зубы и произносить в линзу фотокамеры «чай», «сыр» и «лесби».)
А еще — и тогда, и теперь она была не столько самой собой, сколько тем, чем ее считали другие люди. Не из стремления угодить, а из нежелания протестовать, она становилось такой, какой ее называли, безропотно материализуя все недостатки, приписываемые ей. Ленивой ее постоянно называла мать Ирен, угрюмой называл отец Джеффри и избалованной — любовник матери, так называемый дядя Хью.
Наверное, можно назвать это удачей, что ее не обвиняли в более тяжелых грехах. Никто, например, не предположил, что у нее может быть такой же злобный характер, как у ее матери, или такой же хитрый, садистский склад ума, как у отца. Сознательное недружелюбие, злой умысел не были присущи ей. Она охотно вела себя плохо, когда думала, что от нее ожидают именно этого, но вкуса к этому так и не почувствовала. У нее не было ни любопытства, чтобы догадываться о низменных мотивах окружающих, ни изобретательности, чтобы придумывать их. Дурные поступки она совершала по незнанию, по неспособности понять, кто находится рядом с ней, и свое раздражение в основном обращала на себя.
Ее детство прошло в Пимлико, в высоком красном готическом здании с решетчатыми окнами. Отделанная панелями столовая с внушительным камином из резного камня служила приемной. В ней собирались испуганные незнакомцы, они сидели, рассеяно листая старые журналы, напрягаясь при звуке бормашины, готовясь подскочить, когда их вызовут, готовясь пройти с притворным бесстрашием в стоматологический кабинет ее отца.
Частная практика приносила дантисту Джеффри Маркхему отличный доход. Вагнера и хорошее бургундское он любил больше, чем жену и детей, — по крайней мере, так говорила его жена Ирен, а уж она-то знала. Он уделял большое внимание оральной гигиене дочери, запретил ей есть какие-либо сладости, но в остальном Наоми его практически не интересовала. «Ему на все наплевать! — бушевала Ирен, меряя шагами персидский ковер в гостиной первого этажа. — На тебя, на меня, на все, кроме него самого!» Потом она бросала ему в лицо: «Мне скучно». С-К-У-Ч-Н-О — произносила она по буквам голосом, похожим на тонкий яркий шарф, и уносилась на кухню, чтобы разбранить повара. После чего Джеффри Маркхем опускался в свое кожаное кресло, клал ноги на медную каминную решетку, разворачивал утренний «Таймс» и со вздохом глубочайшего удовлетворения погружался в последние новости о потопах и неурожаях.
Для маленькой и унылой Наоми Маркхем дом означал богатство, роскошь, высокие потолки и хрустальные канделябры, фарфоровые вазы, инкрустированные письменные столы, часы в золоченой бронзе. И болезненные улыбки пациентов, ожидающих в вестибюле своей участи. И запах антисептиков в кабинете отца. И бесконечная война между родителями.
Такие воспоминания остались у Наоми о ее раннем детстве. А когда ей исполнилось девять лет, ее мать заявила, что с нее хватит, чем доставила мужу огромное удовольствие. Под оглушительные звуки «Валькирии» мать и дочь спустились по длинной изогнутой лестнице, вышли из дома, миновали черные, с острыми зубцами, устрашающие ворота и оказались на улице, где их ожидали «даймлер» и шофер в ливрее.
Они уехали с дядей Хью сначала на Капри, а затем — более прозаично — в Оксфордшир. В эмоциональном отношении Наоми пришлось нелегко, но в материальном плане она никогда не знала забот. Тот год в Холланд-парке, когда она делила квартиру с Элли, Джеральдин и Кейт, был всего лишь юношеским приключением (как она теперь об этом вспоминала), радостный эпизод перед тем, как началась ее карьера в модельном бизнесе и череда мужчин с бархатными костюмами, с ботинками на платформе, с «астон мартинами» потянулась к ней с подарками.
Поэтому для нее было ужасным шоком оказаться где-то в забытом богом южном Лондоне, в убогой комнатке, которая выходила прямо на дорогу и в которой слышно было, как какой-то рабочий звал то ли Вика, то ли Ника, а стекла окон дребезжали от проносящихся мимо грузовиков. Это было регрессом: жизнь на чемоданах, общая ванна (прокрадываешься в коридор, тихонечко дергаешь дверь и обнаруживаешь, что она заперта). Это было падением: ужин за кухонным столом, разнокалиберная посуда, Кейт, вскакивающая каждые несколько секунд с извинениями, чтобы достать из холодильника масло или снять с плиты дымящуюся кастрюлю.
В Тутинге она чувствовала себя рыбой, вытащенной из воды. И вообще, что это за название: Тутинг? Это слово больше похоже на… Наоми лежала, утопая в подушках и унынии, и перебирала жалкие остатки своего образования в поисках термина «герундий»[11], который, впрочем, так и не нашелся. Оно больше похоже на существительное, образованное от глагола, как «hunting» или «shooting». Как будто оно называет не место, а действие, причем действие это лучше не производить.
Должно быть, она совершила какой-то грех, раз заслужила такую судьбу. Наверное, что-то с ней не так — но что? «Ради бога, дорогая, — умолял ее Алан, — будь благоразумна». И именно это было особенно невыносимо, так как всегда, насколько она могла судить, как ей это виделось, она была благоразумна. «Я — ужасный человек», — произнесла она в качестве эксперимента. Но в действительности она считала, что ее совершенно не понимают, и от жалости к себе расплакалась, что обычно предваряло очередной приступ головной боли.
Как Кейт могла выносить эту депрессивную обстановку столько лет? Как она могла существовать в этих крохотных помещениях? А выселенный в гостевую комнату Алекс? Такой большой, сильный, красивый мальчик, как он терпел все это?
Наоми, сама того не осознавая, вдыхала воздух маленькими глоточками, как будто его было ограниченное количество. Долгий сон с обрывочными сновидениями не принес отдохновения ни телу, ни душе. Она была расстроена, ее мышцы болели, суставы ныли. Один из котов Кейт (поскольку такова была его привычка и, как он дал понять, неотъемлемое право) свернулся клубком в ногах Наоми и с довольным мурлыканьем царапал пододеяльник, оставляя на нем грязные отпечатки.
Она открыла глаза и почувствовала себя еще более несчастной при виде уродливого шкафа и мутного, в крапинку зеркала на одной из его дверей. В этой двери был сломан замок, и она всегда стояла открытая нараспашку, добавляя еще одну каплю в чашу горя Наоми.
Это была очень простая, мужская спальня, не облагороженная женским прикосновением. Здесь спали, каждый в свое время, многочисленные Алексы Гарви: забавный малыш, неряшливый школьник, незрелый юноша, крепкий молодой мужчина. Все, что оставлял после себя каждый из Алексов — футбольный мяч, бита, игрушечные машинки, маска для подводного плавания, ракетка для сквоша, — складывалось на шкаф в одну большую кучу.
Распахнутая дверца шкафа открывала взору ряд рубашек и курток Алекса — неровный, как очередь на автобусной остановке. Когда Наоми пыталась освободить место для своих блузок, многочисленные вешалки, сопротивляясь, негодующе клацали.
Куда бы ни взглянула Наоми, все удручало ее: и маленький, отделанный плиткой камин с эмалированной железной решеткой, и узкие стеклянные двери, и допотопный, дряхлый, но крайне претенциозный балкончик. Наконец взгляд ее остановился на комоде, в котором посреди носков и трусов разместилось — Кейт умерла бы, если бы узнала! — впечатляющее количество презервативов.
При воспоминании об этом нечаянном открытии Наоми стало неловко: ее можно было обвинить в том, что она навязывала свое присутствие или доставляла хлопоты, и, вероятно, у нее была куча недостатков, но чрезмерным любопытством она никогда не страдала. Всей душой она стремилась покинуть этот дом, вернуться в зеленый Сент-Джонсвудс, где изящные дома, выкрашенные бледными, пастельными красками, увитые гирляндами глициний, безмятежно взирали на широкие солнечные аллеи из-за высоких каменных стен, где сияла медь дверных ручек, где кованые архитектурные детали были функциональны и значимы. Она тосковала по своей комнате, по своей жизни, по роскоши.
Она встряхнула одеяло, пытаясь скинуть с кровати Пушкина (или Петал? Она не могла их различить), но это тупое животное лишь вытянуло лапу, выпустив кривые острые когти, и высокомерно зевнуло во всю свою розовую, ребристую пасть.
При том что надеяться ей, по всей видимости, было не на что, эта жалкая обстановка лишь усугубляла отчаяние Наоми.
— Я не вижу выхода, — призналась она Элли во вчерашнем телефонном разговоре. — И здесь я всем мешаю. Совершенно de trop[12]. — Все же Наоми была не настолько бесчувственна, чтобы не заметить сгущающейся, давящей на нее атмосферы; она была не настолько глупа, чтобы не понять, что ее считают лишней.
Конечно, ощущение ненужности было знакомо ей по детским годам; как все нежеланные дети, она догадывалась, что ее рождения не ждали. И позднее, сначала на Капри, а потом в Котсвольде, она была лишь досадной помехой. Но Ирен и Хью, в отличие от Кейт и Алекса, к тому времени еще не прожили в компании друг друга два десятка лет, не выработали тайные ритуалы и секретный, понятный только им двоим язык — эту систему знаков, покашливаний, взглядов, незаметно исключающих ее из разговора.
— Я бы пригласила тебя к себе, — сочувственно предложила Элли, — если бы не Кейт. Ты ведь знаешь ее, она страшно расстроится, если ты вот так возьмешь и съедешь. Это будет смертельная обида. Она же у нас такая ранимая, мы-то уж сколько раз обжигались.
— Но я вижу, что действую ей на нервы.
— Ну да, конечно, эта противоречивость вполне в ее стиле. Но ведь в любом случае это не надолго, так ведь, подруга? Все постепенно устроится, вот увидишь.
— Надеюсь, — уныло ответила Наоми. Но что устроится? Как? Она не видела выхода, она больше не верила в счастливое разрешение ситуации.
Сначала она предполагала, что Алан приедет за ней. Возможно, не сразу, но через день-другой он должен был появиться. И тогда она сдалась бы на его уговоры и вернулась бы к нему — на определенных условиях. И у нее еще оставалось бы время, чтобы подготовиться к давно обещанной поездке на Барбадос.
Ее решение расстаться с ним окончательно и навсегда было искренним, но скоропалительным и необдуманным. В доме на Лакспер-роуд у нее было предостаточно свободного времени на то, чтобы все взвесить и пожалеть о содеянном. Она раскаивалась в своей поспешности, в словах, сказанных при отъезде. В частности, ее раскаяние было особенно сильным, когда в банке ей сказали, что ее счет закрыт.
— Милая моя, — при звуке голоса дочери в телефонной трубке Ирен всегда раздражалась, — даже не думай просить помощи у меня. Хью дает мне так мало денег, что я еле свожу концы с концами. — И пожаловалась, sotto voce[13]: — Мне так скучно, мы никуда не ходим, никого не видим. Честно говоря, лучше бы я осталась с твоим отцом, хотя он и чудовище, чтоб ему пусто было.
— Дорогое дитя, — Джеффри откровенно издевался, — плод чресл моих, зеница ока моего, откуда у меня лишние деньги? Ты ведь должна понимать, что я теперь пенсионер, обхожусь малым. Лучше обратись к дружку своей матери. Как его звали-то? Ага, Хью. Существуют же всякие женские хитрости. Попробуй обаять его на тысячу-другую.
Ну а когда Наоми позвонила Ариадне — своему агенту, та ответила довольно нетерпеливо:
— Пока ничего. — (Наоми представила себе, как эта женщина шестидесяти с лишним лет, следящая за своим весом с рвением религиозного фанатика, сидела за инкрустированным столом красного дерева, чванливая, в черном костюме от Жана Муира, с гладкими, коротко стриженными волосами: бескомпромиссно элегантная и невероятно перпендикулярная.) — Нет, мы не забыли о вас. Будьте уверены, мы свяжемся с вами, как только что-нибудь появится.
Будьте уверены!
— Не звоните нам, — сердито пробормотала Наоми, швырнув телефонную трубку на место, — мы сами позвоним. — Неблагодарная старая сучка! В свое время агентство заработало целое состояние на Наоми Маркхем, а теперь Ариадна не желала даже пальцем своим наманикюренным пошевелить.
Куда подевалась преданность? Что стало с чувством долга? Наоми догадывалась, что агентство отдавало все свои силы более молодым клиентам, так называемым «супермоделям», которые, как писали в журналах, за сумму менее ста тысяч долларов и с постели не вставали. Ха! При том, как Наоми себя чувствовала, она вообще не поднимется с постели. Никогда!
О, что же делать, что делать? Надо разработать новый план. Чтобы избавиться от этого отвратительного шкафа, Наоми закрыла глаза, но ни одна мысль в голову не приходила.
Очень высокое, самодовольное здание «Глоуб Тауэр», воздвигнутое на северном берегу коричневой Темзы, являло собой памятник собственническому тщеславию. Это была одна из тех стеклянных построек восьмидесятых годов, которые кажутся вывернутыми наизнанку: внутри они наполнены свежим воздухом, солнцем и зеленью, а все их жизненно важные органы выставлены наружу.
Здесь работали лучшие умы британской журналистики, и в их числе — Элейн Шарп. Как раз сейчас она входила в здание, вынужденная нарушить свои планы из-за внеочередного совещания. Стуча каблуками, она прошествовала через просторный, отделанный мрамором вестибюль, игнорируя посыльных в форменных пиджаках, не обращая внимания на основателя газеты, отлитого из бронзы и установленного на постамент среди пальм в горшках.
Она была, мягко говоря, недовольна. День, и без того начавшийся неудачно, становился все хуже. Ну, и как она сможет написать эту чертову колонку, если ей придется сидеть на совещании, внезапно созванном по прихоти большого белого вождя? Господи, если так пойдет, у нее даже не будет времени нормально пообедать, ей придется довольствоваться буфетным сандвичем — какой-нибудь неудачной комбинацией тунца с консервированной кукурузой или творога с изюмом. И к тому же в этом костюме она не сможет позволить себе ни капли алкоголя.
— Ну давай же, давай, — подгоняла она лифт, который своей медлительностью приводил ее в бешенство.
Наконец одна из кабинок лифта пошла вниз, остановившись по дороге три-четыре раза, собирая пассажиров (наверно, всякую мелкую сошку, посыльных и тому подобное — а эти бездельники могли бы, между прочим, и пешочком пройтись).
И к тому времени, когда из подошедшего наконец лифта стали выходить пассажиры, Элейн Шарп была крайне рассержена. Однако ей пришлось сменить хмурый взгляд на натянутую улыбку, когда среди выходящих показалась одетая в «Армани» Пэтти Хендерсон — старший редактор.
— Элли, привет, — поздоровалась Пэтти, кокетливо взмахнув пальцами.
Эту привычку Пэтти Элли всегда считала неуместной и неприятной. Женщине вот-вот стукнет полтинник, и в компании она работала с юных лет (как любили говорить ее подчиненные) — вот уже тридцать два года. Были такие, кто называл ее «коршуном», а другие страстно выступали в защиту хищных птиц. Она идеально подходила для своей влиятельной должности, так как обладала теми тремя качествами, которые еще в шестидесятых годах Николас Томалин[14] назвал залогом успеха в журналистике: крысиная хитрость, вызывающие доверие манеры и минимальная грамотность. Вполне возможно, что третье качество было развито не в полной мере, зато первых двух было в избытке. Она повсюду внушала страх и ненависть, но тем не менее вот она — сама приветливость, машет ручкой и сладко улыбается.
Элли кивнула в ответ и вошла в лифт. И за миг до того, как дверцы лифта сомкнулись, Пэтти окликнула ее:
— Я послала тебе сообщение. Я приглашаю тебя в Иль-Подж в сентябре. Постарайся найти время…
«Ого! — возликовала про себя Элли. — Ого-го!» Она прислонилась к стене, обхватила себя руками и закрыла глаза. Скорее бы проверить почту. Ей не терпелось добраться до компьютера, увидеть это сообщение своими глазами, написанное черным по белому, чтобы удостовериться, что она не ослышалась. За приглашение провести неделю на тосканской вилле Пэтти Поджио-дель-Венто не жалко было умереть. Каждый год немногочисленные избранные, удостоившиеся такой чести, становились страшными воображалами, хвастаясь направо и налево своими фотографиями, истерично смеясь общим воспоминаниям, демонстрируя тошнотворный дух товарищества. Элли, всегда испытывавшая по отношению к Ла Хендерсон крайнюю неприязнь и крайнее недоверие (имя старшего редактора ассоциировалось у нее со словами «безжалостный» и «коварный»), внезапно почувствовала к Пэтти симпатию.
Элли была в таком восторге, в таком возбуждении, что лишь мимоходом обругала одного из ассистентов, пристроившегося за ее столом.
Размах и роскошь, поражающие случайных посетителей «Глоуб Тауэр», заканчивались на входе. Сама редакция ютилась на четырех из двадцати трех этажей здания, многие из сотрудников были временными и не имели собственных рабочих мест. Компания проповедовала политику «горячего стола», при которой работники, стоящие на нижних ступеньках иерархии, вынуждены были пользоваться теми компьютерами, постоянные хозяева которых в данный момент отсутствовали.
— Вон, вон! — скомандовала Элли, оскалившись на несчастного парня. Тот подхватил свои скромные пожитки и исчез в направлении отдела местных новостей. — Господи, Джен, — Элли обернулась к своей секретарше, — не хочу прослыть собственницей, но…
— Так получилось, очень жаль, — ответила Джен, хотя было понятно, что ей совсем не жаль.
Нападки Элли ничуть не трогали ее. Эта вялая двадцатитрехлетняя девица смотрела на мир с равнодушием все повидавшего человека — что, как не раз говорила ей Элли, не очень подходило к ее юному возрасту. Однако Джен цены не было из-за ее умения разговаривать по телефону, из-за той легкости, с которой она отшивала читателей, когда те звонили с жалобами или претензиями. Пока они изливали свое недовольство, она, с трубкой возле уха, погружалась в составление списка приглашенных на свадьбу (ее последнее увлечение) или делала упражнения для укрепления мышц влагалища (еще одно из ее любимых занятий; насколько Элли могла судить, количество потенциальных гостей на свадьбе Джен исчислялось тысячами, а мышцы ее влагалища достигли упругости трамплина для прыжков в воду). Разговор Джен обычно заканчивала двумя фразами: «Я передам ваши замечания» и, перед тем как положить трубку, «Спасибо за звонок».
— Сделай мне кофе, будь добра, — попросила ее Элли.
— Сейчас.
— Нет, нет, нет. — Элли одним пальцем ввела пароль, чтобы получить доступ к своей почте, и удовлетворенно откинулась, когда замигало сообщение «Новое письмо». — Не сейчас, а немедленно.
Она открыла письмо и прочитала следующее:
ЛУККА.
С 26 АВГУСТА НА ДВЕ НЕДЕЛИ. ПРИГЛАШАЮ ЦЕЛУЮ БАНДУ БЛИЗКИХ ПО ДУХУ. ТРЕБОВАНИЯ: ЖЕЛАНИЕ ХОРОШО ПОВЕСЕЛИТЬСЯ И ПРИСТРАСТИЕ К СПИРТНЫМ НАПИТКАМ. КАК ТЫ? VIENE?
Viene? Ты едешь?
Само собой, никто и никогда не мог обвинить Элейн Шарп в раболепии. Разумеется, она никогда не подлизывалась к начальству. Она вовсе не была подхалимкой!
Но об этой поездке в Италию она мечтала. Ей до боли хотелось поехать туда. Лишь на секунду задумавшись о том, что делать с Джуин — куда ее можно отослать или кого попросить присмотреть за ней, Элли нашла в директории адрес Пэтти и напечатала ответ:
«VENGO!» — Я еду!
_____
Алекс Гарви не был закоренелым лжецом. Он мог отличить объективную правду от куска «мыла», но не видел большой доблести в том, чтобы размахивать этой правдой, как флагом. В конце концов, его матери вовсе не нужно было знать обо всем, что он думал или делал. Это было бы слишком утомительно.
Например, его сексуальная жизнь совершенно ее не касалась, так же как ее сексуальная жизнь — если у нее таковая имелась — не касалась его. И его внутренняя жизнь была его личным делом. И никакие разговоры по душам не допускались. Кейт он обожал. На всей планете не было ей равных, она была лучше всех. Но это не означало, что он должен был жить у нее в кармане.
На самом деле он хотел жить в доме номер 11 на Чаффорд-роуд в Фулхеме, в квартире на первом этаже, с просторной гостиной, приличного размера кухней и задним двориком, выложенным кирпичом. Ему страстно хотелось переехать туда. Ему хотелось жить в своем доме.
Его «встреча» в обед была не с кем иным, как с агентом по недвижимости. Ну а задание от журнала, о котором он говорил Кейт, хотя и реальное, должно было обсуждаться в другой день. Два правдивых факта сложились в одну ложь. У него были причины на то, чтобы утаить всю правду. Внутренний голос понуждал его к осторожности. Еще будет время все рассказать Кейт, советовал голос.
Кейт все узнает, если и когда… Если он укрепится в своем желании. Когда он действительно решит снять квартиру. Вовлекать ее сейчас в то, что пока было всего лишь моральной дилеммой, было бы преждевременно и бессмысленно.
Одиннадцать часов. День уже вовсю набирал силу, сгущался. Алекс открыл дверь в гостиную, и что-то пронеслось в воздухе мимо него, что-то вчерашнее. Уловив еще живой запах духов, он вспомнил: в доме он был не один.
Не только Наоми оставила в комнате следы своего присутствия. Здесь же две бабушки, Гарви и Перкинс, были обречены безмолвно взирать друг на друга, разделенные небольшим ковром. Острый взгляд Элеанор Гарви исходил с каминной полки, где ей приходилось соседствовать с сухими розами и слониками из пальмы. А Пэм Перкинс, помещенная на пианино, смотрела на все сверху вниз — при жизни у нее такой возможности не было.
Обе женщины яростно противились женитьбе Дэвида на Кейт, и обе по одной и той же причине: потому что Дэвид очевидно был птицей высокого полета, а Кейт нет. Матери утверждали, что они совершенно не подходили друг другу. Они давали этому браку шесть месяцев. Время показало, что даже такой печальный прогноз был оптимистичным.
Бедняжка Кейт забеременела. Он, Алекс, собирался появиться на свет. И Дэвид счел своим долгом (или по каким-то другим соображениям) «остаться с ней». Под впечатлением от собственного благородства, а то и просто назло родителям, он поклялся в верности.
Ну, теперь все они были в дальних краях, Пэм Перкинс — в ином мире, а Элеанор и Джек Гарви — в Глочестере, что было почти так же далеко. Элеанор отличалась неприятной капризностью. У нее был жгучий, ищущий взгляд, пустой, звенящий смех; она говорила безостановочно, но при этом не заводила беседу. Раньше она непрестанно вмешивалась в воспитание Алекса, критикуя Кейт, которую считала безнадежно небрежной. Но со временем ее внимание сместилось со старшего внука на двух младших — на Доминика и Люси, к которым она имела куда более свободный доступ и которых зачали при куда более приличных, приемлемых обстоятельствах.
Пэм Перкинс, умершая так же, как и жила, — смиренно, едва ли могла из могилы влиять на мысли и жизнь Алекса. А ее муж, Сирил, отец Кейт, был отшельником. Он жил в Уолдингхеме, в белом коттеджике, который сама природа покрыла зелеными граффити. Он ухаживал за своей полоской земли у железнодорожного полотна, засаживая ее длинными рядами капусты: белокочанной ранней, брюссельской с высокими стеблями и кудрявой краснокочанной, и останавливался только чтобы съесть бутерброд или выкурить самокрутку в холодной кирпичной лачуге, довольствуясь собственной компанией.
Что же касается Дэвида, который и в лучшие времена крайне нерегулярно выходил на связь и был непунктуален в отношении алиментов, то последние десять лет от него не было ни слуху ни духу. Так что у Алекса была только Кейт. И у Кейт был только Алекс.
«Она в одиночку растила меня, и у нее это отлично получилось», — сказал себе Алекс, подходя к камину, чтобы взглянуть на себя в зеркало. Кейт была бойцом. Каждый день она выходила из ванной, не заботящаяся о макияже, натертая, намытая и героическая. Она выходила в мир своей неуклюжей походкой, неэлегантно косолапя, и трудилась, трудилась, трудилась.
— Я в долгу перед ней, — произнес вслух Алекс, внезапно рассердившись на нее, на себя, на их взаимную зависимость. — Разве я смогу ее бросить? — Еще недавно столь желанная квартира — просторная гостиная, ванная комната, выложенная белой плиткой, и веселая кухня — потеряла часть своего очарования.
Он всегда старался помогать ей. Он был из тех молодых людей, которые мыли посуду без напоминаний, за что более взрослые мужчины считали их недотепами. Он мог пришить пуговицу не хуже, чем Кейт, — правда, она пришивала их не очень умело. В доме он более-менее соблюдал порядок. Он вносил свой вклад в расходы по хозяйству. Но делал ли он хотя бы половину того, что следовало? Не слишком ли рано собирался он покинуть ее? Не слишком ли рано собирался он оставить ее без своей финансовой помощи?
— Переезжай, — сказала бы она ему, он не сомневался в этом, с ярким, смелым блеском в глазах. — Отличная мысль — поставить ногу на лестницу недвижимости, приобрести что-то свое. Конечно, ты должен переехать. — А когда он уедет, она опять будет сводить концы с концами на обороте старого конверта, но огорчать ее будет не бедность, а его отсутствие.
А вдруг она почувствует себя свободной? Найдет себе мужчину? Снова выйдет замуж? Ведь возможно, что только он, Алекс, сдерживал ее.
Он взял футболку за ворот и стянул ее через голову, вынырнув с взлохмаченными волосами и легким румянцем на щеках.
У него было пропорциональное, мускулистое тело — результат активного отдыха, а не серьезных занятий в тренажерном зале. Когда он складывал руки на груди и сжимал кулаки, то бицепсы не сильно, но приятно выпячивались и округлялись.
В отличие от матери, которая редко причесывалась и которая вообще не гладила блузки и не чистила обувь, Алекс следил за своей внешностью — довольно прилежно, хотя и без особого тщания.
За последние несколько лет он как-то так вырос и окреп, что теперь его мышцы, скелет и кожа идеально гармонировали. Он держался прямо, двигался с грациозной легкостью, был уверен в своем теле. Неуклюжесть и угловатость исчезли, он больше не был подвержен внезапным вспышкам энергии, будто подаваемой из плохо работающего источника питания. И при этом в коленях еще ничего не трещало, в спине не тянуло — еще не появились в нем те первые признаки упадка, которые вынуждают людей со смехом провозглашать — и, провозглашая, каким-то образом отрицать, — что, должно быть, они стареют.
Алекс быстро оглядел себя в зеркале, провел пальцами по подбородку, ощупывая однодневную щетину, сделал рукой движение, словно намыливал щеку, насмешливо усмехнулся своему отражению и решил, довольно произвольно, но окончательно, что наденет голубую рубашку.
Здесь, правда, была одна загвоздка. Рубашка висела в шкафу, в его спальне, откуда сейчас не доносилось ни звука.
Босиком, по пояс голый, с преувеличенной осторожностью, как будто не Наоми, а он вторгся на чужую территорию, Алекс прокрался на второй этаж и в нерешительности остановился перед дверью в спальню. Положив ладонь на дверную ручку, он прижался щекой к кисло пахнущему дереву и прислушался: из-за двери доносилось царапанье и жалобное мяуканье.
«Наоми Маркхем проспит третью мировую, — иронично решил он. — Нужно, чтобы рядом с ней лопнул воздушный шарик, только тогда она проснется, поморгает и спросит, что это было».
Он тихонько постучал в дверь костяшками пальцев. Поскольку ответа не последовало, он повернул ручку и толкнул дверь. Между его ног стрелой проскочила Петал. Алекс бочком, почти виновато протиснулся в приоткрытую дверь. В зеркале шкафа отразилось его неуверенное появление. До него дошло, что он задержал дыхание, он выдохнул и наполнил легкие сонным воздухом спальни. Алекс потянул на себя зеркальную дверцу шкафа, и зеркало показало ему его спальню, вернее, ее приукрашенный вариант: интригующе контрастную, искривленную, как во сне, более богатую и сложную, не такую привычную, какой он ее помнил.
А еще зеркало показало ему Наоми.
Приподнятая подушками, она полулежала в кровати и наблюдала за ним. Одна ее рука безвольно лежала на пододеяльнике, другая сжимала ворот голубой рубашки — его голубой рубашки, — прикрывая грудь. Окруженная тенью, Наоми буквально сияла, бледная и подрагивающая, как пламя свечи. Алекс заглянул в ее огромные печальные глаза. Почему все называли ее поверхностной? Он тонул в этих бездонных глазах, он погружался в них с головой.
Ее страдание было настолько искренне, настолько глубоко, что Алекс ужаснулся (требуется особая смелость, чтобы так самозабвенно предаваться скорби). Не произнеся ни слова, Наоми открыла ему всю безысходность своего отчаяния.
Он тут же подошел к ней, сел на край кровати и, нахмурившись, как это делают врачи, прикоснулся к ее тонкому запястью, помассировал его большим пальцем.
— Как я могу тебе помочь?
Она покачала головой. Показались слезы. Отпустив рубашку, она прикрыла лицо рукой, но по-прежнему смотрела на Алекса.
— Подвинься, — сказал он внезапно, с намерением лишь обнять ее, утешить. Но под одеялом скрывалось такое сладкое и опасное тепло. Ее кожа была такой нежной на ощупь. В конце концов, существует только один способ, которым мужчина и женщина могут по-настоящему утешить друг друга.
— Не плачь, — попросил он ее. — Я не могу смотреть, как ты плачешь.
Потом, с бесконечной нежностью, не сдерживая себя, отодвинув в сторону собственное неверие в происходящее, на виду у проказливого зеркала, Алекс занимался с Наоми любовью — так, как не занимался никогда и ни с кем.
Глава третья
Кейт снилось, будто она опять была в родительском доме, лежала в своей детской кроватке с пластиковым изголовьем, оплавившимся с краю — там, где стояла ее лампа для чтения, освещавшая ей путь в неспокойные миры Ловудского приюта, Уайлдфелл-холла и Грозового Перевала.
Справа от себя она видела, как в полутьме зашевелились первые лучики солнца. Слева все было спокойнее, мягче, серее. Повсюду вокруг себя она ощущала присутствие знакомых вещей: фотографии «Битлз», приклеенные на зеркало туалетного столика, ненадежный розовый мягкий табурет на длинных ножках, на который нужно было садиться с большой осторожностью, чтобы не очутиться на ковре.
Она знала, что с минуты на минуту сквозь ее подсознание проедет первый поезд от Тоттенхем-корнер на вокзал «Виктория». Потом передняя дверь изрыгнет на коврик «Дейли геральд», «Кройдон адвертайзер» и, как всегда, кучу счетов. Из кухни по лестнице поднимется запах жарящегося бекона — запах жира, соли и свинины. И потом в ее комнату войдет мать, неся с собой заботы наступающего дня и чашку растворимого кофе, и станет торопить ее, чтобы она, Кейт, не опоздала в школу. Ей было двенадцать лет или около того, и все вокруг нее было так, как она к этому привыкла.
Можно было бы выскользнуть из кровати, сесть на обтянутый льняным чехлом комод под окном и, упираясь подбородком на руку, смотреть задумчиво на спины людей, которые в ожидании автобуса до города выстроились вдоль садовой ограды в необщительную очередь и забрасывали клумбы и японскую аукубу бумажным мусором.
Но гораздо приятнее было просто лежать в липких путах паутины сна…
Она села, испуганно вскрикнув. А когда открыла глаза, то была неприятно поражена таинственной переменой обстановки: там, где должна была быть дверь, двери не было, а была большая, вызывающе пустая стена.
Конечно, почти в тот же миг она сообразила, где она и что она (это Тутинг, на дворе девяностые годы, ей много лет и она все перепутала). Она вспомнила, что это обычный четверг. И все же в душе осталась какая-то смутная печаль, некое дурное предчувствие, ощущение, что она уже что-то потеряла и скоро потеряет еще что-то.
Взглянув на часы, она увидела, что еще не было пяти. В дни, когда она работала, Кейт ставила будильник на половину седьмого, но, не желая, чтобы ее грубо вырывали из сна резким звоном, просыпалась чуть раньше этого времени.
Тогда что разбудило ее в этот час? Что-то внутри нее? Какое-нибудь воспоминание вырвалось на волю и буянит? Или что-то снаружи? Что-то внешнее?
Высунув руку из-под одеяла, Кейт пыталась найти в куче спутанных рукавов и штанин что-нибудь, что прикрыло бы ее наготу. Полосатая рубашка, которую она наконец выудила, была коротковата. Она все же накинула ее, оттянула пониже и прихватила полы рукой, чтобы не распахивались. Приоткрыв дверь, она выглянула в коридор, потом вышла на лестничную площадку. Там было пусто, но как-то неспокойно, словно кто-то только что пробежал, быстро и крадучись. Дверь в гостевую комнату была закрыта, но складывалось впечатление, что ее захлопнули буквально секунду назад (Кейт даже показалось, что она слышала, как щелкнула собачка замка). В воздухе присутствовало какое-то беспокойство, какое-то шевеление.
Должно быть, Алекс ходил в туалет, что же еще. А она, должно быть, где-то на подсознательном уровне услышала его. Но когда Кейт вошла в ванную, холод и пустота сказали ей, что здесь давно никого не было. Длинный ворс коврика стоял непотревоженный. Фарфор хранил каменное молчание.
Значит, что?.. Она резко села на крышку унитаза, сжала руки коленями, наклонилась вперед и уставилась на жизнерадостный коврик. Что здесь было?
Кейт делила с этим домом и болезни, и рождение, и смерть. Бывали моменты, когда он казался ей населенным чем-то чужим, незнакомым. Но сейчас происходило нечто совсем другое. Она не могла определить, что именно, но четко знала, что на этот раз в ее доме поселилось… что-то. И в самом деле, в ее доме поселился тот самый демон, который умел добраться до каждого из нас, — секс.
«Только не под моей крышей!» — закричала бы она, если бы знала. Но она не знала. Пока. И даже не догадывалась. Разумеется, она не догадывалась.
— Она обязательно должна ехать с нами? — Люси сидела за столом и сверлила взглядом ржаные хлопья. Кувшин молока, зависший над миской, свидетельствовал о том, что Люси вот-вот взорвется. — Почему? Я не выношу ее.
«Выношу»? Это слово пришло к ней как будто само собой. Но ведь она умела пользоваться словами, сама мисс Гудман говорила. Ее сочинения называли удачными, ее стихи нравились. Она посопела, довольная тем, как прозвучала фраза, и, глядя, как поднимаются и опускаются ее маленькие груди под школьным платьем, повторила:
— Я просто не выношу ее.
— Люси, прошу тебя. — Джеральдин прижала на секунду пальцы к щеке — так трогают бисквитный пирог, проверяя, готов он или нет. И как готовый бисквитный пирог, щека приняла первоначальную форму.
— Джуин — нормальная девчонка, — возразил сестре Доминик, вероятно, просто чтобы возразить. И воскликнув «Оп!», он толкнул Люси локтем. Хлопья в ее миске скрылись под внезапным молочным ливнем.
— Доминик, ради бога, когда ты повзрослеешь? — рявкнула Джеральдин.
— Никогда! — съехидничала Люси.
— Так, Люси, а ты помолчи. Джуин поедет с нами в Шотландию. Я обещала Элейн. И спорить бесполезно.
— Она испортит нам все каникулы. Я знаю, она такая. Вместе со своей блохастой собакой.
— Что я тебе сказала? Уже все решено. И скажи спасибо, что тебя вообще везут куда-то на каникулах. Ведь у скольких несчастных детей такой возможности нет. — Неожиданно для себя Джеральдин как наяву увидела большеглазых, никому не нужных существ, собранных в этом нововведении под названием «городской лагерь», которые, наверное, в жизни не видели моря. — Так что больше об этом ни слова, понятно?
Ее голос дрогнул. Но желание расплакаться было вызвано не жалостью к большеглазым существам, а раздражением на собственную беспомощность. Дело в том (хотя в этом она ни за что не призналась бы), что ей самой было противно оттого, что она позволила себя уговорить. Но невозможно было отказать Элли, когда вчера вечером та позвонила ей с этой просьбой. Элли умела так попросить об одолжении — зачастую о чем-то совершенно немыслимом, — что казалось, будто это она оказывала великую милость. Вот и вчера каким-то образом Элейн Шарп умудрилась убедить Джеральдин, что это почетная обязанность Горстов — присматривать за нелюдимой дикаркой Джуин, пока сама Элли две недели будет развлекаться под итальянским солнцем. «Она составит компанию Люси… девочкам нужно подружиться… с Джуин вообще никаких хлопот… благотворно повлияет на Доминика… большая помощь по хозяйству…»
Правда, сейчас Джеральдин припомнила, что ничего не было сказано про этого шумного полукровку, Маффи, который слюнявил мебель, хватал еду со стола, раскорячившись, жадно вылизывал свою заднюю часть и который однажды, проводя у Горстов выходные, спрятался за диваном в гостиной и сотворил с подушкой нечто отвратительное.
Ну что ж, он будет жить в будке, в данном случае Джеральдин проявит твердость. Где-то нужно провести черту. Девочка — одно дело, но животное — совсем другое.
— А я вот что скажу. — Доминик деловито засунул нож в банку с абрикосовым джемом и намазал джем на тост. Он любил злить окружающих и был в этом большим специалистом, но он никогда не растрачивал на мать и сестру всю тонкость манипуляций, на которую был способен; с ними он предпочитал брать быка за рога: — Мне Джуин нравится. В том смысле, что из постели я бы не стал ее выкидывать.
Пришлось немедленно призвать Джона. Вернее, вызвать его из-за утренней «Таймс». Когда он неохотно опустил газету, его взору предстали возмущенные лица. Ему сообщили, что произошел ужасный инцидент. Ему следовало немедленно поговорить со своим сыном по поводу дерзкого поведения последнего.
— Скажи ему, — призывала Джеральдин, — давай же, скажи ему.
Доминик с довольным видом ждал, чтобы ему сказали. — Э-э…
— Папа, ты слышал, что сейчас сказал Доминик?
— Ну, да…
— Раз ты не можешь, то я сама скажу ему. Это просто недопустимо. Мы должны пресечь такое недостойной поведение.
— Сексистская свинья. Хам.
— Именно.
Последние девятнадцать лет Джон Горст провел, стараясь быть как можно более незаметным. Он надеялся, что уже стал практически невидимым, а на фоне каких-нибудь пестрых обоев и вовсе исчезал. В офисе он был тих, но эффективен: печально кивал в ответ на жалобы клиентов, подписывал контракты и соглашения, писал письма, на которые потом ставил свою аккуратную, разборчивую подпись без лишних завитушек и росчерков. Он приносил домой приличную зарплату, выписывал чеки то на одно, то на другое, делал мелкую работу по дому вроде прочистки стоков и смены пробок, и был счастлив, думая, что люди замечают его действия, а не его самого.
Глядя сегодня утром на себя в зеркало, он видел самого обычного человека. Он провел бритвой по линиям очень заурядного лица. Его отличительными чертами были только лысина (правда, и лысым он был только наполовину) да еще печальный вид.
Вероятно, он преувеличивал свою несущественность. Потому что невозможно пройти по жизни совершенно незамеченным. И может, он и не знал этого, но когда он стоял перед заправкой, наполняя бензином жадный «ровер», какая-нибудь женщина у соседней колонки, бывало, обращала на него взгляд и, понаблюдав за ним сквозь бензиновые пары, проникалась к нему неоправданной неприязнью (ведь сексуальные извращенцы и серийные убийцы всегда самые тихие на вид). Или порой, когда он садился на табурет за прилавком булочной в ожидании бутерброда и пластикового стакана с кофе, добрая продавщица, отметив его усталый вид, пятно от супа на рубашке или отсутствие пуговицы, принимала его за одинокого, неухоженного холостяка и кроме сыра и помидоров клала в его булочку дополнительную порцию заботы.
Но относительно своего положения в доме он практически не заблуждался: для своей семьи он был ничтожеством — более или менее. У них были такие смелые взгляды, такие резкие голоса, такие сильные, агрессивные характеры, что не было смысла добавлять в эту гремучую смесь что-либо свое.
Но время от времени они вдруг просили его встать на сторону того или другого члена семьи, просили разрешить спор. И хотелось ему этого или нет, но он оказывался втянутым в их перепалки.
— Папа, мы говорили про Джуин. О том, что она поедет с нами в Шотландию. Я не хочу, чтобы она ехала. Разве обязательно брать ее с нами? А Доминик сказал, что он не стал бы выкидывать ее из постели.
— Да-да, понятно.
Джон считал, что мальчишки и должны вести себя по-мальчишески. И ему было жаль, что в свое время ему не хватило на это ума. Но его детские годы, правильно прожитые или нет, остались далеко позади. «Я — старый сухарь», — подумал он с мрачным удовлетворением.
Однако Джеральдин, которая дрожала при мысли о подростковой беременности (достаточно было вспомнить Кейт и Дэвида), не желала сидеть сложа руки. Если Доминик не просто бахвалился, если он действительно был сексуально активен, если он хотел приобщиться к взрослой жизни, то меньшее, что необходимо сделать, это напомнить ему об обязанностях взрослого человека.
«Нынешняя молодежь так быстро взрослеет, — заметила она буквально вчера в разговоре с миссис Худжит. — Они так быстро растут», — повторила она, повышая голос, чтобы перекричать пылесос. И то же самое она говорила старшей библиотекарше, sotto voce: «Старые головы на молодых плечах. Они все умны не по годам». Библиотекарша рассеянно кивнула, соглашаясь, и продолжила раскладывать по полкам стопку романов о сексе и шоппинге, читанных и перечитанных нетерпеливыми школьницами.
— Доминик, я хочу… — начала Джеральдин.
Но ее сын уже вставал из-за стола. Он сладко зевнул, словно воздух был для него едой и питьем, словно он никак не мог насытиться им.
— Все зеваю, не могу остановиться, — сказал он, выходя из столовой. — Мне пора идти, через две минуты уже подъедет Хилльер с отцом — они обещали подвезти меня.
Проходя через кухню, Доминик увидел, что на кухонном столе Люси разложила свой школьный обед — бутерброды с ветчиной, нежирный йогурт и яблоко, с тем чтобы перед выходом аккуратно упаковать это все в пластиковый контейнер. «Господи, настоящая мадам», — раздраженно подумал он.
Мысленно уже занятый Азученой, домработницей Хилльеров (темноглазая, полногрудая, с восхитительной гривой темных волос, очаровательно краснеющая, когда он проходил мимо, почти касаясь ее, или когда произносил ее имя), воображая, что бы он сделал с ней, если бы она только сказала «си, си», он схватил яблоко, жадно надкусил его и оставил на столе ухмыляться, а сам вышел через заднюю дверь.
Джуин положила согнутую в локте правую руку на стол и уткнулась в нее лицом. Элли приходилось обращаться к макушке пушистой головы дочери и к ее трогательно худой шее, молодым побегом выраставшей из летней школьной блузки.
— Ты ведешь себя как эгоистка, — сказала Элли, правда, без свойственной ей уверенности.
Джуин неразборчиво пробормотала что-то себе в подмышку — что-то насчет того, кто из них двоих был эгоистичнее. Она на секунду вскинула голову, чтобы бросить матери обвинение:
— Ты сама всегда думаешь только о себе!
— Я считаю тебя достаточно взрослой и достаточно некрасивой, — сухо продолжила Элли, выбивая из пачки сигарету, — чтобы пару недель обойтись без меня.
О, Джуин не возражала бы обойтись без любимой мамочки пару недель. Если уж на то пошло, она не возражала бы вообще — всегда, черт побери, — обходиться без матери, это было бы просто счастьем. Но почему надо было спихивать ее Горстам, почему ей навязывалось общество этой скучной дуры Люси?
— Мы уже обсуждали это. Я тебе все объяснила.
— Я могла бы пожить дома одна. Со мной ничего бы не случилось.
— Ну, конечно, с тобой ничего бы не случилось. А я бы глаз не сомкнула от беспокойства.
— Я вполне могу позаботиться о себе.
— А теперь представь себе, как я приземляюсь в Хитроу, а меня уже встречают копы и сразу волокут в суд по обвинению в плохом обращении с детьми. — Элли затянулась так, что кончик сигареты жарко заалел, закинула одну руку за спинку стула, а другой показала — в основном для себя, так как Джуин отказывалась смотреть на нее, — какого размера будут заголовки в газетах: — Вообрази: «Ребенок популярной журналистки оставлен дома без присмотра!» Мои враги будут праздновать день рождения.
— Я не ребенок.
— Но пока еще и не взрослая.
— Достаточно взрослая, чтобы бросить школу. Чтобы заниматься сексом. Чтобы выйти замуж с разрешения родителей.
— Такого разрешения я, разумеется, давать не собираюсь.
— Кроме тебя, у меня есть еще отец. — Джуин наблюдала за Маффи, который кружил под столом в поисках крошек от завтрака. В отчаянии Джуин стала прикидывать, какие еще у нее были варианты. Их было немного.
Она могла бы пожить это время у бабушки Сибил, к квартире которой почему-то всегда пахло супом и где не было места для Маффи. Ей пришлось бы выслушивать бесконечный отчет о том, кто умер, кто почти умер и кто вот-вот умрет. Ее единственным развлечением было бы ускользать на часик к морю (пока Сибил играла в канасту с приятельницами), чтобы полежать на полотенце в плотном кольце громкоголосых отдыхающих. У Сибил Джуин ложилась бы в девять, вставала бы в семь и от скуки быстро сошла бы с ума.
Конечно, была еще Кейт. Джуин с огромным удовольствием погостила бы у деликатной, чуткой Кейт, в обществе которой она не боялась быть самой собой. Но даже заикаться об этом было бессмысленно, Джуин знала, что могла бы возразить на это Элли: пока треклятая Наоми торчит на Лакспер-роуд, в доме у Гарви яблоку некуда было упасть.
Что еще хуже, в ответ на такую просьбу Элли непременно расплылась бы в самодовольной улыбке с видом: «А я знаю, чего ты на самом деле добиваешься». И самое противное было в том, что она действительно знала. Элли знала, что ее дочь была влюблена в Алекса. При одной мысли о нем сердце девочки билось быстрее, и Элли с дьявольской интуицией догадывалась об этом, хотя Джуин не говорила о своем чувстве ни слова.
Джуин с ужасом думала, что ее мать, не очень-то сдержанная и на трезвую голову, а когда под градусом, то и вовсе безудержно говорливая, в один прекрасный день проболтается. Возьмет и выложит все Алексу в лицо. И тогда Джуин останется только провалиться под землю или сгореть от стыда.
И без того ей было очень трудно видеться с Алексом, сидеть рядом с ним, разговаривать и при этом не допускать ни малейшего проявления своих чувств. И это было еще одной причиной, по которой она не могла провести эти две недели в Тутинге: разве возможно было, чтобы он увидел ее утреннюю, еще не пришедшую в себя, не собранную? Разве возможно было есть с ним за одним столом, теряя с каждым проглоченным куском свою женскую загадочность? И от смущения она станет страшно неуклюжей, будет ронять вилки, промахиваться мимо рта, капать на стол и колени соусом. А посещения туалета: ведь так она выдаст ужасную правду о том, что она тоже, как все, должна… ну, справлять естественные потребности… Даже думать об этом было невыносимо.
И значит, ей оставалось только…
Она резко подняла голову, не успев погасить огонек надежды в глазах, и воскликнула:
— А ведь я могу пожить у отца!
— Ты отлично знаешь, что нет. — Элли встала и сердито заходила по комнате, обхватив себя руками. Такой поворот разговора заставил ее занять оборонительную позицию, а значит, привел в раздраженное состояние духа. Все это могло закончиться слезами.
— Но почему? Ты сама всегда говоришь, что он хороший человек. И что я очень похожа на него. Было бы здорово узнать его поближе.
— Тим? Он просто золото. Но, милая, мы с ним так не договаривались.
— Какое право ты имела о чем-то договариваться, — проговорила Джуин, шмыгая носом, по-детски жалея себя, — не спросив меня?
— А такое, что на тот момент, когда мы договаривались, — напомнила ей Элли, — тебя еще не было и в помине. — Она подошла к раковине, загасила об нее сигарету, включила воду, посмотрела, как окурок исчез в сливном отверстии. — Где же этот проклятый Тревор? Он опаздывает. Больше я не собираюсь это терпеть, все, он уволен. Нет, Джуин, ты должна быть благодарна мне за то, что я планировала свою беременность. Ты была желанным ребенком — в отличие от бедного Алекса Гарви.
— Ха! Бедный Алекс Гарви? Бедный Алекс Гарви? — Джуин не знала никого, кому бы эпитет «бедный» подходил меньше, чем Алексу. — Он совершенно не бедный.
— Ах да, ну конечно же.
— Что значит «конечно же»?
— Это значит, что я забыла о том, что ты и он…
— Что я и он? Что ты забыла? Здесь нечего забывать — ты все навыдумывала!
— Как скажешь, ангел мой.
— Так и скажу. — Джуин натянула подол юбки до колен, а потом задрала его кверху, чтобы взглянуть на свои худые бедра. Хоть в чем-то ей повезло: по крайней мере, она не была толстой. — Я просто хотела сказать, — продолжала она убеждать Элли (и возможно, с излишней горячностью), — что Алексу очень повезло с матерью.
— Ты так считаешь?
— Да, я думаю, что Кейт замечательная.
— Ну что ж, пожалуй, она действительно очень приятный человек, — легко согласилась Элли, тем более что, по ее мнению, слово «приятный» было скорее ругательством. Лично она считала приятных людей обманщиками за то, что они не боролись с проблемами, играли не по правилам. А это было абсолютно нечестно с их стороны. И вообще, вряд ли они на самом деле такие уж сговорчивые.
— К тому же в школе я пропущу целую неделю, — горько напомнила матери Джуин.
— Везучая. Когда я была в твоем возрасте, я на все была готова, лишь бы один денек не ходить в школу. А тут целая неделя! Класс.
— Это первая неделя учебного года. Последнего года. Я хочу быть в школе в эти дни. Мне нужно там быть. Все вернутся с каникул, будут обмениваться новостями, а я останусь в стороне. Мне достанется самое плохое место, на английском мне придется сидеть на первой парте, рядом с этой плаксой Соней Стивенс, и старый Рентон будет брызгать на меня слюной — буквально. Кошмар!
— Люси тоже пропустит неделю, и Доминик, но что-то я не слышала, чтобы они жаловались.
— Они пропустят всего день или два. У них учебный год начинается после нас. В частных школах каникулы длиннее. Слушай, ты же не собираешься пойти на работу в этом наряде?
— А что? Это «Вивьен Вествуд», между прочим.
— И от всего этого я чувствую себя неуверенно, понимаешь, это все сидит у меня в голове. Из-за этого я завалю все экзамены.
— О, Джуин, прошу тебя, не говори ерунды. Ты же умный ребенок, ты сдашь все эти экзамены без проблем. А если даже и нет, что с того? На этот случай существует пересдача. Слушай, я бы взяла тебя с собой в Италию, но пригласили меня одну. И кроме того…
— Что?
— Ну, тебе бы там не понравилось, — сказала ей Элли. Потом добавила еле слышно: — И ты мне там будешь мешать.
У Пэтти соберется очень интересная компания. Кьянти будет литься рекой. И в романтической обстановке, под тосканскими звездами… кто знает, что может случиться?
Совсем недавно Элли узнала одну новость. На совещании в прошлую пятницу они с Пэтти сидели рядом и шептались, и Пэтти даже держала Элли за рукав в знак своей горячей симпатии. С другого конца комнаты за этими проявлениями дружелюбия холодно наблюдала Тина Хаган из отдела здоровья, которую по каким-то вероломным соображениям исключили из привилегированного круга друзей Пэтти, с тем чтобы никогда больше Тина не омрачала своим присутствием комнаты Иль-Поджа. Вот тогда-то Пэтти поделилась новостью:
— Угадай, кто еще полетит с нами в Италию!
— Как я могу угадать? Скажи хотя бы, он это или она.
— О, это он. — Наклонившись к Элли, прикрыв рот рукой, Пэтти произнесла имя, от одного упоминания которого женские сердца пускались вскачь. При этом сама мисс Хендерсон лучилась таким самодовольством, радостью и предвкушением сексуальных утех, что не оставалось сомнений относительно ее планов.
«Ну, это мы еще посмотрим», — твердо решила про себя Элли.
Если кто-то на свете и заслуживал титула «Подарок небес», то это был, безусловно, он. Мартин Керран по сравнению с ним был ничтожеством. И вообще, Руфь может забирать его обратно. Внезапно Мартин стал абсолютно не нужен Элли.
Ей всегда казалось, что только по странному недоразумению, по недосмотру или по ошибке не смогла она завладеть тем, другим, еще в давние времена. И с его стороны это было упущением. Или окружающие помешали ему обратить на нее внимание.
Что ж, в этот раз такого не случится. Нет, сэр. Ей давно уже следовало заняться им. А что касается Пэтти Хендерсон, то Элли была на восемь лет моложе, быстрее и свободнее, и пусть приз достанется сильнейшему.
Итак, решено: в сентябре, в Италии, Элли во что бы то ни стало переспит с Дэвидом Гарви.
_____
Наоми Маркхем была влюблена. Ей казалось, что никогда раньше не испытывала она этого чувства. Правда, существовала такая поговорка, что любовь, как и боль, невозможно точно вспомнить. Так ли это?
Лунным светом стекла она на диван Кейт. Вся бледная и воздушная, не заботясь больше о кошачьей шерсти, она вздыхала над своей судьбой и пыталась отыскать в прошлом что-либо, сравнимое с ее нынешним состоянием. Она перебирала годы и десятилетия, хранящиеся в ее сердце, но не находила ничего похожего на это сильное, прекрасное чувство.
Сконцентрировавшись, она нарисовала Алана Нейша и рядом Алекса Гарви, но они были настолько несоизмеримы, что казались фрагментами двух разных фотографий: Алекс — в фокусе, на переднем плане, стоит, сложив руки на груди, и уверенно улыбается; Алан — далекий, еле различимый, как незнакомец, случайно попавший в кадр.
Она зевнула — глубоко, до головокружения, словно ей не хватало кислорода. Мысли плыли. Потом какая-то смутная нужда, которую Наоми интерпретировала как жажду, повела ее на кухню в поисках минеральной воды.
Там был Алекс. Сидя на табурете, он ел прямо из коробки шоколадное печенье и с видимым интересом слушал радио.
Не ожидая увидеть его и от этого смутившись, Наоми замешкалась в дверях.
— Мне не спится, — положив щеку на сложенные ладони, объяснила она, будто стояла глубокая ночь, хотя было уже без четверти девять и летнее утро было в самом разгаре. (В тех редких случаях, когда Наоми просыпалась раньше десяти часов, она непременно раздражалась и пребывала в уверенности, что была кем-то или чем-то злонамеренно разбужена.)
Алекс тут же вскочил и обнял ее за локти, чтобы подарить сладкий, шоколадный поцелуй.
— Садись, — потянул он ее за собой, — садись, послушай, что говорят эти идиоты. — Он провел ее через кухню и усадил к себе на колени. Она села — высокая, покачивающаяся, — не доставая ногами до пола, испытывая странное, непривычное чувство неловкости.
— А где Кейт? — Она сплела лодыжки, стараясь удержать равновесие.
— А, давно уже умчалась. Хочешь чаю или еще чего-нибудь?
— Нет.
— Я сам тебе сделаю.
— Нет, правда не хочется. Как ты думаешь, она не… — Наоми посмотрела на раковину, на сушилку, где скопилась гора неубранной посуды, и впервые в жизни ей в голову пришла мысль, что и она могла бы сделать что-нибудь по хозяйству (например, разложить посуду или вытереть стол).
— Думаю, нет. — Он прижал ладонь к ее спине, провел пальцем по позвонкам. На ней было надето что-то тонкое и шелковистое — на ощупь такое же, как она сама. Сквозь ткань Алекс чувствовал ее тепло, ее хрупкость. — Думаю, нет, — повторил он с большей твердостью.
На самом деле сегодня утром Кейт была с ним какой-то отстраненной, почти недовольной. Она объяснила это головной болью. В случае с Кейт головной болью могло оказаться что угодно — от небольшой простуды до двустороннего воспаления легких, потому что она была стоиком по отношению к своему здоровью, во-первых, и не очень хорошо разбиралась в симптомах, во-вторых. «Это пройдет», — сухо уверила она Алекса и принялась тщательно изучать связку ключей, хмурясь, вдавливая ключи в ладонь так, что оставались отпечатки.
— Ты уверена?
— Уверена. Просто я не отдохнула за ночь. Такое ощущение, что вовсе не спала. Ты знаешь, как это бывает. Мне приснился плохой сон, и до сих пор как-то не по себе. — Она в нерешительности постояла секунду, сама как смутный, тяжелый сон. Ее интересовало, как она выглядела. Прилично ли?
— Прилично для чего? — спросил он у нее заботливо и в то же время шутливо, но без улыбки. Пробормотав что-то насчет обеда, Кейт повернулась к двери.
— Ладно, хватит канителиться, — объявила она. — Я ушла. — И, верная своему слову, она ушла.
— Когда-нибудь придется ей все рассказать, — сказал он Наоми, изо всех сил стараясь скрыть свое беспокойство — ради нее. Ради нее, потому что в первый и, насколько он мог судить, в последний раз он был влюблен — влюблен в это беспомощное существо, с которым жизнь так жестоко обошлась. Здравый смысл говорил ему, что мать не одобрит их отношений. В восторг она не придет. Если честно, то она будет очень недовольна. Она будет в ужасе.
— Да, — согласилась Наоми.
Но ни один из них не знал — когда это надо рассказать, да и зачем. Ведь они ничего не обещали друг другу и вообще никаких четких планов еще не строили. Всего-то девять дней прошло с тех пор, как это случилось, о чем можно было говорить!
— А тебе не надо на работу или еще куда-нибудь? — Наоми положила руку ему на плечо, прижалась к его сильному предплечью. Она была сама не своя. Словно марионетка, она была неестественным образом зависима. Таковы были последствия того, что она любила, любила по-настоящему, и того, что ее любили по-настоящему. И поэтому она не знала, как себя вести.
Прежде у нее всегда был четкий статус. Прежде всегда существовали правила, пусть не явно выраженные, но всеми принимаемые. У нее была роль — придавать блеск серой жизни мужчины, и за это она получала всевозможные товары и услуги.
Однако Алекс хотел от нее меньшего. Или большего? Он хотел ее саму. И в ответ отдавал себя. Так, ну и как же на этом строить взаимоотношения?
Сумасшествие. Это было сумасшествие. Он ничего не мог дать ей («Я куплю ту квартиру, — поклялся он, — и там будем только мы двое», и Наоми прекрасно представляла себе, что за жизнь будет у них в этой квартире — компромисс на компромиссе), но все же это «ничего» было ей нужнее всего на свете.
Казалось, он читал ее мысли.
— Ты ведь понимаешь, — сказал он бодрым тоном, — что я не смогу содержать тебя в той роскоши, к которой ты привыкла.
Как будто она сама не думала об этом — по крайней мере, в той степени, в которой требовался мыслительный процесс, так как это был вопрос не холодного расчета (расчета фунтов, шиллингов и пенсов, как говорила она себе, забывая, что шиллинги уже вышли из употребления[15]), а вопрос глубокой растерянности и смятения. «Конечно, я все понимаю, и для меня это не важно», — уверила она его, призвав всю свою храбрость, собрав всю свою волю, чтобы дать такое обещание. И, вероятно, ей это действительно было не важно. Она искала не столько материальные блага, сколько безопасность. И поэтому старалась укрепить свою жизнь роскошью. Но, может быть, ей больше не нужно было укреплять свою жизнь?
— Ты клянешься?
— Клянусь.
— Ни капельки роскоши?
— Ни капельки.
— Значит, сухой закон?
— Похоже на то.
— Но ты ведь знаешь, что говорят о любви средь нищих стен? И о черством хлебе? — Он запрокинул голову, и она нарисовала ему пальцем залихватские усы, а потом улыбку — его широкую, мальчишескую ухмылку. Он всегда шутил. Раньше Наоми недоумевала, зачем вообще существовали шутки, но теперь она, кажется, начинала понимать.
— Нет, не знаю. Скажи, что говорят?
— Говорят, что она, «прости, Амур! — есть пепел, прах и тлен»[16].
— Правда?
— Так говорят мужчинам. — Его глаза-хамелеоны, полные чувства, заглянули в ее глаза, сначала шутливо, потом с опасной проницательностью, отчего она заерзала и принялась играть с кончиками волос. — Мне скоро уже надо будет уходить, — сказал Алекс, сцепил за ней руки и прижал ее к себе. Потом он пристально посмотрел в вырез шелкового одеяния Наоми, приложил ухо к ее груди и с серьезным лицом прислушался к ее сердцебиению. Его тонкие темные волосы, так волнующие Кейт, теперь взволновали и Наоми, но совсем по-другому.
Алекс намеревался поиграть в доктора: поставить шутливый диагноз в том смысле, что Наоми будет жить. Но вдруг его сковало ужасом оттого, что он действительно может потерять ее, что в какой-то момент ее слабое сердце может остановиться. И это так поразило его, что он чуть не задохнулся и несколько секунд не мог произнести ни слова.
Во время этой паузы миссис Бисли из Бангея, постоянная слушательница «Радио-4», непоколебимая монархистка, преданная почитательница принцессы Дианы, с большим чувством выступила в защиту права королевской семьи на частную жизнь.
— Ты меня любишь? — спросил Алекс, когда к нему наконец вернулся голос.
— Угу.
— Что значит «угу»?
— То и значит.
Он развел в стороны полы ее халата, и вместе с Наоми они серьезно изучили ее плоский живот, треугольник лобковых волос, безукоризненность ее бледной кожи. Алекс решил, что в целом свете нет никого красивее Наоми.
— Давай поедем куда-нибудь, — сказал он. — Вдвоем.
— Поедем?..
— В отпуск.
— А-а.
— А?
— А — понятно, в отпуск.
Но куда они могли поехать и каким образом? Наоми привыкла к шикарным отелям, которые с отчаянным упорством пародировали свое собственное славное прошлое. Она привыкла к швейцарам в ливреях, к барам с пальмами в горшках и с музыкантом у пианино, к просторным номерам, пахнущим Дамаском, кружевами и недавними стараниями пылесоса, к круглосуточному обслуживанию и к бокалам сухого мартини, которые доставлялись коридорными с медными пуговицами.
Наоми не имела никакого другого опыта, и в ее ограниченном воображении мир Алекса рисовался ей совсем иным: ей представлялись некие меблированные комнаты с оранжевым ковролином, брюзгливая хозяйка, категоричные объявления, запрещающие постояльцам мусорить и приносить в номер еду.
— Можно снять шале. Во Франции. Это что-то вроде коттеджа. С самообслуживанием. Мы с Кейт снимали такое шале на Троицу.
— Да?
— Кажется, она посылала тебе открытку. Там еще были нарисованы птицы с перепончатыми лапами. Или девушка в национальном костюме и платочке. Ну, так как? Поедем или нет?
— Я бы с удовольствием съездила, — сказала она, и волна облегчения смыла образы убогих «Морских Видов» и «Синих Горизонтов», резких и важных хозяек пансионов. Помолчав, Наоми попросила: — Повтори еще раз. То, что ты говорил о любви и нищих стенах.
— О любви и черством хлебе?
— Да.
— Я сказал, что она — только не принимай все это слишком близко к сердцу — есть пепел, прах и тлен.
— А к шале это относится?
— Надеюсь, что нет.
— Я тоже на это надеюсь.
— Хотя если взглянуть на оборотную сторону медали…
— Да?
— «Подчас любовь — и в золото одета — мучительней поста анахорета»[17].
Закусив нижнюю губу, она задумалась над этой фразой; ей вспомнилось, как томилась она, окруженная золотом.
— А кто это сказал?
— Поэт Китс.
— Думаю, в чем-то он был прав.
— Согласен. Эй, послушай-ка, мне давно уже пора бежать.
— А может, останешься? — протянула она, но как-то сонно, не настойчиво, потому что на самом деле ей хотелось, чтобы он ушел. Она была утомлена и встревожена. Ей хотелось побыть одной, прислушаться к себе, внимательно исследовать свое душевное здоровье, как это принято у ипохондриков.
Он ушел, а она осталась сидеть, не чувствуя времени. Потом она испарилась из кухни и конденсировалась вновь уже на диване, где принялась следить за тем, как Пушкин и Петал сошлись в смертельной схватке с мячиком из бумаги. Ее поразила способность кошек оживлять бездушный предмет, способность так убедительно давать вещи жизнь.
Конечно, кое-какие расчеты напрашивались сами собой, а именно — одно элементарное арифметическое действие, не связанное с оценкой доходов Алекса или их жалких совместных возможностей. Однако придется кому-то другому произвести это действие: подсчитать разницу между ее возрастом и его молодостью. (Можно было не сомневаться, что Элейн Шарп, например, не преминет отметить — с самым заботливым видом, разумеется, — что Наоми годится Алексу в матери.) Потому что ни Наоми, ни Алексу в их опьянении эта математика не приходила в голову; в их представлении они идеально подходили друг другу.
Поглощенная бесплодным самоанализом, Наоми подхватила «Глоуб» и невидящим взглядом уставилась на заголовки. Но потом она сосредоточилась, перевернула несколько страниц и занялась разгадыванием кроссворда, вписывая первые пришедшие на ум ответы.
Три по горизонтали: «Город в Йоркшире». Восемь букв. Третья буква с конца «л». Наоми беспечно вписала «Векфильд». Но, похоже, это слово не подходило, потому что пять по вертикали («Рядовой военнослужащий») однозначно должно было быть «Солдат».
— Мне нужна «с», — сказал Наоми вслух, но негромко. Потом она откинулась на спину, сдаваясь, закрыла глаза, вспомнила Алекса — такого живого, полного сил, такого бесконечно желанного, и произнесла, опять тихо: — Мне нужен секс.
Она перепутала день. Или время. Или место. Она не знала что именно, но что-то, безусловно, она перепутала. Несчастная Кейт сидела в ресторане, терзая булочку, отрывая от нее мелкие кусочки, и боролась с желанием повернуться, еще раз посмотреть в направлении двери или еще раз посмотреть на часы.
Элли пригласила ее на обед («Я угощаю»), а приглашение от Элли имело силу официального вызова. Кейт знала, что протестовать было бесполезно, что ни одна причина отказа, будь то срочная работа, отсутствие времени или другие договоренности, не считалась уважительной. Приглашение Элли просто не обсуждалось. Поэтому Кейт покорно ответила, что будет очень рада, и, чтобы записать место и время встречи, стала судорожно перебирать бумажный развал возле телефона в тщетных поисках ручки. «„Ла Кантина", — попугаем повторила она за Элли, надеясь запомнить инструкции по памяти и мысленно проклиная Наоми за исчезновение ручки. — Набережная Батлерс. Завтра в час дня. Все поняла. Нет-нет, я доберусь сама. До встречи».
Насколько спокойнее она чувствовала бы себя, если бы записала адрес и время в ежедневник, если бы могла сейчас достать из сумочки письменное доказательство того, что она все запомнила правильно. А так, не имея возможности развеять сомнения, Кейт начала опасаться, что вчерашний звонок Элли существовал только в ее воображении. С самого утра в душе Кейт царило странное смятение: сны казались реальными, а реальность скрывалась под патиной призрачности.
Она обхватила правой рукой запястье левой, где были часы, и плотно сжала пальцы. «Сиди ровно, — сказал она себе. — Успокойся. Держи себя в руках. Вероятно, Элли просто задерживается. Начни считать до ста, только не очень быстро, и не успеешь ты закончить, как она уже будет здесь».
Кейт специально немного опоздала, не желая приходить первой. Свой «фиат» она оставила в дальнем конце изрытой колеями автостоянки, где сквозь трещины в асфальте упрямо пробивались брызги желтого одуванчики. Она постояла на берегу у парапета, глядя прищуренными глазами на искрящуюся солнечными зайчиками воду.
Потом, в компании с радостно возбужденной, лохматой, удивительно бесформенной собакой, принюхивающейся к бризу, она проследила за тем, как мимо беззвучно проскользнула ржавая баржа. Кейт подождала, пока пройдут эти пять, шесть, семь простительных минут опоздания. И только потом, репетируя про себя извинения (дорожные работы, пробки, объезд), она быстро дошла до ресторана, толкнула стеклянную дверь и очутилась в прохладном, светлом помещении, наполненном журналистами и корреспондентами (людьми вроде Элли Шарп), которые говорили без умолку, но при этом успевали и как следует угоститься макаронами болонез и белым вином.
Но Элли там не было.
Кейт позволила отвести себя к столику, заказала минеральной воды, приняла блюдо с булочками ciabatta, которые теперь бессознательно уничтожала.
В ответ на расспросы заботливого официанта она выдавила слабую улыбку, при этом от стараний казаться спокойной ее лицо буквально скрипело. Она объяснила, что ее подруга должна была вот-вот подойти. Уже полчаса она сидела в одиночестве, читая и перечитывая меню, так и не поняв, что именно там было написано.
А Элли все не было.
«Ничего страшного, — строго говорила себе Кейт. — В свой последний день ты оглянешься на прожитое, на все эти мелкие глупости, которые сейчас тебя так унижают и ужасают, и поймешь наконец, что это совершенные пустяки».
Но на самом деле Кейт в это не верила. Ведь она была дочерью Пэм Перкинс, которая и уходя из жизни переживала о том, что она сказала или не сказала, корила себя за малейшие промахи и упущения, за ту или иную оговорку, за недостаток терпимости или такта, беспокоилась о том, что, должно быть, думали о ней окружающие.
«С твоей стороны чудовищно самонадеянно предполагать, — продолжала увещевать себя Кейт, — что хоть кому-то из присутствующих не наплевать на то, что ты сидишь одна. И конечно, никто и не думает смотреть на тебя».
И тут ее взгляд скользнул в сторону соседнего столика, за которым сидели две женщины и смотрели прямо на нее с очевидным и недоброжелательным интересом (Кейт решила, что они только что обменялись каким-нибудь насмешливым замечанием: наверняка они сочли ее неудачницей).
Вспыхнув от смущения, Кейт уронила голову и стала изучать свои руки, лежащие на коленях, особое внимание уделив неровным, грязноватым ногтям, после чего постаралась сжать кулаки так, чтобы ногтей не было видно.
Печально Кейт посмотрела в окно — через Темзу, где виднелись часы вокзала на Фенчерч-стрит. Часы не скрыли от нее горькой правды: было уже без пяти два.
Так, все, хватит! Она уходит. Сейчас она подзовет официанта, попросит счет, расплатится за булочки и воду и выйдет с гордо поднятой головой.
Конечно, самым разумным было бы плюнуть на Элли, остаться на месте и с довольным видом пообедать. Если бы в Кейт была хоть капля здравого смысла, она заказала бы сейчас тарелку ризотто. Ну а если бы она смогла проявить твердость характера, то выбрала бы что-нибудь из карты вин. Но мысль о еде в одиночестве подавляла. Кейт никогда не находила это приятным или удобным; напротив, она чувствовала себя брошенной, одинокой, как ребенок без друзей, и механически двигала челюстями, пережевывая пищу.
Она уже прикидывала про себя, что, когда Алекс переедет, ей придется привыкать к этому. Ей придется научиться готовить нормальную еду для себя одной и съедать ее сидя за столом, с ножом и вилкой, по всем правилам. Но, по крайней мере, у себя в доме она не будет предметом сожаления и насмешек.
А разрешат ли ей работники ресторана уйти, если толком она ничего не заказала? Вдруг из-за одного ее присутствия, из-за того, что она занимала столик в течение часа, на нее налагалось обязательство непременно здесь пообедать? Или, в лучшем случае, заплатить за обед? За два обеда?
И вообще, что они подумают, если она сейчас уйдет, не поев? Ах, вот если бы она упала в обморок, тогда бы ее просто вынесли на носилках и не задавали бы никаких вопросов. В ресторане было достаточно жарко, и Кейт была достаточно голодна для того, чтобы действительно упасть в обморок. Но за всю ее жизнь она только раз была близка к потере сознания — когда ей, совсем еще ребенку, в больнице накладывали шесть швов. Медсестра дала ей тогда апельсинового сока и в присутствии матери, неловко стоящей рядом, бесцеремонно заявила, что во всем было виновато нервное напряжение Кейт. И маленькой Кейт стало страшно стыдно за себя. Испытать такое еще раз она не хотела.
Кейт уже начала судорожно оглядываться в поисках «своего» официанта, чтобы умолять его выслушать ее проблему, и вдруг — она даже не сразу поверила своим глазам — она увидела, что к ней приближается Элейн Шарп.
Элли, как всегда, несла себя с тем же высокомерием, ожидая тех же почестей, что и королева. Правда, оделась она совсем не по-королевски: на ней был современный и весьма двусмысленный наряд.
— Ой, прости, прости, — беззаботно извинилась Элли без намека на раскаяние. — Пробки на дорогах просто ужасные. Ты уже поела?
— Нет… — ответила Кейт, приподнимаясь и перегибаясь через стол, чтобы поудобнее подставить лицо для поцелуя. — Я не…
Облегчение затопило ее. Она могла бы броситься на грудь Элли и зарыдать. Никогда она так не радовалась при виде подруги, никогда не испытывала к ней такой благодарности. «Видите, — сияла она улыбкой во все стороны, — я реабилитирована. Видите, меня не бросили, — говорило всем ее радостное лицо. — Вот моя подруга, она будет со мной обедать. Вы не верили, а Элли — вот она». Но две женщины за соседним столиком были поглощены беседой. Никто не заметил ее триумфа.
— Ничего страшного, — солгала она Элли. — Я сама опоздала. Дорожные работы, как обычно. Пришлось ехать в объезд.
— Слушай, да от этого с ума можно сойти! А ты приехала сразу после работы? — Красноречию подняв брови, Элли оглядела хлопчатобумажные слаксы и выцветшую блузку Кейт.
— Ну да, но я… Я слишком плохо одета? В этом дело? Извини, я не хотела ставить тебя в неловкое положение.
— Да нет, все в порядке. Ты нормально одета. Я просто спросила. — Взмахом руки Элли закрыла вопрос. «Если Кейт нравилось выглядеть, как собачий завтрак, — говорила она своим видом, — то это ее личное дело. У нас свободная страна». — А у меня было кошмарное утро. Боже, мне срочно нужно выпить! Слушай, а чем ты тут занималась? Ты даже не заказала вина.
— Извини. Я не знала, придешь…
— Не важно. Я сама. — Элли подняла руку, чтобы привлечь внимание проходящего мимо официанта. — Бутылку белого вина, пожалуйста, дорогуша, для двух жаждущих дам. Да, так вот, сегодня у меня был такой ужасный день, ты себе не представляешь. Меня приятельница пригласила в сентябре в Италию, а Джуин уперлась — и ни в какую. Я хочу отправить ее с Горстами в Шотландию — они просто счастливы будут взять ее с собой, — но ей, видите ли, их компания не нравится. Эти дети из всего делают проблему. Они просто напрашиваются на то, чтобы им выкручивали руки. Хотя, конечно, тебе этого не понять. С твоим-то Алексом! Он персик.
— Угу, — задумчиво согласилась Кейт, без обычного для нее оживления. В последнее время она была странно сдержанна по отношению к сыну, они как-то отдалились друг от друга.
— Но все остальные из его поколения прямо-таки драматизируют свою жизнь. Они ведут себя так, как будто играют главную роль в каком-то мрачном кино. Меня это страшно утомляет.
— Я вполне могу понять, — резонно возразила Кейт, — почему Джуин не хочет, чтобы ты бросала ее на Горстов. Все-таки они с Люси разного возраста. И, хотя мне неприятно это говорить, ведет она себя как невыносимая маленькая мадам. Ой! — Она прикрыла рот ладонью. — Люси, конечно, а не Джуин.
— Да и Джуин тоже та еще мадам, знаешь ли. Коровища упрямая. Я очень ее люблю, но иногда она просто сводит меня с ума. И я вовсе не «бросаю» ее, как ты мило выразилась. Так, что тут у них есть? Ты что будешь? Я буду пиццу. Нет, лучше спагетти. Да, за обед плачу я, я говорила? Так что ешь что хочешь. Наедайся до отвала.
— Я буду то же, что и ты, — кротко ответила Кейт, поскольку к этому моменту она так проголодалась, что уже не хотела есть.
— Отлично. Мне нравятся женщины, которые знают, чего хотят. Значит, спагетти с жареным луком и соусом чили. Кстати, раз уж мы заговорили о Джеральдин, Дэвид не проявлялся в последнее время?
— Дэвид? Тысячу лет его не видела и не слышала, — ответила удивленная Кейт. — Как минимум год. А что? Должен был проявиться?
— Я просто подумала, может, ты что-нибудь слышала. Он ведь снова сюда возвращается.
— Да? Не знала. Да мне, в общем-то, все равно, честно говоря. — Забыв о правилах хорошего тона, Кейт щелчком сбила со стола крошку. Одно упоминание его имени раздражало ее. — Насколько мне известно, он должен был быть в Вашингтоне по крайней мере еще девять месяцев, хотя, что до меня, он может оставаться там до скончания света.
— Нет, он возвращается. Ему предлагают отличную позицию в «Инкуайрере». С повышением. — Щеки Элли покрыл легкий, необычный для нее румянец, губы готовы были растянуться в самодовольной ухмылке. — Или, по крайней мере, так мне стало известно из моих источников, — величаво добавила она.
— Что ж… — С хмурым выражением лица Кейт продолжала играть в свою версию настольного футбола. Бум. Очередная крошка ciabatti перелетела через стол. — Ну и что? Тебе-то какое дело?
— Никакого. — Элли откинулась, закинув руку за спинку стула, чтобы получше улыбнуться официанту, который — как она заметила при ближайшем рассмотрении — был очень даже ничего. — Нам, пожалуйста, две порции спагетти. И еще салат. И можно попросить вас принести это все как можно быстрее? Мы спешим. — И, обернувшись к Кейт: — И не надо сразу вставать в позу. Я могу просто спросить? Просто поинтересоваться? Ведь мы с ним оба занимаемся одним делом.
— Четвертая власть, — ляпнула Кейт, не имея точного представления о том, что значило это выражение, но надеясь, что в нем был оттенок презрительности. Она коротко, невесело рассмеялась. — Разумеется, ты можешь спросить. — Хотя она и представить не могла, к чему были подобные расспросы.
— Скажи, ты когда-нибудь задумывалась… — Элли подняла стакан, чтобы официант наполнил его вином, рассмотрела его на свет, взяла в рот небольшое количество, раздумчиво покатала во рту и наконец шумно глотнула. — То есть тебе никогда не казалось странным, что из нас троих он выбрал тебя?
«Выбрал», — повторила про себя Кейт. Выбрал? Но ведь Элли отлично знала — и они об этом часто говорили, — что выбор здесь был совершенно ни при чем.
Воспоминания об этом приносили с собой ощущения подавленности и того, что ею воспользовались. Все это было так давно и казалось более далеким и менее настоящим, чем детские годы, словно жизнь действительно шла по кругу, и теперь Кейт приближалась к тому месту, откуда начала свой путь.
Она зажмурилась, напрягла мозг и выдавила тонкую серую струйку памяти. Она помнила, с какой гордостью Джеральдин знакомила их со своим братом, показывала им — как показывают породистого жеребца — наилучший образчик племени Гарви. Действительно, в Дэвиде было много породы: физически он был совершенен; и все же характер его тогда еще не определился.
Конечно, он глаз не мог оторвать от Наоми. Конечно, по отношению к Элейн он испытал по крайней мере мимолетное влечение. Но Дэвид был молод и кипел амбициями, его обуревало чувство высшего предназначения, он был уверен в своих необыкновенных талантах и тревожился, что они останутся непризнанными.
К тому времени он уже три года как окончил университет и начинал свою публицистическую карьеру, намереваясь метеором взлететь в высшие журналистские эшелоны. А потом должен был появиться Роман — труд настолько великий, что он почти боялся приступить к нему.
И — да-да — Кейт умиротворяла его своим терпением, своей ласковостью. Она сидела на коленях возле неровного пламени газовой горелки и, хотя огонь обжигал ее кожу сквозь ткань джинсов, боялась пошевельнуться — лишь бы не спугнуть поток его сознания.
Наоми могла зевнуть и отвлечься, Элли была полна своими идеями и мечтами, а Кейт всегда была рядом, всегда слушала его, слегка склонив голову, с искренним интересом и полнейшим доверием, кивая, когда нужно было, и вздыхая над его дилеммами.
Наконец она пошла с ним в постель — но не с мужчиной, а с его монументальным, требующим внимания, жадным эго. Он использовал ее (теперь ей стало ясно) как мусорный мешок, как вместилище, куда он изрыгнул непереваренное им беспокойство. Беспокойство и сперму.
— Я хочу сказать, что… — снова начала Элли.
— Ты хочешь сказать, что, по-твоему, я, как наименее привлекательная, была наименее вероятным объектом его страсти.
— Дорогая, не впадай в паранойю. — Брезгливо, состроив гримасу, Элли кончиками пальцев стряхнула с коленей хлебную крошку. — Но все же признай: ты была не совсем в его вкусе.
— Это верно. Но ты знаешь не хуже меня, что никто ничего не выбирал, это просто случилось.
Элли продолжила болтать все о том же, развивая какую-то довольно сырую идею о том, почему Дэвид Гарви так никогда и не женился, а Кейт стала рассматривать ее лицо. «Без волос она выглядела бы ужасно, — непочтительно заключила она. — Хотя я тоже. Да почти все, по правде говоря. Пожалуй, только очень немногие — например, Наоми — не пострадали бы от такой перемены. Но если бы женщины лысели так же, как мужчины, то это стало бы мощным уравнителем».
Затем, чтобы занять себя чем-нибудь, пока Элли говорила (все эти обсуждения Дэвида для Кейт были настоящим проклятием), она обратила свое внимание на других посетителей ресторана и принялась воображать, как эта женщина, а потом вот эта, потом эти две коварные интриганки за соседним столом выглядели бы с голым, гладким, блестящим черепом. Ого, вот это забава!
— …Нужна совершенно особая женщина, — говорила тем временем Элли, — чьи интеллект и характер были бы равными его интеллекту и характеру.
«Элли идет быть блондинкой, пусть даже крашеной, — размышляла Кейт. — Это создает вокруг нее какую-то ауру».
— Вот Наоми ему не подошла бы. Раньше я думала, что они созданы друг для друга — два этаких нарцисса. Но теперь я пришла к выводу, что…
— Прошу тебя, хватит об этом, — отчаянно взмолилась Кейт, когда она вновь, без особого желания, прислушалась к тому, что говорила ей Элли. — Дэвид давно стал для меня историей.
— Так тебя это не заденет? Если он кого-нибудь встретит?
— Ни в малейшей степени.
— О! — Казалось, Элли была разочарована. Какая-то часть энергии покинула ее. — А вот и наши спагетти. Почти вовремя. К трем мне нужно вернуться в офис. Я записываю интервью на радио.
— У тебя потрясающе интересная жизнь.
— Эта язвительность тебе не идет. — Пятая леди Флит-стрит потянулась к ведерку со льдом и вынула оттуда мокрую бутылку вина. — Да, кстати, а как Наоми? Все еще топчет изящными пятками твои полы?
— Ты и сама отлично знаешь.
— Значит, нельзя надеяться, что ты выдворишь ее, да? А то тогда Джуин могла бы пожить у тебя вместо Горстов. Уверена, она была бы рада.
— Я бы тоже. В качестве гостя она куда приемлемей, чем Наоми. Хотя должна заметить, что с удовольствием пожила бы немного без гостей — для разнообразия. Мне нужно отдохнуть.
— А под твоей крышей, кто знает… — Элли принялась накручивать спагетти на вилку с такой целеустремленностью, с такой сосредоточенностью, как будто она была Паркой, прядущей нить жизни.
— Кто знает что? — спросила Кейт, ковыряясь вилкой в своей тарелке.
— Ну-у… ты знаешь, Джуин и Алекс могли бы… Близкое соседство споспешествует…
— Спо… что делает?
— Благоприятствует. Близость и доступность благоприятствуют развитию любовных отношений.
— Пожалуй, да.
— Не пожалуй, а точно. Именно поэтому в офисах так часто трахаются.
— В офисах?
— Конечно, здесь я имею в виду развлечения и времяпровождение, имеющие место быть вне стен офисов. Но все эти интрижки заводятся на рабочих местах, где люди вынуждены тереться друг об друга день за днем, неделю за неделей. Хочешь не хочешь, а все эти старые инстинкты дадут о себе знать.
— Да, наверное, — допустила такую возможность Кейт, которая всегда работала почти в полном одиночестве.
— И в связи с этим, — продолжала Элли в своей поучающей манере, — чем раньше ты избавишься от Наоми, тем лучше. Иначе страшно подумать о том, к чему они с Алексом могут прийти. Ну ладно, ладно, не смотри на меня так, я просто пошутила. В конце концов, она ведь ему в матери годится.
— Да, я знаю. Но мне кажется…
Когда Кейт была еще подростком, с ней стали случаться странные приступы. Она как будто удалялась от того, что происходило в конкретный момент времени и в конкретном месте, и к ней вдруг возвращались обрывки давно забытых разговоров, реальных или выдуманных, но не в виде смутных воспоминаний, а звучными, гремящими фразами. И появлялся запах гиацинтов — сырой рыбы? влажного подвала? — нестерпимо сильный, и все же неуловимый. Завороженная, в плену таинственности происходящего, Кейт замирала в ожидании, когда она вернется в себя, что неизменно сопровождалось головокружением, тошнотой и крайне неприятным ощущением сухости в ноздрях.
И сейчас с ней происходило то же самое — этот уже привычный синдром.
— Извини, — пробормотала она, когда к ней вернулась речь, — мне надо выйти на минутку…
Черные тучи неслись в ее голове, пока она добиралась до туалета. Там она закрылась в кабинке, тяжело села на стульчак и опустила голову в ладони. Она справится. Она всегда справлялась. Но на секунду ей представилось, что она действительно может покинуть ресторан, лежа на носилках.
Джеральдин Горст обедала в городе — это был ее небольшой подарок самой себе, маленькая компенсация за дневные труды. Она любила есть одна, в успокоительной тишине, без притязаний и помех со стороны семьи. Она любила приступать к еде, когда ее ничто не отвлекало, любила доедать все до последней крошки, так как до сих пор где-то в ее подсознании хранились образы из детских книжек — Джек Хорнер со сливовым пирожком, мисс Маффет с творогом и сывороткой, королева с хлебом и медом[18] — воспевающие чревоугодие в одиночестве.
А еще она обожала атмосферу старинного шарма, аутентичный тюдоровский стиль шестидесятых годов, столь преданно поддерживаемый в Бэй-Три-кафе. Она устроилась в своем любимом уголке, на мягкой скамье и, подхватив меню, пробежала глазами вдоль списка блюд, который был ей так же знаком, как список телефонов старых друзей.
«Телячья отбивная, — решила она с чувством удовлетворения, — с капустой и молодым картофелем в масле. И затем песочное пирожное с крыжовником».
— Говорят, скоро начнутся дожди, — доложила по-матерински заботливая официантка («Как же ее зовут?»), к которой Джеральдин давно уже обращалась по имени и с которой она любила перекинуться парой слов. — В прогнозе погоды обещали грозу.
Джеральдин призналась, что уж ее-то этим не расстроишь. Хорошая гроза освежила бы воздух. И кроме того, она не очень-то любила жару. Затем, когда она уже собиралась озвучить свой выбор в пользу отбивной, какой-то подспудный импульс заставил ее заказать жареную рыбу с картошкой.
— Треску или камбалу? — уточнила официантка, и огрызок карандаша замер над ее блокнотиком.
— Камбалу, пожалуйста, Агнес, — твердо ответила Джеральдин, так как считала камбалу рыбой для дам, а треску — рыбой для мужчин, тогда как морской окунь был чем-то средним (ни рыба, ни птица, как она для себя определила). — Я очень люблю камбалу.
Маленькая деловитая фигурка в белой накрахмаленной наколке и передничке исчезла в дверях кухни, откуда, словно из некоего жизненно важного органа, словно из разорванных внутренностей, вырвались на мгновение съедобные пары и горячее ароматное шипение. Джеральдин, довольная тем, что находилась в умелых и заботливых руках, расслабилась на сиденье и с благожелательной улыбкой огляделась по сторонам.
Оставленный ею у ног пакет опрокинулся, и на ковер вывалились тюбики и упаковки с самыми распространенными медикаментами — для освобождения кишок и, наоборот, для их укрепления, для уменьшения боли и успокоения, для смазывания укусов насекомых, для облегчения последствий загадочного несварения желудка. Ведь их поездка была уже не за горами.
Однако в данный момент ей не требовалось ни одно лечебное средство. Она прекрасно себя чувствовала. Рестораны такого рода были ее любимыми: с темными дубовыми балками, многорожковыми настенными лампами и медными чайниками, где престарелые леди подолгу сидели над гренками с яйцами в мешочек, а их фетровые шляпы почти соприкасались полями под воздействием магнетической силы сплетен.
Все эти новомодные пивные бары и бистро, копченые утиные грудки, сушеные на солнце томаты, бальзамический уксус Джеральдин с радостью оставляла для Элейн и ей подобным. Из еженедельных журналов, посвящавших им все больше и больше места, Джеральдин знала обо всех этих вещах, но она не желала иметь к ним никакого отношения, поскольку в ее глазах они были всего лишь чудачеством, прихотью, таким же объектом моды, как длина юбки и форма туфель.
Ее собственные предпочтения (кое-кто назвал бы их предрассудками) Джеральдин унаследовала от матери — полным комплектом. От Элеанор Гарви она узнала, что следует, а что не следует носить, что одобрять, а что нет. Ничто не подлежало сомнению. Для Элеанор всегда было понятно, что правильно, а что неправильно. И ни разу не пренебрегла она своим долгом послать письмо в местный совет, в правительство Ее Величества, в сеть супермаркетов, в автобусный парк, в компанию по доставке молочных продуктов — с тем чтобы довести свое понимание до их сведения.
Вероятно, было в этой многолетней приверженности дочери к материнским постулатам что-то почти религиозное. Хотя, с другой стороны, если материнскую любовь можно заслужить начищенной обувью, аккуратно причесанными волосами и красивым ленточками, то у девочки есть две возможности: она может начистить свои туфли и причесаться или не сделать ни того, ни другого. Так вот, Джеральдин Гарви по-прежнему, говоря метафорически, чистила туфли и следила за волосами. Она по-прежнему заплетала в косы красивые ленточки.
А может, она просто не видела необходимости в том, чтобы переставить или обновить свою умственную мебель — коли старая мебель, пусть и полученная по наследству, до сих пор отлично служила.
Проблема Джеральдин (хотя она сама вряд ли согласилась бы с этим) заключалась в недостатке индивидуальности. Казалось, что природа обделила ее воображением или возможностью иметь собственное мнение. Про Джеральдин можно было сказать, что она была похожа на свою мать, но лишь в том смысле, в котором отпечаток на промокашке похож на оригинал.
Но когда она думала о Дэвиде, обладавшем таким богатым воображением, таком убежденном в своем мнении, таком самобытном, она неизменно спрашивала себя, а какую пользу получал он от этого? Принимая от официантки чайник («Спасибо, Анджи», — сказала она рассеянно), наливая себе чашку бодрящего чая, она забеспокоилась о брате, задумалась о том, в чем он мог бы найти свое спасение.
Время от времени она представляла себе, что он и Наоми могли бы… Почему-то ей хотелось, чтобы они сошлись. Перед ее мысленным взором возникла эта исключительно красивая пара и она сама в платье и пальто одного цвета (пастельных тонов), в маленькой шляпке с жесткой вуалью, осыпающая невесту и жениха сердечками, колокольчиками и подковками из серебряной фольги.
Когда она впервые привела брата на их девичник в Холланд-парке, от гордости за него она не могла связно говорить. И что потом? Почему-то из всех он выбрал Кейт. И в результате появился Алекс.
С тех пор Дэвид так и не определился ни в чем и ни в ком. Он вел жизнь повесы, чем не повышал статус семьи в обществе. И, как она знала, он не был щедр в отношении сына, скорее наоборот, он уклонялся от своих обязанностей по его обеспечению. И хотя она, Джеральдин, всячески старалась помочь Кейт в денежном вопросе — не унижая подачками, а давая возможность заработать, — тем не менее она не могла не сочувствовать брату, который упустил свой шанс с Наоми, сделав такой неудачный выбор.
Теперь вдруг стало известно, что через несколько недель он снова вернется домой. В «Инкуйарере» ему предложили престижную и важную работу. Он ненадолго появится в городе в конце августа, потом снова уедет, чтобы немного отдохнуть в континентальной Европе перед занятием новой должности.
Все это Джеральдин узнала не от брата, не из нежного и подробного письма, а от Элли Шарп (будьте любезны), которая звонила вчера, якобы попросить об одолжении — навязать им в спутницы свою дочь, и только потом мимоходом, словно вдруг вспомнив, соизволила поделиться новостью.
«Это кое о чем говорит, — размышляла Джеральдин, — если совершенно посторонние люди… Не то чтобы Элли совсем уж посторонняя, но ведь она не член семьи, и не так уж мы близки… Это кое о чем говорит, если о переезде своего брата узнаешь не от него самого, а случайно и окольными путями».
Джеральдин осознала с горечью, что они с братом стали ужасно далеки друг от друга, и не только в смысле географического местонахождения: они существовали в разных плоскостях бытия. Она приняла от официантки блюдо, взяла дольку лимона и выжала сок на рыбу, а тем временем ее охватывало невыразимое отчаяние. Она была в крайней растерянности. Она вдруг ясно увидела себя со стороны: глупая толстая женщина в тесной блузке и дурацкой широкой юбке, жадно сгорбившаяся над тарелкой, полной калорий.
Но это была лишь кратковременная депрессия, которой подвержены особо чувствительные женщины. И если она шмыгнула носом и вытерла рукой уголок глаза, то причиной этому были всего лишь нашедшие свою цель брызги лимонного сока.
— Спасибо, Элис, — проговорила она со слабой улыбкой. — Никогда не откажусь от хорошего кусочка камбалы.
Девушка лежала на боку, изящно изогнув спину и подтянув колени к животу, — он мог бы сосчитать ее позвонки до самого копчика, — подложив под голову руку. Она казалась чересчур совершенной — как будто она позировала, притворяясь, что спит. Но дыхание ее было таким легким, а она сама — такой расслабленной, что он понимал: она действительно спит.
В резком утреннем свете, проникавшем в комнату сквозь щели жалюзи, он мог объективно оценить ее: она была прекрасна. Но ее прелести больше не возбуждали его. Его восхищение этими длинными стройными ногами, тонкой талией, красиво прорисованным лицом было сродни восхищению, которое он мог бы испытывать по отношению к более или менее приличной скульптуре. И за неспособность вызвать в нем интенсивный эротический отклик он беспочвенно винил ее.
У нее были очень белые зубы и здоровые бледно-розовые десны. Мягкие темные волосы лежали аккуратной блестящей шапкой. Кожа была гладкой и золотистой. Глаза, которые сейчас были сомкнуты, но могли в любой момент открыться и обратиться на него, были ярко-синего цвета, маскирующего ее коварство. Она занималась связями с общественностью, водила раритетный «бьюик», всегда носила только черное. Он встретил ее на открытии какой-то галереи пять месяцев назад. Ее звали Кристин, ей было двадцать шесть лет, и она намеревалась выйти за него замуж.
Об этом намерении Кристин он догадался по ее напускному равнодушию. Она с нарочитым пренебрежением отзывалась о традиционных отношениях, провозглашала себя свободолюбивой, два-три раза в неделю отказывалась проводить с ним ночь, утверждая, что ей необходимо побыть одной или пообщаться с подругами. Другими словами, она применила весь арсенал типичных женских уловок.
Он почувствовал внезапное и глубокое отвращение — но не к девушке, не к себе самому, а к своей неуемной похоти. Снова и снова она обманывала его, брала над ним верх, практически сводила с ума желанием — она то неожиданно завладевала им, то в одно мгновение, без предупреждения, исчезала до следующего раза.
Похоть вела его по этому бесконечному круговороту страсти, привязанности, разочарования. Женщина, которую сегодня он страстно желал, назавтра вызывала в нем скуку и раздражение. И его самого это, в общем-то, устраивало, но только не женщин с их собственнической натурой.
Им нужно было обладать им. И они не знали, что значит слово: «достаточно»: он трахал их до бесчувствия, но они всегда, всегда возвращались и требовали еще. Они цеплялись за него так, что ему приходилось отрывать себя от них, теряя каждый раз кусочек себя, кусочек своей сущности.
Он был так наполнен сексуальностью, что, образно говоря, с трудом передвигался. Его притягательность была неотразима, его техника — непревзойденна. Он знал, что если он хоть раз переспал с женщиной, то она потеряет интерес к другим мужчинам, возможно, навсегда. Он просто не мог оставить их такими, какими они были до него. Такую вот тяжелую ответственность нес он по жизни.
И к каким только хитростям они ни прибегали! Какие только ловушки не расставляли они, охотясь на него! И лишь однажды, много лет назад, он попался. Он позволил женщине использовать его сперму для того, чтобы зачать ребенка. Что ж, больше такое не повторится! Ни за что! Теперь он знал все их штучки.
Не отрывая глаз от ее безмятежного лица, покрытого легким румянцем сна, он высвободился из простыней и слез с кровати, а затем, мягко ступая по деревянным половицам, подошел к окну. Он раздвинул металлические полоски жалюзи и постоял несколько минут в бледном свете дня, прислонившись плечом к холодной стене, глядя на потоки машин, на суматоху восьми часов утра. В нем было шесть футов два дюйма без обуви, и он был хорошо сложен. Свою наготу он носил с той же спокойной фацией, с которой носил одежду. Он ничего не потерял с годами и опытом, скорее, приобрел. Его рыжеватые волосы по-прежнему были густы. Глубокие вертикальные складки придавали его лицу что-то волчье, интригующее. А самое главное, зрелость наделила его манерами, перед которыми не могли устоять не только женщины, но и мужчины.
В феврале ему исполнилось сорок пять. Для мужчины это был лучший возраст. «Ты, должно быть, уже окончил колледж, — заметила вчера вечером в ресторане Кристин, — когда я только пошла в детский садик». Несомненно, она хотела умилить, очаровать его, представ в образе ребенка. Ее улыбка была полна нежного снисхождения к забавной малышке Кристин. А может, в этой улыбке невольно выразилось то дешевое самодовольство, которое испытывают молодые по отношению к более взрослым людям (как будто молодость дается не всем). Но для него, никогда не видевшего большого смысла в детях, малютка Кристин была особенной лишь потому, что судьба выбрала ее, предназначила для будущей встречей с ним (и ему казалось, что все дальнейшие годы ее взросления и роста были подчинены только этой цели).
Он услышал, как она зашевелилась за его спиной, как участилось и стало глубже ее дыхание. Ему так не хотелось, чтобы она просыпалась, так не хотелось, чтобы она вторгалась в его бесценное одиночество, что у него зашевелились волосы на затылке. Хоть бы она поспала еще немного.
Дэвид Гарви был несчастен и, подобно многим несчастным людям, не до конца понимал, в чем причина его несчастья. Винил он в этом свою мать. Разумеется, все винят своих матерей, но у Дэвида было на это больше оснований, чем у других.
Он всегда стремился быть таким, каким хотелось быть ему самому, но при этом он вынужден был смириться с тем, что прежде всего он был таким, каким хотела видеть его мать. Было похоже, что она не столько зачала его, сколько придумала. «Дэвид будет высоким, как мои братья», — заявляла она, когда ему было пять, шесть, семь лет. И, не в силах поступить по-своему, он вырос высоким, как ее братья. Нельзя сказать, что он не был доволен своим телосложением. Но он предпочел бы, чтобы не она командовала его ростом.
Затем было: «Вот увидите, Дэвид многого достигнет в жизни, он станет кем-то». И выходило так, будто малейший его успех был предопределен матерью. С тех пор как он получил премию за политический комментарий, за тот его репортаж о войне, ее любимым выражением стало: «Я же говорила».
Его ошеломляли сосредоточенность и целеустремленность, которые он видел в ее глазах. Однако еще хуже было то, что в этих глазах он, потрясенный и в то же время очарованный, видел себя самого.
«Свои творческие способности он унаследовал от меня», — не раз говорила она, но в этом случае она, похоже, ошибалась. Потому что ничего творческого в нем не было. Правда, не было никаких свидетельств и ее творческих способностей, если, конечно, не считать творчеством развешивание парчовых штор, раскладывание вышитых подушек и составление букетов из фригидных розовых гвоздик в вазах резного стекла. (Он с легкостью мог представить себе, как она, с упрямым выражением лица, обрезает стебли на столе из сосновых досок, а потом ставит гвоздики, одну за другой, в вазу, как будто следуя законам некой высшей симметрии, понятным только ей одной.) А в субъективных вопросах вроде этого противоречить ей было столь же невозможно, как и в остальных.
Насколько больше повезло Джеральдин, бесполезной дочери, для которой в детстве просто подыскивали какие-нибудь дела и занятия, лишь бы она не мешалась. Он помнил ее пухлой девочкой с нелепой копной кудряшек, которая неуклюже тыкала иголкой в ткань, выводя гигантские стежки, или колотила по клавишам пианино, заучивая детские песенки. Он помнил Джеральдин в белых носочках и черных туфлях с пряжками, всегда послушную и примерную, ни к чему, кроме послушания и примерного поведения, не склонную.
И в этом заключался парадокс: тогда как он, воистину сын своей матери, воплотивший собой все ее мечты и надежды, отчаянно стремился не быть таким, как мать, Джеральдин, вовсе не похожая на мать, отчаянно стремилась стать таковой.
Если в жизни он совершил множество плохих и дурацких поступков, то сделал он это в основном в пику матери. Разве женился бы он на Кейт, например, если бы Элеанор не противилась этому всеми силами? Правда, потом он оставил Кейт (что было удручающе неизбежно), чем еще раз доказал правоту матери.
Восемнадцать месяцев вдали от его утомительной семьи не принесли Дэвиду эмоционального отдохновения. Странно, но здесь мысли о родственниках доставали его еще больше, чем когда он был дома. Он смог бы быстрее забыть о них, плотнее отгородиться от них, если бы они просто сидели в соседней комнате перед телевизором.
Что ж, скоро он снова увидит их. И Англию, по которой, неожиданно для себя, он скучал — потому что Америка не приняла его, не стала близкой, как он надеялся, да и он не до конца принял Америку.
Перспектива новой работы вызывала в нем и радостное возбуждение, и тревогу. Что, если он не справится? В ночных кошмарах ему снилось, что его недооценивают, явно или — что было еще хуже — неявно. Он боялся, что мир не сможет оценить его в полной мере. Именно это мешало ему, даже в данный момент, сесть и приступить наконец к роману. Потому что вдруг роман останется незамеченным, вдруг его исключительную важность не разглядят?
Но перед тем как вступить в новую должность, он сможет отдохнуть — съездить в Италию с этими крикливыми старухами из «Глоуба». На самом деле ему даже хотелось провести с ними недельку-другую, немного отвлечься и расслабиться. Он знал их всех уже много лет, так как тоже начинал на старой Флит-стрит, тоже прошел школу строкоотливных машин, крови, пота и алкоголя. Его тогдашний образ жизни теперь казался почти здоровым по сравнению с безумствами нынешнего времени: борьбой с пассивным курением, выпивкой в благоразумных пределах и подсчетом холестерина.
Дыхание Кристин становилось все быстрее. Было слышно, как она старается выплыть из глубин сна на поверхность сознания. Сейчас настанет подходящий момент сказать ей, пока он настроен против нее, что он исключает ее из своих планов.
Она ведь называла себя свободолюбивой, напомнит он ей. Она же не хотела связывать себя. Ей ведь требовалось время, чтобы побыть одной — теперь она сможет быть одна сколько угодно.
— Хм, — выдохнула она, наконец проснувшись. Потом: — Привет.
Он отвернулся от окна, потер замерзшее плечо, потом вдруг пожалел ее и решил отложить разговор. Он тоже сказал: «Привет», — и даже смог улыбнуться ей.
Глава четвертая
Разумеется, лето не могло продолжаться бесконечно или непрерывно. И вот к вечеру, как и обещала сгустившаяся атмосфера, на город обрушилась гроза. Глядя на то, как сквозь тучи прорвалась рваная линия молнии, Кейт решила, что слово «обрушиться» подходило как нельзя лучше. Все вокруг разваливалось на части.
Кейт ожесточенно потерла глаза. Казалось, что в них насыпали песка. Во рту был неприятный привкус, и вообще она чувствовала себя отвратительно. Причиной тому было вино за обедом, как она догадывалась. Вот что так подкосило ее. И с чувством мрачной неизбежности, решив, что лучше закончить то, что начато, Кейт откупорила бутылку «Фиту» и налила себе полный стакан.
Она уже ставила подсоленную воду на конфорку, а странные, похожие на летучих мышей образы все еще проносились в ее воображении. Как хорошо было бы прилечь в затемненной комнате, закрыть глаза и позволить дню закончиться без нее. Но нужно было готовить ужин. И, кроме того, если сейчас она заснет, то обязательно проснется ночью и до утра промучается бессонницей.
В саду в надвигающихся сумерках трепетали последние цветы магнолии, словно размахивали белыми платками в знак капитуляции. Пышные кусты то и дело сотрясала дрожь. Гортензии бились друг о друга как сумасшедшие. Дома на Брумфилд-роуд рекламировали свои кухни: один за другим вспыхивали флуоресцентные прямоугольники, разливая вокруг синий свет. В спальнях и гостиных загоралось более теплое, более заманчивое сияние.
Когда пришел Алекс, макароны уже набухали, размягчались, над ними вились липкие жгуты пара. Листья свежего базилика, нарезанные и сложенные на доске аккуратным холмиком, источали жгучий анисовый аромат.
— Вкусно пахнет, — сказал он расстроенной Кейт, налил себе вина и, прихлебывая с удовольствием, направился к плите, чтобы убавить газ под соусом. Его вмешательство было своевременным: обжигающая смесь уже начала приставать к металлическим стенкам кастрюли.
— Спагетти, — сообщила Кейт.
— А, здорово.
Она еще глотнула вина и добавила многозначительно:
— С помидорами и сыром рикотта.
Время от времени она вдруг решала, что то или иное блюдо было его любимым — на том лишь основании, что однажды он съедал целую тарелку этого блюда. По правде говоря, спагетти с таким соусом ему не очень нравились — на его вкус они получались слишком клейкими и тяжелыми для желудка, но с тех пор, как Кейт раздобыла где-то этот рецепт, они стали хитом на Лакспер-роуд. Однако сказать ей: «Вообще-то я терпеть не могу спагетти» — значило бы убить ее наповал. Он не должен был отказываться от еды, которую она ему предлагала, потому что это будет воспринято как отказ от ее любви. И Алекс видел перед собой два пути: или есть все, что она ставила перед ним, с видимым удовольствием, или уходить из дома и есть где-нибудь еще.
С годами он понял (хотя ни за что бы не признал этого вслух), что его мать была не лучшей поварихой в мире. Кейт была и слишком неловкой, и слишком нервной: она перебарщивала с приправами, добавляя «еще щепотку для вкуса», и никогда не знала заранее, что у нее получится из ингредиентов, которые она клала на сковородку.
Большинство своих предпочтений в смысле еды Алекс приобрел в раннем возрасте, когда все, что он ел, выходило из-под рук Кейт. И в возрасте двенадцати лет, будучи приглашенным в дом своего приятеля Пола Мэйзера, он был потрясен, узнав, что бекон не должен ломаться, когда его режут, и что печень обычно не подпрыгивает на тарелке, как мячик.
Но, с другой стороны, миссис Мэйзер была холодной, недружелюбной женщиной, которая за столом выдавливала из него еле слышные, неискренние слова благодарности. Она была так помешана на собственном величии, что никогда не позволила бы себе пробежать вверх или вниз по лестнице и не стала бы расхаживать по дому без тапочек, как Кейт. И позднее, взвесив все «за» и «против», мальчики пришли к выводу, что, невзирая на резиновую печенку и хрупкий бекон, Пол вытащил более короткую спичку.
— Как дела? — спросила Кейт Алекса.
— Нормально. Как всегда. А у тебя?
— Да так себе. — Она со стуком поставила стакан на буфет и, расслабив руки, помахала им вперед-назад. Ее лицо скривилось в язвительной гримасе. — Говорят, твой отец возвращается в Лондон.
— Ну и что? — пожал Алекс плечами. — Мне-то какое дело?
— Я подумала, что тебе это может быть интересно. — Кейт произнесла эту фразу с какой-то агрессивностью, почти зло.
— Мне не интересно. Ни в малейшей степени.
— Тогда ты остаешься в меньшинстве. Всех остальных эта новость, похоже, привела в страшное возбуждение.
— И кто же эти «все остальные»? А, Элли, кто же еще. Я совсем забыл, ты сегодня обедала с ней. Должно быть, у тебя уши до сих пор болят.
— Ему предложили новую работу. Очень хорошую. Колоссальная зарплата, машина за счет компании.
— Значит, ему повезло. Кейт, не стоит даже думать об этом. Теперь это все ни имеет никакого значения.
— Я знаю, знаю. — Она отвернулась, впилась зубами в костяшки пальцев и зажмурилась. — Не обращай внимания, милый. Просто иногда я не могу сдержаться, когда подумаю… Что это за шум? Должно быть, гром.
— После грозы станет легче, — сказал он с надеждой в голосе. — Не будет так давить. — Напряженность в доме становилась невыносимой.
Дождь менее чем за минуту переполнил сточные канавы и стал заливать плитку под окнами. Кейт встала у раковины и откинула спагетти на дуршлаг. Происходило что-то катастрофическое — апокалиптическое.
— Где Наоми? — донесся ее голос из облака пара.
— Она поехала в город, — ровным голосом ответил Алекс, — в парикмахерскую.
— В парикмахерскую? — Кейт обернулась, чтобы посмотреть на него. — А ты откуда знаешь?
— Я говорил с ней сегодня по телефону. Я звонил домой, потому что подумал, что оставил ключи на… ну, забыл дома.
— Но на самом деле ты не забыл?
— Нет. Они были у меня в заднем кармане брюк. — Он дотянулся до заднего кармана, достал ключи и покачал ими, подтверждая свои слова. Вещественное доказательство номер один.
— И тогда она сказала, что собирается в парикмахерскую?
— Что-то в этом роде.
На самом деле это Наоми позвонила ему, от обиды и отчаяния почти неспособная говорить. У нее были новости от ее агента, Ариадны. Вроде бы появилась какая-то работа для Наоми в качестве модели. Был упомянут некий каталог. Но, как оказалось, это не было отличной новостью. Это было унижением. Хорошо продуманным оскорблением. «Ты можешь представить меня в синтетическом халате в цветочек, а? В какой-нибудь юбке за пятнадцать фунтов? Или в теплом белье для старушек? Как бы тебе это понравилось?» Никогда в жизни ее так не оскорбляли.
«Слушай, может, тебе сходить куда-нибудь, чтобы развлечься?» — предложил он ей, ухмыляясь, как влюбленный дурак (да он и был влюбленный дурак). Все эти ее спектакли, ее amour propre[19] он теперь находил очаровательными. «Не хочешь купить себе что-нибудь, а? Подними себе настроение. Постричься? Ну, мне кажется, у тебя и так чудесная прическа, но раз ты считаешь, что… Сколько это будет стоить? Сколько? Нет-нет, конечно, это стоит именно столько. Это в два раза дешевле, чем я предполагал. Это будет мой подарок тебе, солнышко. Возьми мою кредитку. Она в… Точно. Ты помнишь мой код?»
— Откуда у нее взялись деньги на?.. — вслух задумалась Кейт.
— Ну, они с Ники старые приятели. Наверное, он пострижет ее бесплатно. Или за символическую сумму.
— Похоже, ты отлично осведомлен о ее делах. — Взяв две ложки, Кейт стала мешать спагетти, добавляя томатный соус и расплавленный сыр.
— Она плакала. Надо было поговорить с ней. — Алекс прошел к буфету, открыл ящик со столовыми приборами, с грохотом стал перебирать сваленные в кучу ножи и вилки. — Не мешало бы нам купить в этот ящик разделители. Или, кажется, бывают специальные подносы с отделениями.
— До сих пор мы прекрасно обходились без подноса. А она будет ужинать с нами? Оставить ее порцию на плите, чтобы не остыла?
— Откуда я?.. Слушай, в чем дело?
— Просто раз она, по-видимому, делится с тобой…
— Эй, хватит, а? Она ведь не докладывает мне обо всех своих передвижениях. Она оставила тебе записку? Она собиралась оставить записку. А, вспомнил, она действительно говорила что-то насчет Элли. Да, точно, она собиралась зайти вечером к Элли.
Кейт была довольна и недовольна одновременно. Хорошо, конечно, для разнообразия побыть хоть один вечер вдвоем. С другой стороны, почему именно сегодня, когда она сама не своя, вся на нервах и не может полностью насладиться отсутствием Наоми? Все же этой женщине недостает элементарной вежливости. Шлепнув тарелки на стол, она поделилась с Алексом своим мнением о Наоми Маркхем, которая, судя по всему, считала этот дом гостиницей.
— Не заводись, — ласково попросил он ее, возвращаясь наконец с ножами и вилками. Он покачал стул, чтобы столкнуть Петал с сиденья, сел на ее место. — Она уже скоро уедет.
— Скоро? Она так сказала?
— Нет. Мне так кажется. — С несчастным видом он уставился себе на колени, потом нагнулся, чтобы погладить за ушком обиженную Петал, чувствуя, как кровь заливала шею, лицо, уши, виски. Сможет ли он когда-нибудь открыть матери свою ужасную тайну? Может, надо было признаться во всем сейчас, пока не вернулась Наоми. Может, надо было прямо сказать Кейт, что он и Наоми собирались…
— Прости, — сказала Кейт и попыталась — неудачно — рассмеяться. — Я просто немного не в себе. Наверное, это из-за новостей о Дэвиде. Элли все уши прожужжала мне о его новой работе и суперзарплате. Я подумала, что некоторым все подается на блюдечке.
— Но ведь нам нет никакой разницы, где он работает и сколько зарабатывает, — рассудительно заметил Алекс, беря вилку, — так же, как то, где работают и сколько зарабатывают другие чужие нам люди. — Затем, воткнув вилку в макаронную размазню и сделав вдох, добавил с чувством: — Мое любимое.
Мир, увиденный глазами влюбленной Наоми Маркхем, был не таким, как всегда. Как зачарованная, почти забыв о том, что у нее была новая прическа, она шагала по Бонд-стрит, поглядывала на витрины магазинов и видела, что одежда, пусть скроенная и пошитая искуснейшим образом, по сути своей была всего лишь тканью. Картины маслом, антиквариат, ювелирные изделия были, в конце концов, только вещами.
В груди у нее шевелился маленький, плотный узелок разочарования — то же самое чувство она испытала в возрасте десяти лет, когда Рождество принесло с собой не восхитительный трепет предвкушения, а тоскливое осознание утраты.
Конечно, невозможно было излечиться от внезапного, незаметного повзросления. Ребенком, со своей новой зрелостью, она примирилась с этим. Но любовь, выпавшая недавно на ее долю, была испытанием совсем иного рода. Ей оставалось только надеяться, что более экстремальные проявления состояния влюбленности — ощущение нереальности происходящего и нарушение пропорций — со временем исчезнут сами собой. В настоящий момент ее можно было сравнить с пассажиром кренящегося судна, для которого удержание равновесия требовало предельной сосредоточенности, навигация была гаданием или в лучшем случае зависела от положения пляшущих по небосводу звезд и у которого была одна-единственная перспектива — погибнуть.
А всего лишь несколько недель назад эти же самые дорогие магазины казались такими заманчивыми. Открывая их двери, она испытывала глубокое, стойкое чувство возвращения на родину — туда, где все было знакомо и близко. Но сегодня ничто не привлекало ее, и это несмотря на то, что у нее были деньги. У нее в сумочке лежала кредитка Алекса — ее услужливый друг (правда, менее услужливый, чем кредитка Алана Нейша, но все же способный подарить ей флакончик «Ромео Джильи» или «Дольче и Габбана», способный получить из банкомата пачку купюр).
Нет, проблема состояла в том, что ей не хотелось ничего покупать. У нее просто не было настроения. Она не хотела новую белую рубашку, серый шерстяной жакет или стеганую сумку. Она хотела Алекса. Она скучала по нему. Она хотела быть с ним, целовать его. И еще она хотела излить кому-нибудь душу. А не рассказать ли Элли о том, что происходит? Нет, нельзя, Наоми знала, что потом она обязательно пожалеет об этом.
Японский турист шагнул в сторону, пропуская ее, и потом обернулся, чтобы посмотреть ей вслед. Она не заметила этого. Из люка на дороге вынырнул рабочий и предложил ей выйти за него замуж. Она не остановилась.
Очутившись на Оксфорд-стрит, она преодолела давление потока пешеходов, который иначе унес бы ее к Триумфальной арке Марбл-арч, и на минутку остановилась у киоска, заваленного одинаковыми и безвкусными апельсинами, бананами, виноградом (и когда эти фрукты перестали казаться экзотикой?), в ожидании, пока какой-нибудь план действий не предложит себя к ее услугам.
Когда пошел дождь, она восприняла это как личное оскорбление — лучший стилист Лондона не для того полдня стриг и укладывал ее волосы, чтобы погода взяла и помочилась ей на голову, — и подняла руку, останавливая такси.
По дороге в Хакни она закрыла глаза, откинулась на спинку сиденья и предалась эротическим воспоминаниям об Алексе, о том, как он пронзает ее, о его глазах и о том, как они будто обнимают ее, притягивают ее к нему. На нее волнами накатывало вожделение, заставляя ее дрожать.
Водитель, поглядывая в зеркало заднего вида, видел только то, как по ее лицу поочередно пробегали свет и тень клонящегося к закату дня; он видел, как на ее бледной коже танцевали силуэты колышущейся листвы. В Блумсбери он рискнул завязать разговор, предложив для обсуждения капризность британского лета, что всегда встречало отклик у его пассажиров. Но Наоми не ответила. Она не присоединилась ни к его проклятиям в адрес кругового движения на Олд-стрит, ни к его утверждению, что недавний ремонт покрытия ни к чему не привел. Не тронули ее ни многочисленность дорожных работ, ни тот факт, что практически каждая улица в столице была перекопана, — потому что она была совсем в другом месте, с Алексом, в своем воображении, она была далеко-далеко и готова на все.
Дворники скользили по лобовому стеклу взад и вперед. И только когда машина промчалась мимо Лондонфилдс, она открыла глаза, сфокусировалась на смутно узнаваемой географии и стала давать указания водителю: направо, налево, направо.
Со смешанным (и неприятным) чувством предвкушения и беспокойства, прикрывая сумочкой голову, она почти бегом поднялась по крутым ступенькам к двери Элли.
На краткое мгновение в окнах первого этажа промелькнула Элли в чем-то вязаном и очень розовом. Прежде чем она исчезла, Наоми увидела поднятую ладонь, увидела, как Элли машет ей.
И от этого она испытала неожиданный прилив хорошего настроения, ее охватило ощущение свободы, как будто ее только что выпустили из больницы после долгой болезни. Она даже почувствовала слабость и дрожь в ногах.
К Наоми пришло осознание того, насколько тяжело жилось ей на Лакспер-роуд, и не только из-за неписаных правил дома или из-за собственной ненужности. Труднее всего было скрывать от хозяйки свою страстную связь с хозяйкиным сыном.
Это было пыткой — держать свою любовь в секрете, не иметь возможности говорить о ней. Если бы она могла кому-нибудь рассказать об Алексе, то, может, происходящее показалось бы ей самой более вероятным и более реальным. Ей необходимо было произнести его имя вслух, связать его со своим именем, сказать: «Я и Алекс».
Она глотнула холодного и влажного воздуха, быстро выдохнула его. Здесь, на пустой каменной террасе было свежо и прохладно; позади нее стеной падал на землю дождь, принося с собой грязь и бодрость. Вдруг в доме на другой стороне дороги открылось окно; оттуда дерзко вырвалась музыка.
Из-под входной двери донесся лай Маффи. Звук то удалялся, то приближался, сообщая о передвижениях пса между прихожей и кухней. И вот появилась сама Элли. Искрясь, как молния, опасной энергией, она протянула приветственное «ита-ак» в своей всегдашней провокационной манере.
— Итак, — коротко ответила Наоми, проходя внутрь.
— Вытри ноги, будь добра. А ты заткни пасть. — Последнее распоряжение относилось к Маффи, который лаял так, что его отбрасывало назад.
Из кухни вышла босая Джуин с полотенцем на шее.
— О, — сказала она, — это ты. — Она взяла на руки заходящуюся лаем собаку, поцеловала ее в лохматую голову и невежливо, демонстративно пошла вверх по лестнице.
— Не обращай на нее внимания, — громко посоветовала Элли, — у нее сейчас то самое время месяца. Я всегда догадываюсь об этом, потому что ведет она себя в эти дни еще более одиозно, чем обычно. Разве не так, Джуин? — Она оперлась на лестничные перила и крикнула вслед дочери: — У тебя бывает ужасный предменструальный синдром, да, дорогая? Так, ладно! — Она довольно потерла руки. — Проходи же, Маркхем, садись, выпей стаканчик-другой пунцовой влаги из источника вдохновения. А может, напьемся вдрызг и будем всю ночь петь сентиментальные баллады? Ведь тебе не надо вести машину. Ты даже не умеешь водить. Боже упаси тебя от того, чтобы ты села за руль. А-а, я вижу, ты сделала прическу. Через неделю будет лучше. Кейт знает, что ты здесь? Ты бы позвонила ей и сказала, в противном случае она надуется и затаит обиду.
— Алекс ей передаст. — Вот, она сказала! Она произнесла вслух его имя! Наоми резко села на диван и сложила руки на коленях.
Александр Гарви. Довольно обыкновенное имя, как раньше ей казалось, но теперь оно несло в себе огромную мощь и значение. Она решила, что произнесла его достаточно непринужденно. Возможно, голос был чуть звонок, чуть неровен, но не настолько, чтобы это было заметно непосвященному собеседнику.
— Она хорошо тебя кормит? Ты тощая как спичка. — Элли потянулась через диван, чтобы в экспериментальных целях ущипнуть Наоми за руку.
— Ну, да. В смысле, кормит хорошо. Но последнее время я ем довольно мало. А еще она разрешает кошкам ходить по столу и нюхать тарелки. От этого у меня совсем пропадает аппетит.
— Отвратительно. Слушай, я не успела сходить в магазин. Я не собиралась ничего готовить. Мы закажем что-нибудь на дом попозже. Пиццу. Или китайскую кухню. Все, что захочешь. Но сначала мы должны обменяться новостями. Ты первая. Расскажи мне, как твои дела.
— Не думаю, что тебе понравятся мои новости, — предупредила Наоми.
Разумеется, Элли это не испугало.
Джеральдин Гарви вышла из ванны, и показалось, будто вместе с ней из ванны вышла половина воды. Должно быть, существовал такой непреложный закон физики, по которому чем старше становился человек, тем больше воды к нему прилипало. Обдумывая эту проблему, она прошлепала по полу из пробковой плитки к вешалке и завернулась в пушистое полотенце.
Было мокро внутри и мокро снаружи. Набухшие водой тучи с середины дня собирались над Лондоном — они неумолимо, целенаправленно двигались по небу, поливая по пути деревни и пригороды. Сад, давясь, жадно пил из луж. Бассейн переливался через края. Цветочные бордюры затопило. С тех роз, что не успели плотно свернуться в бутоны, все лепестки были оборваны и сброшены в грязевую жижу. Ломоносы оказались наполовину содраны со шпалеры и теперь свисали мокрой спутанной плетью. Джеральдин открыла шпингалет и распахнула запотевшее окно. Было видно, как банные пары устремились наружу, а внутрь проник невидимый, но ощутимый запах мокрой почвы.
Но не было ли это типичным для британского лета? Джеральдин, так проклинавшая жару, теперь брюзгливо ругала дождь. И вопреки своим же словам она вовсе не обрадовалась освежающей грозе. Разве можно было привыкнуть к столь часто меняющейся погоде? Человеческому организму понадобится неделя, две, три, чтобы полностью адаптироваться к той или иной перемене. «А ведь именно перемены, — сварливо заметила она про себя, — являются причиной плохого самочувствия, именно они благоприятствуют вирусным инфекциям и вызывают простуды».
Вот почему такое количество британцев ездило отдыхать в страны с более солнечным климатом. Но для нее поездка за границу казалась безрассудной глупостью, так как температура там была непривычной и измерялась в градусах Цельсия, вода была непригодной для питья, гигиенические стандарты были сомнительными, и к тому же там можно было пасть жертвой всевозможных экзотических жучков.
Джеральдин лишь однажды побывала во Франции, очарованная представлением об этой стране. Там, в одном баре в Нормандии, она была подвергнута бесконечному унижению, когда хозяин заведения в ответ на ее деликатный вопрос шепотом, где находится toilette, протянул через прилавок — у всех на виду — рулон грубой, гофрированной туалетной бумаги. А потом, выйдя из душного маленького cabinet, она чуть не врезалась во француза, справлявшего нужду в фаянсовый писсуар — она до сих пор вздрагивала при этом воспоминании.
«Уж лучше Англия, — решила она, — и старая добрая Шотландия с их метеорологической нестабильностью, чем чужая земля с чужими обычаями».
Всплески в лужах на подъездной дорожке, шорох гравия под колесами и вонь выхлопных газов сообщили ей о том, что приехал Джон. Ей следовало бы спуститься вниз, чтобы встретить его — это было больше, чем простая обязанность жены, это был обычай, освященный годами, — но у нее были проблемы с дочерью, она потеряла целый час в бесполезных спорах с ней и с тех пор находилась в расстроенном состоянии духа.
Люси в последнее время превратилась в ходячую катастрофу. Она стала более чем обычно подвержена экстравагантным выходкам, высокопарным заявлениям, притянутым за уши неправдам, крайним преувеличениям и импульсивности. Она вскидывала голову, она металась из стороны в сторону, не замечая мебели. Все стулья были не на месте. Двери распахивались и с грохотом захлопывались. Тарелки падали на пол и разбивались. Картины на стенах вдруг покосились. Дрезденская пастушка таинственным образом потеряла одну руку. Из холодильника и кладовки пропадала в огромных количествах еда. Раковина в ванной неожиданно засорилась, и водой затопило прихожую. У Люси появилась новая подруга, Клеменси, самая хорошая-прехорошая подруга в целом мире, — которую она безумно любила. (А своей бывшей подружке, Саре, она ни за что в жизни и слова больше не скажет!) «Когда Клеменси можно будет пожить у нас? Почему Джуин поедет с нами в Шотландию? И вообще, почему Шотландия, когда все теперь ездят в Майами?»
Тогда как другие девочки-подростки со временем перерастали свою гиперактивность и становились вялыми и замкнутыми, с Люси Горст дело обстояло иначе: казалось, ее гиперактивность переросла ее саму и самостоятельно пошла бушевать по дому.
Сейчас Люси сидела в своей комнате и дулась. Никто не дулся громче, чем она.
И вчера бедная Джеральдин призналась Элли в своем отчаянии и почти умоляла дать совет. Ведь Элейн наверняка проходила то же самое с Джуин; она могла бы поделиться опытом.
— Не знаю, что нашло на нее, — вздохнула Джеральдин.
— Это сексуальность, — уверенно поставила диагноз Элли.
— Но Люси не…
— Ну, разумеется, нет. То есть я надеюсь, что еще нет. Но ты помнишь, как это было, когда ты впервые осознала это в себе? Как тебя это встревожило? И как тебе не терпелось попробовать?
Ничего такого Джеральдин не помнила. О чем и сообщила подруге довольно немногословно.
— Ну-у, ты, — сказала Элли, — ты всегда была слишком праведной для этой грешной земли. А вот я, если память мне не изменяет, на стенку лезла от нетерпения. Кстати, Джуин ждет не дождется, когда вы отправитесь в Шотландию. Она говорит только об этом. Считает дни.
— Хотела бы я, чтобы Люси так же хотела поехать в Шотландию. Но в этом году ее это больше не устраивает, видите ли. Она все пристает ко мне с Флоридой. Я ей говорю, что с моей чувствительностью к жаре и с ее слабым животом это было бы чистым сумасшествием.
— Джеральдин, постарайся обойтись без этих гребаных подробностей!
— Мне кажется, что сквернословие свидетельствует об ограниченности словаря.
— Ты знаешь, это чистой воды ипохондрия.
— Ипо?.. Что такое ипохондрия? — спросила Джеральдин мужа, которого она нашла в гостиной; он стоял перед камином и вертел в руках галстук.
— Насколько я помню, это такое нервическое расстройство, — ответил он, нахмурившись. — Чрезмерная озабоченность своим здоровьем.
— Понятно.
— Почему тебя это заинтересовало?
— Да так. Просто услышала где-то. Я примерно догадывалась, что это такое, и захотела уточнить.
— Какой-то идиот, — поделился Джон новостью, — въехал на автобусе прямо в стеклянный фасад «Звезды Бенгалии».
— Должно быть, пьяный? — Со слабой улыбкой Джеральдин приняла стакан джина с тоником. «Я заслужила этот стакан», — говорила эта улыбка.
— Понятия не имею, — огорчился Джон, осознавая, что не оправдал ожиданий жены.
Это было его обязанностью — каждый день приносить домой истории подобного рода. Он скармливал их жене, как в зоопарке скармливают рыбу тюленям, а она — ам! — заглатывала их. Сам Джон не получал от них большого удовольствия. После двадцати лет адвокатской практики его уже не удивляло поведение людей, прошло то время, когда его возмущала порочность и слабость человеческой природы, но он знал, как любила Джеральдин критиковать. И пока она не потеряла способности и желания негодовать, он был вполне удовлетворен, потакая ей. По крайней мере, это давало им тему для разговора. Можно было считать, что они действительно беседовали.
— Кто-нибудь пострадал? — немедленно осведомилась Джеральдин. Она обожала статистику происшествий.
— Не думаю. — Увы, рассказывать было почти нечего: в сегодняшней истории не было критического элемента (водитель под воздействием наркотиков, непригодное к эксплуатации транспортное средство, серьезный материальный ущерб, вендетта), но в этот день он не смог разузнать ни о чем более интересном — ни о скандальном разводе, ни о враждующих соседях, — что бы заставило ее вопрошать, куда катится мир.
— Конечно, с тех пор как изменили схему движения… — провозгласила она с триумфом. — Помнишь, я говорила?..
— Говорила.
— Я говорила, что там обязательно произойдет авария.
— Точно.
— Я была сегодня в том районе. Я проходила мимо «Звезд Бенгалии». — И вполне вероятно, что она всего лишь чудом избежала серьезной травмы.
— Это случилось только что. В самый час пик. Там теперь остановилось все движение. Можешь себе представить.
— А когда я пришла домой, Люси немедленно закатила очередную истерику. Элли говорит, что это сексуальность.
— Какая сексуальность?
— Ну, не секс, а, скорее, половое созревание. Похоже, у Джуин было то же самое. Я бы сказала, что она до сих пор не вышла из этого состояния.
— Она неплохая девочка, — нерешительно возразил Джон.
— Люси?
— Нет, Джуин. Я так понял, что ты сказала, что Джуин…
— После двух недель близкого общения с ней, я думаю, ты изменишь свое мнение. В Шотландии до тебя дойдет, что это за кошмарный подросток.
— Ах да, Шотландия. — Он задумчиво уставился в свой стакан.
Джон Горст был очень услужливым человеком. Только чтобы угодить родителям, он стал изучать юриспруденцию и стал партнером в адвокатской фирме «Горст и Мерридью». И только чтобы оправдать всеобщие ожидания, он женился на Джеральдин Гарви. Их свели общие знакомые, которые, не видя лучших вариантов ни для одного, ни для другой, уговаривали их пожениться. И он не стал разочаровывать самозваных сватов. Теперь, однако, он собирался пойти против желаний своей жены.
— Что? — с подозрением осведомилась она.
— Я могу отвезти вас туда, провести с вами выходные, но потом мне придется вернуться. Фирма не может отпустить меня на две недели. У нас слишком много работы.
Лицо Джеральдин исказила пугающая гримаса — самая некрасивая из всех, на которые она была способна. В общем и целом Джон находил ее внешность довольно приятной. Ему нравилась ее сложная улыбка, затрагивающая все черты ее лица: уголки губ поднимались, щеки округлялись, на подбородке появлялась ямочка, кожа вокруг глаз сморщивалась. (Что касается его собственного лица, то, по его мнению, оно было собрано из отдельных частей, работающих независимо друг от друга. Он даже мог шевелить ушами, и не только обоими ушами вместе, но и по отдельности, каковой талант в детстве частично спасал его от издевок одноклассников.) Однако сейчас Джеральдин не улыбалась. Ее губы изогнулись книзу, потянув за собой все лицо.
— Ты имеешь в виду, — сказала она, дрожа от наплыва эмоций, — что оставишь меня одну с тремя детьми?
— Ну, не такие уж они и дети, — попытался урезонить жену Джон.
— Нет. Они дети. Они подростки, что гораздо хуже. — «Джуин, — перечисляла она про себя. — Люси. Доминик. Грубость, упрямство, дерзость». — Я не справлюсь, — запричитала она. — Ты не можешь вот так бросить меня.
К осени надо было найти деньги, чтобы заплатить за следующий семестр, а Люси понадобится новая форма, так как она прибавила по сантиметру во все стороны. Ведение хозяйства требовало значительных расходов. Горсты жили широко, ели в приличных, дорогих ресторанах, давали приемы. И все это было возможным только благодаря его усилиям. Джон почувствовал соблазн напомнить ей об этом, но подавил импульс. Когда она успокоится, она сама это поймет. Вместо этого он сказал:
— Я вот подумал, что тебе стоит взять с собой кого-нибудь. Приятельницу. Например, Наоми. Ей все равно нечего делать. Возьмете двухместный номер с двумя кроватями.
— Наоми? Боже милостивый! Да она сама как четвертый ребенок. И все равно она не захочет. Она привыкла совсем к другим развлечениям.
— Тогда, может, пригласим твою мать? Уверен, что она будет рада ненадолго сменить обстановку.
— Да, пожалуй, — вздыхая, Джеральдин обдумывала предложение. — Пожалуй, — повторила она.
А в комнате у них над головой маленький слон танцевал гавот. Или бульдозерил бульдозер. Или бушевал полтергейст. Потолок дрожал, раскачивалась люстра. Джеральдин и Джон подняли глаза кверху.
— Что я тебе говорила? — сказала Джеральдин.
— Запирайте внуков! — завопила Элли Шарп и подскочила с дивана, реагируя, как всегда, с чрезмерной экспрессией. — Наоми Маркхем вышла на охоту! — Широкими шагами она заходила по комнате, которая от этого стала казаться меньше. На секунду Элли остановилась у окна и посмотрела на небо. — Черно, как в заднице у шахтера, — доложила она, просто чтобы дать выход эмоциям.
Обиженная Наоми не ответила. Вечерние тени почти скрыли ее, и Элли, стоящей у окна, казалось, что Наоми как по волшебству растаяла.
— Так-так-так… — Элли качала головой, не в силах поверить услышанному.
Честно говоря, она была ошарашена. В возбуждении она крутила яркие вычурные перстни, которыми были унизаны ее пальцы. Должно быть, у нее какие-то сверхъестественные способности. Должно быть, она еще более проницательна, чем сама думала. Правда, в буквальном смысле слова она этого не предвидела. Разумеется, вчера она с огромным удовольствием подкалывала Кейт намеками про Наоми и Алекса. Но это была всего лишь шутка, плод ее озорного воображения; она ни на секунду не предполагала, что близкое соседство, при всей его власти, возымеет хоть какое-нибудь заметное воздействие на жильцов дома на Лакспер-роуд.
«Рассказывай же, чем ты занималась все это время», — потребовала она от Наоми, проведя гостью в дом. Мысленно она отвела пять минут, максимум десять, на жалобы и нытье подруги, после чего она планировала в свою очередь поведать все о Мартине — пикантные подробности, моральную дилемму, свое решение. Она собиралась признаться в том, что он был искусным и изобретательным любовником. Он был заботлив, внимателен и, само собой, без ума от нее. Но у него была жена… если можно назвать ее женой. У него были обязательства. И разве смогла бы Элли, положа руку на сердце, называть себя феминисткой и в то же время флиртовать с мужем своей сестры? Нет-нет, этому необходимо положить конец! Она прекратит любовные отношения с Мартином уже к осени, до поездки в Италию.
Однако Наоми, предупредив, что ее новости могут не понравиться Элли, выдала отчет о своих последних подвигах.
Ради всего святого, Алексу ведь всего… А Наоми уже, по крайней мере… В своем лихорадочном состоянии Элли не могла точно подсчитать их возраст, но между ними определенно было не меньше двадцати лет разницы.
Она даже не знала, что ответить Наоми и как относиться к этой новости. Никто не любил сплетничать больше, чем Элли, а тут ей в руки попала настоящая горячая сплетня, суперскандал, поистине сенсация. Но где-то в дальнем уголке ее души притаилось смятение. А в другом уголке ее души, не очень дальнем, бушевала дикая зависть. Из-за этого любовного приключения Наоми Элли как будто отодвинули на второе место. Как будто Наоми в чем-то опередила ее.
Несколько секунд между ними стояло молчание, а потом раздался ужасающий звук — это Элли сделала глубокий вдох.
— Ну, знаешь, — начала она, — мало найдется людей со столь же широкими взглядами, как у меня…
Если бы Наоми знала, как Элли отреагирует на ее известие, она бы ничего не стала рассказывать. Но теперь ей оставалось только опереться подбородком о ладонь и ожидать неизбежного «но» с видом нераскаявшейся грешницы (а также выражение ее лица можно было назвать нонконформистским, употребив одно из любимых словечек Элли, или чертовски упрямым).
— Но… — Элли быстро вернулась к дивану и села рядом с Наоми, чтобы попытаться образумить подругу. Наклонившись вперед с краешка дивана, опираясь локтями о колени и сцепив ладони, она являла собой воплощение озабоченности. Лицо она приблизила к лицу Наоми.
— Ты же знала его еще младенцем в пеленках. Ты качала его на колене.
— Нет, не качала. — Наконец Наоми обиделась так, что стала защищаться.
И, разумеется, то, что она никогда не возилась с детьми, было правдой. Пока остальные три подруги, Джеральдин, Элли и Кейт, ахали и сюсюкали над новорожденным Алексом, «их» первым малышом, она держалась в стороне и занимала себя чем-то другим. Она всегда испытывала полное равнодушие, а порой и отвращение к этим крошечным, беспомощным созданиям, которые хватали все своими ручонками, пускали слюни, кривили рты. Если та или иная самодовольная молодая мамаша, сияющая от любви и гордости, убежденная в том, что ее ребенка нельзя не обожать, умудрялась всучить мисс Маркхем свое дитя, Наоми старалась вернуть ребенка обратно как можно скорее. Ну а когда ее все-таки заставляли присмотреть за одним из этих свертков радости минуту-другую, она держала нежеланную ношу на вытянутых руках — как можно дальше от себя, с несчастным и недовольным видом.
И было чистой правдой то, что до недавнего времени Алекс Гарви почти не существовал для нее. Она стала замечать его, когда ему было не меньше девятнадцати лет, когда он превратился в высокого, мускулистого, щетинистого юношу с девятым размером обуви и тридцать вторым размером джинсов.
— Раньше ты говорила совсем другое, — холодно обвинила она Элли. — Когда Билл Уайман женился на Мэнди Смит, ты говорила, что так и надо. Ты писала об этом в своей дурацкой газете. Я отчетливо помню твои слова о том, что возраст не имеет значения. Ты говорила, что любовь — это мост.
Такая горячность, да и еще из уст Наоми, могла смутить кого угодно.
— Что ж, — только и смогла ответить Элли, — приятно было узнать, что ты так внимательно читаешь мою колонку.
— Обычно я ее не читаю. Меня все это совершенно не волнует. Просто тот выпуск «Глоуба» случайно попал мне в руки. И я решила, что ради нашей дружбы мне следует хотя бы раз взглянуть на то, чем ты занимаешься.
Элли была в замешательстве. «Н-да, подорвалась на собственной мине», — подумала она и засмеялась — задорно, хрипло, громко.
— Ничего смешного в этом нет, — упрекнула ее Наоми. — По крайней мере, для меня. Потому что я люблю его, понимаешь?
«Сейчас она заплачет», — тоскливо подумала Элли.
Наоми заплакала.
Она казалась такой растерянной, такой одинокой и бестолково красивой, такой ненужной и нежной, что Элли растрогалась и взяла ее за руку. Наоми почувствовала, как в нее впиваются полдюжины колец.
— Просто мне кажется, — сделала очередную попытку Элли, — что вы абсолютно не подходите друг другу. Вы вращаетесь в разных кругах. Ты ведь понимаешь, что при всем своем обаянии Алекс — самый заурядный человек.
— Нет. Он очень незаурядный человек. — Наоми дернула локтем, пытаясь высвободить сдавленную ладонь, но Элли держала крепко. Можно было подумать, что они, обе со стиснутыми зубами, пытались выдернуть шнур из какой-то особенно неподатливой рождественской хлопушки.
— Ты родилась в другом мире, — продолжила свои наставления Элли. — Помнишь, как все было? «Лайт программ»[20]. «Хоум энд колониал»[21]. Черно-белый телевизор. Тест-карты. «Дейли геральд». «Энди Пэнди»[22]. Половинка хлеба за три пенса. Скуби-Ду. Джабли.
— Не помню ничего подобного, — без выражения проговорила Наоми. В конце концов, она же была замкнутой, нелюбопытной и глубоко несчастливой девочкой. Так с чего бы ей вдруг захотелось вспоминать о тех днях? Она выкинула прошлое вместе со своими детскими вещами и больше никогда не упоминала о нем. — Не слышала ни о каком «Хоум энд колониал». И, кстати говоря, ни о ком по имени Энди Пэнди.
— У вас в жизни не было ничего общего. Ты носила в волосах цветы и протестовала против войны во Вьетнаме. Хорошо, хорошо, лично ты не протестовала, ты была слишком занята чтением журналов мод и примеркой шляпок и боа, но ты принадлежишь тому поколению. Именно это окружение сформировало тебя. Тогда как Алекс вырос при Тэтчер. При спутниковом телевидении. Массовой безработице. При Мадонне. Озоновых дырах. При налоговых бунтах.
— А вот это я помню. — Ради Алекса и ради себя самой, ради их бесценных отношений Наоми бросилась в атаку. — Что это значит, Элли? Чего ты хочешь добиться? Показать мне, что я — это история? Так вот, я не история. И я, и он, мы оба живем в этом времени. Я обожаю Мадонну. Я смотрю спутниковое телевидение. Я знаю об информационных потоках. Не надо делать такие удивленные глаза. Да, я знаю. Алекс мне объяснил. И я нужна ему. И он мне нужен. И я уверена, что нам будет о чем поговорить и кроме этого Энди Пэнди, спасибо тебе большое.
— Я хотела сказать… — Элли вздохнула. Она разжала ладонь, и рука Наоми безвольно опустилась. Так что же она хотела сказать? — Я только хотела предупредить тебя, что все может оказаться намного труднее, чем ты думаешь.
— А ты думаешь, я думаю, что будет легко? Я что, настолько глупа, что мне надо все разжевывать? Разумеется, у нас возникнут проблемы. Но у кого их нет? Не существует идеальных союзов. Все рискуют в большей или меньшей степени. И еще дело в том… Я бы хотела, чтобы ты уяснила это для себя: ничего подобного я не планировала, и Алекс не планировал. Это просто случилось с нами. И теперь мы просто должны быть вместе. Потому что мы не можем жить друг без друга. Я знаю, ты считаешь меня избалованной, эгоистичной и бесполезной. Да, ты так считаешь, и, пожалуйста, не спорь. Тем не менее я надеялась, что уж кто-кто, но ты, со своими широкими взглядами, сможешь меня понять.
Некоторое время Элли мрачно кусала нижнюю губу. Потом она спросила:
— А как же Кейт?
— А что Кейт? Да, я знаю, что она огорчится. И разозлится.
— Скорее, смертельно обидится. И впадет в отчаяние. И обезумеет от ярости. В доме у Гарви будут литься слезы и скрежетать зубы, попомни мои слова.
— Все это так. Но потом она привыкнет. Не может же она вечно держать сына при себе? Он уже большой мальчик.
— Думаю, об этом она догадывается. И я почти не сомневаюсь в том, что она уже подготовилась к тому, чтобы отдать его какой-нибудь милой девочке его возраста. — Впервые за время этого разговора Элли вспомнила о Джуин. И тут ее сердце, не очень чувствительное по большей части, дрогнуло. Ей стало жаль дочь, которая была тайно и так отчаянно влюблена.
Похоже, Наоми не расслышала или решила проигнорировать последнюю колкость:
— Я не могу ей это рассказать и страшно боюсь, что она сама обо всем догадается. Но чем дольше мы скрываем это от нее, тем хуже ей будет, когда она узнает.
— Алекс должен сказать ей, — решила Элли.
— Ты так думаешь?
— А ты разве нет?
— Да, конечно.
— Так оставь это ему. Пусть он сам позаботится о матери.
— Хорошо. — Наоми почувствовала огромное облегчение. Она откинулась на спинку дивана, и ее голубые глаза закрылись, как у куклы. «Пусть обо всем позаботится Алекс», — повторяла она про себя снова и снова.
— А тем временем, — с улыбкой сказала Элли, — мы с тобой введем в действие план «А».
— Какой план «А»? — поинтересовалась Наоми, не открывая глаз.
— Мы откроем пару бутылочек винца и немедленно пошлем за пиццей.
— Не вижу в этом никакого смысла, — отмахнулся Тревор.
— Да ты ни в чем не видишь смысла, — парировала Джуин.
Она сидела на верхней ступеньке, обхватив колени, подвернув пальцы ног, и большими темными глазами следила за тем, как Тревор подметал и полировал лестницу. Сегодня, в пятницу, он занимался этим с куда большим рвением, чем обычно. Его расчет состоял в том, что если он как следует натрет ступени, то Элли поскользнется и проедет на заднице сверху до самого низа. (На баллончике с полиролью было написано: «Не рекомендуется использовать на напольных покрытиях из-за высокого риска травмирования».) А пределом его мечтаний было бы лично присутствовать при низвержении дородного тела. Правда, пока из покоев Элли не доносилось ни звука, а беспорядок в гостиной — пустые бутылки, стаканы с остатками вина, переполненные пепельницы, коробки из-под пиццы, неаппетитные объедки — подсказывал ему, что у нее была бурная ночь и что поэтому вряд ли можно ожидать ее появления раньше двенадцати. После подобных мероприятий дом всегда напоминал помойку. Тревор живо представлял себе слова Элли, обращенные к ее гостям: «Не беспокойтесь, оставьте это, оставьте все как есть. Завтра Тревор все уберет. А иначе за что я плачу этому педику?»
Сука! Хотя то, что сегодня он ее не увидит, его радовало. К тому времени, когда она явит миру свое мерзкое обличье, он уже будет в колледже, приступит к новой картине. И картина эта будет безобразной и бессмысленной, красноречиво символизируя тщетность и тщеславие мира. Он назовет картину «Конец мира — нейлон». Или «Поклонение кататонии». Или, что было бы еще лучше, если на бумаге картина получится столь же гротескной, какой он видел ее в уме, он назовет ее просто «Элейн».
— Я хочу сказать, что… — Он встряхнул баллончик, щедро спрыснул аэрозолем очередную ступеньку и, наклонившись к самому полу, сделал глубокий вдох — то ли чтобы максимально насладиться «новым ароматом попурри», то ли в предвкушении намеренно неправильного применения средства. — Я не вижу, какая нам от этого польза?
— Мне кажется, это очевидно. Потому что из этого следует, что смерти, как мы ее понимаем, нет, а есть только четыре бардо: жизнь, умирание, послесмертие и перерождение.
— То есть мы все равно умрем? От этого никуда не деться, так ведь?
— Ну да, зато потом мы приобретаем новую кармическую связь и рождаемся снова.
— А какой нам от этого толк? Я снова вернусь, но уже в образе какого-нибудь ублюдка? — Он имел в виду, что вернется не Тревором.
— Ты вернешься в ином воплощении, да, но это все равно будешь ты. В определенном смысле.
— Послушай… — В порыве спора он выпрямился, и в его поясничном отделе громко щелкнул сустав. При такой длинной спине и плохой осанке у него скоро возникнут проблемы. — Ты помнишь хоть что-нибудь из своих прошлых жизней, а?
Она плотно зажмурилась.
— Иногда мне кажется, что помню. У меня бывают какие-то обрывки воспоминаний.
— И что, ты была служанкой при дворе Клеопатры? Или старшей фрейлиной Марии-Антуанетты?
— Точно не знаю. Может, если меня загипнотизировать…
— Но ведь никто не помнит, что он был свинопасом по имени Джо Блоггс?
— Почему, я вполне могла быть свинопасом.
— Вот именно, — ответил он торжествующе. — Именно. Если верить тому, что ты говоришь, то с той же вероятностью и я мог пасти свиней.
— Это не я говорю. И не мне надо верить. Это учение принца Гаутамы Сиддхартхи, которого мы называем Буддой и на которого снизошло просветление за пятьсот лет до рождения Христа.
— Ну, хорошо, если верить тому, что говорит этот парень Гаутама, я тоже в прошлом мог пасти свиней. Или ты. Но Джо Блоггс умер. И однажды ты тоже умрешь. И я умру. А если в следующей жизни я не могу быть Тревором Пококом, то такая следующая жизнь мне даром не нужна.
— У меня в голове не укладывается, — воскликнула Джуин, — как вообще можно хотеть быть Пококом. Я бы ни за что не согласилась иметь такую фамилию, состоящую из двух плохих слов[23].
— Покок, милая моя, произошло от старого уилтширского слова «пикок»[24].
— Так почему бы не называть себя Пикок?
— Но вроде бы уже есть то ли актер, то ли еще кто-то с такой фамилией?
— Не думаю, что вас начнут путать. На твоем месте я не стала бы опасаться того, что тебе станут приходить письма от его фанов. Или ему — от твоих.
— Лучше уж быть Пококом, чем Титболом[25].
— Такой фамилии не бывает! — выпалила она недоверчиво.
— Хочешь небольшое пари? На сто миллионов фунтов.
— Пожалуй, нет. Может, ты окажешься прав. Это вполне в твоем духе — знать всякие бесполезности.
— Такая фамилия действительно существует. Это неправильная форма от имени Теобольд. В моей школе был мальчик Роджер Титбол. Мы из вежливости звали его Брестикл[26].
— Не повезло парню.
— Да нет, это еще ничего. Бедному Смели[27] было гораздо хуже.
— Не сомневаюсь. Ну, хватит, я не могу сидеть тут целый день, пытаясь просветить тебя.
— При его появлении мы все тут же начинали кричать «фу!». Или делали вот так, — Тревор сделал рукой обмахивающие движения, — или зажимали носы пальцами.
— Если духовное тебя не интересует, то это твое дело.
— И, разумеется, мы звали его Вонючка.
— Все, что мы думаем, все, что мы делаем, и все, что мы есть, влияет на нашу карму.
— Ну, раз так, то для меня надежды никакой не осталось.
— Нет, уверена, что еще не поздно. Ты можешь измениться в любой момент. Ой, какой гадкий прыщ у тебя на шее.
— Спасибо большое.
— Хочешь, я его выдавлю?
— Отстань от меня. — Он прикрылся рукой, но Джуин продолжала:
— Это все из-за плохого питания. Слишком много жареного. Мало овощей и фруктов. Так, мне, правда, некогда. Еще надо повторить Чосера. Я учу наизусть его «Пролог», чтобы быть готовой к следующему году, когда мы будем его проходить. Я уже дошла до Монаха. Послушай-ка, тебе это должно понравиться: «Он обязан заниматься, до одеревенения сидеть в келье над книгами или работать руками…»
— Ему не говорили, что от этого можно ослепнуть?
— От чего?
— От работы руками. Говорят, от этого слепнут.
— О, Трев, что за ерунда, — вздохнула Джуин. — К твоему сведению, «работать руками» означает «трудиться», хотя тебе это понятие вряд ли знакомо.
— Кто бы говорил! Что-то я не видел, чтобы ты палец о палец ударила.
— Я делаю гораздо больше, чем ты думаешь.
Из-за спины Джуин, из приоткрывшейся двери на лестничную площадку упал луч света. Нечто, благоухающее духами «Апрэ», проскользнуло по коридору. Скрипнула и захлопнулась дверь ванной.
— Что это было? — благоговейно прошептал Тревор. И запоздало, с трогательной застенчивостью спрятал за спиной баллон с аэрозолем и тряпку.
— А, она. — Джуин сморщила нос. — Это Наоми. Старая мамина подруга. Вчера вечером они напились вдрызг, и поэтому она осталась на ночь. Если не обращать на нее внимания, то она быстро уйдет.
— Она похожа на кинозвезду.
— Она не звезда. Она никто. Она просто чокнутая, которая ничего не делает, а только всем мешает.
— Она может мешать мне сколько ее душе угодно.
— Не будь таким титболом. Ей не меньше сорока лет. Хотя ты ведь тоже чокнутый. Так что у вас должно быть много общего.
— Мне показалось или ты действительно неодобрительно отозвалась обо мне?
Джуин сжала лодыжки руками и уткнулась головой в колени.
— Я ненавижу ее, — проговорила она в теплые складки юбки.
Вчера она весь вечер пряталась в своей комнате и не спустилась к матери и Наоми даже ради ужина. «Ты маленькая противная мадам, — обвинила ее Элли, принесшая ей поднос с пиццей. — Так, а теперь поблагодари-ка свою мамочку».
Но Джуин только промычала что-то односложное и невнятное.
Тревор несколько раз противно цокнул.
— Такое отношение к людям отрицательно скажется на твоей карме! — поддразнил он Джуин.
— Знаешь что? Мне это вдруг стало совершенно все равно. — Она встала, осторожно спустилась по лестнице, крепко держась за перила, обошла Тревора и направилась в кухню. — Я собираюсь сделать маме крепкого кофе. Хочешь, на тебя тоже сварю?
— Мне китайский чай, пожалуйста.
— Улонг[28]?
— Как говорила актриса епископу[29].
— Значит, обойдешься без чая.
— Иди, работай руками.
— Это ты? — осведомилась Элли, когда пятью минутами позже она услышала шуршание открывающейся двери по ковру и шлепанье босых ног.
— Кто же еще, — ответила Джуин. — Я ухожу в школу. А ты просыпайся и понюхай кофе.
— Совсем необязательно так орать.
Дзинь — чашка опустилась на прикроватную тумбочку. Дре-е-ень — раздвинулись занавески. Комнату затопил недобрый свет.
— Опять солнце наяривает?
— Открой глаза, — мстительно сказала Джуин, — и тогда сама увидишь.
— Не могу. Не открываются.
— Откроются, куда они денутся. — Джуин оперлась руками о подоконник и выглянула на улицу. — Погода сегодня не плохая, — объявила она, — но хорошей ее тоже не назовешь. Какая-то серая. Похоже, лето кончилось. Знаешь, я догадалась, почему та бедная липа сохнет. Собака из семьдесят третьего дома каждый день справляет под ней нужду. Фу, она опять там. Ты бы видела, какая гадость.
— Пожалуйста, Джуин, не надо.
— Не надо — что?
— Не надо этих подробностей. Мне и без них тошно. Такое чувство, что я отравилась. Наверняка пицца была просроченная.
— Ты хочешь сказать, тебя мучает похмелье. Что ж, поделом.
— Это не похмелье. Уж я-то знаю разницу, как ты думаешь? Я еще подумала вчера, что креветки пахли как-то странно.
— Интересно, почему это я чувствую себя прекрасно, а? Я ведь ела те же креветки, что и ты.
— Да потому что у тебя железный желудок, а у меня слабый. Это все из-за матери. Она всегда была зациклена на чистоте. За неделю она переводила галлоны хлорки, не меньше. Это была не просто причуда, а прямо-таки паранойя какая-то. Сыр чуть заплесневел — на помойку. Овощи мылись так, что от них почти ничего не оставалось. Откуда в таких условиях у меня мог появиться здоровый иммунитет, как у всех нормальных детей? Меня лишили моей порции грязи. — Элли, внезапно уяснив для себя, что она пала жертвой преступного небрежения, мстительно обвинила во всем злополучную Сибил.
— Бедная бабушка. Все, что она делала, она делала не так.
— Что ты все «бедную бабушку» жалеешь? А как же бедная я?
— К обеду все пройдет, я не сомневаюсь. Тебе принести аспирина? Или витамина С?
— Погоди. — Двумя пальцами Элли попыталась приподнять одно веко. — Воздух глаза режет, — простонала она.
— Да, похоже, тебе совсем плохо.
— А как начет этого ленивого педика, этого хулигана, что ходит сюда и делает вид, что убирается? Он соизволил сегодня появиться?
— Тревор? Он пьет чай.
— Я плачу ему не за то, чтобы он рассиживался тут целый день за чаем.
— Вообще-то он сегодня уже очень много сделал. Натер лестницу, причем очень тщательно.
Джуин повернулась к окну спиной, уселась на подоконник и, опираясь руками, стала раскачиваться взад и вперед. Голова Элли закружилась еще быстрее.
— Прекрати, прошу тебя, — взмолилась она.
— Что?
— Раскачиваться. У меня голова кругом идет.
— Прости. — Джуин перестала качаться и несколько секунд сидела, покусывая губы. Потом протянула: — Ма-ам?
— Что-о? — передразнила ее Элли. — Слушай, будь солнышком, передай мне зеркало с комода.
— Сейчас. — Джуин соскользнула с подоконника, пошла к комоду за зеркалом, и вдруг задумалась о сути бытия. Она задумалась о загадочности «я», попыталась представить, каково это посмотреть на амальгамированное стекло и наткнуться на взгляд самовлюбленных ясных голубых глаз Наоми Маркхем; или увидеть, как тебе подмигивает накрашенная шикарная Элейн Шарп; или встретить там служанку при дворе Клеопатры. И ей пришлось (пусть запоздало) признать свое поражение в споре с Тревором: действительно, человек был только тем, чем он был, или его не было вообще. Какой толк в том, чтобы метаться по вечности то в одном обличье, то в другом? Та чудесная комбинация физического и психологического, которую мы называем личностью, уникальна и случайна, смертна и неповторима. Она будет Джуин Шарп до тех пор, пока не умрет, а потом ее не будет.
Что ж, с ней могло бы случиться и что-нибудь похуже — например, она могла родиться своей матерью. А вот Элли увидела в зеркале свое помятое, со следами вчерашнего макияжа лицо и вовсе не огорчилась. Напротив, она даже улыбнулась себе одобрительно. Возможно, она испытала облегчение, узнав, что все еще жива. А может, ее близорукость была ее благословением.
— Наоми теперь будет жить у нас или как? — спросила Джуин.
— Ни в коем случае. Моя терпимость не безгранична. А что?
— Значит, она вернется к Кейт?
— На некоторое время. — Элли сморщилась. Но не только потому, что внутри ее черепа кто-то бил в барабан, но и потому, что сознание и память полностью вернулись к ней. Как она сможет все объяснить?
— У меня появилась одна идея…
— Не сейчас, ладно, Джуин? Твоя идея не может подождать?
— Ты ведь собираешься в Италию на две недели, так?
— Ну да, и что?
— Я подумала, может, Наоми пожить в это время у нас.
— О, к тому времени, я надеюсь, она уже решит свои проблемы. Вчера она как раз мне сказала, что у нее появилось кое-что на примете.
— Но если ей все еще некуда будет деваться, то пусть она поживет здесь.
— Не думаю, что ей будет интересно присматривать за тобой, радость моя. И вообще, мне казалось, что ты не выносишь ее.
Джуин пожала плечами:
— Две недели я бы потерпела ради такого случая. То есть если уж приходится выбирать между ней и Люси Горст. Между тем, чтобы поехать в Шотландию или остаться в Лондоне. И, кроме того, Кейт и Алекс хоть немного передохнут.
— Джуин, солнышко. — Секунду-другую Элли смотрела на дочь больными глазами. Потом она похлопала рукой по одеялу рядом с собой. — Сядь-ка сюда. Мне надо кое-что тебе сказать.
_____
Вторую половину дня Кейт провела у Фробишеров в Путни. Сначала она приводила в порядок разношерстную конгрегацию терракотовых кадок, старых горшков, каменных сосудов и урн в садике позади дома, а потом в очередной раз сажала цветы в подвесные ящики под окнами — Джанет Фробишер была слишком невнимательна, чтобы заниматься поливом, и цветы в ящиках целых семь недель доблестно боролись с обезвоживанием; иссушенная пеларгония еще взмахивала кое-где красным флагом, но тщетно. Джанет в общем была симпатична Кейт. Это была высокая женщина со светлыми волосами, питавшая пристрастие к неярким индейским тканям. Она напоминала экзотическую подушку, которая слишком долго пролежала на солнце. У нее был ленивый, блуждающий взгляд, придающий ей рассеянный вид, и целый выводок детей, чьи имена она неизменно и невозмутимо путала. Она была нетребовательным (чтобы не сказать — небрежным) клиентом.
В какой-то момент, когда Кейт высаживала кусты розовой герани, к окну с другой стороны подошла Джанет с двумя желтыми котятами на руках. Она безмолвно показала их Кейт, и женщины обменялись через стекло улыбками («До чего милые!» — говорили их улыбки). Со щемящей грустью Кейт вдруг вспомнилось, какими крохотными были когда-то Пушкин и Петал. Джанет на миг прижала котят к лицу, а потом опустила их на спинку дивана, откуда те отважно поползли вниз. Остальное же время Кейт была наедине с «Радио-4» и своими мыслями, которые беспорядочно всплывали в ее голове, как всплывают с океанского дна обломки после кораблекрушения.
«Садоводство, — говорила она сама себе, утрамбовывая землю вокруг корней стелющейся лобелии, — гораздо более тяжелая, более сложная работа, чем кажется. Люди, не занимающиеся садоводством, тратящие свое время и силы на более серьезные дела, считают, что ты просто выкапываешь ямки в земле и втыкаешь туда какую-то зелень. На самом деле они видят только самую простую и самую благодарную часть долгого процесса, который начинается вдалеке от сада — на цветочном рынке или в теплице — и который включает в себя неподъемные мешки с фунтом, неудобные горшки и подносы с рассадой, мозоли на когда-то нежных руках, острые шипы и колючки и больную спину от огромного объема кропотливой, трудоемкой подготовительной работы. А Джанет Фробишер, случайно выглянувшая на улицу во время возни с котятами, наверняка сочла, что ты занимаешься сущими пустяками».
Кейт, в пылу безжалостного самоанализа, допускала, что испытывала некое смутное удовлетворение оттого, что ее недооценивали. Элли была права, говоря, что ей, Кейт, нравилось — даже не нравилось, а было необходимо, — чтобы на ней ездили. Она чувствовала себя уверенней и спокойней, зная, что ей должны больше, чем когда-либо заплатят деньгами или признанием. Таким образом она не ощущала себя психологически по уши в долгах.
И в этом свете становилась очевиднее плачевность нынешнего состояния Наоми. Дело было не только во временной нищете (хотя, бог свидетель, для нее это было невыносимо; без денег она становилась слабой и плаксивой). Банкротство можно пережить, если иметь секретное оружие — уверенность в себе. Но Наоми жила на грани того, чего стоила; нет, она жила за этой гранью. С тех пор как она выросла из детских платьев, ее всегда ценили. А теперь, лишенная похвалы и лести, она обращала свой взгляд внутрь себя, но там не на что было опереться.
«Я все сделала правильно, — решила Кейт. — Я отлично справилась». Она откинула волосы с лица (то ли летом волосы росли быстрее, чем зимой, то ли ей это только казалось) и, прищурившись, посмотрела на жемчужное небо, на диск солнца. Вот только в своем стремлении справиться не сузила ли она поле действия, не удовольствовалась ли малым, хотелось ей знать.
Наоми, по крайней мере, было что рассказать; ее приключений хватило бы на целую книгу. А история жизни Катарины Гарви, в девичестве Перкинс, уместилась бы на обратной стороне почтовой марки.
И чего же она в результате достигла? Она была «хорошей матерью», но эта ее роль подходила к концу. Если считать, что, родив и воспитав Алекса, она совершила что-то поистине стоящее, то это значило, что на сегодняшний момент она свое дело сделала. Не слишком ли много она вкладывала в это мероприятие, не слишком ли многое ставила на него?
Два десятилетия она посвятила своему отпрыску, практически забыв о себе. Для нее в эти годы не существовало ни секса, ни романтики, ни каких-то увлечений, ни интеллектуального развития. В определенном смысле она была так же заброшена, как, скажем, эта высохшая пеларгония — горстка ломких листьев и стеблей, пародия на растение, в котором больше не текли живительные соки. Она встряхнула корни несчастного цветка, и на землю со стуком посыпались твердые комья. Кейт никогда не была так близка к тому, чтобы невзлюбить Алекса, как в это мгновение, когда пыталась проморгаться от пыли и боролась с желанием чихнуть.
Но, разумеется, его вины в этом не было. Не было смысла в том, чтобы винить дитя, рожденное от союза наивности и самонадеянности. Ответственность за все несла она. Она и Дэвид. И их юность. И давление старших.
Всеобщее увлечение Дэвидом Гарви было заразительным, и она заразилась им так же, как в свое время заражалась ветрянкой, корью, свинкой. Он вошел в нее, столь же неразборчивый, как вирус, столь же легкомысленный в отношении последствий. И одна ночь определила весь ход двадцати двух последующих лет ее жизни.
А теперь, совершенно для нее неожиданно, оказалось, что те последующие двадцать два года стали двадцатью двумя годами прошлого. Как будто вся ее жизнь развернулась на сто восемьдесят градусов. Она чувствовала себя главным персонажем театральной постановки, где в какой-то момент свет над ее головой погас, во мраке сменились декорации, костюм, макияж, и вот свет снова зажегся, и она — постаревшая, поседевшая, в иных обстоятельствах — вновь предстала перед публикой (разумеется, скучающие зрители встретили ее раздражающим покашливанием, шуршанием конфетными обертками, недовольным стуком складными сиденьями). В программке было указано: «Много лет спустя». И: «В другой части леса».
Пришло время отпустить Алекса. Таково было его желание, она была уверена в этом. В глубине души она осознавала, что он оставался с ней только ради нее, а не потому, что ему этого хотелось. Эти несколько недель она ощущала напряжение его невысказанной неудовлетворенности, видела, как оно заполняло собой его добрые глаза, поднимаясь откуда-то изнутри, как по системе капилляров. Но она должна его отпустить и ради себя самой. Ей необходимо было создать пространство для секса, романтики, развития, увлечений.
Ого, чудесная перспектива вырисовывается!
— Теперь сад снова выглядит замечательно, — сказала Джанет, отсчитывая деньги для Кейт.
— Только обязательно ухаживай за ним, хорошо? — в очередной раз попросила ее Кейт. — А то опять все засохнет.
— Конечно. Я просто забываю. Прости… Но я постараюсь, обещаю. Вот увидишь. Следующий раз, когда ты приедешь… потому что ты должна приехать. Например, на ужин. Я познакомлю тебя с Полом. Ему бы хотелось узнать, кто это такая Кейт Гарви. Он всегда говорит, что ты творишь чудеса.
— Разумеется, я буду очень… — неуверенно пробормотала в ответ Кейт.
Рада? Она боялась, что нет. Она знала, что определенные супружеские пары, до полусмерти надоевшие друг другу, любили приглашать к себе одиноких женщин. Они усаживали гостью и с притворной скромностью призывали ее позавидовать их дому, их упорядоченному быту, их преувеличенному согласию. При каждом удобном случае они употребляли местоимение первого лица во множественном числе, говоря «мы», «нам», «наше», щеголяя своим супружеством перед одиночкой вроде Кейт, которой (бедняжка!) суждено было до конца жизни говорить «я» и «мне». Со снисходительной улыбкой они настойчиво угощали такую гостью, будто неизвестно было, где в следующий раз ей доведется поесть. Они рассказывали о домашнем благоустройстве, о расширении, о совместном отдыхе за границей, об их надежде переехать когда-нибудь за город… Слишком часто Кейт опекали таким вот образом, в том числе Джон и Джеральдин, которые то и дело начинали проявлять к ней преувеличенный интерес, но потом милосердно оставляли на время в покое.
Однако Джанет, сделав столь неопределенное приглашение, тут же взмахом руки отменила его. (Подумав, она решила, что Пол, может, не будет так уж рад сидеть за одним столом с наемной работницей.)
— Хотя боюсь, — пошла она на попятный, — тебе слишком далеко добираться. И у тебя наверняка все дни расписаны.
— В общем, да… — усмехнулась Кейт, засовывая банкноты в задний карман джинсов, откуда потом она сможет достать их только с огромным трудом. — Не забывай удалять засохшие цветки, как я тебе показывала, — напомнила она через плечо, когда Джанет провожала ее до машины. — Только не просто обрывай их, а обламывай на стыке.
Когда она ехала домой, то приоткрыла окно, чтобы ветер сдул ее излишне решительный настрой. Кейт отказалась от своего недавнего решения, от своих высоких побуждений, от замысла освободить бедного Алекса от обязательств. Боковым зрением она увидела, как ее намерения пролетели над придорожной деревушкой.
Вместо этого она решила, что Алексу просто чаще надо выбираться из дому по вечерам. Дома в Тутинге ему нечем было себя занять. Очень хорошо. Она была готова к такому повороту событий: в строительной компании у нее были сбережения, на которые можно будет купить ему машину.
И к тому времени, когда Кейт свернула на Лакспер-роуд, эта идея уже четко оформилась в ее голове, она даже определилась с моделью машины (для Алекса она бы предпочла «фольксваген-битл» — хорошо сконструированный, надежный, но не слишком быстрый, неопасный).
Она припарковалась, как всегда неумело, натолкнувшись на крутой поребрик, и вышла из машины.
Перед ее калиткой стояла девочка с лохматой собачонкой. Ее тонкие руки, большие глаза, поношенное платье были такими трогательными, что она казалась сошедшей с картины художника-сентименталиста. Она была олицетворением бездомного детства. Ее портрет в газетах, несомненно, поспособствовал бы всплеску благотворительности. Но это была не бездомная сирота. Это была всего лишь…
— О, Джуин, — ласково окликнула ее Кейт. — Какой приятный сюрприз! Ты давно ждешь? А я работала. В Путни. И я не ждала… Тебе надо было сначала позвонить, мы бы договорились о времени. До шести я редко бываю дома. — На ее лице появилось выражение озабоченности; сощурившись, она пригляделась к лицу Джуин. Аллергия? Или девочка плакала? Если так, то легко догадаться, в чем дело. Наверняка рассорилась со своей невозможной матерью.
Слегка раздувшись от тщеславия, от удовлетворения, что, по крайней мере, с родительскими обязанностями она справлялась лучше некоторых, Кейт была уже готова, метафорически выражаясь, принять Джуин под свое крыло. Она усадит ее, нальет колы и скажет: «Ну, рассказывай тетушке Кейт, что там у тебя стряслось». Она будет сама терпимость и здравомыслие, выступая в защиту Элли, такой трудолюбивой, такой талантливой, такой увлеченной своим делом, у которой, разумеется, было доброе сердце, какой бы самолюбивой, легкомысленной или высокомерной она порой ни казалась.
Джуин нагнулась, чтобы взять на руки своего пса — лающий и брыкающийся комочек. Она прижала его к груди, словно защищая от кого-то, покачала его немного, потом застыла на секунду неподвижно, собираясь с духом, собирая разгулявшиеся эмоции. Она подняла голову и посмотрела на Кейт почти с вызовом. Когда она наконец заговорила, в ее голосе были слышны обвинительные ноты.
— Кейт, — произнесла она хриплым неровным голосом, — мне кажется, ты должна это знать.
— Что? — Кейт невольно сделала шаг назад, словно отодвигаясь от чего-то, что может вот-вот взорваться. Она непонимающе смотрела на Джуин. В первый раз ей пришло в голову, что девочка, может, была не в себе.
— Мне кажется, ты должна знать, — повторила Джуин. Она закусила дрожащую губу, потом судорожно вздохнула. — Ты должна знать, — торопливо закончила она, — что происходит под твоей крышей. Прямо у тебя под носом. Думаю, у тебя есть право знать, что делает Наоми.
Глава пятая
Кейт встала в очередь в ту кассу, где обслуживались покупатели с малым количеством покупок. Это была очередь для тех, кто, как и она, расплачивался наличными, кому для покупок хватало корзинки и у кого не было никакой личной жизни. Не для нее теперь были большие тележки, нагруженные разнообразной бакалеей, изысканной гастрономией и громкоголосыми малышами в бейсболках. Она была одинокой. Ручки корзинки больно впивались ей в пальцы. И это унизительное стояние в очереди для одиноких ей приходилось испытывать ради того, чтобы приобрести скучнейшие товары первой необходимости (жидкость для мытья посуды, туалетную бумагу, корм для кошек, растворимый кофе), а не что-нибудь более интересное (козий сыр, каперсы, высушенные на солнце томаты или итальянское белое вино).
«Люди в депрессии, — сказала она себе, — никогда не должны ходить в супермаркеты». В ее нынешнем состоянии (не то чтобы в депрессии, но как минимум в расстроенных чувствах) это решение показалось ей почти таким же мудрым, как конфуцианские заветы.
Столпотворение в магазине чуть не довело ее до слез. Она раздраженно топталась вокруг полок и холодильников, все подступы к которым были захвачены совещающимися семьями. Она подпрыгивала от нетерпения, пока они выбирали одну из двух идентичных банок с фасолью или решали, какую марку нежирного молока предпочесть дюжине остальных. Она шипела и кидала убийственные взгляды на хозяев тележек, перегородивших все проходы и мешавших ей пройти. В то же время с координацией движений у нее сегодня было что-то не в порядке, и она непрестанно билась об острые углы, натыкалась на твердые препятствия. И где-то между десертами и морожеными овощами она не выдержала. Окруженная вареньями, соусами, консервированными рисовыми пудингами, она остановилась и сказала вслух: «Я больше не могу», — и действительно не могла сдвинуться с места целую минуту.
Теперь, стоя в очереди в кассу, она закрыла глаза и стала слушать, как где-то неподалеку пронзительно ныл ребенок: «Хочу жвачку, хочу жвачку». И она задумалась, не существовало ли перечня признаков, по которым можно было определить, что у человека вот-вот случится нервный срыв.
Прошло три недели с тех пор, как ее мир развалился на кусочки. Три недели, как Джуин Шарп (то ли из добрых, то ли из злых побуждений, а может, просто не совсем осознавая, что делала) приехала сообщить то, что Кейт хотела бы услышать меньше всего на свете.
Наоми и Алекс. Алекс и Наоми. В ее мозгу эти имена отталкивались друг от друга подобно одноименным полюсам. И аналогичным образом разлетались в разные стороны ее сжимающееся сознание и невозможная правда (слово «немыслимый» казалось уместным как никогда).
— Ты врешь! — заорала она тогда на улице, не обращая внимания на невольных слушателей (Уилтоны, выходящие из «субару», все как один обернулись и неодобрительно посмотрели на нее). Джуин, с заходящимся лаем Маффи на руках, испуганно съежилась, вжалась в кусты бирючины.
— Я не поверю в это, — затем провозгласила Кейт, — пока сама не услышу все от Алекса.
И она услышала все от Алекса.
Ее обманула подруга, ее обманул родной сын. Даже ее собственный дом, казалось ей, был на их стороне, пряча тайных любовников в укромных уголках, давая им кров, скрывая их деяния, храня их секрет. И она мстила ему за это: топала вверх и вниз по лестнице, входила и выходила, хлопала дверями, стучала кулаком по вероломным стенам.
— Ты не можешь, — сказала ей Наоми, — привязать его к себе завязками фартука. — И несправедливость этих слов, смехотворный, оскорбительный образ, беспредельная наглость возвращались к Кейт снова и снова с такой силой, что перехватывало дыхание.
Кейт всегда держала себя в состоянии готовности, предвидя всевозможные беды (болезнь, несчастный случай, смерть), она всегда была готова встретить боем обычное, стандартное несчастье, но она совершенно не предполагала, что с ней может стрястись такая страшная катастрофа. Она скорее бы поверила, что у Алекса появилась страсть к наркотикам, но никак не страсть к Наоми. Она скорее допустила бы алкогольную зависимость, но не зависимость от Наоми. Может быть, она бы даже предпочла — нет, не может быть, а точно, — она предпочла бы узнать, что он гомосексуалист. Привязанность ее сына к этой мерзкой женщине была столь же отвратительна, сколь и непостижима.
— Мы так и думали, что ты тяжело это воспримешь, — проинформировала ее Элли, таким образом ловко ставя себя в один ряд с участниками сговора.
Тот факт, что она узнала об этой связи на целых двадцать четыре часа раньше, чем бедняжка Кейт, доставлял ей ни с чем не сравнимое удовольствие. Конечно, она отругала Джуин на чем свет стоит за неблагоразумие, пропесочила девчонку от души, но потом, поднимаясь по лестнице, чтобы сделать эпиляцию в области бикини, не удержалась от того, чтобы не расспросить дочь о том, кто что сказал, кто как отреагировал и тому подобное.
— Это совсем не трагедия, как ты себе это рисуешь, — урезонивала она Кейт. — Это маленький романчик, не более того. Он окончится сам собой, вот увидишь.
— Тебе не понять, — горько упрекнула ее Кейт.
— Ну так объясни.
Но Кейт не могла бы объяснить, даже если бы захотела, как много она потеряла. Она лишилась не только каждодневного общения — той самой близости — со взрослым сыном, который теперь жил с Наоми («сожительствовал», как выразилась Элли Шарп) в чужой квартире. Она лишилась и всего его прошлого, в котором она уже выстроила для него совсем другое будущее. Надежды, мечты, амбиции теперь, задним числом, нужно было перекраивать. Ее воспоминания были обесценены. И Алекс стал чужим.
С момента его рождения у нее бывали моменты странного неузнавания. Бывало, он лежал в своей кроватке, глядя на электрическую лампочку, или бежал со смехом за мячом, или склонялся сосредоточенно над моделью самолета на столе, и она вдруг задумывалась: «Кто ты? Что ты? Почему ты есть?» Наверное, это было чем-то сродни тому, как написанное тобой слово, например «удивлять», «лесть» или «февраль», неожиданно выпрыгивало из страницы, ударяло тебя по глазам, и ты начинал сомневаться, а существовало ли вообще такое слово. Хотя нет, это было нечто большее: Алекс был для Кейт чудом, и поэтому неизбежно на нее время от времени снисходило ощущение волшебности происходящего.
Но в тот вечер она столкнулась с новым и чужим Алексом. Она узнала то, о чем раньше и не догадывалась — то, что в нем живут и горячий гнев, и холодный вызов. Прямой, очень высокий, он обратил на нее взгляд, полный неприязни. А потом он покинул ее.
Она всегда знала, что однажды ей придется проводить его, увидеть, как он постепенно уменьшается в размере, уходя от нее по широкой и прямой дороге. Но он ушел внезапно и окончательно, не оставив после себя ничего, что смягчило было горечь разлуки: он просто свернул за угол и тут же пропал из виду.
И пусть Элейн Шарп и ей подобные примут к сведению, что для нее, Кейт, это действительно было такой трагедией, какой она себе ее рисовала. Для нее это было бесконечно трагично. Вот и все, что требовалось понять.
Одна Джеральдин отреагировала с должным беспокойством.
— Как, твой Алекс? — уточнила она, задыхаясь от возбуждения, пыхтя в телефонную трубку. — Наша Наоми? Но это же…
— Да. Немыслимо.
Значит, было что-то в генах Гарви (так, наверное, думала Джеральдин), в генах ее распутного брата, в генах помешанного на сексе племянника, что погубило обоих и что неизбежно погубит ее сына.
— Я бы с радостью убила ее, — сказала Кейт, и эти слова были чистой правдой (за исключением, может, только слов «с радостью»).
Три недели. Двадцать один день. Пятьсот с чем-то часов. И в эту пятницу все в ней так же восставало против связи сына и Наоми, как и в тот вечер, когда она только узнала о ней.
Она говорила себе, что ей следовало бы догадаться — потом она говорила себе, что она догадывалась. Лучше так, чем понимать, что была идиоткой. Должно быть, на подсознательном уровне она заметила интимность случайного соприкосновения рук, налет чувства вины в двух встретившихся взглядах. А может, это только сейчас, вспоминая подобные мелочи, она видела в них скрытый смысл.
— Уходи, — сказала она, — уходи, уходи немедленно, убирайся вон! — Данное распоряжение относилось только к Наоми. Но, разумеется, послушный велению долга (хотя долг в данном случае был избирателен, поскольку верность обеим женщинам означала бы предательство по отношению к обеим же), Алекс тоже ушел.
— Кейт, Кейт, — умолял он ее, стоя в дверях, на короткое время снова превратившись в прежнего Алекса, ее Алекса. — Я не хотел огорчать тебя. Только вот… — «Только вот я люблю ее» — эти слова остались милосердно несказанными, но за них говорил весь его вид. Тогда он продемонстрировал исключительную, на взгляд Кейт — бесстыдную, преданность мужчины женщине.
Теперь они ежедневно говорили по телефону: несвязно, отрывочно — мать и сын. Он отказывался навещать ее без Наоми. А Кейт, не забывшая и не простившая фразу про «завязки фартука», отказывалась принимать их вдвоем. Она предупредила, что не может ручаться за свою сдержанность в случае, если увидит их вместе. Ах, значит, он считает, что она ведет себя неразумно? Ну так она покажет, что значит действительно вести себя неразумно!
А тем временем жизнь продолжалась. И конвейерная лента подвезла к скучающей кассирше те предметы и вещи, которые Кейт, живя, расходовала. Она по-прежнему пила кофе, мыла посуду, ходила в туалет. По-прежнему надо было кормить Пушкина и Петал — эти двое не давали забыть о себе.
— Одиннадцать семьдесят два, — сказала кассирша.
— Ой. — Кейт потянулась к сумке, которая должна была висеть на плече придающим уверенность грузом, но ее там не было. — Я… — Все ее существо сконцентрировалось вокруг сердца. Она превратилась в розу, ярко-красную, туго свернутую в центре, мягкую и безвольную по краям. — Наверное, я оставила ее в машине, — призналась она в отчаянии. И сказала себе: «Я схожу с ума, вот в чем дело. Я уже на пределе».
Был призван администратор торгового зала, и ее покупки, вдруг ставшие такими жалкими, были отложены в сторону до ее возвращения. И не из-за чего было так смущаться. Такое случалось сплошь и рядом. (Об этом ей сообщил помощник кассира, для которого подобные казусы были развлечением; но стоящие в очереди покупатели, недовольно перешептывающиеся и переминающиеся с ноги на ногу, не разделяли этого благодушия.)
Расстроенная и запыхавшаяся Кейт добежала до оставленного на парковке «фиата» — в самом дальнем углу, подальше от переполненной машинами зоны у входа в магазин.
Асфальт около машины был покрыт осколками стекла, похожими на россыпь фальшивых драгоценностей. Окно со стороны водителя было разбито, а сумка, забытая ею на переднем сиденье, — исчезла. В сумочке лежали ключи от дома, кредитные карточки, наличные деньги на неделю. Там же, в бумажнике, лежали дорогие ее сердцу детские фотографии Алекса, которые она всегда носила с собой. И квитанция из химчистки. А еще мятые бумажные салфетки и счет из центра садоводства на гвоздики для Джонсонов.
Отчаяние переполнило ее. Она села прямо на асфальт и заплакала.
К ней подходили люди, привлеченные чужой бедой; другие же, наоборот, сторонились, негодуя на такую несдержанность. Для Кейт они были всего лишь ногами. «Что случилось?» — спросила пара коричневых мокасин у пары джинсовых босоножек. Кто-то (кажется, начищенные башмаки) набрали на своем мобильнике 999.
На плечо Кейт опустилась чья-то утешающая ладонь.
— Что украли?
— Все, — ответила бы она, если бы только могла найти слова. — Все.
— Может, надо позвонить кому-нибудь? Мужу? Другу?
Женщина в босоножках, хозяйка утешающей ладони, присела на корточки. Ее лицо, как на пружине, покачивалось перед Кейт.
— Сыну, — проговорила Кейт. — Ох, нет, только не ему. — И она, сама того не желая (или просто не имея сил подумать о ком-либо еще), назвала телефон Элли Шарп.
Джеральдин Горст рассеянно пригладила волосы на голове — примерно таким жестом гладят маленькую и не очень симпатичную собаку. Почему все часы в доме показывали разное время? Она закусила губу, чтобы сдержать раздражение.
Внезапный порыв ветра ворвался сквозь приоткрытую стеклянную дверь, принеся с собой яркий свет вечернего солнца, и надул парусом занавески. Он подхватывал со стола бумаги Джона, страницу за страницей, и швырял их в воздух. Свадебная фотография, стоящая в золоченой рамке на буфете, комично покачалась и упала.
— Крикни Люси еще разок, а? — попросила Джеральдин Джона, который бросился собирать разлетевшиеся документы. — Сколько она еще будет возиться? — В семь тридцать они должны были быть в Тилстоне, где давали «Йомена-гвардейца»[30]. Она задумывала этот поход в театр как семейное мероприятие, купила четыре билета, заранее предвкушая, как хорошо будет смотреться их сплоченная и впечатляющая группа. («Это Горсты», — будут шептаться зрители, толкая друг друга в бок при их появлении.) Но Доминик презрительно отнесся к ее затее и сказал, чтобы на него не рассчитывали. По зрелом размышлении Джеральдин пришла к выводу, что, наверное, это было к лучшему: существовал риск, что Доминик повел бы себя в театре вызывающе. Особенно если вспомнить его заявление, что Салливен и Гилберт — «полный отстой». Потом Люси сказала, что так и быть, она поедет в театр, но только при условии, что они возьмут с собой Джасинту. Кого? Клеменси Чепмен? Даже имени этого не произносите! Клеменси Чепмен может идти к черту. Люси не было никакого дела ни до Клеменси Чепмен, ни до Сары Брук.
Джон тут же вышел в коридор, чтобы позвать дочь. Он был рад возможности хотя бы на короткое время исчезнуть из поля зрения раздраженной жены. Она была обижена на него, а когда Джеральдин обижалась, это было заметно. Поездка в Шотландию, предполагаемое отсутствие Джона большую часть времени, возросшее бремя хлопот и обязанностей Джеральдин стали ядром, притянувшим к себе все ее недовольство и возмущение. И об этом недовольстве и возмущении она давала знать ежеминутно, ежесекундно. Будучи несгибаемой, целеустремленной женщиной, она целиком отдавалась тому, чтобы до всех донести свои чувства. И отвлечь ее могла только новая причина для неудовольствия. Шотландский кризис не будет забыт до тех пор, пока ею не овладеет идея отремонтировать ванную или переделать кухню или пока она не осознает потребность полностью сменить свой гардероб. И у Джона уже не было надежды на то, что когда-нибудь она будет всем довольна.
— Она скоро спустится? — потребовала отчета Джеральдин, когда Джон, все еще сжимающий в руке бумаги, вернулся в гостиную.
— Да-да. — Несмотря на то что дочь не удостоила его ответом, он ощутил сквозь двери в ее комнату некоторую напряженность, какое-то движение и понял, что она, по крайней мере, слышала его вопрос.
— По дороге нам надо будет забрать Джасинту. На это уйдет не меньше десяти минут. Столько хлопот! Неужели ее родители не могли… Хотя, конечно, мы ее пригласили. Так мы совсем опоздаем. Как же все неудачно складывается!
Она представила, как их маленькая компания робко прокрадывается в небольшой зал, где плотно задернутые жалюзи на высоких окнах обеспечивали должный сумрак. Она увидела сцену и на ней — ярко освещенное пятно, внутри которого двигаются участники местного драматического кружка, одновременно знакомые и странно чужие в театральных костюмах. Вот она сама пробирается между складными стульями, задевает невидимые колени, наступает на невидимые туфли и ботинки: «Простите… Простите… Извините, пожалуйста…» По рядам пробегает возмущенный ропот. «Кто же это так опоздал?» — «И вы еще спрашиваете?» Джеральдин уже была готова отменить мероприятие, которое было безнадежно испорчено, еще не начавшись. От раздражения она чуть не плакала.
— Успеем, — беспечно сказал Джон, которого не волновал его статус в глазах местной общественности и не интересовало мнение соседей. И он вполне был согласен с Домиником относительно лирики Уильяма Швенка Гилберта и музыки Артура Сеймура Салливена. Хуже всего в них было то, что они застревали у тебя в голове, доводя до сумасшествия: Джон знал, что и неделю спустя после концерта он будет против воли напевать про себя старинные комические куплеты про печального и молчаливого гвардейца, тоскующего о любви дамы. «Однако лучше гвардейские куплеты, — решил про себя не лишенный своеобразного чувства юмора Джон, — чем стишки о птичках или трех веселых школьницах…[31]»
— Честно сказать, мне эта Джасинта Эйнсли не очень симпатична, — призналась Джеральдин. — Маленькая нахалка, на мой взгляд.
— Все школьницы такие.
— Извини, не расслышала, что ты сказал?
— Да так, ничего.
— Она кому угодно зубы заговорит. Ее родители, как я слышала, очень «продвинутые» lasses-faire. И слишком уж современные. — По округе ходила молва, что у Эйнсли были «теории». — Люси уже нахваталась у Джасинты дурных манер. Ты, наверное, тоже заметил, что в речи у нее появились абсурдные… — Она хотела употребить новое для себя слою «сленговые», но оно совершенно вылетело у нее из головы. — Эти жаргонные словечки, — вышла из трудного положения Джеральдин. — Мне они так не нравятся, а тебе? Они унижают королеву Англии. — Она провела пальцами по лбу, и гримаса раздражения исказила ее лицо. У нее совершенно не было сил, сказала она себе. Капля спиртного ей бы сейчас совсем не помешала. А как там со временем? Пять минут восьмого. На это развлечение в кругу семьи она выкинула десять фунтов. Откровенно говоря, лучше бы они остались дома и посмотрели ящик.
Джон открыл свой портфель и сложил туда бумаги. Шансов на то, что он сможет проглядеть их сегодня вечером, не оставалось. Он собрался с духом и спросил:
— Не знаешь, Элеанор определилась с поездкой в Шотландию?
Если бы только мать Джеральдин могла четко сказать «да» или «нет» в ответ на их просьбу… Но разумеется, это было не в привычках Элеанор Гарви. Она любила унижать; она любила, чтобы люди стояли с протянутой рукой или до последнего момента мучились неопределенностью. Он подозревал, что порою она объявляла о своем намерении прибыть к ним с визитом, просто чтобы они не расслаблялись. К ее визиту дом вычищался и вылизывался. Перестирывались горы белья. Копперфилдс блестел в трепетном ожидании высокой гостьи. Джеральдин запасала невероятное количество провизии — лучшей из того, что можно было купить. Люси и Доминику внушались правила хорошего поведения — о чем можно и о чем неприлично говорить за столом. А потом, в последнюю минуту, Элеанор звонила сказать, что не приедет, ссылаясь на насморк, простывшее плечо, другую договоренность.
— Еще нет, — ответила Джеральдин сурово.
Джон понял, что касаться этой темы было опасно. Он бесшумно пошел закрыть стеклянную дверь, распахнутую порывом ветра. На лужайке перед домом Доминик с удивительной сноровкой подбрасывал ногами футбольный мяч (такое умение было неожиданным для столь непостоянного в своих прихотях мальчишки). Казалось, что мяч прилипал к носкам его кроссовок, сначала к носку правой, потом — к носку левой ноги; мяч ловко балансировал вопреки силе земного притяжения. Одетый в шорты и майку, загорелый, светловолосый Доминик являл собой прекрасное зрелище. Джону странно было думать, что это его сын, его наследник, его потомок. В Доминике Горсте было так много от Гарви, что Джону не верилось, будто он действительно приложил руку — ну, не руку, строго говоря, а… и так понятно, что он приложил, — к его рождению. Настоящий сын Джона, его истинный наследник был бы куда более слабым, неловким существом.
«Он непременно зафутболит мячом в крышу теплицы», — беспомощно предрек про себя Джон. Еще одна старая стеклянная панель, тонкая, потрескавшаяся, хрупкая, была обречена рассыпаться вдребезги. Но ему и в голову не пришло постучать в окно или выйти и по-отцовски отчитать сына. Он утратил какое бы то ни было влияние на детей уже много лет назад.
Время от времени Люси, любившая покомандовать, пыталась прибегнуть к его влиянию: она ссылалась на него в случаях, когда не могла справиться с братом («Папа запретил тебе так делать»). Или же она грозила ужасным отцовским гневом («Сам будешь виноват, если папа узнает, что ты натворил»). Но Доминик, равнодушный от природы, не обращал на ее уловки никакого внимания, в лучшем случае — посмеивался над ними.
Джеральдин, как могла, старалась удержать детей под контролем. Джон уважал ее за это, восхищался ее настойчивостью, ее упорством. Но он знал, что эту битву лично он проиграл.
— А как Кейт? — спросил он, по-прежнему глядя на Доминика, но думая уже о других вещах. Он стоял очень неподвижно, очень ровно. Джеральдин пришлось отвечать его затылку.
— Ну, как сказать…
— Она держится, как тебе кажется?
— Учитывая ее обстоятельства — да, неплохо. Она подрезала кусты цеанотуса.
— Бедная Кейт. Она так любила сына.
— Больше, чем следовало, тебе не кажется?
— Откуда мне знать?
— Так или иначе, все это очень неприятно.
— Да.
И на этот раз он сказал то, что чувствовал. Они оба, пусть и по разным причинам, осуждали происшедшее. Джону было совершенно наплевать на деяния Алекса Гарви. Алекс Гарви мог сам о себе позаботиться. Но о Кейт он был очень высокого мнения, с самого начала. Джеральдин так и говорила: «Джон очень высоко ценит Кейт», и хотя ему не очень нравилась нотка высокомерия в этом выражении, он не искал других слов, чтобы описать свои чувства. По роду своей работы он знал, что слова имели силу. С их помощью можно было управлять. Но в словах была и слабость — их неадекватность. Язык подходил для того, чтобы называть конкретные вещи: с его помощью лопату можно было назвать лопатой. Но когда дело касалось абстрактных понятий, слова не справлялись. Они были слишком грубым средством для дифференцирования эмоций. С их помощью невозможно было точно описать то, что чувствуешь.
С женщиной типа Джеральдин это не вызывало особых проблем — когда она употребляла какое-либо слово, то оно значило только то, что подразумевала под ним сама Джеральдин, не больше и не меньше. Но Джону существующий словарь казался крайне несовершенным. Множество понятий — относительность, бесконечность, антиматерия, термоядерный синтез, реакция Бухерера, постулат де Бройля, теория Шредингера — возможно было объяснить и понять только в цифровом выражении. Если бы он попытался письменно выразить свои истинные чувства по отношению к Кейт Гарви, то результат вполне мог бы выглядеть следующим образом:
Или еще как-нибудь.
— Элли правильно сказала, — продолжала Джеральдин, — что-нибудь в этом роде должно было произойти при том, что они… — Она хотела сказать «они жили все вместе», но в сложившейся ситуации это совершенно безобидное выражение прозвучало бы как-то некрасиво. — Ну, ютились буквально друг на друге.
«Ага, Алекс на Наоми, — подумал Джон. — Хотя, может быть, и совсем наоборот». Джон не был опытен в любовных делах и никогда не притворялся, что разбирается в этом.
— Лучше бы она приехала к нам, — сказал он. — У нас достаточно свободно.
— Да я бы просто не вынесла… Ты сам подумай, ведь это же Наоми.
— Я понял.
— Конечно, я не могу отрицать, что даже сейчас она выглядит великолепно. Очень привлекательно. И я могу понять, что своевольный молодой человек…
Великолепно? Привлекательно? Наверное, так оно и было. Но для Джона Наоми Маркхем всегда казалось такой глянцевой, такой двухмерной, как будто ее вырезали из какого-нибудь журнала мод. Он повернулся от окна к жене, но ничего не сказал, только пожал плечами.
— А вот и я, — объявила Люси, появляясь в самый последний момент: теперь у Джеральдин не оставалось времени на то, чтобы отправить дочь обратно смывать макияж, наложенный неумелой, но щедрой рукой (наименее удачно получились зеленые тени на веках).
— Привет, земляне, — раздался голос Доминика, вошедшего с улицы через стеклянную дверь вместе с потоком сквозняка. — Как вы тут? Эй, Люси, чучело ты гороховое, что это за грим у тебя на лице? Я думал, что ты будешь смотреть пантомиму, а ты, оказывается, сама выступаешь.
— К твоему сведению, это не пантомима, а оперетта, — заносчиво проинформировала его Люси. — Фу, не подходи ко мне, от тебя воняет как от свиньи.
— Доминик, Люси, — слабым голосом пожурила детей Джеральдин, беря свою сумочку.
— Пойдемте же, — сказал усталый Джон и направился к дверям, не глядя на остальных членов семьи.
Он и сам был как тот опереточный гвардеец с одинокой душой и печальным взглядом. И он тоже тосковал о любви дамы.
Джуин и Маффи пошли на улицу — гадить и убирать. Между ними существовала договоренность: Маффи гадил, Джуин убирала. Она всегда серьезно относилась к своим обязанностям владелицы собаки. Теперь же, когда Маффи остался ее единственным другом во всем мире, единственным существом по эту сторону Альфа Центавра, которому она была небезразлична, она еще более ревностно выполняла свой долг по отношению к нему.
Она гуляла с ним столько, что он чуть не падал от усталости. Она кружила по улицам Хакни и Шоредита, повторяя про себя Чосера или перебирая в уме вновь и вновь события последних недель.
Погода в эти дни никак не могла определиться: продолжалось ли еще лето или уже наступила осень. И время тоже, казалось, почти замерло. В небе висели облака, не в силах ни разразиться дождем, ни уплыть прочь. Машины с орущими стерео проносились мимо носителями бессмысленного шума. В воздухе стоял слабый запах разложения, как будто Лондон медленно, неумолимо гнил. Нечаянно впав в метафизическое состояние, Джуин подумала, что Лондон пахнет так же мерзко, как она себя чувствует.
Она не разговаривала с Элли. После поездки Джуин к Кейт были сказаны такие вещи, какие ни одна порядочная, заботливая мать никогда не сказала бы дочери.
Джуин допускала, что тогда она сама была несколько не в себе… может быть. Но она хотела как лучше. Она была искренне убеждена, что Кейт должна была знать, чем занимается Алекс, и, узнав об этом, вмешаться. Она бы сказала Алексу: «Немедленно прекрати это безобразие», и он, послушный сын, тут же бы прекратил. Джуин была возмущена тем, что Элли знала об этих сексуальных похождениях — и это значило, что весь свет вот-вот узнает об этом, — а Кейт пребывала в неведении. И ни на долю секунды Джуин не приходило в голову, что Алекс возьмет и уйдет из дома, да еще вместе с этой плаксой Наоми. Так что она ни в коем случае не заслужила того, чтобы ее называли… как же Элли выразилась? Дерьмокопалка? Дерьмомешалка? Она не заслужила того, чтобы ее называли дрянной сплетницей или хитрой жабой. Ведь правда же?
И поэтому Джуин избегала встреч с Элли и отказывалась разговаривать с ней — отчего Элли, впрочем, только выиграла, получив возможность разглагольствовать без помех и в неограниченном количестве. Лишь в самом начале, когда она впервые почувствовала определенный холод со стороны дочери, она спросила: «Что с тобой случилось? Язык проглотила?» И больше ни разу Элли не подала виду, что замечает нежелание Джуин разговаривать с ней.
Разумеется, мать и дочь Шарп ссорились и раньше. Под их крышей существовала давняя традиция взаимных обид и претензий. Но обычно или одна, или другая враждующая сторона в конце концов шла на уступки, и между ними вновь устанавливалась более приемлемая дисгармония — своеобразный колючий розовый куст. Но захочет ли Кейт снова разговаривать с Джуин? Простит ли она ее хоть когда-нибудь? (Обвинения и крики Кейт до сих пор звенели у нее в ушах; до сих пор она вздрагивала, вспоминая об этом долгими ночами.) И сможет ли когда-нибудь она, Джуин Шарп, произнести имя Алекса Гарви без того, чтобы в желудке у нее все болезненно сжималось? И сможет ли она вынести утрату своей самой сокровенной мечты?
Страсть Джуин к Алексу, казалось, всегда жила внутри нее. На эту страсть никак не повлияло превращение Джуин из девочки в подростка. Эта страсть никак не изменилась после сексуального пробуждения Джуин, поскольку с самого начала, с детских лет, это было сексуальным чувством — в некотором роде. И точно так же, как Элли Шарп росла в полной уверенности — обычной среди маленьких девочек ее поколения, но ни в ком эта уверенность не была столь непоколебимой, — что в один прекрасный день она выйдет замуж за принца Чарльза и станет королевой, Джуин Шарп росла, не сомневаясь в том, что в один прекрасный день она выйдет замуж за Алекса Гарви и станет миссис Гарви.
Вот почему каждый раз, когда Алекс смотрел на нее с улыбкой, ничем не отличающейся от тех, которыми он одаривал всех и каждого, когда он был вежлив с ней и одновременно вежливо бесстрастен, когда его доброе расположение раздавалось всем без различия, когда его глаза смотрели на нее, но не видели ее, когда он был милым Алексом для всех, — маленькая часть ее души умирала от разочарования.
И все же пока он был Алексом для всех… Джуин повернула за угол и пошла по направлению к дому. Маффи бежал сзади, облаивая встречных сук. Пока он был Алексом для всех, существовал шанс, что в какой-то момент она сможет сделать его своим Алексом. Но теперь, когда он принадлежал Наоми, у Джуин не оставалось ни малейшей надежды.
Конечно, их связь не будет долгой, размышляла Джуин, дергая за поводок, чтобы успокоить своего неуемного пса. Через шесть недель все уже закончится, если верить предсказаниям Элли. Алекс после такого приключения станет серьезнее и мудрее. «Я был полным идиотом», — провозгласит он, найдя утешение в молодой упругой плоти и покой в любящих объятиях. (Джуин была почти уверена в том, что если хотеть чего-нибудь сильно-сильно, если желать чего-нибудь всеми силами души, то твое желание может сбыться… Ведь правда?)
Однако оставался вопрос: вдруг что-то важное сломалось так, что уже не починишь? Алекс Гарви предал мечту Джуин Шарп. Он расторг священный договор, который никогда не заключал. И теперь она принуждена была сомневаться в своей вере в него и в их предназначении друг другу. И кроме того, Джуин не была уверена в том, что ей захочется подбирать объедки за Наоми Маркхем.
В школе им читали лекции о безопасном сексе, им рассказывали о «группах риска». Когда ты шел с кем-нибудь в постель, говорили им учителя, ты шел в постель и со всеми предыдущими половыми партнерами твоего избранника. То есть ты попадал в вирусный винегрет. Поэтому переспать с Алексом Гарви значило бы, в определенном смысле, переспать и с Наоми Маркхем, а это вовсе не входило в планы Джуин Шарп. И если бы только с Наоми Маркхем — нет, ведь следуя логике, это значило бы также и переспать со всеми теми, с кем когда-либо спала Наоми, и с теми, кто когда-либо спал с теми, кто спал с Наоми, и так далее. Страшно было даже подумать.
Когда Джуин, слегка запыхавшись, подошла к входным дверям своего дома, она услышала, что внутри заливается телефонный звонок. И она судорожно заторопилась, вставляя ключ в замочную скважину, как будто от этого звонка зависело все ее будущее, весь последующий ход ее жизни.
Маффи почувствовал панику Джуин и возбужденно скакал вокруг нее, стукаясь мордой о ее лодыжки, мешая ей войти в дом.
— Ох, хватит, ну хватит же! — взмолилась спотыкающаяся Джуин.
Она опустила на пол совок, которым собирала за Маффи его кучки, перешагнула через песика и помчалась через прихожую к телефону в гостиной.
— Алло.
— Джуин Шарп? — осведомился уверенный мужской голос.
— Да, это я.
— Это Доминик Горст.
— Привет, Доминик Горст, — ответила Джуин, тяжело садясь, почти падая на стул, давая волю своему разочарованию (хотя чего она ожидала, на что надеялась, почему так бежала к телефону, она не смогла бы внятно объяснить).
— По телефону у тебя очень приятный голос.
— Да?
— Из тебя получится отличная секретарша.
— Спасибо тебе, шовинист несчастный. Однако я собираюсь стать пилотом.
— Значит, журналистика тебя не привлекает? Четвертая власть не для тебя? Я-то думал, что ты собираешься пойти по стопам великолепной Элли Шарп.
— Ни за что в жизни!
Джуин ссутулилась и прикрыла свободной рукой глаза. «Если я вырасту похожей на мать, — пылко пообещала она себе, — я убью себя. О, не получится, ведь если я стану как она, то буду страшно довольна собой».
— Но работенка эта совсем непыльная, — настаивал Доминик, к которому Джуин всегда относилась довольно пренебрежительно (она считала его заносчивым и хитрым). — Что может быть лучше: каждую неделю разражаться тирадами правого толка да еще и получать за это деньги.
— Мама совсем не правая, — возразила Джуин. — Может, она уже не такая левая, как раньше, но идеям социалистов она явно сочувствует. В молодости она очень увлекалась классо[32].
— Ага, конечно. — В голосе Доминика звучал смех. — Тогда моя мама — пожизненный член не «Сердитой бригады», а бригады очень-очень обиженных людей.
— Доминик, ты болван. И вообще, зачем ты мне позвонил?
— Ах да, послушай, как все вышло. Простые смертные ушли развлекаться. Навели марафет и отправились в оперу. А я, обнаружив, что остался в полном одиночестве, на цыпочках прокрался к телефону.
— Чтобы надоедать людям дурацкими звонками? Хочешь прославиться, как те придурки, о которых пишут в газетах?
— Точно! Мой план такой: ты расскажешь мне, какого цвета на тебе трусы, а я подышу в трубку.
Она подумала минутку, потом сказала: «В цветочек», — поскольку не знала ничего более отталкивающего за исключением, пожалуй, только трусиков-стрингов.
— Очень сексуально. А скажи-ка мне, Джуин, как тебе перспектива отдохнуть с нами в стране хаггиса?
— Не очень, честно говоря. — Джуин, не бывавшая нигде севернее Бирмингема, имела крайне упрощенное представление о Шотландии, составившееся в основном по картинкам на крышках банок с печеньем. Ей рисовались волынки, юбки в клетку и вересковые пустоши.
— Там здорово, вот увидишь, — пообещал ей Доминик, и в этот момент он был искренен.
Он любил западное побережье, любил его пустынность и красоту, оно заряжало его: шотландский воздух наполнял не только его легкие, но и сердце и душу. У Доминика было несколько вредных привычек, но в основном он был отменно здоров и гордился своим физическим совершенством. Холодное, бурное море соответствовало его настрою. Оно заставляло его кровь петь.
— Придется поверить тебе на слово.
— Поверь. И мне пришло в голову, что там мы с тобой могли бы поближе узнать друг друга.
С некоторым трудом Джуин разулась — упираясь носком одной ноги в пятку другой, она, не расстегивая, стянула свои поношенные босоножки. Она вдруг поняла, что улыбается, сама не знала чему, разве что удивительной нелепости Доминика.
— Это невозможно. Я уже отдана другому. У меня есть парень.
— Да? И как его зовут?
— Джо Блоггс.
— Чем он занимается?
— Пасет свиней.
— Хорошая работа.
— Да… Спокойная.
— А ты серьезно хочешь стать пилотом?
— Совершенно серьезно, — подтвердила Джуин, которой до этой минуты такая идея ни разу не приходила в голову.
— А мне лично нравится печатное слово. Я бы хотел стать первоклассным репортером вроде Дэвида Гарви.
— Ох! — отреагировала Джуин на фамилию Гарви.
— Есть плохая новость: с нами может поехать моя бабушка.
— Нет, нет и нет, Доминик. Плохая новость (я бы сказала — хуже быть не может) — это то, что я буду спать в одной комнате с Люси. Потому что, как ты, наверное, догадываешься, мы не очень-то дружны.
— Тогда спи в моей комнате! — великодушно предложил Доминик. — Со мной куда веселее, чем с моей сестрой-ябедой.
— Если мне придется выбирать из вас двоих, то Люси — даже Люси — предпочтительнее.
— Она едет, чтобы присматривать за нами, понимаешь? Не Люси, конечно, а моя милая, седая, старая бабуля.
— Насколько я вас знаю, ей будет чем заняться, — хладнокровно ответила Джуин.
Ну разумеется, она же почти не сталкивалась с Элеанор Гарви. Доминик объяснил ее спокойствие перед лицом такой ужасной новости тем, что Джуин не могла знать, как умела испортить любое удовольствие Элеанор Гарви.
— Это все из-за папы, — пожаловался он. — Он говорит, что у него много работы. И поэтому он останется исполнять свой отцовский долг дома.
— Как ему не повезло, — проговорила Джуин, беря в руки записку, лежавшую на стеклянном столике, — так и будет работать без нормального отпуска.
Ее мать, как сообщило ей послание, написанное закругленным уверенным почерком Элли, уехала в Тутинг. У Кейт срыв. Украли ее сумочку. Она в истерике. Срочная поисковая операция. Джуин должна сама сообразить, что поесть. В холодильнике салями, в морозилке тоже куча всего. Вечером ложиться, не дожидаясь Элли. Не кукситься. В конце записки улыбалась забавная рожица.
— Ну да, наверное, — ответил Доминик, удивленный тем, что Джуин увидела ситуацию с другой точки зрения. — Так как тебе кажется, а? Будут у нас игры и забавы? Спляшем ли мы с тобой шотландскую удалую? Доведется ли мне метнуть свой ствол[33]?
— Сомневаюсь, что ты сможешь его поднять, — немедленно парировала Джуин. И, кусая растягивающиеся в улыбке губы, положила трубку.
Маффи с развевающимся следом за ним поводком гонял по квартире. Джуин похлопала по ноге, и он тут же радостно примчался к ней.
— Нахал этот Доминик, — поделилась с ним Джуин, снимая с него ошейник. — Такой чудной. Никаких манер. Хотя, пожалуй, он все-таки не такой противный, как его сестра.
Ее желудок сообщил ей о внезапном и остром чувстве голода. До нее дошло, что за целый день она съела только кусочек тоста. Элли предлагала ей поужинать салями. Фу, гадость. Элейн Шарп разделяла еду на полезную и вредную в соответствии со своими собственными пристрастиями. Все, что ей нравилось, было полезно. А то, что не нравилось, — вредно. И тот, кто не желал есть «полезные» (в понимании Элли) продукты, просто капризничал. Или, как в случае с Джуин, «позерствовал».
Но Джуин не позерствовала, когда стояла перед зеркалом и, поднимая уголки губ, пыталась придать своему лицу более радостное, более оптимистичное выражение. «Я так несчастна», — сказала она, и ей захотелось пожалеть себя. Вот-вот могли политься слезы.
Но неожиданно и необъяснимо ее настроение улучшилось. К ней незаметно вернулась надежда — так же незаметно возвращается в замерзшие пальцы и покалывает под кожей тепло. А вместе с надеждой пришла уверенность, что все наладится. И что пройдет даже самое глубокое несчастье.
На экзамене она получит хорошие оценки. Она перейдет в следующий класс. Потом она запишется в летную школу и научиться летать.
А пока ей страшно хотелось есть. Она сходит в магазин и купит жареной рыбы с картошкой.
На официанте из Бангладеш была надета ослепительно белая куртка с золотыми пуговицами и золотыми же плетеными эполетами. «Новая форма. В морском стиле», — объяснил он с милой, тихой застенчивостью. Подавая меню, он тайком полюбовался своими накрахмаленными манжетами. Весь интерьер был переделан: устаревшие обои с ворсистым рисунком и плюш были содраны со стен, их заменили новомодные кремовые и зеленые панели в компании с ротангом. Потолочный вентилятор, подобно гигантскому блендеру, размешивал напоенный пряными запахами воздух. Но, несмотря на все эти реновации, ресторанчик по-прежнему оставался стандартной азиатской забегаловкой в центре города.
«Вот, значит, как, — говорила себе Наоми, подслеповато склоняясь над меню, чтобы скрыть досаду. — Мы бедны, совершенно бедны».
— Давай сходим куда-нибудь пообедать, — бодро предложил Алекс, когда говорил с ней по телефону сегодня после обеда. — Я угощаю. (Как будто могло быть как-нибудь иначе.)
— Замечательно, — ответила она, а ее мысли уже понеслись вскачь.
«Сан-Лоренцо», перебирала она названия. Или «У Дафны»? «Каприз»? «Яви»? «Куаглино»? (Нет, там они вряд ли достанут столик.) У Наоми почти никогда не было аппетита, и появившись, он быстро пропадал; еда ее почти не интересовала. Но она буквально питалась атмосферой таких мест, она ужинала их стильностью. Она наденет свою шелковую тунику от Феретти — одну из последних экстравагантных покупок, сделанных до того, как денежное обеспечение прекратилось. Волосы она уложит кверху с помощью множества маленьких гребешков. Как здорово будет снова очутиться в этом мире!
— Я буду дома к половине восьмого, — пообещал Алекс. И перед тем как положить трубку, заверил ее: — Я люблю тебя, — не беспокоясь о том, слышали его коллеги эти слова или нет, потому что какое ему до них было дело?
Она провела целые полчаса, изучая свои немногочисленные наряды, развешанные в чехлах по всей квартире на полках, дверях и крючках, поскольку негде было их хранить. Хозяин квартиры, парень по имени Гай, старый школьный друг Алекса, работающий в социальной сфере, на время уехал заграницу. Путешествовал Гай налегке, судя по огромному количеству свитеров, брюк, пиджаков, заполнявших все имевшиеся в наличии шкафы. И ко всем этим свитерам, брюкам и пиджакам Наоми испытывала те же чувства, что испытывает арендодатель по отношению к отказывающимся съезжать арендаторам.
«Мне совершенно нечего надеть», — паниковала Наоми, и ей действительно было нечего надеть — в том смысле, как она это понимала.
Принимая душ, она размышляла над тем, как изменился… нет, как «усилился» Алекс. После того как он при столь драматических обстоятельствах связал с ней свою судьбу, он все свои силы, все свои чувства стал направлять на их союз. Он остался таким же, каким был раньше, но в большей степени. Он стал проявлять по отношению к Наоми еще большую нежность, еще более глубокую любовь. Он улыбался с большей готовностью, смеялся громче, обнимал крепче, занимался любовью яростнее. А под всем этим Наоми ощущала цельную, непоколебимую, до сих пор не испытанную в деле волю. Все же в нем было что-то от Дэвида.
И значит, она была хороша для него, сделала вывод Наоми, вставая под слабую струю — жалкий ручеек, слишком тонкий, чтобы принять ванну с пеной (потребуется почти час, чтобы сполоснуть шампунь, чтобы смыть ароматные гели и лосьоны с рук, груди, спины). Значит, она могла поздравить себя с тем, что помогла ему выявить твердость характера, доселе скрытую.
— Мы пойдем в ресторан «Вице-король», — объявил Алекс, появившись три часа спустя в их временном пристанище, разгоряченный и румяный от поездки на велосипеде. Колеса велосипеда (купленного в комиссионке на сэкономленные на транспорте деньги) радостно жужжали, когда Алекс вел своего коня на место стоянки на маленькой террасе. — Они подают изумительную курицу по-индийски.
Наоми пересекла комнату, чтобы поздороваться с Алексом, еще одетым в черный велосипедный костюм из лайкры (обтягивающий почти до неприличия), и положила ладонь ему на затылок.
— О. А я думала, что…
Алекс целовался с уверенностью, которую она до сих пор ни в ком не встречала. Он ошеломлял ее, когда накрывал ее рот своим и буквально впивался в нее. И, наверное, к лучшему, что у Наоми не было ни возможности, ни дыхания, чтобы поделиться с Алексом своими планами провести вечер в более дорогом заведении.
А теперь ее чистые, блестящие волосы пропахли запахами индийской кухни (уже ночью, зарываясь лицом в подушку, она будет улавливать запахи чили, тмина, кардамона и, сбитая с толку, будет видеть странные, заграничные сны). Пары, поднимающиеся от шипящих блюд, проплывали мимо нее, оседая на шелковую тунику и впитываясь в ткань. Наоми чувствовала себя бесконечно глупо и излишне разряженно. Хуже того, у нее складывалось ощущение, что ее саму коптят и что она выйдет отсюда цвета одного из этих цыплят, что то и дело проносили мимо ее уха.
Но вот Алекс проговорил:
— Ты сейчас выглядишь красивее, чем когда-либо. — И вполне вероятно, что так оно и было.
Со слегка озадаченным видом она отложила меню, и Алекс взял ее за запястье, развернул ладонь кверху и, нахмурив лоб, стал всматриваться в хитросплетение линий, будто пытаясь прочитать по ним ее судьбу.
«Я пропал, — осознал он благоговея, когда Наоми подняла на него свои сияющие глаза. — Я полностью в ее власти».
Наоми верно определила, что он обнаружил в себе неведомую ранее смелость и решительность. И только благодаря ей смог он выбраться из западни. Если бы не Наоми, он так бы и сидел дома с милой, верной Кейт, так бы и высматривал свою Наоми, выжидая, когда же начнется настоящая жизнь.
От ощущения того, что жизнь его наконец началась, да еще с таким шумом, у Алекса кружилась голова. Он сам себе напоминал человека, который вспрыгнул на подножку набирающего скорость вагона и, прислушиваясь к пронзительному гудку локомотива, задался вопросом, куда же идет этот поезд.
К радостному возбуждению примешивались страшнейшие угрызения совести. Алексу мучительно было вспоминать смятение, в котором они двое покинули Лакспер-роуд, то, как они запихивали в такси все, что смогли унести в руках. (Треск вешалок, скрежетание чемоданов по гравию до сих пор звучали в его ушах.) Одно дело — убежать из дома куда-то в ночь под воздействием гнева, и совсем другое — сохранять позу оскорбленной праведности.
Алекс отлично представлял, как его мать, бесконечно тоскуя, будет бродить по дому. Когда она будет проходить мимо его комнаты, зеркало шкафа покажет ей — криво и злобно — разгром, оставленный там после их с Наоми отъезда: ящики комода выдвинуты, кровать не заправлена. Он испытывал к матери огромную нежность, и сердце его болело за нее.
Однако с Кейт все будет в порядке. Она привыкнет. Ему нужно только верить в это и в свою честность. Время докажет Кейт, что его любовь к Наоми Маркхем истинна и постоянна. Время сделает все возможным. И время в конце концов воссоединит их.
— Может… — отважился произнести Алекс приглушенным, уважительным, ресторанным голосом, которому он научился у Кейт (ни одно слово их разговора, пусть самого незначительного, не должно было достичь ушей сидящих за соседними столиками людей).
— Что? — Наоми улыбнулась этому знаку интимности.
— Может, возьмем пару лепешек?
Алекс сделал знак официанту, и Наоми засмеялась от внезапного ощущения легкости и свободы. Здесь было куда веселее, чем среди воображал в скучном «Куаглино».
— Все, что хочешь, — ответила она. — Давай ты сделаешь заказ, хорошо? Потому что я не большой знаток индийской кухни.
— Пиво? Нет, вино. Будешь вино? Мне кажется, нам есть что отпраздновать. Все складывается так хорошо. Тебе позвонил твой агент. А про нашу будущую квартиру мне сообщили, что мое предложение устраивает продавца. Они хотят провести сделку как можно скорее. И скоро мы переедем на Чаффорд-роуд.
— Отлично.
— Ты не рада? — Алекс заподозрил, что Наоми не до конца разделяет его чувства.
— Рада. Очень рада. Правда, Алекс, я в восторге.
— Это будет наш с тобой дом.
— Разумеется.
Из настоящего дворца в зеленом Сент-Джонсвудсе — в одноквартирный домик в Тутинге, а оттуда — в длинную и узкую квартиру на Чаффорд-роуд. Как тут не радоваться?
Алекс мрачно посмотрел на нее:
— Наоми, ты обещала, что наша нищета не будет тебя беспокоить.
— Меня это не беспокоит. Ну, может, только слегка. — Она взяла вилку и стала водить ею по скатерти. — Прости меня, малыш. Я хочу быть с тобой, хочу создать для тебя дом.
Разве этим она должна была заниматься? Создавать дом? В тот момент ни одному из них это не показалось подходящим времяпровождением для Наоми. Хотя ей придется найти себе какое-то занятие. Но что она могла делать?
Испытывая неловкость за столь вероломные мысли, Алекс все же попытался прикинуть, каковы были возможности Наоми. Их было удручающе мало. Насколько он мог судить, ее положение было не хуже и не лучше, чем положение среднестатистической избалованной девушки, которая в ожидании замужества или получения наследства вынуждена где-нибудь работать. Как эти девушки, имея в своем активе лишь симпатичную мордашку и умение общаться, умудрялись зарабатывать на жизнь?
Некоторые из них работали нянями, но эта работа была определенно не для Наоми Маркхем. Или они сидели в художественных галереях, принимали деньги от покупателей, наклеивали на картины яркие стакеры, чтобы показать, что они проданы. Или они со скучающим видом стояли за прилавком модных бутиков и магазинов итальянской мебели. Или они называли себя дизайнерами интерьеров. Честно говоря, Алекс не мог представить Наоми ни в одной их этих ролей.
Наоми же не строила никаких планов на то, что оставалось от лета, кроме того, чтобы выходить на улицу, когда позволяла погода, и загорать. И менее всего ее интересовало создание дома. Но она заметила задумчивость Алекса и догадалась о ее причинах.
— Я тоже буду помогать, — просто предложила она, — когда мой агент найдет для меня работу.
Алекс, так старавшийся придумать, чем бы она могла заняться в качестве второй карьеры, понял, что, оказывается, Наоми считала, что она может продолжить свою первую карьеру, что в модельном бизнесе у нее все еще были перспективы.
— Конечно. — Он улыбнулся ей со щемящей нежностью.
Наоми была так органично женственна. Это, наверное, было сейчас не в моде и бросало вызов феминизму, но такие женщины всегда были и всегда будут. И они сами ничего не могли с этим поделать; они будто имели дополнительный хромосомный компонент — лишнюю Х-хромосому.
Наоми была из тех женщин, которые никогда не полнели, не храпели, не рыгали, не испускали газы, не потели, не свистели, не занимались контактными видами спорта, не пили в барах и не отпускали непристойных шуток. Она никогда явным образом не инициировала секс, хотя, скромно потупив глаза, могла побудить мужчину предпринять соответствующие действия. Пешком она не смогла бы уйти далеко, сила ее бицепсов была достойна сожаления. При виде пауков она дрожала, визжала при одной мысли о мышах, прикрывала рукой глаза, отгораживаясь от ужасов жестокого фильма. Глаза ее частенько бывали на мокром месте. И не более чем лилия смогла бы принять обличье колючего утесника, могла Наоми уподобиться резкой, яркой Элейн Шарп.
«Я что-нибудь придумаю, — поклялся себе Алекс, — я найду для нее выход». Он собирался нежно, но твердо наполнить ее существование большим смыслом. Он не планировал бесконечно обеспечивать ее, держать дома, потакать ее инфантильности. Его намерением было эмансипировать ее, насколько это было возможно. Алекс догадывался, что это будет нелегкой задачей, но, основываясь на своей непоколебимой вере в ее природное совершенство, не сомневался в успехе.
— Сегодня я разговаривал с Кейт, — признался он Наоми.
Наоми потянулась к корзинке с лепешками, отломила кусочек беспокойными пальцами.
— Как она?
— Нормально. Она как раз собиралась в магазин.
Сам Алекс черпал в таких бытовых мелочах уверенность в том, что Кейт держится, что она может позаботиться о себе. Он даже воображал, что, отправившись в универсам, она побалует себя козьим сыром или бутылкой хорошего вина.
— А она?..
— Говорила о тебе? Нет, во всяком случае, не явным образом.
Под высокими скулами Наоми были соблазнительные впадины. Сжав их большим и указательным пальцами, Алекс мог бы повернуть ее лицо к себе и таким образом добиться, чтобы она не просто посмотрела на него, но и отдала ему все свое внимание. Он как раз собирался так и сделать, но в этот момент у их столика появился официант.
— Вы определились с вашим выбором, сэр?
— Спасибо, — рассеянно ответил Алекс.
Да, со своим выбором он определился.
— Она навела на него какие-то чары, — сказала Кейт.
Казалось, что после того, как здравый смысл столь безжалостно подвел ее, она перестала вовсе руководствоваться им. Она сидела на полу, куда ее теперь естественным образом притягивало, прижавшись к ручке дивана и сиротливо обхватив себя руками.
— Знаешь что, — вспылила Элейн Шарп, открывая окно, чтобы выпустить на улицу остатки дня и впустить не приносящий свежести вечер, — иногда ты несешь полную чушь. — Она ходила по комнате — взад-вперед, туда-сюда, — ненадолго приостановилась у каминной полки, взяла в руки фотографию Элеанор Гарви, подержала ее не более секунды, потом поменяла ее на слоника из пальмы. — Наоми — красивая, зрелая женщина, вот в чем все дело. А Алекс — нормальный, гетеросексуальный парень, у которого кровь в жилах, а не вода (хорошо, что такие мужчины еще существуют). Мальчишка потерял голову. Разве можно винить его за это? А Наоми лестно его внимание, ей тоже ударило в голову. Так постарайся мыслить разумно. Прояви каплю понимания. И не мешало бы тебе заняться хозяйством. Ты совершенно запустила дом. Это же настоящий свинарник. Розы уже давным-давно засохли. И здесь, взгляни только… — Она провела пальцем по полке, чтобы показать Кейт, как он запачкался от накопившейся там пыли.
— Некоторым приходится самим вести домашнее хозяйство, — парировала Кейт, — и не всегда на это хватает времени. Не у всех в доме есть рабы.
— Ты имеешь в виду Тревора? Так от него одно беспокойство, а не помощь. Он только и делает, что засасывает в пылесос ценные вещи да засаливает лестницу.
— Так зачем же ты его держишь?
— Вполне вероятно, что я его скоро уволю. Найму какую-нибудь маленькую бабулю вроде миссис Мопп у Джеральдин.
— Миссис дю Слак, — едко заметила Кейт, — с трудом можно назвать «маленькой бабулей».
Это верно. Но Элейн, называвшая людей словом «маленькая» только для того, чтобы принизить их, чтобы указать на их место на социальной лестнице, не стала объяснять всего этого Кейт. Вместо этого она провозгласила:
— Тебе нужен отпуск. Ты ужасно бледная.
— Я уже была в отпуске. Мы ездили в…
«Бретань», — вспомнила она. На Троицу. Она ездила с Алексом. Погода была хорошая. Они сидели на приморском бульваре, обдуваемые соленым морским ветром, щурились от света, ели мидий, пили бледное французское пиво. Она тогда обгорела под обманчиво мягким солнцем. Казалось, это было в прошлой жизни.
— Ты слышала, что я еду в Италию? В Тоскану, с целой толпой больших шишек из газеты.
— Да, ты говорила. И не один раз. И, насколько я помню, ты бросаешь Джуин на Горстов.
— Не бросаю. Она сама хочет поехать с ними в Шотландию. Ей тоже неплохо бы сменить обстановку. Все эти передряги с Алексом совсем ее подкосили.
Подкосили ее? Кейт рассмеялась — безрадостно, желчно.
— Она в отчаянии, понимаешь. Она ведь без ума от твоего сына. И нечего валить все на Джуин. Нет смысла убивать почтальона. Она же приехала к тебе с добрыми намерениями, глупая девица. Ей казалось, что она делает тебе одолжение.
— Одолжение! Если бы я не узнала…
— Блаженны несведущие, да?
— Да, может быть и так.
— И ты думаешь, что тогда все было бы в порядке? Алекс трахал бы Наоми, пока у той мозги не вышибло бы, а ты бы занималась своими делами, собирала бы розовые бутончики, общалась бы с пернатыми друзьями, с мохнатыми зверюшками. А меня звали бы Поллианна[34].
— Не понимаю почему…
— Ты — черствая женщина, Катарина Перкинс. И нетерпимая.
— А ты считаешь, что я была должна благословить их?
— Я считаю, что не надо было делать из этого такое горе. Она ведь не с мужем твоим переспала.
Кейт молитвенно сложила руки и послала небу мольбу о терпении и мужестве.
— Пусть бы она переспала с моим мужем, — проговорила она бесцветным голосом. — Почему бы и нет? С ним все спали. То, что Наоми сделала, гораздо, гораздо хуже. Этого я простить не могу.
— Опять двадцать пять. Ты ведешь себя глупо.
Вспомнив о Дэвиде, Элли повернулась к зеркалу и провела рутинный осмотр шеи, груди, ключиц. (Перед хорошей ключицей никто не устоит.) Отражение в зеркале смотрело на Элли с одобрением. «Не все, Кейт Гарви, — думала Элли. — Я не спала с твоим мужем. Пока не спала».
— Так, ты иди в ванную и умойся, — вновь оживившись, сказала она Кейт, как говорят восьмилетнему ребенку. — От слез у тебя все лицо распухло. А я пока приготовлю нам что-нибудь поесть.
«Властная сучка», — подумала Кейт, но тем не менее послушно поднялась на второй этаж. Она набрала в раковину воды, поводила в ней руками, посмотрелась в зеркало, которое подтвердило слова Элли: распухшее лицо выглядело ужасно.
Какое ей до этого дело? Да никакого. И раз никому другому до этого тоже не было никакого дела, то и ей не стоит даже думать об этом.
Но минуточку, это не совсем справедливо. Элли ведь побеспокоилась, пусть и в своей грубой манере. И нельзя забывать, что она по первому зову Кейт помчалась через весь Лондон, забрала ее с парковки возле универсама, снабдила ее салфетками и, наконец, заплатила за покупки, погрузив их в большую, жизнеутверждающую тележку.
Элли отвезла Кейт домой и при этом ехала медленно, а не так, как это было ей свойственно: постоянно сигналя, цепляясь за все бампером, подгоняя других водителей и пешеходов. Она нашла под перевернутыми цветочными горшками запасной ключ от входной двери, отчитала подругу за полное пренебрежение мерами безопасности (Кейт страшно повезло, что ее до сих пор не убили в собственной постели). Элли заблокировала кредитные карточки Кейт и вызвала слесаря, чтобы тот поменял замки, из опасения, что вор, имевший в своем распоряжении и ключ, и адрес, мог наведаться и на Лакспер-роуд. Потом Элли вместе с Кейт и запасным ключом от машины вернулась на место преступления, организовала замену разбитого стекла, дала денег, чтобы заплатить за парковку.
Она положила вино в морозилку охлаждаться; она поставила замороженную мусаку в духовку разогреваться. Она заставила Кейт выпить стакан теплого молока с бренди, а потом, исключительно чтобы поддержать компанию, и сама опрокинула пару рюмочек бренди (без молока).
Элли призвала всевозможные проклятия на голову воришек, которые так жестоко обошлись с ее приятельницей: теперь им предстояло мучиться в аду до скончания веков. Она до сих пор оставалась с Кейт и сейчас распевала во весь голос (что-то лирическое, невероятное о девственнице, к которой прикоснулись в первый раз в жизни), подливая в салат чесночный соус. Так спасибо тебе, Господи, за то, что была на свете такая Элейн Шарп.
— Лучше? — поинтересовалась Элли, когда десять минут спустя Кейт появилась на кухне успокоившаяся, присмиревшая и умытая, в чистой футболке и джинсовой юбке.
— Угу.
— Так глотни же этого вина, будь умницей. И не смей… — Элли шлепнула по руке, потянувшейся к салату, — кусочничать, пока не сели за стол.
— Слушай, я вдруг ужасно проголодалась. А ведь все эти дни у меня совершенно не было аппетита.
— Ты должна следить за собой. Корми и пои себя. Подкрепляй себя вином, освежай себя яблоками[35]. Лично я так и делаю. Потому что, если честно, превратившись в тень, ты ни на кого не произведешь большого впечатления.
— Дело не во впечатлении.
— Вот, держи. Попробуй-ка оливки. Молодец. Черные самые вкусные. Я только что съела одну. Аромат такой же, как у формы футболиста.
— Элли, в самом деле. — Кейт с отвращением выплюнула в ладонь оливку.
— Благоприобретенный вкус, я полагаю. А вы с Алексом общаетесь?
— О, ежедневно, — сказала Кейт с нескрываемой горечью. — Он ведет себя в высшей степени добросовестно.
— Бедный, славный мальчик. Ты, должно быть, с ним крайне сурова.
— Я и не хочу быть суровой, — призналась Кейт. Она рискнула попробовать зеленую оливку, вкус которой к счастью был слегка лимонным и не напоминал о футболе. — Я каждый раз говорю себе: «Будь ласкова». Но как только я слышу его голос, во мне сразу поднимается все плохое.
— Надеюсь, ты не собираешься расплакаться? А то тогда я не смогу нянчиться с тобой. Терпеть не могу, когда люди жалеют сами себя. И ты уже истратила салфетки на сопли.
— Нет, я не собираюсь плакать. Я уже все слезы выплакала. Забавно, но эта кража в каком-то смысле послужила для меня…
— Слабительным?
— Хм.
— Уже хорошо.
Кейт подобрала с пола кухни Пушкина, уселась на стул с котом на коленях и прижалась щекой к его пушистой голове. Кот некоторое время не сопротивлялся, потом напряг все свои силы и выбрался из ее объятий.
— Что же мне делать, Элли?
— Делать с чем? — Сильными зубами Элли сорвала фиолетово-коричневую мякоть с оливковой косточки.
— С собой. И с Алексом и Наоми. Может, мне надо соблюсти правила приличия? Пригласить их на ужин? Сходить с Наоми в магазин и помочь выбрать занавески? Следует ли мне вести себя с ними так, как будто они обычная парочка?
— В настоящее время я бы остереглась. Эй, а это винцо вполне ничего. Ты совсем не пьешь. Попробуй, что ты сидишь? С ним ты пустишься в пляс. Нет, серьезно, пока я не стала бы ничего делать. Ну, может, только наладь свою личную жизнь. А если Наоми попытается обращаться с тобой как со свекровью, шлепни ее как следует.
Элли закурила сигарету и тут же загасила ее в пепельнице. Она открыла дверцу духовки, заглянула внутрь. Ее тонкие светлые волосы колыхались в потоке горячего воздуха; когда она поднялась, ее лицо горело румянцем.
— Там настоящий ад, — доложила она. — Скопления древнего жира. Ты что, никогда не слышала о нашатырном спирте? Слышишь, стучат: тук-тук.
— Кто там? — несколько неохотно подхватила Кейт.
— Нашатырный спирт.
— Ну, продолжай. Какой нашатырный спирт?
— Я птичка-нашатыричка в золоченой клетке. Мусака отлично подрумянилась. Люблю, когда корочка хрустящая. Да, так я тебе говорила, что ты должна определиться со своей жизнью. Взгляни на эту ситуацию как на новую возможность. С рождением и воспитанием ребенка ты закончила. Обязанностей больше нет, ты свободна поступать как хочешь. Небо свидетель, да я жду не дождусь, когда скину наконец Джуин со своей шеи.
— Бедная Джуин.
— Так вот как, теперь ты говоришь «бедная Джуин». А несколько минут назад у тебя для нее ни одного доброго слова не находилось.
— Ну да, я сердилась на нее. Но все равно Я считаю ее славной девочкой.
— Славная, как же. Я бы с такой уверенностью не утверждала. Если быть честной, она тупица и все такое… То есть я боготворю землю, на которую ступала ее нога, но как же она мне мешает.
Кейт задумчиво смотрела на приятельницу. По-видимому, та оставила дом в спешке и поэтому на ней было только нижнее белье — потому что наверняка поверх этой маечки нужно надевать что-то еще. Страшно даже подумать, как Элли будет себя вести, когда не будет у нее дочери, критикующей ее вид и поведение, когда не останется родительских обязанностей и связанных с ними ограничений.
— Как ты думаешь, он вернется?
— Если бы я была на твоем месте, то не знаю, приняла ли бы я его назад.
— Я не это… — Кейт имела в виду нечто более абстрактное, более эмоциональное, чем просто географическое местонахождение. Она хотела знать, вернется ли Алекс к ней душой.
— Ты можешь сдать его комнату. Возьми себе постояльца.
— Ни за что в жизни.
— Таким образом ты могла бы встретить Того Самого Мужчину.
— Элейн, ты знаешь, и я знаю, что такого зверя не существует.
— Значит, тем больше у тебя оснований подумать о своей собственной жизни и своем собственном удовольствии. Так, милая моя леди Гарви, а не оторвешь ли ты свою задницу от стула и не достанешь ли нам тарелки?
— Я совсем тебе не помогаю, да? Извини.
— Слушай, мне твоя помощь не нужна. Но сделай для меня одну вещь. — Элли оперлась руками о стол и наклонилась прямо к лицу Кейт.
— Все что угодно. Для тебя — все что угодно. Ты была так добра ко мне сегодня. Я просто хочу сказать… Честно, я… Я не забуду.
— Уф, хватит молоть ерунду. Я хочу, чтоб ты пообещала мне одну вещь.
— Что?
— Позвони Джуин, хорошо? Помирись с ней. А то эта курица несчастная съест себя заживо.
Глава шестая
— У туристов, отдыхающих на Средиземноморье, желудочные расстройства случаются в двадцать раз чаще, чем у тех, кто остается дома. В Южной Европе британский турист подвергался значительной опасности подхватить гастроэнтерологическую инфекцию, в том числе тифозную и паратифозную лихорадку. Были известны и летальные случаи.
— Неужели, — не поверила последнему утверждению Кейт, лишь одним ухом прислушиваясь к перечню возможных бед, а сама тем временем распутывала вьюнок, чуть не задушивший куст белой розы. Этот сорняк был таким упорным, таким неискоренимым! И какой пресной красотой были красивы его бескровные цветки-колокольчики! Они наводили ее на мысли о… той, чье имя не следует называть. — Италия далеко не страна третьего мира.
— Может, и так, — сказала Джеральдин, чья неуклюжая тень шла следом за трудолюбивой садовницей — по газону, по клумбам, потом перевалила через розы и — исчезла, поглощенная более мрачной тенью от забора. — Но я тебе говорю то, что прочитала. Факты, как они были напечатаны.
Когда Кейт приехала, она нашла свою родственницу на террасе, сидящей под зонтиком с бахромой у столика из кованого железа. Лето тяжелым бременем лежало на плечах Джеральдин (не следовало забывать, что она не очень-то любила жару). «Это, должно быть, тот самый хваленый садовый гарнитур», — подумала Кейт. Только ради такого гарнитура Джеральдин стала бы сидеть на улице под лучами яркого полуденного солнца.
Джеральдин питала слабость к наборам, она увлекалась комплектами. Труды Диккенса в одинаковых красно-золотых ливреях украшали книжный шкаф в гостиной. Маленькие столики на колесиках въезжали под более крупные столы, но такого же дизайна. Все кастрюли в ее кухне были из одного дорогого набора; яйцерезка, шумовка, половник и остальные кухонные приборы имели семейное сходство. Для Джеральдин комплектность была воплощением идеального уклада жизни. Еще маленькой девочкой она желтым карандашом написала Санта-Клаусу письмо, где сообщала о своем горячем желании иметь «гарнитур принцессы»; и если бы Санта-Клаус не подвел ее с доставкой того гарнитура, она обязательно стала бы принцессой.
Для Кейт, у которой не было двух одинаковых предметов (разумеется, кроме туфель и носков) и у которой, можно сказать, не было уклада жизни как такового, все это было предметом восхищения и поводом для депрессии. Кейт считала, что сама она никогда не сможет купить всего Мантовани[36] одной коллекцией.
Как только Кейт появилась сегодня на террасе, Джеральдин поднялась со стула и затем ходила следом за подругой, непрерывно болтая. Кейт она всегда казалась исключительно бездеятельной персоной, которая целыми днями почти ничего не делала. Обычно ее можно было найти устроившейся в кресле, но при этом она каким-то образом умела создать такое впечатление, как будто она присела лишь секунду назад, обессиленная бесконечными трудами.
Джеральдин же измеряла свое трудолюбие количеством эмоциональной энергии, которую она тратила на выполнение простейшей задачи. К любому делу она приступала с массой ненужных предосторожностей, истощая себя бестолковыми опасениями, во всем видя трудности и тратя время в нерешительности, так как не умела сделать выбор, жадная до результата, и волнуясь больше всего о том, какое впечатление она произведет. Для человека более легкого, чем Джеральдин Горст, жизнь Джеральдин Горст показалась бы гораздо более легкой.
Хотя до поездки в Шотландию оставалось еще три недели, Джеральдин уже с головой погрузилась в приготовления — как психологические, так и практические. Она делала многочисленные предположения, строила бесконечные планы, приступить к осуществлению которых она сможет только в последнюю минуту. Бесполезно, например, было заправлять бензином бак автомобиля или паковать зубные щетки детей: приходилось ждать, а от ожидания Джеральдин становилась раздражительной. А еще она составляла списки. Списки списков. То, что она не могла сделать немедленно, ей обязательно нужно было распланировать. И не должно было быть никаких случайностей, которые она бы не предвидела. От такого объема мыслительной работы порой она чуть ли не заболевала.
Прошлым вечером она совершенно случайно наткнулась на журнальную статью, где описывались опасности путешествий. Она прочитала ее с жадностью, ужасно недовольная тем, что отпуска других людей бывали еще более чреваты невзгодами. И ее разочаровала информация о том, что шистозома кровяная, лихорадка денге и желтая лихорадка не были характерны для материковой Европы, а также что малярия встречалась только в тропиках, тогда как ядовитая рыба-камень, искусно притворяющаяся обломком скалы, показывала свои фокусы только в Индийском и Тихом океанах.
— Так или иначе… — Стоя на коленях, Кейт откинулась назад, чтобы вытащить из земли длинные пряди сорняков. Против своей воли она восхитилась живучестью и цепкостью вьюнка. — В любом случае, Джеральдин, вряд ли Элли окажется близко к морю. Ее приглашают на виллу, от которой до берега не меньше мили.
Но оказалось, что опасность представляло не только само Средиземное море (хотя нельзя забывать, что оно кишело бактериями и несло ответственность за множество случаев диареи). Не только моллюски, вылавливаемые из моря сетями. Оказалось, что и рис был носителем заразы, и водопроводная вода, а также салаты, свежие фрукты, непастеризованный сыр…
— И вообще я не стала бы сильно переживать, — решила Кейт. Она предполагала, что любая уважающая себя кишечная палочка, очутившись во внутренностях Элейн Шарп, немедленно извинится и уберется восвояси. Естественным состоянием Элли было крепкое здоровье. — Полагаю, Элли выживет.
— В этом я не сомневаюсь, — немногословно ответила Джеральдин, уязвленная дерзким тоном Кейт. — Я только хотела сказать, что ей следует захватить с собой достаточно «Иммодиума».
— Скорее «Алказельцер». Это будет более уместно. Я имею в виду — наутро после того как, если ты сразу не догадалась.
Джеральдин раздраженно фыркнула и промокнула нос уголком кружевного платка. Мысленно она извинила Кейт, напомнив себе (с трудом), что та все еще слегка не в себе, что ее ум еще расстроен после шока, вызванного связью Алекса и Наоми. Интересно, что там у них происходит? О таком не порасспрашиваешь. И Джеральдин пришлось удовлетвориться простым вопросом:
— А как ты сама, Кейт?
— Сама? — Кейт с выражением глубочайшей сосредоточенности на лице, закусив губы, намотала стебли вьюнка жгутом на руку, потому что пальцы не справлялись, и дернула. Вьюнок не поддался. — Да вроде нормально.
И в каком-то смысле так оно и было. По крайней мере, она чувствовала себя лучше, чем раньше. Некоторое время после отъезда Алекса она, казалось, притягивала к себе всевозможные несчастья, в череде которых пропажа ее сумочки на парковке возле универсама было не первым и не последним. Что это, плохая карма?
Сумочку так и не нашли, да Кейт и не думала, что найдут. Сумочка, со всем ее драгоценным содержимым, была утеряна навсегда. И хотя все замки в доме Кейт были поменяны, ей все-таки были тревожно думать, что где-то кто-то — очевидно, не очень хороший кто-то — знал, кто она такая и где можно ее найти.
Страховые компании привели множество доводов, почему они не должны были выплачивать ей страховку. Внимание Кейт привлекалось к тем или иным параграфам контрактов. В общем и целом они сводились к тому, что район Лакспер-роуд был зоной повышенного риска. Другими словами, жить по адресу Лакспер-роуд, дом двадцать восемь, было рискованно.
И еще Кейт пришло письмо от общества содействия жертвам преступлений: значит, Кейт Гарви официально признавалась жертвой.
Какие-то добрые люди из регистрационного центра, предполагая ее скорую гибель, прислали ей вместе с новыми водительскими правами письмо с просьбой пожертвовать внутренние органы науке.
После чего, как и следовало ожидать, засорился бойлер. Первый сантехник взял с нее двойную цену и не справился с задачей. Второй сантехник, когда наконец материализовался, запросил еще больше и сделал дело только наполовину. Беда одна не ходит, безропотно смирилась со своей судьбой Кейт.
Примерно тогда же позвонила Элли — несомненно, из самых добрых побуждений, — чтобы порекомендовать Кейт некую службу знакомств, о которой очень высоко отзывались. И хотя сама Элли не могла подтвердить это собственным опытом, она точно знала, что некоторые клиенты агентства были весьма довольны результатами. И Кейт совсем не обязательно было реагировать с такой резкостью. Разумеется, услугами агентства пользовались не только жалкие неудачники; оно существовало не только ради социальных отщепенцев. Ведь были же вдовцы и разведенные; менеджеры высшего уровня, слишком занятые, чтобы организовывать романтические свидания; люди, склонные к одиночеству, вроде Кейт — все они в высшей степени уважаемые и достойные кандидаты в супруги, но при этом хотят или вынуждены прибегнуть к помощи посредников. (Ну, разумеется, Элли и сама попробовала бы разок позвонить в одно из таких агентств, но она и без того была по уши в интересных мужчинах.)
И все же обид, оскорблений и неприятностей стало меньше; и легче стало переносить постоянную, неутихающую боль. Гнев Кейт теперь проявлялся по большей части ночами, когда ей снилось, что она, несправедливо обвиненная или обиженная, орала до хрипоты (а потом просыпалась вялая и обессиленная, мокрая от слез, гадая, не кричала ли она вслух).
Кейт склонилась к розовому кусту, уткнулась лицом в крупные бутоны, как будто это была кислородная маска, и глубоко вдохнула их медовый аромат. Потом чихнула, сказала сама себе: «Будь здорова», а Джеральдин с долей самоиронии:
— Элли пристает ко мне, чтобы я снова вышла замуж, если, конечно, найдется мужчина, который на это согласится.
— А что, неплохая мысль. Совсем неплохая. Вы с Дэвидом не подходили друг к другу. Это было ошибкой. Но ведь вы были так молоды. И, разумеется, где-то… — рука Джеральдин описала широкую дугу: очевидно, подразумевались все четыре стороны света, — найдется мужчина… Как говорится, у каждого есть своя половинка.
— Кто знает. И вряд ли я стану специально заниматься поисками. И я должна тебе сказать, что быть одной тоже интересно. Раньше я, конечно, оставалась одна, но на короткое время. Когда Алекс ездил кататься на лыжах с друзьями, например, или на экскурсию в Германию с классом. Но тогда я всегда знала, что он скоро вернется. Это было временное одиночество, и я пользовалась им, чтобы спокойно убраться в его комнате. А теперь вдруг… понимаешь? Я не вижу этому конца.
— Да, понимаю… — Но интерес Джеральдин, и с самого начала не очень живой, уже начал угасать, сменяясь пустотой. — Приготовлю-ка я нам… — пробормотала она.
— Чаю?
— Ах да, чаю. — И она пошла к дому, потянув за собой свою тень — слабую и безвольную.
— Наверное, у тебя с Алексом и раньше бывали проблемы? — спросила она у Кейт, когда пять минут спустя та вошла в дом. — Например, когда у него был этот «трудный возраст»?
«Как будто у него был трудный возраст!» — подумала Кейт. Он всегда был очень умным, всегда нравился людям, в любом деле на него можно было положиться. С одной стороны, у него были десятки друзей, а с другой — он мог с головой уйти в чтение или с удовольствием заняться чем-нибудь в одиночестве. Алекс преуспевал и в спорте, и в творчестве. Он стал взрослым, обрел взрослую сексуальность также безболезненно, как вырастают животные — минуя каким-то образом переходный возраст и связанные с ним трудности. Так что нет, проблем с ним у Кейт не было. Однако она не стала возражать и лишь качнула головой на пути к раковине. Намыливая руки, смывая грязь, она вдруг горько пожалела, что проблемы с ее сыном не возникли много лет назад, в положенное время, а лишь много позднее, когда пособия и учебники уже ничем не могли ей помочь.
— У меня с Домиником то же самое. Мне кажется… Я очень беспокоюсь. Он проявляет неестественную озабоченность сексом.
— Джеральдин, — сказала Кейт, вздыхая над собственным горем, — в семнадцать лет озабоченность сексом — это самая естественная вещь на свете.
— Но понимаешь, он только об этом и говорит!
— Постарайся понять, что…
— Это похоже на зависимость. Кажется, в медицине есть такое понятие. Это лечится. Существуют специальные клиники.
— Чепуха, — усмехнулась Кейт. Она вспомнила времена, когда в так называемых «специальных клиниках» лечили неприличные болезни. Она вспомнила, как Дэвид… как ей самой пришлось сидеть в мрачной приемной, рядом с другими пристыженными женщинами, под плакатом, предупреждающим об опасностях заражения гонореей. — Ты читаешь слишком много журналов, — добавила она.
— К тому же… — Джеральдин не могла подобрать слов, чтобы передать чувство собственного бессилия, ощущение, что все эти годы неустанного выполнения родительского долга и деньги, потраченные на образование, — все было напрасно. Но о бессилии Джеральдин красноречиво свидетельствовали разведенные в стороны руки.
Кейт вытирала руки бумажным полотенцем, стараясь не поддаться соблазну пожалеть это бестолковое создание.
В Джеральдин жила маленькая девочка, которая проявляла себя только время от времени — в моменты раздражения или недовольства. В таких случаях лицо Джеральдин морщилось, и вся ее претенциозность, вся хитрость исчезали, уступая место одной-единственной, очевидной уловке ребенка, который стремился заслужить похвалу матери. Смотреть на это было неприятно, и поэтому Кейт постаралась переключить внимание на что-нибудь еще. Она судорожно озиралась вокруг себя, оглядывая хорошо оборудованную кухню, оформленную в деревенском стиле, хотя здесь не было тех неудобств, которые подразумевала жизнь в деревне.
— Я убеждена, — сухо сказала она, — что с возрастом это пройдет. Вот увидишь.
— Джон мне совсем не помогает. Он не хочет вмешиваться и все, что я ему говорю, пропускает мимо ушей. Это сводит меня с ума.
— Может, ему кажется, что чем меньше сказано… — Кейт подошла к Джеральдин, оттеснила ее от плиты и, когда вода в чайнике забулькала, заварила чай. — Может, Джон считает, что, привлекая столько внимания к проделкам Доминика, ты только подзуживаешь его к тому, чтобы вести себя еще хуже.
В глубине душе Кейт винила саму Джеральдин в отстраненности мужа. На всем протяжении их семейной жизни Джеральдин отодвигала Джона на второй план, и теперь у нее не было оснований жаловаться на то, что его вполне устраивало такое положение дел.
— Я тебе уже говорила, что мама согласилась поехать с нами в Шотландию? — Джеральдин справилась с собой, к ней вернулось ее самообладание, и она заговорила вежливым, светским тоном.
— Нет. — Кейт собрала поднос и перенесла его на кухонный стол. По отношению к Элеанор Гарви она испытывала такое отвращение, что не могла бы представить себе более неприятной спутницы для двухнедельного путешествия. Нотки же подобострастия и благодарности, прозвучавшие в голосе Джеральдин, не оставляли сомнений в том, насколько сильно дочь до сих пор зависела от матери. — Должно быть, ты очень этому рада, — выдавила Кейт сквозь зубы.
— Ну, и ей не мешало бы немного отдохнуть.
— Разумеется.
— И мне понадобится ее помощь. — Джеральдин совершенно не понимала, что значит «развлекаться», это понятие было ей недоступно, но сейчас она приняла возбужденно-радостный тон. — Она поможет мне справиться с подростками.
— Значит, все складывается удачно.
Полная Джеральдин, пыхтя, уселась и принялась обмахивать лицо.
— Ты не думаешь, Кейт, что сейчас довольно жарко? Может, нам следует полить газон?
— Может, «нам» и следует.
— А к нашему возвращению из Шотландии уже вернется Дэвид. Я так жду этого.
Кейт поднесла чашку к губам и отпила. Горячая жидкость обожгла ей язык, на глазах выступили слезы.
— Да, — согласилась она с глубокой иронией, — я тоже очень этого жду.
_____
— Знаешь, Джуин, — сказала миссис Флауэрс, — потом ты пожалеешь о том, что в юности не одевалась красиво.
— Вам ведь одну ложечку сахара? — спросила Джуин ровным голосом. За те десять дней, что она ходила сюда, она постаралась выучить, кто что предпочитает: чай или кофе, с сахаром или без, крепкий, слабый или «как получится». К замечаниям она старалась относиться спокойно. Юность Мэйбел Флауэрс пришлась на годы шелковых чулок, французских панталон, жоржета и искусственного шелка, шиншилловых боа и миниатюрных шляпок. Она работала швеей, одевалась в только что появившихся магазинах готового платья и мечтала о нарядах от Хартнелла, Мулинекса и Жана Пату[37]. И, разумеется, ей было не понять Джуин, одетую в байкеровские ботинки и черную футболку с загадочной надписью «Kurt Cobain RIP», Джуин с коротко остриженными волосами, выбеленными на концах, и (с субботы) с золотым колечком в носу. Мэйбел Флауэрс не могла понять, что для современных подростков такой внешний вид был… не красивым, конечно (кому это нужно — быть красивым?), но определенно крутым. Поэтому Мэйбел, считая, что девочке не помешает добрый совет, старалась помочь ей по мере своих сил. А Джуин, щадя чувства миссис Флауэрс, в ответ только улыбалась.
— Как ваше колено, миссис Солтер? — заботливо спросила Джуин, подойдя к другой старушке. — Опухоль спала? Вот ваш кофе. Молока я налила побольше, как вы любите. И без сахара, правильно?
Так ли уж это было странно — зарабатывать на карманные расходы подобным образом? Одноклассники Джуин, похоже, думали именно так. Они-то хотели подрабатывать в супермаркетах: принимать у покупателей кредитки, укладывать покупки в пакеты с деланным безразличием — вот это считалось классным в их кругах, а дома престарелых (Элли называла их «сумеречными» домами) были не для них. Ни за что!
Элли предсказывала, что дочь даже не пустят на порог подобного заведения, утверждая, что один вид Джуин доведет его обитателей до сердечного приступа. Так вот, эти прогнозы не оправдались. Заведующая домом престарелых миссис Саутгейт (сильная, деятельная женщина с резкими манерами и гладко причесанными волосами) коротко улыбнулась, затем ее лицо вновь приняло строгое выражение, потом она склонилась над письменным столом, сверилась со своими бумагами и спросила у этой странной девочки, когда та сможет приступить к работе. Должно быть, миссис Саутгейт сумела разглядеть за вызывающей внешностью сострадание и терпение — качества, редко встречающиеся в сверстниках Джуин. А может, в домах престарелых просто некому было работать.
Тот, кто назвал этот дом престарелых «Даунсайд-хаус»[38], очевидно, был совершенно лишен чувства иронии. В этом названии слышались отголоски величественных просторов Саут-Даунса, предполагался некий «rus in urbe»[39]. Но если urbe было очевидно, то элемент rus был представлен лишь крохотным газоном — несколькими квадратными метрами стриженой травы, окруженными автостоянками, — и двумя-тремя саженцами, которые так и не смогли стать деревьями. Даунсайд был современным, специально построенным кирпичным зданием, с пандусами для кресел-колясок и ограждением. Уныло? Когда привыкнешь, то не очень. Больше всего дом престарелых напоминал Джуин о школе, а к школе она относилась нормально.
В первый рабочий день Пегги Саутгейт нашла для Джуин халат по размеру.
— Да ты совсем худышка, — сказала Пегги и прищурилась оценивающе, прикладывая к плечам девочки самый маленький из застиранных халатов, а затем прочитала краткую лекцию. — Некоторые из жильцов нашего дома прошли через две мировые войны. Они растили детей порой в очень непростых условиях. Они прожили насыщенную, интересную жизнь. Всегда относись к ним с уважением. И не забывай, что для старого человека одно падение может изменить многое.
Это поучение было воспринято с пониманием. По крайней мере, Джуин его выслушала, а вот коричнево-оранжевый халат она наотрез отказалась надевать. И несмотря на то что миссис. Саутгейт строго относилась к подобным вещам, на это она закрыла глаза, поскольку девочка ей подходила. Дело в том, что у Джуин было время на стариков. Не много, но столько, сколько надо. Она не избегала их общества, как это бывает с людьми, которые боятся стать такими же старыми и немощными. Она была слишком юной и слишком здоровой, чтобы задумываться о том, что не всегда в ее распоряжении будет вся ее жизнь. А если и задумывалась, то предполагала, что это время наступит еще очень нескоро, и она успеет к этому подготовиться.
Ей не приходило в голову, что, когда эти женщины просыпались утром, они каждый раз заново осознавали шокирующий, непостижимый факт, что им семьдесят, восемьдесят, девяносто. Таким же шоком это будет и для нее. Возраст — эта самая жестокая шутка, которую природа сыграла с людьми; само это понятие оскорбляет вневозрастное «я». Джуин еще предстояло это постичь, а также понять, что она и они были на одном и том же расстоянии от смерти — то есть в одном шаге. Тем не менее она умела сострадать и была терпелива.
Поэтому обязанности Джуин не были ей в тягость, как могли бы быть, будь она менее чуткой. В том, чтобы проводить миссис Солтер в туалет и обратно или измельчить еду для обеих мисс Читти и Армитидж, не было ничего сложного.
— Не понимаю, как тебе не противно, — как-то раз поддела Элли дочь, — возиться с этими развалинами.
— Однажды ты тоже превратишься в развалину, — парировала Джуин. В отличие от своего будущего, будущее своей матери она смогла вообразить довольно легко.
— Боюсь, если Тревор будет продолжать в том же духе, то до старости мне не дожить. Этот мальчишка доведет меня до смерти.
— Не забывай, — нравоучительно произнесла Джуин, — что эти женщины прошли через две мировые войны. Они растили детей порой в очень непростых условиях. Они прожили насыщенную жизнь. Ты бы слышала, какие истории они рассказывают.
— А ты, жемчужина моего чрева, не забывай, что я — твоя мать. И веди себя со мной повежливей.
Прошлое подопечных Джуин действительно казалось ей яркой выдумкой. Вот и теперь она поставила тележку с чайными принадлежностями возле стены, поправила скамеечку для ног миссис Солтер, сама устроилась поудобнее и так заслушалась воспоминаниями о старом Ист-Энде, о блицкриге, что не заметила, как стала брать с тарелки и отправлять себе в рот хлебные корки, с которыми, очевидно, не справились чьи-то зубы.
Вера Солтер родилась в центре Лондона, то есть была истинной кокни и, следовательно, никогда не использовала в речи жаргонизмы или сленг. Яркие, подвижные глаза, морщинистая кожа еще более усиливали выражение напряженной концентрации внимания, и, казалось, ничто не могло остаться незамеченным ею.
У Мэйбел Флауэрс же, напротив, было гладкое, спокойное лицо и такие светлые глаза, что в некоторые моменты казались почти бесцветными. Время густо испещрило Веру знаками своего присутствия, но почему-то пощадило ее подругу. Но Вера и Мэйбел были неразлучны, хотя частенько спорили друг с другом, и каждое чаепитие посвящали, как сегодня, перебранкам и воспоминаниям. Несогласие объединяло их и заставляло жить дальше.
— Четыре купона за нижнюю юбку или пару белья, — сказала Мэйбел Флауэрс, размышляя о невзгодах военного времени. — Корсеты по три купона за штуку. Платье — семь купонов. Ни вышивки, ни декоративной строчки. Ни сантиметра лишней ткани на широкие рукава или подгибку.
— А мне кажется, — вставила Джуин, — что вполне можно обойтись и без корсета.
— О, моя дорогая, нет, это было невозможно — появиться на людях без грации.
— Но на подвязки почему-то купоны не требовались, — вспомнила Вера Солтер. — Ни на шляпки, ни на сабо, ни на пояса…
— Нужны нам были эти пояса! Ведь чулок тогда было невозможно достать. Вера, ты помнишь жидкие чулки? Это такая краска для ног.
— Мы использовали холодный чай. В ванне. В домах тогда были жестяные ванны. А ты, мисс Оборвашка, сама не знаешь, как тебе повезло родиться в мирное время. Ты можешь выбирать из множества платьев, юбочек, блузочек…
— Что сегодня происходит? — недовольно сморщилась новая нянечка Даунсайд-хауса. — Объявили международный день приставаний к Джуин?
— Пока ты будешь одеваться как бродяга, то можешь не рассчитывать, что тобой заинтересуются молодые люди.
— Я еще не уверена, — призналась Джуин, нахмурясь, — что мне хочется, чтобы мной интересовались молодые люди. И вообще мне кажется, что от мужчин хлопот больше, чем толку. — Отвлекшись от разговора двух старушек, Джуин позволила своим мыслям и взгляду бродить где им вздумается.
Одна стена в общей гостиной Даунсайд-хауса была целиком стеклянной, поэтому прохожие могли на секунду прервать круговорот своих дел и взглянуть через стекло на стариков, поздравив себя с тем, что пока не находились в их числе. Оформление общей комнаты подавляло. Она была выкрашена в оранжевый и зеленый цвет. Оранжевый цвет теоретически цвет радости и товарищества, а зеленый вроде бы должен вызывать ощущение гармонии и надежды. Здесь же они почему-то производили обратный эффект. Где работники городского совета нашли эти краски? В какой огромной бочке они их мешали? И раз уж об этом зашла речь, откуда они выкопали этот оттенок синего цвета для ванных комнат? Он был буквально создан для того, чтобы вызывать депрессию. Джуин находила, что он очень точно соответствовал ее настроению.
Звонок Кейт обрадовал ее, но не очень.
— Извини меня за то, что я сорвалась, — сказала ей Кейт. — Несправедливо было обвинить во всем тебя.
Но голос Кейт был таким равнодушным, таким неизвиняющимся, что тот короткий разговор мало утешил Джуин. И к тому же очередная ужасная новость — то, что Алекс и Наоми свили собственное гнездышко, — была как для Джуин, так и для Кейт источником неизбывного страдания.
— …Носили гламурные ленты, — говорила тем временем Мэйбел Флауэрс.
— Что это такое? — спросила вернувшаяся к действительности Джуин.
— Это такие шарфы, — пояснила Вера Солтер, — которые мы оборачивали вокруг головы и завязывали спереди. — Она показала жестами, как это делалось. — Нам приходилось их носить, чтобы волосы не попали в станок. Бывало, женщины оставались буквально без скальпа. Насколько я могу судить, нечто подобное случилось и с тобой.
— Отстаньте от меня. — Джуин провела ладонью по своему ежику. — Да будет вам известно, что сейчас это — крик моды.
— Скорее, крик глупости, — фыркнула Вера. — Нет, ты давай приведи себя в порядок и найди себе приличного парня. Такого, чтоб с задором.
«Алекс был с задором, — подумала Джуин. — И вот куда его завел этот задор».
— Вот мой Эд был хорошим человеком, — продолжала свою мысль Вера, — очень приличным, но в нем не было ни капли задора.
— Мне еще только шестнадцать, — вяло запротестовала Джуин. — У меня еще куча времени.
— Когда мне было шестнадцать, мне уже сделали предложение руки и сердца, — доложила Вера с видом удовлетворения на лице. — И в семнадцать лет родила первого ребенка.
— Первого? А сколько их было всего?
— Всего восемь. Пятеро выжили, а трех я похоронила.
— Ужасно, — только и смогла произнести потрясенная Джуин. А еще ей пришло в голову, что Эд, по-видимому, не был совершенно лишен задора.
— Такова была воля Бога, — отрезала Вера. Вообще она была убежденной атеисткой, но ей надо было возложить на кого-то вину.
— Но почему они умерли?
— Потому что в наше время дети умирали, — коротко ответила Вера. Ее лицо потемнело и сморщилось еще больше, когда она вспоминала двух мальчиков (один родился мертвым, а второй умер от дифтерии) и девочку (родившуюся до срока, такую крохотную). Они до сих пор жили в ее памяти. — Мы были очень бедны, — сказала она просто. — Ты не можешь себе даже представить, насколько бедны.
— А где они теперь? Те, кто выжил?
— А… — Вера подняла руку и нерешительно поводила ею из стороны в сторону, явно забыв, что собиралась сделать, — кто где, — сказала она с покорным видом. — Они навещают меня, когда могут. На Рождество, на день рождения. Никогда не забывают. Они очень хорошие.
«А я-то думала, что у меня серьезные проблемы», — отчитала себя Джуин и решила в дальнейшем придерживаться более позитивного взгляда на вещи и ценить то, что у нее есть.
— Как долго мы сможем наслаждаться твоим обществом? — спросила Мэйбел Флауэрс, поскольку здесь, в Даунсайд-хаусе, они встретили и проводили не одного юного помощника.
— В конце месяца я уезжаю, — ответила Джуин, — а потом начинается школа.
— А куда ты едешь?
— В Шотландию. — Это было сказано без малейшего энтузиазма.
— Как бы я хотела увидеть Шотландию, — вздохнула Мэйбел Флауэрс, и ее глаза стали удивительно светлыми. — Но, увы, для этого уже слишком поздно.
— Может, я смогу приходить на выходных, когда начнутся занятия, — быстро сказала Джуин, боясь, что не справится с эмоциями. — Если миссис Саутгейт не будет против.
— Она не будет против. Ты славная девочка, хоть и выглядишь как собачий завтрак.
Джуин испытала странное, глубокое удовлетворение.
— Моя мать так не считает, — грубовато поведала она. — Я имею в виду, она не считает меня славной. Хотя насчет собачьего завтрака она полностью с вами согласилась бы.
— Может, твоя мать знает не все, — попробовала утешить ее Вера.
— Вот уж нет. — Джуин, обхватив колени руками, откинулась на спинку стула. Перед глазами полыхнуло оранжевым (цвет отчуждения) и зеленым (цвет несбывшейся надежды). — Вот уж нет, миссис Солтер. Если бы вы читали «Глоуб», то знали бы: моя мать знает все.
— Это всего лишь Элли, — сказала Элейн Шарп, иронично выделяя слова «всего лишь».
Она стояла на пороге, нагруженная пакетами и улыбающаяся, уверенная в радушном приеме. Она редко ходила в гости с пустыми руками; ей нравилось приносить продукты, особенно туда, где их не было (а их, разумеется, не было, так как на Чаффорд-стрит хозяйничала Наоми Маркхем). В этот раз она предусмотрительно приобрела ореховое ассорти, чипсы, бутылку вина, еще одну бутылку вина и бутылку виски, к которой следовало приступить, когда закончится вино. И кое-что еще. «Это тебе подарок на новоселье», — объявила Элли, вручая озадаченной Наоми сверток, искусно упакованный продавщицей. Сама Элли никогда не имела времени на подобную ерунду. Ей не хватало терпения ни на возню с упаковочной бумагой, которая никак не хотела сгибаться где надо, ни на борьбу со скотчем, который ни к чему не приклеивался так прочно, как к самому себе. «Если бы богиня хотела, чтобы мы заворачивали подарки, — любила говаривать Элли, — она дала бы нам по три руки». Хотя в принципе подарочную упаковку она считала вовсе не лишней, находя, что красиво завернутый и завязанный лентой подарок выглядит гораздо более презентабельным.
— Ты не собираешься пригласить меня войти?
— Ой, да, разумеется.
— Так приглашай. — Так как Наоми продолжала стоять явно в глубоком замешательстве, Элли сунула ей в руки свои покупки. — Ну же, очнись. Прояви немного старого доброго гостеприимства.
Немного придя в себя, непривычная к роли хозяйки Наоми повела подругу по коридору в спальню. Могло бы показаться странным, даже эксцентричным, то, что Наоми принимала гостей в таком месте, но дело было в том, что именно из спальни можно было попасть в маленький внутренний дворик. Двойные двери были распахнуты, комнату заливал мягкий солнечный свет.
— Здесь сойдет, — решила Элли и, сбросив туфли-шпильки, тут же растянулась на кровати и протяжно зевнула.
Радио тихо наигрывало какую-то абсолютно не запоминающуюся музыку. Удивительно, но присутствие Элли не разрушило сонную атмосферу, царившую здесь. Более того, у самой Элли возникло такое чувство, будто она нечаянно зашла в комнату, где спал человек, который поворочался, потревоженный, улыбнулся, но продолжал сладко спать.
— Это что-то тяжелое. — Наоми стояла в ногах кровати с подарком Элли в руках. Она была одета в скромное неотрезное платье и парусиновые туфли; волосы она разделила пробором и прихватила на затылке синей лентой; на лице ее почти не было косметики. Такая простота шла ей. А может, это счастье так повлияло на Наоми: казалось, что она помолодела лет на десять. — Что это? — спросила она.
— Ты ни за что не догадаешься.
Тут Элли не ошиблась: даже после того, как обертка была сорвана, Наоми ни на йоту не приблизилась к пониманию того, что у нее в руках.
— Только не говори мне, что у тебя это уже есть, — занервничала Элли.
— Что это? — снова спросила Наоми, озадаченно хмурясь, поворачивая керамический предмет то одним боком, то другим.
— Кирпич для курицы. — Элли произнесла это тоном глубочайшего удовлетворения. Более желанного предмета, говорил весь ее вид, не найти во всем Лондоне.
— ?..
— Кирпич для курицы.
— А для чего он?
— По правде говоря… — Элли перекатилась на бок, оперлась на локоть и пристально посмотрела на принесенный ею подарок. Она знала, что такое курица. Она знала, что такое кирпич. Но предназначение кирпича для курицы для нее оставалось не ясным. — По правде говоря, я ничем подобным никогда не пользовалась. Но мне так понравилось, как эта вещь выглядит. Она запала мне в душу. Мне показалось, что в каждом доме должен быть такой кирпич для курицы. Если хочешь, можешь просто поставить его на полку. Будет о чем говорить с гостями. Или…
— А еще в нем можно хранить яйца, — предложила свой вариант и Наоми.
— Да, да. Или — это просто идея навскидку — в нем можно жарить курицу.
— И как именно это делать? — Наоми осторожно положила кирпич на комод рядом со стопкой плохо выглаженных рубашек Алекса: она гладила их сегодня утром, плача над собственной неумелостью.
— Сначала разогреваешь духовку…
— В каком положении должен быть регулятор? Если у нас газовая плита?
— Откуда я знаю? Я что, Эскоффье[40]? Хотя вот тебе один совет на все случаи жизни. Тебе будет гораздо проще, если ты все будешь готовить при одной и той же температуре. Лично я предпочитаю шестерку: по-видимому, этот режим хорош для всех блюд. За исключением меренг.
— Меренг?
— Не спрашивай. Я однажды сошла с ума и попыталась в том же режиме испечь торт со взбитыми сливками. Большая ошибка. Мой единственный провал в кулинарии. За всю жизнь.
— Вряд ли я стану готовить…
— Да уж, тебе лучше с этим не связываться. Ита-ак… Устанавливаем регулятор духовки на цифру «шесть». Когда она как следует разогреется — можешь проверить, сунув туда локоть, — положи курицу в кирпич, накрой крышкой, поставь кирпич в духовку, оставь курицу томиться в собственном соку на час или два.
— А потом?
— Потом достань кирпич из духовки. Осмотри его содержимое. Немедленно наклонись над раковиной, потому что у тебя начнется ужасная рвота. Выброси курицу вместе с кирпичом в помойное ведро и пошли своего энергичного юного любовника в китайскую кулинарию. Ах да, кстати! Как поживает наш милый мальчик?
— Алекс?
— Ну а кто же еще, по-твоему? Алекс, разумеется. Сколько еще милых мальчиков мы знаем? Не похоже, чтобы наше общество изобиловало ими. По крайней мере, мне так не кажется. Хотя, может, в твоем распоряжении их целый выводок?
— Да нет, только Алекс. Он в порядке.
На лице Наоми появилось такое изумленное, ошеломленное выражение, что Элли не могла спокойно смотреть на нее. Глаза Наоми были посажены необыкновенно широко. По мнению Элли, это придавало ей вид дурочки и говорило о врожденной тупости. Сжав переносицу двумя пальцами, Элли с облегчением нащупала собственные два глаза, один — непосредственно слева, а другой — непосредственно справа от фамильного носа Шарпов. И еще она утешилась тем, что пусть она не обладает исключительной красотой Наоми, зато у нее был супермозг. В глубине души Элли по-прежнему чувствовала себя серьезно обделенной тем, что ее подруга умудрилась закадрить Алекса Гарви. (Может, Элли тоже стоит завести себе молоденького мальчика?) Отсюда и все эти самооправдания и утешения.
— Как вы тут, обживаетесь потихоньку? — Элли оглядела полную воздуха, скудно обставленную комнату (кровать и комод — вот и все, что в ней было). — Значит, вот где все происходит, да? Вот оно какое, ваше любовное гнездышко.
— Да, обживаемся. — Колкость Наоми решила проигнорировать.
— Так скажи же правду, прошу: он перенес тебя через порог?
— Тебя это не касается.
Наоми взглядом обвела потолок и углы.
— Скажи, Элли, тебе понравилась наша квартира?
— О, она очень изящная.
— Ты имеешь в виду — маленькая? Но для меня это не важно. — Обороняясь, Наоми выдвинула подбородок вперед. Волосы выскользнули из-под ленты и упали ей на лицо. — Для нас двоих она достаточно просторна.
Наоми резко села на кровать, сняла с покрывала пушинку и бросила ее на пол. Она не могла бы — да и не хотела — объяснить Элли, чем именно являлась для нее эта квартира. Это был первый дом в ее жизни, который она могла бы назвать своим. Пусть она не заплатила за него ни пенни, пусть она не умела вести хозяйство, но зато здесь, с Алексом, она не чувствовала себя женщиной на содержании (это чувство стесняло и делало ее чужой и в Сент-Джонсвудсе, и в других местах, заставляло ее бродить по комнатам в поисках чего-то неопределимого). Целенаправленно, настойчиво, Алекс освобождал ее.
Глядя на задумчивую, спокойную Наоми, Элли с удивлением поняла, что слова подруги — вовсе не заблуждение. На ее глазах происходило невообразимое: Наоми Маркхем пускала корни.
— Значит, вы с Алексом абсолютно серьезно решили жить вместе?
— Абсолютно, — ответила Наоми с уверенностью.
— В таком случае, я думаю, тебе следует показать мне всю квартиру. Раз уж вы собираетесь провести здесь не две недели, своди-ка меня на небольшую экскурсию. А потом мы откупорим бутылочку-другую и вспомним старые добрые времена.
— Ладно, пойдем. — Наоми решительно поднялась с кровати, но тут же призналась: — Правда, показывать еще нечего.
Полы почти во всей квартире были голыми. Когда Элли, постучав каблуками по гостиной, одобрительно отозвалась об обстановке, ее слова подхватило гулкое эхо.
— Мы собираемся повесить занавески, — кротко сообщила Наоми, — и положить ковер. Здесь станет уютнее, нам надо только подкопить немного денег. — Она прислонилась к камину и погладила его почти с нежностью. — Сейчас квартиры отделывают в основном в белом цвете, — объяснила она с серьезнейшим выражением лица. — По-видимому, это из-за того, что нейтральные цвета лучше продаются. А люди потом могут вносить в отделку что-то свое. Мы, конечно, тоже этим займемся, как только у нас будут деньги.
— Разумеется, — слабым голосом отозвалась Элли. Да этой женщине цены не было! Где она провела всю свою жизнь? Пришелец с планеты Цог был бы более осведомлен о жизни Британии девяностых годов, чем она.
— Нельзя сказать, что мы совсем без гроша. И я вот-вот получу хорошее предложение через своего агента. Просто мне не хочется соглашаться на что попало, только поэтому я еще не работаю. Конечно, я могла бы начать сниматься для каталогов хоть завтра, но это было бы ужасно с точки зрения дальнейшей карьеры. И, к счастью, выплаты за квартиру не слишком большие. Нам дали специальную рассрочку как покупающим квартиру впервые.
Так вот, значит, как Алекс вел себя с ней. Он вовлекал ее в каждый свой шаг. Квартира, выплаты — все делалось от имени их двоих. Он объяснял ей все формальности и процедуры, делился с ней своими тревогами, обсуждал каждое решение, всегда выслушивал ее мнение. Ради этого Наоми согласна была жить без ковров, среди белых стен, со старой мебелью. И не просто жить, а с радостью. Эту квартиру не будут обставлять высокооплачиваемые дизайнеры, как раньше, не спрашивая о ее вкусах и предпочтениях. И в эту кухню она будет входить хозяйкой, а не так, будто вторглась во владения другой женщины.
— Всю мою жизнь, — сказала Наоми, и эхо придало ее словам особую основательность, особое значение. — Всю мою жизнь от меня откупались. Моя мать и дядя Хью платили огромные деньги, чтобы сбыть меня с рук. Уроки верховой езды. Балет и чечетка. Ораторское искусство. Модельная школа. И знаешь, что я стала делать? Наверное, потому что не знала ничего другого. Я стала искать мужчин, которые относились бы ко мне точно так же. Они платили за мои визиты к косметологам и парикмахерам, за мою одежду, давали мне крышу над головой. Им нравилось, чтобы их видели вместе со мной. Но они никогда не делили со мной свою жизнь. Вот почему все мои так называемые романы так быстро заканчивались.
— Понимаю, — согласилась Элли, впечатленная и убежденная этим анализом. Никогда она не подозревала в Наоми такой проницательности.
— А вот с Алексом, — продолжила Наоми, обхватив себя руками и обращаясь к стене над камином, — мы делимся. И заботимся друг о друге.
Однако для Элли это было уж слишком банально:
— Ну все, хватит этих сердечек и цветочков. Проводи-ка меня в туалет, — скомандовала она. — Так ссать хочется, мочи нет.
Ванная комната оказалась каморкой без окна — архитектору, очевидно, пришлось выкраивать ее за счет соседних помещений. Как только Элли вошла внутрь и включила свет, автоматически загудел вентилятор. На полочке над раковиной теснились лосьоны, кремы и гели Наоми, с краю пристроились пенка для бритья и расческа Алекса. В этом крохотном помещении было что-то такое интимное, что даже Элли почувствовала себя неловко. Поэтому перед выходом из ванной она не стала открывать баночки и бутылочки, чтобы понюхать и потрогать их содержимое, а только глянула на себя в зеркало.
Наоми тем временем вынесла в сад бокалы, открывалку, расстелила на травке полотенце и опустилась рядом на колени. Даже когда она сидела так, откинувшись на пятки, ее бедра не расплывались.
— Красивые, правда? — спросила она у Элли, держа один из бокалов на расстоянии вытянутой руки и вращая его так, чтобы он заиграл в лучах солнца. — Всего семьдесят пять пенсов за штуку. Видишь, я уже научилась экономить.
— Ты когда-нибудь обращала внимание… — начала говорить Элли, обследуя границы садика, где росло несколько жалких кустиков. Ее заинтересовал покосившийся забор, и из любопытства она попробовала покачать его, потом закончила свой вопрос: — Ты когда-нибудь обращала внимание на то, какие у Джеральдин маленькие стопы?
— У Джеральдин? Маленькие стопы? Да нет.
— Они у нее такие маленькие, что непонятно, как они вообще держат ее. При сильном ветре она, пожалуй, упадет. Я ненавижу маленькие ноги, а ты? На мой взгляд, идеальны длинные, узкие стопы. Вроде твоих или моих.
Как ни странно, Наоми, помешавшаяся на физическом совершенстве, об этом конкретном аспекте никогда не задумывалась.
— Разве размер ног не пропорционален росту человека? — вслух задумалась она. — Ох, мне не справиться с этим. Может, ты попробуешь?
— Давай сюда, слабачка.
Наоми послушно передала бутылку Элли, и та зажала ее между коленями и умело вынула пробку.
— Вуаля. Держи. Да, возвращаясь к Джеральдин… — Она уселась рядом с Наоми. — Именно это я и хотела сказать. То, что ее ноги непропорционально малы.
— Ну, раз ты так считаешь…
— А может, это из-за того, что она такая толстая. Может, они просто кажутся маленькими по сравнению с ней самой. — Элли расстегнула пуговицу на юбке и ослабила пояс. — Уф, так-то лучше. Эта юбка чуть не разрезала меня пополам. Давай, наливай же, подружка.
— Хорошо бы привести сад в порядок, как ты думаешь? — поинтересовалась Наоми, разливая вино.
— Не помешало бы. Кейт могла бы этим заняться. Хотя что это я, вряд ли она вообще когда-нибудь появится здесь.
— Как бы я хотела, чтобы она все же пришла. В основном ради Алекса. Мне кажется, что с ее стороны в высшей степени несправедливо вести себя так. И она такое обо мне говорила, ты не поверишь.
— Эй, эй, эй, нельзя винить ее в этом. Я бы говорила то же самое, если бы ты поступила со мной так же, как с ней. С друзьями вроде тебя, Наоми Маркхем, вполне можно обойтись без врагов.
— Иногда мне кажется, что я никогда не прощу ее.
— Ты не простишь ее? — В шоке от услышанного Элли поперхнулась; она хрюкнула, попыталась сглотнуть вино, но оно уже проникло ей в нос и потекло из ноздрей.
— Но потом я начинаю надеяться, что мы сможем уговорить ее прийти к нам, и она увидит, что у нас все получается… Может, стоит пригласить ее на обед или на ужин, а, как ты считаешь? Я должна учиться готовить, Элейн. Готовить как следует. Алексу надо хорошо питаться.
— Я не вижу в этом необходимости, честно тебе скажу. Ведь можно покупать полуфабрикаты. Мороженные или охлажденные. Сейчас их такое разнообразие — выбирай что хочешь.
— Не хочу показаться неблагодарной, — продолжила свою мысль Наоми, — но Кейт готовит отвратительно.
— Да уж, нашей Кейт далеко до Фанни Крэдок, — согласилась Элли. — О, Наоми, только не говори мне, что ты не помнишь Фанни и Джонни[41].
Но Наоми откинулась на спину, прикрыла лицо рукой и подтвердила, что эти имена совершенно ни о чем ей не говорят.
— Поверить не могу, — недоверчиво покачала головой Элли. Затем она склонилась над полотенцем и не менее получаса посвятила реминисценциям. Она упомянула скифл[42], и альбом Нико «Девушка из Челси», лифчики от «Мейденформа»[43]; она вспомнила те давние деньки, когда члены Общества анонимных алкоголиков при встрече салютовали друг другу и когда истинными королями дорог были водители грузовиков.
Однако если Элли ставила себе целью напомнить Наоми, как долго та уже ходит по земле (а может, и заставить ее признать, что рубеж середины жизни уже пройден), то она напрасно старалась.
— Хватит повторять историю древних времен, — вот и все, что сказала Наоми. Она села, подтянув к себе колени и положив на них подбородок. — Лично я люблю жить сегодняшним днем.
— Просто жить другим днем тебе не хватает воображения.
— Это неправда. Неправда, — нахохлилась Наоми. Потом она спросила: — Так как ты думаешь, что будет с Кейт?
— О, Кейт постепенно совсем выживет из ума. Она наверняка скоро превратится в нелепую затворницу и заведет целую кучу кошек. Я говорила ей, что надо почаще выходить из дома, надо попытаться встретить мужчину, пока еще не слишком поздно, но она и слышать ничего не хочет. Она станет совсем как ее мать, а та, как ты помнишь, была совершенно ненормальной.
— Да нет, мне она казалась очень даже приятной. — Наоми напряглась, пытаясь извлечь из памяти доброе, обеспокоенное лицо Пэм.
— Ну, мы все хорошо знаем, что на твою память полагаться не стоит. Вернее, не на саму память, а на твою способность извлекать из нее информацию, потому что я уверена, что все это где-то там хранится, иначе и быть не может. Нет, боюсь, что Кейт чокнется, как и Пэм. У нее уже появились первые признаки. Как раз сегодня Джеральдин говорила мне — Кейт сегодня утром была у нее, — что ведет она себя очень странно. То смеется как гиена, то вдруг нахмурится тучей. Нестабильна, очень нестабильна.
— Мы в этом не виноваты. Я и Алекс. По крайней мере, не мы одни.
— Боже праведный, разумеется, нет. Она всегда была склонна к истерии. Только между нами, Наоми, проблема Кейт в том, что…
— Замолчи, — резко оборвала подругу Наоми.
Элли уже собиралась возмутиться — никто, никто не смел так разговаривать с Элейн Шарп! — но тут она заметила, что Наоми смотрит не на нее, а куда-то в сторону. Проследив за направлением ее взгляда, Элли увидела Алекса Гарви. Он стоял в проеме двери и смотрел прямо на них.
— Алекс. Ты сегодня рано. — Очаровательным жестом Наоми протянула к нему руки, как ребенок, который хочет, чтобы его подняли. — Как замечательно. Иди же, посиди с нами. А у нас Элли, как видишь. И она принесла нам чудесный подарок на новоселье.
— Элли, — кивнул, здороваясь, Алекс — небрежно, но не враждебно.
Элли удивилась, увидев, что он почти не изменился. Ей представлялось, что присутствие Наоми в его жизни повлияет на него, и, скорее всего, не лучшим образом. Но улыбка была все такой же: терпеливой, понимающей. И недели активного секса не превратили его в тень. Можно сказать, что он выглядел еще лучше, чем раньше: загорелый, мускулистый, спокойный.
— Я решила заглянуть, — сообщила она ему с важностью, — чтобы посмотреть, что за квартирку вы себе купили.
— Ну и как, одобряешь?
— Пока сойдет.
В один миг Алекс очутился возле Наоми и заключил ее в объятия.
— Да, не обращайте на меня внимания, — раздраженно пробормотала Элли. Чуть ли не в первый раз в жизни она почувствовала смущение (самую капельку) и не вполне понимала, как себя вести.
— Что ты, как можно. — Алекс по-приятельски уселся между женщинами и отхлебнул вина из бокала Элли.
— Угадай, — настаивала Наоми. — Ну же, Алекс, угадай, что подарила Элли.
— Даже не представляю.
— Кирпич для курицы, — сообщила она ему важно, со знанием дела. — Ты знаешь, что это такое, а, Алекс? Это кирпич, чтобы жарить курицу. Надо просто положить в него курицу и поставить в духовку. И готовить один час. На цифре «шесть».
Еще один рабочий день подошел к концу. Джон Горст испытывал огромное нежелание идти домой. Сама мысль об этом была ему так неприятна, что он не мог сдвинуться с места и так и сидел за столом, тупо перелистывая папку в обложке из буйволовой кожи до тех пор, пока где-то в половине седьмого не появилась уборщица Пэт. Она просунула голову в дверь и неодобрительно хмыкнула.
— Нельзя столько работать, можно надорваться, — предупредила она.
Джон убрал папку по делу Петтиферов в ящик стола, закрыл его на ключ и ответил Пэт в том смысле, что на данной стадии развития ситуации можно надеяться только на обсуждение пределов компенсации ущерба.
— Вечно вы скажете! — хихикнула Пэт и решительно закрыла дверь, предоставив Джону возможность собраться и наконец пойти домой.
Сцепив руки за головой, Джон откинулся на спинку стула, зевнул, с удовольствием потянулся — так, что рубашка выскочила из-за пояса брюк. Он мысленно подытожил проделанную за сегодня работу — ему поручили дело о скандальном, унизительном разводе Петтиферов. Поскольку на пустом белом пространстве потолка рассматривать было нечего, Джон вызвал в памяти образ Джин-Энн Петтифер. Он вспомнил, как она наклонялась к нему, сжимая край стола так, будто пыталась продавить столешницу насквозь. Это была худая женщина с прямыми волосами и самым неприятным лицом из всех когда-либо виденных Джоном (рот, подбородок, веки — все было слеплено наспех, небрежно, а диапазон доступных ее лицу выражений был узок до крайности). Три недели назад она проинструктировала его следующим образом: «Я хочу, чтобы после развода ему не осталось ни гроша. Разорите ублюдка. Пусть дворником идет работать». Выпалив это, она уселась — а точнее, развалилась — в кресло и, глядя не на Джона, а в окно за его правым плечом, с возмутительным высокомерием принялась перечислять все недостатки Грэма Петтифера, все его упущения и огрехи, начиная с жалкой неспособности починить розетку или подвесить полку и заканчивая небольшой, но непростительной оплошностью в сексуальных отношениях.
На протяжении этого долгого и в основном не имеющего никакого отношения к делу отчета Джон брал время от времени ручку, делал бесцельные записи в блокноте и все больше проникался сочувствием к злополучному Грэму, который приобретал в его воображении образ безвинного страдальца. Однако позднее Петтифер разочаровал Джона: через своих адвокатов «Ломакс, Ллойд и Мандэй» он ответил отрицаниями, обвинениями и мстительными встречными исками (несомненно, в офисе Майка Мандэя на другом конце города был исторгнут аналогичный поток поношений).
Почему люди были такими скупыми и подлыми? Ответ его Грэма Петтифера — того, кто прожил короткую, но славную жизнь бабочки-однодневки в воображении Джона, — был бы более благородным или более парадоксальным. Например, он бы непременно отказался от права собственности на каждый кирпич и каждую доску, находившуюся в совместном владении. Возможно, он пошел бы дальше: он отдал бы бывшей жене не только стереосистему, но и коллекцию своих любимых записей; он отдал бы ей не только обеденный сервиз, но и двенадцать серебряных крестильных ложек, принадлежавших его матери. Он бросил бы ей на колени ключи от автомобиля, сложил бы в сумку смену белья и уехал бы из города на автобусе, чтобы начать жизнь сначала. Но, как ни печально, настоящий Грэм Петтифер не мог похвастаться подобной отвагой и решительностью.
Конечно, современное семейное право вынуждало разводиться недостойным образом, оно стравливало бывших супругов, заставляя их обливать друг друга грязью. Но в обществе уже назревала потребность в более дешевой, быстрой процедуре развода — согласительной, без определения виновной стороны. В связи с этим Джон задумался, что мог бы сделать беспристрастный, добросовестный мировой посредник, выдвинутый из рядов среднего класса, чтобы примирить Джин-Энн и Грэма. Пожалуй, любой судья предпочел бы быть арбитром между двумя злобными пит-бультерьерами.
В приемной послышалось пение Пэт — что-то угрожающее вроде «тра-ля-ля», сигнализирующее о том, что она вот-вот снова появится в офисе Джона (она, в отличие от некоторых, не собиралась торчать здесь целую вечность).
Адвокатская контора «Горст и Мерридью» находилась в центральной части города; стеклянная передняя дверь выходила прямо на узкий тротуар. Партнеры расположились в здании, ранее занятом магазинами, но вертикальные жалюзи на окнах свидетельствовали о должной конфиденциальности, а табличка при входе обещала квалифицированные юридические консультации частным и юридическим лицам, она хвасталась опытом ведения трудовых, жилищных и хозяйственных споров, бракоразводных процессов, подачи исков о возмещении ущерба вследствие получения травмы, а также ввода в наследство и утверждения завещаний. Джосс Мерридью, более яркая половина совместного предприятия Горста и Мерридью, занимал помещение на втором этаже, откуда мог гордо взирать на свой «понтиак-файэрберд», заведенный им вместо семьи. Ну а из кабинета Джона Горста, расположенного на первом этаже, можно было легко добраться до заднего выхода и автомобильной стоянки.
Наконец, угроза неминуемого вторжения Пэт (Джон услышал, как звякнуло ведро под дверью, как прошуршал по полу мешок с мусором) заставила его поспешно покинуть офис. Бетон на стоянке разрушался; местами уже виднелась подушка из щебенки, уложенная в его основании. Сорняки разъедали кирпич ограды. В углу стояла непонятно как сюда попавшая тележка из супермаркета. Джон сказал себе, что скоро им придется задуматься о ремонте заднего двора, и тут же забыл об этом.
Он опустился на водительское сиденье «ровера», посидел с открытой дверцей, ожидая, пока нагреется двигатель и остынет салон. Сегодня весь день его томила какая-то скука, какая-то вялость духа. Он решил, что это, должно быть, из-за погоды. Город, накрытый горячим воздухом, как тяжелой крышкой, изнемогал от духоты. Когда Пэт, провожая Джона из офиса, пожелала ему доброго вечера, он едва смог взмахнуть рукой в ответ.
Вымощенный булыжником проезд — аллея между конторой «Горст и Мерридью» и соседним магазинчиком — сегодня казался уже, чем когда-либо. Справа и слева, в дюйме от полированных бортов автомобиля, нависали стены. Не было никакой возможности выехать на дорогу под нужным углом — или увидеть приближающиеся машины до тех пор, пока капот «ровера» не оказывался прямо посреди них. Маневр был не только неудобен, но и опасен, и Джон был утомлен уже в самом начале пути домой. Думать же о том, что ему предстоит совершать такие поездки до самой отставки, было просто невыносимо. Настроение Джона ничуть не улучшалось оттого, что на него кричали, ему гудели, давили его своими автомобилями агрессивные водители (ему послышалось, или действительно кто-то назвал его «старым пердуном»?).
Он уже выезжал из города, когда вспомнил, что сегодня вечером они принимают у себя две семейные пары: Пичи и Хью-Джонсов. Вполне вероятно, что этим и объяснялась сегодняшняя подавленность духа: так его сознание отгораживалось от удручающей реальности. Джеральдин обещала им барбекю при условии, что не помешает погода. А небо, хоть и затянутое дымкой, не сможет породить ни одного стоящего облака, и значит, нельзя было надеяться на то, что дождь отменит пикник.
Джон не любил барбекю. Мясо, снятое с решетки, слишком часто оставалось сырым внутри и обугливалось снаружи — оно было канцерогенным и ничуть не аппетитным. Но не это было главной причиной его нелюбви к пикникам. Не испытывал он особой ненависти и к своей обязанности проявлять чудеса мастерства обжаривания мяса над горячими углями. Нет, в мероприятиях подобного рода для Джона самым отвратительным был сине-белый мясницкий фартук, который Джеральдин непременно надевала на него, и поварской колпак, которым она его короновала.
Взглянув на часы, он увидел, что время приближалось к семи. Если он не будет жать на газ, супруги Пичи — Тим и Джессика, а также Хью-Джонсы — Оуэн и Вэл, прибудут в Копперфилдс раньше него. В теплом, пахнущем хлоркой воздухе они рассядутся вокруг бассейна, с аперитивами в руках, и голоса их будут становиться все громче, а смех — все продолжительнее.
Почему же природа этого графства не могла доставить ему истинного, постоянного удовольствия? Почему Суррей не был близок ему? Вроде здешние деревья были настоящими деревьями со старыми, сморщенными стволами под пышными кронами. И трава была зеленой и сочной. В живых изгородях, недавно подстриженных, мелькали цветы иван-чая, зверобоя, наперстянки, ежевики… По весне лесные поляны были усыпаны колокольчиками и розовым портулаком; непонятно было, как лес заманивает солнечный свет под свои величественные своды.
И все же в суррейских пейзажах не было ни величия горной Кумбрии, ни меланхолии вечно плоских торфяников, ни неуемной энергии моря. Повсюду на месте лесных вырубок появлялись дома (такие же, как их дом) — насмешка над наследием леса. Эти дома стояли посреди ухоженных садов, а их владельцы, наверное, уже разжигали барбекю, тоже в поварских колпаках и бело-синих мясницких фа…
И вдруг до Джона дошел весь ужас ситуации. Осознание своей оплошности ударило по нему с такой силой, что он свернул на обочину и нажал на тормоза. Он совсем забыл, что сегодня утром за завтраком Джеральдин попросила его заехать в обеденный перерыв в мясной магазин Лэйтона. «Да-да», — согласился он, уделяя жене меньшую часть своего внимания, тогда как другая — большая — часть уже была занята размышлениями о том, как справиться с требованиями ужасной миссис Петтифер, как привнести в дело толику здравого смысла. Список мясных продуктов, особенно подходящих для испепеления, он сунул в карман. Ему было поручено купить два фунта домашних свиных сосисок мистера Лэйтона, дюжину говяжьих котлет, телячьих кебабов… «Не забудь!» — напомнила ему жена, когда он уже уходил, и он поклялся, что, разумеется, не забудет.
Что делать? Джон включил первую передачу, вдавил педаль газа в пол и, подняв тучи пыли, выехал на асфальт и поехал вперед, совершенно ослепленный страхом. Он бы не мог объяснить, что его пугало. В конце концов, что она может с ним сделать в худшем случае? Унизит перед гостями? Так это он переживет.
Нет, не переживет. И унижение было не худшим наказанием, так как Джеральдин была отнюдь не Джин-Энн в том смысле, что его жена не станет плевать в него, сквернословить или гоняться за ним с медной сковородой, она умела сдерживать характер — пусть и сцепив зубы. Но любую его провинность она оставляла себе в качестве заложника и месяцами потом использовала ее против Джона. А его положение сейчас и так было весьма непрочным из-за нарушенных планов на семейный отдых в Шотландии, и второй проступок был ему нужен как дыра в голове.
На краткий, опьяняющий миг он решил, что поступит так же, как поступил бы Грэм Петтифер — его Грэм Петтифер. Он развернет машину и уедет куда глаза глядят. Он возьмет себе новое имя, начнет новую жизнь (семья, друзья, коллеги больше никогда не услышат о нем). Он иногда читал о людях, совершивших подобное. В простоте этого шага была красота. Надо было просто стать свободным.
Но вот перед ним, как откровение, вырос указатель бензозаправки. И Джон понял, что спасен. Ему не придется отращивать бороду и бежать из страны! Подъезжая к колонке, он чуть не плакал от облегчения. Ведь на заправках всегда продавались всевозможные товары для пикников, он обращал на это внимание, когда платил за бензин. Внутри находилось нечто вроде магазина, где можно было купить почти все, что пожелаешь: от надувных бассейнов до пирожных, от растений в горшках до пепси-колы.
Заглушив двигатель, он почти бегом вошел внутрь заправочной станции, нашел прилавок с мясными продуктами, отыскал там два пакета свиных сарделек. А в морозильной камере ему повезло еще больше: там были куриные ножки (твердые, как камни, но, наверное, они оттают, не так ли?) и упаковки чего-то из говядины под многообещающим названием «Стейк хаус гриль». У Лэйтона, конечно же, продавали мясо лучшего качества, но какая разница, черт возьми? Обугленные куски мяса все более или менее одинаковы на вкус и на цвет.
— Подойдет ли это для барбекю? — поинтересовался он тем не менее у продавщицы, выкладывая свои покупки у кассы.
— Да, отлично подойдут, — безразлично ответила та, даже не оторвав глаз от кассового аппарата.
Джон подозревал, что ответ был бы тем же, что бы он ни положил перед ней: надувной бассейн, цветок или пепси. Когда она все же повернулась к его покупкам, то пробила их будто не видя или глядя сквозь них.
Десять минут восьмого. Их гости уже, должно быть, собрались. Позвякивающие кубики льда залиты ароматным джином. В отсутствие Джона кто-нибудь из мужчин (скорее всего, Оуэн, обычно на него можно было положиться) вызвался добровольцем, чтобы разжечь огонь. А Джеральдин беспокойно ожидает его возвращения, напряженно прислушивается, не зашуршат ли по гравию колеса его автомобиля, на скорую руку подыскивает оправдания его опозданию, заверяет гостей, что он спешит, что он старается приехать побыстрее… Она говорит, что его, должно быть, задержали неотложные дела…
Теперь, когда продукты для пикника лежали рядом с ним на пассажирском сиденье, Джон быстро ехал по направлению к дому. Он решил пойти на блеф: он снимет упаковку, выбросит коробки и этикетки и выдаст эти полуфабрикаты за свежее мясо.
Если к его возвращению они все уже будут слега навеселе, то он сможет пронести свои приобретения мимо них прямо к барбекю. Они потом будут хвалить его стряпню: «Как вкусно!» и «У Лэйтона всегда отличное мясо». Тогда ему не следует мчаться домой на всех парах, а лучше остановиться в гольф-клубе и выпить пинту пива. Дать им еще полчасика, чтобы они окончательно созрели.
В клубе никто из присутствующих не подал виду, что узнал Джона, никто не подошел к нему, чтобы шлепнуть по плечу или угостить пивом, никто не искал его общества. Он взобрался на табурет у бара и, поскольку для обслуживающего персонала он был также невидим, постучал монетой по барной стойке.
На девушке, принявшей его заказ, было надето что-то невероятное. Ее костюм напомнил Джону дочку Элли, только в Джуин было что-то милое, что-то трогательное. Она была очень симпатичной, несмотря на все ее старания скрыть это. Он бы… Как это Доминик выразился? Очень точно, как показалось Джону. Ах да, «он бы не выкинул ее из постели».
Он залпом выпил двойную порцию виски и почувствовал себя гораздо спокойнее. Виски было бальзамом для его души, это было как раз то, что нужно. Он чуть не опростоволосился, но вовремя спохватился и все исправил. Джон достал еще одну монетку и — тук-тук-тук — постучал ею по стойке. Он решил наградить себя за предприимчивость и повторить заказ.
В девять часов вечера гости Горстов смотрели на салаты. Джеральдин позвонила в офис, позвонила в полицию. Гостям она могла сказать только, что Джон очень спешил, что он очень старался… Она сказала, что, должно быть, его задержали неотложные дела…
В половине десятого, когда уже начинало темнеть, когда мужей уже послали к машинам за кардиганами, на дорожке зашуршали шины «ровера».
Прошла минута, две, три, и наконец из-за утла дома вышел Джон Горст. Его галстук сбился на сторону, в руках он сжимал большой пакет в красно-белую полоску, на котором подозрительно отсутствовал логотип мясного магазина Лэйтона.
Джеральдин не сдержалась. Она старалась, но не смогла.
— Джон, — проговорила она ошеломленно, — где ты был? Мы все умираем с голода. — И добавила, когда до нее дошел весь ужас ситуации: — И в каком ты виде? Ты же пьян.
Глава седьмая
Элли приснилось, что она открыла собственное дело по продаже интересных разговоров. Оно заключалось в том, что она писала на компьютере сценарии диалогов, представляющие собой фонтаны идей, остроумия и мудрости. Потом два совершенно неумных человека, абсолютные тупицы, садились за стол друг напротив друга и, постоянно сверяясь с распечатанным для них сценарием, начинали блестящую дискуссию, на которую они с их интеллектуальными возможностями в принципе не были способны. За это они щедро платили. Бизнес приносил огромные деньги.
Обычно Элли пробуждалась от своих снов с ощущением, что посмотрела кино — высокохудожественное и эротическое. А сегодня утром ее первой мыслью было то, что во сне ее посетила шикарная идея, которая и в реальности поможет ей заработать состояние. Только после того, как она прикинула возможные темы для своих диалогов — политика, религия, театр, монархия, экзистенциализм, диалектический материализм, рыболовство и командные спортивные игры, смысл жизни, — ей пришло в голову, что она, должно быть, еще находилась в пестром и ярко освещенном вестибюле подсознания, в дреме, что она все еще видит сон, пусть и удивительно ясный, и что ей еще только предстоит выйти в реальный мир. Рыболовство и командные спортивные игры, в самом деле!
Она полежала с закрытыми глазами, внимая дразнящим, перемешивающимся ароматам Италии: старинных каменных стен, натруженных деревянных балок, зреющих абрикосов, противокомариной свечи, которую Элли зажгла с вечера (напрасно, поскольку всю ночь ей пришлось сражаться с одним особенно назойливым кровососом, пикировавшим над ее ухом). Сквозь веки она ощущала волны раннего солнца. Стоящие на вершинах холмов звонницы поздоровались друг с другом: недовольно стонущие церковные колокола, которым давно уже было пора на пенсию, пробили девять часов утра.
«Я наслаждаюсь, — сказала себе Элли. — Я в Тоскане, в отпуске, и я счастлива до глубины души».
Но это было не так. На самом деле она чувствовала себя плохо. В понедельник, на третье утро после прибытия в Иль-Подж, ее мучило похмелье, она была слаба, пропитана вином, пресыщена окружающей красотой. Dolche far niente — сладость ничегонеделанья — была не для Элейн Шарп; вынужденное безделье довольно быстро начинало раздражать ее. Она-то думала, что с единомышленниками можно отлично провести время, однако здесь встреча с людьми, разделяющими ее взгляды, оказалась не столько встречей, сколько столкновением — так в оркестре сталкиваются медные тарелки. И говорили они исключительно о работе. Никогда раньше газетный мир и все с ним связанное не надоедали ей так сильно! Элли скучала по дому, скучала по Джуин. Она даже немного скучала по своим постоянным стычкам со злополучным Тревором. «А хуже всего то, — подумала Элли, — что во рту у меня так же невкусно, как под мышкой у уличного скрипача».
Элли и Пэтти прилетели в Пизу в пятницу после обеда, обе возбужденно-радостные, громко жалея бедных, невезучих простофиль, к которым судьба не была столь благосклонна и которые вынуждены были остаться в «Глоуб Тауэр». В аэропорту они взяли напрокат автомобиль и поехали в Иль-Подж. По пути они останавливались только в Эсселунге, чтобы как следует запастись сыром, макаронами, помидорами, луком и свежим базиликом. Правда, тогда Элли все еще держала обиду на свою спутницу за то, что та не приглашала ее с собой раньше в эту увеселительную поездку.
Прикрыв глаза темными очками, Элли исподтишка поглядывала на Ла Хендерсон (которая, ожесточенно крутя рулем их «фиата-типо», то создавала на дороге аварийные ситуации, то пыталась избежать их) и перебирала в уме ее недостатки и минусы. Цвет кожи этой «разведенной блондинки сорока девяти лет» (как описывал ее «Глоуб») напоминал непропеченное тесто, и даже загар не мог этого скрыть. Щеки и нос были забрызганы веснушками, которые выглядели не очень уместно на лице женщины такого возраста (Элли считала, что Пэтти давно уже выросла из них). Ее рот был каким-то слишком уж мягким, и поэтому казалось, что ее лицо складывается внутрь себя. Может, Элли была слишком категорична в своем суждении? Слишком придирчива? Нетерпима? Элли так не думала.
В любом случае частично это компенсировалось маленьким, компактным телом, которое выглядело очень неплохо в одежде и (теперь Элли вынуждена была признать, пусть неохотно) довольно сносно без одежды.
Где-то с милю им пришлось пробираться по грязному проселку, изрезанному глубокими колеями, петлявшему так, что голова кружилась, пока наконец они не въехали в Поджио-дель-Венто.
— Почему бы тебе не отремонтировать дорогу? — недовольно спросила Элли, когда колеса провалились в очередной кратер и она очередной раз стукнулась головой об окно.
— Это страшно дорого, — отмела предложение Пэтти. — Ты не представляешь. И вообще, лучше пусть все остается так, как есть. Зато чужаки не сунутся. О, смотри, смотри же. Это Паоло, пришел встретить нас. Он фермер, тот самый, который присматривает за домом, когда меня нет. Здорово! Он принес вино и оливковое масло! Знаешь, мы сами делаем и вино, и масло?
— Вы?
— Ну, не лично я, разумеется, — с веселым смехом уточнила Пэтти. Что же, она, большая начальница, будет сама давить виноград, ха-ха? Когда начнется vendemmia — та сумасшедшая неделя, на протяжении которой нужно собрать весь урожай винограда, — она уже будет в Англии.
— Ciao, principessa — здравствуйте, принцесса, — поприветствовал Пэтти добродушный Паоло, держа ее за локти, словно неловкий танцор.
— Ciao, Paolo. Come vai? — Здравствуй, Паоло. Как дела?
«Показуха», — решила про себя Элли, мрачно ожидая, пока ее представят.
— Да, Паоло, познакомься, это моя подруга — la mia amica, Элейн Шарп. Из Лондона.
— Рад познакомиться. — Паоло, симпатичный шестидесятилетний мужчина с добрыми глазами, окруженными морщинками, и темным от загара лицом, оглядел ее с нескрываемым одобрением и пожал ей руку («Мужчина с хорошим вкусом», — решила про себя Элли).
— Пойдем, покажу тебе дом, — позвала ее затем Пэтти, взяла за локоть и повела внутрь дома. — Это типичный крестьянский дом. Мы с Генри купили его на мое наследство и его компенсацию от «Миррор». После развода дом отошел мне. А Генри получает долю от дохода с аренды. Как видишь, все очень скромно, ничего особенного. Мы оставили этот буколический стиль, так сказать — деревенский. Надеюсь, тебе понравится.
И Элли обошла за хозяйкой весь дом — одну комнату за другой. Первый этаж показался ей довольно мрачным, поскольку строили его так, чтобы внутрь попадало как можно меньше солнца. Однако прямо сказать об этом было бы невежливо. Но у Элли появилась возможность выразить искренний восторг, когда они поднялись по лестнице на второй этаж, наполненный ярким солнечным светом и свежим воздухом.
— А это твоя комната, — провозгласила Пэтти. — Это лучшая из спален для гостей, поэтому можешь считать себя страшно польщенной. Ванная рядом. Давай умоемся, освежимся и встретимся внизу через… Сколько времени тебе понадобится? Двадцать минут? Значит, встретимся внизу и попробуем домашнее вино. Ну, что скажешь?
Что могла сказать Элли? Она сказала: «Отлично!»
Ближе к вечеру того же дня из Франции приехали на машине Саймон и Тина Талли — покрытые пылью и в дурном настроении. Проблемы с навигацией привели к размолвкам, размолвки — к горьким обвинениям, с обеих сторон прозвучала угроза развода, и то, что было задумано как романтическое путешествие, в действительности обернулось кошмаром. На следующий день с прибытием Майка Брейтуэйта из отдела иллюстраций и Симуса Хикса из отдела спортивных новостей их маленькая компания была в сборе. Ну или почти в сборе. К ним должен был присоединиться еще один человек, которого ждали — по крайней мере, некоторые, — с еле скрываемым нетерпением.
«Мальчики», полагая, что их пригласили в качестве ухажеров за незамужними женщинами, были не совсем уверены в своем статусе и нуждались в четко поставленных задачах, поэтому обычно им поручали откупоривать бутылки и растапливать печи для пиццы. Этим они и занимались — ворчливо и неуклюже.
Сейчас, лежа на непривычном, комковатом матрасе, в кровати под балдахином, Элли услышала ритмичное поскрипывание гравия под ногами идущего человека. Она открыла глаза и, потратив несколько секунд на созерцание потолочных балок, села в постели. Босыми ступнями она нащупала маленький прямоугольный коврик, прикрывающий грубо вытесанные и покрашенные красным кирпичи пола, который Пэтти называла обоженный. Щурясь, Элли дотянулась до коробочки с контактными линзами, плюнула поочередно на каждую линзу и вставила их в глаза.
Ее комната была угловой, и окна, глубоко сидящие в толстых каменных стенах дома, выходили на две стороны. В одном из них открывался вид на плотные ряды виноградников и серебристые оливковые деревья, ведущие к притаившейся в холмах деревушке. Вечерами, когда на фоне закатного неба высился темный силуэт деревенской церкви и торжественная процессия кипарисов с трудом взбиралась на вершину холма, когда колокола отзванивали семь, восемь, девять часов, окно казалось рамой прекрасной картины маслом. Через другое окно, в которое высунулась сейчас Элли, опираясь руками о холодный мрамор подоконника, видны были поля, окутанные голубой дымкой, и вдали — город Лукка. По ночам городок, окруженный крепостной стеной, блестел яркими огнями, но в утреннем тумане и сквозь мутные линзы Элли едва могла различить его.
В центре городка, как писали путеводители, стоял собор двенадцатого века, в левом трансепте которого находилась гробница Иларии дель Карретто, возведенная Якопо делла Кверчиа. Еще там были: вилла Гуиниджи, на высоких квадратных башнях которой беспечно разросся гигантский дуб; романская церковь Сан-Фредиано; вилла Манси с ее страшной средневековой тайной; изысканные сады Палаццо Пфаннер…
Приятно было осознавать, что до всех этих достопримечательностей было рукой подать, но осматривать их все не было никакой нужды. Они уже простояли сотни лет и с холодным равнодушием вполне дождутся следующего визита Элли в эти края. Кроме того, она уже и так находилась совсем рядом с ними, она читала о них, пусть и поверхностно; ей уже стало казаться, что она видела их, а значит, все эти памятники старины можно смело отнести к воспоминаниям.
Элейн помечтала немного о том, как бы она провела эти две недели в Италии, если бы с ней поехали ее настоящие подруги, вся их компания: Наоми, Джеральдин, Кейт и она сама. Джеральдин в первую очередь нашла бы сочувствующего фармацевта и жестами и мимикой изобразила бы ему какое-нибудь ужасное недомогание, а потом отправилась бы на осмотр достопримечательностей. Она бы приклеилась к одному из гидов и ходила бы за ним на своих крошечных ногах по древним, вымощенным плиткой тротуарам, слушала бы кассеты с английским переводом экскурсии, серьезно разглядывала бы изображения святого Реголо или стропила какой-нибудь темной, гулкой церкви, окутанной дымкой воскурений. Кейт тоже захотела бы исследовать город, но самостоятельно: с картой в руках она упрямо пробиралась бы по узким улочкам в мешковатых шортах и парусиновых туфлях, с ясными глазами и разрумянившаяся от волнения, с обгоревшими на солнце руками, с сумкой через плечо. А Наоми и Элли тем временем потягивали бы «Беллини» — кстати, что это за коктейли такие «Беллини»? — восхищаясь маленькими упругими попками итальянских юношей и, несомненно, вызывая ответное восхищение. Да, насколько интереснее, полнокровнее была бы эта поездка, если бы она могла разделить ее с теми, кто ей ближе и дороже.
Элли взглянула на террасу под окном и увидела там Пэтти. Значит, те шаги по гравию принадлежали ей. Пэтти сидела на пластмассовом стуле, положив ноги на балюстраду, среди горшков со стелющейся розовой геранью и миниатюрными лимонными деревьями. В руках она держала чашку кофе, взгляд же ее был устремлен через долину к горизонту, где таяли остатки утреннего тумана. В платье из осветленного льна со скрещивающимися лямками на спине она выглядела невозмутимо и элегантно. Но сверху Элли было видно, что Пэтти срочно нужно подкрасить волосы, потому что у корней проглядывала седина.
Подавленное настроение Элли чудесным образом развеялось. Она нацепила лимонный с черным спортивный костюм из лайкры и сбежала вниз по лестнице в лишенную солнца кухню. Там на плите она обнаружила алюминиевый кувшин с горячим кофе и налила себе немного в чашку.
В сдвоенной раковине ожидали добровольца чашки, миски из-под салата, тарелки, сковородки для пиццы. Игра состояла в том, чтобы дождаться, кто не выдержит первым или кто продержится дольше всех. Следуя теории о том, что в каждой группе со временем должен проявиться прирожденный лидер, можно было рассчитывать, что точно так же среди них проявится и прирожденный мойщик посуды. Но если таковой и имелся в их небольшом коллективе, то его еще предстояло вычислить. «А вот если бы здесь была Кейт…» — второй раз за это утро подумала Элли с ласковым презрением, которое удивительным образом равнялось привязанности. Она еще раз взглянула на гору грязной посуды, пожала плечами и покинула кухню, чтобы присоединиться к своей начальнице.
Две дамы обменялись краткими приветствиями и сели бок о бок, подставив лица солнцу, закрыв глаза от постепенно набирающего силу сияния.
— Благодать, да? — осведомилась Пэтти.
За эти несколько дней Элли узнала, что Пэтти могла быть гостеприимной хозяйкой, она вкусно кормила, усердно потчевала вином, но в качестве компенсации всем постоянно приходилось говорить ей комплименты.
— Хм, — бесцеремонно промямлила Элли в ответ. Никто — никто! — не указывал Элейн Шарп, что говорить. Она не льстила по заказу. Разве она попугай какой-нибудь, чтобы производить бессмысленные звуки, когда ни потребуют? И к тому же захватывающие виды — это очень хорошо, но что с ними можно делать? Чем больше на них смотришь, тем больше задумываешься о себе самом и в конце концов чувствуешь себя совершенно несчастным. Дотянуться до них еще можно, но взять их, влезть в них, прижать эти виды к груди невозможно. Потом в глазах начинает щипать, в голову лезут непрошеные мысли о морали и тому подобной чепухе. Поэтому Элли оставила свои восторги при себе и только заметила с удовлетворением в голосе:
— А сегодня утром конференция. О перспективах.
— Для тех, кто не смог сбежать, — подхватила Пэтти, довольно вздыхая.
Они погрузились в летаргическое, но весьма дружелюбное молчание. Минут десять спустя Пэтти спросила:
— Если бы тебе пообещали выполнить одно любое твое желание, чтобы ты загадала: мир во всем мире или чтобы больше не было целлюлита?
— Ну и задачка. — Элли нахмурила брови, сморщилась, обдумывая вопрос, потом украдкой скосила глаза на бедро мисс Хендерсон, точнее, на ту его часть, что виднелась из-под платья.
— И тогда все женщины стали бы равны? — настаивала Пэтти.
Элли, неохотно, но все же признала, что и она выбрала бы второе.
За этим снова последовало молчание: женщины предавались раздумьям о своих печалях. «Какая жалость, — пришли они к выводу, — что миру во всем мире придется подождать».
То и дело со стоящего неподалеку дерева отрывался грецкий орех, проскальзывал между ветками и падал на траву. Несколько раз две похожие на волков желтоглазые фермерские собаки подбегали к загорающим дамам и тыкались в них мокрыми носами.
— Фи! — отмахивалась от них Элли, и они, часто дыша, снова куда-то убегали.
Присмотревшись, Элли заметила, что густо заросшая лужайка перед домом была вся покрыта собачьими кучками и спелыми, гладкими, как галька, грецкими орехами.
— А говорят, что его не существует, — наконец проговорила Пэтти.
— Чего? — не поняла Элли, погруженная в мечты. — Бесплатного обеда?
— Да нет же, целлюлита. Утверждают, что его в принципе нет. Но доказательство того, что он реален, у нас перед глазами, ведь так?
— Да, кажется, я видела это явление. Где-то.
Капризный ветерок в очередной раз поменял направление и вместо аромата абрикосов бросил им в лицо резкий, будоражащий запах бассейна.
— Надо бы пойти поплавать, — неопределенно предложила Пэтти.
— Надо бы.
Но обе женщины лишь поерзали на стульях, устраиваясь поудобнее. Пусть «мальчики» плавают за них, ныряют, кто глубже, режут гребками воду, обливают друг друга и гикают. Пусть их организмы испытают, как освежает и бодрит шок от погружения в холодную воду.
— Плавание плохо тем, — задумчиво произнесла Элли, — что оно означает необходимость намокнуть.
— Да, это хуже всего.
— И волосы…
— Точно.
— Уж не говорю о…
— Размазанной туши на глазах.
— Вот если бы изобрели сухой бассейн. Придумали бы другое вещество, в котором можно было бы плавать. Какое-нибудь желе, например, а? Тот, кто изобрел бы…
— Или изобрела.
— Или изобрела, действительно. Так вот, этот мужчина — или женщина — заработал бы кучу денег. Знаешь, прошлой ночью мне снилось…
— Что ты вернулась в Мэндерли[44]?
— Не совсем. Мне снилось, что… — Но тут Элли поняла, что ей не хочется рассказывать о замысловатых и необъяснимых плодах работы ее подсознания.
— Отдыхающим доброе утро! — Аморфная тень, появившаяся в гостиной, продвинулась к входной двери, где сгустилась и приняла форму Саймона Талли. Он широко улыбался и выглядел страшно самодовольным. Супруги Талли незаметно, понемногу начинали раздражать Элли. Все эти дни и ночи парочка работала над восстановлением мира в своей семье, который, как казалось в пятницу вечером, был безвозвратно потерян. В послеполуденный жар они, нагрузившись едой, с показной хвастливостью удалялись в свою комнату, объявляя, что они отправляются наверх на «сиесту».
Не на сиесту, а трахаться, мысленно поправляла их Элли. Хитрые бестии! Из всех четвероногих животных меньше всего ей нравилась эта супружеская пара. Муж и жена казались ей гигантским животным с двумя головами — чтобы удобнее было хвалить себя, — которое всегда занимало самые удобные кресла, где предавалось вылизыванию и вычесыванию, как кошка. С гораздо большим интересом Элли понаблюдала бы за тем, как распадается этот союз. Она ненавидела взаимную симпатию Талли, то, как они смотрели друг на друга, как передавали салат или наполняли стакан вином сначала супругу и только потом остальным, сидящим за столом. А мысль о том, что после стольких лет в браке они по-прежнему занимались сексом, просто вызывала у Элли отвращение. Будь они нормальными людьми, то развлекались бы на стороне, а брачные узы использовали бы как основу для чего-нибудь более интеллектуального.
— Как спалось? — спросила Пэтти сладко, мило, как и следовало спрашивать у заместителя главного редактора «Инкуайрера», которого, по слухам, руководство «Глоуба» обхаживало с целью привлечения на очень высокую должность.
— Глаз не сомкнул, — ответил Саймон и многозначительно засмеялся.
Это был высокий мужчина, почти толстый (бицепсы, трицепсы, грудные мышцы изо всех сил старались заявить о своем присутствии под слоями сала), с по-детски округлыми щеками и обманчиво печальными карими глазами, с которых он постоянно смахивал прядь жидких волос. В майке и шортах по колено он очень походил на хамоватого любителя пива, и действительно, в деловых кругах он был известен своей хулиганской тактикой.
Тина была высокой и стройной, с темными волосами почти до пояса, которыми она много размахивала и которые украшала пластмассовыми заколками, бархатными розочками и — в последнее время — вялыми олеандрами. Она старалась походить на танцовщицу фламенко, в связи с чем придумала себе новую походку — с преувеличенным покачиванием бедрами. Элли хотелось кричать при виде этого смехотворного виляния. Раньше Тина и Пэтти вместе работали в журнале «Миа», они знали друг друга уже многие годы и любили повспоминать былые времена, при этом исключая из разговора остальных присутствующих.
— Какие у нас на сегодня планы? — хотел знать Саймон.
— Может, съездим куда-нибудь пообедать? — предложила Элли, помня о кризисе с чистой посудой (если не воспользоваться услугами одного из местных ресторанов, уже сегодня кому-то придется освободить раковину и вымыть несколько тарелок и стаканов).
Но никто не отреагировал на это предложение. Было еще слишком рано для того, чтобы строить планы.
Вместо этого Саймон спросил у Элли (и она различила в этом вопросе нотки сарказма):
— А кто же замещает Элли Шарп в газете, пока сама Элли Шарп является душой и жизнью нашей компании?
— Вряд ли ты о ней слышал. — Элли зевнула в знак своего полного безразличия к вопросу. — Какое-то ничтожество из отдела новостей, — добавила она, — только что закончила школу. Хочет быть журналисткой, когда вырастет. — Элли не имела права решать, кто будет ее заменой, да ее и не очень волновало, кто заполнит пустое место, пока она отдыхает. А сноска мелким курсивом успокоит читателей: Элли Шарп в отпуске, но скоро вернется.
— Дон Хэнкок. — Пэтти была более осведомлена в этом вопросе.
«Хэнкок-на-полчаса», — насмешливо подумала Элли. Пусть эта Дон насладится получасом славы, что было в два раза дольше, чем Энди Уорхол[45] давал ничтожествам этого мира, и на тридцать минут дольше, чем заслуживала сама девчонка.
Но Саймон кивнул с таким видом, как будто это имя что-то говорило ему:
— Получила приз за талант в «Миа» пару лет назад, о чем ты, Пэтти, разумеется, знаешь. Тина очень высоко отзывается о ней.
— Конечно, я знаю. — Самодовольно улыбаясь, Пэтти расправила платье на коленях. — Это же я привела ее в газету. Она в некотором роде моя протеже.
Сощурив глаза, Элли тяжелым взглядом уставилась на солнце: почему-то сегодня оно крайне медленно переползало через двор. Ее мысли обратились к холодильнику, где охлаждалось домашнее желтое вино, и она задумалась, насколько будет прилично предложить всем выпить по глотку этого мерзкого напитка (странно, но, начав его пить, было трудно остановиться). Сверившись с часами, она обнаружила, что еще не было и десяти. А в Англии и вообще девять. Да, придется подождать.
Но скоро они все равно переберутся к бассейну, а там обязательно кто-нибудь попросит принести чего-нибудь освежающего. Ведь здесь все они были одного поля ягоды. Она находилась среди себе подобных.
Однако странно то, что в Лондоне они казались ей умнее; там Элли видела в них больше толку. В офисе, в городе, в клубах, на презентациях и других журналистских тусовках они были на своем месте. Здесь же, на фоне непривычных пейзажей, они таинственным образом стали чужими. И они постоянно жаловались и ворчали. Все они получали очень хорошую зарплату, большая часть их расходов возмещалась компанией, они были состоятельны, и тем не менее они считали себя обиженными судьбой и людьми. У Элли, выросшей практически в нищете и теперь считавшей себя богатой, как Крез, их сетования просто не укладывались в голове.
— Так когда же Гарви почтит нас своим присутствием? — поинтересовался Саймон.
— Дэвид? Через пару дней. Он позвонит мне из аэропорта, и я съезжу за ним на «типо».
— Буду рад встретиться со старым повесой. К тому же мы ведь теперь будем вместе работать.
— Я тоже буду рада, — согласилась Пэтти и принялась как-то по-девичьи бесхитростно перебирать подол платья. — Очень рада.
Элли отвернулась. Ладонью, как дверью, она закрыла лицо. Ей необходимо было это сделать. Она просто не могла на это смотреть. И нельзя было допустить, чтобы другие увидели ее болезненную реакцию. В этот момент Элли выглядела так же, как когда лошадь полицейского наступила ей на ногу в период ее увлечения классовой борьбой (с годами память об этом событии смазалась, и так появился рассказ о том, как Элли вытащила из седла одного из лакеев капитализма). В немом крике ее рот открывался все шире и шире.
Потом Элли повернулась обратно, невозмутимо улыбнулась и произнесла с намеренной небрежностью:
— Дэвид Гарви? Ах да, я хорошо знаю его семью. Его сестра и его бывшая жена, мать его сына, — мои лучшие подруги.
Джуин Шарп была счастлива. После всех тех событий она уже стала думать, что никогда больше не сможет быть счастливой. Но сейчас она испытывала глубокое, тайное удовлетворение, непостижимое спокойствие, и этому ощущению не могла помешать даже инфантильная Люси, делившая с Джуин комнату. Такое чувство она испытывала будучи маленькой девочкой, когда, выздоравливая после одной из тяжелых детских болезней, еще слабая, но уже не мучительно нездоровая, она видела более ласковую, более заботливую, чем обычно, мать — хотя это проявление мягкости было строго временным, обусловленным высокой температурой и измученным видом Джуин. В такие моменты ей казалось, что выздоравливает ее душа. Она представляла себе, что она пережила долгое тяжелое испытание, и что теперь некое сверхчеловеческое существо присматривает за ее душой, возвращая ей психологическое здоровье.
Наверное, больше никогда в жизни она не сможет полюбить. Наверное, она никогда не выйдет замуж. Вместо этого она посвятит себя добрым деяниям; молча, скромно будет она служить людям. И тогда ее существование не будет бесцельным. А пока, вопреки всем своим ожиданиям, она наслаждалась поездкой в Шотландию.
Они выехали на «ровере» в пятницу рано утром. Джуин теснилась на заднем сиденье между Люси и Домиником. На коленях у нее покачивался Маффи (подушечки его лап давили поочередно то на ее правое бедро, то на левое). Когда они остановились, чтобы выпить кофе и, как выразилась Джеральдин, перехватить чего-нибудь, Доминик великодушно предложил Джуин сесть на его место у окна, и до самого Кнутсфорда Маффи восторженно дышал на стекло. Там Доминик, утверждая, что у него судороги, поменялся местами с недовольной Люси, и так они добрались до заправки в Форстоне. К тому моменту Джеральдин так устала унимать постоянные препирательства дочери и отмахиваться от Маффи, норовившего полизать ей шею, что сказала Джуин перейти вперед, а сама огромным защитным валом уселась между своими докучливыми детьми.
Вот что такое семья, четырехугольная конструкция, довольно странная на взгляд Джуин, привычной к менее жесткой структуре.
В Ланкашире машин на дороге стало меньше. В Кумбрии они вообще почти исчезли. А когда «ровер» пересек границу Шотландии, Джуин впервые в жизни увидела пустынное шоссе.
Она не ожидала, что в Шотландии будет так красиво (картинки на жестяных банках из-под масляного шотландского печенья оказались плохой рекламой) или что свет, неохотно умирающий в конце северного дня, будет таким ясным. И она не могла себе представить, что конечный пункт их путешествия окажется столь чарующим.
Уэверли, шотландский дом Горстов, был выбелен известкой и покрыт шифером. В полном одиночестве, с упрямым достоинством, он стоял на крутом морском берегу. К пустынному пляжу спускалась извилистая неровная тропа. Низкая стена, сплошь покрытая желтым лишайником, отмечала границы собственности, но в остальном сад мало отличался от окружающих его акров топкого дерна, приморской смолевки, лекарственной ложечницы и армерии. Скрипучие ворота, когда-то выкрашенные зеленой краской, в два раза выше забора, бесцельно и неустанно заявляли о территориальных правах. За ними кто-то начинал строить сад камней и ракушек, но бросил затею не закончив. В Уэверли десятилетиями ничего не сажали, но, должно быть, ветер занес сюда семена из садов и огородов других людей. Так появилась мальва. И так же, наверное, появились заросли чего-то похожего на капусту. В кирпичной пристройке гнилые шезлонги и рваные тенты на деревянных рамах служили пристанищем для колоний крохотных пауков.
Сам дом был обставлен скудно, в основном аскетической деревянной мебелью, призванной выстоять против налетов платных постояльцев. Тон задавали вощеные деревянные полы, истертая плитка и простые, износостойкие ткани. В кухне и старомодной судомойне, расположенной в полуподвале, стоял сырой, неистребимый запах грибов. Но если стать в нескольких шагах от одного из окон, выходящих на море, то видно было только небо.
По ночам Джуин лежала без сна и слушала, как наступал и откатывался прилив, как волны вздыхали на берегу и оборачивались вокруг подножия утесов и как потом океан забирал их обратно к себе.
«Надо будет написать в Даунсайд», — решила Джуин в понедельник утром, лежа под простыней. Она прогуляется вдоль берега до местного отделения почты и выберет на витрине симпатичную открытку, более или менее точно представляющую этот райский уголок. Потом она сядет на берегу, напишет дружеское письмо на имя миссис Саутгейт и опустит его в почтовый ящик. Как бы она хотела, чтобы можно было взять с собой кусочек Уэверли и поделиться им со всеми ее старыми дамами: Мэйбел Флауэрс и Верой Солтер, мисс Читти и мисс Армитидж…
Когда снизу из кухни стали доноситься голоса, когда бряцание железной сковороды о плиту эхом разнеслось по дымоходу до самой трубы, Джуин решила, что пора вставать. Горсты садились завтракать все вместе — эта необычная для Джуин традиция со временем стала ей нравиться. Дома же она обычно ела, поставив тарелку на колени, в компании лишь телевизора и Маффи. А вот соблазнительным шепотом заявил о себе жарящийся бекон, и Джуин повторила про себя торжественную клятву не есть его.
Буквально перед самой поездкой в Шотландию Джуин решила стать вегетарианкой (ни кусочка мяса больше не коснется ее губ!). Элли сочла это признаком упрямства. «Ты просто вредничаешь, — обвинила она дочь. — Мне в Италии не будет ни минуты покоя при мысли о том, что ты причиняешь Джеральдин лишние хлопоты. Какая же ты все-таки эгоистка!» Но решение Джуин не было поверхностным: оно основывалось на ее новой философии. Ведь не было никакой гарантии в том, что в следующем своем воплощении на Земле Джуин, несмотря на все свои усилия, на запланированные ею добрые деяния, не окажется свиньей (породы темворс, мидл-уайт или глочестерская олд-спот), которую потом засолят и нарежут ломтиками. А что касается Элли или, например, Тревора, то существовала довольно высокая вероятность того, что они в следующей жизни воплотятся в коров и закончат жизнь в морозилке универсама порционными кусками, упакованными на подносах из полистирола.
Однако сообщение Джуин о том, что она поклялась не есть мясные продукты, сделанное за ужином в пятницу, вызвало гораздо меньшее неудовольствие Джеральдин, чем золотое колечко в носу девочки. Оно напоминало о глочестерских свиньях. Джеральдин так и сказала, что кольца в носу носят только свиньи. Свиньи и примитивные люди, от которых большего нечего ожидать.
— Следующий пирсинг, — заявила Джуин, ничуть не смутившись и беря второй кусок хлеба, — я сделаю на пупке. Когда накоплю достаточно денег.
— Я бы с удовольствием посмотрел на результат, — высказал свое мнение Доминик.
Ох, как же ей надоел Доминик Горст! Его бесконечные шуточки ужасно раздражали. Откинув простыню, Джуин соскользнула с кровати и подошла к окну, чтобы постоять в ночнушке на нагретых солнцем досках пола, в озерце бледного света.
Внизу на берегу она увидела Доминика. Он и Маффи выделывали такие курбеты, что казалось, будто земное притяжение для них не существовало, будто они умеют летать — пусть недалеко и невысоко.
Джуин наблюдала за тем, как Доминик побежал в море, поднимая облако водяных искр, и нырнул в буруны — при одной мысли о ледяных объятиях воды у Джуин перехватило дыхание. Маффи же исступленно гонялся за озорными волнами, выпрыгивавшими на берег.
Смотреть, как скачет и лает ее собака, было так радостно, что эмоции переполнили Джуин. Она схватила кота Гарфилда — отвратительную мягкую игрушку Люси — и растроганно прижала его к груди.
— Джуин! — раздался позади нее голос, хриплый после сна.
— А, Люси! — Джуин сумела выдать легкое смущение за раздражение. — Дурацкая игрушка. Тебе уже поздно играть с ними, — отчитала она Люси, резко отвернувшись от окна, и бросила уродливого Гарфилда на пол.
— Это мой талисман, между прочим, — горячо возразила Люси. Ее волосы были заправлены за уши, лицо казалось смятым после сна, на щеке крестиками отпечатались следы от подушки, отчего складывалось впечатление, что она вот-вот заплачет.
Джуин, тронутая видом Люси, тут же пожалела о своей вспышке.
— Тогда ладно, — уступила она.
Она нагнулась, чтобы поднять полосатого кота, зачем-то отряхнула его от пыли и бросила Люси. Та поймала его и одарила небрежным, собственническим поцелуем в голову.
— Он приносит мне удачу, — объяснила она.
— Понятно.
— Джуин.
— Что?
— А что такое французский поцелуй?
— Ну-у… Насколько мне известно, это такой поцелуй, когда парень сует язык тебе в рот. И наоборот.
— И все?
— Все. А что тебе еще надо? Хотя на самом деле это больше, чем кажется, в некотором смысле. Послушай… — Осознав лежащую на ней ответственность, Джуин заговорила важным тоном старшей сестры. — Надеюсь, ты не собираешься попробовать это сама? Потому что ты еще слишком мала для таких вещей. Сомневаюсь, что ты доросла для этого.
— Нет, что ты, — быстро разуверила ее Люси.
— Точно?
— Точно. — Люси закрыла лицо простыней и прерывисто вздохнула под ней. Хлопчатобумажная ткань вздулась пузырем, потом осела и приняла черты лица Люси. — Мне просто надо было узнать, что это такое, — призналась она из-под простыни. — Потому что в школе две девочки все трещали об этих французских поцелуях, а потом и говорят: «А она и понятия не имеет, о чем это мы». То есть я. Я сказала, что, конечно, я знаю, что это такое и сама целовалась так тысячу раз. Правда, кажется, они не поверили.
— Ну да.
— А что такое засосы? — Люси откинула простыню. Она наполовину свесилась с кровати, желая получить драгоценные сведения.
— Засосы это и есть засосы. Вот если увидишь у кого-нибудь на шее что-то вроде синяка, то это он и есть, скорее всего. Они получаются, когда кусаешь и сосешь одновременно. Говорят, от них можно избавиться, если массажировать расческой. Или можно скрыть косметикой. Или надеть шарф.
— А у тебя был когда-нибудь засос?
— Может, и был.
— А это больно?
— Во всяком случае, в пылу чувств этого не замечаешь.
— Ты ведь не против, что я спрашиваю тебя обо всем этом? Не у мамы же мне консультироваться.
— Можешь консультироваться у моей мамы, — заметила Джуин. — Вот она расскажет тебе все, от «а» до «я». Все, что ты хотела знать о сексе, но боялась спросить.
— А ты когда-нибудь доходила… до конца?
— Не твоего ума дело, — отрезала Джуин и, скрестив руки, взяла ночнушку за подол и стянула ее через голову.
«Вот это да, — подумала Люси, задрожав от ужаса, зачарованная видом маленьких твердых грудей, узкой талии, аккуратного треугольника темных волос на лобке. — Надеюсь, она не лесбиянка». Люси вдруг пришло в голову, что Джуин действительно выглядит вроде… ну, как одна из тех.
— Ты что, собираешься пролежать так весь день? — спросила Джуин. — Вставай, мы опоздаем на завтрак.
— Да. Нет. Прости, если я сказала что-то не то.
— Ничего.
— Иногда я чувствую себя такой дурой. Такой наивной. Потому что хотя у нас есть в школе предмет «Сексуальное образование» и нам рассказали, откуда берутся дети и как не заразиться СПИДом, о самом важном они ни слова не сказали. А Сара Брук и Джасинта Эйнсли так воображают, как будто они лучше всех, а все из-за того, что у них обеих есть бойфренды, причем у Сары постоянный.
— На твоем месте, — дала Джуин добрый искренний совет, — я бы послала Сару Брук и Джасинту Эйнсли к чертовой матери. Так, еще вопросы есть?
— Нет.
— Отлично. Потому что… — Джуин обмотала вокруг себя полотенце, закрепив его узлом на груди, — я иду в ванную.
И она уже почти дошла до ванной, когда услышала:
— Только вот…
— Что, Люси?
— Скажи, а ты не из тех?
Доминик Гарви еще не отдышался после своего заплыва и пробежки вверх по тропе. Войдя в ворота, он бросился на землю, и теперь лежал головой в стеблях дикой капусты, среди раковин заброшенного сада камней, блаженствуя в лучах солнца. Сквозь неплотно закрытые глаза он наблюдал за дюжиной крохотных тонкокрылых бабочек. Доминик остро ощущал свое тело, сильное и загорелое. В этот момент он испытывал к себе сильнейшую любовь. И почти до самых ушей растянула его губы похотливая улыбка, когда он вспомнил, как в окне прямо над ним на несколько мучительных секунд ему явилась совершенно голая Джуин Шарп. Та самая Джуин с хрупким, мальчишеским, просто созданным для трахача телом, которая могла сделать для него эту поездку настоящим праздником — если бы поступила так, как хочет он.
— Вегетарианство? Каприз и чепуха. Маленькая мадам просто стремится произвести впечатление.
Вот так выразилась Элеанор Гарви, стоя над плитой и тыкая вилкой в корчащийся бекон. Она приехала в субботу, собственными силами — на своем кабриолете «мерседес». Сегодня на ней были грубые белые шорты и майка из аэртекса. Волосы Элеанор красила и обычно носила убранными под широкую эластичную ленту, такую тугую, что видно было, как тянется кожа на висках и возле уголков глаз. Ей все говорили, что она не выглядит на семьдесят лет, и в ее манере держаться видна была некая похвальба этим. И все же точнее было бы сказать, что именно семьдесят лет украшают ее. Всю жизнь Элеанор шла к этому пику уверенности в себе, пику веры в неопровержимость своего мнения. Доминик, который поставил себе целью опровергнуть ее мнение хоть раз, считал, что она вполне подошла бы на роль основательницы и активистки «Женской лиги здоровья и красоты» (сектор здоровья).
— Это ее принципиальная позиция, — спокойно сказал Доминик, входя через заднюю дверь, мокрый и блестящий, с прилипшей ко лбу челкой. — А принципы надо уважать.
В качестве ответа Элеанор лишь цыкнула; подобным же образом она отгоняла кошек и собак, если они по глупости своей смели подойти к ней слишком близко.
— Все-таки это так неудобно, — вставила Джеральдин, терзавшая тупым ножом, деревенский хлеб, — отдельно готовить для человека с особыми запросами.
С момента прибытия матери Джеральдин потеряла контроль над кухней, и ей оставалось лишь проявлять свое недовольство раздраженными нотками в голосе. Она утерла лоб внешней стороной вялого запястья.
— Но никто не просит тебя готовить что-либо отдельно, — напомнил ей Доминик. — Она же сказала, что будет есть овощи. Ну и там картошку, рис и все остальное. И тебе не надо ни о чем больше думать. Она достаточно взрослая, чтобы позаботиться о собственном питании. Она выживет.
— И приедет домой тощая, как вешалка. А потом Элли обвинит меня в том, что я уморила голодом ее бестолковую дочь. Нет, как вам это понравится?! — негодовала Джеральдин, предвидя вопиющую несправедливость. — Это несправедливо!
— За две недели она не исхудает. И потом, она ведь сама решает, что есть и что не есть, так ведь?
— Доминик, я уверена, что ты защищаешь ее, только чтобы разозлить меня. А сейчас пойди оденься. Я не разрешу тебе сесть за стол полуголым.
— Тогда брось мне вон ту футболку. Вон она, висит на стуле. Ага, эту.
— По крайней мере, яйцо она съест. Одно свежее яйцо с фермы, — категорично заявила Элеанор и разбила яйцо на сковородку.
— Нет, — возразил Доминик столь же категорично. — Она же ясно сказала — никаких яиц.
— Тогда придется тебе съесть два, — фыркнула Элеанор. — Ведь ты мальчик, и ты растешь.
— Нет, мне только одно яйцо.
— Здравствуйте, — кротко поприветствовала всех Джуин, заглядывая в дверь. — А где Маффи?
Доминик мотнул головой в сторону, указывая на дверь в судомойню.
— Он там сохнет. Он… давайте просто скажем, что пахнет он не как розовый сад. Сейчас, наверное, даже боги морщат носы на небесах.
— Мой славный мальчик! — сказала Джуин с обожанием в голосе и прошла в кухню.
— Да, он ужасно воняет. Почему ты назвала его Маффи?
— Вообще-то он Маффин. — Джуин отодвинула стул и уселась рядом с Домиником, чопорно положив руки на колени. Не то чтобы она сама выбрала для себя это место. Кто бы по собственной инициативе стал приближаться к этому распутному дьяволу? Однако за то короткое время, что Джуин провела здесь, каким-то образом это место стало «ее». Очевидно, это был результат работы загадочного механизма под названием «семья». Джеральдин и Люси помещались напротив, а Элеанор занимала место во главе стола, которое иначе принадлежало бы Джону. — А полное имя «Ослик Маффин»[46].
— Я как раз говорила, — Элеанор повернулась от плиты к Джуин и угрожающе подняла ложку, — что ты не откажешься от яйца.
— Нет, большое спасибо, я поем хлеба с мармеладом.
— Тсссс. А где же моя ленивица внучка?
— Она уже идет.
— Тогда мы начнем без нее. И если ничего не останется, то пусть винит в этом только себя. Хотя ей не повредит поголодать до обеда. Она толстеет на глазах. Боюсь, больше мы не можем успокаивать себя, говоря, что это детская пухлость.
— Она вот-вот спустится, — пообещала Джуин и добавила в защиту Люси: — Не следует заострять внимание на ее весе. От этого у нее могут появиться комплексы. А именно так возникают пищевые расстройства. Давайте я помогу. Может, надо разлить чай? Кто хочет чаю?
Элеанор Гарви раздавала тарелки с жареными яйцами, помидорами и беконом. Вот от помидоров Джуин не отказалась бы. Вместо того чтобы сразу передать тарелку Доминику, она на секунду задержала ее в руках, с легкой завистью принюхалась к ее содержимому и только потом отдала Доминику его порцию. Джуин предположила, что помидоры подавались лишь как часть всего завтрака, с нагрузкой в виде бекона и яиц: ты или соглашался на все, или не получал ничего.
— Полагаю, — произнесла Элеанор довольно провокационным тоном, садясь и беря в руки столовый прибор, — что Доминик ждет не дождется, когда у него появится его собственная машина?
— Боюсь, мне надо запастись терпением, — равнодушно ответил Доминик, — поскольку купить ее я не могу. Не хочешь съесть мои помидоры, Джуин? Я их не очень люблю.
— Может, ты ожидаешь, что дедушка подарит тебе машину? — Элеанор пыталась говорить шутливым тоном, но блеск в ее глазах нельзя было назвать веселым огоньком.
— Честно говоря, я об этом не задумывался.
— Вот и хорошо. Потому что мы не мешки с деньгами. Современная молодежь считает, что все, что они ни захотят, должно подаваться им на блюдечке и немедленно, так ведь? Мгновенное удовлетворение желаний, так это называется?
— Да нет, я могу подождать — если у меня нет другого выбора, — заверил ее Доминик и ухмыльнулся Джуин.
Джуин же явно вздрогнула, почувствовав, как под прикрытием льняной скатерти его пальцы скользнули по ее голому бедру.
— Признаться, я рада это слышать. Усердно трудись, и таким образом ты получишь все, что захочешь. Насколько мне известно, ты мечтаешь стать журналистом, как твой дядя?
— Нет, — кратко ответил Доминик. — Меня больше интересуют компьютерные науки.
— Дэвид говорил, что у него есть ноутбук. Передай, пожалуйста, перец. А вы, юная леди? Что вы собираетесь делать по окончании школы?
Джуин решила, что лучше бы ее звали дрянной сплетницей или хитрой жабой, чем юной леди. Она на миг закрыла глаза, и ей представилось кишащее жизнью море.
— Я буду морским биологом, — ответила она язвительно, отложив на время свои более филантропические устремления, и запила ложь большим глотком чая.
— Боже мой! — противно засмеялась Элеанор и приподняла выщипанную бровь. — Морская биология не лучшее занятие для девушек, — сообщила она.
— Как Рейчел Карсон, — пришел на помощь Джуин Доминик.
— Как кто? — не поняла Элеанор.
— Рейчел Карсон. Она была гидробиологом в Мериленде. Одна из основательниц движения за охрану окружающей среды. Она изучала то, как пестициды оказываются в наших реках и океанах. Это благодаря ей в Соединенных Штатах запретили использование дуста.
— Ох, ну хватит. — Элеанор раздраженно проткнула яйцо на своей тарелке, чтобы вытек желток. — Я думала, что мы собрались здесь, чтобы спокойно позавтракать, а не играть в «Знатоков».
— Но вопросы экологии действительно очень актуальны, бабушка. Будущее всей планеты находится в наших руках.
— Тссс. Эта планета существовала много лет до того, как ты родился, мой мальчик.
— Примерно четыре с половиной миллиона лет.
— И можешь не волноваться, она просуществует еще столько же и после того, как тебя не станет.
— Говорят, что все началось с большого взрыва. Трахнуло так трахнуло, да, Джуин?
Элеанор поджала губы и нахмурила брови, сигнализируя своей дочери: не реагируй на это. Не давай им возможности развить тему. Нельзя потакать этому третьесортному юмору.
— О господи, — только и вымолвила расстроенная Джеральдин.
Джуин и Доминик лежали на берегу, бок о бок, как пара малышей, опираясь на локти, ногами к морю. На Джуин было надето крохотное черное бикини.
Доминик спросил лениво, но учтиво:
— Полагаю, на минет не стоит рассчитывать?
Джуин ответила:
— Ты полагаешь совершенно верно.
— Я просто спросил. — Он откатился от нее и лег на спину, раскинув руки. — Разве нельзя спросить?
— Спросить можно, только можно схлопотать за это пощечину.
— Только не надо меня воспитывать, Джуин.
— А я и не воспитываю, — сказала Джуин, и это было правдой: менее всего она хотела воспитывать кого бы то ни было. Чтобы сменить тему разговора, она громко и отчетливо произнесла: — Я не ожидала от тебя таких познаний.
— Каких?
— Про ту женщину. Руфь Карсон, кажется.
— Рэйчел Карсон. Я случайно вспомнил, — с непритворной скромностью отказался от похвалы Доминик. — Это называется интуитивная прозорливость или как-то еще: разнообразная случайная информация скапливается в голове, а потом при случае всплывает в памяти.
— Вовремя она всплыла: заставила твою бабушку замолчать.
— Это не надолго. Ой-ой-ой… апчхи! — мощно чихнул Доминик. Щекотка в носу появилась уже некоторое время назад и вот наконец заявила о себе в полный голос.
— Будь здоров, — как положено, сказала Джуин. — Ты знаешь, мне она не очень нравится.
— Нравится? Она и не собирается никому нравиться. Не для этого она послана на эту землю. Она послана нам как испытание. А насчет того, что бабушка замолчала: не думай, что она так и будет молчать. С ней всегда надо быть настороже. Не уступай ей ни дюйма, вот тебе мой совет. У тебя, случайно, нет салфетки?
— Нет.
— Ладно, обойдусь. — Сморщив нос, Доминик сделал несколько осторожных вдохов и выдохов и снова улегся рядом с Джуин, опираясь на локти. Спустя минуту-другую он спросил с нехарактерной для себя горечью в голосе, то ли задирая Джуин, то ли распаляя себя: — Скажи, а вот если бы на моем месте был мой ненаглядный кузен, ты бы не отвергла его, так ведь? Ты бы прыгнула на него, скажи он хоть слово, да?
— Кто? — сердито спросила Джуин, зарывая пальцы в песок, чтобы не вцепиться в Доминика, не стукнуть его что есть силы кулаком по спине.
— Как кто, разумеется, высокочтимый Алекс Гарви. Насколько мне известно, ты к нему весьма неравнодушна.
— Насколько тебе известно, вот как? И откуда именно у тебя эта информация?
— От моей матери, которая в свою очередь услышала это от твоей матери. А точнее, я случайно подслушал…
— Она не могла такое сказать, — запротестовала Джуин. Она зажмурилась, чувствуя, что проваливается в черную пустоту. — Это невозможно. А если и сказала, то соврала. Ей-то откуда знать? Никто в здравом уме не стал бы делиться секретами с моей матерью.
— Значит, ничего такого ты к нему не испытываешь?
— К Алексу? — презрительным фырканьем Джуин отмела это предположение. — И мысли такой не было. Вообще-то он ничего. По крайней мере, у него есть манеры.
— И еще у него есть Наоми Маркхем.
— Да, — устало согласилась Джуин и опустила голову на песок. Ее тоска, ее разочарование снова вернулись к ней. Ее сердце разрывалось от боли.
— Ну так объясни мне, что в нем есть, чего нет во мне? Кроме манер, само собой.
— Даже не знаю, с чего начать.
— Внутри, знаешь ли, я классный парень.
— Поверю тебе на слово.
«А Алекс, — думала Джуин, — никогда не дерзит и не грубит. Он не бахвалится почем зря. Он красивый, веселый, чуткий и сильный. Когда я смотрю в его глаза, я забываю обо всем на свете. Как я могла поверить, что разлюбила его? Нет, наверное, я умру от любви к нему».
— Конечно, нельзя забывать, что в тот момент твоя мать была несколько навеселе. Во всяком случае, так мне показалось. — Доминик почувствовал, что Джуин расстроилась, и испугался, что зашел слишком далеко. Поэтому он, отложив на время интересующую его тему, попытался исправить ситуацию.
— Разве она когда-нибудь бывает не навеселе?
— Значит, все это были просто пьяные разговоры?
— Вот именно: пьяные разговоры.
— Кстати, видела бы ты моего старика на прошлой неделе. Как же он наклюкался! — Доминик рассмеялся вслух, вспомнив отца.
— Кто, Джон? — тупо переспросила Джуин. — Джон напился? Я тебе не верю.
— Ни слова неправды. Он вернулся домой пьяный в стельку и танцевал в лунном свете с гирляндой свиных сарделек на шее. Я его даже стал немного уважать за это, но мама, мягко говоря, была не очень довольна тем выступлением. Она сказала, что никогда этого не забудет.
— Доминик?
— Что, старушка?
— Вот скажи… — В конце концов, Доминик тоже был парнем, мужчиной, хотя и совершенного иного склада, чем Алекс Гарви. Может, он сможет объяснить ей необъяснимое. — Что ты думаешь о Наоми Маркхем?
— О ком? О Наоми? Я бы не выкинул ее из постели, это точно. — Вот и все, что он сказал, в своей обычной несерьезной манере. — То есть она, конечно, лакомый… Эй, смотрите-ка, кто идет! Это же наша Люси-гусыня! Слушай, Джуин Шарп, сделай мне одолжение: покажи свой злобный характер, разозлись-ка на меня. А то моя репутация задиры под угрозой.
Бесчисленные чашечки черного кофе, которые он опустошал одну за другой, и сандвичи — изящные треугольники огурца и копченого лосося, исчезавшие незаметно для него самого, не успокоили ни его мозг, ни его желудок. Он сидел в зале ожидания бизнес-класса и ждал, ждал, ждал, широко зевая, садясь то так, то этак, вытягивая длинные ноги, обуреваемый мыслями — приятными и не очень.
От недостатка сна мысли немного путались. Ему было жаль (но не слишком) Кристин. Вчера вечером на ее губах играла лучезарная улыбка, со всеми присутствующими она была остроумна и весела, ее смех струился то в одном конце зала, то в другом, никогда она не выглядела такой красивой, такой полной жизни. А потом всю ночь она плакала в ванной, изливала свое горе, сморкалась в бумажные салфетки, а под утро разразилась горькими обвинениями и даже несколько раз ударила его. Он до сих пор был слегка пьян от шампанского и лести, что сопровождали его грандиозную отвальную, но похмелье было вызвано не столько этими конкретными излишествами, сколько ноющими ребрами и притупленными чувствами.
Он еле поднялся сегодня в восемь утра; менее чем через четыре часа он должен будет приземлиться в Лондоне. Там ранний вечер будет казаться полуднем. Странная это штука — время.
По всему земному шару народы восторженно наблюдали за рассветами и закатами. Но Дэвид Гарви знал: Земля — это кривобокая планета, которая как сумасшедшая выписывала пируэты вокруг безразличной желтой карликовой звезды. Солнце не встает и не садится, а рассвет и закат — всего лишь выдумка, призванная утешить человечество, навечно порабощенное суточным циклом.
Начиная с одноклеточных организмов, все живое танцевало под дудку солнца. Безмозглая протоплазма скручивается на свету в спирали. Тараканы начинают свою деятельность с наступлением темноты. При солнечном затмении сбитые с толку птицы падают с потемневшего неба. А самое смешное в этом то, что солнцу на все это наплевать. В каком-то смысле солнце было похоже на него самого, так как вокруг Дэвида Гарви тоже скручивалась в спирали, суетилась, низвергалась форма жизни, известная под названием «Женщина».
Ему нравилось то, что теперь человек мог сам выбирать себе время суток (например, получить ночь или день в любой момент; или посетить их, как ресторан, за определенную плату). Но вот как бороться с нарушением биоритмов, вызванных перелетом нескольких часовых поясов, Дэвид не знал. Вот и сейчас он с унынием готовился к несогласованности сигналов природы и биологических часов, к бессоннице ночью и сонливости днем, к плохим снам и чувству усталости, к дурному настроению и потере аппетита — ко всему тому, что неизменно сопровождало перелет на восток и что предстояло ему пережить в ближайшие несколько дней.
А еще — только это секрет — он страшно трусил. Но это ничего, страх составлял половину удовольствия от полета. Итак, с замирающим сердцем он ждал, когда его с шумом и грохотом вознесут в небо. Дэвид всегда настаивал на «конкорде», таком быстром, таком престижном, потому что он считал, что работодателей нужно заставлять платить. Последний раз, когда он летел на «конкорде», на заднем ряду сидели только он и скучающая брюнетка с телом гермафродита и сладострастной верхней губой — дочь миллионера. Они накрылись одеялом, и он заставил ее кончить со скоростью, вдвое превышающей скорость звука.
Но взлет был даже лучше, чем секс. Огромная серебряная птица несется по взлетной полосе, ревут моторы, и вот, внезапно оторвавшись от земли, самолет взмывает в небо… Дэвид не знал ничего более захватывающего. Пока самолет набирал высоту, он чувствовал себя прекрасно. Проблемы (ужасные проблемы!) могут возникнуть при снижении и посадке.
Его мысли обратились к более приятной теме — к его обители в Ноттинг-Хилле. Это была элегантная, заставленная книгами квартира на первом этаже высокого белого дома, который самовлюбленно смотрел как в зеркало на свою точную копию на другой стороне площади. Дэвид испытывал глубокую уверенность в том, что именно в этой квартире, за письменным столом у окна, тихими воскресными днями он будет наконец писать свой Роман.
Несколько дней акклиматизации, неделя или около того в Италии в компании с этой ведьмой Хендерсон (Дэвид называл ее так по-дружески; он был достаточно высокого мнения о глупой корове) и другими горгульями из газетного мира, все — большие шишки на Флит-стрит, — и он почувствует себя новым человеком.
Или, поскольку от себя не убежишь, захочет новую женщину.
В самолете, где опытные стюардессы с глубоко въевшимися улыбками усадили его на место, Дэвид, желая развлечься, вынул из кармана письмо сестры. Джеральдин ждала встречи с ним, она считала часы. И Джон тоже, и дети, Люси и Доминик, были вне себя от восторга. В сентябре он обязательно должен провести у них уикенд. А пока она хотела бы предупредить его о кислородном голодании. Это опасное состояние угрожает любителям выпить, когда они предаются своей страсти в воздухе. Гипоксия средней степени тяжести напоминает интоксикацию, характеризуется эйфорией, ослаблением умственных способностей и нарушением координации. Потом губы, ногти и мочки ушей синеют, и тогда необходимо воспользоваться кислородной подушкой.
Что ж, когда он летел на самолете в предыдущий раз, с его умственными способностями да и с координацией все было в порядке. А нос и мочки ушей были розовее розового. Дочь миллионера с удовольствием выпила бы за это!
Поэтому Дэвид не отказался, когда к канапе с зернистой черной икрой ему было предложено шампанское известной марки, — невзирая на угрозу гипоксии.
Наоми Маркхем готовила по сборнику рецептов. Потому что по-другому она не умела. Об импровизации речи не было, поскольку кулинария оставалась для нее эзотерическим занятием, рецепт был мистикой, волшебным заклинанием, а без цветной иллюстрации Наоми не имела бы понятия, что именно должно получиться в результате.
Когда Наоми надела стеганые рукавицы, присела перед духовкой и вытянула противень с кастрюлей, она чувствовала себя домохозяйкой из телевизионной рекламы. Правда, если улыбающиеся, самоуверенные рекламные домохозяйки, идеально причесанные, предъявляли камере свои кулинарные и стоматологические шедевры, то Наоми ни за что не решилась бы показать всей стране свои макароны по-каталонски и измученное лицо. Она была уверена, что с макаронами что-то не так, но что именно и почему, она не знала. Они выглядели сухими, склеившимися, в них не было пышности и глянца, обещанных иллюстрацией.
«Я ничего не умею, — сказала она себе, сдаваясь. — Я ничего не умею. От меня нет совершенно никакой пользы».
И где же Алекс? Вот каждый раз так: когда она готовит что-нибудь особенное, он обязательно задерживается. Скорее всего, он зашел в паб. После работы он иногда заходил в «Анджел» выпить пинту-другую и поболтать с товарищами. Это было маленьким удовольствием в конце трудового дня, и Наоми знала, что обижаться здесь не на что. Однако обида исходила не из головы, она поднималась откуда-то из глубины, из недоброго и недостойного угла, непрошеная, настойчивая.
От хозяйственных хлопот Наоми разгорячилась и разволновалась, августовская духота тоже действовала на нее подавляюще. Несмотря на открытое окно, не чувствовалось ни ветерка, ни малейшего движения воздуха, ни единого поцелуя жизни между домом и садом. Листья не шевелились; они вяло свисали с веток.
Недостаток уверенности в себе проявлялся у Наоми очевиднее всего именно в вопросах домоводства. Она постоянно сверялась с инструкциями на банках, пакетах, коробках порошка, аэрозолях и флаконах; она до последней буквы следовала примерным меню на неделю, во всем полагаясь на книги; строго отмеряла указанное количество ингредиентов — столовую ложку этого, чашку того; к каждой новой задаче подходила со страхом неудачи; своим инстинктам не доверяла ни капли. Наоми была озабочена предписанной температурой воды, точным размером кубиков моркови. Вероятно, она была единственным человеком в мире, который при нарезке кабачка для жюльена пользовался спичкой в качестве мерки.
Ну а потом, когда ничего не получалось как надо, когда раковина расцветала мыльной пеной, соус съеживался до кукольных порций, а суфле превращалось в лепешку, она корила себя не за отсутствие самостоятельности, не за нехватку здравого смысла, а за неспособность точно следовать рецепту.
Все это оказывало на Наоми такое парализующее действие, что элементарное заваривание чая превращалось для нее в длительный и утомительный процесс. Поэтому приготовление макарон по-каталонски вовсе не было простой задачей.
Наоми достала из ящика ложку, проткнула почерневшую корочку из тертого сыра, отчего изнутри вырвалась ароматная струя пара, и стала ковыряться в макаронах. Отдельные макаронины запеклись и стали твердыми, но в нижней части кастрюли Наоми обнаружила жидкую размазню. Винить Алекса было несправедливо, поскольку его опоздание никак не повлияло на приготовление блюда, но она все равно его винила и уже отрепетировала, как встретит его с нежными укорами, как мягко побранит его — но ни в коем случае не станет «пилить», нет, в ее тоне будет подразумеваться прощение и кротость. И тогда Алекс попросит у нее прощения. Он объявит себя бесчувственным животным, подхватит ее на руки и будет утешать. И ее огорчение пройдет — просто потому, что она услышит извинения, потому что Алекс возьмет всю вину на себя и будет стараться эту вину загладить.
Слишком часто во внутренних диалогах Наоми ее собеседники простирались перед ней ниц и признавались в ужасных несправедливостях, содеянных ими по отношению к ней, несчастной Наоми. Если бы Наоми попросили обратиться к миру с одной-единственной фразой, она бы сказала: «Извинитесь!» Но те люди, которые действительно были к ней несправедливы — ее отец, ее мать, дядя Хью, — не были способны на искреннее раскаяние, и поэтому за всех приходилось расплачиваться хорошим людям вроде Алекса.
Огорченная неудачей с макаронами и опозданием своего любимого, которому следовало быть рядом в трудную для нее минуту, Наоми ушла в ванную комнату. Там она набрала себе ванну, добавила туда лимонного масла, подобрала волосы и заколола их в нескольких местах и потом грациозно опустилась в теплую воду.
Здесь Алекс и нашел ее получасом позже. К этому времени она уже выглядела и чувствовала себя как ребенок, отупевший от слишком долгого сидения перед телевизором. Несмотря на бесконечное жужжание вентилятора, тесная ванная была наполнена паром, который, конденсируясь, бежал ручейками по холодным, твердым кафельным и зеркальным поверхностям.
— Что случилось? — спросила Наоми заплетающимся языком. Она подбирала волосы, прядка за прядкой ускользающие из заколок. — Ты ходил пить с Питером, да?
Выражение «ходил пить» почему-то рассердило Алекса (возможно, из-за того, что в такой формулировке его основным мотивом становился алкоголь). Но в любом случае он не был в пабе.
— Ничего не случилось, — коротко сказал он и, тяжело опустившись на край ванны, сполоснул руки, что в свою очередь вызвало недовольство Наоми. Она была бы счастлива, если бы он целиком забрался к ней в ванную, она бы обрадовалась, если бы он снял рубашку и джинсы, осторожно вступил бы в воду, подвинул бы ее колени, чтобы освободить себе место. Но это бездумное ополаскивание рук было каким-то безличным и даже гигиенически-туалетным. А потом, хотя Алекс и взглянул на нее, глаза его задержались на ней оскорбительно короткое время, как будто он думал о чем-то совсем другом. И в голове Наоми возникла некрасивая фраза: «Он моет об меня руки».
— В чем дело? — спросила она с тревогой, охотясь за неуловимым мылом, которое выскальзывало из ее рук. — Что тебя задержало? — И тут же, не подумав, не успев интонацией прикрыть смысл слов, добавила без намека на кротость: — Я приготовила ужин, но, боюсь, он уже испорчен.
— Я ездил в Тутинг. — Алекс встал и показал Наоми свою широкую спину в бледно-голубой рубашке, свободно висящей вокруг узкой талии. Пальцами он протер окошко в запотевшем зеркале: оттуда на них двоих смотрел незнакомый Алекс Гарви.
Наоми соскользнула в ванну так низко, как могла: как будто она хотела спрятаться в воде вся, скрыть колени, грудь, все островки плоти и кожи.
— Как Кейт? — спросила она робко.
— Ее не было дома, — ответил холодный, сердитый Алекс в зеркале перед тем, как его скрыла дымка влаги.
— Подай мне полотенце, пожалуйста. Спасибо, дорогой.
Закутанная, укрытая полотенцем, Наоми ощутила в себе силы противостоять Алексу и, когда он снова повернулся к ней, спросила, обращаясь к его нагрудному карману:
— Ну, и что потом?
— Потом… — Алекс обнял Наоми одной рукой и, не обращая внимания на то, что она была вся мокрая, прижал ее к себе. Пуговицы его рубашки вдавились ей в щеку. Наоми слышала его дыхание. — Я хотел узнать, как дела, и заодно забрать кое-какие свои вещи.
— Но ты говоришь, что ее не было. Ну и?.. — допытывалась Наоми, беспокойно теребя Алекса за рукав рубашки.
— Да, ее не было. Ничего страшного, увижу ее в другой раз, тем более что у меня с собой были мои ключи от дома. Я сам мог бы взять все, что надо. Только…
— Что?
— Понимаешь, Наоми, она поменяла замки.
— Поменяла замки? — Про себя же Наоми подумала: «Подлая коротышка. Низкий, жалкий, мстительный поступок». И мысли Наоми полетели вперед, к тому дню, когда Кейт будет сокрушаться и умолять ее: «Я была так неправа, я ревновала, пожалуйста, прости меня, скажи, что мы останемся друзьями».
— На нее это так непохоже. Ты ведь знаешь не хуже меня, что не в ее характере… Боюсь, мы с тобой очень сильно огорчили ее — гораздо сильнее, чем я думал.
— Что ты хочешь этим сказать? — спросила Наоми у его дыхания, у его застегнутой рубашки. — Что ты хочешь вернуться домой, к мамочке? — И она сердито вывернулась из его объятий.
Минуту спустя он проследовал за ней в спальню, где она стояла в растерянности, лишь наполовину одетая (Алексу показалось — наполовину раздетая), чуть не плача. И если на какое-то мгновение он разлюбил Наоми, то теперь влюбился в нее еще сильнее.
— Иди ко мне, глупышка, — сказал он ей со всей нежностью, на какую только был способен.
— Оставь меня, — слабо воспротивилась Наоми. Она возилась с застежками на блузке цвета нефрита, которая еще больше подчеркивала ее бледность и придавала облику Наоми какую-то нереальную прозрачность; Алексу казалось, что протяни он к ней руку, и рука его схватит лишь пустой воздух.
— Давай помогу. — Он жестом поманил ее к себе. — Иди сюда.
Как бы Наоми ни старалась, долго сопротивляться она не могла. Алекс схватил ее за запястье, потянул к себе, потом потянул еще раз, потому что ему понравилось ощущать в своей ладони ее запястье. Наоми осела на кровать. Ей показалось — должно быть, это была только иллюзия, — что свет внезапно померк, углы затуманились, границы стали нечеткими. Даже черты лица Алекса, всегда такие отчетливые, потеряли свою определенность.
— Мы с самого начала знали, что будет нелегко, — сказал он Наоми. Его рука решительно, но не бестактно, проникла под ее зеленоватую блузку и легла на маленькую, ничем не стесненную грудь.
— Я знаю. Конечно, я знаю. — Наоми закрыла глаза и повернула голову сначала в одну сторону, потом в другую. Мокрые волосы улеглись на плечах красивыми завитками.
Она откинулась на спину, открыв длинную талию, и Алекс нагнулся и стал целовать ее в живот. Вскоре от удовольствия Наоми выгнула спину.
— Я всегда буду хотеть тебя, — уверенно произнес Алекс. И он опустился на Наоми, скованно и напрягая мышцы от страха раздавить ее — такой воздушной казалась она ему даже по прошествии столького времени.
— А я — тебя, — пылко ответила Наоми.
— Тогда поцелуй меня. Поцелуй меня как следует.
Однако мысли Алекса не слушались его; он был полон горечи, он занимался любовью не с обычной для себя неторопливостью и обстоятельностью, а быстро и рассеянно. Наоми почувствовала себя в некотором роде обманутой.
— Ну почему ты так часто плачешь? Из-за этого я кажусь себе таким бестолковым.
— Я не хотела, Алекс. Просто не сдержалась. У нас ничего не получается.
— Ну что ты, получается, — терпеливо стал уговаривать ее Алекс, ничего не знающий о макаронах по-каталонски и о том, что они собой символизировали.
— Ты не виноват, — ответила Наоми уныло. — Это из-за меня. — Но про себя она подумала совсем другое: «Это из-за Кейт. Это она виновата. Кто бы мог подумать, что она сменит замки?.. И все же до чего она умна».
_____
В сухом жару теплицы Кейт работала методично, неторопливо, не замечая времени. На ней была белая блузка без рукавов, отделанная по подолу тесьмой (куплена в комиссионке) и джинсовые шорты (бывшие джинсы, обрезанные по колено). Ее босые ноги были покрыты пылью. Непослушные волосы, давно нуждающиеся в стрижке, доходили почти до плеч.
По стенам и под скошенной крышей этого старого, неухоженного строения из стекла и дерева прокладывала свой извилистый путь виноградная лоза. Ее стебли были увешаны пухлыми скоплениями черно-синих виноградин. Плоды сохли и сжимались, покрывались похожей на пудру плесенью, издавали слабый запах изюма.
На брикетах гнилой соломы буйно разрослись кусты помидоров. Несмотря на то что их листья были тронуты желтым грибком, они обильно плодоносили. Цветные пятнышки, испещрившие остальную растительность, свидетельствовали о засилье красного клеща и о не самом тщательном уходе за теплицей со стороны Кейт.
Она сорвала десятка полтора спелых, толстых, алых помидоров и положила на деревянную скамейку рядом с рваным мешком с удобрениями и забытым стаканом лимонада. Лимонад был теплым, как чай, в нем плавали насекомые и травинки. Под скамейкой, вдавленный в мягкий грунт, стоял транзисторный приемник Кейт. Передавали очередную серию «Арчеров»; обитатели деревушки Эмбридж были вольны заниматься своими делами посреди сорняков и битых цветочных горшков, но их проблемы никого не волновали. Кейт они были совершенно неинтересны.
В воздухе отчетливо чувствовался сладковатый запах начинающегося гниения — первый признак того, подумала с горечью Кейт, что год был на исходе.
Фальшиво напевая, она зачерпнула лейкой мутной дождевой воды из бочки, освежила черенки вейгелы, которые только что высадила, потом вытерла об себя мокрые руки. Кейт была довольна. Было так приятно находиться здесь, в Копперфилдсе, без помех ковыряться в полуразрушенной теплице (первый же более-менее сильный порыв снес бы ее до основания), соприкасаться с природой, приумножать жизнь.
Кейт успевала сделать гораздо больше, когда рядом не было Джеральдин. Обычно же Джеральдин хвостиком следовала за Кейт, без умолку тараторила о цветовых пятнах («Лаватера создаст здесь отличное цветовое пятно») и об инфекциях или придумывала для Кейт все новые и новые задания, когда еще не были закончены текущие дела, чтобы та отрабатывала каждый пенс.
А сейчас Кейт казалось, что здесь никто, кроме нее, никогда не бывал. В окружении растений и их паразитов на нее снизошло ощущение давно прошедших дней, когда на этой земле стояло аббатство, как будто в этой теплице странным образом законсервировался кусочек истории. И, разумеется, древний фунт и сплетения корней действительно хранили в себе память о прошлом.
Кейт так углубилась в размышления, так увлеклась черенками, что не слышала ни рычания двигателя подъехавшей машины, ни хруста мелкой гальки, брызнувшей из-под колес на повороте подъездной аллеи.
И вот на лужайке появился Джон. Он огляделся, увидел Кейт и пошел к теплице. Остановясь перед дверью, он стал дергать за ручку. У него часто возникали проблемы с открыванием дверей: он толкал, когда надо было тянуть на себя, он застревал при входе или выходе из магазина, вызывая смех у окружающих своей неловкостью. Кейт не засмеялась. Она просто улыбнулась и подняла в знак приветствия совок, но не пошевелилась, чтобы помочь ему, потому что не была рада его вторжению. Потом она взяла в руки один из цветочных горшков и с отвращением увидела, что там приютилась жирная личинка размером с ее большой палец.
Мгновение спустя дверная ручка вырвалась из руки Джона, и из теплицы вылетела Кейт с искаженным лицом. С воплем «Фу, какая гадость!» она выбросила противное существо вместе с горшком в заросли щавеля и крапивы.
— Что там такое? — спросил Джон, немного испугавшись.
— Какой-то гад. — Кейт вздрогнула и обхватила себя руками. — Обычно я их не боюсь. Ко всему ведь можно привыкнуть. Но это был какой-то гигант. Даже не знаю, что это такое. Может, яйцо гигантского муравья?
— Или яичко мелкого мужчины? — предположил Джон.
— Вряд ли. — Кейт рассмеялась, не ожидая от него такой шутки. Удивление заставило ее по-новому взглянуть на Джона: высокого, худого, ссутулившегося под грузом тревог мужчину с залысинами и мягким интеллигентным взглядом. Назвать его привлекательным мешало только отсутствие уверенности в себе. Однако откуда ему было черпать самоуверенность, если он не считал себя симпатичным? Это был порочный круг, как выразилась бы Джеральдин.
— Уже поздно, Кейт, — заботливо заметил Джон.
— Поздно? А который час? — Кейт подняла руку, словно собиралась взглянуть на часы, хотя знала, что они лежали на кухне возле раковины (на загорелой коже запястья остался их бледный фантом).
— Думаю, не меньше половины восьмого.
— Батюшки! — Кейт собиралась закончить в шесть. Хотя какое это имело значение? Спешить домой было незачем. Никто не ожидал с тревогой ее возвращения.
— Может, выпьешь чего-нибудь на дорожку?
— Хм, пожалуй. Да, с удовольствием. Вот только закончу с этим.
В ее облике было столько силы, столько живучести. И никакой слезливости или нытья. Ему нравились ее огрубевшие пальцы, ее грязные и обломанные ногти, ее аура очень женского тепла, капельки пота на верхней губе. А румянец на ее щеках Джон принял за следствие сексуального возбуждения (правда, ошибочно).
Джон снял пиджак и повесил его на дверь. Так он чувствовал себя смелее. Он расправил плечи, выпрямился — его сутулость исчезла — и застенчиво кашлянул.
— В детстве, — сказал он, — я носил очки в розовой оправе и розовую пластиковую накладку на одном глазу, чтобы исправить страбизм. То есть косоглазие. Я косил. Еще я был слишком тощим — и не поправился до сих пор. И у меня была «куриная грудь». Мускулы на мне не росли. Спортом я не занимался из-за астмы. Моя мать писала записки директору школу, объясняя, что у меня хрупкое здоровье. Меня дразнили очкариком и другими прозвищами. Как ты понимаешь, я не пользовался большой популярностью.
У женщин я никогда не имел успеха. Я женился на Джеральдин только потому, что она сказала мне это сделать. Мои дети презирают меня. По крайней мере, сын. На прошлой неделе я провинился — пришел домой пьяным. Но в остальном все это время я был хоть и не самым интересным, но безупречным мужем.
Во мне нет ничего творческого, и я почти ничего не умею делать руками. У меня нет слуха. Боюсь, в качестве любовника я буду представлять жалкое зрелище. «Я не говорун / И светским языком владею плохо»[47]. Но я обожаю тебя с первого дня нашего знакомства. Мне потребовалось двадцать лет, чтобы найти в себе смелость сказать тебе об этом. А теперь скажи, пожалуйста, ради бога, пойдешь ли ты со мной в постель?
Ну и что могла ответить на это Кейт? Она сказала: «Да».
Глава восьмая
— Это глупо, — вздохнула Кейт.
— Не говори так. — Джон сел перед ней на колени, покачиваясь на пружинистом матрасе, взял ее стопу, изучил подошву с несмываемо черными подушечками пальцев и пяткой, потом уткнулся лицом в розовый подъем и прикусил его зубами. Глупость была понятием из арсенала Джеральдин. Ее мир переполняли глупые люди. Очередь из претендентов на обвинение в глупости со стороны Джеральдин трижды обегала вокруг квартала. Среди великого множества заслуживших ее порицание были те, кто покупал туалетную бумагу по два рулона, а не в экономичной упаковке из двенадцати рулонов; те, кто гулял всю ночь, так что наутро были ни на что не способны; те, кто в ресторанах наедался хлебом и потом не мог доесть десерт; те, кто голосовал за лейбористов, и те, кто баловался с оккультизмом. Глупыми были все те люди, которые поступали не так, как Джеральдин.
Лысеющий мужчина средних лет, занимающийся любовью с женой шурина, в глазах Джеральдин являл бы собой апофеоз глупости. Однако Джон предпочел бы, чтобы Кейт не напоминала ему об этом.
Хотя, конечно, она не имела в виду «глупо» в буквальном смысле этого слова. Просто так она описывала то, что овладело ими двумя в эти десять дней. Слово «безрассудно» подошло бы гораздо больше. И «саморазрушительно». И, само собой разумеется, «непростительно с точки зрения морали». Кейт не могла поступить так же, как поступила Элли в случае с Руфью Керран: оправдать себя словами, что Джеральдин «тоже не ангел» (если Джеральдин и не ангел, то не в том смысле, какой вкладывала в свои слова Элли). И все же Кейт повторила:
— Ты сам знаешь, что глупо.
Джон аккуратно опустил ее ногу на кровать. Кейт откинулась на подушку и широко раскинула руки (этот жест и выражение ее лица говорили: «Вот хорошая, но невезучая женщина»).
Признаться себе в том, что ты поступаешь безоговорочно плохо, было удивительно легко, и это признание приносило ощущение свободы. Оно не требовало запутанных рассуждений, софистической аргументации, притянутых за уши самооправданий.
— Это, — сказала Кейт Джону, — больше нас обоих.
— О! — С притворной скромностью Джон взглянул на свой эрегированный пенис: длинный тонкий член длинного худого мужчины. — Я бы так не сказал.
Кейт прикрыла рот рукой и хихикнула. Любовь в каком-то смысле наполнила ее: внешне она выглядела мягкой и удовлетворенной. Джон восхищался ее телосложением: литым телом, узкой талией. Он обожал ее непослушные волосы, изгиб ее губ, ямочки на щеках, румянец, вспыхивающий пожаром эмоций. Когда она сосредотачивалась или находилась во власти сильных чувств, на лице ее появлялось упрямое выражение. Люди ошибочно принимали это выражение за признак недружелюбия, они видели в Кейт некую непреклонность, чего на самом деле в ней не было. Она бы очень удивилась, узнав, что, когда она стоит, задумавшись, выражение ее лица может вызвать в незнающих ее людях неприязнь. Но Джон правильно понимал ее; он знал ее насквозь.
Джон же в глазах Кейт кардинально трансформировался, но ей было трудно определить реальность произошедшего. Возможно, это только она видела, что его манеры изменились, что в осанке появилась некая лихость, что он очень похорошел. Нет, все же она была уверена, что в нем действительно произошли перемены. Вплоть до прошлой недели во всем его поведении была какая-то нерешительность, как будто ему еще предстояло понять, кто он такой, как будто еще ожидалось некое откровение. Странно было видеть в мужчине сорока с лишним лет, прожившим не менее половины отпущенного ему срока, такую нестабильность. Кейт по собственному опыту знала, что с определенного момента в жизни ничего уже нельзя изменить. Человек не может стать другим, он может лишь становиться все более и более таким, каким был. Но, по словам самого Джона, он был человеком позднего развития. И внезапно, как по волшебству, выразив свои чувства к Кейт, он реализовался.
У него был высокий умный лоб, длинный тонкий нос, рот, склонный к улыбке, и почти благородный профиль. Если окружающие не видели его, не замечали его, то причиной этого было то, как он сам держал себя, его стремление быть как можно более незаметным. Если бы он отрастил волосы до шеи и одевался чуть ярче, то вполне сошел бы за актера — одного из тех, что время от времени мелькают на телеэкране (продавцы, бармены толкали бы друг друга в бок и шептали: «Смотри, это не…?» и «Это не он снимался в…?», а потом, пригладив волосы, бросались бы предлагать ему свои услуги). Очки он носил, только когда вел машину, и еще иногда надевал их при встрече с важными клиентами для пущей внушительности (Джин-Энн Петтифер вела дела именно с таким настоящим профессионалом в очках). Без очков в его глазах появлялась смутная мечтательность, которая мучительно волновала Кейт.
Джон окинул маленькую спальню своим рассеянным взглядом и подумал, насколько органичным было в этой комнате присутствие Кейт. На Лакспер-роуд он не бывал уже много лет, и теперь все увиденное здесь очаровывало его. Кейт умела создавать очень специфическую разновидность хаоса, в котором была своя логика, свой порядок. Джон подумал (и эта мысль ему очень понравилась), что если бы ему показали этот дом и попросили бы определить характер, пол, статус владельца этого дома, то он наверняка бы угадал все верно до последней мелочи.
— Вот мое жилище, — сказала она неделю назад, когда они вошли в прихожую. Споткнувшись о гору плащей, которые скинула к их ногам уродливая вешалка, Кейт провела его в гостиную, полную янтарного вечернего света. — Не обращай внимания на беспорядок, — попросила она Джона и принялась без толку перемещать отдельные предметы, не находя, куда их положить.
— Оставь, — сказал Джон, — оставь все как есть. — И он с удовлетворением оглядел смешение рас и неравные браки мебели и тканей. — У тебя определенно есть глаз.
— Глаз?
— Чувство. Чувство цвета и все такое.
— А-а. — Кейт схватила с каминной полки слона из пальмового волокна и стряхнула с него пыль, предоставив пыли падать куда придется.
— Эти розы знавали лучшие дни.
— Да, их давно пора выбросить, — согласилась Кейт. И, закашлявшись от пыли, смахнув слезу, она взяла в руки вазу с похрустывающими цветами, огляделась беспомощно и поставила вазу на старое место.
— А это что? Портрет великой и ужасной Элеанор?
— Да. Портрет твоей тещи. И моей свекрови.
— Зачем ты повесила его здесь?
— Даже не знаю. Раньше она иногда приезжала к нам. И она рассчитывала увидеть свою фотографию. А когда визиты прекратились — когда она потеряла к нам всякий интерес, — мне показалось очень невежливым тут же снять ее.
— Я бы не стал тратить на нее место в доме. Если бы это был мой дом.
— Может, выпьем чего-нибудь? — Она принесла из кухни бутылку вина и отвертку. — Ты просто протолкни пробку внутрь, хорошо? Не знаю, куда подевалась открывашка. Я не видела ее с тех пор, как… Эту бутылку подарила мне Джанет, моя клиентка. Она привезла ее из поездки по Гемпширу. Сельское вино. О боже. Тут написано: крапива и имбирь. Как ты думаешь, нам понравится? Не представляю, каково это может быть на вкус. Хотя алкоголя двенадцать процентов.
— Дай-ка мне это, Кейт. — Джон забрал у нее бутылку и отвертку, отставил их в сторону, притянул Кейт к себе и, когда она подняла к нему лицо, нежно поцеловал ее. — Нам не нужно вино.
— Я просто хотела проявить гостеприимство.
— Тогда покажи мне свою спальню, — сказал Джон.
Вот так ее маленький дом стал их убежищем. Только раз они занимались любовью в доме Джеральдин, в кровати Джеральдин, под супружеским одеялом. Потом, сидя у туалетного столика, глядя на волосы Джеральдин, застрявшие в щетке и в расческе с одинаковыми ручками, на тот самый пинцет, которым Джеральдин мучила свои брови, на собственное отражение в резном зеркале, Кейт решила: больше никогда.
Поэтому каждое утро Джон, проведя ночь у Кейт, на рассвете садился в машину и уезжал, чтобы успеть в Копперфилдс до того, как там появится Молли дю Слак (Молли обнаруживала его на кухне делающим тосты и кофе). У Джона и Кейт сложился определенный распорядок дня, такой приятный для них обоих и такой удивительный, что ни один из них не мог до конца поверить, что все это происходило на самом деле. И если это было глупо (а Джон подозревал, что так оно и было), то это была восхитительнейшая глупость на свете.
— Дело в том, — смело и обреченно заявила Кейт, — что нам крышка.
— Крышка?
— Да. С нами все кончено. Наше время прошло.
— Нет.
В полумраке Джон не мог разглядеть ее лица. Отчетливо видны были только влажная губа, кончик носа, яркие глаза (не от слез ли они так блестели?)
Из-за стены доносились отголоски жизни Уилтонов. Слышно было, как что-то упало и разбилось, как топнул кто-то по деревянному полу, как вибрировал воздух, запертый в железной трубе, как пела вода в цистернах под крышей.
— Он работает на железной дороге, — сказала Кейт, будто это объясняло производимый семейством шум.
— Но мы не можем все бросить. Мы только начали.
— Я знаю, Джон, но это должно закончиться. Потому что сегодня вечером…
Потому что сегодня вечером он должен пораньше уйти с работы и отправиться в Шотландию. А на следующий день он должен привезти свою семью в Копперфилдс.
— Но мне необходимо видеть тебя. А тебе необходимо видеть меня. А иначе для чего все это было?
— Понятия не имею, — честно ответила она. — Может, у нас просто появился шанс провести несколько дней вместе. Потому что ты никогда не оставишь Джеральдин. — Она не спрашивала его, она утверждала.
— Никогда? Я не знаю. Мне надо подумать. — Он присел рядом с ней, придавленный невыносимой тяжестью на душе. — Я ведь могу просто сказать ей. И распорядиться насчет имущества. Дом оставлю ей — он мне не нравится — и большую часть заработка. — Другими словами, он бы принес ту жертву, на которую оказался неспособен Грэм Петтифер.
— Ты никогда не оставишь Джеральдин, — снова сказала Кейт твердым голосом. — Потому что ее это страшно унизит. Это убьет ее. А с нашими характерами ни ты, ни я не сможем жить с этим.
Судя по молчанию Джона, он был согласен с выводами Кейт.
— И вообще… — Кейт откатилась от него, свесила голову с кровати и посмотрела на Петал, которая спала, свернувшись клубочком на груде рабочей одежды. Слышно было, как кошка мерно, со свистом дышала через крошечные ноздри. — И вообще ты любишь ее.
Джон вызвал в уме образ большой розовой женщины в большой розовой сорочке. Несколько секунд он даже не мог вспомнить ее лица.
— Люблю? — задумался он. И потом ответил себе: — Наверное, да, люблю.
— Я — тетя твоих детей, — монотонно, неумолимо продолжала Кейт, адресуясь к полу. — А ты — дядя Алекса. И Джеральдин всегда была очень добра ко мне — по-своему. И у нас много общих друзей. Кроме того, ты только вообрази себе… — Неожиданно для себя она снова рассмеялась. — Только вообрази себе, как отреагирует Элеанор. Представляешь, что с ней будет?
— Одно это оправдало бы все другие наши беды, — согласился Джон.
— А сейчас тебе надо вставать. — Кейт перекатилась обратно и схватила его руку, сжала ее, ощутив под плотью кость. Она поцеловала его в плечо, уткнулась в него подбородком, полюбовалась совершенной лепкой уха. — Да, все кончено.
— Нет, Кейт. Я все равно буду видеть тебя.
— Как? Когда? — В голосе Кейт появились требовательные нотки. В конце концов, она хотела именно этого: заверений, утешений, обещаний, обещаний.
— Скоро. Очень скоро, — утешил он ее. — Я позвоню тебе, как только смогу, — пообещал он ей. — Я люблю тебя, — заверил он. — А теперь я должен идти.
Если бы кто-нибудь выложил букву «Л», то тогда она смогла бы составить слово «historic»[48] и сверх общей суммы за слово получила бы бонус в пятьдесят очков за использование всех своих букв. Но если у нее будет возможность использовать чью-нибудь букву «l», то выходило слово «clitoris»[49]. В таком случае, в соответствии с дополнительным правилом, выдуманным какой-то особенно похотливой компанией из тех, что ранее собирались в Иль-Подже, общая сумма ее очков, и без того уже астрономическая, удвоилась бы. Это правило состояло в том, что откровенно сексуальные, грязные, непристойные и нецензурные слова вознаграждались дополнительно. Ну а поскольку в этот раз предлагалось всего несколько слов, которые лишь с большой натяжкой можно было отнести к не очень приличным, ее «clitoris» определенно бы вывел ее в победители.
Мысль о быстрой и чистой победе над дико азартными друзьями и коллегами была исключительно привлекательна. Такая победа хотя бы на время отвлекла ее от другого соревнования, которое превратилось в неприятное и утомительное занятие и в котором оба игрока, казалось, потеряли последнюю надежду на выигрыш (нулевой счет был весьма вероятен).
Элли поерзала на стуле, отодвинулась от стола, издала несколько стонов — все это, чтобы создать впечатление, что у нее затекли от долго сидения мышцы и ей нужно сменить позу. На самом деле эти маневры предоставили ей возможность увидеть сквозь распахнутые двери террасу. Дом окружало неохотно проснувшееся утро. Над хмурыми холмами нависали огромные грязно-серые облака. Долину скрывала влажная дымка. Через открытые двери и окна в дом врывался воздух и с шумом носился по лестницам. Растущие на балюстраде пеларгонии зловеще качали вызывающе розовыми головами.
Все сегодня сошлись на том, что плохая погода в их последний день пребывания в Италии явилась очередным доказательством закона подлости. Единственным выходом из ситуации, похоже, были настольные игры (Элли их называла отстойными).
— Чей ход? — резко спросила Пэтти. Ее взгляд был направлен в ту же сторону, куда смотрела Элли: на террасу. Для них обеих вид спинки шезлонга, макушка головы Дэвида Гарви, его локтей, указывающих один на восток, а другой на запад, был столь же притягателен, сколь и неутешителен. (Автомобильные аварии имеют такое же очарование и вызывают такой же мучительный отклик в душе зрителя.) Те несколько дней, что Дэвид провел с ними, он был угрюм и неприступен. Он держался замкнуто, оправдываясь сначала акклиматизацией, а затем не то чтобы депрессией, но плохим настроением. Само пасмурное небо, должно быть, чувствовало себя посрамленным по сравнению с пасмурным видом Дэвида Гарви.
— Сейчас должен ходить Симус, — сказала Тина. Она стояла за спиной у Саймона, облокотившись о его плечо, и следила за игрой. Каждые несколько минут она протягивала руку к столу и длинным ногтем цвета фуксии передвигала буквы мужа, составляя то или иное неприличное словечко, или шептала ему в ухо нечто такое, что вызывало его самодовольную ухмылку. Было похоже, что сегодня утром Тина вымыла голову: ее волосы были очень пышными и благоухали тем, что парикмахеры называют «средства». Когда она рукой или движением головы откидывала волосы, они противно шелестели. В комнате стоял густой смешанный запах кондиционеров, бальзамов и лаков.
— Нет, не я, — сказал Симус, — а Элли.
— Я только что походила.
— Сосредоточьтесь, пожалуйста! — рявкнула на них Пэтти. — Тина, будь так добра, раз уж ты все равно стоишь, сходи на кухню и принеси нам чего-нибудь выпить. Майк скоро привезет обед.
— Что такое «Беллини»? — спросила Элли.
— Ничего неприличного, насколько мне известно, — ответил Саймон.
— Нет, я не в этом смысле… Мне просто было интересно.
— Свежевыжатый сок белых персиков и шампанское… или что-то в этом роде, — проинформировала Пэтти. У Элли сложилось впечатление, что второй половиной фразы Пэтти попыталась скрыть свою осведомленность в этом вопросе.
С осязаемой враждебностью компания сконцентрировалась на игре. Впервые Элли не испытывала удовольствия при мысли о вине. Две недели, проведенные здесь, пресытили ее. И к тому же ее посетило дурное предчувствие: если она сейчас так красиво, так убедительно выиграет, то проигравшие воспримут это крайне тяжело и обозлятся на нее, как черти.
— Интересно, как пишется слово «goolies»[50], — пробормотал Симус.
— Во всяком случае, не так, — сообщила ему Тина. Проходя у него за спиной, она провела пальцем по его плечам, щипнула его за ухо и заодно заглянула в его буквы. Выходя из комнаты, она щелкнула выключателем. Люстра залила компанию своей индифферентностью, не осветив ничего нового и не добавив радости.
Казалось, что дом бросило в холодный пот: к чему ни притронешься, все было влажным на ощупь. Игроки слушали в недружелюбном молчании, как Тина открыла, а потом закрыла холодильник. Элли увидела на мгновение прохладные полки, скучный натюрморт из объедков, остатки двухнедельного чревоугодия: сыр, помидоры, вялые листья салаты, может, тюбик соуса.
— Захлопни дверь посильнее! — крикнула Пэтти.
Все услышали, как дверь холодильника снова открылась, а потом резко, со стуком закрылась. Зазвенели выставляемые на поднос стаканы.
— И захвати оливки, — вспомнила Пэтти.
— Захвати оливки, пожалуйста, — невозмутимо поправила ее Тина.
— Да, оливки и еще те соленые крекеры. Пожалуйста. Ну же, Хикс, ходи, мы уже устали тебя ждать. — Пэтти хрустнула пальцами. — Или поменяй буквы, если с этими ничего не сложить.
— И с этими можно кое-что сложить, — заверила всех Тина, вернувшаяся из кухни. Улыбающаяся, развязная, с блестящим подносом, она процокала каблуками по каменному полу. — У него получается пара слов.
— Эй, послушай, Тина, может, тогда ты сыграешь за меня? Раз ты такая умная. — С правильными чертами, но невыразительное лицо Симуса, лишенное характерных штрихов, напоминало пустую стену, на которой оставила свой росчерк обида.
— Я не говорю, что я умная, Симус. Просто проходя мимо, я кое-что увидела. Свежий взгляд бывает полезен.
— Ну, тогда не говори мне, что ты тут увидела. Я сам справлюсь, спасибо.
И все же было в Симусе что-то такое, что Пэтти просто выводило из себя.
— Нет, Тина, скажи ему, — попросила она. — А иначе мы завтра опоздаем на самолет.
— Хорошо. Вот смотри, Симус, из этих букв ты можешь составить «glues»[51]. А добавив «s» к слову «lag»[52], ты получишь «slag»[53], что наверняка стоит удвоения.
— Разумеется, стоит, — великодушно подхватила Элли. Она сообразила, что, если ни Пэтти, ни Саймон не опередят ее, она сможет использовать «l» из тех букв, что выставит Симус.
Но тут Пэтти сказала:
— Что-то мне расхотелось играть, если честно.
— Да и мне тоже, — сказал Саймон. — Невероятно скучная игра.
— Если бы мне не мешали все время, — пробубнил Симус, — я бы думал гораздо быстрее.
— Ну так и думал бы, — отрезала Пэтти и спросила, обращаясь к Тине: — А там не оставалось орехов?
— Орехи! — воскликнул Саймон, отбрасывая свои буквы с недовольным видом. — Я мог бы поставить слово «орехи»[54].
— Дурацкая игра, — пожаловалась Элли. — И кому в голову пришло предложить ее?
— Тебе! — дружно ответили остальные.
Она поднялась и стала потягиваться: подняла руки над головой, затем развела их в стороны.
— Пожалуй, — сообщила она, — я пойду подышу.
Подавленность Дэвида Гарви лишь частично объяснялась неинтересной компанией, в которой он оказался. Его плохое настроение, которому он не противился, как не противился любым другим своим настроениям, прихотям и идеям (ибо так он пережидал плохие времена, так он утешал себя), было вызвано мрачными мыслями. Едва замечая сырость и влагу, проникавшие сквозь белую рубашку, не осознавая, что надвигалась непогода, он неотрывно смотрел внутрь себя.
С каждым прожитым годом его сексуальная привлекательность только возрастала. Ему не надо было смотреться в зеркало, чтобы узнать это. Женщины всех возрастов и видов — от плоскогрудых богатых наследниц, еще не окончивших колледж, до амбициозных грудастых блондинок одних с ним лет — обращали на него недвусмысленные взгляды и, фигурально выражаясь, терлись об него. Если он и смотрелся иногда в зеркало, то не потому, что нуждался в подтверждении своей неотразимости, а просто чтобы побаловать свое эго. Так что же так расстроило его, что так напугало?
Двадцать с лишним лет назад ему пришлось приспособиться к идее о том, что у него был маленький сын. Он засунул эту идею в дальний уголок сознания и выделил ментальное пространство на то, чтобы ребенок рос: из хныкающего младенца в нескладного подростка, а потом и в юношу. Ему приходилось раскошеливаться на куртки, рубашки и ботинки все большего размера, он посылал через все более и более длинные интервалы все более крупные чеки. Однако он почему-то так и не смог подготовиться к тому, что увидит сына — такого же высокого, как он сам, и столь же сексапильного.
И поэтому встреча с Алексом совершенно сбила Дэвида с толку. Оказалось, что парень уже миновал переходный возраст, сопровождающийся «мокрыми» снами, и теперь охотился на территории самого Дэвида, отчего Дэвид почувствовал себя странным образом ущемленным. Гарви-младший не мастурбировал над фотографией Мадонны в духе бедолаги Эдипа, нет, он удовлетворял свои сексуальные потребности с женщинами в два раза старше себя. И жил вместе с Наоми Маркхем. А Наоми Маркхем была, вероятно, самой красивой женщиной из тех, что когда-либо ступали по земле, осознал вдруг Гарви-старший. Он всегда имел в виду приударить за ней и лишь ожидал подходящего случая, вплоть до прошлой недели полагая, что она от него не уйдет. В общем и целом он предпочитал более юную плоть, но для столь исключительной женщины он был готов сделать исключение.
В первые годы их знакомства она была неуловима: она выскальзывала из комнат, когда он туда входил, садилась в быстрые спортивные машины, бросала прощальные воздушные поцелуи своим соседкам по дому, увозимая в Париж богатыми поп-звездами, владельцами ресторанов, предпринимателями. В те времена ее влекли большие деньги и экстравагантность. Дэвид полагал, что, должно быть, Наоми кардинально изменилась и пересмотрела свою шкалу ценностей, так как у Алекса за душой не было и гроша. Известие об их связи перевернуло всю его душу. Оно никак не укладывалось у него в голове. А тем временем образ Наоми горел у него в мозгу как свеча, день и ночь.
Эту сногсшибательную новость сообщил ему сначала отец, Джек, с насмешливой иронией в голосе, а затем и сестра, позвонившая из Шотландии. Джеральдин поведала о событии тем особым шепотом, который она всегда использовала для скандальных сплетен (в ресторанах и других общественных местах или на коктейлях частные дела семьи Гарви станут достоянием всех и каждого; на этот шепот буду оборачиваться головы, будут вытягиваться шеи).
Итак, нарушенный суточный цикл был забыт; не он сейчас терзал Дэвида, а куда более мощный цикл, известный как жизнь. «Человека старит не возраст, — решил про себя Дэвид, — человека старят окружающие его люди». Никогда раньше не сожалел он так о потомстве, которым был благословлен его кратковременный брак.
Короче — и честнее — говоря, он ревновал. Его не отпускала зависть к более молодому и, насколько Дэвид мог догадываться, более сильному мужчине.
На террасу вышла Элли, прочищая горло от сырой духоты. Дэвид едва удостоил ее взглядом.
— Что тебя гложет? — спросила она его со своей обычной прямотой и поводила перед его носом бокалом с вином.
Вино было желтовато-белым и слегка газированным: когда Дэвид выхватил бокал из рук Элли и поднес его к губам, ветерок бросил ему в нос что-то вроде алкогольной пыли.
— Я в полном порядке, — сказал он, хотя этому заявлению противоречил весь его вид.
— Почему ты не стал играть с нами?
— Потому что это игра для четырех игроков.
— Совсем необязательно.
— Таковы правила.
Она подтащила стул и уселась практически вплотную к Дэвиду.
— Как долго мы знакомы, Гарви?
— Слишком долго.
— Во всяком случае, достаточно долго для того, чтобы я могла понять, что с тобой не все в порядке. Что тебя гложет?
— Ну, разумеется, я в порядке. Что со мной может быть не в порядке? Не волнуйся, Элейн. Может, немного скучаю по Штатам. Знаешь, по тому особому кипению жизни.
— Что ж, прости, если мы кипим недостаточно сильно, — игриво ответила Элли и сложила руки на животе. На ней был желтый топик с завязками на спине, в котором она выглядела как клубничное мороженое в вафельном стаканчике. — Нет, ты только взгляни на небо. Вот-вот ливанет, судя по всему.
— Дождь? — Он окинул пейзаж усталыми глазами. — Да, похоже.
— В такой унылый день и делать-то особо нечего.
— Угу.
— С тем же успехом можно было вообще не вставать с постели.
— Угу.
Вряд ли Элли могла выразиться яснее, только если бы прямо выложила ему все, что было у нее на уме (веди себя Дэвид менее отчужденно, она бы запросто сказала: «Давай-ка займемся делом», ей вполне достало бы смелости первой начать переговоры). Но Дэвид не желал понимать намеков.
— Да-а, я вижу, ты горячий парень, — обвинила его Элли. — Не понимаю, зачем ты вообще сюда приехал, раз не хочешь веселиться.
Пожалуй, легче было бы вынести даже успех Пэтти. Разумеется, Элли страшно разозлилась бы, если бы лукавство и агрессивная жизнерадостность Ла Хендерсон (от которых у Элли буквально сводило зубы) сломили сопротивление Гарви. Но тот факт, что он откровенно отказывал им обеим (будто говоря тем самым, что он предпочитает спать один, чем с Элли), был для нее в высшей степени унизителен. И если бы она была уверена в своей женской привлекательности хотя бы на йоту меньше, у нее вполне мог бы развиться комплекс неполноценности.
— Это просто комариная моча какая-то, — пожаловался Дэвид, считая, что белое вино было женским напитком. — А красного вина не осталось?
— Понятия не имею. Это Тина разливала вино. Оно и у меня уже вот где стоит. — Элли сердито стукнула себя ребром ладони по горлу.
— Ты не пьешь?
— Нет. Мне уже хватит.
— Да брось, сходи налей себе немного. Я тебя с трудом узнаю, когда у тебя в руках нет стакана.
— Со стаканом или без, ты все равно меня не узнаешь. Слушай, я тут подумала, а как там Кейт? Ты не связывался с ней, когда был в Лондоне?
— Нет, а с чего бы это? Мы с ней почти не общаемся.
— Но ты ведь знаешь, она очень тяжело восприняла то, что Алекс…
— Ах да, Алекс.
— Признаться, я никогда бы не подумала, что он способен на такое.
— Не тот тип, что ли?
— Да нет, разумеется, он, как и его отец, весьма аппетитная штучка. Но он какой-то тихий. Можно даже сказать, маменькин сынок. Он более цельный, чем ты, Дэвид, извини, конечно, что я говорю тебе это. На него можно положиться.
— Ты думаешь? — Дэвид заметно оживился.
При виде этой искры интереса Элли принялась раздувать из нее пламя:
— Видишь ли, причиной послужило то, что они находились в непосредственной близости друг от друга, ютясь под одной крышей. Им просто некуда было деться, как мне кажется. Но больше их ничего не связывает. Их отношения обречены на скорый конец.
— Да?
— Я хочу сказать, что двух более разных людей… Вот если бы на его месте был ты, грязный распутник, я бы еще смогла понять. Но Алекс — лошадка совсем другого цвета. Ему надо бы жениться на хорошей девочке и завести дом. Кстати, моя Джуин более чем неравнодушна к нему. Лично мне хотелось бы, — Элли доверительно нагнулась к Дэвиду, — чтобы Алекс пришел наконец в себя и обратил внимание на Джуин.
Дэвид задумчиво поводил пальцем по бокалу, поерзал в шезлонге. Потом он повернулся к Элли и одарил ее улыбкой:
— А это пойло совсем ничего, если распробовать его хорошенько.
— Пожалуй. Ты знаешь, наверное, я все-таки выпью с тобой.
— Как ты думаешь, проглянет сегодня солнце или нет?
— Кто знает, Дэвид, — ответила Элли, ощущая, как ее заливает волна восторга. — Кто знает.
Молли дю Слак не с луны свалилась. И ее не аист принес. Другими словами, она не вчера родилась. Например, она могла отличить кровать, на которой спали, от той, на которой не спали, особенно если это была одна из «ее» кроватей. Она всегда аккуратно и туго подтыкала уголки, встряхивала одеяло так, что оно парило на волнах воздуха и только потом опускалось с легким вздохом. Она взбивала и разглаживала подушки, расправляла покрывало. Ни один мужчина, даже самый ловкий, не смог бы провести ночь посреди этого накрахмаленного рая, не оставив складок, ни один мужчина не смог бы вечером проскользнуть между простыней и пододеяльником, всю ночь пролежать на подушке, а наутро восстановить прежний совершенный порядок.
И дело было не в одной только кровати. Каждое утро, проходя мимо «ровера», стоящего перед домом, Молли дю Слак слышала постукиванье и потрескиванье разгоряченного металла, видела пар, поднимающийся от нагретого капота. Две совершенно разные атмосферы окружают ту машину, которая спокойно простояла всю ночь, и ту, которая только что остановилась. Даже следы шин на гравии говорили Молли о том, что они оставлены совсем недавно, она замечала в воздухе медлительное облачко выхлопа, видела на земле свежие отпечатки, а тем временем потревоженные грачи на березах хрипло рассказывали ей о происшедшем.
Сегодня утром она вошла в девственно чистую кухню и, как обычно, застала там Джона. Он завтракал, закрывшись газетным листом, притворяясь, что глубоко заинтересован последними новостями. Воздух кухни был насыщен виноватым ароматом только что сваренного кофе. «Ай-яй-яй, — подумала Молли, — что-то здесь нечисто».
И тем не менее она любезно поинтересовалась у Джона, как тому нравится сегодняшняя погода. Застегивая манжеты на своем рабочем халате, Молли бросила взгляд в окно и сама тоже одобрительно отозвалась о безоблачном небе, ведя себя при этом совершенно естественно. Никто не заподозрил бы ее в том, что она чует неладное.
Разумеется, она никому ничего не скажет. Этот секрет из нее не вытянут клешами. Ее рот был на замке. Думая так, Молли бессознательно сжала губы в узкую суровую полоску, словно репетируя, как она будет противостоять тем самым клешам. Если Джеральдин спросит у нее в понедельник (а она обязательно спросит), все ли было в порядке, Молли скажет: да, спасибо, все было отлично. Частная жизнь ее работодателей ее не касалась. Но в одном замечании Молли не могла себе отказать: у супругов Робби ничего подобного никогда бы не произошло. Ну, и конечно, ей было немного любопытно, что за бес вселился в старого Горста.
А вот состояние дома было для нее эти две недели источником радости и удовлетворения. В отсутствие семьи Молли смогла навести в нем идеальный порядок. Усмешка растянула ее губы: неверный муж, не ночующий дома, был хорош хотя бы тем, что за ним не надо было много убираться.
Гостиная — воплощение покоя и чистоты — особенно радовала Молли. Стеклянные дверцы шкафов, оберегающие шедевры литературы в кожаных переплетах, отражали и еще более усиливали и этот покой, и эту чистоту. На темном полированном дереве стояли на кружевных салфетках два подсвечника — фарфоровые пастушка и пастух, неотрывно глядящие друг на друга. Гардины ниспадали ровными складками.
Когда подошло время, бой каминных часов в позолоченной бронзе был дружно подхвачен всеми остальными часами в доме. Потому что Молли дю Слак везде выставила правильное время. Этот перезвон посреди полной тишины произвел странный эффект безвременья: казалось, что бой часов падает в пустоту; казалось, что здесь никогда ничего не происходит.
Однако время шло. Миновало две недели, и завтра тишину Копперфилдса снова захлестнет жизнь — к сожалению, некоторых его обитателей.
Увидев на буфете открытку, адресованную хозяину дома, Молли взяла ее и прочитала, что Джеральдин и дети отлично проводят время. Кое-кто тоже не скучает, мрачно подумала Молли. Кое-кто тоже вовсю развлекается. Во всяком случае, ведет себя не так, как следует.
Тревор Покок дотянулся до телевизионного пульта, бесцельно потыкал кнопки, потом слез с дивана и пошел на кухню поискать чего-нибудь съестного. В морозилке лежала пара упаковок, одно название которых — «Здоровый выбор» — сразу отбивало всякое желание узнать, что было внутри. Однако поковырявшись среди покрытых изморозью коробок, Тревор обнаружил пачку гамбургеров и пакет замороженного картофеля. Продукты из говядины, если верить специалистам в области питания, могли быть очень опасны. Что ж, если он подхватит губчатую энцефалопатию и начнет вести себя как сумасшедшая корова, то в этом будет виноват гамбургер. А вот что извиняет Элли Шарп?
Тревор закатал рукава и решительно нахмурился. Он приготовит себе поесть, а потом с помощью ведра и тряпки наведет в квартире чистоту и порядок. Это была задача, за которую не взялся бы и сам Геркулес. Чистка Авгиевых конюшен — это одно дело, а вот отмывание ванны и натирание линолеума — совсем другое. Отыскать пояс Ипполиты и привести Цербера из подземного царства было плевым делом по сравнению с доставанием носков, штанов и прочего мусора из-под кровати. Но выбора у Тревора не было. Две недели, что он прожил здесь, вел он себя не лучшим образом. Более того, оглянувшись вокруг, Тревор вынужден был с огорчением признать, что вел он себя отвратительно. Его окружал свинарник. Если он не произведет здесь экстренных и значительных перемен, то о вознаграждении можно забыть.
«Когда я вернусь, — предупредила его Элли в обычной для себя нелицеприятной манере, — дом должен блестеть так, чтобы я могла смотреться в него, как в зеркало».
На это Тревор, само собой, сделал удивленное лицо и сказал, что Элли может не волноваться.
Он налил во фритюрницу масла, чтобы сделать чипсы, и поставил ее греться на конфорку, а сам поднялся на второй этаж. Там он соскреб со стенок ванны налет, снял с постели Элли грязное белье и бросил его вниз, чтобы потом засунуть в стиральную машинку, потом вооружился пылесосом и принялся курсировать по лестничной площадке, удивляясь малой результативности своих действий.
Когда послышался телефонный звонок, Тревор ответил с телефона в спальне. Раскинувшись на голом матраце и глядя в потолок, он с упреком произнес: «Никола, я же просил тебя не звонить мне в офис». (С этой девушкой они познакомились на дискотеке. Он сказал ей, что возглавляет компанию, занимающуюся очисткой окружающей среды, на что она сказала: «Круто…» — и немедленно сняла трусы, что было вполне объяснимо.) После чего на его лице появилась широкая улыбка, и, держа руку на ширинке джинсов, он завел с ней весьма грязный разговор (но не о немытых ваннах и не об Авгиевых конюшнях).
А тем временем внизу на кухне, на газовой конфорке во всю кипело масло для чипсов.
Наоми снова плакала. Похоже, этот огромный сосуд страдания внутри нее никогда не иссякнет. Сидя у окна в ожидании такси, она утерла слезы тонким запястьем, а потом растерла ладонью щеки, чтобы украсить их фальшивым румянцем.
В жизни других людей она приезжала на такси, и на такси же уезжала. Вечером Алекс вернется домой и увидит, что ее нет. Так будет лучше, Наоми была уверена в этом. Вчера вечером они впервые поссорились, впервые сердито повернулись друг к другу спинами и лежали на кровати холодные, нелюбящие и нелюбимые. Были произнесены ужасные слова. Сказаны обидные вещи. И она не могла найти внутри себя места, куда можно было бы положить эту обиду. И больше не могла выносить порицание.
Наоми была слишком ранима, слишком неуверенна в себе, чтобы правильно воспринимать критику. Любое осуждающее слово в ее адрес раздавливало ее, разрушало. Ситуация ухудшалась и тем, что, будучи единственным ребенком в семье, Наоми не познала искусства здорового спора. В школе у нее не было подруг, дружба с которыми только крепла от ссор и нервного трепета враждебности, взаимных колкостей, мелодрамы признаний и восторженных примирений. Одноклассницы Наоми не брали ее под руку, не отводили в сторону, чтобы узнать ее точку зрения на секс или шепотом поведать страшную тайну. Нельзя сказать, что Наоми не любили, но рассеянность в ее взгляде, невнимательность к происходящему в окружающем ее сообществе не внушали желания общаться с ней. Вот так и получилось, что, не имея опыта дружбы, Наоми совершенно не умела ссориться.
Алекс, обнаружив тот или иной недостаток в Наоми, тут же старался исправить его. С точки зрения Наоми, любви здесь быть не могло. Она даже не задумывалась над тем, что именно Алекс хотел изменить в ней (ее инертность, зависимость, вялость); она видела только его желание ранить ее.
Наоми решила, что должна продолжить поиск безусловной любви, который после стольких лет привел ее к Алексу и к неожиданному счастью. Должен же быть такой мужчина, в чьих глазах она была бы совершенна. Ей казалось, что она была для Алекса воплощением женского идеала. Поняв, что это не так, она ужасно разочаровалась. «Все это я говорю ради тебя, — утверждал Алекс, стуча себя по лбу основанием ладони, — только ради тебя, невозможное ты создание». То есть она должна была поверить, что он был жесток по отношению к ней, желая ей добра? Нет, этому она не хотела, не могла поверить.
Наоми оперлась об оконное стекло рукой и положила голову на предплечье. Все ее тело ныло и болело после почти бессонной ночи, которую она провела в напряжении, как натянутая струна, стараясь избежать даже случайного прикосновения к Алексу. Когда безжалостное утро проникло в ее сознание стрелами жидкого света, она приветствовала его не радостнее, чем приготовившийся к смерти самоубийца приветствует оживляющую пощечину доброхота, ядовитый поцелуй жизни. Наоми почувствовала на себе взгляд Алекса — задумчивый, пристальный. Конверт постельных принадлежностей раскрылся — Наоми окатила волна более холодного воздуха, — и Алекс выскользнул из-под одеяла. Позволяя себе один глоток воздуха в несколько секунд, Наоми сохраняла каменную неподвижность, пока Алекс с неуклюжей осторожностью собирался на работу. Заговорит ли он с ней? Будет ли униженно просить прощения? Возьмет ли ее за руку, станет ли умолять ее забыть о вчерашнем? Ведь только так сможет он влить в нее новую надежду и спасти от краха.
Каждый произведенный им звук она слышала и узнавала: царапанье ногтей по свежевыстиранным джинсам, пение металлического гребешка в спутанных волосах, едва различимый выдох, который он сделал нагибаясь, чтобы завязать кроссовки, скольжение шнурка сквозь металлическое колечко. Вот как напряжены были все ее чувства.
Голос в голове Наоми побуждал ее сесть и посмотреть Алексу в лицо, заявить о себе, постараться вызвать в нем жалость. Но другой голос, более жесткий, говорил ей не делать этого.
Стук захлопнувшейся двери, от которого содрогнулись стены, был безоговорочным и окончательным. «Значит, все», — обреченно подумала Наоми.
— Что, разругалась со своим мальчишкой? — насмехался в телефонную трубку ее отец. — Я уже старик, и мне трудно менять свои привычки. У нас с тобой нет ничего общего. И, кроме того, ты слишком похожа на свою мать. Это будет раздражать меня. Твое общество не доставит мне ни малейшего удовольствия. Думаю, Ирен и Хью здесь больше подойдут, а?
Но он, однако, не сказал, что ей нельзя приехать. А к кому еще Наоми могла обратиться? Элли вернется из Италии только завтра. Джеральдин была в Шотландии. А рассчитывать на теплый прием у Кейт она вряд ли могла.
Итак, когда у подъезда появился белый «форд» и водитель посигналил клаксоном, она нетвердыми шагами вышла на крыльцо, жестами, свидетельствующими о ее полной беспомощности, вынудила таксиста вынести ее вещи и сложить их в багажник, а затем назвала адрес в Пимлико.
— Две недели, — жаловался Доминик, — и ни единого поцелуя, не говоря уже о чем-то большем. Должен признаться, я разочарован в тебе, Джу-джу. Я-то считал, что с тобой можно повеселиться.
— Мне очень жаль разочаровывать тебя.
Он обогнал Джуин и пошел по краю поля шелестящей травы, размахивая палкой, то и дело подбрасывая в воздух фонтаны листьев и цветов. Вокруг него преданно кружил Маффи.
— Зачем ты губишь растения? — отчитала Доминика Джуин.
Походка у этого парня была исключительно развязной: при каждом шаге он поднимался на подушечках пальцев одной ноги, а другую ногу практически выбрасывал вперед. Джуин, следуя за ним в потоке слов, провокаций, выдумок и бахвальства, не могла не удивляться вновь и вновь его энергии и самонадеянности. Честно говоря, мысль о скором возвращении домой тоже удручала ее. В понедельник она вернется к своей старой жизни, снова пойдет в школу. Она опять окажется в гуще событий и в гуще своего горя. Ей не хотелось уезжать отсюда. Это неприветливое побережье пришлось ей по душе. Она собиралась приехать сюда при первой же возможности и поселиться в каком-нибудь простом коттедже на уединенном мысу посреди колышущихся на ветру трав. Ее воображение рисовало дымок, вьющийся из трубы, одинокий огонек во мраке ночи. Она видела себя — замкнутую отшельницу, странную и загадочную. (О ней будут ходить слухи. Люди будут говорить, что она сошла с ума из-за несчастной любви.)
День был теплым, но жемчужно-серым: должно быть, непримиримые погодные силы пришли на время к компромиссу. Дождь ничто не предвещало, но тем не менее он мог неожиданно налететь с моря. Дорога, кисло пахнущая гудроном, привела Доминика и Джуин к рощице, в лиственном пологе которой перебирал серебряные струны морской бриз. Затем дорога сделала поворот и пошла под уклон, и наконец показалась цель путешествия подростков. Шаги Доминика удлинились. Джуин, пожав плечами, не стала бороться со все увеличивающейся дистанцией между ними. Она не собиралась ломать себе шею ради того, чтобы не отстать от Доминика.
Перед кафе он остановился и прислонился к дереву, ожидая, пока Джуин догонит его. Шорты открывали взору его сильные и жилистые ноги, покрытые золотистым пушком.
— Ать-два, — поторопил он Джуин, — пошевеливайся. У нас мало времени. Если мы не вернемся через полчаса и опоздаем к обеду, за нами вышлют поисковую партию. Мама и бабушка боятся, что со мной ты в опасности.
— Смотри, — сказала Джуин, которая за эти дни настолько привыкла к его постоянным двусмысленным шуточкам, что уже практически не слышала их. Она вытянула руку — косточка, а не рука, — на которой устроилась божья коровка. — Они такие странные. Я их уже сто лет не видела. Даже забыла, что они существуют. Куда они подевались? Что с ними случилось? Они кусаются? Я всегда побаивалась насекомых.
— Они не кусаются, но могут защекотать до смерти.
— О господи. — Джуин вздохнула над безнадежностью Доминика. — Интересно, почему они называются божьими коровками? В них нет ничего божественного. Да и на коров они не похожи.
— Божья коровка — значит коровка Божьей Матери. Она так названа за то, что пожирает огромное количество тли.
— Ты что, мистер всезнайка? — спросила Джуин и снова вздохнула, на этот раз раздраженно: казалось, не было такого вопроса, на который Доминик не знал ответа.
— Ты спросила — я ответил. А вообще я не всезнайка, просто от природы способен заглатывать большие объемы информации, — ответил Доминик и руками раздвинул свои жадные губы, обнажив крепкие белые зубы.
— Твоя бабушка говорит, что…
— А, моя бабушка. Вот не знаю, что она приспособит себе под лицо, когда обезьяна потребует свою задницу обратно?
— Ты очень непочтителен.
— Почтение нужно заслужить, Джуин, ты согласна со мной? Я не уважал моего старика, пока он не заявился домой косой как заяц. А этой противной ведьме придется совершить нечто совсем необыкновенное, чтобы заработать хоть каплю уважения с моей стороны. Самое меньшее — это пройти круг на скачках в Аскоте с дымовой шашкой в заднице.
— Ну хватит, — прервала его Джуин, подавив смех. — Твоя бабушка говорит, что это у тебя от твоего дяди. Твоя любовь к знаниям. Она говорит, что в твоем возрасте Дэвид был вылитый ты.
— Это крайне неприятно, как ты, наверное, и сама догадываешься, когда тебя все время с кем-то сравнивают, особенно если этот кто-то — бездельник чистой воды.
— Дэвид — бездельник? — Брови Джуин взлетели в искреннем удивлении. — Моя мама совсем другого мнения о нем. Она считает его гением.
— Это потому, что она хочет от него ребенка. Этого хотят многие женщины. Только в этом отношении я бы хотел походить на него.
— Ужас какой. В ее-то возрасте. — Джуин согнула руку, поднесла ее к лицу и прищурилась, разглядывая божью коровку.
— Случаются и более странные вещи. Ну, пойдем? Мы же собирались выпить.
— Подожди. — С серьезностью, с детской верой в волшебные заклинания Джуин обратилась к божьей коровке: — Божья коровка, лети на небо, там твои детки… — Ой, смотри, улетела! Интересно, где ее дом.
— Или его. В сухой щели где-нибудь на дереве. Там они обычно проводят зиму. В спячке. Так, а теперь, прошу тебя, пойдем.
Кафе «Цветы леса» помещалось в высоком кирпичном здании замысловатой архитектуры с узкими угрюмыми окнами-фонарями. Человек, создававший внутренний интерьер, не то чтобы обладал плохим вкусом, скорее, он просто не имел вкуса. Основной деталью оформления была пластиковая мебель.
Автомобильная парковка при кафе отличалась не только неудобным расположением, но и необоснованно большими размерами. Оставалось только удивляться, как владельцы и пассажиры нескольких десятков машин могли бы поместиться внутри кафе. Но в этот день такой проблемы не стояло: заведение пустовало. На клочке зеленой травы позади здания стояли древние детские качели, что только усиливало общую атмосферу безысходности, окружавшую «Цветы леса». Случайных и заезжих посетителей здесь не приветствовали, владельцы заведения удовольствовались местной клиентурой.
С правой стороны небольшого вестибюля открытая дверь вела в небольшой зал со столиками, там же виднелись черная доска с меню и буфет, уставленный пластиковыми бутылками с соусами. Доминик сунул голову в дверь и, обернувшись через секунду к Джуин, закатил глаза.
— Здесь все по-шотландски. Абракадабра какая-то, — доложил он.
— Хватит говорить ерунду. Я ведь тоже могу читать. Посмотрим: треска с жареным картофелем, окорок с жареным картофелем, лазанья… да-а, одни только мертвые животные и перегретое масло. Ой… — Джуин неосознанно перешла на шепот. — Я же собиралась купить для мамы хаггис. Наверное, уже поздно, где я его теперь найду?
— Да зачем ей хаггис? Кстати, это тоже мертвая плоть. Мочевой пузырь, набитый салом.
— Не смей так отзываться о моей матери.
— Ты прекрасно знаешь, что я говорю о благородном хаггисе, великом вожде племени колбасных изделий, подобном огромному кондому, нафаршированному требухой. А что, пожалуй, ты права. Элли вполне мог бы понравиться хаггис, если рассматривать его в таком ключе.
— Я просто подумала, что он будет интересен ей своей новизной.
— Ты тоже будешь интересна своей новизной, если раскрасишь лицо красной краской, польешь волосы горчицей, приправишь сверху сливками и станешь играть с моими чувствами. А теперь давай пройдем сюда.
Бар, расположенный слева от входа, предворяла вывеска «Салун». В общем и целом бар выглядел чуть привлекательнее, чем зал со столиками, однако стоящая за стойкой хозяйка кафе — худая женщина с лицом, похожим на мордочку хорька, — явно хотела испортить это впечатление. Она слышала беседу Доминика и Джуин в коридоре и поэтому при их появлении в баре не перестала водить тряпкой по стойке маленькими круговыми движениями, а только смерила их скептическим взглядом. Выражение ее лица оказало бы честь и самой Элеанор Гарви. «Обезьяна может забирать свою задницу, — подумал Доминик, — здесь есть кое-что получше». Тем не менее вслух он любезно произнес:
— Добрый день. Я бы хотел пинту лагера и полпинты имбирного пива для моей подруги.
— Сколько ей лет? — спросила женщина, указав на Джуин коротким кивком.
— Мне девятнадцать, — ответила за него Джуин. — И я понимаю английский. Кстати, это мой родной язык и говорю на нем с двух лет.
Тряпка описала еще три влажных бесполезных круга. «И кто меня тянет за язык, — подумала Джуин. — Теперь она не обслужит нас». Но хозяйка кафе без дальнейших вопросов, хотя по-прежнему сохраняя недоверчивое выражение лица, сунула кружку под кран и неохотно налила пинту лагера.
— Вам нужно меню? Здесь подаются только булочки и сандвичи. Горячее и салаты — в том зале. Хотя посетителям с собаками, — добавила хозяйка кафе с торжествующей улыбкой, — вход туда запрещен.
— Нет, — ответил Доминик, — мы заглянули, чтобы утолить жажду. Видите ли, мы все утро протрахались… — Он взял свою кружку, сделал большой глоток и удовлетворенно выдохнул, подражая «настоящим» мужчинам из телерекламы. — … с этими мешками с углем.
— Да?
— Да. Мы везем их в Ньюкасл.
Джуин задержалась, чтобы расплатиться (Элли, щедрая и при обычных обстоятельствах, под влиянием чувства вины перед отъездом дочери набила ее карманы деньгами на мелкие расходы), а Доминик забрал напитки и направился к столику в углу, где и уселся под тремя мрачными гравюрами с охотничьими сюжетами. Бессильные лучи солнца не могли проникнуть даже сквозь тонкие сетчатые занавески.
— Как тебе нравится этот ковер? — спросил он, когда к нему присоединилась Джуин. — Такой практичный рисунок. На таком ничего не будет видно, даже если какого-нибудь старого пьянчугу стошнит на пол.
Джуин ссыпала сдачу в карман и плюхнулась рядом с Домиником.
— Доминик, — упрекнула она его, — хватит говорить ерунду. И почему ты все время стараешься разозлить всех и каждого?
— А я ничего не могу с этим поделать. Это врожденное.
— Наверное, это у тебя от Дэвида Гарви.
— Нет, он совсем не такой. Он никогда не дурачится. Этот парень ужасно серьезен.
— И ты не хочешь быть писателем вроде него?
— Я не хочу быть писателем вроде кого бы то ни было. Я хочу быть курьером по доставке поцелуев.
— Ну вот, опять ты за свое. Скажи, чем ты действительно хотел бы заниматься.
Он еще раз глотнул пива, поставил кружку перед собой, изучил ее внимательно, отодвинул на дюйм в одну сторону, на два дюйма в другую.
— Я хочу быть актером, — наконец сказал он, и Джуин впервые увидела в нем неуверенность, увидела в нем скромность.
— Вот это да! Честно?
— Честно.
— А твоя мама знает? Или папа?
— Никто не знает. Только ты.
— В таком случае я чувствую себя польщенной, — сказала она, но прозвучало это слишком легкомысленно.
Доминик взмахом руки показал, что Джуин не оправдала его доверия и что больше ей нечего рассчитывать на откровенность с его стороны.
— И не болтай об этом, — предупредил он ее. — Если мои предки прослышат, они из кожи вон вылезут, чтобы отговорить меня. По крайней мере, мать.
— Да, конечно. А что бы сказала твоя мама, если бы узнала, где мы с тобой сейчас сидим?
— Она бы сказала… — Доминик откинулся на спинку стула и, закрыв глаза, вошел в образ матери: вечно недовольной, беспомощной, с дрожащей нижней губой, с чем-то опасным, скрываемым до поры до времени внутри; он превратился в Джеральдин. — От Доминика я ничего лучшего и не ожидала, но я надеялась, что в тебе, Джуин, было немного больше здравого смысла… то есть, что я могу тебе сказать… Ох, да оба вы хороши.
— Ужасно! — Джуин уронила голову в ладони и рассмеялась. Потом она осторожно глотнула своего имбирного пива. В смысле алкоголя Джуин находилась еще на стадии взросления: все эти сладкие шипучки она уже переросла, но вкус к более крепким напиткам у нее еще не развился. — И это пиво тоже ужасно. — С этими словами она вместе со стаканом исчезла под столом, где все пиво вылакал благодарный Маффи.
Доминик тем временем тоже осушил свою кружку: запрокинул голову как птица и вылил в рот последнюю треть лагера.
— Нам пора возвращаться, — провозгласил он затем.
Хозяйка кафе весьма демонстративно не стала желать им всего хорошего на прощанье, не поблагодарила их и не пригласила заходить еще. Уже на пороге Джуин оглянулась и увидела, что женщина протирает их столик с такой мрачной решительностью, словно хотела стереть всякую память об их пребывании. Неудивительно, что парковка пуста, подумала Джуин.
Однако парковка была не пуста: на въезде стояла в пестром пляжном костюме краснолицая, потная, несчастная Люси.
— Посмотрите, кто пришел, — сердито пробормотал Доминик. — Я-то думал, что мы оторвались от нее.
— Судя по всему, не оторвались, — ответила Джин, чувствуя себя подлой и достойной всяческого порицания. Люси так хотела знать, куда это они с Домиником собирались, а они так не хотели ей этого говорить. Наверное, безопаснее было бы сразу ей все рассказать и заставить поклясться не выдавать их тайну. Во всяком случае, так было бы добрее. Обида и раздражение так исказили лицо Люси, что Джуин поняла (с раскаянием), почему бедную девочку постоянно дразнили в школе, поняла, почему Люси не везло с подружками.
— Прости нас, — смиренно проговорила Джуин.
Но Доминик, похоже, не разделял этих чувств.
— Прилипала противная, — набросился он на сестру. — И чего ты приперлась? Какое право ты имеешь следить за нами?
— Это свободная страна, так ведь? И я имею такое же право быть здесь, как и вы. Вот смотри сюда… — Нелепая, возбужденная Люси махнула рукой куда-то в сторону. — Видишь, что здесь написано? «Free house»[55].
— Дело в том, Люси, что ты еще слишком молода, чтобы пить, — вмешалась Джуин с намерением установить мир. — Тебя сюда просто не пустили бы.
— Ты тоже слишком молода.
— Но в твоем случае это более очевидно. — Джуин, не в силах посмотреть в глаза Люси, не отрывала взгляда от ее пухлых коленок в подрагивающих складках кожи. «Никогда в жизни не видела таких противных коленок», — решила про себя Джуин.
— Я бы заказала «Кока-колу». Мы бы посидели втроем и выпили бы «Коки». Это не противозаконно, вы сами знаете. — Люси, очарованная нарисованной ею самой картиной, прочувствовала, чего ее лишили. Из груди ее вырвался всхлип, и она попыталась сдержаться, закусив зубами кулак. — Вы оба гадкие, — крикнула она, когда слезы все-таки вырвались на волю. — От Доминика я ничего лучшего и не ожидала, но я надеялась, что ты, Джуин…
Взгляд, которым обменялись Доминик и Джуин, — смеющийся, понятный только им двоим, — еще больше разъярил девочку.
— А он что, нравится тебе, да? — обвинила она Джуин, топнув ногой. — Что, хочешь дружить с ним? И целоваться с ним французскими поцелуями? И ставить ему засосы? Ты, наверное, думаешь, что он лучше всех? В таком случае, Джуин Шарп, не могу сказать, что у тебя хороший вкус.
Джуин от удивления сделала шаг назад.
— Ну, нет, — решительно возразила она, — нет, Люси, он мне совсем, совсем не нравится.
И Джуин действительно верила, что Доминик ей совсем, совсем не нравится.
Конечно, большой букет, завернутый в целлофан, был банален. Алекс никогда не стал бы «говорить цветами», что ему казалось в лучшем случае увиливанием, а в худшем — прямым обманом. Настоящие слова стоят гораздо дороже — иногда за них приходится платить всю жизнь — и, в отличие от срезанных цветов, они не вянут.
К тому же в квартирке на Чаффорд-роуд не было вазы, так как они с Наоми еще только-только приступили к всеобъемлющему процессу под названием «создание семьи» — или хотя бы квазисемьи. Наоми пришла к нему с изысканным гардеробом, но в остальном она мало чем владела. Она как будто сошла с картины, оставив задний план висеть на стене. А в Тутинге все принадлежало Кейт.
Но пустая банка вполне сойдет ради такого случая. И эти маргаритки с веселыми личиками точнее, чем другие цветы выражали то, что чувствовал сейчас Алекс. Они говорили: «Я люблю тебя», но говорили это весело, оптимистично, без тени отчаяния. В маргаритках не было подобострастия и притворства лилий, не было в них и ничего потаенного, скованного, как в розовых бутонах. В них не было лицемерного «прости меня».
Разумеется, он сожалел о том, что обидел ее. У него душа разрывалась при виде ее страданий. Но отношения должны быть честными во всем — таково было его убеждение, основанное на врожденном прямодушии. Какой толк от того, что они будут ходить один вокруг другого на цыпочках, не говоря о своих истинных чувствах? Обман ни к чему хорошему не приведет — такой урок вынес Алекс, обманув Кейт. И он не сделал Наоми ничего плохого — он всего лишь попытался воззвать к ее здравому смыслу.
Сегодня утром он вышел из дома, погруженный в темные раздумья. Мир казался местом, где не существовало жалости, от которого невозможно было укрыться в их маленькой квартирке. Голову Алекса переполнял грохот проезжающих мимо машин, затуманивали выхлопные газы и мрачные мысли. Он наблюдал за тем, как люди делали то, что делают всегда: измотанная женщина шлепнула ноющего ребенка, за столиком уличного кафе чернокожий мужчина в шляпе приступил к завтраку, молодая женщина с темными волосами мимоходом окинула Алекса взглядом, — и Алексу было больно за каждого из них. В этот момент он со всей ясностью понимал, что жизнь каждого человека является глубокой личной трагедией, что счастливых финалов не бывает, а бывают только счастливые эпизоды. Сколько бы они ни шлепали, ни ныли, ни завтракали и ни флиртовали, они не смогут предотвратить неизбежное. От него негде укрыться. Даже если очень крепко держать дорогого тебе человека за руку (как Кейт держала за руку Пэм), смерть все равно вырвет его у тебя. Смертность — это жестокое и особое наказание; как примириться с ним?
По большей части мрачное настроение Алекса было вызвано вчерашней ссорой, но виной тому была не Наоми. Ее нерешительность и непригодность к какой бы то ни было работе были тут ни при чем. Алекс любил ее со всеми ее слабостями. Он готов был отдать ей все, что имел, но он не мог придать смысл ее существованию. За спиной у нее было двадцать лет бездумного бытия — и эти двадцать лет были безалаберно потрачены. Невозможно вернуть время, однажды выброшенное впустую. Вот что угнетало Алекса: он тосковал по тому, что было безвозвратно упущено, потеряно для них обоих. И он предвидел для Наоми пустое будущее, куда более короткое, чем оно могло бы быть, будущее, в котором не будет ничего и никого, кроме Алекса.
А может быть, на его настроении сказались загрязнение воздуха, низкий уровень сахара в крови, плохой сон и истощение эмоциональной энергии. Что бы ни было причиной его подавленного состояния, вместе с набирающим силу днем воспрял духом и он. По дороге на работу Алекс съел бутерброд с беконом, выпил чашку капуччино и снова стал смотреть на мир с оптимизмом. Подумав, он пришел к выводу, что так или иначе все устроится. Даже смертный финал перестала пугать его (он не смог бы придумать более удовлетворительную схему бытия). Его жизнерадостность, подобная огню, перед которым грелись более холодные смертные, вновь ярко вспыхнула и заиграла языками жаркого пламени.
Итак, у него в руках были цветы. В его сердце была любовь. И, выныривая из удушающих объятий подземки, преодолевая вечернее столпотворение на тротуарах, он не сомневался в том, что дома его ждет Наоми.
В течение дня Алекс время от времени пытался дозвониться до нее. И хотя она не сняла трубку — его собственный голос каждый раз уведомлял его, что ни он, ни Наоми не могут ответить на звонок, и призывал оставить сообщение после гудка, — Алекса не покидала безусловная уверенность в том, что она была там. Он почти видел, как она сидела, тихая, неподвижная, и слушала, как автоответчик говорит ей о его любви.
Первое ощущение того, что произошло что-то непоправимое, настигло Алекса, когда он свернул на Чаффорд-роуд. И с каждым шагом это ощущение становилось все сильнее. Его обычная свободная походка исчезла, он весь подобрался, вытянулся, устремил вперед напряженный взгляд. Когда он отомкнул и распахнул входную дверь, навстречу ему вырвалось облако пустоты и тишины, он ощутил, как мимо него выскользнуло из дома нечто принадлежавшее Наоми, по ошибке ею забытое. «Эй!» — позвал Алекс с надеждой, но его голос убежал от него куда-то в дальний угол. Никто не отозвался. И никто не вышел в прихожую.
На кухне он нашел записку Наоми. «О, что за ерунда!» — пробормотал он нетерпеливо. Если его цветы были некой банальностью, то дважды, трижды банальны были эти отчаянные каракули, бессвязный набор самобичеваний, самооправданий, обвинений и упреков. (Это ее вина. Нет, это не ее вина. Она во всем виновата. Он во всем виноват. Никто в этом не виноват.) В конце она приписала, что ее уход — это «к лучшему». Пустая риторика. Какою же жертвой она воображала себя, когда закрывала дверь за их любовью!
Алекс бросил цветы в раковину, включил воду. Потом он достал из холодильника бутылку пива, снял гофрированную крышку, отпил прямо из горлышка. Борясь с надвигающейся паникой, он пытался сохранять внешнее спокойствие, но рука его дрожала, бутылка билась о зубы, и в голове вихрем крутились мысли.
Куда она уехала? На этот раз не к Кейт, это точно. И не к Джеральдин, и не к Элли, поскольку обеих не было в городе. Должно быть, Наоми снова вернулась в свою картину, о которой он знал так мало, и задний план неуловимо, безвозвратно поглотил ее. Прошлое Наоми было для Алекса загадкой. Оно интриговало его и вызывало ревность. Ненадолго он похитил Наоми из ее прошлого, а теперь оно вернулось и забрало ее обратно.
У нее были родители, но о них она предпочитала не говорить. При простом упоминании о них выражение ее лица менялось: сквозь тонкую кожу проступала боль, страдание опускало уголки губ и глаз. У нее было множество любовников, но все они, судя по ее словам, были нестоящими людьми. К кому из них обратится она за помощью?
Алекс был растерян. Он тяжело опустился на пол, оперся спиной о дверцу духовки, примостил ноги у посудного шкафчика и постарался составить план действий. Но все, на что он был способен в этот момент, — это была решимость.
Где бы она ни была, его возлюбленная незнакомка, он найдет ее. Он приведет ее домой.
Первый раскат грома привел их всех в игривое настроение. Тина издала восторженный вопль, положила на щеки ладони и оттянула кожу под глазами вниз так, что стали видны светло-красные ободки век. Пэтти нервно хихикнула и поправила прическу. Симус и Саймон загоготали, одаряя друг друга тумаками, а потом налили себе по большой порции низкосортной граппы и принялись расхаживать по гостиной с видом дьяволов, изрыгающих пламя. Это был, по их общему мнению, самый оглушительный гром в мире; несомненно, надвигался конец света.
Элли выглянула через раскрытые двери наружу, чтобы посмотреть на обрушившийся ливень, и краем глаза заметила сверкающую молнию: на долю секунды на фоне контуженого неба показались деревни на вершине холмов, в последний раз воззвав к чувствам Элли, и тут же мрак вновь скрыл их.
Майк, стоявший у раковины, так как в конце концов роль работника кухни закрепилась именно за ним, от испуга уронил тарелку на кирпичный пол и под звон осколков разразился проклятиями.
— Посуда бьется к счастью, а, Майк? — крикнул ему из комнаты Саймон.
— Весь ущерб, нанесенный имуществу, оплачивается при отъезде, — протянула нараспев Пэтти и издала звенящий смешок, чтобы показать, что она всего лишь шутит.
В кухне совок давился осколками фаянса, сметаемыми в его утробу.
— Пожалуй, можно поставить крест на поездке в город, — подытожила Пэтти со странной смесью огорчения и удовлетворения. Она свела пальцы рук вместе и положила на них подбородок. — Дорогу размоет. — И она неласково улыбнулась им всем по очереди, будто хотела насладиться разочарованием каждого из них. На самом деле она испытывала нечто вроде собственнической гордости за свою Италию, свои горы, свою грозу. Здесь все было в полную силу!
— Ну уж нет, — упрямо возразил Саймон, поскрипывая подошвами по плиткам пола, — погоде нас не сломить. Как только дождь утихнет, мы стартуем. Ведь мы, не забывайте, британцы до мозга костей.
— Где Дэвид? — спросила Пэтти, ни к кому конкретно не обращаясь, усталым голосом — в знак того, что больше это ее не волновало.
— Кажется, он пошел принять душ, — неуверенно сообщил Симус.
Элли подошла к буфету и взяла свой фотоаппарат. Она взвесила его в руках, этот прибор для обмана, в котором лежали, туго свернутые, тридцать шесть фикций. Члены их компании улыбались в этот объектив так, как не улыбались друг другу в остальное время. Головы откидывались, обнажались зубы, взмывали вверх стаканы. Руки обнимали талии, ноги весело вскидывались, щека прижималась к щеке. Непосвященные будут видеть только как весело было им всем в Италии.
Кое-что из непередаваемой красоты ландшафта тоже можно было уловить, миниатюризировать, сделать доступным для всех. Элли украла кусочек души этой страны, чтобы показать потом своим друзьям. И в том, что она захотела сфотографировать этот пейзаж, в том, что он ей понравился, все будут видеть ее тонкое чувство красоты.
Вернувшись в Лондон, они станут обмениваться фотографиями («Вот ты у бассейна», «Помнишь этот ресторан?», «Ну и видок здесь у меня!»), тем самым создавая общие воспоминания. Снимки как бы ненароком будут показываться в офисе; коллегам будет предоставлена возможность полюбоваться чужим весельем. Уже теперь их шестерых (седьмой член компании, неприступный Дэвид, по-прежнему держался особняком) объединяло новое чувство сплоченности, причастности. Между ними сложилось молчаливое соглашение придать поездке в последующих рассказах больше блеска, предстать более дружной командой. И они будут так старательно следовать этому соглашению, что задолго до наступления следующего лета сами поверят своим рассказам и снова будут отчаянно стремиться попасть в число избранных — удостоившихся получить приглашение в Иль-Подж.
Но куда более странным было возникшее между ними искреннее дружелюбие, непрочное, запоздалое единение. Да, они не были большой счастливой семьей, ну и что же? Чем меньше их тянуло друг к другу раньше, тем сильнее хотелось им исправить это. Атмосферу виллы Пэтти наполняла неуверенность: всем хотелось нравиться.
«Это из-за грозы, — решила Элли. — Причуды погоды вызывают причуды в поведении».
— Я закажу себе таккони с зайчатиной, — объявил ненасытный Саймон, пускающий слюни над путеводителем по ресторанам. — А потом шашлык из козлятины.
— А мне ризотто, — сказал Саймус таким тоном, как будто у него за спиной стоял официант с блокнотом и ручкой наготове. — И затем, пожалуй, цесарку.
— Ах вы поросята, — укорила их Тина и погрозила им пальцем.
— Я смогу поехать в таком виде? — хотела знать Элли, открывая на всеобщее обозрение бритые подмышки, поворачиваясь вокруг себя, приглашая всех оценить, как она выглядит в блузке с открытой спиной и мини-юбке.
— Так бы и съел, — ответил Симус, но прозвучало это как похвала гостя, у которого совершенно нет аппетита, но который очень не хочет обидеть хозяйку.
— Может, слишком открыто?
— Вообще-то да, раз уж ты сама спросила, — вставила Пэтти. — Я хочу напомнить, что это очень модный ресторан. Лучший в Лукке.
— Ладно, — уступила Элли и пристально взглянула на Пэтти. Интересно, что эта женщина считала лучшим рестораном Луки, если туда нельзя пойти в таком наряде? — Тогда я загляну к себе и надену что-нибудь более приемлемое.
Почему у европейцев никогда не бывает нормального душа? Дэвид, привыкший к мощным, шумным, хлестким американским душам, после которых чувствуешь себя заново рожденным, был крайне раздражен жалким ручейком, которым ему приходилось удовольствоваться в Иль-Подже. Вода, вытекающая из душевой насадки, являла собой сплетение ледяных и горячих струек, которые почему-то не смешивались. Они обжигали спину, песком шуршали по коже, были солеными на вкус и не желали пениться, сколько бы он ни мылил мочалку. Дэвид уже почти жалел, что оставил свою вашингтонскую квартиру. Там бы он вышел из ванны задыхающийся, возбужденный и тут же погрузился бы в сладострастные объятия Кристин.
Здесь не было даже ванны. Дэвиду приходилось стоять в мелком кафельном поддоне, края которого покрывала плесень. Сливное отверстие посередине засорилось. Капли воды стекали по пластиковой занавеске куда-то за пределы поддона. Лужа в поддоне скрывала грязный налет, и потом Дэвид выйдет отсюда с грязными ногами и разнесет эту грязь по всей ванной. Процесс мытья в этих условиях был таким неприятным, что после него Дэвид не чувствовал себя чище.
Прекратив безуспешные попытки настроить температуру и интенсивность тока воды, он принялся намыливать густые, непослушные волосы шампунем. С трех сторон Дэвида окружали стены, выложенные кафелем, а с четвертой — задернутая занавеска, и поэтому он не видел, как открылась дверь в ванную. Вдруг погас свет и из гостиной на первом этаже раздался вопль всеобщего недовольства, и вот тогда, в полной темноте, кто-то проскользнул к нему за занавеску.
Тренированным и бесстрастным жестом Дэвид взялся за подставленную грудь, оценивающе сжал ее пальцами. Она спелым плодом опустилась в его ладонь. На мгновение Дэвид обрадовался, решив, что это была Тина. Конечно, Тина была несносной глупой коровой, смехотворно жеманной и манерной, но присутствие ее мужа внизу придало бы ситуации немалую долю пикантности.
Но нет. Это была Элли, которая, верная своему намерению хорошо провести время, под влиянием обстоятельств решила, что это время настало.
— Электричество вырубилось, — радостно поставила она диагноз.
— Похоже на то.
Она провела ногтями по его мыльному животу и крепко схватилась за его внушающий благоговение пенис. Пенис, привычно выполняя свой долг, вырос и напрягся. Так значит, слухи были правдой? А если и неправдой, то только в том смысле, что недооценивали способностей Дэвида?
— Без электричества делать почти нечего, — отважилась она на замечание.
— Угу, — согласился Дэвид.
— Только ты сам знаешь что…
— Знаю.
Перед тем как поцеловать Элли, он глубоко вдохнул и, словно желая, чтобы темнота стала еще непроницаемее, закрыл глаза. Пальцами он медленно водил по бедру Элли. На ощупь ее влажная кожа казалась резиновой.
— Мм, — мурлыкала Элли, придвигаясь к Дэвиду вплотную, приглашая обнять ее как следует. И одновременно она поздравляла себя с успешным осуществлением задуманного. И зачем она ждала так долго? Можно было сделать это еще много лет назад. О-ох.
— Мы, старые холостяки, — говорил Джеффри Маркхем, — рабы своих привычек. — Он развалился в кожаном кресле, поставив ноги в вышитых шлепанцах на низенькую скамеечку, как будто бы перед согревающим пламенем. Рядом на инкрустированном столике стоял бокал с солодовым виски.
Наоми, сидящая на коленях перед пустым камином, ощущала смутное притяжение очага. Она смотрела на зев каминной решетки, словно зачарованная горящими угольями, в черной пустоте ей виделись сменяющие одна другую картины.
— Строго говоря, — напомнила она отцу, расправляя юбку вокруг себя как лепестки цветка, разглаживая ткань на коленях, — ты не холостяк. Ведь ты был женат. А это значит, что ты разведен.
— Я — счастливый неженатый человек. Я благословляю тот день, когда Ирен ушла от меня.
— И забрала меня с собой.
— Да, и забрала тебя с собой. Да и что бы я делал с дочерью? Как бы я ее воспитывал? Как бы объяснял ей все эти женские штучки? Дочь — это дело матери.
— Разве что-нибудь изменилось бы, если бы я была мальчиком?
— Возможно, изменилось бы. Но ты не была мальчиком. Ты была существом с унылым лицом и оттопыренными ушами. Тебя, должно быть, подменили эльфы: они забрали моего очаровательного ребенка и оставили тебя вместо него. Было что-то темное во всем этом деле.
— Ты имеешь в виду, что я даже не твоя родная дочь?
С приводящим в бешенство безразличием Джеффри слегка приподнял одно плечо. Такая вероятность существовала, говорил этот жест.
— Ты был плохим отцом, — горько упрекнула его Наоми. — За всю мою жизнь ты ничего мне не дал. А теперь отбираешь и законнорожденность.
— Неблагодарное дитя! У тебя нет ни одной пломбы! Так кому ты должна сказать за это спасибо?
— Ах да, зубы.
— Кто научил тебя правильно пользоваться зубной щеткой? Массировать десны? Приучил к флоссу? Кто предупреждал об опасности налета?
Ядовитый тон отца не задевал Наоми.
— Знаешь, — сказала она тихо, теребя подол юбки, — по-моему, ты не очень хороший человек.
— По-моему тоже.
Джеффри опустил голову на подголовник кресла и на мгновение прикрыл глаза, и Наоми поняла, что он был крайне утомлен. Он был одет в стеганый халат с пятнами от еды на отворотах. Когда Джеффри потянулся за виски, его рука, гладкая и наманикюренная, вдруг вышла из-под контроля, и только с большим трудом ему удалось сжать резной хрусталь бутылки. Наоми догадывалась, что он был уже очень стар. А может, и очень болен.
— Ты оставишь мне в завещании денег? — осмелилась она задать вопрос.
— Я еще не решил. Но пока я не планирую умирать. Прости, если этим разочаровываю тебя.
— Не особенно. Но я бы предпочла знать, что если с тобой что-нибудь случится…
— То ты сказочно разбогатеешь? Не знаю. Надо подумать. Будет ли это благодеянием, ведь своим наследством я еще больше развращу твою корыстную натуру? Следует ли мне поощрять твою расточительность?
— Или дай мне что-нибудь сейчас. Сделай мне подарок, и будем считать, что мы в расчете. — Она оглядывалась вокруг, строя догадки. Толщина ковра, пышные складки гардин, мягкое сияние дерева, блеск украшений, сама прочность и массивность каждого предмета в комнате — все предполагало богатство. — Подари мне вот это. — Наоми остановила взгляд на фарфоровой вазе. — Или это. — Бронзовый лев бросался в глаза. — Или вот это. — Она обратила внимание на шкатулку из черного дерева.
— Ни один предмет не покинет этой комнаты, по крайней мере, при моей жизни. А потом… боюсь, тебе придется подождать, чтобы узнать, что будет потом.
— Знаешь, отец, я ненавижу тебя.
— Пусть так… — Бокал наконец нашел его губы. Джеффри сделал глоток, закашлялся и сказал: — Я же просил тебя не приезжать.
— Нет, ты этого не говорил. — Во всяком случае, буквально этого не прозвучало. — И поверь мне, что я бы ни за что не приехала, если бы мне было к кому обратиться.
— А что Ирен?
— Сейчас они с дядей Хью на Мальдивах.
— Воображаю, как она пьет из него кровь, — заметил он с удовлетворением в голосе. — Так что же стоит за твоим внезапным приездом, а? Ты разошлась с тем жиголо?
— Алекс не… не жиголо. Он славный, и добрый, и порядочный — в отличие от некоторых.
— Так что же ты прискакала сюда?
Она опустила голову и посмотрела на свои руки, лежащие на коленях.
— Так будет лучше, — произнесла Наоми уныло, упрямо. Разве можно было надеяться, что она сможет объяснить все произошедшее этому самому неприязненному из слушателей, если даже для нее самой не находилось лучшего, чем эта фраза, объяснения? — Он так хотел. А если и не хотел, то потом захотел бы. Я не могла бы стоять рядом и ждать, когда все развалится на кусочки.
— Дорогая девочка, только не говори мне, что ты ко всему прочему еще и романтик!
— Очень может быть.
— И голова у тебя полна пустыми мечтаниями? Послушай, будь добра, налей-ка мне еще виски. И себе, если хочешь, только немного. Я не выношу пьющих женщин.
— Так ты не выручишь меня? — вернулась Наоми к волновавшему ее вопросу. Она медленно поднялась и подошла к бюро, где стоял поднос с графинами, взяла один их них в руки, подержала, разглядывая на свет. — Ты бы мог изменить всю мою жизнь одним словом. Но ты не хочешь этого делать.
— Может быть, если и когда я скончаюсь, я оставлю тебе какую-нибудь вещицу на память. Как я уже говорил, тебе придется подождать.
— Ты чудовище. Ты даже не можешь пообещать мне что-нибудь, что бы придало мне чувство уверенности.
— Я работал всю свою жизнь, Наоми, сверлил и пломбировал коронованные головы Европы. Герцоги, графы, капитаны промышленности ходят с зубами, полными амальгамы, и все благодаря мне. У скольких маркизов вырывал я коренные зубы! Я заслужил комфортную старость и уход.
— А кто будет ухаживать за тобой, папа? Кто присмотрит за тобой, если ты всех нас заставил уехать?
— Я найму молодую сиделку, — ответил Джеффри с живостью. — Она будет возить меня в кресле. А если она окажется симпатичной, то я женюсь на ней и оставлю ей все свое состояние. Вам же, мисс, я рекомендую найти работу.
Весь боевой пыл Наоми, весь задор, и без того небольшой, угас. Она со стуком поставила графин на место. Мысль о трудоустройстве она поворачивала и так и этак. Даже если модельный бизнес отпадает, то все равно должно же быть какое-то дело, которым она могла бы заниматься, которое заинтересовало бы ее. Наоми обдумывала возможность работы с детьми или с животными, ей уже виделась благодарность в их ясных глазах, но вот что именно она будет с ними делать, она не могла себе представить, и вообще ей не нравились все эти слюни и сопли.
— Знаешь, — сказала она, держась за край бюро и рассматривая себя в зеркале, обрамленном золоченой бронзой, — он говорит то же самое. Алекс тоже сказал, что мне надо идти работать.
В ту же пятницу, вечером, на двадцать третьем этаже «Глоуб Тауэр» шло собрание руководящей верхушки под председательством Гаса Маклина — директора редакционного совета и приближенного к владельцу газеты лица. Гас Маклин любил испытывать преданность сотрудников высшего эшелона, требуя, чтобы они по первому зову и с охотой вставали из-за праздничных столов, пропускали школьные концерты, теряли места в опере, отменяли тайные свидания, разочаровывали партнеров, родителей, детей, подводили любимых. Всех, сидящих сейчас в зале заседаний, позднее ожидали упреки и обвинения, всем потом придется платить.
Первым вопросом сегодняшней повестки дня было обсуждение Дон Хэнкок, талантливой журналистки и комментатора, которая, с точки зрения владельца газеты, за последние две недели сумела привнести в газету новую жизнь своими остроумными, дерзкими статьями. Она была молода, целеустремленна, но превыше всего она была… э-э, она умела соображать. Слишком долго она томилась в болоте отдела новостей. «Глоуб» может приобрести в ее лице отличного обозревателя, и поэтому необходимо заключить с ней соответствующий контракт и немедленно.
— Глоток свежего воздуха, — провозгласил Маклин, потом чихнул и притронулся согнутым пальцем поочередно к носу и уголкам губ. Причиной тому была не простуда, а нервный тик, привычка, которая вызывала раздражение и отвлекала внимание слушателей: они сосредоточивались на его странных жестах и само выступление слушали уже вполуха. У них складывалось впечатление, что из Маклина постоянно сочилось что-то неприятное (в определенном смысле так оно и было). Эта привычка еще больше подчеркивала хитрость и изворотливость, свойственные облику директора редакционного совета, а в данном случае форма вполне соответствовала внутреннему содержанию.
Рон Хаусгоу, главный редактор газеты, теоретически отвечающий за подобные назначения, склонил голову, обхватил руками лысеющую макушку и поднял воспаленные от усталости глаза на своего начальника.
— Но ведь у нас есть Элли Шарп, — напомнил он, как будто Гасу Маклину нужно было об этом напоминать. — Она и есть голос «Глоуба».
— Ну да. И ее вклад был… То есть за время работы с нами она дала… Однако ее лучшие годы уже давно позади, Рон, ты согласен?
Рон не был согласен. По его оценкам, Дон Хэнкок была недостойна даже стоять рядом с Элли Шарп. Дон была пустой, неопытной, самоуверенной до смешного. Ее понятия и познания были поверхностными, детскими, мелкими, за ее резонерством не стояло ничего, кроме собственных предрассудков. Ей не хватало опыта, она имела смутное представление о морали, она была некультурным, аполитичным противником существующего порядка, главными аргументами которого являются презрение, неприятие и насмешка. Ко всем, кто не был молод, строен, красив, богат и моден, она относилась с воинствующим снобизмом и непростительным неуважением.
Элли же была порою иррациональна, зачастую непоследовательна и всегда откровенна, но за ее словами всегда чувствовались живой и глубокий ум, стремление к равенству и сочувствие к обездоленным и обиженным. Также она умело владела языком, синтаксисом, чего ее более молодой сопернице очень не хватало. Все это Рон Хаусгоу и собирался сейчас сказать, он не допустит вторжения владельца газеты на его территорию.
— Э-э… — мужественно произнес он и потянулся к кувшину с водой.
— Как вам понравилась ее идея об обязательности следования моде? — восторгался Маклин, стуча ладонью по столу. — Запрещать передвижение всем, кто носит спортивные костюмы и ветровки. Буксировать на штрафные стоянки мужчин в блестящих костюмах и нейлоновых рубашках. Конфисковывать ботинки на толстой подошве. Здорово!
— Ну, если вы считаете… — снова попытался заявить о себе Рон, но не преуспел, налил в стакан воды и сделал несколько глотков.
— Толстяки должны платить за проезд на общественном транспорте в два раза больше, чем остальные пассажиры. Как это верно! Ведь она говорит именно то, что все мы и сами знаем!
— Вы часто пользуетесь общественным транспортом? — поинтересовалась Лори Мартин из отдела обозрений. В конце года она выходила на пенсию, и поэтому терять ей было нечего («Кроме тридцати килограммов лишнего веса», — злобно отметил про себя Маклин).
— Часто, — ответил он ей вслух. — Как иначе я мог бы добираться до Нью-Йорка?
— Я не имела в виду самолеты… Скорее автобус номер девять.
— Я бы хотел все как следует уяснить. — Рон Хаусгоу взял в руку карандаш и стал медленно, вдумчиво, меланхолично рисовать в блокноте завитушки. — Вы хотите, чтобы я уволил Элли Шарп?
— Что вы, разумеется, нет. — Маклин взмахом руки отмел такое предположение. — С какого года она работает с нами? Думаю, она отдала газете немало лет преданной службы.
— Если уволить Элли Шарп, то газете это будет стоить целое состояние, — насмешливо перевела слова директора редакционного совета Лори Мартин и затем уставилась на Рона Хаусгоу своим самым тяжелым взглядом, побуждая того встать на защиту старой гвардии.
Однако Рон, будучи главой этой старой гвардии, отлично осознавал уязвимость собственного положения, и поэтому он лишь съежился на стуле. Его тело сложилось, как телескоп.
— Существует много разных подходов, — важно разъяснил всем Маклин. — Мы хотим, чтобы вы работали творчески. Оригинальность — да. Перестановка кадров — да. Давайте подыщем новую роль для Элли Шарп. А пока они могут работать по очереди, а? — Он поднес к носу согнутый указательный палец и быстро почесал им под носом. — Пусть Элли пишет колонку в один номер, а Дон — в следующий. Я проинструктирую Пэтти Хендерсон, чтобы она приглядывала за Дон. Ведь девочка еще совсем новичок, ей понадобятся совет и помощь опытного журналиста.
Наклоном головы Рон выразил свое неохотное согласие, но про себя подумал: «Ты не знаешь нашу Элли, парень. Если она уйдет, то уйдет с шумом. Ты будь с ней поаккуратней. Потому что в отличие от тебя она — настоящий мужик».
Тревор Покок лежал на больничной койке и смотрел в белую пустоту потолка. Если бы не та несчастная больная липа, он бы не смог выбраться из квартиры.
Ему сказали, что дым смертельно опасен. Сказали, что ему повезло, что он выжил. На это он хрипло ответил, что здесь потребуется глубокий философский анализ. Хотя откуда им было знать, ведь они не принимали в расчет Элли Шарп.
«Элли, — думал он, утыкаясь израненным лицом в подушку, — не обрадуется. Скорее, она будет в ярости».
Глава девятая
— Если ты так уж хочешь знать, — сказала Кейт, — то это Джон.
Ей хотелось выговориться — это был один из симптомов гриппа. За сам же грипп, как утверждала Элли, Кейт могла винить только саму себя, поскольку она сама «допустила, чтобы он свалил ее». Лицо Кейт опухло, из глаз и носа текло, в ушах звенело. При глотании горло саднило. Конечности казались будто налитыми свинцом. Каждые несколько минут откуда-то из глубины тела на ее накатывала волна жара, принося с собой панический страх, что вот сейчас она закипит и перельется через край. И, если верить Элли, все это было надуманным. Все это было вызвано желанием Кейт пострадать.
— Вот это да! — только и сказала Элли, а потом, преувеличенно живо похлопав себя по груди, изобразила, как забилось ее сердце в шоке от услышанного. — Не знаю, так ли я хочу это знать. Разумеется, я двумя руками за внебрачные связи — ведь нам, женщинам в расцвете сил, невозможно найти приличного свободного мужчину, — но здесь совсем другое дело. Честно говоря, я потрясена. Не понимаю, что вдруг на вас нашло. Как тебе вообще такое?.. Невозможно даже представить себе двух более несхожих людей, чем вы. И раз уж мы заговорили об этом, как это твое похождение согласовывается с твоими высокими моральными принципами? Есть мужья, Кейт Гарви, и есть мужья. Есть мужья неизвестных тебе женщин или шапочных знакомых, и тут уж кто успел, тот и молодец. И есть мужья подруг, и таких мужей мы не трогаем.
— Руфь Керран — твоя подруга, — напомнила ей Кейт и тяжело уселась на газон. — По крайней мере, бывшая.
— Мы с Руфь никогда не были так близки, как вы с Джеральдин. А еще Джеральдин — твоя родственница, хотя, конечно, об этом легко забыть. Ну и кашу ты заварила! Я не знаю. Стоит мне уехать из страны на пару недель, как тут же наступает полный хаос.
— А что касается моральных принципов, то мое «похождение», как ты говоришь, с ними совсем не согласуется. Я чувствую себя страшно виноватой. Мне никогда и в голову не могло прийти, что я окажусь в подобной ситуации.
— Ого-го! Мне нравится это «окажусь». Полное отсутствие твоей воли и желания. Как будто ты не несешь никакой ответственности за произошедшее.
— Как ни глупо это звучит, но именно так мне кажется, честно.
— Удивительно, как ты можешь смотреть Джеральдин в глаза. Ты по-прежнему будешь заниматься ее садом? Одной рукой обнимать ее мужа, а другой — обрезать ее петунии?
— Петунии не обрезают.
— Значит, ты будешь продолжать обрывать засохшие цветки с ее далий, пить чай за ее столом и получать деньги?
— Может быть, и нет. Джеральдин всегда намекала, что мои услуги для нее слишком дороги.
— И ты влюблена? По-настоящему? Невероятно. По-видимому, мне придется изменить свое мнение о нашем старом Джоне. Мне-то всегда казалось, что он тряпка, а не настоящий мужчина.
— Тебе неправильно казалось, — ответила Кейт, страшно застеснявшись. Ее снова затопило жаром, на этот раз — от смущения. — Хотя, разумеется, — добавила она скромно, — меня нельзя назвать экспертом в этих делах, Джона мне не с кем сравнивать, кроме как с Дэвидом.
— Ну, это было так давно, — сказала Элли, и прозвучало это неожиданно и необъяснимо зло, как будто она только сейчас до конца осознала, в чем призналась ей Кейт. — Вряд ли ты помнишь, как это было.
— Это был мой первый сексуальный опыт. Мой единственный сексуальный опыт до последнего времени. И результатом явилось рождение моего ребенка. Такое я забыть не могла.
— Тогда рассказывай. Кто из них лучше? Джону, наверное, далеко до Дэвида. Дэвид ведь — чемпион мира, по крайней мере так говорят.
— О таком не рассказывают, Элли. Такие вещи не обсуждаются. Порою ты бываешь ужасно нахальна.
— Ну и ладно, ханжа. Нет, скажи, а что вы собираетесь делать дальше?
— Понятия не имею. — Несчастная Кейт пожала плечами. Она отыскала в рукаве намокшую салфетку и, бесконечно жалея себя, высморкалась. — Все эти годы, пока Алекс был ребенком, я отставляла свои нужды в сторону. Я не обращала на них внимания. А теперь они вырвались на волю. Понимаешь, мы ведь могли бы сделать друг друга счастливыми. Гораздо счастливее, чем сейчас. — Они с Джоном выдумали себе идеальную жизнь — благословенное, спокойное, дружественное, чистое, свободное существование, возможное только в мире фантазий.
— И заодно уничтожить Джеральдин?
— Гм… — Кейт скомкала салфетку, засунула ее обратно в рукав и покачала головой. Из глаз грозили политься слезы. — Вот и я ему говорю. Что мы никогда… Но я не думаю, что она любит его, как ты думаешь? Не так, как он этого заслуживает.
— Разумеется, любит, хотя и по-своему. Может, даже сильнее, чем она сама об этом догадывается. Но что ее, глупышку, действительно убьет, так это потеря лица в обществе и урон, который будет нанесен ее положению среди игроков в гольф и приглашенных на коктейли. Нет, Кейт, это даже не подлежит обсуждению. Развлекайся, если тебе так уж хочется, но сохраняй осторожность. И, пожалуйста, больше не обременяй меня своими проблемами, у меня и личных предостаточно, спасибо большое.
— Надо отдать тебе должное, Элли, — ты очень расправляешься с невзгодами, — сказала Кейт, наблюдая за тем, как из кустов вылетела Петал и принялась кататься на дорожке в приступе кошачьего блаженства — вероятно наслаждаясь отсутствием Маффи, который вместе с Джуин отправился в Даунсайд-хаус с подарками из Шотландии для старых дам.
— Да? А что мне остается делать, если все мои подруги немного чокнутые? Они поочередно прыгают в постели к самым неподходящим мужчинам. Сначала Наоми с Алексом. Теперь ты с… Как будто недостаточно того, что в газете какая-то соплячка строит против меня козни. И мой домработник дотла сжег мою квартиру.
— Ну-у, — протянула Кейт, как всегда стремясь не отступать от истины, — не совсем дотла.
— Ну, тогда не сжег, а выжег. Теперь там остались лишь голые стены. Лестница сгорела. На стенах сажа. Из кухни сквозь крышу видно небо. Ух, как только я доберусь до Тревора Покока, я…
Закрыв глаза, Элли стала так увлеченно придумывать, что она сделает с Тревором, что на него в этот момент наверняка напала безудержная икота. Глядя на жесткое, решительное выражение лица Элли, Кейт догадывалась, что подруга сейчас рассматривает картины поистине ужасных кар.
— Бедный парень, — пожалела Кейт Тревора, а сама тем временем разглядывала белую кожу между пальцами ног. — Должно быть, он очень переживает.
— Переживает? Будь моя воля, он бы не жил сейчас вообще.
— Но ведь это был несчастный случай, так ведь? Он ведь не специально поджег твою квартиру.
— Я не испытываю такой уверенности. Этот маленький ублюдок вполне мог устроить пожар, лишь бы не чистить плиту. Короче, случайно или нет, но от моего дома остался один почерневший бетон.
Элли, захватившая единственный шезлонг («на правах гостьи»), зевнула, выпрямила ноги, вытянув носочки, и несколько раз развела и свела их вместе, постукивая пятками. Всего неделю назад она вернулась из Италии. Этим субботним утром две женщины сидели в саду в Тутинге, пользуясь кратким благоволением солнца. Скоро черные сентябрьские тени загонят их в дом. Окна соседних домов, глядящие со всех сторон на Кейт и Элли демонстрировали деревья, небо, порхание птиц, заборы и крыши — весь внешний мир отражался в оконных стеклах. В воздухе чувствовалась прохлада, которой не было летом, и горечь. Дыхание ветра приносило из-за садовой стены дым костра и снежинки пепла; аромат горящих сухих листьев был самым явным признаком осени.
Для человека, на которого в одночасье свалились все возможные превратности судьбы, Элли находилась в исключительно хорошем настроении. Увидев то, что осталось от ее дома, она была раздавлена, она чуть-чуть не заплакала. Но потом, будучи прагматичным и несентиментальным человеком, приободрилась при мысли о том, какую сумму можно будет содрать со страховой компании. На эти деньги она сможет перестроить всю квартиру, и у нее будет новая кухня, новые ковры, — новое все.
Что касается ситуации на работе, то, немного успокоившись, Элли и там нашла повод для оптимизма. Она по-прежнему будет писать для «Глоуба», получать жирную зарплату, списывать на компанию большую часть своих расходов; она или заставит эту Хэнкок уйти — Элли называла ее «безнадежная Дон», отказываясь воспринимать молодую претендентку как серьезную угрозу, или сможет так уйти из газеты, что ее компенсация при увольнении достигнет небывалых размеров. Элли, как она сама с удовлетворением говорила, находилась в беспроигрышной позиции.
Пока же она оказалась бездомной и уже собиралась было поселиться в гостинице или снять временное жилье, но потом ее осенило: они с Джуин поедут в Тутинг. Они поживут с Кейт, взбодрят и утешат ее, составят ей компанию. Должно быть, виной тому был начинающийся грипп, но Кейт не выразила большого энтузиазма, услышав эту идею (все, на что ее хватило, было неприветливое «Ладно»).
— Пойду-ка я сварю нам по чашке кофе, — предложила она сейчас, понимая, что еще немного, и ее охватит такая парализующая апатия, что она и пальцем пошевелить не сможет. Однако Кейт довольно быстро пересмотрела свое решение, добавив: — Через минуту. — Вообще-то она надеялась, что Элли вызовется помочь ей. Элли не вызвалась.
Элли в качестве гостя была и хуже и лучше, чем Наоми. Она не скользила тенью по дому, не стекала с дивана днями напролет, зато повсюду валялась ее обувь, тыкая проходящих норовистыми острыми каблуками. И еще Элли очень любила во все вмешиваться. Радио она всегда настраивала на станцию, передающую особенно глупую поп-музыку. Она выставила на кухонных часах точное время, невзирая на протесты Кейт, которая любила, чтобы они шли на пять минут вперед (хотя логики в этом не было). Когда звонил телефон, Элли всегда умудрялась первой схватить трубку, говоря, что звонят, скорее всего, ей, и самое противное — чаще всего так оно и было.
Вот и сейчас, услышав переливы входного звонка, Элли подскочила и решительно направилась к задней двери прежде, чем Кейт успела собраться с мыслями.
— Сиди. Я открою.
«Прошу тебя, не стесняйся, — подумала Кейт в спину подруги. — Чувствуй себя как дома».
Было слышно, как на переднем крыльце прошли краткие переговоры, и несколько мгновений спустя во дворе снова появилась Элли. Она встала в позу герольда, широко разведя руки, и объявила:
— К тебе посетитель.
Это был Алекс, и выглядел он просто ужасно. Так, по крайней мере, показалось его матери — на взгляд Элли с ним все было в порядке. Кейт обеспокоило не то, что он был неаккуратно выбрит (если он вообще сегодня брился), и не в том, что одет он был в свою самую старую рубашку или что волос его давно не касалась расческа. Кейт видела гораздо больший беспорядок внутри Алекса, в его душе. Он сумел выдавить из себя кривую улыбку, адресуя ее Кейт, но это было лишь смешение черт лица, не более того. «Наоми, — подумала Кейт с такой неприязнью, что ее сотрясла дрожь, — это она сводит его с ума своими капризами».
— Зачем ты сменила замок? — спросил Алекс, но не обвиняя, а просто так, мимоходом.
— У меня украли сумку из машины. И ключи.
— О.
Кейт встала и подошла к нему, поднялась на цыпочки, чтобы обнять сына, но он рассеянно отодвинул ее от себя и сообщил:
— Наоми ушла.
— Что значит «ушла»? — хотела разобраться Кейт, охваченная дикой, недостойной надеждой, которую она не сумела скрыть. Алекс увидел это и отвернулся от матери: она была не с ним, значит, она была против него.
— Куда ушла? — спросила Элли, снова усевшаяся к шезлонг. Ей-то, разумеется, хватило ума сделать вид, что она встревожена: она сочувственно скривила брови и прикрыла рот рукой. Под ее ладонью скрывалась торжествующая улыбка.
— В том-то и дело. Я понятия не имею. Понимаешь, мы поссорились. Разошлись во мнениях. Ничего серьезного — то есть я так думал. А она ушла. Оставила прощальную записку. И с тех пор от нее ни слуху ни духу.
— Должна же она быть где-нибудь, — сделала бессмысленное заявление Кейт, отчаянно пытаясь вернуть расположение сына.
— Может, у матери? — размышляла Элли. — В Оксфорде. Или в Кембридже?
— А она не могла вернуться к Алану? — предположила Кейт, чем вызвала у сына еще большую неприязнь к себе.
— Сначала нам надо проверить, не поехала ли она к отцу. Да, Джеффри Маркхем. Его телефон должен быть в справочнике. — Элли выкарабкалась из стонущего шезлонга и взяла руководство на себя, разразившись потоком бодрых и ненужных указаний: — Алекс, в ногах правды нет. Присядь пока, а я схожу позвоню. Лучше, если это сделаю я — скорее всего, Наоми не захочет с тобой говорить. Она любит все драматизировать, мы-то знаем. Аккуратнее, Алекс. В год две с половиной тысячи людей получают травмы в результате неосторожного обращения с садовой мебелью. В основном они защемляют пальцы. Это мне Джеральдин рассказала, она прочитала об этом в журнале. Она всегда такие вещи читает. Кстати, Алекс, в моей квартире был пожар, — может быть, ты уже слышал? — поэтому мы с Джуин решили пока пожить у Кейт. — Последнюю новость Элли сообщила радостно и гордо, как будто этим решением она осчастливила Кейт.
Оставленные наедине друг с другом, Кейт и Алекс не знали, что сказать. Кейт опустила руки вдоль тела, как маленькая девочка, и выглядела потерянной. Темные глаза сына на миг взглянули на нее и тут же отвернулись в сторону. Он был так красив и так отстранен, в его осанке было что-то величественное. Больше он не был ее мальчиком, он превратился в настоящего мужчину. Кейт боялась, что умрет от боли за него. Как ей хотелось сказать ему: «А у меня роман. Он тоже окончится для меня слезами. Мы с тобой оба такие глупые». Вместо этого она снова высморкалась и откашлялась.
Солнце скрылось за далекими крышами, и в маленьком квадрате сада все сразу стало серым.
Наконец они услышали, как Элли положила телефонную трубку на рычаг.
— Она была там, — опередил появление Элли ее голос, деловой и оживленный. — Она уехала от отца только сегодня утром. Меньше часа назад. Он не знает, куда она направилась, и, судя по всему, ему на это совершенно наплевать. Значит, вот что я предлагаю, красавчик: я сейчас сварю нам всем по чашке кофе, после чего мы устроим военный совет. Согласен? Подумаем, что делать дальше.
Окна Копперфилдса были слегка приоткрыты, впуская в дом запах свежескошенной травы и бензина. Джон верхом на моторизованной газонокосилке кружил по ухабистому газону. С утомительной предсказуемостью шум механизма то приближался, то удалялся. С каждым его приближением слушательницы напрягались, сжимали зубы; дыхание замедлялось, разговор умолкал.
Наконец газонокосилка остановилась, и на сад постепенно, не сразу, опустилась тишина: казалось, что жужжание мотора медленно просачивалось в недавно политые клумбы и только потом исчезало совсем. И все равно некоторое время Джеральдин не могла придумать, что бы еще сказать. Она поковыряла пальцем в звенящем ухе и вспомнила об интересной статье о раздражениях, вызванных каким-то вредным веществом, содержащимся в растениях. Однако у нее не было энергии на то, чтобы обсуждать эту тему. Сейчас ей совершенно не хотелось играть роль гостеприимной хозяйки.
Через минуту мимо окна гостиной устало прошествовал Джон, сутулый, словно на его плечах лежало что-то тяжелое, и двум неразговорчивым дамам была предоставлена возможность разглядеть его профиль. В нем было нечто напоминающее аскета или даже религиозного отшельника, но на Наоми это не произвело большого впечатления. Она не увидела в промелькнувшем мужчине благородства, которое видела в нем Кейт. Правда, Наоми вообще мало что видела за пределами своего собственного мирка. Она бессознательно водила большим и указательным пальцами по бокалу с хересом.
— Знаешь, — сказала Джеральдин, нашедшая в себе силы высказать то, что было у нее на уме, — все равно у вас ничего не получилось бы. Все эти нестандартные союзы всегда обречены на неудачу. — Она говорила уверенно, даже немного ворчливо, ведь правоту ее слов подтверждало множество примеров. Достаточно было открыть любую газету. И Наоми следовало бы об этом знать, в ее-то годы.
Джеральдин прошла к буфету, вызвав в атмосфере гостиной смятение, волну, которую создают при движении крупные женщины. Ее платье из полупрозрачного материала с невнятным рисунком из бледно-сиреневых и серых пятен — контролируемый взрыв цвета, — сшитое без учета особенностей женской фигуры, обладало эффектом диффузии: непонятно было, где Джеральдин начиналась, а где заканчивалась.
Наоми ничего не ответила. От негодования у нее перехватило горло, она вся покраснела и пару секунд не могла выговорить ни слова. Она хотела сказать, что, конечно, у них все могло получиться. И что не все «нестандартные союзы» были обречены на неудачу. Но действительность говорила сама себя — и тут ей нечего было возразить противной Джеральдин: у них ничего не получилось. Их союз распался.
— Мой племянник, — продолжила Джеральдин, делая акцент на притяжательном местоимении, таким образом заявляя о своих преимущественных правах на Алекса, — очень легко поддается внешнему влиянию.
«Она думает, что я соблазнила его, — догадалась Наоми. — Она искренне считает, что все это случилось из-за меня одной».
— Я бы предпочла… — проговорила Джеральдин, наполняя нетвердой рукой свой стакан (янтарная жидкость нетрезво булькала). — То есть мне кажется, что тебе следовало…
Она предпочла бы, чтобы Наоми сначала позвонила. Ей казалось, что Наоми следовало спросить разрешения перед тем, как свалиться чужим людям на голову. Какой бы нетерпимой ни была обстановка в доме ее отца (а там, кажется, действительно было уныло и неприветливо), все-таки можно было предупредить их хотя бы за пару дней.
Не то чтобы для Наоми не было здесь места или еды. Большой, удобный дом имел три гостевые спальни, и у Горстов всегда был хороший стол. Но вот именно сегодня Наоми здесь были не рады. Вот-вот должен был приехать Дэвид. Он собирался провести здесь выходные. Дэвид был отцом Алекса. Алекс же был… э-э… другом Наоми. И это создаст определенную неловкость.
Джеральдин очень чутко относилась к разного рода неловкостям, она всегда была настороже, выискивая их, а обнаружив, тут же стремилась устранить их, из-за чего малейшее недоразумение в обществе превращала в проблему. Она неизменно уведомляла людей, не осознающих, что у них что-то не в порядке, об их неприятном положении. Сегодня за обедом она будет сидеть во главе стола с видом человека, который что-то знает, но не хочет об этом говорить. А если непроизносимое будет произнесено, Джеральдин тут же громким голосом сменит тему, станет настойчиво предлагать побеги брюссельской капусты, не преминет заметить, что, разумеется, сейчас они не так хороши, как после первых морозов, и, передавая блюдо, наверняка опрокинет свой бокал с вином.
Ее дети обладали особенным талантом заводить ее, хотя каждый делал это по-своему. Люси исключительно по своей неуклюжести непременно умудрялась ляпнуть именно то, что Джеральдин старательно избегала, а безобразник Доминик намеренно танцевал вокруг той или иной запретной темы.
В этот момент он как раз вошел в комнату, трубя в сложенную ладонь, как в фанфару.
— Ой, привет, — заметил он Наоми и поздоровался, разглядывая ее откровенно, задумчиво, вводя ее в смущение. По его виду было понятно, что у него на уме ее роман с Алексом, что он думает о сексе и тому подобном, что он прикидывал, насколько Наоми была привлекательна для него самого, вероятно оценивая ее по шкале от одного до десяти. Потом он спросил: — А как здесь можно получить выпивку?
Его сходство с двоюродным братом (весьма отдаленное, сводящееся лишь к похожести некоторых черт лица, смутно напоминающее о фамильном родстве) причиняло Наоми острую боль. Она рассеянно поднесла бокал с хересом к губам, стукнувшись дрожащими зубами о стекло.
— Доминик, — обратилась к подростку мать с тревогой и угрозой в голосе, — ты ведь не собираешься сесть за стол в таком виде?
— А что, нельзя? — Он оглядел себя: сначала посмотрел на одну руку, потом на другую, окинул взглядом ноги, потом, извернувшись, попытался увидеть спину, словно хотел понять, какое тайное правило нарушил он своим внешним видом. Однако то, что на нем были старые джинсы с дырами на коленях и что выше пояса его голое бронзовое тело прикрывали лишь бусы, свисающие почти до пупка, его бросающаяся в глаза развязность, его падающие на глаза, выцветшие на солнце волосы — все это, вместе взятое, не позволило поверить в искренность этого недоумения. — Ну хорошо, как скажешь, — наконец сказал Доминик добронравнейшим тоном, который сам по себе уже был издевкой.
— Прикройся по крайней мере. — Джеральдин резко села на стул с изогнутой спинкой.
— А можно мне сначала пива?
— Нет, сначала переоденься. Надень рубашку. И позови ко мне Люси. И скажи отцу, чтобы шел в дом. Напомни ему, чтобы он помыл руки. Дэвид приедет с минуты на минуту.
— Ногти проверять будут?
— О-о… — Джеральдин поднесла руку к лицу, сжала пальцами переносицу, надавила на уголки глаз и бессильно вздохнула. — Ты меня утомляешь, — с чувством сказала она сыну, — ты меня крайне утомляешь.
— Извиняюсь, — сказал Доминик. Он вышел из комнаты, тихо закрыв за собой дверь. Потом он снова приоткрыл ее, просунул голову в образовавшуюся щель, игриво подмигнул Наоми и исчез.
Мэйбел Флауэрс сидела у окна, сложив руки на коленях, и смотрела на улицу. Бесполезными, праздными стали ее руки. Когда-то они столько всего делали, так были нужны. В их прикосновении была сила, они дарили уверенность, комфорт, восторг. Но это было когда-то. Теперь же они, дрожа, пускались в короткое, опасное путешествие с чашкой чая или крошили кусок сухого фруктового кекса. Они барабанили по ткани ее рубашки, будто выбивая ритм забытой мелодии. По утрам и вечерам они возились с ее молниями, пуговицами и крючками. С отработанной годами слаженностью они намыливали и ополаскивали друг друга, они мыли ее саму. Вот, пожалуй, и все.
Мэйбел склонила голову набок, отчего стало казаться, будто она терпеливо ждет чего-то. Выцветшие глаза, устремленные вдаль, будто высматривали нечто, что вот-вот должно было появиться из-за горизонта. Уголки ее губы поднимались кверху, но это была не улыбка.
— Мне очень жаль, — пыталась утешить ее Джуин. Она опустилась на колени рядом со старой женщиной, прижалась щекой к ее руке, невольно обратив внимание на сложную вязку ее кардигана — на эту совершенно бессмысленную интригу трех изнаночных и двух лицевых. Она сняла с рукава катышек шерсти.
Мэйбел ничего не сказала, только подняла палец. Возможно, она не могла говорить. А может, говорить было нечего?
— По крайней мере, она не страдала, — продолжала Джуин. Но фраза прозвучала банально. Да и кто мог знать, страдала она или нет?
Удар? Это слово применялось в стольких сферах жизни: удар молотом, удар по мячу, удар грома. А иногда это был удар смерти.
Удар, который перенесла Вера Солтер, был именно ударом смерти. Это случилось на прошлой неделе, во вторник вечером; но известно об этом стало только к утру, когда было уже слишком поздно что-либо делать, если ей вообще можно было помочь. Три дня Вера лежала в коме. Мэйбел, не отходившая от постели подруги, наблюдала за тем, как она ускользает в небытие. «Ускользает в небытие» — так выразилась Пегги Саутгейт. А Джуин казалось, что время, испещрившее Веру знаками своего присутствия, в конце концов стерло эти знаки, а вместе с ними и Веру.
Если бы Джуин могла повернуть время назад, она не пошла бы сегодня в Даунсайд. Ей было не по силам встречаться со смертью. Умение миссис Саутгейт справляться с трудными ситуациями, ее деловая энергичность, так впечатлившие Джуин в недавнем прошлом, теперь казались ей равнодушием. В помещениях пахло как обычно: чистящими средствами — полиролью, дезинфектантами и ранним неаппетитным обедом. Вестибюль украшала ваза со старым букетом маргариток грязно-розового цвета. Сотрудники Даунсайда переговаривались громкими голосами, они тормошили и подбадривали обитателей дома, они вели себя очень оживленно — никакой скорби, никаких приглушенных тонов и никаких пустых кроватей (на кровати Веры уже устраивалась новая постоялица).
— Вы получили мою открытку? — Джуин хотела добиться от Мэйбел ответа.
Но Мэйбел снова лишь пошевелила пальцами — или это был просто невольный спазм? Вот и весь ответ.
— Шотландия — такая красивая страна. Я и понятия не имела. Когда я навещу вас в следующий раз, я все вам расскажу.
Но Джуин не думала, что она придет сюда еще. Элли была права, как всегда. Джуин чувствовала, что пока не доросла до таких вещей. Ей еще не хватало то ли заботливости, то ли беззаботности, то ли безграничного сочувствия, то ли жизнерадостного фатализма, чтобы справиться с этим. В отличие от миссис Саутгейт, она не могла разглядеть в существовании престарелых обитателей Даунсайд-хауса Божьей воли. Она видела только увядание.
По-прежнему сидя на полу, Джуин позволила своему взгляду сопровождать взгляд Мэйбел Флауэрс — до самой лужайки с несколькими унылыми деревцами по краям и кустом высокого папоротника в центре. Этот папоротник — прихоть тщеславного садовода — вызывал особенную неприязнь. Джуин надеялась, что своим присутствием она хоть как-то скрашивает жизнь здешних обитателей, но судить о том, так ли это, она не могла.
Через несколько минут она забежит в офис, заберет Маффи и пустится в долгое путешествие «домой» в Тутинг. Джуин подбодрила себя мыслью, что Кейт сможет понять ее переживания (она представила, как сморщится курносое лицо Кейт от сочувствия и беспокойства за нее). Пожар в доме Джуин приняла гораздо ближе к сердцу, чем Элли. Это был ее единственный дом, и его потеря, пусть временная, вызвала у нее чувство неуверенности. Долгая поездка на автобусе в школу и обратно была ужасно утомительна. Находиться в доме на Лакспер-роуд, где отсутствие Алекса было так ощутимо и где каждую минуту он мог появиться и разорвать ей душу, было тревожно. Она чувствовала себя лишней и не в своей тарелке. Но все это скрашивалось сознанием того, что они с Кейт снова были близки, что между ними опять все было в порядке.
Джуин сняла руку со спинки кресла Мэйбел и начала процесс освобождения. Она поднялась на ноги, наклонилась, чтобы поцеловать белую голову старушки, пробормотала прощальные обещания. Наконец она ушла — потрясенная, ощущая слабость в коленях.
— Возвращайся поскорей, — послышалось ей уже в дверях. Но когда она резко обернулась, Мэйбел, как и прежде, сидела без движения.
Десятью минутами позже, по дороге на станцию подземки, еле удерживая на поводке расшалившегося Маффи, Джуин вдруг отчаянно захотелось поговорить с кем-нибудь молодым и веселым, кто заставил бы ее засмеяться или даже немного подразнил ее. Ей захотелось, чтобы кто-нибудь восстановил ее веру в то, что жизнь стоит того, чтобы жить.
Поэтому она нашла в кармане мелочь, подхватила Маффи на руки, уклонилась от его слюнявого языка, нырнула в ближайшую телефонную будку и набрала номер.
Доминик Горст сидел напротив человека, на которого по всеобщему убеждению он был очень похож, и испытывал только сильную ненависть. «Он презирает нас, — говорил он себе. — Мы кажемся ему безнадежно скучными мещанами. Он все время сравнивает нас с самим собой. А мать все из кожи лезет, чтобы заслужить его одобрение!»
Если бы ему пришлось выбирать, на чью сторону встать (а Доминик был склонен думать, что время такого выбора настало), то следует отдать в жертву свои убеждения, разрушить свой образ и встать рядом с родителями — вместо того чтобы подыгрывать снисходительному гостю и разделять его пренебрежение к ценностям Горстов. Хотя соблазн сделать именно так был велик.
Действуя сообразно вышесказанному, он вел себя во время обеда с небывалой благопристойностью, что заставляло Джеральдин страшно нервничать. Под столь безупречным поведением Доминика не могло не скрываться коварного умысла. Она опасалась какой-нибудь особенно изощренной выходки и поэтому не могла сосредоточиться на мнении брата о Хиллари Клинтон или на его забавных анекдотах о маленьком мирке Вашингтона. Она беспрестанно бросала взгляды через стол на сына, видя, то как он передает хлеб, то как он галантно ухаживает за молчаливой и рассеянной Наоми. Джеральдин мучилась вопросом: что опять затеял этот мальчишка?
Дэвид, надо заметить, и сам не уделял большого внимания качествам мадам Клинтон. Но ему и не нужно было, поскольку его рассказы о Вашингтоне были неоднократно отрепетированы, его истории о Белом доме были проверены перед куда более многочисленными и требовательными аудиториями. И поэтому его мысли могли свободно бродить вокруг Джеральдин, ее дома, уклада ее жизни, ее ограниченного существования. Они летали вверх и вниз по лестницам, производя наблюдения и делая оценки. И повсюду они неизбежно натыкались на такое англофобство, от которого Дэвид только и мог что морщиться и щуриться. Неужели Джеральдин не могла быть хоть немного более экзотичной? Более оригинальной? Более достойной его? Ее жизнь представала перед ним в образе пространных участков разочарования и редких точек удовлетворения, которые светились во мраке новогодней гирляндой и отнимали непропорционально большую часть внимания Джеральдин.
Наибольшее неудовольствие Дэвида вызвали племянники: и неуклюжая, упрямая, капризная девица, и юнец с его услужливостью напоказ, примерным поведением и сбивающим с толку дерзким видом насмешника. И это была семья. Подразумевалось, что все они были близки и похожи. И все же эти три Горста не были — не могли быть — его родственниками.
Когда Джеральдин, жестикулируя обеими руками, призвала всех передавать ей пустые суповые тарелки — подавался холодный суп с огурцами и мятой, по новому рецепту, как объявила она, преуменьшая свои заслуги и отдавая всю славу «Советам по домоводству», — Дэвид поднялся, словно желая помочь. На самом же деле он хотел посмотреться в зеркало, висящее над длинным буфетом, где ожидали своей очереди зеленый салат, свежие фрукты, сыры под пластмассовым колпаком и крекеры в корзинке. Зеркало отразило высокого, стройного, похожего на волка мужчину, одаренного необычной сексапильностью; другими словами, зеркало отразило самое близкое к Богу существо из всех, известных Дэвиду.
— Ты сядь, Дэвид, — обратилась к нему Джеральдин, подчеркивая его статус гостя, и затем направила свой взгляд на Люси, мысленно отдавая ей приказание. Но девочка, однако, осталась сидеть — вялая, невидящая («Ну и амеба», — подумал Дэвид), а вместо нее подскочил Доминик, окончательно расстроив мать. Он забрал стопку тарелок и отнес их на кухню.
Дэвид, разведя руками в знак смирения, сел на свое место, поставил локти на стол, сплел длинные пальцы, опустил на них подбородок и направил все свое любопытство на сидящую напротив Наоми.
Никогда на его памяти не была она более соблазнительной. Он смотрел на нее, сидящую с опущенной головой, на это воплощение печали и детской беззащитности, и в нем поднималась волна желания.
Как она умудрилась так долго оставаться незамеченной им? И как она сумела обмануть время? Казалось, что годы, пролетающие мимо, только освежали ее. Ее глаза были ясными, голубыми, невыразимо грустными; ее кожа была похожа на розовые лепестки, белая, с едва заметным румянцем. Ему не терпелось запустить пальцы в ее мягкие волосы, откинуть ее голову назад, изогнув хрупкую шею, впиться в бледное горло зубами.
Никто не догадался бы, что этой женщине было… сколько? Сорок два? Ну, Джеральдин всегда было сорок, она сразу родилась такой. Дэвид помнил ее маленькой девочкой, идущей в воскресную школу в белых кружевных перчатках, в шляпке-таблетке, усмиряющей ее упругие кудри, с лакированной сумочкой, покачивающейся на сгибе локтя совершенно так же, как у пожилых дамочек. Остальные люди постепенно достигали сорока лет, или же сорок настигали их. Волосы Джона отступали, сдавая позиции; да и сам Джон как будто отступил вглубь себя, достучаться до него было еще труднее, чем обычно. Элли на пути к агрессивной зрелости курила, пила и искала сексуальных утех (Дэвид вздрагивал при одном воспоминании о ее удушающих объятиях). Лицо Кейт и раньше всегда морщили переживания, теперь же оно наверняка все исчерчено заботами. И по нему самому, по Дэвиду, было видно, что он достиг середины жизни, хотя он носил свой возраст стильно. Из всех одна Наоми сохранила свежесть и нежность юности. И, похоже, она до сих пор была подвержена юношеской влюбленности.
Дэвида охватило страстное желание вытеснить, выдавить из нее Алекса. Внутри него кипела ярость против мальчишки, который посмел вступить в угодья, предназначенные для более взрослых охотников. Этот болван вполне мог бы удовлетвориться какой-нибудь вертихвосткой-куколкой. А соблазнительными красотками займутся настоящие мужчины.
Перед Дэвидом торжественно поставили лосося под майонезом. И тут какой-то дьявол внутри него заставил его спросить:
— А как Кейт?
Он отлично осознавал, что от этого вопроса до Алекса оставался лишь один шаг, и он не отводил глаз от Наоми, чтобы увидеть, не смутится ли она.
О-о, какая неловкость. Вопрос Дэвида спровоцировал взрыв судорожной активности. Пальцы Джеральдин взлетели к ее горлу, стали суетливо перебирать жемчужины бус, ее полные щеки окатила волна краски. Джон закашлялся, перегнулся через стол, предлагая всем подряд салат, и опрокинул свой бокал.
— Она отлично ухаживает за садом, как ты и сам, вероятно, заметил, — наконец ответила Джеральдин уклончиво и махнула рукой в направлении окна. Потом, как будто вспомнив что-то, добавила: — Да, я сказала бы, что у нее все в порядке. Кроме, разумеется, небольшого гриппа.
Наступило молчание. Наоми, вздохнув, постаралась уменьшить количество еды на своей тарелке, прессуя ее ножом и вилкой. Этой бестактной тактичностью она привлекла внимание к своему абсолютному нежеланию есть и при этом совершенно не замечала, что остальные пятеро смотрят на нее не отрываясь.
Аппетит Наоми, и в лучшие дни являвший собой компромисс между желанием жить и смутным нежеланием прилагать к этому старания, сейчас и вовсе покинул ее. А нарушения сна становились все более и более серьезными. Всю прошлую неделю Наоми ложилась спать рано, с помощью снотворного тут же проваливалась в глубокое забытье, но через два-три часа просыпалась в панике и дальше лежала без сна, часами всматриваясь в беспокойную темноту. Потом, в течение дня, она то и дело роняла голову на согнутую руку и засыпала на месте, при этом ей всегда снилось, что она не спит.
Ее состояние было очень тяжелым. Она находилась под воздействием ужасного стресса. В том огромном, мрачном доме в Пимлико она встретила свое детство — на том же месте, где она его оставила. За дверями и в ящиках шкафов таилось ее прошлое. Оно прыгало на нее из-за углов, из-под лестниц, из темных ниш. В течение семи дней она перенесла несколько потрясений, ее одолевали воспоминания — столь же таинственные и пугающие, как и перспективы на будущее.
Входя в большие парадные двери, минуя посетителей, пришедших на прием к молодому австралийскому дантисту, который снимал стоматологический кабинет на первом этаже, и улавливая их тревогу и страх, Наоми воображала, что некое шестое чувство подсказывало им, какой жуткий это был дом на самом деле. И при этом Наоми вспоминались не истерики Ирены (хотя и они были в высшей степени отвратительны).
Жуткие вещи совершал над ней Джеффри Маркхем, но такие, за которые его нельзя было привлечь к ответственности и которые она никогда не могла бы поставить ему в вину (потому что это означало бы снова услышать его гнусный, презрительный смех, сводящий ее с ума). Он никогда не будет наказан, разве что своей совестью, что было крайне маловероятно, за ту хитроумную кампанию, которую он вел против своей дочери с целью ее унижения и морального уничтожения.
Сначала, когда она услышала играющую на полную мощность мелодию из «Парсифаля» Вагнера, перед ней вновь возник образ ее отца: вот он склоняется над ней, разглядывает ее идеальные коренные зубы — «Открой рот шире» — и в это же время свободной рукой забирается к ней под юбку, гладит с паучьей невесомостью внутреннюю сторону ее холодного и влажного бедра.
Потом, лежа в своей старой комнате, в своей старой кровати, не отрывая взгляда от двери, она не могла избавиться от мысли, что вот-вот дверь внезапно распахнется — она почти слышала скрип петель — и в проеме появится он. Он будет безмолвно и злобно смотреть на нее, вызывая в ней странный ужас (сквозняк из длинного сводчатого коридора раскачает модели фантастических птиц, свисающие с потолка, и они, дико взмахивая крыльями, клацая, будут разбрасывать по всему потолку невообразимые тени).
Запах турецких сигарет, завиток синего дыма напомнил Наоми о том случае, когда Джеффри стряс пепел с сигареты в ее стакан с молоком в такой манере, которая невинному ребенку казалась столь же многозначительной и грязной, сколь недоступной пониманию.
В один из вечеров Наоми холодно пожелала отцу «хорошего сна» и вспомнила все те страшные «спокойной ночи», все те прощания на ночь, после которых она вновь видела его у себя в комнате: он сидел на ее кровати и водил по накрахмаленной наволочке — вжииик-вжииик-вжииик — ухоженными, коротко обрезанными ногтями.
Она подвергалась не столько сексуальным домогательствам, сколько зловещему, бесконечно тонкому издевательству. И беспричинную вину, стыд, которые она испытывала тогда, сейчас она испытывала снова.
«Вот в чем дело», — говорила она себе, играя с куском лососины — коралловой плотью на изогнутой кости. И сквозь свою задумчивость, как будто издалека, она услышала телефонный звонок, услышала, как Доминик пошел ответить на него. «Неудивительно, что я так неудачлива, — решила она и, сдаваясь, ставя на себе крест, сделала вывод: — Я конченый человек».
— А можно я после обеда покажу дяде Дэвиду Топпера? — заныла Люси. — Топпер, объяснила она, оборачиваясь к Дэвиду с гротескной кокетливостью и неуклюжей игривостью, — это пони. Он принадлежит моей лучшей подруге Джокасте.
«Боже праведный, — внутренне простонал Дэвид, — да она втюрилась в меня!»
— Может, мы все сходим? — ловко выкрутился он. — Заодно подышим свежим воздухом.
— О, вряд ли Наоми интересуют лошади.
Услышав свое имя (похоже, она решила, что Люси обращается к ней), Наоми подняла глаза, взмахнув ресницами, которые до этого покоились на щеках. И на долю секунды ей почудилось, что напротив нее на камчатной скатерти лежат руки Алекса Гарви. (Только это ее любимый унаследовал от своего отца: тонкие, сильные пальцы, крепкую хватку). Сердце ее мучительно сжалось.
— А, Джуин, как дела? — сердечно воскликнул Доминик. — Как ты, мой Июнь? — перевел он ее французское имя на английский. — Все такая же яростная и неприступная?
— Не совсем, — угрюмо ответила Джуин и разрыдалась.
— Ну же, перестань, не надо, — стал уговаривать ее Доминик, — не волнуйся так. Что случилось? В чем дело? Расскажи все дядюшке Доминику. Все факты по порядку. Тебя кто-нибудь обидел? Назови имена.
— Это… это… — беспомощно всхлипывала на другом конце провода Джуин. После долгой паузы, высморкавшись, она в конце концов смогла вымолвить: — Это Вера. Вера Солтер. Помнишь, я говорила тебе? Одна из моих старушек.
— Та, что живет в доме для престарелых?
— Жила.
— Жила? Значит, она умерла? Мне очень жаль.
— С чего бы это? Ты ведь даже не знал ее.
Ее тон был вызывающим. Пусть он только посмеет сказать что-нибудь о том, что время Веры прошло, пусть только предположит, что на все воля Бога или что-то в этом роде. Тогда он узнает всю силу ее ярости.
Но Доминик искренне произнес:
— Я узнал ее из твоих рассказов, Джуин. Правда. Благодаря тебе она стала для меня близким человеком. И в любом случае мне жаль и тебя. И еще жаль, что… что еще погас один огонек.
Он терпеливо ждал, пока ее прерывистое дыхание успокоится. И на всякий случай прикусил язык зубами, чтобы не вырвалась какая-нибудь глупая, неуместная шутка, что случалось с ним в моменты особого напряжения.
— Прости, — сказала она наконец.
— Наверное, с тех пор как мы вернулись из нашей замечательной поездки, тебе жилось несладко, Джу-Джу?
— Да, не очень-то весело, прямо скажем.
— Взбодрись, цыпленок. Постарайся не брать на себя решение всех мировых проблем. Скажи лучше, как Элли понравился хаггис?
— Она не очень распространялась на эту тему. Полагаю, сгоревшая квартира несколько ее отвлекла.
— Надо было сказать ей, что хаггис всегда едят на вечерах Бернса[56].
Ой, сорвалось! Опять он пошутил, и при том неудачно. Доминик смиренно ожидал, что Джуин повесит трубку — и поделом ему! — но к его облегчению она рассмеялась.
— Ты, Доминик, — сказала она ему, — как брат, которого у меня не было.
— Но ты могла бы взять меня. И не говори, что тебе не предлагали. Вообще-то, в настоящее время предложение все еще действительно. Срок действия истекает тридцать первого декабря.
— Значит, до тех пор у меня есть время подумать?
— Если тут есть о чем думать. Слушай, у нас тут полный дом собрался. Великий Дэвид Гарви почтил нас своим визитом. Люси совсем одурела, а мать аж дрожит от волнения. Но его, конечно, интересует только Наоми, — заметил Доминик цинично. — Ах да, Джуин, — почувствовал он необходимость добавить (все равно она скоро услышит об этом от кого-нибудь), — Наоми пока остановилась у нас. Она разошлась с Алексом.
Последовала пауза, пока Джуин пыталась обрести дар речи, потом она резко бросила:
— У меня сейчас кончатся монетки. Пока.
— Ты когда-нибудь обращала внимание на то, — спросила Элли, вытряхивая их пачки сигарету, — какие несоразмерно маленькие стопы у Джеральдин?
— Да вроде нет, — ответила Кейт усталым, отстраненным тоном и украдкой бросила взгляд на Алекса. Любое упоминание Джеральдин при данных обстоятельствах казалось ей излишним. Она уже пожалела о том, что рассказала Элли про Джона, потому что догадывалась, что Элли специально будет возвращаться к этой теме, чтобы помучить ее.
— Так вот, у нее несоразмерно маленький размер ноги. — Элли щелкнула зажигалкой, втянула щеки и закурила сигарету. — И Наоми согласна. Она тоже обратила на это внимание. И ты взгляни повнимательней, когда в следующий раз приедешь к Джеральдин пересаживать ее нарциссы. И что за нелепые туфли-лодочки она носит! Разумеется, я до смерти буду бороться за право женщины носить ту обувь, которая ей нравится, но всему должны быть границы. Все эти пряжки, каблучки, так и хочется стукнуть ее хорошенько.
— Я съезжу к ним, — объявил Алекс. Он подошел к пианино, откинул крышку, оперся коленом о табурет и пробежался пальцем по клавишам. Звучные, зловещие, нестройные ноты, сталкиваясь, обежали комнату. — Я поговорю с ней. Если все это действительно так, то пусть она скажет мне это в лицо.
— На твоем месте, дорогой, я бы не спешила, — высказала свою точку зрения Элли. Она поискала вокруг себя пепельницу и решила обойтись цветочным горшком. Это была ее идея позвонить Горстам, чтобы узнать, не у них ли Наоми. Она сама и позвонила под каким-то предлогом, ее предположение подтвердилось, а также к своему огорчению Элли узнала, что в Копперфилдсе находится и Дэвид Гарви. Упоминание его имени ужасно расстроило ее. Она полагала, что после их маленького приключения в Италии Дэвид должен был хотя бы сводить ее в приличное место поужинать, но пока от него не было ни слуху, ни духу. — Дай ей двадцать четыре часа. — Этот мудрый совет она дала вопреки своему тайному желанию как можно скорее выпроводить Алекса. Когда Джуин вернется, что могло произойти с минуты на минуту, и увидит его в таком мрачном настроении, очевидно влюбленным и почти сведенным с ума отчаянием, то непременно снова воспылает к нему страстью, и жить с ней в таком случае станет просто невыносимо. — Действуй тихо, аккуратно. Главное в этом деле — не спугнуть ее. Она же как заяц — тут же ускачет прочь. Ты ведь хорошо ее знаешь (по крайней мере, у тебя было время и возможность узнать ее). Она абсолютно бесхарактерна. И я говорю это с любовью, как ее подруга.
— То есть стоит подождать день-другой? Может, в твоих словах есть смысл.
— Что значит «может»? Я не всегда права, мой мальчик. — Элли постучала указательным пальцем по переносице. — Но зато я никогда не ошибаюсь.
— Никогда?
— Никогда. Так, а где, интересно мне знать, мое чадо? Она давно уже должна была вернуться. Летом Джуин работала в одном из этих сумеречных домов, — ты, Алекс, должно быть, слышал, — а сегодня решила нанести по старой памяти визит. Спрашивается, сколько времени можно провести с кучей древних развалин?
— Это очень похвально, что она заботится об этих стариках, — вставила Кейт, желая показать ее перед сыном в наилучшем свете. Она устроилась на диване, прижала подушку к груди и сидела, покачиваясь взад и вперед. — Значит, у нее есть душа и характер.
— О да, характер у нее есть, — подтвердила Элли, но в ее устах это прозвучало так, будто наличие характера ею не приветствовалось.
— Нам она всегда казалась очень славной девочкой, правда, Ал?
Алекс с грохотом закрыл крышку пианино. Он спросил:
— Кто? А, Джуин? Да, конечно. Милая.
Его равнодушие, думала Кейт, было всеобъемлющим: его в эту минуту не заботило ничто и никто, кроме проклятой Наоми Маркхем. Она его околдовала.
И снова поднялась крышка пианино. Одним пальцем он наиграл «до», «ре», «ми», «фа», «до», «ре», «ми», «фа».
— О, прекрати, — взмолилась Кейт и приложила пальцы к вискам. Она хотела уйти в свою комнату, лечь на кровать, закрыть глаза, закрыться от мира и мысленно воссоединиться с Джоном. Если она была хоть сколько-нибудь терпелива с одержимым любовью сыном, то только потому что сама находилась в такой же ситуации. И если его роман был безнадежен, что было весьма вероятно, то насколько безнадежнее был ее роман!
— Ох-ох-ох, — вздохнула Элли за себя и за всех остальных. Потому что у каждого из них в Копперфилдсе кто-то был. Или не было никого.
Наоми, сонная, теплая и ароматная после ванны, затащила свой чемодан на кровать, щелкнула замками и подняла крышку. Первое, что она увидела, было ее собственное лицо, всплывшее к ней из глубин водянисто-зеленого шелка и пышной пены. Она взяла в руки серебряное зеркало, принадлежавшее матери, — его старинное стекло, оправленное изысканной рамкой, пережило всевозможные причуды настроения Ирен, — и поставила его на комод, на вышитую салфетку. Затем, переворошив одежду, Наоми нащупала среди мягких складок индийского шелка, муара, кашемира и льна ветвистый канделябр и восточную фарфоровую табакерку, которые, как она надеялась, принесут ей хотя бы фунтов сто. Она водрузила канделябр рядом с зеркалом, а табакерку — перед зеркалом так, что получилось две табакерки. Все вместе производило впечатление алтаря или святилища.
Наоми выбирала те предметы, которые можно было легко унести и спрятать — и она унесла из дома отца именно эти ценные и удобные при транспортировке вещицы. Пройдет достаточно много времени, прежде чем Джеффри заметит пропажу — а может, и вообще не заметит. Не осталось никаких светлых квадратов или овалов на обоях, никаких отверстий от шурупов, пустых крюков, вмятин на ворсе ковра, зияющих пустот или отметин на полированном дереве — ничто не наводило на мысль об исчезнувшем объекте. Все эти предметы были весьма малозначимыми, нейтральными, не задействованными в ансамбле интерьера; они просто лежали или стояли. Дом не станет выглядеть беднее без них; он будет функционировать и дальше. А если отец все же обнаружит их отсутствие спустя некоторое время, то что он может сделать? Скорее всего, ничего. Столь мелкая кража, как догадывалась Наоми, даже доставит удовольствие такому законченному цинику, как ее отец. Джеффри Маркхем будет рад узнать, что его дочь и в самом деле не знает, что такое стыд — о чем он всегда и говорил ей.
Сама же Наоми по поводу этой кражи не испытывала ни малейших угрызений совести. Ее отец был чудовищем. Он заставил ее почувствовать себя шлюхой задолго до того, как она узнала это слово. Он испортил ее. Он использовал фантом секса только для того, чтобы получить над ней полный контроль. Ее тиранили длинной, черной тенью чего-то, что она не могла понять, и от этого болела ее детская душа. Теперь Джеффри полагалось возместить нанесенный дочери ущерб, а раз сам он этого делать не хотел, то Наоми могла взять то, что принадлежало ей по праву. Это была своего рода справедливость, это было получение старого долга.
«Отлично», — подумала она, и в зеркале отразилась на миг ее торжествующая улыбка. А потом Наоми отвернулась от зеркала и занялась ежевечерним длительным процессом подготовки ко сну.
Сидя на кровати, она очистила и увлажнила лицо и шею, затем расчесала волосы так, что они начали потрескивать, выполнила комплекс специальных упражнений для улучшения тонуса мышц лица, включая похлопывания кончиками пальцев для стимуляции кровообращения. Только после всех этих процедур Наоми сняла с себя халат, бросила его на стул, нежно погладила бока руками, потом, обнаженная, скользнула под одеяло и, дотянувшись до выключателя, окружила себя темнотой.
Наоми чувствовала себя смертельно усталой и несчастной. Эта кошмарная неделя разграбила ее эмоции, истощила и без того ограниченные резервы ее внутренней силы. Но здесь, посреди обычнейших из обычных людей она, по крайней мере, была в безопасности. В этой безмятежной комнате с недавно перекрашенными стенами, с цветочным бордюром, с пододеяльником и наволочками из одного комплекта никогда не случалось ничего плохого и никогда не случится. Голова Наоми утонула в пуховых подушках, и сама Наоми утонула в бессознательности, погрузилась в сновидения.
Алекс пришел к ней через час: у изголовья кровати вырисовывался в луче лунного света знакомый силуэт. Наоми счастливо улыбнулась и со вздохом облегчения подвинулась, чтобы он лег рядом.
«Ты вернулся», — сказала она или только подумала, что сказала. Она и сама не совсем понимала, что значили эти слова. Он, он один мог сделать так, чтобы исчезли ее боль и ее ненависть к себе.
Он придвинулся к ней, этот высокий, сильный мужчина, потом лег на нее и с грубой страстностью припал к ее губам. Запустив пальцы в ее волосы, он запрокинул ей голову. Такая несдержанность и взволновала Наоми, и одновременно смутила. Никогда раньше не был он столь нетерпелив. Его пенис, вклинившийся между ними, больно давил ей на бедро. Наоми, шепча бессвязные мольбы, двигалась под ним, помогая ему войти в нее.
Потом, как это бывает только в снах, она увидела, что это был не совсем Алекс — что хотя бы частично это был Дэвид Гарви. Они сменяли друг друга, вонзаясь в нее. «То один, то другой, то один, то другой», — повторял истеричный голос в ее идущей кругом голове.
— Наконец-то, — сказал Дэвид, потому что, разумеется, это был он. И Алекса, разумеется, здесь не было. Наоми сразу знала, что это не Алекс. Но она слишком поздно проснулась: сейчас она уже была не в силах протестовать. Наоми судорожно закинула за голову сначала одну руку, потом другую, схватилась за железные прутья спинки кровати, выгнула спину и застонала, в отчаянии от самой себя.
— Теперь ты моя, — сказал ей Дэвид таким безоговорочным тоном, что Наоми вздрогнула. Этими словами он будто говорил ей, что она будет принадлежать ему или она не будет принадлежать никому.
В воскресенье в восемь часов утра прибыл Алекс. Он въехал в ворота Копперфилдса, спешился, бросил еще рычащий мотоцикл в рододендроны — оттуда взлетела стайка маленьких коричневых птиц, негодующе трепеща крыльями, — и решительно направился по подъездной аллее к дому.
В столь ранний час на улице был только Доминик, который в лучах мягкого сентябрьского солнца играл в теннис с торцевой стеной дома. Он был настороже, опасаясь появления матери (Джеральдин запретила любые игры с мячом возле ее цветника), поэтому своевременно распознал появление Алекса. Предполагая, что визит двоюродного брата принесет одни неприятности, Доминик тут же вышел из-за угла дома, чтобы поприветствовать и, по возможности, отговорить Алекса от его намерений. При виде младшего кузена Алекс стянул перчатку, и они торжественно пожали руки.
Эти два молодых человека, несмотря на сходство, все же разительно отличались друг от друга. Кто-нибудь посторонний, увидевший их впервые, скорее заметил бы их различия, чем общие черты.
Алекс, тремя годами старше и пятью дюймами выше, был уже настоящим мужчиной. Рядом с ним Доминик все-таки выглядел мальчиком. Алекс обладал более мощным строением, более темной кожей, а утренний свет только подчеркивал его небритость и изможденность. Воля и целеустремленность ожесточили его взгляд. Поездка на мотоцикле разогрела его: было видно, как пульсирует кровь в его жилах. На белой футболке Алекса проступили пятна пота, ко лбу прилипла прядь волос, но его рукопожатие было сухим и твердым.
В каштановых волосах Доминика блестели золотистые прядки. Его озорные, изменчивые глаза переливались разными цветами, они все время двигались, что Алекс воспринимал как желание уклониться от прямого взгляда. Более стройный и подвижный, с дерзкими манерами, Доминик не имел — и никогда не будет иметь — внушительной осанки двоюродного брата. Если в Алексе было что-то от кинозвезды, то Доминик выглядел бы более уместно в какой-нибудь авангардной рок-группе — того сорта, что попадают в заголовки газет не столько из-за своих музыкальных способностей, сколько из-за похождений вне сцены и необузданной сексапильности.
— Эй! — неискренне воскликнул Доминик. — Что привело тебя сюда в столь ранний час? Давно не виделись, а? — Про себя же Доминик подумал: «О черт!» Он подумал: «Алекс, бедолага ты несчастный».
— Я приехал повидаться с Наоми, — коротко ответил Алекс. Он сошел с гравиевой дорожки на траву, прикрыл глаза ладонью от солнца и обвел взглядом дом, словно в надежде увидеть Наоми в одном из окон. И в его поведении было столько гордости и достоинства, что невозможно было испытывать к нему жалости, хотя шансов у него было мало. Сочувствие здесь было просто не к месту.
— Ах да. Конечно. — Доминик говорил с притворной беззаботностью. — Она вчера действительно разбила здесь лагерь, но сейчас она еще, должно быть, в постели. — С Дэвидом, мог бы добавить он. Наоми была в постели с Дэвидом. Потому что вчера он слышал, как они вовсю наяривали — Доминик не сомневался в том, как интерпретировать услышанное. И хотя его это нисколько не касалось, но все же поведение Наоми он счел весьма некрасивым. В смысле, что за полная идиотка!
— Я пойду к ней, — безапелляционно заявил Алекс, — покажи мне, как пройти в ее комнату… — Он стремился как можно скорее встретиться с ней — пока не перегорел адреналин и не иссякло мужество. Это стремление проявлялось некоторой самонадеянностью в поведении, что, наверное, играло Алексу на руку.
— Э… Послушай. — Движением головы призвав Алекса следовать за ним, Доминик направился через рыхлый газон, покрытый серебром паутины и переливающийся каплями росы, к веранде с тыльной стороны дома. На веранде он жестом пригласил Алекса сесть на один из стульев, выполненных в деревенском стиле. Сад, окутанный теплой, влажной осенней дымкой, дышал ароматами гниющей листвы и умирающих роз. — Хочешь кофе? — предложил Доминик.
— Нет, спасибо. Мне просто нужно сказать Наоми пару слов. Пожалуйста, покажи мне, где ее найти. — Алекс не мог понять, почему Доминик казался таким уклончивым, таким смущенным. Ведь в его визите вроде не было ничего неприличного — они с Наоми и так уже были любовниками. Разве он не имел права увидеться с ней?
— Послушай, Ал, — ударился Доминик в импровизацию, — давай я объясню тебе, что к чему, хорошо? Позволь мне выложить перед тобой факты. Дело в том, что моя дорогая старая мать придерживается довольно… Ну, мягко говоря, она не в восторге от твоего последнего… увлечения. В связи с ним прозвучало слово «возмутительно». И еще «отвратительно». И я не могу гарантировать, что, застав вас с Наоми вместе, она не выльет на вас ведро холодной воды. Я не могу обещать, что она не устроит вам головомойку. У меня есть план получше. Я могу незаметно проскользнуть в дом и привести Наоми сюда. И вы спрячетесь в каком-нибудь укромном уголке и без помех проведете свое совещание. Как тебе моя идея?
Алекс лишь махнул рукой в знак того, что ему было все равно.
— Отлично! — воскликнул Доминик, но не бросился тут же выполнять свою миссию, а продолжал бестолково стоять, водя по каменным плитам ногой. — Ты точно не хочешь кофе?
— Абсолютно точно, спасибо.
— Отлично, — повторил Доминик и только после этого вошел в раскрытые стеклянные двери и скрылся в доме.
Он взлетел на второй этаж, осторожно посмотрел направо и налево — в доме уже отчетливо чувствовалось пробуждение, вот-вот из спален начнут появляться люди, станут задавать вопросы, — и тихо, но настойчиво побарабанил пальцами по двери Наоми. В комнате кто-то шепотом обменялся несколькими фразами, потом дверь приоткрылась и появилась Наоми. Доминик ожидал увидеть счастливую, удовлетворенную до головокружения женщину, но Наоми стояла перед ним озадаченная и смущенная.
— Там, гм, кое-кто хочет видеть тебя, — сообщил он ей и откашлялся.
— Кто? — Она испуганно сощурилась, как будто он посветил ей в глаза фонариком.
— Алекс. Он хочет поговорить. Ты спустишься?
— Скажи ему, пусть проваливает. — Это холодное распоряжение отдал Дэвид, скрываемый спиной Наоми. Из его слов было непонятно, кого он имеет в виду: Алекса или Доминика.
— Я не могу встретиться с ним, Доминик, — взмолилась Наоми. Она все вертела и вертела дверную ручку, щелкая замком. — Ты скажи ему, что я просто не могу, хорошо? Скажи, что это ни к чему. Ему не следовало приезжать сюда. Ты понимаешь?
— Да, — ответил Доминик, презрительно скривив губы, — все это очень неудобно. Я вполне понимаю сложность твоей ситуации.
— Правда? — Наоми оперлась о дверь, на миг распахнув ее шире, и взору Доминика предстал голый Дэвид, стоящий у дальней стены, с незаслуженно большим и монументально торчащим членом.
— Как тебе будет угодно. — Он быстро развернулся и сбежал вниз по лестнице в столовую, а оттуда — снова на заднюю террасу.
— Она говорит, что тебе не следовало приезжать сюда, — проинформировал он Алекса с едва заметной дрожью в голосе, еще старательнее избегая взгляда двоюродного брата. — То есть мне очень жаль и все такое, но она твердо отказывается видеть тебя.
— Передай ей, Доминик, — ответил Алекс с пугающим самообладанием (только едва заметное подрагивание щеки выдавало его эмоции), — что если она хочет, чтобы я уехал, то пусть скажет мне это сама. Скажи ей, что она должна спуститься и посмотреть мне в лицо. Иначе я не уеду.
— Дело твое, — пожал плечами Доминик, мысленно отметив неблагоразумие такого плана. Он снова поднялся по лестнице.
— Наоми, послушай, пожалуйста. Он говорит, что хочет услышать это от тебя. Если ты не спустишься, то он не уедет. Мне кажется, что тебе, наверное, стоит…
— Ну так сходи, — услышал Доминик, как рявкнул на Наоми Дэвид, — посмотри на этого упрямого мерзавца. Поцелуй его на прощанье, и покончим с этим. Образумь его — или я сам это сделаю.
Наоми зажала рот рукой, подавляя всхлипы, выскочила из спальни и шелковым облаком пролетела мимо Доминика. На лестничной площадке она заколебалась, бросила через плечо взгляд, полный мольбы, безмолвного призыва, а потом бросилась навстречу року.
Она показалась Алексу всего лишь на несколько секунд, она даже не переступила за порог дома. Красно-золотые парчовые гардины столовой придали театральности ее краткому драматичному появлению.
— Уходи, — вот и все, что она сказала; вот и все, что она могла сказать.
Алекс видел, но не мог понять ее страдание. Он недоуменно спрашивал себя: «Неужели это сделал я? Но как?» То, что его присутствие здесь невыносимо для нее, было очевидно.
Пронзенная его взглядом, как бабочка булавкой, трепещущая Наоми помедлила несколько мучительных мгновений. Потом Алекс резко поднялся и, не сказав больше ни слова, повернулся и вышел.
За этой сценой наблюдал Дэвид Гарви, стоявший у окна спальни со сложенными на груди руками. Он удовлетворенно улыбнулся. Все правильно, думал он. Подобающий финал неподобающей связи.
«Значит, все», — подумал он.
Глава десятая
«Ни солнца, ни луны, ни утра, ни дня. Ни рассвета, ни заката, ни другого времени суток. Ни тепла, ни радости, ни здоровой легкости. Ни чего-то там, чего-то там, чего-то там. Мм, ни пчел. Ни плодов, ни цветов, ни листвы, ни птиц. Ноябрь»[57].
В полдень мрачного ноябрьского дня Наоми крадучись выскользнула из своей арендованной в Найтсбридже квартиры на общую площадку. Она пыталась вспомнить строки стихотворения, плохо выученного в давно прошедшие школьные годы и с тех пор хорошо забытого.
«Ни социальной жизни, — уныло импровизировала она, — ни друзей, ни бодрого телефонного звонка. Ни секса, ни смеха, ни любви. Ничего хорошего, коль живешь одна. Ни ума, ни смысла, ни ведра, ни коромысла. Ни просвета. Ни привета. Наоми».
Она нажала на кнопку вызова лифта, и откуда-то сверху до нее донесся сдержанный механический кашель, потом по шахте — по дыхательным путям, по страдающей одышкой груди этого фешенебельного жилого дома, который в остальное время не подавал признаков жизни, — с хрипом пронесся воздух.
В длинном коридоре стояла глубокая тишина. Плюшевый ковер поглощал каждый шаг; плотный бежевый ворс гасил колебания пола. Если за тяжелыми дверями, расположенными по обе стороны коридора, за замками и защелками и прятались люди, то слышно их не было. Дверные глазки со стеклянным любопытством упорно смотрели в пустоту. Тонкие тени собирались в рубчатых шторах, между которыми росли бледные цветы настенных светильников. В этом пространстве действительно не бывало ни рассвета, ни заката, ни другого времени суток.
Этот внушительный особняк служил пристанищем нескольким людям, крайне любящим уединение. Остальные резиденты вроде Наоми тоже вели весьма неприметный образ жизни. Редкие посетители, в какой бы час они ни пришли, должны были сначала преодолеть надежно укрепленные входные двери, потом дать объяснения скептично настроенному портье. Но приходов и уходов было мало. Через свой собственный дверной глазок Наоми видела только странно искаженных, с огромными головами посыльных с продуктами, одеждой из химчистки, свежесрезанными цветами. Теперь она делала покупки и заказывала необходимые услуги большей частью по телефону, расплачивалась кредитной карточкой и практически не покидала квартиру. А других посетителей у нее не было. Свой новый телефон она дала только своему агенту. Наоми сумела исчезнуть.
Она была женщиной состоятельной. При аккуратном обращении со своими банковскими счетами она могла бы прожить не работая еще года два. Зеркало ее матери, хранилище вспышек отвратительного характера Ирен, проданное на аукционе, принесло восемьсот фунтов. Ветвистый канделябр, исключительно уродливый предмет, ушел за пятьсот. Но именно крошечная китайская табакерка, не больше двух дюймов в высоту, прикарманенная Наоми по чистой случайности, привлекла внимание эксперта. «Очень симпатичная вещица», — произнес он понимающе. Наоми, склонив голову набок, попыталась разглядеть в табакерке то, что видел он, но не смогла. В результате за это совершенное, ручной росписи фарфоровое изделие пекинской Императорской мастерской восемнадцатого века (как было объявлено аукционистом) коллекционер восточных искусств заплатил почти сто тысяч фунтов.
И таким образом то, что Наоми считала мелким воровством, приняло масштабы дерзкого ограбления: она обчистила своего старика на кругленькую сумму в сотню штук. Мысль об этом даже сейчас вызывала у нее головокружение. Она в равной мере стыдилась и гордилась содеянным, но в основном она испытывала благодарность за деньги.
Однако не это преступление вынудило ее скрыться. Если бы отец обнаружил пропажу, если бы он имел малейшее представление о стоимости этой безделушки, если бы он пустил по ее следу полицию, если бы ее стали допрашивать, то она просто поклялась бы, что отец сам подарил ей табакерку.
Она пряталась не от закона, а от Дэвида Гарви, от отвращения, которое вызывало в ней одно это имя, от следов ее собственного вероломства и глупости. На самом деле Наоми пряталась от самой себя, только не могла себе в этом признаться.
Через агентство она сняла на шесть месяцев квартиру некой миссис Николс, вдовы, которая вроде бы сейчас путешествовала по миру, и стала жить так, как ей казалось жила миссис Николс — тихо и уединенно. В квартире ничто не ранило женственности Наоми, как ничто не коробило ее вкуса. Здесь она спала на огромной кровати под старинным кашемировым покрывалом. Она ходила босиком по турецким коврам. Когда она отдергивала пышные занавеси из тафты, дневной свет попадал в гостиную, отделанную в золотых и кремовых тонах, с мягкими креслами, филенчатыми дверями, подсвечниками венецианского стекла и стенами, уставленными книгами — зачитанными, с потрескавшимися корешками, с эмоциональными пометками на полях.
Наоми нравилось притворяться миссис Николс, большая часть личных вещей которой была закрыта в кладовой, но чей свадебный портрет, стоящий на лакированном столике, свидетельствовал, что невеста была миловидна, скромна и в высшей степени разумна.
Ныне почивший мистер Николс был предельно разборчив при выборе жены. Было совершенно ясно, что миссис Николс, а точнее, миссис М. Николс (Мэри? Марджори? Мэв?) не была женщиной, которая могла бы сбежать с любовником в два раза моложе себя. Со всей очевидностью было понятно, что никогда миссис Николс, сонная и бессильная, не согласилась бы на секс с отцом своего юного любовника, не подставила бы себя под его член и не стала бы, всхлипывая, молить его заполнить, если только он сможет, дыру в ее существовании. (Можно было не сомневаться в том, что в существовании миссис Николс дыр не было.)
Только такая порочная женщина, как Наоми, могла попасть в моральную зависимость от типа вроде Дэвида Гарви — мужчины, столь уверенного в неотразимости своей сексуальности, что слово «нет» приводило его в бешеную ярость и заставляло жестоко мстить.
Или у нее просто приступ паранойи? Наоми так не думала. Вероятно, она преувеличивала предрасположенность Дэвида к злу; он был высокомерным, самодовольным дерьмом, но и не более того. Однако Наоми была не права, когда пыталась убедить себя, что теперь не в его силах было причинить ей вред. Потому что в любой момент, движимый обидой или завистью, злобой или простым желанием похвастаться, он мог сделать всеобщим достоянием шокирующую правду. Он мог сказать: «Я там был, я это делал». Это могло дойти до Кейт. И до Алекса. А если об этом узнает Алекс, думала Наоми, то ее жизнь будет кончена.
Дэвид приходил к ней второй раз, в воскресенье вечером, и нашел ее сидящей у окна — неподвижная, холодная как смерть. Она хотела его? Само собой, она хотела его! Наоми, покачиваясь взад-вперед, баюкая, словно мертвого ребенка, свою тоску, лишь пожала плечами: больше это не имело никакого значения.
Если бы она хоть как-то воспротивилась, крикнула, топнула ногой, ударила бы его, то Дэвид, скорее всего, справился бы с этим. Но погруженная в апатию Наоми отдалась бы ему без звука. Так вот, с этим Дэвид Гарви справляться не умел. И, должно быть, при воспоминании о том вечере, о ее нежелании отказываться у него до сих пор сводило зубы.
На следующее утро Наоми умоляла Джона подвезти ее до города. И еще: «Одолжи мне пятьсот фунтов, — попросила она, положив руку ему на плечо, подергивая его за рукав. — Я верну, когда снова встану на ноги». Наоми всегда, все эти годы чувствовала в нем, но еще ни разу не проверяла определенное величие души, свободу духа. Она предполагала, что он тут же, без лишних вопросов выпишет ей чек на требуемую сумму — так и случилось. Он только попросил ничего не говорить Джеральдин.
Наоми сняла номер в гостинице и провела там две недели. В состоянии еле сдерживаемой паники она почти не выходила из номера, полагаясь только на гостиничное обслуживание, в результате чего ее счет вырос до астрономических размеров, и ожидая, когда ей улыбнется удача. Невероятно, но удача ей действительно улыбнулась — да так широко, как она и не мечтала.
Итак, кое-что было достигнуто — и столь много было принесено в жертву. Она оказалась в проигрыше. «Отличная работа, мисс Маркхем», — сказала она, обращаясь к своему отражению в тонированном зеркале подошедшего лифта. Распахнув шерстяное пальто, Наоми разгладила клетчатую мини-юбку от Феррагамо, отлично смотревшуюся с черным свитером, плотными черными колготками и черными полусапожками на шпильках, и затянула ремень на своей похудевшей талии потуже. «Наделала же ты дел», — добавила она.
— Куда-то направляетесь? — спросил дежурный портье Дуглас, когда Наоми обогнула пальму в горшке и очутилась в мраморном фойе. Этот вопрос, слишком бессмысленный, чтобы на него отвечать, она намеренно оставила висеть в воздухе в надежде пресечь дальнейший разговор. Дуглас был одним из тех людей, которые подавляют своей веселостью. Он постоянно отпускал шуточки, любил дразнить девушек и был неотвязным, как полиомелит. Модная одежда Наоми всегда давала ему повод съязвить. Вот и сейчас он провокационно уточнил: — В килте?
— Да, Дуглас, в килте. — Наоми решила, что если он спросит, как она ожидала, что надето у нее под килтом, то она добьется его увольнения.
Однако Дугласу хватило ума этого не делать. Он лишь насмешливо сдвинул свою шляпу набекрень и проводил Наоми на улицу.
Как и было обещано, у входа ее ждала машина: белый «мерседес» с водителем. «Приглашаю тебя на обед, — позвонила ей Ариадна. — С тобой кое-кто хочет встретиться. Это важно. Постарайся выглядеть как можно лучше».
Для Наоми выглядеть как-то иначе было просто невозможно. И потому эта инструкция только сбила ее с толку. Гораздо понятнее было бы, если бы ее попросили одеться понаряднее, одеться поскромнее, выглядеть модно, выглядеть шикарно. В результате Наоми сменила дюжину нарядов, прежде чем остановилась на шотландке в складку.
Водитель, по крайней мере, оценил ее выбор: когда она усаживалась на заднее сиденье, он через плечо окинул ее одобрительным взглядом. Не такой бесцеремонный, как Дуглас, более приземленный, с преувеличенной скромностью и с нарочитым видом человека, знающего свое место, водитель, включив первую передачу и отъехав от обочины, сделал замечание относительно погоды и плотности лондонского дорожного движения.
— Да, — сказала Наоми и закрыла глаза.
От обогревателя волнами исходило тепло. Ее охватило глубокое оцепенение. «Вот меня везут на роскошный обед, — думала она. — У меня есть деньги на одежду, на машины и на путешествия. Я могу делать все, что захочу, и при этом мне не надо никого ни о чем спрашивать. Моя карьера, может быть, еще не совсем завершилась (обед с Ариадной не мог быть праздным мероприятием: Ариадна никогда не обедала ради удовольствия). А я несчастна как грех».
Наоми вдруг вспомнила момент абсолютного счастья. Она увидела себя в постели, свернувшуюся калачиком возле Алекса, одетую в его футболку и махровые носки. Они ели пиццу из коробки. Никакие деньги не смогли бы купить ту любовь и близость, которые она предала. И теперь она не могла объяснить себе, зачем она это сделала, зачем разрушила свое счастье.
«Я отдала бы все на свете, чтобы повернуть время вспять», — думала Наоми. Но это никому было не под силу.
Войдя, Элли так хлопнула дверью, что весь дом узнал о ее приходе, но основное потрясение пришлось на спальню, расположенную этажом выше. Элли стояла в прихожей и мрачно принюхивалась к запаху новизны: свежей краски, штукатурки и пиленого дерева. Почему-то квартира не была похожа на жилище и менее всего — на ее жилище.
В негостеприимной гостиной голые доски пола докладывали о ее раздраженных передвижениях. Солнце и ветер, запутавшиеся в ветвях больной липы под окном, разрисовали стену подвижными узорами. Яркость первозданной отделки била Элли по глазам. В соседней квартире ребенок включил на полную громкость что-то пронзительное и немузыкальное; чья-то стиральная машина взревела, отжимая носки и штаны. На деревянной доске, уложенной между двумя стремянками, расставлены были банки с матовыми эмульсиями, радио, малярный валик. Рабочие, как они называли себя (смешно!), должно быть, ушли в кафе на перерыв.
Элли постояла несколько секунд, глядя то в окно, то на ящик, заполненный обломками обрешетки и кусками штукатурки, то на обугленное дерево и горелую ткань. Потом она промаршировала к дальнему окну, чтобы оценить состояние сада: оказалось, что он превратился в строительную площадку. Она заставит отделочников убрать весь этот бардак, когда они соизволят наконец хоть что-то сделать. И почему больше никто не гордится своей работой и ее результатами?
Элли была сердита как никогда. С понедельника дела шли из рук вон плохо, а конца недели еще не видать. Вчера вечером в Гручо-клубе она случайно встретила Дэвида Гарви. Он сидел на диване, небрежно раскинувшись и вытянув длинные ноги. При виде Элли он вяло приподнял руку в жесте, который лишь с натяжкой можно было назвать приветствием — если бы он показал ей язык, то и тогда она не почувствовала бы себя более оскорбленной. Затем Дэвид вновь обратил все свое внимание на роскошную рыжеволосую девушку. Он делал вид, что читает линии на ее ладони: несомненно, девушке было предсказано чудное времяпровождение в постели с высоким симпатичным незнакомцем и сексуальный марафон на всю ночь.
А сегодня утром, когда Элли стремительно неслась в новых высоких сапогах на шпильках вдоль берега реки от подземной парковки к «Глоуб Тауэр» (ветерок дерзко играл розовой меховой оторочкой ее жакета), к ней привязалась банда бездельников. Сначала они упрашивали ее «вынуть сиськи, чтобы парни посмотрели». Не удовлетворившись этим, они оскорбили Элли еще больше, весьма красноречиво показав, как изменилось их мнение о ней при более близком рассмотрении («Не вынимай сиськи, чтобы парни не пугались»). Если бы зеркальце не поделилось с ней немедленно куда более радостной правдой, она бы испугалась, что начинает понемногу терять привлекательность.
Прибыв на свое рабочее место в ужасном расположении духа, она обнаружила за своим столом несносную Дон Хэнкон, перед которой стоял пластиковый стаканчик с капуччино и блюдце с тостом.
— Но сейчас моя неделя, — возмутилась Элли, на миг потеряв самообладание, чего с ней почти никогда не бывало; ее нижняя губа предательски задрожала. — И вообще, это мой стол. Я первая его заняла.
У безнадежной Дон было круглое лицо; кто-то сказал бы — симпатичное, но с точки зрения Элли абсолютно непривлекательное (оно просило кремового торта, считала она). Также Дон обладала жеманными манерами, обманчиво невинным цветом лица и той ничем не обоснованной уверенностью, которая может поднять ее на самый верх.
— Но, Элли, — ответила Дон безупречно вежливо, но с многострадальным видом и вздохом из глубины груди, поигрывая ключами и не отрывая глаз от монитора, — я работаю над большой статьей для завтрашнего номера. В ней я постараюсь доказать, что «Роллинг Стоунз» пора исчезнуть со сцены. За этих дедушек рока становиться уже просто стыдно. Музыка каменного века никого не интересует. Может, ты проглядишь статью, когда я закончу? Мне было бы очень важно узнать твое мнение. Ведь ты принадлежишь к их эре. Да, я понимаю, что тебе нужно передать редакторам свой материал, но у нас кто первый пришел, тот и сел, помнишь? И Пэтти специально просила меня серьезнее отнестись к этой статье.
— Это невыносимо! — так отреагировала Элли и ворвалась в кабинет Хендерсон, требуя срочного вмешательства старшего редактора.
— Элли, будь добра, сначала постучись, — сделала ей выговор Пэтти, — а потом дождись разрешения войти. И не злоупотребляй моей дружбой в рабочей обстановке. И вообще, в чем проблема? Почему ты не напечатала свой материал дома? Раньше ты всегда так делала.
Верно, согласилась Элли, но то было в старые, добрые, давно минувшие, счастливые времена, в те безмятежные дни, когда у нее был дом. Сейчас в квартире уже можно было жить, но вот ее кабинет еще только предстояло отремонтировать и оборудовать.
В конце концов ей пришлось выслушать от Пэтти лекцию о необходимости задать новый тон для «Глоуба» и о том, что нужно придерживаться более современных, молодежных взглядов (и это говорила женщина, которая больше никогда не увидит свои сорок девять лет и одиннадцать месяцев). Элли подозревала, что Пэтти разузнала каким-то образом о ее с Дэвидом «контакте» в тот последний вечер в Италии, и теперь раненая гордость не давала Хендерсон покоя. А как еще можно было объяснить перемену в их отношениях?
Возмущенная до глубины души, не сумев отогнать от компьютера младшего редактора, утверждавшего, что он работал над обзорной статьей, Элли скользнула на место корреспондента из отдела религии, который отошел, очевидно, чтобы прочитать кому-нибудь проповедь, напечатала и отправила редактору свою колонку с максимально возможной скоростью и вылетела из офиса.
— Сука, — пробормотала она, глядя на свой сад. Этот эпитет прекрасно подходил и к Пэтти, и к Дон. Но: — Кого еще нелегкая принесла? — прервал ее размышления звонок в дверь.
— Это я, — ответил прыщавый юнец в куртке с капюшоном. Он стоял на крыльце, робко переминаясь с ноги на ногу, и держал перед собой, словно прикрываясь, большой кусок картона или фанеры, завернутый в коричневую бумагу.
— Я и сама вижу, что это ты, — кисло заметила Элли. — Значит, поджигатель возвращается на место преступления?
— Не будьте такой злопамятной, Элли. Я же не специально. Это был несчастный случай. Такое с любым могло произойти. И мне еще повезло, что я остался в живых.
— Это ты так считаешь. Зачем ты сюда явился, пироман чертов?
— Хотел извиниться. И еще я кое-что вам принес. — Он покачал в руках свой внушительный сверток. — Можно войти?
— Ну хорошо, раз уж тебе так хочется, — смилостивилась Элли. Она провела его в гостиную, в душе радуясь, что у нее появилась компания. — Только не балуйся со спичками, слышишь меня?
В гостиной она не самым элегантным образом уселась на свернутый рулоном ковер и сложила руки на груди.
— Полагаю, ты хочешь, чтобы я снова взяла тебя на работу. Так вот, даже не мечтай. И не проси у меня рекомендательных писем. Потому что совесть не позволяет мне рекомендовать тебя кому бы то ни было.
— А-а, нет, я совсем не хочу у вас работать.
— Интересно почему? Я ведь хорошо относилась к тебе. Я была очень неплохим работодателем.
— Да, вы мне платили, если вы это имеете в виду. Но я не собираюсь наниматься к вам на работу, хотя с вашей стороны было очень любезно сделать мне такое предложение. Нет, я отлично устроился. Я убираюсь в доме Маклинов.
— И ты еще не подпалил их жилище? Какая выдержка!
— Он был случайностью, Элли, тот пожар. У меня нет привычки… Да, так вот, мой подарок. В качестве извинения. — Он сорвал обертку, открыв взору Элли такую ослепительно-яркую картину маслом, что у нее перехватило дыхание и она вынуждена была прикрыть на миг глаза.
— Как… абстрактно, — только и смогла вымолвить Элли.
— Значит, вам понравилась моя картина?
— Это ужасно.
— Спасибо, — ответил Тревор, скромно склонив голову. — Должен признать, что я и сам весьма доволен этой работой. Я назвал ее… — он прикрыл рот кулаком и прочистил горло: — «Анархия в миру».
— Скажи, а ты пользовался кистью? Или просто выдавливал краску из тюбиков прямо на холст? Что здесь вообще изображено?
— А что вы сами видите?
— Ламу в пижаме, спускающуюся по лестнице. — Элли похлопала себя по карманам, вытащила сигареты и вставила одну в губы цвета белладонны. — У тебя нет огонька? Ой, что это я говорю. Нет-нет, не надо.
— Здесь изображено то, что видит сам зритель, Элли. В этом притягательность картины и ее смысл.
— Понятно. Что ж, по крайней мере, ты рисовал красками, славный старомодный консерватор. Мне казалось, что ты скорее воспользуешься крысиными зародышами в качестве средства выражения. Или свиными головами в формальдегиде. Или детской рвотой. На самом деле я и не думала, что в наше время еще пишут картины. Кажется, сейчас все делают инсталляции? Знаешь, всякие там веревки с грязным бельем. Или поля, заставленные молочными бутылками.
— Вы можете повесить ее… — Тревор оглянулся, визуализируя возможный результат. Судя по его лицу, он думал: «На этой стене выглядело бы отлично. И на этой. И вот на той». — Вот сюда. Или сюда. Или вот сюда.
— Я как следует обдумаю этот вопрос. Если только ты не передумаешь и не подаришь ее своим новым работодателям. Как их звать?
— Маклины.
— Да, Маклинам. Раз они так хорошо относятся к тебе.
— Нет. Для них я намалюю другой холст. А этот для вас. Я подписал его. Когда-нибудь он будет стоить состояние.
— Неужели?
— И кроме того, я спрашивал Маклина, не хочет ли он заказать мне картину для столовой, и он сказал, что не сейчас.
— Похоже, он не очень-то увлекается искусством.
— Зато его жена увлекается. Кэролайн Маклин. Она страшно любит искусство. Когда она идет бродить по галереям, то надевает длинные платья из батика и сандалии и повязывает волосы цветными шарфами. На прошлой неделе она была во Флоренции, тащилась от картин Масаччио. Деньги в основном у нее, насколько я смог понять. Она наследница какого-то пластического хирурга или что-то в этом роде. Она всегда тратит кучу денег на дом, все меняет интерьеры. Ну а он тоже не теряет времени: пока ее не было, принес кое-что в дом. Вернее, привел под покровом темноты. Я знаю об этом, потому что застукал их за этим делом. Пошел в спальню снять грязное белье, а там они — прямо на супружеской кровати.
— Как это отвратительно, — с чувством сказала Элли, хотя в глубине души считала, что женщина, которая носит батик, сама виновата в измене мужа.
— Вот и я так подумал. Я сказал им: «Не обращайте на меня внимания, продолжайте, я всего лишь слуга». Хотел все обратить в шутку, понимаете? А она была довольно симпатичная, скромняшечка такая, девчонка эта. Совсем молоденькая. С кукольным личиком. Она могла бы найти и кого-нибудь получше. Конечно, он еще вполне ничего для сорокалетнего старикашки, но постоянно шмыгает носом.
— Шмыгает носом, говоришь?
— Недавно он мне сказал: «Мы ведь с тобой оба современные мужчины, да, Тревор?» Я сказал: «Конечно, мистер Маклин». Он сказал: «Я уверен, что могу положиться на твою сдержанность». Я сказал: «Конечно, мистер Маклин». Он сказал: «Пожалуйста, зови меня Фергас. В нашем доме не принят официальный тон». Я сказал: «Как вам угодно, мистер Маклин. То есть Фергас». Я думаю, надо будет еще раз спросить у него насчет заказа на картину. Теперь-то я в более выгодном положении.
— Тревор, — провозгласила Элли, поднимаясь, — ты заслужил чашку чая. Нет, не спрашивай меня почему. Но ты все-таки настоящее сокровище. Забавно, я всегда говорила, что выгоню тебя, а кончилось все тем, что это ты выгнал меня из моего же дома. Ну ладно, а теперь пойди поставь чайник. Ой, нет-нет, не прикасайся к плите. Выпьем-ка мы лучше вина, так будет безопаснее. Что бы тебе хотелось? Капельку словенского «Совиньона»? А потом ты поподробнее расскажешь об этой милой чете Маклинов. Так как, ты говоришь, его зовут — Фергас? Шмыгает носом? Скоро должны появиться эти бездельники рабочие, и я попрошу их вбить в стену гвоздь. Моя чудная новая «Анархия» должна висеть на самом видном месте.
Кейт не была голодна, и поэтому она поделилась своим сандвичем с задиристым семейством уток. Она отламывала куски булки и перебрасывала их, с плохой координацией и бестолково взмахивая рукой, через металлическую ограду на топкий берег озера, который истоптали и превратили в жижу большие перепончатые лапы.
— Иди отсюда, толстушка, — отчитывала Кейт самую крупную утку. — Это было не тебе, а той маленькой уточке. О черт! Промахнулась. Надеюсь, им можно есть тунца. Как ты думаешь?
— Я думаю, они едят почти все. Вряд ли они чрезмерно разборчивы в еде. — Джон засунул руки в карманы и откинулся на спинку скамьи — той конструкции из деревянных планок и ржавых железных завитков, что столь типична для общественных парков, — и уткнулся подбородком в шарф. Мелкие волны, с хлюпаньем набегавшие на берег, отбрасывали на его сосредоточенное лицо брызги света, что придавало его чертам особую прозрачность и тонкость. Казалось, он не мог смотреть на Кейт — может, оттого, что его все время что-то отвлекало (вероятно, золотистые косы плакучих ив), или потому, что он пытался справиться с эмоциями.
— Я спросила у продавца в закусочной: «А как ваши бутерброды с тунцом соотносятся с бережным отношением к дельфинам?», — рассказывала Кейт — просто, чтобы что-нибудь рассказывать. Только с Джоном она была женщиной во всех смыслах. В его обществе она становилась сочной блондинкой, к чьей сигарете мечтали поднести зажигалку все мужчины мира; она превращалась в знойную тициановскую красотку, которой всегда уступали место в метро и в автобусе. Внимательность Джона к Кейт заставляла ее быть внимательной к себе, отчего она порой чувствовала себя неловко и неестественно (она не знала, как относиться к этой новой, желанной персоне, которой она теперь стала), и в результате Кейт теперь не узнавала свой голос. — Он ответил: «Мадам, наши бутерброды весьма дружелюбны и вряд ли станут вредить дельфинам».
— Ты ведь не надеялась найти «зеленую» закусочную?
— Нет, конечно. Я даже рада, что бутерброды не зеленые. Но меня действительно беспокоит то, что вместе с тунцами в эти ужасные сети могут попасться и дельфины.
— Лично мне тунец никогда не нравился. Я люблю лосося. И желательно консервированного.
— Я знаю, так гораздо вкуснее — есть из банки, правда? Только я обычно не признаюсь в этом. Что о нас подумают? Что у нас грубые вкусы? Предполагается, что настоящее лакомство — это свежий лосось.
— В наше время их всех выращивают на фермах. Выросший в естественных условиях лосось совсем другой на вкус.
— О, я придумала для тебя вопрос. Тинда.
— Легко. Это молодой лосось, который провел на море только одну зиму.
— Надо будет еще раз съездить на море.
— Одинокое море и небо.
— А как называют половозрелых лососей?
— Тут я лох.
— Правильно.
— Что правильно?
— Они называются лохи. Теперь ты загадывай.
— Сейчас подумаю. — Джон дотянулся до руки Кейт, положил ее вместе со своей рукой в карман пальто и стал смотреть на то, как утки рисовали на холодной, будто застекленной картине неба остроносый треугольник. Добравшись до маленького, заросшего деревьями острова посередине озера, утки опустились на землю и деловито заходили взад-вперед вперевалочку, как старые толстые дамы, нагруженные покупками. — Ага, придумал. Пугри.
— Какое некрасивое слово. Это что-то съедобное?
— Абсолютно несъедобное.
— Я бы закричала, если бы увидела это?
— Вряд ли.
— Это такое животное?
— Нет.
— В этом можно жить?
— Ну-у… — Джон наморщил нос, сощурил глаза. — Можно так выразиться, в переносном смысле.
— Как, например?
— Допустим, можно было бы сказать: «Он практически жил в пугри».
— Но это не здание?
— Нет, это не здание. Все, ты задала свои пять вопросов.
— Не пять, а четыре. И один уточняющий.
Под влиянием неожиданного наплыва чувств Джон наклонился к Кейт и поцеловал ее мягкую щеку.
— Ты замерзла.
— Нет, ни капельки. — (Кейт почти никогда не мерзла. В ее теле всегда быстро бежала горячая кровь. Это он, худой мужчина, чувствовал холод до мозга костей.) — Я в порядке. Значит, ты это носишь?
— Лично я не ношу.
— Да, но в принципе мог бы.
— Мог бы. И выглядел бы в нем крайне привлекательно.
— Ага, значит, это «он», а не «она» и не «они». Это не обувь. И не брюки. Это шляпа?
— Близко к этому.
— Судя по названию, это что-то индийское. Это тюрбан?
— Угадала.
— Итак, у меня еще одно очко!
— Угу.
Вздохнув, она положила голову ему на плечо. Этот вариант игры в двадцать вопросов, в который они играли, был суррогатом, заменой других двадцати куда более насущных вопросов — например, что им делать, как, когда и где встречаться, — ответить на которые они не могли.
В этом странно пустом парке, где-то между ее домом и его, в самый глухой день недели, в самое глухое время года они, оба со странно пустыми головами, встретились, чтобы прийти к компромиссу. За их спинами скользили по дорожке сухие листья. У дальнего края газона незаметно для глаза гнила заброшенная эстрада. Где-то неподалеку какой-то мужчина свистел и подзывал к себе собаку по кличке Рыжий.
— Ребенком, — вспомнилось Кейт, — я мечтала иметь собаку. Но теперь я ни на кого не променяю своих Пушкина и Петал.
— Когда мне было девять лет, у меня был хомячок-песчанка — признался Джон. — Его звали Джерри. И я выпускал его в гостиной побегать. На ковре его почти не было видно — у нас был такой яркий, цветистый, бронзово-золотистый ковер, — особенно, когда он не двигался. Однажды я опустился на пол, чтобы поискать его под радиолой, и нечаянно придавил его коленом.
— С ним ничего не случилось?
— Разумеется, случилось. Я убил его.
— Как это ужасно. — Кейт представила себе потрясенного мальчика, легковозбудимого подростка в очках, и сочувственно сжала в кармане пальцы Джона.
— Я чувствовал себя убийцей. Нет, даже хуже, чем убийцей. Болваном. Бесполезным существом. И тогда мне все стало ясно. Я понял, какой будет вся моя жизнь. Я был таким неуклюжим, таким неумелым. И если я любил, то убивал. Моя мать всегда говорила: «Этот ребенок сведет меня в могилу». И потом она умерла. Четыре года я был убежден, что в этом был виноват я. Всем, к кому я чувствую привязанность, я приношу несчастье.
— Ох, что за глупости ты говоришь! — запротестовала Кейт и уткнулась головой ему в грудь. Его шарф из грубой материи колол ей щеку.
Когда Джон говорил, прижавшаяся к нему Кейт чувствовала, как слова, кипя, вырывались из его груди.
— Я боялся, что с тобой будет то же самое. Что я раздавлю тебя.
Кейт, взъерошенная и порозовевшая, подняла голову, чтобы поймать его взгляд.
— Как меня зовут? Мягкотелый моллюск? Надеюсь, что я все же более крепкая. Я уверена в этом. И я отвечаю за свои поступки. — Она прижала руку к сердцу — В этом деле я принимала решения в той же степени, что и ты.
— Как бы я хотел очутиться сейчас с тобой в постели, — сказал Джон низким голосом, за которым скрывались едва сдерживаемые эмоции и который вызвал в Кейт мгновенную физиологическую реакцию (ей показалось, что чья-то рука сжала ее внутренности).
— Мм, я тоже.
— Но что я хотел сказать тебе, Кейт, милая…
— Я знаю, что ты хочешь мне сказать. Но я не согласна. Ты не приносишь мне несчастье.
— Я так или иначе вынужден причинить кому-то боль. Если не Джеральдин, то тебе. Здорово я все устроил: теперь уж точно не промахнусь, в кого-нибудь да попаду. Чья-нибудь жизнь обязательно окажется разбитой.
— Ты не оставишь Джеральдин, — тихо и в сотый раз сказала Кейт. Ее собственная боль, рассуждала она, была неизбежна и не так уж незаслуженна. Да, болеть будет долго, но это можно будет вытерпеть. Если они не могли поступить порядочно, то должны были поступить порядочно хотя бы наполовину. Они должны были отказаться друг от друга, если не сегодня, то когда-нибудь потом.
— Но я создан для тебя, — сказал Джон, веря не в судьбу и не в Бога, а в то прекрасное, что зовется случаем и что свело их вместе.
— Ты женился не на той женщине, — размышляла Кейт, — а я в гораздо большей степени вышла замуж не за того мужчину. Удивительно, как простой эпизод в жизни может потребовать принятия какого-то решения, и следствием этого будет настоящая катастрофа. Дэвид — не проблема. А вот Джеральдин — проблема, потому что она не совсем «не та», и ты все еще любишь ее, и ваш брак не был таким уж плохим.
— Брак — это такое дикое понятие, если подумать, — сказал Джон, возвращая Кейт ее руку: он аккуратно положил ее Кейт на колени и погладил, а потом достал носовой платок. — Ведь брак в сущности, нереалистичен. Ты только представь, если бы мы так же связывали себя с друзьями. Представь, что нам пришлось бы обещать им любить их, и поддерживать их, и разделять их взгляды всю жизнь.
— Я бы определенно нарушила такое обещание. Для начала с Наоми.
— Бедная Наоми.
— Почему это она бедна? Она злобная, опасная сучка.
— Не будь такой, Кейт. У тебя от этого становится очень некрасивое лицо. Она эгоистична и растерянна. И очень печальна. Она всегда была печальной. Ей приходится очень трудно. Ты бы видела ее, когда она приезжала к нам. И бог весть, что с ней теперь стало. Джеральдин не получала от нее с тех пор ни единой весточки. И Элли тоже.
— Да, никто ничего о ней не слышал, — подтвердила Кейт, даже не пытаясь скрыть удовлетворение. Даже если бы Наоми Маркхем покинула планету Земля, то и тогда Кейт не сочла бы это слишком большим расстоянием.
— Ничего.
Джон не стал упоминать о деньгах, которые он одолжил Наоми (им с Кейт и так надо было о многом поговорить), и о том, что эти деньги, вопреки всем его ожиданиям, ему были быстро возвращены. Чек на всю сумму пришел месяц назад по почте, без письма или записки, на нем лишь было криво нацарапано одно слово: «Спасибо».
Не раскрыл Джон и секрета, который он узнал невольно и который теперь камнем лежал на его сердце. Последние недели он очень плохо спал, вот и в ту субботнюю ночь он выскользнул из кровати, намереваясь спуститься в кухню и налить себе виски с водой. Когда он осторожно пробирался по коридору к лестничной площадке, то до него донеслись… Нет, ему это не показалось. Он услышал, как Наоми и Дэвид занимались любовью.
В следующие два дня Наоми выглядела такой потерянной, что Джон начал волноваться за ее душевное здоровье. Ему казалось, что она была на грани психического срыва. «Одолжи мне пятьсот фунтов», — попросила она его, взглядом моля не задавать вопросов. И он услужливо достал чековую книжку. Как достойно он поступил. Как по-джентльменски.
Именно тогда он наконец понял, что должен сделать. Слишком много вокруг лжи, сказал он себе. И наконец он набрался решительности. Он скажет Джеральдин, что уходит. Он скажет все начистоту. Другого выхода не было. Хотя бы раз, в момент, когда это действительно важно, он будет честен по отношению к себе.
У нее была неоперабельная опухоль. Этот диагноз был поставлен в один миг, с помощью той интуиции, которая отличает одаренного врача от его или ее менее восприимчивых коллег. Пальцы Джеральдин, подлетевшие к тому месту на ее теле, казалось, сами знали, что и где они найдут. Осязая, нажимая, они таинственным образом могли понять и предугадать. Мягкая подушечка пальца ощущала что-то существенное, хотя и невидимое. В ванной Джеральдин тщетно всматривалась в зеркало, туманя стекло тревожным дыханием, но даже ничего не обнаружив — ни припухлости, ни покраснения, — она не усомнилась в своем диагнозе и со вздохом засунула пораженную болезнью грудь в эластичную сбрую.
Можно было бы обратиться к врачам, но зачем? Они тут же отправят ее в больницу, где ей придется подвергнуться унизительным тестам, а что это даст? Только уверенность в том, о чем она и так инстинктивно знала, и тогда это знание станет более реальным.
Сейчас же оно, ее знание, приходило и уходило: оно надвигалось на Джеральдин, расползалось перед ее глазами, а потом, отступая, сгущалось во что-то крошечное и очень плотное.
Внезапно ей вспомнились давно минувшие праздничные субботние вечера в доме Гарви. Она увидела отца, стоящего у кинопроектора; увидела, как конус света в синих облаках сигаретного дыма переносит на стену Дэвида в белой форме для игры в крикет, пухлую школьницу Джеральдин, Элеанор, изображающую Одри Хепберн, — мерцающую, подрагивающую, меняющуюся семью, существующую и несуществующую одновременно (иногда прямо сквозь их фигуры виден был дядя Сидней, выбирающийся из кресла и направляющийся к буфету, чтобы наполнить стакан).
Дядя Сидней до самой своей смерти оставался холостяком. По тому, как в семье произносилось это слово, дети Гарви догадывались, что холостяки — невезучие люди и что по отношению к дяде Сиднею следовало проявлять особое сочувствие и прощать его маленькие слабости. Более того, будучи единственным холостяком в кругу близких знакомых Джеральдин, дядя Сидней стал для нее прототипом. На всю жизнь у нее сложилось убеждение, что холостяки — Дэвид был единственным исключением — были жалкими толстяками, которые умели показывать фокусы с полукронами и забывали дернуть за цепочку, сходив в туалет. В противоположность холостякам женатые люди были счастливцами, и по сей день Джеральдин жалела одиноких подруг и осознавала свое преимущество.
Но не сегодня. Проблемы со здоровьем расстроили ее. Переполненная чувствами, с тяжелым сердцем, Джеральдин застегнула блузку и механически занялась домашними делами. Она срезала несколько неярких поздних георгинов, отбила стебли деревянным молотком, давая выход худшим своим эмоциям, и сунула неаккуратный букет в высокую желтую вазу. Она заложила в стиральную машину свое белье, которое, принимая желаемое за действительное, называла «мелочью». Она испекла пирог с яблоками из сада и небрежно посыпала его сахарной пудрой. Она как могла заполняла это женское время, ожидая, когда другие члены семьи станут возвращаться в Копперфилдс — в дом, благоухающий свежей выпечкой, гвоздикой и корицей, стиральным порошком и честными трудами хорошей жены.
До чего же несправедлива жизнь! Джеральдин была исполнительна, усердна, преданна. Она не сделала ничего, чтобы заслужить такую жестокую кару. И она была все еще такой молодой (насколько это в принципе возможно в случае с Джеральдин).
Ее отношения с Богом были не очень определенными. В настоящее время они напоминали старомодную, слишком долгую помолвку, которую, несмотря на ушедшие чувства и угасшую страсть, все же не расторгали из-за апатии, или из соображений приличия, или ради сохранения лица. Поэтому хотя Джеральдин и послала Ему немую и укоризненную молитву, подняв глаза к потолку и прижав костяшки пальцев ко рту, хотя она и призвала Его прислушаться к голосу разума, большой надежды на ответ она не испытывала.
В час дня, не находя успокоения, Джеральдин позвонила Джону на работу. И не типично было ли то, что не в какой-нибудь другой день, а именно сегодня он вышел поесть?
— И самое забавное, — говорила она миссис Слак часом позже, когда они уселись за чай с венскими рулетиками (при этом Джеральдин не имела в виду ничего особенно забавного, никаких там ха-ха; она не находила это ни подозрительным, ни смешным), — это то, что он почти никогда не выходит на обед. Обычно он довольствуется легким перекусом у себя в кабинете.
В ответ на это замечание миссис дю Слак с неожиданным и излишним с точки зрения Джеральдин жаром предложила десяток извинений и невинных объяснений, выдала целый залп причин, по которым занятой адвокат мог покинуть на некоторое время свой офис.
— Ну да, разумеется. — Джеральдин, пыхтя и кряхтя, вынуждена была встать на сторону мужа, поскольку в столь усердных попытках приходящей прислуги оправдать его отсутствие слышался намек на нечто безымянное. — Время от времени он должен ходить на обед с клиентами. В этом нет ничего странного. Просто обычно он этого не делает. Вот и все, что я хотела сказать.
Она откинулась на спинку стула, держа при себе свою ужасную тайну, флегматично жуя, превращая печенье у себя во рту в мякину, и позволила своему взгляду отправиться в неровный полет через окно к раскачивающимся верхушкам деревьев на далеком берегу. «Да, да», говорила она рассеянно и иногда вставляла «надо же!», вполуха прислушиваясь к исключительно неуместному рассказу миссис Слак о подруге подруги, которая знала женщину, чей муж содержал тайком вторую семью, детей и все такое, то есть вел двойную жизнь. Джеральдин сидела, крепко ухватившись за край стола; как точно фраза «трепещущий на ветру» описывала ее душевное состояние!
Признаться ли Джону в своих черных страхах? Он не был особенно полезен в критических ситуациях из-за своей некоторой отстраненности. Надо было учитывать, что он был профессиональным слушателем, беспристрастным, пассивным; иногда, когда она делилась с ним наиболее тревожащими ее проблемами, ей казалось, что он вот-вот возьмется за ручку и начнет делать записи. Но к кому еще она могла обратиться за поддержкой и утешением?
Да, конечно, у нее были подруги, но тут они не помогут. Элли будет слишком жесткой и решительной, от Кейт вообще никакого толка. Что касается Наоми… Где была эта Наоми? Она как будто сбежала — и к лучшему!
Джеральдин на время отложила свой смертельный недуг; ее мысли занялись куда более ужасным вопросом мисс Маркхем. Ну да, хорошо, когда-то Джеральдин самой казалось, что Дэвид и Наоми могли бы… но это было десятки лет назад. И это не означало, что сегодня Джеральдин допустит, чтобы в самом сердце ее семьи…
Джеральдин никому не шепнула о том, что знала. Даже воспоминание об этом было для нее оскорбительным. Описывать же это будет попросту невыносимо.
Каждую ночь она просыпалась раз, два, три, чтобы сбегать в туалет. И в ту субботнюю ночь в сентябре, когда к ним без приглашения заявилась Наоми, Джеральдин, проходя мимо двери розовой комнаты…
Как могли они заниматься здесь этим, ее брат и Наоми? Они ведь могли разбудить детей. Джеральдин и Джон всегда были крайне осторожны и исключительно предусмотрительны. В те дни, когда они еще занимались «этим», у них все происходило в полнейшей тишине; одним ухом они всегда прислушивались, не скрипнет ли половица, не заплачет ли проснувшийся малыш, не пройдет ли кто-нибудь по коридору. А такую свободу, такую развязность Джеральдин до той субботы и вообразить не могла.
Хорошо еще, что в их семье только она одна отличалась чутким сном. Для Люси, слишком наивной даже для своего возраста, и еще менее для Доминика с его нездоровыми увлечениями было бы очень вредно услышать то, что довелось услышать их матери.
Джеральдин никогда не отличалась особой сдержанностью на язык, но этим секретом она ни с кем не могла бы поделиться.
Обед не доставил того удовольствия, какого можно было бы от него ожидать. Почти час обсуждалось лицо Наоми Маркхем. Судя по всему, оно не долго будет оставаться ее лицом. Как только условия будут согласованы, контракты распечатаны, подписи поставлены, ее лицо станет лицом компании «Жюнесс». С телеэкранов, плакатов, глянцевых обложек модных журналов оно будет смотреть на Наоми с загадочной полуулыбкой человека, владеющего секретом («Что может сделать для тебя „Жюнесс"? Я знаю, — будет поддразнивать эта улыбка, — и ты тоже можешь узнать»).
Это должно было быть замечательным событием. Это и было замечательным событием. Наконец-то свершилось то, о чем она давно мечтала. Так откуда же это чувство пустоты и одиночества?
Сидя в светлом, ярком ресторане «Хальсион-отеля» (он лукаво назывался «Комната»), где мимо ходили актеры, модели, другие светские личности и оставляли после себя слабые, спутанные, перекрещивающиеся следы славы, Наоми пыталась сконцентрироваться на том, что ей говорили, старалась воспринять «концепцию» Питера Гарланда и в то же время думала: «Да. Ну и что?»
У Гарланда, исполнительного директора «Жюнесс Косметикс», было видение. Можно даже сказать, он прозрел. В этом эфемерном существе, сидящем напротив, он увидел воплощение «Жюнесс». Пусть компании-конкуренты используют юных цыпочек для рекламы своих волшебных рецептур; дух «Жюнесс» будет олицетворять Наоми, она понесет массам послание от «Жюнесс» о том, что юность — достояние не только очень молодых.
Ариадна сидела чопорно-прямая и нарезала краба крохотными кусочками. У нее был вид человека, который что-то напряженно подсчитывал. Вероятно, она прикидывала размер куска — то ли в буквальном смысле этого слова, то ли метафорически (сумму причитающегося агентству процента).
— Да? — произнесла Наоми с деланным интересом. Она ковыряла вилкой в деликатесных морепродуктах и шафранном ризотто, вылавливала креветки и задумчиво их жевала. Когда над ней склонился официант, чтобы подлить вина, она плотно прикрыла свой бокал ладонью и бросила на официанта теплый просящий взгляд, словно заручаясь его поддержкой. Сегодня был спрос на тех леди, которые мало пили и ели.
Опустив голову, Наоми украдкой рассматривала Гарланда через широкую гладь свежевыстиранной скатерти. Она видела мужчину сорока с чем-то лет, с серебристыми волосами, загорелого, одетого с агрессивной стильностью и аккуратностью. Она видела, как он отдернул свой накрахмаленный манжет, открыв золотой «Ролекс». Она видела, как он манерно снял со своего пиджака из темной шерсти случайную пушинку. Она видела человека, который сам себя сделал; люди, рожденные в богатстве, никогда не бывают столь безупречны, никогда не бывают так помешаны на стиле.
Но кроме всего этого она видела с поразительной ясностью, как все могло бы случиться. С легкостью, без протестов она могла бы опереться об эту руку, прислониться к этому широкому плечу.
Гарланд выбрал ее как мисс Жюнесс еще не видя саму Наоми, только ее фотографии. В вестибюле, пока Ариадна представляла их друг другу, пока он держал в ладонях ее руки, несколько бесконечно долгих секунд Наоми чувствовала на себе оценивающий взгляд его карих глаз. Потом, разведя ее руки в стороны и сложив их снова вместе, он сказал ей все: он не был разочарован. «Ну вот, снова начинается», — вяло, фаталистически отреагировала на это Наоми.
У него была яхта в Каннах, летний дом на зеленом холме посреди виноградников долины Напа, городской дом буквально в двух шагах от «Хальсион-отеля» («Моя придворная гостиница», — добродушно пошутил он). Наоми представила высокое, белое, оштукатуренное здание, несоразмерно маленькие верхний и нижний этажи и великолепные средние этажи, рюши и оборки из кованого железа и впечатляющий портик. Филиппинка в униформе встречает посетителей на крыльце и провожает в пахнущий цветами холл, из которого куда-то вверх уходят извилистые лестницы. Для торговцев наверняка существует отдельный вход, ведущий в полуподвал. Да, Наоми хорошо знала такие дома, время от времени она жила в них.
Можно сказать, что Наоми проделала долгий путь, потому что начинала она свою взрослую жизнь в арендованной квартирке в неопрятном, наспех перестроенном особняке, которую она делила с тремя подругами. Теперь это вспоминалось как шумное, веселое девичье хозяйство. («То были славные дни, мой друг. Мы думали, что они никогда не кончатся…»[58])
Если бы Наоми подняла сейчас голову, поймала бы взгляд Гарланда, включила бы все свое обаяние, то игра началась бы заново. Так ли уж плоха эта игра? Миссис Николс, Марджори, это альтер-эго Наоми Маркхем, не одобрила бы такого поведения. Но какого черта? Два-три года они с Гарландом были бы счастливы. Если не любовь, то нечто подобное влюбленности возникло бы между ними. Он бы носил ей подарки в коробочках с логотипом «Тиффани». Он бы назвал в ее честь одну из своих скаковых лошадей или — что было бы более уместно — одну из своих охотничьих собак. Он бы обращался с ней как со своим любимым домашним животным или ценным призом. Это значило бы, что ей опять не надо было бы думать. А ведь именно необходимость думать сводила ее сейчас с ума.
Наоми не собиралась становиться игрушкой богатого человека. Но в качестве мисс Жюнесс она и так будет принадлежать Гарланду. Он выбрал ее из многостраничного международного каталога красавиц на продажу. Он уже практически купил ее, оставалось лишь заключить контракт.
Гарланд потребовал принести шампанского и теперь просил, нет, настаивал, чтобы она хотя бы пригубила бокал в честь их будущего сотрудничества. Даже Ариадна, которая превыше всего ставила суровость, казалась смягчившейся (неужели это была — да нет, это невозможно! — улыбка?).
— Извините меня, я удалюсь на одну минуту… — Наоми схватила салфетку и неопределенно взмахнула ею. Поднявшись, она оглянулась вокруг в поисках какого-нибудь знака, подсказки, и «ее» официант, влюбленный, соблазненный ее взглядом, подскочил, чтобы проводить ее.
В туалетной комнате она оперлась о раковину, включила воду и подставила запястья под освежающую ледяную струю. Ее захлестывала паника, но почему?
Питер Гарланд? Кто он такой? Почему он представился полным именем? Претенциозная вычурность? Или для старых друзей он все же был просто Пит?
«Питер, Питер, тыкв любитель, он жены своей хранитель».
Жены у Питера сейчас не было, и, похоже, он вообще никогда не был женат. Он говорил о себе в единственном числе. Или его «я» было продиктовано все той же претенциозностью? А на самом деле в кругу знакомых он был «они»?
«Тыкву съел, а в кожуру он посадил свою жену».
Наоми понятия не имела, о чем был этот детский стишок, но сейчас он ее странно растревожил. Не хотелось бы ей оказаться в клетке из тыквы.
«Сейчас очень важный момент, — сказала она себе. — Мне вот-вот предложат целое состояние».
В туалетную комнату впорхнула актриса, знакомая по телеэкрану. Проходя в кабинку, она оглядела себя в зеркало. Ее отражение и отражение Наоми Маркхем, будто знакомые, вежливо кивнули друг другу, здороваясь.
«Я стану известной, — продолжала уговаривать себя Наоми. — Меня будут узнавать в общественных местах, у меня будут просить автограф».
И она представила себе огромный рекламный щит, на который наклеено ее многократно увеличенное лицо. Щит возвышается где-нибудь над трассой, возможно, рядом со сложной развязкой. Постер освещается снизу, как это часто делается; а может, в результате какого-то оптического явления фосфоресцирует в лучах заходящего солнца. Потом Наоми увидела, как мимо проезжает автобус, а в нем — держащийся за поручень силуэт, сильная, крепкая фигура Алекса Гарви. Ужас ситуации состоял в том, что мисс Жюнесс следила за передвижением Алекса, а он — он даже не заметил ее. Для него она была чужой.
Наоми провела пальцами по волосам и приблизилась к зеркалу — к себе, нос к носу, чтобы задать один вопрос: действительно ли это то, чего ей хочется?
Алекс, держа в поднятой руке сложенную банкноту, проложил себе дорогу к прилавку и, несмотря на толчею, был немедленно обслужен. Барменша с массой волос янтарного цвета и зелеными глазами заторопилась к нему, она изобразила для него особенно радушную улыбку («Не может быть ничего радостнее, — говорила ее улыбка, — чем налить такому парню пинту пива или бокал вина»).
С Алексом всегда было так: его не игнорировали, им не пренебрегали. Как официанты, так и официантки, бармены, продавцы — все тут же признавали его присутствие. Это происходило в основном благодаря его спокойной, уверенной манере поведения. Алексу никогда не приходилось слишком напрягаться в общении с людьми (излишнее напряжение в общении в принципе фатально).
— Вы пришли раньше меня, — с готовностью сказал Алекс стоящему рядом парню: у того был раздраженный вид человека, который, как всегда, вынужден был дожидаться своей очереди дольше, чем другие. Алекс не возражал против ожидания. Ему спешить было некуда.
Оперативно обслужив раздраженного парня, зеленоглазая барменша снова обернулась к Алексу — засветилась белыми зубами улыбка, вспыхнули глаза.
— Вы пока садитесь, — сказала она ему, принимая деньги за обед с сыром бри и французским хлебом и вином. — Я принесу вам ваш заказ. Где вас найти?
— Мы… — Алекс вытянул шею, выискивая взглядом, нашла ли его спутница свободный столик. Маленькая белая ладошка взметнулась в воздух и взмахом сообщила о триумфе. — Мы в алькове. Большое спасибо.
Сюзи недавно появилась в их студии — она проходила у них практику. Это была симпатичная светловолосая девушка, с приятной улыбкой, чувством юмора и откровенной, фантастически живой мимикой. «Яркая как пуговица» — такое описание подошло бы ей лучше всего. Алексу нравилась ее компания, но не более того.
— Заказ сейчас принесут, — объяснил он ей свои пустые руки. — Это не кафе, а сущий ад.
— Здесь противно воняет сыростью. — Сюзи принюхалась, сморщив нос.
— Подвал, никуда не денешься. — Алекс оглядел коричневатые стены, увешанные старинными фотографиями Лондона, высоких кораблей в доках, гужевых повозок, рыночных грузчиков, босоногих девчонок, торгующих спичками. Ностальгия по давно ушедшим временам нагоняла на него тоску.
— Я бы не пригласил тебя в это кафе, просто оно ближе всего к офису. В этом мраке я чувствую себя пьяным, не сделав и глотка. Ты не находишь?
— Мне вообще нельзя много пить, — хвастливо призналась Сюзи. — Один стакан — и меня можно брать тепленькую.
Пытаясь скрестить ноги, закинуть одну ногу на другую под приземистым деревянным столом, она склонилась вбок и почти вплотную придвинулась к Алексу. Ее волосы коснулись его лица, пощекотали его нос, Алекс вдохнул легкий, цветочный, женский запах. У него не осталось сомнений насчет того, кому можно было брать «тепленькую» Сюзи, и тем не менее ничего не почувствовал.
Как долго это будет продолжаться? Неужели он больше никогда не будет реагировать на привлекательных женщин? Казалось, что Наоми в каком-то смысле испортила его, отвратила его — возможно, навсегда — от женского пола. Другие женщины отныне были для него всего лишь голограммами, иллюзорными сущностями, не имевшими ни плоти, ни крови.
И в отношении Сюзи происходило то же самое. Он мог бы перечислить ее достоинства, он отлично понимал — умом, не телом, что в ней было что возжелать. Но ничто не действовало на него, ничто не трогало. Ни в ком не видел он загадочности Наоми. Она одна могла оживить его нервные окончания. Даже теперь, при одной мысли о ней, он испытывал физическое волнение, от которого, бывало, сгибался пополам.
— Кому бри? — спросила зеленоглазая официантка, подойдя к столу, переводя взгляд с него на Сюзи.
— Нам обоим, — быстро ответила Сюзи и протянула руку к тарелке. — Мы взяли одну порцию на двоих. Спасибо.
— Пожалуйста. — Алексу представилась возможность увидеть ложбинку на груди официантки, и перед ним появился бокал с вином.
На него вдруг навалилась такая усталость, что он готов был рухнуть на каменный пол, прямо в месиво из опилок и окурков. Возбужденный мозг не давал ему спать по ночам. Но толчок локтем под ребра вернул Алекса к действительности.
— По-моему, ты ей нравишься, — прошептала Сюзи, искрясь ямочками, и кивком указала на удаляющуюся барменшу.
— Да? — Алекс сделал глоток из своего бокала и скорчил гримасу: — Фу, какая гадость!
— Угу. — Сюзи в свою очередь попробовала вино. — Да, я — чудо одного стакана.
Вопрос по-прежнему требовал ответа: что делать и делать ли что-либо вообще? Своего поражения Алекс не мог признать, хотя и пробовал смириться с мыслью, что его отвергли. Но концы с концами не сходились. Он был уверен, что все было не так, как ему пытались представить.
Его гордость, его здравый смысл говорили ему: оставь все, забудь. Но над Алексом не властны были ни гордость, ни здравый смысл. Если бы Наоми была холодной, отстраненной, то тогда Алекс увидел бы, что больше не нужен. Но она, напротив, казалась обезумевшей от горя. Как это можно объяснить?
— …Понравилось бы, — говорила ему тем временем Сюзи.
— Прости, что?
— Та вечеринка. В «Ангаре». В субботу. Я бы советовала тебе сходить.
— А, спасибо. — Алекс снова отпил вина. Удивительно, как привязчив этот отвратительный вкус. — Боюсь, я не смогу пойти в эти выходные. — И в следующие, мог бы он добавить. И в любые другие выходные. Он попросту не был свободен, чтобы ходить на свидания. Его сердце было занято.
В это серое время года Лондон был очень нетребовательным городом. Он почти ничего не брал от горожан и приезжих, но и взамен мало что давал. Истощенный летним наплывом туристов, притихших перед рождественским сумасшествием, город бесцельно расползался в стороны в затхлом, многократно использованном воздухе. Парки не могли похвастаться великолепием, которое они приобретали в весеннюю пору, или в лунном свете, или когда иней серебрил их лужайки и газоны. Любители прогулок покидали парки толпами. Стулья и шезлонги были сложены и убраны до следующего сезона. Такси выстраивались в очереди на стоянках или курсировали по улицам с оптимистичным оранжевым огоньком «Свободно». Только самые бессовестные магазины посмели так рано начать ежегодную эксплуатацию праздничного настроения. Поэтому по тротуарам было возможно передвигаться относительно спокойно.
Целеустремленно шагая, Наоми оставила за спиной не меньше мили, прежде чем решилась сбавить скорость. К этому моменту они наверняка хватились ее. Сейчас они, должно быть, расспрашивают администраторов ресторана, обслуживающий персонал, друг друга. Через пять минут после ее ухода они ничего не заподозрили (красивым женщинам требуется время на прихорашивание). Через десять минут Питер Гарланд украдкой сверился с блестящим «Ролексом», а Ариадна — с пунктуальными маленькими «Картье». Разговор за столом, наверное, все чаще прерывался; они продолжали беседу рассеянно и натянуто, а в их головы уже закрадывались темные подозрения. Наркотики, делали они вывод, психическая нестабильность, булимия (что еще можно делать в туалете столько времени? Только колоться, глотать лекарства или вызывать рвоту).
В конце концов Ариадна пробормотала: «Прошу прощения» — и отправилась на поиски своей удивительно плавной походкой, будто катясь на роликах, не глядя ни вправо, ни влево, а только строго перед собой.
— Контракту крышка, — счастливо произнесла вслух Наоми. А затем, от избытка чувств, обратилась к ничего не подозревающему прохожему: — Значит, с этим все. Конец мечтам о славе и богатстве. Наконец-то вырвалась на волю; никогда раньше не чувствовала себя такой свободной.
Не имея в голове ни пункта назначения, ни карты, примерно через час Наоми очутилась на Оксфорд-стрит. С тех пор как она перестала бывать здесь, улица превратилась в смешение состояний: более важных и сдержанных возле Марбл-Арч, более дешевых и жизнерадостных по мере приближения к Тоттнем-Корт-роуд.
Где-то посреди Оксфорд-сёркус она остановилась, чтобы купить у уличного торговца газету в пользу бездомных, и ее внимание привлекли раздраженные, с размытыми лицами пассажиры подземки, поднимающиеся на поверхность из туннеля, куда их принесли поезда из различных точек на севере, юге, востоке и западе. Сколько лет прошло с тех пор, как она в последний раз проехала на метро? Когда в последний раз она садилась в автобус?
Наоми вдруг привело в восхищение то, как функционировала столица: общественный транспорт жил по каким-то своим законам, из пункта А в пункт Б добирались люди. А как хорошо они знали магазины! Они четко знали, чем отличалась одна торговая сеть от другой, мгновенно определяли соотношение цены и качества любого товара на уровне, едва доступном пониманию Наоми.
Идти мимо открытых дверей магазина означало проходить сквозь стены громкой рок-музыки. Там и тут прямо на улице перед магазинами стояли вешалки с одеждой, вынуждая пешеходов обходить их. Входящих в магазин встречала не уважительная тишина, а мужчина в униформе с недоверчивым и подозрительным взглядом.
С некоторой робостью, чувствуя себя чужой, Наоми позволила распахнутым дверям затянуть себя в суетливые внутренности одного из магазинчиков одежды. Там она потратила несколько секунд на то, чтобы изучить, что делают остальные посетители, а потом, смущаясь, стала копировать их. То есть она с безразличным видом ходила между многочисленными рядами платьев и блузок, вытаскивала время от времени вешалки с приглянувшимися вещами, прикладывала их к себе, склоняла голову так и эдак, жевала губы, оценивая качество изделий. В какой-то момент Наоми оказалась слишком близко к выходу и застыла в испуге, когда из-за нее сработала хитроумная система безопасности и заголосил электрический звонок.
Примерочные комнаты не предоставляли ни места, ни уединения, их заполняли порхающие локти и химический аромат дезодорантов. Скромные и вежливые сотрудницы магазина не умоляли Наоми позвать их, если понадобится помощь. Серое платье, которое она надела на себя, было сшито из какой-то грубой ткани, оно не было искусно скроено, не было аккуратно пошито, как кроились и шились платья от дизайнеров. Но какого черта! Смотрелось оно не так уж плохо. Правда, сквозь ткань проступали тазовые кости — как упрек ей за излишнюю потерю веса, но в этом не было вины производителя. А вот цена на этикетке стала настоящим откровением.
— Я бы хотела в этом уйти, — обратилась Наоми к девушке, чьей работой, похоже, было надзирать за процессом примерки.
Сначала за платье надо заплатить, равнодушно сообщила девушка. Снять защитные тэги. Она была необыкновенно красивой, эта молодая продавщица, примерно того же роста, что и Наоми, и тех же размеров, но в ней ощущалось больше силы и энергии. Она была чернокожей, а точнее, размышляла Наоми, с завистью разглядывая глянцевые щеки, золотистокожей. Белая кожа никогда не бывает такой великолепной, думала она.
Наоми присоединилась к шаркающей ногами очереди и, расставшись со смехотворно малой суммой, получила свое платье обратно — небрежно свернутое и уложенное в пакет.
Бормоча смиренные извинения за свое странное поведение и невнятные объяснения, она снова скользнула в примерочную и торопливо натянула на себя новое платье.
Клетчатая юбка от Феррагамо и черный свитер отправились в пакет. Золотистокожей девушке не хватило бы и месячной зарплаты, чтобы купить такие наряды.
— Держите, — сказала Наоми, выходя из-за занавески, встрепанная после переодеваний. Она сунула в руки опешившей продавщицы пакет со своими вещами и выбежала из магазина.
Если бы кто-нибудь спросил у Наоми Маркхем, как добраться от Оксфорд-стрит до Фулхема, то она ответила бы: «Солнышко, возьми такси». Теперь она еще смогла бы добавить: «Или сядь на электричку линии «Виктория», на Виктория-стэйшн пересядь на линию «Дистрикт» (Уимблдонской ветки) и поезжай до станции Фулхем-Бродвей. Это просто».
В наступившей темноте Алекс сначала не мог разобрать, что за сумки или пакеты были свалены на ступеньках перед входом в его дом. Однако, сделав шаг назад, забрав с собой свою тень, пропустив вперед луч грязно-желтого света от уличного фонаря, он увидел, что на его неуютном крыльце скорчилась человеческая фигура. А приглядевшись поближе, увидев молочную кожу, блестящие белки глаз, он понял.
И он ощутил даже не боль, а мощный удар, оглушительный взрыв эмоций в груди, от которого у него перехватило дыхание. Но придя в себя немного, он спросил небрежным тоном, голосом, который дрожал лишь самую малость:
— И что ты здесь делаешь?
Как долго она ждала? Наоми не могла бы сказать. Казалось, темнота уже несколько часов назад выползла из щелей в асфальте, медленно вскарабкалась вверх по стенам, но небо было светлым до последнего мгновения. Она промерзла до костей (лондонские парки могут-таки проснуться в великолепной глазури инея). Или это от страха зубы так звонко стучали у нее внутри черепа?
Она страшилась его прихода — страшилась больше, чем если бы он вообще не появился. Может, он встречается с кем-то — с какой-нибудь юной девочкой. Может, он вернется очень нескоро. А может, он придет вместе со своей новой девушкой. И как тогда Наоми будет выглядеть, сидя на крыльце под дверью? Какой жалкий вид у нее тогда будет!
Наоми была очень хороша в том, что теперь называется «самый неблагоприятный сценарий»: она мастерски придумывала наиболее плачевные варианты развития событий. И так живо стояла перед ее глазами нарисованная ею же картина, в которой Алекс склонялся над ней и смеялся, держа руку на плече восемнадцатилетней красавицы, что когда он действительно появился, то Наоми забилась в угол и не могла произнести ни слова.
Потом она пришла в себя и произнесла, заимствуя у Алекса нейтральный, разговорный тон, хотя это и потребовало определенного напряжения голосовых связок:
— Мне предложили работу. Я хотела, чтобы ты знал.
— Что-нибудь хорошее?
— Ну, как сказать… Для начала двести тысяч.
— А, понятно.
— Я отказалась.
— Что ж, наверное, ты поступила правильно. Э-э… так что ты тут делаешь, Наоми?
— Я только подумала… — Она протянула руку, и Алекс услужливо помог ей встать на ноги. Их разделяло всего несколько дюймов, ее лицо было поднято к его лицу. Его дыхание обвевало ее щеки, а она всматривалась в его черты, ища указание на его чувства, и она могла бы умереть, просто умереть от любви к нему. — Я почувствовала, — говорила она, а слезы делали ужасные вещи с ее тушью. — То есть мне показалось, что это было бы единственно верно. Я вспомнила, что тот кирпич для курицы был подарен нам обоим.
Глава одиннадцатая
— Приезжай-ка ты на Новый год ко мне, — решила Элли, проглатывая очередной пончик и слизывая кристаллы сахара с пальцев, — ты, несчастная, одинокая, доведенная до отчаяния женщина. Мы не можем допустить, чтобы ты куксилась дома одна, никому не нужная, под бой часов. «Побольше кружки приготовь и доверху налей» — а, что ты на это скажешь? «Мы пьем за старую любовь, за дружбу прежних дней!»[59] И устроим танцы под звон курантов «Биг Бена».
— Я не одинокая, — возразила Кейт, которая раздраженно слонялась по комнате. Наконец она плюхнулась на диван, потянулась к заварному чайнику, но тут же отпрянула при виде собственного большеносого, угрюмого лица, отразившегося на шоколадной глазури чайника. — И не собираюсь впадать в отчаяние, хотя все равно спасибо. Все эти новогодние мероприятия — абсолютная бессмыслица. Очередная выдумка, чтобы не так грустно было жить, если хочешь знать мое искреннее мнение.
— Не хочу. У меня достаточно своих мнений, искренних и не очень. Некоторые даже считают, что у меня их слишком много. Нет, мы организуем классную вечеринку, — продолжала Элли, отмахиваясь от возражений Кейт. — И вообще, я думаю пригласить всю нашу компашку. Старых приятельниц. Это будет ночь сближения, закапывания топоров войны. И заодно отметим мое новоселье, это ведь первая гулянка в Шлосс-Шарп со времени ремонта. Может, стоит пригласить и моего горе-уборщика Тревора. Пусть он и не очень привлекателен с дерматологической точки зрения и не может похвастаться художественным талантом (ему бы придерживаться более авангардного направления — делать гипсовые слепки дыр, проделанных мочой в снегу, например, — а не упрямо изводить краски), зато новосельем я обязана именно ему.
— Бедный Тревор, — с чувством проговорила Кейт, — ты никак не можешь простить его.
— Ерунда. Все давно забыто и прощено. Подумаешь, небольшой пожар. Кроме того, юный Покок оказал мне огромную услугу, правда сам того не зная. Он, образно говоря, дал мне наводку.
— Дал — что? Эй, Элли, что ты сейчас сказала? Про нашу «компашку»? Ты ведь не собираешься…
— Разумеется, собираюсь. Позову всю нашу старую компанию. Горстов, да. И Алекса с Наоми.
— Тогда на меня не рассчитывай. Я просто не могу. Ты и сама должна понимать, — умоляла Кейт. В этом-то вся проблема с Элли Шарп и состоит, гневно думала она про себя, ее лучшие свойства являются ее же худшими качествами (или наоборот?). Порою трудно бывает отличить ее добрые намерения от не самых добрых. — У меня до сих пор в голове не укладывается, неужели они снова сошлись? Бессмыслица какая-то. Я была уверена, что у него уже прошло это наваждение. Я так надеялась, что все пойдет как надо.
— А я не могу поверить, что ты сих пор трахаешься с Джоном.
— Прошу тебя, выбирай выражения, — поморщилась Кейт.
— Какие выражения? Хотя, должна признать, немного секса после двадцати лет целомудрия тебе пошло на пользу.
— С чего ты взяла, что я была целомудренна? — от негодования Кейт буквально потрескивала.
— Да ты же сама мне сказала. Ты поделилась этим со мной в своей откровенной, задушевной манере. Ты сказала: «Элли, я прожила жизнь богобоязненной монашки».
— Ничего подобного!
— Ну, может, ты сформулировала это слегка по-другому. Тем не менее ты дала мне понять, что у монахинь ордена кларисок больше развлечений, чем у тебя. Урсулинки по сравнению с тобой ведут просто разгульную жизнь. Но я бы и так увидела разницу, ты так изменилась со времени своей интрижки с Джоном. Ты вся лучишься довольством, прямо-таки светишься в темноте. И помолодела лет на десять. Раньше ты выглядела, скажем прямо, как пожилое чучело. Теперь другое дело. У тебя даже волосы стали блестеть. Должно быть, это из-за спермы.
— Из-за чего? О, Элли, в самом деле!
— Итак, решено. Новый год встречаем у меня. Устроим праздник на целую ночь. Вы, миссис Гарви, тоже приглашены, и никаких отказов. В конце года мы избавимся от всех обид и печалей. Так, раз уж мы об этом заговорили, а как ты будешь отмечать Рождество? А, знаю! Будешь терзаться и страдать в одиночестве.
— Я буду вполне счастлива.
— Ну, разумеется. И зажаришь себе индейку, да? С начинкой и гарниром? Или для твоей уединенной трапезы подойдет более скромная птица? Я слышала, что бекасы очень вкусны.
— Ты у нас известный эксперт по отстрелу дичи.
— Пиф-паф! Ты убита!
— Отстань от меня, Элли, слышишь?
— Нет, не отстану, потому что меня это волнует. — Элли вдруг крайне обеспокоилась участью своей подруги, а также участью ее сестер по несчастью, попавшихся на удочку мужчин. Ее обуяла ярость. — Получается, такова доля любовниц — в праздники сидеть дома одной, да? Рождество, день рождения, банковские каникулы, — а «другая женщина» моет голову. День святого Валентина, День святого Суизина, День избиения младенцев и Обрезание Господне, — а она плачет над тарелкой супа из пакетика. Вознесение, Успение, День независимости, — она ждет телефонного звонка. День матери, День отца, Троица, Вербное воскресенье, Национальный день борьбы с курением, — она сидит с терпением памятника и улыбается своим страданиям.
— Пусть будет по-твоему, — сказала Кейт со вздохом, покорно смиряясь с правдой и заодно с потерянным утром.
Элли заявилась без предупреждения полчаса назад с пакетом выпечки для «второго завтрака», как она выразилась. Кейт уже собиралась выходить, но Элли поймала ее на крыльце, развернула обратно и предложила наесться до отвала. Этим она сейчас и занималась, а в перерывах между булочками отчитывала Кейт за то, что та не очень-то налегала на принесенное угощение. Элли была в отличной форме, из нее била энергия, она излучала не свойственное ей доброжелательство, поэтому Кейт рискнула спросить:
— Как работа?
— Работа? Да как обычно, все в порядке.
— Но мне казалось, что у тебя были… то есть, насколько я поняла, тебя пытались…
— Небольшая проблема локального характера. Ничего такого, с чем бы я не справилась. — Блестящими от жира и сахара пальцами Элли отмела идею о своей неспособности противостоять трудностям, потом втянула носом воздух и шумно выдохнула: — К Рождеству все закончится, как говорили про американскую войну за независимость.
— Где-то я уже это слышала. Кстати о «другой женщине»: как твои дела с Мартином Керраном?
— Батюшки, что за древнюю историю ты вспомнила! Финито. И обращаю твое внимание на то, что никто не пострадал. Потому что мы не были влюблены, понимаешь? Все наши проблемы из-за любви, а не из-за секса. Именно из-за любви и твои проблемы, если хочешь знать мое мнение.
— Не хочу. Я совсем не хочу знать твое мнение, Элли. — Кейт съехала с дивана на пол, стащив вместе с собой диванную подушку, и уныло оглядела комнату. В последнее время она периодически видела свой дом другими глазами. Раньше она любила его за достаточность, но теперь вдруг почувствовала, что для дома, как и для человека, одной лишь достаточности было недостаточно, как ни парадоксально это звучало.
Планировка и дизайн дома номер двадцать восемь стали казаться ей скудными, жалкими. Архитектор, должно быть, предвидел — или может, он так сам решил, — что по этому адресу никогда не будут жить по-настоящему исключительные люди. И он искусно подчинил этому решению будущих жильцов. Они никогда не возвысятся. Они будут знать свое место. Все в доме было совершенно убогих размеров, и так вышло не случайно, а было следствием злого умысла того архитектора. Ну а бесплатное приложение в виде глупого балкончика на фронтоне, эта бессмысленная железная мишура, несомненно, была чистой воды издевательством с его стороны.
В том же ключе Кейт пересматривала и свою жизнь, которая теперь тоже выглядела мелкой и ничтожной. Два ее самых больших приключения — беременность до замужества и роман с родственником и к тому же мужем ее подруги — уже выглядели не пикантными или дерзкими, а просто банальными. Банальной была и ее любовь к Джону, и да, именно эта любовь была сутью ее романа, хотя Кейт не собиралась признаваться в этом Элли.
— Кроме того, — добавила Кейт, отскребая обгрызенным ногтем засохшее пятно соуса с рубашки, — я, может, уеду куда-нибудь на Рождество. Или вообще уеду. Из Лондона. Лондон мне ужасно надоел, по правде говоря.
— Если человек устал от Лондона, — проницательно заметила Элли, — это значит, что он устал от Лондона. И куда же ты планируешь уехать?
— Не знаю. — Кейт пожала плечами, защищаясь. — Может, во Францию. Там я смогу найти работу.
— В декабре? Какую, например? Сбор крыжовника? Ты несешь полную ерунду, моя дорогая Кейт. На самом деле ты не собираешься свалить за границу, так ведь? Или ты хочешь сбежать от проблем? Так это тебе не поможет, потому что свои проблемы ты увезешь с собой, милочка.
— Это не так. Проблемы я оставлю здесь. По крайней мере, я оставлю Джона, и он сможет спокойно жить.
— А он хочет жить «спокойно», как ты выразилась? Мне казалось, что он хочет жить с тобой. Он хочет оставить Джеральдин. Разве не так?
— Но этого не хочу я. То есть хочу, но…
— Но не можешь справиться с чувством вины.
— Цена слишком высока. Я не хочу нести ответственность за разрушенные жизни нескольких человек: и Джеральдин, и ее детей. Потому что на них это обязательно скажется, особенно на Люси. Она такая ранимая.
— Они переживут, — сказала Элли, не проникшись резонами Кейт. — Знаешь, в чем твоя беда? Ты — моральный трус.
— О да, полностью согласна. Да, Элли, так в чем же дело? Что-нибудь случилось? По какому поводу ты приехала? Мне ведь час назад надо было быть на работе.
— Браки распадаются. Один из трех, по последним подсчетам. Это происходит сплошь и рядом.
— Я договаривалась с Джанет на половину десятого.
— Зачем? В такую мерзкую погоду в саду нечего делать.
— Как раз наоборот, сейчас самое время, пока все живое спит, заложить новые клумбы и бордюры. И мне надо было кое-что посеять. И обрезать кусты. И вообще мне нужны деньги.
— Как это ужасно, что тебе приходиться жить в таких стесненных обстоятельствах.
— Ничего подобного. У меня не стесненные обстоятельства. Я просто зарабатываю, как и все остальные, вот и все.
— А вот мне платят сумасшедшие деньги почти ни за что: за то, что раз в две недели я крашу ногти на ногах. В этом смысле мне будет очень стыдно видеть, как покинет нас эта Дон.
— Так она уходит? — удивилась Кейт.
— Ага. И очень скоро, — уверила ее Элли.
— И как она к этому относится?
— О, она еще не знает. Для нее это будет сюрпризом. Мой рождественский подарочек.
— Что-то я не понимаю.
— Конечно. Ты и не поймешь. Слушай, ты не хочешь эту последнюю плюшку? Жаль ее выкидывать, придется съесть, хотя я знаю, что она отправится прямо на мои бедра. Кстати, я где-то прочитала, что сахар очень помогает от приступов паники. Кейт, как только почувствуешь панику, тут же набивай рот пирожными.
— На самом деле я не очень люблю сладкое. И поэтому мне, в отличие от тебя, не приходится придумывать себе оправдания.
— Как тебе будет угодно. — Элли повертела плюшку в руках, рассматривая ее, вглядываясь в ее смородиновые глазки. — Наверное, я могла бы уйти от них, потребовав компенсации. Да-а, вот бы они разорились! Я бы подогнала к кассе мебельный фургон, загрузила бы трофеи и удалилась в направлении заката. Но если приходится выбирать между сумкой Фортуната[60] и удовлетворением от вида Дон, собирающей свои пожитки в черный мешок для мусора, то выбор однозначен.
— Ты так уверена?! — поразилась Кейт.
— Да, все это решено и определено. Ну или почти. Подробности услышите позднее. При нашей следующей встрече. Только вряд ли мы увидимся до Нового года. У меня как раз начался сумасшедший водоворот вечеринок. Слушай, Кейт, я бы рада остаться на весь день и предоставить в твое распоряжение оба свои уха, чтобы ты могла излить мне свои беды и печали, но к двенадцати мне надо быть в офисе.
Кейт уже открыла рот, чтобы возразить против такого злостного искажения фактов, но слов, соответствующих случаю, не нашлось, и рот пришлось захлопнуть.
— Ты бы прислушалась к тому, что я тебе говорю, — выдала последнее наставление Элли, оборачиваясь, сопротивляясь Кейт, выпроваживающей ее на крыльцо. — Не усложняй. Получай удовольствие. Не давай воли чувствам. До тех пор пока ты все держишь под контролем, нет никакой нужды прекращать отношения с Джоном, ты согласна? Так, мне надо бежать. Пока. Веди себя хорошо. И не делай ничего, что не стала бы делать Элли.
Три минуты — это почти ничто, если ты опаздываешь на поезд. Этого времени едва достаточно на то, чтобы сварить перепелиное яйцо. Трехминутный секс не доставил бы большого удовлетворения, закончившись, едва успев начаться. За три минуты никто не сумел бы пробежать милю… кажется. И все же три минуты ожидания, когда произойдет химическая реакция, сто восемьдесят секунд наблюдения за «окошком результата» (станет ли оно фиолетовым, не перевернется ли вся твоя жизнь) — это поистине бесконечно, мучительно долго.
Наоми учащенно дышала, вчитываясь в листок с инструкциями. Требование подержать абсорбирующую полоску в моче в течение десяти секунд вызывало у нее отвращение. Потом влажную полоску надо было вынуть и ждать, барабаня пальцами по краю раковины, ждать, пока истечет положенное время. Наоми оглядела крохотную ванную, попробовала отвлечься, но ее внимание неизбежно возвращалось к тесту, к волшебной палочке, которая внезапно — да, как по волшебству — стала менять цвет. Фиолетовая черточка расползлась, вылезла за границы «окошка результата» и, как и было обещано в инструкции, достигла отметки «положительный результат». Кровь прилила к лицу Наоми, и она почувствовала, что тоже изменилась в цвете.
В ее моче в некотором количестве присутствовал хорионический гонадотропин, если потемневшая полоска говорила правду. Другими словами, Наоми была в интересном положении. Ей надуло ветром. В самом конце ее репродуктивного периода ее печка испекла булочку.
«Кому я могу позвонить, — спрашивала сама у себя инструкция, — если у меня есть вопросы?» И тут же давала себе ответ: Сюзан Скотт из гинекологической исследовательской лаборатории в Фолкстоуне, Кент, в рабочее время.
Сюзан Скотт? Неужели существовала реальная женщина с таким именем? Наоми оно казалось искусственным, придуманным специально, чтобы вызвать у звонящих ассоциации с квалифицированной, чуткой женщиной неопределенного возраста. Вероятно, роль Сюзан Скотт играл целый департамент. Или команда. Ею был тот, кто оказывался рядом с телефоном, когда раздавался звонок. Может быть, у них в исследовательской лаборатории висело расписание: сегодня очередь Карлины играть роль Сюзан, завтра — очередь Тасмин, послезавтра — Фионы.
И даже если эта Сюзан Скотт была конкретным человеком, чем бы могла она помочь Наоми Маркхем, которая ожидала ребенка то ли от своего юного любовника, то ли от его гнусного отца? Какое утешение или совет могла предложить Сюзан Скотт очень-очень плохой женщине, которая имела сексуальный контакт с двумя Гарви, отцом и сыном?
Наоми теперь узнавала ребенка. Он — да, непременно он — как будто всегда был внутри нее, в одном из уголков ее мозга, как понятие, как идея в форме младенца. Будучи молодой женщиной, двадцати — двадцати с небольшим лет, она предполагала, что однажды с ней случится материнство, так же, как случается средний возраст, но это произойдет не с ней, а с другой Наоми, которой она пока не знает. И еще она думала, что к тому времени она будет жить в доме, очень похожем на дом ее матери: в старинном здании с лабиринтом комнат, с центральной лестницей, ведущей из передней в два разных крыла, и с узкой, кривой черной лестницей в кухне, с огородом и садом, с садовником по имени Нельсон и с буйными зарослями дикого винограда, покрывающими весь фасад. А сама Наоми превратится в респектабельную замужнюю даму (ей смутно виделась безликая пара — она сама и ее спутник жизни, похожие на сахарных жениха и невесту со свадебного пирога), в настоящую помещицу с парой собак, предпочтительно далматинцев. Она представляла, как та, другая Наоми будет носить туфли на низком каблуке, строгие пиджаки, «Гортекс», жилеты и юбки с встречными складками, она представляла себя повзрослевшей и приспособившейся к жизни.
Но годы шли, а этого все не случалось. Наоми так и не вышла замуж, не повзрослела, она не носила «Гортекс» и все еще не приспособилась к этой жизни. И тогда воображаемый ребенок был убран куда-то в подсознание и забыт. Причем забыт настолько, что само его существование стало казаться невозможным, и Наоми постепенно становилась все менее и менее аккуратной в отношении мер предосторожности и то поленившись, то в пылу страсти не вставляла колпачок (из всех средств контрацепции она могла пользоваться только колпачком). С Алексом это воспринималось как сладчайший риск. Ну а к встрече с Дэвидом она просто оказалась неподготовленной.
— Алексу будет приятно, — произнесла Наоми вслух, однако слово «приятно» не совсем ей понравилось. Будет вне себя от радости? И такая формулировка не подходила. В ней было что-то от бульварной прессы, она вызывала ассоциации с теми «чудо-младенцами», которые родились вопреки всевозможным невзгодам и чьи преданные родители неизменно говорили, что «они вне себя от радости». Возможно, что точного слова, чтобы описать то, что почувствует Алекс, не существовало. Наоми точно знала: это будет такое большое и такое богатое чувство, что его нельзя будет понять и объять все сразу.
Это-то и было хуже всего, этот ужасный обман. Потому что как ни называй чувство Алекса — радостью ли, удовольствием, в основе его будет лежать предположение, что ребенок от него. Но уверенности в этом не было. Ребенок мог быть и от… Наоми не сразу осознала это. Возможные последствия привели ее в ужас, она схватилась за край раковины и прижалась лицом к холодному фаянсу. Малыш может оказаться братом Алекса. Или его сестрой. Нет, не сестрой. И кто бы ни был отцом ребенка, он вырастет похожим на Алекса, и Алекс может так никогда и не узнать правду. Да и она тоже.
Даже Наоми, не очень сильно разбирающаяся в этических вопросах, догадывалась, что ее дилемма была слишком сложна, слишком запутанна и для достойной, многоопытной Сюзан Скотт.
При ближайшем рассмотрении оказалось, что раковина была грязной; сливное отверстие шептало что-то непристойное о водопроводных трубах. В ожидании, пока пройдет тошнота, Наоми прикидывала, не будет ли иметь терапевтического эффекта легкая уборка или немного работы по хозяйству.
Потом она задумалась о прерывании беременности. Может, прекратить все прямо сейчас? Решить все проблемы разом? Нет, ей не вынести потери ребенка Алекса. Этот ребенок должен быть рожден. Ее ребенок. «Из двух неправд не слагается истина», — убеждая себя, проговорила Наоми в резонирующий фаянс.
Более того, интуитивно Наоми знала, что эта ее беременность — первая и последняя в ее жизни. Это нежданное, неожиданное событие превосходило все надежды, оно лежало в области самых несбыточных желаний.
Наоми со стоном выпрямилась, дрожащими руками уложила использованный тест обратно в пластиковую упаковку и затем в коробку. «Узнай сегодня», — побуждала ее надпись на коробке, и Наоми, грешная, узнала. Она могла бы избавиться от улики, выбросить ее в мусор, но от реальности не избавишься.
В вопросе определения отцовства неоценимую помощь могла бы оказать простая арифметика. Надо только вспомнить дату наступления последних месячных и все такое. Она пропустила… сколько? Два цикла? Три? Наоми была такой хрупкой, весила так мало, что менструация была для нее нерегулярным явлением, не подчиняющимся никаким графикам и циклам. И вообще, будет лучше, если правда останется не узнанной (разумеется, это зависело — о, какая ирония! — от того, какова эта правда).
Наоми прижала кончики пальцев ко лбу, закрыла глаза, словно пыталась этими внешними проявлениями мыслительного процесса стимулировать собственно мыслительный процесс. Бесполезно. Ее мозг ничего не мог ей предложить. В этот момент она была способна только на физическую реакцию; ее тело, с секретным грузом, с новой жизнью внутри, уже вступало в свои права.
Заверещал телефон, и Наоми, как во сне, прошла в коридор, куда сквозь щель почтового ящика проникала яркая полоска свежая струя зимнего воздуха, и затем в спальню, чтобы ответить.
— Это ты, — слабым голосом проговорила она в ответ на приветствие Алекса. — О, Алекс, это ты.
— Да, это я, — подтвердил он, удивленный тем, что его звонок вызвал такую бурю чувств. — У тебя все в порядке?
— Ну-у… — Наоми тяжело, насколько это возможно для столь изящной женщины, села на неубранную кровать и стала наматывать на палец телефонный шнур. — Да, пожалуй, все в порядке.
Решение должно быть принято сегодня. Она должна выбрать честный путь, признаться в измене — пусть с риском потерять Алекса, потерять счастье. Пусть огромной ценой, но прямоту отношений и достоинство нужно сохранить. Или она должна сказать ему только половину правды — что она беременна, что внутри нее растет ребенок Гарви. Она должна надеяться на возможность счастья для всех, должна продолжать обманывать, должна строить семью на вопиющей лжи.
Ее тайная вина будет ее наказанием; она будет смотреть, как растет ее дитя, и никогда не будет уверена. Ей придется молить небеса еще горячее, чтобы Дэвид молчал. И не только Дэвид. Ведь был еще Доминик, несносный нахальный сынок Джеральдин, который мог видеть и не мог не слышать, что в то кошмарное утро Дэвид был в ее комнате. В то утро, когда жизнь, какою ее знала Наоми, окончилась. Сообразительный не по годам, Доминик наверняка догадался, что Дэвид зашел не просто поздороваться.
Со вздохом Наоми обвела взглядом привычный беспорядок, царивший в спальне. Квартира была очень маленькой, но даже с ребенком им хватит здесь места. Это было ее великим открытием: достаточности по определению было достаточно. А иметь достаточно значило иметь все.
— Ты любишь меня? — робко спросила она Алекса.
— Можешь в этом не сомневаться, — ответил он.
С какой радостью Алекс принял ее обратно, с какой готовностью простил ее; более того, он умолял ее простить его, хотя никогда не причинял ей боли намеренно. Он лишь пытался заставить Наоми найти смысл ее существования. Ну а если и теперь ее существование было бессмысленно — теперь, когда в ней зрела новая жизнь, — то значит, смысла в нем и быть не могло.
Наоми посмотрела в окно и увидела двух, трех, четырех скворцов. Они взлетели с калины и стали описывать круги в неприветливом небе. «Одна — к горести, — вспомнила она старую примету, правда, не про скворцов, а про сорок, — две — к бодрости. Три — к девчонке, четыре — к мальчонке».
— Я имею в виду, со всеми моими недостатками…
— Я люблю тебя. Что еще могу я сказать?
— Несмотря ни на что?
— Несмотря ни на что, Наоми. «Со всеми бородавками»[61] и тому подобным.
— Я тоже люблю тебя.
С куста взлетело еще три птицы.
«Пять — к серебру, — мысленно считала Наоми, — шесть — к золоту. Семь — к тайне за темным пологом».
Она сделал быстрый и глубокий вдох, зажмурила глаза и сверху еще прикрыла их свободной рукой.
— Алекс, у меня будет ребенок.
Что за зловещая болезнь: она не проявляла себя ничем, кроме маленького противного выроста! Коварное заболевание без какой-либо видимой патологии.
Джеральдин Горст чувствовала себя необыкновенно здоровой. Глаза были яркими (не слишком ли яркими?). На пухлых щеках цвели розы. Язык, высунутый перед зеркалом, был малинового цвета с нежнейшим бледным налетом. Термометр вводил в заблуждение, регистрируя соответствие норме. Аппетит не только не покинул Джеральдин, а напротив, стал неутолимым, словно внутри нее таилось что-то чуждое — грубое и прожорливое, то и дело требующее печенья, пирога, горячего тоста с маслом.
Самым отчетливым симптомом заболевания (помимо того неуловимого уплотнения, которое то нащупывалось, то нет) было ощущение глубокой перемены в организме. Что-то было не так. Джеральдин столкнулась с понятием смертности.
В ее теперешнем состоянии приступ боли был бы облегчением. Если бы где-нибудь ныло, тянуло, кололо, она бы сфокусировалась на конкретном месте, и ей было бы легче. Но вот эта лживая болезнь, маскирующаяся под крепкое здоровье, была просто невыносима.
Джеральдин была так поглощена своим тайным знанием, что на весь остальной мир, на близких и родных почти не обращала внимания. Нужды семьи она удовлетворяла лишь из чувства долга, не принимая их близко к сердцу. Случалось детям затеять перепалку — Джеральдин молчала. Но странное дело: несмотря на это, они стали ссориться гораздо меньше. Целые дни проходили без истерик Люси, без шуточек Доминика. В Копперфилдсе установился внушающий опасение мир. На домашнем фронте царило зловещее спокойствие.
Наконец-то они повзрослели? Или они интуитивно чувствовали ее беду? Может, они — на сознательном уровне или на подсознательном — беспокоились за нее? Джеральдин очень хотелось, чтобы это было так.
Вчера вечером Люси без пререканий и отговорок убрала и вымыла посуду и даже сделала кофе. Чем это можно было объяснить?
Джон в эти последние несколько недель тоже был внимательнее и заботливее, чем обычно. Небольшими проявлениями нежности он давал ей понять, что по-прежнему предан ей. Джеральдин предполагала, что он очень тревожился за нее. И все же она не мола заставить себя рассказать о том, что вселяло в нее такой ужас.
Джеральдин сидела на диване и нервно мяла руки, сплетала и расплетала пальцы. В то время, как у нее над головой миссис Слак двигала мебель (в спальне шла генеральная уборка: скрипели половицы, визжали колесики), она рисовала свой неотвратимый конец.
Больше уже нельзя было откладывать тот страшный день, когда ей придется пойти к врачу, после чего ее болезнь станет, так сказать, официально признанной. Это нежелание обращаться за помощью было нетипично для Джеральдин, оно свидетельствовало о серьезности ее опасений. С кабинетом доктора Невилла она была хорошо знакома, а доктор Невилл, в свою очередь, был хорошо знаком с анатомией Джеральдин. За прошедшие годы ему довелось ощупывать и осматривать практически все части ее тела. С помощью стетоскопа он частенько прослушивал ее дыхание, шумные вдохи и выдохи, величавое биение ее сердца. Они вместе шли по бескрайнему полю фармакопеи: сотни рецептов были выписаны, сотни лекарств применены. «Миссис Горст, — любил шутить доктор Невилл, — не понимаю, зачем вы спрашиваете у меня совета по этим вопросам. Вы же знаете о болезнях больше меня!» Джеральдин могла бы закрыть глаза и в малейших подробностях представить цветочный узор на занавесках в его кабинете; она отлично помнила этот рисунок и очень его не любила.
Джеральдин испытывала глубокое доверие к ортодоксальной медицине и придерживалась той точки зрения, что о малейшем недомогании следовало сообщать врачу. Она считала, что ее терапевта должно живо интересовать, каково ее самочувствие в каждый момент времени. Если от горячих ванн у нее кружилась голова, а от сыра на ночь урчало в животе, если от малины появлялась сыпь, если от капусты ее пучило, а от яиц крепило, то он должен был взять это на заметку. Вот поэтому-то медицинская карточка Джеральдин была пухлей, потрепанной книгой.
Но на этот раз все было по-другому. На этот раз ее жизни угрожала опасность. Джеральдин не хватало смелости пойти к врачу, чтобы услышать, что с ней происходило что-то ужасное. Ей не хватило бы духу сидеть там в ожидании, когда уклончивый, с нахмуренными бровями, что-то бормочущий про себя доктор Невилл закончит делать записи в своем блокноте и попросит ее пройти за ширму и раздеться.
Когда самые торопливые часы Копперфилдса преждевременно пробили половину двенадцатого, Джеральдин задумалась, как обычно, об обеде. Существо, с некоторых пор обитающее внутри нее, настойчиво заявляло о своем желании как следует подкрепиться, предпочтительно чем-нибудь жареным. Джеральдин мысленно инвентаризировала содержимое кладовых, но ее отвлекло урчание мотора, шелест шин, хруст гальки на подъездной аллее.
Глянув в окно, она увидела только макушки деревьев на фоне серого неба. Импульс подняться на ноги, пойти узнать, зачем приехал Джон, был недостаточно силен, чтобы привести Джеральдин в действие. Не было у нее и голоса, чтобы позвать мужа.
Поэтому она осталась сидеть, и через несколько мгновений в дом вошел Джон, окликая Джеральдин по имени. Он заглядывал по пути во все комнаты, ища ее.
— А, ют ты где, — сказал он, наконец обнаружив жену, и посмотрел на нее странным невидящим взглядом. Сам он выглядел ужасно: поблекший, потертый, как застиранный предмет одежды.
— Почему ты?.. — удивилась Джеральдин, потому что Джон крайне редко заезжал домой в средине дня, но не поднялась, а только чуть повернула голову.
— Нам нужно поговорить. — Джон отодвинул от стены стул с высокой спинкой, сел, натянутый, как струна, и положил руки на колени. Тик под глазом, подрагивание желваков поведали Джеральдин о его напряженности.
— Нужно, — устало согласилась она. В конце концов, ей станет легче после того, как она назовет свои страхи вслух, поделится ими с мужем. Она развернула руки ладонями кверху, словно сдаваясь. «Ты — босс», — сигнализировала она ему.
Джон откинулся на спинку стула, потом склонился вперед, а затем опять вскочил на ноги. Подойдя к буфету, он спросил через плечо:
— Тебе выпить не надо?
Надо? Нет. Хочется? Пожалуй. Алкоголь помог бы ей успокоиться.
— Если только капельку. — И Джеральдин свела большой и указательный палец вместе, изображая минимально возможную порцию.
Джон смешал для нее джин с тоником, а для себя налил скотча.
— Похоже, ты догадалась, что что-то не так? — спросил он, вручая ей стакан.
Джеральдин отхлебнула немного и с трудом проглотила прозрачную жидкость. Она почувствовала, как лицо залила кровь: то ли от крепости коктейля, то ли от эмоций — она не была уверена. На глазах выступили слезы. Она чуть не разрыдалась. Потому что он заметил. Он действительно заметил. Все эти годы он казался таким отстраненным, как будто находился в другом месте. Но сейчас он был здесь, с ней. Она не могла припомнить, когда в последний раз он целиком был с ней.
— Да, — признала Джеральдин, уронила голову и уставилась в свой стакан, вдыхая ароматный запах джина.
— Джеральдин, я считаю, что ты должна узнать правду.
— Но я просто не вынесу… — слабым голосом начала возражать Джеральдин, прикоснувшись пальцами к груди.
— Нельзя жить во лжи.
Джеральдин обдумала это заявление.
— Наверное, ты прав, — согласилась она.
— Ты ведь понимаешь, что я ни за что на свете не допустил бы этого?
Когда Джеральдин открыла рот, чтобы ответить, то оказалось, что слов не было. Ей оставалось только закрыть рот снова. Было в этом что-то рыбье и в то же время такое трогательное, что вся решительность Джона тут же испарилась.
— Я люблю тебя, — уверил он Джеральдин, — в этом мои чувства не изменились. — Но его запал уже пропал, и ему пришлось глотнуть виски, чтобы подзарядиться. Он готовился к плачу и обвинениям, к спектаклю, к драматическому представлению. Но ему не хватило фантазии на то, чтобы заранее вооружиться против этого молчаливого смирения, не говоря уже о написанном на ее лице выражении полного крушения всех ее чаяний.
— Мы оба… — начал было Джон, но эти слова никуда его привели. Он и Кейт, они оба сожалели о происшедшем, ну и что? Джеральдин от этого легче не будет. Может даже, будет еще больнее. Пусть лучше проклинает и презирает их, публично осуждает. Хотя два немолодых, скромных, жалких, действующих из лучших побуждений человека не очень подходили на роль злодеев. Конечно, Джеральдин могла бы сказать то, что всегда говорила, веря в истинность своих слов: что она всегда была очень добра к Кейт. Она могла бы сказать, что Кейт отплатила ей черной неблагодарностью, но будет ли этого достаточно?
— Должно быть, ты думал, что я полная идиотка, — проговорила Джеральдин с редким для себя смирением. Не поднимая головы, она безотрывно смотрела на свои стиснутые руки.
— Нет, — принялся горячо возражать Джон. — Нет! Я никогда не считал тебя глупой. Мы оба… — о Боже праведный! Джона прервал вопль, донесшийся из холла, а затем дом сотряс мощный удар. — Черт возьми, что это было? — недоумевал Джон.
Элли подошла к группе голодных коллег, столпившихся вокруг передвижного буфета, и с криками: «Пропустите! Пропустите! Я врач!» — проложила себе путь к прилавку.
— У вас есть бутерброды с сальмонеллой и огурцами? — поинтересовалась она у парня в белом халате, который уже привык к резкости этой ужасной женщины и не снизошел до ответа, лишь холодно взглянул на нее. А вот это досадно, потому что сама Элли была неравнодушна к такому типу мужчин (было в нем что-то латиноамериканское). Ей нравился его капризный рот, темные глаза; и она очень понимала его очевидное желание быть где угодно, только не здесь.
Элли покопалась в бутербродах, завернутых в полиэтиленовую пленку, не нашла ничего себе по вкусу и с недовольным лицом остановила свой выбор на сандвиче с яйцом и кресс-салатом. Протянув продавцу двадцатифунтовую банкноту, она дожидалась сдачи, упрямо не сходя с места и загораживая прилавок всей очереди, которая бубнила и ерзала у нее за спиной. Сегодня Элли была более сварливой, чем обычно, из-за предменструального синдрома. Им же объяснялась и ее тяга к сладкому: именно поэтому она сегодня утром, будучи у Кейт, затолкала в себя два пончика и плюшку.
Как заметила Элли, многие женщины (взять, к примеру, Кейт) были убеждены, что в эту пору месяца с ними что-то серьезно не в порядке. Они покупались на доводы мужской пропаганды, всегда во всем обвинявшей их, которая утверждала, что их гнев и горечь были иррациональны и вызваны исключительно гормонами. Эти женщины даже извинялись за свое поведение, пристыженные и удивленные своей склонностью к буйству.
Однако Элли совершенно иначе смотрела на приближающиеся месячные. Большую часть лунного месяца мир окутывала все смягчающая и все преображающая дымка. Но через каждые двадцать восемь суток наступали два-три дня, когда эта дымка исчезала и можно было увидеть все в истинном свете. Разумеется, Элли возмущалась открывающейся ее взору несправедливостью.
Она читала, что предменструальная депрессия была болезнью потери. Потери интереса, энтузиазма, энергии, адекватности, концентрации, самоконтроля… Но для нее это означало лишь потерю иллюзии и потерю заторможенности. И разве удивительно, что половина всех попыток самоубийства женщин были совершены непосредственно перед месячными? Или что для этой фазы характерны раздражительность и агрессивность? И было это не следствием некоей судороги в организме, как было общепринято считать, а реакцией на грубую реальность, осознанную на краткое время, но остро.
А вот Элли радовалась наступлению менструации, оживлявшей ее. Она рассматривала это как большое событие и не считала неуместным похвастаться им перед окружающими. Никогда не ощущала она себя более женственной, более сильной, более энергичной, чем когда доставала упаковку тампонов. Регулярность ее цикла была источником гордости для Элли. «По мне можно проверять часы», — любила она говорить Джуин.
Свои же часы она предпочитала проверять по телефонной службе точного времени и терпеть не могла, когда часы отставали или спешили хотя бы на секунду. Известная своей непунктуальностью, Элли тщательнейшим образом отмеряла свои опоздания. Сейчас она набрала номер службы точного времени из чистой зловредности, ради удовольствия потратить деньги компании. Автоответчик сообщил ей, что служба спонсируется производителем часов «Аккурист» (сюрреалистичная концепция: что станет со временем без субсидий?) и что времени было тринадцать часов тридцать шесть минут сорок секунд. Бип-бип-бип.
Можно было бы слетать в паб или в винный бар, чтобы немного взбодриться. В этот час Элли наверняка встретит там несколько завсегдатаев. Однако еще одним симптомом приближающейся менструации было быстрое опьянение: алкоголь сразу ударял в голову, вместо того чтобы разойтись по телу хорошим настроением.
В другое время Элли не остановили бы подобные соображения. Наиболее боевые из старожилов «Глоуба» до сих пор любили вспоминать о том, как мисс Шарп стояла, покачиваясь на столике в одной из таверн на Флит-стрит, размахивала пустой бутылью из-под вина и громко вопрошала: «А не воспользоваться ли нам тем, что осталось?» Но сегодня Элли требовалась ясная голова, потому что ей надо было решить важные задачи. Поговорить с серьезными людьми. Разделаться с врагами.
Если откинуться на спинку кресла и оглянуться, то можно было охватить взглядом все пространство офиса, разделенного перегородками на рабочие места. Сидящие на зарплате мученики горбились перед дисплеями в беспощадном свете флуоресцентных ламп. В дальнем конце располагались двери, за которыми целыми днями распоряжались руководители.
Минут шестьдесят назад одна из них открылась, выпустив Гаса Маклина. Элли, плохо видящая даже в контактных линзах, тем не менее разглядела, как бежевая рука поднялась к бежевому лицу, и узнала характерную сутулость Маклина, когда тот, наклонив голову, направился к лифту.
Владелец «Глоуба» недавно обрел второе рождение. Он чудесным образом умудрился найти Бога, хотя по-прежнему не покладая рук служил Мамону[62]. Сотрудники газеты практически не видели его и считали трудоголиком и педантом. Был Гас Маклин суперсознательным или нет, неизвестно, но, будучи лицом, приближенным к владельцу, он отлично умел таковым казаться. И поэтому часовой перерыв на обед длился ровно час.
Когда ровно в один час сорок пять минут, как Элли и предсказывала, Гас Маклин вернулся с обеда, она торжествующе провозгласила:
— Точно в цель!
— Наш Гас прямо из кожи вон лезет, — заметил Алан Риджуэй, проследив за ястребиным взором Элли. Алан был высоким сутулым мужчиной, отвечающим за юмористическую колонку. Постоянные потуги быть смешным по работе истощили его остроумие, и поэтому в жизни он был очень печальным человеком.
— Ага. Говорят, он встает с рассветом[63], — сказала Элли и разразилась демоническим смехом, непонятным для окружающих. Затем она схватила со стола свой сандвич, вскочила с кресла и зашагала к кабинету Маклина еще более вихляющей походкой, чем обычно, — так, что ее ослепительные волосы прыгали по плечам. Подойдя к двери, она постучалась, но вошла, не дожидаясь ответа.
— У меня есть для тебя отличная идея, — объявила она, многозначительно положив руку на спинку стула.
— А, да, — торопливо произнес он, чтобы она не опередила его, — присаживайся. Боюсь, я смогу уделить тебе не более двух минут. — Гас говорил с плохо скрываемой недоброжелательностью. Элли давалось понять, что даже налетчик встретил бы здесь более теплый прием.
— Двух минут хватит. Нам нужно лондонское приложение. Я слышала, что «Монитор» вот-вот запустит свое. Если мы не будем медлить и опередим их, то сможем удержать свои позиции.
— В самом деле? — Маклин прижал согнутый палец к ноздре и уставился на Элли совсем уж неприязненно. Больше всего ему не понравилось это «мы», поскольку в нем содержалось предположение, что Элли все еще была жизненно важной деталью механизма газеты, что для нее еще не стала очевидной неизбежность ее скорого ухода. — Такая возможность, разумеется, уже обсуждалась руководством, — поведал он ей.
— Обсуждалась?
— Несомненно.
— И что слышно? Мы займемся этим?
— К сожалению, на данном этапе эта информация является конфиденциальной.
— Я так и думала. — Элли положила ногу на ногу, устраиваясь поудобнее, и принялась покачивать сдвинутой на носок туфлей. Затем она развернула свой сандвич, отчего кабинет наполнился зловонием несвежего яйца. — Фу-у! Вряд ли это съедобно, как ты считаешь? Внезапно я лишилась обеда. Конечно, душа и тело должны находиться в гармонии, но всему есть предел. — И Элли бросила пахучий бутерброд в корзину для мусора, в душе пожалев, что ранее не догадалась купить сыра бри — этот мощный источник запаха грязных носков.
— Есть еще какие-нибудь вопросы? — спросил Маклин с едва сдерживаемой яростью.
— Пожалуй, нет. — Элли изобразила смущение. — Ах, вообще-то есть, — призналась она в порыве доверительности. — Это насчет Дон Покок.
Неправильно интерпретировав намерения Элли, Маклин подумал: «Вот оно!» Он возрадовался: «Она дает слабину!» Наклонившись к ней, сцепив руки, он с упованием ожидал, что Элли станет делиться с ним недовольством по поводу своего положения в газете («Увольняйся, ты, корова», — вертелось у него на языке) и в приливе великодушия ввиду скорой победы мысленно решил положить в конверт пятерку, когда сотрудники будут скидываться на подарок Элли в связи с ее уходом. Ну, может не пятерку, но по крайней мере фунт или два.
— Выкладывай, — сказал он Элли.
— Она такая перспективная, ты не находишь?
— Да, да, мы возлагаем на нее большие надежды.
— И такая молодая. Когда она дорастет до наших лет, она, может, будет писать не хуже меня. А если и нет… Хотя, конечно, к тому времени, когда она дорастет до наших лет, мы тоже будем уже в другом возрасте. Нам будет по шестьдесят. Подумать только! Однако я отвлеклась.
— Ну так вернись к теме, пожалуйста, — проговорил Маклин сквозь сжатые зубы.
— Ну-у… это несколько неудобно. Мы можем поговорить как друзья, Гас? Можно, я буду называть тебя Га-сом, Гас?
Он открыл рот, чтобы сказать «нет», она не может называть его Гасом, да так и не закрыл его, когда Элли продолжила с дьявольской беспощадностью:
— Этот ваш романчик. Мы все так беспокоимся (мы — в смысле девчонки), что для бедной Дон он закончится слезами. Потому что в эмоциональном плане она совсем еще ребенок. И насколько мне известно, она очень надеется, что ты оставишь жену. Нет-нет, Гас, выслушай меня. — Элли выставила перед собой руки. — Она рассказала нам, что ты собираешься расстаться с Кэролайн. Но мы-то понимаем, как болезненно все это будет. И ведь есть еще и владелец газеты, с его довольно строгими взглядами на р-а-з-в-о-д. Всякие там заповеди типа «Не прелюбодействуй» и тому подобное. Тебе надо думать о своем положении в «Глоубе». Да, ты, конечно, можешь сказать, чтобы я занималась своими делами, чтобы не совала нос куда не надо и что меня это все не касается, но…
— Ку-ку! — В дверь кокетливо заглянула глупо улыбающаяся светловолосая голова Пэтти Хендерсон.
— Не сейчас, — рявкнул Гас Маклин, отмахиваясь от нее. — Убирайся. — Боже милостивый, думал он, это заведение кишит гарпиями. У него было ощущение, что он спит и ему снится кошмар. Невероятно, но похоже, что эта Дон, эта болтливая девка… Оказывается, ей не хватило ума держать язык за зубами, и она все разболтала. И кому! Элли Шарп! — Кому еще мисс Хэнкок, э-э, доверилась? — спросил он, промокнув носовым платком опустившиеся уголки рта.
— О, только нескольким сотрудникам. Пожалуйста, на этот счет не беспокойся. Не более чем дюжине человек. Скажем, чертовой дюжине. Максимум — четырнадцати. Все близкие друзья. Им можно доверять. Но вот почему я здесь и лезу не в свое дело: хочу попросить тебя не слишком обнадеживать ее.
Слово «огорошенный» не входило в активный лексикон Элли, ни разу в жизни ей не приходилось употреблять его. Сейчас такой случай представился. Гас Маклин выглядел именно огорошенным. Нельзя было сказать, что он смертельно побледнел, но с лица определенно спал.
Полная сочувствия и понимания Элли облокотилась на полированный стол. Такие вещи случаются, говорила она всем своим видом. Люди встречаются и влюбляются. Это жизнь. И не Элли их судить.
— Я думаю, — нарушил неловкое молчание Гас Маклин нелепой импровизацией, — что здесь имело место некоторое недопонимание. Мой интерес к Дон Хэнкок… — Он начал поиски носового платка. — Моя дружба, да… — Он похлопал по брючным карманам, ощупал нагрудный карман. — Она была чисто профессиональной. Моей целью было обучить ее, развить ее несомненные таланты.
— Понимаю.
— И, возможно, я, совершенно того не желая, дал ей повод… Она, как ты верно заметила, очень юна. Может, наивна. И обладает богатым воображением. Вероятно, она увидела в моих действиях и поступках нечто большее, чем я в них вкладывал. Будь добра, оставь эту проблему мне, кхм, Элли. Я поговорю с ней, объясню ей, как обстоят дела. А пока могу ли я надеяться на твою сдержанность?
— Абсолютно. — Элли, довольно поблескивая глазами, поднялась. — Ты можешь рассчитывать на мое молчание. Мои губы запечатаны. — Она изобразила застегивание рта на молнию и заодно скрыла этим жестом ухмылку. — Из меня этого и клещами не вытянут. Так ты дашь мне знать, если что-нибудь решат насчет лондонского приложения? Может, мой скромный вклад окажется полезным.
И, цокая каблуками, преувеличенно покачивая бедрами, она покинула кабинет Гаса Маклина. «Дело сделано», — ликовала она.
Молли дю Слак скатилась вниз по лестнице «словно тонна кирпичей», как позднее будет весело рассказывать Джеральдин. Да, потом Джеральдин будет смеяться над этим, но тогда было не до смеха. Тогда, глядя на распростертую на полу домработницу, она думала о своей злосчастной доле.
— Она без сознания, — объявил Джон, пытаясь нащупать пульс. — Бедняжка, должно быть, стукнулась головой.
— Это все потому, что она носила эти дурацкие туфли, — сетовала Джеральдин. — А они ей слишком узки. У нее все пальцы были сжаты. А ремешки на пятке растянулись, и она стоптала их. И, между прочим, — продолжила она, расставаясь в этом месте с правдой и без угрызений совести обращаясь к выдумке, — я всегда ей это говорила. «Вы упадете и сломаете себе шею», — предупреждала я ее десятки раз.
— Шея-то у нее вроде не сломана, — предположил Джон, для которого события дня приняли такой неожиданный оборот. Он опустился на колени, одной рукой взял Молли за запястье, а другой стал нежно похлопывать ее по обвисшим щекам.
Молли на мгновение открыла глаза и уставилась на Джона.
— Развратник, — мрачно обвинила она его и оттолкнула от себя.
— Она бредит, — ужаснулась Джеральдин. — Наверное, она повредилась головой.
— Чепуха. Просто легко сотрясение.
— Может, дать ей немного бренди? У нее какая-то синева вокруг рта.
— Лучше не надо. Вдруг у нее сломано что-нибудь. Ее могут положить в больницу. Ты проследи, чтобы ей было удобно, только не двигай ее, а я вызову «скорую помощь».
И Джон отправился к телефону. Он чувствовал себя опустошенным. В нем не осталось ничего. Он потратил все свои силы на признание, но облегчения это не принесло, скорее, все еще более усложнилось.
Джеральдин склонилась над Молли и стала обмахивать свою домработницу журналом «Леди». Ее тихий, непритязательный мужчина, говорила она себе, вдруг принял командование на себя. Он стал другой личностью: сильным, надежным мужчиной, который в нужный момент был рядом с ней. А пока он рядом с ней, она могла справиться с чем угодно — даже, кстати говоря, с временным отсутствием помощницы по хозяйству.
— Пожалуй, ты прав, — сказала она, нежно, по-девичьи улыбаясь Джону, когда тот пришел сообщить, что «скорая» уже в пути. — Я вела себе в высшей степени глупо. Изводила себя из-за пустяка, вполне вероятно. Завтра же утром поеду к врачу, как ты и советовал. Ты ведь съездишь со мной? Для меня это очень важно.
— Ну… — Джон постучал основанием ладони над ухом, как делают, когда в уши попадает вода. А может, он пытался выбить из головы одну упрямую мысль. Одно было ясно ему со всей очевидностью: он сошел с ума. Он не мог понять, что происходит. — Конечно, если тебе хочется, — безропотно согласился он. — Все, что скажешь, дорогая.
Глава двенадцатая
Джуин приподняла крышку кастрюли и ахнула при виде пузырей, лопающихся на поверхности коричневой жижи.
— Что это? — спросила она.
— А на что это похоже? — Элли откупорила бутылку белого вина «Сансер» и вздохнула в радостном предвкушении.
— Первобытный суп?
— Почти правильно. — Плеснув в стакан вина, Элли предложила его дочери, та в ответ помотала головой. — Нет? Точно нет? — Элли поводила стаканом перед глазами Джуин, но так и не соблазнила ее. — Не будешь? Ну, как хочешь. Угадывай дальше.
— Я бы сказала, что чудовище со дна морского съело что-то, отчего ему стало плохо, и его стошнило в нашу кастрюлю.
— Вообще-то это соус чили, — раскрыла секрет Элли и, чтобы соус уж наверняка сорвал головы ее гостей с плеч, ввалила в кастрюлю еще одну ложку красного порошка.
— С мясом?
— Точно.
— А что я буду есть?
— Милая моя, хватит уже капризничать.
— Я не капризничаю. Я — вегетарианка. И это не каприз, а принципиальная позиция.
— А из чего, ты думаешь, сделаны твои сапоги?
— Уффф. Да знаю я, что они из кожи. Но я ведь не вчера пошла и купила их, я ношу их уже тысячу лет, — запротестовала Джуин, имеющая юношескую склонность к гиперболе. — Не могу же я выбросить все свои старые вещи, тем более что на новые у меня нет денег. А если бы и были, какой в этом смысл?
— Это был бы красивый жест.
— Бессмысленный.
— Значит, твоя новая пара обуви, когда ты соберешься купить ее, будет из пластика? Или ты предпочтешь веревочные сандалии? Или вязаные тапочки? Или побалуешь себя парой деревянных башмаков?
— Парусиновые туфли, — твердо сказала Джуин. — Так что же я буду есть сегодня вечером, пока вы, плотоядные, будете поедать чили?
— Можешь поесть хлеба с сыром. Какой-нибудь салат. Я не могу угождать всем твоим причудам, особенно когда мне надо накормить двенадцать голодных ртов.
— Я говорила тебе, что это не причуда. Это решение, принятое на основании моих убеждений. Может, хотя бы испечешь картошки?
— О, мой бедный, изголодавшийся ребенок, конечно, я приготовлю все, что ты захочешь, в пределах разумного, разумеется. — Элли запахнула поплотнее красное шелковое кимоно, обхватила себя руками и подняла глаза к небу, словно призывая его в свидетели: — Когда я тебе хоть в чем-нибудь отказывала?
Она только что вышла из ванны, ароматная, раскрасневшаяся; ее голову тюрбаном венчало полотенце, открывая большое лицо. Наверху, на ее кровати лежало платье — кукольный наряд из коричневого шелка с пеной кремовых кружев на лифе. («Ты что, собираешься выступать в роли капуччино?» — съязвила Джуин, на что Элли не обратила ни малейшего внимания. Она увидела это платье в магазине и просто влюбилась в него).
— Не понимаю, ради чего ты устраиваешь это нелепое представление, — говорила раздраженная Джуин. — Какая бредовая идея. Это будет ужасно. И не думай, что я не знаю, зачем ты все это делаешь.
— Что делаю? Несу мир и свет? Лью масло на бушующий океан? Раздаю оливковые ветви направо, налево и посередине? Это у меня в характере, милая моя. Как мост через бурные воды ляжет сегодня вечером старушка Элли.
— Лично я считаю, что для тебя это все — игра. Ты специально сталкиваешь их вместе. — Джуин, поставив руки на узкие бедра (которым Элли определенно завидовала), прислонилась к холодильнику и нахмурилась. — Ты обожаешь манипулировать людьми, так ведь?
— Ну, разумеется. — Элли не собиралась этого отрицать. Именно ее умелое манипулирование удалило эту бестолковую Дон из «Глоуб Тауэр». Счастье Элли могло бы быть полнее, если бы охрана вышвырнула Дон за дверь, как котенка. А так Дон просто уволилась. Она напоследок распространила сплетню, будто ею интересуется «Санди Таймс» (был упомянут раздел «Стиль»), и исчезла. Ну и ладно, зато «На острие» снова безраздельно принадлежало Элли. — Однако на сегодняшнее мероприятие меня подвигли высшие мотивы, — настаивала она. — Я устала от всех этих интриг. Мне до смерти надоело все время помнить, при ком чьи имена можно упоминать и кто с кем не разговаривает. Наступающий год мы начнем с чистого листа. Не будет ли нам всем от этого легче?
— Не уверена, — ответила Джуин, которую буквально мутило при мысли о том, что сегодня она увидит Алекса вместе с Наоми. — Для Кейт это будет тяжким испытанием.
— Для Кейт это будет полезно. Она страшно скучает по Алексу. Если бы она не была так упряма, то уже давно свыклась бы с мыслью о его романе. И то же самое касается тебя. Прими существующее положение вещей и двигайся дальше.
— А причем здесь я? Почему меня это касается? — Желая продемонстрировать свое полнейшее равнодушие к данному вопросу, Джуин высунула язык и попыталась дотянуться им до кончика носа, скосив при этом глаза.
— Ты хочешь сказать, что тебя это не волнует? Ни капельки-капелюшечки? И что ты спокойно относишься к роману Алекса и Наоми?
— Я думаю, что это… — начала Джуин, но была избавлена от продолжения появлением Маффи. Он влетел в кухню, ухмыляясь, и в пасти его болталась одна из плетеных сандалий Элли. С пронзительным воплем Элли бросилась к Маффи, раздался звук рвущейся материи, и на дверной ручке повис рукав красного шелкового кимоно.
— Черт, черт, трижды черт, — разразилась проклятиями Элли и помчалась в спальню. — Завтра же эта собака отправится к ветеринару. На усыпление.
Джуин вздохнула, пожала плечами, дотянулась до стакана Элли и сделала большой глоток. Вечерок будет не из легких.
Кейт никогда не любила платья. Проблема была не столько физической — хотя она действительно обладала даром выбирать такие ткани, которые собирались складками в паху, когда она садилась, и задирались на ее коротких бедрах, когда она вставала, — сколько психологической: в платье Кейт чувствовала себя неуютно.
Стоя перед квадратом зеркала, поднимаясь на цыпочки, чтобы увидеть подол, затем вставая на колени, чтобы в поле зрения попала горловина, Кейт никак не могла понять, что же она видела. То, чем она сейчас занималась, напоминало ей складывание мозаики из самой себя, причем фрагментов не хватало.
Она решила принарядиться из гордости. Ей хотелось показать всем, что с ней все в порядке. «Мне все равно», — вслух сказала она и тут же оцепенела, потому что дом сегодня вечером был полон скрипами, и постукиваниями, и странными, свистящими звуками, от которых дыбом вставали ее нервные окончания. Ребенком она верила, что с возрастом изживет свой страх темноты, боязнь верхних и нижних этажей и пустых, гулких комнат, но этого пока не случилось. Чтобы приободриться, Кейт строго приказала себе задуматься о проблемах реальной жизни и подготовиться внутренне к предстоящему вечеру.
Что пугало ее больше, спрашивала она себя, встреча с Джоном или встреча с Алексом и Наоми? Она представила себе, что испытает при виде Джона и что при виде сына с подругой, и оказалось, что вся боль концентрировалась на ее отношениях с Джоном. Незаметно для самой себя Кейт примирилась с решением Наоми и Алекса. Или так было потому, что все ее душевные силы были потрачены на Горстов?
— Я же говорил тебе, — сказал Джон, когда звонил ей последний раз, — что в конце концов причиню тебе боль, помнишь?
— Хм, ты сказал, что будешь вынужден причинить боль одной из нас, — напомнила ему Кейт несчастным голосом. И, забывая, что сама настаивала на том, что он не может, не должен оставлять из-за нее свою жену, жалея себя, она зарыдала. — И я могла бы сразу догадаться, кем будет эта одна из нас.
Джон говорил, что пытался рассказать обо всем Джеральдин. Он не просто пытался: он рассказал ей. Он специально приехал домой, чтобы признаться, потому что чувствовал, как ужасно встревожена и напряжена Джеральдин. Ему казалось, что она догадалась о его измене и мучилась из-за этого. Но как-то так получилось, что Джеральдин поняла его совсем по-другому.
— И это все? — спросила Кейт; внутри у нее что-то сломалась. Она тупо недоумевала про себя, как такое было возможно. Если мужчина пришел к жене и сказал ей недвусмысленно: «Я ухожу от тебя к другой женщине», то могла ли жена неверно понять его и ответить что-то вроде: «Семь фунтов сорок пенсов», или «Они в гараже», или «Наверное, это аллергия на бытовую пыль»?
— Наверное. Да, это все. — В голосе Джона слышалось бескрайнее раскаяние. Кейт знала, что и ему тоже больно. Очень больно. Но она могла бы поспорить на что угодно, что он не ревел так, что его голова почти раскалывалась надвое. Он не плакал ночь напролет, в конвульсиях, пока его глаза не исчезли на отекшем лице, а в недавно купленной упаковке «Клинекса» не осталось ни одной салфетки.
Через некоторое время Кейт обдумала все еще раз и пришла к решению, что да, так было к лучшему. Она приняла неизбежное. Но все равно было адски больно.
И поэтому для ее эго было очень важно выглядеть на новогодней вечеринке наилучшим образом — что бы ни значило это «наилучшим образом». Она пошарила в сумочке, пытаясь найти ключи от машины, потом нетерпеливо вывалила все содержимое на кровать: деньги, ключи от дома, старые кассовые чеки, облепленные паутиной человеческих волос.
В комнату целенаправленно вошли Петал и Пушкин, один за другим, и стали с мяуканьем тереться о ее ноги. Она взяла каждого по очереди на руки — они свисали длинными расслабленными плетями, растопырив когти — и поцеловала в макушку. «Кроме вас, у меня никого не осталось», — сказала им Кейт и немного смутилась из-за излишней мелодраматичности.
«Но ведь у тебя есть Алекс, — вдруг произнес голос в ее голове. — Он никуда не делся. Вы отдалились друг от друга только из-за твоей неуступчивости, глупая ты женщина».
От осознания этого факта у Кейт буквально перехватило дыхание. Она схватила сумочку и побросала туда все как было. Снова полились слезы. Сколько слез! Элли была права, поняла Кейт. Может, Элли и чудовище, но она всегда права (в какой-то степени именно правота Элли делала ее таким чудовищем). Сегодня вечером Кейт помирится с сыном. С Наоми она будет вести себя тепло и великодушно — хотя бы только потому, что эту женщину любит Алекс. Господи, сделай так, чтобы они обязательно пришли.
— Я так и знала, что ты придешь первым, — сказала Элли. — Ну, давай, проходи, поможешь мне на кухне. Да, познакомься с моим соседом Даркусом.
— Маркус, — поправил ее сосед.
— Кстати, он продюсирует фильмы.
— У меня небольшое дело по выездному ресторанному обслуживанию.
— Да, точно. Я именно это и имела в виду. Тревор, представляешь, он зашел, чтобы попросить у меня в долг электродрель! Нет, ну откуда у меня может быть дрель? И вообще, вешать полки в новогоднюю ночь… Слышал ты когда-нибудь о таком? Я уверена, вы сойдетесь. Дружба между вами вспыхнет как огонь, если мне позволено будет так выразиться.
— Напоминаю, что я больше не служу у вас, если вы забыли, — проворчал бывший домработник, но все же поймал полотенце, брошенное Элли, и, кивнув Маркусу, который явно мечтал как можно скорее убраться отсюда подобру-поздорову и желательно на свою родную Ямайку, принялся послушно протирать стаканы. — Можно мне по крайней мере выпить?
— О чем речь… Будешь белое вино? Я могу открыть красное, если хочешь. Но до тех пор, пока не пришли взрослые, можешь даже не надеяться, что я предложу тебе свое лучшее шампанское.
— Я бы предпочел пива.
— В холодильнике. Сам возьми. А как тебе нравится мое новое платье?
— Скажи ей, ради бога, что в нем она похожа на чашку кофе с пеной, — сказала появившаяся в комнате Джуин. Она закатила глаза, потом безразлично кивнула в знак приветствия. Сама она выглядела так, словно собиралась на похороны; лицо было белым от волнения.
— Я не осмелюсь, — с чувством ответил Тревор.
— Даркус, — произнесла затем Элли любезным тоном, оборачиваясь к Маркусу, — это Тревор. Тот самый Тревор. Может, ты помнишь, я о нем упоминала. Тот, который… Как, ты уже уходишь? Ты не останешься? Ну так возвращайся сразу после двенадцати, — уговаривала она его. — Обещай мне, что придешь. Захвати кусок угля и будешь нашим первым гостем в новом году[64]. Говорят, что это должен быть темный и незнакомый мужчина, а кто может быть темнее и незнакомее тебя? Ой. Звонок. Пришел кто-то еще.
— Зачем нам туда идти? — ныла Люси. — Я не выношу подобные сборища.
— Все будет нормально, — сказал Доминик довольно любезно. Импульс поддразнить младшую сестру, разозлить ее появился… и исчез. Почему-то Доминика это больше не забавляло.
— Смешной ты ребенок, — спокойно заметила Джеральдин дочери. — Когда я была в твоем возрасте, я обожала ходить на вечеринки. — И она положила руку Джону на колено, словно у них был общий секрет, словно они всю свою молодость только и делали, что ходили на вечеринки. Джон же подумал, что этим жестом она заявляла свои права на него — как заявляют права на стул в общественном месте, положив на сиденье пальто или газету. Он считал, что его не столько любят, сколько нуждаются в нем. И все же быть нужным — это уже кое-что, полагал Джон.
Что касается предстоящего вечера, то он был солидарен с Люси: он тоже считал, что не вынесет его. Видеть Кейт, но не говорить с ней, не держать ее за руку, не прикасаться к ней — это будет пыткой. Он так и видел, как она, такая яркая, отважная, немного колкая, будет тайком кривить губы, бросать на него презрительные взгляды (ничего другого он и не заслуживал). Она была для него больше, чем жизнь, а он отказался от нее. Из-за своей нерешительности он ее предал.
В машине, в окружении семьи, было тепло и душно. Краем глаза Джон ловил в боковом окне свое отражение — привидение самого себя. В зеркале заднего вида он видел собственные прищуренные глаза, сведенные вместе брови. Позади него лица детей то и дело вспыхивали желтым в свете уличных фонарей, омывавших интерьер «ровера».
Джеральдин убрала руку с его колена и стала копаться в сумочке в поисках освежающих конфет.
— Все-таки до чего же неудобно добираться до Элли. Совершенно в другой части города. Хорошо хоть мы останемся у нее на ночь.
Ей и Джону была обещана отдельная комната. Люси отправится к Джуин. А Доминику придется устроиться на диване. Как это типично для Элли, думал Доминик, именно таким образом распределить спальные места. Наверное, она считала, что раз он был мальчиком, то ему не нужна кровать, что он заснет где придется, что он переживет. «Это несправедливо, — вознегодовал он, узнав о своей участи. — Я хочу спать с Джуин». А мать лишь отмахнулась от него: «Скажешь тоже!», сочтя его слова очередной шуткой.
— Кто хочет мятную конфетку? — спросила Джеральдин. Когда никто не ответил, она вынула одну горошину из упаковки, бросила ее в рот и захрустела. Она чувствовала себя счастливой, расслабленной и даже (она так себе и сказала) веселой. Как же глупа она была, так волнуясь из-за крошечной кисты. Доктор не сомневался в диагнозе. И она действительно была необыкновенно здоровой.
— Я нормально выгляжу? — спрашивала Наоми, снова и снова поправляя прическу. — Кажется, у меня волосы стали лучше расти.
— Это ты стала расти. — Алекс выдернул блузку из-за пояса юбки и нагнулся, чтобы поцеловать мягкую округлость ее живота. — И стала еще красивее.
— Уже видно? — Улыбаясь, Наоми нежно оттолкнула Алекса и заправила блузку. — Эй, хватит безобразничать. Такси уже тут.
При слове «тут» ей вспомнился Тутинг и Кейт, и немедленно накатила тошнота.
— Как ты думаешь, кто-нибудь догадается, что я… ну, ты понимаешь?
— Элли может догадаться. Ты же ее знаешь, она ничего не упускает. А вообще пока едва заметно.
— Едва — это сколько?
В ответ Алекс развел пальцы на дюйм, на два.
— Столько, да? А я чувствую себя такой другой, — призналась она. — И все же: волосы не стали гуще? Их теперь приходится так долго расчесывать.
— Они выглядят великолепно, это все, что я могу тебе сказать. Ну, так как, вы готовы, миссис?
— Нет. Мне нужно сходить. — Твердой рукой она выдворила Алекса из ванны и закрыла дверь у него за спиной. Мочеиспускание, по ее мнению, было глубоко личным делом. В этом она очень отличалась от Элли, которая плюхалась на унитаз с задранной юбкой и спущенными трусами и через открытую дверь продолжала вести оживленный разговор с мужчиной ли, с женщиной, совершенно не заботясь о сохранении своей женской загадочности. Элли Шарп была так примитивна.
Теперь, каждый раз ходя по-маленькому, Наоми не могла не вспоминать тот тест на беременность, то, как неожиданно полоска картона окрасилась в ярко-фиолетовый цвет. И снова ее охватывали те же эмоции, что и тогда. А Алекс был так восторжен, и горд, и… да, вне себя от радости. Его реакция вызвала в Наоми подавленность и благодарность. А эти два чувства, как масло и вода, не смешиваются друг с другом.
Она нажала на ручку сливного бачка раз, другой, третий (тут требовалась определенная сноровка) и встала у раковины, рассеянно намыливая руки.
— Эй, — заорал Алекс, барабаня в дверь.
— Что? — Она улыбнулась своему отражению в зеркале грустной-грустной улыбкой.
— Ты собираешься провести там всю ночь?
— Уже выхожу.
— Я хочу спросить тебя кое-что.
— Да?
— Да.
— Ну так спрашивай.
— Хорошо. Наоми, выйдешь ли ты за меня замуж и сделаешь ли меня честным человеком? Я умоляю тебя, стоя на коленях.
Когда она распахнула дверь, то обнаружила, что Алекс вовсе не стоит на коленях. Он хитро улыбнулся ей уголком рта и подмигнул.
— Повтори, пожалуйста, Алекс.
— Я сказал: выйдешь ли ты за меня замуж и так далее, и тому подобное.
— Ты действительно этого хочешь?
— Несомненно.
— Тогда я принимаю твое предложение.
— Отлично!
— Мы расскажем об этом сегодня вечером? Кейт и остальным?
— Двойной удар? А почему бы и нет?
— Потому что Кейт, может быть… Как ты думаешь?
— Кончено, она вряд ли обрадуется, но вряд ли она будет возражать. Элли права. (Как так выходит, что Элли всегда права? До чего же мудра старая сова!) Пора наводить мосты. Я бы не пошел на эту вечеринку, если бы не считал, что это возможно. — Алекс обнял Наоми и громко, сочно поцеловал ее в щеку.
— Иногда ты ведешь себя как сумасшедший, Алекс.
— Я просто страшно рад. Дай-ка мне руку. Ну же, давай. Вот так. Мы вместе пройдем через все трудности, да?
— Вместе, — согласилась Наоми. Но в глубине души она знала, что она одна. Вернее, она и ее секрет.
Кейт сидела выпрямившись, в своем неэластичном платье, одинокая и великолепная, под картиной, изображающей вырвавшийся на волю ад. В руках она все вертела и вертела бокал шампанского, борясь с желанием проглотить все его содержимое одним махом, строго напоминая себе, что она за рулем. Она чувствовала себя жертвой изощренной шутки (вечеринка проводилась в другом месте). Или пациентом венерической больницы («Доктор примет вас через пару минут, миссис Гарви»). Она была взволнованна и растерянна, желала, чтобы поскорее пришли и другие гости, и в то же время мысль о том, кто эти другие гости, приводила ее в отчаяние. Она должна была догадаться, что если Элли говорит прийти в девять, то надо приходить в десять. Кейт следовало бы догадаться, что нужно опоздать — и что даже опоздав, она могла прийти слишком рано.
В раскрытую дверь заглянула Элли и одарила Кейт широчайшей улыбкой хозяйки дома, обнажив множество зубов:
— Ты в порядке?
— Да, спасибо.
— Ты даже не притронулась к вину.
— Я сдерживаю себя.
— Чудесная мысль! Надо будет мне тоже как-нибудь попробовать, но не сегодня. Сегодня я собираюсь напиться. А моим новогодним обязательством, может, будет отказ от всех своих дурных привычек. Новая жизнь с нового года. А ты что загадаешь? Поласковей относиться ко мне? И не говорить постоянно «Ну, Элли, в самом деле»? — Не дав Кейт времени ответить, Элли снова удалилась на кухню, и оттуда стало слышно, как она шпыняет бедного прыщавого Тревора за то, что тот обрызгал пивом стену. (Она только что сделала в доме ремонт — таков был лейтмотив ее претензий. Может, он не помнит, но еще недавно здесь все полыхало.)
Под окном раздались шаги, голоса прозвенели в холодном ночном воздухе, Кейт услышала, как двое или больше людей завернули в ворота и подошли к входной двери. И хотя она заранее узнала о приходе гостей, звонок в дверь дико напугал ее, и она пролила на себя и на пол шампанское.
— Входи, — закричала Элли в холле. — Заходи и поцелуй тетеньку, ты, великолепный кусок мужчины. Как тебе нравится мое платье? Шикарно, да? Я как будто облила себя кофе со сливками. Вы не первые. Правда ужасно приходить первым? Кейт уже здесь. Идите за мной.
Когда Алекс Гарви вошел в гостиную, он увидел, что его мать стоит на коленях и трет ковер подолом платья, сшитого из невероятно голубой, неумолимой к недостаткам ткани. Кейт поднялась на ноги и заложила руки за спину так трогательно, так по-детски, что у Алекса защемило сердце.
— Кейт, — сказал он, поперхнувшись, пересек комнату и ободряюще пожал ее локоть. — Как ты?
— Нормально.
— И что ты сделала с моим новым ковром? — потребовала разъяснений Элли.
— Извини, пожалуйста, я нечаянно разлила…
— Да ладно, не волнуйся, милая, это всего лишь шампанское. О, какая отличная эпитафия получилась! Кто-нибудь запишите это. Алекс, тебя это особенно касается, ты еще молодой, значит, есть шанс, что ты переживешь и похоронишь всех нас. Я хочу, чтобы на моем могильном камне были эти слова: это было всего лишь шампанское. И кричалка.
— Кричалка?
— Восклицательный знак.
— В самом деле, Элли, — покачала головой Кейт.
Обернувшись к двери, Кейт увидела Наоми, одетую — кто бы мог подумать! — в джинсы. Было похоже, что Наоми немного поправилась и что-то изменила в прическе (Кейт не могла понять, что именно), и была в ней какая-то необычная для нее застенчивость. Эта Наоми точно не была той испорченной, ленивой, безответственной женщиной, какой показала себя в недавних событиях.
— Здравствуй, Наоми, — приветствовала ее Кейт нейтрально, подавляя свои чувства до тех пор, когда у нее будет возможность проанализировать их.
— Привет. — Наоми неопределенно взмахнула рукой. Кейт нужно рассказать обо всем в первую очередь, до того, как узнают все остальные, думала она. Но как это сделать? Здесь необходима была тончайшая деликатность. Тактичная формулировка.
— А знаешь что? — вскричал ликующий Алекс. — Кейт, ты скоро станешь бабушкой!
— Раньше я никогда не встречалась с художником, — уважительно сказала Люси. Она не могла дождаться, когда сможет рассказать о нем своей лучшей подружке Саре!
Тревор пожал плечами и глотнул пива из банки в знак того, что ничего особенного в том, что он художник, он не видел. Но тем не менее ему льстило восхищенное внимание этого ребенка, ее интерес к его полотну, к его «Анархии», которую она называла ужасной и внушающей трепет.
— Все рушится, — объяснил он ей. — Не держит середина[65].
— Не держит середина?
— Анархия в миру.
— Наверное, ты прав.
— Это Йетс.
— Что?
— Это из «Второго пришествия» Йетса. Это стихи.
— О, я обожаю стихи. — При этих словах Люси вся засветилась и приобрела томный вид. А она была даже ничего — с этими светлыми волосами, заправленными за уши и сияющим, девчоночьим цветом кожи. Кроме того, больше говорить было не с кем за исключением, может быть, Джуин, а Тревор понятия не имел, куда она подевалась.
— Правда?
— И в горах, ветрами полных, — процитировала Люси, плотно зажмурив глаза, чтобы легче было вспоминать, тогда как голова ее наполнилась эльфами. — И в долинах травянистых…
Тревор поболтал остатками пива в банке и сказал:
— Красиво.
— Из-за маленьких людей мы охотиться боимся[66].
— И ты тоже красивая.
Люси вспыхнула.
— Доминик, мой брат, говорит, что я похожа на свинью.
— Значит, Доминик ни фига не понимает.
— Ты правда так думаешь?
— Правда.
— Он иногда отвратительно ведет себя. Я не выношу его.
— Я бы на твоем месте не обращал на него внимания. Послушай, моя банка сдохла. Я пойду поищу добавки. Хочешь, принесу тебе шампанского?
— Я бы не отказалась, — ответила Люси, воображая, как она будет вертеть пальцами бокал на хрупкой ножке в самой утонченной манере. Настоящий художник. Пузырьки шампанского. Какую восхитительную историю она сможет рассказать Саре, когда начнется следующий семестр. Уж она утрет нос этой злобной дуре Джасинте!
_____
— Ита-ак, — сказала Элли, поймав Наоми в кухне и прижав ее к плите, — теперь ты находишься в том, что называется «интересным положением», хотя не понимаю, что же такого интересного в том, чтобы каждое утро выворачивать кишки наизнанку. Вот просто не понимаю. — Элли сняла крышку с кастрюли и осторожно помешала чавкающее чили. У дна оно пригорело, а сверху было водянистым. Вдохнув мясом пахнущий пар, Наоми почувствовала, как внутри у нее все перевернулось. — Хочешь попробовать? — спросила ее Элли. — Нет? Я все время забываю о твоей анорексии. Но тебе надо есть хотя бы за одного, если не за двух. Я бы ела. Так о чем мы говорили? Утренняя тошнота. Боли в спине. Да, и еще постоянная изжога. Опухшие лодыжки. Неутолимая тяга к чипсам с укропом и ореховому крему. — Элли загибала пальцы, перечисляя эти неприятные симптомы. — И, я надеюсь, ты понимаешь, что твоим сиськам придет конец?
— Мне все равно, — смело ответила Наоми, хотя ей было совсем не все равно, и взглянула на свою новую пышную грудь.
— Зато врачи к тебе будут относиться с повышенным вниманием, поскольку это твоя первая беременность, а ты уже такая пожилая. И нечего строить гримасы. Для акушерки ты стала пожилой уже в тридцать пять лет. Ну, так скажи же, кто отец? Эй-эй, это всего лишь шутка. Просто развлекаюсь. Не обращай на меня внимания.
— Ничего. Слушай, Элли, мне надо сходить в ванную комнату.
— Полагаю, ты все время бегаешь в сортир, да? Еще одно следствие твоего деликатного состояния. Все как было у меня! Подожди, когда начнут течь соски. О, схожу-ка я с тобой. А то скоро лопну.
— Нет-нет, — запротестовала Наоми, боясь, что Элли действительно пойдет вместе с ней и будет стоять, нескончаемо болтая, пока ее (Наоми) мочевой пузырь не сдастся. — Тогда ты иди первой. А я пока найду Алекса.
— Вы такая нежно любящая пара! Я серьезно, Наоми. Я тебе даже завидую. Никогда не думала, что мне доведется сказать такое, но я правда завидую. Я бы хотела поболтать с тобой, ввести тебя в курс дела, рассказать о схватках, но с этим придется подождать. Об эпизиотомии, — Элли изобразила пальцами ножницы — чик-чик, — в следующей передаче.
— Как Молли? — осведомилась у Джеральдин Кейт.
Элли вручила всем по тарелке с чили, и Кейт долго ковыряла в своей порции вилкой, прежде чем решиться взять в рот крошечную дозу обжигающего варева. Она надеялась, что с таким маленьким количеством за раз сможет справиться, и тогда постепенно одолеет хотя бы часть того, что было на тарелке. Оставить на тарелке слишком много она не смела.
— Ух, какое острое! У меня аж в глазах защипало. — «А если я расплачусь, — продолжила Кейт уже про себя, — то смогу свалить всю вину на чили». Потому что она была близка к тому, чтобы расплакаться. Она украдкой бросила страдальческий взгляд на Джона, который стоял у камина совершенно подавленный. Как бы ей хотелось подойти к нему, отдаться его рукам. На миг их взгляды пересеклись, и Кейт заставила себя отвести глаза. Ее сердце металось в груди, как пойманный в клетку зверь. Все кончено, повторяла она, вспоминая строчки из старой песни Роя Орбисона, все кончено, все кончено, все кончено.
— Да, боюсь, и для меня это слишком, — согласилась Джеральдин. — Я не очень-то люблю острое. Я даже карри не могу есть. — Джеральдин выглядела превосходно. Сегодня утром она ходила в парикмахерскую. Очаровательнейший мальчик-парикмахер, рассказывала она Кейт, предложил сделать ей более пышную, более молодежную прическу, и по всеобщему признанию так ей очень шло. А лиловое платье, делилась Джеральдин, она купила в магазине «Тогглз».
— Да? — Кейт сдержала зевок и волну уныния, которая вздымалась в ее груди. Если бы только она могла свернуться клубочком где-нибудь в углу и проспать беспробудным сном не меньше года, переждать тот период, когда боль особенно сильна, то тогда, проснувшись, она смогла бы жить дальше.
— Ты спрашивала меня о миссис Слак.
— Да. Как она?
— Уже идет на поправку. У нее было только растяжение.
— Я слышала, что растяжение может быть так же опасно, как перелом.
— И небольшое сотрясение мозга.
— У кого сотрясение мозга? — встряла Элли, которая внесла новые порции чили, расставив тарелки по всей длине рук, как делают официанты. Она всучила одну тарелку Джону, другую Алексу и искала, кого бы еще осчастливить. Кейт решила, что это похоже на одну из невозможных салонных игр: тот, кто в момент остановки музыки останется с тарелкой на руках, должен съесть все, что окажется на этой тарелке.
— Моя приходящая прислуга, — разъяснила Джеральдин. — Молли дю Слак. Нет, спасибо, мне достаточно. Я не очень-то люблю острое. Может, попозже я съем салата.
— Проблема с этими шишками состоит в том, — сказала им Элли с бессердечной легкомысленностью, — что с ними никогда не известно, выздоровел человек или нет. Твоя миссис Как-ее-там может две недели ходить как ни в чем ни бывало, а потом вдруг — бац!
— Что значит «бац»? — раздраженно спросила Кейт.
— Ну, то есть бум.
— Бум?
— Внезапная смерть.
— О, прелестно. — Кейт поставила тарелку на пол перед собой и взяла в руки бокал. К тарелке подбежал Маффи, принюхался к чили, чихнул и задрал хвост.
— Будь здоров, — рассеянно сказала Элли.
«Нет, я определенно сойду здесь с ума», — отметила про себя Кейт.
— Я всего лишь констатирую факты. Да, Кейт, ну и бомбу сбросили на тебя сегодня Наоми с Алексом. Ну, и каково же это — ожидать внука? Надо будет мне предупредить Джуин, что если она планирует сделать меня бабушкой, то я отправлю ее на стерилизацию. Кстати, где это сокровище моего чрева? Я ее уже сто лет не видела.
— Понятия не имею.
Но на самом деле Кейт догадывалась. Она видела краем глаза, что когда Алекс делился своей сногсшибательной новостью, за спиной Наоми маячила тонкая фигурка. Словно пронзая себя кинжалом, Джуин прижала сомкнутые руки к груди, потом вся обмякла и, покачиваясь, ушла. Должно быть, сейчас она лежала у себя на кровати и рыдала в подушку.
И в этом Кейт завидовала Джуин, потому что сама она сбежать не могла. Ей придется досидеть до горького конца.
— Я полагаю, тебя можно поздравить, — сказал Джон Алексу и протянул руку, удивляясь про себя, почему он ведет себя как старый глупый зануда. (Может, потому что он и есть старый глупый зануда?) Он все пытался поймать взгляд Кейт, чтобы глазами сказать, что сожалеет, но она сидела, отвернувшись в сторону, к нему спиной, ковыряясь вилкой в чудовищной стряпне Элли (что она туда положила, порох, что ли?). Если бы Джеральдин отошла, то он смог бы сесть рядом с Кейт и найти какие-нибудь слова, чтобы все уладить. Он бы смог все исправить. Но Джеральдин не отходила. Поэтому он ничего не мог. И Джон тихо страдал.
За несколько минут до полуночи Джуин, осушившая в своей комнате целую бутылку шампанского в лучших традициях дома Шарпов, но совершенно не умеющая пить, выбралась через пустую кухню в садик, где все выпитое шампанское очутилось на клумбе.
Трава, посеребренная инеем, похрустывала под ногами. Джуин согнулась пополам, обхватила себя руками и проковыляла к краю маленького газона, где стала ждать, не изрыгнут ли еще чего-нибудь ее бурлящие внутренности.
— Я могу подержать твое пальто? — раздался у Джуин за спиной бодрый голос.
— У меня нет пальто, разве не видишь? — заплетающимся языком ответила она.
— Твое метафорическое пальто.
— И метафорического тоже нет.
— На самом деле я хотел узнать, не могу ли я быть чем-нибудь тебе полезен.
— Вечно ты пристаешь, Доминик.
Джуин со стоном выпрямилась, и Доминик положил ей руку на плечо и прижал ее к себе, утешая. Они постояли так, не говоря ни слова, глядя на серебряную луну, похожую на срезанный кончик ногтя. Потом Джуин громко рыгнула, и ей стало легче.
— Прошу прощения, — извинилась она.
— Прощаю, — ответил он. — Вечеринка — супер, да?
— Как поживает твоя старушка?
— Моя мать?
— Да нет, тупица, та старая дама в приюте. Как ее звали? Мэйбел?
— Да вроде ничего. Она завела себе новую подругу. Миссис Грейс. А мисс Армитидж теперь сидит у окна и шьет одеяло из квадратов. На Рождество я подарила им пену для ванны.
— Ты просто прелесть.
— Фу! Ненавижу, когда меня называют прелестью!
— Ну хорошо, будь по-твоему. Ты — брюзга. Да, а Наоми как учудила! Взяла и забеременела!
— По-моему, это смешно. В ее-то возрасте.
— Помнишь, я тебе говорил, что случаются и более странные вещи?
— Да?
— Да, когда рассказывал тебе, что твоя мать, похоже, хотела родить ребенка от Дэвида Гарви. А родит Наоми. Что, в общем-то, одно и тоже, в смысле возраста.
— С той лишь разницей, что ребенок будет не от Дэвида, — напомнила Доминику Джуин, нетерпеливо взмахнув рукой.
— Откуда нам это может быть известно?
— Как откуда? — яростно воскликнула Джуин. — Этот ребенок от Алекса!
— Ты уверена в этом? А она — она сама уверена в этом?
— К чему ты клонишь, Доминик? О чем ты говоришь? Ты что, пьян?
— Трезв как стеклышко. Так вот, я могу рассказать тебе кое-что, от чего у тебя носки с ног свалятся, — попробуй сказать такое в нетрезвом виде. Но ты должна пообещать, что не проговоришься ни одной живой душе.
— Ладно. Обещаю.
— Клянешься?
— Клянусь.
— Жизнью матери?
— Ох, когда же ты повзрослеешь, наконец? Хочешь — рассказывай, не хочешь — не надо, но в игры я с тобой играть не собираюсь.
— Ну хорошо, помнишь, она приезжала в наш балаган на несколько дней? Тогда в доме было полно народу, и спали по несколько человек в комнате. То есть Дэвид спал в одной комнате с Наоми. А потом появился Алекс. Тогда я, надев свою шапку консультанта по вопросам семьи и брака, поднялся к ней в комнату и стал просить ее спуститься и встретиться с ним, но она отказалась. И мой мерзкий дядюшка был с ней и кричал что-то вроде: «Пусть убирается к чертовой матери». Потом она все-таки спустилась и изобразила нам нечто в духе миссис Рочестер[67]. Помнишь, та сумасшедшая? Которая лаяла? Так вот, Наоми прокаркала Алексу, чтобы он уходил, и он ушел. И как они после всего этого смогли помириться — это выше моего понимания. Я как мог старался способствовать примирению, но тогда это было невозможно. Тогда казалось, что скорее лев и ягненок лягут вместе спать.
Джуин закусила нижнюю губу.
— У меня во рту ужасный вкус. Как ты думаешь, она рассказала Алексу про Дэвида? Или, может, она по-прежнему с ним встречается?
Доминик задумчиво почесал нос:
— Даже не знаю. Но одно я точно тебе скажу: я в это грязное дело больше не вмешиваюсь. Ничего не вижу, ничего не слышу, ничего никому не скажу.
— Но Алекс ведь имеет право знать?
— Не лезь не в свое дело, Джуин. Забудь о том, что я тебе сказал. Пусть ни слова об этом не вырвется из твоих сладких губ. Эй, да ты же вся дрожишь, как желе. Твои маленькие ручки совсем заледенели. Дай я тебя согрею.
— Я не замерзла, — запротестовала Джуин, но ее зубы стучали как клавиши печатной машинки, и она почти не сопротивлялась, когда Доминик заключил ее в свои объятия, и даже положила голову ему на плечо и уткнулась лицом в его рубашку. — То предложение, которое ты мне сделал. Оно еще действительно?
— Срок его действия оканчивается тридцать первого декабря. Это значит, что у тебя осталось… — Он поднес запястье к глазам и прищурился, разглядывая циферблат. — Это значит, что у тебя осталось пятнадцать секунд на принятие решения.
Джуин оторвала голову от груди Доминика и отвернулась от него.
— Смотри, — сказала она, кивая в сторону дома. В освещенном окне они увидели, как все взрослые сошлись в один большой круг и взялись за руки. Сквозь стекло донеслись слабые звуки какой-то заунывной новогодней песни. — Я бы со стыда умерла, — прошептала Джуин.
— Как это все надуманно, правда?
— Слышишь, часы бьют полночь? — Она подняла палец и наклонила голову, отсчитывая удары. — Восемь, девять, десять, одиннадцать. Хорошо, Доминик. Я принимаю твое предложение.
Когда на исходе года они все вместе собрались в хоровод, чтобы исполнить «Песню дружбы» Бернса, Джон поставил себе целью оказаться рядом с Кейт и взять ее за руку. Он сжал ее пальцы очень-очень крепко, так что они онемели, и не отпустил их даже после того, как песнопения закончились и круг танцующих распался. Вместо этого он потащил Кейт за собой к стеклянным дверям, делая вид, что весело флиртует, — на тот случай, если за ними кто-нибудь следит.
— Я придумал для тебя слово.
— Какое?
— Бруннера.
— Я не понимаю, — сказала Кейт, и не ясно было, что именно она не понимает. Потом она спросила: — Это животное?
— Нет.
— Овощ?
— Теплее.
— Знаешь, меня это убивает.
— Меня тоже.
Она поднесла к его лицу руки, легонько постучала по нему костяшками пальцев.
— Ты простишь меня? — спросил Джон.
— Как я могу не простить тебя? Так, эта бруннера. Это цветок?
— Да.
— Я так скучаю по тебе. Я так хочу видеть тебя. Это дикий цветок?
— И дикий, и садовый.
— Если бы мы не зашли так далеко, нам сейчас было бы проще. Зря мы все так усложнили. Надо было относиться к этому как к легкому увлечению.
— Мы же не можем выбирать: влюбляться или нет, правда?
— Не знаю. Нужно было хотя бы постараться. Это лютик?
— Нет?
— Помнишь тот парк? И уток?
— Я помню все. И никогда не забуду.
— Незабудка?
— Почти. Это незабудочник. Стоило ли это все наших страданий, а, как ты считаешь?
Кейт со всей серьезностью отнеслась к вопросу. Потом, глядя прямо ему в глаза, она дала ответ:
— Да, Джон. О да, я считаю, стоило.
Для Дэвида Гарви этот вечер не был лучшим в его жизни. Можно сказать прямо: вечер не удался. Рыжеволосая Роксана, с которой он познакомился в Гручо-клубе и с которой они с тех пор время от времени встречались, оказалась связанной с издательским бизнесом, потому он рассказал ей о своем романе. Он подробно описал ей, что будет представлять из себя его творение — то есть что это будет серьезное высокохудожественное произведение, поднимающее темы добра и зла, секса, власти, войны, мира и всего, черт побери, остального. Очень интересно, ответила Роксана. А есть ли у него уже что-нибудь готовое? Существовал ли, например, список героев с краткими характеристиками? Основы сюжета?
Господи, неужели ей недостаточно его имени? Неужели она не видит, как оно, набранное крупным жирным шрифтом, кричит с прилавков книжных магазинов? Чего вообще хочет эта женщина — крови? Дэвид начал сомневаться в том, знает ли Роксана свою работу. Поскольку он отлично представлял себе, как делаются подобные дела. Сначала шел обед в хорошем ресторане. Издатель и предполагаемый автор, желательно с именем в мире медиа, склоняли головы над бутылкой холодного «Шабли» и обменивались несколькими идеями. Потом тебя приводили к агенту — быстрому как понос, и вот уже курьерская почта доставляла тебе чек на четверть миллиона.
Мысль о том, что Роксана просто играет с ним, что она не воспринимает его серьезно и ее интересует в нем только одно, ничуть не улучшила его настроения в этот вечер. И они ссорились не переставая. В половину одиннадцатого Роксана поймала такси и умчалась, а Дэвид остался стоять на углу Фрит-стрит и Олд-Кэмптон-стрит как никому не нужный член.
Сохо было забито пьяными, весь район казался незнакомым и неприятным местом. В клубе Дэвид не нашел ни одного приятеля, а ему вдруг ужасно захотелось провести конец года в кругу друзей, в какой-нибудь непринужденной компании. Но он не мог вспомнить ни одного не обремененного условностями человека, на ум приходила одна только Элли. Поэтому и он в свою очередь остановил такси и поехал в Хэкни.
— Это будет наш первый гость, — возликовала Элли, когда в пять минут двенадцатого раздался звонок. И она вприпрыжку, как девочка, побежала открывать дверь Даркусу — или Маркусу?
Наоми как раз вышла из ванной и спускалась по лестнице, когда Элли щелкнула замком, и в дверном проеме возникла темная мужская фигура. Рука Наоми подлетела ко рту, ей пришлось прислониться к перилам, чтобы не упасть. Это был Дэвид! Дэвид Гарви! Всегда ориентированная только на себя, Наоми тут же решила, что он пришел за ней. Пришел, чтобы уничтожить ее. Сломать все. И она стала медленно пятиться, трепещущими пальцами перебирая перила, с каждым шагом становясь все меньше.
Однако у Элли были другие представления о том, зачем пришел Дэвид Гарви.
— Не сегодня, спасибо, — крикнула она и захлопнула дверь перед ненавистным лицом.
— Кто это был? — спросила Кейт, медленно входя в холл с видом потерявшегося человека.
— Никто, — не задумываясь ответила Элли. — Просто никто, Кейт.
Глава тринадцатая
— Итак, за нас, — провозгласила Элли, разливая шампанское по четырем разномастным стаканам и раздавая их подругам. — Спустя столько лет мы по-прежнему друзья.
— Да, — сказала Кейт, уткнулась носом в стакан и со смешанными чувствами поглядела из-под полуприкрытых век на сонную и спокойную Наоми, на пухлую, гладкую Джеральдин. Лучшие и худшие друзья, добавила она про себя.
Теплый воздух из сада вдыхал жизнь в занавеску, задернутую, чтобы преградить путь слепящему солнечному свету. Но не от жара раннего лета было трудно дышать в комнате, а от ощущения, что рядом с ними находится нечто преходящее, невидимое, женственное, первобытное. Ощущения, что до этого момента никто и никогда не рожал детей.
— Как прошли роды — очень тяжело? — спросила Джеральдин с какой-то самодовольной заботливостью. Она ставила розы на длинных стеблях в банку из-под варенья.
— Не очень. — Наоми вытянула ноги, поморщилась и улыбнулась многострадальной улыбкой. Она лежала на кровати в окружении красиво уложенных подушек и смотрела на своего малыша с изумленным неверием в глазах. — Терпимо. Боль была, конечно, невообразимая, и все же…
Три опытные мамаши серьезно слушали Наоми, серьезно следили за тем, как она потянулась и осторожно покачала колыбельку.
— Тебя зашивали? — поинтересовалась Элли. — Тебе ничего не разорвали? Эй, подвинься. — Она бросилась к колыбели, стоящей возле Наоми, и выкинула оттуда плюшевого медвежонка — подарок Кейт, застенчиво преподнесенный.
— В самом деле, Элли! — укорила подругу Кейт. С необъяснимой робостью, как будто у нее не было на это права, она заглянула в колыбельку.
Про себя она решила, что младенец не был красивейшим из новорожденных. Приза как самому симпатичному малышу ему бы не дали. Он был очень красным, сморщенным, с обеспокоенным личиком. Удивительно, как два таких привлекательных человека могли породить столь несуразное существо. И все же она разозлилась и вспыхнула от негодования, когда Элли сказала:
— Он похож на картофелину.
— Я думаю, он чудесный, — невозмутимо ответила Наоми. Даже с закрытыми глазами она видела своего мальчика, она держала его в памяти. Это было странно.
— А как ты сама? — хотела знать Джеральдин. В этот простой, в сущности, вопрос она сумела вложить несвойственную ему, ничем не оправданную многозначительность.
— Сама? — Наоми вздохнула. По правде говоря, она еще не разобралась. Помимо любви к этому кусочку новой жизни, который стал центром жизни, сместив саму Наоми, за которого она бы умерла не задумываясь, она испытывала еще одно непонятное, темное чувство. Почти ненависть.
Само собой, ее эмоции еще более усложнялись и вопросом отцовства, неуверенностью от незнания и невозможности узнать. В душе Наоми сплелись воедино стыд и гордость, безысходное отчаяние и несказанное счастье. Порою у нее просто опускались руки. Она сумела устроить себе чудный маленький ад на земле, в котором было все, кроме определенности.
— Четвертый день самый трудный, — объявила Элли. — Это из-за гормонов, дорогая. По химическому составу ты сейчас напоминаешь коктейль «Молотов». Так что не беспокойся, если начнешь выкидывать номера. — Она взяла в руки детскую курточку, связанную из нежно-голубой шерсти, всю в кружевах и рюшах, с ленточкой-галстуком. — А что это такое? — с недоумением спросила она.
— Это связала Джеральдин. — Наоми бросила на Элли уничтожающий взгляд. — Правда, очень мило?
— Если честно, то в этом он будет похож на девчонку.
— А ты читала, — вставила Кейт, желая наказать Элли, — что Дон Хэнкок была названа лучшим обозревателем года за ее рубрику в «Инкуайрере»?
— Хм, дорогуша, все мы знаем, чего стоят все эти журналистские премии.
— Да?
— Просто ежегодное чествование посредственности.
— А тебя никогда не выдвигали в числе претендентов? Ни разу?
— Да мне и не хотелось, спасибо большое. А то бы я забеспокоилась, что теряю хватку.
— Не ссорьтесь, — слабым голосом попросила Наоми. — Пожалуйста.
— Да, девочки, не ссорьтесь, — поддержала ее Джеральдин. — Мы ведь собрались не для этого.
— Верно, — уступила Элли. — Кому подлить? Надо как следует обмыть новорожденного!
— Мне не надо, спасибо. Я должна бежать. — Джеральдин поставила банку с розами на комод, отступила на шаг, чтобы оценить результат, пожалела, что не нашлось настоящей вазы. — Мне еще нужно заехать в туристическое агентство.
— А ты не опустишь вот это письмо для меня? — спросила Наоми, извлекая из-под подушки узкий белый конверт.
Элли бесцеремонно выхватила конверт, прочитала адрес и отдала конверт обратно.
— Ты пишешь своему отцу?
— Да.
— Лично мне кажется, что ты ничем ему не обязана…
— Обязана, Элли. И даже больше, чем ему кажется. Так что мне надо было рассчитаться с ним. — «Надо решить хотя бы один вопрос, — думала Наоми. — Освободиться от грязного прошлого. Освободиться от денег, наличие которых я никогда не смогу объяснить Алексу, от обладания которыми я не смогу получить удовольствия. И доказать, что я не совсем плохая». Наоми посмотрела на каждую подругу по очереди, ища одобрения, но находя лишь непонимание. Они не знали и половины всего.
— Мы едем на Нормандские острова, — продолжала говорить о своем Джеральдин, — я вам говорила? Только мы с Джоном. Люси проведет каникулы со своей подружкой Сарой Брук, а Доминик достаточно взрослый, чтобы можно было оставить его одного. Так что для нас это будет как второй медовый месяц.
Господи! Кейт съежилась. Боль была невообразимой. И все же терпимой. Не больней, чем роды, наверное. Не больней материнства. Не больней ухода сына к твоей подруге.
— Можно мне взять малыша на руки? — спросила она неуверенно. Наоми движением руки дала молчаливое согласие, и Кейт взяла на руки это крошечное существо, прижала его к груди, вдохнула странный, странно знакомый запах грудного младенца, ощутила его мягкую кожу, прикоснулась щекой к его розовой головке — и ее затопила чистейшая, глубочайшая любовь, более сильная, чем ее любовь к Джону, еще менее рассудочная, чем ее любовь к взрослому Алексу. Она чуть не заплакала.
Смущенная неумеренностью своих чувств и показавшимися-таки слезами, Кейт с внуком на руках отошла к окну, где и осталась стоять, покачивая малыша, напевая ему что-то вполголоса. Тео, попробовала она назвать по имени пускающего пузыри младенца. Теодор. Как абсурдно звучат имена новорожденных! В этих голубых глазах пока не было ни намека на личность. Надо ждать по крайней мере год, чтобы увидеть, что он за человек. Это слишком преждевременно — давать имена при рождении.
«Я должна быть рядом с Наоми, — решила Кейт. — Я должна помочь ей. Как бы она ни старалась, одной ей будет не справиться. Моему драгоценному мальчику нужна будет его бабуля».
— Кажется, это было год назад? — спросила она, глядя влажными глазами на маленький садик, на пыльные кусты. — Кажется, прошел ровно год с тех пор, как ты приехала ко мне, Наоми, да?
— Почти.
— С тех пор много воды утекло, — процитировала Элли, — как верно заметил кто-то очень умный. Наоми, а когда ты рожала, Алекс держал тебя за руку? Говорил тебе, как дышать, когда тужиться? Для них-то все просто, для мужиков.
— Не думаю, что для него это было очень просто, — ответила Наоми любяще, добродушно (Кейт не оборачиваясь чувствовала ее улыбку). — Я боялась, что он упадет в обморок и устроит сцену.
— Когда дело касается крови, они сами — большие дети, эти мужчины, — заметила Джеральдин. — Они такие слабые психически. Не могут вынести даже небольшой боли. Я помню, когда Дэвиду перерезали протоки, он так мандражировал, а там дел-то — всего несколько минут, пустяковая операция.
— Операция? — слабо переспросила Наоми.
— Ну, ты знаешь. Вазектомия.
— Дэвиду делали…
— Ну да. Четыре или пять лет назад. Я была против, я ему так и сказала: «Когда-нибудь ты захочешь осесть, захочешь завести нормальную семью». Но его было не переубедить. Он сказал, что у него уже был один незапланированный ребенок, один «щенок», как он выразился, и этого ему хватило с головой. О, боже мой, Кейт, прости меня. Я совсем не думаю, что говорю.
— Что? Извини, я прослушала — замечталась. — Кейт, возвращаясь от окна со своим дорогим Тео, с удивлением обнаружила, что Наоми плачет.
Джуин Шарп сняла трубку и набрала номер. Раздался гудок («Дерьмокопалка», раздался в ее голове голос Элли), второй («Хитрая жаба»). Но ведь Алекс должен знать правду…
После третьего гудка на том конце провода трубку снял Алекс.
— Алло? — произнес он радостно, в ожидании только хорошего. — Алло! Алло-о! — раздавалось в трубке.
Джуин с трудом сглотнула комок в горле и вместе с ним, казалось, проглотила все слова. Она открыла рот, но говорить было нечего. Быстро, с бьющимся сердцем, она бросила трубку. И тут же снова схватила ее, чтобы позвонить Доминику.
То, что она знает, она никому не расскажет. Никогда.
Внимание!
Текст предназначен только для предварительного ознакомительного чтения.
После ознакомления с содержанием данной книги Вам следует незамедлительно ее удалить. Сохраняя данный текст Вы несете ответственность в соответствии с законодательством. Любое коммерческое и иное использование кроме предварительного ознакомления запрещено. Публикация данных материалов не преследует за собой никакой коммерческой выгоды. Эта книга способствует профессиональному росту читателей и является рекламой бумажных изданий.
Все права на исходные материалы принадлежат соответствующим организациям и частным лицам.
1
Сорт клематиса. — Здесь и далее примеч. пер.
(обратно)2
Пеларгония зональная.
(обратно)3
Игра слов: фамилия героини Шарп (Sharpe) звучит так же, как слово «sharp», означающее «острый».
(обратно)4
Улица в Лондоне, где находятся редакции крупнейших газет и журналов Великобритании.
(обратно)5
Имеется в виду подростковый сериал «Спасенные звонком».
(обратно)6
Член неудачной экспедиции Скотта на Южный полюс в 1912 году, который погиб, пытаясь спасти товарищей; свое посмертное прозвище «Галантный капитан» он получил за то, что, выползая из палатки в сорокаградусный мороз, предупредил остающихся, что «некоторое время его не будет».
(обратно)7
Макаронные изделия в форме гребешков (ит.).
(обратно)8
Возможно, имеется в виду англо-бурская война 1899–1902.
(обратно)9
Концентрированное антисептическое и дезинфицирующее средство.
(обратно)10
Торговые марки пищевых продуктов.
(обратно)11
Грамматическая форма глагола в английском языке, образуется с помощью суффикса — инг (-ing).
(обратно)12
Ни к чему; ненужный, мешающий (фр.).
(обратно)13
Вполголоса (муз., ит.).
(обратно)14
Николас Томалин (1931–1973) — известный британский журналист.
(обратно)15
Трехуровневая недесятичная денежная система фунт — шиллинг — пенс просуществовала в Великобритании до 1971 года.
(обратно)16
Цитата из поэмы «Ламия» Джона Китса (1795–1821):
Любовь и черствый хлеб средь нищих стен —
Прости, Амур! — есть пепел, прах и тлен.
(Пер. С. Сухарева)
(обратно)17
Цитата из поэмы «Ламия» Джона Нитса в переводе С. Сухарева.
(обратно)18
Джек Хорнер, мисс Маффет, королева — герои из сборника английских детских стихов «Песни Матушки-Гусыни».
(обратно)19
Себялюбие, эгоизм (фр.).
(обратно)20
«Лайт программ» (Light Programme) — одна из популярных программ радио «Би-би-си» 60-70-х годов.
(обратно)21
«Хоум энд колониал» (Home and Colonial) — сеть магазинов, популярная в Британии с конца XIX в. до середины XX в.
(обратно)22
«Энди Пэнди» (Andy Pandy) — детская телевизионная передача, появившаяся в конце 50-х годов XX в.
(обратно)23
Покок (Pocock) — обыгрываются английские слова «po» (разг.) ночной горшок и «cock» (груб.) — мужской половой орган.
(обратно)24
Пикок (Peacock) — павлин (англ.).
(обратно)25
Титбол (Titball) — обыгрываются английские слова «tit» (груб.) — женская грудь и «ball» (груб.) — мужская семенная железа.
(обратно)26
Брестикл (Breasticle) — объединены два английских слова «breast» — женская грудь и «testicle» — мужская семенная железа.
(обратно)27
Смелли (Smellie) — звучит так же, как слово «smelly» — дурно пахнущий (англ.).
(обратно)28
Улонг — сорт черного китайского чая.
(обратно)29
«Как говорила актриса епископу» («As the actress said to the bish-op») — английская поговорка, зародившаяся в XIX в., когда актрисами называли представительниц древнейшей профессии. Используется для указания на двусмысленность сказанного собеседником. В данном случае Тревор намекает на звуковое сходство слова «улонг» и английского слова «лонг» (long) — длинный.
(обратно)30
Оперетта английского композитора Артура Салливена (1842–1900), работавшего в содружестве с английским драматургом Уильямом Гилбертом (1842–1911).
(обратно)31
Имеется в виду оперетта А. Салливена и У. Гилберта «Микадо».
(обратно)32
«Сердитая бригада» (the Angry Brigade) — лондонская подпольная организация, ведшая вооруженную борьбу с устоями консервативного британского государства в 70-х годах XX в.
(обратно)33
Имеется в виду шотландский национальный вид спорта — метание ствола.
(обратно)34
Героиня одноименной повести Э. Портер, видящая во всем только хорошее и верящая в добро.
(обратно)35
Перефразируется «Песнь песней» царя Соломона.
(обратно)36
Аннунцио Паоло Мантовани (1905–1980) — английский музыкант и аранжировщик, итальянец по происхождению.
(обратно)37
Модельеры начала XX в.
(обратно)38
Даунсайд-хаус — можно перевести как «Дом на нижней стороне».
(обратно)39
Rus in urbe (лат.) — сельский элемент в городе.
(обратно)40
Эскоффье — знаменитый французский повар XIX в.
(обратно)41
Фанни и Джонни Крэдок — ведущие популярной кулинарной телепередачи 70-х годов XX в.
(обратно)42
Скифл — народные песни в исполнении певца-гитариста с импровизированным ансамблем.
(обратно)43
«Мейденформ» — известная британская компания — производитель женского белья.
(обратно)44
«Прошлой ночью мне снилось, что я вернулась в Мэндерли» — цитата из романа «Ребекка» Дафны Дю Морье.
(обратно)45
Энди Уорхолл (1930–1968) — американский художник и основоположник поп-арта, сказавший однажды, что каждый человек имеет право на пятнадцать минут славы.
(обратно)46
Популярный персонаж английского кукольного театра, созданный Энн Хогарт и Джоном Баслом в середине XX в.
(обратно)47
Цитата из трагедии «Отелло» Уильяма Шекспира в переводе Бориса Пастернака.
(обратно)48
Исторический (англ.).
(обратно)49
Клитор (англ.).
(обратно)50
Мужские половые органы (вульг., англ.).
(обратно)51
Клеить (англ.).
(обратно)52
Отставание (англ.).
(обратно)53
Шлак, мусор, а также распущенный человек (англ.).
(обратно)54
Игра слов: слово «орехи» в английском языке также означает «чокнутый».
(обратно)55
Пивная, не связанная с отдельной пивоварней, торгующая пивом разных марок; дословно «свободный дом» (англ.).
(обратно)56
Игра слов: фамилия шотландского поэта Роберта Бернса (1759–1796) созвучна английскому слову burn (англ.) — «гореть».
(обратно)57
Стихотворение «Ноябрь» английского поэта Томаса Худа (1799–1845).
(обратно)58
Отрывок из песни «Those were the days» (муз. Б. Фомина, сл. Д. Раскина).
(обратно)59
Отрывки из песни «Старая дружба» Роберта Бернса в переводе С. Маршака.
(обратно)60
Фортунат — герой немецкой книги «Фортунат» (1509), которому фея предложила сумки с богатством, мудростью, силой, здоровьем, красотой и долголетием, и он выбрал богатство.
(обратно)61
Перефразируется известный приказ, который Кромвель отдал своему портретисту: писать портрет со всеми бородавками.
(обратно)62
Мамон — арамейский бог богатства и выгоды.
(обратно)63
Игра слов: имя Дон переводится с английского как «рассвет».
(обратно)64
Имеется в виду старинное шотландское поверье: первый гость в новом году приносит удачу, если он оказывается высоким, темным незнакомцем с куском угля в руках.
(обратно)65
Здесь и далее по тексту: отрывок из поэмы «Второе пришествие» ирландского поэта У.-Б. Йетса (1856–1939).
(обратно)66
Здесь и далее по тексту — отрывок из стихотворения «Эльфы» ирландского поэта У. Аллингхема (1824–1889).
(обратно)67
Имеется в виду душевнобольная жена мистера Рочестера — героя романа Шарлотты Бронте «Джейн Эйр» (1847).
(обратно)



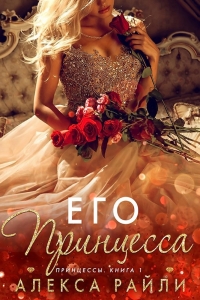


Комментарии к книге «Любовь плохой женщины», Роуз Шепард
Всего 0 комментариев