Посвящается сотням женщин-летчиц из более чем полутора десятков стран, служивших во Вспомогательном Транспортном Авиаотряде с сентября 1939 по ноябрь 1945 года.
И вновь я посвящаю книгу Стиву. С неизменной любовью — прежде, ныне и навсегда.
ПРОЛОГ
Неужели сегодня ее шестидесятый день рождения, удивлялась Ева, виконтесса Поль-Себастьян де Лансель, одна из самых знатных дам провинции Шампань, ведь с самого утра она охвачена радостным возбуждением, столь же торжественным, как цветущий сад, овеваемый ветром под праздничными небесами?
Перед завтраком она, как и каждое утро, выскользнула из дома, чтобы взглянуть на виноградник, расположенный поблизости от Шато де Вальмон — родового гнезда Ланселей. Теплый апрель 1956 года вызвал необычайно бурный рост молодых побегов винограда. Повсюду в этой плодоносной стране от двухакровых виноградников крестьян до огромных владений производителей лучших марок шампанского, таких, как «Лансель», «Моэт и Шандон» и «Боллинже», распространилась весть об этом обильном росте, перекидываясь от одного зазеленевшего холма до другого.
Однако радость ее никак не связана с предвкушением большого урожая, думала Ева де Лансель, переодеваясь позже к праздничному обеду по случаю дня ее рождения. Урожай всегда сомнителен, и хорошая весна не гарантирует осеннего изобилия. Но сегодняшний день начинался в праздничной атмосфере, ведь вся семья собралась в замке.
Всего за минуту до полуночи ей было пятьдесят девять, а через минуту стало шестьдесят. Ну почему ей сегодня не пятьдесят девять плюс еще несколько часов, спрашивала себя Ева. Обязана ли она признавать, что ей шестьдесят, ведь применительно к ней это абсолютно бессмысленная цифра, пусть даже в глазах света это выглядит глупо? Что это? Может, это универсальная тайна всех тех, кто достигает шестидесяти? Вдруг ощущаешь себя… ну, допустим, тридцатидвухлетним? Или она по-прежнему чувствует себя еще моложе, скажем… как в двадцать пять? Да, пожалуй, как в двадцать пять — это вернее всего, решила Ева, смело глядя в зеркало на туалетном столике. Она быстро прикинула. Ей было двадцать пять, когда ее муж состоял первым секретарем французского посольства в Австралии. Тогда их старшей дочери Дельфине исполнилось три года, а младшей Фредди, нареченной при крещении Мари-Фредерик, — только полтора. Будь на то ее воля, с облегчением подумала Ева, она ни за что не повторила бы этот год, когда ей пришлось посвятить себя полностью материнским хлопотам.
Фредди и Дельфина, уже взрослые женщины с собственными детьми, сейчас были в Вальмоне. Они приехали в замок утром — Дельфина из Парижа, Фредди из Лос-Анджелеса — с мужьями, детьми, няньками и багажом: должно быть, только теперь они успели распаковать вещи. Зятья пообещали Еве поиграть с детьми в саду подольше, так что сейчас в замке из всей семьи были только дамы Лансель. Ева, ощутив импульсивное желание побыть со своими дочерьми, позвонила горничной — та появилась в дверях спальни.
— Жозет, будьте добры, попросите дочерей прийти ко мне в гостиную. И скажите Анри принести нам бокалы и шампанское. Разумеется, розовое, 1947 года.
Девочкам, конечно, не понять, что розовое шампанское того года — редчайшее искристое вино, когда-либо произведенное на земле. Но Ева была не расположена объяснять это дочерям. Праздничная трапеза должна была начаться раньше чем обычно, чтобы за столом могли сидеть ее внуки. Бокал шампанского теперь, в пять часов пополудни, придется весьма кстати. Лишь полчаса осталось до шумного возвращения в замок мужчин и мальчиков.
Ева накинула расширяющийся книзу халат с глубоким вырезом из розовой тафты особого оттенка — цвета перьев фламинго, отражавший косые лучи весеннего солнца, которые возвращали ее волосам редкий светлый тон, присущий им еще несколько лет назад.
Она… постарела. Не нужно стесняться этого неприятного, но неизбежного слова, подумала Ева. Она выглядит просто замечательно для своих лет, сохранив великолепную фигуру и исполненные благородства и грации движения женщины, юность которой прошла в последние годы эдвардианской эпохи, когда осанка значила не меньше, чем неоспоримая красота, хотя родители Евы осмотрительно не превозносили ее. Брови Евы высоко приподнялись, а губы изогнулись в полунасмешливой улыбке при воспоминании о давно ушедшей наивной невинности тех печально-сладких дней перед первой мировой войной.
Из гостиной послышался голос Дельфины:
— Мама?
— Входи, дорогая, — сказала Ева старшей дочери, поспешив выйти из спальни.
Дельфина в роскошном белом шелковом халате, заказанном, как и вся ее одежда, у Диора, проплыла через комнату и с облегчением опустилась в глубокое парчовое кресло.
— Как здесь чудесно, — почти жалобно вздохнула она.
— Ты выглядишь немного усталой, дорогая.
— Ах, мама, почему у меня только мальчишки? — воскликнула Дельфина, явно не ожидая ответа. — Близнецам, слава Богу, уже десять, и они сами занимают себя, но остальные! Поль-Себастьян и Жан-Люк дерутся весь день. Хоть бы следующая была девочка! — Дельфина с надеждой похлопала себя по животу. — Разве я, в конце концов, не заслужила этого? Это было бы справедливо.
Она посмотрела на мать так, словно Ева могла точно ответить на ее вопрос. Усталость не сказалась на необыкновенной красоте Дельфины. Ничто не могло изменить магнетическое выражение ее огромных, широко расставленных глаз или омрачить гладкий широкий лоб. Уголки ее красивых губ были неизменно приподняты в загадочной улыбке, а изящную линию маленького подбородка и овал лица, напоминающий сердце, обожали миллионы людей. Дельфина была одной из самых популярных французских киноактрис и в свои тридцать восемь лет была в зените славы, ибо рациональные французы считают, что после тридцати пяти женщина гораздо очаровательнее, чем в годы ранней юности.
— На этот раз наверняка будет девочка, — сказала Ева, ласково поглаживая каштановые волосы дочери.
Анри принес бокалы и шампанское.
— Откупорить бутылку, мадам? — спросил он у Евы.
— Благодарю, я сделаю это сама.
Ева жестом отпустила слугу. Традиция замка Вальмон предписывала хозяйке дома собственноручно открывать и разливать первую бутылку шампанского в торжественных случаях. Для Евы минуты интимного общения с дочерью были куда важнее предстоящего праздничного обеда.
— А где же Фредди? — спросила она у Дельфины, которая в изнеможении откинулась на парчовые подушки, распластала руки и постанывала от наслаждения.
— Купает своих малышей. Мне до сих пор не верится, что Фредди меньше чем за два года родила двух мальчиков. Видно, наверстывает упущенное.
— Разве их не могла искупать няня? — удивилась Ева.
— Обычно так и бывает, — весело пояснила Дельфина. — Бедную женщину притащили для этого прямо из Калифорнии, но Фредди сейчас просто невозможно оторвать от ее отпрысков.
— Кто упоминает имя мое всуе?
В гостиную, размахивая щеткой для волос, своей чуть небрежной походкой стремительно вошла тридцатишестилетняя Фредди. Сейчас она более чем обычно напоминала сорванца в юбке светящейся в глазах душевной прямотой, безмятежной улыбкой и беззаботной веселостью, с которой готова была принять любой вызов судьбы.
— Дельфина, пожалей меня, — с отчаянием обратилась она к старшей сестре. — Сотвори что-нибудь с моими волосами! Что угодно! Ты у нас в этом деле главный специалист и лучше всех знаешь, что тут я абсолютно бессильна!
Фредди плюхнулась в кресло, высоко задрав длинные ноги в белых льняных брюках и выписывая ими в воздухе изящные пируэты. По одной только ее манере двигаться можно было догадаться, что Фредди рождена летать на любых самолетах, какие только существовали в истории воздухоплавания, подумала Ева.
Волосы ее младшей дочери — рыжие, цвета старой, потемневшей меди, были такими густыми и блестящими, что мгновенно привлекали к себе всеобщее внимание, едва Фредди где-нибудь появлялась, и настолько непослушными, что ни одному парикмахеру никогда не удавалось привести их в божеский вид. За всю поразительную карьеру Фредди, одной из самых знаменитых в мире летчиц, прославившейся отчаянной храбростью в годы второй мировой войны, с ее волосами справлялся только летный шлем и то до того лишь момента, пока Фредди его не снимала.
Ева смотрела на своих удивительно разных, но смелых, волевых, неистовых и безудержных дочерей, которых неумолимое время превратило во взрослых женщин.
— Выпьете со мной по бокалу шампанского? — предложила она и быстро откупорила бутылку поворотом щипчиков с плоскими краями, созданных несколько поколений назад специально для этой цели. Налив немного в свой бокал, Ева опытной рукой повертела его, чтобы пробудить вино от спячки. Она наблюдала, как исчезает пена с поверхности бледно-розовой жидкости. Отпив глоток и поняв, что вино не обмануло ее ожиданий, Ева ловко наполнила три бокала и вручила по одному каждой из дочерей.
— Никогда не забуду вкус моего первого шампанского, — сказала Фредди. — Я попробовала его здесь, на террасе замка, когда мы впервые все вместе приехали сюда погостить из Калифорнии. Мама, какой это был год? — В пронзительно синих, словно отражающих небо глазах Фредди появилось необычное мечтательное выражение.
— Тридцать третий, — ответила Ева. — Тебе тогда было всего тринадцать, однако твоя бабушка заявила, что ты уже вполне взрослая.
— Что сказала прабабушка? — полюбопытствовал голосок у двери гостиной. В комнату впорхнула четырнадцатилетняя дочь Фредди Энни в джинсах и мужской рубашке с закатанными рукавами. — А почему меня не пригласили на эти милые посиделки?
— Не лучше ли тебе присоединиться к детям? — спросила Фредди, разыгрывая строгую мать.
— Неужели я похожа на отца или какого-нибудь негодного мальчишку? — шутливо парировала Энни, дерзко усмехнувшись. — В нашей семье я единственная девочка такого возраста, и мне не подобает шляться по окрестностям с толпой мальчишек. Я полчасика подремала в своей комнате и не собираюсь спать сегодня ночью, если найдется хоть кто-то не из нашей родни, с кем можно будет потанцевать, — с восторгом объявила она.
Энни считала себя самой зрелой и мудрой из женщин семьи Лансель, отчасти даже взрослее, чем ее обожаемая бабушка.
— Что ты собираешься надеть? — поинтересовалась Ева.
— У меня ничего нет, — пожаловалась девочка, горестно покачивая кудрявой головой.
— Ты привезла два битком набитых чемодана, — рассмеялась Фредди. — Там куча нарядов.
— Но ни один из них не годится для сегодняшнего случая. Бабушка, можно мне заглянуть в твой гардероб?
— Сперва возьми бокал шампанского, — предложила Ева. Она ни в чем не могла отказать внучке.
Та с любопытством пригубила вино. Это было ее первое знакомство с шампанским. По французскому обычаю, когда пробуешь что-нибудь в первый раз, можно загадать желание. Сморщив прелестный носик, Энни отпила глоток побольше, чтобы распробовать вино по-настоящему.
— М-м-м… — Загадав желание, она сделала еще глоток.
— Ты почувствовала что-нибудь особенное? — спросила Ева.
— Да. Во рту у него один вкус, а когда я проглотила, стал другой — мое горло как-то необычно согрелось.
— Этой особенностью обладает только безупречное шампанское, — заметила Ева. — Этот сорт называется «Прощание».
Сделав еще один большой глоток, Энни отставила бокал и исчезла в бабушкиной спальне, где стоял громадный гардероб.
— У девочки природный вкус, — радостно сказала дочерям Ева. — Никто из вас за все эти годы ни разу не отметил «Прощания». Фредди, может, пришлешь сюда Энни на следующее лето поучиться искусству изготовления шампанского? Кто-то должен в свое время возглавить «Дом Лансель».
— Я полагала, что следующим летом она начнет летать, но, если захочет… почему бы и нет?
Энни выбежала из спальни, держа в руках вешалку. На ней висело красное шифоновое платье с тонкими ленточками бретелей над маленьким задрапированным корсажем. Бретели и пояс вокруг узкой талии были густо усыпаны искусственными бриллиантами, сверкающими так ярко, словно под прямым лучом света. Красная юбка в складку развевалась, будто танцевала в воздухе, а полоски шифона различной длины блестели. Даже на вешалке платье казалось волшебным: оно как бы обладало собственной жизнью и историей.
— Бабушка, только взгляни, какая прелесть! Я ничего подобного раньше не видела. Это просто сказка! Уверена, оно придется мне как раз впору, — многозначительно закончила Энни.
— Где ты его нашла? — удивленно спросила Ева.
— В самом дальнем углу гардероба. Оно висело у самой стенки. Оно прямо на меня сшито!
— Я… я и забыла, что оно там. Это очень старое платье, дорогая. Ему, должно быть, уже… о-о, больше сорока лет.
— Это неважно, для меня оно лучше любого нового. Куда ты его надевала?
— Это не мое платье, Энни… Это платье Мэдди.
Дельфина и Фредди с любопытством наклонились вперед, чтобы поближе рассмотреть платье. Так оно и есть… Вот оно какое — знаменитое платье Мэдди, подумала Дельфина. Платье, связанное с семейным скандалом, о котором она узнала много лет назад. Дельфина никогда не видела этого платья, хотя слышала о нем гораздо чаще, чем ей того хотелось. Фредди была заинтригована. Она, конечно, знала о Мэдди, но и вообразить не могла, что платье окажется таким же живым, как и они сами. Фредди тоже питала слабость к одному красному платью, которое бережно хранила, но ей и в голову не приходило, что мать может проявлять такую сентиментальность по отношению к платью Мэдди.
Ева вновь наполнила шампанским четыре бокала.
— Думаю, нам следует выпить за Мэдди, — провозгласила она с сияющими глазами и легким румянцем на щеках. Что бы ее дочери ни думали о Мэдди, им никогда не понять, почему она сохранила это платье. В жизни есть вещи, которые невозможно, да и не нужно объяснять другим.
Дамы семьи Лансель высоко подняли бокалы.
— За Мэдди!
— Кто бы она ни была, — добавила Энни, поднимая свой бокал.
1
Беспечно улыбаясь, Ева Кудер протянула билетеру пятифранковую купюру, чтобы подняться на воздушном шаре, привязанном на огромном поле «Ла Маладьер» близ Дижона, где проходил последний день великого аэрошоу 1910 года.
— Вы одна, мадемуазель? — удивился билетер.
Столь молодую и привлекательную девушку без спутника здесь не часто приходилось видеть. Он окинул Еву быстрым оценивающим взглядом. Из-под полей соломенной шляпы на него с вызовом смотрели горящие, темно-серые, чертовски соблазнительные глаза. Тяжелые, скрученные в тугой узел волосы отливали каким-то неопределенным, но возбуждающим красновато-золотым оттенком, а ее полные, улыбающиеся губы были такого же естественного розового цвета, как и румянец на щеках.
— Мой муж боится высоты, месье, — ответила девушка с многозначительной улыбкой, выражающей понимание того, что билетер, конечно же, ничуть не боится высоты, и она восхищается его храбростью.
«Ого! Эта очаровательная юная провинциалка не так уж простодушна», — с удовольствием отметил билетер и, ответив Еве страстным взглядом, молча протянул ей билет. Сжав ее руку, обтянутую перчаткой, он галантно помог Еве подняться в сплетенную из ивовых прутьев корзину, такую большую, что в ней легко поместились бы пять человек.
Подобрав одной рукой узкую белую юбку и крепко придерживая другой модную широкополую шляпу, украшенную огромными шелковыми розами, Ева нервно постукивала каблучками низких шнурованных ботинок и нетерпеливо дожидалась, пока снимут несколько дюжин мешков с песком, удерживающих огромный красный шар на земле. Стараясь не смотреть на своих спутников, Ева повернулась к ним спиной, прислонилась к борту корзины, доходившему ей до талии, и уткнулась подбородком в высокий воротник блузки так, что его кружевные складки почти закрыли ее лицо.
Было двадцать пятое августа, воскресенье. День выдался жаркий, однако Ева дрожала от еле сдерживаемого нетерпения, пока рабочие занимались своим делом, покрикивая друг на друга. Внезапно громадный красный шар быстро и бесшумно взмыл в воздух.
Ошеломленная волшебным ощущением полета, Ева не обратила внимания на раскинувшуюся внизу древнюю и прекрасную столицу Бургундии, которую король Франциск I называл «городом сотни церквей»; она не отрываясь смотрела на далекий синий горизонт, пораженная невиданной картиной стремительно удаляющихся желтых и зеленых полей. С каждой секундой они становились все шире и шире.
«Как бесконечен мир», — подумала Ева, охваченная тем же детским восторгом, что и другие путешественники. Забыв про настороженность по отношению к трем спутникам-мужчинам, Ева обернулась и с восхищением оглядела чудесную панораму.
Подчинившись непреодолимому порыву, она раскинула руки, словно желая обнять небо. Тут же порыв ветра сорвал с ее головы шляпу, державшуюся на шпильках, и та упорхнула за борт.
— О нет! — громко воскликнула Ева. Обернувшиеся на ее крик спутники увидели охваченную ужасом девушку с разметавшимися от ветра волосами. Ее лицо и особенно волосы, достававшие ей до пояса, выдавали теперь возраст девушки, который скрывала шляпа.
— Мадемуазель Кудер!
— Ева!
— Добрый день, месье Блондель. Здравствуйте, месье Мартинэ, — проговорила Ева дрожащим голосом, пытаясь вежливо улыбнуться: так она обычно приветствовала друзей своего отца во время редких встреч с ними. Еве Кудер было всего четырнадцать лет. Мать пока не позволила бы ей даже обходить гостей с подносом печенья на дневных чаепитиях. — Пронзительные ощущения, правда? — добавила она, стараясь говорить как взрослая.
— Ева, оставь этот вздор, — презрительно фыркнул Блондель. — Что ты здесь делаешь? И где твоя гувернантка? Твои родители знают… Нет, они, разумеется, ни о чем не подозревают!
Ева покачала головой. Зачем объяснять, как она мечтала полететь на воздушном шаре, с каким нетерпением выжидала этот момент в течение всех трех восхитительных дней аэрошоу, каким образом сбежала от своей гувернантки, мадемуазель Элен, улучив минуту, когда отца вызвали к пациенту, а мать прилегла, как обычно, вздремнуть после полудня.
— Я здесь, — спокойно ответила она, понимая, что неизбежно последует за ее словами, — поскольку все вокруг только и говорят о том, как мы, французы, покорили наконец воздушное пространство. Мне хотелось убедиться в этом собственными глазами.
Блондель от удивления приоткрыл рот, двое других мужчин не смогли удержаться от смеха. Мартинэ подумал, что единственная дочь доктора Дидье Кудера определенно бойкая малышка. Ее присутствие придавало моменту особую остроту. Глазами знатока он оценил узкую талию и изящные лодыжки Евы, а также едва наметившиеся женские формы, которые легко угадывались под коротким болеро и кружевной блузкой — лучшим костюмом Евы.
— Блондель, не вижу ничего страшного в том, что мадемуазель Кудер пришла на аэрошоу, — авторитетно заявил он. — Когда мы приземлимся, я сам провожу ее домой.
— Месье, не могли бы мы сначала отыскать мамину… мою шляпу? — попросила Ева.
— Полагаю, мадемуазель, что шляпа до сих пор порхает где-нибудь по воле ветра, а он, если не ошибаюсь, дует в южном направлении; однако мы можем попробовать.
— Большое спасибо, месье, — сказала Ева. Если удастся найти шляпу, мама, возможно, не так сильно рассердится, но если даже шляпу слопала какая-нибудь коза, ну что ж, полет на воздушном шаре того стоит. Ах, и еще как стоит! Паря высоко над землей, она увидела наконец, величие мира!
А могла ли она вообразить, что почувствует себя как один из пилотов, съехавшихся в Дижон со всех концов страны для участия в аэрошоу? Таких, как Марсель Анрио, который в свои шестнадцать лет завоевал здесь большую часть призов. Этот национальный герой летал со скоростью больше километра в минуту, но все же, когда шар начал опускаться, Ева подумала, глядя на колышущуюся внизу двадцатипятитысячную толпу, что и она тоже поднялась в воздух, заглянула за привычный с детства горизонт и на несколько незабываемых минут ощутила связь с безбрежным воздушным океаном.
Доктор Дидье Кудер, очень занятой человек, специализировался на заболеваниях печени — благодатное поле деятельности в стране, где такие болезни встречаются в четыре раза чаще, чем в любом другом месте, ибо за привычку к веселой и беззаботной жизни приходится платить. Он обожал Еву, хотя и жалел, что у него нет сына. Впрочем, врачебная практика отнимала так много времени, что он не успевал следить за образованием дочери, предоставив это жене. После выходки Евы во время аэрошоу та решила подавить неуемный интерес дочери к окружающему миру и сочла необходимым запереть на ключ все книги в доме. Дидье Кудер не стал возражать.
Семья Кудер жила в прекрасном доме на улице Бюффон — красивейшей улице в самом сердце старого Дижона. Доктор Кудер не отличался старомодностью, однако, владея первым в городе автомобилем марки Лион-Бутон», он по-прежнему содержал выезд с двумя лошадьми, поэтому его жена Шанталь могла позволить себе разъезжать в великолепной темно-зеленой коляске, что она и делала со дня их свадьбы.
Шанталь Кудер, наследница огромного состояния, правила в своем доме твердой рукой. Задолго до того, как четырнадцатилетняя Ева стала объектом шокирующих слухов, ей строжайше возбранялось выходить одной. А уж после легкомысленной авантюры с воздушным шаром гувернантка позволяла Еве разве что выпить в полдень чашку шоколада с подругой, причем о встрече заранее договаривались обе матери. Еву сопровождали, когда она гуляла вместе с другими девушками в парке «Де ла Коломбьер» или в саду «Аркебуз». За нею бдительно присматривали во время редких партий в теннис. Еву не отпускали одну даже на исповедь в собор Сен-Бенинь, находящийся по соседству. Словом, девушку постоянно оберегали от опасных проявлений ее характера.
Как и большинство девушек ее класса, Ева жила в женской среде. Здесь считалось, что ей совсем не обязательно серьезно учиться в школе. Учителя приходили к Еве домой. В основном это были сестры-доминиканки, учившие ее правописанию, а также основам математики, истории и географии. Учителя танцев, музыки и рисования давали Еве уроки под неусыпным надзором мадемуазель Элен. Только уроки пения, которые вел почтенный месье Дютур — профессор консерватории, проходили вне дома на улице Бюффон.
Осенью 1912 года Шанталь Кудер, сидя в своем роскошном будуаре, освещенном газовыми рожками, обсуждала со своей сестрой за чашкой горячего шоколада бесконечные проблемы, связанные с дочерью. Баронесса Мари-Франс де Куртизо пожаловала в гости из Парижа.
Шанталь, как обычно, досадовала, почему Мари-Франс, чей брак был бездетным, считает себя столь авторитетной в вопросах воспитания Евы. К тому же она называла Еву «своей любимой племянницей», словно та оспаривала эту честь у толпы других претенденток. Конечно, Мари-Франс держится несколько заносчиво, что вполне естественно для дочери состоятельных буржуа, которая стала женой барона и вошла в аристократические круги. Ей было отчего занестись и проявлять высокомерие, однако завидный брак еще не делал ее знатоком в вопросах, которые может решать только мать, исходя из собственного опыта.
— Ты проявляешь излишнее беспокойство, дорогая Шанталь, — сказала баронесса, промокнув губы тонкой льняной салфеткой и поднеся ко рту ложечку взбитых сливок. — Ева — прекрасная девушка, и я уверена, что она переросла детские глупости.
— Мне бы очень хотелось разделять твою уверенность, но… Нам уже давно не известно, что творится у нее в голове, — со вздохом ответила Шанталь Кудер. — Разве наша мать знала, о чем мы думаем? У тебя короткая память, Мари-Франс.
— Ерунда! Мама относилась к нам чересчур строго, и, естественно, мы с ней ничем не делились… да и делиться-то было нечем!
— Я старалась воспитывать Еву точно так, как воспитывали нас с тобой.
— Шанталь, ты всерьез внушала Еве, что предназначение замужней женщины — выполнять пожелания и капризы мужа?! — спросила баронесса.
— Это все, что ей нужно знать. Разве этого недостаточно? Ты стала завзятой парижанкой, Мари-Франс.
Баронесса торопливо поднесла чашку к губам. Ее чопорная и не в меру щепетильная старшая сестра никогда не испытывала к ней особого почтения.
— Ты позволишь мне устроить бал в Париже в честь восемнадцатилетия Евы?
— Конечно, Мари-Франс. Но сначала мы дадим бал в Дижоне, иначе люди обидятся. Надо будет обязательно пригласить семьи Амио, Бушар, Шово…
— Говэ, Клерже, Куртуа, Моризо… Я сейчас уже могу перечислить всех, кто будет на этом балу, дорогая сестрица. Так и вижу лица всех этих новоиспеченных выпускников школы Святого Франциска Сальского, гордо поглаживающих первые усики. Потом начнется феерия зимних развлечений, какие только возможны в Дижоне. Бал Красного Креста! Бал Сен-Сир! А там и благотворительные базары, концерты и… поскольку Ева превосходно ездит верхом, приглашения на охоту в леса Шатильона! Ощущение безумной свободы! У девочки закружится голова от такого счастья!
— Смейся сколько хочешь, Мари-Франс. Многие девушки отдали бы все за такое будущее, — с чувством превосходства произнесла мадам Кудер. В конце концов, все-таки Ева ее дочь.
— Когда она придет? — спросила баронесса, взглянув в окно на темнеющее небо.
— С минуты на минуту. Мадемуазель Элен попросит профессора Дютура отпустить их сегодня пораньше, чтобы они вернулись домой до наступления сумерек.
— Он по-прежнему считает, что у Евы замечательный голос?
— Да. Но он пригодится ей исключительно для музыкальных вечеров в кругу семьи и собственного развлечения за фортепиано. Я сомневалась, не будут ли эти уроки напрасной тратой времени, но Дидье настоял, — проговорила мадам Кудер так, словно вышла замуж за деспота, Обе сестры нередко прибегали к такому тону, говоря о своих вышколенных мужьях.
— Тетя! — радостно вскрикнула Ева, врываясь в комнату. Пока она покрывала Мари-Франс горячими поцелуями, парижанка отметила про себя, что естественным краскам личика племянницы позавидовала бы любая модная кокотка и что отброшенные на спину густые кудрявые волосы Евы приобрели тот необыкновенный оттенок, который никогда не поблекнет, как это часто случается у рыжих и брюнеток. Такие блестящие ярко-золотистые волосы превратили бы и дурнушку в красавицу! А каковы глаза, похожие на пылающие угли!
Ева сильно выросла и была теперь на голову выше матери, заметила Мари-Франс. Ее наметанный глаз безошибочно уловил в племяннице привлекательную раскованность и бесшабашность. В юбке до щиколоток и простой блузке Ева была так грациозна, что скорее походила на молодую герцогиню, чем на шестнадцатилетнюю девчонку. Она просто обязана привезти Еву в Париж до восемнадцатилетия. Девочка модно оденется у Пакена, бальное платье они сошьют ей у Ворта, и Ева вполне может составить блестящую партию! Да, и даже лучшую, чем она сама. Определенно, этот бриллиант пропадет ни за что в чересчур консервативном обществе старомодного Дижона.
— Мое сокровище, — пробормотала Мари-Франс, целуя племянницу, — смотреть на тебя — одно удовольствие.
— Мари-Франс, ты ее испортишь, — одернула ее сестра. — Ева, сегодня, раз уж у нас в гостях твоя тетя, можешь поужинать с нами, но это только сегодня.
— Спасибо, мама, — застенчиво сказала Ева.
— Теперь, Ева, можешь нам что-нибудь спеть, — добавила мадам Кудер, радуясь возможности поразить свою заносчивую сестрицу.
Ева села за небольшое пианино, стоявшее в углу, и после минутного раздумья, с легкой лукавой улыбкой, запела:
Вернись под небо Аргентины, Где все женщины подобны богиням, А музыка звучит так лукаво. Вернись и танцуй свое танго!— Ева! Неужели этому учит тебя профессор Дютур? — вскричала тетка, так же шокированная вибрирующим чувственным низким голосом, как и словами песни.
— Конечно нет. Он хочет, чтобы я пела арии из «Богемы». А это я услышала на улице по дороге домой. Правда, забавно? Тетя, вам понравилось?
— Нет, вовсе нет, — ответила баронесса, с неудовольствием подумав, что Шанталь, пожалуй, не зря беспокоится по поводу Евы. Незамужней девушке и слушать танго неприлично, не то что петь! Да еще таким… таким… вызывающим голосом!
— И дюжину дюжин батистовых платочков, с вышитыми ее будущими инициалами, — весело перечисляла Луиза, горничная Кудеров, прогуливаясь с Евой в старом ботаническом саду весенним субботним днем 1913 года.
— А если она ни разу в жизни не чихнет? — спросила Ева, прервав это подробное описание приданого, которое было недавно заказано к свадьбе Дианы Говэ, дочери соседей Кудеров.
Луиза пропустила ее слова мимо ушей. Она везде сопровождала Еву после того, как четыре месяца назад мадемуазель Элен неожиданно уволилась и вышла замуж за овдовевшего продавца из «Повр Диабль», самого большого магазина в городе.
— Шесть дюжин кухонных полотенец, столько же полотенец для протирания хрусталя, четыре дюжины фартуков для слуг, а уж сколько скатертей, вы и вообразить себе не можете…
— Могу, уверяю тебя, — терпеливо сказала Ева. Она полюбила Луизу больше всех в доме с тех самых пор, как та появилась у них десять лет назад. Тогда Луизе было столько же лет, сколько сейчас Еве, но, стремясь получить работу, она скрыла свой истинный возраст и солгала, что ей уже двадцать четыре года. Крепкое тело позволяло ей без устали работать по шестнадцать часов в сутки, а непроницаемое выражение круглого лица не позволило тогда обнаружить обман.
Ева мгновенно почувствовала в новой служанке душевную теплоту и доброе сердце, и у них с Луизой с первого же дня завязалось нечто вроде дружбы, крайне необычной в мире, где дети проводят большую часть времени дома, но редко видят своих родителей. Их объединил тайный союз против всемогущей мадемуазель Элен. В доме, где ими постоянно командовали, они все поверяли друг другу и стали близкими подругами на долгие годы, ибо каждая из них нуждалась в ком-то, кому можно свободно открыться.
— Не понимаю, почему Диана так торопится замуж, — задумчиво промолвила Ева, нежно прикасаясь к едва распустившемуся цветку ириса. — Ее жених такой урод!
— Просто мадемуазель Диана разумная девушка и прекрасно понимает, как важно выбрать подходящего мужа и что красота в мужчине — не главное.
— И ты туда же! Луиза, даже не верится, что это говоришь мне ты. Подходящее в нем только одно — это состояние его папеньки. Неужели ты станешь утверждать, что подходящий муж — любой состоятельный мужчина с двумя руками, ногами и без бородавок?
— Я бы не отказалась и от такого, даже с бородавками, — пошутила Луиза, смирившаяся с тем, что у двадцатисемилетней служанки нет шанса выйти замуж.
— А я не хочу выходить замуж. Лучше уж стану монахиней, сиделкой, миссионеркой, суфражисткой… ах, не знаю! — горячо воскликнула Ева.
— Вы вступите в брак, хотите вы этого или нет. Ваша мать выдаст вас замуж еще до того, как вам исполнится девятнадцать. А если не она, то об этом позаботится ваша тетушка. Поэтому постарайтесь свыкнуться с этой мыслью, бедная моя госпожа.
— Ну почему, почему? — вскричала Ева, сердито срывая хрупкий желтый цветок. — Почему я должна выходить замуж, если мне этого не хочется? Почему меня не оставят в покое?
— Если бы в вашей семье было пятеро или шестеро детей, ваши родители, возможно, смирились бы с вашим желанием. Каждой семье нужна старшая незамужняя тетушка, чтобы заботиться о мелочах, до которых у остальных просто не доходят руки, но вы — единственная дочь, и, если вы не выйдете замуж, у ваших родителей не будет внуков. Зачем противиться неизбежному?
— Ах, Луиза, меня пугает даже мысль прожить всю жизнь так, как моя мать, — ничего, кроме приемов и ответных визитов. Жизнь, в которой меняется только мода на туфли. Да разве можно примириться с будущим, если оно сулит лишь надежду осчастливить родителей внуками… Неужели мне предназначено только это?
— Став матерью, вы и не вспомните то, о чем сейчас говорили, и будете довольны жизнью, как это происходит с большинством женщин, — ответила Луиза. — Если через три года я напомню ваши теперешние слова, вы и не поверите, что это говорили вы. Не сомневаюсь, вы совершенно о них забудете.
— Как несправедливо, если время заставляет человека любить то, что прежде было ему ненавистно… тогда я скажу: жить не стоит! Я должна совершить что-то необычайное… серьезное и удивительное… превосходящее самые смелые фантазии!
— Иногда у меня тоже возникает такое чувство, мадемуазель Ева, но я понимаю, что всему виной весенний воздух и, возможно, полнолуние. А если мы не поторопимся домой, ваша мать станет беспокоиться.
— Ну, по крайней мере, давай добежим до дома, устроим состязания и посмотрим, кто будет первым. До смерти хочется пробежаться! — воскликнула Ева.
— Стойте… Мадам Бланш с мужем только что вышли из-за угла, позади нас, — сказала Луиза вдогонку молодой госпоже, но Ева умчалась слишком далеко вперед по дорожке сада.
Книги, которые мать давала читать Еве, не давали пищи ее воображению. Модный журнал «Ля Газетт дю Бонтон», предложенный Еве матерью, имел дело с женщинами с другой планеты, нереальными и декоративными, как экзотические птицы, в мягких нарядах от Пуаре и Дусе самых фантастических расцветок, бесконечно очаровательными и безупречными во всем, от высоких талий до длинных юбок.
Однако случайно обнаружив, что ежедневный номер ведущей дижонской газеты «Ле Бьен Публик», который отец просматривал каждое утро, потом попадает в корзину для бумаг, Ева ухитрялась каждый день вытаскивать газету из корзины, прежде чем ту успевали вытряхнуть. Она забирала ее к себе в комнату и жадно читала, когда выдавались свободные минуты. Эта газета стала для Евы окном в мир.
В разгар лета 1913 года Дижон был веселым, гостеприимным и открытым городом, словно специально созданным для празднования Дня взятия Бастилии, отмечаемого четырнадцатого июля. Город напоминал огромную музыкальную шкатулку. Мелодии звучали отовсюду, на каждой улице. Во всех кафе и ресторанах пели под аккомпанемент фортепиано. Оркестры играли в парках и на площадях, на беговой дорожке, называемой «велодром», и в цирке «Тиволи». Особенно интересным оказались выступления сводного духового оркестра двадцать седьмого пехотного полка, расквартированного в Казерн Веллан.
Поскольку Ева с Луизой трижды в неделю ходили от дома Кудеров к профессору Дютуру и обратно, им приходилось пересекать несколько музыкальных зон, и всякий раз походка Евы непроизвольно менялась. Только что она плыла под вальс, сменившийся военным маршем, теперь двигалась в ритме песни, лившейся с террасы кафе. Подобно многим другим, эта песня родилась в Париже. Шагая, Ева напевала мотив, и если бы не предупреждение Луизы, она запела бы во весь голос.
Неудовлетворенность жизнью и жажда деятельности все нарастали в Еве, и Луиза не могла дождаться ее восемнадцатилетия, когда для девушки распахнутся двери в новый мир. Вот тогда у Евы появятся прекрасные наряды, подруги и ее окружит внимание молодых мужчин. Тем самым будет положен конец нервному, тревожному и почти невыносимому для Луизы ожиданию завершающей главы затянувшегося детства Евы. Девочка совсем уже взрослая, думала Луиза, и вполне естественно, что она смятенна, раздражительна и неугомонна как вихрь.
Хотя Луиза понимала, что больше не занимает в жизни Евы прежнего места, чувство ответственности за свою подопечную угнетало ее, и она почти мечтала о возвращении в дом мадемуазель Элен. Однако скоро ее долг будет выполнен. Еще несколько месяцев, говорила себе Луиза, и она сможет вздохнуть с облегчением.
Утром третьего июля 1913 года, быстро просмотрев первую страницу «Ле Бьен Публик», Ева торопливо пролистала плотные газетные листы в поисках колонки, посвященной городским развлечениям. Отыскав наконец объявление о начале в театре «Алказар» давно обещанных гастролей труппы парижского мюзик-холла, она расплакалась от облегчения, ибо до последнего момента сомневалась, что гастроли состоятся.
Плакаты на афишных тумбах несколько месяцев подряд возвещали об этом необыкновенном событии. Даже Ева, несмотря на свое затворничество, знала, что парижский мюзик-холл считается лучшим в Европе увеселительным заведением. Огромный успех «Олимпии», открывшейся в 1900 году, повлек за собой появление «Мулен Руж», «Гранд Ипподром», «Альгамбры» и других, менее претенциозных и роскошных театров.
К таким второразрядным мюзик-холлам и относилась «Ривьера», всю труппу которой в полном составе пригласила на гастроли дирекция «Алказара», взбудоражив жадных до удовольствий жителей города и пробудив в них такое любопытство, какое прежде вызывало только посещение Дижона Буффало Биллом с его цирком, состоявшееся в год рождения Евы.
Разрумянившаяся от радости Ева бросилась на шею Луизе, застилавшей ее постель.
— Они приезжают, они будут здесь через неделю!
— Я повторю только то, что говорила вчера, неделю назад и сотню раз. Ваша матушка никогда не позволит вам пойти в театр. Прошлой весной она заявила вашему отцу, когда он хотел взять вас с собой в оперу, что вы еще слишком молоды для этого. А уж в мюзик-холл она вас тем более не пустит! Никогда! Девушке вашего круга не пристало посещать такие места. Кто знает, что говорят комики на сцене и какие песни поют?
— Луиза, да разве ты не знаешь, какие песни я слышу на улице? — Ева сердито потрясла подругу за плечи.
— Я только предвижу, что скажет ваша мать.
— Но я должна туда пойти, я говорила тебе об этом еще несколько месяцев назад.
— Я не понимаю вас, мадемуазель Ева. Вы не хотите прислушаться к голосу разума. Скоро вы станете взрослой женщиной. Выйдя замуж, вы сможете делать, что вам заблагорассудится, и ходить куда угодно в сопровождении мужа — вот уж не повезет тому, кому вы достанетесь, — или какой-нибудь подруги, если, конечно, найдете такую же капризулю, как вы. Тогда, если пожелаете, сможете посещать мюзик-холл хоть каждый день, но сейчас это невозможно, что вам известно так же хорошо, как и мне, поэтому отпустите меня и позвольте застелить вашу постель.
— Значит, ты не пойдешь со мной, Луиза?
— Разве не об этом я толкую с тех самых пор, как в вашей головке поселилась эта глупая мысль?
— Я надеялась, ты передумаешь, когда станет известно, что «Ривьера» действительно приезжает.
— Нет, я тверда в своем решении больше чем когда-либо, — ответила Луиза, исключая всякую возможность компромисса.
— Тогда я пойду одна!
— В самом деле? И как же, позвольте спросить?
— Этого я тебе не скажу, — надменно ответила Ева. — Но ведь я поднялась на воздушном шаре три года назад, когда мне было всего четырнадцать. Сумела же я это проделать, и если после этого ты думаешь, что я не осмелюсь пойти на улицу Годранс и купить себе билет в «Алказар», то, по-моему, ты меня недооцениваешь.
Луиза в отчаянии опустилась на незастеленную постель. Перед ней был трудный выбор: нарушить все писаные и неписаные правила этого дома и тайно отправиться с Евой на дневное представление мюзик-холла или смириться с тем, что Ева пойдет туда одна. Только Господь знает, чем все это обернется.
Второй вариант Луиза сочла наихудшим. Появление в «Алказаре» молодой девушки без спутницы вызовет косые взгляды, перешептывания и, скорее всего, непристойные предположения, после чего по городу поползут сплетни. Ни одна уважающая себя женщина, даже простая девушка, не пойдет в мюзик-холл одна. Луиза поняла, что ее выбор предопределен, и Ева прекрасно это знала, судя по выражению ее глаз и понимающей, насмешливой улыбке.
Они заняли свои места за полчаса до того, как поднялся яркий занавес. Волосы Евы были уложены тугим узлом, прикрытым позаимствованной у Луизы шляпкой, державшейся на трех шпильках. Оркестр наигрывал мелодию песни «C'est pour Vous»[1], написанной Ирвингом Берлином и первоначально называвшийся «Этим занимаются все», о чем девушки и не подозревали. Зрители нетерпеливо притопывали и переговаривались, предвкушая начало представления. В театре, заполненном до отказа, не осталось ни одного свободного места. Луизу несколько успокоило то, что среди зрителей много женщин, притом даже с детьми.
Ева была так возбуждена, что, несмотря на жару, у нее зябли руки и ноги. Она сосредоточенно изучала программку, обещавшую то, о чем она давно мечтала, — певцов всех стилей.
Профессор Дютур обычно жаловался жене, что Ева Кудер разбивает ему сердце. Эта девочка, говаривал он, так талантлива, что может спеть любую написанную для контральто оперную арию, обладает удивительным голосом, глубоким и богатым, без всякого напряжения переходящим в меццо-сопрано. Эта девочка, поющая по нотам с листа, почему-то хочет исполнять популярные песенки, написанные для неприхотливой публики. Это вне пределов его понимания, утверждал профессор. Слабость к незатейливым мелодиям кажется ему явным извращением, говорил он своей терпеливой жене, все больше и больше распаляясь. Эти мелодии он не может назвать иначе как дешевыми. Не вульгарными, нет, Ева никогда не пела в его классе ничего вульгарного, но обожала распевать песенки, не стоящие даже тех мизерных усилий, которые на них затрачивала.
Ева давно отчаялась объяснить профессору свою любовь к легкой музыке. Он был ее единственным слушателем, а она страстно жаждала аудитории.
Чем больше она пела подхваченных на улицах песен, тем сильнее разгоралось в ней желание услышать их в исполнении профессиональных певцов на настоящей сцене, увидеть, как они это делают, каково выражение их лиц, как они держатся, во что одеты и как общаются с публикой.
Когда родителей не бывало дома, она часто пела для себя, закрывшись от слуг в своей комнате.
Петь она старалась самым низким голосом, чтобы выразить теплоту и интимность, потом брала самые высокие ноты, на какие только была способна. Под конец она выводила ту же мелодию октавой выше, вибрирующим альтом; тогда казалось, будто птица бьет крыльями по ее нёбу. Народные песни давали девушке безудержное ощущение свободы, пробуждали музыкальную фантазию, и Еву не волновало, как интерпретируют их другие.
Когда начался концерт, Ева мгновенно позабыла обо всем на свете: не замечала мрачности Луизы, не слышала живой реакции публики, зачарованная тем, что происходило на сцене.
Музыкальное ревю было предусмотрительно разделено на две части: те, кому не понравилась первая, не успевали этого осознать, как начиналась вторая.
Четверо мужчин сплели на сцене причудливую золотую паутину на одноколесных велосипедах, ловко нанизывая одни круги на другие. Их сменила тощая женщина в ярко-зеленом платье с резким голосом. Она полуспела, полупродекламировала трагический и драматический монологи. Четырнадцать девушек-статисток в кружевных розовых нарядах с длинными хвостами, высоких шляпах и меховых воротниках покружились и исчезли. Вслед за ними появился толстяк, исполнивший пронзительно высоким голосом несколько песенок сомнительного содержания столь торопливо, что лишь немногие из зрителей уловили их двусмысленность. После наиболее рискованных куплетов толстяк подмигивал публике и вытирал лицо огромным носовым платком. Задрапированная под древнюю египтянку акробатка продемонстрировала изумительное искусство владения телом, постепенно снимая с себя покровы и оставшись под конец в трико телесного цвета. Это до глубины души потрясло жителей Дижона. Она исчезла за кулисами, уступив место шести хорошеньким девушкам в солдатской форме. Распевая патриотические песни, они бодро промаршировали по сцене, высоко задирая ноги. Оркестр не смолкал ни на минуту даже в перерывах между номерами.
Ева почувствовала разочарование и смущение. Ее водили в цирк, пока она не перешагнула порог детства. Сейчас оказалось, что она совсем не подготовлена к водевильному характеру мюзик-холла — все это нисколько не отвечало ее ожиданиям… Впрочем, Ева точно не знала, чего ждала, но, уж конечно, не такого бессмысленного калейдоскопа, не такого странного подбора номеров, рассчитанных лишь на возбуждение в зале шумного веселья.
Внезапно оркестр умолк, и занавес ненадолго опустился. Когда он поднялся вновь, на затемненной сцене стояло фортепиано, освещенное лишь одним лучом света. Слева из-за кулис вышел молодой человек и сел за инструмент. Повернувшись к публике, он на мгновение склонил голову и объявил название песни.
— «Страсть», — сказал он. — Один из моих любимых романсов бессмертного Фишера.
Он запел сначала медленно и задумчиво «Я мечтаю только о ней одной, о ней одной, о ней одной» сильным, исполненным чувства баритоном. В «Алказаре» воцарилась тишина. Зал замер. Зрители затихли, зачарованные волшебством этого голоса. Невозможно было понять, как этот человек преобразил классический минорный романс Фишера о безответной любви в произведение, которое никого не оставило равнодушным. Однако это было столь же реально, как инструмент, на котором он себе аккомпанировал.
После «Страсти» он исполнил «Вернись» — медленный вальс с жалобным припевом: «Вернись, мое сердце, счастье покинуло меня. Вернись, мое сердце, вернись». Затем он с улыбкой спел «Моя знакомая блондинка», и «Алказар» взорвался аплодисментами. Певец прижал руку к сердцу и раскланялся: он выглядел безупречно в своем темном костюме, застегнутом на все пуговицы жилете с продетой в петлю золотой цепочкой от часов.
Строгость костюма и белоснежная рубашка выгодно подчеркивали его короткие темные аккуратно уложенные волосы.
Ева и Луиза сидели слишком далеко, так что не могли отчетливо видеть лицо молодого человека, но смотрели на него во все глаза. Публика трижды вызывала певца на бис, окончательно отпустив его лишь тогда, когда оркестр заиграл польку, а на сцену выбежали рабочие, выкатившие фортепиано за кулисы.
— Вот теперь, мадемуазель Ева, даже я готова признаться, что прийти сюда стоило. Должна сказать, что это незабываемо, да… — убежденно произнесла Луиза и, желая проверить действие своих слов, повернулась к девушке. Место Евы пустовало. — Ева! — воскликнула потрясенная Луиза, но тут объявили антракт, и зрители заполнили проходы, спеша подышать свежим воздухом перед началом второго действия.
Ева пронеслась по проходу между рядами, переполненная энтузиазмом и решимостью. Она не испытала никаких сомнений, когда очутилась перед дверью, ведущей за кулисы. В вестибюле показались первые зрители. Ева еще раз заглянула в программку, нашла нужное имя, толкнула дверь и, посмотрев, не может ли кто-нибудь ей помочь, направилась к приятному мужчине с папкой в руках.
— Меня ждет месье Марэ. Вы не могли бы сказать, где находится его гримерная? — Сама того не подозревая, Ева заговорила светским тоном тетушки Мари-Франс.
— Пожалуйста, вторая дверь налево, мадам… Ах, простите, мадемуазель?
— Это вас не касается, месье, — ответила Ева, почему-то точно поняв, что эти слова убедят незнакомца в ее праве находиться за кулисами.
Она постучала в указанную ей дверь.
— Войдите, — отозвался Ален Марэ. Влетев в гримерную, Ева остановилась как вкопанная. Дверь захлопнулась. Певец стоял спиной к ней, обнаженный по пояс, и вытирал шею маленьким полотенцем. Его пиджак, жилет, галстук и влажная от пота рубашка валялись на стуле рядом с туалетным столиком.
— Жюль, брось мне нормальное полотенце. Еще один вызов на бис, и я бы растаял в этой парилке. Боже, Дижон — настоящая баня… Дирекции следовало бы платить нам двойную ставку за такие условия работы.
— Месье, вы были неподражаемы! — пролепетала Ева, потупившись.
Марэ повернулся и хмыкнул от удивления. Достав полотенце побольше, он как ни в чем не бывало продолжал вытирать пот. Ева едва посмела поднять на него глаза: лишь дверь за спиной помешала ей упасть, когда она увидела его голую мускулистую грудь, заросшую темными волосами. Подняв руку так, что девушка разглядела клочок темных волос под мышкой, Марэ снова энергично заработал полотенцем. Ева никогда не видела обнаженной мужской груди: даже в жаркие дни рабочие в Дижоне ходили по улицам в рубахах. Никогда прежде она не стояла так близко к вспотевшему мужчине. Пропитавший комнату запах пота был невероятно сильным. Ева была сражена, испытала глубокое потрясение, которое не смогла бы выразить словами. Она почувствовала, что краснеет.
— Неподражаем, вот как? Благодарю вас, мадемуазель… или мадам?
— Мадемуазель. Я должна была сказать вам это… Я не собиралась так бесцеремонно врываться, не знала, что вы переодеваетесь… Ах, как вы пели! Никогда в жизни я не слышала ничего более прекрасного и трогательного!
— Как вы знаете, я пою не в парижской опере, а всего-навсего в мюзик-холле, и вы меня несколько смутили, — ответил польщенный Марэ, в глубине души вполне согласный с Евой. Ален Марэ привык к подобным визитам дам. Обычно к нему в гримерную заглядывало несколько хихикающих женщин, заключивших пари, что у них хватит на это смелости. Однако эта девушка из Дижона в такой нелепой шляпке заинтриговала его своей страстностью. Он быстро надел чистую рубашку и достал свежий воротничок.
— Почему бы вам не присесть, пока я закончу переодеваться? Вот стул, — любезно предложил он. Увидев, что она не отходит от двери, Марэ пододвинул второй стул ближе к туалетному столику.
Ева села, с интересом наблюдая никогда не виданное ею вдевание воротничка в мужскую рубашку. Зрелище борьбы Марэ с пуговицами было столь интимным, что мало уступало его обтиранию полотенцем. Справившись с рубашкой, он надел галстук и предложил Еве воды, тут же налив ее из графина в единственный стакан.
— Придется довольствоваться этим. «Алказар» не блещет особой роскошью, — пояснил Марэ, протягивая Еве стакан с таким видом, словно пить из чужой посуды считал самым обычным делом. Ева сделала большой глоток и впервые взглянула Марэ прямо в лицо. У него были иссиня-черные волосы, очень темные глаза, и он чуть-чуть походил бы на разбойника, если бы не юмор, смягчавший выражение его лица. Интересное лицо, гордое и несколько высокомерное, но всегда готовое озариться улыбкой. Он был моложе, чем показалось Еве издали, вероятно, лет тридцати.
Глаза Евы излучали любопытство. Мужчина! Мужчина, не постеснявшийся стоять перед ней полуобнаженным, предложивший выпить воды из своего стакана… он пел… ах, он пел так, как Ева не пела в самых смелых своих мечтах… Надо запомнить каждый миг этой встречи, думала Ева, лихорадочно думая о том, что скоро начнется второе отделение.
— Снимите шляпку, — внезапно скомандовал Ален Марэ. — Удивляюсь, как вы еще что-то видите под этим пирогом. — Оценив шляпку и легкий плащ, тоже одолженный у Луизы, в который Ева куталась с того момента, как очутилась в гримерной, он рассудил, что девушка, должно быть, пришла в мюзик-холл в свободный от работы день. Вероятно, продавщица из магазина, заключил Ален Марэ.
Послушно отцепив украшенную единственным перышком шляпку, Ева уронила ее на пол. Шляпка закрывала волосы до кончиков ушей и большую часть лба. Оказаться без шляпки было так приятно, что Еве вдруг захотелось освободиться и от плаща. Сбросив его с плеч, она дерзко посмотрела на молодого певца, светясь свежей красотой юности, еще не осознающей своего женского могущества.
Ева не подозревала, какой эффект может производить ее внешность, как дикарь, ни разу не видевший зеркала. Родители, слуги и учителя никогда не упоминали об этом: в добром старом Дижоне о красоте девушки начинали говорить лишь тогда, когда ей исполнялось восемнадцать лет.
— Боже! — только и вымолвил Ален Марэ и, потрясенный, умолк.
Едва Ева сняла шляпку и плащ, его гримерная словно стала светлее. Красота девушки, столь же неожиданная, как куст белой сирени на углу скучной пыльной улицы, очаровала его. Подвинувшись вместе со стулом поближе к Еве, Ален приподнял пальцами ее подбородок, чтобы получше рассмотреть лицо девушки. Впервые заглянув ей в глаза, он встретил взгляд, в котором свет невинности сочетался с такой вызывающей дерзостью, что Марэ смутился и потерял дар речи. Он легко провел пальцем по щеке Евы от подбородка до кончика уха и дальше — вверх до корней влажных волос. Затем, подчинившись непреодолимому импульсу, Марэ запустил пальцы обеих рук во влажные волосы на висках Евы и сжал ее голову ладонями. Мужские руки еще никогда не касались ее. Ева вздрогнула, но, как пленница, не могла пошевелить головой, если бы даже захотела.
— Вот так-то лучше, не правда ли? — мягко спросил Марэ, но Ева и не пыталась кивнуть. — Скажи: «Да, Ален», — настаивал Марэ.
— Да, месье, — прошептала Ева непослушными губами.
— Ален, — повторил Марэ, не понимая, что для Евы назвать его по имени было таким же подвигом, как и прийти сюда одной.
— Ален. Ален… Ален, — вздохнула Ева, набираясь храбрости. — Да, Ален, так намного лучше.
— Но, мадемуазель, как же вы, не представившись, можете называть меня Аленом? — серьезно проговорил Марэ, высвобождая локоны Евы и играя ими.
— Меня зовут Ева, — сказала девушка, тут же вскочив со стула, потому что дверь в гримерную внезапно распахнулась.
— Ален, Клодет снова чудит… Опять все то же: говорит, что не может выйти на сцену. Надеюсь, ты сумеешь привести ее в чувство, — озабоченно сказал Жюль, распорядитель сцены. — Прости за вторжение, но ты же знаешь ее. Все из-за этой адской жары. Дрессированные морские львы ревут как слоны.
— Жюль, ради Бога, найди кого-нибудь другого, — сердито отозвался Ален. — Ты когда-нибудь научишься стучать в дверь?
— Она никого, кроме тебя, не станет слушать. Пойдем, Ален, шевели ногами. Ты мне необходим, или антракт затянется до ужина.
— А кто эта Клодет? — спросила Ева.
— Драматическое сопрано, черт бы ее побрал.
— Костлявая пожилая дама в зеленом?
— Она самая. К несчастью, ей почему-то кажется, что я похож на ее давно погибшего сына. Ева, придешь ко мне сегодня вечером, после второго отделения?
— Да.
— Отлично.
— Ален, пойдем скорее, — позвал Жюль.
— До вечера, — попрощался Ален, исчезая вслед за ним.
Ева с недоумением огляделась. Возможно ли, что она пообещала снова прийти сюда? Нет, она не могла этого сделать! Все, что с ней случилось, не могло произойти на самом деле! Вдруг все показалось ей призрачным.
Ева осторожно потрогала предметы на туалетном столике: расческу, тальк, бритву, булавку для галстука, забытые в спешке часы Алена с цепочкой и полотенце, которым он вытирал шею, когда Ева вошла сюда. Девушка взяла полотенце и поднесла к лицу. Оно было пропитано его потом. Ева коснулась губами влажной ткани и глубоко вдохнула запах мужского тела. У Евы закружилась голова, и ее охватило желание. Первая волна физического желания, никогда не испытанного прежде, поднялась и на несколько долгих минут захлестнула ее, словно она окунулась с головой в неизведанное море и погружается все ниже и ниже в бездонную, беспросветную пучину. Затем волна откатилась, оставив после себя такую слабость, будто Ева действительно едва не утонула.
Подчиняясь инстинкту самосохранения, Ева подхватила с пола шляпку, напялила ее на голову и, перекинув через руку плащ, выскочила из опустевшей гримерной. Она стремительно прошла через вестибюль и успела занять свое место до окончания антракта. Почти тотчас появилась запыхавшаяся, взволнованная Луиза.
— Мадемуазель Ева, как вы могли! — яростно накинулась она на девушку. — Как вы могли так напугать меня? Я чуть с ума не сошла от страха. Я везде вас искала… Где вы были, невозможная девчонка?
— Ох, Луиза, прости! В середине последней песни… у меня заболел живот и мне пришлось бежать в туалет. Пойдем домой? Я и сейчас не очень хорошо себя чувствую. Здесь слишком много людей и невыносимо жарко. Пойдем, пока не началось представление.
— Вы на самом деле выглядите как-то странно… бледны, дрожите. Так вам и надо! Это место не для вас, теперь вы в этом убедились? Надеюсь, эта безумная выходка послужит вам хорошим уроком.
— Послужит, Луиза, непременно послужит, уверяю тебя.
2
Ален Марэ не был новичком в любовных делах. В каждом городе, где ему случалось петь, всегда находилась женщина, готовая удовлетворить любое его желание, однако до знакомства с Евой он ни разу не встречал девушку, которая столь упорно отказывалась бы пообедать с ним после представления.
— Ты напрасно тратишь на нее время, жеребчик, — насмешливо подстрекал его Жюль, с интересом следивший за развитием событий. — Целую неделю возвращаешься один… Никогда не видел, чтобы ты так долго обходился без женщины. Твоя новая пассия срывается с места и галопом выскакивает на улицу, даже не дождавшись, пока ты выйдешь на сцену поклониться последний раз. Уверен, она спешит домой к ревнивому мужу, который допоздна задерживается на работе. Тебе остается только надеяться, что он не выследит ее.
— Об этом нечего беспокоиться, — ответил Ален, подмигивая. — У нее никогда не было мужчины.
— Шутишь!
— Правда, она совершенно невинна. Она девственница, Жюль. Ты ведь слыхал, что такое бывает, или злая судьба отказала тебе в этом?
— Так вот почему ты так горячишься и бьешь копытом? Удивляюсь твоему долготерпению. Девственницы не в моем вкусе.
— Тебе никогда не выпадало счастья быть первым мужчиной в жизни девушки, бедный Жюль? Это стоит любого ожидания. Поверь тому, кто это познал.
— В тебе есть что-то дьявольское, Ален. Но почему-то мне кажется, что эта редкостная птичка не попадется в твои силки.
— Хочешь пари?
— С удовольствием. Ставлю пятьдесят франков, что у тебя ничего не выйдет до нашего отъезда из Дижона.
— Принято, — сказал Ален, самоуверенно усмехаясь. Его друг Жюль проиграл в прошлом немало подобных споров. Можно не сомневаться, он прогорал достаточно часто, чтобы не рисковать попусту деньгами.
Неудивительно, что Жюль не понимает прелести обладания девственницей, подумал Ален. Слишком грубый и нетерпеливый, как и большинство мужчин, Жюль не представлял, какую полноту придает обычному соитию сознание того, что до тебя этого тела не касались мужские руки и губы. Даже одна мысль об этом воспламеняла Алена.
В мире мюзик-холла девственниц не существовало. Встретить такую редкость Алену могло посчастливиться, лишь гастролируя с труппой «Ривьеры» по стране. Это и в самом деле было редкостью, потому что почти все женщины, прибегавшие к нему за кулисы высказать свое восхищение, были замужем. Они точно знали, как устроен мир, что им нужно от Алена и чего он хочет от них. Да, они вносили разнообразие в его жизнь, но там, где результат погони предопределен, пикантность отсутствует.
Жизнь дарит всего несколько сюрпризов, думал Ален, поэтому надо выжимать максимум из всего, что выпадает на твою долю. Таинственная девушка из Дижона была особенно восхитительна своей очевидной невинностью и наивностью, заходящей так далеко, что поспешность или необдуманный жест могут спугнуть ее. На том и закончится игра.
Спустя три дня после заключения пари Ален все еще не приступил к активным действиям, хотя эта осторожность мучила его. Ева каждый вечер приходила повидаться с ним, и тотчас же пропахший дешевыми духами пыльный мир кулис исчезал. Певец сразу забывал о теснившихся поблизости, в ожидании своего выхода, накрашенных танцовщицах, о животных и акробатах, не слышал приглушенного шума голосов. Единственной реальностью для него становилось крошечное пространство, где он сидел вместе с Евой. Запретный сад, где он встретил ее и впервые увидел вблизи, становился осязаемым, и его охватывало мучительное желание. Однако оно приносило ему такое наслаждение, словно он уже удовлетворил свою страсть.
Жизнь была бы прекрасна, если бы опытная кокотка могла возбуждать его столь же сильно, как добродетель этой прелестной провинциалки, думал Марэ. Беспрецедентно долгое ожидание возбуждало сильнее, чем быстрая капитуляция, но ведь гастроли в Дижоне продлятся всего несколько дней, и если за это время он не добьется своего, Жюль выиграет. Ален почти жалел, что заключил это проклятое пари и не может вернуться в Париж, не тронув Еву, не разрушив ее наивного восприятия мира и провинциальных понятий о приличиях.
Двор дома Кудеров был огражден от улицы массивными деревянными воротами; ночью их запирали на засов. Привратники, Эмиль и его жена Жанна, жили в небольшом флигеле во дворе. Они открывали и закрывали ворота в течение дня, когда кто-нибудь въезжал во двор или выезжал со двора. Посторонним, чтобы войти сюда с улицы, приходилось звонить у вырезанной сбоку маленькой дверцы. Ключ от этой дверцы, тоже запиравшейся на ночь, висел на кольце в сторожке Эмиля и Жанны. Домик их всегда был открыт. Да и зачем его запирать?
В доме Кудеров ложились спать в десять часов. Доктор поднимался около шести утра, чтобы подготовиться к обходу в своей клинике, и мадам Кудер устроила домашний распорядок в соответствии с его расписанием. В летние месяцы, когда жизнь в городе замирала из-за жары, Кудеры часто оставались после ужина дома. Но, даже нанося по вечерам визиты к друзьям, они не брали с собой Еву.
Еве не составляло труда притвориться, что она легла спать, дождаться, когда в доме воцарится тишина, затем выскользнуть из своей комнаты, открыть дверь привратницкой, взять ключ от дверцы в воротах и, словно на крыльях, прилететь в «Алказар». Не помышляя о том, что Ева способна на такие поступки, родители проявляли полную беспечность. Нарушение установленных правил считалось абсолютно невозможным в этом доме с его незыблемыми устоями.
Жюль, предупрежденный Аленом, впускал Еву в театр через дверь, выходившую на боковую аллею, чтобы она могла посмотреть из-за кулис второе отделение. В тот — самый первый — вечер девушка прибежала в «Алказар», когда представление еще не закончилось. Ева и Ален сидели друг против друга на двух стульях, единственных предметах меблировки гримерной, кроме туалетного столика. Ева держалась так напряженно, что Ален понял — подступиться к ней очень не просто.
— Почему ты не можешь поужинать со мной после спектакля? — спросил он. — Неужели нужно мчаться домой прямо из театра?
— Я живу далеко отсюда, — без колебаний солгала Ева, уже придумав для себя легенду. — Я работаю в магазине дамской обуви на другом конце города. Хозяйка магазина, мадемуазель Габриэль, помимо жалованья, предоставила мне комнату. Это старая дева, очень набожная и допотопная. Ей трудно угодить. В полночь она запирает дверь, и, если я не вернусь к этому часу, старуха выставит меня.
— У тебя есть семья?
— Я сирота, — снова солгала Ева, не испытывая ни малейших угрызений совести. Она безотчетно чувствовала, что рассказывать Алену о себе нужно как можно меньше.
Ева не понимала, что с ней происходит, но ее крайне смущало неистовое возбуждение: казалось, что от ее тела в мозг поступают какие-то необъяснимые сигналы.
Ужинать с Луизой после возвращения из «Алказара» было так же тягостно, как изучать новый язык. Думая лишь о том, что вечером она снова отправится в театр, Ева забывала, как надо себя вести, как следует держаться за столом девушке по имени Ева Кудер. Она, конечно, могла управиться с ножом и вилкой, передать соль, но этим исчерпывались все ее житейские навыки. Все ее силы поглощало безмерное возбуждение, а мысли занимал только Ален Марэ.
Вся следующая неделя прошла как в тумане. Несколько теннисных партий с юношами и девушками, которых она знала всю жизнь, два загородных пикника в лесу, куда съезжались целыми семьями, со слугами, на каретах или семейных автомобилях, называемых омнибусами. Завтраки здесь сервировались с меньшими церемониями, чем обычно, но Ева пассивно участвовала во всем этом, почти ничего не замечая и думая только о прошедших вечерах и вечере наступающем. Она перестала посещать профессора Дютура: разве можно исполнять классику, когда в мозгу звучат мелодии романсов Алена? Ее доверительная близость с Луизой стала воспоминанием детства, ведь она не могла признаться подруге, кем заняты ее мысли. Не то чтобы девушка перестала походить на себя, но она стала лишь тенью прежней, живой и веселой, Евы Кудер — мягкой, послушной и тихой.
Вечером, выскользнув через маленькую дверцу, она влетала в «Алказар», охваченная таким диким волнением, что ей приходилось ждать, пока восстановятся дыхание и голос. Обычно Ева заставала Алена одетым для выхода во втором отделении. Только английский клубный пиджак и жилет, в которых он неизменно появлялся перед публикой, висели на вешалке, а не валялись на стуле.
Ева никогда не осмеливалась покидать дом, пока в десять часов родители не тушили газовые рожки. Второй выход Алена начинался незадолго до одиннадцати и завершал представление. Хотя Ева мчалась не переводя дыхания от дома до театра, на дорогу уходило не менее пятнадцати минут, поэтому каждый вечер они проводили вместе около получаса. Придуманная девушкой легенда о запирающейся в полночь двери магазина мадемуазель Габриэль мешала Алену осуществить его планы, а для Евы превратилась в навязчивый кошмар, но она стойко держалась за нее, подчиняясь тому же инстинкту, который заставил ее сочинить это.
Прочитав письмо от сестры, мадам Кудер с загадочным выражением лица протянула его мужу.
— Взгляни, дорогой.
Дидье Кудер пробежал письмо и вернул его жене.
— Чудесно! Мы прекрасно проведем время. Мой ассистент справится с делами в клинике не хуже меня, а визиты больных я отложу. Еще никто не умирал от заболеваний печени за несколько дней. Надеюсь, это будет великолепная поездка… Боюсь, ты вышла замуж не за того человека, Шанталь. У меня не бывает отпусков, однако уверен, что хоть один, тем более такой короткий, я могу себе позволить.
— Возможно, но подумай о Еве.
— Ее тоже приглашают, так в чем же трудности?
— Ах, это сильно осложнит дело, — надулась мадам Кудер. — Прежде всего у нее нет подходящей для Довиля[2] одежды. Все, что Ева носит сейчас, шила мадам Клотильда, но она уехала из города прошлым августом. Так или иначе, уже нет времени заниматься ее туалетами.
Мадам Кудер еще раз с нарастающим разочарованием пробежала глазами написанное.
— Даже если бы у Евы нашлась подходящая одежда, — вздохнула она, — не думаю, что разумно брать ее с собой… Мари-Франс пишет, что туда едут люди нашего с тобой возраста. Она, конечно, проявила доброту, пригласив и Еву, но мысль, что рядом, развесив уши, вертится молоденькая девушка, испортит все удовольствие. Мужчины не знают, как себя с ней вести, и говорят то, что ей не следует слышать, ну а женщинам хочется просто спокойно посплетничать. Она будет только мешать нам, ты это прекрасно понимаешь. Если бы там был кто-то из молодежи… Нет, мы не можем туда поехать.
Мадам Кудер горестно вложила письмо в конверт.
— Думаю, ты не права, дорогая. Пусть Ева останется с Луизой. Полагаю, она приглашена на несколько партий в теннис и один-два пикника, верно? Так почему же нам не провести несколько дней на свежем морском воздухе? Очень скоро жизнь девочки заполнят свидания и новые наряды!
— Ей будет трудно без нас, — не слишком уверенно возразила мадам Кудер.
— Вздор! Немедленно напиши Мари-Франс, что мы завтра же выезжаем. Я сейчас закажу билеты на поезд.
— Ну хорошо, если ты так решил, Дидье.
— Да, я настаиваю на этом. — Поцеловав жену, доктор Кудер натянул перчатки и весело подумал, что Шанталь, без сомнения, глупеет от этих вечных сомнений. К счастью, ему всегда нравились и будут нравиться глупые женщины. После тяжелого рабочего дня с ними отдыхаешь, как ни с одной умницей.
— Сегодня я могу не спешить домой, — радостно объявила Ева, войдя в гримерную Алена. Неожиданный отъезд родителей стал для девушки сигналом, что выдумка о мадемуазель Габриэль отслужила свое.
— У старой крокодилихи случился припадок набожности, и она задохнулась от избытка благоговения? — пошутил Ален. — Или ты наконец устала изображать Золушку?
— Не угадал. Мадемуазель Габриэль на несколько дней уехала в гости к сестре и оставила мне ключи от дома. Я не должна возвращаться слишком поздно. Соседи могут заметить и доложить ей, но, по крайней мере, сейчас дверь не будет запираться в полночь.
Ева, ликуя, показала Алену ключ от маленькой дверцы в воротах дома на улице Бюффон.
Ален взглянул на ключ, скептически усмехнувшись. Несмотря на старания Евы, он не верил ни одному слову в этой истории с мадемуазель Габриэль. Общаясь с девушкой несколько вечеров, Ален очень скоро убедился, что она не та, за кого себя выдает.
Сегодня, впервые с тех пор, как Ева пришла к нему за кулисы, она надела новую шляпку из превосходной соломки с широкими полями и низким верхом, с элегантной лентой из черного бархата вокруг тульи. Она позаимствовала ее у матери, раз уж та уехала в Нормандию. Эта шляпка подтверждает его подозрения, подумал Ален, хотя Ева этого не понимает.
В том, что Ева из богатой семьи, Алена убедила не только ее речь, но и те мелкие признаки, которые безошибочно свидетельствуют о хорошем воспитании: манера держаться, осанка, бессознательное высокомерие девушки, привыкшей к обеспеченной жизни. Ева несомненно принадлежала к высшему классу, хотя по каким-то причинам скрывала это, но теперь, в элегантной шляпке, подчеркивающей врожденное благородство ее черт, это особенно бросалось в глаза. Если Ева и бывала когда-либо в магазинах дамской обуви, подумал Ален, то только для того, чтобы купить себе башмачки.
Впрочем, он не собирался разоблачать ее. Пусть хранит свой секрет… Так даже лучше. Алена пугало в женщине лишь одно — стремление завладеть им, включить его в повседневную жизнь. Этого он всячески старался избежать. Ален никогда не позволял любовницам рассказывать об их житейских проблемах, мужьях и детях: даже выслушивая это, он рисковал угодить в ловушку.
— Значит, ты можешь сегодня после спектакля поужинать со мной в кафе? — спросил Ален, впервые уверенный, что Ева согласится и он выиграет заключенное с Жюлем пари. Однако, если он начнет форсировать события в гримерной, это лишит его того особенного удовольствия, на которое Ален надеялся, впервые коснувшись волос этой девушки.
— Только пойдем в какое-нибудь тихое и пристойное заведение. Ты же знаешь, как это бывает в небольших городах… Хотя мадемуазель Габриэль и уехала, я не рискну показаться где-нибудь в столь поздний час. Заметив меня, кто-нибудь из ее клиентов непременно сообщит ей об этом. Ты знаешь какое-нибудь маленькое, не слишком освещенное кафе?
— Обещаю найти такое.
— Это то, чего ты хотела? — спросил Ален, окинув взглядом помещение с низким потолком и толстыми стенами. Прохлада искупала непрезентабельность интерьера. Кафе походило на все те заведения, где он побывал с тех пор, как начал работать в мюзик-холле. Выбрав самый дальний от стойки столик с обшарпанной банкеткой, он заказал лучший ужин из предлагаемых меню блюд и бутылку самого дорогого вина.
— Отлично, — сказала Ева.
Она впервые была вечером в кафе, впервые сидела на банкетке рядом с мужчиной, впервые на столике стояла бутылка заказанного для нее вина. Оглядевшись и поняв, что здесь нет никого из знакомых ее родителей, Ева успокоилась и вздохнула с облегчением.
— Выпей вина, — предложил Ален.
— Позволь мне выпить из твоего бокала, — попросила Ева таким грудным голосом, что у Алена перехватило дыхание от нахлынувшего на него желания. Сознает ли она, что подобные слова воспламеняют мужчину? Нет, конечно, не сознает, подумал Ален, иначе вела бы себя осмотрительней.
Он протянул девушке свой бокал и смотрел, как Ева с нескрываемым удовольствием, словно это был premier cru[3], не отрываясь, выпила почти все вино. Еве понадобилось немало мужества, чтобы прийти в кафе. Теперь она надеялась, что вино укрепит ее решимость.
Она уже не раз видела Алена за кулисами; он рассказывал ей о Париже, о том, как стал звездой «Ривьеры», не имея музыкального образования. Этот шаг вызвал неодобрение его семьи, принадлежащей к рабочему классу. Из-за кулис Ева, замирая от восторга, смотрела на Алена Марэ — певца, который исполнял баллады о любви и околдовал ее своим удивительным голосом. Вдруг Ева поняла, что сейчас видит перед собой третьего Алена — щегольски одетого утонченного господина в соломенном канотье, прекрасном летнем костюме и шелковой рубашке. Этот изысканный парижанин был так красив и привлекателен, что незнакомые женщины то и дело оглядывались на него, пока они шли от театра к кафе.
Такого, как он, Ева не могла бы встретить в провинциальном Дижоне. Здесь Ален так же отличался от других, как путешественник-европеец от островитян. Ева удивлялась, что нашел в ней Ален, почему позволял приходить к себе каждый вечер, предупреждая Жюля, чтобы никто не беспокоил его в гримерной. Ее внезапно смутило, что она не знает, как вести себя с этим новым Аленом Марэ — пришельцем из другого мира. О чем она станет с ним говорить? Полчаса в его гримерной пролетали незаметно, поскольку они точно знали, что ровно без четверти одиннадцать на пороге появится Жюль, предупредит Алена о его втором выходе на сцену, и им придется распрощаться. Но сегодня все было иначе.
— Можно мне еще глоток? — спросила Ева и жадно допила вино.
— Надеюсь, у мадемуазель Габриэль хотя бы хороший винный погреб? — поинтересовался Ален, размышляя о том, долго ли будет Ева цепляться за этот образ? Для такого неземного создания Ева довольно лихо пила вино.
— О, великолепный! Это единственная роскошь в ее доме. Нет, я несправедлива к ней. Стол у нее тоже хороший. Я ни разу не оставалась голодной с тех пор, как у нее работаю.
— Не слишком щедрая плата за то, что ты растрачиваешь у нее свою юность. Ева, неужели тебе не хочется чего-то большего? Не может быть, чтобы ты всю жизнь собиралась торговать туфлями.
— Конечно нет, — неосмотрительно ответила девушка. Зачем ей мечтать о чем-то большем, если она и так принадлежит к высшему кругу? Поняв свой просчет, она поспешно добавила: — Видишь ли, магазин мадемуазель Габриэль — самый модный салон обуви в нашей части города. У нас самая лучшая клиентура, самые уважаемые люди.
— Ты не хочешь выходить замуж или мадемуазель Габриэль подыскивает тебе жениха? — Выдумка Евы так забавляла Алена, что он продолжал расспрашивать ее, хотя это было неразумно.
— Ах! — задохнулась от возмущения Ева. Всю жизнь в ней воспитывали сознание того, что она — завидная партия, и родители заботливо растили ее для прекрасного брачного союза. Однако Ева не только не собиралась беспрекословно подчиниться планам родителей, но даже не допускала мысли, что кто-то имеет право распоряжаться ею по своему усмотрению, не принимая во внимание ее желаний.
— Прости, мне не следовало спрашивать тебя об этом, — быстро проговорил Ален, заметив ее реакцию. — Но все же мне очень хотелось бы это знать.
— Почему? Что это меняет? — живо спросила Ева.
— Просто из любопытства, — небрежно ответил Ален. — Мы всегда говорили только обо мне, и я не знаю о тебе почти ничего, даже того, что следовало бы знать. Наша дружба несколько однобока, не так ли?
— А… — Ева внезапно поняла, что Ален, знакомый ей по встречам в гримерной, изменился вовсе не из-за модного костюма, просто она увидела его с другой стороны.
— То, что девушка бегает каждый вечер через весь Дижон, чтобы послушать твои песни, а потом бегом возвращается в полной темноте, ты называешь дружбой?
— А как же можно это назвать, если девушка вечер за вечером сидит на жестком стуле, готовая мгновенно вскочить на ноги и с криком убежать, посмей я только подвинуть свой стул чуть ближе и коснуться ее хоть пальцем?
— Не знаю, — медленно проговорила Ева, затем мягко накрыла руку Алена ладонью. — Действительно, не знаю. Но у тебя гораздо больше жизненного опыта, чем у меня. Поэтому, если ты называешь это дружбой, значит, так оно и есть.
— Не надо! — вскрикнул Ален, отдергивая руку.
— Что «не надо»? — шепотом спросила Ева.
— Боже мой, ты хуже самой распроклятой шлюхи, когда-либо рождавшейся на свет! — Он схватил руку Евы. — Вот! Прикоснись к моей груди! Чувствуешь, как бьется сердце? Думаешь, оно всегда так бьется? Ты считаешь, что можешь прикасаться ко мне, когда тебе вздумается, а я не могу даже поцеловать тебя?
— Я… позволила бы тебе поцеловать себя, — протянула Ева, — но ты ни разу не попытался.
— Конечно, я не пытался поцеловать тебя. Да можно ли поцеловать девушку, которая сидит, сложив руки на груди и спрятав ладони под мышками, и так крепко сжимает ноги, что их не разжать и ломом, а колени сдвигает так, словно на нее собираются напасть!
По щекам Евы покатились слезы, но она не осмелилась смахнуть их. Ах, как колотится его сердце, словно пойманная птица! Неужели он так рассердился, что не простит ее, подумала девушка. Еве казалось, что ее сердце тоже готово выскочить из груди и разбиться вдребезги. Она вдруг стремительно придвинулась к Алену, положила руки ему на плечи, наклонилась вперед и прижалась губами к его губам. Затем отпрянула, заметив официанта, проходившего мимо их столика и тактично отвернувшегося. Это заставило Еву вспомнить, что они не одни; кроме того, сидящие за соседними столиками наблюдали за ними с нескрываемым интересом. Девушка помертвела.
— Ева, пойдем, — сказал Ален, положив на стол деньги и подхватывая ее под локоть. Тарелки с изысканным ужином остались нетронутыми. Ева, не возражая, позволила Алену вывести себя на людную улицу. Жители Дижона наслаждались вечерней прохладой, но Ева их не замечала, зачарованная первым в жизни поцелуем. Все прежнее вдруг поблекло, отошло в прошлое. Еву вновь охватило физическое желание, чреватое теми опасностями, которых она столь счастливо избежала в первый вечер знакомства с Аленом.
От двух бокалов крепкого красного вина, выпитого на пустой желудок, у Евы сильно закружилась голова: улица показалась ей зыбкой и призрачной, похожей на театральную декорацию, а люди — на бесплотных фантомов.
— Я хочу еще раз поцеловать тебя, — услышала она свой собственный голос. — Я хочу… хочу…
— Не надо, сейчас это невозможно, — оборвал ее Ален. — Мы у всех на виду. Здесь негде уединиться. Пойдем ко мне в пансион. Это недалеко отсюда. У меня две вполне сносные комнаты.
Ева молча кивнула. В эту секунду она подумала, что сказали бы ее мать, тетка или Луиза, прочитав ее мысли. «Я вступаю на неизведанный путь», — решила Ева и, позабыв обо всем, заторопилась вместе с Аленом к театральному пансиону, где поселились артисты мюзик-холла.
Вторая комната, которую дали Алену как звезде гастрольной труппы, была заставлена тяжелой викторианской мебелью, обтянутой темно-красным плюшем. Ева, словно повинуясь безмолвной просьбе Алена, села на длинную и широкую софу. Она испытывала смешанные чувства: падение, страх, восторг, головокружение и слабость от любопытства и предчувствия того, что должно произойти.
Ален бросил в угол свое канотье и снял пиджак. Охваченный желанием, он все же наблюдал за девушкой с неослабевающим интересом. Ева так и не сняла перчатки, которые машинально надела, выходя из кафе. Опустившись на софу рядом с Евой и заглянув ей в глаза, он увидел в них за неприкрытым ужасом отчаянную бесшабашность, которая и завела ее так далеко.
Ален быстро снял с нее шляпку, вынул шпильки из волос, и они рассыпались по плечам. Потом он стянул с нее перчатки и тут же расстегнул верхние пуговицы блузки. Ева не издала ни звука, когда Ален наклонился и снял с нее остроносые башмачки на высоких каблуках, не сказала ни слова, когда он обнял ее и притянул к себе. Если бы не участившееся дыхание Евы, он подумал бы, что безразличен ей.
Но это было лишь до того момента, пока он не поцеловал ее. Пылкость невинности, с какой Ева ответила на его поцелуй, повергла Алена в шок. Плотно сжатые губы, сильно прижавшиеся к его губам, были страстными и ищущими. Не было сомнений, что она жаждет поцелуев, но умеет целоваться только по-детски. Руки Евы стиснули голову Алена, не давая ему прервать поцелуй, веки были плотно сжаты. Оба замерли в неустойчивом положении на плюшевой софе, рискуя при малейшем движении свалиться на пол.
— Погоди, — прошептал Ален. Когда Ева неохотно оторвала от него свои губы, он мягко разжал ее руки и слегка откинулся назад. — Ева, посмотри на меня.
Ева быстро взглянула на него, горя желанием снова прильнуть к нему губами, закрыть глаза и полностью отдаться новым ощущениям. Прикосновения его губ, твердых и полных, нежных и требовательных, пробудили в ней еще неизведанные чувства.
— Я хочу научить тебя целоваться, — пробормотал Ален.
Пальцем правой руки Ален провел по губам Евы так сосредоточенно и тщательно, словно это был не палец, а карандаш, а сам он создавал совершенный рисунок. Затем он стал водить пальцем между губами девушки, не пытаясь их раздвинуть, но ласково надавливая то на нижнюю, то на верхнюю, пока они не стали мягче.
— Теперь замри, — сказал Ален, наклоняясь к Еве, и повторил кончиком языка пройденный пальцем путь. После того как он трижды обвел языком губы девушки, она начала задыхаться, но руки Алена держали ее так крепко, что Ева не могла пошевельнуться. Затем все так же кончиком языка Ален стал томно водить по поверхности ее губ. Наконец он почувствовал, что для него открылась влажная глубина ее рта. Теперь, когда это произошло, он снова начал целовать ее, вкладывая в каждый поцелуй весь свой сексуальный опыт. Когда девушка лихорадочно забилась в объятиях Алена от столь знакомого ему нетерпения, он вновь воспользовался языком — нежно, почти украдкой. Ален проник в ее рот быстро и легко, но Ева почувствовала такое пронзительное наслаждение, что вскрикнула от восторга.
— Дай и мне почувствовать твой язык, — попросил Ален.
— Я не могу, не могу этого сделать!
— Нет, можешь! Всего один раз. Смотри, я покажу тебе, как это делается, — настойчиво сказал он и снова проник к ней в рот языком, медленно и осторожно, то убирая, то снова толкая его вперед, пока не почувствовал робкую дрожь — верный признак того, что Ева решила выполнить его просьбу. Однако Ален сделал вид, что ничего не заметил. Легкое прикосновение языка Евы повторилось, на этот раз более смелое, но он опять ничего не предпринял. Когда же Ева в третий раз проникла языком в его рот, он пылко ответил на ее поцелуй.
Он не мог насытиться, но все еще сдерживался. «Только ее губы, только ее язык, сначала только это», — твердил он себе, чувствуя, что перестает владеть собой, и напрягая волю. Постепенно он заставил себя оторваться от Евы, одурманенной страстью, хотя и не понимающей, что такое страсть, обуреваемой вожделением, хотя и не знающей, что такое вожделение, жаждущей близости, хотя и не представляющей себе, что это за близость.
— Нет, Ален, — взмолилась Ева. — Продолжай…
— Подожди, я только на минутку. — Ален скрылся в своей спальне. Есть только один верный способ не закончить слишком быстро, подумал он, расстегивая брюки. Стоя перед умывальником в углу комнаты, он сделал то, что нужно, думая о все еще недоступном теле Евы. Через несколько секунд все было кончено, и Ален достиг вершины наслаждения, в котором отказывал себе слишком долго — несколько ночей подряд. Дрожа, он напился воды из кувшина, вытерся полотенцем, привел в порядок брюки и вернулся в соседнюю комнату к неподвижно лежащей на софе Еве.
Он нежно обнял ее и снова начал целовать. Теперь Ален был способен на нежность. Он смог справиться с собой, и это доставляло ему удовольствие. Второй заход у него всегда получался гораздо лучше и тянулся намного дольше, даже со знающей свое дело женщиной. Короткие исчезновения из спальни помогли ему снискать репутацию несравненного любовника.
Опытные пальцы Алена ловко справлялись с множеством крохотных пуговичек, на которые была застегнута спереди блузка Евы. Быстро покончив с пуговицами, он освободил пояс, затянутый вокруг талии. Ева пассивно лежала в его объятиях, а он постепенно раздевал ее, покрывая поцелуями. Отсутствие опыта и вино сделали свое дело: Ева не помогала ему, но и не оказывала сопротивления. Она не отдавала себе отчета в том, что собирается делать с ней Ален, одно знала твердо: ей следует подчиниться ему.
Из целомудрия Ева не решалась открыть глаза, но чувствовала, что грудь ее освободилась от кружевного белья и теперь прикрыта лишь расстегнутой блузкой, которую Ален все еще не снял с нее. Тонкая ткань терлась о соски, и они затвердели; но Ева этого не сознавала. Поняв, что верхняя и нижняя юбка упали на пол, она слепо подчинилась Алену, он постепенно снял с нее все, кроме блузки, не спеша открывая чудесное юное тело и ощущая при этом все нарастающий восторг и возбуждение. Впрочем, теперь он уже вполне владел собой.
Ален по-прежнему целовал Еву, словно подготавливая ее к каждому этапу раздевания. Поспешность могла лишь испортить удовольствие. Ева так неискушенна, что поцелуи загипнотизируют ее и она позабудет все запреты, связанные с обнаженным телом, уверял себя Ален. Он не тронул блузку, зная, что это успокоит девушку, хотя она прикрывала лишь руки и плечи. Полная грудь Евы с маленькими розовыми, набухшими от возбуждения сосками была обнажена. «Она безупречно сложена», — подумал Ален, окинув взглядом пышные формы Евы и светлые волосы, скрывающие место, где соединялись ее точеные бедра, волосы, мягкие, курчавые и густые — именно такие, какие ему нравились.
— Ты прекрасна, как ты прекрасна! — пробормотал он.
— Ален… — прошептала Ева.
— Ничего не говори. Я не причиню тебе боли, обещаю. Позволь мне показать тебе… Я понимаю, ведь ты ничего не знаешь… Я понимаю… просто позволь мне любить тебя.
Ален посмотрел на бедра Евы. Она бессознательно двигала ими вперед и назад, притом так, что они терлись одно о другое. Нет, нельзя позволять ей делать этого, пронеслось у него в мозгу, или он лишится удовольствия.
— Лежи спокойно, дорогая, — шепнул он, касаясь рукой бедра Евы и давая ей понять, что он имеет в виду.
Ева замерла, ее щеки залил румянец.
— Ты создана для любви, — сказал Ален ей на ухо. — Как ты могла так долго жить не любя? Нет, нет, молчи. Позволь мне самому показать тебе все.
Он провел ладонью по ее пышной груди, чуть задержавшись, чтобы потрогать затвердевшие соски, и слегка зажал их между пальцами, наслаждаясь своей мазохистской выдержанностью. «Она этого не понимает, но хочет, чтобы то же самое проделал мой рот, — подумал он. — Пока еще не понимает».
Смочив палец слюной, он быстрыми ласкающими движениями обвел розовые соски, затем еще раз и еще; правда, после этого ему вновь пришлось придержать рукой бедра Евы.
— Хочешь, чтобы я поцеловал твою грудь? — шепотом спросил он. — Я не стану этого делать, если не хочешь.
Когда Ева смущенно и беспомощно кивнула, он как бы нехотя склонил черноволосую голову над девственной грудью.
Рот Евы был сладок, а соски будут еще слаще. Задержись он в Дижоне подольше, Ален отложил бы следующий шаг на другой день, ибо предпочитал постепенно подниматься с Евой к высотам чувственного безумия. Ален знал: стоит ему обхватить губами ее сосок, он так возбудится, что не сможет больше отступать.
Стиснув рукой правую грудь Евы, он взял сосок в рот и принялся теребить его языком. Между тем другая его рука медленно, словно случайно скользнула вниз по животу Евы от талии к курчавым светлым волосам между ног. Ален не сомневался: его умелый язык так увлечет девушку, что она не заметит этих движений его руки. Для этого движение должно быть очень осторожным. Ева должна привыкнуть к нему, не то она мгновенно отпрянет и лишит его удовольствия из-за своей робости. Даже теперь.
Ален ласкал ее грудь, радуясь, что соски Евы все больше набухают и твердеют, неторопливо исследуя правой рукой нежную кожу вокруг треугольника светлых волос, но ни на что больше не посягая. Вначале мышцы внизу живота и бедра Евы напряглись и окаменели от легких прикосновений его руки, но потом девушку слишком поглотило странное ощущение приятного жара и пьянящей тяжести между ногами, поэтому она и не помышляла противиться его ласкам. Она не знала, зачем он все это делает, но при каждом его прикосновении ей инстинктивно хотелось раздвинуть бедра.
Ален начал ласкать ее левую грудь, и новое, пронзительное ощущение в соске отвлекло Еву от действий его руки внизу. Между тем рука Алена двигалась так осторожно и столь легко прикоснулась к ее плоти, что девушка почти не замечала этого. Ален благоразумно выждал несколько минут, прежде чем вновь прикоснулся к нежной плоти, так же легко, как и прежде, но теперь на мгновение ввел средний палец внутрь. Затем он убрал руку, уверенный, что сделал свое дело, и, замерев, ждал, пока не почувствовал, как треугольник курчавых волос инстинктивно приподнялся. Тогда его палец снова коснулся Евы, обнаружив ожидаемую в награду влагу, задержался чуть дольше и, прежде чем отступить, потерся о кожу почти просяще. Ален поднял голову от груди Евы. Ее веки были опущены, рот приоткрылся, и на секунду ему показалось, что она в обмороке.
— Я не стану этого делать, если ты не хочешь, дорогая, — прошептал он.
Ева не шелохнулась, что выражало согласие. Он был так же уверен в этом, как если бы Ева попросила его об этом. Он раздвинул завитки, снова отыскал то самое место, горячее и будто молящее прикоснуться к нему, и начал ласкать Еву, уже не отрывая пальца от ее плоти. Все убыстряя ритм ласк, Ален с жадным любопытством смотрел ей в лицо: она кусала губы, а ее черты исказила непонятная ей самой мука. Теперь он обхватил восхитительный бутон пальцами, горя желанием прочувствовать каждый ее толчок, каждое содрогание, каждый спазм; он жаждал видеть первые проявления страсти. Когда чувства Евы достигли того безумного накала, какого девушка и не представляла себе, и она бессознательно выкрикнула его имя, Ален на несколько сантиметров ввел средний палец внутрь.
Еве навсегда запомнился этот миг, а также и то, кто был ее учителем в искусстве любви. Она никогда не забывала Алена, благодарная ему за это прикосновение и за то наслаждение, которое он стремился подарить ей.
— Жюль, ради Бога, спаси меня, — взмолился Ален, схватив приятеля за руку и втаскивая его в свою гримерную, чтобы никто не мог подслушать их разговор. — Дорогой, я не знаю, что мне делать.
— Что случилось? — Жюль впервые видел Алена в театре небритым, со спутанной шевелюрой, да еще так рано утром.
— Боже, Жюль, зачем только я заключил с тобой это пари?!
— Я выиграл или проиграл?
— И да, и нет… Какая разница. На, возьми свои проклятые деньги. Жюль, я должен уехать из Дижона первым же поездом.
— Спокойно, Ален, не пори горячку. Сегодня ты выступаешь днем и вечером, и потом, тебе прекрасно известно, что труппа покидает Дижон в понедельник утром, то есть через четыре дня.
— Знаю… но это ничего не меняет. Жюль, я должен бесследно исчезнуть до наступления вечера. Ты должен прикрыть меня перед дирекцией… и перед Евой.
— Прекрати! С девчонкой, скорее всего, проблем не будет, а вот с дирекцией… Что я скажу? Не будь дураком, ты же звезда… Я не хочу потерять работу. Что случилось? Ты получил свое?
— Нет, то есть почти… Я сделал все, как надо. Она была полностью готова, вся горела от нетерпения, но вдруг разразилась слезами счастья и заявила, что она меня любит и что я — то чудо, о котором она мечтала всю свою жизнь. А затем призналась, кто она на самом деле. Ее отец самый известный врач в городе… Такие могущественные люди… Жюль, они меня просто раздавят, растопчут. Они будут на каждом углу вопить о насилии. Дирекция, конечно… Кто знает, как далеко все это зайдет? Насилие, разумеется, они назовут это насилием. Даже ты думал именно так всего минуту назад. Они никогда не поверят, что она готова была отдаться добровольно. О Боже! Жюль, во имя неба, помоги мне!
Распорядитель тяжело опустился на стул, не сводя глаз с встревоженного друга.
— Вот тебе и девственницы… А ты чего ждал?
— Я потерял голову, Жюль. Что мне еще сказать? Я выпроводил ее домой, едва до меня дошло, во что я влип. Жюль, все это плохо кончится, если я немедленно отсюда не уберусь.
— Ты придумал хоть мало-мальски уважительный предлог? Мне ведь придется как-то объяснить твой внезапный отъезд, — сказал Жюль после минутного размышления.
— Всю ночь ломал голову. Скажи, что я получил телеграмму о кончине матери, что ты видел собственными глазами и что мне пришлось немедленно выехать на похороны. Дирекция не имеет права мне этого запретить. Похороны матери — дело святое. Скажи, что я приступлю к работе, как только труппа вернется в Париж. Еве скажи только, что умерла моя мать. Она не знает моего парижского адреса. Если она спросит, как меня найти, соври, что не знаешь… ведь люди нашей профессии постоянно переезжают с места на место. Передай, что я никогда ее не забуду… Да, да, непременно скажи, что я буду помнить о ней всю жизнь. И, поверь мне, так оно и будет!
— А если она явится в театр в Париже?
— Нет, этого не может быть. Она говорила, что за ней неусыпно наблюдают. Ее не оставляют одну ни на минуту. У нее есть компаньонка — компаньонка, представляешь?! — которая везде ее сопровождает. Я знал, что она лжет, будто работает в обувном магазине, но и представить не мог…
— Ален, ты должен выступить хотя бы днем. Поезд в Париж отправляется поздно вечером… Я скажу дирекции, что телеграмма пришла во время твоего дневного выхода и ее передали тебе сразу после выступления.
— Хорошо, Жюль. Ты настоящий друг. Что бы я без тебя делал?
— Пал бы на колени и молился о чуде.
Весь день Ева просидела за фортепиано, то и дело испытывая приливы сильнейшего чувственного возбуждения. Порой желание становилось почти невыносимым. Она была поглощена воспоминаниями об экстазе, испытанном благодаря Алену. Она до сих пор не вполне понимала, что с ней произошло, но это, пожалуй, было то, ради чего стоило жить. Ах, Ален, Ален… Когда они наконец снова увидятся? Ева сгорала от нетерпения; ей хотелось куда-то мчаться, бегом, до изнеможения, кусать до крови губы… До наступления ночи еще так долго! Она избегала встреч с Луизой, не сомневаясь, что не сможет скрыть от нее своего состояния. Та тотчас заметит, что с ней произошло нечто необычайное. Она несколько часов наигрывала на фортепиано все подряд, но не спела ни одной ноты, зная, что тут же расплачется от нервного напряжения. Ева не играла романсов Алена, изнемогая от страстного желания и опасаясь, что, если оно станет хоть чуточку сильней, она не выдержит и завоет как зверь.
Наконец бесконечные летние сумерки сменились ночью, и Луиза, увлекшаяся обсуждением сплетен с кухаркой, позже обычного поднялась к себе в комнату. Только в половине одиннадцатого Ева смогла выскользнуть из дома и, заперев за собой маленькую дверцу, помчалась в «Алказар».
Даже не постучав, она так же поспешно, рывком распахнула дверь в гримерную Алена. Комната была пуста, одежда Алена исчезла. Она, наверное, ошиблась, подумала Ева, возвращаясь в коридор. По обе стороны коридора тянулись знакомые комнаты, мимо которых она проходила вечер за вечером, и всех артистов, обосновавшихся в них, Ева уже знала.
— Жюль! Где Ален? — крикнула Ева, когда к ней приблизился распорядитель сцены. — Почему его нет в гримерной?
— Он уехал. У него внезапно скончалась мать… Телеграмма пришла сегодня днем, и ему пришлось отправиться в Париж на похороны… Он не будет сегодня петь. Он просил меня кое-что тебе передать.
— Ну, говори же!
— Он просил сказать, что никогда тебя не забудет.
— Это все?!
— Все. — Жюль почувствовал жалость к девушке. Она была не первой, кого обольстил певец, но, несомненно, самой молодой и красивой из всех его жертв.
— Жюль, где он живет в Париже? Дай мне его адрес. Ну, пожалуйста! Ты должен мне сказать!
— Я и сам не знаю… Он никогда не говорил, где живет, понятия не имею…
Развернувшись на каблуках, Ева выскочила из театра, совершенно не сознавая, что делает. Вскоре она поняла, что бежит по улице Ла-Гар, ведущей к железнодорожному вокзалу Дижона. Спустя несколько минут Ева оказалась под сводами огромного зала и в отчаянии поискала глазами расписание поездов. Ева знала, что вечером в Дижоне останавливается только один поезд, следующий в Париж.
— Парижский поезд? — умоляюще спросила она у подошедшего к ней дежурного по вокзалу.
— Перрон номер четыре, но поспешите, поезд сейчас отбывает, — сказал он.
Ева устремилась к входу на длинный перрон, у которого стоял поезд, и вскочила на высокую ступеньку последнего вагона. Едва оказавшись внутри, она остановилась, чтобы перевести дух. Паровоз засвистел, и поезд стал постепенно набирать скорость. Только когда он плавно миновал Транше де Перрьер, окраину города, Ева почувствовала, что уже готова пуститься на поиски Алена.
Она нашла его в вагоне второго класса. Ален стоял в коридоре, засунув руки в карманы. Опустив голову, он мрачно смотрел в окно. Едва завидев знакомую фигуру, Ева, спотыкаясь, рванулась вперед. Толчки поезда швыряли ее от стенки к стенке, так что она не могла даже окликнуть любимого. Наконец, обретя равновесие, девушка бросилась Алену на грудь и вцепилась в него, чтобы не упасть.
Он стряхнул с себя ее руки.
— Ты спятила!
— Слава Богу, я нашла тебя!
— Ты сойдешь с поезда на первой же остановке!
— Я никогда тебя не покину!
— Ты должна! Твоя семья…
— А что им останется делать? Никто не сможет отнять меня у тебя!
— Ты ничего не понимаешь, — оборвал ее Ален. — Я не намерен жениться на тебе. Ни одной женщине не удастся привязать меня к себе.
— Разве я упоминала о браке? Хотя бы единым словом?
— Нет, но ты думала об этом. Полагаешь, я не знаю женщин?
— Я презираю брак и все, что с ним связано, — чистосердечно призналась Ева, и горящие глаза, гордый поворот головы, заметное упрямство, своенравие и безудержность — все подсказало Алену, что она говорит правду.
— Кто-нибудь знает, что ты отправилась за мной? — спросил он. Упоительное воспоминание о ее теле внезапно возобладало в нем над доводами рассудка.
— Никто! Никто из моих домашних даже не подозревает о твоем существовании.
— Значит… ты сама за все отвечаешь, — сказал Ален, прижимая ее к себе. Ева мечтала отдаться ему немедленно, а он предвкушал восхитительную долгую ночь, которая ждала их впереди.
3
К счастью, первое письмо от Евы пришло скоро — всего через два дня после ее побега. Хотя оно было адресовано родителям Евы, Луиза тут же, с лихорадочной поспешностью, его распечатала. Ева сообщала только то, что она в безопасности, безмерно счастлива и живет именно так, как ей нравится, с человеком, которого любит. Придя в ужас и боясь даже намекнуть кому-либо из слуг о беде, обрушившейся на семью, горничная бросилась на почту и отправила в Довиль телеграмму Кудерам, попросив их поторопиться домой.
— Луиза, ты испорченное создание, — закричала мадам Кудер, едва переступив порог. — Говори, что тебе известно, или я отправлю тебя в тюрьму!
— Шанталь, успокойся, — нетерпеливо вмешался доктор. — В письме ясно сказано, что Луиза ничего не знает. Наша дочь обманывала Луизу, и она ни в чем не виновата. — Неужели жена до сих пор не поняла, что сейчас неважно, виновата ли Луиза, она должна помочь им сохранить случившееся в тайне, пока Ева не вернется домой.
— Луиза, подумай хорошенько, — продолжал доктор Кудер, — кто, по-твоему, тот человек, с которым уехала мадемуазель Ева? Тебя никто не обидит, если ты скажешь нам это, обещаю. Мы должны найти ее, пока с ней не случилось ничего дурного. Луиза, умоляю тебя, скажи, когда она познакомилась с этим человеком и видела ли ты, как она с ним разговаривала? Как он выглядит? Просто расскажи, что ты знаешь о нем.
— Я ни разу не видела, чтобы мадемуазель Ева разговаривала с незнакомым человеком, клянусь Девой Марией. Она никогда в жизни не оставалась наедине с мужчиной, разве что на исповеди, да и то я всегда была рядом, как до меня мадемуазель Элен. Она никогда не говорила со мной о мужчинах, даже не спрашивала, что происходит с девушкой после замужества… только твердила, что вообще не выйдет замуж. — Луиза расплакалась, вспомнив прогулки в саду с Евой ранней весной, всего несколько месяцев назад. — Она ничего об этом не знала, клянусь вам!
— Ничего! — негодующе фыркнула Шанталь. — Загляни в письмо! Но она сбежала с мужчиной! Это означает только одно, другого не придумаешь!
— Пожалуйста, Шанталь, постарайся успокоиться. — Доктор Кудер сильно сжал руку жены. — Если нам повезет, Ева вернется домой через день-другой. Этому безумию, свойственному юности, подвержены многие девушки ее возраста. Когда она вернется, мы разберемся, что произошло, но не раньше. Однако, пока этого не произошло, очень важно, чтобы никто, кроме нас троих, не знал об ее отсутствии. Луиза, ты внимательно меня слушаешь?
— Да, месье.
— Луиза, ты должна сказать кухарке, что мадемуазель Ева заболела свинкой. Я строго-настрого накажу слугам, чтобы никто из них не заходил в ее комнату. Сообщи им о карантине и о том, что лишь ты одна будешь подавать ей еду. Ты будешь носить ей только бульон, хлеб и мед. У нее пропадет аппетит. Я стану заглядывать к ней четыре-пять раз в день, чтобы меня видели. Если кто-либо из слуг откроет правду, я тут же уволю тебя без всяких рекомендаций и сделаю все, чтобы ты не нашла себе места в Дижоне. Поняла?
— Да, месье.
— Шанталь, если Ева почему-либо не вернется к моменту приезда Мари-Франс в Париж, мы попросим твою сестру немедленно приехать к нам. Если это случится, нам понадобится ее помощь.
— Что ты имеешь в виду, Дидье? О чем ты говоришь?.. Какая помощь?
— Ты полагаешь, врачу неизвестно, что делается в этом мире, дорогая? Ева будет не первой девушкой, сбежавшей из Дижона на несколько месяцев и вернувшейся, ничуть не поумнев.
— Боже, как ты можешь так бессердечно говорить о нашей дочери? О каких месяцах ты ведешь речь, Дидье?
— Я просто стараюсь разумно смотреть на вещи и советую тебе поступать так же. Если мы позаботимся обо всем заранее, то сумеем избежать скандала. Это для нас не менее важно, чем возвращение Евы домой. Вот увидишь, когда-нибудь она еще поблагодарит нас за это. Теперь, Луиза, иди к себе в комнату и перестань плакать. Умойся и смени фартук. Свинка, как ты знаешь, это еще не конец света, — произнес доктор Кудер, стараясь успокоить не только горничную, но и себя самого.
В тот день, когда в Дижон приехала баронесса де Куртизо, пришло второе письмо от Евы с почтовым штемпелем Парижа. На этот раз она сообщала немного больше. Ева написала лишь для того, чтобы успокоить родителей, прекрасно понимая, что произойдет, если они узнают, где она.
— Прочитай это, Мари-Франс, — мрачно предложил доктор Кудер, — и скажи нам, что ты об этом думаешь.
— Вы можете нанять частных детективов, — сказала баронесса, пробежав глазами несколько строк, — однако сомневаюсь, что им удастся выследить ее. Здесь не за что зацепиться, ни одной ниточки, а Париж слишком велик.
— Согласен. Я непременно найму детективов, хотя и не возлагаю на них больших надежд.
— Что же нам делать? — зарыдала в отчаянии мадам Кудер.
— Если Ева не вернется к концу следующей недели, мы уже не сможем делать вид, что она больна свинкой. Свинка в конце концов проходит. Мари-Франс должна задержаться у нас, пока Ева не почувствует себя лучше, затем она убедит нас отпустить с ней племянницу в Париж. Луиза упакует вещи Евы, и они внезапно покинут Дижон, не попрощавшись ни с кем, кроме тебя, Шанталь. Я сам отвезу их на вокзал к ночному поезду.
— А что потом, Дидье? — спросила Мари-Франс.
— До возвращения домой Ева останется у тебя в Париже. Это вполне естественно. Ни у кого из наших друзей это не вызовет никаких подозрений. Все будут рады услышать, что Ева поправляется и вскоре окрепнет настолько, чтобы наслаждаться Парижем и развлекаться, находясь под твоей опекой и присмотром. Потом она вернется домой, рано или поздно это произойдет.
— Почему ты так в этом уверен? — спросила Шанталь.
— Потому, что мужчина, решивший сбежать с такой девушкой, как Ева, должен быть последним негодяем, испорченным до мозга костей, и когда-нибудь она это поймет. Или он устанет от нее. Попомните мои слова. Из всего, чему я научился за долгие годы врачевания, следует, что, едва в жизни Евы возникнут трудности, она вернется в привычный для нее мир. Кроме того, у Евы нет денег, она не способна зарабатывать на жизнь, не имея к этому ни способностей, ни привычки. Она все еще ребенок. Ева непременно вернется, и ее репутация останется незапятнанной, если все мы добросовестно сыграем свои роли. Мы всегда будем перед тобой в неоплатном долгу, Мари-Франс.
— Ах, мой дорогой, не говори так. Я сделаю все, что в моих силах, для моей бедной маленькой Евы… Боже мой, а я-то считала, что ты чересчур строга с ней, Шанталь, но я ошибалась. Ты не была чересчур строга, как я теперь понимаю. Слава Богу, у меня нет детей. Вот все, что я могу сказать.
Наслаждаясь истомой, Ева сладко потянулась под льняной простыней, блаженно застонала и сонно поискала глазами Алена, хотя по яркому солнечному свету в спальне уже догадалась, что опять здорово заспалась и он ушел на репетицию, не разбудив ее. Подниматься поздно утром все еще было внове для Евы. Ритм ее жизни в Париже так же отличался от монотонного течения дней в Дижоне, как недавнее постижение любовных радостей от удовольствия, доставляемого партией в теннис.
Ева была поглощена страстью к Алену. Несмотря на свойственный ему эгоизм, он знал, как следует обращаться в постели с неопытной девушкой и как разжигать ее чувственность. Большинство мужчин не способно ни овладеть этим искусством, ни тем более довести его до совершенства. Ночь за ночью он, владея богатым опытом, шаг за шагом вел Еву к вершинам науки любви, к таким вершинам, на которые восходили лишь немногие куртизанки.
Уже наступил октябрь, но томное, благоуханное лето все еще напоминало о себе парижанам, когда в их окна врывался ласковый ветерок. Солнечные дни сменялись ночами, которые лишь слегка тронуло дыхание осени. Это был благословенный, пьянящий октябрь, подарок для любовников, и казалось, он будет тянуться до весны — последний октябрь Бель Эпок[4].
Ева чуть было снова не погрузилась в сон, но, когда ее веки смежились, она вдруг вспомнила, что обещала сегодня позавтракать со своей новой подругой или, вернее, знакомой, которая могла стать подругой. Та жила здесь же, на лестничной площадке, напротив них с Аленом, и называла себя Вивьен де Бирон, прекрасным, по мнению Алена, именем — не слишком броским, но звучащим аристократично. В мире мюзик-холла ни одна женщина не пользовалась своим настоящим именем. Еву знали там как Мадлен Лафоре, поскольку она не сомневалась, что родители не оставят попыток отыскать ее.
Зевнув, она соскользнула с большой кровати и накинула легкий пеньюар. Умываясь и одеваясь, Ева подумала, что уже не чувствует себя птенцом, едва вылупившимся из яйца, и начинает привыкать к своему новому положению.
Небольшая меблированная квартира Алена, прилично, хотя и безлико обставленная, находилась на пятом этаже многоквартирного дома, расположенного неподалеку от бульвара Капуцинов. Сюда приходилось подниматься на ненадежном лифте. В квартире была гостиная, ванная и маленький полукруглый салон, куда Ален поставил фортепиано. Высокие окна салона выходили на крошечный балкон, где Ева по утрам любила завтракать и пить кофе, сваренный перед уходом Аленом. Иногда она просто смотрела на розовые облака, приплывшие в Париж, или наблюдала, как голубые сумерки превращаются в фиолетовые, но чаще садилась за фортепиано и долгими часами играла и пела для себя. Только музыка и связывала девушку с прошлым, о котором она старалась вспоминать пореже, хотя писала родителям каждую неделю. Даже если они сердиты на нее так, что не читают этих писем, ее почерк все же убедит их, что она жива и здорова.
Обязанности по дому были у Евы минимальными. Горничная, работавшая у Алена несколько лет и приходившая каждый день к полудню, застилала постель и наводила в квартире порядок. О том, что она замечала Еву, свидетельствовал лишь легкий поклон, не располагавший девушку заводить с ней разговоры. Единственной обязанностью Евы было достать из гардероба и аккуратно расправить одну из превосходных рубашек, сшитых Аленом у Шарве на улице Мира, и один из его английских костюмов-троек, купленных в «Старой Англии» — магазине на бульваре Мадлен, чтобы он мог переодеться перед выступлением. На следующий день она относила эти дорогие рубашки в стирку, а костюмы отдавала гладить, ибо Ален отличался изысканной элегантностью.
Ален рассказал Еве, что нашел свой стиль, когда был еще статистом в массовых сценах в «Мулен Руж». Тогда, пять лет назад, он купил две вещи у Делормеля и Гарнье, авторов популярных песен, и впервые солировал на концерте во второразрядном кафе. Ева знала не слишком много о профессиональной карьере Алена, и все, о чем он сообщал, имело для нее особую, ни с чем не сравнимую прелесть, как аромат цветка. Любая, пусть даже самая банальная, деталь была бесконечно дорога Еве и казалась ей исполненной глубокого смысла. «Старая Англия» и Шарве стали для нее не просто названиями магазинов, а чем-то созвучным романтике и тайне.
Ева никого не знала в Париже. Дни Алена были большей частью заняты репетициями, выступлениями и вечеринками, благодаря которым поддерживались столь необходимые в этом кругу дружеские отношения. Ева присоединялась к Алену только после вечернего представления мюзик-холла, и десятки его друзей воспринимали ее без малейшего удивления. Для них она была новой подружкой Алена — маленькой Мадлен, красивой, даже очаровательной девушкой, если бы не ее застенчивость. Большего они не хотели о ней знать, да им это было и не нужно. Ева относилась к этому спокойно. Она не принадлежала их кругу, хотя и разделяла с ними ночное веселье в шумных кафе, куда они дружно отправлялись после спектакля, чтобы поболтать и развлечься.
Проводя целые дни одна, Ева никогда не чувствовала одиночества. Спустившись по лестнице, можно было выйти к Большим бульварам, где жили люди, известные в мире мюзик-холла. Вырываясь на простор широких улиц, Ева почти танцевала на тротуарах в новых синкопических ритмах, пришедших из Америки и быстро вытеснявших танго. Ева не осмеливалась, хотя ей очень хотелось этого, заказывать себе кофе на открытых террасах кафе, потому что Ален предупредил ее, что молодой женщине не подобает сидеть одной в таких местах. Она также не решалась уйти далеко от дома и побродить по улице Мира, Елисейским полям или другим местам, где прогуливается элегантная публика, потому что боялась встретить Мари-Франс. Однако ни одна светская дама не появится днем на Больших бульварах, в этом она не сомневалась.
Время близилось к полудню. Ева стояла перед большим шкафом, где висели ее новые наряды, и размышляла, не надеть ли ей сегодня лучший костюм. До сих пор она лишь примеряла его в уединении спальни и пока не могла привыкнуть к неудобной, стесняющей шаг юбке, суживающейся от бедер к лодыжкам. Чтобы в ней можно было ходить, юбка имела разрез спереди: он открывал новые туфельки Евы с завязками в стиле «танго». После привычных, позволявших свободно двигаться эдвардианских юбок эта особенно стесняла ее, но Ева все же испытывала удовольствие от того, как по-взрослому она выглядит в новой юбке и плиссированной тунике, поверх которой надевался жакет в стиле «болеро», оставлявший шею полностью открытой. После надоевших с детства высоких воротников до подбородка девушка чувствовала себя в нем свободно и раскованно.
Она наденет ярко-зеленый костюм, какая бы ни была погода, решила Ева. Вивьен де Бирон зайдет за ней минут через тридцать пять и увидит по-парижски элегантную Еву. Еве хотелось убедиться, идет ли ей новый костюм; убежав из Дижона, она до сих пор не оставалась наедине ни с кем, кроме Алена.
Предстоящий завтрак радовал Еву больше, чем она предполагала. Ален давал ей деньги на туалеты и не просил ее заниматься домашними делами. Однако, уходя на утреннюю репетицию, он совершенно забывал о существовании Евы, между тем ее непривычно праздное существование было полностью посвящено мыслям о нем.
Ален Марэ был доволен, даже более чем доволен Евой, хотя ей предстояло еще многому научиться, чтобы стать той идеальной любовницей, какой он намеревался ее сделать. И тогда, как это случалось прежде, он начнет от нее уставать.
Вивьен де Бирон, урожденная Жанна Сан, родилась в глухом, унылом пригороде Нанта, где жили люди ниже среднего достатка. Совершенно сложенная, она выдержала первые пробы в мюзик-холле, и хотя впоследствии выяснилось, что она не способна танцевать, подчиняясь ритму оркестра, Жанна двигалась по сцене с царственной грацией.
Двадцать лет она носила тяжелый, густо усеянный блестками наряд статистки с достоинством и изяществом, понимая, что в мюзик-холле она и другие статистки подобны слонам магараджи — величественным, бесполезным, но необходимым, и гордилась тем, что справляется с отведенной ей ролью не хуже своих коллег, а может быть, лучше многих.
С честью покинув сцену пять лет назад, Вивьен де Бирон достигла к нынешнему моменту одной из трех целей, составляющих предмет мечтаний любого ветерана ее профессии. Хотя она не стала звездой (в чем не было никаких сомнений) и не вышла замуж за порядочного человека, не сулящего ей ничего, кроме скуки, Вивьен все же приобрела двух не слишком требовательных, уже немолодых, но надежных покровителей. Пользуясь их советами, она выгодно вкладывала их щедрые даяния.
Ее доходов с избытком хватало для мирной, спокойной и обеспеченной жизни в центре той части Парижа, где она всегда хотела жить. Мюзик-холл, столь долго составлявший средоточие ее мира, был и сейчас смыслом ее существования, и Вивьен никогда не пропускала новых исполнителей или новое ревю. Жизненный опыт, который приобрела Вивьен благодаря наблюдательности и острому уму за тысячи часов, проведенных за кулисами, был огромен. В свои сорок пять она, заглядывая вперед, уже видела то время, когда сможет распрощаться со своими покровителями и спокойно спать все семь ночей в неделю. Между тем молодая женщина, въехавшая в квартиру напротив, пробудила в Вивьен любопытство, ибо сильно отличалась от прежних пассий Алена Марэ. Наряду с красотой, она обладала хорошими манерами и проявляла при всей своей провинциальности явную независимость.
— Нравится ли вам Париж, мадам? — спросила она Еву за завтраком в кафе «Де-ла-Пе», когда они удобно расположились в большом роскошном зале со стенами цвета морской волны и расписным потолком, который удовлетворил бы вкус мадам де Помпадур.
— Я от него без ума! Это самый чудесный город в мире, — пылко ответила Ева. Ее брови взлетели высоко вверх от переполнявших ее эмоций.
Вивьен внимательно оглядела свою новую соседку. Ева была одета по самой последней моде. Из-под маленькой шляпки без полей, прикрывавшей волосы, на щеки девушки спускались локоны, только-только входившие в моду, но опыт подсказал Вивьен, что элегантная Мадлен Лафоре еще зелена, как деревенская девчонка, приехавшая на рынок продавать цыплят. Эта Лафоре такая же «мадам», как Вивьен — многодетная мать. Но… тут все дело в музыке.
— Ваше пение, мадам, доставляет мне такое наслаждение, что и словами не выразить.
— Мое пение?
— Вы не знали, что я слышу вас, находясь на кухне?
— Не знала, даже не догадывалась, — взволновалась Ева. — Я полагала, что при таких толстых стенах мое пение не может никого побеспокоить… Простите, должно быть, я свожу вас с ума. Хорошо, что вы мне об этом сказали, — извинялась девушка, чувствуя глубокую досаду. Узнав, что популярные любовные песенки, которых она нахваталась тут и там и пела для себя, мешали соседке, наверняка желавшей приготовить себе ужин в тишине, она так смутилась, что не могла подобрать слов в свое оправдание.
— Таковы уж стены в многоквартирных домах — всегда слышно, что делается у соседей. Но позвольте вас успокоить: давно уже я не испытывала такого удовольствия. Пение месье Марэ я тоже часто слышала, много раз. Тогда мне казалось, что я на концерте.
— И вы ни разу не говорили ему об этом? — удивилась Ева.
— Конечно нет. Он разучивал новые песни. Это естественно для артиста и простительно. К тому же я восхищаюсь его голосом. Однако вы, мадам, вероятно, не профессиональная певица?
— Нет, конечно нет, мадам де Бирон. Это поймет каждый, послушав, как я пою, не так ли?
— Нет, отнюдь не каждый. Я догадалась об этом лишь потому, что никогда о вас не слышала. Будь вы профессиональной певицей, я, несомненно, знала бы вас. Да и не только я, но и вся Франция. Ничто в музыкальном мире не ускользает от меня. Мне нечем занять свои дни. Мюзик-холл был моим миром, теперь это мое увлечение, моя страсть, если хотите, и никто никогда не мог придумать ничего лучшего.
— Обо мне знала бы вся Франция? Почему вы так думаете?
— Но это же очевидно. Вам следует понять, что у вас чудесный… нет, даже чарующий, пленительный голос. А ваше исполнение! Вы вызывали у меня слезы глупыми песенками, которые я слышу дюжину раз на дню. Однако не может быть, чтобы никто не говорил вам об этом.
Безусловно, это был первый искренний комплимент, услышанный Евой. Старый ворчун — профессор Дютур всегда был чем-то недоволен. Мать Евы считала ее голос лишь придатком к хорошему воспитанию девушки, полагая, что он всегда может помочь произвести впечатление в нужный момент. Ева не знала, что ответить, и Вивьен де Бирон, увидев ее замешательство, решила сменить тему.
— Вы часто бываете в мюзик-холле, мадам Лафоре? — спросила она.
— К сожалению, нет, — ответила Ева. — Видите ли, месье Марэ поет в «Ривьере» каждый вечер, кроме субботы, а мне нелегко отважиться пойти в театр одной. Как, по-вашему, это очень глупо?
— О нет, напротив, вы поступаете очень разумно. А как насчет дневных представлений?
— Я о них как-то не подумала.
— Вы не хотите как-нибудь отправиться на дневное представление со мной, если я достану билеты? Дирекция всегда оставляет для меня контрамарки.
— О да, спасибо! Я с удовольствием пойду с вами в театр, мадам де Бирон. Странно, когда я впервые встретилась с месье Марэ, я не считала предосудительным пойти к нему за кулисы, однако теперь мне почему-то неловко находиться там, пока он на сцене… Мне нет там места, но… но меня очень тянет туда, — печально произнесла Ева.
— Ах, я прекрасно понимаю, что вы имеете в виду, — живо отозвалась Вивьен. Когда-то, много лет назад, она была влюблена в молодого певца. Господи, уж лучше сломать обе лодыжки, быть ужаленной пчелами в кончик носа, заразиться чесоткой, лишь бы такое никогда не повторилось! Этот рай, эти муки и под конец горький обман.
С этого момента началось знакомство Евы с мюзик-холлом высшего класса. Построенный в 1858 году роскошный «Эльдорадо» стал первым настоящим театром, сменившим концерты в кафе — это истинно французское сочетание пения со звоном полных бокалов. К тому времени простые кафе уже не соответствовали возможностям этого жанра. Вскоре Ева и мадам де Бирон перешли на «ты» и стали называть друг друга по имени. Старшая женщина водила свою молодую спутницу в «Ла Скала» и «Варьете», «Бобино» и «Казино де Пари», делясь с очарованной девушкой своим богатым двадцатилетним опытом и знанием театрального мира.
— Теперь послушай о Дранаме. Найдется лишь несколько певцов, способных развеселить меня так же, как он. Он умеет заполнить собой весь театр, хотя с виду в нем нет ничего особенного: громадные калоши и нелепая шляпа, которую он ценит на вес золота. Он называет ее своим «талисманом», и во всем Париже нет таких денег, за которые Дранам продал бы ее. И обрати внимание на его манеру петь — без единого жеста и с закрытыми глазами. Дранам покрывает румянами лишь нос и подбородок. Он сам создал свой стиль, и никому не удавалось перенять его, хотя многие пытались ему подражать. Дранам, Полен и Майоль — великие оригиналы, дорогая; им подражают тысячи молодых певцов. Милый Полен ничего не смыслит в рекламе. Он всегда приговаривает: «Секрет успеха в том, чтобы покинуть сцену за пять минут до того, как этого захочет публика». Он каждый вечер уходит домой, как самый обычный почтальон, и ты никогда не прочтешь о нем ни единого слова в газетах. Уверена, что именно поэтому он зарабатывает меньше тех, у кого нет и доли его таланта. Что касается Майоля, этого цветущего гиганта, он был бы более популярен, если бы предпочитал женщин мужчинам… Любая слушательница сразу поймет по его исполнению, что он поет не для слабого пола…
Ах, взгляни повнимательнее налево, на девушку с рыжими волосами и пурпурными перьями на шляпке. Вчера мне шепнули, что она на четвертом месяце, беременна от своего импресарио. Однако посмотри, у нее живот плоский, как доска. Это доказывает, что нельзя верить ни единой сплетне, которые здесь распространяют. А, вижу, тебе нравится Макс Диарли. Я обожаю… моего старину Макса, как я всегда его называла. Это первый исполнитель комических куплетов, который перестал размалевывать лицо, словно клоун, и надевать нелепые костюмы. Вообрази, какой он произвел фурор — с шиком одетый исполнитель комических куплетов. К тому же он прекрасно танцевал, чего не умели остальные. Все дамы сходили по нему с ума, а он любил их почти так же, как лошадей. Хотела бы я иметь столько денег, сколько он в свое время просадил на скачках.
Ева зачарованно впитывала каждое слово Вивьен. Внимание девушки приковывала не осведомленность старшей подруги, а разнообразие психологических типов. Беременна от импресарио… Певец, любящий мужчин… Деньги, просаженные на скачках… Интересно, мог бы кто-нибудь из них выдержать ту бесцветную жизнь, какую вела она?
— Только взгляни на молодого Шевалье, — сказала Вивьен. — По-моему, он почерпнул вдохновение у Диарли, но с тех пор ушел далеко вперед. Видела когда-нибудь номер, с которого он начинал? Они с Мистенгет изобрели танец, названный ими «Отпадный вальс». Они кувыркались по сцене, а заканчивали тем, что оба заворачивались в ковер. Конечно, это повлекло за собой другое: они стали любовниками. Только взгляни, Мадлен! Следующей в программе выступает Вивьен Романс. Уверена, что она позаимствовала мое имя. Вот уж кому точно не занимать мужества. Она не побоялась сцепиться с Мистингет, когда та высмеяла один ее номер, заявив Мисс, что та просто старуха, и пообещав когда-нибудь сплясать на ее могиле… В общем, как следует ей врезала. Двое мужчин едва растащили их. Да, хотелось бы мне увидеть эту драку своими глазами!
На следующей неделе мы пойдем посмотреть на Полэр. Ты, должно быть, слышала про ее знаменитую талию. Нет? Она такая тонкая, что на ней сойдется даже сорокасантиметровый мужской воротничок. На мой вкус, у нее слишком большой нос и темноватая кожа. Она напоминает маленького арабчонка, но меня восхищают ее глаза. Вообрази, когда она гастролировала в Америке, тамошние газеты посмели назвать ее «самой безобразной женщиной в мире», и эти ненормальные американцы потребовали, чтобы им вернули деньги! Она выступает в одной программе с Полет Дарти. Признаюсь, это настоящая красавица. Полная там, где положено, и розовая там, где нужно. Ее называют «королевой медленного вальса», и не без причины. Она нашла Рудольфа Бергера, уроженца Вены, и он пишет для нее музыку. Ну не дура ли?
— Вивьен, — перебила Ева, — должно быть, туда очень трудно достать билеты, но я мечтаю попасть в «Олимпию».
— Ты не хочешь посмотреть на Полэр?
— Конечно хочу. Но я так много читала про новое представление в «Олимпии»: сестры Долли, Вернон, Айрин Касл и Эл Джолсон! Все газеты утверждают, что ни одна программа мюзик-холла еще не имела такого бешеного успеха. Тебе не хочется ее посмотреть?
— Ба! Подумаешь, американцы! Просто это ново и необычно для Парижа, вот и все. Мой прежний патрон, Жак Шарль, смотался на Бродвей и нанял всех, кого только смог найти. Тоже не глупо, должна признать, но не слишком патриотично. Лично я бойкотирую это шоу. Никто, конечно, не заметит этого, но моей ноги там не будет, и тебе не удастся затащить меня туда, — фыркнула Вивьен, и на этом обсуждение новой программы в «Олимпии» закончилось.
Однако Ева решила, наперекор Вивьен, во что бы то ни стало пойти в «Олимпию». Она уже чувствовала в себе достаточно смелости, чтобы ходить одной в большие театры. Стоял поздний ноябрь. Наполненные ароматами лета дни мягкого октября прошли, наступила необычно холодная и дождливая осень, но у Евы появилось новое плотное пальто с огромной меховой муфтой и меховая шапочка. Одевшись, она пустилась в путешествие. Ален выигрывал деньги в карты и был щедрее, чем обычно. Она не осмеливалась спросить, сколько он выигрывал, ибо Ален не любил таких вопросов, но, судя по тому, как он каждую ночь обильно потчевал приятелей устрицами и шампанским, Ева догадывалась, что, должно быть, очень много.
Теперь, когда репетиции новой программы «Ривьеры» закончились, Ален, если не выступал перед публикой, все дни напролет играл в карты, но Ева решила не думать об этом. Он так упорно совершенствовал свое мастерство, что заслужил право развлекаться, как ему угодно, сказала она себе, отправляясь на дневное представление «Олимпии».
Вивьен следовало бы прийти сюда, патриотично это, с ее точки зрения, или нет, подумала Ева. После того как Айрин Касл вызвали на бис десятый раз, занавес опустился. Пропустить такое! Не увидеть эту плавную грацию и свежее очарование! Ладони Евы уже болели — так усиленно она аплодировала. До антракта еще должен был выступить певец Фрегсон.
Постоянно говоря о звездах мюзик-холла, Вивьен ни разу не упомянула его имени, а между тем зрители замерли в молчаливом восторге, когда объявили выход Фрегсона. Это, как поняла Ева, предваряло появление на сцене главного фаворита — исполнителя столь знаменитого и любимого, что ничего, кроме благоговения, он и не мог ждать от публики.
Занавес поднялся над темной сценой, и яркий луч прожектора осветил фигуру высокого, темноволосого мужчины в английском клубном костюме с высоким крахмальным воротничком и золотой цепочкой от часов, едва заметно поблескивающей под идеально завязанным узлом галстука. Певец, даже не улыбнувшись, чуть наклонил голову в ответ на лавину аплодисментов. Едва он сел за фортепиано и взял первые аккорды «Страсти», зал взорвался громом аплодисментов. Они не прекращались до тех пор, пока он не запел. Только тогда воцарилась тишина. Ева слушала знакомые слова песни, которую исполнял и Ален: «Я мечтаю только о ней одной, о ней одной, о ней одной», и ничего не понимала. Знает ли Ален, что Фрегсон украл у него песню? Да как же это могло случиться? Как «Олимпия» выпускает на сцену этого Фрегсона, если через несколько улиц отсюда Ален поет в «Ривьере» те же самые песни — новую, очень нравящуюся ей, «Прощай, Гренада», забавную, недавно разученную им «Мальчишка из метро». А теперь еще… Боже мой, теперь еще и «Вернись» — самую любимую песню Алена, которую он всегда исполняет в самом конце перед «Я знаком с блондинкой».
Ева лихорадочно оглядывалась вокруг, словно ожидала, что в театр войдет полиция и арестует Фрегсона, но видела лишь сотни людей, восторженно встречавших каждую песню из хорошо знакомого им репертуара певца. Сидевшая рядом с Евой женщина знала слова всех песен наизусть: ее губы шевелились, когда она беззвучно вторила Фрегсону. «Поет вместе с ним!» — возмущенно подумала Ева. Внимательно приглядевшись к певцу, она поняла, что он намного старше Алена, волосы у него гораздо реже, а нос — крупнее и поет он с английским акцентом. В остальном они были очень похожи, и с тем же успехом на сцене «Олимпии» мог стоять Ален Марэ.
Едва отзвучали последние аплодисменты и начался антракт, Ева быстро покинула театр и направилась домой. Она была в трансе. Фрегсон. Великий Фрегсон, имевший еще больший успех, чем Полен, Дранам или Шевалье. Она слышала их всех, и никто из них не зажигал публику так, как Фрегсон, исполнявший песни Алена и подражавший его манере исполнения. А ведь она думала, что так поют только в мюзик-холле.
Фрегсон, Фрегсон… Это имя неотступно звучало в мозгу Евы, пока наконец она не осознала истину. Это Ален Марэ исполнял песни Фрегсона. Это он пел в манере Фрегсона и даже одевался, как тот. Ева не сомневалась: взгляни она на одежду Фрегсона, на его рубашках оказались бы метки Шарве, а на подкладке пиджака ярлык «Старой Англии».
Существование Фрегсона объясняло все, о чем умалчивала Вивьен с тех пор, как они начали дважды в неделю ходить по мюзик-холлам. Так вот почему Ален продолжал выступать во второразрядном, как она прежде полагала, а на самом деле — третьеразрядном мюзик-холле. Вот почему чудесный голос Алена не привлек внимания ни одного знаменитого импресарио! Оправившись от шока после выступления Фрегсона, Ева призналась себе, что он пел необычайно ярко, с уверенностью мэтра, с особым очарованием неповторимой индивидуальности, которой никто и никогда не сможет — и не должен — подражать. Фрегсон был истинным мастером.
Теперь Ева поняла все, кроме того, почему Ален решил подражать Фрегсону. Может, ему вообще не свойственна оригинальность? Этого вопроса Ева никогда ему не задаст, она даже не намекнет, что слышала Фрегсона. Почему Ален решил стать тенью одного из величайших артистов Франции — она его не спросит. Можно лишь предположить, что, начав подражать Фрегсону, Ален и попал на сцену, а потом он почему-то не решился изменить свой сценический образ. Но и об этом Ева никогда не спросит его.
Сердце Евы разрывалось на части, когда она вспоминала рассказ Алена о том, как он якобы создал свою манеру петь. А ведь тогда она поверила ему. Неужели это было всего пять месяцев назад? Еве казалось, будто она повзрослела на десять лет. Неудивительно, что Вивьен всячески старалась не пускать Еву в «Олимпию». Кто-кто, а уж она досконально знала обо всем, что происходит в мире мюзик-холла.
Ева поднялась на лифте. Услышав, что она вернулась, Вивьен высунула голову из двери и сочувственно спросила:
— Ну, малышка, прогулка помогла тебе избавиться от головной боли?
— Нет, Вивьен, не совсем, — ответила Ева. — Но я переживу это. Головная боль не длится вечно.
Мокрый ноябрь показался тропиками, когда в Париже наступил декабрь. Лишь яркие витрины магазинов несколько оживляли центр города, по улицам которого стало так же трудно передвигаться, как по полярным льдам. Еще никогда, говорили друг другу люди, в Париже не было так холодно и ветрено, никогда еще не было так страшно и неприятно выходить из дома.
Все с нетерпением ждали Рождества, словно оно могло изменить климатические условия, делавшие Париж самым невыносимым из крупных городов мира. Тучи, затянувшие небо, ползли над низкими серыми зданиями и казались такими враждебными, что мудрые парижане постоянно закрывали окна занавесками, а лампы в квартирах горели с утра до ночи.
За два дня до Рождества Ален подхватил простуду, несколько недель свирепствовавшую в труппе «Ривьеры». В тот день он, как обычно, пошел в театр и исполнил свои песни, но, вернувшись пешком домой, вскоре почувствовал себя гораздо хуже. К утру его сильно лихорадило, и он настолько ослаб, что Ева, ухаживавшая за ним всю ночь, побежала в одном пеньюаре спросить у Вивьен, не знает ли она какого-нибудь доктора по соседству.
— Ручаюсь, что старый доктор Жам мгновенно поставит его на ноги. Не волнуйся, малышка, сейчас я ему позвоню. А ты предупреди «Ривьеру», что Ален не появится на работе по крайней мере неделю. Эти рождественские холода просто бедствие.
Тщательно обследовав Алена, доктор Жам покачал головой.
— Возможно, остальная труппа и страдает от банальной простуды, — сказал он Еве, — но в данном случае налицо все признаки воспаления легких. Боюсь, его придется немедленно отправить в больницу. Вы не сможете выходить его.
При словах «воспаление легких» Еву охватил ужас. Пациенты ее отца с пустячными заболеваниями печени нередко умирали от страшного воспаления легких. В таких случаях оставалось только молиться, чтобы у пациента хватило сил превозмочь болезнь.
— Ну-ну, не расстраивайтесь так сильно, это все равно не поможет, вы же понимаете, — торопливо проговорил доктор Жам, заметив, как изменилось лицо Евы. — Вам нужно хорошо питаться, чтобы сохранить силы. Готов поспорить, что этот молодой человек, — добавил он, взглянув на Алена, — выкарабкается. Однако он чересчур худой. Когда он поправится, ему придется больше заботиться о своем здоровье. Ах, я всегда говорю это моим пациентам, но разве они когда-нибудь следуют моему совету? Так или иначе, мадам, я отдам все необходимые распоряжения.
— Больница… больница — это очень дорого, доктор? — едва выговорила Ева.
— Все на это жалуются, мадам. Но у вас, конечно, есть сбережения?
— Да, да, разумеется. Я просто спросила, потому что… ну, любая болезнь…
— Не беспокойтесь, мадам. Он молод, и я всегда считал, что лучше быть слишком худым, чем слишком толстым. Мне нужно осмотреть еще пять пациентов до завтрака… У врачей нет времени болеть воспалением легких, и развлекаться нам тоже недосуг. До свидания, мадам. Звоните, если я вам понадоблюсь. Разумеется, я буду осматривать его в больнице во время обходов.
— Вивьен, это, конечно, звучит по-детски, но я понятия не имею, как Ален распоряжался деньгами. Он давал мне на одежду, но сам платил горничной, и дома мы только завтракали. Я даже не знаю, как называется его банк, — призналась Ева подруге. Ева сопровождала Алена в больницу, но больше ничего не могла для него сделать.
— Тебе придется спросить его об этом, малышка. Не волнуйся, Ален многие годы неплохо зарабатывал, к тому же он не дурак, — успокоила девушку Вивьен, еще раз порадовавшись тому, что удачно устроила свои денежные дела. Она не сомневалась, что жены ее покровителей так же мало смыслят в финансовых делах своих мужей, как Мадлен в финансовых делах своего любовника.
Целый месяц Ален был не в состоянии ответить на вопрос, где хранятся его сбережения, как, впрочем, и на любой другой. Попав в больницу, он трижды находился на грани жизни и смерти. Вивьен всячески опекала подругу, кормила ее тем, что сама готовила, и, если бы она не заставила Еву принять деньги, Алена пришлось бы перевезти в одну из парижских больниц для бедных.
Наконец в последних числах января он, казалось, пошел на поправку, и измученная Ева решилась спросить, как ей получить немного денег в его банке.
— Банк! — слабо усмехнулся Ален. — Банк! Вот и сказалось то, что ты дочь богатых родителей!
— Ален, я задала тебе самый обычный вопрос. Почему ты так говоришь со мной?
— Да если бы ты не родилась богатой, то понимала бы, что я трачу все до последнего сантима: так было и будет всегда… Таков уж мой образ жизни. Самый ничтожный буржуа понял бы это давным-давно. Экономить! Это удел жалких людишек с их осторожными женами и кучей невзрачных детей, помоги им Бог. Ба! Да я лучше спущу все в карты, чем положу деньги в банк. Тебе не на что жаловаться, признайся! Когда у меня были деньги, я их тратил и не плакался тебе, когда все проиграл, не так ли, скажи?
— Ты все проиграл?
— Да, как раз перед тем, как заболеть. Шла плохая карта. — Ален пожал плечами. — На Рождество нам бы хватило денег, а потом я надеялся, что удача вернется ко мне… или я дождался бы дня выплаты жалованья. Меня никогда не тревожат деньги. Не желаю портить себе жизнь, и я прав, вот увидишь. Скоро я вернусь в «Ривьеру», эта отвратительная пневмония почти прошла.
— Но, Ален, доктор Жам сказал, что ты сможешь вернуться домой, может быть, только через несколько недель. Однако и после этого пройдут месяцы… месяцы до окончательного выздоровления, когда ты сможешь приступить к работе!
— Он просто напыщенный старый дурак. — Отвернувшись от Евы, Ален стал смотреть в окно на снегопад, столь редкий в Париже.
— Напыщенный, согласна, но совсем не дурак. Уверена, он спас тебе жизнь, — с негодованием сказала Ева.
— Послушай, я хочу кое-что посоветовать тебе, — горько проговорил Ален. — Возвращайся домой. Поезжай в Дижон.
— Ален!
— Я серьезно. Ты не создана для такой жизни и должна это понимать. Ты изведала это приключение, но теперь, конечно, видишь, что все кончено? Отправляйся к родителям первым же поездом. Здесь тебе не место. Видит Бог, я никогда не просил тебя мчаться за мной. Это был только твой каприз, помнишь? Такая жизнь мне подходит, но я не могу долго нести за кого-то ответственность. Ты очутилась здесь по собственной воле, тебя никто не принуждал; теперь настало время уехать. Попрощайся с Парижем, Ева, и отправляйся на вокзал.
— Я сейчас оставлю тебя одного, ты переутомился, и вернусь завтра, дорогой. Постарайся как следует отдохнуть. — Ева, не оглядываясь, выскочила из больничной палаты в надежде, что никто не заметит ее слез.
— И это все, что он сказал? — спросила Вивьен.
— А разве этого мало? По-моему, более чем достаточно.
— Скорее всего, он прав, — медленно произнесла подруга Евы.
— Значит, и ты так думаешь? И ты?
— Да, малышка. Париж не место для девушки без твердого положения, в чем бы оно ни состояло. И еще, Мадлен, есть кое-что, чего месье Марэ никогда не мог тебе дать. Думаю, он это понимал. А то, что он сказал… о возвращении в Дижон — это возможно?
— Нет! Совершенно исключено! Я люблю его, Вивьен, и мне неважно, что говоришь ты или даже он. Я его не оставлю. Если я вернусь домой… они будут ждать… Одному Богу известно, чего они ждут! Нет, этого и вообразить нельзя.
— Значит, есть другой выход из положения, но только один.
— Почему ты на меня так смотришь? — спросила Ева, внезапно ощутив смутную тревогу.
— Я спрашиваю себя, способна ли ты на это?
— На что, Господи?!
— Работать.
— Конечно, я могу работать. За кого ты меня принимаешь? Я готова устроиться продавщицей в магазин, научиться печатать… Я могу работать в телефонной компании, могу…
— Уймись, Мадлен. Я не предлагаю тебе работать в магазине или конторе, как миллионы других девушек. Я говорю о том, что достойно твоего таланта: о работе на сцене мюзик-холла.
— Ты шутишь!
— Напротив. Я размышляла об этом несколько месяцев. Пожалуй, с того момента, когда впервые услышала, как ты поешь. Удивляюсь, почему месье Марэ сам не додумался до этого. Он вообще-то знает, что ты умеешь петь? Нет? Я так и подозревала. Ты чересчур благоговела перед его… талантом, чтобы демонстрировать свой слабенький, писклявый голосок… так ведь?
— Можешь смеяться надо мной сколько угодно, Вивьен, мне все равно. Я не пела для него, так как думала, что, возможно… ах, я не совсем уверена… Возможно, ему не слишком понравилось бы, что я тоже умею петь, вдруг он решил бы, что я мечтаю петь с ним дуэтом или еще о чем-нибудь, столь же глупом.
— Например, о том, что у тебя больше шансов добиться успеха, чем у него, а? Эта мысль не приходила тебе в голову?
— Никогда!
— Почему же нет, ведь это правда. Не пытайся отрицать. Я в этом уверена, и ты тоже несомненно понимаешь это.
Повисло неловкое молчание. Обе знали, что затронули тему, которую не собирались обсуждать. Вместе с тем ни одна из них не знала наверняка, насколько другая отдает себе в этом отчет. И все же сейчас не время проявлять осторожность. Наконец Ева заговорила, так и не ответив на последний вопрос Вивьен.
— Почему ты считаешь, что я могу петь на сцене? Я никогда не выступала перед публикой и пела только для себя… и для тебя, раз уж ты меня слышала.
— Первая причина — это твой голос, такой сильный, что тебя, если ты захочешь, услышат с верхнего балкона самого большого парижского театра. Ты умеешь выражать чувства так, что они доходят до сердца слушателя. У твоего голоса особый, необычный тембр: я не могу определить его, но он заставляет меня без устали слушать тебя. И самое главное — когда ты поешь о любви, я верю каждому твоему слову, хотя, как тебе отлично известно, я не верю в любовь. Вторая причина: у тебя есть стиль. В мюзик-холле недостаточно обладать талантом и хорошо владеть голосом; чтобы добиться успеха, нужно иметь свой стиль.
— И какой же у меня стиль? — спросила Ева, сгорая от любопытства.
— Твой собственный. Лучший из всех, малышка, лучший из всех… Помню, Мистингет однажды сказала мне: «Важен не мой талант, а то, что я — Мистингет. Талант есть у любой статистки». Ах, эта Мисс, она обожает говорить о себе. Ты очень талантлива, малышка, более того — уникальна, ты — Мадлен! Обладая этими двумя качествами, ты сможешь покорить мюзик-холл.
— А если ты ошибаешься?
— Это невозможно, в таких делах я не ошибаюсь. Но нужно набраться смелости и попробовать.
— Смелость… конечно, у меня есть смелость. У меня всегда и на все хватает смелости! — вскричала Ева, и глаза ее загорелись.
— Тогда нам нужно правильно подобрать тебе песни и устроить прослушивание. И чем скорее, тем лучше. Слава Богу, у меня сохранились связи в «Олимпии»… Жак Шарль не откажется послушать, как ты поешь, если тебя приведу к нему я.
— В «Олимпию»?
— Конечно, куда же еще? Начнем с вершины, как поступают все разумные люди.
Энергичный, уверенный в себе и одаренный богатым воображением Жак Шарль был опытным режиссером-постановщиком программ мюзик-холла и, несмотря на свои тридцать два года, мастером своего дела. Он сидел, поглаживая аккуратные черные усики и сверкая глазами, в которых светилось неиссякаемое любопытство. Сидел на втором балконе «Олимпии», почти у самой стены, и сейчас, как это частенько случалось, был зрителем. Если исполнителя не было слышно с этого максимально удаленного от сцены места, Жака уже не интересовали ни обаяние, ни талант актера.
— Что у нас сегодня, патрон? — спросил один из его ассистентов, Морис Аппель, удивленный этим прослушиванием, назначенным на утро, хотя впереди их ждали обычные дневные репетиции.
— Мы должны оказать покровительство, мой дорогой Морис. Ты, конечно, помнишь Вивьен де Бирон, правда? Мою ведущую — девушку, прогуливающуюся по «Фоли Бержер»? Что за чудо была эта Вивьен — никогда не опаздывала, не болела, не беременела, не влюблялась, не уставала. И более того, она оказалась так умна, что ушла со сцены прежде, чем обвисла ее грудь. С тех пор ни у одной статистки не видел я ничего похожего на то достоинство, с которым вышагивала она по сцене, не имея на себе почти ничего, кроме перьев на голове. Она попросила меня послушать ее протеже. Разве я мог ей отказать?
— Молодой человек?
— Нет, кажется, девушка. А вот и она!
Мужчины взглянули на Еву, которая вышла на сцену в модном парижском платье, похожем на женскую ночную сорочку — копия темно-синего саржевого платья Жанны Лавэн. Однако это вошедшее в историю платье без талии портной Вивьен сшил из превосходного красного крепа, яркий цвет которого был под стать золотистым волосам Евы, разделенным на две блестящие волны, ниспадающие по обе стороны лица. На затемненной сцене девушка казалась отблеском летнего солнца и словно светилась изнутри под огнями рампы. Ева остановилась, едва касаясь рукой фортепиано, за которым уже сидел аккомпаниатор. По внешнему спокойствию и по самообладанию Евы, почерпнутым ею на уроках профессора Дютура, нельзя было догадаться, что она волнуется сильнее, чем когда-либо в жизни.
— По крайней мере, ты можешь посмотреть на нее, — сказал Жак Шарль.
— Маленькое пари, патрон? Она будет копировать Полэр.
— А почему не Мистингет, если уж мы об этом заговорили?
— Ивон Прентан, — предположил Морис.
— Ты забыл Алис де Тендер.
— Не говоря уже об Эжени Бюффе.
— Кажется, мы исчерпали все возможности. Она явно не собирается танцевать, судя по этому узкому платью, значит, Полет Дарти отпадает. Я ставлю на Алис де Тендер, а ты, Морис?
— На Прентан, у меня интуиция на такие вещи.
— Пять франков?
— Принято.
— Мадемуазель, можете начинать, если вам угодно, — крикнул Жак Шарль.
Ева подготовила две песни. Она мучительно размышляла, откуда ей взять новые песни, когда все более или менее знаменитые сочинители днями и ночами работают на прославленных звезд мюзик-холла. Однако Вивиан предложила девушке свое решение проблемы.
— Для меня очевидно, малышка, что тебе незачем петь что-то оригинальное. Они не станут вслушиваться в то, что ты поешь, они засмотрятся на тебя. Только на тебя и твой стиль. Предлагаю тебе спеть песни, известные как репертуар актрис, исполнивших их впервые; песни, считающиеся неотделимыми от Мистингет и Ивон Прентан — «Мой» и «Говори мне о любви». Вот так ты бросишь вызов этому царству и покажешь, что важна не песня, а исполнитель.
— Господи, Вивьен, а не повредит ли это мне? Не подумают ли они, что у меня в голове нет ни одной собственной мысли? — возразила Ева.
— Никого не волнует, что происходит у тебя в голове, когда ты стоишь на сцене, дорогая. Там ты показываешь себя и должна произвести незабываемое впечатление.
«Незабываемое, — думала Ева, стоя перед огнями рампы, слепящими глаза. — Все, что мне нужно сделать, это произвести незабываемое впечатление. А для этого в моем распоряжении всего пять минут». Она глубоко вздохнула и вспомнила бесконечный горизонт, который видела из корзины красного воздушного шара, а также и тот момент, когда она на миг почувствовала себя одним из дерзких летчиков — участников великого аэрошоу. «А почему бы нет? — спросила себя девушка. — Ведь лучше всего стать незабываемой? Я сделаю для этого все. По крайней мере, у меня хватит смелости попытаться…»
Ева дала аккомпаниатору знак начинать, и когда в пустом театре зазвучали первые ноты «Говори мне о любви», Морис протянул патрону ладонь за своим выигрышем, а Жак Шарль начал рыться в кармане в поисках банкноты. Однако, когда Жак услышал голос Евы, легко заполнивший пространство между ними, ее богатое, глубокое контральто, отнюдь не заставлявшее его напрягать слух, несмотря на огромную дистанцию между сценой и вторым балконом, он замер и прислушался.
Этот голос вызвал у него никогда ранее не возникавшее желание слушать, а вместе с тем оставлял его неутоленным; он звучал как биение любимого сердца и, казалось, заключал в себе бесценный, но еще не раскрытый дар. Импресарио внезапно понял, что, привыкнув слушать эту милую мелодию в исполнении сопрано Прентан, он никогда не обращал внимания на слова, тогда как теперь лирические стихи словно молили его вспомнить о нежности и любви. Его вдруг охватила сладкая любовная тоска, пробужденная пением девушки в красном.
Когда Ева закончила первую песню, Морис о чем-то заговорил, но импресарио приложил палец к губам.
— Пожалуйста, продолжайте, мадемуазель, — крикнул он, и Ева запела «Мой».
Эта лирическая песня, по мнению обоих мужчин, принадлежала великой, известной своей вспыльчивостью Мистингет так же неотъемлемо, как ее голос, и столь же полно, как принадлежал ей юный Шевалье. «Какое счастье, — подумал Морис, — что Мисс не слушает сегодня вместе с нами эту дерзкую девчонку, так легко овладевшую ее собственностью, которая отныне никогда не будет принадлежать Мистингет столь же безоговорочно, как прежде». Жак Шарль, в свою очередь, досадовал, что здесь нет его доброго приятеля Шевалье, который не преминул бы ухватиться за возможность прервать бурную во всех отношениях связь с Мисс. Вернее, он порвал бы с Мисс, чтобы попасть в новое рабство, ибо ни один мужчина, услышавший пение девушки в красном, не покинет театр тем же человеком, каким он в него входил.
Ева закончила петь, и мужчины оторопело посмотрели друг на друга, внезапно осознав, что они хлопают и кричат: «Еще!» Им не пристало шумно восхищаться и вызывать на бис, подобно завсегдатаям кафе, — они не новички в мюзик-холле.
«Еще! — восторженно думала Вивьен де Бирон. — Мадлен споет им еще, но все в свое время. Сначала надо обговорить условия контракта. Если бы они не увлеклись, то могли бы заполучить ее на очень выгодных условиях, но теперь… теперь совсем другое дело».
— За работу, Морис, — шепнул ассистенту Жак Шарль. — Пусть Бирон решит, что мы хлопали только из вежливости.
— Вы всегда можете попытаться представить дело таким образом, патрон.
— Но не перед Вивьен де Бирон. Я и пробовать не стану.
— Потому что она была великолепной «прогуливающейся девушкой»?
— Потому что она рассмеется мне в лицо, идиот. Я сказал, что она никогда не беременела, но я не говорил, что она была дурой.
4
С бессердечной жестокостью, проявляемой порой этой, без сомнения, испорченной женщиной, Вивьен де Бирон размышляла, что совсем неплохо и, может, очень даже удачно, что Ален Марэ поправляется не так скоро, как он надеялся. Доктора настаивали, чтобы Ален оставался в больнице, пока его состояние не станет удовлетворительным, а поскольку в Париже продолжалась типичная для этого города влажная, с частыми заморозками зима, дело шло к тому, что он мог проваляться там до дня взятия Бастилии в июле. Поэтому не было опасности, что он внезапно вернется домой и узнает, что его Мадлен стала дебютанткой «Олимпии» — прославленной «Олимпии», куда он никогда не попадет иначе как зритель.
Вивьен посоветовала Мадлен ничего не рассказывать Алену о новой работе, и девушка послушалась ее. «Она, должно быть, сердцем поняла, как поет Фрегсон. Да это и неизбежно, ведь они теперь на одной сцене, участвуют в одном представлении, и Мадлен каждый день репетирует в театре новые песни. Она пока ничего мне не говорила, — рассуждала Вивьен, — однако даже друзья обсуждают далеко не все».
Пожав плечами, Вивьен задумалась о будущем Мэдди — так назвала Мадлен дирекция театра. Как объяснил Вивьен Жак Шарль, «Мадлен» звучит несколько религиозно[5], тогда как очарование ее голоса явно под стать Венере, а не монахине.
Он решил выпустить свою дебютантку в первой части нынешнего ревю, которое предстояло заменить новым только к лету.
— Я не хочу так долго ждать, — сказал он Вивьен, едва контракт был подписан, и они снова стали друзьями. — Она готова хоть сейчас выйти на сцену… Я сделаю так, чтобы о ее появлении узнали критики. Новый номер — всегда безотказный способ привлечь их в театр в середине сезона. Мэдди я выпущу после «Девочек Хоффмана» и перед чародеем. Затем, до перерыва, будет, как и прежде, петь Фрегсон… Да, лучшего не придумать.
— Как ты намерен ее одеть? — быстро и требовательно спросила Вивиан, готовая, если понадобится, биться за свою протеже.
— Конечно, в красное, как это сделала ты. Чутье не обмануло тебя. Хоть ты и не одевалась на сцене, но отлично понимаешь, что соответствует тому или иному сценическому образу. С такими волосами, как у нее, она всегда должна одеваться в красное, но уж, конечно, не в ночную сорочку. Ни одна женщина не осквернит больше мою сцену, появившись на ней в платье без талии. Даже наволочка сексуальнее такого платья. У Мэдди, слава Богу, именно такое тело, какое обещает ее голос. Я отдам ей должное, как всегда поступал и с тобой, пока ты не стала профессиональным импресарио.
— Неблагодарный!
— А ты стала типичной опекуншей молодых дарований, — рассмеялся Жак Шарль, целуя Вивьен руку. — Жаль, ты никогда не могла идти в ногу с другими, но теперь я вижу, что твои таланты применимы в иной сфере. Разумеется, я глубоко благодарен тебе, Вивьен, и ты это знаешь, не так ли?
— Ничего другого я от тебя и не ожидала. Но учти, патрон, я присмотрю за ее сценическим гардеробом и глаз с нее не спущу!
— Не сомневаюсь.
— За тобой я тоже буду присматривать, — грозно проговорила Вивьен.
— Правильно! Никто никогда не верил режиссеру на слово.
— Вот сейчас ты вполне готова, — сказал Жак Шарль Еве, когда та вошла в гримерную на следующее утро после своего дебюта, — и можешь приступать к работе.
Ева изумленно посмотрела на него.
— Но… я не понимаю…
— Вчера ты покорила Париж. Аудитория вынесла свой вердикт. Зрители влюбились в тебя, Мэдди. Только они могут даровать такую любовь, и раз уж это произошло, так будет всегда. Это победа, безусловная победа. Взгляни на обозрения в газетах. Это слава, Мэдди, самая настоящая слава! Поэтому я и говорю, что ты уже готова, и надо начинать работать.
— Я все еще не понимаю, что вы имеете в виду. — После вчерашних оваций и букетов с записками, которые еле вмещала ее гримерная, Ева ждала от Жака Шарля таких же комплиментов, как и от других артистов, но совсем не этих бессмысленных слов.
— С тех пор как я впервые увидел тебя на сцене, Мэдди, я никогда не думал о тебе только как о певице. Один выход — всего лишь первый шаг в твоей карьере. Это необходимо, разумеется, без этого невозможно покорить публику, но это же может погубить большой талант. Таких возможностей, как у тебя, я не встречал долгие годы. Ты можешь стать звездой, средоточием ревю, ради которого оно, собственно, и создается. Значит, тебе нужно научиться танцевать и играть на сцене так же хорошо, как ты поешь. Будем учиться, девочка, будем учиться!
— Но…
— Ты не хочешь стать звездой?
Ева опустилась на диван и растерянно посмотрела на импресарио.
— Понимаю, — сказал он, — ты думала, что ты уже звезда. Это неудивительно после того, как тебя приняла толпа. Однако, Мэдди, есть звезды и звездочки. Ты пока еще звездочка, а не звезда, хотя и светишь очень ярко. Пока еще не звезда, и ты не займешь на небосклоне места, достойного тебя, пока не научишься держать в руках публику «Олимпии».
Увидев, что его слова ранят девушку, Жак Шарль поспешно добавил:
— Не пойми меня превратно, Мэдди. Ты имеешь полное право называть себя звездой, если считаешь, что для этого достаточно упоминания в программе — еще одно имя среди многих. Но если ты мечтаешь о том, чтобы когда-нибудь люди ломились в «Олимпию» только взглянуть на Мэдди, ибо именно она — гвоздь программы, или о том, что в один прекрасный день Мэдди прославится на весь мир и туристы будут драться за билеты в театр, если ты можешь вообразить расклеенные повсюду афиши… тогда нам с тобой по пути. И в понятие «звезда» мы вкладываем один и тот же смысл. Ну, так что ты скажешь?
Ева безошибочно разглядела в глазах Жака Шарля искренний восторг человека, предлагающего ей весь мир. Этот импресарио, приглашавший в театр исполнителей только по собственному выбору, читал — нет, был уверен, — что у нее есть шанс. И даже не один, а много.
— Ничего. Пока ничего, — ответила она. — Огромное вам спасибо, патрон, но пока мне нечего вам сказать.
— Нечего? — переспросил Жак Шарль, не веря своим ушам.
— Только, пожалуйста, не думайте, что я глупая или неблагодарная девчонка. Я… все еще в растерянности… Я так переволновалась вчера вечером, что всю ночь не могла заснуть. Я… просто не знаю, чего сейчас хочу.
— Понимаю, Мэдди… Это вполне нормально в твоей ситуации. Послушай, я дам тебе время подумать. Отдохни день, два… а когда будешь готова, приходи ко мне в кабинет. Нам предстоит многое обсудить.
Ободряюще улыбнувшись, Жак Шарль поспешно покинул гримерную и с досадой подумал, что не знать, чего хочешь, — ничуть не лучше, чем хотеть всего сразу. Если бы Мэдди хотела стать звездой, ей не понадобилось бы и тридцати секунд, чтобы согласиться на его предложение. А если бы она по-настоящему хотела стать звездой, то ворвалась бы к нему в кабинет еще сегодня утром, в ту самую минуту, когда он приехал в «Олимпию», чтобы немедленно узнать, какие планы у театра в отношении Мэдди.
В тот день, ближе к вечеру, за полчаса до того, как Еве предстояло одеться и пойти в театр, она сидела, сгорбившись, в кресле перед высокими окнами, через которые всего несколько месяцев назад любовалась долгими осенними закатами. Теперь эта сторона неба была почти темной, хотя день выдался солнечным, один из тех редких мартовских деньков, которые не дают парижанам пасть духом после затянувшейся зимы. В такие дни официанты бесчисленных кафе торопливо выставляют на тротуары столики, ожидая наплыва посетителей, хотя прекрасно знают, что завтра их придется убирать.
Ева взяла в дрожащие руки чашку с горячим чаем, чтобы немного согреться. Она мерзла весь день, даже во время репетиций с аккомпаниатором, хотя в театре было много посетителей, да и теперь, кутаясь в просторный халат, она никак не могла расслабиться и согреться.
Зачем, в сотый раз спрашивала себя Ева, зачем Жак Шарль сделал ей такое предложение? Ах, лучше бы ей не слышать искренность в его голосе! Боже, как вскипела у нее кровь, когда он заговорил о Мэдди, которая может стать величайшей звездой в мире мюзик-холла! Скромная маленькая звездочка, о которой он отзывался с такой теплотой… Разве ее вина, что она никогда не мечтала о большем, не позволяла себе мечтать о большем и не осмеливалась мечтать о большем, чем петь в «Олимпии»? Неужели этого недостаточно? Ведь став звездой, она потеряет Алена. Так зачем же искушать ее столь жестоко?
Встав с кресла, Ева стала искать теплый шарф, чтобы обмотать шею. В спальне она постояла несколько минут перед огромным дорогим шкафом, набитым костюмами Алена, открыла дверцу и вдохнула запах — единственное, что сохранялось в квартире от ее любовника в эти два месяца. Хотя Ева довольно часто посещала Алена в больнице, это было совсем другое. От этого характерного запаха табака, одеколона и масла для волос Ева почувствовала себя еще более несчастной. Сунув холодную руку под халат, Ева медленно провела пальцами по груди, пытаясь пробудить чувственную память о его прикосновениях и немного удовлетворить снедавшее ее желание.
— Ева, — позвал вдруг голос с порога спальни, и девушка, вскрикнув от неожиданности, быстро обернулась:
— Ален! Боже мой, Ален! Ах, как ты меня напугал своим внезапным появлением! Что ты здесь делаешь?
Смеясь над испугом Евы, Ален крепко обнял ее.
— Доктора отпустили меня час назад. Я хотел сделать тебе сюрприз. Ну, поцелуй меня. Да, так хорошо. Ах, как хорошо… В больничной постели поцелуи никогда не казались такими сладкими. Признаться, я боялся, что ты забудешь меня… Я очень рад тебя видеть, дорогая, как хорошо, что мне не удалось прогнать тебя в Дижон. — Отодвинув от себя Еву, он внимательно всмотрелся в ее лицо. — Ева, ты выглядишь как-то иначе. Я никогда раньше не замечал, чтобы ты красила глаза. Это делает тебя старше и не нравится мне. Кто тебя этому научил? Вивьен?
Ева быстро кивнула.
— Ален, дорогой, ты уверен, что уже можешь находиться дома? Доктора осматривали тебя перед тем, как отпустить из больницы? Ты так исхудал!
— Ты говоришь, как моя мать. Сейчас я докажу тебе, что у меня достаточно сил, — сказал Ален, подхватывая Еву на руки и неся ее к кровати. — Сначала отдай мне свои губы, одни только губы, а потом я возьму тебя всю, целиком… Тогда ты убедишься, насколько я силен. — Он радостно рассмеялся.
Когда он положил ее на кровать и, склонившись над ней, стал снимать пиджак, Ева бросила взгляд на часы, стоящие на туалетном столике. Через десять минут ей надо отправляться в театр, иначе она опоздает. Ева села.
— Ален, любимый, не сейчас…
— Что значит «не сейчас»? Ты не рада моему возвращению домой?
— Я… я должна сейчас уйти. У меня назначена встреча… Я не могу опоздать. Я вернусь… позже… и тогда мы…
— Что? Что мы тогда? Какого черта, какая там у тебя назначена встреча? С каких это пор ты уходишь из дома одна, на ночь глядя?
Ален сердито надел пиджак и направился в гостиную, где у него хранилось бренди.
— Возможно, мне следовало предупредить тебя о моем возвращении, — бросил он через плечо, — но, по-моему, ни одна встреча не важнее… Ева, иди сюда! Сейчас же иди сюда!
Ева, обезумев от страха, устремилась за ним. Она закрыла рот руками, увидев, что Ален стоит перед огромной корзиной прекрасных белых роз, доставленных ей утром посыльным.
— Ты так богата, что тратишь сотню франков на розы? И не иначе чем от Лашмэ. Что здесь творится, черт возьми? Кто послал тебе эти цветы? — На щеках Алена вздулись желваки, губы сжались, и смуглое лицо разбойника, которое Ева привыкла видеть нежным и смеющимся, показалось ей опасным. Она безмолвно наблюдала, как он поднял плотную кремовую карточку, лежащую на столике возле роз. На ней было выгравировано полное имя дарителя — Жак Шарль. Фамилия была зачеркнута, и это означало, что розы посланы от всего сердца.
Мэдди, благодарю тебя за прошлый вечер. Он превзошел все мои ожидания. Сегодня ни о чем не волнуйся. До встречи.
Жак.
Прочитав это вслух, Ален стремительно шагнул к Еве, одной рукой схватил оба ее запястья, ладонью другой со всего размаха ударил девушку по лицу.
— Шлюха! Продажная сука! Ты «превзошла все мои ожидания». Уверен, так оно и было после всего, чему я тебя научил. Как ты с ним познакомилась? Вивьен! Ну, конечно, это Вивьен свела вас. Старая сводница! Я убью ее, а потом убью тебя. — Он снова ударил Еву.
— Перестань, все совсем не так, как ты думаешь. Остановись, ради Бога, и позволь мне все объяснить, — закричала Ева, вырывая руки.
— Господи, ты, должно быть, действительно принимаешь меня за дурака. Что тут еще объяснять? Или ты полагаешь, мне следует прочитать записку во второй раз? Все ясно как день — ты с ним трахалась, Мэдди из Дижона, новая парижская шлюха, — прорычал Ален, и желваки у него вздулись еще сильнее. Тяжело, с присвистом дыша, он шагнул вперед, намереваясь снова отвесить Еве пощечину.
— Я пою в «Олимпии», вчера вечером был мой дебют, мой первый выход! — с отчаянием выкрикнула девушка.
Услышав это, Ален остановился и опустил руку.
— Убирайся! Даже бить тебя не имеет смысла. Шлюха — это одно, а иметь дело с безумной — совсем другое. Убирайся с глаз долой, и поскорее, пока еще можешь ходить.
— Нет, Ален, нет! Умоляю, выслушай меня! Это правда. Мне следовало сразу рассказать тебе обо всем, но… Я поступила неправильно. Мне пришлось чем-то заняться, чтобы заработать деньги, которых хватило бы для нас обоих… поэтому я… прошла прослушивание у месье Шарля, и он… я пою немного, всего несколько песен…
— Твой дебют? В «Олимпии», театре Жака Шарля? Что за чушь! Ты же не умеешь петь? Ты умеешь только трахаться. У тебя есть пять минут, чтобы убраться отсюда. — Ален с отвращением отвернулся от Евы и отошел к горке, чтобы взять графинчик с бренди. — Что за черт? Опять цветы? На этот раз орхидеи. Ты уже вошла во вкус, а? Где один, там и другой, так? А где два, там и целая дюжина. Ну-ка, кто этот благодарный клиент? — резко спросил он, насмешливо поднося к глазам вторую карточку.
Ева помнила, что там написано: «Тысячу раз «браво», Мэдди. Я гордился тобой вчера вечером. Твой коллега по подмосткам». Ей оставалось лишь беспомощно наблюдать, как плечи Алена обвисли, словно на него обрушилось горе — имя на карточке принадлежало Гарри Фрегсону.
Не взглянув на Еву, Ален положил карточку на место и молча вышел из квартиры.
Ева, сотрясаясь от рыданий, бросилась в спальню, чтобы переодеться. «Что мне было делать? Что я еще умею?» — спрашивала себя девушка, покидая квартиру, в которую, как она знала наверняка, уже никогда не вернется.
— Слушай, Мэдди, сделай мне одолжение, ладно? Присмотри за малышом, пока я буду выступать. Моя служанка не пришла сегодня утром. — Сузи, одна из статисток, сунула Еве в руки младенца и испарилась, колыхая перьями, прежде чем Ева успела ответить. Все в «Олимпии» знали, что у Мэдди добрая душа.
Прошло уже два месяца после ее умопомрачительного дебюта, но у девушки не закружилась голова от мгновенного успеха, она осталась прежней Мэдди — сущим ребенком, не приобретя ни высокомерия, ни заносчивости звезды. Ева обедала в кафе на углу с каждым, кто просил ее составить компанию — от костюмерш до акробатов. Она первой приходила в театр и последней покидала его. Никто не понимал, почему она не принимает приглашений в дорогие рестораны, на праздничные приемы, балы и в ночные клубы и почему ежедневно отсылает назад цветы своим почитателям. Мэдди даже не позволяла им заходить к себе в гримерную, чтобы представиться лично. Удивляясь, в чем дело, статистки перешептывались: то ли у Мэдди ревнивый покровитель, а это едва ли возможно, поскольку никто не видел у нее драгоценностей, то ли она не любит мужчин, что казалось совсем уж невероятным.
Ева осторожно укачивала ребенка, с тревогой посматривая на личико младенца. Сейчас он спал, но вдруг он проснется и заплачет, пока Сузи на сцене?
— Жюли, быстро иди сюда и помоги мне, — позвала она. Однако Жюли, одна из трех костюмерш, отвечающих за то, чтобы статистки появлялись на сцене, в меру усыпанные блестками, не откликнулась.
— Жюли, — снова позвала Ева, поскольку не могла выйти из гримерной и отправиться на поиски той в одной короткой сорочке. — Жюли, где же ты? — простонала Ева, безнадежно прислушиваясь к закулисным шумам — приглушенным смешкам, шушуканью и суетливым распоряжениям. Она понимала, что, пока статистки исполняют свой номер, никто не услышит ее за грохотом оркестра.
— Мэдди, ты в приличном виде? К тебе посетитель! — бодро прокричал из коридора Марсель, помощник распорядителя сцены, бесцеремонно распахивая дверь в гримерную.
— Тише, разбудишь малыша! — шикнула на него Ева, в панике взглянув на младенца.
— Малыша! — с ужасом повторил женский голос. При звуке знакомого голоса Ева подскочила на месте.
Младенец открыл глазки и захныкал.
— Тетя Мари-Франс!
— Ребенок! Все еще хуже, чем я предполагала. Боже мой, что я скажу твоей бедной матери?!
— Скажите ей, что это не мой ребенок, — проговорила Ева и вся затряслась от приступа смеха, столь сильного, что ей пришлось передать младенца Марселю. — Ну, Марсель, раз уж ты такой шустрый, что даже не дождался, пока я скажу «войдите», возьми малыша и быстро отнеси его Жюли. И не урони его по дороге, понял? Сузи скоро заберет его. Присаживайтесь, тетя, располагайтесь поудобнее. И, Марсель… Эй, Марсель, когда отдашь малыша, принеси нам по чашечке кофе, хорошо, дорогой?
— Ты мне еще должна два франка за вчерашний, мой ангел, — недовольно заметил Марсель. «Ангелами» были в театральной братии все, кроме режиссера.
— Ты мне веришь, дорогой?
— Тебе, Мэдди, всегда. Для тебя я сделаю все что угодно в любое время дня и ночи. Хочешь, я предложу тебе руку и сердце? Только скажи. Сколько кусочков сахару, медам, по два? Не надо ли пирожных? — Марсель выскочил в коридор, придерживая младенца одной рукой, а другой посылая воздушные поцелуи.
— Не обращайте на него внимания, тетя. Он считает себя неотразимым. Зачем лишать его иллюзий?
— Ева, будь добра, накинь что-нибудь поверх нижнего белья. Что за вид? В жизни не наблюдала ничего более непристойного. И о чем ты думаешь, разговаривая с этим наглецом на «ты»?
— Во всяком случае, это не мой ребенок. Присаживайтесь, тетя, и расскажите, как вы меня нашли.
— Это заслуга твоего дядюшки. Сегодня утром он увидел шарж Сэма, похожий на тебя как две капли воды. Под ним значилось: Прекрасная Мэдди, новая ученица университета «Олимпии». Так я узнала, куда мне идти. Пока я ни слова не сказала об этом твоим родителям — не хотела их расстраивать. С того дня, как ты спела танго в гостиной твоей матери, я боялась, что с тобой случится нечто ужасное… Но то, что случилось, намного хуже, чем я могла вообразить. Как мне сообщить твоим родителям эту ужасную весть? — запричитала баронесса.
— Что здесь ужасного, тетя? Я дам вам билет на сегодняшнее представление, и вы убедитесь, что все вполне пристойно. Я пою одетая.
— Ты называешь пристойным петь в мюзик-холле! — презрительно воскликнула баронесса.
— Не просто в мюзик-холле, а в «Олимпии» — лучшем мюзик-холле Франции, а может быть, и всего мира. Я даже успела прославиться. Вы можете гордиться мною, тетя.
— Гордиться? Да ты унижена, совершенно унижена! Неужели не понимаешь, что это значит, глупая девчонка? Ты признаешь, что живешь в грехе?
— Уже нет, — холодно возразила Ева. — Я живу одна.
— Это не имеет значения… все равно никто этому не поверит. Теперь, когда тебя изобразил самый знаменитый карикатурист Франции, все узнают, что Ева Кудер, дочь доктора Дидье Кудера, поет в мюзик-холле. Пасть так низко для девушки из хорошей семьи хуже, чем иметь любовника. Намного хуже.
Дверь в гримерную с шумом распахнулась.
— Мэдди, где мой малыш? — спросила Сузи. — О, добрый день, мадам, — добавила она, протягивая баронессе руку. Та машинально пожала ее, ошеломленная видом обнаженной груди статистки.
— Я отослала его Жюли. Она знает, как обращаться с детьми, а я ничего в этом не смыслю. Запомни это, пожалуйста, дорогая.
— Ладно, Мэдди. — Пока Сузи говорила, в коридоре, прямо за дверью гримерной, кто-то начал злобно ругаться:
— Вот дерьмо! Ну и вонючки! Ладно, я до них доберусь. Я им, мерзавцам, головы поотрываю! Мэдди? Мэдди! Ты не видела, какие сволочи это сделали?
— Что, Болди? — отозвалась Ева.
— Прибили мои туфли к полу! А ты что думала? Кто-то уже проделал это на прошлой неделе на том же месте. Уверен, ты знаешь, кто это.
— Если бы ты не выставлял их в коридор, пока готовишься к выходу, этого не случалось бы, — ответила Ева, давясь от смеха.
— Не смейся, когда у тебя появятся мозоли, милашка, вот тогда ты поймешь. Жюли, другую пару туфель, и мигом. Господи, мой выход через две минуты!
— Иду, иду! — В комнату влетела Жюли с младенцем под мышкой. — Сузи, — крикнула она через плечо, — иди сюда и забирай своего сосунка, пока патрон не услышал его воя. — Отдав Болди туфли, Жюли тут же выскочила. Ей на смену явился Марсель с круглым подносом, на котором были кофе и пирожные.
— Прошу, медам. Я угощаю, Мэдди, раз у тебя гостья, — галантно проговорил он, целуя девушку в обе щеки.
— Как ты мил. О, я забыла правила хорошего тона… как, впрочем, и следовало ожидать. Марсель, позволь представить тебе баронессу де Куртизо.
Молодой человек склонился над рукой Мари-Франс де Куртизо.
— Польщен, баронесса, — церемонно произнес он. — Позвольте представиться — герцог де Сен-Клу.
Баронесса не смогла заставить себя ни кивнуть, ни ответить.
— Марсель, увидимся позже, ладно? — сказала Ева, указав глазами на дверь.
Поняв ее, Марсель исчез. Женщины остались наедине.
— Ева, — настойчиво заговорила тетка, — еще не поздно! Если ты уедешь домой вечерним поездом, я отправлюсь с тобой, и завтра все в Дижоне поймут, что этот шарж не имеет к тебе никакого отношения. Если кто-то и упомянет об этом в разговоре с тобой, ты скажешь, что не имеешь об этом понятия, а твои родители смогут утверждать, что, вероятно, это какая-то артистка, очень похожая на тебя. И никто не докажет обратного. Слава Богу, ты не пользовалась своим настоящим именем, а с этим гримом тебя не узнать. Ах, Ева, ну одумайся же! — Тон баронессы стал умоляющим.
— А зачем мне возвращаться? — спросила Ева.
— Зачем? Да если не сделаешь этого, моя девочка, ты — конченый человек. Ты совершенно опустилась, Ева, унизила и опозорила себя, но тебе необходимо сохранить положение в обществе! Неужели ты не понимаешь, что для этого еще есть время, хоть и очень мало?
— Это вы ничего не понимаете, моя бедная тетя. Я уже не та девочка, которая уехала из дома прошлым августом. Вы же знаете, я писала домой каждую неделю, однако опускала самое важное.
— Полагаешь, родителей сейчас волнует, что у тебя был любовник? Думаешь, это самое важное? Если с этим покончено — превосходно, — сердито бросила баронесса, — и забудь об этом навсегда. Тебя всегда так оберегали, что я не удивилась, когда кто-то решил воспользоваться этим подарком. И как это ты ухитрилась познакомиться с мужчиной? Никто из нас так и не догадался. Однако не будь дурой, не ломай своего будущего.
— А вдруг я уверена, что мое будущее здесь? — спросила Ева.
— Здесь? В этой грязной, убогой комнатушке? С этими жалкими, грубыми и вульгарными людьми? В этом сарае? Это невозможно! Я этого не допущу.
Пока баронесса говорила, дверь в гримерную опять отворилась без стука, и в комнату, лая по-собачьи, на четвереньках вбежала статистка. Ее голые груди свободно болтались из стороны в сторону. Она с интересом принялась обнюхивать ноги баронессы, словно пес, собирающийся задрать лапу. Ева, не выдержав, вскочила.
— Хватит, Мортон! На этот раз ты зашел слишком далеко! — завопила она. — Немедленно убери отсюда это безобразие! Мортон, ты меня слышишь?
В комнату робко просунулась голова самого знаменитого иллюзиониста и гипнотизера Франции.
— Я думал, ты одна, любовь моя. Тысяча извинений, мадам. Пойдем, Алиса. Вот хорошая собачка. Пойдем, пойдем, не будем беспокоить прекрасных дам.
— Простите, тетя. Мортон — гений, но время от времени ведет себя как ребенок. Он не хотел никого обидеть.
Глаза Мари-Франс расширились от ужаса.
— Ева, я не могу оставить тебя в этом… среди всей этой мерзости. Ты должна уехать домой вместе со мной.
— Дорогая тетя, вы «не можете оставить меня здесь», вы «этого не допустите»… Да за кого вы меня принимаете? Я не та маленькая девочка, которой вы когда-то командовали. Здесь это у вас не получится. Неужели вы серьезно полагаете, что я когда-нибудь вернусь в Дижон, появлюсь в кругу девушек на выданье и стану ждать, что какой-нибудь достойный горожанин придет в наш дом и окажет мне честь, женившись на мне? После того, как я пела на сцене «Олимпии» и познала вкус славы? Неужели вы думаете, что после этого меня удовлетворит жизнь, которую ведет моя мать?
— «Слава», говоришь ты? Это все пустое тщеславие — выспреннее, низкое и презренное! Вот что такое твоя «слава», — вспылила баронесса. — Через десять лет ты поймешь, что из-за глупого каприза лишила себя самого главного в жизни, но что поделаешь, сейчас твоему разумению доступны лишь дешевые аплодисменты и жизнь в сточной канаве.
Ева медленно выпрямилась, и лицо ее исказилось от холодной ярости.
— Прошу вас не говорить о моих друзьях в таких выражениях. Наверное, вам лучше уйти, тетя. Вам не подобает заниматься не своим делом.
Баронесса де Куртизо поднялась и пошла к двери.
— Если ты послушаешься голоса разума и передумаешь, Ева, то уедешь домой сегодня или завтра. Потом будет слишком поздно. Теперь мне нужно решить, что сказать твоей бедной матери.
— Скажите правду. Скажите, что я счастлива. И попросите родителей приехать в Париж и посмотреть на все своими глазами. Мне нечего стыдиться.
— Ты еще испорченнее, чем тот глупец, который привез тебя сюда, — сказала баронесса и не оглядываясь вышла из гримерной.
Следующим утром Ева пришла в кабинет Жака Шарля.
— Патрон, два месяца назад, в марте, вы сказали мне, что при желании я могла бы стать настоящей звездой, — начала она. — И дали мне два дня на размышления.
— Помню, — неохотно отозвался Жак Шарль, — и удивлен, что ты все же пришла ко мне.
— Раньше я не была к этому готова. Более честно я не могла бы этого объяснить. Однако если вы и сейчас все еще заинтересованы во мне…
— Ну…
— Я хочу стать настоящей звездой! Я готова работать сколько угодно, хоть двадцать четыре часа в сутки, пусть пройдут месяцы, годы, это не имеет значения, но только дайте мне шанс.
Ева замолчала и опустила глаза. Ее трясло от возбуждения. Она рождена для сцены, однако не воспользовалась возможностью стать настоящей актрисой, потому что в тот момент еще любила Алена и не хотела ломать их жизнь. Но после того, как он оставил ее, Ева почувствовала себя раздавленной его жестокими словами, пощечинами, ненавистью.
Она не сумела использовать удачу: увидев, как мало у нее честолюбия, режиссер потерял к ней интерес. С той минуты, как в ее гримерной появилась тетка, Ева поняла, как много значит для нее сцена, поняла, что не представляет себе жизни вне театра и не может думать ни о чем, кроме далекого, блестящего и бесконечно привлекательного будущего, которое однажды обрисовал ей Жак Шарль. Она полностью принадлежит мюзик-холлу, и мюзик-холл должен принадлежать ей!
Однако импресарио молчал. Ева подняла глаза. Жак Шарль по-прежнему сидел за столом и что-то сосредоточенно писал. Неужели он ее увольняет? Наконец Жак Шарль закончил писать, отложил ручку и протянул Еве лист бумаги.
— Вот расписание занятий, — сказал он. — Ты уже опаздываешь на первое, так что поторопись!
Стояла весна: мягкие ветры, нежные облака, тихие дожди — последняя беззаботная весна эдвардианской эпохи. Слишком занятой Еве было не до погоды. Прибегая в театр после уроков акробатики, танцев и Драматического искусства, она едва успевала наложить грим перед выходом на сцену. У нее уже не хватало времени на чтение газет, болтовню и шутки за кулисами и приятельские обеды в кафе. Она перехватывала что попало и когда придется, почти не тратя на это времени. После окончания представления Ева отправлялась домой, в свою маленькую меблированную квартирку, и в изнеможении ложилась спать.
Пока кайзер Вильгельм II двадцать дней в июле наслаждался приятным морским путешествием на борту своей яхты «Гогенцоллерн», Ева, как и все остальные, занималась собственными проблемами. Бомба замедленного действия, почти месяц отсчитывавшая время в Белграде и Вене, взорвалась 28 июля 1914 года — в этот день Австро-Венгрия объявила войну Сербии. Всю следующую неделю дипломаты и военные стратеги великих европейских держав как безумные спорили друг с другом, запутавшись в паутине взаимной лжи. Они были высокомерны, самонадеянны, безрассудны, некомпетентны и двуличны. Они имели неполную информацию и противоположные интересы. Их безответственная болтовня и фатальные ошибки привели к мировой войне, нужной лишь кучке оголтелых националистов, хотя ее можно было избежать. 4 августа 1914 года сэр Эдвард Грей, министр иностранных дел Великобритании, произнес фразу, которая вошла в историю: «Свет гаснет во всей Европе, и нам уже не увидеть, как он загорится вновь».
Помощник распорядителя сцены Марсель, Жак Шарль и Морис Шевалье стали тремя из четырех миллионов, мобилизованных во Франции в первые недели августа. Промышленность страны оказалась почти полностью парализованной: едва ли не каждый здоровый и трудоспособный мужчина был призван в армию. Поезда, набитые плохо вооруженными, но веселыми и полными энтузиазма войсками, отбывали на фронт каждые семь минут.
После битвы на Марне в середине сентября, когда французам удалось отбросить приблизившиеся к Парижу немецкие полки, началась национальная эйфория: она ознаменовалась тем, что в стране заново открылись театры, кафе и мюзик-холлы. Однако за один только этот месяц погибло двести тысяч французов. Это опровергло всеобщие представления о короткой, легкой и победоносной войне.
После окончания первого периода военных действий в сентябре потребовалась передышка; немцы и армии Антанты начали окапываться вдоль реки Эны, в провинции Шампань. Они возводили траншеи, ставшие первыми фортификационными сооружениями Западного фронта, который три долгих года топтался на смертоносной полоске земли шириной десять километров и перемолол в своей кровавой мясорубке миллионы людей.
* * *
Замок де Вальмон, родовое гнездо виконтов де Лансель, стоит на вершине невысокого холма, в самом сердце Шампани — страны виноделов — на меловых, задерживающих тепло северных склонах Реймской возвышенности, протянувшейся с востока на запад несколько под углом, между двумя главными городами провинции — Реймсом и Эперне.
Вальмон, в отличие от большинства замков Шампани, пережил революцию, нашествия и войны. Неожиданно, как в сказке, он поднимается из небольшого густого леса. В замке три круглые башни и крыши, крытые черепицей. Высокие окна десятков комнат смотрят на полукруглую каменную террасу, где уже много веков растут в резных каменных кадках искусно подстриженные деревья. Вальмон окружен ценнейшими виноградниками; здесь производится шипучее светлое вино, и во всем мире только оно имеет неоспоримое право называться шампанским.
Ежегодный урожай здешнего винограда — белого шардонэ, черного пино нуар и пино мюнье, подтверждает существование одной из величайших тайн в истории виноделия: ведь даже Ной, хоть он и выращивал виноград, высадившись из ковчега, не мог похвастаться тем, что умел делать шампанское.
Многие замки во Франции к началу мировой войны уже давно растеряли жизненную энергию своих дореволюционных дней и были похожи на фамильные склепы. Замок Вальмон, напротив, по-прежнему процветал и был все так же гостеприимен, хотя видел много перемен с тех пор, как Лансели сохранили верность Шампани, борясь за независимость с французскими королями. Эта борьба закончилась только в 1284 году после брака наследной графини Шампани Жанны Наваррской с будущим королем Франции — Филиппом Красивым.
В XVII веке виконты де Лансель занялись виноделием, как и их соседи. Рядом с огромными виноградниками были маленькие наделы крестьян, охотно продававших господам свой виноград, и вскоре Лансели стали производить шампанское в больших количествах и торговать им. К середине XVIII столетия «Лансель» стало лучшей маркой среди шампанских вин. Наряду с «Моет и Шандон», «Мум», «Клико» и еще несколькими знаменитыми марками особые зеленые бутылки охлажденного шампанского с золотой наклейкой в форме щита, на которой большими буквами было выведено название «Лансель», а под ним буквами поменьше — «Шато де Вальмон», стали любимым напитком знатоков и ценителей вина.
Нынешний глава семьи виконт Жан-Люк де Лансель имел двух сыновей. Старшему, Гийому, было предназначено править «Домом Лансель», младший же, Поль-Себастьян, дипломат, служил в министерстве иностранных дел. Хотя к началу войны ему еще не исполнилось тридцати, он был уже первым секретарем французского посольства в Лондоне и все обещало ему блестящую дипломатическую карьеру.
Первого августа 1914 года, в первый же день призыва, пренебрегая своим дипломатическим статусом, Поль де Лансель отправился на фронт добровольцем в чине капитана. Он оставил дома молодую жену, урожденную Лауру де Сен-Фрейкур, хрупкую парижскую красавицу двадцати двух лет, ожидавшую первого ребенка.
Она умоляла мужа не покидать ее.
— Ребенок родится через пять месяцев, и все считают, что к тому времени эта глупая война непременно закончится, — говорила Лаура, рыдая от отчаяния и страха. — Умоляю тебя, останься со мной. Мне нужно, чтобы ты был рядом.
Однако Поль стремился немедленно отправиться на войну, понимая, что Франция дорожит каждым в ее противостоянии германским войскам, мобилизованным с неслыханной оперативностью и намного превосходящим французские — как по численности, так и по качеству вооружения.
Дипломатический пост позволил Полю де Ланселю наблюдать, как рождались планы приближающейся битвы гигантов. Он знал, что во французском генеральном штабе преобладал оптимизм. Убеждение в том, что храбрость, стойкость и боевой задор французского солдата играет на поле брани большую роль, чем военная мощь государства, прочно укоренилось в головах профессиональных военных. Поль, в отличие от многих, серьезно сомневался, что войну можно выиграть на одном энтузиазме. Но, как и все другие, в то мирное лето 1914 года он не подозревал, что ждет его впереди.
Человек проницательный, Поль де Лансель полагал, что был бы более счастлив, случись ему унаследовать семейное дело и выращивать виноград, а не работать на дипломатической службе. Его мать Аннет де Лансель частенько говаривала, что высокому, сильному и широкоплечему Полю больше пристало бы работать на виноградниках, чем за письменным столом. Его светлые волосы выгорели от долгих часов труда под солнцем. Синими глубоко посаженными глазами и широкими скулами он походил на своих предков, чьи портреты висели в замке. Однако Поль не унаследовал характерной для Ланселей изящной формы головы, и в цвете его волос не было ни намека на рыжину, передающуюся в семье из поколения в поколение. Большому, хорошо очерченному носу Поля не хватало присущей Ланселям изысканности, а линии его красивого рта и подбородка отличались суровостью.
При всей пытливости ума Поль частенько жалел, что должен заниматься проблемами более сложными, чем размышления о предстоящей погоде и урожае. Конечно, виноградарь и винодел просыпаются каждое утро, озабоченные именно этим, но, поскольку тут уж ничего не поделаешь, такая озабоченность казалась Полю излишней, хотя он считал все это очень комфортным и благостным состоянием души.
С другой стороны, как дипломат, он обладал профессиональным рационализмом, ибо неизменная осторожность и привычка к анализу предохраняли его от ошибок, которые могли превратить его в вечного простака, бесполезного для своей страны. В общем, Поль де Лансель не мог сказать, что он абсолютно уверен в какой-либо из основополагающих мировых истин, кроме любви к Франции и своей жене, однако, справедливости ради, надо отметить, что любовь к родине была все же сильнее.
Ева, потрясенная массовой мобилизацией, решила не возвращаться в «Олимпию», когда она вновь открылась под руководством Беретта, бывшего дирижера, и Леона Вольтера, составившего огромное состояние на продаже программок в вестибюле театра. С карьерой придется подождать до окончания войны, решила девушка.
Если Жак Шарль отправился в армию, то пойдет и она, только на свой манер. Ева присоединилась к театру «Арме» сразу после того, как он возник, и вместе с многими другими путешествовала вдоль линии фронта и выступала перед солдатами. Иногда, как Шарль Дюлен, артисты давали концерты в траншеях рядом с передовой. Ева вошла в труппу, собранную Люсьеном Жилли, одним из комиков «Олимпии».
В 1915 году, через год после битвы при Марне, в Шампани началось новое наступление. Всегда слишком оптимистично настроенный генерал Жоффр воскликнул перед войсками: «Ваш порыв не остановить!», и полки двинулись в атаку под звуки фанфар и военных оркестров, играющих «Марсельезу». Десять дней спустя сто сорок пять тысяч французских солдат полегли на полях сражений, а стратегическое преимущество так и не было достигнуто.
Капитан Поль де Лансель получил серьезное ранение в руку в последний день наступления. Лежа в госпитале, он думал не о себе, а о том, сколько раз он видел смерть за двенадцать месяцев, проведенных на фронте. Его люди, солдаты Первой армии, погибали одними из первых. Его жена скончалась при родах. Их сын Бруно находился сейчас у родителей Лауры в Париже. Поль видел малыша только раз, когда приезжал на похороны жены. Мысль о девятимесячном сыне не доставляла Полю никакой радости. Поль понимал, сколь невелики его шансы пережить войну, и, как реалист, старался не думать об этом. Однако его тревожила судьба малыша, который, без сомнений, останется сиротой. Поль де Лансель считал себя таким же мертвецом, как узник, приговоренный к расстрелу. К своей неминуемой смерти он относился с полным хладнокровием, его заботили лишь подчиненные, достаточно простодушные, чтобы все еще надеяться выжить, достаточно счастливые, чтобы еще любить, и достаточно наивные, чтобы все еще верить в будущее.
Едва зажила рука, Поль де Лансель вернулся в свой полк, почти целиком состоявший из новобранцев и только что перегруппированный в городе Фестубер, расположенном между Ипром и Аррасом.
За Фестубер противостоящие армии с переменным успехом сражались на протяжении первого года войны. Затяжные осенние дожди вызвали временное затишье, но наступление весны должно было повлечь за собой новые кровопролитные сражения. Такое затишье, как сейчас, случается даже в самых страшных войнах, позволяя противникам похоронить убитых, избавиться от вшей и даже, как бывало этими холодными осенними вечерами на северо-востоке Франции, послушать импровизированные концерты. Солдаты с удовольствием хохотали над старыми шутками Люсьена Жилли, подпевали мелодиям аккордеониста, аплодировали шести девушкам, лихо отплясывавшим с шестью товарищами, а под конец, затаив дыхание, слушали пение Мэдди, которая давно стала живой легендой театра «Арме» вместе со своим вызывающим красным платьем, ярко-красными туфельками и волосами, напоминающими о солнечном свете.
Ева начала беспокоиться. День уже давно наступил, когда она выехала в Фестубер из пансионата в Сент-Омер, находившемся сейчас далеко от линии фронта. Другие артисты труппы Жилли отправились туда незадолго до нее на нескольких военных машинах, а она задержалась, чтобы подшить отпоровшуюся подкладку платья.
Шофер, казалось, еще не достигший призывного возраста, следовал приметам, торопливо описанным Жилли, а Фестубер все не показывался.
— Ты уверен, что мы едем правильно? — с тревогой спросила Ева.
— Капрал сказал, что надо ехать по этой дороге, если это можно назвать дорогой, — ответил шофер. В самом деле, проселочная дорога, по которой они двигались, становилась с каждой минутой все хуже. Надвигалась темнота.
— Почему бы нам не остановиться и не свериться с картой? — предложила Ева.
— Потому что у нас нет карты. Карты есть у генералов. Даже если бы она у меня и была, как нам в ней разобраться без указательных знаков?
— Остановись у первого же крестьянского дома и расспроси, как ехать, — посоветовала Ева. Девушке много раз приходилось выступать поблизости от поля боя под звуки канонады, но это не внушало ей такого страха, как эта одинокая дорога: ровная, пустынная, опустошенная. «Дернул же меня черт подшивать это проклятое платье», — испуганно подумала Ева, плотнее закутываясь в теплое пальто.
— Смотри, впереди ферма! — закричала она.
— Похоже, разрушенная, — отозвался солдат. И правда, на ферме не было заметно признаков жизни: ни света, ни дыма, ни голосов. — Наверное, немцы побывали здесь в прошлом году, — равнодушно добавил он. В это мгновение в поле справа от них взметнулся столб пламени и раздался мощный гул — разорвался гаубичный снаряд.
— Боже! — вскрикнула Ева.
Воздух содрогнулся от второго взрыва, и осколки снаряда ударили в землю совсем рядом с машиной. У молодого солдата едва не вырвало руль из рук, но он сумел удержать его и, выжимая максимальную скорость, рванул к ферме, со скрипом затормозив посреди огромной лужи перед хозяйским домом.
— Вылезайте! — заорал он, однако Ева уже выскочила из машины и бежала, низко пригнувшись, к распахнутой двери дома.
Они одновременно достигли ее и нырнули в темный проем, ища глазами укрытия. Чувства Евы странным образом обострились, и она за какую-то долю секунды поняла, что комната, где они очутились, совершенно пуста, а пол усыпан щепками и обломками дерева. Очевидно, дом побывал под сильным обстрелом, и хотя его крыша почти уцелела, в каменных стенах зияли дыры. «Это теперь уже нельзя назвать фермерским домом или вообще домом», — с грустью подумала Ева. Снаружи донесся безжалостный вой еще одного снаряда, но никто не мог сказать, ударится он о землю ближе или дальше от дома, чем предыдущие. Так и не найдя, где спрятаться, Ева и шофер прижались друг к другу возле пустого камина. Будь он побольше, они могли бы укрыться внутри него.
— Мы никогда не попадем в Фестубер, — очень тихо сказала Ева. — Ты поехал не по той дороге.
— Не понимаю, как это получилось, — сокрушенно ответил шофер.
— Там не предполагалось никаких военных действий, иначе нас никогда не послали бы туда.
— Возможно, — мрачно отозвался шофер, — однако наш капрал говорит: «Если становится слишком тихо, значит, немцы готовят нам сюрприз, чтобы мы не слишком прохлаждались».
— Хотела бы я, чтобы ваш капрал оказался сейчас здесь. Я бы сказала ему все, что об этом думаю!
Очевидно, им лучше всего дожидаться утра и спасения в доме, поняла Ева. Размышлять о худшем варианте развития событий не имело смысла, и, прикрыв ноги полами пальто, она села поудобнее на каменный бордюр камина. Крайне раздраженная мальчишкой-шофером, Ева не могла больше выносить ноющую боль в ногах, обутых в новые красные туфельки. Если уж ей и предстоит погибнуть от взрыва снаряда, она позволит себе скинуть до этого туфли, предназначенные для выступления, и удобно усесться.
— У вас нет сигареты? — спросил водитель.
— Я не курю, но вот возьми. — Ева протянула ему пачку сигарет, которую всегда носила с собой на случай, если кому-нибудь из солдат захочется закурить.
— Погаси спичку!
Ева с криком ужаса вскочила на ноги. В дом вбежали несколько солдат. Они подкрались так незаметно, что ни она, ни шофер не услышали их приближения. Застыв, Ева прижалась к стене в ожидании смерти, но через какое-то время пришла в себя, осознав, что если она поняла команду, то это, должно быть, французы.
— Слава Богу! Ну, слава Богу! Как вы узнали, что мы здесь? Ах, слава тебе, Господи, вы пришли спасти нас, — прошептала она.
— Спасти вас? Да кто вы такая, черт побери? Как сюда занесло женщину?
— Я ехала в Фестубер… выступать…
— Вы что, спятили? До чего же глупы женщины! Фестубер совсем в другой стороне. Вы находитесь почти на линии фронта, прямо напротив Лана.
— Лан? Где это?
— Лан — по немецкую сторону фронта, — отрывисто ответил Поль де Лансель, отворачиваясь от Евы и отдавая распоряжение своим людям. Его подразделение отбросил назад неожиданный огонь одного из многочисленных пулеметных гнезд, прикрывавших позиции немецкой артиллерии.
Четыре человека были ранены, трое — тяжело, еще трое отделались испугом. Ситуация складывается серьезнее, чем я предполагал вначале, подумал Поль, переходя от одного солдата к другому и расспрашивая их. Когда взойдет полная луна, уже поднимающаяся над горизонтом, прикинул он, все станет видно как на ладони, и тогда не останется ни единого шанса отправить раненых в траншеи, где им окажут медицинскую помощь. Едва рассветет, он пошлет кого-нибудь сообщить, что они в ловушке, а пока придется ждать и прилагать все усилия, чтобы раненые пережили эту ночь.
— Могу ли я чем-нибудь помочь вам? — спросила Ева, осторожно пробравшись поближе к капитану между лежавшими на полу людьми.
— Нет, если вы не сестра милосердия, — холодно и озабоченно ответил он.
Ева отступила к камину. Она не училась на курсах Красного Креста, где занималось немало женщин. Ева постоянно выступала на многочисленных аванпостах по всему фронту, а между поездками подрабатывала в любых театрах, предлагавших ей ангажемент на несколько недель, чтобы иметь возможность расплачиваться за постой.
Замерев, она вслушивалась в разговоры мужчин, вернее, в обрывки слов, произнесенные усталыми голосами. Казалось, солдаты беседуют на чужом языке. Вскоре все, что могло быть сделано для раненых, сделали их здоровые товарищи, и все восемь мужчин, включая капитана, расположились сидя или лежа на замусоренном полу, некогда чисто вымытом и, наверное, составлявшем предмет гордости хозяйки.
Живи в доме по-прежнему крестьянская семья, подумала девушка, в камине разожгли бы огонь, чтобы рассеять мрак этого холодного октябрьского вечера. Вокруг расположились бы дети, делая уроки. В котелке варилась бы густая похлебка, с потолка свешивались бы окорока и колбасы, а хозяин, проверив, в порядке ли скотина, предвкушал бы минуту, когда он вернется в дом, в знакомый и привычный уют. Через несколько дней закончился бы сбор урожая: фермера ждала относительно спокойная зима — длинные вечера в тепле, сытости и праздности. Они с женой радовались бы, наблюдая, как растут дети.
Именно такой рисовало Еве воображение простую, крестьянскую жизнь. Однако девушка понимала, что реальная жизнь крестьянской семьи скорее всего внушила бы ей отвращение своей серостью, тяжестью и беспросветностью. Она так уныло-однообразна, что ее можно описать от рождения до смерти человека всего тремя короткими фразами. Такая жизнь не дала бы ей ни единого шанса проявить смелость, подняться в небо на огромном красном шаре, сбежать в Париж с первым мужчиной, которого она поцеловала, прогуляться по Большим бульварам в ритме танго. Ни единого шанса стать звездой «Олимпии»! Рискнуть и победить!
Как же ей все-таки повезло! А она даже не догадывалась об этом и только сейчас осознала это вполне. Должно быть, так же не понимали своего счастья и фермеры, пока снаряды, выпущенные из гаубиц двух великих держав, не разрушили их дом, не разорили хозяйство и землю.
Время шло. Луна ярче осветила груду камней, служившую им убежищем, и Еве удалось разглядеть соседей. Никто из солдат не спал. Раненые так стонали от боли, что их товарищи ни на минуту не сомкнули глаз. Ева слышала их приглушенные стоны, лишь изредка затихавшие, и, даже не зная времени, чувствовала, что до утра еще очень долго.
Ну чем же ей заняться, если она ничего не смыслит в уходе за ранеными, подумала Ева. Ведь нельзя просто сидеть и смотреть на их страдания, даже не пытаясь отвлечь их от боли. Этот неприятный офицер сказал, что она ничем не может помочь. Да, Ева не умеет скатывать бинты, но это не означает, что она не может принести никакой пользы. В конце концов, Винсент Скотто недавно написал песню, ставшую уже невероятно популярной, с задорным припевом: «Чего не хватает на фронте нашим солдатам? Им не хватает женщин. Да, женщин!»
Возможно, это сказано несколько упрощенно, зато ясно и прямо, решила Ева и, не спрашивая разрешения, запела мягко, как только могла, приглушив свой голос, который был слышен на последнем месте третьего балкона «Олимпии», если она этого хотела. Ева запела первую песню, спетую ею на сцене и принесшую ей удачу — «Говори мне о любви». При звуках ее голоса офицер удивленно выругался, однако Ева, не обратив на него внимания, продолжала петь. За этой первой песней последовала другая — «Мой»: «Когда он прикасается ко мне, я трепещу, ведь я всего лишь женщина и люблю его».
— Ваши пожелания, господа, — спросила она, закончив бессмертный гимн Мистингет о безнадежной любви женщины и о неодолимой власти над ней мужчины. Ей ответили сразу семь мужских голосов, одни настолько слабые, что были едва слышны, другие энергичные и полные жизни, но каждый назвал песню, какую хотел бы услышать.
Ева присела на каминный бордюр и пела половину ночи. Память сохранила, к счастью, все мелодии и лирические песенки, слышанные Евой на улицах Дижона по пути на уроки к профессору Дютуру. Почти все солдаты пожелали послушать песни времен ее юности. Когда луна заглядывала в дом сквозь выбоины в стенах, она видела своих слушателей. Их лица были почти все время в тени. Те, у кого не хватало сил громко говорить, шептали свои пожелания товарищам. Она спела даже для злополучного шофера, который завез ее сюда.
Поль де Лансель в надвинутой на глаза офицерской фуражке молча сидел, успокаивая раненного в обе ноги солдата. От каждой песни, которую пела эта странная женщина, в его душе постепенно затягивалась какая-то болезненная рана. Ее голос проник в его сердце, отыскав там узкую щелочку, где все еще жили любовь и радость. Ласкающий, нежный тембр ее голоса, исполненный сострадания — истинно женский тембр, — богатый сердечной теплотой, которой так не хватает на фронте, где нет места таким, как она, разбудил в нем множество забытых воспоминаний. Кто она? Мимолетное видение? Конечно, однако каждая песня этой женщины с банальными словами о человеческих чаяниях и надеждах, об обманутой любви, о радостях любви, днях и ночах любви, возрождала в нем веру в будущее, которую он давным-давно потерял. Сохранятся ли в его памяти эти часы? Переживут ли эту ночь, пробужденные ею в его душе чувства, если умолкнет волшебная сила ее голоса? «Скорее всего, нет», — подумал Поль, но как же сладки были эти минуты нежности и счастья!
Поль де Лансель не попросил для себя ни одной песни: пусть она поет только для его солдат. Но когда она выполнила все их просьбы, Поль спросил:
— Вы знаете какую-нибудь из английских солдатских песен?
— Конечно! «Розу Пикардии» и «Типперери»… Их знают все, даже те, кто не понимает английского.
— А «Пока мы не встретимся вновь», ее тоже?
— «Улыбнись, даря печальный поцелуй прощанья»… Эту? — спросила Ева.
— Да, — нетерпеливо подтвердил Поль. — Прошу вас!
Улыбнись на прощанье и подари мне горький поцелуй… А когда развеются тучи и станут голубыми небеса На улице Любви, я вернусь к тебе, моя дорогая Будут радостно бить свадебные колокола, И позабудется каждая слеза, Молись и жди меня, моя любовь, Пока мы не встретимся вновь.Ева чувствовала смертельную усталость, однако Поль попросил:
— О, пожалуйста, спойте еще… всего один раз! — Прежде чем она довела до конца эту простую, короткую, но незабываемую мелодию, Ева увидела, что капитан заснул с улыбкой на губах.
5
— Подумать только, везет же некоторым, — родиться в Швейцарии! — печально вздохнула Вивьен де Бирон, сидя у Евы на кухне в последнюю неделю декабря и попивая травяной чай.
— В Швейцарии? Ты же всегда утверждала, что это не страна, а дом отдыха, — недоверчиво проговорила Ева. Два с половиной года войны почти не отразились на внешности ее подруги. Вивьен оставалась все той же истинной парижанкой: так благородный металл, приняв однажды форму, сохраняет ее навсегда.
— Шульц пообещал обеспечить им нейтралитет. Покой, а вместе с ним настоящий кофе со свежими сливками, можешь не сомневаться. И никакого опротивевшего травяного чая.
— Шульц? — Евины брови вразлет взметнулись выше, чем когда-либо, под черной шапочкой из овчины, почти полностью скрывавшей ее дивные волосы. Похудев, она выглядела еще элегантнее, чем три с половиной года назад, когда впервые приехала в Париж, и, выходя на улицу, двигалась с неподражаемой уверенностью и щегольством женщины, каждой клеточкой впитавшей дух этого города, вне всякого сомнения, лежащего у ее ног. — Кто это?
— Новый президент Швейцарии, Мэдди, и тебе это должно быть известно, если ты читаешь газеты. А наше правительство не придумало ничего умнее, чем поднять штраф за прелюбодеяние! О нет, не смейся, девочка, я не шучу. До начала этой ужасной войны штраф за прелюбодеяние составлял двадцать пять франков, тогда как сейчас его подняли до сотни, не считая нескольких дней в тюрьме! Ну скажи, разве это разумно? Это даже как-то не по-французски. То, что они ограничили потребление газа и электричества, а также наш рацион, имеет смысл… Но может ли повлиять на ход войны супружеская неверность? По-моему, это даже не патриотично!
Вивьен плеснула себе еще чаю, с отвращением покосившись на свою чашку.
— Вот представь, Мэдди: солдат давно не был дома, и ему выпал случай переспать с женщиной. Конечно, она ему не жена… Или его жена, скучая по нему, чуть-чуть развлечется и скрасит себе одиночество… Почему они должны платить за это? И какой, спрашивается, маньяк станет искать неверных супругов под чужими кроватями вместо того, чтобы находиться на фронте? Ты можешь мне ответить?
— Нет, Вивьен, у меня не хватает воображения представить себе такое. Даже в голове не укладывается, — ответила Ева, невольно хихикая и стараясь подавить смех.
— Ах, Мэдди, ты ни к чему не относишься серьезно. Хотя ты можешь себе это позволить, — фыркнула Вивьен. — Полагаю, ты также находишь разумным, что правительство не позволяет публике ходить в театр иначе как в повседневной одежде? И никаких тебе вечерних туалетов, словно этим можно так запугать немцев, что они со страху наглотаются собственных отравляющих газов и поголовно удерут в Берлин.
— По-моему, это стоящая мера, — отсутствующим тоном проговорила Ева. Она читала газеты и так же, как Вивьен, знала, что в битвах при Сомме и Вердене в 1916 году, жесточайших за всю историю человечества, погибло такое невероятное количество людей, что просто не укладывалось в голове.
Отбросив грустные мысли, Ева заставила себя вернуться к разговору.
— Союзники, не жалея сил, помогают нам. Даже ты, Вивьен, должна это признать. Английский король поклялся ради победы не прикасаться к алкоголю, даже к вину и пиву. Представляешь, если вся остальная страна последует его примеру и все англичане откажутся от виски? Только вообрази, к чему это может привести?
— Конечно, к скорой победе… немцев, — съязвила Вивьен. — Хорошо еще, что никто не отказался посещать мюзик-холл. В Париже нет ни одного театра, который не был бы до отказа набит военными, желающими поразвлечься.
— Знаю. С тех пор как Жак Шарль выписался из госпиталя и взял в свои руки «Казино де Пари», он стал энергичнее, чем когда-либо. Видела бы ты, какую он развил бурную деятельность! В «Олимпии» у нас никогда не было таких пышных костюмов и великолепных декораций. Ты обязательно должна посмотреть, как десятки девушек в одних только сеточках, надетых на голое тело, взбираются и спускаются по огромным десятиметровым лестницам, и послушать оркестр, играющий что-то американское, чего я прежде не слышала. Это называется «регтайм».
Вивьен явно не убедили, а отчасти и обидели слова Евы о том, что «Казино де Пари» превзошло мюзик-холл, в котором она познала вкус славы.
— И тебе нравится петь этот «регтайм»?
— Его не поют, под него танцуют — кто как умеет. Однако мне пора идти, дорогая Вивьен. Надо немного поработать. По крайней мере, теперь я могу спокойно навещать тебя — путь свободен. — Ева кивнула на стену соседней квартиры, где когда-то жила. Ален Марэ не попал в строевые части из-за слабых легких и служил на военном складе далеко от Парижа.
Она поднялась. Глядя на нее, Вивьен подумала, что Мэдди выглядит даже оживленнее и привлекательнее, чем когда-либо прежде, в своем фиолетовом шерстяном пальто с меховым воротником, манжетами и оторочкой. Уже шагнув к двери, Ева вдруг повернулась к Вивьен.
— Вивьен, позволь мне тебя кое о чем спросить. Когда ты решила отвести меня в «Олимпию» на прослушивание, тебе не пришло в голову, что там я непременно встречу Фрегсона и тогда раскроется тайна об Алене?
— Это произошло больше двух лет назад, — возразила ее подруга.
— Это не ответ.
— Полагаю, эта мысль приходила мне в голову. Наверное, я не до конца это осознавала… или, возможно… Ну а вдруг я считала полезным для тебя узнать, что на самом деле представляет собой твой расчудесный месье Марэ? Возможно, я надеялась, что после этого ты не станешь слишком долго растрачивать на него свою молодость. Как бы там ни было, я поступила так без задней мысли… Однако мне нечего стыдиться, даже если бы все обстояло по-другому.
— Я узнала о Фрегсоне за несколько месяцев до прослушивания, посетив однажды «Олимпию» без тебя.
— Ах, вот оно что!
— Совершенно верно. Влюбленные женщины — это экзальтированные дуры, Вивьен. Они словно добровольно лишают себя разума. А когда любовь кончается, спрашивают себя, как это они могли столь превратно судить обо всем, совершать столь очевидные ошибки, но, как правило, не находят ответа. Расставшись с Аленом, я решила, что намного мудрее никогда больше не влюбляться… И с тех пор я ни разу не влюблялась, ну даже ни чуточки. Так что опыт с Аленом кое-чему меня все же научил, хотя тогда я этого, конечно, не понимала.
— Ах, вот как!
— Что ты все ахаешь и ахаешь?
— Тебе нет еще и двадцати одного. Если ты сможешь сказать мне то же самое, став в три раза старше, тогда, обещаю, я поверю тебе.
— Я считала тебя завзятым циником, Вивьен!
— Я циник по отношению к мужчинам… и романтик, когда речь идет о женщинах.
— Мэдди, он утверждает, что хоть и знает тебя, но его имя ничего тебе не скажет. Впустить? — Театральному сторожу были не в новинку военные, осаждавшие кулисы после закрытия занавеса, и обычно он просил их подождать, пока Мэдди не выйдет сама. Однако этот настойчивый посетитель, очевидно, не поскупился, чтобы смягчить неприступного сторожа.
— Как он выглядит? — рассеянно спросила Ева. Она уже сняла с лица грим и теперь, сидя перед зеркалом, расчесывала волосы. Май 1917 года выдался теплым, и Еве не было холодно в бледно-желтом шелковом халате. Ее лицо в ореоле светлых волос походило на распустившийся навстречу весеннему солнцу цветок.
— Офицер с кучей наградных ленточек. Симпатичный, по-моему.
— Француз, англичанин или американец?
— Француз, конечно, иначе я не стал бы тебя беспокоить. Американцы только осваиваются у нас, и хотя они быстро протоптали дорожку в Париж, должен сказать, им еще предстоит многому здесь научиться.
— Приведи его, — разрешила Ева. — Только дай мне время переодеться.
Через минуту сторож вернулся. За ним быстро шел высокий мужчина в мундире полковника: форменное кепи лежало у него на сгибе локтя.
— Надеюсь, не помешал вам, мадам. — Привычная формула вежливости прозвучала странно: с таким чувством произнес он традиционные слова.
— Вовсе нет, полковник. — В голосе Евы прозвучал едва уловимый вопрос. Она не могла вспомнить, когда и где встречалась с этим крупным блондином с обветренной кожей и глубоко посаженными синими глазами, но в его облике было что-то волнующе знакомое, словно Ева видела его в давно забытом сне, который вот-вот снова всплывет из глубин памяти.
— До сегодняшнего вечера я не имел представления, кто вы, — сказал полковник, — и не знал, как вас найти… Но, услышав ваше пение… с самой первой ноты, я… ту ночь… — Он умолк, с трудом владея собой: то, что он испытывал, было слишком сложно облечь в слова.
— Ту ночь? — переспросила Ева. — С начала войны миновала тысяча ночей.
— Вы не могли ее забыть, хотя с тех пор прошло почти два года.
— Ту ночь? Ах, да… Ту ночь на ферме! Вы… ну, конечно… вы тот офицер… Я помню… конечно, помню. Разве можно забыть ту ночь! Теперь я вспомнила ваш голос, но я не запомнила вашего лица. Вы тогда заснули, пока я пела.
— И спал спокойно, — закончил полковник, — счастливым сном. Он оставался со мной несколько ночей. Двое из моих людей не пережили бы той ночи, если бы не вы. Я должен был сказать вам это.
— Как вас зовут, полковник?
— Поль де Лансель. Вы пообедаете со мной, мадам?
— С удовольствием.
— Сегодня вечером? — с надеждой спросил Поль охрипшим от волнения голосом.
— Не возражаю. Насколько я помню, встретившись той ночью, мы оба были голодны, и я пела, чтобы заработать себе не то ужин, не то завтрак. Поэтому, вероятно, вы задолжали мне обед. Однако вам придется пообещать мне две вещи.
— Все, что бы вы ни попросили, — серьезно ответил Поль. — Решительно все.
— Вы не должны больше говорить, что я «спятила» и что я «глупа, как все женщины».
— Я надеялся, вы забыли, как непростительно грубо я вел себя тогда.
— Напротив, это слишком памятные мгновения, чтобы я их забыла.
Последние несколько лет военные из всех уголков Франции почти каждый вечер приглашали Еву на ужин. Рестораны с их лихорадочной суетой и оживлением поднимали военным настроение.
Поль де Лансель, однако, повел ее в обеденный зал отеля Риц, на редкость красивый, с высоким потолком и богатой лепниной, устланный коврами и задрапированный парчой; в своем великолепии он не уступал и королевскому дворцу. Столики стояли далеко друг от друга, а одна из стен открывала полукруглый зимний сад с фонтаном, обрамленным кустами жасмина и пирамидальными стойками со стелющейся геранью. Сервис обеспечивали метрдотель, официанты и младшие официанты, выполнявшие свои обязанности спокойно и несуетливо. В зале стоял полумрак. Каждый столик уютно освещала лампа с розовым абажуром.
При всем строгом великолепии обеденного зала отеля «Риц» в нем царила атмосфера праздничности и веселья, сохранившаяся, несмотря на военную пору. И хотя благодаря антуражу этот зал считался одним из самых роскошных во всей Франции, Поль де Лансель чувствовал себя здесь спокойно и удобно, как в собственном доме. Он неторопливо и со знанием дела заказал ужин тоном человека, уверенного в себе и привыкшего отдавать распоряжения, — мягким, но не терпящим возражений. Пока он беседовал с метрдотелем, Ева поняла, как приятно ей ощущать его надежность, хотя это вовсе не было связано с предстоящим мирным ужином.
Поль открыто разглядывал Еву в мягком свете настольной лампы. Она спокойно сидела в парчовом кресле. Ее длинные серьги поблескивали в полумраке. Волосы Евы, разделенные на прямой пробор, были уложены по последней моде и волнами спускались к затылку, закрывая уши. Ее платье с большим каре, отделанным кружевом, оставляло обнаженными прекрасную шею и тонкие изящные руки.
Поль понял, что этот стиль идет Еве, как и некоторым другим женщинам, подчеркивая ее утонченность и удивительную свежесть кожи. В полутьме зала он не мог заглянуть в глубину ее глаз, но, когда она говорила, ее ресницы таинственно трепетали под высокими бровями вразлет. Экстравагантная бесшабашность, которую тетка Мари-Франс подметила у племянницы еще пять лет назад, не только осталась в Еве, но еще резче обозначилась в ней, проявляясь теперь как редкое свободомыслие, независимость духа и самообладание. Это свидетельствовало о благородстве натуры, отвергающей условности светской жизни. В разговоре выявились также и ее острый ум, ироничный склад характера и заразительная веселость. Поль де Лансель признался себе, что никогда в жизни не встречал подобной женщины.
— Кто вы? — услышал он вдруг собственный голос.
— Что вы имеете в виду? — спросила Ева, хотя сразу уловила смысл вопроса.
— Вы совсем другая. Вы не похожи на знаменитую Мэдди, поющую в «Казино де Пари». Я знаю, что не ошибся… Расскажите мне, кто вы на самом деле, — попросил он.
Ева задумалась, маленькими глотками попивая вино. С тех пор как она приехала в Париж четыре года назад, она никому, даже Вивьен де Бирон, и словом не обмолвилась о своем происхождении. Инстинкт подсказывал ей, что в мире мюзик-холла не должны знать, что она вышла из кругов, глубоко презираемых там, иначе это станет поводом для бесконечных насмешек.
Однако этот незнакомец и то, что она знала о его храбрости, стойкости и самообладании, пробудил в Еве бесстрашие, более того, страстное желание рассказать ему о себе всю правду. Своим появлением он словно бросил Еве вызов — давно забытое ею ощущение. Она верит этому человеку, внезапно поняла Ева. Он вызывал у нее что-то большее, чем доверие, и это пугало девушку, едва знакомую с ним. Вместе с тем после той незабываемой ночи в разрушенном крестьянском доме Еве казалось, что она знает его так хорошо, словно он — часть ее самой.
— Я родилась в Дижоне, — начала Ева, вздохнув при воспоминании о далеком прошлом. — Мое настоящее имя не Мэдди, и ко мне неуместно обращаться «мадам». На самом деле я мадемуазель Ева Кудер. Это буржуазное имя ни в коей мере не сочеталось с духом мюзик-холла, и я его изменила. Девочкой я мечтала, возможно, даже слишком сильно, увидеть, что лежит за горизонтом. Я приехала в Париж… вернее, убежала из дома в Париж, когда мне было семнадцать, с человеком, которого едва знала. В ту пору я была совершенно невинна и столь же необузданна. Ну… просто дурочка. Родители надеялись, что я удачно выйду замуж и стану вращаться в свете. Я ненавидела даже мысль об этом, но именно такое будущее готовила для меня семья. Я была безумно влюблена и ровно настолько же глупа. Довольно скоро этот человек разбил мне сердце… чего, собственно, и следовало ожидать. Своим поступком я, разумеется, опозорила свою семью и себя. Родители ни разу не приехали в Париж повидаться со мной, хотя я писала им каждую неделю. Мой отец — известный врач, мать — одна из уважаемых женщин Дижона. А я… я известна как Мэдди.
— Вы сказали, тот человек разбил вам сердце? — перебил Поль, охваченный жгучей ревностью, вспыхнувшей в нем в ту же секунду, как Ева произнесла эти слова. Все, кроме этой фразы, ускользнуло от его внимания.
— Так я тогда думала. И чувствовала себя соответственно.
— Сейчас это прошло? — требовательно спросил Поль.
— Уверена, так оно и есть. Хотя это чувство остыло лишь за эти годы… У семнадцатилетних девушек сердечные раны заживают быстро, не так ли?
— А после этого? — настаивал Поль.
— Я стала очень осторожной. С тех пор мое сердце больше никому не принадлежит.
— Вы вполне уверены в этом? — Поля охватило безумное желание распустить волосы Евы и откинуть их назад, так, чтобы казалось, будто она только поднялась с постели.
— Минутку, полковник… это допрос?
— Это имеет какое-то значение?
— Наверное, нет, — ответила Ева, помолчав. На ее шее пульсировала жилка.
— Вы понимаете, что это не имеет никакого значения. Теперь протяните мне руки, чтобы я мог их коснуться, — сказал Поль.
— При всех? — Еве пришлось наклониться вперед, чтобы он услышал ее.
— Вы не побоялись сбежать из дома с мерзавцем, причинившим вам душевную боль, а теперь не хотите протянуть мне руки!
— Я же сказала вам, что стала очень осторожной.
— Сейчас вы должны забыть об этом, — серьезно произнес Поль.
— Должна? — Рот Евы приоткрылся, веки опустились так, что видны были лишь узкие щелочки глаз. Она замерла от захлестнувшего ее чувства и с надеждой ждала, когда он заговорит. Поль, поразив Еву целеустремленностью и решительностью, вызвал в ней ощущение, ни разу не испытанное с того дня, когда она поднялась над Дижоном на воздушном шаре и увидела великие просторы, лежащие за синей чертой горизонта. Ее душу захлестнул сейчас такой восторг, что зал отеля Риц исчез, словно декорация в затемненном театре.
— Вы знаете, что должны. Вы прекрасно это понимаете, мадемуазель Ева Кудер.
— Вы слишком настойчивы, — возразила Ева, уже едва сопротивляясь его напору.
— У вас будет время привыкнуть к этому.
— Сколько? — прошептала Ева.
— Вся жизнь, — ответил Поль, взяв в ладони ее дрожащие руки и поднеся их к губам. — Обещаю вам, вся жизнь.
Метрдотель, издали наблюдавший за Евой и Полем, не удивился, когда полковник де Лансель внезапно сделал ему знак принести счет. Ни он, ни его прекрасная спутница почти не притронулись к великолепно приготовленному и сервированному ужину. Метрдотель знал полковника с самого детства, когда тот мальчиком приехал в Париж с родителями, — они неизменно останавливались в Рице. Однако он никогда еще не видел молодого виконта влюбленным, хотя тот много раз обедал в Рице. Сказав себе, что эта парочка, не прикоснувшись к главному блюду, забудет о еде, метрдотель ошибся, поскольку полковник позволил подать это блюдо на стол и даже заставил себя отведать его. Зато чаевые метрдотеля сегодня оказались в пять раз щедрее обычных.
Выйдя из Рица, Поль нанял открытый экипаж, помог Еве подняться на подножку и приказал вознице: «Поезжай вдоль реки». Кучер весело обогнул Вандомскую площадь и направил лошадь по улице Кастильоне к Сене медленным шагом, соответствующим томной атмосфере теплого майского вечера, словно эта прогулка по набережной была экскурсией, а не привычным кругом, который его лошадь делала сотни раз.
В ресторане отеля Риц Поль и Ева просто разговаривали, поскольку присутствие других посетителей не располагало к особой интимности. Между тем желание уединиться стало таким сильным, что они не могли уже делать вид, будто просто ужинают. И теперь, оставшись наконец наедине и видя перед собой лишь спину равнодушного возницы, они вдруг почувствовали себя робкими, смущенными и косноязычными.
Он пообещал целую жизнь, думала Ева. Что он хотел этим сказать? Что это: просто красивые слова, преувеличение или, быть может, обычная солдатская бравада? Почему он не говорил банальностей, к которым прибегают мужчины, мечтающие о коротком романе перед возвращением на фронт? Не принадлежит ли Поль де Лансель к тем, кто пользуется высокими словами ради достижения низменных целей? По тому, как обращался к Полю метрдотель, Ева поняла, что он виконт и принадлежит к знаменитой винодельческой семье Лансель. Если мужчина из такого круга обещает ей целую жизнь, не означает ли это, что он предлагает Еве стать его любовницей, отведя ей соответствующее место в своей жизни? Чего ждет от нее этот человек, который теперь знает о ней больше, чем любой другой?
Я пообещал ей целую жизнь, размышлял Поль. Поняла ли она, что он хочет на ней жениться? Достаточно ли ясно он выразился? Он не смог открыть ей свои планы, потому что в этот момент к ним подошел официант, и Полю не удалось досказать начатое. Вид сервированного стола разрушил его романтическое настроение, отчего возникло раздражение, поэтому он и позже не вернулся к этой теме. Ну разве можно ждать, что женщина, которая познакомилась с ним всего несколько часов назад, поймет его чувства к ней? А с чего возникнет у нее чувство к нему? Не из тех ли женщин Ева Кудер, что позволяют мужчине раскрыть душу, а потом играют с ними как кошка с мышью, наслаждаясь своей властью? Ведь он знает о ней лишь с ее слов, а она о нем — и того меньше.
Они сидели молча, не касаясь друг друга. Экипаж, достигнув набережной, повернул налево и двинулся по направлению к старейшей части Парижа, где некогда племя рыбаков, называвших себя паризиями, основало первое поселение на острове в середине Сены. Если бы возница повернул направо, они миновали бы площадь Согласия и «Гран Пале» — эти монументальные символы непревзойденного величия. Между тем, повернув налево, возница быстро доставил их в простые, наполненные жизнью кварталы, где все имело обычные человеческие масштабы и где не было ничего символического, кроме шпиля церкви.
— Остановитесь, пожалуйста, здесь, — сказал Поль, когда они поравнялись с Новым мостом. — Не хотите ли прогуляться? — предложил он Еве.
— Хорошо, — согласилась она. Все, что угодно, лишь бы преодолеть охватившую ее скованность: в мозгу теснились сотни вопросов, а губы не могли произнести ни слова.
Новый мост — древнейший парижский мост, переброшенный с острова Ситэ, где паризии построили свои первые хижины, обладает особой магией, присущей тем местам, где человек обитает издревле. Казалось, мирно настроенные призраки сопровождали Еву и Поля, пока они, взявшись за руки, шли по булыжной мостовой до середины моста. Широкий мост был почти пуст. Дойдя до середины, Поль и Ева свернули в одну из двенадцати полукруглых ниш, нависающих над Сеной. Прислонившись к краю ниши, они увидели реку, быстро несущую свои воды к океану. Мерцающая в лунном свете стремнина была такой широкой, что Париж, раскинувшийся по берегам, казалось, вовсе исчез.
— Мы как на корабле в открытом море, правда? — спросил Поль.
— Я никогда не путешествовала по морю, — ответила Ева.
Они опять замолчали, но эти несколько слов помогли им преодолеть смущение, и вскоре они одновременно повернулись друг к другу. Поль обнял Еву и поцеловал ее в губы.
Ева откинулась назад и заглянула ему в глаза, но не могла разгадать их выражения.
— Почему… почему в ту ночь на ферме вы просили меня спеть «Пока мы не встретимся вновь»? — спросила Ева, сама удивившись, что задала ему такой незначительный вопрос.
— Наверное, потому… глупо, конечно, но я знал, что никто из моих людей не понимает английского, и хотел, чтобы вы спели для меня одного. Такое, что я мог бы запомнить навсегда и не делить этого воспоминания ни с кем другим, — медленно произнес Поль. — Я… я влюбился в вас… пока вы пели для моих людей. А в этой песне были слова, которые, как я мечтал, вы когда-нибудь скажете мне, и я думал только об этих словах — помните? — «веселым звоном отзовутся тогда свадебные колокола, станет памятной каждая слеза, так жди и каждый вечер молись за меня, пока мы не встретимся вновь».
— Свадебные колокола? — прошептала Ева.
— Да, еще тогда. Это было моим единственным желанием. Свадебные колокола… Ева, ты выйдешь за меня замуж?
Ева колебалась, напуганная тем, с какой легкостью Поль де Лансель пробил стену, которую она с таким трудом возвела. И тем не менее… и все же… неужели у нее не хватит смелости рискнуть еще раз? Неужели она откажется от нового приключения и попытается убежать от… любви? Ведь то, что она чувствует к нему, не что иное, как любовь!
— Вы пришли ко мне в гримерную чуть больше трех часов назад, — начала Ева, стараясь выгадать несколько секунд на размышления. — Почему же вы ждали так долго, чтобы задать мне этот вопрос?
— На то, чтобы отыскать вас, у меня ушло два года. Что значат какие-то три часа в сравнении с этим?
— Ах, вот оно что… В таком случае…
— В таком случае?
— Да, мой полковник, да!
Виконт Жан-Люк де Лансель, отец Поля, поднял глаза от письма и радостно объявил своей жене Аннет:
— Прекрасные вести, дорогая! Поль женится… то есть, судя по дате этого письма, я уверен, что он уже женился.
— Слава Богу! Как я об этом молилась! После смерти бедной Лауры я думала, что уже никогда не услышу его смеха. Покажи письмо. Кто эта девушка? Где он с ней познакомился? Когда они поженились? — посыпались жадные вопросы виконтессы.
— Погоди минутку… Дай я прочитаю дальше… Ах, вот… Она родом из Дижона. Почти соседка, Аннет! Ее зовут Ева Кудер… Бог ты мой, да она дочь доктора Дидье Кудера! Это врач, к которому обращаются все, у кого больная печень, дорогая. Помнишь, твой шурин консультировался у него несколько лет назад? Они знают друг друга… Вот странно… Поль пишет, что они впервые встретились в конце первого года войны, а теперь они, очевидно, встретились вновь… только на прошлой неделе! До войны было совершенно невозможно, чтобы кто-то женился всего за неделю, но сейчас все изменилось, а? Он пишет, что Ева прекрасная женщина, храбрая и очень красивая… Что еще можно желать, правда, дорогая? Конечно, у них не будет медового месяца, но разве это имеет значение? Главное, что они будут жить в Париже, пока Поль служит там. Когда мы сможем поехать навестить их, Аннет? Я хочу взглянуть на свою невестку.
— Ты сказал, дочь доктора Дидье Кудера?
— Да. А почему ты спрашиваешь? Разве у него их несколько?
— Только одна, насколько мне известно, — мрачно ответила его жена.
— Ты знаешь эту девушку?
— Все знают про эту девушку.
— О чем ты говоришь? И чем ты так удручена? Я никогда не слышал об этой девушке.
— За год до начала войны все только о ней и говорили… в определенных кругах, конечно. Она сбежала из дома, исчезла, пропала — называй это как хочешь — с каким-то негодяем или совершила что-то другое, настолько неприличное и позорное, что Кудеры, сколько могли, хранили все это в тайне. Ее тетка, Мари-Франс де Куртизо, тоже была в этом замешана. Моя кузина Клэр — подруга баронессы, и когда вся эта неприглядная история выплыла на свет… в общем, все оказалось еще хуже, чем они предполагали. О, мой бедный Поль!
— Что значит «еще хуже»? У нее ребенок?
— Нет, насколько мне известно. Такие женщины не заводят детей, будь уверен. Она… поет. Она выступает в мюзик-холле. В Париже.
— В мюзик-холле? Ты уверена?
— Абсолютно. Кудеры никогда не упоминают о ней, но, кажется, она добилась большого успеха… Говорят, стала знаменитой, вероятно, печально знаменитой, не сомневаюсь. У Кудеров только одна дочь, и на этой женщине женился наш сын. — Виконтесса зарыдала.
— Аннет, Аннет… перестань, умоляю тебя. Помни, Поль любит ее. Подумай о том, как несчастен он был. По-моему, важнее всего, что он вновь обрел любовь. Ты так не считаешь?
— Такая женщина, как эта! Неужели ты не понимаешь, почему она вышла за него?! Это же последний шанс вернуть себе положение, последняя спасительная возможность для женщины, столь низко павшей! Но она ошибается, полагая, что ее здесь примут. Хуже всего, что после окончания войны будет загублена карьера Поля.
— Аннет, как ты можешь беспокоиться об этом сейчас? Главное, что Поль не на фронте и останется жив после войны. И что за вздор, при чем тут его карьера? Я вполне полагаюсь на его интуицию, а он пишет, что Ева прекрасная женщина… Что такого, если она поет, пусть даже в мюзик-холле? Даже короли женились на женщинах, которые пели в мюзик-холлах.
— И теряли после этого трон, а затем всю жизнь подвергались насмешкам. Кроме того, тебе прекрасно известно, они никогда не женились на этих созданиях, они их содержали. Эта женщина скандально известна. Прошлое будет преследовать ее всю жизнь. Неужели ты считаешь, что у дипломата с такой женой есть надежда сделать карьеру?
— Жена столь же важна для карьеры дипломата, как и ум… возможно, даже важнее, — признал Жан-Люк де Лансель, глубоко вздохнув. Аннет, как обычно, выказала больше практичности, чем он.
— Эта… женщина не может быть женой посла. И ты должен это понимать не хуже меня. Ему никогда не простят этого на набережной Орсэ. Он погубил себя ради нее, он пожертвовал ради нее своей карьерой!
— Я только спрашиваю себя, много ли он знал о ней до своей скоропалительной женитьбы?
— Очевидно, почти ничего, — ответила виконтесса с глухой ненавистью.
— Может, так, а может, и нет. Он мог знать о ней все и решить, что, чем бы это ему ни отозвалось, она того стоит, — сказал виконт де Лансель, впрочем, не слишком убежденно.
— Он влюбился в военное время, а значит, сделал глупость, — насмешливо возразила жена.
— Возможно, его обманули. Он никогда не женился бы на ней в мирное время. — Голос отца Поля стал суровым. Он смял письмо.
— Тебя и теперь удивляет, почему они так быстро поженились?
— Нет, теперь я это понимаю. Даже слишком хорошо.
— Мэдди, ты что, серьезно? — вскочил из-за своего стола Жак Шарль. — Не может быть! Я отказываюсь в это поверить. Если ты поступаешь так потому, что другой режиссер сделал тебе более выгодное предложение, я всегда об этом узнаю… И мне это ужасно не понравится. Учти, я сверну твою прелестную шейку. Видно, надо отвести тебе гримерную побольше и хорошенько тебя отшлепать… Уйти со сцены! Навсегда! Это просто немыслимо!
— Твоя жена поет в «Казино де Пари»?
— Ну… нет, и что из этого? У нее нет слуха.
— А если бы у нее был слух? Ты радовался бы, если каждый вечер, придя домой, ты узнавал бы, что мадам Шарль уже отправилась в театр, занята примеркой нового сценического платья или дает интервью? Ты был бы очень доволен, если бы тебе пришлось проводить в одиночестве все вечера, кроме одного дня в неделю, когда «Казино де Пари» не дает представления?
— Нет, конечно. Черт тебя побери, Мэдди!
— Значит, ты, несмотря ни на что, понял меня.
— Допустим, я могу понять твою ситуацию как мужчина, который ничем не отличается от других мужчин. Но ты… если взглянуть на это с точки зрения звезды… то — никогда! Знаешь ли ты, от чего отказываешься ради семейных ужинов? Почему, черт побери, ты не могла завести с этим типом роман? И с чего ты решила выйти замуж? Думаешь, звезда может уйти со сцены на годик-другой, а потом вернуться? Поверь, несмотря на твои теперешние чувства к галантному полковнику, ты можешь внезапно обнаружить, что замужество тебе смертельно наскучило и что тебе отчаянно не хватает публики, аплодисментов и обожания тех, кто приходит послушать твое пение.
— Патрон, все, что вы сейчас сказали, неделю назад имело бы для меня смысл, и я повторила бы то же самое кому-нибудь вроде меня. Возможно, даже не в столь тактичной форме. Но теперь… вы сказали — ради семейных ужинов… Поверьте, теперь мне ничего другого и не надо.
— Ты выглядишь невыразимо счастливой, будь ты проклята!
— У вас слишком доброе сердце, патрон, — весело рассмеялась Ева.
— Выметайся отсюда! Но, Мэдди, когда будешь готова… если это когда-нибудь случится, ты вернешься? Аудитория хранит верность лучше, чем любовник или муж. Ревю, созданное исключительно ради тебя, которое я планировал… Ну, этого, конечно, я больше не смогу тебе обещать… но, Мэдди, ты вернешься, если что-нибудь в твоей жизни переменится?
— Обязательно, — ответила Ева, все еще смеясь, затем обняла Жака Шарля за шею и расцеловала на прощание в обе щеки. Слова ничего не стоят: она никогда не вернется в мюзик-холл.
Когда в 1912 году Поль-Себастьян де Лансель женился на Лауре де Сен-Фрейкур — единственной дочери маркиза де Сен-Фрейкур, его семья была в восторге от этого брака, однако родители Лауры с неудовольствием смирились с ним. Лаура, смуглая, хрупкая и очень элегантная, считалась одной из красивейших девушек. Она была единственной наследницей владений Сен-Фрейкуров, и после их смерти к ней должно было перейти состояние, сильно поубавившееся с веками.
Между тем деньги волновали Сен-Фрейкуров меньше всего. Маркизат де Сен-Фрейкур был древним и прославленным титулом, столь прочно связанным с историей Франции, что казался родителям Лауры самой значительной частью приданого дочери. Правда, титулу предстояло умереть вместе с нынешним последним маркизом де Сен-Фрейкур, но дети Лауры, за кого бы она ни вышла замуж, всегда и прежде всего будут известны как Сен-Фрейкуры. Одно то, что их мать — урожденная де Сен-Фрейкур, мгновенно распахнет перед ними дверь в узкий круг самой родовитой французской аристократии и позволит им занять там высокое положение. Значение древней крови невозможно переоценить, твердо верили Сен-Фрейкуры. В том обществе, где они вращались и где все знали все обо всех, это было неоспоримой истиной.
Разумеется, все ожидали, что Лаура сделает блестящую партию. Как последняя из рода Сен-Фрейкуров, она росла в атмосфере заботы, нежности, поклонения, едва ли не благоговения. Когда же родители поняли, что дочка обещает вырасти красавицей, это совсем вскружило им голову, как это часто случается.
И как же они были разочарованы, когда она выбрала в мужья виконта Поля-Себастьяна де Лансель. Да, он происходил из древней семьи, но не был старшим сыном. Да, Лансели, несомненно, принадлежали к древней аристократии, но они не относились к высшей аристократии, о которой мечтали Сен-Фрейкуры. Имя Ланселей много значило в Шампани, но не шло ни в какое сравнение с титулом герцога и пэра Франции. До революции Лансели редко посещали Версаль и не были близки ко двору. Полю предстояло унаследовать половину «Дома Лансель» — немалое состояние, но это мало что меняло. Однако, как понимали родители Лауры, у них нет разумных возражений против де Ланселя, ни одной серьезной зацепки, которая могла бы убедить Лауру, что она совершает ошибку, выходя замуж за Поля.
Известные во всем мире виноградники, которыми Полю в будущем предстояло владеть наравне с братом, не казались им оправданием этого брака. Имя их дорогой дочери будет связано с замком, чье название значится на наклейках винных бутылок! Сен-Фрейкуры не разделяли типичного для французов уважения к производителям вин, проявляя почтение лишь к прямым потомкам Гуго Капета, первого короля Франции, и некоторых других родов, чьи предки занимали высокое положение при дворе.
Лаура была очень счастлива в первый год замужества, и Сен-Фрейкуры могли бы, в конце концов, изменить отношение к зятю, если бы он не совершил преступного безумства, отправившись в армию, несмотря на беременность Лауры. Патриотизм Сен-Фрейкуров, как и все остальные чувства, не шел в сравнение с благополучием дочери. Для них было совершенно очевидно, что первая обязанность Поля — оставаться рядом с беременной женой и что он, не уронив своей чести, мог подождать с отъездом на фронт до рождения младенца.
Он убил ее, говорили они между собой после смерти Лауры, и это так же верно, как если бы он свернул ей шею своими грубыми мужицкими руками. Лаура была сама не своя после его отъезда на войну: от отчаяния у нее пропал аппетит, все валилось у нее из рук, она буквально «сохла» по нему. Когда же подошло время родов, она так ослабела от тоски, что просто не могла выжить. Отняв у них единственное сокровище, он обращался с ней так жестоко, что это было равносильно пыткам.
Сломленные и убитые горем так, что и словами не выразить, бабка и дед взяли с собой внука Бруно и уехали в Швейцарию, где по крайней мере оставалась возможность спокойно вырастить их бесценного наследника, единственное, что осталось от Лауры, — ребенка, которому она подарила жизнь.
И в мирное, и в военное время слухи распространяются быстрее почты. Еще до получения от Поля письма с сообщением о его женитьбе Сен-Фрейкуры, хоть и жили в Женеве, знали о Еве все, вплоть до особого красного оттенка ее театральных туалетов.
Обычно скандалы, касавшиеся высших слоев буржуазии, к которым принадлежали Кудеры, не достигали ушей Сен-Фрейкуров, поскольку никто из знакомых не проявлял интереса к подобным людям.
Однако у самого подножия их мира обитала баронесса Мари-Франс де Куртизо, сумевшая завести знакомство с родовитейшими аристократами из предместья Сен-Жермен, хотя ее отец был всего лишь богатым торговцем.
Барон Клод де Куртизо тратил большую часть своих огромных доходов на содержание охотничьего хозяйства. Его лошади и гончие носились по угодьям, где в изобилии водились олени, и барон ничего не жалел для своих любимцев. Это не могло утаиться от помешанной на охоте знати. Потомки тех, кто потерял головы и земли, они сохранили титулы и страсть к охоте. К их огорчению, титул Куртизо, выдуманный Наполеоном и присвоенный им боевому другу, имел недавнее происхождение, а это, по их мнению, было едва ли не хуже, чем вообще не иметь титула. Однако барон Клод проявлял в этом отношении достойную скромность.
Но теперь! Во всех салонах Сен-Жермен носились тучи слухов; они поднимались вместе с паром над чашками с чаем, принадлежащим обладателям старейших во Франции фамилий. В 1914 году стало известно, что у Куртизо есть племянница, которая — подумать только! — выступает в ужасном месте, в вульгарном мюзик-холле — заведении, лишь на ступеньку выше борделя, — где ее, без сомнения, окружают голые девицы, если только она сама не одна из них… или еще хуже… Вот тут разразился грандиознейший скандал, едва не стоивший супругам Куртизо скромного места в обществе.
Их простили тогда только потому, что они слишком незначительны. Но теперь! Теперь эта племянница, о которой никогда не упоминали, щадя чувства впечатлительной Мари-Франс, стала мачехой единственного внука Сен-Фрейкуров. Поэтому новый скандал разразился уже в кругу Сен-Фрейкуров.
— Все это, — притворно сочувствуя, а в душе злорадствуя, делилась одна скучающая герцогиня с другой, — не слишком красиво, правда? Да, конечно, это ужасная трагедия для Сен-Фрейкуров… Этих несчастных нельзя не пожалеть. Кто бы мог подумать, что это случится с людьми, которые так высокомерно вели себя с теми, чье положение в обществе не отличается от их собственного? Признаться, их никто особенно не любил, но всем приходилось считаться с ними. Как бы ни были они холодны и заносчивы, их все знали. Как нам теперь вести себя с ними? Притворяться, что ничего не знаем, или по возможности тактично и деликатно намекнуть, что мы им сочувствуем? Может, послать дружескую записку? Или лучше хранить благородное молчание, делая вид, словно ничего не произошло? Или, что было бы самым правильным, принять все случившееся как должное? Какая сложная дилемма!
— Как ты собираешься ответить на письмо Ланселя? — спросила мужа маркиза де Сен-Фрейкур.
— Еще не знаю. Пока он был на фронте, я каждый день молился, чтобы его убили. — Маркиз де Сен-Фрейкур говорил как всегда сухо и выразительно. — Погибли миллионы французов, а Лансель отделался легким ранением. Поистине, нет справедливости под небесами.
— Что, если он пошлет за Бруно теперь, когда у него есть жена?
— Жена? Он облил грязью могилу нашей дочери. Умоляю тебя, дорогая, не называй его женой эту… особу.
— И тем не менее теперь, когда он поселился в Париже, у него может возникнуть желание забрать Бруно к себе.
— Об этом не может быть и речи. Немцы ведут наступление на Париж.
— Но когда-нибудь война закончится, — твердо заметила маркиза.
— Ты не хуже моего понимаешь, что Бруно принадлежит нам. Даже если бы женой Ланселя стала женщина, достойная стать мачехой Бруно, я не хотел бы, чтобы он забрал у нас мальчика. — Голос маркиза сорвался и стал похож на шуршание ветра в опавшей листве.
— Как ты можешь быть таким спокойным?
— Некоторые вещи, дорогая, столь очевидны, что не оставляют места для сомнений, например, будущее Бруно. Он не Лансель, он — Сен-Фрейкур и никогда не запятнает себя близкими отношениями с этим убийцей и той особой, которую он избрал в спутницы жизни. Я скорее своей рукой убью Поля де Ланселя, чем отдам ему Бруно. Чем меньше он будет понимать нас, тем меньше будет с ним проблем. Думаю, я все же отвечу на его письмо.
— Что ты напишешь?
— Что? Конечно, пожелаю ему счастья в браке.
— Неужели ты сможешь пересилить себя?
— Чтобы сохранить Бруно, я мог бы даже прижать к сердцу его… шлюху.
Во второй половине сентября 1918 года, за два месяца до конца войны, Ева родила дочь и назвала ее Дельфиной в честь бабки Поля с материнской стороны. Спустя пять месяцев Поль демобилизовался из армии и, вернувшись в начале 1919 года на дипломатическую службу, был назначен в Канберру первым секретарем посольства Франции в Австралии. На набережной Орсэ это считалось равноценным ссылке в Сибирь.
Из-за Дельфины Ева с великой радостью поехала в Австралию. Малышка перенесла коклюш и страдала от приступов лающего кашля, который начинался у нее ни с того ни с сего и сопровождался затрудненным дыханием. Единственное, что помогало, это держать Дельфину над горячим паром, пока не проходило удушье, но пар был весьма дорог во Франции в первый послевоенный год, когда нехватка угля ощущалась сильнее, чем до заключения мира, а электричество так вздорожало, что поезда метро все еще ходили по расписанию военного времени.
Богатая Австралия показалась встревоженным родителям даром небес. После того как они поселились на одной из комфортабельных викторианских вилл Канберры с широкой террасой и большим садом, Ева почти успокоилась, зная, что в любой момент может за несколько минут наполнить паром огромную ванную комнату. Дельфину осмотрел лучший в Канберре педиатр Генри Хед и объявил, что у девочки нет никакой патологии.
— Вам не стоит так сильно беспокоиться из-за кашля, мадам де Лансель, — сказал он. — Уверяю вас, с возрастом это пройдет. По одной из теорий, причиной такого кашля у детей бывает короткая шея. Как только девочка подрастет, вы больше не услышите этого кашля. После приступов по трое суток днем и ночью держите в ее комнате чугунок с горячим паром и звоните мне в любое время суток.
Девятого января 1920 года, меньше чем через полтора года после появления на свет Дельфины, у Евы и Поля де Лансель родилась вторая дочь — Мари-Фредерик. Доктор Хед, вызванный осмотреть новорожденную, надеялся, что эта девочка счастливо избежит заболевания коклюшем. Зная, что Дельфина, которой кашель не давал покоя ни днем ни ночью, была источником мучительного беспокойства родителей, он удивлялся про себя, почему Лансели так быстро завели второго ребенка. Ему казалось, что у мадам де Лансель полно хлопот с постоянными кризисами больной малышки, а тут еще заботы о второй наследнице.
Ева наняла для девочек опытную няню, но в течение первого года со дня рождения Мари-Фредерик редко спала больше двух часов подряд, часто просыпаясь ночами, чтобы послушать дыхание Дельфины, и возвращалась в постель к Полю, лишь постояв над колыбелькой девочки и убедившись, что с ней все в порядке.
Сначала Ева беспокоилась и за Мари-Фредерик, но та, очевидно, обладала железным здоровьем. Один ее вид дарил родителям утешение и радовал их. Унаследовав рыжие волосы и синие глаза Ланселей, она была пухленькой, крепенькой, краснощекой и улыбчивой, в отличие от бледной и хрупкой старшей сестры, нередко плакавшей без всякой причины.
Правда, помимо болезненности, Дельфина отличалась редкостной, восхитительной красотой — недетской и исключительной. Эта красота хоть отчасти возмещала родителям перенесенные испытания: страшные ночи с сухим лающим кашлем.
В течение первых четырех послевоенных лет, пока Мари-Фредерик не исполнилось два года, Поль был вынужден соглашаться с маркизом де Сен-Фрейкур, что Бруно следует оставаться в Швейцарии. Пока Мари-Фредерик была мала, а Дельфина болела, Поль с горечью признавал, что сейчас не время просить Еву взять на себя бремя забот о третьем ребенке.
Но в 1922 году, когда Бруно исполнилось семь, Поль написал бывшему тестю письмо и попросил прислать к нему сына.
— Он пишет, — лаконично и сдержанно, как всегда, сказал жене маркиз де Сен-Фрейкур, поджав тонкие губы, — что наконец пришло время Бруно расти вместе с его дочерьми.
— Так и пишет? — с негодованием спросила маркиза.
— Да. Будто они ровня — наш Бруно и два отродья, прижитые с певичкой.
— Что ты ему ответишь?
— Я не намерен отвечать на это письмо. Оно шло сюда несколько недель, и легко предположить, что оно затерялось в пути. Лансель будет ждать моего ответа еще несколько недель. Потом, возможно, подумает, что мы едем к нему или где-то путешествуем. Через месяц он пошлет следующее письмо. Тогда ты, дорогая, ответишь ему, сославшись на то, что я нездоров. Напишешь, будто доктора сказали тебе, что мне осталось жить всего несколько месяцев, и попросишь, чтобы Бруно пока остался с нами. Даже такой негодяй, как Лансель, не сможет отказать нам в этой просьбе. Моя болезнь несколько затянется… вернее, я еще немного задержусь на этом свете. — Маркиз слегка улыбнулся. — Ты, разумеется, будешь часто информировать его о состоянии моего здоровья. Он ни в коем случае не должен догадываться о наших истинных намерениях.
— Когда же ты начнешь выздоравливать, дорогой?
— Скоро март. Осенью, ближе к концу года, я сам напишу ему, что еще очень слаб, но начинаю поправляться и взываю к его милосердию. Напишу, что за долгие месяцы болезни моей единственной отрадой, заранее прошу у тебя прощения за такие слова, дорогая, были ежедневные свидания с Бруно. Попрошу, чтобы он позволил сыну остаться с нами, пока я не поправлюсь окончательно, еще на несколько месяцев, хотя бы до конца рождественских праздников и начала 1923 года, и пообещаю после этого отослать Бруно в Австралию.
— А что потом?
— А потом, боюсь, захвораешь ты, дорогая, и гораздо серьезнее, чем я. Поэтому твоя болезнь затянется надолго.
— По-моему, глупо предполагать, что Лансель пойдет на это из-за того, что кто-то из нас болен, — возразила маркиза. — Этот человек отправился на войну, когда Лаура ждала ребенка.
— Именно на это я и рассчитываю. Он не мог забыть, как наша бедная девочка умоляла его не покидать ее. Он понимает, что, останься он рядом с ней на несколько месяцев, Лаура была бы сейчас жива. А если он все же забыл, какая на нем вина, поверь, мое письмо напомнит ему об этом. Он не захочет, чтобы на его совести была еще одна смерть. Более того, я напишу ему, если он до сих пор еще не понял этого, что Бруно не знал другой матери, кроме тебя, и усомнюсь, может ли он отобрать ребенка у умирающей матери.
— Сколько может тянуться моя смертельная болезнь? — спросила суеверная маркиза с дрожью в голосе.
— К счастью, очень долго. К твоим услугам лучшие в Европе врачи и самые надежные методы лечения. К тому же ты выносливая женщина. Несмотря на обострения и осложнения… в тебе еще будет теплиться жизнь, но только благодаря живительному присутствию Бруно, который составляет единственный смысл твоего существования. Таким образом мы протянем… по меньшей мере года полтора, возможно, два. А потом… Кто знает, что может случиться за это время?
— Что, если Лансель решит неожиданно приехать к нам без предупреждения и забрать Бруно?
— Вздор! Он не может добраться сюда из Австралии в мгновение ока. Это долгий путь. Как и все первые секретари посольств, он сильно загружен… А уж я позабочусь о том, чтобы меня постоянно информировали, как обстоят у него дела. И, уверяю тебя, мои друзья на набережной Орсэ не допустят, чтобы он на несколько месяцев оставил свой пост ради устройства сугубо личных дел. Однако…
— Что?
— Когда-нибудь он непременно приедет к нам.
— Бруно сейчас семь. Можем ли мы надеяться, что Лансель заявит права на сына не раньше чем через четыре года?
— Надеюсь, что не раньше, и тогда Бруно будет одиннадцать. Он будет уже не ребенком. И к тому времени станет настоящим Сен-Фрейкуром, Сен-Фрейкуром до мозга костей.
В 1924 году, после пяти лет работы в Австралии, Поль де Лансель получил назначение в Кейптаун на пост генерального консула. Трудности переезда и устройства на новом месте заставили его отложить давно запланированную поездку в Париж, и он опять не смог ни проведать хворавшую маркизу де Сен-Фрейкур, ни забрать наконец к себе Бруно. Частые письма с фотографиями, которые он получал от маркиза и самого Бруно, избавляли Поля от тревоги за сына. Судя по письмам, мальчик был вполне счастлив и доволен жизнью в Париже, куда его бабка и дед вернулись в 1923 году. Казалось, он не испытывал недостатка в друзьях и развлечениях с тех пор, как познакомился со своими кузенами, кузинами и прочими родственниками со стороны Сен-Фрейкуров.
Однако Полю становилось все труднее и труднее осознавать, что у него в самом деле есть сын, которого он видел лишь однажды, в первый год войны, новорожденным младенцем и который прожил более девяти лет вдали от него. Если бы не служебные обязанности, заставлявшие его мотаться по всем уголкам Земли, мальчик вернулся бы к нему сразу после окончания войны. Из-за болезней маркиза и маркизы де Сен-Фрейкуров создалась невыносимая ситуация, однако Поль чувствовал себя слишком обязанным старикам за их заботу о Бруно во времена военного лихолетья и не мог внезапно забрать у них сына. Это было бы последним трагическим ударом для людей, и так уже слишком много потерявших.
Каждое письмо от них напоминало ему об утрате Лауры. Они писали ему со стоическим постоянством. Все их письма были исполнены самообладания. Как подозревал Поль, они заставляли себя писать ему так, чтобы не растравлять его собственные душевные раны.
И все же Бруно его сын, а место сына рядом с отцом. Ситуация сложилась неестественная, хотя и обусловленная прошлым. В том, что все так сложилось, никто не был виноват и вместе с тем виноваты были все. Поэтому, решил Поль, едва он устроится в Кейптауне и дела в консульстве пойдут на лад, а Ева с девочками удобно разместятся в новом доме, он поедет в Париж и не вернется назад без Бруно.
Сильно волнуясь, Поль де Лансель шел по улице Варне к школе, в которой учился Бруно. Стоял июнь 1925 года. Поль только что прибыл в Париж и незамедлительно нанес визит больной маркизе де Сен-Фрейкур. Сколько ей, должно быть, стоило сил принять его в своих покоях, думал Поль. Для такой гордой женщины, как маркиза, — истинное унижение предстать перед гостем беспомощно распростертой на постели в вышитой кофте, прикрывающей ночную сорочку. Она выглядела очень бледной и говорила с большим трудом, хотя утверждала — иначе и быть не могло, — что уже поправляется. Наверное, у нее рак, решил Поль. В своих письмах маркиз де Сен-Фрейкур неохотно писал о болезни жены, но такие симптомы, судя по опыту Поля, всегда означали рак.
Маркиз по-прежнему говорил, что только присутствие Бруно удерживает маркизу на этом свете. Конечно, сказал себе Поль, маркиза больше думает о будущем Бруно, чем о своих мучениях. Поль заметил, что она подавила отчаяние, когда он заявил о своем намерении забрать Бруно с собой, однако не сделала попытки отговорить его. Возможно, она предчувствует близкий конец и потому проявляет такое самопожертвование? Может, у нее уже нет сил даже попытаться удержать мальчика возле себя, или маркиза бескорыстна?
Ему никогда ее не понять, решил Поль, подходя к школе. Маркиза де Сен-Фрейкур принадлежала к этой части Парижа, к этому огражденному от мира, закрытому для чужаков тайному сердцу «старого режима», с его огромными, величественными домами, похожими на серые крепости, с его дворами, защищенными могучими стенами, за которые не дано проникнуть незваному гостю. Мир этот был абсолютно чужд Полю, выросшему, словно дитя вечно обновляющейся природы, на вольном воздухе Шампани и свободно бродившему по замку и окрестностям Вальмона в сопровождении любимых псов. Хотя у старших Ланселей хватало забот с виноградом и поддержанием на должной высоте чести «марки», они строго придерживались предписываемых традициями норм поведения, размышлял он, однако в Седьмом округе Парижа, где все еще жили потомки родовитых французских дворян, благоговение перед памятью предков витало в воздухе, подобно фимиаму.
Обогнув угол, Поль остался ждать на тротуаре перед входом в школу. Бруно должен был появиться на улице через несколько минут. Мальчик знал о приезде отца в Париж, но Поль не написал, что намерен забрать его к себе. Это, решил он, надо будет сообщить сыну при встрече.
Массивные двери школы распахнулись и выпустили на солнечный свет первую группу мальчиков. Совсем малыши, сразу увидел Поль. Бруно не мог быть среди них. Поль мучился тревожным ожиданием. Он полагал, что будет лучше, если его первая встреча с сыном произойдет на свежем воздухе, но теперь ему безумно захотелось оказаться в церемонной обстановке салона Сен-Фрейкуров: присутствие посторонних могло сгладить трудности этого долго откладывавшегося свидания.
Из школы выскочила еще одна стайка мальчиков, одинаково одетых в синие куртки и серые фланелевые шорты, со школьными кепочками на головах и тяжелыми коричневыми сумками через плечо. Прежде чем разбежаться, они задержались перед входом, оживленно переговариваясь и смеясь.
Самый высокий из мальчиков подошел к Полю.
— Добрый день, отец, — спокойно поздоровался Бруно, протягивая отцу руку.
Поль рассеянно пожал ее, слишком удивленный, чтобы сказать хотя бы слово. Он не думал, что десятилетний Бруно окажется таким рослым, словно четырнадцатилетний подросток. Голос Бруно оставался еще по-детски высоким и чистым, однако его рукопожатие было сильным, а черты лица уже вполне сформировались. Поль, недоуменно моргая, удивленно смотрел на своего сына, на его темные волосы, превосходно подстриженные и аккуратно причесанные. Карие, с зелеными искорками глаза с любопытством разглядывали его. У мальчика был тонкий, с небольшой горбинкой нос Сен-Фрейкуров и неожиданно маленький, улыбающийся рот — единственная неприятная черта этого красивого лица, в целом замечательного своим целеустремленным и решительным выражением.
Обнаружив, что идет по улице бок о бок с Бруно, Поль, к своему стыду, понял, что упустил момент, когда мог и должен был обнять сына. Может, оно и к лучшему, объятия и ритуальный поцелуй наверняка лишили бы мальчика самообладания, которое, конечно же, давалось ему с большим трудом, успокоил себя Поль.
— Бруно, ты не можешь вообразить, как я счастлив наконец увидеть тебя, — сказал он.
— Я такой, как вы предполагали, отец? — вежливо спросил Бруно.
— Намного лучше, Бруно, намного.
— Бабушка говорит, что я очень похож на мать, — спокойно продолжал Бруно, и, глядя на его шевелящиеся губы, Поль внезапно понял, что этот маленький, с пухлыми губами рот был ртом Лауры. Странно и неприятно видеть его на мужском лице.
— Да, ты действительно очень на нее похож. Скажи, Бруно, тебе нравится в школе? — Уже задав этот вопрос, Поль проклинал себя за его банальность. Каждый ребенок, наверное, слышит такое от всех взрослых подряд, но Бруно внезапно повеселел, и его по-взрослому чопорное спокойствие сменилось детским энтузиазмом.
— Это лучшая школа в Седьмом округе, и знаете, отец, я учусь лучше всех мальчиков в классе.
— Рад это слышать, Бруно.
— Спасибо, отец. Есть два мальчика, которые наверняка отводят занятиям гораздо больше времени, чем я, но у меня отметки все равно лучше. Я совсем не боюсь экзаменов. Чего бояться, если по-настоящему подготовлен? Мои лучшие друзья Жоффрей и Жан-Поль заставляют меня стараться, но пока я учусь лучше их. Когда-нибудь мы трое будем править Францией.
— Да ну?!
— Правда! Так говорит отец Жан-Поля, а он — президент Государственного Совета. Он говорит, что только юноши, начинающие так, как мы, могут взойти на вершину власти. Будущим лидерам Франции суждено выйти из нескольких парижских школ, поэтому у нас есть шанс. Моя цель — стать премьер-министром Франции, отец.
— Не слишком ли рано выбирать карьеру?
— Вовсе нет. Если я не решу этого вопроса сейчас, потом будет поздно. Жоффрей и Жан-Поль не старше меня, но все мы прекрасно понимаем, что должны очень хорошо зарекомендовать себя на выпускных экзаменах… До них всего несколько лет. Потом нам придется выдержать вступительные экзамены в Институт изучения политики. Но, закончив его, мы… ну, тогда мы придем к власти. Тогда это будет просто состязание с другими выпускниками, но сейчас еще рано об этом думать.
— Отлично, — сухо похвалил Поль.
За годы, проведенные вне страны, он почти забыл об элитарном сознании правящих классов Франции и соответствующем образе мыслей, построенном на идее своего интеллектуального превосходства. Это было обусловлено и учением в привилегированных школах. Эта система эффективно препятствовала проникновению в правительство Франции выходцев из других сословий. Отстающих и неуспевающих безоговорочно изгоняли — так происходил отбор и раннее формирование самых блестящих умов. Поль никогда не задумывался о том, что именно такой путь предначертан Бруно. Он не замечал в письмах сына амбиций, столь явственно обозначившихся сейчас. Правда, эти письма всегда были краткими и безликими.
— Бруно, ты когда-нибудь развлекаешься или занят только учением? — спросил Поль, представив себе мальчика, тратящего все время на занятия, и обеспокоенный этим.
— Учением? — коротко рассмеялся Бруно. — Конечно нет. Дважды в неделю я занимаюсь фехтованием. Учитель очень доволен моими успехами, но важнее всего для меня — верховая езда, отец. Разве дедушка не прислал вам мою фотографию — ту, где я верхом на лошади? Я уже тренируюсь в выездке, потому что… о, только не смейтесь надо мной, отец, но я хочу когда-нибудь выступить в этом виде спорта за олимпийскую команду Франции. Это самая большая моя мечта.
— Я думал, ты хочешь стать премьер-министром, разве не так?
— Вы смеетесь надо мной! — обиделся Бруно.
— Нет, Бруно, совсем нет, я только поддразниваю тебя. — Похоже, у его сына нет чувства юмора, подумал Поль. Следует помнить, однако, что Бруно еще ребенок, несмотря на его честолюбивые стремления. — Не вижу препятствий к тому, чтобы ты реализовал обе свои мечты.
— Верно, дедушка говорит то же самое. Я езжу верхом каждый день после занятий и во время школьных каникул. Конечно, я слишком рослый для пони, но у моего кузена Франсуа много прекрасных лошадей, и он живет недалеко от Парижа. Я езжу к нему, когда у меня выдается свободное время. На прошлую Пасху я провел в его замке все каникулы. Его дети прекрасные наездники, и мы с ними собираемся следующей зимой участвовать в охоте, хотя все говорят, что мы еще слишком малы для этого. Но я не могу дождаться, когда это наконец произойдет!
Разговаривая, они прошли несколько кварталов. По пути Бруно рассказывал Полю о тех, кто живет в огромных домах, мимо которых они проходили. Казалось, все они, кроме посольств, принадлежат родителям его одноклассников. Похоже, не было ни одного дома, где бы Бруно не играл с товарищами и не облазил бы все чердаки и подвалы.
— Это единственная часть Парижа, где все хотели бы жить, вы согласны, отец?
— Возможно, ты прав, — ответил Поль.
— Я в этом уверен, — выразительно отрезал Бруно, напомнив маркиза де Сен-Фрейкура. — Здесь сосредоточено все самое важное. Даже Институт политики находится лишь чуть дальше по этой улице.
— Бруно…
— Да, отец?
Поль оттягивал момент, когда придется сказать Бруно, что он забирает его в Кейптаун.
— Я привез тебе несколько фотографий. — Поль остановился и достал несколько снимков Евы с девочками, сделанных в саду их дома. — Вот, посмотри, это твои сестры.
Бруно взглянул на фотографию маленьких девочек.
— Очень симпатичные, — вежливо заметил он. — Сколько им сейчас?
— Дельфине семь, а Мари-Фредерик… она требует, чтобы мы называли ее Фредди — пять с половиной. Здесь они чуть моложе.
— Прелестные девочки, — сказал Бруно. — Я мало общаюсь с маленькими девочками.
— А это моя жена.
Глаза Бруно быстро скользнули по лицу Евы.
— Твоя мачеха очень хочет познакомиться с тобой, Бруно.
— Она — ваша жена, отец, но мне она не мачеха.
— Что ты хочешь этим сказать? — оторопел Поль.
— Мне не нравится это слово — мачеха. У меня была мать, у меня есть две бабушки, но мачеха мне не нужна.
— Кто внушил тебе эту мысль?
— Это не мысль, а чувство. И никто мне его не внушал, я всегда так чувствовал, сколько себя помню. — Голос Бруно в первый раз дрогнул.
— Бруно, ты говоришь так только потому, что совсем не знаешь ее. Уверяю тебя, если бы ты познакомился с ней, это чувство прошло бы.
— Уверен, что вы правы, отец. — Быстрая уступка Бруно сразу закрыла тему.
Поль взглянул на сына. В профиль его черты казались еще более четкими и сформировавшимися. Он спрятал фотографии в карман пиджака.
— Послушай, Бруно. Думаю, тебе пора перебраться ко мне, — твердо произнес он.
— Нет! — воскликнул мальчик, резко вскинув голову.
— Мне понятна твоя реакция, Бруно. Я так и думал. Эта мысль нова для тебя, но не для меня. Я твой отец, Бруно. Твои дедушка и бабушка — прекрасные люди и любят тебя, но они никогда не заменят тебе отца. Ты должен быть подле меня, пока не повзрослеешь.
— Я уже взрослый.
— Нет, Бруно, пока ты ребенок. Тебе еще не исполнилось и одиннадцати.
— При чем здесь мой возраст?!
— Возраст всегда важен, Бруно. Ты очень развит для своих лет, но этого недостаточно, чтобы быть взрослым. Для этого нужно иметь большой жизненный опыт, который позволяет понимать себя и других людей лучше, чем это доступно тебе сейчас.
— Но у меня нет лишнего времени! Вы же понимаете, что, если я уеду жить к вам хотя бы на один-единственный год, я отстану и окажусь за бортом! Жоффрей и Жан-Поль обгонят меня, и я никогда не смогу наверстать упущенное. Это сломает всю мою жизнь! Вы же не думаете, что они станут дожидаться меня, правда?
— Я говорю не об одном годе, Бруно, я говорю о другой жизни.
— Мне не нужна другая жизнь! — пылко возразил Бруно. В его голосе внезапно зазвучали страдальческие нотки. — О такой жизни, как моя, можно только мечтать… У меня есть друзья, школа, планы на будущее, родственники, дедушка и бабушка. И вы хотите лишить меня всего этого только затем, чтобы я жил с вами?! Я потеряю все! И никогда не смогу стать у руля страны! — В голосе Бруно появились истерические нотки. — Я никогда не смогу выступить за Францию на Олимпийских играх, потому что вы ни с того ни с сего решили взять меня к себе, будто я вещь, которой можно распоряжаться! Я никуда не поеду! Вы не можете меня заставить! Не имеете права!
— Бруно…
— Вас не волнует, что значит для меня этот отъезд?
— Конечно волнует… Я хочу взять тебя к себе ради твоего блага…
Поль замолчал. Он вдруг понял, как неубедительно звучат его слова. Что он может предложить Бруно взамен того, что мальчик уже имеет, кроме себя самого — отца, по которому Бруно, совершенно очевидно, никогда не тосковал? Он оторвет мальчика от дома, ставшего ему родным, и единственной известной и понятной ему жизни, разрушит все его связи и критерии, формировавшиеся с раннего детства. Это столь же сомнительное «благо», как взять животное из зоопарка и выпустить его на волю. Мальчик будет несчастлив вне атмосферы Седьмого округа Парижа.
— Бруно, оставим пока эту тему. Я обдумаю все, что ты сказал. Но этим летом ты обязательно должен приехать к нам в гости, хотя бы на месяц. Я настаиваю, по крайней мере, на этом. Может, тебе понравится у нас… как знать?
— Конечно, отец, — согласился Бруно, внезапно успокоившись.
— Отлично, — обрадовался Поль. Месяц, проведенный в семье, может все изменить. Ему следовало предложить это с самого начала. Напрасно он сразу напугал мальчика. Надо было… Все крепки задним умом.
— Вот мы и дома, отец. Не зайдете ли на чашку чаю? Дедушка уже, наверное, вернулся.
— Спасибо, Бруно, сейчас мне нужно в гостиницу. Я зайду завтра, если смогу.
— Конечно сможете… и, если захотите, я возьму вас с собой на урок фехтования.
— Разумеется, я с удовольствием пойду с тобой, — печально согласился Поль.
* * *
— Ну? — нетерпеливо спросил у вошедшего Бруно маркиз де Сен-Фрейкур.
— Вы были правы, дедушка.
— Как все прошло?
— Почти так, как вы предполагали. Я сказал ему слово в слово все, о чем мы с вами договорились. Он хотел, чтобы я взглянул на фотографию той женщины… Это единственное, чего я от него не ожидал. Никогда не думал, что он осмелится показать мне ее фотографию. Но я твердо дал ему понять… Я же говорил вам, что смогу это сделать. Вам не о чем беспокоиться.
— Я горжусь тобой, мой мальчик. Иди скажи бабушке, что она может встать с постели и присоединиться к нам. Мы не знали, зайдет ли он на чашку чаю, поэтому у нас не оставалось выбора, а? И, Бруно…
— Да, дедушка?
— Тебе не кажется, что следует прилежнее учиться в школе, если ты отныне вознамерился возглавить страну?
— Францией управляют чиновники и бюрократы, а не аристократы, — насмешливо откликнулся Бруно. — Разве не этому вы всегда меня учили?
— Верно, мой мальчик.
— Но я в самом деле собираюсь выступать на Олимпийских играх, — добавил Бруно с льстивой улыбкой на маленьких пухлых губах. — Поэтому, надеюсь, вы подумаете над тем, чтобы подарить мне жеребца. У всех моих кузенов есть собственные лошади.
— Эта мысль приходила мне в голову.
— Благодарю вас, дедушка.
6
— Меня могли назначить и в Улан-Батор, подумай об этом, дорогая, — сказал Поль, желая отвлечь Еву от созерцания бесконечной пустыни за окном вагона. Поезд, на котором они ехали, был самым скоростным из существовавших в этой стране в 1930 году, однако казалось, он едва ползет.
— Улан-Батор? — переспросила Ева, поворачиваясь к мужу.
— Да, это столица Внешней Монголии.
— Внешней или Внутренней? Ладно, можешь не отвечать. Но ведь это мог быть и Годхавн, — возразила Ева.
— Гренландия? Нет, такого быть не могло. Гренландия слишком близко к Европе. — Поль саркастически усмехнулся.
— Острова Фиджи? — предположила Ева. — Разве тебе там не понравилось бы? Там очень много зелени, особенно по сравнению с этим пейзажем. — Она презрительно ткнула пальцем в направлении сверкающей на солнце песчаной пустыни.
— В Суве, конечно, превосходный климат, но, как я понимаю, там плоховато с культурой.
— Зато это столица государства. Разве тебе не хотелось бы, чтобы тебя называли «месье посол»?
— Послом? Мне всего сорок пять. Я еще слишком молод для этого, тебе не кажется?
— Кажется, кажется. Ты непозволительно молод и слишком красив для посла. Если бы тебя назначили послом, это стало бы ужасным испытанием для женщин Фиджи. Я слышала, они не могут устоять перед французами, и это было бы несправедливо по отношению к ним, — сказала Ева, многозначительно сжимая руку мужа.
— Что значит, не могут устоять перед французами? — отрывисто спросила Фредди. Глаза, которые она устало закрыла всего несколько минут назад, вытаращились от жгучего интереса.
— Ох… это значит, что они считают французов настолько милыми и привлекательными, что готовы сделать для них все, ну все, чего бы они ни пожелали, — смеясь и поглядывая на Еву, ответил Поль.
— Что, например? — не отставала Фредди.
— Ну… Вот тебе пример, я — француз, поэтому ты у меня хорошая девочка и делаешь все, что я тебе говорю.
— Папа, не говори глупостей, — хихикнула Фредди.
— Это плохой пример, папа, — поджала губки Дельфина. — Фредди всегда все делает наоборот, но я действительно не могу устоять перед французом, — жеманно сказала она и одарила Поля улыбкой женщины, умеющей с рождения пользоваться своим обаянием.
— Неправда, я не всегда все делаю наоборот, — вспыхнула Фредди. — Помнишь, когда ты подговорила меня нырнуть с высокой подкидной доски в клубе, я нырнула и столбиком вошла в воду? А помнишь, ты сказала, что я не смогу забраться на нового пони и прокатиться на нем без седла, а я прокатилась, и он даже не попытался укусить меня? А еще помнишь, ты поспорила со мной, что я не смогу победить в честной драке этого здоровенного толстяка Джимми Элбрайта, а я запрыгнула ему на спину и хорошенько его отколотила? А когда ты подговорила меня покататься на машине…
— Фредди! Дельфина! Сию же минуту прекратите! — повысила голос Ева. — Мы почти приехали. На вокзале нас будут встречать. Фредди, тебе надо помыть руки, как, впрочем, и лицо, и коленки… Ох, только посмотри на свои локти! Как ты умудрилась испачкать локти в поезде? Господи, а что с твоим платьем? Где ты его так измяла? Нет, нет, ничего не объясняй, не хочу ничего знать. С твоими волосами я сама попытаюсь что-нибудь сделать. Дельфина, дай-ка я посмотрю на тебя. Хорошо, я полагаю, тебе тоже не помешает лишний раз помыть руки, хотя в этом, похоже, нет особой необходимости.
— Они у меня чистые.
— Я так и говорю. Как тебе удалось сохранить их такими чистыми после целого дня в дороге… Нет, нет, молчи, я и сама знаю. — Дельфина частенько застывала, погрузившись в мечты, тогда как Фредди не могла ни минуты усидеть на месте. Поглядев на Поля, Ева закатила глаза и вздохнула.
Путешествие из Кейптауна к новому месту назначения Поля заставило их объехать более половины земного шара. Последний этап этого пути, длившегося несколько недель, прошел в купе, где они с Полем постоянно были на виду у своих дочерей — больше, чем когда-либо с тех пор, как девочки подросли.
Конечно, нет ничего противоестественного в том, что родители провели три дня с дочерьми, одной из которых двенадцать, а другой — десять с половиной лет. Но это было довольно трудно, хотя, уж разумеется, не труднее, чем гнетущее зрелище огромной пустыни, по которой они ехали, казалось, бесконечно долго. Сейчас Ева просто не могла поверить, что пункт их назначения будет похож на те центры цивилизации, где она привыкла жить. Правда, Канберра и Кейптаун — всего лишь колониальные города, но в них были сильны британские традиции, а это создавало ощущение надежного уклада жизни.
Ева любила свой большой дом в Кейптауне с превосходным видом из окон. Штат консульства состоял из людей на редкость приятных, однако отказаться от нового назначения для профессионального дипломата все равно что не иметь собственного фрака. Вообще, это назначение следовало считать повышением. Правда, город, куда они направлялись, лишь пятый по величине в новой для них стране, и Поль по-прежнему оставался только генеральным консулом, то есть был так же далек от посла, как и раньше, но здесь он возглавит местную французскую общину, пусть даже и небольшую. Поль всегда философски-иронично относился к своей далеко не блестящей карьере, но Ева, и не обсуждая с ним этого, видела — муж глубоко разочарован, что его снова назначили на пост, не дающий никакой реальной власти. Что ж, они как всегда сделают хорошую мину при плохой игре. Господа, принимавшие столь важные решения, были весьма злопамятны: для них Ева до сих пор оставалась отступницей и бывшей певичкой мюзик-холла. Однако они с Полем по-прежнему любили друг друга и детей, и это было самым важным для них.
Поезд замедлил ход, и, выглянув в окно, все четверо Ланселей увидели приближающийся город. Пустыня наконец кончилась. Мимо замелькали жилые дома и небольшие здания, затем — здания побольше, отличающиеся крайним безобразием, и автомобили. Наконец показался огромный вокзал.
По вагону забегали три проводника, перенося к выходу их багаж. Фредди, проявляя характерное для нее нетерпение, вскочила с ногами на сиденье и пыталась разглядеть, что впереди. Она так вывернула шею, что у нее с головы свалилась шляпка. Дельфина между тем проверяла с помощью маленького зеркальца, вделанного в крышку ее сумочки, хорошо ли сидит шляпка на ее гладких волосах. Поезд еще больше замедлил ход, и Еву внезапно охватило странное чувство, что Австралия, Южная Африка и эта новая страна столь же далеки от реальности, как и диковинные декорации, придуманные Жаком Шарлем для представлений «Казино де Пари».
— Прибыли, — объявил, входя в купе, проводник.
— Ну вот, любовь моя, мы и приехали, — сказал Поль, подавая Еве руку.
— Папа, можно задать тебе один вопрос, пока мы еще не прибыли? — спросила Фредди.
— Вроде тех, которыми ты донимала меня всю дорогу?
— Примерно.
— Тогда задай его проводнику. Ты его сегодня еще ни о чем не спрашивала.
— Сэр, — обратилась к проводнику Фредди, — этот город действительно называют Городом Ангелов?
— Да, мисс. Добро пожаловать в Лос-Анджелес.
Два месяца спустя, вместо того чтобы переодеваться к ужину, Ева присела на подоконник в спальне послушать воркование голубей, возвещавшее приближение вечера. Птицы гнездились в апельсиновой аллее, окаймлявшей подъездную дорожку к их дому, расположенному в районе Лос-Фелиз — гостеприимном пригороде, примыкающем с северо-запада к деловому центру Лос-Анджелеса.
Благоухание цветов апельсиновых деревьев и только-только распускающегося жасмина смешивалось в саду с одуряюще-сладким ароматом сотен цветущих розовых кустов. Есть ли на Земле, с благоговением спрашивала себя Ева, другое место, где весна тянется так же долго и дарит столь божественные ароматы? Или Лос-Анджелес — средоточие самых приятных запахов во Вселенной? Ева дышала и не могла надышаться благоуханием сумерек, когда деревья и цветы начинали источать свои ароматы.
Ко времени их приезда, в феврале, в Лос-Анджелесе уже стояла весна. Вовсю цвели лимонные деревья, наполнявшие воздух пронзительно свежим и сладким ароматом, желто-фиолетовые анютины глазки, крошечные фиалки, бледно-желтые английские примулы, распускались незабудки. Весна продолжилась в марте, пробудившем к жизни первые ирисы и тюльпаны, высокие лилии, росшие в самых неожиданных местах, и кустики великолепной гардении, осыпанной мелкими белыми соцветиями, настолько душистыми, что одно соцветие могло наполнить благоуханием целую комнату. Теперь весна, к удовольствию Евы, наступила в третий раз за три месяца. В саду, как бы соперничая друг с другом, распустились жимолость, жасмин, водосбор, душистый горошек, наперстянка и шпорник, словно весна пришла в Сассекс, а не в Лос-Анджелес. Да, в ее саду росли по соседству наперстянка и тюльпаны, английские садовые цветы распускались в тени крупнолистных тропических растений. Сине-фиолетовая ягоранда из другого полушария мирно возвышалась рядом с типично французской гидрогенией. Разве такое возможно, или это страна вечной весны?
Это было бы слишком. Французскую душу Евы и так смущала бесконечная щедрость здешней земли, которая, попирая все законы ботаники, объединяла, казалось, несовместимое — деревья и цветы различных климатических зон. Ева вспомнила апрель в Париже: дождь, холод, и маленькое, очень нужное утешение в виде букетика первых мимоз, выросших на холмах близ Канн и купленных в киоске возле метро. Эти причудливые и довольно жалкие цветы с ностальгическим запахом и пушистыми желтыми соцветиями-однодневками назавтра же осыпались. Пожалуй, их любили только за то, что у них вообще хватало смелости появиться на свет. Вот какая весна была для нее привычна и знакома — печальная и скудная на радости, наполненная единственной мечтой о наступлении солнечного июля. А эта чудесная земля слишком прекрасна, чтобы существовать на самом деле, не так ли?
Впрочем, зачем обсуждать дары Господа, спросила себя Ева, их надо с благодарностью принимать. Лаперуз, первым ступивший в 1786 году на землю Калифорнии, конечно не задавался подобными вопросами. Ни Луи Бушет, посадивший первый виноградник на Мейси-стрит в 1831 году, ни Жан-Луи Винье, последовавший его примеру годом позже, не тратили попусту времени на философские размышления о необычной щедрости местного климата.
В 1836 году в Лос-Анджелесе проживало не больше десятка французов. Теперь же, чуть менее века спустя, французская община Лос-Анджелеса насчитывала в общей сложности двести тысяч человек. Ясно, как привлекательна эта земля для людей, подумала Ева и устало потянулась после утомительного дня, проведенного в обществе дам, таких энергичных, каких она еще не видывала.
Еве, в сущности, было безразлично, сколько французов живет в Лос-Анджелесе — двести тысяч или два миллиона. Все утро у нее ушло на бесконечно затянувшееся собрание в зале заседаний Французского Благотворительного Общества, где обсуждалась администрация Французского госпиталя Лос-Анджелеса, затем последовало собрание женского отделения Общества Святого Винсента де Поля. Собрание Благотворительного общества французских дам отняло у Евы весь день. Ей удалось избежать только обязательного посещения «Галльской рощи» — местного отделения общества друидов, «кружка Жанны д'Арк» и «Сообщества эльзасцев и лотарингцев».
Если бы только друиды, почитатели Жанны д'Арк и уроженцы Эльзаса могли собраться вместе с членами дюжины других французских организаций и сформировать один большой клуб по интересам, она бы так не уставала, лениво размышляла Ева.
Привычка состоять в нескольких обществах сразу и буйный дух американских граждан вкупе с превосходным, свойственным всем француженкам умением вести бесконечные разговоры делали нескончаемыми обязанности, которые лежали на плечах жены генерального консула Франции. В сравнении с нынешней загруженностью жизнь в Канберре и Кейптауне казалась сейчас Еве тихой и провинциальной.
Но, несмотря на вечную усталость, Ева была счастлива. Поль целыми днями пропадал на службе, управляя делами большого консульства на Першинг-сквер. Девочки, казалось, привыкли к жизни в Калифорнии скорее, чем отправились спать в первый вечер, проведенный в новом доме.
Ева подозревала, что их мгновенное привыкание произошло благодаря появлению мороженщика, чьи колокольчики зазвенели рядом, едва семья Ланселей остановилась перед своим новым домом. Он бесплатно вручил каждому из них по эскимо, и, слопав по порции ванильного мороженого, покрытого ломким, хрустящим шоколадом, Фредди с Дельфиной обнаружили у себя в руках желанные «счастливые палочки».
Получить «счастливую палочку» считалось хорошим предзнаменованием в этом краю, где каждый новый день сулил бесконечные возможности, пусть даже это были всего лишь незрелые ягоды кумквата с бульвара Франклина, которыми Фредди набивала рот по дороге в школу. Дельфина вместе с подругами спокойно следовала поодаль, делая вид, что они вовсе не сестры, пока Фредди дурачилась, гримасничала и скакала по тротуару, в общем вела себя так, словно еще не выросла из длинного поводка, к которому Еве приходилось пристегивать дочь в ее самые буйные годы в Канберре.
Нет никаких сомнений, думала Ева, Фредди на роду написано удрать из дома. Ее первым словом было «туда», а первым побуждением — преодолеть все, что лежало у нее на пути, мешая добраться до выхода из комнаты. Едва научившись ходить, она облазила каждую пядь земли вокруг дома и тут же начала обследовать пространство за забором.
— Только поднятая соседями тревога уберегла ее от похода по Диким Землям[6], — сокрушался Поль, мастеря для девочки помочи, которые позволяли ей гулять по всему двору, но не давали возможности выйти на улицу.
«Эта пошла в меня», — сначала тайно радовалась Ева, лишь немного опасаясь за дочь. Однако вскоре стало очевидно, что мадемуазель Ева Кудер была просто благовоспитанной девицей по сравнению с мисс Мари-Фредерик де Лансель. Этот ребенок хотел летать!
— Она отчетливо произнесла «я хочу летать», — рассказал Поль Еве задолго до того, как Фредди исполнилось три года. — Она повторила эту фразу пять раз. При этом она гудела, как маленькие самолеты из аэроклуба, и бегала по комнате, размахивая руками.
— Это очередное детское увлечение, дорогой. Наверняка все дети хотят летать, как феи из сказок, — ответила тогда Ева.
— Она имела в виду, что хочет летать на самолете. Ты знаешь ее не хуже меня. Она всегда высказывает то, о чем думает, — серьезно возразил Поль.
— Откуда у нее подобная мысль? Она, скорее всего, хочет, чтобы ее покатали на самолете.
— Откуда ей знать, что на самолетах можно кататься?
— Уверяю тебя, дорогой, не я внушила ей эту мысль. И если уж на то пошло, откуда она узнала, что люди летают на самолетах? Здесь не о чем беспокоиться… Она, вероятно, воображала себя самолетиком, — предположила Ева.
И забыла об этом разговоре, пока годом позже Фредди, мирно игравшая в своей комнате, не выпрыгнула из окна второго этажа, держа над собой небольшое одеяло и, очевидно, надеясь, что оно заменит ей крылья. Она приземлилась в густые кусты, поэтому дело обошлось лишь ушибами и синяками. Когда насмерть перепуганная Ева прибежала спасать дочь, та уже выбралась из кустов, разочарованная, но ничуть не обескураженная, и серьезно заявила:
— Надо было спрыгнуть с крыши, тогда бы это сработало.
Еве было тридцать четыре года, однако, прислушиваясь к воркованию голубей, она ощущала себя и старше, и моложе. Старше из-за распорядка дня, подчиненного выполнению официальных обязанностей, а моложе, потому что жила на вершине холма, в доме, который мог вести свой род от классической испанской гасиенды с ее арками и балконами, двориками и фонтанами, крышей, покрытой красной черепицей. Старше потому, что у нее были две красивые, быстро взрослеющие дочери, каждая из которых по-своему сводила ее с ума, а моложе потому, что она собиралась сегодня идти на бал в длинном черном шелковом платье от Говарда Грира, волнующем и открытом, как и любое вечернее платье, держащееся на плечах лишь на ниточках из искусственных бриллиантов. Старше из-за того, что она была женой генерального консула Франции, а моложе потому, что ее волосы свободно падали на плечи мягкими волнами, как у русалки. Такова была мода времени, и в соответствии с нею она красила губы ярко-красной помадой, не жалела туши для ресниц, подводила брови карандашом, накладывала тени на веки и носила минимум нижнего белья. Моложе потому, что жила она в Голливуде, где все были намного моложе других людей в мире. Повинуясь настроению, Ева закружилась в танце по спальне, бессознательно напевая мелодию «Последнего танго». Насмешливый припев этой песенки: «Танцуй свое танго!», много лет назад шокировал ее тетку, когда она впервые услышала его.
Строительство «Грейстоуна» — поместья, равного которому еще не было в Лос-Анджелесе, завершилось в 1928 году. Если бы его возвели веком раньше во Франции или в Англии, оно считалось бы превосходной резиденцией, не претендующей на звание замка. Общая площадь его пятидесяти пяти комнат не превышала полутора тысяч квадратных метров, а Доини, разбогатевшие на нефти, ограничивались штатом слуг всего в тридцать шесть человек, что было несравнимо с масштабами «Хижины» Ньюпортов или загородного дома Вандербильтов. Поместье располагалось в ста метрах к северу от недавно проложенной и еще недостроенной сельской дороги, получившей название «бульвар Сансет»: пока там были построены лишь бензозаправочная станция и закусочная под названием «Гейтс Нат Кеттл». В общем, классическому «Грейстоуну», с каменными стенами, выложенными толстыми плитами уэльского сланца, с его сотнями квадратных метров угодий в характерно строгом стиле эпохи Ренессанса, не хватало лишь рва с водой, чтобы почтительное отношение к нему общества поднялось до недосягаемых высот.
Когда мисс Доини давала бал, к ней приходили все.
Ева вцепилась в руку Поля, неожиданно почувствовав робость. Это был их первый большой выход после приезда в Лос-Анджелес. Еве понадобилось столько времени, чтобы познакомиться с жизнью французской части населения города, что она успела завести себе друзей лишь среди местных французов.
Поэтому они с Полем не знали ни нефтяных, ни газетных магнатов, ни владельцев обширных земельных участков под застройку, ни людей из Хенкок Парка или Пасадены, то есть самых богатых и могущественных людей в городе — короче, никого из тех, кто собрался этим вечером у Доини. Среди гостей Ева узнала лишь нескольких самых знаменитых звезд кино, которых пригласили присоединиться к избранному обществу, но те, разумеется, не знали ее.
Даже в такой европейской обстановке непринужденность американцев приводила к тому, что, представляя друг другу незнакомых людей, они опускали одну маленькую деталь: какое место то или иное лицо занимает в местной иерархии. Все это напоминает необычный маскарад, где никогда не угадаешь, кто скрывается под маской, подумала Ева, спускаясь вместе с Полем по лестнице, ведущей к плавательному бассейну. На крыше огромного крытого бассейна играл оркестр. Танцевали внизу, на специально выложенном для сегодняшнего бала деревянном полу. Вполне возможно, подумала Ева, что они покинут этот важный прием, так и не познакомившись ни с кем, кроме тех, кто сидит рядом с ними за ужином. Однако для тех их имена ничего не значили, и им было куда интереснее перекинуться словом с друзьями за другими столиками, чем разговаривать с парой иностранцев.
Когда в 1917 году Ева выходила замуж за Поля де Ланселя, она и не подумала, чем грозит ему подобный союз: зачем размышлять о том, какой будет жизнь «после войны»? Тогда Ева почти ничего не знала о его происхождении, прежней жизни и родственных связях. В ту пору это не волновало ее. Оставив ради него мюзик-холл, она не подумала, что жертвует карьерой ради домашней жизни. А ведь она так упорно готовилась стать звездой мюзик-холла, и именно такое будущее предрекал ей Жак Шарль.
По прошествии долгих лет Ева поняла, что они с Полем пожертвовали друг для друга чем-то очень дорогим. Семья Поля приняла ее неприязненно и настороженно. Его мать не скупилась на слова, давая невестке понять, что, женившись на ней, Поль навсегда лишил себя надежды «сделать карьеру», то есть в будущем стать послом.
Впоследствии Ева поняла, что случилось это не из-за ее провинциальности и буржуазного происхождения и даже не потому, что она пела в мюзик-холле, а из-за отношения к этому браку того мира, к которому принадлежали Лансели, а также и люди, правившие на набережной Орсэ. Ни для кого из них не было различия между ее пением и лихим отплясыванием на сцене полуобнаженных статисток. Женщина, поющая в мюзик-холле, представлялась им лишь немногим лучше уличной проститутки.
Однако Поль женился на ней не по наивности и неведению, понимала Ева. Ему был тридцать один год, и, как профессиональный дипломат, он прекрасно разбирался в закулисных интригах в министерстве иностранных дел. Значит, он женился, отлично сознавая, что Ева — неподходящая для него пара. Нет, не просто «женился», поправила себя Ева и гордо вскинула подбородок: охваченный непреодолимой страстью, он настаивал, требовал, умолял, чтобы она вышла за него замуж.
Но все же Ева чувствовала, что на ней лежит определенная… ну, может, не вина, а… ответственность. Поэтому никогда больше не пела она на публике и за все прошедшие годы даже не упоминала при муже о мюзик-холле. Она не могла перечеркнуть свое прошлое. Но и вспоминать о нем нет необходимости, решила Ева. А потому ни в Канберре, ни в Кейптауне никто не подозревал, что общая любимица мадам Поль де Лансель — эта молоденькая, верная и преданная жена и мать когда-то выступала на сцене.
Но, Боже, как же она скучала по мюзик-холлу. Жак Шарль оказался совершенно прав. Время от времени Еве нестерпимо хотелось ощутить ни с чем не сравнимый трепет, который она испытывала, выходя на сцену, услышать аплодисменты, увидеть огни рампы. Но больше всего ей не хватало музыки. Она пела, аккомпанируя себе на фортепиано, для дочерей, но ведь это несопоставимо с пением на сцене, подумала Ева.
Они с Полем присоединились к сотням гостей Доини на ярко освещенной танцевальной площадке возле бассейна и медленно поплыли в модном ритме фокстрота. Век веселого и легкомысленного джаза миновал, и началась эра роскоши. Вечерний воздух был пропитан ее духом, тяжелым, как рубины, украшавшие Мэри Пикфорд, как бриллианты, сиявшие на Глории Свенсон. Несколько женщин были в таких же, как и у Евы, черных шелковых платьях, но на них было гораздо больше драгоценностей. Среди этого великолепия Ева чувствовала себя зеленой девчонкой из Дижона в одолженной шляпке.
— Могу ли я удостоиться чести пригласить на танец вашу жену, месье консул? — произнес знакомый голос.
Поль оглянулся через плечо, затем с удивленной улыбкой сказал:
— Добрый вечер, месье. Соотечественнику я это позволю.
— Нравится ли вам в Голливуде, мадам? — спросил Еву Морис Шевалье.
— Мне все задают этот вопрос, — рассеянно ответила Ева. Она никогда раньше не встречалась с Морисом Шевалье, но он держал себя так непринужденно и просто, словно они вернулись к недавно прерванной беседе.
— Как же вы отвечаете на него?
— Говорю, что Голливуд мне очень нравится.
— А он вам на самом деле очень нравится? — переспросил Шевалье с искренним любопытством.
— И да, и нет. Голливуд — это нечто… особенное. К здешней жизни трудно привыкнуть…
— Особенно если в памяти светятся фонари Больших бульваров.
— Больших бульваров… — Ева заставила себя произнести эти слова равнодушно; в них не было ни вопроса, ни утверждения, ни намека на продолжение, словно они не имели отношения ни к ней, ни к ее кавалеру, лицо которого показалось Еве до абсурда знакомым.
— Да, Больших бульваров, — повторил Шевалье. — И огни рампы, Мэдди. Огни рампы.
— Мэдди?.. — не веря собственным ушам, произнесла Ева.
— Конечно, я же слышал, как вы пели. Кто однажды слышал пение Мэдди, уже никогда его не забудет. Так утверждали все, и были правы.
— О-о!..
— Я слышал вас в четырнадцатом году в «Олимпии», в тот самый вечер, когда вы впервые появились на сцене, и затем еще раз в том же году, когда вы пели для солдат на фронте. Что это был за вечер! Вы, прекрасная, в безумно смелом красном платье и красных туфельках! У ваших волос был такой оттенок, словно кто-то опустил три спелые ягоды клубники в бокал с шампанским, а затем выставил его на яркий свет… Ах, Мэдди, в тот вечер вы сделали нас, бедных солдат, самыми счастливыми людьми на свете! Это произошло шестнадцать лет назад, а я помню все до мельчайших подробностей, будто это произошло вчера.
— Я тоже… Ах, и я тоже! — воскликнула Ева.
— Тот вечер на фронте? Но разве можно запомнить какой-то один вечер, выступая по всей линии фронта?
— Я помню все эти вечера, — ответила Ева, и на ее глаза набежали слезы.
Морис Шевалье, который с одиннадцати лет пел в трущобах Парижа, чтобы заработать себе ужин, прекрасно понял причину ее слез. Став в двадцать два года звездой мюзик-холла, он продолжал творческие поиски, пока не нашел свой собственный стиль. Он хорошо помнил Мэдди и понимал, что ей пришлось бесследно исчезнуть, превратившись в жену генерального консула. Однако он также хорошо понимал, чего ей это стоило.
— Вы знаете слова «Мими»? — спросил он, сделав вид, что не замечает слез Евы.
— «Мими»? «Моя веселая крошка Мими»? Разве в мире найдется человек, который не знал бы этих слов? — удивилась Ева.
— Вы хотели бы спеть ее или предпочитаете, чтобы мы спели «Люби меня сегодня»? Мы можем спеть это по-английски?
— Спеть? Здесь? С вами? Нет, я не могу этого сделать!
— Да что вы! Такая возможность выпадает не каждый вечер. И, поверьте, я не всем навязываюсь в партнеры.
— Не хочу обидеть вас отказом, только… только я больше не пою.
— Мэдди никогда бы этого не сказала.
— Мэдди никогда бы не упустила случая спеть вместе с Морисом Шевалье. Никогда, — согласилась Ева, отвечая ему и подавляя свое тайное желание.
— Тогда станьте сегодня снова Мэдди, madam la Consule Generale[7]! Что вам стоит?
Ева взглянула на танцующих гостей. Они, не скрываясь, прислушивались к ее разговору с одной из самых ярких звезд, когда-либо посещавших Голливуд. Все эти люди, весь вечер не замечавшие ее, теперь не сводили с Евы зачарованных глаз. Все эти люди, поняла вдруг Ева, вероятно, лишь посмеялись бы, узнав, что певец мюзик-холла считается вечным изгоем. В этой новой, странной, особенной, невероятной и непредсказуемой стране артисты были не шутами, которым милостиво позволяли развлекать благородную публику, а истинными властелинами миллионов душ и сердец.
— Миссис Доини просила меня спеть для гостей, но я отказался, — продолжал Шевалье. — Однако, если вы согласитесь спеть со мной… я изменю решение.
— Хорошо, — быстро согласилась Ева, отрезая себе пути к отступлению. Отступить? Здесь, сейчас? Никогда! Кто сказал, что она не посмеет этого сделать, что у нее не хватит смелости? — Только зовите меня Евой, а не Мэдди, — попросила она.
Рука об руку они двинулись сквозь толпу гостей к бассейну. Танцующие расступались, освобождая им путь. К ним устремился дирижер. Быстро переговорив с ним, Шевалье повел Еву вверх по лестнице. Когда они поднялись на крышу, служившую импровизированной сценической площадкой, он обратился к толпе, внезапно притихшей в благоговейном ожидании.
— Дамы и господа, у меня был трудный день… я сегодня пел. У меня была очень трудная неделя… всю неделю я пел. Более того, у меня был очень тяжелый месяц… весь месяц я пел. Я пришел сегодня сюда только из уважения к миссис Доини, решив посмотреть, как вы танцуете, а не для того, чтобы петь. Но я не мог и вообразить, не смел даже надеяться, что сегодня встречу здесь звезду сцены, мою соотечественницу и коллегу. Ту, у чьих ног лежал весь Париж. Я впервые услышал ее во время войны, она пела для нас, солдат, проявляя мужество и патриотизм. Эта женщина так прекрасна, что я простил ее, хотя она оставила сцену. Но ради чего? Ради замужества! Спрашиваю вас, дамы и господа, ну не позор ли это? И она еще осмелилась заявить мне, что счастлива! Имею честь представить вам Еву, удивительную Еву, а ныне мадам Поль де Лансель, супругу нашего нового французского консула. Чтобы спеть вместе с Евой, я бы сжег свою шляпу и выбросил на помойку любимую трость, но, к счастью, она не потребовала от меня такой жертвы. — Повернувшись к Еве, Шевалье прошептал: — Chantons[8], Мэдди, chantons! — затем обратился к гостям, замершим в восторженном ожидании, и провозгласил: — Итак, Ева, та belle, начнем!
— Я не пойду на конфирмацию, пока не полетаю на самолете, — заявила Фредди.
— Это уже предел всему — религиозный шантаж! — взорвался Поль.
Фредди торжествующе кивнула, подтверждая его слова. Это последнее средство, кажется, сработает: всякий раз, когда она просила, чтобы ее посадили в самолет, кто-то из родителей обещал ей это, а потом столь же быстро забывал о своем обещании. Долго откладывавшаяся конфирмация, конечно, могла подождать, пока не исполнится самое заветное желание Фредди.
— В этот уик-энд я отвезу тебя на аэродром, — неохотно согласился Поль. Ему не хотелось поддаваться на шантаж, но Фредди в ее одиннадцать с половиной лет уже давно следовало пройти конфирмацию, как принято у католиков. Он надеялся, что конфирмация окажет на его младшую дочь благотворное и успокаивающее воздействие.
Три раза за прошлый год местные полицейские доставляли Фредди домой, поймав ее, несущуюся на полной скорости на роликовых коньках с вершины одного их самых крутых холмов вниз по шоссе. Простыня, крепко зажатая в кулачках, парусом раздувалась у нее за спиной. «Девочка мешает движению, — нравоучительно говорили они, — и когда-нибудь разобьется». Дом Ланселей стоял высоко на холмах Лос-Фелиз, и Фредди успевала промчаться вниз несколько километров, прежде чем оказывалась в руках полицейских.
Когда после последней стычки с законом у Фредди конфисковали коньки, она собрала всех своих кукол, нагрузила ими детскую коляску и открыла на углу улицы мини-магазин, намереваясь распродать их соседям, среди которых было немало знаменитостей, в частности — Уолт Дисней, и на вырученные деньги купить себе новые ролики.
— Фредди пока еще сорванец. Это пройдет, как только она подрастет, — говорила Ева, не признаваясь и себе самой, что ей нравятся дикие выходки дочери. Такого даже она сама никогда бы себе не позволила. Счастливая, не ведающая сомнений бесшабашность девочки доставляла ей странное удовольствие: это отвечало какому-то давнему, еще не изжитому ею чувству.
Долговязая Фредди, очень рослая для своих лет, была худой и гибкой, как акробатка. У нее наверняка хватило бы смелости броситься на резиновой покрышке в Ниагарский водопад. Ее загорелые и сильные руки и ноги, вечно покрытые синяками, царапинами и ссадинами, тем не менее отличались округлостью и изяществом линий, как, впрочем, и длинная шея. От Поля она унаследовала глубоко посаженные и широко расставленные глаза. От Евы — густые брови вразлет, тянущиеся до самых висков. Ее немыслимо синие глаза были не по-детски проницательны.
Может, это ей кажется, гадала Ева, или Фредди действительно видит лучше и дальше других? В Канберре и Кейптауне она первая из семьи замечала летящих птиц и движущихся у горизонта животных, и еще совсем маленькой умела жестами и криком привлекать внимание к своим открытиям. В отличие от других детей она никогда не откидывала волосы со лба, а позволяла свободно падать на плечи своим густым, непокорным и спутанным огненно-рыжим локонам. Ее нос, прямой и уже хорошо сформировавшийся, подчеркивал определенность черт. Ее лицо выражало недетскую силу и целеустремленность, но, едва Фредди начинала смеяться, в нем появлялось простодушное заразительное веселье.
Ее младшей дочери, думала Ева, не суждено стать такой красавицей, как Дельфина, однако она не сомневалась, что многих Фредди будет привлекать своим буйным нравом и выражением благородной непреклонности. Оно появлялось на лице Фредди, когда она чего-нибудь хотела, а это случалось весьма часто. Она, ее Фредди, свободолюбивая натура; Фредди с ее беззаботным смехом и щегольски-развязной походкой никому и никогда не удастся приручить. Казалось, это не девчонка, а новый Робин Гуд.
И, как Робин Гуд, она потребовала у своего отца выкуп. Этим же вечером Поль связался по телефону с Джеком Мэддаксом, первым, кто открыл воздушное сообщение между Лос-Анджелесом и Сан-Диего в 1927 году, располагая лишь одним самолетом и молодым пилотом по имени Чарлз Линдберг[9]. Его предприятие процветало: ныне Мэддакс владел четырнадцатью пассажирскими самолетами «Форд Три-Мотор», способными совершать регулярные полеты по трем маршрутам: из Лос-Анджелеса до Сан-Франциско, до Агуа Калиенте в Мексике и до Финикса.
— Зачем я тебе понадобился, Пол? — спросил Джек Мэддакс.
— Я бы хотел покатать девочку на самолете. Это возможно?
— Тебе повезло. Мы как раз открываем автомобильную магистраль между пунктом продажи билетов в Саут-Олив и аэропортом. Дама будет в восторге, — мгновенно отозвался Мэддакс, обладавший незаурядным юмором.
— Думаю, ее интересует только полет. Спасибо тебе.
— Тогда отправляйся в Бербанк, в аэропорт «Гранд Сентрал». Так, подожди… Больше всего вам подойдет беспосадочный рейс до Сан-Франциско класса «люкс»… Он улетает ежедневно в половине третьего, и через три часа вы уже там. У вас останется куча времени, чтобы поболтать за стаканчиком и поужинать в Чайнатауне или отведать устриц в гавани. Скоротаете ночку в роскошных апартаментах у Марка Хопкинса, рано позавтракаете у Эрни или у Джека и вернетесь тем же рейсом в Лос-Анджелес. Путешествие в оба конца обойдется тебе в семьдесят долларов с человека. Отлично проведете время.
— По-моему, эта программа слишком… насыщена, Джек. Девочка — моя одиннадцатилетняя дочь.
— А… А! Понимаю. Ну, в таком случае, полагаю, мы говорим о коротком ознакомительном полете?
— Точно!
— Нет проблем. Это я легко устрою тебе. Как насчет субботы, в половине четвертого? Ближе к вечеру самое удачное освещение.
— Отлично! Еще раз спасибо, Джек, я этого не забуду.
Поль де Лансель повесил трубку, в очередной раз подумав о том, что на набережной Орсэ по сей день не ведают, что в Городе Ангелов едва знакомые люди называют друг друга по имени и что здесь нет такого дела, которое нельзя было бы уладить с помощью одного телефонного звонка. Однако, если бы там лишь заподозрили это, его парижские коллеги едва ли оправились бы от шока. Ведь если такое общение, как здесь, когда-либо станет обычным явлением во всем мире, то исчезнет необходимость в дипломатическом корпусе.
— Да, сэр, — подтвердил работник аэропорта, — мистер Мэддакс сделал необходимые распоряжения. Он просил передать вам, мистер Лансель, что с радостью взял на себя все расходы. Ваш самолет вон тот справа. — Он указал на блестящий двухмоторный самолет, стоявший на взлетной полосе недалеко от здания аэропорта — единственного строения, возвышающегося над знаменитым летным полем Бербанка. Еще шесть человек тоже ждали начала ознакомительного полета.
Поль взял Фредди за руку и шагнул по направлению к самолету, но она не двинулась с места.
— Это большой самолет, на нем полетят и другие, — с глубоким разочарованием сказала Фредди.
— Послушай, Фредди, я ведь не обещал тебе самолета, который будет полностью в твоем распоряжении, верно? Я обещал только полетать с тобой на самолете. Сейчас лучшее для полета время.
— Папа, неужели ты не понимаешь? Я хочу полететь одна.
— Ласточка, перестань! Как можешь ты лететь одна? Ты не умеешь управлять самолетом.
— Знаю. Для этого в самолете должен быть пилот. Только я и пилот. Пожалуйста, папа, так я смогу вообразить, будто я сама веду самолет.
Горящие мольбой глаза Фредди впились в лицо Поля, и ему показалось, что он видит в дочери самого себя в детстве. На мгновение ему вспомнился особый привкус детских мечтаний. Не сами мечты, а свойственная им безотлагательность и детская неспособность к компромиссу.
— Я передам мистеру Мэддаксу, что вы были весьма любезны, — сказал он служащему аэропорта, — но, кажется, моя дочь предпочитает подняться в воздух на маленьком самолете. Можете ли вы мне что-нибудь посоветовать?
— Когда покинете летное поле, поверните налево и поезжайте по этой дороге, пока не достигнете маленького городка Драй-Спрингс. Сверните на главную улицу, пересеките город и скоро увидите вывеску летной школы «Воздушная Академия Макгира». Выглядит она не ахти как, но пусть это вас не волнует. Спросите Мака. Он не откажется немного покатать ее. Это лучший пилот в округе. Думаю, он летал во время войны.
— Благодарю вас, — сказал Поль и пошел к машине. Возбужденная и обрадованная Фредди почти бежала рядом, стараясь поспеть за ним.
Летная школа Макгира, до которой они добрались всего за двадцать пять минут, оказалась низким и длинным строением, похожим на огромный гараж. Внутри стояло несколько самолетов. Заглянув в распахнутую дверь маленькой пристройки, Поль спросил:
— Есть кто-нибудь?
— Сейчас выйду, подождите минутку, — отозвался голос. Вскоре из-под самолета выбрался на четвереньках мужчина в комбинезоне механика и рабочей рубашке с расстегнутым воротом. Его растрепанные волосы имели приятный темно-медовый оттенок. Его веснушчатое лицо, сильное и открытое — по мнению Поля, типично американское, выражало надежность и дружелюбие. Он приблизился к ним упругой походкой профессионального гимнаста.
— Я ищу Мака, — сказал Поль.
— Мак — это я, — представился мужчина с обезоруживающей улыбкой. Он вытер руки чистой тряпкой и обменялся с Полем рукопожатием. — Теренс Макгир.
— Поль де Лансель. — Поль колебался и был мрачен: ему очень не хотелось доверять Фредди этому пилоту в грязном комбинезоне.
— Чем могу служить? — спросил Мак.
— Я хочу полетать на самолете. Пожалуйста, — затаив дыхание, вымолвила Фредди.
— Фредди, погоди, — остановил ее Поль. — Я слышал, вы летали во время войны, мистер Макгир?
— Да.
— Это очень интересно, правда, Фредди? Скажите, а где вы летали?
— Во Франции.
— Простите, а с кем, в какой группе? — настаивал Поль, все еще беспокоясь.
— Сначала в эскадрилье «Лафайет» в шестнадцатом… Если бы я стал ждать, пока наша армия вступит в войну, я застрял бы на земле навсегда. Потом, когда Соединенные Штаты в конце концов вступили в войну, я перевелся в «Американ Эйр Сервис» и служил в девяносто четвертом авиаотряде.
— Значит, вам, наверное, приходилось сбивать немецкие самолеты?
— Ну, конечно, я сбил несколько штук. Пятнадцать, если быть точным. Последние четыре над Сен-Мишелем. Все мы внесли свой вклад в нашу общую победу. Эдди Рикенбейкер почти вдвое превзошел мой боевой счет. Вы, случайно, не репортер? У меня уже несколько лет не появлялись репортеры, я и не думал, что кого-то еще интересую.
— Нет, не репортер, я всего лишь обеспокоенный отец.
— Понятно. Вы не хотели доверять дочь простому механику? Не могу вас за это винить, но со мной она будет в полной безопасности.
— О папа, пожалуйста, хватит тратить время на разговоры! — нетерпеливо закричала Фредди, пританцовывая на месте и сверкая глазами.
— Пойдем, малышка. Мы полетим вон на том «Пайпер Кабе». Сегодня днем у меня был назначен учебный вылет, но его отменили, так что он заправлен и готов к взлету, — сказал Макгир, указывая на крошечный самолетик, стоявший снаружи в шести метрах от ангара.
Фредди волчком развернулась и, ни слова не говоря, устремилась к самолету, почти наступая пилоту на пятки.
Поль, чувствуя себя довольно глупо, остался стоять на месте. Макгир оказался асом из асов и летал над Францией больше двух лет. Что же случилось с этим бесстрашным рыцарем неба и романтическим героем женских грез, когда он вернулся домой и снял сверкающие хромовые сапоги, франтоватые бриджи и кожаную летную куртку с ремнями? Поль уселся на складной стульчик возле стенки ангара и нервно ждал возвращения Фредди. Этот «Пайпер Каб» казался слишком маленьким и ненадежным.
В кабине «Пайпер Каба» Теренс Макгир усадил Фредди на левое сиденье перед приборной доской, развернул самолет, а сам забрался на правое сиденье. Самолет не нуждался в проверке перед вылетом, он произвел ее всего час назад. Макгир посмотрел на безоблачное небо и, запустив мотор, покатился к началу грязной земляной взлетной полосы. Дневной свет в Драй-Спрингс был золотистым, как солнце Греции, небо — пронзительно синим, а воздух — чистым и манящим.
Фредди сидела рядом тихо, как мышка. Макгир покосился на нее: не боится ли девочка? В полет редко брали маленьких девочек; в основном мальчишек постарше. Нет, она вовсе не выглядела испуганной, однако он не раз видел, как люди в самую последнюю минуту отказывались подниматься в воздух и, конечно же, на прощанье благодарили его за все. Девочка, казалось… ну, если не ликовала, то, во всяком случае, была исполнена глубокой решимости, словно в этом прогулочном полете было то, в чем сконцентрировались все ее чувства и стремления. Он остановил «Пайпер Каб» у начала взлетной полосы, чтобы заглянуть в свой полетный лист. Затем начал разбег к точке взлета, заметив при этом, что его пассажирка побелела, как бумага, и, похоже, у нее перехватило дыхание.
— Малышка, ты в порядке? — спросил он, перекрикивая рев мотора.
Девочка коротко кивнула, не глядя на него. Ее глаза были прикованы к лобовому стеклу. Макгир мог поклясться, что она ни разу не моргнула.
Едва они оторвались от земли и набрали пять метров высоты, он выровнял самолет, направил его на восток, прочь от сверкающих лучей заходящего солнца, и полетел прямо, выдерживая постоянную высоту и скорость. Он считал, что у пассажиров, впервые оторвавшихся от земли, хватало переживаний и без разных фокусов в воздухе. В отличие от других пилотов Макгир не ощущал потребности порисоваться перед пассажирами.
— Нравится вид сверху? — спросил он Фредди. Теперь, когда они поднялись в воздух, больше не было нужды кричать.
— Здорово! Еще лучше, чем я думала! Когда начнем урок? — задала она неожиданный вопрос.
— Урок? Какой урок?
— Ну, урок… Мой.
— Подожди, малышка. Твой отец ничего не сказал ни о каком уроке.
— Он просто не успел упомянуть об этом. Вы с ним все время говорили о войне. Я предполагала пройти сегодня первый урок на пилота. Зачем, вы думаете, мы пришли в летную школу?
— Если бы я знал, что имелся в виду урок, мы бы по-прежнему были сейчас на земле и ты училась бы проверять самолет перед вылетом. С этого начинается учеба, — пояснил Макгир.
— С этого я начну в следующий раз, — возразила Фредди и улыбнулась, впервые с того момента, как они с отцом покинули аэропорт.
— Ты чертовски права. И не только в следующий раз, с этого ты будешь начинать каждый раз. Отлично, возьмись за штурвал. Теперь мягко толкни его от себя. Что происходит?
— Мы снижаемся, — с восторгом ответила Фредди.
— Правильно. Теперь потяни его на себя. Что теперь?
— Мы поднимаемся.
— Двигая штурвал от себя, ты снижаешься, на себя — поднимаешься. Это первое и самое важное правило в искусстве пилотирования. В нем все важно, но умение набирать высоту и снижаться приходит первым, малышка.
— Да, мистер Макгир.
— Зови меня Мак. Так зовут меня все мои ученики. А как тебя зовут?
— Фредди.
— Это вроде мальчишеское имя, нет?
— Только не во Франции. На самом деле меня зовут Мари-Фредерик, но меня никто так не называет. Что дальше, Мак?
— Поставь ноги на педали: они контролируют направление полета, они управляют самолетом, а не штурвал. Штурвал не похож на руль в автомобиле. Педали в самолете то же самое, что руль в автомобиле. Теперь надави… мягко… на левую педаль. Что происходит?
— Мы начали поворачивать влево.
— Как нам теперь вернуться на прежний курс?
— Нажать на правую?
— Давай. Хорошо. Теперь держи самолет прямо. За штурвал держись только левой рукой. Расслабь кисть, это не соревнования по армрестлингу. Хорошо. Фредди, теперь посмотри на этот циферблат. Он называется альтиметр и показывает, на какой высоте ты летишь. А эта рукоятка называется дроссель. Если толкнуть его на себя, самолет полетит быстрее, если от себя, самолет сбросит скорость. Это словно прибавить и убавить газ у автомобиля. Поняла?
— Да, — ответила Фредди. В эту секунду вся сила ее природной координации переключилась на приборную панель «Пайпер Каба».
— Смотри на альтиметр, Фредди, и попытайся подняться на пятьдесят метров. Тебе нужно сдвинуть вперед дроссель и потянуть на себя штурвал. Ай! Не так быстро. Мягче… мягче… еще мягче. Вот так, правильно. Не забывай, как это делать. Попробуй набрать еще пятьдесят метров. Хм… уже лучше. Теперь снижайся, только мягко, на сто метров, и мы окажемся на той же высоте, с какой начали. Что ты станешь делать?
— Штурвал от себя, дроссель на себя. Очень и очень мягко.
— Правильно. Давай.
Фредди звонко рассмеялась. Она научилась летать на самолете! Она умеет летать! Мак сидел в кабине, положив руки на колени, а самолетом управляла она. Она всегда знала, что сможет этому научиться, знала, не понимая, откуда взялась эта уверенность, и не пытаясь ее понять. Само пилотирование отличалось от того, что она ожидала. Оно оказалось более… более… прозаичным нетрудным делом из-за всех этих контрольных приборов на панели управления, назначение которых еще не было ей известно, но чудо, которого она ждала всю жизнь, это чудо — о да! — свершилось!
— Пора поворачивать обратно, — сказал Мак. — Я беру управление на себя, но не убирай руку со штурвала, а ноги с педалей, так ты сможешь ощутить, что я буду делать. Просто прочувствуй каждое мое движение.
Фредди неохотно передала ему управление самолетом.
— В каком возрасте я смогу самостоятельно поднять самолет в воздух?
— Ну, для начала тебе надо научиться поднимать его в воздух, так как ты этого еще не умеешь. Однако пилотировать запрещено до шестнадцати лет.
— Что?! Кто это сказал?
— Правительство. Есть правила, закон. Безмозглые дураки… Я начал самостоятельно летать, когда мне было всего двенадцать, но то было в добрые старые времена. До этого, в самом начале, вообще не было никаких контрольных приборов, тогда учили летать так же, как и плавать — по принципу «либо плыви, либо пойдешь ко дну».
— Значит, придется ждать еще четыре с половиной года, — поникла Фредди. — Разве можно так долго ждать? Никакого терпения не хватит.
— Выбора нет, малышка. Ты можешь научиться летать, но летать самостоятельно тебе нельзя.
— Четыре с половиной года, — горестно повторила Фредди.
— В твоей школе есть мастерская?
— Нет, — грустно ответила Фредди.
— Смени школу, это лучшее, что ты можешь сделать, и займись работой в мастерской. И математикой, это очень важно. Математика у тебя хорошо идет?
— Да, — невнятно пробормотала Фредди. — Это мой любимый предмет.
— Хорошо, долби ее как следует. Без математики не разберешься в навигации. Веришь, нет, но есть люди, которые не могут одолеть математики даже ради спасения собственной жизни.
— Вроде моей сестры Дельфины, — сказала Фредди, почувствовав, что ей стало немного легче дышать.
— По крайней мере, у одной из вас нормальное девчоночье имя. Фредди, ты представляешь себе, где аэропорт?
— Конечно. — Фредди прищурилась на солнце и указала точное расположение аэропорта, хотя он не был виден, поскольку находился далеко в долине Сен-Фернандино. — Я видела его минуту назад или, может быть, чуть раньше.
— Хм… — Он-то знал, где аэропорт, подумал Теренс Макгир, поскольку тот находился там же, где и всегда, но он не поставил бы и двадцати пяти центов, что кто-то определит его местонахождение во время первого полета. У малышки отличное зрение, и более того — верный глаз.
Когда они пошли на посадку, он спросил:
— Фредди, скажи мне, что ты чувствуешь?
— Что ты имеешь в виду?
— Как ведет себя самолет во время приземления.
Озадаченная Фредди застыла на сиденье, словно прислушиваясь к откровению свыше, пока «Пайпер Каб» приближался к посадочной полосе и с каждой секундой снижался все больше и больше.
— Он хочет приземлиться, — вдруг восторженно завопила она. — Он сам хочет приземлиться!
— Да. Как ты это поняла?
— Я это почувствовала, действительно почувствовала, Мак.
— Где?
— В… на… сиденье под собой.
— Под юбкой?
— Верно.
— Еще бы! Там ты и должна была это почувствовать. Когда в следующий раз соберешься в полет, надень брюки.
Посадив самолет, Макгир подъехал к зданию школы. Они выбирались из кабины, когда к самолету подскочил кипящий от ярости Поль.
— Вы знаете, что вас не было около часа? Я места себе не находил от беспокойства, чуть с ума не сошел! Проклятье, Макгир, ты что, спятил, где твои мозги?!
— Потише. Урок продолжается час. И если уж на то пошло, мы вернулись на три минуты раньше срока.
— Урок? — недоверчиво произнес Поль. — Какой еще урок? Я просил тебя покатать Фредди, ни о каком уроке речи не было.
Теренс Макгир взглянул на Фредди. Она смотрела на него чистыми глазами, которые видели, как он уже знал, дальше и лучше любых других глаз. Твердо сжав губы, Фредди как бы говорила: она, конечно, понимает, что лгать нехорошо, но, что поделаешь, иногда приходится, когда дело того стоит.
— Простите, но я мог бы поклясться, вы сказали, что Фредди хочет взять у меня урок, — проговорил пилот. — Извините, я, должно быть, неправильно вас понял. Я не хотел причинять вам беспокойство. Вообще-то урок стоит шесть долларов — четыре за аренду самолета и два собственно за урок… Но я возьму с вас только четыре, раз вы хотели, чтобы я просто покатал ее. Ах, и еще одно. Я должен дать молодой леди формуляр полетов.
Он заторопился в пристройку, служившую ему кабинетом, и вернулся, делая в формуляре первую запись.
— Вот здесь ты должна расписаться, Фредди. Теперь возьми его себе и смотри не потеряй.
— Ни за что, — выдохнула Фредди с сияющим от благодарности лицом. — Я ни за что его не потеряю. Мак, я обязательно приду снова. Не знаю когда, но как только смогу.
— Поверь мне, малышка, я в этом не сомневался. Ни на секунду. До встречи, Фредди!
— До встречи, Мак!
7
Летом 1933 года в Шампани, на террасе замка де Вальмон, виконт Жан-Люк и виконтесса Аннет де Лансель приветствовали Поля и Еву, впервые приехавших в замок со своими дочерьми. В соответствии с традицией семьи Лансель хозяйка замка сама разливала шампанское, когда поднимался первый бокал на любой семейной встрече в Вальмоне. Сегодняшний же повод был не просто символическим, а заключал в себе особую важность.
— Конечно, Фредди уже достаточно взрослая, чтобы выпить шампанского, — заявила виконтесса. — Тем более что у нас сегодня такой замечательный повод. — Она наполнила бокал тринадцатилетней Фредди.
Смакуя искристое вино, Поль вдруг понял, как он тосковал по Вальмону и как настойчиво отгонял мысли о доме, где прошло его детство. Ни в одном другом месте, где ему когда-либо приходилось жить, он не ощущал такого странного, почти осязаемого, а теперь почти забытого чувства гармонии между землей и тем, что на ней произрастает. Невидимые узы родства так крепко привязали его к этому краю, что, казалось, протяни руку — и ощутишь их прочность. Каждый глоток воздуха Шампани наполнял его ощущением благополучия и беззаботного веселья. Эти места дышали необычайным радушием. Вид океанской шири никогда не дарил ему такой радости и полета души, как лениво раскинувшееся на холмах море семейных виноградников, над каждым из которых в течение нескольких недель созревания урожая будет развеваться сине-красное знамя Ланселей, точно так же, как Поммери поднимут над своими виноградниками белое, а Вдова Клико — желтое.
Поль с гордостью посмотрел на Еву, Дельфину и Фредди, сидящих рядом на залитой солнцем террасе. Они только что приехали из Парижа на автомобиле. Путешествие заняло всего два часа. Двумя неделями раньше они выехали из Лос-Анджелеса на поезде, пересекли всю территорию Соединенных Штатов и пересели на океанский лайнер, доставивший их во Францию. Получив на службе двухмесячный отпуск, Поль решил, что настало наконец время привезти жену и детей в дом предков, где они никогда не были.
Виноградные лозы в цвету благоухают как тропическое растение. Цветение продолжалось две с половиной недели до первых чисел июня. К счастью, обошлось без страшных весенних заморозков. В период опыления цветов, словно в ответ на мольбы виноградарей, выдалась теплая и влажная погода с умеренным ветром, и теперь виноградные кисти спокойно наливались животворным соком в долине.
Вальмон расположен к северу от Отвийр — деревни, куда в семнадцатом столетии пришел Пьер Периньон и, поселившись в старинном аббатстве Святого Петра Отвийерского, развил бурную деятельность, позволившую ему по истечении сорока шести лет строго упорядоченной жизни, в часы, не занятые служением Господу, отыскать секрет превращения превосходного местного вина в шампанское.
В те времена Вальмон был окружен дубовыми лесами, где в изобилии водилась дичь. Владельцы Вальмона выращивали виноград и производили вино, наслаждаясь им вместе с друзьями. Теперь же, этим лучезарным июльским днем, глядя вниз с высоты террасы замка, где вся семья отдыхала перед завтраком этим лучезарным июльским днем, уже почти нельзя было увидеть даже одиноко стоящих деревьев. Повсюду, до самого горизонта, простирались виноградники. Покатые склоны холмов, покрытые виноградниками, создавали ощущение покоя и безопасности, хотя за последние сто лет из-за этих ценнейших и слишком уязвимых областей Восточной Франции произошли две великие войны, изменившие историю всей Европы.
Однако война и даже мысль о ней сегодня представлялись Полю абсурдом. Лишь теперь в душе его наконец прошла горечь, вызванная тем, как отнеслись когда-то родители к его второму браку. Прошлой зимой мать написала ему письмо, где просила прощения за резкость давних слов о том, что необдуманной женитьбой он сломал себе карьеру. «С годами, — писала она, — я пришла к пониманию, что без Евы и детей ты никогда не чувствовал бы себя по-настоящему счастливым, даже если бы стал послом при дворе Его Величества короля Великобритании».
Виконтесса изменила отношение к Еве вовсе не потому, что возраст смягчил ее характер. Напротив, с годами французские аристократки обычно становятся все более жесткими.
Если бы Гийом, старший сын Ланселей, женился и завел детей, виконтесса, успокоенная тем, что семья продолжит род по его линии, вероятно, по-прежнему разжигала бы в себе ненависть к Еве. Однако Гийом, который не выносил детей и любил свободу, решил навсегда остаться холостяком. Так что виконтессе пришлось примириться с тем, что у нее не будет внуков, кроме детей Поля. Зная, что никогда не устанет укорять старшего сына в его безответственном, эгоистичном и недальновидном поведении, Аннет де Лансель решила помириться со своей единственной невесткой.
Сейчас, окруженная домочадцами Поля, еще не успевшими переодеться с дороги, она радовалась тому, что пригласила их в замок. Гийом и Жан-Люк, подсев к Еве, внимательно слушали ее рассказ о путешествии. Ева повесила на спинку чугунного садового кресла прекрасно сшитый жакет и сняла маленькую шляпку с приподнятыми полями. Она сидела, свободно откинувшись и небрежно положив ногу на ногу, радостно оживленная и непринужденная. Внимательно и пристрастно оглядев ее, Аннет де Лансель вынуждена была признать, что такой невесткой гордилась бы любая свекровь. Однако рядом находились ее внучки, которых она уже готова была полюбить, особенно Дельфину.
Она никогда прежде не видела такой прелестной пятнадцатилетней девочки и восхищалась ею. Красота Дельфины не сразу бросалась в глаза, но обладала таким изысканным и трогательным очарованием, что каждый, кто замечал особую прелесть девочки, чувствовал себя первооткрывателем. Ее огромные серые глаза с поволокой казались бездонными как море. Каштановые волосы, приподнятые надо лбом, вились у шеи и блестели так, словно в них играл солнечный луч. Стройная фигура Дельфины была так изящна, что казалась ожившим изваянием. Овал ее лица напоминал форму сердца, как и у некоторых других благородных дам из рода Ланселей, некогда владевших замком Вальмон. Тонкая, как тростинка, Дельфина выглядела такой хрупкой, что в бабушке проснулось инстинктивное стремление защищать и опекать эту девочку. Она — само совершенство, умилялась виконтесса, и вполне можно предположить, что она выросла во Франции.
А вот Мари-Фредерик, или Фредди, как они ее называют, с неодобрением поправила себя Аннет де Лансель, явно чистопородная американка. Тут уж не ошибешься, хотя и странно, как это получилось, ведь родители ее чистокровные французы. Виконтесса не понимала этого. Наверное, решила она, на Фредди так повлиял воздух Калифорнии: для французской девочки тринадцати с половиной лет она была слишком мускулистой, живой и активной. Рост и глаза она явно унаследовала от Поля, а экстравагантность — от матери. А волосы! Эта яркая спутанная копна, похоже, никогда не знала расчески! Красивые волосы, да, с этим виконтесса не могла не согласиться, однако слишком рыжие — чистое пламя! Конечно, в роду Ланселей из поколения в поколение рождались рыжие, но ни у одного из них волосы так скандально не бросались в глаза. Почему Ева не пытается как-то справиться с ними? А если уж они совсем не поддаются расческе, почему она хотя бы не уговорит младшую дочь вести себя более женственно и больше походить на девочку, чем на мальчишку? Сейчас Фредди смотрелась очень мило, осторожно пробуя свое первое в жизни шампанское и с благоговением оглядываясь вокруг.
Фредди, конечно, знала, что ее отец вырос в «шато», однако реальный Вальмон поразил ее своим великолепием. Насчитав три романтические башни, она гадала, кто в них живет и что творится во всех этих комнатах за бесчисленными окнами? Сколько же в замке каминов, если на крыше так много печных труб, выложенных из кирпича? До приезда сюда она не понимала, что шато — это замок, и, по словам бабушки, маленький, один из пяти, сохранившихся в Шампани. Самый большой и величественный из них — Монмор — окружен рвом с водой, парк там намного больше, а спиральные лестницы такие широкие, что по ним можно подниматься верхом на лошади. Какая дурацкая идея!
Аннет де Лансель украдкой взглянула на ручные часики. До того как подадут завтрак, оставалось всего десять минут, а заготовленного ею сюрприза пока не было. Что ж, с завтраком можно подождать, решила она.
Пять минут спустя, когда все рассеянно смотрели, как Гийом откупоривает вторую бутылку шампанского, из леса, расположенного справа от замка и отделенного от него лишь ровной полоской хорошо разрыхленного граблями гравия, галопом вылетел всадник. Он, видно, не ожидал, что застанет кого-нибудь на террасе: взгляд его был направлен в сторону конюшен. Однако, заметив гостей, он вскинул голову и резко осадил гнедого жеребца в нескольких шагах от них. На мгновение на террасе воцарилась мертвая тишина. Казалось, был слышен даже слабый шум ветра в отдаленном винограднике. Голос Аннет де Лансель неожиданно сел, стал хриплым и неуверенным.
— Слезай с коня и поздоровайся с гостями, дорогой. Видишь, я не обманула тебя, пообещав тебе к завтраку сюрприз, правда, Бруно?
Бруно — высокий, сильный, но несколько скованный восемнадцатилетний юноша, быстро спрыгнул с седла и, мгновенно овладев собой, двинулся к людям, приезд которых бабушка столь тщательно скрывала от него. Когда он приблизился, все повернулись и посмотрели на него с одним и тем же выражением, но с разными чувствами.
Фредди и Дельфине не терпелось получше рассмотреть своего единокровного брата, которого они знали только по фотографиям. Бруно! Наконец-то!
Поль ощутил горькую обиду, хотя невольно отметил, каким большим и красивым стал мальчик, какая у него гордая осанка.
Ева сжалась, словно получила пощечину: так вот какой Бруно, разбивший Полю сердце своим непростительным упрямством! Упорно не желая понять отца, он каждый год обещал приехать к ним в гости и всегда находил какую-то отговорку. Наконец стало ясно, что он попросту не желает увидеться с отцом и познакомиться с сестрами.
Аннет де Лансель по-детски ликовала, сознавая, что именно она сумела воссоединить семью. Виконтесса не советовалась об этом ни с кем, кроме мужа, которого убедила, что поступает правильно.
Что касается Бруно, то если он и испытывал какие-либо чувства, то они были скрыты под маской привычной для него учтивой любезности, которую истинные аристократы умудрялись проявлять, даже поднимаясь на эшафот. Он обнял Поля так, словно они расстались на прошлой неделе, поцеловал руку Еве, вежливо пробормотав: «Добрый день, мадам», и церемонно, как сверстницам, пожал руки Фредди и Дельфине.
— Ты могла бы предупредить меня, — сказал он с мягким укором, коснувшись губами щеки бабушки.
— Бруно, дорогой, я думала, так будет лучше и легче для всех, — произнесла виконтесса столь уверенным тоном, что даже Бруно не смог возразить ей.
Аннет де Лансель прекрасно знала, что Бруно не желал знакомиться ни с мачехой, ни с сестрами. Вскоре после второй женитьбы Поля выяснилось, что отношение к Еве Ланселей и Сен-Фрейкуров полностью совпадает: они видели в ней общего врага. То, что она стала членом семьи, одинаково задевало их всех. Мезальянс покрыл их семьи позором. С тех пор Сен-Фрейкуры часто и охотно отправляли Бруно к Ланселям, а те никогда не убеждали их отослать Бруно к Полю.
Поскольку Гийом оставался убежденным холостяком, Бруно был единственным наследником Ланселей по мужской линии.
Дед и бабка часто говорили о будущем внука, сидя после ужина в парчовых креслах перед горящим камином в маленькой гостиной. После их смерти Гийом и Поль унаследуют замок и виноградники. Если бездетный Гийом умрет раньше Поля, его доля наследства перейдет к Полю. Но после смерти Поля все это наследство будет поровну распределено между Евой и тремя его детьми.
Это значит, что их обожаемый Бруно никогда не станет единственным хозяином родовых земель. Ему придется владеть всем этим вместе с иностранками-сестрами, которых судьба лишила преимущества вырасти и получить образование во Франции. Девушки, скорее всего, выйдут замуж за иностранцев сомнительного происхождения, а их дети получат равные доли владений Ланселей. В конце концов они раздробятся так, что в этом краю едва ли сохранится и память о Ланселях, всегда чувствовавших себя неотъемлемой частью Шампани.
Когда Бруно отправился к себе переодеться после прогулки верхом, а Ева пошла с Фредди и Дельфиной мыть руки перед завтраком, Аннет де Лансель испытала облегчение. У Дельфины и Фредди, которые всегда разговаривали с родителями по-французски, произношение было совершенным. Обрадованные встречей с бабкой и дедом, девочки проявляли к ним истинно родственные чувства. Они были так очарованы Вальмоном, что виконтесса внезапно подумала: нет, эти девочки вовсе не бродяжки без роду и племени, а подлинные Лансели, вернувшиеся домой после многолетних скитаний. Да, она поступила весьма мудро, пригласив всех в замок одновременно, а самое главное, что ни словом не обмолвилась об этом Бруно.
«Непроницаемый, — думала Ева, наблюдая за Бруно во время завтрака, — совершенно непроницаемый». Учтивость Бруно была столь же холодной и блестящей, как предметы семейного сервиза из старинного серебра. Еве проще было представить, что она сумеет скрутить двумя пальцами один из тяжелых ножей, чем поверить в то, что Бруно когда-нибудь искренне улыбнется ей, а не просто приподнимет уголки губ. Ни словом, ни жестом не показывая этого другим членам семьи, он абсолютно ясно дал понять Еве, что она для него не существует, никогда не существовала и не будет существовать. Глядя на Еву в упор, он словно не видел ее, даже когда непринужденно отвечал на ее вопросы. Еве казалось, будто на нее смотрят холодные и непримиримые карие глаза. Была ли виной тому его фальшивая улыбка, или Ева не ошиблась, заметив несоответствие по-женски пухлого рта Бруно и мужской твердости черт его лица?
«Почему он так относится ко мне? Разве я сделала ему что-нибудь плохое?» — возмущалась Ева. Зная гонор французских аристократов, она понимала, почему старшие Лансели так долго не признавали ее, однако Бруно принадлежал к поколению ее детей.
Родители давным-давно простили Еву. Ее блестящее замужество позволило им снова гордо поднять головы. Мать и отец гостили у нее по нескольку недель в Австралии и в Кейптауне. Они умерли в конце двадцатых в один и тот же год.
Слушая приятную беседу, одну из тех, какие ведут за столом виноделы в любом уголке земного шара, Ева мучительно размышляла, надо ли ей искать пути сближения с Бруно или разумнее примириться с его необъяснимой враждебностью?
«Он бесподобен», — думала Дельфина, слушая взрослые рассуждения Бруно. Она никогда не слышала такого от восемнадцатилетних юношей. Ни у старших братьев ее школьных подруг, ни у ее друзей не было такой гордой осанки и такой благородной внешности. Никто из них не говорил так уверенно, хотя у всех были собственные автомобили и они могли отвезти ее на пляж, в кино или в кафе-мороженое. Дельфину смешило разочарование, с каким они выслушивали ее отказ провести вместе вечер: мать строго-настрого запретила ей ходить на свидания до шестнадцати лет.
Он выглядит как двадцатилетний, думала Дельфина. Широкие темные брови Бруно двумя крутыми дугами изгибались на красивом высоком лбу. Крупный нос с легкой горбинкой делал его лицо совершенно не похожим на лица американцев. Оно гораздо… гораздо… Дельфина наконец нашла слово — «благороднее». Даже не видя семейных портретов, Дельфина поняла бы, что это лицо потомственного аристократа. «Интересно, о моем лице можно сказать то же самое?» — гадала Дельфина. Утвердительно ответив на этот вопрос, она почувствовала глубокое удовлетворение.
«Незнакомец, абсолютно чужой», — констатировал Поль. Он не узнавал в повзрослевшем Бруно того рослого, худого, амбициозного и целеустремленного мальчика, с которым познакомился восемь лет назад, ребенка, с энтузиазмом говорившего о своем высоком предназначении.
С тех пор Бруно, конечно, вырос, но благодаря сильной мускулатуре уже не казался худощавым, а скорее, крепким. Нос тоже увеличился, став самой заметной чертой его лица. У Бруно был уверенный в себе, даже властный вид и голос взрослого мужчины. Он звучал холодновато и безапелляционно, когда Бруно подтрунивал над бабкой, уважительно, когда обращался к деду и дяде Гийому, и мягко, когда старался очаровать Дельфину, Еву и даже Фредди.
Вне всяких сомнений, Бруно прекрасно сознавал, что стал центром внимания, несмотря на появление в замке гостей. Казалось, будто все они приехали посмотреть на него, и он милостиво позволял им любоваться собой. Похоже, его ничуть не смутила встреча с отцом после долгой разлуки. Ни единым словом не намекнул Бруно на ту печальную встречу, равно как не упомянул о своих обещаниях приехать к отцу. Поль поклялся себе, что никогда не спросит сына, почему он не сделал этого. Как бы там ни было, он не хотел этого знать, поскольку и ему, и Бруно это могло причинить только боль.
— Бруно, скажи, когда ты отправляешься на военную службу?
— В этом году, отец, сразу после летних каникул. Мы вместе с друзьями пойдем служить в кавалерию. Это будет очень весело.
— Будь поосторожнее с армейскими клячами, а то загонишь какую-нибудь ненароком, — хмыкнул Гийом. — Вряд ли они так выносливы, как мой Император, а он совсем выбился из сил, когда ты привел его сегодня в конюшню.
— Простите, дядя. Императора давно как следует не выезжали, и я подумал, что ему необходима хорошая встряска. Он так обрадовался. Я понял, что будет жестоко сдерживать его… Но вы совершенно правы. Уверяю вас, это больше не повторится. Просто ваши конюхи не дают ему достаточной нагрузки.
— Я прослежу за этим, — благодушно пообещал Гийом.
— Кавалерия, — восхищенно выдохнула Дельфина. Слова Бруно произвели на нее неотразимое впечатление.
— Мой мальчик, ты уже решил, чем займешься после военной службы? — спросил дед.
— Пока нет, дедушка. У меня много планов, но пока я еще не выбрал ничего определенного.
— Значит, ты уже не собираешься учиться политике? — резко бросил Поль. — Твои планы изменились? Ты больше не хочешь встать у руля страны?
— Только взгляните, отец, что там делается. Кабинет Поля Бонкура от партии социалистов продержался всего пять недель. Новое правительство Даладье состоит поголовно из жалких дураков: и его крайние радикалы вроде Эррио, и слабаки типа Лаваля, и все остальные — эта горстка либералов и трудовых лидеров. Бюджетный дефицит растет, и сотни тысяч людей сидят без работы, а Даладье между тем не придумал ничего лучшего для увеличения доходной части бюджета, как поднять налоги. Нет уж, увольте, я идеалист и не желаю копаться в этой грязи. Хочу сохранить чистые руки.
— А что ты мог бы предложить, раз так уверен, что все они не правы? Критиковать — проще всего, особенно с позиций идеалиста, — заметил Поль. Его разозлило высокомерие, с каким Бруно говорил о своих прежних мечтах, которые, как он уверял когда-то, составляли основной смысл его жизни.
— Я бы предложил заменить всех этих двадцать трех кретинов одним человеком, одним сильным правителем.
— Неужели все так просто, а? Откуда же нам взять этого сильного правителя? И как он придет к власти?
— Зачем далеко ходить за примерами, отец. Именно так поступил Гитлер в январе этого года в Германии, когда стал канцлером.
— Гитлер?! Ты одобряешь этого… этого преступника?!
— Признаюсь, мое отношение к нему не так просто определить, во всяком случае, к нему неприменимы такие примитивные понятия. Конечно, он мне не симпатичен, да и может ли он нравиться французу? Но, по-моему, следует признать, что он — политический гений. За несколько месяцев он подчинил себе всю страну, объявил вне закона коммунистическую партию и поставил на место евреев. Его жесткие методы быстро приносят положительные результаты. Он сметает все на своем пути.
— Ты считаешь, что Франции необходим собственный Гитлер? — загремел Поль, поднимаясь со своего места.
— Хватит, хватит, — поспешно прервала их Аннет де Лансель. — Я раз и навсегда запрещаю вам говорить за столом о политике. Сегодня такой знаменательный день для всех нас, зачем же нам его портить! Жан-Люк, налей Полю вина… Девочки, я приготовила для вас на десерт нечто особенное. — Обрадованная, что мужчины успокоились и замолчали, виконтесса вызвала колокольчиком дворецкого. — Если вам понравится, я попрошу шеф-повара научить вас его готовить. Я считаю, что хозяйка дома должна уметь готовить, независимо от того, хорош ли ее повар. Ты согласна со мной, Ева? Как же иначе ты поймешь, если он что-то неправильно сделал?
— Вполне с вами согласна, — быстро проговорила Ева, видя, что у Поля дрожат от гнева руки. «После того, что сказал Бруно, едва ли стоит добиваться его расположения, — подумала она. — Неужели это сын Поля?»
Когда затянувшийся завтрак наконец закончился, Фредди и Дельфина пошли в свою комнату переодеться для прогулки.
— Правда здорово, что у нас есть брат? По-моему, он самый лучший в мире брат, а как ты думаешь? — спросила Дельфина сестру, когда они остались наедине.
— Возьми его себе, мне такой брат не нужен, — ответила Фредди.
Дельфина повернулась и недоверчиво уставилась на нее. Фредди просто не хватает смелости признаться, как она восхищается Бруно, но зачем же так отзываться о самом красивом юноше, какого когда-либо встречала Дельфина.
— Что ты такое несешь?
— Он просто дерьмо, хоть и воображает, что самый умный, — равнодушно ответила Фредди.
— Мари-Фредерик! Я попрошу бабушку дать мне отдельную комнату. Не хочу больше видеть тебя! Ты мне противна!
— «Г» на палочке, — дерзко повторила Фредди. — В шоколаде.
Несколько дней спустя, ранним утром, когда цветы еще сохраняли ночную прохладу и свежесть, Ева вышла в сад срезать розы, прихватив две длинные плоские английские корзины и острый секатор. Она нашла все это на первом этаже замка в цветочной комнате, оборудованной тремя ваннами. В них плавали свежесрезанные цветы, из которых потом составляли букеты. Свекровь попросила Еву сделать это еще накануне вечером.
— Я люблю срезать цветы сама, — сказала она за ужином, — не прибегая к услугам садовника… Розарий Вальмона всегда был моей гордостью, и я подумала… Ева, не хотела бы ты заняться завтра цветами?
— С удовольствием, — радостно согласилась Ева, понимая, что, если уж виконтесса доверяет ей то, что всегда делает сама, значит, отношение к ней свекрови сильно изменилось.
— Понимаешь… — начала виконтесса, но тут же замолчала, не зная, как объяснить.
— Что стебли надо еще раз подрезать под водой?
— Как ты догадалась, о чем я собираюсь спросить?
— Мать научила меня этому, когда я была еще совсем маленькой, — ответила Ева.
— А говорила ли она тебе, как сохранить срезанные розы? Надо добавить в воду несколько капель известкового раствора и положить кусочек сахара, — серьезно сказала Аннет де Лансель.
— Никогда об этом не слышала. Мы клали в вазу монетку в один сантим… А это помогает?
— Не слишком хорошо, но я все равно это делаю.
Женщины обменялись понимающими взглядами, озадачившими сидевших за столом мужчин. Тем никогда не приходило в голову заглядывать в цветник и прикидывать, успеют ли розы распуститься ко дню приема. Если не успеют, все кусты будут в нераскрывшихся бутонах неопределенного цвета. Впрочем, столь же неприятно, когда розы отцветают за день до назначенного приема.
Розарий Вальмона находился за рядами высокого кустарника: здесь дети Ланселей веками играли в прятки.
Ева бродила среди кустов и щелкала секатором, выбирая только что распустившиеся розы: срезанные слишком рано бутоны редко распускаются в помещении. Вскоре она набрала две полные корзины цветов. Понимая, что рискует не донести их до дома, Ева все же не удержалась и срезала еще несколько роз. В летнюю жару розы нельзя оставлять на кустах даже на один день: они слишком быстро распускаются и увядают. Держа одну из корзин перед собой, а другую позади себя, она осторожно пошла к замку по узкой тропинке. Огибая живую изгородь, Ева внезапно увидела перед собой Бруно: он быстро шагал по направлению к конюшням. Она остановилась, вздрогнув от неожиданности. Корзина, которую Ева держала перед собой, накренилась, и розы посыпались на дорожку из гравия.
— Ох, как ты меня напугал, — взволнованно сказала Ева, осторожно опуская на землю другую корзину. — Надеюсь, они не помялись. — Встав на колени, она начала быстро и осторожно складывать упавшие розы в корзину. Поднимая их, Ева заметила, что несколько роз упало на сапоги Бруно. Он застыл неподвижно, словно прирос к земле. Она посмотрела на него, изумленная тем, что он не начал ей помогать. Бруно стоял, скрестив руки, плотно сжав губы и глядя прямо перед собой. Если бы кухарка облила его сапоги помоями, а потом пыталась отчистить их, его лицо не выразило бы большего нетерпения и отвращения. Все так же на коленях Ева автоматически собирала розы и ждала, когда утихнет охвативший ее гнев.
— Бруно! Что ты застыл как столб? Почему не помогаешь Еве? — послышался голос виконтессы. Она вышла из-за кустарника и приблизилась к ним.
Ева поднялась на ноги.
— Не беспокойтесь, Аннет. Думаю, Бруно боится шипов. Видно, они пугают его до умопомрачения. Вперед, Бруно, иди, куда шел, покатайся на лошадке и будь паинькой.
В тот день Аннет де Лансель уговорила Бруно отвезти Фредди и Дельфину в Реймс посмотреть кафедральный собор. Фредди, однако, заявила, что предпочитает покататься верхом с дядей Гийомом. Вообще-то она была бы не прочь побывать в Реймсе, но ей не хотелось наблюдать всю дорогу, с каким восхищением смотрит на Бруно Дельфина. «Если бы он был актером, — с раздражением думала Фредди, — Дельфина возглавила бы клуб его поклонниц».
Фредди любила Дельфину и относилась к ней почти с материнской нежностью. Так было всегда, другого она не помнила. Отчасти Дельфина была ей ближе, чем родители.
Когда Фредди казалось, что Дельфина прикидывается дурочкой, она выходила из себя. Ее не покидало чувство, что она должна ограждать Дельфину от всяческих неприятностей, словно та была ее младшей сестрой. Обожая сестру, Фредди считала Дельфину безмозглой упрямицей, несговорчивой и самоуверенной. Привыкнув всегда и во всем поступать по-своему, Дельфина вовсе не считала, что нуждается в защите и, разумеется, не ценила опеки Фредди. У них частенько случались перепалки, но Фредди, наделенная большей силой, не позволяла себе пускать в ход кулаки. Как бы хотелось ей сейчас отвесить Дельфине хорошенький подзатыльник, мрачно думала Фредди, трясясь рысью рядом с молчаливым дядей. Просто из принципа.
Отсутствие сестры безмерно радовало Дельфину. Под неусыпным оком Фредди она не посмела бы попробовать первую в жизни сигарету, весело подумала Дельфина. Бруно показывал ей, как правильно вдыхать дым, медленно ведя взятый у деда автомобиль.
— Честно говоря, мне не понравилось, — разочарованно призналась Дельфина, выдохнув едкий дым. — Но сигарета придаст мне более взрослый вид.
— Сколько тебе лет? — равнодушно спросил Бруно.
— Почти шестнадцать, — ответила Дельфина, прибавив себе несколько месяцев.
— Значит, ты приближаешься к опасному возрасту, — сказал Бруно, резко и коротко засмеявшись.
— Почему шестнадцать лет — опасный возраст? В шестнадцать только-только начинается все самое интересное в жизни, а мама не разрешила мне ходить на свидания до следующего дня рождения, — пожаловалась Дельфина.
— У твоей матери есть основания держать тебя под замком. Полагаю, она опасается, что ты унаследовала ее наклонности, — обронил Бруно.
— Не болтай глупости, Бруно, — засмеялась Дельфина. Она не поняла, что означали его слова — лесть или нечто иное? Поэтому решилась спросить: — Какие наклонности ты имеешь в виду?
— Ты, конечно, знаешь… ну, о ее прошлом.
— Прошлом? Она родилась в Дижоне. На что ты намекаешь?
— А, ерунда. Забудь о том, что я сказал. Это неважно.
— Почему ты ведешь себя со мной так, словно я маленькая? — вспылила Дельфина. — Ты делаешь намеки, потом говоришь, что это неважно, и просишь меня обо всем забыть. К чему это?
— Ладно, Дельфина, это все пустяк. Но меня и вправду восхищает то, как удалось твоей матери восстановить свою репутацию, хотя, казалось бы, это было просто немыслимо. Это лишь доказывает, что времени подвластно все… и что у большинства людей очень короткая память. Конечно, прошлое твоей матери дурно повлияло на карьеру отца. Но зато ваше с Фредди появление на свет вознаградило его за все. Уверен, он считает, что игра стоила свеч.
— Прошлое? Какое прошлое? Бруно, ты должен мне сказать, — потребовала Дельфина, сгорая от любопытства.
— Спроси у нее сама, если тебе так уж хочется это узнать. — Решив, что тема исчерпана, Бруно закурил новую сигарету.
— Ты просто делаешь вид, будто тебе что-то известно, — сказала Дельфина тем презрительным тоном, который, по ее мнению, мог заставить Бруно вернуться к прерванной теме. Она слегка затянулась и принялась с интересом разглядывать окрестности. — Сколько нам еще ехать до Реймса?
— Полагаю, тебе известно, где она начала петь? — спросил Бруно спустя несколько минут.
— В Дижоне, конечно. Она брала частные уроки у лучшего в городе учителя. Мама часто поет для нас с Фредди, мы знаем большую часть ее песен наизусть. Конечно, она уже не выступает, но ее постоянно просят спеть на важных благотворительных приемах в Лос-Анджелесе, — с гордостью ответила Дельфина.
— В самом деле? Она поет на благотворительных приемах! Ах, как мило! — с издевкой воскликнул Бруно. — А она рассказывала тебе, что убежала из дома в Париж?
— Нет, Бруно, не рассказывала! Как интересно! — восторженно завопила Дельфина.
— В то время в этом не было ничего интересного, — мрачно заметил Бруно. — Тогда такой поступок считался совершенно… ну, одним словом… неприличным. Ей было всего семнадцать, когда она сбежала из дома с ничтожным мерзавцем — певцом из третьеразрядного мюзик-холла. Они вместе жили в Париже… как любовники, прежде чем она встретилась с нашим отцом и женила его на себе. Любой подтвердит тебе, что у нее были и другие любовники.
— Кто рассказал тебе эту ужасную ложь? — вскричала Дельфина, колотя кулачками по его бедру.
Бруно отпихнул девушку.
— Мои бабушки, вот кто. Бабушка Лансель говорит, что прошлое твоей матери погубило карьеру нашего отца. С его происхождением и послужным списком военных лет он давно уже был бы послом, а не находился в почетной ссылке. — Бруно взглянул на Дельфину. Она отвернулась. — Моя бабка по матери, маркиза Сен-Фрейкур, — спокойно продолжал он, — утверждает, что никто в Париже никогда не примет твою мать из-за ее скандального прошлого: она открыто жила с мужчиной, за которым не была замужем, и пела в мюзик-холле — это место, где комики отпускают грязные шутки, а по сцене маршируют совершенно голые девицы. После них на сцену выходила твоя мать и пела популярные любовные песенки. На ней было ярко-красное платье и красные туфельки, как я слыхал, ее излюбленный сценический наряд. Тогда она была известна как Мэдди. Вот почему я сказал, что восхищаюсь тем, как ей удалось после замужества стать респектабельной дамой. У тебя это тоже должно вызывать восхищение.
— Я не верю ни единому твоему слову! Ты все это выдумал! — кричала потрясенная Дельфина, яростно отказываясь чему-либо верить.
— Спроси у кого угодно. Если думаешь, что я соврал, расспроси бабушку, дедушку, своих родителей. Все это — чистая правда. Я с детства знал всю эту историю и поражаюсь, как им удалось скрыть ее от тебя. Впрочем, наверняка именно поэтому они так долго и не хотели привозить тебя на родину.
— Отец постоянно получал назначения за границу, и нам приходилось жить там. — Дельфина зарыдала.
Бруно съехал на обочину и заглушил мотор.
— Удивляюсь, что ты не знала этого, Дельфина. Пожалуйста, не плачь. Послушай, я был уверен, что тебе все известно… Это случилось так давно, что уже потеряло значение за столько лет. Ну перестань, позволь мне вытереть твои слезы. Понимаешь, в детстве мне приходилось нелегко, я совсем не знал матери, да и отца тоже, ведь он всегда был где-то далеко. Я рос сиротой. Тебе бы понравилось, если бы тебя воспитывали дед и бабка?
— Если тебе так не хватало отца, почему ты не приехал к нам?
— Я хотел! Но дед и бабка Сен-Фрейкуры не позволяли мне даже поехать познакомиться с вами и повидаться с ним. Они очень старомодны и опасались, что твоя мать будет дурно влиять на меня.
— Это самое глупое, что я когда-либо слышала!
— Но они так считали. Чтобы это понять, надо знать их лучше.
— Мне никогда не понять таких людей! — пылко воскликнула Дельфина.
— Тебе этого и не нужно. Послушай, мне, наверное, не следовало тебе ничего говорить. Давай сделаем вид, что ты ни о чем меня не спрашивала, а я ничего тебе не говорил, ладно? Зачем думать о бреднях стариков? Ну же, Дельфина, высморкайся. Мы почти приехали. Сейчас зайдем в кафе, выпьем лимонада, потом побродим по городу. Раз уж мы здесь оказались, пойдем взглянем на кафедральный собор, чтобы доставить удовольствие бабушке.
«Надо будет обязательно расспросить маму», — решила Дельфина, пока Бруно заводил автомобиль. Слова брата или бабушки не вызывали у нее доверия. А вдруг ее мать, действительно, убежала из Дижона в Париж, когда ей было семнадцать? Что, если у нее, действительно, были любовники?
Мать никогда не рассказывала Дельфине о своей молодости, о том, как она ходила на приемы, на свидания с мальчиками, как ее приглашали на танцы. Не говорила она и о том, как познакомилась с отцом, — именно об том матери обычно рассказывают дочерям. В этом… во всем этом была какая-то… странность. Не то чтобы тайна, нет, но что-то… утаенное, чему Дельфина даже не могла подобрать названия. Какая-то недосказанность, словно вырванные из книги страницы. Какой-то провал, подсказывавший Дельфине, что ее мать чем-то отличается от матерей ее школьных подруг. А что, если Бруно говорил правду? Что, если она на самом деле была… Мэдди?
Конечно, она ему не поверила, но все равно ничего никому об этом не скажет. «Ничего не хочу об этом знать, — с вызовом думала Дельфина. — Кому до этого дело?» И сама она об этом больше думать не станет. Все это совершенно неважно, если даже это и правда.
Как-то после обеда Жан-Люк де Лансель попросил сыновей и Бруно пройтись с ним.
— Вам, пожалуй, нужно захватить свитера, — сказал он. — Кажется, сегодня довольно прохладно.
Поль и Гийом переглянулись. Очевидно, отцу в этот жаркий вечер не терпелось посетить свои погреба, которые, как и во всей Шампани, так глубоко уходили в глубь мелового массива, что в них и в жару и в холод постоянно сохранялась температура десять градусов по Цельсию.
— Я обойдусь без свитера, дедушка, — сказал Бруно, когда Жан-Люк достал из шкафа теплую куртку и перекинул ее через руку, как и свитер, который он взял для себя.
«Так Бруно, оказывается, не спускался прежде в погреба», — отметил про себя Поль, когда все четверо двинулись в путь. Возможно, отец считал, что он еще слишком молод. В конце концов, он же не пригласил туда ни Дельфину, ни Фредди, ни даже Еву, хотя погреба, несомненно, были самым интересным из всего, чем владели Лансели. Они, конечно, не могли сравниться ни с огромными погребами, принадлежащими такому винодельческому гиганту, как «Моёт и Шандон», ни с необычными по архитектуре погребами Поммери, где все галереи различались по стилю арочных сводов — романских, готических и нормандских.
Посещение погребов большой винодельческой фирмы стало бы откровением для любого, кто считал, что винный погреб — тонущий во мраке, мглистый и заросший паутиной каменный мешок. В погребах Ланселей, как и во всех других, ничего подобного не было. Четверо мужчин оказались в настоящем подземном городе с превосходным освещением, вентиляцией и булыжными мостовыми. К широким проходам примыкали более узкие, пересекавшиеся между собой в переходах этого лабиринта. Незнакомый с его планом человек рисковал, не пройдя и сотни метров, окончательно здесь заблудиться. Стены двухметровой высоты были заставлены тысячами бутылок шампанского и разгорожены тонкими полосками дерева. Из них формировались длинные штабеля трехметровой толщины, с ровными, словно выделанными руками каменщика, краями, защищенными известняковыми стенами.
Бруно с удовольствием надел куртку, протянутую дедом. Жан-Люк и Гийом бродили между стеллажами с шампанским, останавливаясь то тут, то там, чтобы вытащить и показать Полю и Бруно какую-нибудь особо примечательную бутылку.
— Все наши виноградники пришлось пересаживать заново после того, как их впервые поразила филлоксера… Насколько мне известно, во всей Шампани не осталось ни одной здоровой лозы, — задумчиво заговорил Жан-Люк. — Конечно, жаловаться не следует, но, по-моему, очень неудачно, что из-за депрессии приходится снижать цены на виноград. Людям становится не по карману наше вино. Заказы все уменьшаются, ведь так, Гийом? Введение некоторыми странами сухого закона тоже не улучшает положения. Однако мы в Шампани переживали и худшие времена; не сомневаюсь, что они ждут нас и в недалеком будущем.
Он остановился у дальней стены погреба. Бруно оглядывался, пытаясь угадать, где расположен вход в подземелье. Его потрясли размеры этого мелового подземелья. Охваченный легкой дрожью, он повернул назад, очевидно, не испытывая желания выслушивать на таком холоде рассуждения деда.
— Погоди минутку, Бруно. Я должен тебе кое-что показать. Каждый Лансель должен знать о тайном хранилище — святая святых нашей семьи. Никто не знает, что готовит нам будущее. Гийом!
Виконт шагнул к стене, и Гийом сильно надавил на секцию известняка, отличающуюся от любой другой лишь легкой царапиной на поверхности. Она повернулась на скрытых шарнирах, открыв металлический замок. Жан-Люк выбрал маленький ключик из своей связки, вставил его в щель замка и открыл дверь в стене, сложенной из массивных блоков известняка. Первым исчезнув в темном проеме, он включил электрическое освещение. Перед ними был второй погреб, целиком заполненный мерцающими в полутьме бутылками шампанского. Вино на стеллажах высотой в двадцать бутылок походило на золотые слитки: сверкала каждая бутылка, обернутая двумя ярлыками с позолотой и с горлышком, обернутым нарядной золотистой фольгой.
— Здесь в основном бутылки обычного размера, — сказал Жан-Люк. Заметив благоговейный трепет, охвативший его спутников, он с пониманием покачал головой. — Здесь собраны сорта «Магнум», «Жеробоам», «Риобоам» и «Метузела». Хотя для них требуются емкости большего размера, они, к сожалению, хранятся в обычных бутылках. Условия для хранения тут идеальны, и тем не менее я раз в двенадцать лет изымаю отсюда марочное вино и сбываю его на рынке, потому что даже самое лучшее шампанское теряет вкусовые качества после двенадцати лет выдержки. Я неукоснительно заменяю их, едва только выдается удачный год и мы получаем вино нужного качества — независимо от того, как это влияет на прибыль. Бутылки с вином не очень удачного урожая я заменяю каждые четыре года, но этот погреб всегда остается полным. Всегда. Даже если нас постигнет настоящее бедствие, то есть выдастся год, когда мы получим совсем негодное вино, я не трону этот погреб… Ни за что, даже если выдастся несколько плохих лет подряд. Это сила «Дома Лансель». Наше сокровище, бесценный клад. Мы называем его «Трезор»[10].
— Какой смысл хранить огромный погреб шампанского, которое только продаешь и заменяешь, продаешь и заменяешь? Какая польза от этого запаса? — озадаченно спросил Бруно.
Жан-Люк улыбнулся внуку и обнял его за плечи. Все это всегда делалось для блага семьи. Он с радостью принялся объяснять:
— Вернувшись домой после окончания войны в восемнадцатом году, я обнаружил, что итальянский генерал и его штаб, которые использовали замок как свою резиденцию, извели весь запас шампанского в погребах. Не знаю, может, они в нем купались, но все бутылки до единой, все сотни тысяч, оказались пустыми. Это же бывало здесь и раньше, при жизни моего деда, в тысяча восемьсот семидесятом году, когда Вальмон заняли немецкие войска во время франко-прусской войны. Тогда, в восемнадцатом, наши виноградники пришли в жалкое состояние. Обстрелы, частенько случавшиеся в последние месяцы окопной войны, просто сровняли многие из них с землей… Понадобилось три с половиной года напряженного труда, Бруно, а также немалая часть фамильного состояния, чтобы восстановить их и получить с новых посадок урожай в довоенном объеме. Мы в значительной мере возместили наши потери. Однако, хотя сейчас наш банковский баланс в порядке, большая часть наших лоз — увы — достигла среднего возраста.
— Что? — спросил Бруно, не понявший так же, как Поль и Гийом, его слов.
— Лоза набирает полную силу к десяти годам. В этом возрасте виноград плодоносит лучше всего, — пояснил Жан-Люк. — К пятнадцати годам он достигает своего среднего возраста, а после двадцати уже почти непригоден для сбора урожая — это его старость. Старые лозы надо выкапывать и сажать новые. Поэтому для виноградников, посаженных в тысяча девятьсот девятнадцатом, лучшие годы уже миновали. Они будут приносить пользу еще максимум восемь, от силы — десять лет.
— Я все еще не понимаю, зачем хранить здесь эти бутылки? — нетерпеливо перебил Бруно, мечтавший поскорее выбраться из холодного погреба, но дед неторопливо продолжал:
— Кто знает, что готовит нам будущее? Неизвестно, удастся ли посадить новые лозы, когда возникнет такая необходимость. А вдруг, и этого я боюсь больше всего, разразится новая война? Германия перевооружается. Первое место, куда Германия направит свои армии во Франции, это Шампань. Так было всегда. У нашей плодородной земли дурное расположение. Не сомневаюсь, что у Гитлера уже есть планы, как распорядиться нашим наследием, поэтому я делаю все, что в моих силах — каждый год закладываю на хранение большую часть лучшего вина и храню его здесь столько, сколько возможно. Если начнется новая война, то после ее окончания Лансели вернутся в Вальмон и найдут клад, о котором не знает никто, кроме нас и трех Мартенов, смотрителей наших погребов, — кузенов, которым я доверю и свою жизнь. Они доставляют бутылки в это хранилище, и если понадобится, мы сможем, продав это шампанское, возродить наши виноградники — перепланировать, засадить заново и вырастить молодые лозы. В этом смысле я ничего не боюсь: пока жива цивилизация, шампанское всегда будет в цене, спрос на него никогда не исчезнет.
— Мама знает про этот погреб? — спросил Поль.
— Конечно. Женщины смыслят в виноградарстве и виноделии не меньше… а иногда и больше мужчин. Достаточно вспомнить, например, как умело в прошлые времена вела хозяйство вдова Клико и неотразимая мадам Поммери. Или наших современниц мадам Болинье и маркизу де Суаре д'Олан из «Дома Пинер-Эдисьен». Да, твоя мать знает про этот погреб, и тебе, возможно, когда-нибудь захочется рассказать о нем Еве. Но девочки пока еще слишком молоды, чтобы забивать им головки такими мрачными предчувствиями. Теперь, перед уходом, давайте выпьем по бокалу шампанского, благо его даже не надо охлаждать.
Виконт повернулся к столику у входа в секретный погреб: на нем стояли перевернутые бокалы, прикрытые от пыли куском чистого холста. Не потревожив другие бутылки, он вытащил из реек бутылку редчайшего розового вина и откупорил ее, осторожно действуя щипцами с плоскими краями. Над горлышком задымился и исчез нежный, словно вздох, дымок. Только после этого виконт на две трети наполнил свой бокал шампанским, покрутив его, чтобы пробудить вино от спячки. Шампанское вспенилось и заиграло. Гийом, Поль и Жан-Люк одобрительно смотрели на быстро исчезающую пену. Когда виконт поднес бокал к свету, они с восхищением увидели ни с чем не сравнимый бледно-розовый оттенок вина и наклонились, чтобы полюбоваться зарождающимися на дне и быстро всплывающими на поверхность пузырьками одинакового размера: это говорило о превосходном качестве вина. Виконт лишь понюхал шампанское, затем передал бокал Бруно, посоветовав ему прислушаться к шуму пузырьков.
— Они умеют говорить, но не все об этом знают и понимают их, — мягко сказал он. Наполнив все бокалы, Жан-Люк повертел свой в ладонях и наконец попробовал шампанское. — За будущее! — провозгласил он, и все дружно выпили. Когда Бруно оторвал губы от бокала, дед спросил: — Ты заметил, что шампанское имеет один вкус на языке и совсем другой после того, как его проглотишь?
— Если говорить честно, нет, не заметил.
— Ах, в следующий раз будь внимательней, мой мальчик. Это скорее внутренний жар, чем какой-то определенный вкус, и он присущ лишь безупречному шампанскому. Он называется «Прощание».
Несколько дней спустя, туманным парижским вечером, виконт Бруно де Сен-Фрейкур де Лансель, как его представляли визитные карточки, — хотя при крещении в его полное имя не было внесено имя матери, — бросил карты на стол в игорной комнате своего клуба и сказал друзьям:
— Господа, на сегодня я — пас.
— Ты так быстро покидаешь нас, Бруно? — спросил его ближайший друг Клод де Ковиль.
— Бабушка просила сегодня пораньше прийти домой. Она ждет гостей.
— Ты — образцовый внук, Бруно, — насмешливо заметил Клод, — выходишь из-за стола, когда удача улыбнулась тебе. Это дурная примета. Однако, может, я выиграю разок для разнообразия, когда ты уйдешь.
— Желаю удачи, — сказал на прощание Бруно.
Покинув клуб, он взял такси и поехал на улицу Лилль. С момента встречи с Евой он постоянно ощущал в себе внутреннее напряжение и раздражение. Эти, как он считал, непозволительные эмоции требовали выхода.
— Добрый день, Жан, — поздоровался Бруно с дворецким, распахнувшим перед ним дверь одного из огромных домов. — Месье Клод дома?
— Нет, месье Бруно, он ушел еще днем, — ответил дворецкий, который служил у Ковилей всю жизнь и в прошлом частенько гонял Бруно с Клодом из кладовой дома. Сейчас он разговаривал с восемнадцатилетним Бруно, словно тот по-прежнему был школьником.
— Какая жалость, я надеялся, что он напоит меня чаем.
— Графиня сейчас пьет чай. Сегодня вечером она одна. Доложить ей о вашем приходе?
— Нет, не надо ее беспокоить… А впрочем, да, доложи. Я умираю от жажды.
Несколькими минутами позже дворецкий ввел Бруно в маленький салон на втором этаже, где Сабина де Ковиль сидела на софе перед чайным подносом, удобно положив ногу на ногу. На ней было платье из янтарно-желтого шелковистого крепа. Широкий ворот открывал взору ее белоснежную шею и часть плеча. Складки, собранные на одном бедре, придавали одеянию благородство античных линий.
Сабина де Ковиль была изящным созданием тридцати восьми лет с блестящими, прямыми, темными волосами, закрученными вокруг головы так, что они полностью закрывали уши, и тонкими, капризно изогнутыми губами, накрашенными ярко-красной помадой. В уголках ее удлиненных глаз с меланхолическим выражением всегда таилась насмешка, а низкий голос постоянно звучал нетерпеливо и раздраженно. Она одевалась в обольстительно женственные платья от Вионет. Из-за пышности форм ей уже не подходил мальчишеский стиль и туалеты от Шанель, а платья от Скьяпарелли она считала недостаточно оригинальными, простоватыми и слишком похожими на готовую одежду. Женщина, по-настоящему приверженная искусству высокой моды, не могла относиться к ним всерьез.
Графиня де Ковиль слыла одной из самых умных женщин Парижа, хотя у нее не было ни одной близкой подруги, а возможно, именно поэтому. Никто никогда не отклонял ее приглашений, однако она нередко пила чай одна.
— Если ты ищешь моего сына, Бруно, то я ничем не могу тебе помочь… Он никогда не говорит мне, куда идет и когда вернется, — сказала мадам де Ковиль, когда Жан оставил их одних.
Бруно приблизился к софе и остановился в полуметре от нее, почтительно опустив глаза.
— Я знал, что его нет дома. Я только что расстался с ним в клубе, и едва ли он выйдет оттуда раньше чем через несколько часов.
Сделав это признание, Бруно замолчал. Графиня окинула его внимательным взглядом: он стоял, скромно потупившись, и словно ждал ее приказаний. Подняв довольно крупную, не слишком изящную руку, графиня задумчиво погладила подбородок, пытаясь прийти к определенному решению. Затем опустила ноги, поставила на столик чашку и вскинула на Бруно глаза так, будто он сострил. Когда она заговорила, ее голос звучал уже совершенно иначе.
— Значит, вот как, Шарль, да? — спросила она резко и отрывисто.
— Да, мадам, — смиренно ответил Бруно, почтительно склонив голову.
— Ты поставил машину в гараж, Шарль? — последовал новый вопрос.
— Да, мадам. — Голос Бруно звучал подобострастно. Всем своим видом он изображал послушание. Его черные брови сошлись на переносице от желания угодить госпоже.
— Ты помыл ее и вытер до блеска?
— Да, мадам. Именно так, как вы приказали.
— Ты принес все пакеты, за которыми я тебя посылала?
— Они все здесь. Куда прикажете положить их? — спросил Бруно. Его верхняя губа угодливо вытянулась вперед.
Сабина де Ковиль молча встала и направилась в затемненную спальню, где горничная уже опустила шторы на окнах.
— Можешь положить их здесь, Шарль, — сказала она. Характерное для нее нетерпение явственно зазвучало в голосе графини.
Бруно повернулся и запер за собой дверь спальни.
— Я еще нужен мадам?
— Нет, Шарль, ты можешь идти.
Бруно взял руку графини, словно намереваясь поцеловать ее. Вместо этого он припал к ее ладони пухлыми губами так, что она почувствовала на своей мягкой коже его теплое дыхание. Затем, не отпуская ее руки, он поднял голову. Сабина де Ковиль прикрыла глаза, испытав неожиданное удовольствие.
— Можешь идти, Шарль, — повелительно повторила она.
— Сомневаюсь, мадам, — сказал Бруно и потянул ее руку вниз, чтобы она коснулась его паха, где под брюками выступал его напряженный пенис.
— Прекрати, Шарль.
Графиня попыталась отдернуть руку, но Бруно твердо сжал ее кисть, заставив Сабину обхватить свою возбужденную плоть. Сабина де Ковиль опустила веки, словно прислушиваясь к какому-то тихому, почти невнятному звуку и ощущая, как пенис набухает под ее длинными пальцами. Он стал огромным. Ее тонкие губы невольно приоткрылись, дыхание стало отрывистым, а на красивом лице появилось плотоядное выражение гурмана.
— Мадам должна стоять спокойно. Мадам должна делать лишь то, что я ей скажу, и ничего больше, — хрипло проговорил Бруно. — Мадам все поняла?
Графиня кивнула и почувствовала все разгорающийся жар между бедрами. Внезапно она заметила свирепость, проступившую в чертах юноши. На его виске забилась жилка, и ей страстно захотелось впиться губами в его пухлый, обещающий наслаждение рот, но она сдержалась.
— Мадам должна прислониться к стене, — глухо прорычал Бруно. — Не нужно снимать туфли.
Графиня выпрямилась. Ее грудь гордо торчала вперед. Бруно встал перед ней почти вплотную. Его ладони грубо взвесили ее груди, большие и указательные пальцы нащупывали соски под тонкими складками шелка. Отыскав соски, Бруно начал умело пощипывать их. Он сильно сдавливал их, причиняя ей боль. Затвердевшие соски так жаждали прикосновения его губ, что графиня, вопреки своей решимости стоять неподвижно, качнулась навстречу Бруно, однако он прижал ее плечи к стене.
— Я же сказал мадам не двигаться, — неумолимо приказал он.
Пока одна его рука продолжала ласкать ее сосок, другая мучительно медленно заскользила вниз по шелку, покрывавшему пышное, упругое тело графини. Наконец рука наткнулась на то, что искала, и начала растирать твердый бугорок плоти внизу живота. Графиня снова попыталась выгнуться ему навстречу, чтобы коснуться юноши, но Бруно снова заставил ее стоять неподвижно. Его пальцы, подобрав шелк, проникли между ее ног. Прикосновения Бруно были сладостными: легкими, сильными, ускользающими, дерзкими. Полностью отдавшись своим ощущениям, графиня застыла в ожидании. Ее дыхание участилось, а голова запрокинулась, выражая полную покорность. На шелке появилось влажное пятно.
— Мадам может встать коленями на кресло возле кровати, — скомандовал Бруно.
— Я…
— Мадам сделает так, как я сказал.
Графиня прошла через комнату, опустив голову и не отрывая глаз от ковра. Слишком возбужденная, она не хотела, чтобы юноша увидел выражение ее лица. Шелковое платье свисало складками с ее полного тела, когда она прислонилась коленями к краю кресла, а руками взялась за спинку. Бруно опустился на ковер позади нее и задрал ей юбку до талии. Она не надела белья, ее округлые ягодицы были обнажены. Ноги до середины бедер были обтянуты шелковыми чулками, внизу живота виднелась тонкая полоска черных волос. Бруно минуту наслаждался ее беспомощным видом, потом наклонился и прижался своими женственными губами к волосам между ее ногами. Графиня застонала.
— Если мадам издаст хотя бы звук, я уйду, — пригрозил Бруно.
Графиня покорно кивнула, стоя неподвижно и не отвечая на действия юноши. Все ее ощущения сконцентрировались на его горячем языке, мягких покусываниях, игре его губ, на руках, которыми он помогал себе, облегчая доступ к желаемому.
Поняв, что Бруно расстегнул брюки, она содрогнулась от сладострастного предвкушения. Бруно стянул ее с кресла так, что ее живот оказался на краю сиденья, а колени опустились на ковер. Теперь ее лоно было на одном уровне с его выпрямившимся раздутым пенисом. Почувствовав его прикосновение, графиня затаила дыхание. Сгорая от нетерпения ощутить его целиком, она не дернулась назад, ибо по опыту знала, что этого делать не следует. Она ждала неподвижно, усилием воли сдерживая голод тела, пока он, сам не выдержав этой муки, не вогнал в нее пенис. Его руки сжимали ее талию, не давая графине пошевелиться, пока он двигался в ней с жестокостью и бессердечием зверя.
Совершенно не заботясь о ней, он грубо загонял свой орган в ее широко открытое влажное лоно с почти убийственной частотой. Наконец после длительного горячего спазма, от которого его лицо исказилось в беззвучном крике, Бруно с огромным облегчением почувствовал, что освободился от изматывающего напряжения. Получив полное удовлетворение, он стащил графиню с кресла и швырнул ее на ковер лицом вверх. Затем грубо впился зубами в ее плоть между ногами, пока она не задрожала и не забилась в чудовищном экстазе.
С минуту оба молча лежали на полу.
— Я еще нужен мадам? — Голос Бруно снова стал смиренным, как у слуги.
— Нет, Шарль, сегодня ты мне больше не понадобишься, — отрывисто отозвалась графиня.
Юноша встал, привел в порядок одежду, отпер дверь спальни и ушел, не произнеся ни слова и не попрощавшись. Сабина де Ковиль лежала на ковре, не имея сил подняться. Ее чувственные губы, которые Бруно ни разу не поцеловал, кривились в довольной усмешке, а в голове бродили счастливые мысли: он превзошел все ее ожидания.
8
«Stratocumulus, Stratus, Cumulus, Cumulonimbus», — повторяла про себя Фредди, любовно играя словами и ощущая при этом огромное удовольствие, какого никогда не получала от стихов. Метеорологические термины для различных типов низких облачных формаций не имели для нее никакой практической ценности: пятнадцатилетней ученице на пилота разрешалось подниматься в воздух только при абсолютно чистом небе. Однако она не удержалась и все же переписала названия облаков в тетрадку.
— Извини, не могла бы ты подать мне мой пакет? — попросил раздраженный голос.
Фредди повернулась и с виноватым видом протянула покупательнице двести граммов конфет. Проговаривая другие прекрасные слова: «Altocumulus, Alto-stratus, Nimbostratus», обозначавшие названия облаков, формирующихся на высоте выше двух тысяч метров, и, гадая, кто мог их придумать, Фредди быстро, хотя и с отсутствующим видом, насыпала в другой пакет полкило мармелада в шоколаде. Она была продавщицей кондитерского отдела, а у прилавка собралась очередь нетерпеливых покупательниц.
Все утро, не отрываясь от работы, Фредди обдумывала состояние своих финансов. С тех пор, как в прошлом январе ей исполнилось пятнадцать, сумма, выдаваемая ей родителями на карманные расходы, увеличилась с двадцати пяти до тридцати центов в неделю, что составляло огромные деньги в годы великой депрессии. Теперь, к началу ноября 1935 года, у нее набралось ровным счетом тринадцать долларов пятьдесят центов.
Фредди покачала головой, вспомнив об одном своем пристрастии, которому не могла противиться, хотя оно съедало львиную долю ее денег: она до безумия любила кино. «Последнюю эскадрилью» с Джоэлем Маккри в главной роли она посмотрела пять раз, а «Центральный аэропорт» и «Ас из асов» — по шесть раз каждый. Из-за школьных экзаменов ей удалось посмотреть фильм «Орел» и «Ястреб» с Фредериком Марчем и Кэри Грантом в главных ролях всего четыре раза, зато во время каникул она девять раз сходила на «Ночной полет» с Кларком Гейблом. Следующие несколько недель в кинотеатре будут идти «Предельная высота» и «Небесные гладиаторы», подумала она обреченно, зная, что ей не следовало бы тратить деньги, но придется платить по десять центов за билет на каждый сеанс.
В этом году она уже истратила впустую — нет, не впустую, а с прицелом на будущее — на билеты в кино целых три доллара. Еще три доллара ушло на подарки к дням рождения Дельфины и папы с мамой. Если бы только у нее было время смастерить для них подарки в школьной мастерской, она не стала бы покупать их в магазине, но она не умела ни вязать, ни вышивать, ни шить, поэтому у нее осталось семь долларов пятьдесят центов — в принципе немалая добавка к приработку.
С заработанными деньгами дело обстояло лучше. Работая по субботам в кондитерском отделе магазина Вулворта, она получала тридцать пять центов в час, что приносило два доллара восемьдесят центов в неделю. От родителей она скрывала, что работает вот уже три месяца. Ей удалось сохранить почти все заработанные деньги, кроме пятидесяти центов, на которые Фредди купила мужские джинсы «Ливайс» для своих летных уроков, а также расходов на сандвичи, которыми подкреплялась в обеденный перерыв.
Ее доход от приработка составлял сейчас двадцать шесть с половиной долларов. Если сложить их с семью с половиной долларами, оставшимися от карманных денег, получится тридцать четыре. «Тридцать четыре доллара — огромная сумма, если ты не учишься летать», — с огорчением подумала Фредди. Пока у нее набралось всего три часа летных занятий — по полчаса в неделю, и она выложила за них двенадцать долларов из своих сбережений. Мак, слава Богу, сделал ей поблажку и снизил обычную ставку за урок с шести до четырех долларов в час — его цена для тех, кому нет шестнадцати, сказал он. Значит, в копилке осталось двадцать два доллара, их хватит еще на пять уроков, если она сможет и дальше беспрепятственно ездить каждую пятницу в Драй-Спрингс и обратно. Первоначальная летная подготовка насчитывала восемь часов занятий. Если Фредди не бросит работать, то сможет купить для родных и подарки к Рождеству: денег хватит на все.
Каждый способен научиться летать за восемь часов! «Может быть, Мак позволит мне самостоятельно поднять самолет в воздух раньше, чем мне исполнится шестнадцать?» — мечтала Фредди, взвешивая мармелад.
В конце концов, разве Матильда Муасан не научилась летать всего за тридцать одну минуту, став второй женщиной, получившей в США лицензию пилота? Но это произошло в 1911 году, еще до того, как появились все эти правила и кодексы, придуманные, чтобы отвадить людей от воздухоплавания. Впрочем, чему тут удивляться, первые аэропланы были настолько простыми, что походили на велосипеды, к которым кто-то, шутки ради, приделал крылья. У них не было даже тормозов, не говоря уже о панели управления. Они больше напоминали странные гимнастические снаряды с приделанными где-то посередине колесами и, кроме крыльев и способности отрываться от земли, не имели ничего общего с новеньким красным «Тейлор Кабом» Мака с закрывающейся кабиной.
Жаль, что ей приходится так много врать, раскаивалась Фредди, наполняя очередной пакет лакричными палочками. Если бы она до сих пор училась в школе «Святого Сердца» под самым носом у проницательной Дельфины, ей вряд ли удалось бы все это провернуть, но родители не очень возражали против того, чтобы она перешла в местную общую школу Джона Маршалла. Образование, полученное в школе «Святого Сердца», было достаточно хорошим, так что, прослушав в университете во время летних каникул курс лекций, она перескочила через класс. Теперь пятнадцатилетняя Фредди училась в старшем классе школы Джона Маршалла.
Врать она начала три месяца назад, когда возобновились занятия в школе. Чтобы объяснить, где она пропадает каждую субботу, Фредди сказала, что ездит на весь день в гости к подруге в Беверли-Хиллз. Она также выдумала, что дома у той есть плавательный бассейн, где Фредди тренируется, чтобы попасть в школьную команду по плаванию. Родители поверили этой небылице, поскольку Фредди уже была звездой школьной команды по прыжкам в воду, единственной девочкой в школе, отважно нырявшей в воду с высокого трамплина. Чтобы объяснить, почему она последние шесть недель так поздно возвращается по пятницам из школы, Фредди наврала про дополнительные занятия: мол, она задерживается после уроков и рисует декорации к ежегодному рождественскому спектаклю. На самом же деле по пятницам она брала уроки у Мака. Чтобы объяснить Маку, почему она берет у него один получасовой урок в неделю, хотя намеревается солировать в воздухе в день своего шестнадцатилетия, она придумала себе гору домашних заданий, хотя на самом деле успевала выполнить их во время школьных перемен. Чтобы объяснить родным, почему она тратит так много времени на занятия после ужина, когда она изучала основы летного дела, Фредди сказала, что хочет получить на выпускных экзаменах самые высокие оценки и решила готовиться к ним заранее. Значит, набралось четыре лжи… пять, подсчитала Фредди, если включить поездки на попутных машинах в Драй-Спрингс и обратно. Она никогда не упоминала об этих поездках, но знала, что ответит, если ее о них спросят.
«Cirrus» — произнесла она про себя с выражением. — Cirrocumulus, Cirrostratus». Облака, с которыми она однажды повстречается на высоте, превышающей пять километров, — властелины атмосферы. К сожалению, ей не удалось придумать ничего убедительного, чтобы по пятницам ее пораньше отпускали из школы. Тогда она сразу уезжала бы на аэродром в Драй-Спрингс. Увы, преподаватели школы Джона Маршалла принадлежали к типу могучих «цирростратусов». За свою практику они уже слышали все отговорки, какие только приходят в головы подросткам, и реагировали только на записки родителей. Ну сколько записок она могла написать, даже стащив у матери ручку и умея подделывать ее почерк? А что, если бы учитель вздумал проверить ее, позвонив матери? Нет, этот вариант она отвергла сразу.
Взвешивая мешок тянучек, Фредди уже не в первый раз спрашивала себя, не разумнее ли рассказать родителям правду. Но сразу же возникал другой вопрос: а что, если они не разрешат? Вероятность такого исхода была слишком велика. Рисковать нельзя. Скрывать то, о чем никто не знает, конечно же, дурно, но в десять раз хуже лгать, нарушая запрет. Другая возможность — оставить даже мысль о полетах, пока она не достигнет возраста, когда сможет делать все, что угодно, — вообще никуда не годилась. Это означало бы потерять целых пять лет до достижения совершеннолетия в двадцать один год. По закону она имеет право подняться в воздух самостоятельно, когда ей исполнится шестнадцать, и 9 января 1936 года она поднимет самолет в воздух. Должна. Затем еще десять часов летной подготовки, и она сможет сдать экзамен на получение лицензии пилота. А уж потом и только потом Фредди начнет набирать летные часы. Это позволит ей впоследствии принимать участие в воздушных соревнованиях, а может, и совершить полет, на который до нее еще никто не отваживался. Однако она, пожалуй, чересчур спешит строить планы на будущее, хотя пока еще даже не представляет себе, где добыть денег на эти дополнительные десять часов летной подготовки.
«Ничего, другие женщины смогли это сделать, — твердо сказала себе Фредди, решительно отметая сомнения. В прошлом году, по сведениям ежегодника «Авиация», который она отыскала в публичной библиотеке, лицензии пилотов имели более четырехсот американских женщин. — Они сумели изыскать способы, значит, смогу и я», — поклялась себе Фредди, шустро работая лопаточкой.
С облегчением заметив, что наступило время ленча, она подошла к отделу, где у Вулворта продавали сандвичи. Продавец уже выставил для нее на прилавок стакан молока и сандвич с тунцом. Фредди с благодарностью посмотрела на него. Ее ослепительно синие глаза сияли, как чистое небо, чего сама Фредди никогда не замечала.
За ленчем направление ее мыслей изменилось. Забыв про денежные проблемы, Фредди начала думать о наземной подготовке к полетам. Мак предупреждал, что она ее возненавидит. «Конечно, ты хочешь летать, малышка, однако, поверь мне на слово, предполетная подготовка самолета встанет тебе поперек горла», — предсказывал он.
Она ненавидела «Ведение домашнего хозяйства», с улыбкой подумала Фредди, а предполетная подготовка пришлась ей очень даже по сердцу. «Теорию полетов» она зачитала до дыр. Подъемная сила! Разве можно вообразить слова прекраснее? Конечно, она знала, что самолеты могут летать — это доказали Леонардо да Винчи и братья Райт. Однако не понимала, почему это происходит, пока не начала заниматься с Маком. Подъемная сила, славная подъемная сила! И вызывающий такую же благоговейную дрожь угол атаки. Он обозначает угол соприкосновения крыльев самолета с воздухом — термин столь же особенный, как и подъемная сила, поскольку это единственное, что может контролировать пилот. Если угол атаки выбран неправильно, то самолет, направленный слишком высоко или чересчур низко, рискует разбиться при взлете. Об этом Фредди размышляла долгими часами. А чего стоило среднее время по Гринвичу, то есть время на меридиане, где расположена Гринвичская обсерватория в Англии?! Фредди доставляло огромное удовольствие знать, что абсолютно все в мире авиации, от лучших пилотов, летающих на самых мощных самолетах, до Фредди де Лансель, поедающей сандвич с тунцом, неукоснительно сверяют время по Гринвичу.
— Но я его не заказывала, — сказала Фредди продавцу, который подвинул к ней еще один сандвич.
— Я тебя угощаю, — ответил он, удивляясь, что Фредди не наелась, проглотив первый сандвич. Ну разве он мог допустить, чтобы такая красавица осталась голодной? Он всю неделю ждал момента, когда сможет полюбоваться, как она ест. Но она, должно быть, влюблена, судя по отсутствующему задумчивому взгляду, и ей никогда не хочется поболтать с ним. Частенько в свободные минуты он поглядывал в сторону кондитерского отдела и сразу узнавал ее по длинным волосам, блестящим, как новенькие медные монеты, и по росту — она была почти на голову выше других женщин.
Откусив от второго сандвича, Фредди подумала о Дельфине: приближаясь к восемнадцатилетию, та становилась все красивее — так казалось даже младшей сестре. Ее особая нежность и хрупкость не исчезли с годами, как это случается, когда девочки взрослеют. Идеальная форма ее губ и приподнятые уголки рта таили непревзойденное очарование, и это нельзя было приписать губной помаде, которой Дельфина пользовалась весьма умеренно. Красота старшей сестры была для Фредди непостижимой: глаза Дельфины стали еще больше, каштановые волосы обрамляли лицо с высокими скулами и маленьким подбородком. Казалось, что на семейных фотографиях она стоит в центре группы, поскольку Дельфина сразу привлекала к себе внимание.
Однако, став еще красивее, Дельфина осталась такой же несносной и по-прежнему доводила Фредди до белого каления. Застав однажды сестру за чтением книги о летчиках, Дельфина решила, что та мечтает стать… стюардессой. Специально отыскав в газете объявление о наборе стюардесс, она весело зачитала его Фредди:
— Ты должна быть дипломированной медсестрой не старше двадцати пяти лет, весом не больше пятидесяти двух килограммов, а ростом не выше метра шестидесяти… По этому показателю ты уже не подходишь, бедняжка. Так, не замужем… Ну, с этим никаких трудностей не предвидится. Но самое смешное, что тебя не возьмут из-за роста. Тут написано, что ты должна разносить пассажирам еду, помогать дозаправлять самолет топливом и переносить багаж, мыть пол в салоне, всегда иметь при себе расписание железных дорог на случай незапланированных посадок и… слушай, это самое классное, присматривать за пассажирами, когда они отправляются в туалет, чтобы случайно не вывалились из самолета через запасной выход!
— Ах, как смешно! — заикаясь от негодования, воскликнула Фредди. Она покраснела оттого, что сестра застала ее за книгой о приключениях в Канаде молодого летчика-бродяги, хотя ей следовало бы, подобно другим девушкам, читать романтические повести и романы о любви.
Впрочем, что ж тут удивительного? В отличие от других девушек, она никогда не говорила: «Пожалуйста, сделай для меня то-то и то-то» или «Выбирай: или я, или что-то там еще»; не тратила карманные деньги, чтобы повздыхать над Гретой Гарбо в «Королеве Кристине» или порыдать над Кетрин Хэпберн в роли Джо в «Малышке»; она не покупала губную помаду и не состояла в клубе поклонниц Джоан Кроуфорд, не выщипывала тайком брови и не примеряла бюстгальтер матери, когда родителей не было дома. И это далеко не все, чего она не делала и чем не интересовалась и что, как она понимала, выделяло ее из толпы сверстниц, думавших только о танцах, новых нарядах и свиданиях с мальчиками. И надо сказать, сама Фредди была этим очень довольна. «Все это ерунда, — философски заключила она, допивая молоко. — Подумаешь, большое дело, зато они не умеют летать!»
— Не хочешь газировки? — спросил продавец. — Бесплатно.
— Вот здорово! Спасибо! Хотя нет, не надо, но все равно спасибо. Я и так работаю в кондитерском отделе. Надо беречь зубы, — с сожалением отказалась Фредди. Она предпочла бы попросить у него еще один сандвич, но на это у нее не хватало наглости.
Теренс Макгир сидел за столом в своем кабинете. Вместо того чтобы разбираться с неоплаченными счетами, он думал о своем «неоперившемся птенчике» — Фредди де Лансель. Он научил летать многих мужчин, юношей и даже нескольких женщин, но Фредди была первой, ставшей его любимицей.
Искусству летать может научиться любой, считал Макгир. Для этого нужно только понять основы теории полетов, а также иметь желание и терпение, чтобы учиться. В отличие от многих других искусств, это не требует врожденной предрасположенности и способностей. Ни у одного из его учеников, как, впрочем, и у него самого, в роду не было пилотов.
Человек рожден не для полетов, но если бы даже на планете не существовало птиц, подтверждающих возможность летать, Макгир считал, что все равно научился бы летать. Ведь если бы не было рыб, человек научился бы плавать. Возможно, люди не поднялись бы в воздух в XX веке, но рано или поздно кто-то открыл бы тайну полетов, как открыли секрет колеса, сшили первый парус, поняли, как построить пирамиду, и придумали огнестрельное оружие. Предприимчивость заложена в натуре зверя, называемого человеком, говорил себе Макгир, он добивается своего независимо оттого, что несет в себе его идея — добро или зло.
Ясно: чтобы стать пилотом, не обязательно родиться Моцартом от авиации. Правда, есть люди… хотя их очень и очень немного, с врожденным, естественным чувством полета. Конечно, абсолютное большинство тех, кого он успешно научил летать, его не имели. Однако среди них было несколько человек, которые мгновенно научились правильно вести себя в воздухе, словно обладали седьмым чувством, помимо пресловутого шестого. В том, что это седьмое чувство существует, Макгир не сомневался, хотя не мог ни измерить его, ни взвесить. Он обнаружил, что сам обладает этим чувством, впервые оторвавшись от земли. Теперь Мак был убежден, что седьмое чувство есть и у Фредди де Лансель. Ее страстное стремление летать было здесь ни при чем. То есть, конечно, одно связано с другим, однако пыл и страсть — плохие советчики там, где трудолюбие так же важно, как умение отличать правую руку от левой. И дело совсем не в ее бесстрашии: сколько пилотов, погибших во время тренировочных полетов, могли похвастаться бесстрашием. Нет, седьмое чувство — это нечто иное, чему Мак не мог подобрать точного определения, своеобразное состояние души, вызванное самим процессом полета. Высокая девушка влетала в его кабинет так, что он сразу понимал: у нее мало времени. Подходя к «Тейлор Кабу», чтобы начать предполетную подготовку, она едва заметно менялась.
Мак видел, как Фредди сосредоточенна. Следуя всегда в нескольких шагах позади, он наблюдал за ней, пока Фредди проверяла самолет. Еле державшийся крепежный болт не привлекал ее внимания, поглощенного пропеллером. Она обследовала его не только взглядом, но и кончиками пальцев, словно кожей чувствовала дефекты металла.
«Всегда можно много сказать о человеке по тому, как он проводит предполетную подготовку», — подумал Макгир. Одни слишком копаются, проверяя все по два раза и стремясь подольше не залезать в кабину. Этим лучше и не пытаться летать, хотя, приложив старание, они могут научиться и тогда избавляются от страха.
Другие все делают впопыхах, словно не понимая, что их жизнь зависит от машины, в которой все должно работать, как часы, и каждая деталь: болт, винтик и гайка, имеет свое назначение. Этих нельзя даже близко подпускать к самолетам, тем более к полетам. После первого же нарушения Мак отказывался брать таких с собой в воздух. Очень многие ошибки учеников были простительными, но невнимания при проверке самолета на земле Мак не спускал никогда.
Раз семь понаблюдав, как Фредди проверяет машину перед полетом, он готов был сесть в проверенный ею самолет с закрытыми глазами. Однако ей он этого, конечно, не говорил.
Проклятье, но ему очень нравится, как Фредди ведет себя в воздухе, подумал Теренс Макгир, поднимаясь из-за ненавистного стола с еще более ненавистными бумажками. Обычно новички мечутся по небу, соскальзывая или срываясь с ровного полета вверх, вниз, в стороны, поспешно исправляя свои ошибки, а потом то, что получилось в результате их исправления. При этом они нервничают и поминутно пугаются, как необъезженная лошадь. Словно не слыша его слов, что в их распоряжении необъятные небеса, многие из них не доверяли небу.
А небо любит, чтобы с ним обращались уважительно, оно чувствует спокойную, чуткую, но решительную и уверенную руку на штурвале и ноги на педалях-рулях.
Очень важно было и то, что с каждым занятием он отмечал у нее определенный прогресс. Именно определенность имела главное значение в этой игре… игре без всякой определенности, а вовсе не способность к полетам или даже разносторонние способности. Они мало чего стоят или почти ничего. С каждым уроком Фредди становилась все более и более предсказуемой, то есть летала все лучше и лучше, все точнее следуя его указаниям, выдерживала углы крена и виражей, скорость и высоту полета. «Точность», — не уставал повторять ученикам Макгир, борясь против всяких «так вышло» или «так получилось».
Все чаще и чаще она выполняла идеальный прямоугольник — обязательную серию виражей в воздухе и хорошую посадку. А это требовало прекрасной координации между командами разума и действиями тела. «Нет ничего проще, когда это уже пройденный этап, — подумал Макгир, — но, когда этому только учишься, это сущий кошмар постоянных ошибок».
Приземлялась Фредди с каждым разом тоже все лучше, ровно опускаясь к цифрам, обозначающим начало посадочной полосы, а затем быстро и мягко касаясь земли, почти одновременно задним и двумя передними колесами — посадка, при которой обычный пассажир не способен понять, сбросил ли скорость сам самолет, или его умело посадил пилот. Хотя все эти логически связанные между собой действия на самом деле не слишком сложны, размышлял Макгир, хорошая посадка всегда отчасти волшебство.
К счастью, малышке совсем не свойственна инертность. Даже очень аккуратный пилот с холодным рассудком не стоит и плевка в аду, если хоть на миг теряет в полете бдительность и способность немедленно реагировать на изменение обстановки, будь то внезапный порыв ветра, появление другого самолета там, где его не должно быть, выход из строя двигателя или любая другая дьявольщина, всегда подстерегающая человека, который поднимает машину в воздух. Это своего рода плата за полет или ответ на дерзкий вызов в зависимости от того, как вы на это смотрите. Если теряешь в непредвиденной ситуации скорость и высоту, значит, у тебя неприятности, но если же при этом теряешь и самообладание, и уверенность — все, ты — покойник.
Макгир любовно погладил ладонями сундучок для географических карт, который Фредди подарила ему на Рождество. Она каким-то образом сумела убедить учителей, что ей незачем изучать «Ведение домашнего хозяйства», а нужно заниматься в школьной мастерской. Именно это Мак и посоветовал ей четыре года назад, когда Фредди заставила его преподать ей первый урок летного мастерства. Он до сих пор еще помнил, что торжество Фредди побудило его тогда сказать ее отцу, что девочка ни в чем не виновата. Сундучок был высоким и широким деревянным ларцом, сделанным Фредди в мастерской по собственному проекту. В нем было несколько глубоких ящиков с металлическими ручками.
Карты, валявшиеся прежде на столе, теперь Мак аккуратно разложил по ящикам, легко выдвигавшимся и задвигавшимся, что делало пользование сундучком особенно приятным и удобным. Мак разрешил Фредди на Рождество провести в воздухе целых два часа, и неизвестно, кто из них был больше обрадован таким обменом подарками.
«Сегодня не будет никакого обмена», — подумал он, весело насвистывая и представляя себе ликование Фредди, когда он скажет ей, что сегодня вместо подарка ко дню рождения он разрешает ей совершить перелет с конечным пунктом по ее выбору и что она может летать столько, сколько захочет. Конечно, им нужно будет вернуться в Драй-Спрингс к закату, пока посадочная полоса хорошо освещена, ведь в середине зимы темнеет после пяти часов вечера.
Стояла пора зимних каникул. Поэтому Фредди обычно приезжала к нему на уроки в начале дня, а значит, могла появиться в любую минуту. Всю неделю Мак занимался с горе-пилотами: с местным врачом, подружке которого казалось, что он похож на знаменитого Линдберга; с местным банкиром, жена которого надеялась, что он станет похож на Линдберга; с местным ловеласом, который непременно хотел походить на Линдберга и надевал летный шлем с защитными очками в закрытой кабине. Немудрено, сказал себе Макгир, что он с таким нетерпением ждет урока с девушкой, напоминающей юную Кэрол Ломбард и… чем черт не шутит, Амелию Эрхарт — до того, как та коротко остригла волосы.
* * *
— Маршрутный перелет? Вот это да, Мак, не может быть! Ты не шутишь? — Фредди присвистнула от радости и в восторге запрыгала на месте, словно ей было шесть, а не шестнадцать лет. — Я никогда не получала лучшего подарка в день рождения!
— Тогда не теряй времени, — сказал Мак, перестав улыбаться. — Поблагодаришь меня, когда вернешься.
— О черт, — огорченно протянула Фредди, словно вспомнив о чем-то, что мешало ей воспользоваться бесценным подарком.
— Что такое?
— Ничего, — поспешила ответить Фредди. — Все в порядке. Только я должна сегодня пораньше попасть домой. Родители ведут нас в «Браун Дерби» на праздничный ужин, поскольку я не позволила устроить дома вечеринку в честь моего шестнадцатилетия. Можешь вообразить меня на благопристойной вечеринке по поводу дня рождения?
— Нет, конечно. Так куда мы полетим?
Фредди побывала на многих аэродромах поблизости от Драй-Спрингса, тренируясь в посадке касанием, когда самолет только чиркает колесами по земле. Одни нравились ей больше, другие — меньше.
— Сначала в Бербанк, — быстро решила она, выбрав самый крупный, оживленный, а потому опасный маршрут. — Затем в Ван Ньюис… Потом в Санта-Паулу… и через каньон Топанга в…
— Каталину? — спросил Мак. Ему нравилось наблюдать, как она садится на этом сложном горном аэродроме, с самой короткой и не прощающей ошибок посадочной полосой.
— Нет, в Майнсфилд и затем обратно.
— В Майнсфилд? Ты собираешься принять участие в национальных воздушных гонках?
— Нет, Мак, я только хочу взглянуть, что к чему. Мне любопытно. Я могу слетать туда, так почему же этого не сделать? Что в этом плохого? — слегка смутившись, ответила Фредди и вынула нужные Карты из его сундучка, чтобы составить на бумаге маршрут полета.
Поднявшись в воздух, Фредди поняла, как далеко продвинулась за три месяца учебы. Местность, простиравшаяся до самого горизонта, когда-то казалась пугающе незнакомой. Теперь Фредди видела здесь привычные ориентиры: проселочные дороги, темные углубления русел обмелевших рек, растущие по берегам оливковые деревья; необычный желтоватый оттенок долины Сан-Фернандо и даже причудливые островки обезвоженной земли рядом с пышной растительностью Калифорнии.
Фредди не спускала глаз ни с неба, ни с земли внизу, как учил ее Мак. Вертя головой из стороны в сторону, она всегда хорошо знала, что делается на земле и в воздухе. Не посмотреть, что происходит вокруг, Мак считал такой же роковой ошибкой, как не проверить перед взлетом, есть ли в баке бензин. Многие опытные пилоты, пренебрегавшие этими простыми правилами предосторожности, погибали из-за рассеянности. Пока Фредди поднималась в воздух, Мак молчал, позволяя ей делать все, что заблагорассудится, и следя, не совершает ли она ошибок. Нет никаких сомнений, она действительно рождена летать, как другие рождены наездниками или пловцами. Мак готов был поручиться, что в один прекрасный день Фредди научится всему, что он знает, а возможно, и превзойдет его.
Хотя Мак не давал на этот раз привычных инструкций, в ушах Фредди ясно звучали его слова: «Ты летишь, ориентируясь по поверхности земли. Медленно ты сглаживаешь ее и держишь фюзеляж параллельно поверхности, над которой пролетаешь. Горизонт для тебя не важен, если только там не торчат горы. Ты всегда, каждую секунду должна знать, что находится под тобой».
Когда Мак произнес эти слова впервые, Фредди почувствовала разочарование. Она представляла себе, что, едва научившись управлять самолетом, с восторгом ощутит полную свободу, оторванность от земли. Однако чем дольше она летала, тем больше земля и небо сливались в единое целое, а ее свобода реализовалась внутри гигантской, неистощимой на неожиданности чаши, края которой обрисовывал горизонт, вечно меняющийся и бесконечно манящий.
Фредди не соглашалась с Маком, что горизонт не важен. По ее мнению, горизонт, всегда возбуждавший любопытство человека, заставил его взлететь и посмотреть, что же скрывается за ним. Она догадывалась, что Мак думает точно так же, но, как ее учитель, он хотел привлечь ее внимание к другим вещам.
Незаметным для Фредди движением Мак быстро оттянул на себя рукоятку дросселя, и мощность двигателя снизилась.
— Похоже, у тебя накрылся мотор, — сказал он во внезапно наступившей тишине. — Где будешь садиться?
— По правому крылу невспаханное поле, — ответила Фредди.
— Где ты еще можешь сесть? Про поле забудь. Это слишком просто. Считай, что его здесь нет, и предположи, что долина покрыта апельсиновыми садами. Твой выбор?
— Дорога слева. Она достаточно широка, и по ней нет движения.
— А почему ты не хочешь приземлиться на полоске земли между воображаемыми садами, вон там? — спросил Мак.
Между тем Фредди, переводя глаза с панели управления на землю и обратно, начала методично планировать вниз, туда, где она намеревалась начать экстренную посадку.
— Мне больше нравится дорога… Движения на ней нет в обоих направлениях. Она чуть шире твоей полоски. Тут я смогу приземлиться против ветра и быстро остановиться. По ней же рано или поздно я смогу добраться на попутке до ближайшего города и вызвать по телефону помощь.
— Хм, — одобрительно хмыкнул Мак, видя, как Фредди образцово, словно по учебнику, заходит на посадку.
Спланировав по ветру и развернувшись на сто восемьдесят градусов в пятнадцати метрах над дорогой, она теперь скользила над ней, ровно снижаясь. Он передвинул рукоятку дросселя вперед, и двигатель вновь заревел. Фредди тут же плавно отжала штурвал на себя, чтобы набрать высоту, и, как всегда, пожалела, что экстренную посадку, которую они так часто отрабатывали, нельзя довести до конца. Вероятно, это пришлось бы не по вкусу департаменту автодорог или местные фермеры начали бы жаловаться.
Она осторожно приблизилась к Бербанку, где приземлялись самолеты всех коммерческих авиалиний, летавшие в Лос-Анджелес. Они могли связаться по радио с контрольной башней аэропорта. У Фредди рации не было, и она полностью зависела от визуальной картины напряженного воздушного движения. Справа открылось свободное пространство; она пробилась туда, и следующие минуты, пока она не оказалась первой в очереди на посадку, напоминали этикет танцкласса. Когда определяешь свою позицию в небе, надо вести себя так же вежливо, как в зале, полном танцоров.
Аэродром Ван Ньюис в долине дальше Бербанка был значительно менее оживленным. Она сразу поняла это и, слегка коснувшись колесами земли, без остановки полетела дальше в направлении Санта-Паулы.
Аэродром в Санта-Пауле, построенный всего пять лет назад, имел единственную травянистую полосу приземления. Она граничила с маленькой речкой, берега которой заросли высокими деревьями.
— Давай задержимся здесь на несколько минут, — предложил Мак. — В здешнем кафе лучшие в долине домашние пироги.
Когда они привязали самолет, Фредди вдруг осознала, что они на аэродроме одни. Вокруг стояла пугающая тишина: ни звуков урчащих моторов, ни человеческих голосов. Лишь ветер, всегда дующий на летном поле, шелестел в кронах деревьев. Было очень тепло, поэтому она стянула синий пуловер и, завязав его на талии, огляделась вокруг. Фредди осталась в летных джинсах и белой мальчишечьей рубашке. Джинсы туго стягивал кожаный ремень, однако мужские штаны мешковато сидели на ее худощавой фигуре, и их пришлось подрезать снизу по щиколотку, чтобы они не закрывали теннисных туфель.
Аэродром Санта-Паулы походил на сельский луг, но даже с закрытыми глазами Фредди поняла бы, что находится на летном поле. Пустое летное поле — ждущее летное поле. Редкий летчик сможет пролететь мимо, ибо оно что-то сулит и возбуждает, как закулисное пространство театра перед спектаклем.
Фредди и Мак молча и задумчиво проглотили по два куска яблочного пирога и выпили кофе. Продавец за прилавком спокойно читал газету, пока Фредди, тщетно пытаясь заткнуть волосы за уши, размышляла над следующим этапом полета. Горы Санта-Моники, отделяющие долину Сан-Фернандо от Тихого океана, не превышают в самой высокой точке отметки в тысячу двести метров над уровнем моря. За время предыдущих коротких учебных полетов Фредди не представлялось возможности пересечь эти горы. Ее летный опыт ограничивался пределами долины.
— Эй, Мак, мы полетим сегодня дальше или нет? — спросила она, прикончив свой пирог.
Мак сидел неподвижно, устремив глаза в небо, и словно думал о чем-то давнем-предавнем и давно позабытом.
— Это тебе решать, малышка. Сегодня твой день.
Снова поднявшись в воздух, Фредди быстро сориентировалась по компасу, взяла курс на юго-запад и начала набирать высоту, на которой ей еще не приходилось летать. Она собиралась пересечь горный хребет над каньоном Топанга. Ставшая привычной ровная местность внизу с поразительной внезапностью изменилась, когда под самолетом вздыбились горы, дикие и непроходимые, с дьявольскими вкраплениями голых зубчатых скал, горы, которым не место в Калифорнии.
Внимательно осмотревшись вокруг, Фредди подумала, что, возможно, пролетает над самым суровым, опасным и необитаемым уголком мира. Не видя и пятачка, мало-мальски годного для приземления, Фредди невольно спросила себя: не подняться ли еще метров на шестьсот на тот случай, если Мак опять выключит мотор? Тогда она сможет дольше планировать при снижении. Она покосилась на Мака. Он спокойно смотрел вниз и, казалось, скучал. «Лучше перестраховаться, чем потом жалеть», — подумала Фредди, решив немедленно набрать высоту.
— Не волнуйся. Обещаю этого не делать, — с улыбкой сказал Мак, видимо, прочитав ее мысли.
Через две минуты узкая полоска гор осталась позади, и перед Фредди внезапно, словно планета хотела продемонстрировать ей свое разнообразие, раскинулась необъятная сверкающая синь, простор которой не умещался в воображении.
Фредди, конечно, знала, что ей предстоит увидеть Тихий океан: это было ясно из карты, но оказалась совершенно не готовой воспринять чудо необозримого пространства, уходящего в бесконечность. Планета открылась перед ней с новой, доселе неизвестной стороны. Несколько парусных суденышек далеко впереди плыли, казалось, к краю этого безбрежного мира, и Фредди, словно впав в транс, полетела прямо на них. Они, конечно, были безрассудно храбрыми и дерзкими, но куда им тягаться по дерзости с ней, если она легко может обогнать их, оставить далеко позади эти жалкие бескрылые творения, полностью подвластные воле ветра! Вперед, на запад! Она летела на запад, пока кораблики не очутились прямо под ней, и снова на запад, пока они не остались далеко позади.
— Следующая остановка у нас на Гавайях? — полюбопытствовал Мак.
Фредди открыла рот: чары разрушились. Она отклонилась от курса на много километров и долго летела, ни о чем не думая, не замечая окружающего, летела по направлению к горизонту, словно зачарованная и притягиваемая невидимым магнитом.
— …Не знаю, как это получилось… черт, прошу прощения, — пробормотала она, оглядевшись по сторонам и начиная разворачивать самолет к берегу.
— Успокойся. Я специально не мешал тебе, — сказал Мак, внимательно наблюдая за действиями Фредди.
Явно ошеломленная своим непонятным и непозволительным поведением, она тем не менее мгновенно легла на верный курс. Есть два типа учеников, думал он. Одни, впервые увидев Тихий океан, лишь окидывают его быстрым взглядом и вновь сосредоточиваются на курсе, словно летать — тяжелейший труд, а океан — просто лужа у дороги. Другие же теряют голову, так, как Фредди. Обнаружив, что летят в открытое море, они расстраиваются и, направляясь к земле, просят Мака взять управление в свои руки. С Фредди этого не случилось.
Вскоре они увидели пять ангаров и взлетно-посадочную полосу Майнсфилда, где через пять месяцев должны были проводиться национальные воздушные гонки. Бульдозеры уже вовсю утюжили полосу, а по бокам от нее возводились открытые трибуны, которым предстояло вместить тысячи зрителей. Фредди обогнула поле по кругу, после чего, сверившись с часами, решила, не касаясь колесами земли, лететь обратно в Драй-Спрингс через горы Санта-Моники: она потеряла много драгоценного времени, опрометчиво бросившись в объятия Тихого океана. Проведя самолет по компасу, она приземлилась на своем базовом аэродроме в четыре тридцать пополудни. Зимний день заканчивался, солнце низко висело над горизонтом, но облака не закрывали неба, поэтому все еще было светло. Когда она подрулила к тому месту, где всегда стоял на привязи «Тейлор Каб», Мак небрежно заметил:
— Я приготовил для тебя еще один маленький подарок ко дню рождения. Сейчас схожу в кабинет и принесу его.
— Ты уже преподнес мне чудесный подарок, — возразила Фредди, чувствовавшая странную опустошенность. Казалось, длинный перелет исчерпал весь запас ее эмоций.
— Не ерепенься. Шестнадцать лет бывает только раз в жизни, Фредди. Пока я схожу за ним, поднимись в воздух, сделай три круга и садись. — Мак выпрыгнул из кабины, не оглядываясь, захлопнул за собой дверцу и быстро отошел от самолета.
Мгновение Фредди сидела неподвижно, глядя Маку в спину. Что он сказал? Ей можно самой подняться в воздух? Нет, он этого не говорил, но это именно то, что он хотел сказать!
— Да! — раздался в пустой кабине победный крик Фредди. — Да, да, да… — повторяла она вслух серьезно и повелительно, вновь выруливая на взлетную полосу и разгоняясь до точки взлета. В возбуждении она одним толчком до упора задвинула вперед рукоять дросселя, страстно желая приблизить чудесное мгновение, когда самолет наберет достаточную скорость, чтобы оторваться от земли, когда его крылья разрежут золотистое небо, манящее своей необъятностью, и понесут ее к заходящему солнцу.
Взлетев, Фредди быстро, как стрела, выпущенная из лука, набрала высоту. Она ни разу не взглянула на пустое правое сиденье в кабине. Время для нее уже не существовало. Руки Фредди спокойно работали, когда, достигнув нужной высоты, она начала готовиться к выполнению необходимых маневров. Однако сердце ее как сумасшедшее колотилось в груди от неведомой прежде радости: самолет слушается ее! Упражнения, которые Фредди столь часто делала раньше, внезапно показались ей трудными, будто не были давно пройденным этапом, а знакомые ориентиры вокруг аэродрома как бы обрели новый смысл. Наступил божественный момент, когда она поняла, что машина и человек, поднявшиеся вместе в воздух, — это нечто совсем особенное: они становятся единым целым, сливаются в одно существо. Фредди услышала свой торжествующий смех и увидела первые звезды, загорающиеся в темнеющей синеве неба.
Внизу, на краю взлетной полосы, стоял Мак. Он смотрел вверх и, не отрываясь, следил за силуэтом самолета. Его руки нервно сжимались и разжимались. Какого черта он позволил ей совершить долгий маршрутный перелет перед ее первым самостоятельным полетом? Уже поздно, она устала и наверняка переволновалась, пролетев над океаном. Вчера она была еще пятнадцатилетней девчонкой, слишком юной, чтобы солировать в воздухе, но кто возразит против того, что за последние двадцать четыре часа Фредди вполне созрела для этого? Что-то в его рассуждениях неверно… Если бы не день ее рождения, он мог бы перенести ее первый самостоятельный полет на другое время. Мог и, черт возьми, должен был!
Хотя… она была к нему совершенно готова. Сегодняшний полет с Фредди подарил ему ощущение, которое он испытал только однажды, когда сам учился на пилота, и которое, как он думал, много лет назад исчезло из его памяти. А он-то считал, что давно превратился в мирного учителя, и то, что было когда-то для него наваждением, маниакальной страстью, прошло. Однако сегодня в нем снова вспыхнула прежняя чистая радость полета. Это Фредди заставила его опять стать поэтом, вдохнуть воздух, побуждавший его раз за разом отрываться от поверхности планеты.
Господи, небо темнеет с каждой секундой! Сегодня один из самых коротких дней в году, и температура упала, должно быть, градусов на десять с тех пор, как они садились в Санта-Пауле. Мак замерз, но не мог идти в ангар за курткой, пока Фредди находилась в воздухе. Ему не приходилось слышать, чтобы над каким-то из известных ему аэродромов самолет так долго совершал три круга.
Фредди летала и не могла вдоволь насладиться ощущением полета. Снова увидев звезды, она поняла, что ей пора приземляться. Интересно, высоко ли нужно взлететь, чтобы увидеть созвездие Козерога? В книжках написано, что оно слишком далеко и его не видно в небе Калифорнии. Фредди этому не верила и никогда не поверит. Она знала, что летает сейчас под звездами Козерога — это был ее знак по гороскопу.
Бросив взгляд вниз, она различила на фоне взлетной полосы одинокую темную фигурку Мака и покачала крыльями: пусть знает, что она видит его. Закончив третий круг, она недовольно вздохнула, но, понимая, что другого выхода нет, начала готовиться к посадке.
Мак не шелохнулся: Фредди приземлялась идеально. Красный самолетик мягко опустился на передние колеса, одновременно коснувшись полосы маленьким задним колесом. Его руки по-прежнему сжимались, пока она выруливала к тому месту, где он стоял. Мак успокоился лишь тогда, когда Фредди выключила двигатель.
Дверца кабины открылась. Выскочив наружу, она налетела на него, едва не сбила с ног и восторженно повисла у него на шее, светясь, словно праздничный салют: ее рыжие волосы разметал ветер, глаза сверкали, как прожекторы.
— Ура, Мак! Наконец-то! Я летала, сама летала! — ликовала Фредди, покрывая щеки Мака благодарными поцелуями. Широко раскинув руки, Фредди подняла лицо к вечерним звездам, словно отныне они безраздельно принадлежали ей. — Я летала, Мак! Ах, какое тебе спасибо! Огромное тебе спасибо за этот подарок!
Мак понял, что не может говорить. Он ощущал себя сейчас таким же молодым и переполненным чувством пьянящего восторга, как и эта девушка. Давно забытые чувства сжали ему горло; едва не зарыдав, он только покачал головой и постучал пальцем по циферблату часов.
— Знаю, — откликнулась Фредди, — мне пора ехать, иначе я опоздаю. Я и так уже опаздываю, но мне наплевать. Ах, Мак… Ладно, ладно, ухожу. Но, Мак, я еще вернусь! Мне еще многому надо научиться.
Так и не вспомнив, что надо сделать запись в формуляре полетов, она еще раз обняла его и, поцеловав в последний раз, побежала к шоссе ловить попутную машину до дома. Мак стоял на взлетной полосе, все еще чувствуя на своих холодных щеках ее горячие поцелуи. Казалось, ее сильные руки все еще обнимают его, а в ушах звенит ее счастливый голос. Мак вздохнул и покачал головой. Он начал привязывать «Тейлор Каб», но вдруг остановился и потер щеку ладонью, медленно, задумчиво и чуть удивленно улыбнувшись. «Шестнадцатилетняя девушка, — подумал он, — шестнадцатилетняя девушка — вот, оказывается, в чем дело».
9
Ева предпочла бы устроить праздничный ужин по случаю дня рождения Фредди в «Перино», самом изысканном французском ресторане Лос-Анджелеса. Однако Фредди, побывав однажды в голливудском ресторане «Браун Дерби», полюбила его грубовато-суетливую атмосферу шоу-бизнеса, «хаш» — смесь мелконарезанного мяса с кукурузой и отборных цыплят. Ей также очень понравилось, что на каждом столе стоит бутылка кетчупа, а к любому из столиков можно подключить телефон. Это все еще казалось Еве невероятным, хотя она довольно часто посещала этот ресторан.
Ева спрашивала себя, как бы отнеслись ее мать и, уж если на то пошло, свекровь к тому, что молоденькие девушки посещают подобное место. Могли ли эти благородные дамы старой закалки представить себе ресторан, в котором, как и сегодня, мужчины и женщины в вечерних туалетах сидели в кабинках по обе стороны от Тома Микса, одетого в искусно сымитированный ковбойский костюм и поглощавшего огромное блюдо солянки. Перед входом в ресторан каждый вечер стояла толпа охотников за автографами, ожидая, когда появятся кинозвезды. Покинув ресторан, многие из посетителей отправятся сегодня на стадион «Голливудский легион», расположенный по соседству, чтобы посмотреть матч по боксу, а потому упустят возможность поглазеть на отвратительные кулачные схватки, нередко случающиеся между самыми знаменитыми его завсегдатаями.
Ева пыталась вспомнить, как прошел ее шестнадцатый день рождения. Конечно, дома устроили семейный ужин: ей, наверное, разрешили выпить по случаю праздника один бокал «Дом Периньон» и, вероятно, позволили пригласить на чай с печеньем и эклерами нескольких подруг. Точно она не помнила: шестнадцать лет считалось во Франции незначительной датой. В шестнадцать девушка все еще оставалась ребенком, носила, словно малышка, длинные, до талии, распущенные волосы, и ее никуда не отпускали без сопровождения, а уж попасть в ресторан она и мечтать не могла, это абсолютно исключалось.
Да… И правда, разве она не была сущим ребенком в свои шестнадцать лет?
Ева улыбнулась, глядя на дочерей, сидящих очень прямо в кабинке с низкими стенками и глазеющих на звезд. Многие из них подходили к их столику, чтобы поздороваться с Полем и Евой: французский консул и его жена пользовались в Лос-Анджелесе всеобщим уважением. Познакомившись с Фредди и Дельфиной, их внимательно разглядывали, после чего Еве с Полем одобрительно кивали и подмигивали. Действительно, девочки выглядели чудесно.
Сегодня Ева гордилась обеими. Дельфина, которой было семнадцать с половиной, смотрелась очень изысканно в вечернем платье из белого шифона. Ее единственными украшениями были нитка жемчуга на шее и жемчужные серьги. Но, даже надень она на себя великолепные бриллианты, этого никто не заметил бы. Все обращали внимание на ее красоту и удивительную грацию.
Фредди, хотя и поздно вернулась домой из школы, сумела сегодня, наверное, впервые в жизни, прекрасно уложить волосы, а ее счастливое лицо пылало румянцем. Она надела свое первое вечернее платье из темно-синего бархата с широкой каймой из белого атласа. Этот торжественный ужин действительно очень важен для нее, подумала Ева. Фредди так и лучилась радостью, охваченная каким-то необычным возбуждением. Такого с ней никогда еще не бывало, хотя она, живая и открытая, охотно делилась с домашними впечатлениями своей насыщенной событиями жизни. Ева вдруг поняла, что слишком взволнованная Фредди за весь вечер не произнесла ни слова, хотя они уже дошли до десерта. Ева коснулась руки Поля и любовно кивнула на младшую дочь — яркую, ослепляющую блеском своих удивительных глаз и рыжих волос.
— О чем она думает? — тихо спросила Ева.
— Мы никогда не узнаем этого, — ответил Поль.
— Ну, мы, по крайней мере, можем быть уверены, что не о мальчиках.
— И на том спасибо, — заметил Поль.
Дельфина, ныне студентка первого курса Лос-Анджелесского университета, по его мнению, слишком часто бегала на свидания. Даже сегодня она собиралась покинуть их после ужина, чтобы встретиться со своей лучшей подругой Марджи Холл и отправиться вместе с ней на какую-то вечеринку. Если Фредди и интересовали мальчики, то этого до сих пор никто не замечал. Теперь, когда ей исполнилось шестнадцать, им придется отпускать Фредди из дома, если ее будут приглашать на свидания, как в свое время это произошло с Дельфиной. Как французу, Полю это не нравилось, однако, прожив пять лет в Калифорнии, он хорошо познакомился с местными обычаями и понимал, что не в силах противостоять им.
Дельфина толкнула Фредди локтем:
— Видишь? Посмотри, кто пришел! Марлен Дитрих в сопровождении двух мужчин. Это, должно быть, ее муж и принц Феликс Роло из Египта… Они везде и всегда ходят втроем… Фредди!
— А?
— Посмотри, ради Бога, пока они не прошли в бар. Ну вот, ты их упустила, но они выйдут через несколько минут, я тогда дам тебе знать.
— Ты не заметила Говарда Хьюза? — рассеянно спросила Фредди.
Глаза Дельфины обладали способностью немедленно выискивать в толпе всех, чьи фотографии появлялись в газетах, будь то кинозвезда или кто-то другой.
— Нет. Почему тебе захотелось на него посмотреть?
— Просто из любопытства, — уклонилась Фредди.
— Ты странно выглядишь сегодня, — критически отметила Дельфина. — Мама, правда, Фредди выглядит так, словно у нее температура?
— Тебе не жарко, дорогая? — забеспокоилась Ева. — Дельфина права. У тебя горят щеки, и лихорадочный взгляд. Глаза слишком блестят. Ты не заболела? Поль, как по-твоему?
— У нее сегодня день рождения, дорогая. Ей просто очень нравится чувствовать себя шестнадцатилетней девушкой. Это так чарует и так ново! Это не лихорадка, просто сегодня она стала взрослее… в какой-то мере.
Все трое повернулись и нежно, хотя и по-разному, посмотрели на Фредди. В этот миг она поняла, что больше ни секунды не может сдерживать рвущийся наружу восторг, и объявила дрожащим от ликования голосом:
— Сегодня я солировала!
— Ты, что? — переспросила Дельфина.
— Ты, что? — удивилась Ева.
— Ты, что?! — возмутился Поль, единственный из троих понявший, что она имеет в виду.
— Я подняла самолет в воздух, сделала три круга над аэродромом и села.
— Сама?! — спросил Поль.
— Я должна была сделать это сама, отец. Иначе это не был бы самостоятельный полет, правда? — сказала Фредди, стараясь говорить спокойно, как взрослая.
— Но это же просто безумие, Фредди, совершеннейшее безумие! — воскликнула Ева. — Как тебе удалось поднять самолет в воздух, если ты не умеешь им управлять? Как ты могла так рисковать жизнью? Ты совсем спятила?
— Фредди, тебе лучше все объяснить, — сердито проговорил Поль и взял Еву за руку, чтобы она успокоилась.
— Все совершенно законно, — заторопилась Фредди. — Любой имеет право сам поднимать самолет в воздух, если ему исполнилось шестнадцать.
— Я не это имел в виду. — Поль еще больше рассердился.
— Ну, ладно, так и быть… Мама, помнишь, ты много раз рассказывала нам, как ты сбежала из дома, чтобы полетать на воздушном шаре, когда тебе было четырнадцать? — начала Фредди.
— При чем здесь это?! Я требую фактов, Мари-Фредерик! — Поль говорил громко, но старался не привлекать внимания.
— Самолет был «Тейлор Каб» с…
— Ближе к делу! Как ты научилась летать?
— Я брала уроки летного мастерства. Восемь часов летных занятий.
— Когда? Откуда ты взяла время на эти уроки? — проскрежетал зубами Поль.
— По пятницам, днем.
— Но ты говорила, что рисуешь в это время декорации для школьного спектакля? — удивилась Ева.
— Я лгала.
Дельфина ахнула, Ева недоверчиво покачала головой, а Поль вновь устремился в атаку:
— Откуда у тебя деньги на занятия?
— Я… я их заработала. Я работала по субботам в кондитерском магазине Вулворта и заработала, сколько нужно.
— А как же команда по плаванию, подруга в Беверли-Хиллз и твои тренировки в ее бассейне? — неистово перечислила Ева.
— Это все — тоже ложь, — ответила Фредди, глядя матери в глаза.
— Где ты брала эти уроки? — гнул свое Поль.
— В Драй-Спрингс.
— У человека, к которому мы ездили четыре года назад и с которым ты тогда летала?
— Да.
— Вот мерзавец! Как он посмел взяться обучать тебя, не посоветовавшись предварительно с нами! — Лицо Поля исказилось от гнева.
— Его я тоже обманула. Я сказала, что это вы даете мне деньги на уроки. Он ни в чем не виноват.
— И, самое главное, объясни мне, как, как тебе удавалось добираться по пятницам до этого маленького аэродрома в долине? — задал Поль самый трудный для себя и Фредди вопрос. Она до сих пор надеялась, что до него дело не дойдет.
— Я… ну, все так поступают, это же абсолютно безопасно… Я ездила на попутках, но только с очень приличными на вид людьми.
— На попутках? — одновременно взорвались Поль и Ева.
— Туда ведь можно попасть только на машине, — пробормотала Фредди, стремясь хоть как-то оправдаться. Она уставилась на скатерть, вся сжавшись и стараясь быть как можно незаметнее.
— Ну, Фредди, ты даешь! — выдохнула убитая Дельфина. В том, что сестра лгала им, не было ничего особенного: все подростки время от времени лгут, но то, что она ездила на попутных машинах, — настоящий скандал, настолько серьезный, что хуже и быть не может. У порядочной девушки не должна возникать даже мысль сесть в чужую машину. Заметив краем глаза проходившего мимо их столика Джимми Кэгни, она даже не обернулась: следить за развитием семейной драмы было куда интереснее.
Над столиком повисла зловещая тишина. Поль и Ева были так рассержены, что не могли говорить. Не доверяя себе, они опасались, что не сумеют справиться с гневом.
— Ева! Поль! О, здесь и обе прекрасные мадемуазель де Лансель! Ах, какой приятный сюрприз! Что за восхитительная картина! — Рядом с ними остановился Морис Шевалье.
— О, месье Шевалье, сегодня мой день рождения, правда, это замечательно? Мне сегодня исполнилось шестнадцать лет, и у нас семейный праздник. — Фредди отчаянно пыталась развеять болтовней тучи, сгустившиеся над ее головой.
— Ах, так! Тогда я просто обязан отпраздновать его вместе с тобой! Tu permit[11], Поль? — Шевалье уверенно сел на банкетку рядом с Евой. — Официант, всем шампанского. «Лансель», разумеется. Розовое, если есть. Да, Поль, я настаиваю. — Он повернулся к Фредди. — Сегодня великий и знаменательный день, мадемуазель Фредди. Вы должны быть очень счастливы сегодня. Мы ожидаем от вас великих свершений, моя девочка, не так ли, Поль? Волнующих, захватывающих дух, правда, Ева?
Склонившись к Еве, Шевалье прошептал ей на ухо:
— Мэдди определенно пришла бы в восторг, если бы, заглянув в будущее, увидела себя сегодня рядом с галантным мужем и такими прекрасными дочерьми. — Официант принес бутылку розового «Ланселя» в ведерке со льдом. — Отлично, вот и шампанское. Теперь мы все поднимем тост за мадемуазель Фредди де Лансель и ее будущее, возможно, великое и славное!
Фредди смело осушила бокал. Какая бы страшная кара ни грозила ей со стороны родителей, она покажется менее ужасной после бокала шампанского… и полета под темнеющим небом. Полет под вечерним небом и звездами Козерога… За это можно заплатить любую цену, и она не будет слишком высокой.
Ева не сомкнула глаз и после того, как Поль наконец уснул. Праздничный ужин завершился вскоре после появления Мориса, и по общему молчаливому согласию за столом больше не было сказано ни слова о поведении Фредди. «Браун Дерби», несомненно, не подходил для выяснения семейных отношений. Дело могло подождать до завтра, но не более того. Они с Полем слишком устали и переволновались, чтобы обсуждать эту проблему, приехав домой, однако, несмотря на утомление, Ева никак не могла заснуть. Тихонько поднявшись с кровати, она накинула халат и присела на подоконник. Сдвинув в сторону занавеску, она выглянула в сад.
Ева сейчас спрашивала себя, как такой прямодушный, честный и непосредственный ребенок, каким всегда казалась Фредди, мог сознательно и беззастенчиво сплести столь сложную паутину лжи? Она вела, что называется, двойную жизнь месяцами, с начала учебного года. Зачем она лгала родителям, которые всегда, как полагала Ева, с открытой душой и неизменной любовью давали ей все, что могли? Она умудрилась сохранить все в тайне от Дельфины, что вообще-то непросто, и, очевидно, лгала даже человеку, учившему ее летать.
О чем же он думал? Каким надо быть безрассудным и безответственным, чтобы подвергать пятнадцатилетнюю девочку таким опасностям из-за денег? Как он смеет после этого называть себя учителем? Ева подтянула под себя ноги и плотнее завернулась в халат.
Вопросы завели ее в тупик. Еве трудно было во всем разобраться, тем более что многого она не понимала. Фредди, явно гордившаяся собой, пыталась, дерзнула, если угодно, сравнить свое нагромождение лжи с безвредным маленьким приключением Евы — давнишним полетом на воздушном шаре. Когда же это произошло? В 1910-м году, двадцать пять лет назад — всего четверть века по обычному счету времени, но эта дата относилась к иной эпохе, почти такой же далекой, как Атлантида, — эдвардианской эпохе перед мировой войной.
Сколько же ей тогда было? Четырнадцать, поняла Ева, быстро все подсчитав. Значит, ей было всего… Неужели она была так молода? Однако ускользнуть от гувернантки мадемуазель Элен, этой строгой поборницы дисциплины, и на время стянуть у матери шляпку — это мелкий проступок, не идущий ни в какое сравнение с несколькими месяцами обмана и бессовестной лжи. Ах, если бы ветер не сорвал тогда шляпку с ее головы, никто ничего не узнал бы и ни у кого не было бы причин сердиться на нее. Так или иначе, ничего страшного тогда не произошло.
Ева невольно улыбнулась, вспомнив о шоке и неслыханном изумлении, испытанными ею, когда она распахнула объятия навстречу величественной панораме земли. А какую гордость она почувствовала, став одной из тех, кто осмелился подняться высоко над толпой и взглянуть с воздуха, как выглядит этот мир.
Ева призналась себе, что могла бы и посочувствовать Фредди, если бы речь шла только о желании заглянуть за горизонт. Это она всегда понимала, снисходительно подумала Ева.
Но самостоятельно управлять самолетом? Конечно, есть женщины-пилоты. Все слышали об Амелии Эрхарт, Анне Линдберг и Джеки Кокрейн. Рассказами об их подвигах пестрели все газеты, но они — взрослые женщины, а не юные девушки, к тому же особые женщины, из тех, кого интересуют достижения, относящиеся к чисто мужской сфере деятельности. У других женщин они могут вызывать восхищение, но не понимание.
Хотя, сказать по правде, Фредди всегда тянуло летать. Она часто заявляла об этом и проявляла это желание в отчаянных по смелости выходках. Впрочем, об этих детских шалостях девушке следует позабыть, едва она становится слишком взрослой для катания с горок на роликовых коньках.
Вздохнув, Ева подумала, что редко ей приходилось так расстраиваться. Оказывается, она совсем не знает дочери, открывшейся ей сегодня с совершенно новой и неожиданной стороны. Это, без сомнения, означает, что она была невнимательной, легкомысленной, в общем, плохой матерью. Какая тонкая ирония заключалась в том, что Морис подсел к ним и настоял на продолжении праздника, считая, что в семействе де Лансель царят радость и веселье. В гневе она не обратила внимания на его слова: «Мэдди определенно пришла бы в восторг…» Мэдди… Мэдди!
Пораженная воспоминанием, Ева соскочила с подоконника и застыла в тишине, прислушиваясь к тяжелым ударам сердца. Мэдди! Конечно, Мэдди! Ведь это она, не задумываясь, вызвала грандиозный скандал, тянувшийся много лет, скандал, повергший ее семью в пучину бед, горя и стыда. Да и не он ли помешал осуществиться блистательно начавшейся карьере Поля? Мэдди в красном платье и красных туфельках, певшая любовные песенки под гром аплодисментов в оранжевом свете огней рампы; Мэдди, жаждавшая получить ту славу, какую мог принести ей мюзик-холл.
Она была всего на год старше Фредди, когда в Дижоне вечер за вечером беззастенчиво обманывала родителей, притворяясь, что ложится спать, выскальзывая тайком из дома и бегая в «Алказар» послушать пение Алена Марэ и — подумать страшно! — свидеться с ним наедине… Ева покраснела даже сейчас, вспомнив о том вечере, когда отправилась с Аленом в меблированные комнаты артистического пансиона. Два бокала красного вина не могли служить извинением тому, что она позволила ему там с собой делать… хотя… хотя он просил у нее позволения перед каждым следующим шагом. Нет! Ей не следует углубляться в воспоминания о событиях той ночи, хотя она никогда ее не забудет.
Она была всего на год старше Фредди, когда сбежала из дома, отправившись в Париж. Жить в грехе, как, должно быть, говорили все, в страшном, глубоком грехе, хотя девчонка, называвшая себя Мадлен и считавшая Большие бульвары своим вторым родным домом, не видела в этом греха. Не видела в этом греха и Мадлен, посмевшая пойти на прослушивание к знаменитому Жаку Шарлю и заставившая его слушать себя. А Мэдди, блиставшая в «Олимпии», была так уверена в себе и в том, что ей можно все, что, в сущности, выгнала тетю Мари-Франс из своей гримерной, когда та пришла умолять ее вернуться домой. Сколько ей тогда было — семнадцать или уже восемнадцать? Ева до сих пор слышала свои резкие слова: «Я больше не та маленькая девочка, которой вы могли командовать, как вам вздумается… Неужели вы полагаете, что я смогу… удовлетвориться жизнью, которую ведет моя мать?.. Мне нечего стыдиться…» Мэдди была исполнена решимости стать звездой, и она обязательно стала бы ею и никогда не бросила бы сцену, если бы не война и не встреча с Полем. Когда же она окончательно забыла Мэдди? Когда, превратившись в madam la Consule de France, все последние годы пела только для своих друзей на частных приемах и чопорных благотворительных вечерах, часто устраиваемых в Лос-Анджелесе? Когда же Мэдди окончательно умерла в ней?
До глубины души пораженная воспоминаниями, Ева бродила по спальне, озаренной лишь слабым светом луны. Совершенно забывшись, она провела немало времени в далеком прошлом. Вернувшись в настоящее, Ева увидела, что Поль спокойно спит, но почему-то почувствовала, что Фредди сегодня не до сна.
Она тихо вышла из спальни и направилась к комнате дочери. Из-под двери Фредди лился свет. Ева постучала.
— Войдите, — негромко ответила Фредди.
— Я не могу заснуть, — сказала Ева, глядя на дочь.
Та во фланелевой пижаме свернулась калачиком поверх покрывала. В руке она держала книжку в красно-голубой обложке, и вид у нее был самый несчастный.
— Я тоже.
— Что ты читаешь?
— «Настольную книгу ученика пилота».
— И как, интересно?
Фредди попыталась усмехнуться.
— В ней нет интриги и диалогов, зато полно подробных изображений с детальными описаниями.
— Фредди, скажи мне, этот человек… твой летный инструктор… он… Сколько ему лет?
— Маку? Никогда об этом не думала. Он летал во время войны во Франции, так что ему должно быть… ох, я не знаю, но могу у него спросить.
— Нет, не надо. Я спросила об этом только потому, что хотела узнать… насколько он опытен.
— О, опыта ему не занимать. Он начал летать еще совсем мальчишкой. Через его школу прошли сотни людей. Знаешь, мама, на самом деле нет ничего необычного в том, чтобы самостоятельно управлять самолетом в шестнадцать лет. Это умеют многие мальчики. Если не веришь, спроси у кого хочешь.
— Я тебе верю. Просто для меня это было большим… сюрпризом.
— Ты больше не сердишься? — осторожно спросила Фредди.
— Нет. Я много думала обо всем этом. Полеты много значат для тебя, да?
— Больше, чем я могу выразить. Я не стала бы обманывать, будь у меня иная возможность добиться своего. Я была уверена, что вы не позволите мне учиться летать, если я об этом попрошу, — убежденно сказала Фредди.
Ева смутилась.
— Вы бы мне не разрешили, ведь так?
— Да, ты права. Мы бы заставили тебя еще немного подождать.
— Я не могла ждать!
— Знаю.
— Знаешь?.. Откуда?
— Знаю, и все. Вспомни, я тоже была когда-то молодой.
— Ты и сейчас молодая, — возразила Фредди.
— Не настолько. Той молодости уже не вернуть… и, возможно, оно и к лучшему. Да, это к лучшему. Во всяком случае, тут уже ничего не изменишь. Ох, что нам теперь с тобой делать, Фредди? Какие у тебя планы?
— Я должна получить лицензию пилота. Тут уж я не могу лгать. Во-первых, потому, что поклялась себе больше не делать этого… а во-вторых, без вашего письменного согласия меня не допустят к сдаче экзамена на пилота. А это еще как минимум десять часов летных занятий.
— И каков был твой план? Ты собиралась работать, чтоб оплачивать дальнейшие занятия?
— Да. Я хотела придумать что-нибудь такое… ну, чтобы вы не беспокоились, где я провожу время.
— Занятия теннисом? Новый спектакль в школе? Свидания с мальчиком?
— Все это хорошие идеи… за исключением последней. Если бы я не лопалась от гордости, что совершила свой первый полет, и не похвасталась бы, я бы наверняка так и поступила.
— А как же письменное разрешение?
— Я бы его подделала, — призналась Фредди.
— Не сомневаюсь, — пробормотала Ева себе под нос. — Что ж, теперь мы все знаем. И хорошенько все обдумав, я считаю, что так лучше для всех.
— Значит ли это, что вы не запретите мне работать у Вулворта? — обрадованно спросила Фредди.
— Мне надо обсудить все с твоим отцом, но, надеюсь, я смогу убедить его, что в этом нет ничего страшного. Уверена, в конце концов он все поймет. Однако, Фредди, больше никаких поездок на попутных машинах. Обещаешь?
— Конечно, но как же мне тогда добираться до аэродрома?
— Если уж у тебя хватило ума научиться управлять самолетом, ты запросто справишься с автомобилем. Большинство мальчиков получают права в шестнадцать лет, не так ли? Помню, Дельфина только об этом и твердила.
— Мама!
— Когда научишься водить автомобиль, сможешь брать мою машину.
— Ох, мама, какая ты у меня добрая! — Бросившись к Еве, Фредди горячо обняла ее. Хотя Фредди была крупнее матери, она, словно ребенок, прижалась к ней, ища утешения и успокоения, в которых отчаянно нуждалась в эту минуту. Значит, она не такая уж плохая и семья не отвернется от нее, а этого Фредди и боялась, сидя уже несколько часов одна в своей комнате. На глазах матери и дочери заблестели слезы.
— Просто считай, что я смотрю сквозь пальцы на некоторые твои слабости… большие и маленькие. Теперь тебе нужно поспать. Ложись, мы еще поговорим утром.
— Спокойной ночи, мама. — Вид у Фредди был такой счастливый, что, похоже, она, окрыленная удачей, собиралась не спать всю ночь.
— Спокойной ночи, дорогая. Солировать — это незабываемое ощущение, правда? Могу себе представить… нет… я помню… Да, я понимаю, что ты, должно быть, сегодня чувствовала. Поздравляю, моя дорогая. Я горжусь тобой.
— Фредди, ну иди же сюда, где ты там застряла? — позвала Дельфина.
Фредди посмотрела в окно на зимний дождь: он зарядил сразу после дня ее рождения и продолжался уже неделю. Приехав этим субботним утром из университетского общежития, Дельфина объявила, что пришло время совершить «преображение», которое она пообещала Фредди как подарок ко дню рождения. Фредди не знала, как отвертеться от этого эксперимента. Были каникулы, так что сослаться на необходимость делать уроки она не могла. Конечно, не могла. Видно, придется ей либо принять от Дельфины этот «подарок», либо выслушать обвинения в неблагодарности и в том, что она плохая сестра.
— Я надену на тебя банную простыню, — сказала Дельфина, усадив Фредди перед зеркалом туалетного столика у себя в комнате. — Ты принесла расческу?
Фредди вручила ей расческу, подавив раздражение: небось многие знакомые Дельфины отдали бы все, чтобы она проявила к ним такое же внимание, а ей оно только в тягость.
Дельфина, приняв серьезный и сосредоточенный вид, повернула Фредди спиной к зеркалу, зачесала назад ее волосы и надела сестре на голову большой полиэтиленовый чепец. Затем взяла пузырек с жидкостью для очистки кожи, смочила ею кусочек ватки и протерла лицо Фредди, светящееся здоровым румянцем человека, который проводит много времени на свежем воздухе. Когда она закончила, ватка осталась такой же чистой, как и была, поскольку Фредди не пользовалась косметикой.
— Вот теперь начнем, — сказала Дельфина, взяв из ящичка туалетного столика баночку с тональным кремом, и уверенной рукой нанесла тонкий слой крема на кожу Фредди, придав ей более светлый оттенок. Поверх она припудрила кожу и, несколько раз обойдя вокруг сестры, посмотрела на дело рук своих.
Точь-в-точь статуя, с восхищением подумала Дельфина, всегда бодрствующая статуя с решительными и неколебимыми чертами. Но ведь она — сестра Фредди, а не ее молодой человек; молодые люди, даже самые обыкновенные, не назначают свиданий статуям, даже прекрасным: они ищут в девушках нечто иное.
Хотя Дельфина никогда ничего такого не говорила Фредди, ее беспокоило, что сестра в свои шестнадцать лет не привлекает особого внимания мальчиков. Если этого не происходит к шестнадцати, на что девушке надеяться в будущем? Фредди почти безвыходно сидела дома субботними вечерами, притворяясь, что совершенно счастлива, когда остается наедине со своими дурацкими книжками про самолеты и летчиков. Однако Дельфина не сомневалась, что сестра глубоко переживает свое одиночество и не признается в этом только из гордости. Фредди превосходно танцевала, но кто узнает, как она легко танцует и как хорошо чувствует ритм, если она не будет никуда выходить?
Дельфина отвернула крышку баночки с румянами и легкими мазками наложила румяна на щеки Фредди, придав им совершенно естественный оттенок. Светло-коричневым карандашом нарисовала короткие, чуть заметные линии, затемнив брови так, чтобы они еще эффектнее подчеркнули голубизну немигающих глаз Фредди. Та беспокойно пошевелилась.
— Я и не знала, что у тебя так много этого добра, — проговорила она. — Неужели ты всем этим пользуешься?
— Конечно.
— Никогда бы не подумала.
— В том-то и дело. Если косметика слишком бросается в глаза, значит, ты неправильно ею пользуешься. Но с ее помощью можно исправить любые недостатки внешности. Поверь, этому очень легко научиться. Вот только закончу и покажу тебе, как это делается. Я сниму всю косметику с твоего лица, потом снова накрашу половину, чтобы ты попрактиковалась на другой, пока не научишься краситься правильно… Мне все равно, сколько времени это займет. Тебе надо будет расслабиться, и не бойся делать ошибки. Ты всегда сможешь все стереть и начать заново.
— Ну, Дельфина… это очень великодушно с твоей стороны. Знаешь, такого я от тебя не ожидала.
— Шестнадцать лет бывает только раз в жизни, сестричка. Это особая дата, и я должна была преподнести тебе нечто особенное, — объяснила очень довольная Дельфина.
Некоторое время она работала молча, потом как бы невзначай обронила:
— Мальчишки в школе еще совсем сосунки.
— Я это заметила.
— Тебе повезло, ты удачно перескочила через класс. Следующей осенью ты пойдешь учиться в университет, а это уже совсем другое дело. Там учатся тысячи мальчиков, и большинство из них отнюдь не сосунки.
— Это хорошая новость, — ответила Фредди с самой наивной улыбкой, какую только могла изобразить. Дельфина бывала очень мила, когда что-то затевала.
— Студенты университета умеют ценить хорошего собеседника. Ты будешь пользоваться у них успехом.
— Еще одна великолепная новость!
— Это так, к сведению, — пояснила Дельфина, жонглируя словами, и достала маленькую коробочку с тушью — своей самой большой ценностью.
— А что?
— Ну, ты же знаешь, каковы мужчины. Они любят поговорить и стараются выжать из собеседника как можно больше, особенно из хорошего.
— По-моему, это глупо. Пустая трата времени, правда?
— Ну, не совсем. Хорошая беседа окрыляет человека… Ну, понимаешь, помогает ему раскрыться, позволяет выразить себя, учит слушать. — Дельфина обмакнула кисточку в стакан с водой и мягкими умелыми движениями поводила ею по брусочку черной туши.
— Если ты хочешь сказать, что я слишком много болтаю, мне это и так известно, — отозвалась Фредди.
— Нет, Фредди, я совсем не об этом. Просто с молодыми людьми, даже со студентами, бесполезно говорить об авиации. Они ничего не смыслят в самолетах и, уж конечно, совсем не хотят слушать от девушки рассуждения о них.
— А о чем же еще с ними говорить?
— Об автомобилях, — серьезно ответила Дельфина.
— Я пыталась. Правда, правда, я действительно пыталась, но, по-моему, обсуждать автомобили предельно глупо и смешно. Ну, подумай сама, на что годятся эти убогие автомобили? Только ездить туда-сюда, вперед-назад по идиотским дорогам. Это же земля! Тупое, одномерное движение. И что только люди находят в автомобилях? — презрительно произнесла Фредди.
— Ну… если ты сумеешь не проронить ни слова о самолетах и притвориться, что тебя интересуют автомобили, — ну, хотя бы на время, — разговор может завязаться. Большинство девушек совсем не разбираются в автомобилях и моторах, ты — настоящий знаток по сравнению с ними. Ну, а потом… потом беседа может коснуться других вещей.
— Каких, например? — Фредди была искренне озадачена и всем своим видом выражала готовность услышать то новое, что собиралась преподнести ей сестра.
— Его родителей, друзей, преподавателей, футбольной команды, за которую он болеет, и ее шансов в чемпионате, любимых оркестров, новых фильмов, кинозвезд, планов на будущее, взглядов на жизнь и на все остальное — вплоть до комиксов… Ах, Фредди, как много всего, о чем можно поговорить с мужчиной, если ты начнешь разговор с автомобилей и будешь время от времени задавать вопросы.
Мазок за мазком Дельфина наносила тушь на ресницы Фредди, используя все свое мастерство для того, чтобы она ложилась ровным тонким слоем и не собиралась в комки. Критически осмотрев свою работу, она нашла ее удовлетворительной, после чего неторопливо и с подлинно актерским талантом продолжала просвещать сестру, ловко излагая суть своего учения:
— Если мужчина замолчал, а ты не знаешь, что говорить дальше, просто переспроси его, тогда он снова заведется и расскажет о себе гораздо больше. Этот прием всегда срабатывает. Ты — первая, с кем я поделилась этим секретом. Я никому об этом не рассказывала, даже Марджи не знает.
Откровения Дельфины явно произвели впечатление на Фредди, но отнюдь не убедили в том, что сестра права. Она спросила:
— Что, просто переспросить его и все?
— И все! Кажется, такой пустяк, да? Но мужчина не устоит перед тобой, если ты делаешь это правильно. При твоей внешности и великолепных ножках ты быстро заработаешь себе репутацию отличной собеседницы… Ах, я бы ничего не пожалела, чтобы иметь такие ноги, как у тебя. Ты будешь самой популярной девушкой среди первокурсниц.
— При моей внешности?
— Не смотри пока в зеркало. Подожди, пока я закончу. Я еще не занималась твоими волосами.
Дельфина распустила волосы Фредди и аккуратно их расчесала, распределив на пряди. Потом взяла горячие щипцы и, завив концы волос, спустила локоны вдоль щек Фредди. Она покрасила сестре губы розовой помадой, но та оказалась не ярче собственных губ Фредди, поэтому Дельфина нанесла поверх нее помаду более темного оттенка. Затем достала из шкафа широкий черный шифоновый шарфик, сняла простыню, которой была обернута Фредди, и накинула шарф ей на плечи так, чтобы он не прикрывал верхнюю часть груди.
Отступив от сестры, Дельфина выразила восторг.
— Ну-ка, повернись! — скомандовала она и повернула Фредди лицом к зеркалу.
Фредди в изумленном молчании рассматривала себя.
— Ну? — выдохнула Дельфина.
— Я… я даже не знаю, что и сказать…
— Ты бесподобна, Фредди! От тебя просто дух захватывает. Не могу поверить, что это ты!
— По-моему, я выгляжу слишком старой, да?
— Ты выглядишь как кинозвезда, — с благоговением произнесла Дельфина: это было в ее устах величайшим комплиментом. — Я знала, что ты превратишься в красавицу, если чуть-чуть воспользуешься косметикой. — Дельфина наклонилась к сестре и поцеловала ее в лоб. Вкус не подвел Дельфину: Фредди казалась более красивой, чем смела надеяться. В душе Дельфины шевельнулась зависть, но быстрый взгляд в зеркало сразу успокоил ее: они были так не похожи, что их нельзя и сравнивать.
— Пойдем, покажемся кому-нибудь, — умоляюще сказала она, дергая сестру за руку.
— Нет, не могу. Я… ну, я как-то боюсь. Дай мне немного времени, чтобы привыкнуть ко всему этому. Да и вообще, перед кем нам покрасоваться? Мама не знает, что ты всем этим пользуешься, правда? Папа тебя просто убьет. И меня заодно. Причем меня наверняка первой.
— Да, ты права… Я просто позабыла обо всем от восторга. Фредди, когда ты поступишь в университет, я буду красить тебя всегда, когда бы тебе ни понадобилось — это вторая часть моего подарка. — Дельфина радостно засуетилась, пряча в столик огромный запас косметики, большую часть которой она увидела впервые в журнальной рекламе и заказала по почте.
— Погоди секундочку, дай мне посмотреть снимки, — с любопытством сказала Фредди, протягивая руку к пачке глянцевых фотографий, лежавших в глубине одного из ящиков.
— Ах, это ерунда! — смутилась Дельфина, но Фредди уже перебирала фотографии, на которых ее сестра была запечатлена рядом с незнакомыми мужчинами. На картонных рамочках значились названия всем хорошо известных ночных клубов Голливуда, а на столиках перед ней стояли бокалы с коктейлями. Сама же она с сигаретой в руке сидела в «Коконат Гроув», «Трокадеро», в танцевальном зале «Паломар», в кафе «Серкус» и «Омар Доум».
— Дельфина, все эти мужчины… Они ведь не из университета, правда? — спросила Фредди.
— Некоторые оттуда, а другие — нет, — ответила Дельфина, покраснев.
— Ври больше… Вот этому, например, никак не меньше тридцати, но выглядит он очень даже ничего. Симпатичный. Дельфина, ты что, пьешь и куришь?
— Совсем чуть-чуть. Чтобы они не подумали, будто я несовершеннолетняя.
— А как они считают, сколько тебе лет? — спросила Фредди, увлеченная фотографиями. Сестра выглядела на них чарующе взрослой, гордой и кокетливой незнакомкой; она с улыбкой смотрела в глаза незнакомым мужчинам.
— Двадцать один.
— Как тебе это удалось?
— Я раздобыла фальшивое удостоверение личности. Все так делают, — уклончиво ответила Дельфина. Вырвав у Фредди фотографии, она швырнула их в ящик и с грохотом задвинула его.
— Ответь мне еще на один вопрос, — попросила сестру Фредди.
— Только на один?
— Эти мужчины, они что, водят тебя на танцы в ночные клубы, покупают тебе орхидеи, чтобы ты прикалывала их к груди, и смотрят на тебя так, как на этих снимках, потому что ты прекрасная собеседница? И ты что, целыми вечерами расспрашиваешь их о любимых футбольных командах, комиксах и машинах?
— Ну, не совсем, — осторожно ответила Дельфина, — но с этого я начинаю.
Июньским воскресеньем 1936 года, на следующий день после окончания школы, Фредди совершала самостоятельный маршрутный перелет от Драй-Спрингса до Сан-Луиса и обратно — самый длинный из тех, какие были на ее счету. Прямой маршрут пролегал на север и немного на запад от Драй-Спрингса через гору Биг Пайн, входящую в хребет Сан-Рафаэль, через долину к востоку от Санта-Марии, акваторию водохранилища Твитчелла и над Аройо Гранде в аэропорт Сан-Луиса. Проще всего было бы лететь вдоль побережья океана на север и повернуть на восток у Пизмо Бич, но тогда у Фредди не было бы возможности попрактиковаться в навигации, а в течение нескольких месяцев занятий с Маком она, готовясь сдать экзамен на получение лицензии пилота, налегала в основном на воздушную навигацию.
«Да, навигация. Едва научишься летать, надо всерьез браться за навигацию, если хочешь стать настоящим пилотом», — думала Фредди. Навигация требовала предельной точности и аккуратности, однако в ней не было ничего таинственного и сложного, как казалось Фредди в самом начале. Прежде всего это означало летать, умея ориентироваться. Такого умения можно достичь, постоянно наблюдая за наземными ориентирами и мгновенно сравнивая их с картой, лежащей на коленях, и с показаниями компаса, по которому она держала курс, разработанный до вылета с аэродрома. Малейшая рассеянность, и машина может отклониться от курса из-за высотного ветра. Поэтому Фредди внимательно высматривала контрольные отметки, которым следовало появляться справа, слева и прямо под крыльями ее самолета. Даже при небольшом отклонении она мгновенно исправляла курс, делая поправку на ветер.
Пролетев над маленьким городком Оджаи, оказавшимся именно там, где ему и следовало быть, Фредди позволила себе подумать о будущем. С завтрашнего дня она приступит к работе и будет до конца лета шесть дней в неделю трудиться в пекарне Ван де Кампа на углу Беверли-Хиллз и Западного бульвара. Сеть пекарен, возникшая с момента изготовления сладостей домашнего приготовления — «Ореховой смеси дорогой Генриетты», теперь владела сотней собственных магазинчиков, разбросанных по всему Лос-Анджелесу. Ей придется начинать работу в шесть утра, с открытием пекарни, и заканчивать в два часа дня, когда заступает вечерняя смена. Неудобные часы работы и шестидневка хорошо оплачиваются — двадцать пять долларов в неделю. Зарплата опытной секретарши. Для Фредди такой график работы означал, что она сможет летать несколько вечеров в неделю, как и в уик-энд.
Фредди застонала: видно, ей суждено всю жизнь продавать конфеты, печенье и торты — все, что она люто ненавидит. Но эти сладости оказались весьма прибыльным товаром — одним из очень немногих во времена депрессии. Нюхать каждый день пусть даже слегка удушливый запах жженого сахара — не слишком тяжелое испытание, если им пахнут деньги, необходимые для того, чтобы летать все лето, и вполне достаточные, чтобы сберечь начальную сумму, только начальную, всего лишь начальную, черт бы ее побрал, для первой выплаты за самолет.
Сегодня ей доставлял истинный восторг полет на новой машине Мака — ярко-желтом моноплане «Райан СТА» с двигателем «Менаско Ц-4» мощностью в сто двадцать пять лошадиных сил. Он был намного мощнее, чем «Тейлор Каб», который она подняла в воздух всего в шестой раз. В честь окончания школы отец подарил ей нитку настоящего жемчуга, но мама, благослови ее Господь, помогла выпутаться из сложного положения, дав ей деньги, нужные для трех длинных маршрутных перелетов, первый из которых Фредди сейчас и совершала. Жемчуг стал первой ее драгоценностью. Может быть, размышляла Фредди, его удастся заложить.
Она знала, что не следует ожидать в будущем финансовой поддержки со стороны отца. Он был готов по первому слову купить ей набор дорогих клюшек для гольфа, заплатить за членство в теннисном клубе, даже за уроки бриджа, стоило ей только захотеть. Благодаря усилиям матери он в конце концов согласился не препятствовать ее увлечению самолетами, но дал ясно понять, что не пожертвует на это ни цента, даже в виде временной ссуды. Вероятно, отец надеялся, что такая мера создаст Фредди определенные трудности, а они ускорят момент, когда его дочь потеряет всякий интерес к полетам.
Поэтому не имело никакого смысла даже заикаться о том, что она хочет приобрести собственный самолет. Самые дешевые из трех лучших недорогих самолетов: «Тейлор», «Портерфилд Цефир» и «Аэронанка Хайвинд» — стоили почти по полторы тысячи долларов каждый, с первой выплатой в четыре с половиной сотни долларов — целое состояние! Дельфина получила на восемнадцатилетие новенький двухместный «понтиак» за шестьсот долларов, и он стал предметом зависти половины соседских детей-подростков. На языке автомобилистов желание купить недорогой самолет могло сравниться лишь с мечтой о собственном «паккарде», самой дорогой машине в Америке. Видно, ей придется подыскать себе подержанный самолет и привести его самой в порядок. Такой самолет можно приобрести по сходной цене, а к тому же в рассрочку.
Если у нее не будет своего самолета, спросила себя Фредди, заметив справа пик горы Биг Пайн и начиная набирать высоту, то какое будущее ждет ее в авиации? Или, точнее говоря, в воздушных гонках?
Гонки. Она знала, что у нее нет ни малейшей надежды, что ее допустят к участию в соревнованиях на скорость, при которых покрываются относительно небольшие расстояния, а самолеты, выжимая из моторов всю мощность, несутся по прямой наперегонки, как скаковые лошади. Точно так же и в гонках по замкнутому кругу с фиксированным радиусом полета. Только куда более мощные самолеты, чем тот, который она мечтала приобрести, имеют какие-то шансы на победу в разнообразных гонках, да и то, если ими управляют пилоты с опытом участия в подобных состязаниях. Интерес к воздушным гонкам на скорость в последние годы настолько возрос во всем мире, что рекорды в этой области держались всего несколько дней.
Однако в зоне вокруг Лос-Анджелеса проводились маршрутные гонки: самолеты, соревнуясь, перелетали от одного пункта дозаправки к другому и достигали финиша, расположенного иногда в сотнях километров от старта. Каждому самолету назначался гандикап, рассчитанный на базе его предельных возможностей, поэтому победителем считался пилот, который находился в воздухе меньше всех и умнее всех вел гонку, умело используя направление ветра, компас и карту, — в общем, самый точный и аккуратный, самый одаренный, самый находчивый и изобретательный, а иногда и самый удачливый.
Проклятье, она слишком поздно родилась! Эми Джонсон, британская летчица, за чьей карьерой Фредди увлеченно следила, впервые поднялась в воздух в 1928 году. Эта девушка из Галле, имевшая на своем счету всего семьдесят часов летного времени, взлетела из Кройдона, неподалеку от Лондона, на крошечном, хрупком, подержанном, Де Хэвиланд Мос» и смело взяла курс на Австралию. Песчаный шторм заставил ее совершить экстренную посадку в пустыне. Приземляясь в Багдаде, она сломала стойку колеса. Едва не потерпела катастрофу при перелете в Карачи. При подлете к Янси у нее кончился бензин, и ей пришлось приземляться во время плац-парада прямо посреди разбегавшегося строя солдат. Она угодила в муссон между Калькуттой и Рангуном, где ей пришлось заменить пропеллер. На последнем этапе перелета, после посадки в Индонезии, у нее забарахлил двигатель, но, несмотря на плохую видимость над Тиморским морем, она благополучно достигла Дарвина, где была объявлена первой женщиной, совершившей самостоятельный перелет из Англии в Австралию, и стала всемирной знаменитостью.
«Вот это перелет так перелет», — с грустью размышляла Фредди. Она совсем пригорюнилась, вспомнив, что Эми Джонсон совершила свой подвиг, когда ей, Фредди, шел всего-навсего девятый год и она только мечтала подняться в воздух на самолете.
Эми Джонсон не остановилась на достигнутом. За первым триумфом последовал второй — она установила рекорд по длительности полета для легких самолетов, совершив перелет из Лондона в Токио. Затем познакомилась с пилотом Джимом Моллисоном, прежде никому не известным, он прославился, совершив перелет из Австралии в Англию за девять дней, и Эми вышла за него замуж. После их медового месяца, продолжавшегося два дня, последовал перелет Джима Моллисона через Атлантику с востока на запад. Он побил сразу несколько рекордов, пока Эми занималась тем, что старалась превзойти его прежний рекорд длительности перелета из Лондона в Кейптаун. Она и перекрыла его на одиннадцать часов.
Какое прекрасное замужество, со вздохом подумала Фредди. Зная, что с ней никто не согласится, она все же находила очень привлекательным, что молодожены разлетаются в противоположных направлениях, каждый в погоне за новым рекордом. Эми Джонсон посчастливилось встретить мужчину, который разделял ее главное увлечение.
Ни один из мальчишек, с которыми Фредди познакомилась в последний год, не интересовался самолетами. Она проверила на практике совет Дельфины: он действительно отменно срабатывал, однако, как «хорошей собеседнице», ей приходилось выслушивать лишь дурацкие истории и вести столь же глупые разговоры, а этого, по мнению Фредди, не стоила никакая популярность. Конечно же, несколько раз дело доходило до поцелуев. «Тоже мне удовольствие», — скептически подумала Фредди и с отвращением поморщилась при воспоминании о робких губах и неуклюжих руках.
Она позволяла мальчикам целовать себя, чтобы не разочаровывать Дельфину. Но есть масса куда более важных вещей, и сделать их она уже безнадежно опоздала, поняла Фредди, осматривая горизонт. Например, шесть лет назад Рут Николс побила рекорд скорости своей подруги и соперницы Амелии Эрхарт. Два года спустя Эрхарт одна перелетела через Атлантику. В 1934-м Мария-Луиза Басти стала первой женщиной, совершившей перелет по маршруту Париж — Токио — Париж. В сентябре 1935-го Лора Ингаллс совершила беспосадочный перелет из Лос-Анджелеса в Нью-Йорк, на четыре часа перекрыв рекорд Эрхарт.
Вот черт, неужели на мою долю ничего не осталось? Эми Джонсон облетела больше половины земного шара на маленьком самолете, куда менее мощном, чем «Райан», а она едва пыхтит теперь, восемь лет спустя, держа курс над водохранилищем Твитчелла, искусственным водоемом, сделанным руками человека, — ни морем, ни океаном, ни пустыней, ни даже крупной рекой. На такой скорости ей никогда не достичь и границ Калифорнии!
В маленьком аэропорту Сан-Луиса Обиспо Фредди съела прихваченный с собой сандвич и дозаправилась, с беспокойством отметив, что авиационный бензин стоит пять центов за литр. Когда она наконец получила лицензию пилота, мать настояла, чтобы Фредди выплачивала страховку от несчастных случаев, а также на предмет повреждения чужого имущества в случае аварии. Без страховки, влетевшей ей в сто долларов, она не могла бы продолжать полеты, и, помимо того, ей приходилось самой платить за бензин.
Страсть к самолетам оказалась дьявольски дорогим увлечением, и Фредди завидовала женщинам-пилотам, имевшим покровителей, которые оказывали им материальную поддержку. За спиной Джеки Кокрейн стоял Флойд Одлэм, ее муж. Джен Бэттен, знаменитой летчице из Новой Зеландии, покровительствовал лорд Уэйкфилд, также помогавший Эми Джонсон. Анну Морроу учил летать ее муж Чарлз Линдберг. Эрхарт тоже опиралась на своего мужа, преданного Джорджа Путнэма. Не найдется ли где-нибудь и для нее богатого и желательно престарелого доброжелателя, конечно, без романтических бредней? Ведь он оказал бы громадную услугу американской авиации, оплачивая ее счета.
«Нет, тут и надеяться не на что», — ответила себе Фредди. Он, возможно, нашелся бы, приди она в авиацию на десять лет раньше, когда женщины только начинали ставить первые рекорды в воздухе, но теперь времена пионеров миновали. Ну и ладно, славы первооткрывательницы ей, скорее всего, уже не сыскать, но ведь должно остаться что-то и на ее долю! Она будет искать свой путь в авиации!
Фредди знала это так же точно, как и то, что все равно будет летать. В этом она не ошиблась, подумала Фредди, обозревая незнакомый маленький сельский аэродром, который никогда прежде не видела, но отыскала, не проведя в воздухе ни одной лишней минуты, словно в небе были развешаны указатели.
Прошлым летом она еще даже не приступила к летным занятиям, а сейчас уже стала опытным, знающим пилотом. Если бы у нее были с собой карты, деньги на еду и бензин, а также время, она направила бы «Райан» прямо на Аляску или в самый конец Южной Америки. Она могла бы начать такой перелет в любую минуту, не получая никаких дополнительных знаний, ибо ей было известно достаточно, чтобы совершить его. В этом и есть суть. Остальное стало бы на свои места… Она расставила бы остальное на свои места. Фредди поблагодарила молодого заправщика и, пригладив рукой волосы, весело забралась в кабину «Райана».
Несколько часов спустя она уже подлетала к Драй-Спрингсу. Полет назад прошел без приключений, хотя Фредди несколько раз охватывало искушение, отклонившись от курса, приземлиться в Санта-Марии или Санта-Барбаре, чтобы вдохнуть атмосферу аэродрома и поболтать на профессиональном языке с тем, кто окажется рядом на посадочной полосе. Однако она понимала, что Мак, определявший, какое время займет ее маршрутный перелет, встревожится, если она опоздает. Курс она выдерживала превосходно, а ветры сегодня так благоприятствовали ей в обоих направлениях, что она должна была приземлиться в Драй-Спрингсе на добрых двадцать минут раньше предполагаемого времени.
Значит, у нее есть в запасе немного времени, поняла Фредди, подавляя радость. День сегодня великолепный, с неограниченной видимостью, но она пока еще далеко от Драй-Спрингс, поэтому ее никто не увидит: в небе от горизонта до горизонта не было других самолетов. Очевидно, сама судьба предоставляла ей шанс попытать счастья, тем более что она несколько месяцев готовилась к этому по своей любимой «Настольной книге ученика пилота» Джека Ханта и Рея Фарингера. Перед глазами Фредди встала вводная страница главы о высшем пилотаже. Она знала назубок каждое слово:
«Первое, что должен помнить ученик: он становится «частью воздушного корабля» в тот момент, когда пристегивает ремни безопасности. С этого момента, какое бы положение ни занимала машина на земле и в воздухе — обычное или перевернутое, — пилот находится в одной и той же позиции относительно самолета… и соответственно относительно контрольных приборов. Это очевидно и означает, что пилоту необходимо лишь «смотреть», куда он летит, и соответственно направлять самолет точно так же, как он делает это во время обычных полетов…»
Ну что тут непонятного? Яснее не бывает.
«…Мертвая петля — самая легкая в исполнении фигура высшего пилотажа, самая простая из них… Сдвиньте дроссель в положение для обычного полета по кругу. Теперь введите самолет в мягкое пикирование… как только будет достигнута достаточная скорость, слегка переместите элероны назад и поднимайте машину по дуге вверх, начиная выписывать круг…»
Тысячи раз она выписывала в мыслях мертвую петлю, думала Фредди, поднимая «Райан» на полтора километра над землей — на абсолютно безопасную для выполнения маневра высоту. Она могла процитировать наизусть «Список возможных ошибок ученика при выполнении мертвой петли» в прямом и обратном порядке, даже если бы ее разбудили среди ночи. Диаграммы полета навсегда запечатлелись у нее в мозгу, но ей еще не приходилось выполнять петлю на самом деле, на настоящем самолете. Однако сегодня она вела мощную машину с надежным двигателем — любимую модель Текса Ренкина, национального чемпиона по высшему пилотажу. Разве Ренкин не говорил, что высший пилотаж повышает мастерство пилота, для чего он, собственно, и создан, а следовательно, и безопасность полетов? И, в конце концов, она должна отметить чем-то особенным и незабываемым завершение своего летного образования — получение в прошлом месяце лицензии пилота, а также и то, что именно сегодня она поняла: фигуры Эми Джонсон, Эрхарт или Кокрейн, этих столпов женской авиации, больше не вызывают у нее благоговейного страха. Да, быть по сему!
Фредди осторожно ввела «Райан» в пике и, достигнув необходимой скорости, начала поднимать нос самолета. Она медленно задвигала рукоятку дросселя вперед, пока он не оказался в крайнем положении, а это предельно увеличивало мощность двигателя. Теперь в ее власти сто двадцать пять лошадиных сил, подчиняющихся мановению ее руки. Какое блаженство после долгих часов методичного следования по проложенному курсу — этого чисто математического, аскетического удовольствия, с замиранием сердца стремительно прыгнуть в небо!
Она вела «Райан» по восходящей дуге круга и, достигнув частично перевернутого положения, закинула голову назад, чтобы посмотреть, как нос самолета пересекает горизонт. В этот момент она вновь почувствовала себя девчонкой-подростком на роликовых коньках, той, которая могла, скатившись с вершины холма, на один великолепный, незабываемый миг вырваться из пут гравитации. Когда «Райан» вышел из петли и снова начал задирать нос, возвращаясь к прямому полету, Фредди поняла, что смеется беззаботно, как ребенок, ибо ощущает власть над машиной. Она выполнила еще одну петлю, затем еще и еще одну. И только выписав с десяток петель, сумела убедить себя остановиться на достигнутом, и то лишь потому, что вспомнила, как близко она от Драй-Спрингса.
Ведя самолет чинно, словно пожилой джентльмен на воскресной автомобильной прогулке, но с победоносной усмешкой на губах, Фредди постепенно снизилась и совершила, как всегда, безупречную посадку. Выбравшись из кабины, она оглядела летное поле: все было спокойно. Вокруг суетились пилоты: одни взлетали, чтобы покружить в вечернем небе, другие зачехляли самолеты, но возле ангара летной школы Макгира никого не было видно. Фредди привязала «Райан» и направилась к кабинету Мака походкой завзятого флибустьера, весело насвистывая «Пока мы не встретимся вновь». Она заполняла свой формуляр полетов, когда услышала, как приземлился «Тейлор» и как выключился его двигатель.
— Ты что это вытворяешь! Что, черт побери, взбрело тебе в голову?! — заорал Мак, ворвавшись в кабинет и подняв руку словно для удара. Фредди в ужасе отскочила назад, за стол. Рука Мака опустилась. — Отвечай! — рявкнул он с такой злобой, какой она от него не ожидала.
— Я отрабатывала мертвую петлю, — запинаясь, пробормотала Фредди.
— Как это взбрело тебе в голову? Ты же могла разбиться, дуреха! Неужели ты настолько глупа, что не понимаешь этого?
— В книге написано…
— В какой еще, черт побери, книге?!
— Моей «Настольной книге ученика пилота». Там подробно описано, как все надо делать, все-все, до последней детали… Я точно знала, как выполняется петля. Там говорится, что это простейший маневр пилотажа. Я приняла все предосторожности, а самолет у меня подходил для выполнения даже самых трудных фигур высшего пилотажа… — Слова замерли на губах Фредди при виде убийственной ярости, отразившейся в глазах Мака.
— Будь ты проклята, Фредди! Никому, слышишь, никому не разрешается приступать к исполнению фигур высшего пилотажа без сопровождения инструктора и без парашюта! Ты даже не поняла, что тебя видно с любого самолета, находившегося в воздухе! Молчишь, глупая, самонадеянная девчонка?! Никогда в жизни не видел более откровенного проявления беспечности! За свою выходку ты можешь лишиться лицензии. Да что там, на мгновение потеряв сознание от перегрузки, ты могла разбиться, дура безмозглая! При выходе из петли «Райан» достигает скорости без малого пятисот километров в час. Про эту «детальку» тоже упоминается в твоей дурацкой книжонке, или она как-то от тебя ускользнула, а, Фредди? Глаза бы мои тебя не видели! — Мак прижал руки к груди, сжал кулаки и вперил в девушку яростный взгляд, плотно сомкнув губы.
Фредди дико озиралась, ища, куда бы укрыться от его гнева. Потом прижалась к стене и опустила голову. Она не смогла сдержать бурные рыдания, рвавшиеся из груди. Мак прав, тысячу раз прав, а она в самом деле наделала глупостей. Ей нечего было сказать в свое оправдание. Фредди испытывала глубокий стыд и унижение. Говорить, что она сожалеет о своем поступке, не имело смысла. Совершенное преступление было слишком тяжким: Мак возненавидел ее. Раздавленная горьким чувством вины, Фредди рыдала все сильнее и сильнее, беспомощно колотя по стене кулаками в приступе безнадежного отчаяния. Наконец она закрыла лицо руками и рванулась, спотыкаясь о мебель, из кабинета. Ей надо было поскорее укрыться в автомобиле матери.
— Вернись! — взревел Мак, но она не остановилась, стыдясь самой себя и страшась его гнева. Мак схватил Фредди за плечи, повернул к себе и оторвал ее ладони от лица. — Ты еще будешь когда-нибудь так делать? Отвечай, будешь?! — жестко спросил он.
Фредди, не в силах выговорить ни слова, только помотала головой. Потом вырвалась и пошла к машине. Мак снова остановил ее.
— Ты никуда не поедешь, пока не успокоишься. Сядь и, ради Бога, перестань реветь!
Фредди послушно вытерла слезы и высморкалась, все еще вздрагивая от рыданий. Мак стоял спиной к ней, глядя в окно на приземлявшиеся самолеты: воскресные полеты заканчивались, и пилоты неохотно возвращались на землю. Наконец к Фредди вернулся дар речи.
— Теперь я могу ехать домой?
— Нет, не можешь, пока мы во всем не разберемся и не поймем друг друга. С чего это ты начала выписывать петли в воздухе?
— Я… От счастья, я чувствовала себя такой счастливой.
— Так ты решила овладеть высшим пилотажем?
— Да.
— А зачем ты накрутила столько петель?
— Мне очень понравилось. Ведь так здорово чувствовать, что ты это можешь!
— Обещаешь никогда больше этого не делать?
— Обещаю.
— Я тебе не верю.
— Мак, клянусь, я больше не буду! Ну как мне убедить тебя, что я говорю правду?! Я получила хороший урок, и больше такого не повторится… Я не вру, почему ты мне не веришь?
— Нет, почему же, я тебе верю. Я не подозреваю тебя в нечестности и верю, что в данную минуту ты говоришь правду, и убеждена сама, что никогда больше не подступишься к высшему пилотажу. Но когда-нибудь потом, в каком-нибудь безопасном месте, когда будешь уверена, что я нахожусь за тридевять земель, тебя охватит такое сильное искушение еще раз попробовать свои силы, что ты не сможешь устоять. Начав, ты не сможешь остановиться и пойдешь дальше. Я кое-что в этом смыслю. Это непременно произойдет, независимо от того, что ты сейчас говоришь.
— Можешь, конечно, думать все, что угодно, я не могу тебе помешать, — произнесла Фредди с убитым видом.
Слова Мака означали, что отныне он никогда не разрешит ей сесть за штурвал «Райана» и Фредди снова придется летать на менее скоростном и мощном «Тейлоре», если он вообще не запретит ей пользоваться своими самолетами.
— Фредди, высший пилотаж — это целая наука, а не беспечное кувыркание в воздухе. Безрассудство здесь недопустимо. И непростительно. Дерзким наскоком этим не овладеешь. Высший пилотаж требует огромного труда и постоянной практики, когда раз за разом отрабатываешь одно и то же, одну и ту же фигуру.
— Понимаю, Мак, я и не мечтала… — беспечно начала Фредди и замолчала, когда Мак иронично приподнял бровь.
— Не мечтала? Нет, вот именно, ты мечтала — мечтала с налета взять высший пилотаж. Я слишком хорошо тебя знаю, малышка. Если на что я и могу рассчитывать, так это на то, что твоя мечта не рассеется как дым. Я буду учить тебя высшему пилотажу, ибо только это даст мне уверенность, что в следующий раз, когда тебя потянет выкинуть нечто подобное, ты, по крайней мере, сообразишь, что делаешь.
— Мак?.. Мак, ты…
— Теперь убирайся отсюда к дьяволу. Отправляйся домой.
Наблюдая за удаляющимся автомобилем Фредди, Мак подумал, что никогда прежде он не был так близок к тому, чтобы ударить женщину, и еще никогда в жизни ему так сильно не хотелось утешить плачущую женщину. Господи Боже! Малышка доставляла больше неприятностей, чем того стоила, но, черт побери, ее петли смотрелись совсем неплохо, и если он не научит ее высшему пилотажу, это сделает кто-нибудь другой.
10
Уютно расположившись в комнате для приема гостей, залитой солнцем, Ева просматривала утреннюю газету. Поль уехал в консульство; дочери были на занятиях; на кухне вовсю шли приготовления к завтраку, который она устраивала сегодня для дам из французской колонии. Еще накануне она расставила по всему дому свежие розы из сада, так что теперь могла, не торопясь, знакомиться с тем, что происходит в мире, или хотя бы с событиями, значительными с точки зрения издаваемой в Лос-Анджелесе газеты.
Стоял май 1936 года. Франция была парализована забастовками, последовавшими вслед за победой на выборах Народного фронта, в рядах которого оказалось на удивление много социалистов и коммунистов. Закончилась война Муссолини с Эфиопией. Огромные пространства Северной Африки находились под властью итальянского наместника. Гитлеровский вермахт оккупировал бывшую Рейнскую демилитаризованную зону, проявив дерзкое неповиновение Лиге Наций и вызвав гневное осуждение Бельгии, Великобритании, Франции и Италии, хотя дальше осуждения дело не пошло и за этим ничего не последовало. А в Лос-Анджелесе сенсационной новостью, вынесенной на первую полосу газеты, было бракосочетание Дугласа Фербенкса-старшего с леди Сильвией Эшли. Ева с интересом принялась читать это сообщение. Героиней репортажа была женщина, по слухам, дочь лакея, которая какое-то время называлась «восходящей звездой» (хотя, что именно вкладывалось в это понятие, осталось совершенно не ясно) в одном из театральных обозрений Лондона, а потом ухитрилась выйти замуж за наследника титула и состояния графа Шифтсберийского. Теперь, спустя восемь лет, разведясь с лордом Эшли, она обольстила одного из знаменитейших голливудских актеров.
Ева внимательно разглядывала газетный снимок, на котором была запечатлена гражданская церемония бракосочетания, состоявшегося в Париже. Леди Эшли, надо отдать ей должное, была одета в высшей степени элегантно: пальто из светлой шерстяной ткани, украшенное громадным воротником в виде пелерины из темного соболя; под ожерельем из жемчуга и бриллиантов внушительных размеров красовался букет из четырех крупных орхидей. Лак и помада были одного и того же темно-красного цвета. Под ниточками бровей глаза казались удлиненными, их разрез — почти восточным. Несмотря на правильные черты, лицо это вряд ли можно было назвать по-настоящему красивым, и Еве оно казалось холодным. Рядом с леди Эшли стоял загорелый Фербенкс. Он светился неподдельной радостью человека, добившегося исполнения своего заветного желания.
У новобрачных был торжествующий вид. Позади остался скандальный бракоразводный процесс Фербенкса с Мери Пикфорд. В год перед женитьбой Фербенкс и леди Эшли совершили кругосветное путешествие на великолепной яхте Фербенкса, вызывая всеобщую зависть. Рассматривая на снимке женщину, явно привыкшую к роскоши и обожанию и столь желанную для мужчин, что они готовы на все ради обладания ею, Ева подумала, сколько домашних хозяек в Америке заявляют о том, как шокировала их эта свадьба, но втайне завидуют Сильвии Эшли. Миллионы? Десятки миллионов?
Ева бросила газету в корзину для бумаг. Времена, как и нравы, изменились, и Еве, которую всегда осуждали, придется сделать над собой усилие, чтобы самой не судить слишком строго.
Но ведь у нее есть Дельфина и Фредди, и если она может позволить себе с безразличием относиться ко всяким Сильвиям Эшли, то по отношению к собственным дочерям у нее множество обязательств. Дельфина сейчас в том возрасте, в котором Ева с трудом подавляла внутренний бунт. Конечно, пока Дельфина, эта прирожденная кокетка, шла, как легкомысленный ребенок, на поводу у своих желаний. Однако она отнюдь не была посредственностью. Виртуозно манипулируя мужчинами, Дельфина, кажется, не находила удовольствия ни в легких победах, ни в том, чтобы кто-нибудь страдал из-за нее. Она была ласковой, живой, капризной, но, в сущности, милой девочкой. По общему мнению, Дельфина придерживалась не слишком строгих моральных принципов, но в ее-то возрасте, да еще в этом особом городе, кто мог похвастать иным?
Ева очень скучала по Дельфине, которая жила в доме женского землячества Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе, против чего Поль категорически возражал. Но университет, действительно, слишком далеко, чтобы ездить туда каждый день. Так или иначе, Еве казалось, что ее старшая дочь будет чувствовать себя лучше среди сверстников. Живя дома, она не смогла бы обрести настоящих друзей, а говорят, именно друзья студенческих лет остаются на всю жизнь.
Еву радовало, что Фредди пока еще учится в школе. Следующей осенью, когда она поступит в университет, ей тоже, возможно, захочется войти в женское землячество и уехать из дома, однако втайне Ева надеялась, что этого не произойдет. Она ненавидела американскую систему, отрывающую детей от семьи, но не могла противостоять ей. Ева надеялась, что сама Фредди не захочет слишком отдаляться от своего драгоценного аэропорта Драй-Спрингс.
Вместе с тем Ева сокрушалась, что Фредди в отличие от Дельфины лишена многих радостей юношеского возраста, не имея даже ни одной близкой школьной подруги. Очень уж отличались интересы ее младшей дочери от интересов сверстников. Фредди еще слишком юная для такого страстного увлечения авиацией, да и такая целеустремленность не соответствует ее возрасту. Если бы Фредди чуть больше походила на Дельфину, а Дельфина на Фредди… «Ну как же я глупа», — подумала Ева и отправилась на кухню, желая убедиться в том, что все идет по плану. Проверяя чаши для ополаскивания пальцев, она думала о том, что, к счастью, хозяйке дома в отличие от гостей не нужно быть в шляпе. Хоть одной заботой меньше.
* * *
Дельфина положила сигарету и обвела взглядом комнату своей лучшей подруги и однокашницы по женскому землячеству Марджи Холл. Эта комната, где только что сменили обстановку и где все стало белым и розовым, казалась храмом непорочности. Обстановка совершенно не вязалась с короткими ярко-желтыми кудряшками Марджи, ее пышным молодым телом и дерзкими зелеными глазами. Но, как говорила Марджи, ради того, чтобы пореже видеть мать, она готова вытерпеть и такой антураж.
Мать Марджи только что развелась в третий раз и вышла замуж в четвертый. С тех пор как шесть лет назад Дельфина подружилась с Марджи, комната ее подруги на Бель-Эйр претерпевала изменения в третий раз. Таким образом бывшая миссис Холл пыталась компенсировать своей дочери нежелательную эмоциональную встряску. Что касается Марджи, такая тактика матери вполне устраивала ее, поскольку позволяла обходить острые углы. Кто знает, может, в следующий раз вкус дизайнера совпадет наконец со вкусами самой Марджи.
Сейчас мать Марджи проводила в Европе свой очередной медовый месяц; отец, по слухам, жил в Мексике, но о нем уже давно никто ничего не знал.
Ева не могла недоброжелательно относиться к Марджи только потому, что та из неблагополучной семьи, или потому, что у девушки вызывающе яркие волосы. По словам монахинь из «Святого сердца», у которых Ева наводила справки, Марджи Холл была покладистой, пунктуальной, вежливой и усердной. Училась она вполне прилично, казалась очень живой, а то, что она не подвержена депрессии, настоятельница считала благом. Ее волосы? Ну что ж, она их не красила, это ее натуральный цвет. К сожалению, слишком уж яркий, но с этим ничего не поделаешь.
Случись Еве осмотреть будуар Марджи, она поняла бы, что ее интуитивная тревога имеет основания. В туалетном столике Марджи было припрятано раз в десять больше косметики, чем у Дельфины. Ее шкафы были набиты бесчисленными изысканными и модными вечерними платьями, накидками и туфлями на высоких каблуках. Все это больше подошло бы зрелой женщине, а не восемнадцатилетней девчонке. В потайном ящичке бело-розового бюро находилась изрядная сумма денег. Эти деньги девушки добыли в подпольных казино, куда они часто ходили в сопровождении мужчин. Такие нелегальные притоны пышно расцвели по всему Лос-Анджелесу при попустительстве городской администрации, которая с каждым годом становилась все более коррумпированной. Мужчины в городе поговаривали о том, что эти прелестные создания несомненно приносят им удачу, считая Марджи и Дельфину прекрасными талисманами, щедро вознаграждали их, советовали не слишком сорить деньгами и предлагали свои услуги на будущее.
Дельфина держала свои туалеты, купленные на заработанные деньги, в шкафах своей подруги.
С отменой сухого закона контрабандной торговле спиртным пришел конец, и теперь, когда можно было потреблять спиртное открыто, игорный бизнес расцвел еще больше. Любой, у кого были соответствующие связи, мог выиграть или проиграть изрядную сумму в десятках мест, начиная от прекрасно оборудованных клубов бульвара Сансет до лачуг на пляже и плавучих казино «Монте-Карло» и «Джоанна Смит», куда доставляли катера.
В тех клубах, где бывали Дельфина и Марджи, подавали шампанское и икру, а гости приходили туда в вечерних туалетах. Слухи о том, что мафия с Восточного побережья прибрала к рукам игорный бизнес на Западе, делали запретный плод еще слаще.
Дельфина, конечно, позаботилась о том, чтобы родители не знали о ее ночной жизни. Своим поклонникам Дельфина не разрешала заезжать за ней в дом землячества: наблюдательная, бдительная комендантша, миссис Робинсон, немедленно кинулась бы звонить Еве, увидев, что девушка идет куда-то с незнакомыми мужчинами, а не с мальчиками из университета. У этих мальчиков часто не было ни гроша за душой, и они казались Дельфине слишком зелеными и наивными, чтобы вообще о них думать.
Подруги были неразлучны. Выручая друг друга на экзаменах, они сносно учились, хотя три-четыре ночи в неделю проводили за игрой или на танцах. Только перед рассветом, когда кончалось веселье, они отправлялись в «Сарди» и съедали по яичнице, после чего спутники отвозили их на Бель-Эйр, чтобы они успели поспать хоть пару часов до начала занятий. Девушки часто пропускали лекции: обе обладали прекрасной памятью и могли за несколько дней наверстать упущенное.
По субботам Дельфина и Марджи, прихватив заработанные деньги, отправлялись в лучшие магазины города, покупали себе новые платья и белье. Они чувствовали свое превосходство над девчонками из своего землячества, для которых приятно провести время означало пойти на футбол, а потом выпить фруктового пунша с ромом с группкой старшекурсников.
Подруги помогали друг другу, если случалось выпить лишнего; пробовали новые средства от похмелья и ничего не имели против смены партнеров, ибо считали, что все мужчины одинаковы. Они советовались по поводу новых причесок, обменивались новыми жаргонными словечками, делали друг другу педикюр, обсуждали поцелуи и ласки, и каждая предостерегала подругу от излишней доверчивости: мужчины иногда пытались зайти «слишком далеко», а они были «хорошими девочками» и берегли свою невинность.
Постоянной темой их разговоров и единственной стороной жизни, далекой от идеала, было то, что они — обыкновенные статистки в том спектакле, который разыгрывался каждую ночь в ресторанах и ночных клубах Голливуда. Увы, они не кинозвезды. Никто не пялил на них глаза и не просил автографов, хотя они были хорошенькими и модно одевались. Они чувствовали себя как рыбы в воде в мире, известном многим лишь по популярным журналам и вызывающим жадное любопытство публики, но одно дело, когда тебя узнает метрдотель в «Кокосовой роще», а другое, если тебя осаждает толпа поклонников и фотографов.
— Попытайся взглянуть на это иначе, — сказала Марджи. — Появись твое фото в газетах, родители посадили бы тебя на хлеб и воду.
— Мое фото могло бы появиться в газетах лишь в том случае, если бы я стала знаменитой, — возразила Дельфина, — и родители уже ничего не смогли бы с этим поделать.
Перед лицом столь неоспоримого довода обе замолчали. Среди их знакомых встречались актеры, но все они были заняты лишь в эпизодических ролях. Состоятельные мужчины, которые могли позволить себе приглашать их на танцы и в казино, были молодыми холостяками и занимались бизнесом; актеров терпели лишь потому, что те приводили с собой молодых восходящих звезд.
— Не унывай, Дельфина, — проговорила Марджи, вынимая из их тайника пятисотдолларовую пачку денег и деля ее на две равные части. — Кинозвездам приходится рано вставать, к тому же они вечно влюбляются или разочаровываются в любви, а это, согласись, совсем не то, что нужно тем, кто мечтает о красивой жизни. Послушай, не знаю, как тебе, но мне совершенно нечего надеть сегодня, и мы только теряем время, сидя здесь и чувствуя себя отвратительно потому, что ты не Лупи Велес, а я не Адриана Эймс. Или наоборот?
— Ну и вкус у тебя, Марджи! Ты — Мирна Лой, а я — Гарбо.
— Пошли, дорогая. Впереди интересный вечер. После ужина отправимся на пляж. В двенадцати милях от Санта-Моника-бэй недавно открылось новое плавучее казино, и там будет весь цвет общества. Дельфина! Хватит раздумывать… Пора по магазинам!
Фредди пришла на тренировку рано, но Макгир сделал ей знак, чтобы она подождала, пока он закончит разговор с посетителем. Фредди уже встречала этого человека. Свид Кастелли был постановщиком авиационных трюков в небольшой студии Дэвидсона на Пико. Он часто наезжал в Драй-Спрингс, чтобы посоветоваться с Маком относительно проблем, возникающих по ходу съемок очередного фильма об авиации времен мировой войны. Публика была от них без ума.
Когда в 1918 году мировая война закончилась, герою этой войны, Теренсу Макгиру, исполнилось уже двадцать два года. Он вернулся из Франции домой, твердо убежденный в том, что будущее гражданского транспорта принадлежит авиации. После ряда неудачных попыток создать небольшую авиакомпанию он обнаружил, что никто не собирается производить пассажирские самолеты, способные совершать дальние перелеты между крупными городами. Пассажиры довольствовались путешествиями по железной дороге.
Поэтому Макгиру пришлось смириться с действительностью и вложить все свои сбережения до последнего цента в «Кертисс-Дж. Н-4». Этот небольшой надежный самолет помог ему сводить концы с концами. Макгир работал на ярмарочных площадях. Посадочной полосой для его самолета служили поле для игры в бейсбол, рейстрек или даже выгон для скота. Продемонстрировав фигуры высшего пилотажа, он катал пассажиров, взимая по пять долларов с человека, но наступил момент, когда никто не давал за полет больше доллара. Лет через двадцать после первого полета братьев Райт интерес к авиации поубавился, прелесть новизны пропала. Ни армия, ни флот не были заинтересованы в развитии воздушных сил, и человеку, который не мыслил для себя никакого иного занятия, кроме пилотирования, не оставалось ничего другого, как отправиться в Голливуд и стать профессиональным пилотом, выполняющим авиационные трюки в кинофильмах.
Долгие годы он работал на студии «Фокс», где размещались штаб-квартиры пятнадцати кинокомпаний. Именно здесь очень высоко ценили его мужество, мастерство и молодость. Мак работал с такими же молодыми людьми, как и он, готовыми за сотню долларов заставить самолет пролететь вверх брюхом в нескольких дюймах от земли, а за полторы тысячи — взорвать самолет в воздухе, выбравшись из него. Ни один пилот-каскадер не мог заработать ни цента, не подвергая жизнь риску. Макгиру доводилось летать с Диком Грейсом, Чарлзом Стоффером, Фрэнком Кларком и Фрэнком Томиком; с Диком Кервудом и Дюком Грином; с Морисом Мерфи, Лео Ноумсом и Россом Куком. К 1930 году из десятков парней, ставших друзьями Макгира, остались в живых лишь несколько человек. Ни один из них не умер естественной смертью. Они проживали каждый день ярко и отважно умирали, словно по собственному выбору, молодыми.
Именно тогда, в начале нового десятилетия, осознав, что многие из его веселых и остроумных друзей проиграли схватку со смертью, Теренс Макгир открыл на свои сбережения летную школу.
Все зависело исключительно от везения. Все погибшие парни были первоклассными пилотами, и Теренс знал, что рано или поздно настанет и его черед. Ему посчастливилось остаться в живых после более чем трех дюжин тщательно подготовленных авиакатастроф, в которых он не раз ломал кости.
Возможно, он был не таким, как все, но ему хотелось заглянуть в будущее. Вместе с тем он никогда не смог бы расстаться с Голливудом. Отказавшись от выполнения авиационных трюков, он стал собирать самолеты устаревших моделей, неоднократно побывавшие в ремонте. Он сдавал напрокат киностудиям «Спады-220», немецкие «Фоккеры-Д.VII», английские «Кэмелы». На эти средства Мак содержал свою школу. Макгир так виртуозно ставил воздушные бои, что был нарасхват у киностудий, снимавших фильмы на военные темы. Все же он не стал бы отрицать, что скучал по старому доброму времени, по тем полным опасности и одновременно прекрасным дням.
Свид Кастелли, как и Мак, в прошлом летчик, выполнявший когда-то фигуры высшего пилотажа, имел теперь вид весьма преуспевающего служащего. Мак казался таким юным рядом с этим человеком в деловом костюме, а ведь они, скорее всего ровесники, — подумала Фредди. Казалось, Мак принадлежал к совершенно другому поколению, скорее к поколению Фредди, чем Кастелли.
Фредди заметила, что Мак ни капли не изменился с тех пор, как она впервые увидела его пять лет назад, когда ей было одиннадцать с половиной. Она спросила его тогда, сколько ему лет, потому что этим поинтересовалась ее мама. Ответив, что сорок, он объяснил, почему получилось, что он моложе ее отца, хотя они оба участники мировой войны. Набравшись смелости, она полюбопытствовала, женат ли он. Мак ответил, что у большинства летчиков, занимающихся высшим пилотажем, хватает ума оставаться холостыми, и, миновав брачный возраст, он будет слишком стар, чтобы расставаться с холостяцкими привычками.
— Ну, что, малышка, все выяснила?
Наблюдая за тем, как он разрабатывает план воздушного боя, в котором должны будут участвовать шесть самолетов, Фредди вдруг поняла, что никогда больше не задаст ему ни одного личного вопроса, хотя считала его своим лучшим другом. Еще она подумала, что, в сущности, забавно считать лучшим другом того, кто сам к тебе так не относится.
Фредди не спускала глаз с Макгира, пользуясь редкой возможностью наблюдать за своим инструктором. Она не могла себе этого позволить во время тренировок: Мак требовал полной сосредоточенности, хотя она не всегда внимательно слушала. Он становился как бы частью самолета. Когда они возвращались в школу, Фредди едва успевала повторить свой урок перед тем, как отправиться домой. Мак говорил сейчас так живо и образно, что она легко представляла себе перемещение каждого самолета: траекторию полета Мак чертил в воздухе вокруг своего стола.
Теренс Макгир был наполовину шотландцем, наполовину ирландцем, что без труда можно было определить, кинув взгляд на копну его густых светло-каштановых с рыжим отливом волос и светло-зеленые глаза с удивительно длинными ресницами. На его милом, добром лице даже сквозь загар проступали веснушки. Он был худым, подтянутым, почти метр восемьдесят ростом и мускулистым, как гимнаст. Фредди подумала, что жизнь наложила на него отпечаток, и всякий внимательный человек мог догадаться, что в воздухе Мак провел больше времени, чем на земле. Было что-то такое… такое независимое в его пружинистой походке, в его осанке, в его готовности принять любой вызов, какая-то непосредственность, добродушие. Улыбка Мака всегда означала для Фредди, что он с радостью выполнит любое ее желание, и интуиция никогда не обманывала ее. При всей своей открытости и воспитанности Мак был внутренне дисциплинированным человеком с трезвым умом и большим самообладанием. Ей казалось, что ни у кого на свете нет такой улыбки, как у Мака, улыбки, за которую она готова была отдать жизнь.
— Фредди, будь добра, принеси нам еще кофе. — Мак кивнул на кофейник, стоящий на шкафчике с бумагами.
Она принесла кофейник.
— Можно мне тоже? — спросила Фредди.
— Нет, ты еще мала, — рассеянно ответил он.
— Мама мне разрешает.
— А я нет.
«Черт возьми, — подумала Фредди, — что я, двухлетняя? Мне почти семнадцать, и я пью кофе с молоком на завтрак с тех пор, как хожу в школу, а этот зануда обращается со мной, как с ребенком. Да еще продолжает звать меня «малышкой», чего я терпеть не могу».
Надувшись, но не произнеся ни слова, она прислушивалась к разговору, который перестал ее интересовать. За тот месяц, когда она занималась высшим пилотажем, Фредди поняла: в основе всех эффектных и сложных фигур лежит комбинация, куда входят пять основных простых элементов: виражи, бочки, петли, потеря скорости и вращение. Многие пилоты погибали оттого, что не справлялись с потерей скорости и вращением. Она упорно тренировалась и выполняла однообразные упражнения, чтобы сделать полеты более безопасными. Тренировки помогали ей «кожей чувствовать» самолет; эту необъяснимую способность не могли заменить во время полета никакие меры предосторожности. Ну, а если этого недостаточно, то, как считала Фредди, для каждого маневра, которые выполняет «Райан», существуют идеальные скорости: для одинарной быстрой бочки — девяносто миль в час; для двойной — сто восемнадцать, для быстрой вертикальной бочки — сто сорок.
Как необыкновенно ощущение полной свободы в небе! Фредди хотелось немедленно сорваться с места, оставив Мака и Свида Кастелли с их проблемами, вскочить в первый попавшийся самолет и умчаться в небо. Фредди изо всех сил стремилась улететь куда-то, все равно куда, не думая о навигации, прецизионности, воздушном потоке, контрольных точках, — словом, обо всем, что могло бы встать между нею и тем восторгом, изумлением, которые испытала она в самостоятельном полете, когда с ней говорила вечерняя звезда, а созвездие Козерога манило ее к себе. Она знала, что сегодня ей не удастся так просто взять и улететь. Это было нереально, но она могла бы, черт возьми, — да еще как! — если бы только имела свой самолет.
— Проснись, Ева, проснись, — настойчиво повторял Поль, встревоженный телефонным звонком, раздавшимся в четыре часа утра.
— Что? Что такое? Который час? Что случилось? — сонно спрашивала Ева, щуря глаза от света ночника.
— Это Дельфина. Она звонит из полицейского участка в центре города. Я не понял толком и половины того, что она мне говорила. Сейчас поеду, заберу ее и привезу сюда. Я не хотел, чтобы ты, проснувшись, испугалась, что меня нет.
— Из полицейского участка? Она попала в аварию? Она не пострадала, ведь нет? — испуганно спрашивала Ева.
— Нет, нет, дело совсем не в этом. Она не объяснила толком. Она сказала, что просто играла в кости, но, дорогая, она была в истерике, и потом…
— Что потом?
— Она была пьяна, — безжалостно сказал он.
Часа через два Поль вернулся, привезя испуганную всхлипывающую Дельфину. Она выглядела жалкой и незащищенной. Ей удалось кое-как стереть с лица косметику, но она все еще была в дорогом вечернем платье из набивного черного с белым крепа и в болеро с меховой оторочкой. В этом наряде ее и арестовали на борту плавучего казино. Роскошное казино до капитального ремонта было грузовым судном под названием «Рекс».
Дельфина изо всех сил старалась войти в гостиную с гордо поднятой головой, но, увидев поджидавшую их Еву, расплакалась и тяжело опустилась на софу.
Ева вопросительно посмотрела на Поля, но он только качал головой. В его взгляде сквозили недоверие и глубокая печаль. Подвинувшись к Дельфине и взяв в ладони ее несчастное лицо, Ева крепко прижала дочь к себе.
— Ну, перестань. Что бы там ни случилось, это едва ли настолько ужасно, — в смятении твердила она.
Увидев Дельфину, всегда выдержанную и уверенную в себе, а вместе с тем ранимую и нежную, в таком состоянии, Ева думала только о том, как успокоить дочь.
— Боюсь, ты ошибаешься, дорогая, — спокойно сказал Поль и сделал ей знак, давая понять, что хочет поговорить с глазу на глаз.
— Дельфина, дорогая, поднимись наверх, надень халат, а потом спустись на кухню, я приготовлю завтрак, — сказала Ева, легонько подтолкнув Дельфину к лестнице. Услышав, как хлопнула дверь в прежней комнате Дельфины, Ева тотчас же повернулась к Полю. — Господи, что все это значит?
— Полиция нагрянула в одно из плавучих казино. Дельфину и Марджи посадили в одну камеру с десятком других женщин. Все они, как и Дельфина, были разодеты в пух и прах, а многие пьяны, некоторые — мертвецки. Мужчин поместили в другую камеру. Это какой-то сумасшедший дом: адвокаты, журналисты, фотографы, репортеры… Если бы не статус дипломата, мне не удалось бы так быстро вытащить ее оттуда.
— Но как она попала в подобное место?
— Она назвала имя какого-то мужчины, но мне оно ни о чем не говорит. Мне удалось вытащить оттуда и Марджи. Пришлось отвезти ее домой, другого выхода не было. Думаю, она не протрезвеет до завтра. Она все старалась убедить меня в том, что это казино — «шикарное место»: рулетка, кости, кено, «фараон»[12], «очко» и три сотни игровых автоматов. Лучше, чем в Тихуане. Она говорила, как заправский игрок, утверждая, что беспокоиться не о чем: судно имеет сотни спасательных шлюпок, поэтому там совершенно безопасно. — Он попытался улыбнуться, но это не получилось. — Она была настолько пьяна, что не поняла, кто я такой. Она все твердила о том, что у них с Дельфиной ко времени начала рейса была пара тысяч долларов и полиция обчистила их. Пока я вел ее к дому, она без конца повторяла, что я должен попытаться вернуть эти деньги. Даже лезла драться с полицейскими.
В голосе Поля звучало отвращение.
— Но… это невероятно, Поль, правда… правда? — сбивчиво бормотала Ева в полном замешательстве. — Студенты университета… в таком возрасте… спаивают девочек? Что же за комендант эта миссис Робинсон, если она позволяет им общаться с подобными мальчиками?
— Ты не совсем понимаешь, дорогая. Ты ведь не слышала, что несла Марджи. Если только все, что она говорила, не выдумка, — а поскольку она была слишком пьяна и разъярена, чтобы лгать, я ей верю, — они с Дельфиной постоянно участвуют в богемной ночной жизни Голливуда. К ним относятся с учтивостью, приличествующей их положению. Они посещают только элитарные клубы, защищенные от оскорбительных рейдов полиции. Она не могла поверить, что их осмелились задержать.
— Ночная жизнь? Ночные клубы?
— Казино, самые престижные. К этим казино студентов и близко не подпустят. Они ходят туда с мужчинами, взрослыми мужчинами. Бог знает, кто они, эти мужчины, на какие деньги они играют.
— О Поль, только не Дельфина! Марджи, возможно, но не Дельфина!
— Нет, дорогая, обе. Совершенно очевидно, это продолжалось весь год, и что бы там ни было, они обе принимали в этом участие.
— Я ей не верю и не поверю, пока не поговорю с Дельфиной. Я никогда не доверяла этой Марджи, мне не следовало слушать монахинь, — не принимала услышанного Ева, ее сердце готово было выскочить из груди.
— Давай позавтракаем, — предложил Поль, устало поведя плечами, — а потом отнесем Дельфине завтрак в ее комнату. Я не хочу, чтобы прислуга была в курсе происходящего.
— Нужно немедленно подняться к Дельфине и поговорить с ней. Завтракать сейчас я не в состоянии.
Дельфина вытирала полотенцем мокрые после душа волосы. Она была в своем старом белом купальном халатике. Сидя перед туалетным столиком, она аккуратно разделила волосы посередине пробором, и они, как обычно, спускались волнами от лба к маленькому подбородку. Более бледная, чем обычно, она уже пришла в нормальное состояние, о чем красноречиво говорили ясные и безмятежные серые глаза, в которых не было и намека на слезы.
— Дорогая, твой отец сказал мне… Марджи… Он думает…
— Мама, я слышала, что говорила Марджи, — перебила ее Дельфина. В голосе девочки звучала отчужденность, словно она абстрагировалась от реальной обстановки.
— Но, дорогая, это не… ты не…
— Мама, мне кажется, вы с отцом придаете всему слишком большое значение… Если бы я могла каким-то другим путем освободиться из этой камеры, поверь, я бы не стала вам звонить. Существовал один шанс из миллиона, что полиция устроит рейд, и сегодня мы оказались не в том месте и не в то время. Только и всего. Нас накрыли сразу же, едва нагрянула полиция. По меньшей мере тысяче человек удалось откупиться. Это несправедливо.
— Несправедливо? — недоверчиво переспросила Ева.
— Сегодня там могли арестовать чуть ли не весь Голливуд. Там были директора студий, все самые крупные звезды, знаменитости. Нам с Марджи просто не повезло. Возможно, газеты напишут об этом рейде, но не назовут ни одного имени. Они никогда этого не делают, можешь не сомневаться. Не отрицаю, я испугалась, и, конечно, мне было очень неприятно оказаться в тюрьме, но уверена, такого больше никогда не произойдет. — Наклонив голову, она принялась рассматривать сломанный ноготь и, вынув пилочку, начала его подпиливать.
— Прекрати, Дельфина, и посмотри на меня! Думаешь, это все, что я хотела от тебя услышать? Что ты делала в таком месте? Ты что, игрок? Что это за мужчины, которые привели вас туда? Откуда у тебя это платье и накидка? Скажи мне, ради Бога, что происходит в твоей жизни?
— В твоих устах это звучит слишком зловеще, мама. Марджи и я знакомы со многими интересными мужчинами, любителями ночной жизни. Они всего лишь наши приятели, ничего больше, — заявила Дельфина. — Мы так развлекаемся… Азартные игры — такой же вид развлечений, как ужин, танцы или варьете. Все же этим занимаются. Я не понимаю, что в этом плохого. Мы не на последние деньги играем. Я достаточно зарабатываю, чтобы покупать себе наряды. И тебе известно, что это никак не отражается на моей учебе: ты знаешь мои отметки.
— А алкоголь?
— Видимо, мне подсунули сегодня что-то более крепкое, чем я просила. Мне следовало быть осторожней. Да и Марджи тоже. — Дельфина искренне смотрела на мать.
Ева встала, ошеломленная тем, что Дельфина лжет: не в первый раз она напилась и не в первый раз играла.
— И сколько же лет тем мужчинам, с которыми ты и Марджи играли? — строго спросила она.
— Джеду и Бобу? Лет по двадцать, я думаю, — спокойно ответила Дельфина, ища что-то в своем шкафу.
— А хорошо ли вы их знаете? — настойчиво продолжала Ева.
— Довольно хорошо. Они отличные парни. Надеюсь, их тоже отпустили, — добавила Дельфина с жалким смешком. Вытащив из шкафа розовое хлопчатобумажное платье, она бросила его на кровать. — Как хорошо, что я оставила здесь кое-что из своих старых вещей, — сказала она, улыбаясь Еве так безмятежно, словно разговор уже закончился.
— Дельфина, мне придется сказать миссис Робинсон, что мы больше не разрешаем тебе оставаться ночевать у Марджи. Никаких исключений больше не будет. Мы не можем помешать тебе дружить с этой девушкой, но я не примирюсь с вашим образом жизни. Так мы с отцом, по крайней мере, будем уверены в том, что ты подчиняешься правилам землячества и возвращаешься домой, когда подобает.
— Ты не посмеешь этого сделать! Ты сломаешь мне жизнь! — лицо Дельфины исказилось от гнева.
— Ты сама разрушаешь свою жизнь, — твердо сказала Ева, окончательно приняв решение. Она подошла к двери и распахнула ее. Дальнейшая дискуссия бесполезна. Необходимо установить за Дельфиной контроль.
Дельфина кинулась к двери и придержала ее, не давая матери выйти.
— А кто ты такая, чтобы меня учить? — наклонившись к Еве, прошипела она.
— Что? — спросила Ева, не веря своим ушам.
— Я хочу задать тебе пару вопросов, мама, раз уж ты решила обращаться со мной, как с малым ребенком. Интересно, сколько лет было тебе, когда ты жила в Париже со своим любовником? Ты была тогда моложе, чем я сейчас. За сколько лет до того, как ты вышла замуж за отца, это было? И сколько у тебя было любовников?
Ева почувствовала смысл сказанного раньше, чем это постиг ее мозг. Не ответив, она быстро захлопнула дверь, чтобы никто не услышал того, о чем говорит Дельфина.
На губах Дельфины заиграла торжествующая улыбка.
— Все это я узнала от Бруно, когда мы жили во Франции. Какая же ты лицемерка, мама. Почему бы тебе не запереть меня здесь, в моей комнате? Ты могла бы тогда не сомневаться, что я не стану поступать так, как ты. Имей в виду, я все еще девственница и собираюсь остаться ею, но вряд ли ты поспособствуешь этому, если скажешь миссис Робинсон, что мне нельзя больше ночевать у Марджи. Разве твои родители смогли помешать тебе делать то, что ты хотела?
«Сколько любовников?» — думала Ева, потрясенная вопросом. Что бы она ни ответила Дельфине, все было бы напрасно. Сознание Дельфины уже отравлено, вред нанесен. Ева сделала над собой усилие и заговорила спокойно.
— Я не обязана, Дельфина, отчитываться перед тобой. Я не могу запретить тебе слушать сплетни и верить тому, во что ты хочешь верить. Как бы то ни было, я несу за тебя ответственность и немедленно позвоню миссис Робинсон.
— Лицемерка! Лицемерка! — слышала истеричные выкрики Ева, выходя из комнаты.
Спускаясь по лестнице и с трудом держась за перила, Ева думала, что никогда не расскажет обо всем этом Полю. Подозрения Дельфины слишком огорчат его. Сколько любовников? Дельфина все равно не поверит, узнав правду. А Поль? Поверит ли он? Кроме Алена Марэ, у нее не было никого, но к этой теме они с Полем никогда не возвращались после их первого обеда в «Рице». Ей всегда казалось, что он с пониманием относится к тем далеким нелегким годам. А что, если он просто боится задавать вопросы?
В замке Вальмон было десять огромных комнат для гостей, но к тому времени, как Аннет де Лансель получила письмо из Калифорнии от своей невестки, почти все они были зарезервированы на летние уик-энды. Причиной тому было не французское гостеприимство, а шампанское, которым торговали Лансели. Вот почему им приходилось постоянно и с безграничной щедростью принимать гостей.
За сотни лет до того, как по всему свету распространились французские духи и французская мода, естественным стремлением человечества пить шампанское в огромных количествах и как можно чаще воспользовалась группа молодых аристократов из Шампани, владевших виноградниками во времена коронации Людовика Четырнадцатого в 1666 году.
Объединившись, маркиз де Силери, герцог де Мормар, виконт де Лансель, маркиз де Буа-Дофен и маркиз де Сант-Эвремон в числе других отправились в Версаль, где представили собственное вино из Шампани, намеренно навлекая на себя ярость двора, потому что только двор диктовал во Франции моду на все, начиная от пуговиц и кончая архитектурой.
После триумфального успеха в Версале они решили завоевать Англию, где потребность в шампанском вскоре так возросла, что оно сразу сильно поднялось в цене. Не менее предприимчивые сыновья и внуки аристократов из Шампани отправились за тысячи миль продавать шампанское великому князю России и основателям новой республики Соединенных Штатов. Не менее крупные рынки сбыта появились в Южной Америке и Австралии. Весьма дальновидным оказался и месье Моёт. Когда армии России, Австрии и Пруссии вторглись в Шампань после поражения Наполеона под Ватерлоо, император всячески поощрял разграбление винных погребов, полагая, что это привьет войскам оккупантов вкус к шампанскому, а, как говорится, «тот, кто однажды напился, выпьет еще». Действительно, возвратясь домой, офицеры остались постоянными заказчиками шампанского.
Наряду с духом предпринимательства и рекламы, который был в крови у владельцев виноградников, развилось совершенно не типичное для французов гостеприимство. Так как в Шампани всегда было не много отелей, французы сотни лет принимали в своих домах и замках визитеров из всех уголков земли, где пили шампанское. Редко производителю шампанского, обычного или ценной марки, случалось ужинать в одиночестве, кроме, конечно, пяти холодных зимних месяцев.
— Ты только послушай, Жан-Люк. — Виконтесса де Лансель была так взволнована, что, читая вслух письмо от Евы, проглатывала целые строчки. — «…Необходимо для Дельфины познакомиться… с миром, где такую важную роль играют традиции и к которому она тоже принадлежит… Совершенно очевидно, это невозможно в таком молодом городе, как Лос-Анджелес… Оба чувствуем, что она еще очень молода… Визит к вам может коренным образом изменить ее не вполне установившийся характер…»
— Визит? Разумеется, но когда?
— Прямо сейчас. «Нормандия» отплывает из Нью-Йорка через три дня. Видимо, она немедленно вылетает туда. Все это выглядит несколько поспешным, но с нынешней молодежью!.. Ева интересуется, сможем ли мы оставить Дельфину на все лето, — как она может сомневаться! Конечно, придется внести некоторые изменения в наши планы, но я что-нибудь придумаю. Жан-Люк, мы должны немедленно позвонить. Сколько сейчас в Калифорнии?
— Одиннадцать вечера? — прикинул он, отсчитывая время назад, но его жена уже горделиво проследовала в холл, к столу, на котором стоял телефон, прокручивая в голове варианты нового размещения гостей.
«Неустановившийся характер». Безусловно! А что Ева ждала от этого славного ребенка?
11
В каждом уважающем себя преуспевающем частном банке непременно есть служащие, от которых вовсе не требуют знания банковского дела. Их задача сродни искусству японских гейш: они должны привлекать и всеми способами удерживать богатую клиентуру.
Распрощавшись в 1935 году с военной службой, Бруно де Лансель понял, что необходимо подыскать какую-то работу. Как ни досадно, но ему приходилось расплачиваться за то, что он не принадлежал к числу тех Сен-Фрейкуров, единственной задачей которых было беззаботно проводить время и получать как можно больше удовольствия. К несчастью, никаких доходов он не имел, а продолжать жить с дедом и бабкой не хотел.
Поступив на службу в банк братьев Дювивье, он вскоре обнаружил, что его обязанности мало чем отличаются от времяпрепровождения маркиза Сен-Фрейкура перед революцией. Ему надлежало как можно чаще охотиться во время охотничьего сезона; хорошо, но не слишком, играть в карты, занимаясь этим с нужными людьми в престижных клубах; посещать оперу, балет, театр и присутствовать на открытии крупных художественных выставок; непременно бывать на скачках на ипподромах Франции, Англии или Ирландии и ни в коем случае не пропускать значительных событий в жизни парижского общества. Банк оплачивал все расходы на это и, кроме того, выплачивал ему небольшое жалованье плюс комиссионные за каждого привлеченного им клиента.
При стольких обязанностях Бруно вряд ли смог бы теперь, в июне 1936 года, провести в банке больше пяти минут, если бы даже захотел. Все три брата Дювивье были им очень довольны. Он с лихвой оправдывал расходы, связанные с его занятиями: Бруно удалось привлечь нескольких новых клиентов, о которых, если бы не он, банк не мог бы и мечтать.
Одним из его достоинств, которое братья не без удовольствия отметили, нанимая его на работу, было то, что он пока оставался холостяком. Как заметил младший из братьев Дювивье, это вдвое повышало его ценность. «Втрое», — поправил старший, а средний, как обычно, заявил, что оба они не правы: «Лансель бесценен до тех пор, пока не женится. Тогда мы произведем переоценку».
Будет ли его избранница принадлежать к обедневшему, как, увы, Сен-Фрейкуры, роду или он предпочтет деньги знатному происхождению? Но для банка, конечно, лучше, если ему удастся заключить альянс с какой-нибудь богатой наследницей, тоже принадлежащей к знатной семье. Ее родители, возможно, захотят, чтобы она вышла замуж за такого же аристократа, как она сама.
Размышляя, к каким результатам могут привести их вложения в Бруно, братья Дювивье не ведали, что имеют союзника в лице маркизы Сен-Фрейкур, которая каждый день задается теми же вопросами. Единственным человеком, которого совершенно не интересовали все эти тонкости, был сам Бруно. Он, казалось, был настолько уверен в своем исключительном праве на идеальную жену, что совершенно не беспокоился о будущем. Поскольку ему исполнился всего двадцать один год, его будущая жена, вероятнее всего, училась еще в какой-нибудь монастырской школе, одолевая премудрости, которым учили там девочек.
О своей будущей жене Бруно знал наверняка одно: она должна непременно унаследовать землю. Одних денег ему недостаточно. Ради приличного землевладения и фамильных земель Бруно женился бы на дочери самого дьявола… если, конечно, тот был бы французом. Сен-Фрейкуры потеряли свои древние земли и большую часть доходов, когда в 1882 году лопнул банк Финансового Союза. Что касается земли Ланселей, то она будет поделена между Бруно, женой отца и остальными детьми. С точки зрения финансового благополучия, было утешительно знать, что в один прекрасный день, хотя и в очень отдаленном будущем, ибо и дядя Гийом и его отец происходили из семьи долгожителей, ему светят доходы от шампанского Ланселей, он один никогда не унаследует виноградники. Поэтому точно так же, как некоторые мужчины вынуждены жениться на деньгах, ему придется жениться на земле. Бруно мечтал владеть лесами, полями и замками, сотнями и сотнями гектаров земли, по которым он мог бы скакать верхом как единственный и бесспорный хозяин.
Между тем его повседневная жизнь, загруженная столькими неотложными делами, не оставляла времени даже на то, чтобы пойти к портному и выбрать ткань для новых рубашек. Ему не хватало времени ни на сапожника, ни на примерку нового вечернего костюма.
Есть то, что за него не может сделать никто, даже самый лучший слуга, думал Бруно, нетерпеливо ожидая, пока портной исправлял шов на плече его пиджака. Он вспомнил о Сабине де Ковиль и слабо улыбнулся. Ее ни в чем нельзя упрекнуть.
Бруно размышлял о том, какую неоценимую услугу она оказала ему, тогда семнадцатилетнему: ведь он еще не знал женщин. Он продолжал встречаться с ней время от времени, ибо с ней чувствовал себя легко и просто. Может быть, он пригласит ее сегодня на чай. А может, и нет. Существовали и другие женщины, не такие непритязательные, как Сабина, но не менее привлекательные… и не менее… пикантные. Сколько радости доставляли ему неожиданные сюрпризы, которые они преподносили: восхитительно уродливые фигурные пирожные княжеской дочери; мазохистские наклонности надменной хозяйки литературного салона… и слабость Сабины де Ковиль к слугам. Деградация его занимала.
После своего первого опыта с матерью школьного друга Бруно понял: дело вовсе не в том, что его совратила умудренная опытом женщина. Его тайное сексуальное предпочтение, пожалуй единственное, было отдано женщинам сорока, сорока с небольшим лет. Он не мог постичь, зачем мужчине есть зеленое яблоко, когда можно съесть зрелый плод. Возможно, имеет смысл выбирать необъезженных лошадей, чтобы приручить их, но женщин? Насколько приятней иметь с ними дело тогда, когда они уже поняли, о чем мечтают. В десяти случаях из десяти собственные мужья не удовлетворяли их. Насколько просто потакать их фантазиям и наблюдать, как они становятся исключительно послушными, а самые гордые из них покоряются его воле. Это были отношения столь же необременительные, сколь удобные, ибо при таком количестве обязанностей, размышлял Бруно, у него не оставалось ни минуты на ухаживания. К счастью, его необузданную страсть к холеным женщинам, миновавшим возраст неопытной юности, удовлетворить было совсем не сложно. Он совершенно не мог понять, зачем его друзья тратят время и деньги, гоняясь за девчонками, словно те обладали чем-то особенно ценным. Ну может ли разумный мужчина отдавать предпочтение блюду без приправ?
— Привет, Бруно, — раздался голос за его спиной.
— Ги, я не могу шевельнуться. Скоро освобожусь, — ответил Бруно.
Он и его новый друг Ги Маршан договорились после завтрака поиграть в теннис. Бруно подумал, что сейчас самое подходящее время поговорить с Ги о привлекательности молодых женщин, тот постоянно был в кого-то влюблен, но для Бруно затевать этот разговор — значило изменять своим пристрастиям.
— Что ты думаешь о том, что Шмелинг вчера нокаутировал Джо Луиса? — спросил, придвигая стул, Ги.
Это был высокий худощавый молодой человек с умными улыбающимися глазами.
— Меня это не удивило, а тебя? — поинтересовался Бруно. — Честно говоря, бокс меня не слишком волнует. В следующем месяце я собираюсь в Уимблдон, почему бы тебе не поехать со мной? Готфрид фон Грамм, Фрэд Пэрри — разве можно такое пропустить?
— Если дела позволят, — ответил Ги. — Это не всегда возможно.
— Месье де Лансель, не будете ли вы любезны чуть-чуть повернуться ко мне, — попросил портной, потянувшись за булавками.
Повернувшись, Бруно увидел себя в зеркале. Он бросил быстрый, небрежный, почти равнодушный взгляд на свое отражение. Бруно прекрасно знал себе цену, и ему не нужно было в отличие от многих других мужчин смотреть в зеркало, чтобы обрести уверенность в себе. То, что женщины находят его необычайно привлекательным, лестно, но едва ли неожиданно. Но то, что в его лице было нечто, внушавшее мужчинам доверие к нему, вот это действительно было важно.
К своему удивлению, Бруно обнаружил, что ему нравится банковское дело, вернее, нравится делать деньги, а банковское дело — одно из достойных мужчины занятий, с помощью которых можно делать деньги.
Он пришел к братьям Дювивье, чтобы приобрести профессию. Первые удачи, когда он привлек новых клиентов, пришли к нему почти сами собой, за игрой в сквош, на охоте вблизи Тура во время уик-энда, после аукциона на Ньюмаркет.
Комиссионные, полученные Бруно за первых клиентов, позволили ему впервые испытать чувство материальной независимости. Он нашел себе отличную квартиру в огромном частном доме на Университетской улице. Дом принадлежал одному из его дальних родственников, который, подобно многим другим, недавно потерял на фондовой бирже почти все свои деньги. Теперь он вынужден был сдавать внаем часть своего дома. Новые комиссионные, которых Бруно теперь добивался с удвоенной энергией, позволили ему оплачивать услуги горничной, лучших портных и лакея, а также приобрести двух лошадей.
Теперь, спустя год после того, как он начал работать в банке, амбиции Бруно стали неудержимо расти. Он понял, что, хотя в его нынешнем положении можно зарабатывать неплохие деньги, куда больше возможностей таит в себе деловой мир — богатый буржуазный мир Ги Маршана, который сидел сейчас, нетерпеливо барабаня пальцами по ноге и горя желанием поскорее очутиться на теннисном корте.
Пока портной с невообразимой тщательностью подкалывал безупречно сидящий обшлаг, Бруно думал о том, что его заработок напрямую зависит от умения добиваться приглашений. Для этого нужно вести себя так, чтобы не казаться слишком высокомерным аристократом, вступать в контакт с мужчинами намного старше себя, которые ни при каких обстоятельствах не могли бы появиться в гостиной бабушки Сен-Фрейкур, и держаться с ними так, чтобы их жены отваживались приглашать его, не боясь получить отказ.
Поначалу, как он заметил, его приглашали только на официальные встречи. Туда можно было не ходить, не опасаясь никого обидеть. Если Бруно все же принимал приглашение, хозяева были польщены, и мужчины, поощряемые женами, становились с ним смелее.
Молодость была неоспоримым достоинством виконта де Сен-Фрейкур де Ланселя. Его приглашали туда, куда никогда не пригласили бы аристократа старой закалки. Бруно получал все более щедрые комиссионные. При этом он предпочитал дружеские обеды, прогулки на яхтах, пикники за городом — то есть все, что могло принести ему ощутимую пользу. Жалованье Бруно вскоре стало несопоставимо с размером его комиссионных.
Ги Маршан, с которым Бруно познакомился всего шесть месяцев назад, был единственным сыном Пьера Маршана, преуспевающего кинодельца и владельца самого популярного во Франции издания «Маршан Актюалите». Они распространялись по всему миру тиражом, большим чем «Фокс-Моветон», «Патэ журналь» и «Эклер журналь», вместе взятые.
Бруно встретил месье и мадам Маршан в клубе игроков в поло. Вскоре он познакомился и с Ги, который был всего на три года старше Бруно, но уже серьезно занимался семейным бизнесом. Ги показался Бруно славным парнем, образованным и неглупым. Он был представителем верхушки среднего класса. Когда-нибудь, благодаря женитьбе, а это, безусловно, единственно возможный путь, он войдет в высшее общество, а годам к пятидесяти, если у него будет дочь, сможет рассчитывать на то, что она выйдет замуж за какую-нибудь титулованную особу и внук его родится аристократом.
Ги Маршан был такой же частью будущего, как сам Бруно. Их связывали дружеские отношения, но не такие, как со школьными друзьями. Маршаны пока не стали клиентами банка Дювивье, но Бруно это не огорчало, иначе Ги меньше привлекал бы его. То, что Маршаны ценили дружбу с ним, давало ему ощущение собственной значимости.
— Бруно, долго еще? — спросил Ги, взглянув на часы.
— Вы скоро закончите, месье? — нетерпеливо спросил Бруно у портного.
— Точно в срок, месье де Лансель, — невозмутимо ответил портной.
«Вот и еще один человек, знающий себе цену», — подумал Бруно и приготовился к тому, чтобы ждать еще четверть часа.
Стояла середина июля. Дельфина сидела на полу своей комнаты в замке Вальмон, лучшей комнаты для гостей, среди вороха вещей, вынутых из громадного чемодана, доставленного всего час назад. Марджи, верная Марджи, в тщетной попытке хоть как-то утешить подругу, собрала все вечерние туалеты Дельфины и прислала их пароходом. Вытаскивая платье за платьем, накидку за накидкой, Дельфина с любовью прижимала их к себе и бережно раскладывала на ковре. Это было настоящее пиршество красок и материалов. За сотни лет цивилизованные французы не удосужились изобрести стенной шкаф. Гардероб в комнате Дельфины уже был забит до отказа, и для дюжины вечерних платьев места не оказалось.
Погрустневшая Дельфина открыла одну из своих вечерних сумочек и заглянула в нее. Обнаружила там кружевной носовой платок, черную с серебряной отделкой пудреницу, булавку с жемчужной головкой, которой она когда-то прикрепляла букетик к плечу, две монеты по двадцать пять центов, помаду фирмы «Коти», плоский спичечный коробок из «Трокадеро» и один из своих портсигаров. Благоговейно, словно перед ней были реликвии канувшей в Лету цивилизации, она вынула все эти предметы и положила их к себе на колени, чувствуя, как ее одолевает тоска. Открыв портсигар, она увидела в нем одну сморщенную сигарету «Лаки Страйк». Дельфина нежно покрутила ее в пальцах и понюхала. Вспомнив, что дверь ее комнаты заперта, она зажгла сигарету спичкой из «Трокадеро», глубоко затянулась и расплакалась.
Привычные движения навеяли воспоминания: звуки танцевальной музыки, приятный рискованный флирт, первый глоток холодного спиртного из бокала, заговорщическое подмигивание Марджи, звуки игры в кости, окрик крупье, и… о, это возбуждение, когда прерывается дыхание! Возбуждение, которого она ждала, уверенность в том, что один прекрасный вечер сменится другим, что в ее жизни не будет места однообразию и скуке.
Как она ненавидит Шампань, думала Дельфина, и слезы струились по ее щекам. Ненавидит! Здесь нечем заняться, некуда идти, не с кем поговорить, кроме бабушки, которой, кажется, внушили, что Дельфина интересуется семейной историей, да дедушки, который столько рассказывал ей о секретах виноделия, что она чуть не умерла от скуки. А чего стоит постоянно сидеть за трапезой с совершенно не интересными гостями, слишком старыми и говорящими только о марочных винах да о еде. При этом она была всего-навсего приехавшей из Америки внучкой, и о ней забывали сразу же после нескольких вежливых вопросов, едва откупорив новую бутылку. Как она ненавидела все это! А ей предстоит пробыть здесь пленницей, пока не придет пора возвращаться в университет, да и там ее ничего не ждет, кроме прозябания в доме женского землячества под неусыпным оком миссис Робинсон.
Дельфина затянулась всего один раз: она решила приберечь сигарету. В этом доме не было ничего, кроме трубочного табака деда и сигар дяди Гийома, да и они курили только после ужина, уходя в курительную комнату, куда ее, конечно, не приглашали. Они и представить себе не могли, чтобы она купила себе в городке французских сигарет — такая мерзость! — и курила при них.
Они считали, что она должна сидеть с бабушкой, заниматься рукоделием, читать Бальзака или слушать классическую музыку, пока не наступит время идти спать! Дельфина понимала, что ей необходимо показаться бабушке образцом добродетели, прекрасно сознавая, что в последнем разговоре с матерью зашла слишком далеко. Она выбрала тогда неправильную тактику, но если бабушка скажет, что она вела себя исключительно благопристойно, возможно, удастся изменить планы ее родителей на два оставшихся года учебы в университете.
Каждый вечер Дельфина рано ложилась спать, трезвая, в этой огромной, навевающей тоску комнате, с обитыми чуть выцветшей бело-голубой тканью стенами. Покрывало на кровати такого же цвета слегка обветшало, а натертый до блеска деревянный пол страшно скрипел. «Шкафов нет, — рыдала Дельфина, разрываемая жалостью к себе, — полы скрипят, все выцвело, и ни капли джина во всей этой виноградной глуши, да если бы он и был, разве они предложили бы хоть чуть-чуть?»
Проходя по коридору мимо комнаты Дельфины, Аннет де Лансель услышала рыдания, доносящиеся из-за плотно закрытой двери. Она остановилась в нерешительности. С одной стороны, ей не хотелось показаться излишне любопытной, с другой — как могла она идти дальше, слыша, что ее обожаемая внучка горько и безутешно плачет? Конечно, девочка скучает, это сразу видно, но она так мила и внимательна и с таким интересом слушает рассказы о замке, о семье, о виноградниках. Кажется, Ева права, утверждая, что Дельфина нуждается в тесных контактах с семьей.
Решившись, она постучала в дверь.
— Кто там? — послышался приглушенный голос Дельфины.
— Это я, бабушка, дорогая. Может, я тебе чем-то помогу?
— Нет, нет, спасибо. Все в порядке.
— Дорогая, не все в порядке. Пожалуйста, позволь мне войти.
Дельфина вытерла слезы, вздохнула и открыла дверь. Мадам де Лансель вошла в комнату и остолбенела, увидев на ковре гору роскошных шелковых и атласных вечерних платьев.
— Откуда это? — с изумлением спросила она.
— Из Лос-Анджелеса. Мои вечерние туалеты… только посмотри, бабушка… только посмотри, какие красивые… какие красивые…
Дельфина снова залилась слезами, прижимая к груди белый меховой жакет и покачиваясь от горя. Обняв девушку, Аннет де Лансель погладила ее, как ребенка, и постаралась успокоить. Она изумленно созерцала вечерние платья: такие вряд ли могла себе позволить даже женщина из парижского высшего общества.
— Дельфина, милая, и все это ты носила?
— Да, — плача, произнесла Дельфина, — носила… мы так развлекались… так развлекались, бабушка!
— Думаю, тебе здесь страшно скучно. Я просто не сознавала этого.
Аннет де Лансель пришла в смятение, вдруг поняв, чего лишилась Дельфина, приехав сюда. Еве следовало предупредить ее… Как же тактично вела себя девочка, даже виду не подала, что ей скучно!
— Дело не в этом… совсем… Я просто тоскую по своим друзьям… Я не должна была плакать… вы так хорошо ко мне относитесь, — говорила она, печально опустив свою милую головку и пытаясь улыбнуться.
— К тебе легко хорошо относиться, дорогая, но мне нужно было догадаться, что тебе нужны друзья твоего возраста. Не могу себе простить. Только здесь, в глуши… молодежь… честно говоря, я не знаю, где ее взять. Но я позвоню всем своим друзьям и спрошу об их внуках… Я постараюсь, Дельфина, обещаю.
— Спасибо, бабушка, — растроганно сказала Дельфина, мрачно думая о том, что за внуки могут быть у соседей. — Но, право, это не так важно… Единственное, что… Как ты думаешь, нельзя ли поставить ко мне в комнату еще один шкаф?
— О, моя милая! Я прикажу сделать это немедленно. Такие прекрасные вещи — и на полу!
Аннет де Лансель заспешила, обрадовавшись, что может сделать что-то приятное для Дельфины. Что касается внуков ее друзей, она их раздобудет. Наверняка есть подходящие юноши и девушки, приехавшие домой на лето. Она поднимет на ноги каждую семью в Шампани и отыщет их и… и… устроит бал! Да, молодежный бал, летний бал, один из тех редких балов, которые устраивались иногда в Шампани по случаю сбора винограда.
— Жан-Люк, я сойду с ума, — пожаловалась Аннет де Лансель своему мужу, провисев целый день на телефоне. — Внуки Шандонов уехали погостить в Англию; у Лансонов пять, представляешь, целых пять внуков, и ни один из них не собирается приехать домой в ближайшее время; все дети Рёдеров в Нормандии — ты знаешь, их невозможно удержать от рысистых испытаний; мадам Будэн из Перье-Жуэ говорит, что ее сын, к сожалению, слишком мал; у мадам Болленже два племянника, но их сейчас нет; все Рюинары гостят в Бордо. В итоге, я набрала четырех девушек и двух юношей, а позвонила всем, кого знаю. Всем!
— Лучшее время для балов — Рождество, — заметил виконт де Лансель.
— Бесценное замечание, Жан-Люк.
— Аннет, ты расстраиваешься из-за ерунды. Если Дельфине скучно, ничего не поделаешь. Она чудесная девочка, но ты должна помнить, что пригласить ее на лето — не наша идея.
— Как можешь ты быть таким бессердечным? Эта бедная девочка… со всеми своими восхитительными нарядами… Представляешь, как она привыкла к веселью?
— Может быть, слишком? Не потому ли Ева и прислала ее сюда? Кажется, в ее письме было что-то на этот счет.
— Да, но целых полтора месяца! Я должна устроить для нее хотя бы вечеринку, если не бал. Но четыре девушки, с Дельфиной — пять, и только двое юношей… нет, так не пойдет.
— Можешь пригласить одних девушек, — заметил он. — Главное, чтобы она познакомилась с кем-то своего возраста, не так ли?
— Жан-Люк, я удивляюсь тебе, просто удивляюсь. Ты что, совсем не помнишь своей юности?
— Настолько же, насколько и ты. Позволю заметить, мы оба приближаемся к восьмидесятилетию.
— Совсем необязательно напоминать мне об этом. И я, между прочим, гораздо моложе тебя.
— На три года и два месяца.
— О, зачем я только вышла за тебя замуж?!
— Я был завидным женихом.
— А я была завидной невестой. Ты забыл, сколько у меня было виноградников?
— Двести шестьдесят арпанов[13].
— Двести шестьдесят один…
— У тебя по-прежнему превосходная память, любовь моя. Как бы там ни было, а я перед обедом позвонил Бруно. Я взял с него обещание приехать, когда ты скажешь, и привезти с собой приятелей. Приличных. Ну, а теперь, может быть, ты меня поцелуешь?
— Бруно! Как же я не подумала о нем?
— Дальновидность, ненаглядная моя, это то, что отличает мужчину от женщины. Широта мышления, способность смотреть дальше Шампани, видеть возможности и быстро реагировать и… Ну, ну, Аннет, ты же знаешь, я не люблю, когда в меня запускают подушкой… Уймись, вспомни о своем возрасте…
Гостей, приехавших из Парижа на обед, который Лансели давали в честь Дельфины, пригласили переночевать в замке. Бруно привез троих самых респектабельных друзей. Из шести молодых французов, которые обедали здесь в этот вечер, пятеро влюбились в Дельфину. Бруно должен был признать, что его единокровная сестра, приехавшая из Америки, делала ему честь. Из всех пятерых сильнее всех влюбился Маршан. Закрыв за собой дверь своей комнаты, он долго еще сидел, уставившись в окно на луну, не в силах ослабить галстук-бабочку и скинуть башмаки. Такой девушки здесь не было никогда. И не будет. Он просто умрет, если не сможет провести с ней всю жизнь.
Вскочив, он стал ходить по комнате. Сделав несколько кругов, он снова подошел к окну и посмотрел на звезды.
Ги Маршан интересовался астрономией. Пока они ехали в Вальмон, он делился с Бруно своими размышлениями о грандиозности Вселенной, навеянными только что прочитанной им книгой английского писателя сэра Джеймса Хопвуда Джинса.
— Джинс утверждает, — сказал он Бруно, — что, посмотрев в мощный телескоп на горе Уилсон, можно увидеть столько звезд, что, если бы их, как песчинки, можно было бы рассыпать по Англии, они покрыли бы поверхность земли слоем толщиной в сотни метров. Сотни метров, Бруно! А наша Земля — миллионная часть одной из этих песчинок, всего одна миллионная! Ты понимаешь, Бруно? Миллионная всего одной песчинки из тех, что покроют Англию или Францию слоем толщиной в сотни метров; при этом, Бруно, все наши треволнения не имеют ни малейшего смысла. Правда? Они кажутся просто смехотворными.
Так рассуждал Ги до того, как встретил Дельфину. Сейчас он не только забыл масштабы мироздания, но они казались ему абсолютно несущественными и никому не интересными, а его собственные чувства — единственно важными.
Время тянулось так медленно, что Ги мог взвесить все очень тщательно и с присущей ему рассудительностью. Разумеется, он не может рассчитывать на то, что Лансели предложат ему гостить у них до конца лета. Ему было ясно, что он должен жениться на Дельфине, пока она не уехала в Штаты, где у нее наверняка сотни поклонников. Несомненно, чтобы завоевать ее, он должен, не теряя времени, всецело завладеть ее вниманием, ибо безошибочный инстинкт влюбленного подсказывал ему, что четверо обедавших здесь юношей поддались ее обаянию.
Пытаясь рассуждать по возможности трезво, он думал, есть ли у него преимущества перед другими? Улыбалась ли она ему чаще, чем им? Чаще ли танцевала с ним? Говорила ли ему что-то такое о своих интересах, чем он мог бы воспользоваться? Нет, она была совершенно бесстрастна, улыбаясь, танцуя и флиртуя со всеми, но не выделяя ни одного из них.
Но… но… она из Голливуда. Приехать из Лос-Анджелеса — все равно что приехать из Голливуда, независимо от того, где именно в Лос-Анджелесе живет человек. Он понял это, занимаясь кинобизнесом. Из всех обедавших сегодня в Вальмоне он один имел хотя бы смутное представление о том, что значит жить в Голливуде. Он один знал, что каждый в Голливуде непременно увлечен кино, ибо в большей или меньшей степени считает себя причастным к миру киноискусства. Что интересней Дельфине: посетить принадлежащий родителям Макса замок на Луаре, знаменитые конюшни отца Генри или яхту семьи Виктора? А может, его киностудии? И крупнейшие киностудии в Бийанкуре? Да, вот оно, его преимущество! Теперь главное — все организовать. Успокоившись, он начал раздеваться. Завтра он договорится об этом. За завтраком.
Нет, до завтрака, чтобы всех опередить.
В считанные дни было получено разрешение поехать в Париж и остановиться у месье и мадам Маршан. Этому предшествовала долгая и убедительная беседа, которую Бруно провел со своей бабушкой, и письмо мадам Маршан к виконтессе.
— Нет, Жан-Люк, я вовсе не считаю, что Ева полагала, будто мы будем удерживать Дельфину здесь все время до ее возвращения в Штаты. Это абсурд. Она не пленница, а у тебя, мой дорогой, слишком викторианские взгляды, — раздраженно сказала Аннет де Лансель, довольная тем, что Дельфина увидит круговорот и блеск столичной жизни. — А чего же ты ожидал, попросив Бруно приехать и привезти с собой друзей?
— Ты уверена, что за ней там будут хорошо присматривать?
— Мадам Маршан заверила меня, что будет смотреть за ней, как за собственной дочерью. Но ведь и Бруно будет с ней. Жан-Люк, ты меня удивляешь.
— Но ты даже не знакома с мадам Маршан, — проворчал виконт, раздосадованный тем, что его собираются лишить удовольствия рассказывать Дельфине о виноградных культурах, что он давно уже делал с таким наслаждением.
— По словам Бруно, она приятная культурная женщина, на которую можно положиться.
— А Бруно никогда не ошибается? — ехидно спросил он.
— Что это за вопрос?
— Дурацкий вопрос, моя дорогая. Наверное, я и вправду начинаю стареть. В таком случае надо принять единственно правильные меры, предусмотренные природой, и выпить еще бокальчик шампанского. Составишь мне компанию?
— Вне всякого сомнения, дорогой, вне всякого сомнения.
Дельфину нимало не заботило, замечают ли окружающие ее шарм и красоту. Французы, убежденные в том, что все остальные нации лишь тщетно пытаются отнести себя к роду человеческому, были совершенно очарованы манерой Дельфины держаться. Она искренне не думала о том, нравится она французам или нет.
Дельфина росла в трех странах, где французское происхождение ее родителей отличало их от коренных жителей, но не всегда в лучшую сторону. Французское происхождение имело отношение к работе ее отца, к тому, на каком языке в семье говорили дома, и к тому, как ее мама наставляла нового повара, но вряд ли это было чем-то священным. То, что они носили фамилию Лансель, ровным счетом ничего для нее не значило. Вот если бы это была фамилия Селзник или Голдвин, или Занук! Даже десять лет воспитания в гордых традициях Шампани не могли ничего изменить.
Маршанам нравилось то, что Дельфина, отпрыск старого аристократического рода, напрочь лишена высокомерия. Они никогда не поверили бы, что Дельфина считает аристократией лишь горстку семей, наживших миллионы за несколько последних десятилетий, а также актеров и актрис, портреты которых публиковались на страницах кинематографических журналов.
Маршанов озадачило, что Ги привез к ним Дельфину. Разве ей не интересней было бы посетить Эйфелеву башню, усыпальницу Наполеона, Вандомскую площадь, Лувр? Что значил весь этот разговор о «Гомоне», «Пате-Синема» и «Кодак-Пате»? Туристов никогда не водили туда. Почему она хочет посмотреть то, что наверняка знакомо ей по Голливуду?
— Нет, мадам Маршан, уверяю вас, я действительно мечтаю это увидеть, — поспешила заверить Дельфина.
Когда она была еще школьницей, некоторые из друзей ее родителей, связанные с кинобизнесом, приглашали их иногда на студию. Бросая украдкой взгляды вокруг, скованная благоговейным страхом помешать спешащим куда-то самоуверенным людям, Дельфина думала, что ей суждено видеть этот «рай» лишь издали.
— В таком случае, как хочешь, — согласилась мадам Маршан. — Дай мне только минуту, чтобы надеть шляпу. — Она поправила свои голубоватые волосы холеными руками, на которых сверкали бриллианты.
— Мама, если тебе не хочется, можешь не ездить с нами. Нас встретит Бруно, — заметил Ги.
— Ну, тогда… У меня сегодня много дел, — с явным облегчением сказала мадам Маршан. Перспектива наблюдать целый день за тем, как снимают фильм, ее совершенно не радовала. Когда-то, много лет назад, ей тоже казалось, что наблюдать за этим процессом очень интересно, но несколько часов, проведенных на съемках, рассеяли ее иллюзии.
Теперь обязанность быть дуэньей казалась ей абсурдной. Ги, ее младший и горячо любимый сын, хорошо воспитан, ему можно доверить любую девушку… особенно ту, в которую он так безнадежно влюблен. Совершенно необоснованно беспокойство виконтессы де Лансель за ее вполне самостоятельную внучку. Это беспокойство — наследие прошлого века. Провинциальные аристократы так очаровательно несовременны. Для нее же куда важнее попасть сегодня на третью примерку своих новых костюмов от Шанель, иначе они не будут готовы к началу нового сезона. Погруженная в приятные мысли о твидах, пуговицах и подкладке, она проводила молодежь, улыбаясь рассеянно и доброжелательно.
Путь от просторных апартаментов Маршанов на авеню Фош до студии «Гомон» в Бийанкуре показался Дельфине бесконечным. Сидя рядом с Ги, Дельфина почти все время молчала, но он чувствовал, что ее переполняют эмоции. Он смиренно надеялся, что она не прочь остаться с ним вдвоем. Время от времени Ги украдкой бросал взгляд на ее профиль. Дельфина перехватила этот взгляд, но сделала вид, что ничего не замечает. Она могла проводить сегодня время с Максом, Виктором или Генри. Все они звонили ей с соблазнительными предложениями, но сработал план Ги: Дельфина попалась на его приманку. Уже одного этого было достаточно, чтобы он ощущал себя в эту минуту счастливым.
В студии к ним присоединился Бруно, движимый скорее любопытством, нежели желанием присматривать за Дельфиной. Маршаны так еще и не стали клиентами банка братьев Дювивье. После тех услуг, которые Бруно оказал Ги, это выглядело уже черной неблагодарностью. Он пригласил Ги к деду и бабке на обед, уговорил бабушку разрешить Дельфине поехать в Париж. Неужели Ги не понимает, скольким он обязан ему? А может ли он вообще советовать отцу, куда вкладывать деньги? В любом случае обидно. Вероятно, он поспешил, подружившись с Ги, или, точнее, позволил ему воспринимать их дружбу как нечто само собой разумеющееся. «Выскочка этот Ги», — подумал он сердито. Бруно никогда не раскаивался в своих поступках.
Пока все трое ждали, когда их пропустят на студию, Бруно думал, что Дельфина сегодня рассеянна, задумчива и не так кокетлива, как в тот вечер, когда они обедали в Вальмоне. Ему было приятно, что она так элегантна в своем красном чесучовом костюме с темно-синей отделкой, купленном ею специально для поездок на бега в Санта-Аниту. Бруно показалось также, что в темно-синей соломенной шляпке, кокетливо сдвинутой на один глаз, она выглядит старше своих лет.
— А вот и мой друг, — сказал Ги, показав на спешащего к ним с приветливой улыбкой невысокого светловолосого парня.
— Жак Сэт, мадемуазель де Лансель, виконт де Лансель. Жак — помощник Блюфора. Он будет нашим гидом.
— Извините, что заставил вас ждать, но ты же понимаешь, как это бывает. Мадемуазель, месье, пойдемте со мной. Ги знает, куда идти. Сегодня у нас пустовато. К сожалению, несколько фильмов снимаются на натуре, а многие готовятся к серийному производству, но в пятом павильоне работают Жан Габен и Мишель Морган. Режиссер Рене Клер. Кажется, для начала лучше не придумаешь.
Он произносил известные имена так обыденно, словно для него в них не было ничего особенного. Дельфина с завистью смотрела на Жака. Над входом в пятый павильон, ничем не примечательный, горел красный свет. Им пришлось подождать, пока он погаснет, прежде чем войти. Войдя, они неожиданно оказались внутри громадного помещения. Часть площадки была погружена в темноту, другая — так ярко освещена, что казалось, будто от этого ослепительного света исходит звук, похожий на легкое жужжание.
— Смотрите под ноги, — предупредил Жак Сэт, без всяких церемоний взяв Дельфину за руку и проводя ее через кабели, протянутые к осветительным приборам. Дельфина смотрела во все глаза, ничего не понимая. Сэт неожиданно остановился на краю площадки. Впечатление было столь же осязаемым, как ослепительный свет.
У Дельфины забилось сердце, и она подумала, что почти чувствует запах возбуждения. Они остановились метрах в двадцати от съемочной площадки с декорацией столовой в каком-то доме. Жан Габен и Мишель Морган сидели за обеденным столом. Кроме них на площадке были еще четверо актеров, ни одного из которых Дельфина не узнала. Вокруг стола ходила гримерша, припудривая лбы, прикасаясь к губам, поправляя волосы. Актеры терпеливо ждали. Габен сказал что-то смешное, и они тихо засмеялись, но сидели не двигаясь, пока двое мужчин, один из которых стоял, а другой сидел в режиссерском кресле, совещались между собой. Наконец разговоры стихли и гримерша удалилась. Тот, кто стоял, подошел к съемочной камере и что-то сказал другому. Затем последовала долгая пауза, и наконец кто-то невидимый властно произнес: «Тишина! Мотор!»
Дельфина вздрогнула от неожиданности и, словно зачарованная, шагнула вперед. Она сделала шагов пять прежде, чем Сэт увидел это. Он бросился к ней, схватил ее за плечо и потянул назад, на место для публики. Она смущенно улыбнулась, не заметив, что выдвинулась вперед.
Через минуту съемка снова прервалась.
— Пошли, — прошептал ей на ухо Бруно, — дальше не будет ничего интересного.
Дельфина протестующе замотала головой. Съемка возобновилась. На этот раз не прошло и двух минут, как Рене Клер недовольно и грубо крикнул: «Довольно! Стоп!» Он прошел на площадку и стал что-то пространно объяснять актерам, но так тихо, что невозможно было ничего расслышать. Габен несколько раз кивнул, Мишель Морган пожала плечами и улыбнулась. Дельфине показалось, будто боги спустились с Олимпа на землю.
Снова вспыхнул свет. Оператор, поднеся к глазам какой-то предмет, отдал команду ассистенту. На сей раз, когда съемка возобновилась, Бруно и Ги нетерпеливо переминались с ноги на ногу, а Дельфина застыла как изваяние. Наконец эпизод отсняли.
— Стоп… Готово… — сказал Рене Клер с едва заметным удовлетворением. Свет погас. Актеры встали и разбрелись кто куда.
— Наконец-то, — вздохнул Бруно, изнывавший от скуки.
— Они будут снимать это весь день. Сейчас перерыв на завтрак. Это первый удачный дубль, — пояснил Сэт. — Мне кажется, с вас хватит.
— На всю оставшуюся жизнь, — ответил Бруно.
— Я же предупреждал тебя, — сказал Ги.
— Не слишком убедительно. Пошли, Дельфина.
— Нет, не хочу, — возразила она.
— То есть как? Уже нечего смотреть.
— Я хочу посмотреть, как они будут снимать после завтрака.
— Как угодно, мадемуазель, — произнес Жак Сэт, бросив удивленный взгляд на Ги, — но здесь ничего не произойдет по меньшей мере часа два. Завтрак — святое дело, особенно во время съемок. Могу я пригласить всех вас в буфет?
— О да, пожалуйста, — обрадовалась Дельфина.
— Ты злоупотребляешь его любезностью, Дельфина, — заметил Бруно, хотя и сам проголодался от этого бесконечного, отчаянно скучного стояния, а насчет завтрака не позаботился. Надо же где-то перекусить.
В буфете этой студии, как и во всех других студийных буфетах, был отдельный большой зал для руководства и ведущих актеров. Дельфина нетерпеливо поглядывала по сторонам, мечтая увидеть Жана Габена и Мишель Морган, но те, проведя утро за столом на площадке, предпочли позавтракать одни в своих комнатах.
Сэт подвел гостей к столику, усадив Дельфину так, чтобы она могла видеть весь зал.
— Для начала по бокалу вина, — обратился он к официанту.
— Пожалуйста, расскажи мне обо всех присутствующих, — попросила Дельфина.
Он посмотрел вокруг, надеясь увидеть кого-то из знаменитостей и угодить ей, но не увидел никого, кроме режиссеров Жана Ренуара, Пьера Превера, Марселя Карне, Нико Амбера и Отан-Лара да характерных актеров, не известных в Америке. Дельфина взглянула на каждого режиссера, но для нее они были обыкновенными людьми, а не актерами. Разочарованная, она потягивала вино и оглядывала зал тоскливо и настороженно. Недалеко от столика, за которым сидел Сэт со своими гостями, завтракали трое мужчин.
— Посмотрите на девушку, — обратился к своим компаньонам Нико Амбер, — ту, что сидит с Сэтом.
Все трое, слегка повернувшись, оглядели Дельфину с головы до ног, как вещь, выставленную на аукционе.
— Кто-нибудь знает ее? — спросил Жюль Леметр, ассистент Амбера, занимающийся подбором актеров.
— Не актриса, — определил Ив Блок, оператор фильма Амбера «Майерлинг», к съемкам которого должны были приступить через месяц. Трое мужчин весь день обсуждали детали предстоящей работы.
— Почему ты так считаешь, Ив? — спросил Лемрет.
— Она слишком естественна, — ответил оператор, — разглядывает все, как туристка… Ни одна актриса не позволит себе этого даже в чужой студии. А главное, я никогда раньше ее не видел. Если бы она была актрисой, кто-нибудь из нас узнал бы ее.
— Будь она актрисой, она узнала бы меня, — спокойно заметил Нико Амбер.
Это был крепкий мужчина лет тридцати с небольшим, смуглый, черноволосый, типичный пылкий южанин. В нем было больше от итальянца, чем от француза. Даже сейчас, в минуту отдыха, он излучал мощный поток энергии. Орлиный нос, жестко очерченный рот и тяжелый взгляд свидетельствовали о властности; его и в самом деле боялись многие мужчины и желали многие женщины.
Дельфина чувствовала, что эти трое разглядывают ее, но, так же как и все остальные в студийном буфете, они для нее ничего не значили. Она так привыкла быть в центре внимания мужчин, что чувствовала себя под их взглядами столь же свободно и привычно, как тропическая рыбка, выставленная в аквариуме на всеобщее обозрение.
— Она не француженка, — заметил Амбер, — это видно по тому, как она держится. И посмотрите на ее туфли… наверняка не французские.
— Но она говорит по-французски, Нико, — возразил Жюль Лемрет. — Ее артикуляция, жесты… А ты как считаешь, Блок?
Оператор, прекрасный физиономист, молча изучал лицо Дельфины. Почему, часто размышлял он, все удивляются, что две снежинки так не похожи одна на другую, тогда как лица людей, даже однояйцевых близнецов, никогда не бывают одинаковыми?
Блок не верил в красоту. Он знал, что самое совершенное лицо может показаться в свете софитов невыразительным, как скучный ландшафт. Он слишком часто наблюдал, как пропадает поразительная красота глаз, когда на них наведена камера и направлен свет.
Мощные дуговые осветительные приборы и объектив его камеры словно состояли в каком-то дьявольском сговоре: время от времени они выносили суровый приговор мужчинам и женщинам, которые в реальной жизни обладали потрясающей внешностью, а иногда, словно раскаявшись, они находили очарование в лице как будто совершенно заурядном. Нос самой пленительной женщины из всех, кого он когда-нибудь снимал, отбрасывал такую безобразную тень, против которой была бессильна вся его техника. Другая женщина обладала вполне банальной внешностью, но перед камерой ее черты приобретали внушающую благоговение загадочность жрицы, давшей обет ритуального молчания.
Блок в течение секунды мог оценить главное: достаточно ли широко расставлены глаза, имеет ли нос один из тех недостатков, которые создают проблемы, каковы величина подбородка и длина шеи и, что не менее важно, как соотносятся глаза и рот. Однако он предпочитал не высказывать своего мнения, пока все не выявят свет и камера.
— Трудно сказать, — пожав плечами, ответил наконец Ив Блок ассистенту режиссера.
— Хочешь пригласить ее на пробу? — не унимался Жюль Леметр.
— Пусть решает Нико.
— Ив, пригласи эту девушку, — проговорил Нико.
— На роль Мари, Нико?
— Кого же еще?
— А как же Симона? — спросил Жюль.
— Подождем с ней… ведь еще ничего не подписано. Жюль, ты, кажется, знаком с Сэтом?
— Конечно, это ассистент Блюфора.
— Подойди к ней, представься, и если только у нее нет немыслимого акцента, скажи, чего мы хотим. Договорись на сегодня. Я встречаюсь с агентом Симоны через два дня.
— Минутку, Нико. С чего ты вдруг решил взять на роль Мари совершенно незнакомую девушку?
— Я бы предпочел именно ее. «Майерлинг» ставили и раньше — и в кино, и на сцене. История всем известная: Мария Вечера, эрцгерцог Рудольф. Их решение покончить с собой в Майерлинге. Неизвестность привнесет элемент неожиданности.
— Думаю, мы ничем не рискуем, если попробуем ее на эту роль, — согласился Жюль без особого энтузиазма. У него уже созрел в голове план картины, и он очень не любил, когда замыслы рушились. Приходилось тем не менее потакать прихоти режиссера, без этого невозможно работать. А такому режиссеру, как Амбер, приходилось не просто потакать, а подчиняться. Жюль отложил вилку и направился к столику, за которым сидел Сэт.
— Привет, Жак. Ты сегодня в роли гида?
— Да, имею честь. Позвольте вас познакомить. Мадемуазель де Лансель, разрешите представить вам Жюля Леметра, ассистента режиссера, без преувеличения одного из настоящих профессионалов. Жюль, это наши гости — виконт де Лансель и Ги Маршан из «Маршан Актюлите».
Обмениваясь приветствиями с Дельфиной, Леметр понял, что она говорит на таком же французском, как и он сам, но почти неуловимая интонация свидетельствовала о том, что она все-таки не француженка и не из мира кино.
— Вы приехали в Париж погостить, мадемуазель? — вежливо поинтересовался он.
— На несколько дней. Потом вернусь в Шампань.
— Так вы из Шампани, где такие изумительные вина? Занимаетесь этим? — прощупал он почву.
— Я живу в Лос-Анджелесе, — улыбнулась Дельфина, отметив про себя, что он очень галантен.
— Ах, ну тогда вы, наверное, из мира кино.
— Да нет, — засмеялась Дельфина, польщенная этими банальными словами. Помощники режиссеров до сих пор ей не говорили ничего подобного. — Я учусь в университете.
— Значит, интеллектуалка. Очаровательно. Я хотел бы задать вам еще один вопрос, не слишком нескромный, мадемуазель. Мой шеф, режиссер Нико Амбер, интересуется, не согласитесь ли вы пройти у нас кинопробу. Прямо сегодня, а точнее, через несколько минут.
— Черт возьми, ну почему тебе всегда что-то нужно, Леметр, — сказал раздосадованный Сэт. А что, если его собственный шеф, Блюфор, захочет того же? Как это он не подумал об этом раньше?!
— Дельфина, это невозможно, — запротестовал Ги Маршан. — Бруно, объясни Дельфине, что она не может этого сделать. Я убежден, что твоя бабушка рассердится.
— Не валяй дурака, Ги, — закипятился Бруно. — Почему, черт возьми, она не может? Насколько я понимаю, в этом нет ничего аморального.
Что это возомнил о себе Маршан, подумал Бруно, и почему решает, хорошо это для Дельфины или нет, и как смеет говорить ему, что подумает его собственная бабушка. Вот что значит низкое происхождение, оно неизменно сказывается, и никогда не надо забывать об этом.
— Но, Бруно, мало ли кто увидит ее и заинтересуется! В этом есть что-то неприличное. Все равно что постучать ей по плечу и сказать: «Пошли». Это просто неприлично. — От волнения Ги даже встал.
— Неприлично? Мне кажется, что я сам могу это решить, Ги. Вот уж действительно неприлично, — передразнил его Бруно.
— Послушай, Ги, да и ты, Бруно, тоже. Хотелось бы знать, какое это имеет к вам отношение? — холодно спросила Дельфина. — Месье спросил меня, и я согласна.
— Дельфина, умоляю тебя, подумай хорошенько. Это займет весь день, — беспомощно пролепетал Ги.
— Так ведь это мой день, Ги, а не твой. Месье Сэт, я с удовольствием позавтракала. Спасибо за гостеприимство. — Дельфина поднялась и посмотрела в глаза ассистенту режиссера. — Я готова начать хоть сейчас или после того, как меня загримируют. Пойдемте?
— Прошу вас, мадемуазель.
— Секундочку, Леметр, — остановил его Сэт. — В каком павильоне вы будете работать?
— В седьмом. Примерно через час.
— Встретимся там.
— Я бы предпочла обойтись без зрителей в виде друзей и родственников. Ги, давай встретимся у входа в павильон, когда все закончится. А тебе, Бруно, не обязательно меня ждать. С месье Леметром я чувствую себя в полной безопасности.
— Нисколько в этом не сомневаюсь. Позвоню тебе завтра. Счастливо.
Бруно поцеловал ее в щеку и быстрым шагом пошел к выходу. Ги протестующе жестикулировал. Жак Сэт молча расплатился за завтрак. До Блюфора, несомненно, дойдут слухи об этом, и, независимо от результатов пробы, он, Сэт, окажется виноватым.
Толстая приветливая гримерша работала в высшей степени профессионально. Она поздоровалась с Дельфиной, как с хорошей знакомой, похвалила ее шляпу и принялась делать Дельфине другую прическу. Гримерша провела щеткой по блестящим волнистым волосам девушки, зачесав их назад, и они рассыпались по плечам. Поколдовав тушью, она нанесла на щеки, подбородок и веки Дельфины темный тональный крем, выгодно подчеркнув контуры лица. Она объяснила удивленной девушке, что на черно-белой пленке все будет выглядеть совершенно естественно. Она что-то восторженно бормотала насчет широкого лба Дельфины, ее больших глаз и идеальной формы маленького подбородка.
— Форма настоящего сердечка, настоящего сердечка, — бубнила она себе под нос.
После того как ей подкрасили губы, Дельфина наконец вышла из гримерной. У двери она увидела Леметра, терпеливо поджидавшего ее.
— Хорошо. Очень хорошо. Теперь пойдемте, я представлю вас месье Амберу.
Он провел ее по темному седьмому павильону к режиссерскому креслу. Нико Амбер встал и, протягивая ей руку, окинул девушку безжалостным оценивающим взглядом. Голос его, однако, звучал мягко.
— Очень рад, что вы приняли мое приглашение, мадемуазель. Надеюсь, вы не волнуетесь.
— А я должна? — задиристо, как близкого приятеля, спросила Дельфина. Как бы она хотела, чтобы все это видела Марджи. Только тогда она почувствовала бы реальность происходящего.
С того самого момента, как во время завтрака к ней подошел ассистент режиссера, ей казалось, что она видит волшебный сон. Реальная жизнь словно растворилась в пьянящей атмосфере студии, где самая обыкновенная дверь могла вести в мир чудес. Дельфина едва ли задумывалась о самой кинопробе, так взволновала ее эта новая обстановка. От смущения она решила, что попала за кулисы. Дельфина старалась все впитывать и запоминать, войти в это так, как Габен и Мишель Морган.
— Должны ли вы? — повторил Амбер. — Нет, конечно нет. Садитесь рядом со мной, и я покажу вам, что нужно прочесть. Все очень просто. Вы прочтете строчки, подчеркнутые красным, а я остальное… Небольшой диалог между нами. По возможности старайтесь не смотреть в камеру. Хотите сначала прочитать про себя?
— Я же не актриса, — сказала Дельфина. — Что это мне даст?
— Вероятно, поможет сориентироваться.
— Думаю, будет лучше, если вы мне поможете, месье.
— Вы знаете историю о Майерлинге?
— В общих чертах.
— Неважно. Это сцена встречи молодой аристократки и наследника Габсбургов. Действие происходит на балу… Они танцуют… Влюбляются…
— Знаю, — сказала, улыбаясь, Дельфина. — Куда мне сесть?
— Вон туда. Почему бы вам не оставить здесь свой жакет? Вам будет жарко от софитов.
Дельфина сняла красный жакет и повесила его на спинку стула. В узкой красной юбке и шелковой белой блузке она прошла к высокому стулу, на который указал Амбер, стоявшему метрах в пяти. Едва она села, режиссер отдал команду, и в глаза ей ударил ослепительный свет. От неожиданности она вскрикнула и прикрыла глаза рукой.
— Скажете, когда глаза привыкнут к свету и вы сможете читать, — проговорил режиссер так внятно, будто их не разделяло расстояние.
Дельфина ждала. Она только сейчас заметила, что на нее устремлены жадные, но вместе с тем полные профессионального любопытства взгляды мужчин. Сейчас эти взгляды были ей так же необходимы, как и свет. Она никогда еще не чувствовала себя настолько воодушевленной, раскованной и всемогущей. Ожидая, когда ее глаза привыкнут к слепящему свету, Дельфина вдруг ощутила, как в ней поднимается что-то горячее и тревожное. Это не был жар лампы, это возникло внутри и начало разливаться по всему телу. Она сжала ноги, чтобы унять непроизвольную дрожь. Дельфина сидела, вцепившись руками в стул, и, ослепленная светом, испытывала сильнейшее возбуждение. Сценарий выпал у нее из рук. Она выпрямилась, кусая губы, грудь ее поднялась, плечи расправились, а ноги сжались еще сильнее: Дельфина боялась, чтобы мужчины, устремившие на нее взгляды, не заметили ее состояния.
Видя ее возбуждение, Нико Абмер почувствовал, как его охватывает безудержное желание. Такого не случалось с ним уже давно.
На площадке воцарилась тишина.
— Жюль, дай ей сценарий, — тихо проговорил Амбер, увидев, что к Дельфине возвращается самообладание.
Леметр протянул сценарий Дельфине. Нико начал читать. Он умышленно выбрал себе длинный монолог, чтобы дать возможность партнерше прийти в себя.
Дельфина слушала, следила глазами, но смысл слов не доходил до нее. Ее дыхание было еще слишком учащенным, чтобы начать читать.
Жар, сильный, почти невыносимый, пока не проходил, и Дельфина чувствовала, что еще немного, и все может начаться снова. «Это все свет, — подумала она, — это все из-за света».
— Мадемуазель?
— Да? — с трудом произнесла она.
— Ваши глаза уже привыкли? Можете читать?
— Попытаюсь.
Она глубоко вздохнула и попыталась сосредоточиться на сценарии. Постепенно строчки становились отчетливее, и Дельфина начала читать, не обращая внимания ни на камеру, ни на зрителей, стараясь ничего не видеть, кроме строк, подчеркнутых красным, ибо только так она могла совладать со своим телом. Голос Амбера отвечал ей. «Кто, черт возьми, научил ее плевать на камеру?» — думал он. Она продолжала произносить свои реплики, он — свои, и так, фраза за фразой, они закончили короткую сцену.
Режиссер сделал знак, чтобы отключили свет. В неожиданно возникшей темноте Абмер встал и быстро пошел туда, где сидела Дельфина, все еще не пришедшая в себя после испытанного потрясения. Нико взял ее обнаженную руку в том месте, где кончался короткий рукав.
— Вы были восхитительны. Боюсь, это далось вам нелегко, — тихо проговорил он, и ей показалось, что он снова читает сценарий.
— Это было так… великолепно.
— Понимаю. Вам надо посидеть где-нибудь спокойно до встречи с вашими друзьями.
— Да.
— Пойдемте.
Он быстро увел ее с площадки в свою гримерную. Встав спиной к двери, он притянул ее к себе и с силой поцеловал в открытые губы.
— Ты знаешь… Ты знаешь… — страстно повторял.
— Что? — спросила она, прекрасно все понимая.
— Что ты со мной сделала? Чувствуешь?
Он так плотно прижался к ней всем телом, что она сразу его почувствовала. Мужчины десятки раз делали попытки так прижаться к Дельфине, но она всегда ускользала от них. Сейчас же, закрыв глаза, она чуть сама не упала в руки Амбера. Губы ее с готовностью ждали его грубых поцелуев. Взяв ее на руки, он отнес ее на диван. Расстегивая блузку Дельфины, срывая с нее и с себя одежду, он покрывал поцелуями ее грудь.
Дельфина и раньше разрешала мужчинам дотрагиваться до своей груди, но никогда не позволяла им целовать, а тем более видеть ее. Сейчас, обнаженная, в состоянии блаженного стыда, она снова почувствовала себя так же, как под палящим светом ламп. Его ласки возбудили Дельфину, но он слишком хорошо ее понял, чтобы позволить сейчас испытать оргазм.
— Еще не время, — прошептал он, — еще не время, паршивка, ты должна подождать меня.
Раздвинув ей ноги, он опустил голову, чтобы почувствовать ее запах, но так осторожно, чтобы не коснуться девушки. Забыв всякую стыдливость, она подалась ему навстречу, но он протестующе забормотал. Встав на колени, он вошел в нее со сластолюбивой медлительностью человека, который слишком долго ждал, а потому не хотел, чтобы все произошло чересчур быстро. Он входил в нее медленно, но за его нежностью скрывались порочность и эгоистичность гурмана. Она так нетерпеливо ждала его, что он преодолел ее девственность прежде, чем они оба осознали это, и овладел ею. Только теперь он отпустил ее волосы, и она ощутила, как ее пронзила боль.
Замерев, он сказал:
— Все мужчины в студии хотели тебя, и ты, паршивка, знала это.
— Я не могу больше ждать, не могу, — в экстазе простонала Дельфина. Она не могла уже сдержать дикий оргазм, который совпал с его бурным взрывом.
12
3 сентября 1936 года оказалось для Лос-Анджелеса кануном того дня, когда городу суждено было стать центром международной авиации. Приведя в порядок и расширя Майнз-Филд, его переименовали в Муниципальный аэропорт. Местные устроители шестнадцатых ежегодных национальных авиационных соревнований, впервые проводимых в Городе Ангелов, решили, что должны показать всему миру, как надо организовывать зрелища. Фредди чуть ли не наизусть помнила все многочисленные газетные публикации о предстоящем событии. Она знала, что главный церемониймейстер Гарольд Ллойд возглавит шествие колонны музыкантов и украшенных платформ к аэропорту, знала точное время, когда сигнальная ракета над аэродромом возвестит о приближении эскадрильи истребителей, призванных продемонстрировать построение и высший пилотаж в воздушном бою; знала, когда исполнят трюк с пересаживанием с мотоцикла на планер и когда состоится массовый прыжок парашютистов. Она была осведомлена, что мистер и миссис Фербенкс, а также Бенита Хьюм намерены устроить пикник перед началом выступлений, захватив с собой на поле канареечно-желтую корзину с едой, желтыми чашками и такими же тарелками. Адриану Эймс, одетую в коричневый твидовый костюм, предполагали увидеть в обществе ее бывшего мужа Брюса Кабо. Среди почетных гостей должны были появиться Кэрол Ломбард и Кэй Фрэнсис. Фредди знала по именам и даже в лицо юных дам из светского общества Беверли-Хиллз, собиравшихся приветствовать военных летчиков на балу для представителей армии и флота, который завершит первый день национальных авиационных соревнований.
Но вся эта показуха, заполняющая паузы между соревнованиями, мало интересовала Фредди.
Внимание Фредди занимали три события: «Бендикс» — трансконтинентальный скоростной перелет с Восточного побережья в Лос-Анджелес; «Рут Чаттертон» — соревнования по спортивному пилотированию, начавшиеся за шесть дней до этого в Кливленде, которые предполагалось продолжить как соревнование-гандикап в Лос-Анджелесе, и «Амелия Эрхарт Трофи» — замкнутые скоростные полеты вокруг ориентирных вышек — единственный вид соревнований, где ограничивалось участие женщин и где были заняты всего восемь человек.
Из всех трех видов соревнований ее воображение больше всего занимал «Чаттертон», причем настолько, что она лишь об этом и думала. Такого с ней не бывало со времен первого самостоятельного полета. Будь у нее самолет, она могла бы принять участие в этом виде соревнований и, возможно, выиграла бы. Если бы только у нее был собственный самолет.
В этом соревновании участвовали тридцать два человека, мужчины и женщины. Они летали на самолетах разных типов, пытаясь побить собственный рекорд скорости. Газеты взахлеб писали о молодой китайской летчице Кэтрин Сюй Фан Чунг, пилотировавшей маленькую «Сессну», и о Пэгги Селемен, девушке из Лондона, чья мать с улыбкой заявила репортеру: «Нельзя же целый день только и делать что танцевать, вот Пегги и выбрала авиацию». Черт, как она ненавидит эту Пегги Селемен, в приступе зависти признавалась себе Фредди, эту Пэгги Селемен вместе с ее чертовой мамашей!
О «Чаттертоне» было так больно думать, что Фредди постоянно пребывала в трансе, пытаясь сосредоточиться на абсолютно недосягаемом «Бендиксе» с его командой знаменитых пилотов. Сейчас они в последний раз оглядывали свои самолеты на летном поле Флойд-Беннетт. За несколько недель до этого дня циркулировали всевозможные слухи: о невиданных машинах сверхобтекаемой формы, о секретных испытаниях новых моделей в аэродинамических трубах, о новых сверхмощных двигателях, об отчаянных попытках пилотов всевозможными способами увеличить скорость своих самолетов. Газеты были полны загадочных статей и историй.
«Бендикс» — открытые соревнования для всех желающих с единственным условием: пилоты должны вылететь с аэродрома Флойд-Беннетт на рассвете четвертого сентября и прибыть в Лос-Анджелес в тот же день до шести часов вечера. Журнал «Авиэйшн мэгэзин» прочил победу Бену Говарду, победителю прошлогодних соревнований, летавшему на самолете «Мистер Маллигэн». Второе место журнал прочил Амелии Эрхарт на ее новеньком «Локхид-Электра», а третье — Жаклин Кокран. Журнал писал о благородном жесте Говарда Хьюза, приводя его как пример спортивного поведения. Тот отказался принять участие в «Бендиксе», поскольку его личный экспериментальный самолет был вне конкуренции: никто из пилотов не располагал такими деньгами.
Фредди, упорно отрабатывавшая накануне соревнований «иммельманы» и «чанделли» на самолете Мака, развивавшем скорость не более 90 миль в час, размышляла о Говарде Хьюзе, его ста двадцати миллионах долларов, об Эрхарт с ее самолетом, на который Локхид отвалил восемьдесят тысяч долларов, яростно выжимая все что можно из старенького надежного «Тейлора».
Почти все свободные уик-энды в течение июня, июля и августа она отрабатывала основные элементы высшего пилотажа и научилась выполнять (в присутствии Мака) такие сложные фигуры, как «Орегонский морской дракон», «Кубинская бочка», «Кубинская восьмерка», «Обратная бочка Фрэнка Кларка». Все прекрасно, думала Фредди, но это нисколько не приблизило ее к заветной цели — скопить денег на собственный самолет, поскольку каждый сэкономленный цент она тратила на уроки по высшему пилотажу.
Фредди мрачно размышляла о том, что через две недели начнутся занятия в университете. Она уже получила расписание, а мать таскала ее по магазинам, чтобы купить новую одежду. Летать она сможет теперь только по уик-эндам. Придется использовать летнее время, хотя на это уйдут все сбережения.
На первом курсе, с горечью поняла она, придется изучать предметы, необходимые для того, чтобы получить гармоничное гуманитарное образование. «К черту все это! Я совсем не хочу быть гармонично образованной!» — в сердцах выкрикнула она, обращаясь к безучастному альтиметру, злополучному индикатору скорости и ручке управления, служащей только для того, чтобы выполнять ее указания.
Но что же делать? Пойти во флот, чтобы повидать мир? В иностранный легион? Убежать с бродячим цирком? Чушь собачья! Все это возможно для юноши, но не для девчонки, которой нет еще и семнадцати. Никаких шансов! Ей суждено прямехонько отправиться в душную университетскую аудиторию.
Если бы Фредди могла снять ноги с педалей управления, она бы так гневно топнула, что проломила бы дыру в полу самолета. Вместо этого она выполнила последний безупречный «чанделль» — крутой набор высоты с поворотом на сто восемьдесят градусов — и приземлилась на аэродроме Драй-Спрингс.
Мак и Свид Кастелли, который приехал в аэропорт, чтобы обсудить с инструктором кое-какие проблемы, связанные с высшим пилотажем, стояли возле ангара и наблюдали за ее приземлением. Она выскочила из самолета, сняла защитные очки, отстегнула парашют, перекинула его через руку и направилась к ним.
Медные волосы, щеголеватая изящная фигурка, бриджи для верховой езды, короткие сапожки, купленные Фредди взамен развалившихся ботинок, и мужская рубашка с высоко закатанными рукавами — все это подчеркивало своеобразие ее облика.
— Привет, старушка. Отличный «чанделль» мы сейчас видели, — сказал Свид Кастелли.
В его тоне она сразу же уловила превосходство. Все старые пилоты, занимавшиеся высшим пилотажем, подумала она, убеждены в том, что никто не может летать так, как они. Ну, может, и не все, возможно, Мак так не думает. К тому же, она не выносила, когда ее называли «старушкой».
— Чисто декоративный, мистер Кастелли, — обронила Фредди, — сущий пустяк.
— Отлично выглядишь, малышка, — проговорил Макгир.
— Ого, Мак! От таких щедрых комплиментов я могу покраснеть, — сказала она, направляясь в контору. «Всегда одни и те же слова», — огорчилась она.
— Какая муха ее укусила? — спросил Кастелли.
— Мечтает об «Амелии Эрхарт», — пояснил Мак.
— Я тоже. Кто же не мечтает?
— Эмоциональный ребенок, — пожал плечами Мак.
— Ребенок? Послушай, Мак, эта девчонка уже не ребенок. Она лакомый кусочек, мечта…
— Она ребенок, Свид. А ты — грязный старикашка, — вдруг сердито сказал Мак.
— Ну и что в этом плохого, Макгир, — пошутил, как всегда, Кастелли. Увидев, что Фредди пошла к машине, он махнул Маку рукой и заторопился следом за ней.
— Ты уверен, что не передумаешь? — поравнявшись с Фредди, крикнул он Маку.
— Абсолютно, — ответил Мак.
— А это большие деньги, — прокричал снова Свид, явно сожалея, что не смог переубедить Мака.
— Да хоть какие, дружище. Я сказал, что больше этим не занимаюсь.
— Ох, — произнес немного раздосадованный Кастелли, обращаясь к Фредди. — Ради меня он сделал бы это, я знаю, если бы только его не заставляли надевать ненавистный ему парик.
— О чем речь? — равнодушно спросила Фредди.
Мак постоянно отказывался от работы, которую ему продолжали предлагать координаторы программ по высшему пилотажу, все еще не веря, что он окончательно порвал с этим делом.
— О фильме. Называется «Неуправляемый штопор». Я предложил ему на выбор Алису Фэй, Констанцию Беннетт или Нэнси Келли… Он мог стать дублером любой из них. Рой дель Рут, режиссер фильма, ни о ком другом, кроме Мака, и слышать не хочет, так прекрасно он дублировал Джин Хэрлоу в «Ангелах преисподней».
— Но это же было немое кино. Я помню. Лет семь назад.
— А никому и не нужно, чтобы он говорил, старушка. Он должен лишь надеть парик и летать. Разве от него хотят слишком многого? Разве это оскорбление?
— Нет, — хмыкнула Фредди, слегка повеселев, когда представила себе Мака в белокуром парике.
— Никого не могу найти; я и сам занялся бы этим, да моя фигура потеряла девическую стройность. Послушай, а ты собираешься участвовать в соревнованиях?
— Каждый день думаю об этом, — призналась Фредди.
— Может, в следующем году или через год тебе это и удастся, как знать, старушка, — мягко сказал он, заметив, что на ее лицо набежало облачко.
— Спасибо, мистер Кастелли, но я в этом сомневаюсь.
— Слушай, подожди-ка. Да ведь ты спокойно можешь стать дублером. Мак говорил, что ты многому уже научилась. В том, что мы планируем сделать, нет ничего особенного. Ты справишься. Ну как?
— Сейчас это невозможно, — сказала Фредди и, заметив его пыл, улыбнулась. — Еще более невозможно, чем мое участие в соревнованиях в будущем году.
— Почему? Скажи, что тебя останавливает.
Фредди уже подошла к машине. Это была машина Евы — роскошный «Ласалль» с откидным верхом. Она взяла из машины бледно-голубой кашемировый кардиган и набросила его на спину, завязав рукава под подбородком. Схваченные в узел волосы, отливая медью, обрамляли ее лицо.
— Во-первых, через две недели у меня начинаются занятия в университете, — сказала она, опершись о дверцу машины. — Во-вторых, мне надо встретиться с мистером Биовулфом. Кроме того, мой отец, человек очень консервативный, убил бы меня за подобные штучки, мама тоже приложила бы руку, ну а если бы после этого от меня хоть что-то осталось, Мак довершил бы работу.
Твердость Фредди больше, чем ее модная дорогая машина, убедили Свида Кастелли в том, что он обратился не по адресу. Эта «старушка» — девушка из хорошего общества, но с необычным хобби.
— Понял. Но спросить-то можно, правда?
— Правда, мистер Кастелли.
— Привет мистеру Биовулфу. Счастливчик, повезло ему.
* * *
9 сентября Ева устраивала большой прием в честь лейтенанта Детруайя, единственного французского пилота, участвовавшего в только что закончившихся соревнованиях. Фредди охватило столько разнообразных чувств, что она себя не узнавала.
С бьющимся сердцем наблюдала она, как Луиза Таден, участница «Бендикса», не заметив финишной черты, посадила свой самолет на другом краю летного поля и сочла себя проигравшей. И только настигшая ее толпа, возбужденная и ревущая, убедила Луизу в том, что она стала победительницей. Луиза пересекла страну меньше чем за пятнадцать часов, оставив позади все экспериментальные усовершенствованные самолеты. А ведь летала она на обычном маленьком «Бич-Стаггеринге», терзаясь, думала Фредди. Она сгорала от восхищения и черной зависти. На этом самолете мог летать кто угодно. Его мог купить любой, располагавший парой тысяч долларов.
В тот вечер, когда закончился «Бендикс», Фредди кругами ходила возле шатра, сооруженного национальной организацией дипломированных женщин-пилотов, носившей название «Девяносто девять», и наблюдала, как Таден, Лора Ингалс, занявшая второе место, Эрхарт и Кокран вместе с десятками других женщин-пилотов шли туда праздновать победу. А она не могла присоединиться к ним из-за своей застенчивости, которая возобладала над страстным желанием увидеть своих кумиров и поздравить их. В сумке Фредди лежал ее собственный диплом, но она не решалась войти и представиться, хотя знала, что ее встретили бы с распростертыми объятиями. «Мне нечем хвалиться», — горько думала она. Несколько минут она прислушивалась к доносящимся до нее звукам веселья, потом почувствовала, что не в силах этого выдержать, повернулась и ушла.
Хорошо еще, что в «Чаттертоне» победителем оказался мужчина, и она могла об этом не думать.
— Фредди, ты ведь помнишь, я жду тебя сегодня на приеме, — произнесла Ева, войдя в спальню дочери и увидев, что та задумчиво уставилась в стену. Еву, конечно, беспокоило то, что дочь с каждым днем соревнований становится все более отчужденной. Она не сомневалась: Фредди обрадуется, что авиационные соревнования проводятся в ее родном городе. Газеты так увлеклись сообщениями об этом, что даже Ева и Поль знали все. Но Фредди с утра до вечера пропадала на аэродроме, а придя домой, замыкалась в себе. Глаза ее казались воспаленными, но Ева считала, что причиной тому ее пребывание в течение всего дня на солнце, заливающем трибуны.
— Да, конечно, мама, — сказала Фредди. — Я не забыла. Я обязательно буду.
Она решила, что общение с цветом французской колонии отвлечет ее хоть немного от горьких мыслей о своей никчемности. Кроме того, ей было интересно взглянуть на почетного гостя, короля пилотов, выполняющих фигуры высшего пилотажа. Ему Фредди даже не завидовала, слишком уж недосягаем он был, все равно что Чарлз Линдберг или Сент-Экзюпери.
Мишель Детруайя прославил Францию и стал бесспорной звездой соревнований после блестящего показательного выступления на его «Кодроне», оснащенном двигателем «Рено». На создание этого самолета французы потратили миллионы долларов. Это был первый самолет безупречно обтекаемой формы. Летая на нем, Детруайя выиграл двадцатитысячедолларовый «Томпсон Трофи», оставив далеко позади всех конкурентов. Превосходство его самолета было столь велико, что пилота отстранили от других соревнований, «чтобы оставить кому-то шанс выиграть».
— Дорогая, надень свое белое льняное платье, — попросила Ева.
— Но, мама… — попыталась возразить Фредди.
— Это самый лучший из твоих нарядов.
К такому тону Ева прибегала только тогда, когда выполняла официальные обязанности жены дипломата. Фредди знала, что спорить не имеет смысла.
В конце этого дня сад дома Ланселей заполнили сотни гостей. Желающие пожать руку Мишелю выстроились в такую нескончаемую очередь, что Фредди оставалось лишь смотреть и слушать из-за спины матери, стоящей рядом с ним. Трудно назвать его красавцем, думала Фредди, глядя на его длинный широкий нос и двойной подбородок. Но глаза под прямыми и необычайно густыми черными бровями заставляли забыть обо всем. Он выглядел беззаботным и счастливым, как мальчишка, и явно привык к тому, что все носятся с ним, как со знаменитостью. Он вновь и вновь воодушевленно произносил одни и те же банальные фразы:
— Да, мадам, я собираюсь на следующий год бороться за эту награду; спасибо, мадам, я рад, что вам понравились показательные выступления; да, месье, я нахожу, что Лос-Анджелес очень приятный город, спасибо, месье; да, мадам, вы правы, мой отец действительно командующий ВВС Франции, я передам ему ваш поклон, спасибо, мадам; да, месье, у вас здесь замечательный климат, и я обязательно приеду еще, спасибо, месье; да, мадам, Калифорния действительно — райский уголок, благодарю вас, мадам.
«Разговор о пустяках, — подумала Фредди, когда очередь стала сокращаться и гости потянулись за угощением, — вот плата за известность». В конце концов, как это часто случается с почетными гостями, Детруайя остался один. Все эти незнакомые люди, отдав ему дань уважения, занялись друг другом и совершенно забыли о нем. Фредди шагнула вперед, выйдя чуть ли не из-за кустов.
— Лейтенант Детруайя, — неожиданно для себя очень быстро произнесла она по-французски, — не могли бы вы сказать, быстрый взлет, действительно, результат того, что ваш «Кодрон» оснащен воздушным винтом «Ратье» с двумя скоростями и двойным шагом и имеет пневматически убирающиеся шасси?
— Что?
— Я спросила…
— Я понял, что вы спросили, мадемуазель. И я вам отвечу: «Да».
— О, я так и думала. Скажите, а каков угол отклонения винта во время взлета и в момент максимальной скорости?
— Двенадцать градусов, мадемуазель.
— Интересно… двенадцать. Не удивительно, что вы все время побеждаете. А что бы случилось, если бы отказали шасси? Система же пневматическая, ведь так?
— Да, мадемуазель. К счастью, у меня есть аварийный ручной насос.
— А воздухозаборник, какова его длина?
— Может быть, вы… — Он запнулся, едва сохраняя серьезность, потом рассмеялся, но все же остановился. — Вы хотите проинспектировать самолет, мадемуазель?
— Хочу, — ответила Фредди. — Простите, а что в этом смешного?
— Единственный человек, кто задает здесь стоящие вопросы, и тот, оказывается, девушка. Ох уж этот воздухозаборник… — И он снова рассмеялся.
— Я пилот, месье, а не просто девушка, — сказала Фредди с таким достоинством, что смех его замер.
Он взглянул на нее внимательно.
— Мне следовало догадаться, — в конце концов откликнулся он. — Следовало.
— Ну вообще-то вы не могли предположить, — примирительно заметила Фредди.
— Да нет, это же очевидно. У вас и загар, как у пилота. — Он показал на вырез ее платья и короткие рукава. В глубоком вырезе виднелся темный уголок загара, заканчивающийся белым пятном на груди. — Даже руки, — сказал он, глядя на ее загорелые руки с белой полосой выше локтя, там, куда доходил рукав летной рубашки.
— Я пыталась обратить на это внимание мамы, но она настояла, чтобы я надела именно это платье.
— Даже у пилотов есть мамы. На чем вы летаете?
— На «Райане»… когда удается.
— Я знаком с этим самолетом. Текс Ранкин и я однажды соревновались на двух одинаковых «Райанах». Так просто, для развлечения, и я чуть не проиграл ему.
— Вы делали «Орегонского морского дракона?» Которого придумал Ранкин? Я только что освоила этот трюк.
Детруайя удивился.
— Этот трюк не для девушки-пилота, мадемуазель. Это просто неразумно, должен вас предостеречь.
— Я занимаюсь высшим пилотажем… — сказала Фредди очень скромно, поскольку разговаривала с чемпионом мира, но в глазах ее светилась откровенная гордость. — Я начинающий пилот, но…
— Но уже справляетесь с «Морским драконом»?
— Да.
— Должен поздравить вас, мадемуазель, — серьезно, без тени насмешки сказал он, явно пораженный. — Приветствую вас как пилот пилота.
Он пожал ей руку, но тут к ним подошла Ева и бесцеремонно его увела.
— Мадам де Лансель, кто эта девушка в романтичном белом платье? — спросил Детруайя. — Буду рад пригласить ее посмотреть мой самолет.
— Вы имеете в виду мою дочь, лейтенант? — спросила встревоженная Ева.
— Ваша дочь? Пилот?
— Представьте себе, да. Удивительно, не правда ли, для девушки, которой только шестнадцать.
— Только… шестнадцать?
— Только шестнадцать, — твердо повторила Ева. — Она еще ребенок, лейтенант.
— Ну и ну!
— Пойдемте. Начальник французского госпиталя горит нетерпением вас поздравить.
— Очень приятно, — вздохнув, произнес офицер. — Не ожидал.
В ночь после приема в честь Детруайя Фредди никак не могла уснуть от возбуждения. «Приветствую вас как пилот пилота», — сказал он. Как пилот пилота! Не «старушка», не «малышка», а пилот! Почему никто не хотел признавать в ней пилота? Для Мака она неизменно была ученицей. Он видел ее первые шаги и никогда этого не забудет. Никогда не даст и ей об этом забыть. Ей хотелось его ударить! Для отца она навеки останется только дочерью, он лишь терпит то, что она — пилот, предпочитает не думать об этом, а тем более ничего не слышать. Мама, отдав ей ключи от машины, тут же, кажется, забывала о том, куда она собирается ехать и что намерена делать. Ни один из них понятия не имел, что она овладела искусством высшего пилотажа, ибо оба ясно и без слов дали понять, что не хотят и вовсе не ждут сообщений об ее успехах.
Ну а если по-честному… Если она в самом деле считает себя пилотом, почему тогда не вошла в шатер «Девяноста девяти» и не присоединилась к тем женщинам, которые разделяли ее страстное увлечение? Разве она не одна из них? Разве нет?
Черт возьми, да она просто себя недооценивает, придавая такое значение мнению знаменитостей. Пора бы уже признать, что она многого добилась. Пилот! И, черт возьми, отличный!
Может, причина в том, что она еще недостаточно взрослая. Через несколько месяцев ей исполнится семнадцать. Наверное, это тот возраст, когда уже следует понять, что ты собой представляешь?
Взять хоть Дельфину, которая и старше всего на каких-то полтора года, хрупкую, всегда нуждавшуюся в защите Дельфину! Она и понятия не имела о том, что такое свеча зажигания, жила от одного маникюра до другого, а ведь снимается сейчас во французском кино, где ей вряд ли дают произнести что-то большее, чем фраза типа «будьте любезны». Сначала были истеричные звонки от бабушки, потом пришло письмо от самой Дельфины, с которой почему-то оказалось невозможно связаться по телефону. В этом письме она спокойно и радостно сообщила о том, что подписала контракт со студией «Гомон». Она начала сниматься еще до того, как родители получили ее письмо. Почему-то все решили, что во всем виноват Бруно, но никто не знал, как поступить и как все это остановить.
Дельфина вышла в большой мир, тогда как она, Фредди, вынужденно отклонила предложение выполнять в кино фигуры высшего пилотажа, хотя знала, что прекрасно справится с этим. А все из-за того, что родители, сходившие с ума от художеств Дельфины, требовали, чтобы младшая дочь продолжала учиться.
К черту все это! Это несправедливо, во всяком случае по отношению к такому пилоту, как она.
В офисе Свида Кастелли в студии Дэвидсона, как и ожидала Фредди, царил беспорядок, хотя помещение было просторней, чем она предполагала. Кроме письменного стола, за которым сидел Свид, в комнате был большой стол для заседаний, уставленный моделями аэропланов. На стенах не было живого места от карт. На полу, в углу, лежала кипа фотографий самолетов времен мировой войны, а среди них снимки самого Свида Кастелли в бытность его летчиком.
— Очень мило, — простодушно заметила Фредди, расположившись в кресле напротив письменного стола. — Мне нравится.
На Фредди были бриджи и доходящие почти до колен сапоги для верховой езды, хотя сама Фредди никогда в этих сапогах не летала, считая их неудобными, она тем не менее признавала, что они производят впечатление, поскольку напоминают о Пруссии. Старый черный свитер был заправлен в бриджи, стянутые широким кожаным ремнем. «Вылитый барон фон Рихтгофен», — с удовлетворением подумала она.
— Предложение о работе еще в силе? — прямо спросила она.
— Конечно. А как же свидание с Биовулфом и твои родители, старушка?
— Это моя забота, — ответила Фредди, — и зовут меня Фредди, а не «старушка».
— А это не шутка? — подозрительно спросил Свид.
— Я не играю в такие игры, Свид. Я пилот, и ты видел, что пилот хороший. Я сотни раз наблюдала за тем, как Мак готовил трюки. Насколько я разбираюсь в этом деле, у меня есть одно преимущество перед пилотами-мужчинами: в моем самолете можно ставить камеру хоть вплотную к моему лицу, я ведь к концу дня не обрастаю щетиной, как они. А в парике я буду больше похожа на Алису Фэй или Констанцию Беннет, чем кто-то другой. Разве не так?
— Совершенно верно. Но Мак… Ты говорила, он не хочет, чтобы ты работала дублером в кадрах с высшим пилотажем. Мне не нужны проблемы. Мы с Маком давно работаем вместе, и он мне очень нравится.
— Я думала об этом, Свид. Мак научил меня летать и опекает, как наседка.
— Да, Фредди, я заметил.
— Не могу же я всю жизнь думать только о том, чтобы его не огорчать. Ты видел наседок, радующихся тому, что птенец покинул гнездо? Ни одной, правда? И разве птенцы остаются на всю жизнь в гнезде? Нет, как ты знаешь. Это закон природы. Теперь наступила моя очередь начать самостоятельную жизнь, и Мак должен это понять. Мне нужна эта работа. По-настоящему нужна. Буду работать с полной отдачей. Обещаю.
— Такая богатая девушка, как ты? Перестань. Зачем тебе эта работа?
— Все лето я работала в первую смену в булочной Ван де Кампа, чтобы оплачивать летные уроки. А теперь мне необходимо иметь собственный самолет. Необходимо, Свид, а не просто хочется.
Фредди подалась вперед. Поставив локти на колени и опершись подбородком на руки, она смотрела Свиду в глаза ясным сильным взглядом. Она вдруг почувствовала себя взрослой.
— Я считал тебя богатой девушкой.
— Быть богатой — значит иметь деньги. Нет, это не так. У меня обеспеченные родители, но они не дают мне на полеты ни цента. Машина, которую ты видел, не моя, если это тебя ввело в заблуждение. Послушай, Свид, если я не нужна тебе, то наверняка буду нужна кому-то еще. Фильмы об авиации снимают в Голливуде на каждом углу. Я пришла к тебе первому, потому что знаю тебя, но если ты сомневаешься, только скажи — и я уйду.
— Считай, что ты получила работу, Фредди. Черт возьми, ты получила ее еще вчера.
Фредди радостно рассмеялась.
— И кого я буду играть? Алису Фэй или Констанцию Беннет?
— Обеих, а заодно еще и Нэнси Келли. Я использую тебя на всю катушку.
— А как насчет денег? — поднявшись и подбоченясь, спросила Фредди.
— Денег?
— Ты сказал, что много, но сколько именно?
— Пятьдесят долларов в день, так же, как я плачу Маку. Когда начнем снимать, тебе придется работать пять, а то и шесть дней в неделю.
— За специальные трюки дополнительно?
— Фредди, я смотрю, ты знаешь все не хуже меня. Дополнительно, конечно, как и всем. Сотню за полеты «вверх брюхом», хотя этого нет в сценарии; до тысячи двухсот за «штопор» с дымовым эффектом и полторы тысячи за «взрыв» в воздухе и прыжок с парашютом. На это можешь рассчитывать, это в сценарии есть, но никаких авиационных катастроф. Я тебе все равно не дал бы их делать. Женщины никогда этого не делают. Традиция. Что касается покупки самолета — к тому времени, как мы все отснимем, сможешь иметь целый воздушный флот.
— Не ве-рю, — медленно произнесла Фредди.
— Как это не веришь? — обиделся Свид. — Это, действительно, большие деньги.
— Я просто не верю, что… что наконец дождалась этого…
Фредди размышляла о том, что, когда бы она ни сообщила родителям о своем решении, они все равно его не одобрят, но, может быть, улучив момент, она получит хоть какое-то преимущество. Самым благоприятным было время перед ужином, когда родители сидели в гостиной за бутылочкой шампанского.
Открывать бутылочку шампанского, считал отец, можно только при трех условиях: без посторонних, во время обеда и если вы родились в стране знаменитых вин. По традиции первые несколько капель шампанского дали ему попробовать, едва он появился на свет. Его мать, осушив бокал до дна, обрадовалась тому, что ее новорожденный сын, как и все грудные младенцы Шампани, тут же перестал плакать.
Фредди решила в разговоре с родителями не упоминать о деньгах. Если ее пригласят сниматься несколько раз в году, она будет зарабатывать больше отца. И, конечно, придется пообещать им жить все время дома, за исключением выездов на съемки.
— Знаешь, дорогая, сегодня ты… выглядишь как-то особенно хорошо, — сказала Ева, когда Фредди вошла в гостиную.
Ева не любила говорить дочерям, как они красивы, но сегодня было трудно удержаться и не сказать этого Фредди. Девочка совершенно очевидно пришла в себя после депрессии во время авиационных соревнований: с лица исчезло страдальческое выражение. Изящное голубое платье гармонировало с синими глазами Фредди, глядящими из-под бровей, изогнутых так же, как и у Евы.
Вместе с тем во Фредди чувствовалась какая-то напряженность. Она решительно оперлась на каминную доску и смотрела на них со странной улыбкой, не тронувшей уголков ее пухлого, красиво очерченного рта. Эта сдержанная улыбка озаряла ее лицо радостью, как ни пыталась Фредди сохранить полную серьезность.
— Хорошая новость? — не удержавшись, спросила Ева. Фредди всегда была откровенна. — Надеюсь, не о лейтенанте Детруайя?
— Да нет, хотя он мне понравился. Нет, гораздо лучше. Я получила работу.
— Фредди, пожалуйста, не шути. Ты работала все лето. Нельзя же совмещать это с занятиями в университете, ты должна это понять.
— Мама права, — вмешался Поль. — Мы обсудили это и решили, что будем оплачивать твои летные занятия по уик-эндам, если это не помешает твоей учебе. Мы не можем разрешить тебе делать два дела сразу и понимаем, что ты не откажешься от полетов.
— Спасибо, папа. Я ведь знаю, как ты к этому относишься. Но речь идет не о неполном рабочем дне. Это настоящая работа.
— Что ты имеешь в виду? — спросил Поль, отставив бокал.
— Эта работа займет весь день.
— Об этом не может быть и речи, — строго сказал он.
— Фредди, что ты такое говоришь? — воскликнула Ева.
— Я не буду учиться, мама. Я не могу. Я буду отвратительной студенткой. До меня это дошло прошлой ночью, хотя должно было дойти уже давно. Мне просто не хватало уверенности ни в себе самой, ни в том, что для меня лучше и правильней.
— Значит, ты решила, что уже достаточно взрослая и понимаешь, что для тебя лучше всего? — спросил Поль, еле сдерживая гнев.
— Я знаю, просто знаю.
— Подожди минуту, Поль. Фредди, ты не сказала нам, что это за работа.
— Она связана с полетами. Для кино. Точное пилотирование.
— О Господи! Ты не знаешь, на что идешь! Что значит «точное пилотирование»? — голос Евы дрожал от возмущения.
— Специальные полеты, те, что я отрабатывала. Показательные полеты, если хочешь. У меня есть к этому способности, и я это делаю хорошо.
— Это то, чем занимается Детруайя? — выдохнула Ева.
— Нет, мама. Он лучше всех в мире. Я тоже хорошо летаю, но не настолько. Пока.
— Черт возьми, Фредди! Я не потерплю этого! Я просто не разрешу тебе так поступить. Это совершенно исключено, раз и навсегда! Исключено. Мы тебе не разрешаем, слышишь, не разрешаем! Не даем тебе разрешения! — взорвался Поль. Он встал и угрожающе наклонился над ней.
— Тогда я обойдусь без вашего разрешения, — ответила Фредди, храбро шагнув вперед. — Вам не удастся мне помешать.
— Мари-Фредерик, я предупреждаю тебя в последний раз. С меня хватит того, что выкинула Дельфина. Я не сделаю дважды одну и ту же ошибку. Если ты думаешь, что можешь делать все, что заблагорассудится, и тебе это сойдет с рук, ты полностью заблуждаешься. Ты поступишь так, как я говорю, или немедленно уйдешь из этого дома и не вернешься, пока не одумаешься. Я не потерплю, чтобы дочь ослушалась меня. Поняла?
— Да, папа, — она повернулась и вышла из комнаты.
— Фредди, куда ты?
— Собирать вещи, мама. Это займет не много времени.
Фредди торопливо побросала в небольшой чемодан самое необходимое, оставив платья с длинными рукавами, свитера и юбки пастельных тонов — свою красивую и дорогую университетскую одежду. На всех этих вещах еще висели ценники. Бросив поверх всего кожаную летную куртку, Фредди в последний раз оглядела комнату. Уже не считая эту комнату своей, она оставляла ее без сожаления. Фредди знала, что Ева не поднимется, чтобы остановить ее. В вопросах дисциплины они с отцом всегда единодушны. Один только раз мать заняла самостоятельную позицию, вспомнила Фредди; тогда в отличие от отца она поняла, почему ее дочь одна совершила полет.
Родители были в гостиной, когда Фредди тихо вышла из дома, положив ключи от своей комнаты и от Евиной машины на столик у входной двери.
Не колеблясь, Фредди поймала попутную машину до Сан-Фернандо. Она знала, куда ей ехать. Спустя сорок пять минут она уже шагала по дорожке к маленькому домику Мака вблизи аэропорта Драй-Спрингс. Фредди никогда здесь не бывала, хотя и знала адрес.
Уже почти стемнело, но свет в доме еще не горел. Зато гараж был ярко освещен. Подойдя ближе, Фредди услышала, как Мак насвистывает мелодию и стучит молотком. Каштановые волосы Мака упали на лоб и почти касались его длинных ресниц. Он трудился над одним из своих последних приобретений, редким экземпляром «Фоккера Д.VII» с крестами на хвосте и длинном остром фюзеляже. В фильмах о войне часто снимали самолеты «Кертис Хокс» и «М.В.З», замаскированные под «Фоккеры», но это всегда выглядело фальшиво. Все больше и больше ценились настоящие самолеты, особенно с тех пор, как Говард Хьюз снял настоящие самолеты в «Ангелах преисподней».
Большая коллекция самолетов времен мировой войны, собранная Маком и сильно разросшаяся за последние шесть лет, постоянно пополнялась, поскольку любой самолет можно было восстановить, если он, конечно, не превращался после катастрофы в груду обломков. Макгиру пришлось взять себе нескольких помощников. Но самую ответственную работу он делал сам.
Фредди поставила чемодан и, небрежно засунув руки в карманы кожаной куртки, вошла в гараж.
— Привет, Мак. Тебе помочь?
Он в изумлении опустил молоток.
— Черт побери, что ты здесь делаешь?
— Я могла остановиться в гостинице, но эта идея мне что-то не понравилась.
— Ты ушла из дома? — недоверчиво спросил он.
— Меня попросили уйти, сказав: «Чтоб ноги твоей в доме не было».
Фредди произнесла это с бравадой и усмехнулась, однако это могло обмануть кого угодно, только не Мака.
— Подожди, что произошло? Твои родители не могли выгнать тебя на ночь глядя. Что же ты натворила, если такое произошло?
— Сказала им, что решила не учиться в университете. Я не могла иначе, Мак, просто не могла. От одной мысли об этой учебе я чувствовала себя заживо погребенной под библиотечной пылью. Это совершенно не для меня.
— Господи! — с возмущением сказал он. — Какая странная реакция! Понимаю, что они расстроились, это естественно, но отнестись к этому как к концу света — чистейший абсурд.
Отложив молоток в сторону, он выключил в гараже свет.
— Пойдем в дом, малышка, и ты мне все расскажешь. Уверен, ты сможешь все уладить дома без всяких драм. Они знают, где ты сейчас?
— Нет. Они не спросили, а я не сказала.
— Я должен им сообщить, чтобы они не волновались, но сначала давай поговорим.
Взяв чемодан, он провел девушку в темный дом и зажег свет в гостиной.
— Садись, будь как дома. Хочешь «коку»? Нет? Ну а я чего-нибудь выпью.
— У тебя не найдется бутерброда? — спросила Фредди, наблюдая за тем, как он наливает себе виски с содовой.
— Ты ушла из дома до ужина? Плохое же время ты выбрала. Идем на кухню, я посмотрю, не найдется ли там корочки хлеба.
Фредди с любопытством осмотрелась. Все безупречно чисто, аккуратно, но как-то безлико. Присутствие в доме Мака, конечно, ощущалось, но она предполагала увидеть что-то похожее на офис Свида Кастелли: беспорядок, дающий понять, что здесь живет мужчина, какие-нибудь сувениры. Но в комнате не было ни фотографий, ни картин, ни цветов. Судя по книгам на стеллажах, их постоянно перечитывали. Она никогда не видела этих книг в конторе Мака в аэропорту. Так же ясно, что мебелью в комнате никогда не пользуются. На кухне, такой же аккуратной, как и гостиная, заметны были хоть какие-то следы жизни: удобный старый крашеный стол, на котором стоял кувшин; большая плита и рабочий стол со всевозможной кухонной утварью. На плите — кастрюля внушительных размеров. Мак зажег под ней газ.
— Тушеное мясо. Повезло тебе, малышка. Сейчас подогрею.
Фредди села в одно из четырех виндзорских кресел, стоявших вокруг стола. Вплоть до этой минуты она не чувствовала, насколько устала и проголодалась. Она все еще находилась во власти эмоций и после бурного объяснения с родителями не могла ни о чем думать и ничего делать.
— Можно мне немножечко? — показала она пальцем на стакан Мака.
— Ты что, спятила, Фредди? Это же виски. Если хочешь пить, налей себе «коку».
Фредди вспыхнула от злости.
— Я уже сыта по горло разговорами о том, не спятила ли я и отдаю ли себе отчет в происходящем. Я никогда еще не рассуждала так здраво, и мне хочется виски, профессор.
Мак, следивший за кастрюлей с мясом, резко повернулся и пристально посмотрел на нее.
— Знаешь, мне надоело, что меня называют «профессор».
— Да я никогда еще тебя так не называла.
— И одного раза более чем достаточно. Прекрати.
— Ладно, пусть будет «консерватор».
— Нарываешься на неприятности? — мягко спросил он. — Не удивительно, что отец выставил тебя за дверь. Его ты тоже назвала «консерватором»?
— Нет, хотя это тебя не касается.
— Еще как касается, после того, как ты появилась здесь. Давай-ка, ешь мясо и молчи. Ты просто голодная.
Фредди с жадностью проглотила две порции такого вкусного тушеного мяса, какого ей никогда не приходилось есть. Сидя напротив, Мак потягивал виски и бросал взгляды на ее рыжую голову, склоненную над тарелкой. Пусть сначала поест, думал он, а потом вправлю ей мозги и позвоню родителям.
Фредди должна идти в университет, хотя он сам считал это глупостью. На карьере пилота ей придется тогда поставить крест. Даже самый лучший из них должен постоянно летать, чтобы поддерживать свое мастерство — это же не то что водить машину! Едва Фредди окунется в университетскую жизнь, эти занятия, свидания займут все ее время. Она станет пилотом выходного дня. Он, Мак, каждый день имеет дело с такими. А потом вообще перестанет летать, как многие из женщин, которых он знал. Начнет ходить на футбол вместо того, чтобы устремляться в облака. Такая угроза существует. Жизнь сделает свое дело… муж, потом дети…
Обычная история с тривиальным концом. Он не знал, почему воспринимает это как личную потерю, чувствует боль и даже что-то похожее на страх. А может, это и к лучшему. Она рождена, как и он, летать, но ведь она женщина, значит, как у пилота у нее нет будущего.
Он хорошо знал, что даже многие мужчины сходили с дистанции. «Ну и дураки», — подумал он и вдруг ощутил боль оттого, что уготовано Фредди. Мак даже задержал дыхание, испугавшись, что не сможет сдержать чувств. Сейчас самое время поговорить с Фредди по-отечески твердо и беспристрастно.
— Ну, теперь легче? — спросил Мак, когда она опустошила вторую тарелку.
— Гораздо. Где ты научился готовить?
— Голод — единственный стимул для человека, который живет один, так же, как для тебя учеба в университете. Мне пришлось научиться этому.
— Тонко ты подвел базу.
— Послушай, я понимаю, что ты сейчас чувствуешь. Прекрасно понимаю. Но ты попала в серьезный переплет. И упрямство не поможет тебе выйти из этой ситуации. Ты что, располагаешь крупной суммой?
— У меня целых три бакса. Вот все, чем я располагаю. А еще одеждой, которая на мне и в чемодане. О, и зубная щетка. Я ее не забыла.
— Не знаю, что ты находишь забавного во всем этом.
— Мне нравится ощущать себя путешественницей.
— Далеко ли ты уедешь на свои три бакса?
— Посмотрим.
Она закинула руки за голову и милым жестом откинула волосы назад, думая при этом о Констанции Беннет и Алисе Фэй.
— Знаешь, малышка, ты сегодня слишком взвинчена. Мне знакомо это чувство. Завтра все будет иначе. Я уйду на полеты, а ты вернешься домой, помиришься с родителями, и вы придете к какому-нибудь соглашению… Если ты пойдешь в университет, может, они будут давать тебе деньги на полеты по уик-эндам. Это единственный путь, и, черт возьми, лучше, чем ничего. Ты знаешь это не хуже, чем я.
— Дело в том, что они предлагали мне это, но я отказалась, — тихо сказала Фредди.
— Какого черта! Столько времени наскребая гроши на уроки, ты отказалась от их помощи?
— Вот именно.
Она встала, собрала со стола посуду и начала ее мыть.
— У тебя есть посудное полотенце, Мак? Или пусть сама высохнет? Как здесь заведено?
— Фредди, ты сегодня слишком дерзка, и я не собираюсь попусту тратить время и учить тебя уму-разуму: ты все равно не послушаешься, что бы я ни сказал. Дайка мне свой номер телефона. Я хочу позвонить твоим родителям, чтобы избавить их от тревоги. Не скажешь? Ладно, я узнаю у телефонистки. — Он снял трубку.
— Подожди. Не звони им, пожалуйста, Мак.
— Извини, Фредди, но я это сделаю.
Он набрал номер телефонистки, но Фредди вырвала трубку у него из рук и повесила ее.
— Есть кое-что… еще… чего я тебе не рассказала. Дело не только в университете.
— Мне следовало догадаться, — серьезно сказал он. — А в чем же?
— У меня есть работа. Я могу себя обеспечить.
— Неужели ты собираешься угробить жизнь на работу в булочной или что-то в этом роде? О, только не это!
— Работа связана с полетами.
— Что ты имеешь в виду? Для девушки не подходит ни одна работа, связанная с полетами.
— Есть. Я работаю на Свида Кастелли. Он нанял меня дублершей Алисы Фэй, Констанции Беннет и Нэнси Келли в «Неуправляемом штопоре».
— Дублершей для выполнения трюков высшего пилотажа?
— Ты же не согласился…
— Высший пилотаж!
— Все, что нужно, я могу выполнить. И никто лучше тебя не знает этого…
— Я читал сценарий, Фредди. Ты не будешь этого делать! Выход из штопора у земли! Взрыв в воздухе и прыжок с парашютом! Прыжок с парашютом, идиотка несчастная!
— Все равно буду! — крикнула Фредди с решимостью на лице.
Макгир размахнулся и дал ей пощечину.
— Только через мой труп! — рявкнул он.
Фредди злобно набросилась на него, нанося ему удары по ногам сапогами, яростно молотя руками по его голове. Он с трудом поймал ее руки. Она притихла, а Мак, замерев, все еще крепко прижимал ее к себе. Так они стояли, прижавшись друг к другу, тяжело дыша и с изумлением в глазах. Вдруг Фредди, преодолев замешательство, потянулась к нему и прижалась губами к его губам.
— Я не допущу этого! — простонал он и поцеловал ее со всем пылом любви, в которой он так долго не признавался даже самому себе.
Они не могли оторваться друг от друга. Отпрянув на мгновение и с трудом переводя дух, они с новой силой устремлялись друг к другу, чтобы еще и еще раз испытать сладкую и пронзительную истому поцелуев. Им было мало этой близости, они хотели соединиться друг с другом так, как только могут два человеческих существа. Поцелуи настолько одурманили их, что, стоя посреди кухни, они едва держались на ногах. И тут Фредди простонала:
— Я хочу заняться с тобой любовью.
— Нет, я не могу, ты же знаешь. Я не могу!
— Но я так тебя люблю… Я всегда любила тебя… Поздно говорить «нет»… Мы уже не в силах остановиться.
— Я не могу. Это дурно.
— Это самое лучшее, что только бывает. Ты любишь меня так же сильно, как я тебя.
— Больше, чем ты можешь вообразить. Я никогда не думал, что способен так сильно любить. Ты — любовь всей моей жизни. Я бы и жизнь отдал за тебя.
— Так почему же это дурно? — спросила она, глядя на него с такой нежностью, с такой восторженной и откровенной радостью, что он понял: ему не устоять. А главное, он и не хочет этого.
В постели он вдруг почувствовал себя таким неловким, неуклюжим и неожиданно робким, что ей пришлось взять инициативу в свои руки. Ее невинность была по-детски беспомощной. Неудержимое стремление раствориться друг в друге, которое внезапно обрушилось на них, слегка утихло, когда они признались друг другу в любви.
Теперь им казалось, что впереди — бесконечность и постепенные открытия, о которых они так мечтали всего несколько минут назад. Они с удивлением познавали друг друга. Каждый волосок на голове Мака казался Фредди прекрасным, каждая морщинка на его лице — драгоценной. Она касалась губами его уха, трогала кончиками пальцев его брови. Она впервые прикасалась к мужчине, и это возбуждало в ней любопытство. Ее наивные ласки волновали его, и Мак, лежа на спине, ощущал такое счастье, что не мог думать ни о чем, кроме этого чудесного мгновения. Он смотрел снизу вверх на Фредди, склонившуюся над ним, и старался сдерживаться, хотя чувствовал ее длинные чуткие пальцы на своей шее и плечах. Она застенчиво поцеловала его в шею.
— Подожди, — прошептал он. — Не спеши.
Ее обнаженное тело было настолько прекрасным, что он не решался долго смотреть на него. Соски ее стали твердыми. Он еще и не притронулся к ней и смущенно подумал о том, что понимает, о чем они просят. Он положил Фредди на спину и склонился над ней.
Закрыв глаза, Фредди замерла. Никогда в жизни ей еще не было так хорошо, она и представить себе не могла, что когда-нибудь испытает нечто подобное. Она лежала, почти не дыша, и мечтала о том, чтобы он не останавливался. От его трепетных ласк ее тело пронизал, как молния, электрический ток, она чувствовала нечто никогда не изведанное. Сколько можно лежать вот так, неподвижно, испытывая безумное наслаждение, подумала она. Вдруг Фредди ощутила, как его пальцы легко и нерешительно заскользили по ее бедрам, поняла, что не может больше ждать, и сделала движение навстречу.
Время, казавшееся Фредди бесконечным, неисчерпаемым, вдруг исчезло. Она уже не справлялась со страстной потребностью познать Мака до конца, всецело отдаться ему. Она нетерпеливо развела ноги в стороны. Мак понял этот знак, но все еще не мог преодолеть нерешительность, и она с силой рванулась к нему сама. Почувствовав ее, он вдруг замер и осознал, что преступает черту.
— Нет, хватит. Я сделаю тебе больно, — прошептал он.
— Я хочу, чтобы ты это сделал, — простонала она, охваченная любовью и желанием. — Я хочу тебя, хочу, — снова закричала она и, видя его нерешительность, сильным нетерпеливым движением выгнулась вверх, напрягая спину, бедра, ноги и не оставляя ему выбора. Теперь у них была единая воля, единое стремление, единая цель. Наивная девушка и опытный мужчина слились в страстном порыве, связанные глубоким чувством, давним взаимопониманием и общими интересами.
13
Поль Лансель от природы не был гневлив. Он рос в безмятежной Шампани, окруженный прелестной природой щедрого края. Его юность прошла в мирные предвоенные годы. Он стал профессиональным дипломатом и счастливо жил в браке с женщиной, которую боготворил вот уже почти два десятилетия.
Но сейчас, после того как Фредди бросила ему открытый вызов, Поль был в постоянном гневе. Он не мог обуздать его еще и потому, что, в отличие от людей вспыльчивых, он не знал, что гнев надо гасить. Ярость настолько овладела им, что Ева не могла ничего с ним обсудить. Поль не хотел даже слышать имени Фредди. Он погрузился в это состояние с такой же обреченностью, с какой заключенный роет туннель, чтобы убежать из тюрьмы, ибо у Поля, как у заключенного, не было иной возможности спастись.
«Ей нужно преподать такой урок, который она запомнит на всю жизнь. Хоть кто-то должен считаться со мной!» Он не позволял себе думать о случившемся.
Фредди расплачивалась и за тот подавленный гнев, который вызывал в Поле Бруно, относившийся к отцу с холодной вежливостью постороннего и чуждавшийся его по причинам, которых было слишком больно касаться. Фредди расплачивалась и за разочарование, доставленное Полю Дельфиной, чье поведение было двусмысленным и сомнительным, ибо старшая дочь лишила его возможности расторгнуть ее контракт со студией «Гомон».
Фиаско, которое Поль потерпел с тремя своими детьми, повергло его в такое бешенство, что он стремился избегать даже мыслей о них. Легче было совсем вычеркнуть Фредди из жизни. Раз и навсегда. Она может обойтись без семьи? Пусть так и будет. Хоть кто-то должен считаться с ним!
Фредди довершила ощущение краха, испытанное им из-за Бруно и Дельфины. Бунт Фредди переполнил чашу его терпения. Он будет твердо сопротивляться, чего бы это ему ни стоило.
Ева не узнавала мужа, так он изменился после ухода Фредди из дома. Поль вставал очень рано и часто уезжал в консульство до того, как Ева спускалась вниз к завтраку, поручив поварихе Софи передать жене, что он уже уехал. Вернувшись вечером, он молча читал газеты. За ужином Поль выпивал втрое больше вина, чем раньше, и вел с Евой ничего не значащий разговор о повседневных делах. После ужина он совершал в одиночестве долгие прогулки, а вернувшись, обычно говорил, что не выспался накануне и поэтому собирается лечь. После ухода Фредди Ева ни разу не слышала его смеха, и он целовал ее так, будто исполнял долг.
Может, он злится и на нее, размышляла Ева. Правда, он никогда этого не говорил, но ей приходило в голову только это. К тому же, именно она уговорила его разрешить Фредди продолжать занятия пилотированием после того, как та выполнила первый самостоятельный полет; и именно она давала Фредди свою машину. Поль явно считал ее причастной к этому, но поскольку не хотел слышать даже упоминаний о дочери, Ева не могла признаться ему, что чувствует себя виноватой.
Она не могла сообщать мужу новости о Фредди, которая звонила ей раз в неделю, когда Поль был на работе. Фредди не посвящала Еву в подробности своей жизни и не говорила, где живет, но успокаивала встревоженную мать, сообщая, что у нее все в порядке. Судя по ее голосу, Фредди была счастлива. Ева пыталась сказать об этом Полю, но он обрывал ее, едва она начинала разговор на эту тему.
— Меня это не интересует, — говорил он с такой яростью, что ей становилось страшно. Ева молча выходила из комнаты. Впервые в жизни она задумалась о том, что же за человек ее муж.
Эти мучения продолжались почти до Рождества 1936 года. Поль мог в любой момент выяснить, где находится Фредди, стоило ему только позвонить кому-то из знакомых, связанных с кинематографом. Но Ева понимала: он не станет делать этого из гордости, не желая признаться в том, что не знает, где находится его дочь. Ей все равно, будет ли задета его гордость, спустя три месяца сердито подумала Ева и позвонила сама. Она горела нетерпением увидеть дочь и обнять ее. Все выяснив, Ева на следующий же день поехала на машине в местечко вблизи Окснарда, где работала съемочная группа фильма «Неуправляемый штопор».
— Что вы хотите, мадам? — спросил ее охранник у ворот проволочной ограды, возведенной вокруг съемочной площадки, чтобы сдерживать местных зевак.
— Меня ждут, — не раздумывая, ответила Ева.
Не задавая больше вопросов, он распахнул ворота. Она поставила свою машину рядом с другими и решительно направилась к самому большому из строений. Ева не испытала никакой робости, появившись там, где идут съемки. Ни один человек, выступавший в «Олимпии», никогда уже не испытывал трепета, вторгаясь в места, недоступные широкой публике. Закулисная жизнь не менялась, где бы и когда бы она ни протекала.
— Как мне найти Фредди де Лансель? — спросила Ева у первого встречного.
— Фредди? Спросите у кого-нибудь вон там. Я не знаю расписания трюковых полетов, — ответил мужчина, показав в сторону здания, где находилась импровизированная контора.
— Трюковых полетов, — повторила Ева, стараясь не показать удивления.
— Ага.
— А где я могу узнать насчет точного пилотирования?
— Это то же самое, мадам.
— Это что-то вроде… фигурных полетов? Показательных полетов?
— Можно и так сказать… процентов на пятьдесят…
— Спасибо.
Ева пошла в указанном направлении, с тревогой размышляя, что лучше не думать о страшном, пока она не выяснит все наверняка.
Все эти названия того, чем занимается Фредди, были так туманны, что каждое слово могло означать совершенно разные вещи.
Из конторы ее послали в ангар, стоявший в стороне в нескольких сотнях метров. Ева направилась туда. Сухой ветер Санта-Аны вздымал юбку ее элегантного темно-зеленого костюма и срывал с головы мягкую фетровую шляпу. На далеком небе были голубые островки, очищенные ветром, таким же привычным в Калифорнии, как мистраль в южной Франции. Она шла по высохшему и пожелтевшему зимнему калифорнийскому полю, которое остается таким до прихода январских дождей, возвещающих приближение весны. Такая же подтянутая и элегантная в сорок лет, какой она была и в двадцать, с тем же гипнотическим взглядом серых глазах и с теми же удивительными рыжеватыми волосами, Ева ловила восхищенные взгляды занятых своим делом техников, улучавших минутку, чтобы поглазеть на красивую женщину.
Ева заглянула в ангар, темный после яркого солнечного света. Группа людей обступила небольшой самолет, показавшийся ей таким же современным и мощным, как на газетных снимках авиационных соревнований. Подойдя ближе, Ева узнала Алису Фэй. Актриса была в рубашке кремового цвета с таким количеством клапанов и карманов, что казалась одетой в военную форму. Рубашка была заправлена в кремовые обтягивающие брюки. Кремовый замшевый пояс стягивал ее узкую талию, на шею был накинут белый шелковый шарф, а из-под кожаного летного шлема выбивались светлые, такие знакомые локоны. Защитные очки, поднятые на шлем, оставляли полностью открытым ее лицо. Ева увидела знакомые черные брови, большие глаза, опушенные длинными ресницами, ярко накрашенные сочные губы, контрастирующие со светлыми волосами.
Двое мужчин вместе с Алисой склонились над открытой кабиной самолета. Один из них был плотным, среднего возраста. В другом, помоложе, она узнала Спенсера Трейси. Он оказался выше, чем она думала. Подойдя поближе, Ева увидела, что это вовсе не Трейси, а очень похожий на него актер. Мужчины оживленно беседовали о ремнях безопасности, которыми пристегивались пилоты этого самолета. Тот, что помоложе, явно выражал недовольство.
— Мне наплевать, Свид, на то, что это лучшие в мире ремни. Сделай другие. Они должны быть в три раза прочней, или Фредди не полетит, — услышала Ева его сердитый голос.
— Мы потеряем целый день, — запротестовал Свид Кастелли, — а может быть, и два.
— Ты слышал, что тебе сказали? — вмешалась Алиса Фэй. — Тем более что сегодня слишком сильный ветер для полетов. Камера будет прыгать.
— Фредди, — выдохнула Ева.
Алиса Фэй обернулась.
— Мама! Боже, как я рада тебя видеть. Мамочка, как ты? А как папа? Дельфина? Расскажи мне обо всех! Как ты меня разыскала? Поцелуй меня. О, это Свид Кастелли, а это Мак-Теренс Макгир. Ребята, это моя давно пропавшая мама. Держу пари, ты и не думал, Свид, что у меня есть мама. Ой, я тебя всю перемазала помадой, мамочка. Я сотру. Дай мне носовой платок. В этом проклятом костюме ничего не помещается.
Фредди радостно крутилась вокруг Евы, то прижимая ее к себе, то отстраняя, чтобы вглядеться в нее, то снова прижимая. «Девочка явно не голодает», — озадаченно подумала Ева, заметив, что Фредди не только стала выше, но и заметно округлилась, так что ее некогда тоненькая фигурка приобрела пышные, как у кинозвезды, формы. Фредди заметила ее удивление.
— Это все толщинки, мама. Под этим костюмом все та же маленькая девочка.
— А я было клюнула на это, — сказала Ева; у нее перехватило дыхание. — Я приняла тебя за Алису Фэй.
— В этом и вся суть, миссис Лансель, — сказал, сияя, Свид Кастелли. — Видели бы вы ее в роли Конни Беннет! Похожа как две капли воды.
— Свид, давай пригласим маму на чашку кофе, мы ведь все равно уже закончили, правда? — спросила Фредди.
— Мне надо пойти заказать эту «сбрую безопасности», Фредди. И уточнить с Роем дель Рутом кое-какие детали. А вы с Маком идите. Встретимся здесь завтра утром, если мне придется шить самому.
— Свид, ничего не случится, если ты выпьешь чашечку с нами, — настаивала Фредди.
Все четверо вышли из ангара, направляясь к наскоро оборудованному буфету.
— Нет, я лучше пойду. Очень рад был с вами познакомиться, мадам де Лансель. Надеюсь, мы еще увидимся.
Свид отправился на поиски режиссера фильма, перед тем как заняться проблемами ремней безопасности. Кастелли думал о том, сколько съемочных дней пропало из-за Мака, занимавшегося подготовкой полетов Фредди, из-за его категорических требований соблюдать правила безопасности. Но то, что пилотом была Фредди, сэкономило больше времени, чем они потеряли. К тому же, никогда еще выполнение трюков высшего пилотажа в фильмах не вызывало у него меньшего беспокойства, а пилотирование самолета женщиной не было таким убедительным.
Ева, охваченная противоречивыми чувствами, пила кофе и ела датское пирожное. Не только вульгарный грим и светлый парик делали Фредди какой-то чужой. Было в ней что-то… Ева не могла определить что… но что-то новое. Тот же голос, то же нежное внимание, но что-то коренным образом изменилось. Дело вовсе не в том, что Фредди повзрослела, начала зарабатывать и жила самостоятельной жизнью — этих тем обе избегали по молчаливому согласию. Было что-то, чего Ева не могла понять. Что-то еще.
Ева рискнула задать несколько вопросов мистеру Макгиру, надеясь, что его ответы помогут ей хоть отчасти понять состояние дочери. Но она услышала лишь типичные ответы инструктора, учившего ее дочь летать, — взвешенные, осторожные, разумные. Он доступно объяснил ей механику исполнения нескольких фигур, вселяя в нее спокойствие и уверенность. Если бы она познакомилась с ним раньше, то знала бы, что Фредди в надежных руках.
Ева подумала, что надо бы приехать сюда как-нибудь еще, поговорить с Фредди наедине, когда она будет без этого грима, превращающего ее лицо в маску. Но самое главное, Ева убедилась в том, что Фредди в порядке. Может, ей удастся найти способ как-то успокоить и Поля. Но, даже если этого не случится, она сама уже наладила контакт с Фредди.
Ева старалась избегать чрезмерного проявления материнских чувств не только потому, что с момента ухода Фредди прошло уже три месяца, но и из-за присутствия Макгира, человека постороннего. Она не станет обсуждать семейные проблемы, пока они не останутся с Фредди вдвоем. Ева не задавала дочери вопросов о том, где та живет, кто ей готовит, как она справляется со стиркой и что собирается делать, когда закончится работа над фильмом. Она готова была просто сидеть вот так, как сейчас, испытывая смутное беспокойство, и наблюдать, как ее дочь излучает счастье. Фредди занималась любимым делом и, по словам Макгира, делала это блестяще. Возвращаясь домой, Ева подумала, что узнала сегодня больше чем достаточно.
Оставив Окснард, Ева мчалась на машине вдоль побережья, сосредоточенно глядя на дорогу. Она была под впечатлением встречи с дочерью. Ева постаралась не думать о Фредди, чтобы по дороге домой успеть прийти в себя. Ева не считала необходимым говорить Полю о том, где провела весь день. Она напевала старые, почти забытые мелодии и рассеянно думала о тех шансонье, что сделали их популярными. На какое-то время она снова почувствовала себя Мэдди. Она вспомнила Шевалье и один из его первых шлягеров «Я не могу жить без любви». «Je n'peux pas vivre sans amour», пела Мэдди, «J'en rêve la nuit et le jour».
Непрошеные воспоминания почти двадцатипятилетней давности ожили в памяти. Ева вдруг свернула на обочину и остановила машину так резко, что завизжали тормоза. Она неподвижно сидела в своем маленьком элегантном автомобиле. Ее сердце глухо стучало, щеки залил густой румянец, руки дрожали.
Господи, до чего же она глупа! Все так очевидно, как если бы они объявили об этом. Это было так же заметно, как помада на губах Фредди. Эти двое страстно любят друг друга. Любовники! Вне всякого сомнения. Это видно… в каждом взгляде, который они бросали друг на друга каждый раз, когда соприкасались их руки; сквозило в каждом слове. Как могла она не заметить такой явной страсти? Такой… глубокой. Неприкрытой. Несомненной. Неужели грим Фредди ввел ее в заблуждение? А может, она все еще видела в Фредди маленькую девочку? Между тем ее дочь уже отошла от нее далеко, вступила в ту жизнь, куда мать не могла за ней последовать. Поль, бедный Поль, ему никогда не оправиться от этого удара. Для него это конец.
Включив двигатель, Ева смиренно вздохнула. Как это произошло, не имело теперь никакого значения, а то, что будет дальше, не подвластно ни ей и никому на земле. Фредди чертовски счастлива. А она сама… понимала, что… чуть завидует ей. Ева могла признаться себе во всем, пока была одна… Она завидовала, вспоминая безумие первой страсти, которое испытываешь лишь раз в жизни… и даже… все еще находясь в оцепенении от того, что узнала, Ева завидовала тому, что Фредди любима таким интересным мужчиной. Необыкновенно привлекательным… со спокойным обаянием мужества и сильным мускулистым телом, таким… необыкновенно… чувственным… Ее дочь сделала хороший выбор.
«La grasse matinee»[14], — думала в полудреме Дельфина, нежась в постели, это не только французское изобретение, хотя это французское выражение точно определяло идею ленивого утра, такого всепоглощающего ничегонеделания. Оно помогало чувствовать себя так, словно она не потакает своим желаниям, а следует традиции. Так или иначе она заслужила la matinee grasse как никто другой, играя без передышки в фильме за фильмом. Она сказала служанке, что собирается провести это утро у себя в комнате и не хочет, чтобы ее беспокоили ни при каких обстоятельствах, даже если ей принесут корзину орхидей.
В этот день, десятого апреля 1938 года, шел дождь, но Дельфина, которая вот уже два года жила в Париже, привыкла к дождям, и они ее не трогали. Они никогда не угнетали ее потому, что не вызывали неудобств. Шофер доставлял ее туда, куда ей было нужно, в ее красивом сизо-сером лимузине; весь день она проводила в студии, где погода не имела значения; ее дом всегда был полон поднесенных ей цветов и, в отличие от многих французских домов, был теплым и уютным.
После ошеломляющего успеха в фильме «Майерлинг» Дельфина стала подыскивать себе жилье, а ее новый агент вел переговоры со студией «Гомон» о заключении более выгодного для нее контракта. В стороне от авеню Фош, в Шестнадцатом округе, самой богатой части на правом берегу, было несколько малоизвестных и совершенно очаровательных тупиковых улочек, носящих название «Виллы» и застроенных около 1850 года. Дома на этих, казалось, не похожих на французские, улицах скорее напоминали английские: маленькие, уютные, очень уединенные, с примыкающими к ним сзади небольшими садиками. Дельфина облюбовала себе дом на Вилла-Моцарт; он напоминал кукольный домик викторианской эпохи: кирпичный, побеленный известкой, с деревянными деталями, выкрашенными в бирюзовый цвет. Фасад дома оплела старая глициния, затенявшая окна, а в садике росли кусты розовой гортензии и плакучая ива. Солнце в погожие дни появлялось утром со стороны фасада, а после обеда — со стороны садика. На двух верхних этажах было две жилые комнаты и ванна, на первом — столовая, гостиная и кухня, под ней маленький, но хорошо оборудованный погреб. В доме сделали новую отопительную систему, купленную Дельфиной на первые заработанные деньги.
На месте Дельфины другая восемнадцатилетняя девушка, снискавшая известность после первого же фильма, потратила бы кучу денег на меха, драгоценности или машину, а может, ошеломленная славой, вообще не стала бы ничего тратить.
Дельфине же нужен был только надежный дом. Ее всегда опекали старшие, перед которыми приходилось отчитываться в своих поступках. Дом на Вилла-Моцарт внушал ей уверенность в том, что она сможет удовлетворять свои потребности тайно и ни от кого не завися. Здесь не было любопытной консьержки, как в многоквартирных французских домах, которая следит за гостями. На Вилла-Моцарт она не видела никого, кроме хлопотливого садовника и его жены — Луи и Клодин, — и жили они в начале улицы, в нескольких сотнях метров от дома Дельфины.
Когда Дельфина уведомляла их о том, что ждет гостей, они открывали ворота, как только слышали ее имя, и больше ни о чем не спрашивали. Она щедро и часто давала им чаевые, чтобы расположить их к себе.
Нанимая прислугу, Дельфина ставила условие, чтобы никто не жил в ее доме. Шофер, Робер, ее служанка, повар и горничная — все приходили рано утром и уходили, закончив работу. Они обходились ей дороже, чем если бы она предоставила им стол и квартиру, но это себя оправдывало. Прислуга была весьма довольна необременительной работой, и никто не позволял Дельфине заподозрить, что ее жизнь недостаточно скрыта от посторонних глаз.
Между собой они болтали о месье Нико Амбере и своей молодой хозяйке. Луи в восторге сообщил своей жене о том, что на прошлой неделе Амбер ночевал здесь пять раз и у него есть свой ключ от входной двери. Аннабел — прислуга, которой Клодин немедленно сообщила эту новость, едва та появилась у ворот, — шепотом поведала обо всем поварихе Элен. На место горничной Клодин пристроила свою сестру Виолет, а посему знала все подробности о спальне Дельфины и о том, часто ли и почему приходится менять простыни. «Судя по всему, этот Нико Амбер — страстное животное, — сообщила она им всем с завистливой усмешкой. — Его не так легко удовлетворить. Грубый, как портовый грузчик. Это же ясно. Ну что ж, молодой!»
Живя в своей крепости на Вилла-Моцарт, Дельфина была обо всем осведомлена не меньше, чем если бы жила на заднем дворе Гедды Хоппер. Однако, чтобы понять это, надо было стать настоящей парижанкой.
Роман с Нико Амбером продолжался шесть месяцев, до завершения съемок «Майерлинг», когда Дельфина подписала новый контракт. Ей пришлось сниматься с Клодом Дофеном в новом фильме «Любовное свидание».
Амбер кое-чему ее научил. И Дельфина, всего несколько часов назад выскользнувшая из его объятий, медленно прогуливалась по съемочной площадке, словно обдумывая следующую сцену, а на самом деле прикидывая, кто из мужчин, провожающих ее взглядами, проявляет признаки возбуждения. Время от времени она задерживалась возле одного из молодых ассистентов и, скользнув взглядом по брюкам, пыталась определить его возможности, пока он отвечал на вопрос по поводу его работы. Слушая его, она смотрела на его губы и, как только замечала, что его лицо вспыхнуло от желания, опять быстро опускала глаза, проверяя, насколько оттопырились его брюки. Отойдя от него с милой улыбкой, она представляла себе, как освободит от плена его плоть, завладеет ею и с радостью примет в свое лоно.
Но этого никогда не происходило. Она возбуждала вожделение у мужчин съемочной группы, воспламеняла их, но не давала им ни малейшего шанса. В Дельфине проявилась склонность к сексуальным наслаждениям. Она обожала блаженную головокружительную боль растущего напряжения, сводящего ее с ума, любила состояние мучительного желания, охватывавшего ее перед тем, как вспыхивали огни и начинала работать камера, а режиссер давал полную свободу ее чувствам. Вот тут и начинался оргазм, который она так тщательно сдерживала до поры до времени.
Дельфина бросила Амбера ради режиссера «Любовного свидания». Он очень неохотно вернул ей ключи от дома. Больше подобной ошибки она не допускала никогда. Начав следующий фильм, «Дела сердечные», она оказалась в объятиях продюсера, поскольку ее не заинтересовал режиссер. Актеры, слишком зацикленные на себе, не привлекали ее внимания. Чем неотразимей они выглядели, тем менее волновали ее. Их поцелуи перед камерой не шли ни в какое сравнение с реальностью умелых сильных рук электрика.
Страсть, запечатленная камерой в самых романтичных любовных сценах Дельфины, инспирировалась ее абсолютной уверенностью в том, что все члены съемочной группы, дай им только волю, накинутся на нее. А она, алчно думала Дельфина, нежась в постели, ничего не имела бы против. Отнюдь. Но это было исключено. Они непременно начали бы хвастать. Один промах, один неверный шаг — и все пропало. Связь звезды с режиссером, продюсером, композитором, дизайнером или сценаристом считалась в порядке вещей, но связаться с кем-то из рабочих — значило сильно рисковать, тут уж было не до грубой мужской силы.
Она не позволила себе намекнуть об этом даже Марджи. Ее любимая подруга приезжала к ней на Рождество, и до ее визита Дельфина думала о том, что доверит ей кое-какие тайны. Какую глупость она чуть не совершила, скорчив гримасу, подумала Дельфина. Марджи, потрясенная тем, что Дельфина стала кинозвездой, не могла вести себя с ней с прежней легкостью и свободой, как во времена их прежней дружбы, хотя отношение к ней Дельфины не изменилось.
Хуже того, Марджи, ровесница Дельфины, в свои двадцать лет все еще была девственницей, придерживаясь, как и в университете, правил «для хороших девочек». Марджи заканчивала последний курс и была помолвлена с врачом из Пасадены, обещающим перспективное будущее. Дельфине показалось, что Марджи серьезно обеспокоена предстоящей в июне торжественной свадебной церемонией. Заглянув два-три раза на студию, она призналась, что с большим удовольствием потратила бы время в Париже на то, чтобы заказать себе нижнее белье, купить перчатки, духи и скатерть ручной работы для обеденного стола. «Своего обеденного стола», — подумала Дельфина, не веря ушам. Да, Марджи Холл собиралась остепениться и стать через несколько месяцев пасаденской матроной. Наступит день в не столь отдаленном будущем, когда она обнаружит седую прядь в своих ярких кудрях и отнесется к этому спокойно. Там, в Пасадене, об этом не думают.
«Как же случилось, что их пути так разошлись?» — с удивлением думала Дельфина. Влюбленная Марджи казалась ей совершенно незнакомой. Полюбит ли когда-нибудь она сама? Дельфина надеялась, что нет. Любовь меняет людей, а она ничего не хотела менять в своей жизни. У нее с Марджи сейчас не больше общего, чем с теми людьми, которые стоят в очереди за билетами, чтобы посмотреть фильмы с ее участием. Их было семь после «Майерлинга», и каждый стал ее триумфом. Равной ей французы считали разве что Мишель Морган и Даниель Дарье. Именно из-за этих двух актрис она не поддалась соблазну принять предложения из Голливуда. Рейтинг фильмов с их участием и фильмов с ее участием был примерно одинаков. Они были старше, очаровательны и с такими же амбициями, как и у Дельфины. Если бы она уехала сейчас, в момент своего триумфа, в Калифорнию, одна из них наверняка заполучила бы роль, предназначенную для нее, Дельфины. Дельфина очень расстроилась, когда Морган пригласили на роль, о которой мечтала она, в фильме «Набережная туманов», где играл Габен. Эта картина Марселя Карне должна была вот-вот выйти на экраны. Все ее знакомые уже давно говорили о ней не иначе как о шедевре, что приводило ее в ярость.
Дельфина взяла номер «Фигаро», который Аннабел, подавая ей завтрак, положила на поднос, и открыла страницу, где было опубликовано интервью с Карне. Она уже помнила его почти наизусть. Дельфина ни разу не работала ни с Карне, ни с Габеном и не успокоится, пока не добьется своего.
С нарастающим раздражением она оторвалась от интервью и, стараясь не думать о нем, стала просматривать первую полосу. 99,7 % жителей Австрии проголосовали за гитлеровское «воссоединение» их страны с Германией. «Безумие какое-то», — лениво подумала она. Отто фон Габсбургу, прочла она, не разрешили принять участие в голосовании, а инкриминировали ему государственную измену за то, что он призывал великие европейские державы выступить против Германии. Ну, эти Габсбурги никогда не были добры к маленькой Мари Вечера, не так ли? Во Франции ушел в отставку Леон Блюм, а пришел Даладье. Кто может сказать, чем они отличаются друг от друга? Что это даст и кому интересно? Французские политики еще непонятнее, чем все остальные, но, поскольку все о них так много говорят, Дельфине необходимо в этом разобраться. Нельзя же выглядеть совсем уж аполитичной. Тунис охвачен волнением… Открылась новая перспектива путешествий воздушным транспортом — Уильям Боинг создал новый самолет «Боинг-314». Вот это стоящая новость. К услугам пассажиров бар… «Интересно, что сейчас делает Фредди?» — подумала Дельфина. Она смотрела «Неуправляемый штопор», но, как ни старалась, не разглядела свою сестру, хотя знала из писем матери, что Фредди участвует во многих фильмах. Но Фредди не была кинозвездой. Дельфина отшвырнула скучную газету. В Matinee grasse нет места газетам. Надо будет сказать Аннабел.
Сегодня она ужинает с Бруно, вспомнила Дельфина, и ее раздражение исчезло. Как замечательно, что у нее есть брат, которому можно доверять. Таких отношений, как с Бруно, у нее не было ни с одним мужчиной. Он не был заносчив, никогда не задавал вопросов, касающихся ее личной жизни, не осуждал ее и вел себя не так, словно обязан ее опекать. Вместе с тем она могла обратиться к нему за любым советом и всегда получала его. Он улавливал такие нюансы французской жизни, которые были ей недоступны: знал, какие предложения ей не следовало принимать ни при каких условиях; советовал, каким портным отдавать предпочтение, где заказывать почтовую бумагу, и объяснял, почему для ее карьеры важно присутствовать на Prix de L'Arc de Triomphe и Prix Diane, но никогда не следует появляться в Монте-Карло. Он заботился о том, чтобы не пустовал ее погреб; порекомендовал в Париже сапожника. Бруно настоял на том, чтобы она выбросила всю привезенную из Америки одежду, и выбрал для Дельфины машину, соответствующую ее положению. Дельфина считала благом то, что все — от ее агента до слуг и продюсеров — видели, как ей покровительствует брат, виконт де Сен-Фрейкур де Лансель. Подумать только, титул производил на французов ошеломляющее впечатление.
Дельфина тоже всегда выручала Бруно, если ему нужно было представить ее в роли хозяйки дома.
— Дорогая, — обычно говорил он по телефону, — не могла бы ты оказать мне огромную услугу — побыть хозяйкой за моим столом на следующей неделе? Ко мне придет один джентльмен преклонного возраста, и я хотел бы посадить его справа от тебя. Он располагает огромными деньгами, но до сих пор не решил, как ими распорядиться.
Дельфина надевала свое самое обольстительное вечернее платье и с удовольствием представала на ужине у Бруно в двух ролях: кинозвезды Дельфины де Лансель и мадемуазель де Лансель, наследницы старых аристократов из Шампани, которая неизменно прислушивается к советам брата. Взглянув невзначай на Бруно, она видела, что он в полном восторге от того, как она справляется со своей ролью. Бруно был великолепным партнером. Они единственные в своем роде, думала Дельфина, но самое ценное в Бруно то, что он разделяет ее взгляды на любовь. Это бесполезное, осложняющее жизнь чувство, говорил он, придумал кто-то с непомерно развитым воображением и только от нечего делать. Какой-нибудь никчемный трубадур.
Примерно через неделю после вечеринки, а иногда и раньше, она получала прелестную ювелирную вещицу от Картье с приложенной к ней запиской от Бруно, где сообщалось, что пожилой джентльмен уже решил, и очень разумно, куда поместить свой капитал. Как же забавно играть с Бруно в эти милые игры, размышляла Дельфина, при этом родственная связь сближала их интересы.
Когда-нибудь она, Бруно и Фредди унаследуют дом Ланселей. К счастью, Бруно прекрасно знал, что делать с виноградниками, ибо, конечно же, ни она, ни ее сестра не желали взваливать на себя эту обузу. Хотя… если подумать… Это должно быть забавно — иметь собственный замок. У Мишель Морган замка нет. Так же, как и у Даниель Дарье. И даже если бы одна из них купила замок, это совсем не то, что получить его в наследство. Все-таки Вальмон слишком скучен, чтобы о нем думать, решила Дельфина, поднимаясь с постели и потягиваясь. Она любила свой маленький домик и оставляла его лишь на время короткого отдыха между съемками, когда жила в апартаментах дорогой гостиницы на каком-нибудь модном курорте.
Позвонив служанке, она подумала, что праздное утро кончилось. Сегодня она впервые встречается с режиссером нового фильма «День и ночь» Арманом Садовски. Все, имеющие отношение к миру кино, только и говорили о нем и трех его первых фильмах. Называли его «блестящим», «трудным», «просто гением» и «невозможным». Интересно, как он выглядит, размышляла Дельфина, ожидая прихода Аннабел. Захочет ли она лечь с ним в постель? Хорош ли он в постели? Все эти вопросы она едва ли могла задать своему агенту.
Как правило, первая встреча Дельфины с новым режиссером проходила в каком-нибудь ресторане, выбранном ее агентом Жаном Абелем. Абелю нравилось контролировать ситуацию, насколько это возможно, а тот, кто выбирал ресторан, заказывал вино и за все расплачивался, безусловно владел ситуацией. Переговоры об участии Дельфины в фильме «День и ночь» давно завершились, и, конечно, в такой встрече не было необходимости. Контракт подписали обе стороны. И все же, во избежание недоразумений, Абель хотел обо всем договориться с Садовски. Режиссер был занят монтажом последнего фильма, поэтому не мог надолго оторваться от работы и прийти завтракать. Поэтому он назначил Дельфине встречу ближе к концу дня в своем кабинете в Бийанкуре. Абелю пришлось согласиться, ибо Садовски уже заканчивал работу над одним фильмом и после недельного перерыва собирался приступить к съемкам другого — с участием Дельфины. Абель решил, что заедет за Дельфиной и проводит ее на эту встречу, которая без угощения и вина скорее походила на чисто деловое свидание. Но Дельфина сказала, что ей это неудобно. Лучше уж она поедет туда на своей машине, так как потом ей предстоит примерка белья у портнихи, а Абель может встретить ее в Бийанкуре.
Дельфина тщательно готовилась к встрече с Садовски. В его фильме ей предстояло сыграть роль богатой ветреной девушки, подозреваемой в убийстве, которая влюбляется в инспектора полиции. Она знала, что идея костюмов, созданных Пьером Гуларом, была заимствована у Чапарелли — навеяна его коллекцией, сюрреалистической, часто откровенно бредовой. Навеяна? Честнее сказать, скопирована, подумала она. Его кричащие костюмы уместны для ее героини, но не для первой встречи с новым режиссером. Дельфина в совершенстве овладела искусством одеваться неброско. Чем популярней она становилась, тем больше убеждалась в том, что скромная одежда — сильное оружие во многих отношениях. В представлении публики любая кинозвезда должна роскошно одеваться. Но это уж слишком просто, слишком ортодоксально. Может, ортодоксальность еще и допустима, но ни в коем случае не нарочитость. Кинозвезда в модном платье от Жана Пату, в экстравагантной шляпке, с чернобуркой, перекинутой через руку, — нет, никогда! Вероятно, это годится для встречи с публикой, но не для начала непредсказуемого поединка, в котором ей, может, придется использовать другое оружие. Зачем же сразу настораживать режиссера? Да и вообще, не исключено, что он вызовет у нее отвращение. Так тоже бывает.
Она выбрала простой свитер из тонкой шерсти того редкого тона, который оттенял матовую белизну ее кожи еще лучше, чем черный цвет. Со свитером удачно сочеталась простая, безукоризненно сшитая юбка из серого твида на тон темнее свитера. Она надела светлые серые шелковые чулки, черные кожаные лодочки на низком каблуке и английский плащ с поясом классического покроя. Ансамбль дополнили маленькие сережки из черного янтаря и небольшой черный бархатный берет, какие носят студентки. Она могла остаться незамеченной, если бы никто не обращал внимания на ее лицо, лицо одной из красивейших в мире женщин, бесстрастно подумала Дельфина. Она не была тщеславной. В ее профессии наружность воспринималась как нечто само собой разумеющееся, обязательное. Гранильщик алмазов где-нибудь в Амстердаме не так придирчиво оценивал драгоценный камень, как Дельфина форму своего носа, рисунок верхней губы, тени под скулами. Удовлетворенная, она потуже затянула пояс плаща и надвинула берет на лоб, чтобы скрыть характерный треугольник волос, делавший ее легко узнаваемой.
Приехав в студию, она направилась прямо в павильон. Абель должен был ждать ее на стоянке, но, видимо, задержался: из-за дождя повсюду были пробки. Она прошла мимо нескольких знакомых, но никто из них ее не узнавал, пока она не начинала пристально смотреть на них. В этом плаще она действительно походит на всех, с удовлетворением подумала Дельфина. Боже мой, как приятно снова ощутить атмосферу студии! Она уже две недели не работала — после того, как закончились съемки последнего фильма. Ей нужно было успеть позаботиться о деталях ее тщательно продуманного гардероба, а на это не оставалось ни минуты во время съемок. Эти две недели она чувствовала себя так, будто попала в слишком специфическое женское общество, легкомысленное, болтливое и возбужденное, где на уме у всех только одно. Сейчас, слава Богу, она снова среди мужчин. Около двери павильона Дельфина помедлила. В нос ударил характерный металлический запах остывающих ламп. Электрики, реквизиторы и рабочие-постановщики разбирали декорации. Учащенно дыша, она наблюдала за тем, с какой нечеловеческой силой они поднимали их, толкали и тянули, выполняя свою работу. Не обращая на нее никакого внимания, они громко перекликались, торопясь поскорее закончить все и уйти домой. Дельфина попятилась, чтобы ее не задели огромным щитом, который выносили из павильона. Вдруг она почувствовала сильный удар в левое плечо. Один из проходящих мимо мужчин, сильно жестикулируя, больно ударил ее, даже не заметив этого.
— Эй! Больно! — вскрикнула она от неожиданности, но он не остановился, а лишь пройдя несколько метров, обернулся и строго погрозил ей пальцем.
— Извините, но вы тоже хороши! Нашли где рот разевать! — крикнул он и тут же отвернулся, продолжая прерванный разговор.
— Чтоб тебе пусто было! — громко сказала Дельфина по-английски и сердито посмотрела по сторонам, ища, кому бы пожаловаться на такую грубость. Но коридор был уже пуст. То, что Абель так опаздывал, непростительно, думала она теперь, не получая уже удовольствия от того, что ей удалось стать незаметной. Направившись дальше по коридору, она нашла наконец монтажную, бесцеремонно толкнула дверь и резко сказала секретарше:
— Мне нужен месье Садовски.
— Его нельзя сейчас беспокоить. Вы по какому вопросу?
— Он меня ждет, — раздраженно заметила Дельфина.
— Как вас представить?
— Мадемуазель де Лансель, — холодно ответила Дельфина.
Секретарша захлопала глазами.
— Прошу прощения, мадемуазель, я вас не узнала. Сейчас же доложу ему. Не будете ли вы любезны присесть?
— Нет, спасибо.
Дельфина стояла, нетерпеливо постукивая ногой. Она не станет сидеть здесь и ждать, когда Садовски соблаговолит принять ее. Ее должны были немедленно проводить к нему. И об этом следовало позаботиться Абелю, черт возьми.
— Месье Садовски, к вам мадемуазель де Лансель, — сказала секретарша, сняв трубку. — Да, понимаю. — Она повернулась к Дельфине. — Он примет вас, как только закончится совещание, мадемуазель.
Дельфина возмущенно уставилась на нее, потом взглянула на часы. Она опоздала, а если бы пришла вовремя, они заставили бы ее ждать не меньше десяти минут. Подумав, что выглядит глупо, как проситель, она присела на неудобный стул, поглядывая на дверь: не появится ли извиняющийся Абель. Еще пять минут прошли в полном молчании. Секретарша читала журнал. Дельфина встала. Она не намерена больше ждать ни секунды. Это выходит за рамки приличия. Вдруг дверь кабинета распахнулась, оттуда вышла группа мужчин, что-то бурно обсуждая. Они не удостоили ее и взглядом.
— Он ждет вас, мадемуазель, — сказала секретарша.
— Да ну! — ядовито откликнулась Дельфина.
Смущенная секретарша проводила ее в небольшой кабинет и исчезла, прикрыв за собой дверь. В комнате, спиной к Дельфине и лицом к окну, сидел мужчина и просматривал на свет длинную пленку. Подходя к его столу, она услышала, как он громко и виртуозно выругался. Это был тот самый человек, который толкнул ее в коридоре. Дельфина нетерпеливо ждала, когда он повернется. Он остолбенеет, увидев, как грубо обошелся с героиней своего фильма. Дельфина торжествовала, почувствовав себя в явном выигрыше.
Продолжая смотреть пленку, он небрежно бросил через плечо:
— Дельфина, детка, садись. Еще минуту. Хорошо, что я не зашиб тебя в коридоре. Будь осторожнее. Я могу ударить женщину только намеренно… — Внимательно глядя на пленку, он замолчал. — Дьявол! Будь проклят этот оператор! Кретин! Неандерталец! Я выпущу из него кишки, когда он попадется мне на глаза. Нет, то, что он сделал, просто невозможно. С этим, конечно, ничего нельзя сделать. Придется переснимать всю сцену, а значит, потратить на это весь уик-энд. Черт!
Он отложил в сторону пленку, повернулся на стуле и неожиданно улыбнулся. Привстав, он наклонился вперед и протянул через стол руку.
— Отвратительное ремесло, правда, детка?
Дельфина с удивлением заметила, что Садовски очень высок. Его густые, прямые, черные волосы нелепой длины были взъерошены. Он был молод, от силы лет двадцати пяти, и напоминал хищную птицу глазами, носом и такой неукротимой энергией, с какой Садовски лучше было не сидеть за письменным столом, а сражаться на дуэли. Он снял большие очки в роговой оправе, положил их на стол и потер переносицу.
— Абеля еще нет? Неважно, мне он и не нужен, это его желание.
Он говорил быстро, но авторитетно. Дельфина онемела. Режиссер фамильярно обращался к ней на «ты» и по имени. Такое случалось только при близком знакомстве. Черт побери, кем он себя вообразил?
Откинувшись назад и приставив ладони к глазам так, что его лицо оказалось в тени, Садовски молча смотрел на нее. Казалось, будто он сидел в комнате один перед картиной, которую приобрел по глупости и даже не знал, нравится ли она ему.
— Снимай берет и плащ, — наконец сказал он.
— Не хочу, — высокомерно ответила Дельфина.
— Тебе холодно?
— Конечно нет.
— Ну так сними берет и плащ, — нетерпеливо сказал он. — Увидим, что ты такое.
— Вы что, не видели моих фильмов? — спросила она, умышленно подчеркнув официальное «вы», но он этого не заметил.
— Конечно, видел, иначе я тебя не пригласил бы. Я хочу посмотреть на тебя сам, а не глазами других режиссеров. Давай, детка, поторопись. У меня не так много времени.
Продолжая сидеть, Дельфина сняла берет и сбросила с плеч плащ. Его глаза широко раскрылись от восхищения, но взгляд оставался недоброжелательным. Он вздохнул. Она безучастно ждала.
— Встань и повернись, — грубо потребовал он. Без очков его глаза оказались черными, с большой радужной оболочкой и крошечными зрачками, как у гипнотизера.
— Как вы смеете? Я вам не какая-нибудь хористка!
— А ты ждала, что я буду умолять, стоя на коленях? — Он посмотрел ей в лицо. — Что-то вроде этого? Ах! Актриса! Забудь об этом, детка, ты не туда пришла. Я здесь делаю фильмы, а не произношу сладкие речи. Ты без лифчика?
— Я никогда их не ношу, — солгала Дельфина.
— Это решать буду я.
Он сделал жест, чтобы она встала. Дельфина насмешливо наклонила голову и решила встать, полагая, что ее красота укротит его. Она поворачивалась медленно, чтобы дать ему время устыдиться. Повернувшись снова к нему лицом, она постаралась ничем не выдать своего торжества. Подперев рукой подбородок, он покачал головой.
— Не знаю. Просто не знаю… Может быть, да, а может, и нет… Но попробовать стоит, я полагаю.
— О чем вы говорите?
— Об этом твоем маскараде, всей этой муре с костюмом школьницы, юбочке и свитере в духе Ширли Темпл. Это может сработать. Может, это и не так глупо, как кажется. Может, в этом что-то есть… Сделаем костюм и грим Хлои и все выясним.
— Простите?
Он щелкнул пальцами.
— Проснись, Дельфина. Я говорю о Хлое, героине, которую тебе предстоит играть, богатой стерве. Разве мы не за этим встретились? Очевидно, ты поняла, что Хлоя решила одеться неприметно, чтобы сбить с толку полицейского инспектора после убийства. Это идея! Остроумная. Ребячливая, признаюсь, и, конечно, очевидная для любого, у кого есть мозги, но остроумная. В этой одежде ты выглядишь почти невинной. Мне нравятся актрисы с творческим отношением к работе. Не чрезмерным, разумеется. Не слишком увлекайся, милая.
— Я…
— Ну и прекрасно. Договорились. Можешь идти.
Он повернулся вместе со стулом и снова принялся за пленку. Она увидела его спину.
— Вам надо подстричься, — пролепетала Дельфина.
— Знаю. Мне уже говорили. Это подождет, пока я не переделаю эту проклятую сырую сцену. Если тебя это беспокоит, можешь принести с собой ножницы и подстричь меня. Я буду только рад.
— Паразит! — выругалась Дельфина по-английски.
Повернувшись, Садовски посмотрел на нее с неподдельным удовольствием.
— Правильно! Здорово! Я и забыл, что ты американка. У меня в Питсбурге двоюродные братья и сестры. Ты, кажется, оттуда? «Паразит»! По-французски так замечательно не скажешь, правда? — Он кивнул в сторону двери. — Увидимся в понедельник. С утра. Пораньше. А когда я говорю «пораньше», я имею в виду именно пораньше, детка. Не проспи. Я тебя честно предупреждаю. Раз и навсегда.
— А если я вдруг просплю? — спросила Дельфина, задыхаясь от ярости.
— Не беспокойся. Не проспишь. Ты ведь не станешь добавлять мне проблем, детка, поскольку знаешь, что этот номер не пройдет. Правда? Ну, а теперь уходи. Разве ты не видишь, я занят?
14
Фредди проверила, хорошо ли застегнут шлем. Темные кудри парика, делающего ее двойником Бренды Маршалл, развевались вокруг лица, щекотали нос и попадали в глаза. Она сидела за рычагами управления в модифицированной открытой кабине маленького старого «Джи Би». После двух лет работы пилотом, выполняющим фигуры высшего пилотажа в кино, она прекрасно знала: убеждать костюмеров в том, что ни одна женщина-пилот не станет летать с выбивающимися из-под шлема и соблазнительно падающими на плечи волосами, бесполезно. Однако, по мнению Фредди, воровка драгоценностей с каменным сердцем и стальными нервами, всегда готовая улизнуть в самолете с места преступления, — героиня ее фильма «Рискующая леди» — могла сделать все, даже пилотировать, сидя в ночной рубашке. Именно это и пришлось делать Фредди всего неделю назад. Фредди проверила высоту. Ровно тысяча двести метров, как она и наметила. Она сняла руки с рычагов. Самолет был сбалансирован; здесь, наверху, сегодня, 10 августа 1938 года, не было никакой турбулентности, поэтому самолет летел прямо и ровно и мог лететь так еще очень долго. Во внутренний клапан рукава ее куртки было вшито зеркальце, которым Фредди и воспользовалась, чтобы проверить, не надо ли подкрасить губы. Они оказались такими же яркими, как час назад, когда ее гримировали. Приготовившись начать, Фредди поискала глазами самолеты операторов. Их было четыре: один рядом, слева от нее, три ниже, на разной высоте. Это давало гарантию, что ее прыжок с парашютом будет заснят. Фредди покачала крыльями: это означало, что она готова к старту и видит каждый из четырех самолетов. Этот трюк был не из тех, что можно переснять.
Самолеты операторов дружно просигналили, что все в порядке, камеры включены.
— Ну, Бренда, пора! — воскликнула Фредди, изобразив на лице сначала тревогу, а потом решимость. Схватив бутафорский бархатный мешочек с драгоценностями, она запихнула его в куртку, застегнула молнию и переместилась вместе с парашютом к борту самолета. — Пока, мальчики и девочки, это все пустяки! — выкрикнула Фредди, считавшая эту фразу такой же фальшивой, как и весь сценарий.
Она видела, что камера в самолете, летящем рядом, нацелена на ее губы: слова, которые она только что произнесла, потом озвучит Бренда Маршалл. Фредди нажала ярко-красную кнопку, расположенную сбоку в пилотской кабине. Через пятнадцать секунд динамит разнесет кабину, но к этому времени она благополучно из нее выберется и будет недосягаема для разлетающихся осколков. Едва коснувшись кнопки, Фредди прыгнула вниз. Она рассчитала все так, чтобы ей не помешал ветер, и свободно парила в воздухе. На счет десять она раскроет парашют.
— Раз… два… три… — сказала она и потянулась за вытяжным тросом. И тут прямо над ней, на двенадцать секунд раньше положенного и слишком близко, взорвался самолет. Взрывная волна оглушила Фредди, и она потеряла сознание. Ее тело летело вниз вместе с обломками самолета. Всего в метре от нее пронесся тяжелый двигатель; горящее крыло — в нескольких сантиметрах. Безжизненное тело, облаченное в летный костюм, устремилось к земле.
Фредди не знала, сколько времени падает, когда сознание вернулось к ней. Инстинктивно она рванула кольцо вытяжного троса. Через считанные секунды падение замедлилось: над ней раскрылся огромный белый шелковый купол. Еще не совсем придя в себя, она с облегчением подумала, что, к счастью, не охвачена пламенем. Струи бензина не коснулись ее. Качаясь из стороны в сторону, Фредди смотрела вокруг. Она опасалась, что обломки могут задеть ее, но они летели в некотором отдалении. Три самолета с операторами придерживались заданного курса.
«На сей раз они получат больше того, что им обещали», — подумала Фредди и посмотрела на купол парашюта, который так быстро раскрылся. Капли горящего бензина пожирали поверхность парашюта, спасающего ей жизнь. Фредди посмотрела вниз, на землю. Ей лететь еще метров шестьсот, прикинула она. За это время парашют сгорит. Воздух, наполнявший купол, раздувал пламя. Если даже парашют не сгорит полностью, от него останется так мало, что он уже не замедлит ее падения.
Открыть парашют легко, вот закрыть его в воздухе — чертовски трудно, трезво рассудила она, пытаясь натянуть стропы парашюта, и изо всех сил вцепилась в них в надежде уцелеть. Она собирала стропы вместе, мешая воздуху наполнять купол, и падала все быстрее и быстрее. Теперь лишь вздутие в верхней части шелкового зонтика, где еще оставался воздух, сдерживало стремительность ее падения. Фредди боялась взглянуть вверх и проверить, горит ли еще парашют. Она сосредоточилась на том, чтобы вовремя освободить стропы и заставить парашют раскрыться поближе к земле, пока он не сгорит дотла.
— Пора! — закричала она, увидев площадку, на которой суетились операторы. Она заметила, что Мак побежал туда, где она должна была приземлиться. Фредди разжала руки, выпуская натянутые стропы. Шелк начал резкими толчками вздыматься кверху, но земля приближалась все-таки слишком быстро. Фредди тяжело упала на землю, сломав левую руку и правое колено. И тут, все еще продолжая тушить здоровой рукой купол, чтобы ее не тащило по земле, Фредди потеряла сознание. Очнувшись, она увидела навалившегося на нее Мака и продолжающие работать камеры. Последнее, что она услышала, был голос режиссера: «Продолжайте, продолжайте, мы впишем это в сценарий».
— Обещаешь, что мыло не попадет мне в глаза? — с тревогой в голосе спросила Фредди.
Мак, голый по пояс, стоял на коленях на полу в ванной. Колено и рука все еще были в гипсе, и ее предупредили не мочить повязки, когда она несколько дней назад вышла из госпиталя. Мак решил, что сможет вымыть ей голову, если она встанет, облокотившись на ванну, и наклонит голову вперед.
— Как оно может попасть тебе в глаза?
— Случайно… Это вообще непонятно… Как осторожно ни мой голову, мыло обязательно попадет в глаза. Я ужасно этого боюсь, — ответила она.
— Ты прыгаешь с парашютом и боишься, что в глаза попадет мыло?
— Ты начинаешь меня понимать.
— Наклони голову, зажмурься и ничего не бойся.
— Подожди! — закричала она. — Самый опасный момент не когда намыливаешь, а когда споласкиваешь. Как ты собираешься это делать?
— Возьму кастрюлю с водой и полью тебе на голову. Господи!
— Возьми лучше кувшин с носиком. Кастрюля… Только мужчина может поливать из кастрюли.
— А как насчет лейки? Еще удобнее: каплю туда, каплю сюда…
— Здорово, но… слишком долго. Кувшин подойдет.
— Стой так, Фредди. Я сейчас.
Мак помчался вниз, на кухню, за кувшином. Он пытался не суетиться вокруг нее, как наседка, но это ему не удавалось. Счастливый оттого, что она уцелела, он готов был мыть ее волосы любым способом, лишь бы она позволила. Тяжелый гипс лежал у нее на ноге и руке, но сильная Фредди все же пыталась прыгать, хотя Мак боялся, что она упадет и сломает что-нибудь еще. Его бесценная девочка такая отважная, мужественная, такая стойкая — даже слишком, подумал он, мчась по лестнице наверх и перепрыгивая через три ступеньки.
Вымыв Фредди голову, Мак схватил ее, не обращая внимания на протесты, принес в спальню, положил на кровать и стал сушить ей волосы полотенцем. Хорошо, что она подстригла их покороче, когда начала работать в кино: ей часто приходилось надевать парик, и так было удобнее. Несмотря на это, все равно было трудно управляться с копной спутанных волос. Слегка подсушив волосы, он начал их расчесывать, разбирая прядь за прядью. Она смотрела на него большими задумчивыми зами, полуребенок, полуженщина — ангел Леонардо да Винчи в сцене Благовещения, подумал он.
— Где ты этому научился? — спросила Фредди.
— В детстве у меня был огромный, лохматый, вонючий пес.
— Ты никогда мне не рассказывал, — заметила она.
— Он удрал.
— Это самая печальная история из тех, которые я когда-либо слышала, — выпалила Фредди и залилась горючими слезами.
История была чистой выдумкой, и ошеломленный Мак попытался успокоить Фредди, но чем сильнее он прижимал ее к себе, тем безутешнее она плакала. Постепенно она стала успокаиваться, лишь изредка всхлипывая и приговаривая: «Бедная собачка». Потом затихла, шмыгая носом.
— Что с тобой? — спросил он, когда она успокоилась.
— Сама не знаю, — глухо ответила Фредди, уткнувшись ему в плечо.
— Думаю, это запоздалая реакция на то, что случилось.
Она села и, улыбнувшись ему, как прежде, покачала головой.
— Нет, это не то. Я поняла из-за чего все случилось, — уверенно сказала она, пытаясь убедить Мака. — Специалисты, закладывая динамит, неправильно рассчитали длину запала, хотя никогда в этом не признаются. Это единственная причина. Все остальное было сделано безукоризненно.
— Понимать, Фредди, это одно, а почувствовать, осознать, что это произошло с тобой — совсем другое. Ты испытала шок, хотя и не признаешься в этом.
— Я и не говорю, что шока не было. И к тому же, пропал мой лучший парашют. Но я уже и раньше бывала в авариях и кости ломала, — хорохорясь, заявила она.
— Таких аварий еще не было, — мрачно заметил Мак. — Фредди, когда ты перестанешь заниматься высшим пилотажем?
— А когда ты на мне женишься?
Оба умолкли. С тех пор как полгода назад Фредди стукнуло восемнадцать, она задавала этот вопрос несколько раз, но всегда с юмором, что позволяло Маку, подняв бровь, сделать вид, что он относится к этому, как к одной их ее дерзких шуточек, и не отвечать. Теперь вопрос прозвучал так, что требовал прямого ответа. Мак страшился этого момента, который казался неизбежным и приближался с каждым месяцем. Помедлив немного, Мак покачал головой.
— Фредди, послушай…
— Мне не нравятся ответы, которые начинаются так. Когда, Мак?
— Фредди, дорогая, я…
— Посмотри на меня. Когда, Мак, когда?
— Я не могу, — с трудом проговорил он. — Не могу.
— Ты же не женат. Почему же ты не можешь? Можешь. Это проще простого. Мы могли бы хоть сегодня полететь в Вегас и немедленно пожениться. Ты просто не хочешь, да?
— Не хочу. Это было бы нечестно, Фредди, и непростительно. Тебе всего восемнадцать, а мне сорок два. Мы принадлежим к разным поколениям. Я слишком стар для тебя!
— Ты прекрасно знаешь, что для меня это не имеет никакого значения! — горячо воскликнула она. — Я никого никогда не любила, кроме тебя, и не выйду замуж ни за кого, кроме тебя. Клянусь! Никогда! Сколько бы лет тебе ни было, ты никогда не избавишься от меня, Мак. Я буду рядом с тобой, когда тебе будет сто, а мне перевалит за восемьдесят. Чем старше мы будем, тем незаметнее станет эта разница.
— Фредди, ты начиталась глупых книжек, это чушь. Эта разница останется навсегда. Ты еще ребенок, перед тобой вся жизнь, а я уже прожил лучшую часть жизни. Такова реальность.
— Это нечестно! — убежденно сказала она.
— Черт возьми, думаешь, я не знаю этого?! С моей стороны было нечестно заниматься с тобой любовью с самого начала, потому что, если бы я пресек все тогда, ничего бы не случилось. Я каждый день проклинаю себя за эту слабость. Но я не мог справиться с этим, потому что слишком давно люблю тебя. Я ни в чем не мог отказать тебе и до сих пор не могу… ни в чем, кроме этого. Я не женюсь на тебе, Фредди. Это было бы неправильно.
— Ничего удивительного, что от тебя сбежала собака, — беззаботно заметила Фредди. — Вообще-то я и не собиралась выходить сейчас замуж, просто хотела, чтобы ты вел себя порядочно, но ты такой добродетельный старикашка, что я передумала.
— Я знал, что ты одумаешься, — поспешно согласился Мак. Неужели она считает, что он не видит ее насквозь после всех этих лет? Неужели он поверит в то, что Фредди, никогда не отступавшая от задуманного, вдруг передумала? — Хочешь, я оботру тебя мокрой губкой?
— Не-а. Я еще чистая после вчерашнего. Не веришь — проверь. Давай, я не обижусь.
— Дельфина задала мне сегодня утром очень странный вопрос, — сообщила Аннет де Лансель мужу и замолчала.
Виконт Жан-Люк де Лансель вздохнул с покорностью, выработанной долгими годами супружества. Он знал, что любой странный вопрос Дельфины ему придется выслушать подробно, с размышлениями и комментариями о природе человеческого поведения, столь же обязательными, как разъяснение каждого слова в длинном средневековом манускрипте. Но получит он эту информацию не раньше, чем начнет с энтузиазмом выведывать все у жены. Он настроился на нужную волну, подкрепившись на ночь стаканчиком охлажденного шампанского, столь необходимого в невероятно жаркую августовскую ночь 1938-го. На этот раз ему все удалось значительно быстрее, чем обычно.
— Она хотела узнать, теоретически, конечно, нет ли какого-нибудь верного способа разлюбить, — многозначительно сказала Аннет де Лансель, заинтригованная и обеспокоенная.
— И что ты ей сказала? — спросил он, удивляясь тому, что его это заинтересовало.
— Жан-Люк, ты не понял главного. Совершенно очевидно, что, если она хочет разлюбить, значит, влюблена в кого-то неподходящего. И, видимо, без ума, поскольку просит совета у меня. Такая независимая девушка, как Дельфина, не стала бы обращаться за советом к бабушке ни при каких обстоятельствах.
— Никогда бы не подумал, что она способна влюбиться, — изумился Жан-Люк.
— Жан-Люк! — возмущенно воскликнула Аннет.
— Никогда не встречал девушки, менее способной на чувство, а тем более неразделенное. Когда она приехала, мне показалось, что она выглядит подавленной. Я подумал, что, может быть, это как-то связано с ее театральной карьерой.
— Не театр, дорогой, а кино.
— Это одно и то же. Я все жду, когда ты скажешь, что ей посоветовала.
— Я сказала, что если какая-нибудь девушка, теоретически, конечно, влюблена, но хочет избавиться от этого чувства, ей следует представить себе, что объект ее любви наделен самыми отвратительными привычками и она узнает о них только тогда, когда будет уже слишком поздно. Она ответила, что это хорошая идея, но я уверена, она не воспользуется ею. А я, между прочим, думаю, что это и впрямь не такая уж плохая идея. А как тебе кажется? Она поблагодарила меня мило и печально, как ей свойственно, взяла машину бедняжки Гийома и поехала покататься.
— Гм-м… — Жан-Люк взял Аннет за руку. Их старший сын умер от рака всего три месяца назад. Его не оплакивали жена и дети, которых у него никогда не было, но по нему тосковали родители. Все, кто работал на виноградниках, уважали его, хотя и не слишком любили. — Не беспокойся, дорогая, — сказал он. — В таком возрасте любовь еще не так опасна. Дельфина справится с этим, как бы там ни было.
— Ей двадцать, а не четырнадцать, Жан-Люк. Этого уже достаточно для… чего угодно… всего. Как же мне не беспокоиться?
— Только не вздумай вмешиваться, Аннет. Заклинаю тебя. Когда в прошлый раз ты надумала решить ее проблемы, мы устроили ужин, и смотри, что из этого получилось, — предостерегающе сказал он и приготовился взгромоздиться на старую высокую кровать, служившую им почти шестьдесят лет.
Дельфина сидела в своей комнате у окна, смотрела на полную августовскую луну и кляла себя почем зря. Надо же было такому случиться! Это шло вразрез с ее твердыми представлениями о том, как прожить жизнь, получая от нее максимальное удовольствие, сводило на нет все ее усилия, благодаря которым она научилась властвовать над мужчинами, обесценивало опыт, приобретенный еще в университете. Но настоящую житейскую мудрость она приобрела в Париже под руководством Бруно. Это разрушало ее представления о своем теле и о том, как удовлетворять его потребности с помощью полдюжины любовников. Это шло вразрез с ее волей, которая казалась ей несгибаемой. Хуже всего то, что это подавляло самый сильный ее инстинкт — инстинкт самосохранения.
«Ты не можешь влюбиться в такого человека, как Арман Садовски!» Она колотила кулаками по подоконнику, пока ей не стало больно. «Тебе не нравится Арман Садовски!» Но она влюбилась! Но он ей слишком нравился!
Когда же произошла эта нелепица? Может, это случилось в первые недели съемок, когда Дельфина поняла, что он сумел максимально раскрыть ее способности, а ее игра оказалась вовсе не следствием необузданной сексуальности, как она считала с момента первой пробы в «Майерлинге» с Нико Амбером? А может, это просто осознание того, что она действительно актриса, а не самовлюбленная девчонка, которую возбуждала съемочная группа, свет и камера? Может, все связано с ее внутренним состоянием?
С первого дня их совместной работы Дельфина забыла о существовании съемочной группы. Все нужны были здесь лишь для того, чтобы выполнять распоряжения режиссера. Лампы предназначались только для того, чтобы обеспечивать освещение, камеры — чтобы фиксировать действие. Ни один мужчина не дотронулся до нее с начала съемок нового фильма.
Да, наверное, ее чувства чисто профессиональные; совершенно естественно восхищение человеком, который может дать то, что не удалось никому другому. Что-то вроде благодарности Галатеи Пигмалиону? Никто и никогда не называл это чувство любовью. «Перенос чувства». Так говорили об этом другие актеры. Все знали, что каждый всегда немного влюблен в своего режиссера. Все режиссеры по-своему привлекательны, иначе они не стали бы режиссерами. Это входило в искусство создания фильма. Немного влюбиться, думала она, только немного. И это нормально. Но будь она немного влюблена, это прошло бы после того, как фильм отсняли, что было пару месяцев назад, в июне. Сейчас у нее уже был бы любовник, если бы она тогда была лишь немного влюблена и успела исцелиться.
Вероятно, ее чувства подогревались еще и тем, что она прекрасно понимала, что произвела на Армана Садовски, в отличие от других мужчин, не особенно сильное впечатление. Пожалуй, это не совсем точно, мысленно поправила себя Дельфина. Не произвела вообще никакого впечатления. А может, это в природе таких, как она, привыкших вызывать восхищение, мазохистски увлечься тем, кого, говоря языком Марджи Холл, трудно расшевелить? Невозможно расшевелить? Очень может быть. Если бы только Дельфина заметила хорошо знакомые признаки того, что он увлечен ею, скорее всего, любовь исчезла бы бесследно. Так ли? У нее не было возможности это проверить. Дельфина представила себе на минуту, что Арман Садовски проявляет к ней романтический интерес, и ее голова закружилась так, будто луна закачалась в небе, как бумажный змей на веревочке в ветреный день.
Нет, все началось в какой-то момент во время съемок, и это результат его умелого манипулирования, решила она, поспешно отведя взгляд от луны. Как же его еще назвать, как не умелым манипулятором? Он прекрасно знал, на каких струнах играть, какие слова произносить и как подчинять себе людей. Она наблюдала, как он ведет себя с другими членами съемочной группы. То кнутом, то пряником он энергично добивался от каждого всего, что хотел.
Но почему же тогда другие актрисы, занятые в фильме, не влюбились в него? Она специально подолгу болтала с ними, удивляя их своим дружеским расположением. Они охотно говорили о Садовски. Он вызывал их интерес, но только как режиссер, ни больше ни меньше. Они были абсолютно уверены в том, что он не женат, знали, что у него нет постоянной подруги, что его семья приехала из Польши много лет назад, и думали, что он еврей, но с этими поляками никогда ничего не известно! Он не давал никаких поводов для сплетен, не проявлял особого внимания ни к одной из них, поэтому их интерес этим исчерпывался. К неудовольствию Дельфины, они отправлялись по своим делам. Возможно, еврей, возможно, неженатый, точно, что польского происхождения. Что тут еще пережевывать?
Постарайся хоть раз в жизни быть честной с собой, строго сказала себе Дельфина. Это началось, когда он, сняв очки, посмотрел на тебя. Этого было достаточно, чтобы ты влюбилась в него. Повернулся вместе со своим креслом и взглянул на тебя. Тряпка! Жалкая тряпка, вот кто ты. И что же ты теперь собираешься делать?
Гипс с руки и колена Фредди к концу августа был снят. Стало ясно, что скоро она полностью восстановит свои силы. Фредди наняла тренера из группы акробатов, и он каждый день занимался с ней, показывая различные приемы эквилибристики, которые могли ей пригодиться. Теперь, когда она не боялась упасть, Мак мог оставлять ее дома одну. Он вернулся к своим многочисленным обязанностям: давал уроки пилотирования и выполнял двойную работу для студии «Юниверсал», предоставляя для съемок самолеты устаревших моделей и руководя воздушными съемками субботнего сериала «Знаменитый ас», навеянного приключениями Эдди Рикенбейкера.
К концу сентября 1938 года Фредди могла уже снова летать на своем самолете, экстравагантном скоростном «Райдере», который она купила, как только заработала большие деньги. Она не устояла перед красивой машиной. Это был первый самолет обтекаемой формы с двигателем фирмы «Пратт и Уитни» мощностью в четыреста пятьдесят лошадиных сил. У этого белого самолета убирались шасси. Обзор из открытой кабины был таким, какого Фредди не помнила ни в одном из самолетов, на которых ей приходилось летать. На своем самолете она завоевала первую награду на международных соревнованиях по высшему пилотажу в Сан-Луисе в мае 1937 года. Она участвовала в соревнованиях на скорость по маршруту Истрия — Дамаск — Париж в августе 1937 года и заняла третье место из-за неожиданного шторма над Альпами. В ноябре 1937 года она перелетела из Ванкувера в Агуа-Калиенте в Мексике за пять часов восемь минут, отстав на четырнадцать минут от Фрэнка Фуллера. Результат был неплохим, но для победы ей не хватило пятнадцати минут. Тем не менее она получила награду, заняв второе место, а в начале 1938 года завоевала несколько наград на местных скоростных соревнованиях, заняв первые места. С весны у нее было так много работы в кино, что на участие в соревнованиях не оставалось времени.
Сейчас, летя вдоль побережья в сторону Санта-Круса, она раздумывала над тем, стоит ли отказаться от некоторых предложений в кино и начать бороться за новые рекорды. Из-за несчастного случая она пропустила Национальные авиационные соревнования, но теперь это ее не волновало. Ну и что, если Кокран выиграла «Бендикс»? Ей нравится просто летать, и не надо ничего доказывать, подумала она, следя глазами за причудливо двигающимися облаками. Ей не надо думать ни о том, чтобы выиграть лишнюю минуту, ни о том, что забрызганы навигационные приборы. В это утро Фредди не спеша определяла по Тихому океану, покрытому бледно-лиловой глазурью, где она находится, не сверяясь ни с какой картой.
Именно эту радость имели в виду пилоты, когда шли из ангаров к своим самолетам, говоря: «Собираюсь полетать». В этих простых словах всегда слышалось волнение. Фредди удивилась тому, насколько она соскучилась по своему самолету, как ей недоставало физического контакта с ним. Ровный звук мотора был ни с чем не сравним: не рычание, не гудение, а что-то совсем особое. Она скучала по запаху кожаного сиденья, по ремням безопасности, по дросселю, по ручке управления, по рулям направления и высоты. Она скучала по своей машине. До сегодняшнего дня Фредди не понимала всей полноты ощущения полета. Она могла посвятить целые страницы лирическому описанию неба, подробнейшим образом рассказать, как выглядит земля сверху, но без личного контакта с машиной эти впечатления ничем не отличались бы от впечатлений любого пассажира. Не научись Фредди управлять самолетом, она не ощутила бы свободы. Все очень просто. Этого ощущения абсолютной свободы ее нельзя лишать надолго.
Какое-то время она летела, ни о чем не думая, управляя самолетом автоматически, полагаясь на рефлексы. Она глубоко переживала чувства, связывающие ее с самолетом.
Неожиданно Фредди ощутила голод и посмотрела на карту, чтобы найти ближайший аэропорт и там пообедать. Меньше чем через полчаса она прилетит в Санта-Крус. Ее белый «Райдер» мог развить скорость больше четырехсот километров в час, если ей понадобится, а кафе в аэропорту Санта-Круса Фредди нравилось. Повернув самолет в сторону маленького прибрежного городка, она подумала о том, что зря не захватила с собой бутерброд. Но уж лучше свернуть туда, чем умирать с голоду.
Как она счастлива, думала Фредди, приготовившись сбавлять высоту. Не только потому, что может летать, поняла она. А еще и из-за Мака. Вчера после ужина он поехал на машине за мороженым, так как ей вдруг захотелось мороженого. Мак вернулся с таким количеством мороженого, что его невозможно было съесть. И она сказала совершенно невзначай, шутя и совсем ни на что не намекая, что из него получился бы прекрасный отец. И он даже не насупился, не разозлился, не разволновался, не запротестовал, не сказал, что слишком стар или что это было бы неправильно, — то есть ничего из своей обычной чепухи. Он только обронил: «Мне не нужно никаких детей, когда у меня есть ты». Но что-то в его глазах подсказало ей, что она затронула его больное место. Возможно, он мечтал иметь детей, но не признавался себе в этом. Тут-то она и поняла, что когда-нибудь сможет заставить его жениться, если забеременеет. А это будет очень скоро.
В последний день сентября 1938 года Поль де Лансель погрузился в чтение вечерних газет. Весь месяц он не мог думать ни о чем другом, как о кризисе в Европе. Между тем большая часть жителей Калифорнии относилась к этому, как к одному из конфликтов, вечно раздирающих дальние страны, и по возможности игнорировала его.
Три раза за этот месяц угроза войны становилась реальной. В начале сентября Гитлер потребовал аннексии чехословацких Судет, объясняя это желанием защитить права проживающих там граждан немецкой национальности. Как известно, этот район изобиловал шахтами, промышленными предприятиями и фортификационными сооружениями. Трижды британский премьер Чемберлен летал в Германию, чтобы образумить зарвавшегося диктатора. Чехи собирались защищать свою страну, но никто в Европе, кроме Сталина, не испытывал желания воевать. Союзники Чехословакии, Британия и Франция, не хотели воевать вот уже свыше двадцати лет, после того как миллионы их граждан погибли во время мировой войны. Тридцатого сентября Гитлер и Чемберлен с согласия французского премьера Даладье подписали Мюнхенское соглашение. На этот раз войны удалось избежать. Разум возобладал.
— Слава Богу, — сказал Поль.
— Ты действительно думаешь, что теперь не о чем беспокоиться?
— Нет, не думаю. Всегда есть о чем беспокоиться… но, по крайней мере, этот документ — свидетельство доброй воли. Ты только послушай, дорогая, — сказал он и прочел вслух: — «Мы считаем это соглашение, подписанное вчера вечером, и англо-германское соглашение по военно-морским силам символом горячего желания двух народов никогда больше не вступать в войну друг с другом». Должен сказать, даже как циничный дипломат, что это выглядит правильным шагом.
— А что будет с Чехией?
— Франция и Британия дали торжественное обещание защищать ее территориальную целостность. Там всегда были проблемы, но не начинать же из-за них новую войну. Ну, теперь мы можем снова обсудить наши с тобой планы. Как ты считаешь, дорогая, когда нам лучше поехать во Францию, в конце октября или в самом начале весны?
— На сколько ты сможешь уехать?
— Я уже использовал часть отпуска в этом году. Если мы подождем до весны, я мог бы уехать на пару месяцев, а если поедем в октябре, то еще застанем конец лучшего сезона в Шампани.
— Жаль, что нас не было там, когда умер Гийом, — задумчиво произнесла Ева.
— Мне тоже. Отец в своих письмах настойчиво просит меня не оставлять дипломатическую службу ради того, чтобы помогать ему в его деле. Кажется, он думает, что от меня будет больше вреда, чем пользы, — грустно заметил Поль. — Что правда, то правда. Не так уж много я знаю о том, как делать настоящее шампанское или продавать его, но никогда не поздно этому научиться. Он говорит, что его старшие рабочие без труда заменят Гийома. Их отцы тоже работали на него, а деды — на его отца. Все это уходит в такое далекое прошлое, что трудно даже вспомнить. Точно так же он доверяет своим виноделам, братьям Мартэн. Отец еще слишком крепкий, чтобы сложить бразды правления, и твердый в своих решениях.
— Ты считаешь, что сможешь в свои пятьдесят три года акклиматизироваться там? — с сомнением спросила Ева. — В конце октября там может быть очень холодно, а весна в лучшем случае через пять месяцев.
— Ты намекаешь на то, что меня испортила Калифорния?
— Такое случается с лучшими из нас. Даже с французами. В крови происходят какие-то изменения, когда долго живешь здесь. То же и в тропиках. В один прекрасный день, а он не за горами, дом Ланселей и Вальмон перейдут к тебе, хочешь ты того или нет. От моего желания это тоже не зависит. Честно говоря, я с ужасом думаю об этом. Так зачем нам это приближать? По-моему, нам лучше подождать до весны. Мы могли бы провести месяц в Париже с Дельфиной и месяц в Шампани.
— Договорились. Май в Париже с Дельфиной, а июнь в Шампани с родителями. Будем наблюдать за тем, как пчелы занимаются любовью с цветками винограда, — пошутил Поль.
«Он опять умудрился поговорить обо всем на свете, — подумала Ева, — кроме положения в Китае и Японии, но даже не упомянул о том, что у нас есть еще одна дочь. А ведь Фредди, как он, наверное, догадывается, живет в нескольких километрах от нас». Раз Поль не хочет об этом знать, она не станет ничего говорить ему сама. Хорошо уже то, что он пришел в себя, избавившись от мучительных чувств, обуревавших его первые месяцы после ухода Фредди. Теперь Поль любил жену так же горячо, как прежде. Что касается Фредди, они давно уже пришли к молчаливому соглашению, подобному Мюнхенскому, — не вступать из-за нее в войну друг с другом.
В сентябре Дельфина начала сниматься в новом фильме. Ее партнером на этот раз был Жан-Пьер Омон. Она начала новый фильм, надеясь на чудо, которое избавит ее от наваждения, ибо считала, что ее чувство больше похоже на наваждение, чем на любовь.
Однако в конце сентября она поняла, что все не так просто. Она играла, полагаясь на свой природный талант и используя технику, обретенную за два года почти непрерывной работы. Все шло прекрасно. Какой бы сложной ни была сцена, Дельфина всегда оказывалась великолепной партнершей. Она умела слушать, а это уже было половиной успеха. Камера улавливала на ее лице больше эмоций, чем их было на самом деле. Новому режиссеру она нравилась, а ей было приятно работать с ним, хотя играла она без вдохновения. Абель пытался устроить ей контракт на фильм с участием Габена. Будущее улыбалось ей.
Омерзительным было настоящее. Ложась спать поздно, она долго не могла уснуть: ей мешали мысли о Садовски. Просыпалась Дельфина слишком рано. Сон ее внезапно обрывался мыслями о Садовски. Весь день в студии она тоже думала о нем. Так больше не могло продолжаться.
Существовал только один способ избавиться от этого наваждения — встретиться с Садовски лицом к лицу. Чары отступят перед реальностью, но для начала, чтобы преодолеть это чувство, необходимо сказать о нем вслух, открыто. Это унизительно, нелепо и совершенно не соответствует ее принципам. Если она просто скажет ему, что чувствует, он, вероятно, останется равнодушным и глухим, но это, возможно, выведет ее из неестественного для нее состояния. Еще лучше, если он пожалеет ее. Безусловно, он настолько вульгарен, что даст ей это почувствовать. Жалость! Вот что ей поможет.
Позвонив ему, она сказала, что ей необходим совет по поводу ее нового фильма. Режиссер заволновался.
— Послушай, детка, я чертовски занят, но, если у тебя проблемы, я постараюсь выкроить время. Давай встретимся у «Липпа» в восемь тридцать, хотя нет, я лучше перекушу на месте — мы переснимаем сложную сцену. Приходи ко мне домой в десять. Если меня еще не будет, значит, я убил актера. Знаешь, где я живу? Отлично, увидимся вечером.
Знает ли она, где он живет? Да она уже полгода это знает. Дельфина десятки раз проходила мимо в надежде встретить его. Она могла бы доехать туда на автобусе, на метро, дойти пешком, даже доползти хоть через весь Париж. Тем не менее, Дельфина вызвала такси. Она не хотела, чтобы ее шофер задумывался над тем, почему она едет куда-то в десять вечера и возвращается через полчаса, как незадачливый вор-домушник.
Нет необходимости подбирать особый туалет. Что бы она ни надела, ему все равно. Но, чтобы изгнать нечистую силу, надо надеть черное платье. Что-то похожее на одежду священника, аскетическое, строгое. Новое платье от Шанель с одной ниткой жемчуга. Отличное платье, купленное в прошлом году по совету Бруно. Вторая нитка жемчуга тоже не повредила бы, но она будет выглядеть более… «Опять ты за свое, неисправимая дура! — обругала себя Дельфина. Зубы ее стучали, хотя в комнате было очень тепло. — Хочешь произвести впечатление на человека, которого невозможно пронять». Но платье от Шанель вселит в нее уверенность, решила она, надев эту жемчужину осенней коллекции. Армейские офицеры, представая перед трибуналом, надевали парадные мундиры. Даже Мата Хари старалась выглядеть эффектно во время казни. Так думала Дельфина, накладывая на лицо косметику дрожащими руками и причесываясь. Теперь она выглядела моложе своих двадцати лет и гораздо красивее, потому что глаза ее были испуганными, а лицо печальным.
Накинув черное пальто, тоже от Шанель, она решила, что в столь позднее время можно выйти без шляпы. Сидя в такси и пересекая Сену, чтобы попасть на левый берег, она пожалела о том, что не подготовила сценария. Для изгнания нечистой силы нужен сценарий, испытанный временем. Но ей ничего не приходило в голову, кроме мысли о том, что она должна избавиться от навязчивой идеи, пока с ней ничего не случилось.
Арман Садовски жил почти над «Липпом», в старом, довольно ветхом многоквартирном доме, будто нависавшем над бульваром Сен-Жермен. Дельфина с тоской посмотрела на публику на террасе «Кафе Флёр», располагавшегося напротив. Счастливые люди пили, подзывали официантов, болтали, наслаждались одним из последних теплых осенних вечеров. Она отвела взгляд от этой приятной картины и толкнула тяжелую дверь. Спросив консьержку, на каком этаже живет Садовски, она поднялась на самый верх.
Арман Садовски, странно возбужденный, открыл дверь в ту же секунду, как Дельфина нажала на кнопку звонка. Он был без пиджака, без галстука и небрит. Дельфина уже забыла, что он высокий, и растерялась, так неожиданно оказавшись в его квартире.
— Как тебе это нравится? — вместо приветствия спросил он, взмахнув перед ней газетой.
— Я еще не успела просмотреть вечерние газеты.
— Похоже, что мир. Немцы хотят воевать не больше, чем мы. Гитлер в конце концов подписал соглашение.
— Может, он испугался линии Мажино?
— Даже ты знаешь о линии Мажино? Потрясающе! — Усмехнувшись, он жестом пригласил ее войти в комнату.
— Нет человека, который не знал бы о линии Мажино. Французы только об этом и говорят. Да зачем я, собственно, пришла?
— За советом. Ты сказала, что у тебя проблемы с новым режиссером.
— Дело не совсем в этом.
— Я так и подумал. Скорее, у него проблемы с тобой. Что тебе налить?
— Джин, без всего.
— Американцы, — сказал он, качая головой, — только американцы пьют чистый джин.
— Англичане тоже, — устало ответила она. Ничего более остроумного она не придумала.
— Да, детка, садись. Извини, забыл предложить.
Он протянул ей стакан и указал на большое кожаное кресло. Даже не бросив взгляд на большую неприбранную комнату, Дельфина опустилась в кресло и сделала глоток.
— Ну так почему ты пришла? В чем проблема?
— Я люблю тебя.
Оказалось, что произнести эти слова гораздо легче, чем она думала. Дельфина сказала это по-французски, а на всех языках, кроме английского, это звучит совсем иначе. По-английски она не смогла бы этого сказать. Осушив стакан, Дельфина бессмысленно смотрела на него.
Садовски задумчиво снял очки и несколько минут внимательно смотрел на нее.
— Похоже, что так, — наконец сказал он. Его тон подтвердил ее худшие опасения.
— Тебя это даже не удивило! Боже мой, какой эгоцентризм! — Неожиданно ее захлестнула злость, долгожданная злость.
— Долго же ты ходила вокруг да около, — сказал он, словно не поняв ее состояния.
— Это ты говоришь обо мне? — подозрительно спросила она.
— С какой стати?
— Ладно, неважно. Хорошо, теперь ты знаешь. Тебе есть что сказать?
— Ты невероятно избалована.
— Я это знаю. Что-нибудь еще? — резко спросила Дельфина.
Его слова о ее избалованности не избавляли от наваждения. Вот если бы он пожалел ее! Зачем, черт возьми, он снял свои очки! Ей хотелось погладить слабую вмятину на его носу и те вмятины, что остались возле глаз, таких необыкновенных, то ли близоруких, то ли дальнозорких. Ей хотелось потереться щекой о его поганую однодневную щетину, схватить его за длинные спутанные волосы, притянуть к себе и прижаться к его губам.
— Ты избалована привилегиями, которых ничем не заслужила, кроме того, что хороша собой. Ты всегда извлекала, извлекаешь и будешь извлекать из этого выгоду. Отвратительно!
— Это не моя вина. Я ничего для этого не делаю.
— А я этого и не говорил. Я сказал, что это отвратительно.
Он замолчал, размышляя.
— Какое все это имеет отношение к тому, что я тебя люблю? — снова заговорила Дельфина.
Первый раз он, кажется, не обратил внимания на эти слова.
— Я слышал, ты многим причинила боль.
— Что мне делать, если мужчины влюбляются в меня? Я не могу ответить им тем же по команде, — возразила Дельфина. «Что ему наговорили? В каком свете ее выставили?»
— Я понял, что ты сексуально опасна, детка. Когда ты даешь волю чувствам, надо вывешивать предупреждение о шторме.
— Я никогда никого не любила, — призналась Дельфина.
— Это не оправдание.
— Ты говоришь, как моя мать.
— Ну и что? Как я понимаю, ты специализируешься на режиссерах, а в промежутках не брезгуешь продюсерами.
— Это гадко.
— Но соответствует действительности. Я не собираюсь вписываться в мир твоих иллюзий и становиться еще одним режиссером, которому ты оказала честь.
— А я никогда и не просила тебя! Я даже пальцем не шевельнула, когда мы работали вместе. Я бы хотела, чтобы все это осталось только фантазиями. Ты уже не мой режиссер. Ты что, не понимаешь? Я тебя люблю!
— Понимаю, детка, и даже слишком хорошо. В тебе есть что-то дьявольское. Честно говоря, ты напугала меня до чертиков.
— Трус! С меня хватит. Я ухожу.
Дельфина встала. Того, что он сказал, было достаточно, чтобы попытаться изгнать нечистую силу. Она не могла больше выдержать. Это уж слишком: быть здесь и не сметь прикоснуться к нему! А ведь он говорил о ней. Неважно, что он говорил. Это все равно лучше, чем если бы он не замечал ее.
— Садись. Я еще не закончил. Тебя не удивляет, откуда я знаю, что ты меня любишь? Как ты думаешь, откуда?
— Мне наплевать. Как это характерно для тебя — все анализировать, — горько сказала она. — Твоя профессия обязывает тебя догадываться о том, что чувствуют люди. Может, я выдавала себя десятки раз. Впрочем, какая разница? Мы что, обсудим то, как, с точки зрения режиссера, надо играть неразделенную любовь? С точки зрения такого блестящего режиссера, как Арман Садовски?
— Замолчи, Дельфина. Ты слишком много говоришь.
Он улыбнулся каким-то своим мыслям.
— Ты так доволен собой, что просто противно. Я очень жалею, что пришла сюда. Мне следовало догадаться обо всем.
— Я тоже тебя люблю, — медленно выговорил он. Улыбка исчезла с его лица. — Моя любовь сильнее страха. Поэтому я знаю, что ты говоришь правду.
— Ты? Любишь меня? — недоверчиво и радостно воскликнула Дельфина. — Этого не может быть! Если бы ты любил меня, то сказал бы мне. Мне не пришлось бы приходить сюда… и… бросаться к твоим ногам.
— Я надеялся, что если ты любишь меня, то как-то покажешь это.
— Если?
Куда делось ее желание изгнать нечистую силу? Зачем сейчас рассуждать о любви? Если бы она была, он не мог бы скрыть ее. Почему она слушает его так, словно от этого зависит ее жизнь?
— Как мне было убедиться в этом во время съемок фильма? А вдруг все это лишь часть твоего хорошо отработанного сценария.
— О!
— Именно так!
Они сидели, повернувшись друг к другу и уставившись в пол, восторженные и ликующие, смущенные и потерявшие дар речи. Прошлое ушло, будущее было неопределенным, а вокруг них рушился мир.
— Когда? — наконец требовательно спросила Дельфина, возвращаясь к запутанному настоящему. — Когда ты влюбился в меня?
— Неважно.
— Ты должен мне сказать.
— Это слишком глупо.
— Когда?
Она была непреклонна. Ему пришлось признаться.
— Во время нашей первой встречи в моем кабинете, когда я повернулся и посмотрел на тебя. Я ничего не знал о тебе. Это слишком глупо даже для Голливуда.
— Но не для меня. А почему? Почему ты в меня влюбился?
— Интересно, кто это привык все анализировать?
— Я имею на это право, — заявила она, совершенно уверенная в этом. — Почему?
— Ты достала меня, детка. Не знаю. Без всякой причины, просто любовь с первого взгляда. Бог помог. Поверь, это было случайно. Иди сюда.
«А что двигает мной?» Раз она способна дразнить его, наваждение должно исчезнуть. Теперь это обыкновенная, простая, бесценная и прекрасная любовь. Магия.
— Ох уж эти актрисы! — Он встал, шагнул к Дельфине и поставил ее на ноги. Протянув к ней руки, он расстегнул замочек жемчужной нитки. — Положи куда-нибудь. Жалко, если порвется.
— Ты хочешь меня поцеловать?
— Всему свое время. Сначала я собираюсь тебя раздеть. Расстегнуть пуговицу за пуговицей. Я должен поберечь твое платье. Оно слишком прекрасно.
— Прекрасно для чего?
— Для сцены, в которой девушка приходит к тому, кого любит.
Такое замечательное платье, такое строгое, с таким декольте! Бедный простак, у него не было выбора!
Вечером того дня, когда Фредди впервые подняла в небо свой белоснежный «Райдер», она легла спать необычно рано. Мак сидел за кухонным столом. Перед ним лежал листок почтовой бумаги. Он только что закончил читать газету и с отвращением кинул ее на пол. Ему приходилось состязаться в небе с бесстрашными и коварными германскими пилотами столько раз, что он уже сомневался, отступят ли они когда-нибудь. Последние двадцать лет казались затянувшимся трудным перемирием, а Мюнхен еще одной выигранной ими битвой.
Где они атакуют в следующий раз? И когда это случится? Их поступь ускорялась начиная с 1933 года, когда он впервые услышал звук приближающихся пушек. Теперь, после принесенных в жертву Судет, вопрос стоял уже так: не «если», а «когда». Любой человек, думал он, наблюдающий с воздуха, насколько условны все границы и как трудно их распознать сверху, понимает, что изоляционизм не продержится долго. Год? Может, меньше?
Новость из Мюнхена еще больше утвердила его в решении, принятом им вчера, когда Фредди сказала, что он мог бы стать хорошим отцом. Ее слова послужили ему предостережением, помогли преодолеть мучительные колебания и преступить черту, на что он, презирая себя, никак не отваживался уже несколько недель. Фредди пока не беременна. Он знал это. Пока этого нет, но, так же, как начало следующей войны, это лишь вопрос времени. Взяв ручку, он начал писать, тщательно взвешивая каждое слово и стараясь выразить самое главное.
Дорогая Фредди,
я должен тебя оставить. Это единственный выход для нас. Я знаю, ты мечтаешь о замужестве и ты понимаешь, что если бы ты забеременела, я бы женился на тебе. Поэтому я ухожу, чтобы ты могла жить так, как надо. Ты еще не начала жить по-настоящему. Я не хочу подрезать тебе крылья.
Ты знаешь, как я отношусь к браку с тобой. Я и так вел себя нечестно по отношению к тебе и больше не хочу обманывать тебя. Я уже много раз пытался сказать это и буду повторять снова и снова, но это ничего не даст. Ты все равно не поверишь, что я действительно так думаю. Ты не оставишь меня, пока я не уйду сам. Все, что у меня есть, твое: дом, самолеты, мой бизнес. Делай с этим, что хочешь.
Единственное, о чем никогда не думай, это о том, что я недостаточно любил тебя. Будь только я моложе — я бы женился на тебе хоть завтра, я бы женился на тебе давным-давно. Я отпускаю тебя лишь потому, что слишком тебя люблю. Ты не можешь связывать со мной свое будущее, любимая моя девочка.
Мак
* * *
Прочитав письмо, он отложил ручку в сторону, взял листок, сложил его пополам и вывел ее имя. Потом прижал листок кувшином с полевыми цветами, который она всегда держала на столе, и пошел к шкафу — взять сумку с вещами. Он упаковал ее, пока Фредди летала. Если бы был другой выход, подумал Мак, он бы нашел его. Но другого выхода нет. Она оправится от этого удара. Он — нет.
Только спустя много часов после того, как Мак на бешеной скорости мчался на машине в сторону севера, он осознал, куда едет. Он проехал сотни километров, стремясь лишь к одному — оказаться как можно дальше, пока не передумал. Уехать туда, где он освободится от воспоминаний. Только на рассвете он почувствовал себя в безопасности, хотя знал, что уже скоро Фредди прочтет письмо.
Он подумал, что мог бы воспользоваться одним из своих самолетов, улететь в Ванкувер, за границу, и поступить там на военную службу. Там была база канадских ВВС. А если не туда, то в Торонто. Им всегда нужны были инструкторы, и они не придирались к возрасту. Никого не привлекал этот вид работы. Никто не хотел этим заниматься, едва выучивался летать. По крайней мере, он протянет людям руку помощи, сделает хоть одно полезное дело в отпущенные ему дни.
15
Фредди мчалась в своем автомобиле, выжимая из него предельную скорость, поперек взлетно-посадочной полосы в Драй-Спрингсе. В полуметре от своего самолета она затормозила так резко, что машину чуть не занесло. Выскочив из машины, она освободила «Райдер», вытащила из-под колес тормозные колодки, прыгнула в кабину, ударила по кнопке стартера и через секунду подняла самолет в воздух. Впервые в жизни она не проверила ни машину, ни мотор перед стартом.
Меньше получаса назад она обнаружила письмо Мака и тут же поняла, что, если немедленно не поднимется в небо, не переживет такой боли. Другой возможности справиться с этим у нее не было. Она не могла перенести такого невыносимого страдания. Если бы Фредди не умела летать, она сошла бы с ума. Она летела с максимальной скоростью, взмывая все выше и выше в мрачное, сплошь покрытое облаками небо. Судя по приборам, она теряла высоту, и ей пришлось набирать ее, чтобы не оказаться в пике. Фредди часто и тяжело дышала, открыв рот, и часто щурилась, вглядываясь в серые облака, сквозь которые пробивался слепящий свет. Она забыла летные очки; на ней были только рубашка и свитер, то, в чем она вышла к завтраку. Поднявшись высоко, Фредди начала дрожать от холода, но продолжала подниматься все выше и выше. Неожиданно пробив облака, она оказалась над ними. Перед ней открылась небесная голубизна, к которой она рвалась, как бегун к финишу, и Фредди, внезапно обессилев, упала на рычаги управления.
Неконтролируемый «Райдер» летел на высоте нескольких сотен метров над белоснежным полем. Согревшись в залитой солнцем кабине, Фредди постепенно перестала дрожать, выпрямилась и взяла самолет под контроль. Увидев под собой разрывы облаков, Фредди начала нырять в них, как дельфин, то поднимаясь, то снова устремляясь вниз и думая только о том, чтобы безумное движение никогда не прекращалось. Увидев облако причудливой формы, она облетела его, касаясь крылом и точно повторяя его контур. Она находила узкие, извивающиеся, ярко-голубые просеки среди громоздящихся туч и устремлялась в них, не зная, куда они ее выведут. Фредди влетала в гущу облаков, исчезала в них, видя не дальше, чем на пятнадцать метров вокруг, выбиралась наугад и с интересом поглядывала по сторонам.
Фредди долго играла с облаками, прорезая их, обводя их контуры, ныряя в них, как в волны, потом выныривая, а иногда касаясь их бережно, как старых кружев. За все это время она ни разу не посмотрела вниз. Взглянув на приборы, она увидела, что горючее на исходе. Фредди не знала, сколько времени провела в воздухе. Теперь она пробила облака и устремилась вниз, чтобы определить, где находится.
Под ней простиралась пустыня, где не было ни дорог, ни деревьев, ни каких-либо объектов. Все пилоты, знакомые с долиной Сан-Фернандо, знали, что всего в нескольких минутах лета от этого места лежала огромная пустыня, карты которой не существовало. Фредди почувствовала себя так, будто оказалась в безбрежных океанских водах. Но, как бывалый моряк, она имела при себе компас. Подчиняясь законам, которым следуют все искатели приключений и все, кто хочет выжить, она повернула «Райдер» на запад и оказалась в Драй-Спрингсе за минуту до того, как у нее кончилось горючее.
Посадив самолет в самом дальнем конце взлетно-посадочной полосы, она выключила двигатель, но не могла заставить себя выйти из машины. Находясь в кабине, она чувствовала себя в надежном укрытии. Пока она была здесь, не могло произойти ничего плохого. Однако прежние мысли овладели Фредди, и она поняла, что от реальности не уйти. Самолет не мог служить ей убежищем. Фредди легко прикоснулась к приборам, словно благодаря их за снисходительность. Сегодня они простили ей безумный полет, и она не заплатила за это жизнью. Размышляя о том, что могло случиться, она заправила самолет горючим и только потом поставила на место, тщательно закрепив его.
«Ну и что теперь? — подумала она после того, как последний узел был завязан. — Что теперь?» Она стояла возле своего самолета, не зная, куда идти и что делать дальше. Сложив руки на груди, она прислонилась спиной к фюзеляжу и тупо уставилась на свои грязные ботинки.
— Фредди, а где Мак?
— Что?
Она подняла голову. Перед ней стоял Гейвин Людвиг, один из помощников Мака.
— Не знаю, что он собирался делать с самолетом, которым я занимался, — проговорил Гейвин. — Как быть: позвать Свида и сказать, что я уже все сделал, или подождать Мака?
— Как он получился?
— Лучше, чем новый.
— Тогда позови Свида и спроси, что делать дальше.
— Не-а. Я лучше подожду. Мак такой придирчивый во всем, что касается самолетов.
— Маку пришлось ненадолго уехать, и заменяю его я. Так что зови Свида.
— Хорошо, Фредди… Как скажешь. А Мак скоро вернется? Он не говорил, что куда-то собирается.
— Через неделю или две. Он уехал по семейным делам.
— Значит, в конторе будешь ты?
— С утра пораньше, Гейвин. Каждый день и с утра пораньше.
— На его столе гора почты, она пришла сегодня утром. Думаю, это может подождать до утра, но если ты сегодня окажешься поблизости…
— Где же я могу еще оказаться, Гейвин?
— Но ты уже летала сегодня.
— Да, это так.
— Не очень удачный день для этого, — заметил он, взглянув на небо, затянутое облаками.
— Да нет, ничего, — возразила Фредди. — Это все же лучше, чем совсем не летать.
В конце дня, возвращаясь из аэропорта домой, Фредди заехала на местный базар и купила все необходимое для приготовления самого сложного из мясных блюд, которые готовил Мак. Для него требовалось красное вино и семь видов овощей. Она поклялась себе, что к его возвращению освоит приготовление этого блюда. Почему он один умеет его делать, а ей доверяет лишь такие простые вещи, как гамбургеры и жареный цыпленок? Может, стоит купить еще суповые мозговые кости, телячью ножку и сварить суп? Это было тоже одно из тех блюд, которые Мак не доверял ей. Разговаривая с мясником, Фредди подумала, что это дало бы ей прекрасную возможность сравняться с Маком в кулинарном искусстве.
Вернувшись домой, Фредди бросила пакеты с покупками на кухне. Сложенная записка Мака лежала на столе. Она схватила ее, зажгла одну конфорку на газовой плите и, не разворачивая листка, сожгла его. Потом побежала наверх — привести в порядок постель, не застеленную утром.
Прибравшись в спальне, она взялась за ванную. В корзине для грязного белья оказалось несколько рубашек Мака. Она положила их в пакет, чтобы завтра же отвезти в прачечную. Когда он вернется, все его рубашки будут лежать ровной стопкой на полке. Она привела в порядок все вещи в шкафу так, чтобы вся его обувь стояла в одну линию, а пиджаки висели аккуратно. Фредди заново сложила его свитера и убрала белье и носки, которые нашла возле раковины: позже надо будет это постирать.
Когда она все закончила, уже стемнело. Она зажгла все лампы в спальне и, спустившись в гостиную, зажгла свет и там, чтобы навести порядок на книжных полках. Мак не считал, что книги должны стоять на полках аккуратно. Теперь у нее появилась возможность взяться за них и сделать все по-своему. Придется, наверное, соорудить дополнительную полку, поскольку не все книжки помещаются и сейчас; иначе, когда он купит новые, их некуда будет ставить, хоть клади на пол. Надо что-то решать, пока его нет.
Она налила себе немного виски и пошла на кухню — заниматься овощами. По части того как очистить, порезать и порубить овощи, Фредди считала себя настоящим специалистом. Этому сразу научил ее Мак, как только она переселилась к нему. Расправляясь с морковкой, она думала о том, долго ли он выдержит вне дома. Наверное, ему понадобится не меньше двух недель, чтобы преодолеть угрызения совести. Особенно после этого письма, написанного в таком нелепом драматическом тоне. Не выдержав двух недель, он будет выглядеть очень глупо, и оба они почувствуют это, как бы тщательно ни скрывали свои чувства. Может, ему нужен месяц? Не исключено. Наверняка не меньше, решила она теперь, хорошенько подумав. Паршивец, такой упрямый, он вполне мог затянуть эту идиотскую ситуацию на месяц или даже больше. Нет, не больше. Больше он не выдержит.
Без сомнения, думала она, очищая горох, пока свекла тушилась в большой сковороде, он вернется, скажем, вскоре после Дня Всех Святых. В прошлом году они сделали огромный фонарь из тыквы с дырками вместо глаз, носа и рта и положили его на крыльце дома, чтобы порадовать соседских детей. Не забыть бы сделать это и сейчас, чтобы не разочаровать ребятишек.
Острым ножом она быстро нарезала сельдерей. Приступив к картошке, Фредди подумала, что не мешало бы перекрасить кухню. На самом деле, неплохо было бы перекрасить весь дом, и снаружи, и внутри. Если пустить это на самотек, Мак будет все откладывать и откладывать. Раз уж он уехал и она осталась одна, надо это сделать. Вернувшись домой, он согласится, что все стало намного лучше. Может быть, она выберет материал и сменит занавески в спальне, возможно, даже и чехлы на мебели в гостиной. Будет гораздо красивее, чем сейчас. Если в гостиной станет уютней, они будут проводить в ней больше времени, чем сейчас. Набралось так много дел, которые надо провернуть до его возвращения, что Фредди боялась не успеть.
Но это не имело значения. Если Фредди начнет работу, Мак не сможет остановить ее, даже если вернется раньше, чем все закончится.
Мак не выносил перемен. Он был рабом привычек. С тех пор как она его знала, он не передвинул в своем неудобном офисе ни одной вещи и только добавил по ее настоянию коробку с картами. Она займется и его офисом тоже, пока у нее есть возможность. Никаких ситцевых занавесок, это уж чересчур, но ковер и пара удобных кресел не помешают. Мак сам сказал ей, что она может делать без него все, что хочет. В следующий раз, когда у него будет дурное настроение, он подумает, прежде чем давать ей карт-бланш. Только таким настроением и можно объяснить, что такой благородный человек выскользнул потихоньку из дома посреди ночи. Чем же еще?
Придется временно давать вместо него частные уроки, а то он растеряет своих учеников. Она могла бы получить инструкторское удостоверение уже в конце этой недели, вопрос упирался только в то, чтобы договориться о времени экзамена. Как это она не удосужилась сделать этого до сих пор? Придется предупредить его учеников, что скоро она ими займется. Она может взять на себя и руководство подготовкой трюков высшего пилотажа для субботнего сериала, поскольку сама сейчас не занята на съемках. Честно говоря, лучше заняться этим, чем согласиться на новую работу. Фредди очень хотела, чтобы, вернувшись, Мак признал, как хорошо она справилась со всеми делами, которые он так поспешно бросил.
Фредди переложила овощи в высокий чугунный горшок, добавила нарезанных помидоров, тушеную свеклу, три лавровых листочка и немного домашнего мясного бульона, который всегда стоял у Мака в холодильнике. Подбоченясь, она взглянула на содержимое горшка. Вино и специи она добавит позже. Теперь надо только подождать, когда все сварится. Она посмотрела на часы. Девять часов. Неужели уже так поздно? Как летит время, когда ты занята! Ужин будет готов в… полночь. Это блюдо готовится три часа. Хуже всего, что, как считал Мак, его надо есть только на следующий день, а еще лучше через день, предварительно подогрев, чтобы оно было вкуснее. Ну, она-то съест его сегодня же, пусть это будет и не так вкусно, решила она. А пока у нее есть время, она займется книжной полкой. Она налила себе еще немного виски и бросилась в атаку на книги.
Пока Дельфина принимала своих любовников у себя дома, женская часть прислуги следила за ее поведением с большим интересом и находила в этом огромное удовольствие. Они и не ожидали другого от кинозвезды. Да, у нее были любовные связи, без сомнения, но все обставлялось прилично, в собственном доме, и осуждать ее было не за что.
Теперь же, когда Дельфина проводила все ночи вне дома и они не имели понятия о том, где именно, их хозяйка казалась им хуже обыкновенной проститутки. Кто знает, презрительно говорила горничная Аннабел, сколько мужчин замешано в этом. Кто знает, какие злачные места посещает мадемуазель де Лансель, вторила жена садовника, Клодин, возмущенно фыркая. Кто знает, с какими мужчинами она занимается любовью, строила догадки Виолет, прислуга Дельфины, всем своим видом показывая, что подозревает хозяйку в самых гнусных пороках. Дельфина, говорили они друг другу в благородном негодовании, виновна в греховных действиях, имя которым decoucher, что буквально означало «спать где-то, а не у себя дома» и имело особенно аморальный оттенок. В 1939 году словом decoucher обозначали поведение только тех француженок, которые безрассудно себя вели в сексуальном отношении. Самое близкое по смыслу выражение «спать с кем попало» было не столь уничижительным.
Все три женщины, а заодно и Элен, повариха, были единодушны в своем новом отношении к Дельфине. Их оскорбило то, что Дельфина ускользнула от их наблюдения; они глубоко возмущались тем, что упустили информацию, которая позволяла им долгое время считать, что они имеют над ней власть. Но хуже всего было то, что ее независимость угрожала их кошелькам.
Когда Дельфины не было дома, все они лишались части денег. Она выплачивала им жалованье, но не одаривала их с прежней щедростью, ибо теперь это не имело для нее никакого смысла. К тому же, прислуга привыкла прикарманивать часть денег, выделяемых на хозяйственные расходы. Дельфина, со свойственной американцам глупой доверчивостью, никогда их не контролировала. Этой возможности они тоже лишились. Кроме того, Дельфина часто дарила им подарки и давала чаевые, наивно полагая, что они будут хранить ее тайны. Теперь, когда ее практически не бывало дома, прекратилось и это. Скрытая зависть, которую четыре женщины всегда испытывали к богатой, молодой, красивой и независимой Дельфине, вышла на поверхность и становилась все сильнее по мере того, как пролетали месяцы, а их хозяйка проводила каждую ночь неизвестно в чьей постели.
Никто в мире не знает, где мы, думала Дельфина, охваченная таким полным счастьем, которое заставило ее забыть о всех своих суевериях. Лежа под теплым пледом на диване в гостиной на бульваре Сен-Жермен, она думала о том, что впервые в жизни счастлива так, как и представить себе не могла. Она смотрела, как Арман читает сценарий своего нового фильма, самого сложного, какой ему когда-либо попадался. У Дельфины не было ни планов, ни честолюбивых стремлений; за ней никто не следил. А все это так недавно было частью ее жизни.
— О чем ты думаешь? — спросил он, не поднимая глаз от рукописи.
— Ни о чем, — ответила она. — Совсем ни о чем.
— Отлично. Так и продолжай, — сказал он, продолжая читать.
Он и пятнадцати минут не мог обойтись без нее, как бы ни был погружен в работу. Если она была где-то рядом, он протягивал руку, чтобы коснуться ее, если она ходила по комнате, он о чем-нибудь ее спрашивал и удовлетворялся любым ответом. Дельфина не знала, слышит ли он, что она сказала, или ему достаточно звука ее голоса, но никогда не спрашивала об этом, поскольку это не имело значения. Она сама просто радовалась тому, что они вместе. Дельфина могла часами, ничего не делая, находиться в комнате, где он читал. Когда же Арман уходил на студию, она весь день бесцельно слонялась по дому, мечтая и занимаясь поверхностной уборкой, и оживлялась только с его приходом.
Единственное, чего ей недоставало из прежней жизни, это печки, так хорошо обогревавшей ее дом. Здесь были батареи, но почувствовать тепло от них можно лишь сидя рядом. По предположению Дельфины, обитатели нижних этажей выдували все тепло из батарей, чтобы им уже ничего не доставалось. А Арман утверждал, что теплый воздух поднимается кверху и им достается большая его часть. Лишь эта тема и вызывала их разногласия, но поскольку наступил конец марта и консьержка вообще перестала отапливать дом, причин для разногласий не осталось.
— Поженимся и сразу найдем более теплую квартиру, — часто повторял он зимой, но Дельфина думала, что скорей замерзнет совсем, чем покинет квартиру, где Арман провел более пяти лет. На стенах бессистемно висели картины авангардистов, купленные Арманом по соседству; стоял рояль, на котором с одинаковым энтузиазмом он вдохновенно играл регтайм и плохо Шопена; старую истертую удобную мебель он отыскал на блошином рынке; ковры подарили ему родители, когда он впервые обзавелся своим собственным хозяйством. В этой квартире он впервые признался Дельфине в любви, и здесь же они впервые занимались любовью. Ни один дом никогда не будет так много значить для нее.
Она встала и подложила дров в камин. Скоро они спустятся вниз и пойдут ужинать в ближайший ресторанчик. Они делали так почти каждый вечер. Никто из них не готовил. Когда им хотелось поужинать дома, они покупали готовые салаты, сыр и сосиски и устраивали пикник перед камином. Его они топили почти каждый день, начиная с октября. По утрам Арман спускался и приносил ей булочку; она съедала ее, лежа в постели, вместе с кофе со сливками, который он кое-как научился приготовлять.
Дельфина думала о том, что при теперешнем образе жизни ей не нужны больше ни туалеты, ни портниха, ни сапожник. Дельфине казалось, что вещей, которые она постепенно перетащила сюда с Вилла-Моцарт, ей хватит до конца жизни, поскольку ходила она в основном в старых расклешенных брюках от Шанель и свитерах от Армани, напяливая их по два, а то и по три сразу. Приходя на несколько часов на Вилла-Моцарт, чтобы расплатиться с прислугой и убедиться в том, что дом все еще на месте, она надевала костюм и шляпу, но никогда не пользовалась своей машиной и услугами шофера, чтобы доехать до бульвара Сен-Жермен или оттуда до Вилла-Моцарт. Она не продавала дом и машину лишь потому, что обладание ими поддерживало необходимый ей имидж.
Дельфина не сомневалась, что уберегла свою жизнь с Арманом Садовски от чужих глаз. Когда он сказал ей, что ему внушала отвращение перспектива стать одним из многих ее любовников, Дельфина решила сохранить их связь в тайне до тех пор, пока не выйдет замуж. Она отвергла все предложения сниматься после первой же ночи, проведенной с ним, и привела своему агенту множество убедительных аргументов. Дельфина не решалась сказать Абелю правду, состоящую в том, что она слишком поглощена любовью, а потому у нее нет сил играть и справляться со сложной жизнью кинозвезды. Она отказывалась и от участия в фильмах Армана, зная, что выдаст свои чувства всей киностудии, если будет работать с ним. Лицедейство потеряло для нее былое очарование.
Реальность тоже мало волновала ее. В Испании к власти пришел Франко. Франция и Англия признали его. Дельфина старалась не замечать этого так же, как делала вид, что не замечает успеха нового фильма Марселя Паньоля «Жена булочника». Триумф Кэтрин Хепберн был так же безразличен ей, как и присуждение Нобелевской премии Энрико Ферми. Она не хотела всего этого знать. Она не стремилась и к замужеству, ибо оно неизбежно привлекло бы к ней общественное внимание. Ей удавалось уклоняться от ответа каждый раз, когда Арман затевал разговор на эту тему.
Все силы души Дельфины уходили на то, чтобы отгородиться от внешнего мира и сохранить атмосферу истинной любви. Ее единственной заботой были дрова для камина. Она давала чаевые мальчику из соседней дровяной лавки, чтобы он приносил их наверх.
Она постоянно переходила на другую сторону улицы, чтобы только не проходить мимо газетных киосков, никогда не смотрела на расклеенные на стенах плакаты. Она выбирала такие рестораны, где можно было не слышать разговоры людей, сидящих за соседними столиками, не посещала кафе, где посетители говорили о политике, не включала радио. А Арман знал, что не должен приносить домой газеты.
В течение всей это зловещей зимы и полной грозных предчувствий весны 1939 года Дельфина отчаянно защищала свой внутренний мир и наслаждалась счастьем с Арманом Садовски, который любил ее так, что понимал мотивы ее поведения и опасался разрушить неосторожным словом хрупкий мир ее иллюзий.
— Мадемуазель де Лансель, — сказала Виолет, когда в начале апреля Дельфина заглянула в свой дом на Вилла-Моцарт, — на прошлой неделе дважды звонил месье виконт. Я сказала ему, что вас нет дома, и обещала сказать вам о его звонке. Что передать, если он снова позвонит? Он, кажется, обеспокоен тем, что ничего о вас не знает.
— Не беспокойся, Виолет, я сама ему позвоню, — нехотя ответила Дельфина.
Ей удавалось избегать встречи с Бруно начиная с сентября под разными убедительными предлогами вроде тех, которые она придумывала, чтобы отказаться от предложений продюсеров. Но Бруно был значительно настойчивее, чем Абель, и, в отличие от Абеля, его желание увидеться с ней носило личный, а не профессиональный характер. Она знала, что не сможет больше уклониться от встречи с ним, хотя инстинктивно опасалась разрушить идиллию своего существования даже ради Бруно. Тем не менее разум подсказывал ей, что избегать его больше не стоит. Может быть, пообедаем вместе, подумала она, звоня ему в банк.
— Дельфина, я должен тебя увидеть. Прошла целая вечность, — сказал Бруно.
— Ужасно, что я столько времени не могла связаться с тобой, Бруно, ангел мой, но эта зима была для меня абсолютно невозможной. Бесконечные дела, встречи, продюсеры. И все чего-то хотят. Ни минуты свободного времени. Я чувствую себя пленницей. Этот мир кино! Но я соскучилась по тебе. Может, пообедаем? Ужины совершенно исключаются.
— Как послезавтра?
— Прекрасно. Где встретимся?
— Может, в моей новой квартирке? Ты ее еще не видела. И у меня сейчас отличный повар. Мне не хочется обедать в ресторане, я слишком часто делаю это по необходимости.
— Ты живешь на улице Лиль? У меня есть адрес.
— Давай в час. До среды!
Облегченно вздохнув, Дельфина повесила трубку и подошла к шкафу выбрать туалет для визита к Бруно. Она не купила себе ничего нового из весенней одежды, но десяток прошлогодних костюмов, тщательно отутюженных, висели в ее шкафу. Она остановилась на темно-синем костюме от Мулинэ и блузке из набивного, белого с голубым, шелка. Жакет был приталенным, со все еще модными буфами; расклешенная юбка чуть прикрывала колени. Мулинэ никогда не выходит из моды, подумала она, а белое с голубым всегда символизирует весну. Виолет подобрала к костюму широкополую соломенную шляпу, украшенную сзади бантом, туфли на высоких каблуках, сумку, перчатки и чулки.
— Не могла бы ты упаковать все это, Виолет, и вызвать для меня такси? — спросила Дельфина.
— Вы больше ничего не возьмете из одежды, мадемуазель? Только это? Ничего, например, для вечера? — спросила Виолет.
— В следующий раз, — ответила Дельфина тоном, исключающим дальнейшие вопросы.
Приехав двумя днями позже на улицу Лиль, Дельфина увидела, к своему удивлению, что Бруно занимает целый, отнюдь не маленький, частный дом. На звонок Дельфины вышел дворецкий во фраке и пригласил ее в просторный вестибюль с полом из черно-белого мрамора. Единственным украшением комнаты, похожей на музей, были доспехи и гобелены с изображением батальных сцен. Дельфине казалось, словно она попала в средневековый замок. Убранство было чисто мужским. По широкой центральной лестнице Дельфина, сопровождаемая дворецким, поднялась в превосходную библиотеку, оформленную в красных и золотых тонах. Навстречу ей бросился Бруно.
— Наконец-то! — воскликнул он, целуя ее в обе щеки. — И еще элегантнее, чем всегда!
— Спасибо, Бруно, ангел мой. Счастлива тебя видеть. Это и есть твоя новая «квартирка», шутник ты этакий. Судя по всему, твои дела обстоят неплохо.
— Слава Богу, это так, хотя и не с твоей помощью, негодная девчонка.
— Когда это ты начал собирать коллекцию лат?
— Это наследство Сен-Фрейкуровской родни. Когда дедушка умер, все перешло ко мне. Ну, а теперь я наконец нашел для этих сокровищ дом.
— Ах да! Я совсем забыла о Сен-Фрейкуровских предках. Жалко, что я не успела познакомиться с твоими бабушкой и дедушкой.
— Знаешь, они были до смешного старомодны. Они так и не смогли преодолеть антипатии к твоей матери.
— Возможно, они много потеряли, — равнодушно сказала Дельфина, игнорируя нелепый снобизм безразличных ей людей. Что такого сделала ее мать, которой наверняка было далеко до самой Дельфины? Ей хотелось написать Еве, что теперь она хорошо ее понимает, но Дельфина боялась выдать себя.
— Наверняка много потеряли, — ответил Бруно, подавая ей бокал с шампанским. — Ну что, выпьем за наших общих бабушку и дедушку? За Ланселей!
— За бабушку и дедушку! — сказала Дельфина, чувствуя себя виноватой. Она забросила их ради своей любви, как, впрочем, и всех остальных. Время от времени она звонила в Вальмон, но с тех пор, как пыталась укрыться там от своей любви к Арману Садовски, у них не появлялась. Кажется, будто все это было в прошлой жизни, а ведь с августа, который она провела там, прошло всего восемь месяцев. Много, слишком много для их возраста, подумала Дельфина, поклявшись себе хоть на денек выбраться к ним в ближайшее время.
Дельфина без аппетита приступила к обеду из пяти блюд. Его подавали двое слуг, тогда как Бруно рассказывал о последних лошадях, купленных им, о своем новом увлечении игрой в сквош, о поездках по делам банка братьев Дювивье. Наверное, он собирался попросить ее что-то сделать для него, иначе с чего такая срочность, зачем ему ее видеть? Но пока он не спросит ее прямо, она будет сидеть в своем восхитительном костюме и обворожительно улыбаться, удивляясь, почему холостой мужчина выбрал для себя такой стиль жизни.
— Ты очень красива, Дельфина, — неожиданно произнес Бруно, когда они, перейдя в библиотеку и сидя вдвоем, пили кофе.
— Некоторые действительно так считают, — ответила она. Итак, она права, подумала Дельфина. Ему нужна ее помощь. Должно быть, это связано с каким-нибудь мужчиной, на которого он имеет виды.
— Очень красива и чрезвычайно талантлива. А главное, очень обаятельна, что встречается гораздо реже, чем красота, и ценится больше, чем талант. Да притом еще и аристократка, Лансель, представительница старейшего дворянского рода. У тебя есть все, о чем может мечтать женщина. Перед тобой не сможет устоять ни один мужчина.
— Бруно, ты что, собираешься меня кому-нибудь продавать? — Дельфину рассмешила его серьезность.
— Тебе не следует растрачивать себя впустую, Дельфина. Это преступление.
— О чем ты говоришь? — воскликнула озадаченная Дельфина. Неужели он знал, что она уже давно не снимается?
— Я говорю о твоем романе с Арманом Садовски.
— А это не твое дело, Бруно! Как ты смеешь? Это уж слишком!
— Дельфина, выслушай меня! Это для твоей же пользы. Нет никого в Париже, кто не знает, что ты живешь с ним. Я слышал это от дюжины людей.
— Как они узнали? — изумленно спросила она, сразу остыв.
— Ты не можешь утаиться ни от кого в этом районе. Ты живешь через несколько улиц от меня, твоя квартира в центре шестого района, богемного района. Ты посещаешь все соседние бистро… и не ты единственная, должен тебя заверить. Ты покупаешь продукты в тех же магазинах, где их покупают все повара, ты входишь в дом и выходишь из него, а он находится по соседству с «Липпом», в котором время от времени обедает кто-то из мира кино, театра или политики.
— Ну и что, Бруно? Они только и делают что глазеют на всех, кто проходит мимо? Им нечего больше делать, что ли?
— Люди узнают тебя, Дельфина. Неужели ты этого не понимаешь? Ты настолько знаменита, что не можешь перейти улицу, не привлекая к себе внимания. Как бы ты ни была одета, они сразу узнают тебя. Не успеешь ты выйти из дверей магазина с яйцами или сыром, они уже говорят: «Вы видели ее? Дельфину де Лансель, кинозвезду? У нее интрижка с Садовски, режиссером. Они тут недавно были, ну просто как два голубка». Хозяин поделился с поварихой герцогини, та со служанкой герцогини, а на следующей неделе герцогиня подшучивает надо мной, сообщив об этом. Все очень просто. Поскольку все это связано с миром кино, Ги Маршан знал обо всем несколько месяцев назад. Он услышал об этом от трех разных людей, а все трое — завсегдатаи «Липпа». Он первый и сказал мне.
— Пусть они подавятся этими слухами! Все герцогини и все Ги Маршаны из мира кино! Подавятся! И ты, Бруно, тоже, в таком случае!
— Да послушай ты, черт побери! Если бы это был просто роман, я не стал бы взывать к твоему здравому смыслу, но с Садовски, с этим евреем, — как ты могла, Дельфина?
У Дельфины перехватило дыхание от того холодного презрения, с которым он это произнес. Она остолбенела. Словно уличный мальчишка запустил в нее куском дерьма. Неужели Бруно сказал такое?
— «С этим евреем»? Ты понимаешь, что говоришь, Бруно?
— Конечно. Он еврей, польский еврей, и ты не можешь этого отрицать.
— А почему я должна отрицать. Конечно, еврей. Ну и что? А теперь насчет Польши. Его предки родились во Франции. И в нем больше французского, чем во мне. Он такой же француз, как и ты, Бруно.
Дельфина дрожала от ярости.
— Его предки вышли из польского гетто, но даже если бы они жили сотни лет во Франции, он все равно был бы евреем, — парировал Бруно.
— Значит, в тебе говорит антисемитизм. Это единственная причина твоей антипатии. Тебе не стыдно, Бруно? Тебя совесть не мучает?
— Я знал, что ты поймешь неправильно. Я не больший антисемит, чем любой другой. Если евреи будут держаться от меня подальше, я тоже не перейду им дорогу. Но мой долг — защитить тебя. Ты моя сестра… единокровная сестра… значит, мы одной крови. Связавшись с евреем, ты наживешь проблемы. Ты же читала, что сделал Гитлер с германскими евреями. Тебе следует понять, что евреи стекаются во Францию из всех европейских стран, не только из Германии, пытаясь найти безопасное место. Некоторые из них, те, что поумнее, уезжают в Штаты или Швейцарию. Неужели ты думаешь, что твой Садовски стал меньше евреем потому, что живет во Франции? Ты считаешь, немцы отнесутся к нему иначе, если его предки родились во Франции?
— Немцы отнесутся к нему иначе? А какое отношение он имеет к немцам? — в голосе Дельфины слышались страх и возмущение.
— Господи, Дельфина, даже не верится, что ты этого не знаешь. Нам предстоит воевать с Германией, и мы проиграем.
— Ты псих. Я ухожу.
Дельфина встала и взяла свою сумочку.
— Сядь и выслушай меня. — Положив руки ей на плечи, Бруно усадил ее в кресло. — Вот что. Поскольку ты… имеешь дело с евреем, тебе надо знать, что происходит. В прошлом месяце Чемберлен заявил, что Англия будет сражаться на стороне Польши. Даладье присоединился к Чемберлену. А это значит, что Франция тоже будет воевать за Польшу. Воевать, Дельфина, воевать…
— При чем здесь Польша? Почему мы должны воевать за Польшу? — с глазами, полными ужаса, закричала Дельфина.
— Один Бог это знает. Еще шесть месяцев назад мы могли остановить Гитлера. Теперь уже слишком поздно.
— Ты не можешь так говорить, Бруно. Ты капитулянт, паникер. У нас есть линия Мажино и самая большая в Европе армия, — исступленно говорила Дельфина о том, о чем старалась никогда не думать.
— Линия Мажино его не остановит. — Бруно насмешливо покачал головой. — Бельгия нейтральна, Люксембург нейтрален, Россия тоже. Американцы знают, что надвигается война, и не желают вступать в нее. Ваш Чарлз Линдберг, который знает о воздушных силах больше, чем кто бы то ни было во Франции, совершил путешествие в Германию и видел их Люфтваффе. Теперь он утверждает: Германия так сильна, что никто с ней не справится…
— А как же Мюнхенское соглашение?
— Не смеши меня, Дельфина, — язвительно сказал Бруно. — Мюнхен только развязал Гитлеру руки. Война неизбежна, и мы ее проиграем.
— Ты что, военный гений или, может быть, прорицатель? — возмутилась Дельфина.
— А когда мы проиграем, дорогая Дельфина, к твоему еврейскому другу отнесутся так же, как к евреям в Германии. У него не будет ни работы, ни жилья, ни гражданства, ни даже такой малости, как водительское удостоверение. И придется ему бежать из Франции, если, конечно, у него хватит денег на это. Тебе хочется разделить его судьбу? А если ты останешься с ним, это неизбежно. Предупреждаю тебя.
— Это ложь! Такого не случится! Если будет война, Франция и Англия разобьют Гитлера. Ты жалкий и отвратительный трус, Бруно. Мне противно, что я твоя родственница. — Дельфина вскочила и направилась к двери. — Почему бы тебе не спуститься вниз и не облачиться в доспехи, которые принадлежали твоим храбрым предкам? Может, это придаст тебе смелости? Но если Гитлер когда-нибудь появится здесь и станет тебя искать, ты найдешь, где спрятаться.
— Фредди, ты собираешься на нью-йоркскую Всемирную выставку? — спросил Гейвин Людвиг в мае 1939 года.
Зайдя в контору в Драй-Спрингсе, он нашел ее там за разборкой счетов.
— У меня не хватит денег на горючее, — ответила Фредди.
Он оглушительно расхохотался. Только Фредди знала, насколько правдивы ее слова. Ей пришлось нанять троих пилотов-тренеров. Все они были мужчины. За всю историю американцы не проявляли такого интереса к пилотированию, как теперь, но никто из них не хотел иметь дела с инструктором-женщиной. Ей удалось сохранить учеников Мака лишь потому, что она пообещала им найти инструктора-мужчину. С тех пор как восемь месяцев назад Мак ушел, ей пришлось нанять еще двух инструкторов и приобрести еще один самолет «Уако Эн энд Си» с двигателем «Джекобс» и дополнительным сиденьем сзади для учебных полетов, а также еще один скоростной самолет для себя. На этом самолете «для тайного бегства с возлюбленным» можно было за одну ночь долететь до Лас-Вегаса и вернуться обратно. Работу «таксистом» Фредди ненавидела, но приходилось этим заниматься, чтобы заработать на жизнь.
Фредди удивлялась, что люди доверяли ей, прося доставить к сроку в церковь, но не хотели учиться у нее летать. Она была одной из семидесяти трех женщин-пилотов гражданской авиации США, но любой мужчина, независимо от того, когда он получил диплом инструктора, устраивал курсантов больше, чем женщина, способная выполнить сотню маневров, которых ему никогда не одолеть. Наверное, они считали, что управляет самолетом тот орган, которого у нее, как у женщины, не было.
Трем мужчинам, которые теоретически работали «на нее», надо было платить за каждый час работы; самолеты требовали ремонта; каждую неделю приходилось платить механику Гейвину; страховка обходилась в огромную сумму; следовало ежемесячно вносить ренту за ангар и контору; горючее стоило дорого, а школа, как думала Фредди, едва окупала себя и ее «Райдер». Периодические полеты в Лас-Вегас помогали ей сводить концы с концами и содержать новый «Уако». Иначе пришлось бы закрыть школу.
Фредди поднялась из-за стола и направилась в ангар, где стояли старые самолеты. Все они, отполированные до блеска, были без малейших следов пыли или ржавчины. Совсем недавно их покрасили, и они выглядели как новенькие: «Кертис» с толкающим винтом выпуска 1910 года; «Фоккер Д.VII»; две машины «Нью-порт-28»; самолет-разведчик «Томас Морзе»; «Гарланд Линкольн ЛФ-1» и самолеты «Стака». «Какого черта не держать лошадей и кабриолеты, — в ярости думала она, постукивая носком ботинка по колесу «Ньюпорта». — Или, например, единорогов?» Может, они принесли бы больше пользы, чем эти старые птицы, которые ни разу не понадобились ни одной студии за весь прошлый год. По мере того как угроза новой войны становилась все отчетливее, спрос на фильмы о мировой войне иссяк. Фредди научилась ремонтировать старые самолеты сама, поскольку не могла оплачивать эту тонкую работу, но при этом не хотела, несмотря на их полную ненужность, чтобы они превратились в груду хлама.
В январе прошлого года появилась богатая компания «Крылья военно-морских сил», которая поставила «Уорнер Бразерз» около четырехсот пятидесяти истребителей и тренировочных самолетов, а также пятьдесят «Пи-Би-Уайт-1» — гигантских летающих лодок «Каталина». Нет, ее старые бедные утки больше никому не нужны. Ее архаическая гордая эскадрилья была так же нужна фильмам 1939 года, как звезды немого кино, а сама Фредди имела так же мало отношения к пилотам военно-морских сил, участвовавших в съемках, проводимых в Пенсаколе, как к Лилиан Гиш. Ее могли пригласить дублером Оливии де Хевиленд, героини фильма, если бы не то обстоятельство, что женщин подпускали к самолету не ближе того расстояния, с которого можно послать ему воздушный поцелуй. Дела Фредди шли из рук вон плохо, и надеяться на то, что они улучшатся, не приходилось. Несмотря на это, у нее оставалась возможность «пойти полетать», но это было дорогое удовольствие, хотя и необходимое!
Едва Фредди охватывала злость сильнее той, которую она испытывала, проверяя свои старые самолеты, она прыгала в свой «Райдер» и устремлялась к горизонту. Фредди летала до тех пор, пока не ощущала, что гнев отступил и она готова встать на твердую землю.
Смириться с отсутствием Мака в первые месяцы после его ухода ей помогала уверенность в том, что наступит то завтра, когда он вернется. Но однажды утром она вдруг поняла, что Мак не появится ни сегодня, ни в ближайшее время. Ее охватила такая ярость, преодолеть которую ей помогла лишь бешеная активность. Эту ярость, поднявшуюся изнутри, невозможно было описать словами. «Как он мог так поступить со мной?» Эта фраза сверлила ей мозг, возвращаясь снова и снова как заклинание. Мысль о Маке стала навязчивой идеей и сводила ее с ума. Эти слова она повторяла с разным чувством: то с безграничной жалостью к себе, то с убийственной ненавистью к мужчине, который бросил ее, оставил одну сражаться с жизнью, лишив возможности на кого-то опереться. «Как он мог так поступить со мной?»
Этот вопрос Фредди не задавала никому, поскольку не могла признаться в том, что он ушел. По его словам, он любил ее так сильно, что должен был оставить… Что бы это ни означало, это было нечестно, думала Фредди, охваченная гневом, который не иссякал и не притуплялся. Что бы это ни означало, это всегда будет нечестно, и Фредди желала теперь одного — чтобы он приполз к ней на коленях. Тогда она сказала бы ему, как глубоко он ее ранил, как обманул ее надежды, как она ненавидит его. После этого она оставила бы его навсегда.
Теперь вечерами, одна, после ужина, Фредди, потягивая виски, погружалась в газеты и журналы по авиации, читая новости до тех пор, пока у нее не начинали слипаться глаза. Она ловила себя на том, что все чаще надеялась когда-нибудь наткнуться в газетах на имя Мака.
Она ни разу не увидела его имени, но стала прекрасно разбираться в том, что происходит в мире. Понятно, что теперь к авиации было приковано всеобщее внимание. Она с восторгом следила за тем, как быстро развивается авиация — и в европейских странах, и в Соединенных Штатах. Главный редактор журнала «Авиэйшн мэгэзин», вернувшись из ознакомительной поездки, поставил Германию и Россию по числу военных самолетов на первое место, Италию на второе, Соединенные Штаты на третье, а Францию на последнее. По качеству самолетов он поставил на первое место Германию и Соединенные Штаты, по производству — снова Германию.
После заключения Мюнхенского соглашения англичане начали разрабатывать план воздушной обороны, субсидируя тренировки женщин-пилотов наряду с мужчинами. К занятиям допускались все, прошедшие медицинское обследование, в возрасте от восемнадцати до пятидесяти. Фредди следила за этим экспериментом с повышенным интересом, особенно когда пресса подняла шум вокруг использования женщин-пилотов, которых, кажется, включили во все службы, кроме Королевских военно-воздушных сил, несмотря на громкие и яростные протесты.
Г.Г. Грэй, редактор английского журнала «Аэроплан», двойника американского «Авиэйшн мэгэзин», написал передовую статью, после которой Фредди охватила злость, не уступающая ее гневу на Мака: «Угрозу представляет женщина, считающая, что имеет право пилотировать скоростной бомбардировщик, а на самом деле не способная даже как следует отдраить пол в госпитале, или та, которая собирается работать в системе оповещения о воздушном нападении, но не может приготовить обед своему мужу».
Интересно, подумала Фредди, как поступили бы две сотни английских женщин-пилотов, уже служащих в войсках противовоздушной обороны и получивших заверения капитана Бельфора, заместителя министра авиации, что в случае чрезвычайного положения в стране им поручат перегонять самолеты, если бы этот мистер Г.Г. Грэй попался им в руки?
Сомнительная карьера Г.Г. Грэя послужила темой разговора Фредди с матерью, когда в прошлом январе, в день девятнадцатилетия Фредди, они сидели с Евой за ленчем. Все последнее время Фредди старалась пореже встречаться с матерью, опасаясь, что Ева, с симпатией относившаяся к Маку, спросит о нем. Фредди ничего не могла бы ответить ей, но Ева говорила только на общие темы и проявляла большую деликатность.
Фредди была благодарна матери за то, что при встречах Ева не задавала ей вопросов о личной жизни. Она не смогла бы говорить с матерью о своих невзгодах и злости. Мать была бы в шоке, узнав, что она уже не девственница, а всего хуже, что Фредди жила с мужчиной. Но она не хотела лгать Еве, как лгала Свиду Кастелли, когда он звонил или заезжал, что делал, к ее неудовольствию, каждую неделю. Он проявлял отеческий интерес к тому, как она ведет дела в летной школе, и, то ли по тупости, то ли занятый своими мыслями, верил басням, которые Фредди рассказывала ему о затянувшемся пребывании Мака на Восточном побережье. Фредди знала, что у Мака нет родственников, но выдумала, что в штате Мэн живут его пожилые мать и отец, о которых он должен заботиться. Свид, слава Богу, верил каждому ее слову.
Свид Кастелли был единственным мужчиной, которому Фредди безоговорочно доверяла. Ей пришлось уволить нескольких инструкторов из-за их настойчивых ухаживаний. В связи с этим у нее постоянно возникали проблемы, как заменить их. Когда Мак исчез, она перестала смотреть в зеркало, но, видимо, чувства, разъедавшие Фредди, не изменили ее, поскольку лишь самые стойкие женатые мужчины не пытались завоевать ее. Ну хоть надевай на голову бумажный пакет!
Фредди все еще бродила по ангару. Она немного успокаивалась рядом с этими допотопными аэропланами, которые любила почти так же, как Мак. Вдруг она услышала, как у летной школы затормозила машина. Выйдя на улицу, она прищурилась от яркого весеннего света и прикрыла глаза рукой. Свид Кастелли тяжело вылезал из своего старого седана. Ему необходимо следить за своим весом, подумала Фредди, для человека, занимавшегося высшим пилотажем, он слишком неповоротлив. Он обрадуется, увидев, что все три инструктора сейчас заняты работой. Если бы хоть один из них слонялся, поджидая ученика, Свид подумал бы, что дела идут не так хорошо.
Она весело пошла ему навстречу. Ветер так растрепал ее волосы, что они почти закрывали глаза. Фредди поцеловала его в щеку.
— Привет, Фредди, — сказал он, обняв ее одной рукой за плечи. — Никого, кроме тебя? Что-то тут слишком тихо.
Он огляделся: пусто было в школе, зато оживленно на аэродроме.
— Приободрись, Свид. Мои инструкторы трудятся. Честно отрабатывают свои деньги. Подожди немного и увидишь, как приземляется кто-то из нерадивых учеников. Обещаю.
— Кофе случайно нет? — спросил Свид.
— Что за летная школа без кофе? — усмехнулась Фредди, подумав, что ему не мешало бы выпить чего-нибудь покрепче, чем кофе. Этот полный лысеющий мужчина выглядел таким бледным, что Фредди встревожилась. Он здорово сдал за эту неделю. Возможно, он плохо себя чувствовал, во всяком случае, казался не таким жизнерадостным, как обычно.
— Прошу в мой роскошный кабинет, — галантно сказала Фредди, стараясь вызвать его улыбку, — в твоем распоряжении одно из моих новых кресел.
Она налила Свиду большую чашку кофе. Кофейник всегда был наготове: ученики постоянно просили у нее кофе, взволнованные перед взлетом и радостно-возбужденные после посадки. Кофе любили и инструкторы, и Гейвин. Фредди подумала, что тратит на кофе большую сумму, чем зарабатывала когда-то у булочника Ван де Кампа. Ей следовало бы брать за это деньги, может, тогда школа не стала бы убыточной.
Фредди опустилась в кресло. Новые недорогие, но удобные кресла она купила, чтобы сделать офис более привлекательным. Она ласково взглянула на необычно тихого Свида, потягивающего ароматный напиток. Допив до конца, он осторожно поставил кружку на стол, словно она была из тончайшего фарфора.
— Послушай, Фредди, мне надо с тобой кое о чем поговорить. — Вынув носовой платок, он вытер лоб и вздохнул. — Это касается Мака.
— Разве это нельзя отложить? — спокойно спросила Фредди, стараясь не выказать раздражения. Она была не в настроении сочинять очередные небылицы о том, как Мак заботится о родителях в штате Мэн.
Но Свид, кажется, не слышал ее.
— Это касается Мака, — веско повторил он. — Мы… поддерживали с ним контакт, Фредди.
— Не может быть! — почти бессознательно крикнула она.
— Мак звонил мне домой каждую неделю… с тех пор как уехал. Он… он хотел знать, как ты тут… должен был убедиться, что у тебя все нормально.
— Все это время ты знал и ничего мне не говорил?!
Вскочив на ноги, она встала перед ним, придя в ярость от такого предательства.
— Мак взял с меня слово, что я ничего не скажу, и я поклялся в этом. Я не мог сделать иначе, Фредди, мы же старые друзья, а ты понимаешь, что это значит. Он верил, что я сдержу обещание, и я его сдержал. Не думай, что это было легко. Мне претило делать вид, что я не знаю правды. Господи, я так ужасно себя чувствовал, Фредди, заставляя тебя сочинять все эти истории, но ничего не мог поделать. Мак обезумел бы, если бы я не говорил ему, что у тебя все в порядке. О, Фредди…
— Что случилось? — в тревоге спросила Фредди, сама не понимая почему. Она угрожающе нависла над Свидом.
— Подожди минутку, Фредди. Я постараюсь тебе объяснить… Мак… Фредди, Мак… в Канаде.
— Где в Канаде? — закричала она. Она полетит к нему. Она может завтра же быть с ним. Если она вылетит прямо сейчас и выжмет из «Райдера» максимальную скорость, то увидит Мака через несколько часов.
— Возле Оттавы. На учебной базе канадских. ВВС, — ответил Свид.
Повернувшись, Фредди пошла к двери. Свид встал и предостерегающе положил руку ей на плечо.
— Послушай, Фредди. Это еще не все.
— Не все? — повторила она. Почувствовав тревожную ноту в его голосе, она впала в панику.
— Мака нет в живых, Фредди, — с отчаянием произнес Свид, и из глаз его брызнули слезы. — Произошла катастрофа… Он врезался в землю при штопоре, Фредди… В считанные секунды все было кончено. Сегодня утром я получил письмо от его командира. Поскольку у Мака не было родственников, он… он дал им мои координаты на всякий случай. В письме говорится, что это произошло, когда он тренировал какого-то мальчишку, не справившегося с управлением. Во всяком случае, они так думают. Если не это, значит, что-то случилось с самолетом. До сих пор ничего точно не известно. Генерал думает, что они никогда точно не узнают. Похороны… были вчера… Военные похороны… обоих… обоих.
— Похороны, — эхом отозвалась Фредди. — Похороны? Мак! Мак? Мой Мак? Ты мне лжешь, правда, правда? Пожалуйста, скажи, что ты лжешь, Свид! Пожалуйста, пожалуйста, скажи это!
Ее умоляющий голос оборвался, когда шок сменился осознанием случившегося. Свид Кастелли неуклюже обнял ее, словно хотел защитить от своих же слов.
— Господи, как бы я хотел это сказать, Фредди! — услышала она его голос. — Этот парень был мне братом.
— О, Свид! — рыдания заглушали ее слова. — Как мне жить теперь, когда Мака нет? Как, Свид, как? И зачем?
— Фредди, милая. Это такое горе… Было так… прекрасно видеть вас вместе.
«Ты не должен был оставлять меня, Мак, не должен был уходить».
— Он был уверен в том, что поступил правильно, Фредди. Он все время утверждал, что поступил правильно, — произнес Кастелли. — Он так сильно тебя любил!
Снаружи раздался голос одного из инструкторов. Ему ответил ученик. Наверное, пока они разговаривали, сел один из самолетов. Фредди поспешно заперла дверь офиса.
— Может быть, ты вернешься в семью? — озабоченно спросил Свид, увидев, что она рыдает все отчаяннее. — Я же видел твою маму, помнишь? Тебе лучше быть с ней.
— Свид… Как я могу оставить наш дом? — Несмотря на горе, Фредди понимала, что он старается успокоить ее. — Разве ты не знаешь, что у нас есть дом… такой чудесный дом… как я могу оставить его? Это все, что у меня осталось от Мака.
— Понимаю, — сказал он. — Но когда ты будешь к этому готова… обещаешь подумать об этом?
— Когда я буду готова? Я никогда не буду готова, Свид, никогда, до конца моих дней.
— Пожалуйста, Фредди, разреши мне чем-то тебе помочь.
— Ты не мог бы… прийти ко мне завтра вечером и рассказать все, о чем вы говорили с Маком? Обо всем, что было с ним в Канаде? Ты не можешь снова рассказать мне… о том, как Мак любил меня?
В этот вечер, когда стемнело, Фредди вернулась в ангар, где стояли знаменитые старые самолеты. Один за другим она выкатила эти хрупкие, прекрасные, любимые машины на открытое, поросшее травой пространство за взлетно-посадочной полосой. Каждый из этих самолетов мог подняться в воздух. Мужчина — или женщина — могли улететь на них в голубую заоблачную высь.
Фредди сгруппировала самолеты как можно теснее, подтащив самые легкие из них к самым тяжелым. Потом принесла канистру с бензином и обильно полила машины. Медленно обходя самолеты, она ласково гладила в последний раз их крылья, шасси, фюзеляжи, касалась пропеллеров, заставляя их крутиться, громко произносила их названия, легендарные названия, которые так любил Мак. Здесь не было ни одной машины, на восстановление которой он не потратил бы сотни часов труда.
Наконец, нехотя, но решительно, она зажгла спичку и поднесла ее к ближайшей машине. Когда пламя разгорелось и прекрасная призрачная эскадрилья была уже готова взлететь в небо и присоединиться к НЕМУ, она сказала всего три слова, прежде чем уйти:
— Счастливых полетов, Мак.
16
— Как ты поступаешь со своими «ознобышами», Джейн, называешь их по именам или по номерам? — спросила Фредди свою соседку по комнате, когда они ранним утром шестого января 1941 года нехотя вылезли из-под тонких одеял и оказались в холодной комнате. Чуть раздвинув занавески, Фредди выглянула в предрассветную холодную темноту британского утра и тут же сдвинула их.
— По именам. Даю им имена домашних животных и имена поклонников, правда, только тех, кто делал мне предложение. — Джейн Лонбридж, стараясь говорить бодро, зевнула и нерешительно пошла к раковине. — Считать их было бы слишком тоскливо, разве интересно знать, сколько их?
— Я никогда не слышала от тебя жалоб, — сонно сказала Фредди.
«Ознобыши» — нечто среднее между мозолью и бородавкой — возникали от холода. Горячие на ощупь, они были красными, чесались и болели. Они появлялись на пальцах рук и ног зимой, несмотря на несколько пар шерстяных носков, которые Фредди надевала под летные ботинки и теплые перчатки, без которых не выходила на улицу.
— Я жаловалась, когда училась в школе, но это не помогало. Реагировали только тогда, когда они начинали нарывать. Это было отвратительно, но освобождало недели на две от соревнований, а я их ненавидела.
Темноволосая Джейн наскоро сполоснула лицо, энергично почистила зубы и одобрительно посмотрела на свое отражение в зеркале, откровенно любуясь, как и каждое утро, своими прямыми волосами, ровными зубами и правильным носом. В сочетании с чудесными озорными карими глазами и насмешливой улыбкой, не сходящей с ее лица, все это делало ее одной из самых привлекательных девушек от севера до юга Англии, как она часто самодовольно, но совершенно справедливо говорила.
— Это отвратительно, как во времена Диккенса.
— «Ознобыши»?
— Посылать детей в такие школы, где можно их подхватить. Какие преимущества тогда были у тебя оттого, что ты дочь барона? Ты рассказывала об этом своей маме?
— Не имело смысла. Мама обожала соревнования. Она, должно быть, гордилась своими «ознобышами».
Стиснув зубы, Джейн вылезла из теплой пижамы. Она сняла сначала верхнюю часть, потом нижнюю и быстро влезла в великолепное довоенное шерстяное белье. Фредди спала в шерстяном белье, а сверху натягивала толстую плюшевую подкладку комбинезона. Это был единственный способ не до конца замерзнуть в почти неотапливаемой спальне в квартире, которую они снимали вместе с Джейн. Зима оказалась одной из самых холодных за всю историю Англии. Даже немцы приостановили на месяц свой блицкриг. Ураганные ночные бомбежки, начавшиеся после того, как Люфтваффе не смогли прошлым летом одержать победу над королевскими ВВС, были временно приостановлены в связи с непостижимой погодой в Великобритании.
Фредди находилась в Англии уже почти полтора года, простившись с Калифорнией в июне 1939-го. После смерти Мака она не видела причин сохранять летную школу. Спрашивая себя, что же делать дальше, она пришла к выводу, что у нее только один путь — заняться тем, во имя чего Мак отдал свою жизнь. Соединенные Штаты придерживались нейтралитета, но в любом случае женщине-пилоту не нашлось бы места в армии этой страны. Вместе с тем существовала британская служба противовоздушной обороны, а в ней — четыре тысячи новых призывников, которым предстояло научиться летать.
В завещании, оставленном Маком Свиду Кастелли, он передавал все свое имущество Фредди. Она продала дом и все учебные самолеты, включая свой прекрасный белоснежный «Райдер». Прежде чем отправиться добровольцем в Британию, она простилась с Евой и Полем, помирившись наконец с отцом. В Британии Фредди немедленно зачислили инструктором по программе учебного пилотирования.
Спустя три месяца, первого сентября 1939 года, гитлеровские войска оккупировали Польшу, а еще через два дня Англия и Франция объявили Германии войну.
Первого января 1940 года небольшую группу высококвалифицированных женщин-пилотов, которые, как и Фредди, были инструкторами в службе противовоздушной обороны, отобрали для заключения контракта со службой вспомогательной транспортной авиации. Эта служба была прежде гражданской организацией, нанимавшей только пилотов-мужчин. В их обязанность входило перегонять самолеты с заводов, где их собирали, через территорию Британии на те аэродромы, где их с нетерпением ждали.
Теперь, год спустя, женщин-пилотов становилось во вспомогательной авиации все больше, ибо мужчины участвовали в боях. Женщины доказали, что способны выдерживать суровые условия военного времени не хуже мужчин. Они летали по две недели без перерыва, пока не получали по два свободных дня; перегоняли самолеты в такую погоду, когда ни один истребитель не рисковал подняться в небо; пилотировали самолеты без радио и навигационных приборов, имея в распоряжении только компас; увертывались, крутились и вертелись, летя над полями, охраняемыми тысячами аэростатов воздушного заграждения, чьи стальные тросы были ловушкой для всякого самолета, как вражеского, так и дружеского. В Великобритании непредсказуемая погода так менялась, что пилот мог в считанные секунды потерять все ориентиры. Военные аэродромы защищались зенитными орудиями, которые сперва открывали огонь и только потом думали, по кому. Шла война, в которой враг был так близко, Что пилот вспомогательной авиации не удивился бы, подлетев к взлетно-посадочной полосе нужного ему аэродрома и увидев пикирующий на нее «мессершмитт».
Зимой солнце всходило в девять утра, а заходило около пяти часов дня. Это светлое время суток спасало Англию в течение всей войны. Когда Джейн и Фредди прибыли на своем разбитом «виллисе» на базу в Хатвилде, было еще темно. Сегодня исполнился ровно год с тех пор, как женщины-пилоты начали перегонять самолеты, и Полин Гауэр, их командир, решила устроить вечером праздник.
Накануне стояла ужасная погода — снег, туман, дождь, облачность, обледенение. «Весь дьявольский набор», — посмотрев на небо, пошутила Джейн. Вскоре после полудня все полеты в Хатвилде были отменены. Джейн и Фредди провели все оставшееся время в своей берлоге. Заваривали чай, дремали, наслаждались неожиданно обретенным свободным временем. Некоторые пилоты с других баз все-таки решили вылететь в этот день, среди них Эми Джонсон. Она была разведена с Джимом Моллисоном, который вскоре после Фредди тоже пришел во вспомогательную авиацию. Знаменитая летчица, бывшая в течение многих лет кумиром Фредди, вылетела из Блэкпула, который находился на побережье в графстве Ланкашир, на двухмоторном тренировочном самолете «Оксфорд». Она перегоняла его на военно-воздушную базу в Кидлингтоне, в графстве Соммерсет. Именно на таких самолетах чаще всего приходилось летать Фредди и Джейн.
Выйдя из «виллиса», Фредди и Джейн поспешили на командный пункт, где было сравнительно тепло. Получив здесь письменные распоряжения, они узнали, на каких самолетах должны лететь в этот день, если позволят погодные условия. Зажав в руках предписания, они направились в столовую. В деревянном бараке, где помещалась столовая, пили кофе, чай и вели задушевные беседы. Здесь висела мишень для игры в дартс, стоял биллиардный стол и лежали дневные выпуски газет. Некоторые приносили сюда шахматы и доски для игры в трик-трак. Поговаривали, что в командирской комнате откроется школа по игре в бридж. Фредди и Джейн поклялись не принимать в этом участия. Любимой игрой Джейн был дартс. Фредди предпочитала карты, находя, что они требуют гораздо больше концентрации внимания и умения, чем другие игры. На самом деле, ожидая сигнала к вылету, она бывала слишком взвинчена, чтобы сосредоточиться на сложной игре.
— О-о, что-то случилось, — заметила Джейн, едва они вошли в столовую. Встревоженные пилоты, отставив кофе, сбились в кучку и что-то тихо, но бурно обсуждали.
— Что произошло? — спросила Фредди у Элен Джонс.
— Эми Джонсон. Вчера разбилась в устье Темзы.
— О, Господи, не может быть! — воскликнула Фредди.
— Она не вернулась вовремя. Видимо, у нее кончилось горючее и она затерялась в облаках, находясь примерно в ста милях от Кидлингтона. Это теперь уже официально известно… ее летную сумку вытащили из воды. Она вышла из облачности и села на воду. Ее удалось бы спасти… Конвойный траулер заметил, как ее «Оксфорд» начал тонуть, и попытался ее подобрать, но самолет накрыл ее.
Резко повернувшись, Фредди отошла к окну. Она смотрела туда, ничего не видя. Известие потрясло ее. Эми Джонсон, которая выходила невредимой из песчаных бурь, муссонов и десятков вынужденных посадок, первая женщина, совершившая полет в Австралию; отважная летчица, о которой миллионы пели «Эми, чудо Эми»; мужественная Эми. Фредди не могла поверить, что Эми, самая опытная из женщин-пилотов Англии, умерла первой из них.
— Я все понимаю, Фредди, — сказала Джейн, обняв ее.
— Мне было девять лет, когда она на старом маленьком «Мотыльке» совершила перелет в Австралию, а теперь, когда мне почти двадцать один, Эми погибла, перелетая на надежном двухмоторном самолете из Блэкпула в Кидлингтон. Ей было всего тридцать восемь. Невозможно поверить. Как это могло случиться?
— Вероятно, мы никогда этого не узнаем. Пойдем, Фредди. Давай поиграем в карты. Кто выиграет, тот платит за ужин, — быстро сказала Джейн.
— Если бы это не случилось над водой… если бы не такая ледяная вода…
— Никаких «если», крошка. От самой Эми зависело, лететь или нет. Она могла остаться в Блэкпуле. Каждый из нас стоит перед выбором в любой момент полета. Мы можем приземлиться, если погода испортится, и переждать на земле, пока прояснится. Ты это знаешь, и она это знала. Вчера она приняла решение — лететь. Почти все решили этого не делать. Этот маршрут проходит над сушей. Мы обе летали по нему десятки раз. Она летела высоко, над облаками, Фредди, и сбилась. Иначе она не оказалась бы над водой. Нам не следует летать так высоко, никогда. Погода погодой, но это еще и характер; он сыграл свою роль, дорогая моя.
— Характер, — задумчиво повторила Фредди.
— У каждой из нас свой характер, и он проявляется во время полета.
Фредди оглядела комнату, где собрались женщины-летчицы. Ее взгляд задержался на Уинифред Кроссли, которая тоже занималась высшим пилотажем, на Розмари Рииз, балерине, открывшей новые воздушные трассы, на Габриэл Паттерсон, которая, имея семью и детей, стала инструктором по пилотированию еще в 1935 году. Джоан Хьюз начала летать с пятнадцати лет и была не старше их с Джейн. Марджи Фэйруэзер, дочь лорда Рансимана, сестра генерального директора Британской компании трансокеанских воздушных сообщений и жена пилота вспомогательной авиации. Эти замечательные и самые известные в мире женщины-пилоты обладали разными характерами. К каждому полету любая из них подходила с отвагой и осторожностью, азартом и строгим соблюдением правил. Кто из них вылетел бы из Блэкпула вчера? Скорее всего, ни одна… или одна… ну, может, две. Этого не угадаешь.
Фредди повернулась к Джейн.
— Я начинаю понимать, почему ты была старостой в своей ужасной школе, независимо от того, проводились там соревнования или нет.
— Мы будем играть в карты, или ты хочешь подлизываться ко мне?
— Давай поиграем. Судя по восходу, сегодня нам тоже вряд ли удастся полетать. Я никогда не рассказывала тебе о восходах в Калифорнии? Мы видим их там каждый день, веришь? Даже зимой. Ты знаешь, что Англия находится на той же широте, что и Лабрадор? Странное место для жизни.
— Еще слово — и я выберу себе другую соседку по комнате.
Вечеринку в тот вечер отменили. Фредди, Джейн и еще несколько человек собрались в местном пабе Хатвилда, выпили по рюмке в память об Эми Джонсон и по промерзшим улицам темного города вернулись к месту ночлега.
Девятое и десятое января 1941 года были у Фредди и Джейн, согласно расписанию, выходными днями. Первый раз со времени их знакомства Фредди приняла предложение Джейн поехать в гости к ее семье, которая владела поместьем в графстве Кент. Поместье «Лонбридж Грейндж» принадлежало отцу Джейн, лорду Джералду Генри Уилмоту, и ее матери, леди Пенелопе Джулии Лонбридж, урожденной Фортескье.
Девушки были в теплых шинелях, надетых поверх ладно сидящей строгой форменной одежды мужского покроя: темно-синих брюк и такого же цвета кителя. На кителе было четыре застегнутых на пуговицы кармана: два нагрудных и два больших внизу, под ремнем с медной пряжкой. Над правым нагрудным карманом толстыми золотыми нитками были вышиты «крылышки». На плечах — две лейтенантские нашивки, пошире и поуже, а у Фредди еще нашивка на рукаве, красно-бело-голубая, свидетельствующая о том, что она американка. Под кителями были голубые форменные рубашки с черными мужскими галстуками. Из-за холода Фредди и Джейн решили надеть слаксы и летные бутсы, которые, строго говоря, полагалось носить только на аэродроме. Каждая из девушек захватила с собой форменную юбку, черные туфли и чулки — официальную одежду, которую они обязаны были носить в свободное от полетов время. Обе лихо надвинули на лоб фуражки.
Лететь они решили на одном из самолетов «Энсон», служивших пилотам авиатакси: они доставляли летчиков к самолетам, которые надо было перегонять, а по окончании миссии — назад. И Фредди, и Джейн периодически пилотировали «Энсоны», вмещавшие пятнадцать пилотов с парашютами. Потеря хотя бы одного «Энсона» стала бы катастрофой, поэтому управлять ими доверяли самым опытным пилотам.
После непродолжительного полета они вскоре приземлились на аэродроме в Кенте, где их встретила на машине мать Джейн. Для этого визита, давно запланированного, она сохранила положенную ей норму бензина.
Леди Пенелопа обняла дочь и протянула было руку Фредди, но вдруг решительно обняла и ее.
— Я так рада видеть тебя, дорогая. Джейн постоянно пишет о тебе. Кажется, она попала под хорошее влияние, — сказала красивая рыжеватая женщина, бросив украдкой на дочь взгляд, полный гордости.
— Вообще-то это Джейн хорошо влияет на меня, — усмехнулась Фредди.
— Чепуха! Это невозможно. Мы знаем нашу Джейн. Она неисправима… хотя иногда бывает очень мила. Садитесь поскорей в машину, пока не окоченели, мы должны успеть к обеду.
Она вела машину быстро и уверенно, объезжая воронки от бомб, упавших на заснеженные теперь поля во время массированных бомбардировок.
— Я уверена, что они на самом деле целились не в нас. Разве мы представляем опасность? Но наш дом находится прямо под воздушной трассой между Лондоном и портами Ла-Манша. Такая досада… После одного из налетов обвалилась штукатурка в гостиной… Теннисный корт был разрушен прошлой осенью, когда на него упала зажигательная бомба. А как надоели эти неразорвавшиеся бомбы: ведь они до сих пор остаются на дороге, ведущей в деревню. Очень надеюсь, что кто-нибудь вспомнит о них и обезвредит их до того, как растает снег. Такая глупость! Однако из-за этого я не забываю проверять маскировку: света не должно быть видно.
— Этим занимаешься ты?
— Конечно, Джейн. Я не могу рассчитывать ни на кого больше. Твой бедный отец ничего не видит в темноте, хотя и пытается. Правда, Смол — наш новый садовник, которому семьдесят пять, — довольно ловкий. В свободное время он делает «Коктейль Молотова» на случай, если будет нападение. У нас уже накопилось довольно много этих бутылок с горючей смесью. Я ему говорю, что угроза вторжения уже миновала — правда ведь, Джейн? — но он будто не слышит. — Обернувшись, она взглянула на Фредди. — Джейн писала нам, что твои родители сейчас в Лондоне, наверное, им там несладко приходится?
— Да нет, пока ничего. Приходится терпеть неудобства, и страшновато, но это главные трудности. Я навещала их. В конце улицы, на которой они живут, разбомбили дом, но все остальное у них в порядке.
— Кажется, твой отец приехал по призыву де Голля?
— Он уехал из Лос-Анджелеса, как только услышал выступление де Голля по радио из Лондона в 1940 году, и примкнул здесь к «Свободной Франции». Он работает с Густавом Мотэ и группой журналистов, выпускающих газету «Франция». А мама водит «скорую помощь»… В этот уик-энд она дежурит.
— Браво! — сказала леди Пенелопа, ничего не спросив о Дельфине. Джейн писала ей, что никто из членов семьи не знает о ней с тех пор, как оккупирован Париж. Миновав маленькую деревню, они подъехали к большим воротам и остановились.
— Ну, мои дорогие, добро пожаловать! Мы приехали.
Леди Пенелопа въехала на длинную дубовую аллею, в конце которой стоял дом, словно выросший из снежного сугроба, — так тесно окружали его голые, но красиво подстриженные деревья и все еще зеленая тисовая живая изгородь. Дом был наполовину деревянным. Его толстые стены были сделаны из крепких дубовых бревен и светлого кирпича — строительных материалов этого края с известковой почвой и лесистыми холмами. Никто не мог сосчитать, на каких уровнях располагались крыши в «Лонбридж Грейндж», сколько разных стилей использовано в черепичных и кирпичных фронтонах. Асимметричные окна были застеклены крошечными квадратиками, многие из них от старости стали бледно-лиловыми. Очистив штукатурку в самой маленькой кладовой, где леди Пенелопа решила сделать ремонт, рабочие обнаружили две монеты 1460 года. Время щадило «Грейндж», сохраняя то, что больше всего радовало глаз.
В поместье было пять флигелей, построенных в разные годы и отражавших судьбы семьи. Смешение стилей придавало оригинальность и привлекательность этому старинному аристократическому гнезду. Войдя в «Грейндж», Фредди почувствовала себя так, будто оказалась в приветливом благоуханном лесу. Все дверные проемы были украшены сосновыми ветками; они лежали на всех каминах, а в гостиной висела веточка белой омелы, напоминая о Рождестве. Собаки, приветствуя вошедших, лаяли и прыгали.
Джейн Лонбридж была второй по старшинству из семерых детей. Два ее младших брата учились в школе далеко от дома. Три младшие сестренки — девятилетние близнецы и семилетняя любимица семьи — ходили в местную школу, но сегодня по случаю приезда Джейн и Фредди остались дома. Застенчиво пожав руку Фредди, они тут же облепили Джейн, чуть не сбив ее с ног.
— Пойдемте. Обед ждет нас на кухне, — пригласила леди Пенелопа, глядя на свое скачущее потомство и собак так, словно недоумевала, откуда они все взялись.
— На кухню, мамочка? — удивленно спросила Джейн.
— Это самое теплое место, дорогая. Я закрыла большую часть дома и не хожу туда. Когда мы победим, придется черт знает сколько убирать там, но всему свое время.
Почти весь день Джейн и Фредди играли с девочками, радуясь их вниманию. Потом Фредди пошла в отведенную ей комнату, чтобы прилечь до ужина. Она закрыла светомаскировочные занавески, вскоре уснула и проспала почти час, с наслаждением ощущая, что почти совсем согрелась. Целых пять часов наслаждения комфортом… или уже пять с половиной?
Ее разбудил стук в дверь. Вошла Джейн в купальном халате, толстых носках и шлепанцах.
— Я приготовила тебе ванну, — сказала она таинственным шепотом.
— Ванну?
— Горячую ванну. Настоящую. Довоенную. Это совершенно нелегально. Надеюсь, ты никому не расскажешь об этом. Пусть это останется между нами.
— Ты хочешь сказать…
— Я налила в нее больше десяти сантиметров воды, — торжественно объявила Джейн.
— Джейн, ты что? Разве ты не знаешь, что это против правил?
— Не задавай глупых вопросов. Просто иди за мной. Спокойно… Рядом никого нет. Молчи!
Приложив палец к губам, она протянула Фредди махровый халат и повела ее по коридору. Они вошли в огромную комнату, где на медных львиных лапах стояла невероятных размеров ванна викторианской эпохи. Подойдя к ней, Фредди встала на цыпочки, заглянула внутрь и… ахнула. Здесь было не меньше сорока сантиметров воды, и от нее шел пар. Она не видела в ванне такого количества воды с тех пор, как началась война. Хозяйка их с Джейн квартиры ворча разрешала им принимать ванну раз в неделю, заполняя ее чуть теплой водой на положенные десять сантиметров. Правда, они пользовались умывальником, который был у них в комнате. Такое купание, как здесь, было счастьем.
Быстро раздевшись, Фредди села в ванну и обнаружила, что вода доходит ей до талии. Взяв протянутое Джейн мыло, она намылила голову и тщательно, долго мыла и споласкивала волосы перед тем, как начала нещадно тереть себя большой губкой.
— О, Господи, как хорошо. Хорошо, хорошо, хорошо! Я не вылезу отсюда, пока вода не остынет. Пока не замерзнет. Ничто не заставит меня выйти отсюда!
— Вода еще не остыла, дорогая? — с тревогой спросила Джейн.
— Ну… вообще-то… да. Немножко. Нет, Джейн, ни в коем случае не открывай кран. Это нечестно по отношению к другим. Мне и так уже совестно. Как я буду смотреть в глаза твоей маме?
Она откинула мокрые волосы с зарумянившегося лица. Ее тело горело, растертое губкой.
— Не говори глупостей. У мамы еще горы дров.
Джейн внезапно подошла к двери и распахнула ее.
— С днем рождения! — раздалось несколько голосов, и в ванную торжественно вошли три маленькие сестренки Джейн, держа по чайнику с кипятком. За ними появилась леди Пенелопа с громадным чайником, из которого вырывался густой пар. Окружив ванну, они спели под руководством Джейн «С днем рождения тебя», подливая при этом горячую воду в ванну. Когда допели последнюю строчку «С днем рождения, Фредди, с днем рождения тебя», послышался мужской голос: «Вставай, вставай, вставай и всем нам покажись». Все пять представительниц женского рода Лонбриджей выронили свои пустые чайники, закричали: «Тони!» и, забыв о гостье, повисли на старшем брате.
Почти согнувшись пополам, чтобы спрятаться под водой, Фредди затряслась от смеха при виде этой сцены. Неужели Джейн и это запланировала? А может, это все случайно?
— Тони, подойди сюда и поздоровайся, — скомандовала Джейн.
— Лейтенант Мари-Фредерик де Лансель, позвольте представить вам моего брата, командира эскадрильи, достопочтенного Энтони Уилмота Алистера Лонбриджа. Фредди, Тони.
— Ты понимаешь, что делаешь? — с подозрением спросила Фредди, сложив на груди руки.
— Вполне, — ответила Джейн.
— Добрый вечер, командир эскадрильи Лонбридж, — не поднимая головы, Фредди ухитрилась грациозно кивнуть.
— Добрый вечер, лейтенант. Я вижу, вы без формы.
— Я в увольнении, сэр.
— Обычная отговорка.
— Уверяю вас, сэр, это правда.
— Можете доказать?
— Нет.
— Тогда придется поверить вам на слово.
— Спасибо, сэр.
— Нет необходимости заходить так далеко. Просто «сэр» было бы достаточно. Вольно.
— Энтони, выходи сейчас же из ванной! — потребовала леди Пенелопа. — Дай Фредди спокойно закончить купание.
— Но сегодня же ее день рождения, мам. Ты не думаешь, что ей хочется быть среди людей? Я посижу здесь с ней и поболтаю. Джейн, ты можешь нас оставить. Дети, долейте лейтенанту горячей воды.
— Энтони, ты испытываешь мое терпение, — угрожающе сказала ему мать.
— Ну ладно, старушка, раз ты настаиваешь, — нехотя ответил он, не двинувшись с места. — Может, ты знаешь, что идет война и все прежние стандарты потеряли смысл? Не ворчи, мам, черт побери, я иду.
Бормоча что-то вроде заклинания друидов, Джейн рылась в шкафу. Она выбирала что-то из висящих там довоенных вечерних платьев.
— Сомневаюсь, что люди все еще наряжаются к ужину, — наблюдая за ней, сказала Фредди.
— Думаешь, тебе разрешат появиться за столом в день твоего рождения в военной форме?
— После того как мое купание стало достоянием общественности, я не знаю, что думать… и чего ждать.
Фредди расчесывала волосы, стараясь пригладить их, но сегодня, в такой холодный день, они не слушались ее, хотя по армейским стандартам они были короткими и не закрывали форменный воротник.
— Как удачно, что сегодня объявился Тони, — весело сказала Джейн. — Мне кажется, ты ему понравилась.
— Надеюсь, пар помешал ему как следует меня разглядеть. Я не могла смотреть на него.
— Все американцы такие чопорные?
— А все британцы такие нахальные?
— Тони? Он вполне безобиден, — бросила Джейн через плечо, оценивая двадцатипятилетнего брата с позиций младшей сестры. — Он же не полез к тебе, правда? Это было бы нахально, дерзко, возможно, грубо. А он просто надеялся приобрести нового друга. Наш Тони — человек общительный, добрый и очень достойный. Он не доставит тебе неприятностей, крошка. Если ты, конечно, не будешь нарываться сама… и если ты не германский пилот в «мессершмидте» или в «Юнкерсе-88». Вот тогда у тебя действительно будут неприятности, серьезные неприятности. Ага! Вот оно! Я думала, куда же оно подевалось?
Джейн повернулась. В руках она держала вешалку с платьем из серебристой ткани. Платье без бретелек словно излучало сияние. Пышная юбка, казалось, могла танцевать самостоятельно. Талию подчеркивала широкая черная бархатная лента; она завязывалась сбоку бантом, концы которого почти доставали до пола. Рядом висела черная бархатная накидка, отделанная по краю серебром.
— По-моему, очень праздничное, — сказала Джейн, протягивая вешалки. — А если замерзнешь, вот и накидка. Примерь, годится ли.
— Годится, годится! Я обязательно надену это платье. — У Фредди перехватило дыхание от восторга. Все, что происходило с того момента, как она попала в дом Лонбриджей, в их «Грейндж», напоминало пикник на свежем воздухе, экспромт, импровизацию, но совсем не вязалось с реальностью Англии военного времени. Фредди чувствовала себя легкомысленной, возбужденной, недопустимо довольной собой. Даже «ознобыши» перестали ее беспокоить.
— Туфли! — воскликнула Джейн, хлопнув себя по лбу. Она снова полезла в шкаф и вернулась с серебряными туфельками и тонким, как паутинка, шифоновым нижним бельем.
— Что я еще забыла?
— А тиара?
— Совсем не обязательно для ужина, хотя… хотя…
— Шучу.
— Это все в сейфе. Никаких тиар. Жалко, конечно… Давай одеваться. Папа сейчас вернется, а если он не успеет выпить свою порцию перед ужином, у него будет плохое настроение. Крикни, если тебе что-то нужно. Встретимся внизу через полчаса.
— Хорошо. Спасибо за платье, Джейн.
— В этом платье я выслушала пять предложений выйти замуж… оно счастливое… не для тех, конечно, бедняг. Мне, правда, их жалко.
— Им не повезло, — сказала Фредди, кружась и любуясь тем, как поднимается юбка. — Пошли ты их, Джейн.
— Я так и сделала, дорогая.
К тому времени, как Фредди справилась с незнакомыми вещами, подкрасила губы и сделала еще одну тщетную попытку привести в порядок свои блестящие рыжие волосы, все взрослые Лонбриджи собрались в библиотеке перед камином, оживленно болтая, тогда как лорд Джералд, вооруженный серебряным шейкером для коктейлей, готовил мартини.
Никем не замеченная, Фредди немного помедлила перед тем, как войти. Ее переполняли противоречивые чувства. Она посторонний для этой семьи человек, но ей оказали здесь сегодня такое гостеприимство, которого она никогда прежде не испытывала от чужих. Фредди чувствовала, что знает Джейн лучше, чем свою сестру, но она еще не встречалась с отцом Джейн, да и Тони в его военной форме едва разглядела. Она была очень смущена, чего давно уже не испытывала, хотя, вообще-то, могла и не робеть в таком великолепном платье, которое прекрасно сидело на ней. Сегодня ей исполнился двадцать один год. Она была почетным гостем. И, о Господи, они все ждали ее. Подумав об этом и услышав, как отец Джейн мешает в шейкере джин с вермутом, собираясь разливать коктейль, Фредди вошла в комнату. Ее снова охватило смущение, ибо все четверо вдруг замолчали и повернулись к ней. Тишина, смутившая Фредди, была проявлением восхищения. Лорд Джералд, отставив в сторону шейкер, пошел к ней навстречу.
— С днем рождения, мисс де Лансель! — Взяв обе ее руки в свои и изумленно глядя в ее ярко-голубые глаза, он сказал: — Мой сын утверждает, что я пропустил примечательное событие сегодняшнего дня, а может быть, и всего года. По-моему, это нечестно. Не знаю, как вам теперь удастся снискать мою благосклонность. Придется сделать для вас исключение, а еще лучше, если бы вы повторили представление завтра. Только предупредите меня заранее, было бы жаль прозевать это. Скажите, вы пьете мартини?
— Да, спасибо, лорд Джералд. И пожалуйста, зовите меня Фредди. — Этот седой, красивый и обаятельный человек, с такими же, как у Джейн, озорными глазами, помог ей избавиться от смущения.
— Фредди так Фредди, — сказал он, предложив ей руку. — А теперь пойдемте-ка к камину. Надо разлить коктейль, пока он не стал водянистым.
Он повел ее через большую, слабо освещенную комнату с высокими потолками к Джейн, одетой в алое атласное платье, в котором она отнюдь не выглядела скромницей, и леди Пенелопе, в прекрасном коричневом бархатном платье с кружевами цвета слоновой кости. Быстро и незаметно для женщин Тони отступил к наряженной елке, стоящей в углу, сделав вид, что рассматривает электрогирлянду. Он хотел разглядеть Фредди до того, как она с ним поздоровается.
Когда она вошла, Тони показалось, что он видит нимб вокруг ее головы. Было что-то таинственное в том, как это серебряное видение неожиданно и бесшумно возникло в дверях. Так восходит первая, долгожданная и волшебная вечерняя звезда, от которой замирает сердце. Неужели это та же озорная и веселая девчонка, что была в ванной? Какая неожиданная метаморфоза! Может, еще до конца ужина она превратится в поляну с цветущими деревьями?
— Тони, помоги мне, — обратился к нему отец. — Передай, пожалуйста, Фредди мартини.
Подходя к камину с холодным стаканом в руке, командир эскадрильи Энтони Лонбридж чуть не споткнулся о старинный ковер. Фредди подняла на него глаза.
— Еще раз добрый вечер, командир эскадрильи. Вижу, вы не в форме.
— А, это. — Он посмотрел на свой смокинг. — Я думал… особый случай… китель надо гладить… а это, кажется, намного удобней… потом дома… в увольнении…
— Всегда у них находится причина, правда, Джейн? — Фредди пренебрежительно покачала головой.
— Ужасно! У этих типов из королевских ВВС начисто отсутствует понятие о морали. Наряжаются почем зря. Считают, что дисциплина не для них. Наверняка он не потрудился побриться перед ужином, — предположила Джейн.
Фредди очень хотелось протянуть руку и проверить это. Она сразу поняла бы, что Тони англичанин, даже встретив его где-нибудь на Суматре или в Антарктике, подумала Фредди, взяв у него стакан. Об этом ясно говорило его красивое лицо с тонкими чертами и великолепное телосложение. В нем все казалось гармоничным: высокий лоб, зачесанные назад слегка вьющиеся каштановые волосы, разделенные сбоку ровным пробором, голубые глаза под светлыми бровями, породистый нос, делающий его похожим на крестоносца, крупный решительный рот с тонкими губами, румянец на щеках, крупные, прилегающие к голове уши. Строгая импозантная внешность. За счет высокого роста Тони казался почти худым. Он держался как человек, облеченный властью и привыкший отдавать команды. «Британской чопорностью тут и не пахнет», — решила Фредди и улыбнулась ему так, как не улыбалась ни одному мужчине вот уже почти три года.
— Я побрился, — сказал Тони, не обращая внимания на сестру, — хотя вода могла бы быть и потеплее.
— Верю, — беспечно отозвалась Фредди, предчувствуя романтический поворот в своей жизни, и, вдохновленная этим, отошла от него, чтобы спросить леди Пенелопу, откуда у нее такие кружева.
Ужин проходил в комнате, отапливаемой двумя каминами. Блюда подавали пожилая женщина и мальчик лет четырнадцати. Они жили в соседней деревне и приходили помочь повару в особо торжественных случаях. Лишь эта странная пара напоминала во время веселого ужина о том, что в Англии война. Все сидящие за столом похваливали крепкий мороз, приостановивший военные действия, но говорили об этом так, словно боялись сглазить.
Когда затянувшийся ужин подошел к концу, лорд Джералд исчез на кухне и вернулся с бутылкой шампанского «Дом Периньон». Он откупорил бутылку как настоящий знаток, как дед Фредди, насколько она помнила. С помощью Тони он разлил шампанское по бокалам.
— Я хочу произнести особый тост, — сказал он. — Сегодня мисс Мари-Фредерик де Лансель — Фредди, как зовут ее друзья, — достигла знаменательного возраста. Александр Поп писал о «юноше проворном», который «ждет с тоскою возраста сего»… Сэмюэл Джонсон мечтал «воспарить до самоуверенности двадцати одного года»… Теккерей говорил о «прекрасном времени, когда ему исполнился двадцать один год». Все присутствующие здесь миновали уже этот прелестный возраст: одни несколько месяцев назад, как ты, Джейн, другие давно, как я, но это не имеет значения. Главное, что Фредди не надо больше «ждать с тоскою возраста сего», она живет сейчас в прекрасное время и должна испытать всю его радость. Пусть эта радость будет огромной и растет с каждым годом. За Фредди!
Фредди сидела, зардевшись, пока они все пили за ее здоровье. Она покраснела еще больше, когда леди Пенелопа позвонила в колокольчик и в комнату вошел мальчик. Он, очевидно, стоял прямо за дверью, держа в руках несколько коробок в яркой оберточной бумаге. Мальчик положил коробки перед ней.
— О, нет! — запротестовала она. — Вы все были так добры ко мне. Фантастическое купание — это и есть настоящий подарок.
— Вздор, дорогая. Это импровизированные подарки, поскольку мы не смогли пойти в магазин, но ты должна помнить о таком важном событии, — сказала леди Пенелопа.
— Ну, Фредди, открывай же, — торопила ее Джейн.
Леди Пенелопа подарила Фредди пушистый мягкий свитер небесно-голубого цвета собственной вязки. Только Джейн знала, что мать вязала этот свитер для нее. От лорда Джералда Фредди получила серебряную фляжку с монограммой, которую он всегда брал с собой на охоту, и бутылку драгоценного солодового виски, чтобы было чем ее наполнить.
— Держи ее всегда при себе, на случай кораблекрушения или внезапного нападения норовистого слона, — пошутил он.
Джейн разыскала в своем «сундуке Али-Бабы» черную шифоновую ночную рубашку с кружевами: по ее мнению, она годилась только в особых случаях. Но этот случай так и не представился ей до поступления на военную службу.
— Веришь или нет, крошка, но теперь это тебе будет очень кстати, ведь ты уже достигла солидного возраста, — шепнула она Фредди.
Фредди заставила себя не вспоминать о том времени, когда она была так же счастлива последний раз.
Она легла далеко за полночь. Строго говоря, уже занимался новый день, но ее кровь играла, как вино. Возбужденная Фредди не могла, да и не хотела уснуть. Не хотела, чтобы этот праздник чувств сменился обыкновенными снами. Она лежала, накрывшись одеялом, в новой черной шифоновой ночной рубашке, голубом свитере и шерстяных носках, широко открыв глаза и улыбаясь…
В дверь тихонько постучали. «Джейн, — подумала она, — хочет обсудить этот вечер».
— Входи, — пригласила Фредди.
Дверь открылась, и на пороге появился Тони с подсвечником в руке. В неровном свете свечи Фредди увидела, что он все еще в брюках и рубашке, но вместо смокинга Тони надел кардиган. Он стоял на пороге, не входя в комнату.
— Я принес тебе подарок, — сказал он. — Я же не знал, что сегодня твой день рождения и даже о том, что ты будешь здесь сегодня, поэтому не смог этого сделать за ужином… Может, тебе понравится?
— А не мог бы ты подождать до утра? — спросила Фредди.
— Это сугубо ночной подарок. — С этими словами он протянул ей какой-то продолговатый предмет, перевязанный в нескольких местах лентой с новогодним орнаментом, поэтому угадать, что там, было совершенно невозможно. — Утром это неинтересно.
— Ну, тогда, пожалуй, приму это сегодня.
— Вот я и подумал, что… лучше это сделать сейчас.
Подойдя к кровати, он вручил Фредди подарок. Что-то теплое зашевелилось в ее руках.
— Боже мой… — ахнула она. — Что?..
— Это моя грелка, — объяснил он, довольный ее реакцией. — Я налил в нее горячую воду две минуты назад, а с упаковкой провозился долго.
— Тони, не может быть… твоя грелка? Я не могу отобрать ее у тебя.
— Я испытываю сентиментальную привязанность к этой вещи… мы не расставались все долгие холодные ночи… но теперь она хочет быть с тобой. Я найду себе другую и приручу ее… Обычно они появляются, стоит только свистнуть. Пожалуйста, оставь ее себе.
— Если ты этого хочешь — с удовольствием. И буду думать о тебе каждую ночь, наливая в нее воду. А теперь я хочу спать. Спокойной ночи, Тони!
— Спокойной ночи, Фредди, — сказал он, подвинул стул к ее кровати, поставил подсвечник на пол и сел. — Кое-что еще… поскольку ты все равно не спишь… одно слово… если можно.
— Только одно, — согласилась она, разворачивая неуклюже завернутую грелку и подвигая ее к себе под натянутым до подбородка одеялом.
— Понимаешь, меня только что перевели на новое место, сделали командиром «Орлиной эскадрильи», командиром группы мальчишек, которых я никогда раньше не видел… ну, я и подумал, может, ты посоветуешь мне, как вести себя с ними.
— Посоветовать командиру королевских ВВС, как вести себя с пилотами? Ха! Спокойной ночи, Тони.
— Это янки. Курсанты летной школы. Они здесь уже с сентября, но еще не участвовали в военных действиях… некому было тренировать этих новобранцев… они находятся в боевой готовности с тех пор, как началась нелетная погода и заболел их командир… как бы там ни было, эти мальчишки — теперь моя эскадрилья. Я подумал, поскольку ты тоже янки, вдруг ты сможешь мне посоветовать, как найти с ними общий язык. Совершенно не умею найти к ним подход… к этим иностранцам. Ты понимаешь, наверное, почему мне нужна помощь?
— А ты просто зови их «парни», а не «мальчишки», «типы», «янки», и все будет хорошо. Спокойной ночи, Тони.
— Парни? Но это звучит ужасно грубо. Ты уверена, Фредди?
— Парни, ребята или мужики. Представляешь, «эй, мужики, давайте покажем себя!». Такая вот лингвистическая адаптация. Во всем остальном положись на то, что они усвоят сленг королевских ВВС, а ты научишься их жаргону. Спокойной ночи, Тони!
— Я тебе очень благодарен, Фредди. Ты меня несколько успокоила. — Он встал со стула и сел на край кровати. — Как мило, что ты меня выслушала.
— Всегда рада помочь. Спокойной ночи, Тони.
— Спокойной ночи, Фредди, — сказал он, наклонившись над ней и целуя ее в смеющиеся губы. — Фредди, дорогая, красавица, давай повторим, — зашептал он, обнимая ее и целуя снова и снова.
Оба почувствовали, что страстно хотят ощутить прикосновение друг к другу, подчиниться властному инстинкту, овладевшему ими с того момента, когда Фредди вошла в тот вечер в библиотеку. Они дали волю подавляемым чувствам, неизбежным и необходимым. Тони застонал от блаженства, лежа на одеяле, обхватив Фредди и прижимая к своей груди.
Много минут они восторженно целовали друг друга, почти ничего не различая в слабом свете свечи.
— Тони… тебе удобно? — наконец, шепотом спросила Фредди.
— Терпимо…
— Ты бы мог… ну, снять свои ботинки.
— А я уже.
— Свитер… рубашку… брюки…
— Но я тогда окоченею.
— Я согрею тебя.
— Правда? Я не мог… Я не должен был… о, дорогая, если бы я мог лечь в эту постель…
— Ты уверен, что ты летчик? — пошутила Фредди, понимая, что он, как джентльмен, не мог заниматься с ней любовью под крышей своего дома, не зная точно, согласна ли она.
— Абсолютно!
— Тогда почему ты так робок, будто всем задолжал? — сказала она на жаргоне летчиков: так говорили о тех, кто не входил в летный состав.
Вдруг свечка догорела, и они погрузились в полную темноту.
— Черт! — пробормотал Тони, стараясь нащупать подсвечник.
Резкое движение — и он услышал, как подсвечник отлетел в дальний угол комнаты. Стараясь найти свечку, стоявшую на ночном столике Фредди, он опрокинул настольную лампу, и та упала с громким стуком. Послышался звон разбитого стекла.
— О, дьявол! — забормотал он, осторожно встал, быстро скинул одежду, побросав ее на пол, прыгнул в кровать к Фредди и протянул к ней руки.
— Ой! — вскрикнула она, когда они стукнулись лбами.
— Больно? — с тревогой спросил он.
— Больно, черт возьми, а тебе?
— По-моему, я сломал нос. Вот, потрогай. Как по-твоему? Да нет, черт возьми, это ухо.
— Лучше я не буду трогать твой нос, а то еще выколю тебе глаз, — запротестовала Фредди.
— Разве у тебя нет ночного видения? — спросил он, пытаясь стащить с нее свитер.
— Ты стягиваешь с меня ночную рубашку. Осторожно! Грубиян, отстань! Ты оторвал мне бретельку. И сними свое колено с моего живота.
— Кажется, это мой локоть.
— Почему ты сполз? Поднимись сейчас же. Ты слишком высокий…
— У тебя нет спичек? — жалобно спросил Тони, голова которого оказалась у Фредди под мышкой.
— Тони, лежи спокойно. Я сейчас разденусь и, если ты не будешь вертеться, найду спички и освобожу тебя.
— Хорошо.
Не двигаясь, пока она стаскивала свитер, ночную рубашку, стягивала носки, он прислушивался к тому, как все это падало на пол. Пытаясь дышать под одеялами, он ощутил ее ласковые руки.
— Господи, командир эскадрильи, что это тут? А, это грелка. Я уж испугалась. А что бы ЭТО могло быть?
— Не трогай… это… пока.
— Почему? — невинно спросила Фредди. — Я чувствую дружеское расположение.
— Не надо, — взмолился он.
— Почему? Ты разве не знаешь, что идет война? «Кто не знает цены, тому не миновать нужды», — сказала Фредди и, закинув ногу ему на бедро, прошептала: — Что ты скажешь? Кажется, я нашла для нее правильное место.
В эту зимнюю ночь Фредди и Тони спали с перерывами. Задремав, они внезапно просыпались и сразу понимали, что снова охвачены желанием. Они открывали друг друга — два терпеливых, настойчивых исследователя. Глазами им служили пальцы, языки и ноздри. Они шептали друг другу слова любви и благодарности, опять засыпали, а просыпаясь, нарушали новые запреты. Проснувшись в очередной раз, Тони подумал, что они спят уже слишком долго. Сделав усилие, он встал, подошел к окну и чуть отодвинул маскировочную занавеску. Отскочив от окна, он нырнул под одеяло.
— Дьявол!
— Что случилось? — встревоженно спросила Фредди.
— Дети… они все на улице… только что закончили лепить снежную бабу прямо под твоим окном. Вчера ее здесь не было. Один Бог знает, как уже поздно.
— Взгляни на часы, дорогой.
— Я оставил их вечером у себя в комнате.
— Они подумают, что мы просто проспали.
— Только не Джейн, — уверенно сказал он.
— Мне все равно, — заметила Фредди. — Поцелуй меня, глупыш.
— Я хочу, чтобы они все знали! Я собираюсь все им рассказать! — возбужденно воскликнул он.
— Нет! Ты не посмеешь!
— Какой адрес у твоих родителей в Лондоне? — требовательно спросил Тони.
— Ты собираешься позвонить им и сообщить, что провел со мной ночь? — спросила Фредди, встревожась. Кажется, он способен на все.
— На следующей неделе я буду там и хочу встретиться с твоим отцом.
— Какого черта?..
— Сообщить ему о моих намерениях, конечно. Попросить его согласия, — ответил помятый и бледный Тони с большим достоинством.
— Боже мой, — проговорила Фредди, представив себе эту сцену. — Не думаю, что это правильная идея… это может… напугать его.
— Но я хочу жениться на тебе. Я думаю, ты понимаешь это. Поэтому мне надо поговорить с ним.
— А тебе не кажется, что сначала ты должен поговорить со мной?
— Конечно, но всему свое время. Сначала я должен ему представиться. Его не обидит, что я не слишком силен во французском?
— Нет, — фыркнула Фредди. — Не думаю. Ты и правда собираешься… просить разрешения… чтобы… ну… быть со мной?
— Конечно, если у тебя нет возражений.
— У меня нет сил возражать.
— Тогда я встречусь с ним, ладно?
— Знаешь… он вполне заслуживает приятного известия после всех этих лет.
— Что ты имеешь в виду, Фредди, дорогая?
— Может, когда-нибудь я расскажу тебе. А может, и нет.
— Когда-нибудь ты расскажешь мне все, — уверенно сказал он.
— Только после длительного и настойчивого ухаживания. А возможно, даже и тогда не расскажу. Или ты находишь ухаживание излишним после того, что с нами случилось сегодня?
— О, Фредди, я обожаю тебя. И это навсегда. А ты любишь меня?
— Немножко.
— И только?
— Не только.
— Насколько? — настойчиво спросил он.
— Я бы сказала тебе, но… грелка потекла.
17
Ошеломленная Дельфина стояла в дверях квартиры на бульваре Сен-Жермен, прислушиваясь к шагам Армана: он спускался по лестнице. Всего минуту назад он обнимал ее и она почти чувствовала, как ее защищает его любовь. Между тем сознание того, что он уезжает, леденило ей сердце. Теперь она осталась совсем одна, а Арман стал одним из миллионов французов, покинувших свои дома по приказу о всеобщей мобилизации второго сентября 1939 года. Никто не знал, надолго ли это. Несколько часов она испытывала отчаяние, все еще не веря в случившееся. Убитая горем, Дельфина не могла даже плакать. Она в оцепенении слонялась по квартире, то пытаясь наигрывать что-то на рояле, то залезая под плед. Она безуспешно пыталась представить, что вот-вот услышит, как Арман поднимается по лестнице, открывает дверь и входит в комнату.
Едва Арман покинул ее, Дельфина утратила способность отодвигать от себя реальность. Долгие месяцы это позволяло ей держать равновесие, будто она была канатоходцем и постоянно ходила по проволоке. Но это равновесие, обретенное благодаря Арману, продолжалось до того дня, мысли о котором она старалась отгонять от себя.
Теперь сработал инстинкт самосохранения, и Дельфина поняла, что наступил момент вернуться в свою крепость на Вилла-Моцарт. Пришло время критически оценить ситуацию, оказавшись в привычной обстановке, и понять, чем она была до того, как встретила и полюбила этого мужчину.
Запершись в спальне своего розово-бирюзового викторианского домика, Дельфина прежде всего подошла к секретеру и, отперев его, достала металлическую коробку. Здесь, в этом маленьком сейфе, среди документов и бархатных коробочек с ювелирными украшениями лежали ее синий французский паспорт и зеленый американский. Много лет назад, когда стало очевидно, что их пребывание в Лос-Анджелесе затянется, Поль де Лансель позаботился о том, чтобы обе его дочери имели двойное гражданство: французское и американское. Хотя обе были француженками, как и их родители, они всегда жили вдали от Франции, но Поль, как дипломат, не мог недооценивать преимущества американского паспорта.
Нужно на что-то решиться, думала Дельфина, подбрасывая оба паспорта на ладонях. Она могла оставить Европу, как сделало большинство американцев, и уехать домой в нейтральную Америку. Меньше чем через две недели она окажется в Лос-Анджелесе и сможет остановиться в отеле «Беверли-Хиллз». Для этого надо всего лишь снять трубку телефона и заказать номер. Она представила себе, как закажет любимый салат в «Голливуд-Браун-Дерби», сидя там со своим агентом за завтраком и обсуждая с ним сценарии фильмов. В этой сцене не было ничего фантастического. Напротив, все это осуществится, если пойти в кассу за билетом. Но душа ее протестовала против этой радужной картины, отчетливо всплывшей перед ней.
Что ждет ее, если она не купит билет на пароход? Французская киностудия прекратила существование, как любой другой гражданский бизнес, едва была объявлена мобилизация. Актеры, съемочные группы, техники исчезли, как и Арман. Двадцать начатых фильмов были остановлены в процессе производства. Она осталась без работы, никто ее не ждал, и никакой пользы стране, участвовавшей в войне, Дельфина принести не могла.
При этом она никак не могла уехать. Где-то здесь, совсем близко, находится Арман Садовски, ходит по той же земле, дышит тем же воздухом, что и она. Сейчас такое время, что сказать точно, какой солдат где находится, невозможно, но все, безусловно, скоро уляжется. Он мог в любой момент позвонить ей из казармы, если он, конечно, в казармах, а не в траншее. Может, через два или три месяца он вообще оставит казармы, поскольку до сих пор никаких активных военных действий не началось. Со дня на день она ждала первого письма от Армана: он обещал писать часто. Пока Дельфина у себя в Париже, между ними есть связь и надежда на будущее. Она не могла даже представить себе, что их разделяют тысячи километров.
Дельфина с облегчением убрала паспорта в сейф. Здесь и решать-то нечего.
Всю зиму 1940 года, в период «drole de guerre», или «странной войны», в период затишья, когда французская армия бездействовала, а королевские ВВС только бросали листовки, Арман Садовски находился в своей части на северо-западе линии Мажино. В апреле немцы вторглись в Норвегию и Данию. Десятого мая Гитлер положил конец «странной войне». Его войска, продвигаясь к Франции, вступили на территорию стран, не участвовавших в войне: Голландии, Бельгии и Люксембурга. Раздробленная и деморализованная французская армия пыталась сражаться с наступающим врагом бок о бок с английскими войсками. Не прошло и двух недель, как союзные армии начали отступать под Дюнкерком на побережье. Это избавило британскую армию от необходимости воевать лишний день, но французам, потерпевшим поражение на побережье собственной страны, отступать было некуда, кроме как в воды Ла-Манша. Арман Садовски вместе с сотнями тысяч других французов оказался в плену и был отправлен работать в Германию, на военный завод.
Дельфина ждала. Она ждала, когда шли бои за Дюнкерк, следя за развитием событий, ждала в период оккупации Парижа, ждала вплоть до того июньского дня, когда Франция и Германия заключили перемирие, а остатки французской армии, находившиеся на французской территории, были демобилизованы. Она стойко и упорно ждала во время неразберихи июля и августа. В конце сентября ее терпение было вознаграждено. Откуда-то из Германии пришла открытка, и Дельфина узнала, что Арман жив и не умирает с голоду.
Теперь, когда немцы уже не находились в состоянии войны с Францией, им было важно не допустить в этой оккупированной стране гражданских волнений. Военнопленным разрешили раз в две недели посылать домой открытки. Вскоре, как и все, кто получал эти открытки, Дельфина поняла, что они свидетельствовали лишь о том, что пленный еще жив и в состоянии держать карандаш. Как и тысячи других женщин, она отсчитывала дни между получением открыток. А приходили они с дьявольской нерегулярностью.
Теперь, осенью 1941 года, таких открыток в бесценной пачке, которую Дельфина хранила в своем сейфе, набралось девятнадцать. Четырьмя месяцами раньше, в июне 1941 года, возродилась французская кинопромышленность. За это время было начато производство тридцати пяти новых фильмов. Работа шла под эгидой организации, называемой «COIC»; она сотрудничала как с французским правительством в Виши, так и с оккупационным режимом.
Дельфина прекрасно видела, что в киноиндустрии больше нет ни одного еврея, но оживление в кинопромышленности совпало по времени с переговорами, которые привели к частичному возвращению пленных. Даже если Арман не сможет работать режиссером до разгрома немцев, думала Дельфина, есть надежда на то, что его отправят во Францию. В этой надежде была вся ее жизнь.
Самой влиятельной, богатой и активной была теперь кинокомпания «Континенталь». С ней заключили контракты такие знаменитые режиссеры, как Марсель Карне, Жорж Лакомб, Анри Дэкуэн и Кристиан-Жак; такие известные актеры, как Пьер Френе, Даниэль Даррье, Жан-Луи Барро, Луи Журдан, Фернандель, Мишель Симон и Фейер. Дельфина де Лансель тоже подписала контракт, как и другие, игнорируя — по незнанию или от аполитичности — то, что «Континенталь» был полностью под контролем немцев, а властный Альфред Гревен, личный друг Геринга, напрямую докладывал обо всем Геббельсу.
Компания «Континенталь» отдавала предпочтение легковесным детективам и глупым комедиям, которые должны были прийти на смену американским фильмам, пользовавшимся некогда большим успехом. Компания выпускала также детективы Жоржа Сименона о бессмертном инспекторе Мегрэ и добротные инсценировки романов Золя и Бальзака.
Следуя старым незыблемым мировым традициям, «Континенталь» выпускала фильмы на потребу зрителям, вроде популярных лент о богатых, что делал Голливуд во времена великой депрессии. В фильмах не было профашистской пропаганды, поскольку они не касались военной тематики. Зритель видел изобилие еды, табака и алкоголя, но не слышал ни одного немецкого слова. Действие почти всех фильмов происходило в середине тридцатых годов во Франции, населенной одними французами, что вызывало ностальгию.
Дельфина радовалась, что у нее снова есть работа. Теперь она была так занята, что, слава Богу, у нее не оставалось времени думать ни о чем. В очень популярной серии Дельфина играла героиню по имени Мила-Малу, верную помощницу инспектора Уэнса, роль которого исполнял знаменитый Пьер Френе. Дельфина, никогда в жизни не завидовавшая ни одной женщине, завидовала сумасбродной, легкомысленной, кокетливой Миле-Малу. Она напоминала Дельфине самое себя три года назад.
Когда отборный танковый корпус, в котором служил Бруно, после заключения перемирия был расформирован, молодой человек сразу же вернулся в Париж. Его не тревожило, что война может возобновиться. Проблема состояла в том, как подготовить себе максимально приятное будущее под властью «тысячелетнего рейха». «Конечно, по-настоящему умный человек, — думал он, — человек, не боявшийся умереть со скуки, уже давно осел бы в Швейцарии, но какой смысл жалеть теперь об упущенных возможностях! Банк братьев Дювивье работы не возобновлял, а во всеобщей неразберихе, последовавшей за перемирием, вряд ли у какого-нибудь частного банка было будущее. Что же делать здравомыслящему французу в таких обстоятельствах? — спрашивал себя Бруно. — Где, с точки зрения каждого француза и каждой француженки, лучше жить во время всей этой политической смуты? Где найти тихую гавань, где можно переждать, пока все уляжется и вернется к нормальной жизни? На семейной ферме, если она есть, или в фамильном замке. Земля. Вот что имеет непреходящую ценность», — думал он, направляясь в Шампань.
К моменту появления Бруно в Вальмоне оккупационные власти уже назначили «фюрера» Шампани, герра Клаебиша, представителя известной винодельческой семьи из Рейнской области. Когда виконт Жан-Люк де Лансель сказал своему внуку, что резиденция Клаебиша в Реймсе потребовала, чтобы каждую неделю германским войскам поставлялось из провинции триста-четыреста тысяч бутылок шампанского, Бруно только пожал плечами. «Этого следовало ожидать, — подумал он. — Значит, немцы делают ставку на то, чтобы население Шампани продолжало заниматься своим делом, а хозяева виноградников не прекращали работы». Он решил узнать все, что можно, об этом деле, которое раньше никогда его не интересовало. «Войны, — думал Бруно, постигая тонкости виноградарства, — должны приносить и пользу, а не только вред».
За год Бруно, не забывавший о том, что самый крупный его заказчик — вермахт, почти овладел искусством производства шампанского. Он неусыпно контролировал виноградники Ланселей, объезжая их верхом на лошади, для которой никогда не жалел фуража. Сам он, как и предвидел, тоже не голодал. Еще до вторжения, которое произошло в мае, Аннет де Лансель, памятуя о первой мировой войне, распорядилась посадить огород на месте цветника, а нескольким старым слугам поручила заняться разведением кур, кроликов и свиней. Всю эту живность, а также быка и нескольких коров, держали в постройках, которые находились в небольшом лесу, как и замок, принадлежавшем Ланселям. Обитатели Вальмона с усердием занялись всем этим, хорошо зная, что виконтесса не даст им умереть с голоду, хотя не могли рассчитывать на прежние довоенные пиры.
Бесценный триумвират братьев Мартэн, виноделов Жана-Люка, не подлежал призыву на военную службу по возрасту. Поскольку они были незаменимы, им разрешили остаться в Шампани. Многие из высококвалифицированных специалистов, которые попали в плен, когда вражеские войска вторглись во Францию, и теперь работали в Германии, дважды в год направлялись домой для неотложных работ на виноградниках. В марте они делали обычную работу, а в сентябре собирали урожай. Тем не менее Ланселям не хватало рабочих рук, и на полях, как и во времена прошлой мировой войны, приходилось работать женщинам, детям и старикам. Под неусыпным вниманием Бруно крестьяне, преданные Ланселям и верные долгу, поддерживали виноградники на высокопродуктивном уровне. С началом войны старый виконт как-то сразу одряхлел. Все видели в Бруно наследника и преемника виконта и не донимали старика вопросами.
Зачем же, рассуждал Бруно, совершая верхом на лошади очередную инспекцию, думать обо всех немцах, как о монолите? Человеческая природа, несомненно, сформировала победителей не меньше, чем богатых людей Парижа, в чем он убедился, попав в банковский мир.
Обстоятельства сложились так, что его личные средства девальвировались; титул и фамилия уже не гарантировали уважения; социальные связи не перерастали в деловые.
Разве нельзя допустить, что среди завоевателей найдутся люди, способные оценить того, кто относится к ним без тайной враждебности, в отличие от большей части населения? Конечно, чрезмерная любезность со стороны Ланселей или любого другого француза может показаться подозрительной, но все же… простая любезность — первый шаг к тому, чтобы открыть новые возможности. Должны же быть какие-то возможности, говорил он себе, которые со временем прояснятся. Они всегда открываются тому, кто готов к ним — что в военное время, что в мирное. А теперь, в этот период перемирия, в это смутное время, должно быть больше возможностей, чем обычно. Франция проиграла войну, а Бруно не желал упускать шанс.
Из резиденции «фюрера» Шампани регулярно наведывались инспектора в блестящих черных «ситроенах» и в высоких, начищенных до блеска сапогах, следя за тем, как выполняются их заказы. Могущественные Люфтваффе и флот требовали, чтобы шампанское всегда поставлялось им в первую очередь, и за хитрыми жителями Шампани надо было приглядывать. Поэтому инспекторами, как правило, назначали людей, имевших отношение к виноделию. Конечно, имело смысл посылать людей, способных отличить кисть заботливо выращенного винограда сорта «Пино Менье» от турнепса.
Как проявить любезность к оккупанту, размышлял Бруно, чтобы она не казалась раболепием? Вряд ли можно пригласить человека отведать самое отменное вино, если оно и так ему принадлежит. Можно быть вежливым, да, но недостаточная вежливость может стоить вам жизни.
Но разве нельзя, не вызывая подозрений, попросить совета у опытных виноделов, особенно если вы не житель Шампани, не местный уроженец? А спросив совета, легко сделать вид, что вы доверяете свои личные проблемы если не другу — нет, только не это, — то равному себе. «Есть ли люди, — спрашивал себя Бруно, глядя во время бритья на свое лицо, располагающее к доверию, — которые не любят давать советы? Есть ли люди, которые не испытывают втайне удовольствия, давая совет аристократу, пусть и поверженному?»
Очень скоро почти все в резиденции «фюрера» Шампани в Реймсе знали, что молодой Лансель из Вальмона по понятным причинам несведущ в основных вопросах виноделия. Как объяснял Бруно инспекторам, сопровождая их, ему пришлось заняться винодельческим бизнесом лишь потому, что его дед слишком стар для этого и, уж конечно, слишком стар, чтобы, как он, верхом объезжать виноградники.
Парижский банкир застрял здесь. Никто, безусловно, не испытывал к нему жалости, потому что все немцы и сами застряли в Шампани. Но с ним, по крайней мере, было проще иметь дело, чем со многими остальными. Он спрашивал у них советов, когда в них нуждался, а это бывало частенько, и не гнушался пользоваться ими. Будь таких, как Лансель, побольше среди французов, немцам это облегчило бы задачу. Их угнетало, что они оторваны от дома и семей, что получают проклятые бумажки из Берлина с требованиями обеспечить поставки вина, что большинство населения Реймса и Эперне упорно их игнорирует.
Бруно де Лансель не относился ни к одному из инспекторов как к оккупанту и не проявлял никаких признаков высокомерия. При этом ни одни француз, при всем желании, не понял бы тактики Бруно. Она проявлялась в почти неуловимых оттенках, в интонациях, в простодушном взгляде, невинных шутках, в легких намеках на то, что все — дети Господа. Словом, Бруно вел себя с той же врожденной любезностью, с какой не так давно зарабатывал комиссионные в банке.
Через несколько месяцев после прибытия в Вальмон Бруно получил аусвайс — удостоверение личности, которое давало ему возможность ездить в Париж. Получить разрешение на такую поездку ему оказалось совсем не сложно. Как бывший житель столицы, он объяснил это необходимостью проверить, все ли в порядке в его парижском доме.
Возле своего дома Бруно увидел немецкого часового. Осторожно обойдя дом, он позвонил у двери черного хода. Дверь открыл его старый дворецкий Жорж.
— Месье виконт! Слава Богу! — удивленно и радостно воскликнул он.
— Как тебе удалось сюда добраться? — спросил Бруно, войдя в каморку возле кухни, служившую прежде чуланом. — Когда я после заключения перемирия был проездом в Париже, дом пустовал.
— Мы все прилетели в Париж, — ответил Жорж, — и тут узнали, что вы отправились в Вальмон. Мы поняли, конечно, что вы сделали это по необходимости.
— Кто сейчас живет в доме? — строго спросил Бруно, заметивший, что Жорж чистил серебряную посуду. С кухни доносился запах жареного мяса, а кладовка сияла чистотой.
— В доме расположился генерал фон Штерн. Он в подчинении у генерала фон Холтица, возглавляющего управление по культурным связям, и отлично говорит по-французски. Нам повезло, месье виконт, генерал оставил всех, в том числе вашего слугу Бориса. Борис полагает, что у генерала раньше вообще не было слуги. К счастью, генерал очень спокойный человек, интересуется антиквариатом, восхищен вашей прекрасной коллекцией оружия и библиотекой. Ничего в доме не изменилось, месье. Дом в том же виде, в каком вы его оставили.
— У него есть жена? Дети?
— Сомневаюсь. Нигде не видно их фотографий, а это точный признак, насколько я знаю по опыту. Он частенько приводит уличных женщин, но никогда не оставляет их на ночь.
— У него бывают гости?
— Иногда. Несколько офицеров, таких же спокойных, как и он. Они говорят о картинах, архитектуре и никогда о войне. — Жорж передернул плечами. — Ужины не отличаются роскошью, но едят они с удовольствием и пользуются лучшим вином из вашего погребка.
— Это не слишком большая жертва, Жорж. Ты успокоил меня. Может, разумно ради вас всех проявить любезность и поблагодарить генерала за то, что он заботится о моих коллекциях? — прошептал Бруно.
— Пока заботится, месье виконт? — с надеждой, тихо спросил Жорж.
— Конечно, пока, почему ты вообще об этом говоришь? — сказал Бруно. Он дал дворецкому свою визитку. — Передай это фон Штерну. Спроси, смогу ли я зайти к нему завтра в удобное для него время. Я хочу взглянуть, что за человек спит в моей постели.
— Понимаю вас, месье виконт. Что слышно о мадемуазель де Лансель? И как поживают ваши бабушка и дедушка?
— Печальные новости, Жорж, печальные. Мадемуазель Дельфина, кажется, избегает всех… даже я ничего о ней не знаю… дедушка постарел. Только бабушка сохранила боевой дух.
— Мы все надеемся на вас, месье виконт. Много о вас думаем.
— Спасибо, Жорж. Сообщи мне о встрече с твоим генералом, я буду в отеле.
— Он никогда не будет «моим» генералом, — возразил Жорж, провожая Бруно.
— Я пошутил, Жорж. Мы должны шутить, не таки?
Бруно размышлял о генерале фон Штерне. Пруссак, не аристократ, решил он. Из семьи, которая долго пробивалась наверх. Он соответствует званию генерала не больше, чем сам Бруно. Среднего возраста. Благодаря профессионализму стал одним из экспертов у Геринга. Проводит целые дни в поисках шедевров, которые отправят в Германию для личной коллекции маршала. Довольно мягкий человек этот фон Штерн, подумал Бруно. Не лишен привлекательности, воспитан. Слегка смущается, словно понимает, что даже как победитель не имеет никаких прав на великолепный дом на улице Лилль. Бруно тут же решил приободрить его.
— Я наслушался таких ужасных историй, генерал, о том, как относятся к домам, имеющим историческую ценность и превращенным в бараки. Можете представить, какое я испытал облегчение, увидев, что вы любите и цените красоту, — заметил Бруно, оглядывая свою библиотеку, как воспитанный гость, не имеющий к ней никакого отношения, но при этом считающий возможным выразить восхищение.
— Это один из лучших домов в одном из красивейших городов мира, виконт, — произнес Штерн. По его глазам было видно, что он доволен, хотя и пытается это скрыть.
— Этот дом построили, когда Людовик Шестнадцатый был еще молодым человеком. Я всегда считал счастливчиками тех, кто живут в таких домах, как и хранителей музеев.
— Вы любите музеи, виконт?
— Это моя страсть. Смысл жизни. До войны я проводил в музеях все свободное время, а во время отпуска путешествовал. Флоренция, Рим, Лондон, Берлин, Мюнхен, Мадрид, Амстердам — вот было время! Не так ли, генерал?
Фон Штерн вздохнул.
— В самом деле. Но это время вернется, я убежден в этом. Скоро, благодаря фюреру, вся Европа обретет мир.
— Мы должны жить с надеждой на всеобщий мир, генерал, чтобы сохранить все прекрасное на земле. Думаю, в этом мы единодушны.
— Может, нам выпить за мир, виконт?
— С удовольствием, генерал, с большим удовольствием, — согласился Бруно.
Говоря о недопустимости братания, имели в виду германских солдат и французских проституток, но не джентльменов, у которых могли быть общие интересы. И фон Штерн не единственный из них, Бруно в этом не сомневался. Он откинулся в кресле, ожидая, что последует приглашение на ужин.
* * *
«Я люблю тебя, люблю, — мысленно говорила возбужденная Фредди. — Я люблю всех твоих тысячу двести пятьдесят горячих и сильных лошадей; люблю прозрачный плексигласовый фонарь кабины; люблю твои скошенные эллипсовидные крылья и твой шумный выхлоп, твою перегруженную приборную доску. Я даже люблю чересчур длинный обтекатель двигателя «Мерлин», который загораживает мне передний вид при посадке и взлете, и твой утяжеленный нос. Я люблю тебя в десять раз больше, чем любой надежный, аккуратный до черта «Хоккер Харикен». Я все отдам за то, чтобы поднять тебя в небо, набрать высоту на полной скорости при двух тысячах восьмистах пятидесяти оборотах, а потом пикировать, пока мы оба полностью не насладимся, а потом я бы выровняла тебя на скорости семьсот пятьдесят километров в час и заставила бы вытворять чудеса. Потому что я умею делать это, и знает Бог и все знают, что и ты тоже, ведь, поднимаясь в воздух, ты становишься таким послушным! Котенок! Я люблю тебя, как котенка. Это я тебе говорю, мой «Марк-5-Спитфайр». А что ты мне скажешь?»
— Чертова работа, — громко произнесла она вслух, увидев далеко внизу словно игрушечную панораму, называемую Англией, а на ней очертания знакомого мелового карьера. Именно карьер напомнил ей о том, что это всего лишь рутинная работа по доставке «спитфайра» с завода компании «Виккерс» в Истли на аэродром в Лион-Солент. С высоты полета Фредди хорошо видела зеленые поля Франции по ту сторону Ла-Манша, откуда германские войска ежедневно совершали налеты на Англию.
Этот сентябрьский день 1941 года был идеальным для полетов. Ни тумана, ни даже легкой дымки над Англией, лишь несколько разорванных облаков над проливом. Яркое послеполуденное солнце светило ей в спину, согревая шею между шлемом и воротником. В этот редкий день, когда она уже перегнала два самолета, ей дали слишком короткий, по ее мнению, маршрут: он занял всего полчаса. Хуже всего то, что «спитфайры» перегонялись на скорости маршевого полета в триста пятьдесят километров в час, что было необходимо для обкатки их мощных двигателей. Хотя Фредди к этому привыкла, но никак не могла с этим смириться.
Теперь Фредди летала на «спитфайрах» каждый день, потому что их с Джейн временно прикомандировали к службе перегонки самолетов в Хэмбле, где находился завод концерна «Виккерс», производивший эти умные машины. Оставлять самолеты на поле возле завода было опасно: они становились удобной мишенью для германских бомбардировщиков. Поэтому приходилось немедленно их перегонять.
После того как Фредди доставляла очередной «спитфайр» на новую базу, на нем рисовали опознавательный знак, оснащали вооружением, иногда устанавливали более емкие бензобаки для полетов на дальние расстояния или камеру, если самолет предназначался для разведывательных целей. Кроме того, на самолете рисовали эмблему, свидетельствующую о гражданской принадлежности пилота. Если же пилот был командиром эскадрильи или авиакрыла, то сзади, на фюзеляже, писали его инициалы. Счастливый летчик-истребитель становился обладателем собственной машины. Никто не имел права летать на его самолете, конечно, до тех пор, пока хозяин самолета не заболевал или не погибал.
Взглянув налево, чтобы проверить, далеко ли еще до цели ее маршрута на побережье, Фредди заметила перед новеньким фонарем кабины своего самолета две точки. Они возникли из облака над водами пролива. Что-то в них сразу привлекло ее внимание. Она присмотрелась внимательней. Даже на большом расстоянии Фредди заметила: что-то там происходит. Как и половина жителей Англии, она привыкла наблюдать за воздушным боем с земли. Но сейчас, на высоте, ей было видно, как один самолет преследует другой.
Ей следовало бы снизиться и уйти, подумала она, но набрала высоту, чтобы наблюдать за ними. Поскольку солнце светило ей в спину, ее самолет был невидим. Самолеты, находясь километрах в полутора-двух от нее, быстро заняли такое положение, при котором Фредди легко могла за ними наблюдать. Самолет, уходивший от преследования, оказался также «спитфайром». Одно его крыло было ниже другого, и это говорило о том, что у него выведен из строя элерон. Самолет-преследователь, «Мессершмитт-109-F», не уступавший по летным качествам «спитфайру», нагонял английский самолет, пристроившись ему в хвост. «Спитфайр» делал отчаянные попытки увернуться от пуль, вылетавших из «мессершмидта». Фредди ясно различала эти трассирующие пули и понимала, что у немецкого пилота кончаются боеприпасы.
— Нет! — вскрикнула Фредди, когда пули пробили бензобак «спитфайра» и пламя уже подбиралось к кабине. Верх кабины открылся, и пилот, выбравшись из нее, прыгнул вниз. Фредди, затаив дыхание следила за ним, пока не раскрылся его парашют. Победивший «мессершмидт», гордо выставив напоказ мальтийский крест и свастику, сделал круг. Хочет убедиться, что уничтожил противника, подумала она. Но вместо того, чтобы, увидев упавший в воду «спитфайр», убраться восвояси, он продолжал снижаться по спирали и кружил над висящим в воздухе пилотом «спитфайра». Этот мерзавец собирается убить пилота в воздухе, поняла Фредди, но у него кончаются боеприпасы и он выжидает, чтобы выстрелить наверняка.
Фредди, выжав предельную скорость, устремилась вперед. В этот момент то, что она когда-то слышала о воздушном бое от Мака, то, что рассказывал ей Тони, собственный опыт выполнения воздушных трюков в кино — все привело Фредди к решению — атаковать надо в лоб. Это единственная надежда.
На самолете без вооружения у нее был только один шанс сбить «мессершмитт» — внезапно, на полной скорости, врезаться в него. Он должен думать, что Фредди намерена открыть огонь по козырьку его кабины и будет стрелять в последнюю секунду.
Фредди поняла, что немецкий пилот заметил ее. Он перестал описывать круги и, изменив направление, полетел ей навстречу. Фредди автоматически определила, что их разделяет около двух с половиной тысяч метров. Точный выстрел делался с расстояния двухсот метров. С отчаянной неумолимостью самолеты неслись навстречу друг другу. Это походило на психологическую войну. Когда до сближения оставалось метров триста, «мессершмитт» внезапно свернул, набрал высоту и полетел на восток.
— Так тебе, зараза, так тебе! — кричала Фредди, упоенная победой. Она погналась за ним, лишь через минуту осознав безумие своих действий. С бешено колотящимся сердцем она нехотя прислушалась к голосу разума и полетела снова на запад. Пилот «спитфайра» уже коснулся воды.
Одетый в спасательный жилет, он освободился от парашюта и, пока она покровительственно кружила над ним, надул маленькую одноместную резиновую лодку. Эти лодки спасли жизнь многим авиаторам союзных войск. Пилот помахал ей двухлопастным веслом, но Фредди низко кружила над ним, пока не увидела, что один из катеров спасательной службы отошел от причала и направился к летчику. Предельно снизив скорость «спитфайра», Фредди отодвинула верх кабины и, высунувшись, обменялась приветствием с пилотом, преодолевающим сильное течение. Она смутно видела загорелое улыбающееся лицо.
Летчик пытался что-то кричать ей, но она не могла расслышать его. Она сдвинула шлем назад, открыв уши. Ветер трепал выбившиеся волосы, но ей так и не удалось ничего услышать. Катер уже приблизился к нему, и у нее больше не оставалось причин задерживаться. Закрыв верх кабины, Фредди взялась за ручку управления и полетела к месту назначения над деревнями, так хорошо ей знакомыми, что она могла сказать, какой фермер и когда начнет косить траву и сушить сено.
— Фредди, ты ничего не знаешь об этом? — спросила Лидия Джеймс, капитан, командир женской группы службы перегонки самолетов, протягивая ей газету.
Фредди удивленно просмотрела страницу. «Таинственный «Спит» спас жизнь пилоту королевских ВВС», — гласил заголовок. Статью о ее подвиге написал репортер, оказавшийся на спасательной станции, когда туда доставили мокрого, но невредимого пилота сгоревшего «спитфайра».
— Не понимаю, Лидия.
— Меня интересует этот инцидент… этот «таинственный «спит». Ты вчера летала в том районе. Ничего необычного не заметила?
— Нет, Лидия. Наверное, я пропустила это.
— Странно, кажется, никто ничего не видел. Спасенный летчик говорит, что не различил опознавательных знаков, но утверждает, что у пилота рыжие волосы. Считают, что это мог быть кто-то из нашей группы.
— Вряд ли. Безоружный самолет атакует «мессершмитт». На такое способен только безумный… или кто-то из мужчин. Почему они спрашивают тебя? На каждую женщину-пилота приходится трое пилотов-мужчин. Не говоря уж о том, что это совершенно противоречит нашим правилам. Этот летчик ВВС, наверное, был в шоке.
— Именно так я им и сказала, — сдержанно ответила капитан Джеймс. — Фредди, желаю тебе всего самого лучшего. Или так нельзя говорить невесте?
— Думаю, можно, Лидия. Спасибо. И еще раз спасибо за недельное увольнение.
— Совершенно естественно в таких обстоятельствах. Тебе не кажется?
— Естественно, но замечательно, — ответила Фредди, направляясь к двери.
— О, Фредди, еще одно…
— Да?
— Если хочешь остаться в службе перегонки самолетов…
— Конечно…
— Никогда больше не делай этого.
В этот мягкий солнечный сентябрьский день «Лонбридж Грейндж» лениво дремал, пропитанный ароматом поздних желтых роз. День свадьбы Фредди. Накануне сюда приехали Ева и Поль де Лансель и два брата Тони, школьники Найджел и Эндрю. Вместе с остальными Лонбриджами они нетерпеливо ждали, стоя у парадного входа в дом. Наконец на «виллисе», заправленном бензином, который друзья-пилоты преподнесли вместо свадебного подарка, к дому подъехали Фредди и Джейн.
Ухаживание затянулось, как Фредди и предупреждала Тони, поскольку она не собиралась вступать в брак. Она не разделяла взгляда многих женщин в тылу, считавших своим долгом осчастливить воюющих мужчин, поскольку сама была незаменима как летчица.
Хотя по расписанию у Фредди после тринадцати дней работы было два выходных, они редко совпадали с выходными Тони. Однако они встречались вечерами после полетов. В конце концов Фредди уступила решительности и пылкости Тони, которого и сама полюбила, хотя часто вспоминала прошлое. Впрочем, Тони воспринимал это как очаровательную уклончивость.
Фредди с трудом вылезла из машины. Три маленькие девочки, обхватив руками ее ноги, мешали идти.
— А где Энтони? — спросила она у Пенелопы, удивленная тем, что не видит жениха.
— Он в пути. Позвонил минут десять назад… Это так глупо, дорогая, но, кажется, шафером будет незнакомый человек… Надо же такому случиться, что Патрик именно сейчас заболел свинкой!
— Лучше сегодня, чем завтра, — воскликнула Джейн. — А кого Тони собирается привезти с собой?
— Кого-то из своей эскадрильи, как я понимаю… Было плохо слышно, а он очень спешил.
Фредди расцеловала родителей, которые чувствовали себя вполне непринужденно среди малолетних Лонбриджей. Они часто приезжали в «Лонбридж Грейндж» в течение весны и лета 1941 года по приглашению леди Пенелопы, добираясь из Лондона на поезде. Между родителями жениха и невесты возникла теплая дружба, столь же основанная на взаимной симпатии, сколь и на надежде, что Фредди и Тони наконец поженятся.
— Никого не волнует, что невеста умирает с голоду? — спросила Фредди.
Поль обнял ее, взял за подбородок и поцеловал в лоб. «Я должен благодарить Бога за этого ребенка», — подумал он и переглянулся с Евой. Где теперь Дельфина? В их взглядах читался вопрос, который так давно их мучил. Они старались не касаться этой темы, поскольку Дельфина была так же недосягаема в оккупированной Франции, как если бы находилась на Луне. Но это мучило их постоянно. Ева повернулась к Фредди.
— Тебе надо подкрепиться, — заметила она.
Ева участвовала в подготовке торжества. Решили, что венчание состоится в деревенской церкви. На церемонию пригласили всех жителей деревни. На банкете в «Грейндже» должны были присутствовать только члены семьи, но их количество из-за транспортных проблем военного времени было сведено к шестидесяти. Фредди казалось, что и это слишком много.
В обществе младшей из девочек Софи и близнецов Сары и Кейт Фредди и Джейн ели бутерброды в кладовой. Их просили ни в коем случае не появляться на кухне, где несколько женщин с окрестных ферм помогали леди Пенелопе закончить последние приготовления к пиру.
По традиции свадьбу назначили на полдень, но, поскольку ни невеста, ни жених не могли обещать, что успеют вовремя, решили перенести ее на три часа дня. Это давало возможность гостям приехать до наступления темноты и выключения света.
— Что-то вся эта затея мне не нравится, — пробормотала Фредди, дожевывая последний бутерброд.
— Что с тобой… объелась? Ты слишком быстро все смолотила. Волнуешься?
— Волнуюсь? Черт, я в панике. В ужасе! Я не могу решиться на это, Джейн. Я ведь едва знаю Энтони. Мне не следовало поддаваться на твои уговоры.
— Мои? — возмутилась Джейн. — Я ни звука не проронила. Думаешь, мне нужна такая родственница, как ты, янки несчастная? Мой брат мог бы жениться на дочери герцога… а он… прельстился смазливой мордашкой. В мирное время этого не произошло бы, у тебя просто не было бы шанса. Но хуже всего то, что ты француженка, а наша семья никогда не простит Вильгельма Завоевателя. Ему следовало сидеть на его чертовом берегу пролива и оставить Британию англосаксам. Послушай, если хочешь, я пойду и скажу маме, чтобы она отменила все это шоу. Мы уже потеряли шафера, почему бы не потерять еще и невесту? Свадебных подарков пока не так много… среди них нет ничего, что жалко возвращать. Люди поймут… с начала войны все приобрели гибкость. Не будь Энтони моим братом, я сама вышла бы за него замуж, чтобы не разочаровывать гостей. Только скажи — и мы вернемся с тобой в Хэмбл раньше, чем они это обнаружат. А еще лучше, поедем в Лондон и подцепим там парочку страстных, пылких, сексуально озабоченных военных и отлично повеселимся.
— Ладно, ладно, молчу, — уныло отозвалась Фредди.
Она одевалась в спальне Джейн. Ева и леди Пенелопа вертелись тут же. На чердаке у Лонбриджей было перерыто все в поисках подходящего свадебного платья, но Фредди не подобрала ничего, поскольку была гораздо выше всех невест Лонбриджей прошлых поколений. Введенные во время войны ограничения делали невозможным покупку нового свадебного платья, но леди Пенелопа настояла на том, чтобы невеста ее старшего сына выглядела как должно.
В военное время расцвел ее талант, и Пенелопа научилась шить почти профессионально. Она использовала лиф от платья поздней викторианской эпохи с глубоким, обшитым лентой вырезом и рукавами-буфф. Безжалостно распоров два платья эпохи Георга III, у одного из которых была атласная плиссированная юбка с широким поясом, несколько коротковатая и не достающая до пола, Пенелопа скомбинировала их: пригодилась кружевная юбка с длинным шлейфом от второго платья. Софи, Сара и Кейт все утро трудились над гирляндой из крошечных розочек белого цвета, приколов ее к вуали, достающей до плеч. Эта вуаль хранилась в семье больше трехсот лет, со времен Карла II.
Покорно глядя в зеркало на то, как она постепенно преображается, Фредди думала о том, что эти кружева, пережившие несколько веков, избавляют ее от страха перед свадебной церемонией, поскольку сейчас, без военной формы, она все меньше и меньше походила на себя. Мысль о браке казалась уже не столь невероятной. Единственное, что Фредди узнавала, так это волосы, вздымавшиеся из облака кружев.
Как много замужних женщин, думала Фредди. Ее мать, леди Пенелопа, которую теперь придется называть просто Пенелопой. Она знала сотни замужних женщин, не тяготившихся браком. Что же тогда раздумывать, чего бояться? Но сегодняшний день — идеальный для полетов.
— Энтони уже готов? — спросила она Джейн. — Форма поглажена и все остальное в порядке?
— Энтони? — рассеянно отозвалась Джейн, застегивая молнию на своем светло-зеленом платье.
— Твой брат Энтони, мой жених, как говорят.
— О, Господи! — Джейн помчалась проверить и, вернувшись через несколько минут, взволнованно сообщила:
— Его нет! Никто ничего не знает!
— Что ты там говорила о военных, Джейн? — игриво спросила Фредди.
— Джейн, успокойся, — примирительно сказала Ева. — Он же позвонил и сказал, что выезжает. Ты забыла?
— Это было давным-давно!
— Возможно, он передумал, — задумчиво произнесла Фредди. — Такое случается даже в самых лучших семьях.
— Я с ним разговаривала, — сказала шестилетняя Софи.
— Когда, чертенок ты этакий? — строго спросила леди Пенелопа.
— Недавно. Я была внизу. Там телефон звонил. Я взяла трубку и услышала голос Энтони. Он мне что-то сказал.
— Почему же ты молчишь? — леди Пенелопа перешла на шепот, чтобы не сорваться на крик.
— Он просил никому не говорить, — важно ответила Софи. — У него шина спустилась, и он опоздает. Сказал, что приедет в церковь.
Леди Пенелопа взглянула на часы.
— Софи, Кейт, Сара, быстренько надевайте платья подружек невесты. Мы выходим ровно через двадцать минут.
— А что будет, если нам придется ждать в церкви? — зловещим тоном спросила Софи.
— Софи Харриет Элен Лонбридж… ты… испытываешь… мое… терпение.
При этих угрожающих словах все три девочки, пища, бросились наутек, сверкая белыми чулками.
В колясках, запряженных лошадьми, сопровождаемые всей деревней и соседями по графству, одни из которых шли пешком, другие ехали верхом или в колясках, свадебная процессия приблизилась к церкви в тот момент, когда подъехала машина с женихом. Тони и шафер вошли в ризницу до того, как часы на башне пробили три раза.
Войдя под руку с отцом под своды церкви, Фредди почувствовала себя, как в коконе. Она двигалась под звуки знакомого величественного марша. Единственное, что мешало присутствующим насладиться музыкой, это то, что все невольно прислушивались, не раздастся ли звук летящего бомбардировщика.
— Так вот какая у тебя невеста, — вздохнул шафер Джок Хемптон, бросив взгляд на высокую девушку с царственной осанкой. Всего несколько часов назад он собирался уехать в Лондон. — Теперь я понимаю, откуда такая спешка.
— Умолкни, — сквозь зубы проговорил Тони, для которого сейчас существовала одна Фредди. Узнать ее было невозможно.
Высокий и стройный, Тони был сантиметров на пять ниже долговязого светловолосого калифорнийца. Тот был в эскадрилье с самого начала, задолго до того, как Тони стал ее командиром. Оба молодых человека в синей форме королевских ВВС молча ждали. Под музыку органа Поль подвел Фредди к жениху.
Сделав шаг назад, Джок Хемптон наблюдал, как они произносили брачный обет. В полутьме церкви он почти не видел лица Фредди, скрытого вуалью. Кружево закрывало ее волосы, и, только когда она откинула вуаль, чтобы поцеловаться с Тони, Джок узнал ее. Она оказалась красива, на редкость красива, но главное, он встречал ее раньше и знал, что никогда не забудет это лицо. Впервые Джок увидел ее двадцать четыре часа назад, когда она, сдвинув назад шлем, помахала ему рукой; двадцать четыре часа назад, когда Фредди спасла ему жизнь.
Свадебный банкет проходил в самой большой комнате старого флигеля. Фредди успела потанцевать с каждым из своих новых родственников до того, как Джок Хемптон, увидев, как она топчется на одном месте с юным Найджелом, решил, что может позволить себе подойти к ней.
— Хочу поблагодарить вас, — сказал он.
Фредди давно уже сняла вуаль, и ее волосы растрепались, когда она танцевала с мужчинами от двенадцати до восьмидесяти лет. Каждый из них претендовал на близкое родство с ней. Шафер был единственным здесь мужчиной, который, как она надеялась, помолчит, и ей не придется напрягать усталые мозги.
Удивленная, Фредди подняла голову и посмотрела на него. «Наверняка из Калифорнии», — подумала она. Фредди училась в школе с похожими на него парнями, героями футбольных баталий в летних лагерях. Они на голову возвышались над другими — отличные спортсмены, золотая молодежь. Все они были немногим моложе этого героя. Выгоревшие волосы падали ему на лоб, что противоречило моде: мужчины сейчас пользовались бриалином для укладки волос. Он показался ей сильным. Фредди с удовольствием отметила, что танцует он отлично. В его ясных голубых глазах светилась загадочная улыбка, а от уголков глаз шли светлые морщинки, которые бывают только у пилотов, щурящихся от солнца. Этот рыцарь-викинг, неожиданно появившийся на ее свадьбе, как она поняла, непокорен и неприручен. «У него немножко пиратский вид», — подумала Фредди. Где Тони его откопал? Она вопросительно посмотрела на него. О чем это он говорит?
— Я собирался поблагодарить вас раньше, — пояснил он. — За то, что спасли мне жизнь… человек в надувной лодке… Не помните меня? Вы делаете такое каждый день?
— Вы?!
— Ага…
— Ах вы..! Идиот, трепач, кретин! Из-за вас меня чуть не уволили из вспомогательной авиации. Вы что, черт возьми, не могли держать язык за зубами? Нет, вам надо было выболтать все репортеру… всю эту глупую, идиотскую…
Она резко остановилась, чуть не упав ему на руки. Слишком потрясенная, она не могла танцевать.
— Вы весьма четко формулируете свои чувства, — заметил Джок, поддержав ее. — Хорошо, что вы сегодня не вооружены.
— Я и тогда была не вооружена. Мы летаем безоружными, умник!
— Вы блефовали с «мессершмиттом»?!
— Честно говоря, я об этом не думала.
— Ну и ну, миссис Лонбридж. Не знаю, завидовать ли моему замечательному командиру эскадрильи. Он понимает, что его жена — маньяк?
— Да ладно тебе! Мне хотелось развлечься для разнообразия! Вы, мужчины, присвоили себе право воевать, а мы должны довольствоваться перегонкой самолетов. Тебе понравилось бы заниматься все время только этим? Повтори-ка свое имя.
— Джок Хемптон, мадам.
— Ну, Джок Хемптон, посмей только рассказать Энтони, что я сделала! Или заикнуться кому-нибудь еще. Ты меня слышишь? Или тебе придется пожалеть об этом! А я держу свое слово.
— Клянусь. Страшно даже вспоминать…
— Что вспоминать? — спросила она, подозрительно прищурившись.
— Я не помню, о чем должен забыть.
— Может, ты и не такой толстокожий, каким мне показался.
— Кажется, пора резать свадебный торт, миссис Лонбридж.
— Не пытайся сменить тему.
— Да нет, правда пора. Все ждут. Но позвольте мне сказать одно только слово в свое оправдание. Потом я никогда не вернусь к этой теме.
— Ну ладно, давай.
— Я не говорил ничего репортеру о том, что это была девушка. Я только сказал про рыжие волосы, хотя уже тогда видел, что они были слишком длинными для мужчины.
Фредди задумалась.
— Да, наверное, не сказал, — медленно произнесла она. — Значит, нужно извиниться за все, что я тебе наговорила?
— Невеста не должна извиняться.
— Ну а я все-таки извинюсь. Не следовало грубить тебе. Во всяком случае, в день моей свадьбы.
«Мне нужна эта девушка, — думал Джок Хемптон, — она должна была стать моей».
18
В начале 1943 года по всей Франции были расклеены плакаты. С них смотрел могучий откормленный молодой француз в голубом рабочем комбинезоне, изображенный на фоне станков. Вдали виднелась крошечная Эйфелева башня. Красно-бело-синяя большая надпись гласила:
«РАБОТАЯ В ГЕРМАНИИ, ВЫ ПРЕДСТАВЛЯЕТЕ ФРАНЦУЗСКОЕ КАЧЕСТВО».
Каждый раз, проходя мимо этого плаката, Бруно думал о том, что «французское качество» — это желанный товар независимо от того, каков он… хотя нужно поздравить себя с тем, что лично ему не пришлось демонстрировать французское качество на принудительных работах в Германии. Его обязанности в Вальмоне избавили его от этого. С 1942 года, когда его дед Жан-Люк де Лансель умер от пневмонии, Бруно стал хозяином дома Ланселей, замка Вальмон и всех виноградников. Убитая смертью мужа, Аннет де Лансель уединилась в своих комнатах и устранилась от хозяйства.
Несмотря на дружеские отношения, которые установил и поддерживал Бруно с представителями «фюрера» Шампани, он все же воспринимал свое шампанское как военный трофей. Правда, немцы разрешили владельцам виноградников продавать двадцать пять процентов винной продукции гражданским клиентам Франции, Бельгии, Финляндии, но эта уступка только позволяла поддерживать производство и не давала ничего больше.
«Каким, черт побери, неприбыльным стало производство шампанского», — мрачно думал Бруно после похорон деда, оглядывая океан виноградников в холмистой долине, простирающейся вокруг замка. Французское качество, да, он не отрицал этого. Но с таким же успехом он мог быть мясником и стоять за прилавком, заваленным требухой — рубцом, печенкой, мозгами, — потому что не получал эстетического удовольствия от открывавшегося ему вида. За последние два года он узнал все, что было нужно, о разведении винограда, и гораздо больше того, что когда-нибудь собирался узнать.
Он не рассчитывал застрять в этом дьявольски скучном уголке Франции после войны, а это рано или поздно случится, когда все страны окончательно вымотаются. Но кто может предсказать, когда это случится? Кто способен сказать, где будут находиться центры новых могущественных сил? В Париже мало понимали, как развиваются события, еще меньше представляли это здесь, в Шампани, вдали от полей сражений. Как и миллионы других людей, Бруно считал, что в конечном счете Франция каким-то образом присоединится к Германии и, при благоприятном раскладе, рейх отнесется к ней скорее как к младшему партнеру, нежели как к поверженной стране.
Бруно потрогал ключ от обширных погребов, где было спрятано шампанское Ланселей, не тронутое с начала войны. Немцы не подозревали о его существовании, о нем знал только Бруно и трое Мартэнов, последние, кто достал бутылку урожая 1939 года. Только за день до смерти дед наконец передал ему этот священный ключ.
Бруно помнил, что, когда его впервые привели в эти подвалы в 1933 году, дед сказал ему, что в случае войны любой из Ланселей, вернувшись сюда, в Вальмон, сможет восстановить виноградники, продав запас шампанского.
«А по мне, — размышлял Бруно, — замок может превратиться хоть в руины, а известняковые земли зарасти капустой. Не нужны ему ни вино, ни урожай. Будь проклято это французское качество!»
Полюбил бы он эту землю, если бы она принадлежала только ему и не пришлось бы делить ее с сестрами, имевшими на нее такие же права? Нет, подумал Бруно, никогда. Он был бы… удовлетворен… тем, что владеет всем этим, но никогда не полюбил бы землю, которая требовала такого ухода. Земля должна доставлять удовольствие, а не принуждать к работе. Замок должен славиться дичью, лошадьми, охотой, произведениями искусства и архитектуры, знатными предками и былой роскошью, как это было во времена Сен-Фрейкуров, пока они не разорились. Вальмон казался Бруно недостаточно роскошным. Живопись была представлена только семейными портретами, мебель тоже оставляла желать лучшего. А земли всегда останутся лишь сельскохозяйственными угодьями.
Будь он единственным владельцем, Бруно нанял бы управляющего, заставив его выжать все, что можно, из каждого гектара, а сам бы наведывался в Вальмон, проверяя, не обводят ли его вокруг пальца. Что толку считаться аристократом, если у него в Вальмоне те же заботы, что и у крестьян, и он не отличается от тех, у кого есть кусочек земли, где выращивают виноград?
Вот тайные запасы шампанского в погребах — совсем другое дело! Эти запасы сейчас ценнее золота и должны принести ему доход. Смерть деда дает ему возможность продать их. Нужно сделать это как можно скорее, поскольку с каждым днем, пока эти позеленевшие бутылки со своими нарядными этикетками лежат здесь без дела, приближается конец войны. А когда наступит неизбежный мир, пусть даже он принесет немцам господство над всей Европой, придет период неизвестности и неразберихи, как это было после падения Франции.
Но на этот раз, поклялся себе Бруно, он подготовится к этому лучше. Шампанское будет обращено в надежную валюту и переведено в стабильную страну, так, чтобы он мог воспользоваться наилучшим образом теми возможностями, которые сулит наступление мира. Ему уже двадцать восемь лет. Он потерял три года. Вот уж поистине французское качество!
Бруно решил позвонить своему приятелю генералу фон Штерну. Он делал это довольно часто. Генерал уже давно чувствовал себя как дома на улице Лилль. Заключить джентльменское соглашение по поводу судьбы нескольких сотен тысяч бутылок, лежащих штабелями высотой в восемь метров и составляющих силу дома де Ланселей, его сердце и его будущее, оказалось пустячным делом.
В процессе поисков произведений искусства генерал приобрел знания о том, кто кому и что продает, далеко выходящие за рамки его миссии. Он тотчас понял, что нужно Бруно, и, обменявшись несколькими телефонными звонками, один раз встретившись и договорившись о том, как разделить добычу, они решили проблему к взаимному удовлетворению.
Они условились, что ночью небольшая колонна грузовиков, находившихся в распоряжении генерала, незаметно прибудет в Вальмон. Дисциплинированные немецкие солдаты переносили бутылки и укладывали их в машины так же бережно и почтительно, как картины и скульптуры. Ничего не разбили, не разграбили; никакого вандализма, никакого шума. Все это не привлекло внимания ни одной живой души в замке. Ничего не узнали и офицеры из службы «фюрера» Шампани, поскольку они не задерживались в подвалах до ночи.
Скрытые в подвалах Вальмона сокровища утекали месяц за месяцем, пока достояние Ланселей не иссякло и не осело навеки на черном рынке. Бруно же, использовав свои банковские связи в Швейцарии, заложил себе солидную основу на будущее. Пострадали только братья Мартэн, преданные виноторговцы, имевшие несчастье знать о существовании этого вина. Бруно счел благоразумным отделаться от них и их цепкой памяти. Им не следовало видеть пустых погребов «Трезор».
Когда после всего этого офицер Реймса пришел проинспектировать виноградники Ланселей, он нашел Бруно глубоко озабоченным и понял, что ему очень нужен совет.
— Считаю долгом сообщить вам, что трое моих людей, пользовавшихся моим неограниченным доверием, встали в ряды Сопротивления, — сообщил ему Бруно. — Не знаю даже, что делать. Мой дед любил этих людей, но я не могу покрывать их, ибо это значит быть с ними заодно.
— Виконт, вы пришли к благоразумному и патриотическому решению. Назовите их имена и больше не думайте об этом. Я передам это службе гестапо в Реймсе.
Ему не будет хватать их опыта, подумал Бруно, услышав, что трех братьев Мартэн казнили. Тем не менее он сказал себе, что и от гестапо есть какая-то польза.
Она бы многое отдала, чтобы услышать ироничный смех Кэри Гранта, увидеть, как легко, чечеточным шагом, поднимается по ступенькам Фрэд Астер, как Мирна Лой дурачит мужчин, думала Дельфина, стараясь держать голову прямо, пока парикмахер прятал ее волосы под париком, который превратит ее в императрицу Жозефину. Американские фильмы стали ностальгическими воспоминаниями с 1940 года, когда их запретили. Сегодня Дельфину гримировали для очередной поверхностной историко-биографической драмы, которые стали очень популярны у продюсеров французских фильмов в последние годы.
«Престиж» и «высокое искусство» были теперь ключевыми словами в киноискусстве, и продюсеры в студийных буфетах обсуждали сценарии, прикидывая, достаточно ли они прославляют французскую культуру и традиции. Оккупированная Франция изолирована от мира, но у нее нельзя отнять ее гордого прошлого. Кинематография обратилась к прошлому величию и былому великолепию.
Многие продюсеры утверждали, что снимают эпические произведения, желая поддержать во французах надежду и вдохновение в этот период поражения. Другие, открыто противостоящие режиму, признавались, что прибегли к историческому прошлому и не привязанным к войне мифам и легендам, поскольку на современном языке исключены даже намеки на трагическое настоящее. Завоеватели были не так уж глупы и понимали, что зрелища необходимы, особенно поверженному народу, который валом валил в кинотеатры, чего раньше не случалось.
В пяти последних фильмах Дельфина играла в париках и длинных платьях, относящихся к разным историческим эпохам. Все эти фильмы снимались в замках, предоставленных немцами для натурных съемок, или в павильонах. Сценарии писали хорошим литературным языком. Точность форм, изысканность чувств и возврат к классике пришли на смену поверхностности ранних фильмов «Контитенталя».
Сидя перед зеркалом в гримерной, Дельфина с профессиональной беспощадностью разглядывала свое лицо. Она могла пока сниматься крупным планом, хотя выглядела плохо, не получив за четыре месяцы ни одной открытки от Армана. Дома, без косметики, она отчетливо видела морщины под глазами — результат ночей, проведенных в слезах, с отчаянием и бессонницей. Ее сегодняшний облик камера увидит завтра, озабоченно думала Дельфина, но, как и все остальные, она не могла позволить себе остаться без работы. Следует с кем-то поговорить, посоветоваться, размышляла Дельфина, пока на ее парике укрепляли тиару из бриллиантов и изумрудов, иначе она погибнет, не выдержав страха за судьбу Армана.
Но с кем поговорить? Она писала бабке в Вальмон еще с 1940 года. Дельфина изливала ей душу, и ее письма походили на страницы дневника. Ответы приходили все реже и реже. У Дельфины появилось ощущение, что она может с таким же успехом отправлять письма, засунув их в бутылки, но эта переписка все-таки позволяла ей чувствовать связь с семьей, нечто вроде комфорта, который испытывала женщина викторианских времен, согревая руки в теплой муфте. Конечно, восьмидесятилетняя Аннет де Лансель уже не могла справляться с проблемами внучки, как одним давним летом, когда она устроила для нее обед. Тот обед круто изменил жизнь Дельфины.
Поразмыслив, Дельфина решила, что как ни прискорбно, но ей придется найти Бруно. Он не ошибся насчет войны, предсказав, как немцы будут преследовать евреев, живущих во Франции. Она часто жалела о том, что не прислушалась тогда к его словам. Теперь, оглядываясь назад, Дельфина понимала, как безрассудно они с Арманом вели себя в то время, хотя кто мог предвидеть такое будущее? Разве только неисправимые пессимисты, вовремя оставившие Францию.
Позвонив Бруно в Вальмон, Дельфина узнала, что он отправился в Париж на несколько дней. Она позвонила ему в отель и очень удивилась тому, что он обрадовался ей так, словно забыл о размолвке во время их последней встречи.
— Конечно, я приеду к тебе, дурочка. Разве возможно иное? — воскликнул он, и они договорились встретиться на Вилла-Моцарт на следующий же день.
Дельфина тщательно готовилась к этому свиданию. Одевшись и подкрасившись, она осталась довольна результатом. Ей казалось, что она не очень отличается от той девушки, которую он видел в последний раз почти четыре года назад. Дельфина должна была скрыть, что охвачена паникой. Инстинкт подсказал ей, что не следует обнаруживать слабость.
«Как всегда великолепна», — подумал Бруно, здороваясь с ней. Дельфине было уже двадцать пять, и держалась она как женщина, а не девчонка. Пленительное очарование ее лица, огромных, красиво посаженных глаз с годами только усилилось. Разве может что-нибудь, кроме лишений, умалить ее красоту, подумал Бруно, но, заглянув в ее затуманенные слезами глаза, понял, что она очень напугана.
Дельфина предложила аперитив, и они несколько минут болтали о пустяках. Дельфина с удовлетворением подумала, что Бруно все такой же легкий собеседник, как и в те времена, когда они были очень близки и оказывали друг другу услуги без всяких объяснений.
— Я очень обеспокоена, Бруно, — вдруг сказала Дельфина. — Армана взяли в Дюнкерке в плен и отправили в Германию, где он работает на заводе. Какое-то время он регулярно присылал мне сообщения о том, что у него все в порядке, но вот уже четыре месяца… он молчит.
— Ты пыталась выяснить, где он находится? — деловито спросил Бруно.
«Так, значит, все еще этот проклятый еврей, — подумал он. — Как плохо и как глупо. И как некстати».
— Что я могу сделать, Бруно? Я даже не знаю, с чего начать.
— Но у тебя, наверное, есть друзья… заинтересованные люди…
— У меня есть друзья на студии, они даже больше чем друзья, но чем они могут мне помочь?
— Я имею в виду не их, Дельфина, дорогая. Полагаю, ты бываешь у германского посла Обеца и господина Эптинга…
— Я получала, конечно, приглашения, но идти туда? Я никогда даже не помышляла об этом.
— Ты сделала ошибку, дурочка, осмелюсь заметить. Отошла от потенциальных друзей, от важных людей, которые могли бы тебе помочь.
— Немцы?
— А кто же еще? Это они контролируют Европу. Кто же еще, если не немцы?
— С чего это какой-то немец поможет мне разыскивать еврея?
— Ах, Дельфина, для тебя существует только белое и черное, как всегда. Может, это и было очаровательным качеством в мирное время, но в нынешних обстоятельствах это слишком наивно. Ты долгое время регулярно получала сообщения от Садовски. Это значит, что его сочли французом польского происхождения и отнеслись к нему, как к другим военнопленным. Он прошел обряд обрезания? Нет? Ему повезло. Было бы несусветной глупостью пытаться сейчас разузнать что-то о еврее по фамилии Садовски, но о французском гражданине, известном кинорежиссере Армане Садовски — почему бы нет? Вполне естественно, если ты используешь все свои возможности, чтобы узнать о нем.
— Мои возможности? Какие?
— Твоя известность значительно возросла, Дельфина. Разве ты этого не осознаешь? А известность дает привилегии, если правильно ею пользоваться. Ничего не выжать из такой популярности — все равно что сжечь деньги, дорогая моя девочка. Она не вечна, в отличие от золотых слитков.
— Я не знала, с чего начать.
— Поэтому и позвонила мне?
— Я… Мне нужен твой совет…
— Положись на меня, Дельфина.
— О, Бруно, ты действительно думаешь, что есть надежда? — со слезами воскликнула Дельфина, уже не скрывая своих чувств.
— Конечно, есть, — уверенно сказал он. — Я подумаю, с чего лучше начать. Если ты мне поможешь, если будешь следовать моим советам, ты поможешь Садовски, где бы он сейчас ни был.
— Да, Бруно, да. Я сделаю все, что ты скажешь.
Направляясь быстрым шагом в маленький отель на левом берегу, Бруно довольно мурлыкал себе под нос. Оказавшись вне его жизни, Дельфина лишила его ценного капитала. Иметь такую сестру было полезно и в прошлом, а тем более сейчас. Конечно же, необходимо поддерживать в ней уверенность в том, что ее еврей жив. Жаль: для нее гораздо полезнее осознать, что его может не быть в живых. Но если лишить ее надежды, толку от нее не будет. Ну что ж, он готов обнадежить ее — это ничего не стоит, — но что она могла дать ему?
Ему не нужно никаких услуг ни от немецкого посла в Париже, ни от представителей по культуре и искусству, думал Бруно, переходя на другой берег Сены. Неважно, что Дельфина не завела личного знакомства с Обецом, Эптингом и даже с Гревеном, ее боссом в «Континентале», что было так легко сделать.
Его генерал фон Штерн… да, вот это другое дело. Фон Штерн проявил редкую сообразительность в деле с шампанским. Почему бы не сотрудничать с ним и дальше?
Шагая по парижским улицам, Бруно обдумывал новость, вернее, слухи — ведь в прессе почти не появлялось новостей — о разгроме большой группы германских войск под Сталинградом несколько месяцев назад, в начале зимы 1943 года. Может, немцы и не станут господствующей силой в Европе, размышлял он, или это один из просчетов в череде побед? Но известно же, что даже Наполеон не одолел русскую зиму.
То, что он не мог предвидеть, к чему приведет разгром под Сталинградом, не имеет значения, решил Бруно. Как бы там ни было, он снова убедился в том, что сколачивать состояние необходимо сейчас, до окончания войны. Фон Штерн слишком умен, чтобы не согласиться с этим. Оба хотели одного — гарантированного богатства в будущем.
Фон Штерн мечтал еще и о другом. Как всякий завоеватель великого и прекрасного города, он мечтал быть признанным. Он обеспечил себе положение, и теперь его обеды проходили не только в компании тихих друзей-офицеров. Он приглашал к себе известных во Франции людей. Так же поступали посол и директор института. Кое-кто, хоть и не все, принимали его приглашения и приходили к нему на улицу Лилль. Он частенько намекал Бруно на то, что хотел бы иметь честь быть представленным Дельфине. Бруно пришлось тогда приводить разные отговорки, что выглядело неловко, но оказалось как нельзя кстати сейчас. Гораздо выгодней представить Дельфину после стольких разочарований фон Штерна, чем тогда, когда подвалы в Вальмоне были еще полны.
Да, надо обнадежить Дельфину и контролировать ее. Она наденет самые красивые украшения и самое элегантное вечернее платье и будет сидеть за столом у фон Штерна, а тот скажет несколько слов, которые вселят в нее надежду. Каждый из них получит то, что хочет… ничего больше… но это будет не менее ценно для него, чем «Трезор», который был теперь под замком, всеми забытый, словно никогда и не существовал.
Фредди нравится ей все больше и больше, думала леди Пенелопа Лонбридж. Она суетилась на кухне, выложенной камнем-плитняком, готовясь к семейному пикнику, который должен был состояться сегодня, жарким воскресным днем начала мая 1944 года. Одно только плохо: Фредди занимается пилотированием тяжелых бомбардировщиков над сельской местностью. Прошел уже год с тех пор, как Фредди и Джейн прошли в Мэрстон Муре тренировку и летали на четырехмоторных самолетах, а Фредди все еще не насытилась приключениями, которые, с точки зрения леди Пенелопы, были… не совсем женским делом. Она с тревогой представляла себе обеих девушек за штурвалом бомбардировщика, хотя с каждой летал бортмеханик, а иногда и второй пилот.
Женщинам гораздо уместнее летать на одноместных «спитфайрах», доставляя их летчикам-истребителям с завода на аэродром. Так мальчик в конюшне, оседлав скаковую лошадь, бережно доставлял ее жокею, собиравшемуся участвовать в скачках. Но — и она никому не призналась бы в этом, кроме дорогого Джералда, — девушкам совсем не подобает пилотировать гигантские «стерлинги», «галифаксы» и «ланкастеры», а уж тем более «летающие крепости» «Боинг Б-17», о которых они прожужжали все уши, начиная с прошлого лета. Леди Пенелопа никогда не думала, что ей придется в течение всего завтрака слушать, как ее дочь и невестка спорят о «давлении надува электронного турбонагнетателя» — что бы это ни значило, — уписывая омлет из великолепного яичного порошка, который привез Джок, приехавший вчера на уик-энд. Можно было подумать, что разговор ведут два старых механика в каком-нибудь грязном гараже.
Чем займется Фредди, когда закончится война и ей придется вести обычную жизнь, хотела бы знать леди Пенелопа. Высадка союзных войск на континент не за горами, насколько она могла судить по ожиданию и напряженности, написанным на лицах Тони, Джейн, Фредди и Джока. Кажется, прошла целая вечность с тех пор, как они в последний раз были вместе. Размышляя обо всем этом, Пенелопа Лонбридж нарезала кусочками консервированную солонину, редкое и роскошное угощение, тоже привезенное в подарок Джоком Хемптоном.
А почему вообще ее так беспокоит будущее Фредди, а не собственной дочери? Может, потому, что Фредди ждет совершенно новая жизнь, а Джейн вернется к той, для которой рождена? Но нельзя же ожидать от Фредди, что она за одну ночь превратится в истинную англичанку. В ней так много пиратского: эти яркие волосы, независимая походка и манера жестикулировать, — трудно вообразить, что она безо всяких проблем станет леди, живущей в поместье. А ведь… когда-нибудь она станет хозяйкой «Лонбридж Грейндж», женой пятнадцатого барона, а в их части графства Кент той женщиной, которая задает тон во всем.
Нельзя отрицать: Фредди понятия не имела о том, чего от нее ждут окружающие, но ей было всего двадцать четыре. Милой девочке придется понять, что от нее требуется не только присутствие на церковных праздниках, охотничьих балах, пикниках, выставках лошадей, на балах в графстве, но и участие в работе женской гильдии и посещение госпиталя — о, после войны возродится так много всего! Знает ли Фредди, как устроить настоящий обед для гостей? Как делать покупки? Может ли научиться играть в бридж? Другие игры вышли из моды. Она должна знать, что, когда они с Тони будут жить здесь, без бриджа им не обойтись. Пенелопа Лонбридж вздохнула.
Что касается Джейн, она вела себя так возмутительно, что мать только разводила руками. Джейн не давала повода для особого изумления, хотя Пенелопа, конечно, знала об отношениях дочери с мужчинами, о чем, безусловно, не догадывался дорогой Джеральд. Это, впрочем, ее не слишком беспокоило. В каждой приличной семье время от времени появляется такая легендарная Джейн. Эта гадкая, гадкая девчонка прекрасно выйдет замуж, тут нечего опасаться, и родит полдюжины прекрасных детей. Да, Джейн — феномен, но о ней не стоит беспокоиться так, как о Фредди.
Когда кончится война, будет достаточно времени, чтобы подумать обо всем этом, сказала себе леди Пенелопа, окидывая взглядом плоды своих трудов. Корзина с «Милки уэй» на десерт; бутылка виски, чтобы угостить всех перед ленчем; множество бутербродов с солониной на тоненьких кусочках хлеба, намазанных консервированным маслом; картофельный салат; брюссельская капуста с луком под домашним соусом, в котором недостаток растительного масла компенсировался щедрым количеством перца. Все это угощение, кроме хлеба и салата, стало возможным благодаря щедрости Джока. Теперь, когда эскадрилья курсантов летной школы превратилась в американскую восьмую воздушную армию, он никогда не приезжал в «Лонбридж Грейндж» без корзины с вкусной едой, заботливо уложенной его сержантом, дежурившим по кухне-столовой. Тот просто не знал, как угодить командиру эскадрильи, подполковнику Хемптону. Милый Джок, подумала Пенелопа Лонбридж, что бы они без него делали?
Он безумно любит Фредди, думал командир авиакрыла, достопочтенный Энтони Лонбридж, бросив ворох побитых молью одеял и подушек под цветущее персиковое дерево возле голубятни, где собирались устроить пикник. Но она уже не та девушка, на которой он женился. Или, если говорить честно, может, это он изменился с тех пор, как у него образовалась эта проклятая каверна? Она не давала о себе знать, пока он не поднимался на высоту шесть тысяч метров или не пикировал оттуда, но это сделало его непригодным для полетов, заставило сесть за стол. Теперь он командовал авиакрылом из тридцати шести истребителей вместо того, чтобы пилотировать собственный самолет. Каверна! Надо же такому случиться! Но если признаться, возможно, именно то, что он привязан к земле, а Фредди вольна летать, побуждало его думать о том, что она переменилась.
А в чем конкретно эта перемена? Безусловно, в ней раньше не было этого… командирского?.. начала, которое появилось теперь. Эту военную форму, придающую ей такой лихой, победоносный вид, он сожжет в ту же секунду, как кончится война. Сожжет форму, набьет ее черные туфли камнями и утопит их в реке, разрежет ее фуражку на миллион кусочков, оторвет ее «крылышки» и упрячет их навсегда, заставит ее отрастить волосы до колен и носить платья с огромным декольте — плевать ему на то, что скажут люди, — и задать ей хорошую трепку, чтобы знала, кто в доме хозяин. Он не мог дождаться! Раньше ее так не поглощало то, что она делает. Теперь, когда им удалось провести вместе два выходных дня, Фредди столько трещала о своих бомбардировщиках, что он сорвался и велел ей заткнуться. Он гордился ею, — черт побери, кто бы не гордился такой отважной женой? Но бомбардировщик все равно что какой-нибудь проклятый грохочущий автобус с крыльями, разве она этого не понимает? Неужели Фредди не могла быть немного… тактичнее… говоря о том, какое удовольствие получает от своей работы, и зная, что он не может уже делать то, чего ему бы хотелось?
Если разобраться, думал Тони, сидя на одеяле и обхватив колени руками, ей следовало уйти в отставку два года назад, когда родилась Энни. Служба вспомогательной авиации — гражданская организация, между прочим, и Фредди могла уйти, не вызвав никаких нареканий, но нет, она продолжала летать до шестого месяца беременности, когда уже больше не влезала в свою форму, как ни расставляла пояс. Только тогда она осела здесь, в «Грейндже», доводя его бедную мать до такого же безумия, как и его. Да, правда, он должен признать, что они не собирались заводить ребенка в середине войны, но, когда вы женитесь, такое случается. Что ему было делать, извиняться? Она произвела на свет малышку в конце восьмого месяца, словно не могла подождать ни секунды, а через три месяца вернулась во вспомогательную авиацию такая же сильная, красивая и похожая на пирата, как всегда. Она оставила драгоценную маленькую Энни с его мамой, Евой, Софи, Кейт и Сарой и со всеми остальными, кто хотел о ней заботиться. Все это они, конечно, и делали, так что Энни, бедняжка, наверное считала, что у нее шесть или семь мам.
При мысли об Энни Тони улыбнулся. Такой любознательный эльф! Энни никогда не ходила, если была возможность побегать. Она уже знала все овощи на огороде, каждое дерево, каждый тисовый кустик, каждую розу, каждую собаку и каждую лошадь, которые появлялись когда-нибудь возле дома. Она не по годам серьезно интересовалась живыми существами, предпочитая их игрушкам. Его маленькая Энни, нежная и грациозная, словно котенок, старалась сохранить равновесие на своих маленьких ножках. Энни ни на чем не летала, даже на шарике и, если это будет в его силах, никогда не полетит. Она вырастет серьезной и изящной, такой, какая она сейчас в этом зеленом мирном краю. Она научится ездить верхом и вязать, как его мама, и, конечно, говорить по-французски, чему ее учит Ева, которая приезжает сюда, в «Лонбридж Грейндж», при первой же возможности. Его Энни будет настоящей английской благовоспитанной леди. А как только закончится война, в ту же минуту, как объявят мир, он постарается, чтобы Фредди сразу забеременела. Когда же родится ребенок, он приложит все силы, чтобы у Фредди была куча детей. Тогда Фредди некогда будет думать о том, чем во время войны она заполняла долгие часы. Бомбардировщиками? Истребителями? Чем они были для нее, как она могла интересоваться какими-то машинами, мать стольких детей… И к тому же она должна, в первую очередь, заботиться о муже, как всякая хорошая жена.
* * *
Она любит Фредди, по-настоящему любит, думала Джейн, помогая матери выносить еду в сад. Но чем больше она ее узнает, тем лучше понимает, что в ней есть что-то, мешающее полностью слиться с новой семьей. Иногда Джейн казалось, что они открылись друг другу до конца; говорили обо всем, о чем могут говорить две женщины, особенно если они родственницы и пилоты. Но вдруг Фредди ускользала, будто видела что-то такое, чего не могла видеть Джейн, и думала о чем-то, чего Джейн не дано было понять. Джейн никогда не спрашивала об этом Фредди, но догадывалась, что в ее прошлом крылась какая-то тайна, связанная с мужчиной, конечно, — что же еще? — которая слишком много для нее значила. Удивительные голубые глаза Фредди внезапно затуманивались, улыбка, морщившая нос, пропадала, и она, казалось, витала где-то далеко.
Видимо, этой тайной объяснялось то, что полеты значили для Фредди гораздо больше, чем для Джейн. Джейн отчасти завидовала увлеченности Фредди. Так замужняя женщина, которой наскучил муж, завидует остроте чувства зарождающейся любви. Закончится война, Джейн ни за что не свяжет свою жизнь с авиацией. Скоро будет уже пять лет, как она летает. Конечно, это очень интересная работа, особенно теперь, когда она так усложнилась, и единственная возможность для женщины — не отставать от воюющих мужчин. Нельзя отрицать, что это занятие было иногда и приятным, например, когда приходилось перегонять бомбардировщик. Фредди абсолютно не права насчет того проклятого турбонагнетателя. Гораздо надежней использовать резервные воздушные винты, по одному на каждый двигатель, но разве можно победить в таком теоретическом споре? Кстати, интересно, Фредди тогда действительно так думала или спорила из упрямства?
Джейн поставила большое плоское блюдо с бутербродами и накрыла его от насекомых. Взглянув на Тони, погруженного в свои мысли, Джейн подумала, что он чувствует себя не лучше, чем она. Она потеряла частицу своего сердца после того, как погибла Марджи Фэйруэзер, когда-то начинавшая вместе с ними, — отказал двигатель «проктора», на котором она летела. Марджи удалось благополучно посадить самолет на поле, но, приземлившись, он взорвался. Многие погибли во вспомогательной авиации, очень многие, но смерть Марджи была самой трагической, потому что у нее остался маленький ребенок. А четырьмя месяцами раньше над Ирландским морем в штормовую погоду погиб ее муж Дуглас, тоже пилот вспомогательной авиации. Неужели Фредди не думала о маленькой Энни, садясь за штурвал самых тяжелых самолетов за всю историю войны? Но такой вопрос Фредди не задашь, так же как не спросишь Джока, почему он продолжал летать со своей эскадрильей, хотя мог заниматься более интересной и престижной работой. Конечно, Фредди так любила риск, что даже ребенок не мог остановить ее.
«Куда же делся Джок?» — подумала она. В этот редкий день, когда все они собрались в «Грейндже», он, наверное, обсуждает с Фредди бомбардировку Германии — что же еще? Она скоро, очень скоро начнется в порядке подготовки к вторжению войск союзников. Вся Англия, кажется, стала местом сосредоточения сил для предстоящей битвы. Джейн хорошо это видела, пролетая над страной. Люди и вооружение составляли такую плотную массу на суше и в портах, что, казалось, остров погрузится в воду под их тяжестью. А после вторжения союзников, после победы, — о чем они все неустанно молились, — что тогда будет делать Джок?
Бесспорно, Тони и Фредди поселятся здесь, в имении, ведя ту жизнь, которой жили пятнадцать поколений Лонбриджей, землевладельцев и фермеров. Что касается Джейн, она поедет в Лондон и после серии потрясающих эскапад, наконец, найдет мужчину, на котором остановит свой выбор и порадует маму.
А Джок? Сев на одеяло спиной к брату, чтобы не мешать ему думать, Джейн Лонбридж стала размышлять о Джоке Хемптоне. Простодушные попытки Фредди свести их с Джоком, возможно, к счастью для нее, не удались. Что хорошего, если он влюбится в нее, как о том мечтала Фредди? Сейчас Джейн страдала бы из-за того, что ей придется уехать с мужем-американцем в Калифорнию, привыкать к новой стране и другому образу жизни. Она стала бы еще одной невестой войны.
Действительно, просто счастье, что этого не произошло. Она почти убедила себя, что не влюблена в него. Если бы кто-нибудь сказал, что она способна так глупо влюбиться в мужчину, который не любит ее, Джейн треснула бы его по голове первой попавшейся бутылкой… но, увы, она испытывала к нему абсурдную, страстную, глубокую любовь, хотя никто, даже Фредди, не догадывался об этом. Средство, которое она выбрала, решив преодолеть это, было унизительным, но надежным.
Когда Джейн видела Джока и Фредди вместе и замечала, что этот красивый светловолосый калифорнийский болван, до лица которого ей мучительно хотелось дотронуться с момента свадьбы Тони и Фредди, влюблен в ее подругу, о чем та и не подозревала, — Джейн чувствовала, что сердце ее понемногу каменеет. Скоро, очень скоро оно покроется таким же панцирем, как у краба, и мысли о Джоке Хемптоне, о его глазах, губах, лице викинга не будут больше лишать ее сна по ночам и не будут больше омрачать ее дни.
Что касается Фредди, Джейн поздравила себя с тем, что могла честно сказать: никогда в жизни не испытывала она ревности ни к одной девушке — ни прежде, ни теперь. Бедный Джок… Когда окончится война, он, без сомненья, уедет из Англии, и, хотя Джок стал почетным гостем в их семье, кто знает, как часто он сможет к ним приезжать? А увидев Фредди после войны в кофточке и твидовой юбке, окруженную детьми и занятую хозяйством, будет ли он по-прежнему любить ее? Она, наверное, растолстеет, волосы потускнеют, может, даже поседеют, а мысли сосредоточатся на младенце или больной собаке, или на поваре, не справляющемся со своим делом. Через несколько лет это неизбежно произойдет. Фредди уже не будет обладать такой притягательностью. Англия ей покажет! А она сама, с удовлетворением подумала Джейн, будет по-прежнему радоваться жизни. Но десять лет красивой Жизни едва ли компенсируют все лишения военной службы. Интересно, скоро ли после войны появятся приличные чулки?
* * *
Ему все еще нравится Фредди, думал Джок Хемптон, облокотившись на подоконник в своей комнате и наблюдая за Тони и Джейн, которые уютно и молча сидели на одеялах под цветущим персиковым деревом. Но почему она, черт возьми, никак не перестанет петь «Пока мы не встретимся вновь» его крестнице? Когда эскадрилья курсантов летной школы еще существовала, весь год после своей женитьбы Тони и получившая увольнение Фредди приходили в любимый всеми паб. В те вечера, когда они пили, курили и старались не думать о тех, кто не вернулся с задания, Фредди пела им часами современные песни и песни времен первой мировой войны, которые знала от Евы. Никто не уходил, не услышав от Фредди этой прекрасной последней строчки, этих двух последних слов: «Пока мы не встретимся вновь». Джок всегда, вопреки всякой логике, воспринимал их как обращенные к нему лично, как обещание, ее обещание ему. Она этого не знала, зато он знал, и это было главное.
Детская располагалась в соседней комнате, даже сквозь толстые стены до него доносился веселый голос Фредди, певшей девочке. Неужели Фредди не знает, что эта мелодия застревает в мозгу и месяцами сводит с ума? Неужели не может петь что-нибудь другое, легко забывающееся? Ему, конечно, ничего не стоило попросить ее перестать, но разве можно сказать матери, что песня, которую она поет своему ребенку — это мука? Как объяснить ей, что в его голове звучит эта старая песенка, мешая ему обратить внимание хоть на одну хорошенькую девчонку из тех, которые пристают к нему, когда он приезжает в Лондон? Их не случайно называют пилотскими «крылышками», распоркой для ног… Они с удовольствием окажут услугу и второму лейтенанту, но звание, конечно, имеет свои преимущества.
Конечно, Джок мог бы сейчас выйти в сад и присоединиться к Джейн и Тони или пойти на кухню и предложить помощь леди Пенелопе, ибо повар стал слишком стар, чтобы рассчитывать на него, но что-то удерживало его здесь, на этом наблюдательном посту. Наверное, погода. Все утверждали, что не помнят такого жаркого мая в Англии. Дома, в Калифорнии, в Сан-Хуан-Капистрано, такой день кажется вполне обычным приятным днем, когда решаешь, заняться ли тебе серфингом или поиграть в теннис, и в конце концов делаешь и то, и другое. А может, это один из тех дней, когда такие, как он, любящие скорость, опасность, возбуждение, полет, слышат о том, что за океаном, в Англии, готовят большое шоу, умудряются схватить билет на поезд до Канады и обучиться пилотированию так, что их принимают в эскадрилью курсантов летной школы.
Точно такой же день был четыре года назад, когда он попрощался со своей семьей и исчез. Может, поэтому он и не находит сегодня себе места и пребывает в таком мрачном настроении. Он просто в отчаянии, непонятно по какой причине… несомненно, в отчаянии, и это очень странно, потому что давно не было у него возможности приехать сюда и ему следовало бы наслаждаться каждой секундой. Такого не случалось даже тогда, когда ему приходилось вести свою эскадрилью на Германию, сопровождая тяжелые бомбардировщики, защищая их от немецких зениток и истребителей. Это состояние еще хуже того, какое он испытывал, возвращаясь под зенитным огнем до самой береговой линии и думая о том, что вот-вот окажется в воде, которая всегда была чертовски мокрой и холодной. Да нет, он не приходил в такое отчаяние, выполняя свою работу. Он ощущал скуку, злость, ярость, триумф, но «Мустанг-П-51», эта чертовски прекрасная боевая машина, эта замечательная орудийная платформа с крыльями, имел одно свойство — его пилот не успевал впадать в отчаяние. По мнению Джока, отчаяние так же сводило с ума, как постоянная субфебрильная температура, как досада, раздражение, невозможность почесать там, где чешется, как неутолимая жажда.
Джок не расставался с полетами, поскольку знал: если он позволит перевести себя, в порядке повышения, в штаб, то будет испытывать отчаяние постоянно, а не время от времени. В штабе ему периодически предлагали осесть, говорили, что пора отдохнуть, но не могли надолго привязать его к земле. Если ты хочешь летать, не болен и не псих, тебя никто не может удержать, подполковник ты или нет.
Он уехал из дома, чтобы вступить в эскадрилью курсантов, обыкновенным, диковатым, влюбленным в небо, неопытным двадцатилетним студентом, любившим риск. Сейчас ему уже двадцать четыре. Выполняя первое задание, он понял, что война — не развлечение. Тем не менее он обрадовался, что оказался в нужном месте, хотя и совсем для другой цели. До того как эскадрилью курсантов превратили в воздушный корпус армии Соединенных Штатов, они уничтожили шесть эскадрилий Люфтваффе. Это произошло еще в 1942 году, тысячу лет назад. Не хило! А ведь у них тогда еще не было их «мустангов».
Какого черта он сидит тут и философствует, когда мог бы сделать что-то полезное на кухне? Ну, Фредди-то, конечно, там нет. Она, наверное, не знает даже, как приготовить бутерброд с ветчиной. Какой неумелой женой она будет после войны. Джок с грустью думал об этом. Такой прекрасный парень, как Тони, заслуживал лучшего: девушки, воспитанной в тех же традициях, что и он, которая делала бы все с милой улыбкой и мечтала бы в мирное время лишь об одном — сделать Тони счастливым. Его лучший друг, самый лучший за всю жизнь, заслужил право иметь жену, для которой он был бы смыслом жизни. Именно на такой девушке всегда мечтал жениться сам Джок.
Но бедный старина Тони влюбился в Фредди, такую невообразимую стерву-командиршу. Все в ней не так. Слишком упрямая, слишком храбрая, агрессивная и независимая во всем. Какая разница, что она когда-то спасла ему жизнь? Это только еще одно свидетельство ее безрассудства. Он и представить себе не мог, как бедные Ева и Поль настрадались с ней, пока она училась летать. Им было бы легче с парнем, вроде него, чем с таким сорванцом, как Фредди. Она до сих пор, кажется, не сознает того, что у нее дети и муж.
Посмотрев на лужайку, Джок увидел, что туда бегут радостные Фредди и Энни. Фредди одела девочку в крохотный голубой комбинезон — разве это не характерная для нее глупость? — она что, хочет вырастить из его крестницы еще одного сорванца? Будто одного недостаточно в терпеливой семье Лонбриджей. Посмотрите-ка на нее! Надела сарафан в цветочках и без бретелек, будто здесь чертова французская Ривьера. Проклятье, она еще и в красных босоножках на высоких каблуках, наверное, опять шуровала в шкафу Джейн. Хорошо хоть, что сменила наконец свою синюю форму, в которой напоминала пирата.
Не отдавая себе отчета, Джок отошел от окна, спустился вслед за Фредди и пошел в сад, не в силах преодолеть искушения быть с ней рядом, точно так же, как не мог заставить себя не слушать ее, когда она напевала песенку своей дочке.
Растянувшись во весь рост, Фредди лежала на одном из старых одеял, напоминая рыжеволосую красавицу Ренуара, но только более изящную ее версию. Она прикрыла руками глаза, защищая их от непривычно яркого солнца, и скинула туфли, подставив голые ноги теплым лучам.
Как неожиданно великолепно сочетаются виски, бутерброды с солониной и «Милки уэй», подумала она. Все само по себе было замечательно, но вместе получилось нечто совершенно особенное. Ей было очень хорошо, наверное, оттого, что рядом были те, кого она любила. Через пару часов приедут ее родители из Лондона, и тогда соберутся все… вот если бы еще Дельфина оказалась с ними. От этой мысли сердце ее забилось, что случалось каждый раз, когда она размышляла о том, как давно никто из них не слышал о Дельфине.
То, что Франция была так близко, разрывало ей душу. Редкий день проходил без того, чтобы она не видела ее береговую линию из своей пилотской кабины. При этом Франция была отгорожена от мира словно бетонной стеной, уходящей в облака, непроницаемой тюремной стеной, не позволявшей увидеть, что же там происходит. Если бы с Дельфиной произошло что-то экстраординарное, ее отца уведомили бы об этом через штаб-квартиру «Свободной Франции» в Лондоне, связанной по радио с Сопротивлением, но никаких сведений о сестре не поступало. Они успокаивали друг друга, говоря, что у Дельфины все в порядке, однако отсутствие контакта с ней причиняло всем нестерпимую боль. Но об этом Фредди и ее родители разговаривали только между собой. Было бы эгоистично взваливать еще одну ношу на Лонбриджей, у которых и без того достаточно хлопот со своими детьми, не говоря уже об Энни.
Милая маленькая Энни, думала она, прислушиваясь к тому, как Джок, Тони и Джералд наперебой стараются зазвать ее к себе. Кажется, она доставляла меньше хлопот, чем другие дети. Она была немного похожа на Дельфину: с таким же красивым маленьким подбородком и поднятыми уголками губ, даже когда Энни не смеялась. Ее назвали в честь Аннет де Лансель, что доставило большое удовольствие ее дедушке, но Фредди ее имя напоминало прозвище, которым во вспомогательной авиации окрестили верные машины «Энсон»; они заменяли пилотам такси, доставляя их к самолетам и обратно. Открыв глаза, Фредди увидела, что Энни сидит на плечах у Джералда, обхватив ручонками его шею.
Рядом с Джералдом лежал, хмуро глядя в небо, Джок. «Что с ним случилось?» — подумала она. Жаль, что они с Джейн не полюбили друг друга, как она мечтала. Вот тогда они все действительно стали бы одной счастливой семьей. Фредди легла на спину и снова закрыла глаза, размышляя о том, что некоторые, вероятно и Джок, не одобрили ее решения вернуться к полетам вскоре после рождения Энни и оставить девочку в «Лонбридж Грейндж» на попечении свекрови и стаи неоперившихся тетушек Энни. Но она приехала в Англию в 1939 году, чтобы выполнить свой долг. Разве имеет значение то, что Фредди скорее шла по стопам Мака, чем руководствовалась своими собственными соображениями: она будет выполнять этот долг, пока не кончится война. Как одна из тринадцати женщин в Англии, которым доверили полеты на четырехмоторных самолетах, она не могла даже подумать о том, чтобы уйти из авиации и посвятить себя ребенку. К тому же Пенелопа согласилась позаботиться о малышке.
Фредди приезжала к дочке каждые выходные, а иногда и на ночь, если кто-то из пилотов мог подбросить ее на маленький аэродром, недавно выстроенный рядом с «Грейнджем», и она обещала вернуться к утру.
«Интересно, в какой другой стране аэродромы расположены так близко друг к другу, как станции метро?» — думала она. Они были теперь не далее пятнадцати километров один от другого, часто занимая большие лужайки возле особняков или поля для игры в крикет, поло или футбол. Многие из них появились так недавно, что их не нанесли еще ни на одну карту, поэтому, как и многие другие пилоты вспомогательной авиации, Фредди проводила много времени в службе картографии и сигнализации, запоминая местоположение новых летных полей по ее маршруту и их ориентиры.
«Стерлинги» доставить в Кивил, «спитфайры» в Бриз-Нортон, «уоруиксы» в Кембл, «москитос» в Шоубери, «галифаксы» в Йоркшир. Так бубнила она целыми днями. Единственный самолет, на котором она еще не летала, — это «летающая лодка», но Фредди не сомневалась, что справится и с ней.
Лежа с закрытыми глазами, Фредди представляла остров, называемый Англией, как огромную запутанную карту, пересеченную трассами, глубоко врезавшимися в ее память. Железные дороги, шоссейные дороги, леса, заводы, реки, замки и поместья, узкие коридоры, образованные аэростатами заграждения, защищающими крупные города; шпили церквей и даже следы старых римских путей, которые все еще можно было разглядеть с воздуха. Приобретет ли для нее когда-нибудь эта сельская местность трехмерное измерение, превратившись в этот дом с прилежащими к нему многими гектарами земель, окруженных оградами и заборами, или навсегда останется плоскостным изображением на карте?
Зачем гадать об этом? Что бы ни случилось после войны, не имеет значения, ибо главное — победить. Когда? Когда произойдет высадка союзников. Лениво греясь на солнышке, она чувствовала себя бездельницей, хотя усталость последних тринадцати дней давала о себе знать и Фредди прекрасно понимала, что должна воспользоваться этой передышкой. Джейн так же устала, как и она… или она неутомимая? За завтраком она казалась такой оживленной.
Если бы только Тони выглядел немножко счастливей. Каждый раз, как она видела его после долгого отсутствия, это усталое, напряженное, почти злое выражение на его худом, изборожденном морщинами лице все усиливалось. Наверное, дело в той ответственности, которая теперь лежала на нем. Разве легко отправлять в полет каждую ночь тридцать шесть самолетов, весь день подготавливая их вместе с офицерами, ответственными за вооружение, заправку, техническое состояние. Мог ли он нормально спать, зная, что его летчики сейчас где-то над Европой? Он поднимался ни свет ни заря, в тревоге ожидая их возвращения. Неудивительно, что он выглядит таким измотанным и отсутствующим. Она пыталась болтовней отвлечь его внимание от тяжелых мыслей, потому что перегонять самолеты было гораздо легче, чем заниматься такой, как он, работой, но у нее все как-то не получалось.
Слава Богу, у них есть «Грейндж», куда можно приезжать время от времени. Она поселилась вместе с Джейн и еще несколькими девушками в доме возле Уайтуолтэм, а Тони обосновался на базе. Странный образ жизни для женатых людей, но разве война не странный образ жизни для всего человечества, и пока она не кончится, придется терпеть все это.
— Энни, — сказала она, полуоткрыв глаза, — не пора ли тебе оставить этих милых дядей и поцеловать маму?
19
Дельфина решительно вышла из дома на Вилла-Моцарт, но, увидев на булыжной мостовой узкой улицы огромный черный «Мерседес», резко остановилась. Что-то мешало ей сесть в автомобиль, который прислал за ней генерал фон Штерн. В руках у нее была отороченная чернобуркой накидка. Она быстро набросила ее на плечи и закуталась в нее, придерживая накидку обеими руками так, словно надеялась, что тонкая ткань защитит ее.
— Позвольте, мадемуазель, — вежливо сказал шофер в нацистской форме, распахивая перед ней дверцу.
Эта привычная формула помогла ей справиться с собой и сесть в машину. Всю дорогу до улицы Лилль Дельфина сидела выпрямившись. Она откинулась на сиденье так, чтобы ее нельзя было увидеть через окно, но вместе с тем старалась не касаться спиной подушек автомобиля. Дыхание ее было учащенным, а ненавидящий взгляд впился в каски на головах шофера и сидящего рядом с ним вооруженного солдата.
Ей пришлось согласиться, чтобы генерал прислал за ней свою машину. С начала оккупации Дельфина лишилась и машины, и шофера. Весной 1943 года такси не курсировали, так как не было бензина. Кроме велосипедов и метро, не было никакого транспорта. Она не смогла бы добраться одна, в вечернем платье, с обнаженными плечами и в бриллиантах, которые ей посоветовал надеть Бруно, до улицы Лилль, куда ее пригласили на официальный обед. Бруно заверил ее, что воспитанный и удивительно порядочный генерал, завладевший его домом, выслушает ее и поможет разыскать Армана. Он успокоил Дельфину, сказав, что ей незачем волноваться: она будет почетной гостьей среди людей своего круга. Войдя в дом, Дельфина испытала не раскованность, а отвращение. Не то чтобы она, нервничая, ощущала неловкость, нет. Дельфина чувствовала именно отвращение. Хотя Жорж, дворецкий Бруно, знакомый Дельфине с незапамятных времен, приветливо поздоровался с ней, забирая у нее накидку, он старался не смотреть ей в глаза, и она рассталась с накидкой с большим сожалением. Хотя сам Бруно, довольно улыбаясь оттого, что его план удался, ждал ее в холле и, предложив руку, помог ей подняться в гостиную, легкое черное шифоновое платье казалось Дельфине кольчугой, тянущей ее к полу. Хотя генерал фон Штерн приветствовал Дельфину со старомодной вежливостью, почтительно склонившись к ее руке, она едва шевелила губами, и только профессионализм помог ей изобразить подобие улыбки.
За обедом, сидя прямо, как принцесса времен короля Эдуарда, в том самом кресле, где сиживала много раз, Дельфина в мрачном изумлении оглядела стол. «Чем это не обычный парижский обед?» — подумала она.
Арлетти, очаровательная темноволосая актриса, со свойственным ей остроумием болтала о проблемах, связанных со съемками ее нового фильма. Они должны были начаться через несколько месяцев в Ницце. На другом конце великолепно сервированного стола Саша Гитри, режиссер одного из фильмов о Наполеоне, где снималась Дельфина, тщетно пытался перехватить инициативу разговора, тогда как Альбер Прежан, Жюли Астор и Вивьен Роман, предполагавшая сниматься в «Кармен» с Жаном Марэ, слушали как завороженные рассказ Арлетти о предстоящих съемках самого дорогого за всю историю французской киноиндустрии фильма.
Все это могло бы происходить и в 1937 году, размышляла Дельфина, держа в руке бокал, когда-то принадлежавший Бруно, если бы на красивом молодом офицере, любовнике Арлетти, не было нацистской формы. Могло бы показаться, что Дельфина участвует в веселом застолье среди коллег, если бы Жюли, Альбер и Вивьен не были из тех звезд, работающих на «Континенталь», кто ездил в прошлом году в Берлин и встречался с Геббельсом, демонстрируя франко-германское единство. Только страшась за Армана она не вскочила и не сбежала вниз, чтобы оставить этот дом, где пируют «люди ее круга», самые знаменитые коллаборационисты от кинематографии.
После ужина Бруно провел ее в библиотеку, где генерал фон Штерн в одиночестве потягивал коньяк. Он встал, когда Дельфина, подобрав одной рукой юбку, садилась в кресло.
— Я большой поклонник вашего искусства, мадемуазель, — любезно сказал он, наклонившись к ней, чтобы предложить сигарету.
— Спасибо, генерал. Я курю только в фильмах, там, где этого требует сценарий.
— Знаю, что у вас контракт с «Континенталем». Браво, мадемуазель!
Он оценивающим взглядом, но почти незаметно для нее, посмотрел на ее грудь.
— Да, генерал. Я работаю на «Континенталь», — сухо сказала она.
— Гревен мой близкий друг. Он делает чудеса, не так ли? — вежливо спросил он, слегка коснувшись ее обнаженной руки.
— Мне кажется, что студия выпускает настолько хорошие фильмы, насколько это возможно, — ответила Дельфина, грациозно отодвинувшись в дальний угол кресла и сложив руки на коленях. — Генерал, — внезапно произнесла она, не имея сил говорить о пустяках, — брат сказал мне…
— Я объяснил генералу, что у тебя есть проблемы, — оборвал ее Бруно, — он понимает твою ситуацию.
— Как вы знаете, мадемуазель, мы всегда покровительственно относились к талантам в кинематографии, — экспансивно жестикулируя, сказал генерал фон Штерн. Он улыбнулся, глядя ей в глаза.
— Генерал, вы можете помочь мне разыскать Армана Садовски? — Голос Дельфины был слишком громким, вопрос излишне прямым, а манеры чересчур резкими для того деликатного дела, которое задумал Бруно.
— Я бы хотел помочь вам, мадемуазель, насколько это в моих силах, — ответил генерал, все так же улыбаясь.
— Моя сестра хочет сказать, что будет благодарна вам за любую информацию, которая позволит ей обрести надежду, генерал, — вставил Бруно, сжав плечо Дельфины.
— Вы понимаете, что такую… обнадеживающую… информацию невозможно получить обычным путем? — спросил генерал. — Даже для меня.
— Моя сестра прекрасно понимает это, генерал. Она сознает, как будет вам обязана, — ответил Бруно. — Она понимает, что ее просьба экстраординарна.
— Но вы попытаетесь выяснить, где он? — бесцеремонно спросила Дельфина, нетерпеливо сбрасывая с плеча руки Бруно. — Могу я надеяться?
Генерал задумчиво поджал губы, открыто разглядывая Дельфину с головы до пят. Он понимал глубину ее отчаяния; это ему нравилось. Он уклончиво помолчал, словно она была хозяйкой магазина, а он покупал у нее старинное серебро, проверяя пробу и прикидывая, удачна ли эта покупка и соответствует ли цене.
— Конечно, нет ничего невозможного, — наконец, улыбнувшись, проговорил генерал. — Это вопрос времени… это требует тщательного расследования… предельного такта… деликатности… моей личной заинтересованности. Мне придется просить об одолжении… за которое я вынужден буду платить. Не так легко обрести надежду в наши дни, увы. Но вы ведь светская женщина, не правда ли? Мой друг, ваш брат, наверное, все объяснил вам. Мне доставит большое удовольствие видеть вас у себя как можно чаще. Вы наполняете все вокруг себя светом. Вы украшаете мой дом.
— Спасибо, генерал. Но вернемся к месье Садовски…
— Я не забуду о нашем разговоре.
Он снова коснулся ее руки. Свободно. Властно. Ласково.
— Выпейте коньяка. Вы и не притронулись к рюмке. Брат не говорил вам, что я видел все ваши фильмы до единого? Нет? Напрасно. Я один из самых преданных ваших поклонников. Возможно… Кто знает?.. Может, у меня и появится какая-то новость для вас… если события будут развиваться благоприятно, а теперь, мадемуазель де Лансель, что вы скажете, если я приглашу вас на следующей неделе в театр? В «Комеди Франсез»? У меня прекрасные места. Надеюсь, я могу рассчитывать на ваше согласие?
Дельфина заставила себя кивнуть. «Нет, — подумала она, — вы можете рассчитывать на меня, генерал, не больше, чем я на вас».
Бруно вызвался проводить Дельфину домой. Всю дорогу, пока они ехали на другой берег Сены, он сидел молча, потом попросил шофера подождать, пока он проводит ее до дома.
— Одну минуту, Бруно, — сказала Дельфина, открыв ключом дверь.
— Мне пора. Я не хочу надолго задерживаться после комендантского часа.
— Я не задержу тебя надолго. Что за грязные и отвратительные делишки у тебя с этим генералом, Бруно?
— Как ты смеешь! У меня нет с ним никаких дел.
— Он вел себя со мной так, будто я выставлена на продажу. Нет, словно я уже продана, а он ждет только доставки.
— Генерал фон Штерн вел себя предельно корректно. Как это он оскорбил твои деликатные чувства?
— Бруно, ты все видел и слышал. Не делай вид, будто не понимаешь, что ему от меня надо.
— А ты воображаешь, что он станет разыскивать твоего еврея просто так? Неужели ты так наивна? Или считаешь себя такой неотразимой, что он обязан это сделать задаром? Конечно, ты должна чем-то отблагодарить его.
— Так вот что ты имел в виду, советуя мне использовать мое влияние? — сказала Дельфина с таким презрением, что Бруно пришел в ярость.
— Ты не стоишь того, чтобы я тебе помогал. Ты считаешь, что гордость уместна в такие времена, как сейчас? Так вот что я тебе, дуре, скажу: гордость — удел победителей, а не побежденных. Ты считаешь, что от тебя требуют слишком высокую цену за необходимую тебе информацию? Ты просила меня помочь, пришла ко мне и умоляла меня, ты была готова на все — «Помоги мне, Бруно, помоги мне, есть надежда, Бруно, есть какая-то надежда?» И когда я даю тебе шанс, которого у тебя никогда больше не будет, ты отвергаешь его. Позволь мне кое-что сказать тебе, Дельфина: хочешь, чтобы тебе помогли, — приготовься платить за это! Хочешь получить надежду — продавай себя, пока есть подходящий покупатель!
— Его цена меня не устраивает, — бросила она Бруно в лицо. — Я обойдусь без этого. Но вот тебя устраивает любая цена, Бруно, не так ли? Ты так и не сказал мне, что за вонючий бизнес связывает тебя с ним. Ты наверняка не просто сводник. Чем же он заплатит тебе за то, что ты приведешь к нему в постель свою сестру?
— Ты безумная. Я не дам тебе шанса второй раз.
— Это единственная хорошая новость, которую я услышала.
Взглянув в темноте на красивое порочное лицо Бруно, Дельфина натянуто засмеялась, толкнула его так, что тот попятился, и захлопнула у него перед носом дверь.
Ликование, которое испытывала Дельфина несколько дней после того, как бросила вызов Бруно, сменилось паникой. Она сказала, что сможет обойтись без надежды, и в тот момент сама этому верила, но от надежды нельзя было отказаться, как от надоевшего платья. Надежда стала мукой, ее приходилось терпеть, как лихорадку, как температуру, которая то поднимается, то падает ни с того ни с сего, необъяснимую, мучительную температуру, не поддающуюся никакому лечению.
Восход солнца или новолуние порой вселяли в нее безрассудную надежду, но и при этом она ощущала безысходность, едва увидев засохший цветок или услышав писк птенцов. Дельфина беспомощно металась от надежды к безнадежной реальности, неизбежной, как могила. Она должна была принять ее, но не могла с ней смириться.
Дельфина стала суеверной, чего раньше никогда не было. Она перестала читать газеты, и когда войска союзников высадились на Сицилии, а русские освободили Ленинград, она спрашивала совета у гадалок. Она разыскивала астрологов, когда немцы оккупировали Венгрию, а Люфтваффе всего за одну неделю февраля 1944 года потеряли четыреста пятьдесят самолетов. Когда в апреле того же года генерал де Голль был назначен главнокомандующим армиями «Свободной Франции», Дельфина металась по Парижу в поисках хиромантов и ясновидящих. Только они могли вселить в нее надежду. Уже только пророки были способны облегчить боль истомленной души. Она худела, но становилась все красивее. Дельфина находилась на грани безумия.
За долгую историю Парижа ни чума, ни коронации, ни революции, ни волна раболепия или террора не могли сравниться с той массовой истерией и неистовством, которые охватили город в середине августа 1944 года. Дикие слухи и безотчетная тревога носились в воздухе, как снежные хлопья во время пурги. Мосты были забаррикадированы германскими войсками, но люди каким-то образом просачивались мимо них и так же быстро исчезали, как и появлялись. Ожидание, страх и замешательство были написаны у всех на лицах.
Освобождение не за горами! Через два с лишним месяца после американцев англичане, канадцы и «Свободная Франция» высадились в Нормандии. Наконец-то освобождение не за горами! Нет, освобождения не будет! Эйзенхауэр обойдет город, оттесняя немцев к Рейну. Ничто не может помешать освобождению! Генерал Леклерк не подчинится Эйзенхауэру и пойдет на Париж!
Слухи передавались из уст в уста; не верили ничему и верили всему; атмосфера ликования сочеталась со смутными признаками мятежа. Забастовку начали железнодорожники. За ними последовали работники метро. Полицейские вернулись в свои управления. Тысячи людей оставались в немецких концлагерях. На улицах расстреливали французских подростков, взявшихся за оружие. Выстрелы — то ли немецкие, то ли французские — раздавались отовсюду: с улиц, с крыш домов, из окон. Кровь заливала тротуары и перекрестки. Это походило на какой-то массовый бред. Что происходило? Знал ли кто-нибудь?
Двадцатого августа генерал Дитрих фон Холтиц капитулировал, пообещав не разрушать Париж, как того требовал Гитлер, в обмен на разрешение вывести своих людей. Но восстание неудержимо набирало силу. Неопытные снайперы атаковали группы германских солдат. Газеты Сопротивления, выходившие несколько лет подпольно, теперь открыто продавались, хотя покупатели подвергали себя риску. Солдаты французских внутренних войск пытались отбить здание муниципалитета.
«Континенталь» перешел в руки французов, и съемки прекратились. Дельфина, жившая неподалеку от штаб-квартиры гестапо на авеню Фош, старалась не выходить из дома и осталась совершенно одна. Виолет, Элен и Аннабел не рисковали показываться на улице и манкировали своими обязанностями, а соседи, не более осведомленные, чем Дельфина, позакрывали даже ставни. Выглядывая в окно, Дельфина не видела признаков жизни на опустевшей улице.
К двадцать второму числу, кроме нескольких бутылок вина, в доме не осталось ничего съестного, даже корочки черствого хлеба. К середине следующего дня Дельфина так проголодалась, что решила отправиться на ближайшую торговую улицу и купить продукты. Она не ходила в эти магазины лет сто и даже не знала толком, где булочная. Поискав самую неприметную одежду, Дельфина надела довоенную хлопчатобумажную голубую юбку с красным поясом и белую блузку без рукавов. Боясь, чтобы ее не узнали, она решила обойтись без косметики и причесалась так, что волосы почти закрывали ее лицо.
Пройдя мимо пустого, почему-то закрытого домика сторожей и свернув на главную улицу, Дельфина ощутила неестественную сюрреалистическую тишину и вдруг подумала об угрожающей ей опасности. «Может, все ушли из города? — размышляла она. — А у остальных хватило здравого смысла оставаться дома и выжидать? Конечно, у них тоже кончилась еда, или у них хватило сообразительности припасти немного провизии?»
На торговой улице оказались открытыми лишь два магазина, и Дельфина на свои карточки купила две вялые репы, луковицу и три черствых булочки. Одну из них она съела по дороге домой. Она шла, держась в тени домов, очень быстро. К счастью, вскоре она оказалась в относительной безопасности Вилла-Моцарт, и тут Дельфина бегом помчалась к своему дому. Задыхаясь, она достала из кармана ключ от входной двери и собиралась уже вставить его в замочную скважину, как вдруг из-за угла дома показались двое мужчин. Страх сжал ее сердце. Они были бродягами, заросшими, в лохмотьях, страшными.
— Нет, пожалуйста, не надо, — прошептала Дельфина, слишком напуганная, чтобы закричать. Она оглянулась в безумной надежде на помощь, хотя и понимала, что ей неоткуда прийти. Она протянула бродягам свою сумку, решив предложить им еду, чтобы избежать опасности, но они приближались к ней. Она чувствовала их отвратительный запах.
— Все в порядке, — охрипшим голосом сказал один из них.
— Что?
Дельфина отшатнулась, поняв: слишком поздно — они видели ключ в ее руке.
— Твой наряд, — сказал бродяга прерывающимся голосом, — простой, патриотичный — то, что надо, крошка…
— Арман!
— …чтобы приветствовать солдата… дома…
Он обмяк в ее руках.
Двадцать пятого августа по приказу генерала Омара Брэдли в Париж вошли две дивизии: Вторая французская под командованием генерала Леклерка и двенадцатый полк четвертой американской дивизии в сопровождении сто второго американского кавалерийского полка.
Плача и смеясь, жители Парижа выбегали из домов и вливались в ликующий поток, захлестнувший улицы. Во всех церквах звонили в колокола, а де Голль, облеченный правом провозгласить республику, заявил: «Республика никогда не прекращала своего существования».
Полковник Поль де Лансель был членом группы, сопровождающей де Голля. Он помог воплотить идею Густава Мутэ об использовании во время высадки союзников карт из путеводителей 1939 года. Они содержали бесценную подробную информацию. Поль не мог соединиться с Шампанью по телефону, поскольку она все еще была оккупирована немецкими войсками. Спустя три дня, узнав, что третья армия генерала Паттона освободила Эперне, Поль решил одолжить американский джип и поехать к родителям.
Ему удалось выкроить несколько часов и повидать Дельфину. Она так обрадовалась неожиданному приходу отца, что чуть не сбила его с ног. Дельфина была счастлива, но, встретившись с Арманом Садовски, Поль понял истинную причину ее счастья.
Дельфина, легкая и хрупкая, выхаживала своего вернувшегося солдата и его друга-нормандца по имени Жюль, заставляя женщин, помогавших ей по хозяйству, бегать по всей округе в поисках продуктов. Она сама варила суп, кормила им с ложечки высокого, очень худого и изможденного человека. Он проводил все время в ее спальне, и Дельфина разрешала ему только есть и отдыхать.
— Она и дома так командовала? — спросил Арман Садовски Поля, признавшись ему как мужчина мужчине, что при всей слабости мог бы бриться самостоятельно.
— Да, — ответил Поль. — Но всегда из лучших побуждений.
Поль сразу почувствовал себя легко с этим человеком, о существовании которого только что узнал. Дельфина просила Армана рассказать Полю о том, как ему удалось бежать, но Садовски успел сказать только одно: «Это было глупое везение…» — и тут же уснул. Позже Дельфина сообщила Полю немногие известные ей подробности о побеге Армана с шарикоподшипникового завода в Швейнфурте, где он работал несколько лет, уцелев лишь потому, что немцам нужна была бесплатная рабочая сила. Во время одной из бомбардировок американскими самолетами этого огромного завода Садовски и его друг Жюль, оба кое-как говорившие по-немецки, оделись в форму убитых немецких охранников и проделали опасный путь через Германию во Францию.
Смешавшись с толпами беженцев, оставшихся без крова после круглосуточных бомбежек союзной авиации, они оказались на французской территории. Им помогали крестьяне и члены местных отрядов Сопротивления. Они же снабдили их одеждой.
Переходя от одного отряда Сопротивления к другому, они медленно продвигались к Парижу, прячась от немецких патрулей, которые могли потребовать у них документы.
— Это не везенье, папа, а чудо, — сказала Дельфина, с любовью склонившись над Арманом, и Поль понял, что его некогда легкомысленная, капризная и своенравная дочь стала совсем иной женщиной, силу характера которой ему еще предстоит узнать.
Поль послал короткую весточку Еве, сообщив ей, что Дельфина жива и здорова, а затем ранним утром отправился в путь, в Шампань. Дорога оказалась более долгой, чем он предполагал: в каждой деревне его джип останавливала возбужденная толпа и так бурно приветствовала его, будто он был сказочным героем. Только к середине дня Поль добрался до въезда в замок. Он немного помедлил, прежде чем выйти из машины, вспомнив разговор с Евой в 1938 году после Мюнхена. Тогда он так глупо решил повременить с поездкой во Францию до весны. Дела в консульстве задержали его еще на несколько месяцев, а потом, к ужасу всего мира, его страна погрузилась в беспросветный мрак оккупации.
Вот уже больше десяти лет не ступал Поль на землю Шампани. Вероятно, в Вальмоне случилось что-то ужасное, думал Поль, минуя пустынные виноградники, на которых не увидел ни одной живой души. Ворота были распахнуты, но никто не вышел встретить гостя.
Переступив порог отчего дома, Поль направился прямо на кухню, но так никого и не встретил. Он быстро обошел гостиные и спальни. Пустой замок был погружен в молчание, как заколдованный, хотя повсюду Поль видел признаки жизни. Совершенно очевидно, что немцев здесь не было. Вернувшись к дверям, Поль остановился, глубоко встревоженный, но вдруг заметил группу людей, вытянувшихся цепочкой и одетых во все черное. Они медленно двигались к дому. От толпы отделилась старая женщина и, ковыляя, поспешила ему навстречу.
— Месье Поль, неужели это вы? — удивленно воскликнула она, подняв к нему свое морщинистое лицо и явно надеясь, что ошиблась. — Так это действительно вы?
Поль узнал в ней Жанну, домоправительницу, когда-то, больше сорока лет назад, она была пухленькой молодой девушкой.
— Жанна, Жанна, дорогая моя, конечно это я! Что случилось, почему замок пуст? Где мои родители?
— Мы возвращаемся из церкви. Сегодня мы похоронили вашу матушку, месье Поль, — сказала она и расплакалась.
— А отец? Где он, Жанна, где? — спросил Поль, уже догадываясь, какой услышит ответ.
— Вот уже больше двух лет, как он оставил нас. Господи, упокой их души!
Поль отвернулся. Безлюдные виноградники, необитаемый замок уже сказали ему правду. Так бывало всегда, когда население Вальмона хоронило одного из его обитателей. Но Поль так надеялся, что его родители живы!
Жанна потянула его за рукав.
— Месье Поль, порадуйтесь тому, что с месье Бруно все в порядке, — сказала она, пытаясь утешить его.
— Бруно… — Он обернулся и оглядел толпу, приветствующую его. К их скорби примешивалось удивление. Они не ожидали увидеть его в форме офицера французской армии. — Да, Бруно… Но почему же его нет?
— Он уехал сразу после похорон, сказав, что у него дела в Париже, но к вечеру обещал вернуться. У него все хорошо, месье Поль. Он здесь в полной безопасности с начала перемирия. Какое ужасное было время, и так долго тянулось… самое тяжелое на моем веку… Не верится, что все позади. Пойдемте в дом, месье Поль, я вас покормлю, вы, наверное, голодны.
— Немного погодя, Жанна, спасибо. Сначала… я должен пойти в церковь.
Проведя час на могиле родителей, Поль объехал виноградники. Он останавливался, встречая работников, и спрашивал, как у них идут дела. В свои пятьдесят девять лет в форме, которую он носил с тех пор, как вступил в 1940 году в армию де Голля, Поль выглядел очень привлекательным. Его густые волосы поседели, но держался он по-прежнему прямо; его крупное тело было крепким, как и прежде, спокойный взгляд — внушительным. Многие из работников никогда не видели его раньше. С начала первой мировой войны Поль приезжал в Шампань только во время отпусков. Тем не менее многие из старшего поколения помнили его молодым и теперь встречали как героя. Для них он был Ланселем, хозяином замка, вернувшимся домой, а все они работали только на Ланселей, как их отцы и деды.
Из бесед на виноградниках Поль узнал кое-какие новости. Еще в начале 1944 года немцы захватили управление известными фирмами по производству шампанского; во многих арестовали руководителей и сотрудников за антифашистскую деятельность; несколько сот местных участников Сопротивления были убиты или депортированы; массированные бомбардировки союзников в Мэйли разбили всю дивизию фон Штаффена, сконцентрированную здесь перед вторжением в Нормандию; еще более разрушительными были бомбардировки союзников в Рилли, где немцы разместили свои ракеты V-2, спрятав их в туннеле в горах Реймса. Десять дней назад из Реймса вышел состав, груженный шампанским, и направился в Германию. Теперь в Шампани наблюдался дефицит шампанского, хотя последние три года урожаи были отменными. Все признавали, что виноградники сильно пострадали во время войны, как и вина, поскольку не было новых посадок. Однако рабочие говорили: «Только посмотрите, месье Поль, взгляните на этот созревающий виноград! Разве он не прекрасен? Урожай в год освобождения будет отличным!»
Да, слава Богу, думал Поль. Шампань пережила еще одну войну благодаря стойкости своих жителей, которым он был так благодарен! Слезы наворачивались ему на глаза, когда он наблюдал за тем, как они не покладая рук работают на виноградниках, неукоснительно выполняя все двадцать семь обязательных правил, обеспечивающих высокий урожай. Только вчера их освободили, только сегодня утром они похоронили его мать, которую почитали всю жизнь, а уже днем, как всегда, принялись возделывать виноград. Они были упорными, непреклонными, решительными, эти единственные виноградари во Франции, настойчиво продолжавшие заниматься своим делом здесь, так далеко к северу. Если бы не их преданность земле, называемой Шампанью, шампанское давно уже перестало бы существовать, поскольку его можно производить только в холодном климате.
Поужинав с Жанной на кухне, Поль погрузился в размышления о том, что теперь, со смертью Аннет де Лансель, заботы о замке ложатся на него.
Он и не предполагал, что Бруно стал опорой семьи, преемником деда, справился с виноградниками, Ломом Ланселей» и замком, несмотря на тяготы последних четырех лет. Многим обязан он сыну, с удовлетворением думал Поль. Как мог он недооценивать этого мальчика? Неужели наконец у них с Бруно установятся отношения, естественные для отца и сына, и они вместе примутся восстанавливать виноградники?
Они теперь единственные мужчины в семье Ланселей. Выполнить эту задачу их долг, а не только обязанность преемников. Они должны выполнить этот долг вместе ради семьи, ради «Дома Ланселей», ради всех преданных им виноградарей. Поль знал, что восстановить виноградники нелегко, но чувствовал прилив энергии и ощущал необходимость этого дела. Ему предстояло многому научиться — всему! — но производство шампанского не было тайной, оно подчинялось строгим законам, заложенным со времен «Дома Периньона». Главные помощники его отца, специалисты по виноградникам, были живы, здоровы и готовы научить его всему.
Меряя шагами длинную гостиную, Поль все больше и больше воодушевлялся. Это будет новая жизнь, дарованная Богом после стольких лет дипломатической службы! Поль от всего сердца радовался этой жизни, которая потребует от него сил и интеллекта. Он и Ева начнут здесь, в Шампани, все заново! Какой она станет прекрасной хозяйкой замка! Четыре года, когда Ева водила «скорую помощь» под бомбами в Лондоне доказали, что для нее нет и не было ничего невозможного. С помощью Бруно они начнут достойную полезную жизнь, которую вели Лансели из столетия в столетие.
Постепенно сменяя возбуждение, его охватила неудовлетворенность собой: ведь он, Поль де Лансель, не думал раньше о будущем. Занятый своими проблемами, десятилетиями находясь вдали от Франции, он и представить себе не мог, что его ждет такое будущее. Он никогда не думал, что в один прекрасный день окажется единственным владельцем «Дома Ланселей» и владельцем виноградников, простиравшихся вокруг его любимого замка. Хозяином леса, конюшен, всего, что здесь было. Оставив Шампань слишком молодым и незрелым человеком, он не мог представлять себе будущее так ясно, как сейчас.
С каждой минутой настроение Поля становилось все более приподнятым и торжественным. Заботы о «Доме Ланселей» наполнят смыслом его жизнь. Ведь он рожден в Шампани, и, хотя очень долго не был на родной земле, еще не поздно вернуться. Поль с открытым сердцем решил принять вызов, брошенный неожиданно ему судьбой. Вместе с этим решением к нему, как к истинному уроженцу Шампани, пришло желание откупорить бутылку шампанского, и Поль отправился на поиски лучшего из вин, которые здесь производились.
Темной августовской ночью, за час до рассвета, в Вальмон вернулся Бруно. Он ездил в Париж посмотреть, что происходит на улице Лилль. Оказалось, что генерал фон Штерн выехал из его дома, оставив все в полном порядке. Жорж, дворецкий Бруно, уже инструктировал слуг, ожидая возвращения хозяина.
Генерал, безусловно, попал теперь в руки должностных лиц, которые приняли капитуляцию германского гарнизона, но Бруно, расчетливый и циничный, мог не опасаться за свое будущее. Используя связи и деловой опыт, они с генералом провернули в прошлом году несколько удачных операций на черном рынке. Неудача с Дельфиной не помешала Бруно извлекать выгоду из отношений с генералом, и теперь его деньги были столь же надежно помещены в швейцарский банк, как и деньги генерала.
Оказавшись в замке, где он провел все годы войны, Бруно подумал, что не вернулся бы сюда и на несколько недель, если бы не взрывоопасная обстановка в Париже. Между группировками Сопротивления началась борьба; производились аресты известных коллаборационистов; возбужденные молодые люди вершили на улицах самосуд. Самым же опасным было то, что называли все новые и новые имена тех, кого подозревали в сочувствии к фашистам. Гнев и ненависть, сдерживаемые четыре года, бурлили в Париже. Возмездие за военные преступления стало требованием дня. Бруно, конечно, мог не опасаться, поскольку он и фон Штерн проявляли предельную осторожность. Но разве можно быть в чем-то абсолютно уверенным? Люди порой знали больше, чем казалось. Посредственность всегда завидует счастливчикам, и открытое обличение — одно из проявлений мщения за превосходство. Зачем, думал Бруно, подвергать себя риску, если разум подсказывает, что необходимо принять меры предосторожности? Нет, пока не стоит рисковать и возвращаться в прекрасный парижский дом; время выбираться из надежного загородного убежища еще не пришло.
Но как же он ждал того момента, когда все наконец успокоится! Прекрасное будущее наступит всего через несколько недель, а они пролетят незаметно. Париж, как и всегда, возродится из пепла, а Бруно вернется туда и будет наслаждаться жизнью. Он, виконт Бруно де Сен-Фрейкур де Лансель, снова займет подобающее ему место в том единственном мире, в котором, как он полагал, стоило жить. Отныне ему не нужна никакая работа, его деньги будут оборачиваться, делая еще большие деньги, а он, как истинный джентльмен, станет наслаждаться свободой. Развлекаться, переходя из одного салона бульвара Сен-Жермен в другой; принимать гостей в своем доме; заводить знакомства с парижанками, после вынужденного и совсем неинтересного общения с провинциалками. Он начнет скупать картины великих мастеров, прекрасную мебель и антиквариат у тех, кого разорила война. Он выкупит один из замков, принадлежавших Сен-Фрейкурам, и поселится там, словно со времен революции ничего не произошло. Так думал Бруно, быстро поднимаясь по лестнице к себе в комнату в Вальмоне. Честно говоря, война дала ему много преимуществ, и всего через несколько недель он с триумфом вернется в мир старой аристократии, единственное, что Бруно ценил в жизни.
Он вошел в свою комнату, зажег свет и застыл. Все его тело напряглось от тревожного предчувствия.
— Что за дьявол! — воскликнул он.
С кресла поднялась высокая фигура Поля; сидя в темноте, он поджидал сына.
— Боже мой!
— Я напугал тебя, Бруно?
— Но это невозможно… как ты мог… где… когда? — лепетал потрясенный Бруно, не в силах сдвинуться с места.
— Я приехал сегодня утром.
— Отлично! Отлично, вот это сюрприз! Ты приехал почти так же быстро, как Паттон. Значит, ты уже видел Жанну? Надеюсь, она покормила тебя хорошим обедом?
Самообладание, никогда не оставлявшее Бруно, помогло ему и на сей раз пережить встречу с отцом, которого он не видел уже одиннадцать лет и не стремился видеть.
— Отличный обед. Ты не хочешь предложить мне стакан шампанского, Бруно?
— Разве Жанна не открыла бутылку? Сейчас поздно для шампанского, почти утро — но, разумеется, в честь твоего возвращения — почему бы и нет? Как и всем другим, нам пришлось продать почти все немцам — Жанна, конечно, сказала тебе, — но я найду что-нибудь выпить.
— А почему не розовое шампанское, Бруно, розовое марочное шампанское, которым так гордился твой дед? Ты не собираешься открыть лучшее шампанское Ланселей?
— Какой-то ты странный, отец, будто сам не свой. Понимаю… Шок от известия о смерти бабушки… печальное возвращение домой… Мне следовало догадаться. Может, тебе надо отдохнуть?
Поль достал из кармана ключ на золотой цепочке.
— Когда в 1914 году я уходил на фронт, мой отец дал мне его, чтобы я никогда не забывал о Вальмоне, где бы ни был. Я хотел сегодня открыть им «Трезор».
Бруно невольно попятился назад.
— Думаю, не стоит говорить о том, что я там обнаружил.
— Нет, — холодно сказал Бруно. — Не трудись.
— Там было полмиллиона бутылок, Бруно.
— Я использовал их, как это сделал бы на моем месте каждый умный человек. Пока ты отсиживался в Англии, вдали от своей страны, и таскался по пятам за своим храбрым болтливым генералом, так и не встретив ни одного немца, я сделал то, что следовало сделать.
— Для кого ты это сделал? — бесстрастно спросил Поль, как бы проявляя обычное любопытство.
— Для самого себя.
— Даже не для немцев?
— Повторяю, для самого себя. Я не намерен тебе врать. — В голосе Бруно сквозило глубокое презрение.
— Это был, конечно, черный рынок.
— Можно сказать и так. Рынок есть рынок. Все зависит от того, кто продает и кто покупает.
— А что с полученными тобой деньгами?
— Все в целости. Тебе их никогда не найти.
— Почему ты решил, что тебе это сойдет с рук?
— Сойдет? Уже сошло. Все уже сделано. Кончено. Тебе не вернуть бутылки, не правда ли? И доказательств у тебя нет. Никто во всем мире, кроме нас двоих, не знал об их существовании.
— Хочешь знать, что я тебе скажу?
— Конечно.
— Убирайся из Шампани.
— С удовольствием.
— Убирайся из Франции.
— Ни за что! Это моя страна.
— С этого момента у тебя нет страны. Если ты не уберешься из Франции, я разоблачу тебя, и мне поверят. Я опозорю тебя. Ты обесчестил свое имя, свою семью и попрал традиции. Ты обесчестил имя предков! Франция будет с содроганием вспоминать о тебе. У нас хорошая память. Твоя страна потеряна для тебя.
— Ты не сможешь никого убедить в этом, — насмешливо улыбаясь, заявил Бруно.
— У тебя не будет времени это проверить. Человек, продавший на черном рынке сердце Вальмона, здесь не задержится. Какие еще преступления ты совершил во время войны? Все преступники оставляют след, особенно если действуют не в одиночку. Ты воображаешь, что правительство свободной Франции не справится с людьми, подобными тебе? У тебя нет выбора.
Повернувшись, Бруно бросился к столу, где хранил револьвер. Он сунул руку в ящик, но там ничего не было: Поль не терял времени, ожидая его возвращения.
— Ты бы и это сделал, не так ли? — закричал Поль. Схватив лежащий на столе стек, он, как отвратительного гада, хлестнул Бруно по лицу, раскроив ему верхнюю губу. Кровь залила белые зубы.
— Убирайся, — тихо произнес Поль. — Убирайся!
Поль хлестал его снова и снова, пока Бруно не бросился бежать вниз по лестнице. Поль бежал за ним, подняв руку. Он готов был разорвать его на части. Но, наконец, грязный предатель убрался с земли, которую он осквернил.
20
— Что я делаю совершенно потрясающе — с этим все согласятся — так это продаю кексы, — сказала Фредди Дельфине с торжествующей улыбкой. — Я приобрела этот бесценный опыт в Лос-Анджелесе, работая у Ван де Кампа. Сноровку, с которой продаешь кондитерские изделия, невозможно потерять. Моя свекровь была в восторге и сказала, что, сколько себя помнит, она еще никогда с таким успехом не распродавала кексы на зимних церковных базарах. На прилавке осталась только одна сыроватая лепешка, а яблочный пирог, который я испекла сама, купили первым. Мы заработали двадцать пять фунтов для доктора Бернардо.
Дельфина лениво откинулась на подушки софы. Разговор происходил в гостиной новой квартиры, которую они с Арманом, наконец поженившись, сняли по соседству с Люксембургским садом. Фредди и Тони остановились у них на несколько дней перед тем, как поехать в Вальмон навестить Еву и Поля. С тех пор как год назад закончилась война, они впервые покинули Англию.
— А кто такой доктор Бернардо? — спросила Дельфина из праздного любопытства.
— Он возглавляет приют для сирот. На эти деньги детям купят рождественские подарки. Я принимала также участие в распродаже подержанных вещей на благотворительном базаре. Мы собирали деньги для ремонта церковной крыши. Сидим в церкви каждое воскресенье и стараемся петь гимны как можно тише, чтобы старая крыша не рухнула на нас. Какая-нибудь горячая проповедь может привести к беде.
— Это было бы ужасно, ведь уже столько времени нам на голову не падают бомбы.
— Вот именно! Поэтому я и вызвалась помочь с распродажей, — горячо сказала Фредди. — Поскольку бензин невозможно добыть даже по карточкам, я запрягла лошадь в телегу и повсюду разъезжала на ней. Ты даже не можешь себе представить, что люди мне тащили! Они перевернули вверх дном все свои чердаки. Горы безделушек, старые книги, фарфоровая посуда, о которой они уже и сами забыли, поношенная одежда. Все, что хочешь! Я брала все, что жертвовали, — никогда не знаешь, что может приглянуться людям, — и мы почти все распродали. Просто удивляюсь, чего можно добиться, имея всего одну старую клячу… Тони так гордился мной.
— Так и следовало, дорогая Фредди, — добродушно согласилась Дельфина.
— В июне состоится церковный праздник на лужайке перед приходской церковью. Все говорят, что это необыкновенно колоритное зрелище, — сказала Фредди, светясь от предвкушения радости. — Будут танцы вокруг майского дерева, катание на пони, выставка домашних животных. Но главное — состязание на лучшие цветы и овощи, очень азартное, поскольку победа весьма престижна! Я еще не знаю, чем займусь, пионами или помидорами. Начинаю даже подумывать, не заняться ли и тем и другим. Придется решить это сразу же, как только вернемся, и начать готовиться. Как ты считаешь, Дельфина, если ты специализируешься в чем-то одном, это упрощает задачу?
— О, конечно! Вот я танцевала бы вокруг майского дерева.
— Господи, Дельфина, это же для детей, а не для замужних старушек, вроде нас.
— Поосторожней насчет замужних старушек, — шутливо проворчала Дельфина, благодушно похлопывая себя по животу.
— Замужняя беременная старушка.
— Опусти последнее слово, и с остальным я соглашусь.
— Ты всегда была тщеславной… Думаю, ты имеешь право на эту уступку… двадцать восемь — еще не старость.
— Двадцать шесть тоже, — заметила Дельфина с кислой улыбкой. — Даже если у тебя уже есть маленькая Энни.
— О, я никогда не думаю о возрасте, — весело проговорила Фредди. — В «Лонбридж Грейндж» у меня так много дел! Я беру уроки бриджа, а теперь, когда слуги вернулись на работу, Пенелопа учит меня некоторым тонкостям званых обедов. А еще я учусь рукоделию, так что теперь могу сделать салфетку под блюдо. Пытаюсь вязать. Хочу сделать стеганый чехол на чайник к следующему базару — яблочные пироги слишком легко печь. И, конечно, у меня есть воскресная школа.
— Твоя собственная? — удивленно спросила Дельфина.
— Конечно. Это традиция Лонбриджей. Каждое воскресенье, с трех до четырех. Для детей до десяти лет. А потом они идут в приходскую школу, где их готовят к конфирмации. Я веду журнал посещаемости. Если ребенок не пропускает ни одного занятия в течение шести недель, я ставлю красивый штамп. Но если кто-то пропустит хоть одно занятие, ему придется снова ходить все шесть недель; начать все с начала, чтобы получить этот штамп.
— Ты строга, — заметила Дельфина.
— Ни одного пропуска, ни одного! — воскликнула Фредди. — Это прекрасная закалка характера. Пенелопа играет псалмы на пианино, дети поют, а я читаю им библейские истории. У меня это получается довольно хорошо.
— Я не знала, что ты религиозна… но люди меняются, конечно. Правда? А мы так долго не виделись… ты становишься настоящей английской леди.
— Надеюсь, что стану… Ведь я же вышла замуж за джентльмена. О, я совсем забыла сказать тебе о главном! Я делаю собственную ароматическую смесь из лепестков! У Пенелопы есть один семейный рецепт, его хранили в тайне сотни лет, а я решила изобрести свой собственный. Начала, конечно, с лаванды и роз, а потом просто обезумела: ноготки, подсолнух, вереск, шалфей, дельфиниум, гвоздика, вербена лимонная, тимьян, пиретрум, мята перечная, сушеная шелуха мускатного ореха, ромашка, порошок фиалкового корня — одна капелька, — фиалки, герань, чуть-чуть мускатного ореха. Посмотри, не забыла ли я чего-нибудь? Господи! Палочки корицы! Даже и не пытайся сделать это без палочек корицы. Конечно, секрет в том, чтобы правильно выбрать время сбора цветов перед тем, как их сушить — только утром, когда уже испарится роса, и только если цветок безукоризненный. Потом надо все очень тщательно перемешать и добавить эфирных масел. Весь процесс гораздо сложней, чем кажется. Мои сухие духи будут отличными, когда достаточно настоятся. Сейчас они пахнут… немного сыростью… но свекровь настроена очень оптимистично. Я пришлю тебе, когда они будут готовы. Дельфина… Дельфина? Ты спишь?
Через час, вернувшись с прогулки, Арман и Тони нашли Дельфину у зеркала. Она причесывалась перед ужином, посвежевшая от сна.
— Хорошо ли сестрички поболтали? — спросил Арман.
— Прекрасно. А вы с Тони?
— Очень продуктивно. Я узнал больше, чем надеялся, о глупости правительства лейбористов, о дефиците, отсутствии фондов, о контроле над ценами, низкой производительности, высоких налогах и невозможности ничего добиться в Англии. Я мечтал вернуться сюда и послушать, как вы тут, развалившись, тихонько ведете волнующий девичий разговор.
— Не жалей, ты не много потерял. Если, конечно, не любишь наблюдать игру никудышной актрисы.
— Никудышной актрисы?
Дельфина сладко зевнула.
— Моей сестренки, дурачок. Я с блеском притворялась, что верю ей.
— С таким же блеском, как всегда?
— Не сомневайся, Садовски! Думаю, я разрешу тебе остаться здесь.
Фредди вышивала на пяльцах. Она оторвалась от своей работы, услышав, как Тони рвет на кусочки письмо и бросает его в камин. Этот огонь не спасал от пронизывающей сырости дождливого апрельского дня 1946 года. Это была суровая весна: почки еще не раскрылись, а продуктовые нормы уменьшались.
— Это не от Джока? — спросила она. — Я тоже хотела прочитать.
— Не теряй на это время, — сказал Тони, явно раздраженный письмом друга.
— Что-нибудь о его бесконечных любовных похождениях? Мне не интересны все эти отвратительные детали. Может, на сей раз речь идет о проститутках?
— Письмо не об этом, дорогая. Им овладела еще одна сумасбродная идея. Теперь он хочет арендовать несколько самолетов из остатков военного имущества и организовать грузовые перевозки.
— Это означает лишь то, что у Джока все еще нет работы, — задумчиво проговорила Фредди. — Он думает, что тех денег, что он выиграл в покер, ему хватит надолго?
— Нет, если он займется тем, чем собирается. Он же такой упрямый! Говорит, что может арендовать «Ди-Си-3» за четыре тысячи долларов в год — скидка для ветеранов, — «всего за четыре тысячи», заметь, предлагает нам бросить здесь все, отправиться в Лос-Анджелес и стать его партнерами. Нам! Вот так просто взять — и уехать! Он пишет, что полным-полно демобилизованных пилотов и работников наземных служб, которые готовы почти бесплатно работать в авиации. Он считает, что мы стоим у истоков совершенно нового дела. Ну и артист!
— Есть вещи, которые не меняются, — согласилась Фредди. — А он не сказал, какие грузы имеет в виду?
— Ты же знаешь Джока. Он думает о свежих продуктах. Можешь представить себе картину — «Ди-Си-3», забитый свежими овощами? Джок пишет, что грузоподъемность самолета три с половиной тонны. Такой… летающий овощевоз.
— Между прочим, как ни странно, — задумчиво сказала Фредди, — в этом есть какой-то смысл.
— Что ты имеешь в виду? — спросил Тони, удивленный ее словами.
— У нас на западном побережье растет много такого, что на восточном побережье появляется только в сезон. И все это слишком быстро портится, а потому не подлежит доставке поездом… должен быть рынок сбыта.
Отложив в сторону пяльцы, Фредди устремила задумчивый мечтательный взгляд на огонь. Ее глаза видели край, в существование которого не верил Тони Лонбридж.
— А теперь выбрось это из головы, дорогая. Во-первых, во-вторых и в-третьих, даже если бы это было верное дело и мы захотели бы этим заняться, хотя ни то и ни другое не соответствует действительности, у нас нет возможности вывезти отсюда деньги, чтобы вступить в партнерство с занудой Джоком. Помнишь об ограничениях на вывоз валюты? Мы не смогли бы поехать в Париж, если бы не остановились у Садовски.
— Ты прекрасно знаешь, что у меня в Лос-Анджелесе лежит пятнадцать тысяч долларов, процентный доход с 1939 года.
— Это твои личные сбережения на черный день.
— Это мое приданое, мой вклад… Ты женился не на бесприданнице.
— Я никогда на это не пойду. Это твои деньги. Они не имеют ко мне никакого отношения.
Фредди не обратила внимания на его протесты.
— Если, — сказала она, — я говорю «если», Тони, только для примера, поэтому не кидайся на меня, — если бы мы, например, воспользовались этими деньгами, то могли бы взять в аренду пару самолетов, и нам еще вполне хватило бы на жизнь до тех пор, пока мы не начнем получать прибыль. Если бы Джок арендовал еще два, а может, три самолета, у нас их было бы пять…
— Угомонись!
— Дослушай меня до конца — интересно, что Джок имеет в виду, говоря о ребятах, готовых работать почти бесплатно. Сколько это — «бесплатно»?
— Фредди, что ты болтаешь, черт побери! Эскадрилья из пяти грузовых самолетов! Не можешь же ты всерьез говорить об этом?
— Гм-м… просто прокручиваю это в уме ради удовольствия.
— Так ли это?
— Больно становится, как только представлю себе это, Тони, эти «Ди-Си-3», загруженные доверху и летящие в Нью-Йорк, Бостон или Чикаго. Но, конечно, это просто фантазия, не можем же мы оставить «Грейндж».
— Да, черт побери, не можем.
— Ты прожил здесь всю жизнь. Зачем же тебе сниматься с места и отправляться в странное место, где солнце светит весь год. — Фредди подошла к окну и взглянула на унылый бесконечный дождь, который лил неделями в течение всей английской весны. — Интересно, что там наверху? — пробормотала она. — Горит ли там еще вечерняя звезда?
— Что ты сказала, дорогая?
— Ничего. — Она мягко улыбнулась ему. — Джок может и без нас заняться грузовыми перевозками. Как он говорит, в Калифорнии полно пилотов. У нас здесь своя жизнь: у тебя земля, которой надо заниматься, у меня Энни, распродажи, уроки бриджа и воскресная школа. Все же… если мы не будем брать зарплату… нет, ничего, не обращай внимания!
— «Не обращай внимания» — три самых поганых слова в английском языке, и ты это хорошо знаешь. Если мы не будем брать зарплату, что тогда? — требовательно спросил Тони.
— Я просто думала… ну… насчет доходов. Их какое-то время не будет. Это не пустяк. Во-первых, нам надо туда добраться, найти жилье, купить машину, арендовать офис, договориться о месте для ангара, платить тем, кто будет работать в офисе, отобрать пилотов и команду… а во что обойдется заправка этих пяти «Ди-Си-3»…
Глядя на промокший тис, Фредди замолчала. Казалось, что от комнаты, освещенной пламенем камина, ее отделяют почти осязаемые фантазии.
— Пять «Ди-Си-3»? Это что, для тебя уже реальность? — загадочно спросил Тони.
— Я просто вспоминаю давние финансовые проблемы с моей летной школой.
— Было тяжело, правда?
— Ага. По-настоящему тяжело.
Когда она повернулась к Тони, он вдруг увидел перед собой страстного, необузданного, подающего надежды ребенка. Ее выдали глаза. Она опустила их, но было уже поздно. Тони заметил это.
— Это труднее, чем продавать кексы?
— Это разные уровни.
— Тяжелее?
— Значительно.
— Но ты справлялась, правда?
— Да.
— Это было столь же увлекательно, как делать сухие духи?
— Хватит шутить, Тони. Это можно сравнить с… полетами к… к… да ни с чем нельзя это сравнить.
Замолчав, Фредди застегнула кардиган, села и снова взялась за вышивание.
— Дорогая, кого ты хочешь обмануть? Ты изнемогаешь от желания заняться этими фантастическими грузовыми перевозками. Неужели, по-твоему, я не вижу, как ты замираешь и прислушиваешься каждый раз, когда над нами пролетает самолет?
— Привычка, обычная привычка, — вспыхнув, сказала Фредди.
— Глупости! Кто тебе поверит?
— Хорошо. Даже если идея Джока и взволновала меня, — воскликнула Фредди, — как можно даже обсуждать такой невероятный шаг? Это означало бы оторваться от твоей семьи, полностью изменить нашу жизнь. Тебе это ненавистно, Тони, я знаю. Так что давай никогда не обсуждать этого.
— Но тебе же смертельно хочется этого. Разве не так? Попробуй убедить меня в обратном.
— Разве я могу тебе лгать? Времена изменились. Война закончилась, я… осела на этом царственном острове… в этом Эдемском саду… в этом полураю.
— Собачий бред, милая. Ты забыла еще сказать «на этой величественной земле». Ты прекрасно разыграла комедию, уверяю тебя, но твоя страсть к полетам началась задолго до войны. Моя бедная, осевшая на земле малышка вынуждена довольствоваться одной лошадиной силой старой клячи.
— Я никогда не жаловалась, — вяло заметила Фредди.
— Это-то меня и пугает. Тебе так не свойственно покоряться. Это заставляет меня нервничать. Послушай, Фредди. Я, честно говоря, совсем не возражал бы против некоторых перемен. Я мешаю отцу. Он не так нетерпелив, как я, и куда более опытен. Будь я действительно ему здесь нужен, я бы и не подумал об этом, ты же знаешь. Я хочу сказать, почему, черт побери, нет? Старина Джок совсем не дурак. В нем есть этот предпринимательский дух. А когда мы просадим все наши деньги и, поджав хвосты, вернемся сюда…
— Тогда воспользуемся моими деньгами? — воскликнула Фредди, все еще не веря ему.
Тони кивнул.
— Ура! — Фредди так высоко подпрыгнула со стула, что коснулась пальцами потолочной балки.
Раздался тихий стук в дверь, и в комнату проскользнула Энни в длинной фланелевой ночной рубашке.
— Ура — что? — спросила она.
— Угадай, Энни, малышка. Мы собираемся навестить твоего друга Джока, поедем в город, где выросла твоя мама, называвшая его «Городом Ангелов», — сказал Тони.
— Там хорошо, как в воскресной школе? — настороженно спросила Энни, сдерживая восторг.
— Совсем не то. Это как летний день, как долгая жизнь у теплого моря. А знаешь, что в этом самое хорошее? Твой папа не будет больше играть в бридж с бедной мамой, потому что — только не говори ей об этом — она так и не научилась отличать козырные карты от карт пиковой масти и, видно, никогда не научится.
— Ну, так как же мы это назовем? — спросил Джок, наливая себе пива. Они сидели на заднем дворе небольшого домика, который Фредди и Тони подыскали себе возле аэропорта Бербанка.
— Думаю, это должно быть что-то заманчиво-вдохновляющее, — сказал Тони. — Как тебе «Срочные грузовые национальные перевозки ЛТД»?
— Прости, старик, но слишком многословно.
— Без сомнения, ты заготовил что-то получше?
— Что-то вроде «Форварды грузовых перевозок», — гордясь своей изобретательностью, заулыбался Джок.
— Я бы никогда не связалась с компанией с таким названием, — возразила Фредди. — Звучит как название футбольной команды… захудалой школы.
— Почему, Фредди? Мне кажется, то, что предложил Джок, просто сказочно, — возразила Бренда, последняя подружка Джока и их добровольный менеджер. — Можно даже назвать это «Сказочные форварды грузовых перевозок». Клянусь, что Гедда Хоппер использует это для своего заголовка.
— Бренда, твой голос не поможет, он не идет в счет, — поспешно сказал Джок. — Бренда знакома со многими людьми из шоу-бизнеса, — объяснил он, повернувшись к Фредди и Тони.
Фредди с удивлением взглянула на Бренду. У Бренды были длинные и блестящие темные волосы, вполне зрелые формы, но она едва ли достигла возраста, когда заканчивают школу. И где только Джок их откапывает? Он клялся, что она умеет печатать под диктовку, держать в порядке документы и отвечать на телефонные звонки. Но, похоже, она ничего никогда не делала, едва ли даже сама приводила в порядок свои красивые темно-красные ногти. И откуда у нее южный акцент, ведь она вроде из Сан-Франциско?
— Дорогая, у тебя есть идеи? — спросил Тони у Фредди.
— «Орлы», — тут же ответила Фредди.
— Что это еще за название? — запротестовал Джок. Он все еще не пришел в себя после того, как Фредди в течение нескольких дней учила их с Тони управлять большими незнакомыми двухмоторными самолетами. Она сама опробовала один из них, получив получасовой инструктаж. Джок шесть лет пролетал на «спитах», а его инструктировали несколько часов, как ребенка.
— Подумайте, — терпеливо объяснила Фредди. — Вы, герои, встретились в «Орлиной эскадрилье». Имеет смысл немного укоротить это название. «Орлы» — коротко, легко запомнить, никакой дурацкой аббревиатуры.
— У этого ностальгический оттенок, — признался Тони. «Послали цветную капусту на «Орлах». Доходчиво.
— Джок, а ты что думаешь? — спросила Фредди.
— Кажется, я остался в меньшинстве. «Орлы» подойдут.
— Джок, милый, а что такое «Орлиная эскадрилья»? — лениво спросила Бренда.
— А где сегодня наша королева «Ди-Си-3»? — спросил Джок у Тони.
Они сидели в своей тесной конторе, выискивая в телефонном справочнике Лос-Анджелеса потенциальных клиентов, тогда как в комнате, служившей приемной, Бренда безуспешно объясняла толпе потенциальных служащих, что они еще не начали нанимать на работу.
— Ее нет.
— Удовлетворен. Теперь, когда у вас живет девчонка, которая присматривает за Энни, Фредди, наверное, пошла по магазинам. Ей не мешало бы купить себе что-нибудь из одежды. Тебе не кажется? Может, она пошла в парикмахерскую или на ленч с какой-нибудь подругой… или на дневной спектакль… или решила вдруг сыграть в картишки… Ты даже не представляешь, сколько успевают женщины за короткое время. Она придет после обеда?
— Ее не будет несколько дней, — сказал Тони, поджав губы.
— Да? Куда же она уехала?
— Честно говоря, не знаю. Посмотри записку, которую она мне оставила.
Он протянул листочек бумаги, и Джок прочел вслух:
«Дорогой, пожалуйста, проследи, чтобы Энни поужинала, посиди с ней. Хельга все приготовит. Искупай Энни. Почитай ей красную книжку, которая лежит на ночном столике, но не больше чем двадцать минут. Уложи ее спать. Можно оставить ночник, если она захочет. Хельга приготовит тебе ужин к семи тридцати. Пожалуйста, заглядывай к Энни в течение вечера, свою дверь не закрывай на случай, если она проснется. Утром проследи, чтобы Энни съела завтрак. Хельга отведет ее в детский сад и заберет оттуда. Скажи Хельге, что тебе приготовить к ужину, до того как уйдешь на работу. Обо мне не беспокойся. Через несколько дней увидимся. Энни все понимает. Люблю тебя, дорогой. Ушла полетать. Фредди».
— Я нашел это сегодня утром, когда проснулся, — в бешенстве сказал Тони.
— Ты заметил, что она два раза написала «пожалуйста»? Чертовски вежливо для нее. А что значит «ушла полетать»?
— Понятия не имею, иначе объяснил бы тебе.
— На чем она полетела?
— Это не наш самолет, я сразу проверил это. Может, она уговорила кого-то одолжить ей самолет, — мрачно предположил Тони.
— Или украла, — задумчиво сказал Джок.
— Там, дома, она никогда бы этого не сделала… ни за что. Это просто невероятно — вот так удрать. Она была сама не своя, как только ступила на калифорнийскую землю. Не знаю точно, что с ней, но… она какая-то другая. Будто ей принадлежит весь мир. Господи, мне хочется ударить ее!
— Бренда ее боится до черта. Говорит, что чувствует ее превосходство во всем.
— Бренда не такая уж дура, какой кажется.
— Перестань, Тони, она такая и есть.
На скоростном спортивном самолете, взятом ею в аренду, Фредди перелетала с места на место в Импириэл Велли — самой южной части калифорнийских фермерских районов. Потом направилась к северу, где на влажных почвах дельты реки десять месяцев в году росли спаржа и помидоры. Оттуда она устремилась в Салинас с его обширными плодородными землями, потом завернула в Фресно — район фиников и винограда. Она часто приземлялась в зеленых округах Импириэл, Кэрн и Тьюлэр, главных районах по производству фермерской продукции. Куда бы она ни направилась, повсюду были фермы и сады, которые заметно разрослись с тех пор, как она видела их в последний раз.
У нее не было четко разработанного маршрута, и вся прелесть полета заключалась в том, что все зависело только от ее прихоти и настроения. Она отклонялась от маршрута, блуждала, делала «свечку», носясь на своем самолете из одного конца штата в другой. Она не утруждала себя расчетами, пока у нее было достаточно горючего. Фредди управляла самолетом, доверяясь инстинкту, памяти, фантазии. Она была свободна от обязательств и вольна делать, что хочет. Она напевала, наслаждаясь тем, что снова летит, не скованная ни правилами, ни ограничениями, придя в экстаз от свободы, которой лишилась семь лет назад. Она снова могла пускаться в приключения, наслаждаться, как прежде, ветром, небом, облаками и просторами вселенной. Просторы! Господи, как ей не хватало этого в Англии. Маршруты, по которым она летала, служа во вспомогательной авиации, были такими определенными, что, перегоняя самолет, Фредди чувствовала себя так, словно пробиралась по лабиринту. А Калифорния позволяла ей радостно ощущать огромное, бесконечное пространство, которое принадлежит только ей. Как она так долго жила без этой тесной связи с горизонтом? Как выдержала, как поверила в то, что есть ценности, способные заменить это вечно изумляющее небо?
Заметив крупное сельскохозяйственное владение, Фредди делала над ним несколько эффектных кругов, добавляла парочку захватывающих «иммельманов» и холодящих кровь «чанделлей», чтобы обратить на себя внимание, а потом элегантно сажала самолет на полупустой автостоянке для автомобилей, там же, где это было невозможно, — прямо на поле, а это любой из пилотов вспомогательной авиации счел бы до смешного простым.
Фредди с самодовольным видом входила в контору поговорить с хозяином, держа в руках папку казенного вида и новую паркеровскую ручку с толстым золотым колпачком. На ней была одежда ее собственного изобретения, состоящая из аккуратной юбки от военной формы, голубой рубашки ВВС без галстука, расстегнутой на груди. Над правым карманом рубашки красовались вышитые «крылышки». Свои рыжие волосы она зачесала назад и затянула на затылке, но они непокорно выбивались из-под бархатной ленточки. Юбку она укоротила сантиметров на десять, что не могло не привлекать внимания, талию затянула красным кожаным ремнем. Военные шнурованные ботинки Фредди заменила красными туфельками на самых высоких каблуках, какие только нашлись в Лос-Анджелесе, а черные чулки — прозрачными нейлоновыми. Даже если хозяина не оказывалось на месте, он очень быстро появлялся, едва заслышав о таком визитере. За четыре дня Фредди удалось завоевать восхищенных поклонников «крупнейшего грузоотправителя сельскохозяйственной продукции в разные регионы мира», как она окрестила, несколько погрешив против истины, новую компанию воздушных грузовых перевозок. Фредди несколько раз упомянула о состоящих на службе у компании пилотах американской «Орлиной эскадрильи», тех самых безвестных героях, которым все были многим обязаны. ««Орлы» могут перевозить столько сельскохозяйственной продукции, сколько смогут вырастить фермеры», — говорила она мужчинам, с интересом слушавшим ее. В пылу энтузиазма она подавалась вперед, чуть не падая на них, и ткань рубашки натягивалась на груди. Ее блокнот заполнялся заказами, ценными данными и цифрами, фамилиями тех, кто занимался оптовыми поставками во все крупнейшие города страны, и тех, кому необходимы были калифорнийские фрукты, овощи и цветы. Они могли продавать их с надбавкой, включающей стоимость воздушных перевозок, если она, конечно, не будет чрезмерно завышена.
Один только огромный цветочный рынок Нью-Йорка, снабжаемый оранжереями, поглотит тонны свежесрезанных цветов, если правильно организовать доставку, думала Фредди, сидя в кафе аэропорта Санта-Паулы перед вылетом домой и созерцая два куска свежего персикового пирога. Сколько тонн персиков удалось бы им продавать в Чикаго? А если бы здесь из этих персиков делали пироги, скажем, у Ван де Кампа, сколько они могли бы стоить в кондитерских восточного побережья в зимний период? А как довезти персиковые пироги в целости и сохранности? «Забудь о всяких пирогах, дуреха! Когда только жизнь научит тебя уму-разуму?» Ну так как же доставить персики, чтобы они не испортились? А виноград, клубнику, нежный салат и свежую семгу с залива Монтерей? Как перевозить орхидеи?
Все это второстепенные проблемы, весело подумала она, решив узнать рецепт приготовления персикового пирога у владельца кафе. Пусть о деталях беспокоятся Тони и Джок. Она потрясет их, когда вернется со всей этой информацией. Было совершенно необходимо улететь одной. Ее муж, конечно, служил в авиации во время «Битвы за Англию», но он отнюдь не «Янки Дудль Денди», этот достопочтенный Энтони Уилмот Алистер Лонбридж. Джок такое же американское явление, как игра в кости всю ночь напролет, но он не участвовал в «Битве за Англию», и это немного помешало бы ей… приукрасить… совсем чуть-чуть, ее рассказ о пилотах компании «Орлы», будь они оба здесь. А они, не дай Бог, могли заговорить.
— Где Бренда? — отчаянно крикнул Джок, прижимая к груди две телефонные трубки, чтобы два торговца виноградом, с которыми он пытался говорить одновременно, не услышали его. — Мне нужна помощь, быстро!
Фредди не могла выйти из-за своего стола, так как втолковывала троим бывшим летчикам-бомбардировщикам, огорченным, но настойчивым, что больше двухсот пятидесяти долларов в месяц «Орлы» пока не в состоянии им платить.
Фредди, однако, откликнулась:
— Она вчера уволилась, а я не успела никого подыскать на ее место.
«Почему это она должна подыскивать «Бренд»?» — раздраженно подумала Фредди.
За две недели в офисе сменилось уже четыре менеджера, поскольку первая Бренда сломала свой последний ноготь и покинула их в слезах отчаяния, жалуясь на неблагосклонную к ней судьбу. «Бренды» не выдерживали напряжения, не справлялись с паникой, а результатом вояжа Фредди стала лавина преждевременных заказов, с которой они не могли совладать, не имея в офисе хотя бы полудюжины компетентных работников.
— Кто-нибудь отвечает на телефонные звонки в приемной? Там что-то похожее на рождественский праздник в Нью-Йорке, — горячился Джок. — Могу поклясться, что слышу голосок Энни.
— Так и есть, командир эскадрильи. Хельга отвечает на звонки, а Энни с ней.
— Где Тони, ради Христа? — заорал Джок.
— Командир авиакрыла возвращается в данный момент из Нью-Арка. Он доставлял туда три с половиной тонны гвоздик. Полковники Ливайн и Кэрлатти доставляли клубнику и помидоры в Детройт и Чикаго. Они тоже возвращаются.
— Радость есть? — спросил Джок. Эти два слова пилоты королевских ВВС говорили друг другу, чтобы выяснить после вылета, есть ли сбитые вражеские самолеты.
— Не-а, — ответила Фредди. Этот короткий ответ означал, что ни одному из трех пилотов не удалось загрузить самолет на обратном пути, а это было весьма важно, ибо только это приносило прибыль от доставки. Все три самолета возвращались в Лос-Анджелес порожняком. Слово «порожняк» в бизнесе было самым дурным словом после слова «катастрофа».
— Ребята, вы не могли бы минутку подождать за дверью? — спросил Джок пилотов, которые с интересом прислушивались к их разговору. — Мне надо кое-что обсудить с партнером.
— Так дело не пойдет, — сердито сказал он Фредди, когда они остались вдвоем. — Сколько еще это может продолжаться; мы отклоняем заказы и терпим убытки. Как это получается? Мы завалены тоннами канцелярских бумаг, хотя с самого начала решили летать втроем, не получая зарплаты. Эти твои «Бренды» исчезают через день; у нас до сих пор нет достаточного количества механиков. Меня дожидаются созревшие персики в Бейкерсфилде — ты хоть понимаешь, что это скоропортящийся продукт? Я не могу послать ни одного самолета без Тони, Ливайна и Кэрлатти, а сегодня поступили заказы на доставку еще трех грузов. О, черт! Вот они, мои грандиозные планы! Через несколько недель нам придется занимать деньги!
Отклонившись вместе со стулом назад, Фредди закинула на стол длинные ноги, подняла юбку чуть выше колен, демонстрируя красные «лодочки» на высокой шпильке. Казалось, она старается прочитать решение проблемы на потолке. Джок, нервно барабаня пальцами по столу, ждал ответа. Фредди достала из сумочки пудреницу и ярко-красную помаду, покрасила губы и с одобрением посмотрела на свое отражение. Спустив ноги на пол, она встала и, легкая, быстрая, веселая, направилась к двери.
— Ты не можешь бросить меня одного! Куда, черт возьми, ты пошла? Полетать? Это уж наверняка нас доконает!
— Командир эскадрильи Хемптон, — сказала Фредди, весело улыбаясь, — Возьмите себя в руки! Мне противно видеть вас в панике. Вы заработаете язву. Дышите глубже. Думайте о хорошем… ваш мозг должен время от времени выдавать ценные мысли. Вообще-то, вы не слишком хорошо выглядите, — протянула она, взъерошив ему волосы и потянув за ухо. — Вы правильно питаетесь, командир эскадрильи? Получаете достаточно витаминов? Вот что, возьмите то, что у Энни приготовлено для ленча… Ам, ам, съешьте все. Я уведу дочку с собой и накормлю.
— Ты в самом деле уходишь? — все еще не веря этому, в бешенстве спросил он. — Не может быть, черт возьми!
— Хельга присмотрит за тобой. Я иду покупать себе норковую шубку.
— Стерва! Стерва! Стерва! — заорал Джок, когда одновременно зазвонили два его телефона и два телефона Фредди. — Я теперь понимаю, почему ты не дала мне погибнуть, хотя у тебя был такой шанс. Ты спасла мне жизнь для того, чтобы погубить меня сейчас?
— У тебя что, начинается паранойя? Я тебя тогда даже не знала, — ласково сказала Фредди, закрывая за собой дверь.
Джок уже не обращал внимания на звонившие телефоны, а только качал светлой головой. На лице его был написан ужас. Почему он вдруг почувствовал себя таким чертовски одиноким? Таким брошенным? Параноик? Пусть это и было бы так. Он бы согласился стать параноиком в любой момент.
В знакомом офисе Свида Кастелли было полно фотографий, моделей самолетов и реликвий, связанных с полетами. Все выглядело как обычно, но сам Свид показался Фредди не таким веселым, как прежде. Он обрадовался ее неожиданному визиту, но лицо его было печальным. Схватив Энни, он сказал, как она прелестна и как быстро летит время.
— А теперь, маленькая леди, посиди здесь, — попросил он, осторожно опустив ее на пол.
— Я не леди, — серьезно возразила Энни. — Моя бабушка Пенелопа — баронесса, моя бабушка Ева — виконтесса, а тетя Джейн помолвлена с маркизом и выйдет за него замуж — это значит, что она станет герцогиней, а я просто маленькая Энни.
— Бедная малышка! Как это грустно! Может, ты когда-нибудь встретишь принца.
— Какого принца? — с интересом спросила Энни.
— Энни, не хочешь ли поиграть с моделями самолетов? — спросила Фредди.
— Я лучше поговорю с мистером Кастелли, мамочка.
— Потом, Энни. — Фредди отвела ее в сторону.
— Я все думал, когда же ты приедешь навестить меня, Фредди. Ты уже так давно вернулась, — мягко упрекнул ее Свид.
— Все слишком сложно, Свид. Не могу даже описать.
— Не пытайся. Я представляю себе. Всей работы никогда не переделаешь, как ни старайся. Помнишь те времена, когда… когда мы были так заняты, подготавливая для съемок фигуры высшего пилотажа? Я только не ночевал в офисе. Помнишь, как ты делала один фильм за другим, не имея ни одного свободного уик-энда, и так было у всех? А помнишь ту замечательную маленькую группу, которую я создал? С этим покончено, Фредди. Никто больше не снимает фильмов с такими трюками. Во время войны я делал много фильмов об авиации, но сейчас? Все забыто. Сейчас время частоколов, увитых розами коттеджей, расцвета любви, и никто, ни одна студия не хочет ничего знать об этом. Вот сижу я здесь, смотрю на стены и мечтаю, чтобы зазвонил телефон. Но он не подает никаких признаков жизни из месяца в месяц. Может, я вообще отключу его.
— Неужели все так плохо, Свиди? Мне очень жаль.
— А может, и хорошо: это как посмотреть. Я никогда не думал, что можно иметь так много денег и получать от этого так мало удовольствия. Что-то тут не в порядке. — Он уныло и тяжело опустился на стул.
— Так много денег, притом, что бизнес не идет? Разве это возможно?
— Господи! Неужели тебя не было так долго? Все сделали деньги во время войны, и некоторые крепко вцепились в них. Я, например. Все, что я вложил, превратилось в золото. Я богат, крошка, по-настоящему богат. Кажется, я умею делать деньги. Но я не такой человек, чтобы просто сидеть и любоваться ими, я хочу, чтобы это доставляло мне радость. Наверное, не стоит жаловаться. Когда-то я получал удовлетворение.
— Я приехала как раз вовремя. У меня есть работа для тебя!
Он поднял брови.
— Где? Уж не в этом ли твоем деле с грузовыми перевозками? Фредди, ты хоть чуть-чуть представляешь, сколько небольших компаний, вроде вашей, возникло и разорилось за последний год в Лос-Анджелесе?
— Знаю. Как оказалось, Джок Хемптон не единственный ветеран из тех, кого посетила эта идея. Но несколько компаний уцелеют и окрепнут. Это неизбежно, так должно случиться. Таково будущее. А «Орлы» станут одной из этих компаний.
— Откуда такая уверенность?
— Да ведь это я говорю. Я знаю.
Она подкрепила свои слова улыбкой и твердым взглядом.
— Все та же прежняя Фредди. С командирскими замашками, упорная, упрямая как осел, настойчивая, властная — не будь ты так чертовски красива, ты была бы невыносимой. — Свид вздохнул, охваченный воспоминаниями. — Слава Богу, есть вещи, которые никогда не меняются.
— Ты нам нужен, Свид.
— Зачем? Я не представляю себя в роли грузчика, даже если груз у вас и появится. Я слишком стар и слишком богат для этого. И, наверное, слишком толст.
— Я хочу, чтобы ты возглавил компанию, взял под контроль все операции. Наша проблема в том, что у нас избыток заказов, они завалили нас слишком быстро. У нас шесть телефонов, и они не смолкают ни на минуту. У тебя слюнки потекут, Свид, — это работа для тебя. Ты развлечешься, черт возьми, разгребая наш завал. Я почти завидую тебе. Сначала тебе придется решить, сколько еще самолетов нужно арендовать и скольких пилотов нанять, ведь если мы не справимся сейчас со всеми заказами, их перехватит кто-нибудь еще. Потом тебе придется решать проблему с доставкой обратного груза — это следовало сделать еще вчера. Кроме того, придется найти человека, который будет следить за всеми ремонтными работами, и еще одного — для составления контрактов. Ты должен будешь немедленно подыскать сотрудников для офиса, наладить чартерные рейсы в другие города…
— И это все?
С его круглого лица исчезло печальное выражение. Он сел прямо.
— Это только начало. Ты мог бы отвечать на телефонные звонки в свободное время, но у тебя не будет свободного времени.
— Какими деньгами мы располагаем?
— У меня осталось немного. Конечно, как председатель нашего правления, ты сможешь развернуться, тем более, что, по твоим словам, все, к чему ты прикасаешься, превращается в золото. Так что у нас большие перспективы.
Кастелли внимательно посмотрел на Фредди. У этой девочки тысячемильные сапоги-скороходы. Она способна выпрыгнуть из самолета без парашюта и преодолеть закон гравитации. Он не сомневался в том, что она может все. Что за дьявол, он никогда не мог устоять перед ней, она принесла ему когда-то столько денег! Что произойдет в худшем случае? Ну потеряет он какую-то часть своего богатства, которое не приносит ему радости. Да, он много бы отдал за парочку звонящих телефонов!
— А, дьявол… считай, что уговорила. Мне нужно несколько дней, чтобы подчистить тут все…
Фредди крепко обняла его и звонко поцеловала в обе щеки.
— Ты не пожалеешь об этом. Я обещаю, Свид, тебе это понравится. У нас нет ничего, кроме проблем! — Она взяла в руки табличку с надписью: «Буду через пять минут» и задумчиво повертела ее в руках: — Моя машина стоит во втором ряду и мешает движению. Надо скорее идти, Свид. Я повешу это на дверь. Ты же не хочешь, чтобы меня оштрафовали? А через час мне надо перегонять персики в Нью-Йорк. Когда вернусь, я помогу тебе все собрать.
Не успев опомниться, бывший летчик, мастер высшего пилотажа, последовал за Фредди и Энни. Только когда они были уже на полпути к Бербанку, он сообразил, что никакой штраф не угрожал Фредди на студийной парковке, но к этому моменту он так воодушевился, что это его не занимало.
Самое плохое в новом направлении моды Диора, подумала Фредди, вылезая из «бюика», это то, что длинные юбки закрывают колени. С другой стороны, такая одежда подчеркивает ее узкую талию и увеличивает бедра и грудь. Но месье Диор должен признать, что именно ноги привлекают внимание мужчин. Хотя в постели, если женщина занимается любовью, ее ноги не имеют никакого значения. Можно обхватить ими партнера, но если у него нет отклонений, при чем тут ноги?
Она шла медленно и осторожно в своем модном костюме. Жакет из натуральной чесучи туго обтягивал ее фигуру. Черная юбка из той же ткани была очень пышной. Сначала пришлось надеть тюлевый корсет, служивший вместе с тем лифчиком без бретелек. Этот предмет, такой изящный на вид, был мучительным из-за узких гибких косточек, спрятанных в складках тюля. Ей казалось, что она в тисках «железной девы»[15] от груди и ниже бедер. Кринолины разной толщины придавали юбке необходимую пышность. А сама юбка состояла из трех слоев: тюль, настоящее органди и, наконец, чесуча. Интересно, неужели ее бабушку тоже так стискивали платья, подумала Фредди. Стоит сделать глубокий вдох — и отлетит полдюжины пуговиц. А уж поднять руки выше головы — и думать нечего. Спасибо еще, что можно сгибать локти. Нет, в этой одежде нельзя делать ничего, вот разве только качаться и семенить ногами.
Таковой была цена элегантности в 1949 году. Фредди понимала, почему Диора, когда он впервые совершал турне по Соединенным Штатам, встречала в каждом городе толпа разъяренных женщин с плакатами, на которых было написано: «Кристиан Диор, убирайся домой» или даже «Казнь Диору!». Осознав, что альтернативы этой новой моде нет, Фредди безоговорочно приняла ее. Во всем, кроме шляпы. Она ничего не носила на голове с тех пор, как рассталась с военной формой. Дорогой парикмахер красиво подстриг и уложил ее волосы, но уже через день, несмотря на его старания, они приняли тот же вид, не имеющий названия: завитушки, волны, кудри и… полный беспорядок. В этом не было ничего неожиданного. Фредди покачала головой, сожалея, что волосы не хотят подчиняться моде.
— Миссис Лонбридж? Входная дверь там, миссис Лонбридж, — сказал Хол Лейн, агент по продаже недвижимости, показывая Фредди, куда идти.
Он уже второй день приводил сюда Фредди, но все еще не понимал, что она отличается от других его клиентов тем, что думает вовсе не о покупке дома. Он считал главным то, что миссис Лонбридж должна непременно переехать. Фредди выглядела не так, как другие женщины, с которыми он попусту тратил время. Она собиралась вылезти из той дыры, в которой они жили уже три года. Несолидно двум совладельцам крупнейшей в стране компании авиационных грузовых перевозок обитать в таком жалком квартале. Не говоря уже об их собственном дискомфорте, они не решались никого туда пригласить. Нельзя было и представить себе, что кто-то придет сюда и увидит, что это место хуже самого дешевого района массовой застройки. По мнению агента, Лонбриджам давно следовало найти что-то соответствующее их положению. Он удивлялся, почему они так долго с этим тянут.
— Это один из лучших жилых домов в Хэнкок-парк, — заявил Хол Лейн, когда они подошли к входной двери. — Чувствуется дух Старого Света.
Фредди, заметив, как колышется ее новая юбка, подняла голову и остановилась.
— Мистер Лейн, я уже говорила вам вчера, что могу позволить себе потратить на поиски дома всего два дня. И предупреждала вас, что подделка под английскую старину мне не по вкусу. Почему вы отнимаете у меня время?
— Но… но… это не подделка, миссис Лонбридж. Это настоящий дом времен… королевы Елизаветы. Подождите, вот увидите, интерьер совершенно исключительный. Ванная потрясающая!
— Пока я вижу дом, в котором неизвестно для чего использованы дерево и кирпич. Кирпич — красный, мелкий, отвратительный. Окна — маленькие, плохо пропускают свет. Какой смысл заглядывать внутрь, мистер Лейн? — Она взглянула на часы. — У нас еще шесть часов.
«Ну и ну! — подумал Лейн, помогая ей сесть в свой «бьюик». — Кажется, с веселыми болтушками, которые только смотрят дома, проще. Что же ей предложить?» Он заглянул в свои списки и половину из них отложил в сторону. Видимо, миссис Лонбридж не слишком разбирается в недвижимости и не понимает, что в Лос-Анджелесе дом в английском стиле, да еще в стиле Тюдоров, вызывает почтение и свидетельствует о статусе хозяина. Лейн включил двигатель автомобиля.
Фредди сидела сзади, не глядя на одинаковые улицы с их яркими зимними цветами, на приспособления, поливающие лужайки в этот ноябрьский день. Думая о том, что должна уехать из убогого маленького домика в Бербанке, где так много произошло, она испытывала смешанные чувства. Ей никогда не забыть тех сумасшедших дней, когда Свид Кастелли взял на себя руководство офисом. Они наняли пятнадцать новых пилотов в разгар самого тяжелого за все послевоенные годы жилищного кризиса. В свободное от полетов время пилоты пытались найти жилые автоприцепы или мотели, куда могли бы перевезти свои семьи. До тех пор они ютились на полу в ее гостиной — все, кроме одного счастливчика, разделившего постель с Хельгой. Каждый свободный от полетов вечер Фредди готовила для них тушеное мясо. Энни распоряжалась молоком, печеньем и бумажными салфетками. Тони отвечал за бар, а Джок занимал гостей игрой в покер.
Это были дни, когда они начали возить обратный груз, ни от чего не отказываясь; трагические для них дни, когда три самолета, загруженные живыми лобстерами из штата Мэн, погибли в дороге во время грозы. Нервные и возбужденные, они совершили тогда сотни перевозок самых модных платьев и блузок, которые раскупали в считанные минуты. Эти вещи поступали к ним прямо с фабрик на Седьмой авеню, и они доставляли их без единой морщинки, потому что оборудовали в самолетах специальные стойки для вешалок. Они ежедневно перевозили кипы журналов «Лайф» и «Тайм» для новых крупных потребителей. Фирма занималась и перевозкой «дорогих друзей», как они окрестили покойников, которых приходилось доставлять к ним на родину. Они перевозили скаковых лошадей, поскольку те значительно лучше переносили самолет, чем долгий путь на поездах или грузовиках. Пилоты «Орлов» просаживали зарплату, ставя на этих скакунов. Но основными были чартерные рейсы.
Компания никогда ничего не добилась бы, не займись она пассажирскими рейсами. Фредди хорошо понимала это. Только чартерные перевозки, когда они распродавали все места, помогли им пережить те трудные дни. Они доставляли футбольные команды, участников съездов, церковные хоры, летящие на конкурс, военнослужащих, отправляющихся в отпуск, студенческие группы, цирковые коллективы вместе с их зверями, оркестры, монашек и медицинских сестер. Никто из них не мог ждать, пока рассосутся трудности с пассажирскими перелетами. С «Ди-Си-3» компания переключилась на четырехмоторные «Ди-Си-4». Они нашли складные стулья, организовали питание и стали продавать места по девяносто девять долларов за перелет из конца в конец страны бесчисленным группам, готовым совершить полет в аскетических условиях — недорого и безопасно.
Хол Лейн затормозил перед домом с белыми колоннами.
— Миссис Лонбридж, думаю, эта резиденция достойна того, чтобы потратить на нее время.
— Господи помилуй! Я словно вернулась в «Тару»! — воскликнула Фредди.
— «Тара» была скопирована с этого особняка.
— Я взгляну, — сказала она более любезно, поскольку дом находился в пределах круга, очерченного ею для Лейна на карте, чтобы показать ему, на каком расстоянии от аэропорта она намерена поселиться. Обходя огромные пустые комнаты, не реагируя на комментарии Лейна, как на привычный шум мотора, Фредди думала, долго ли придется привыкать к такому огромному дому. Уйдя от родителей, она поселилась в маленьком домике Мака, оттуда перебралась в комнаты, арендованные вспомогательной авиацией, где жила вместе с Джейн, потом в уютную спальню и маленькую гостиную, предоставленные им с Тони в «Лонбридж Грейндж», и, наконец, в домишко в Бербанке. Будет ли ей здесь так же уютно, как и прежде?
Интересно, Джейн тоже пришлось привыкать, когда она вышла замуж за своего обожаемого маркиза Хамфри и переехала в древнюю громаду эпохи Тюдоров в Норфолке, в эту величественную и неуклюжую феодальную обитель? Нет, на ее Джейн это не похоже. Она наверняка превратила половину комнат замка в кладовки и теперь, к восторгу всей Англии произведя на свет наследника герцогства, снова была беременна. Теперь она, несомненно, потребовала отдельный флигель для себя, для детских комнат, нянек и всех боготворящих ее людей. Джейн рождена для замка. «Грейндж» был ее стартовой площадкой.
— Миссис Лонбридж, могу ли я обратить ваше внимание на эту туалетную комнату? Исключительная сантехника, не так ли? Думаю, вам известно, что о хозяйке судят по ее туалетной комнате так же, как и по тому, каких она принимает у себя гостей?
— Почему бы нам не заглянуть в подвал? — предложила Фредди.
Он неохотно повел ее вниз по причудливой лестнице и с удивлением наблюдал за тем, как внимательно она осматривает отопительную систему, обходя ее со всех сторон и стуча по ней ногой. Потом, расстегнув жакет, Фредди придирчиво осмотрела трубы, идущие наверх.
— Отопительная система никуда не годится, — заметила Фредди. — Этот дом мне не подходит. Извините, мистер Лейн. Что там у вас еще?
— Есть дом в современном классическом стиле. Внутренний голос подсказывает мне, что он вам понравится.
Современный дом казался холодным и казенным, хотя ярко светило солнце. Фредди обнаружила лишь одно уютное место во всем доме — встроенный шкаф, отделанный кедром. Правда, он занимал огромное пространство. Может, именно в этом причина того, что Тони так изменился… недостаточное жизненное пространство? Может, отчасти поэтому он и стал таким… отстраненным? Впервые заметив возникшую в их отношениях трещину, она задумалась. А вдруг это началось во время двухлетних беспощадных баталий за тарифы с компанией «Америкэн Эйрлайнз», а она не обратила на это внимания? Они все были так озабочены, пытаясь удержаться на плаву, но месяц за месяцем терпя убытки, что личные отношения отошли на задний план. Оставалось слишком мало времени на семью, грустно размышляла Фредди, ведь им каждую пятницу приходилось выплачивать зарплаты, составлявшие огромные суммы.
Свид вложил в «Орлов» все свои сбережения, но главное, что позволило им выжить в первые два года, был ниспосланный провидением контракт с командованием воздушных сил на перевозку военного персонала из Калифорнии на Гавайи, Гуам и в Гонолулу. Когда управление гражданской авиации, с присущей ему чертовской медлительностью, в конце концов, в апреле 1948 года прекратило войну за тарифы, «Орлы» оказались в числе нескольких уцелевших компаний, хотя их было более двух тысяч.
Осмотрев встроенный шкаф, Фредди направилась к выходу.
— Едем дальше, мистер Лейн, дальше, — невозмутимо сказала она, идя по пустому коридору в своих шуршащих юбках и кринолинах. Следующий дом, построенный в колониальном стиле, показался ей симпатичным. Фредди сделала вид, что внимательно его осматривает, хотя пыталась вспомнить, когда впервые заметила, что Тони не просто следит за баром для пилотов, а активно пользуется им сам каждый вечер. Даже бывая один. А потом он частенько оказывался на полу. Между 1946 и 1949 годами им пришлось участвовать в борьбе грузоперевозчиков за утверждение маршрутов, когда определился и их собственный. Эта последняя, самая серьезная баталия закончилась всего три месяца назад, в августе 1949 года. Из тринадцати компаний, которые в 1946 году вступили в борьбу за сертификат, победителями, кроме «Орлов», стали еще четыре, остальные разорились.
Фредди мучил вопрос, в какой именно момент за эти долгие напряженные годы, когда они не получали ни цента прибыли за свой тяжкий труд, а у них самих не было ничего, несмотря на миллионные контракты, ибо они всеми силами старались уцелеть, часто нанимаясь даже на чартерные рейсы других компаний, — в какой момент у Тони начались серьезные проблемы с алкоголем. Ужасные проблемы, которых она не замечала.
Всего три месяца назад они все висели на волоске. Она не могла вспомнить, когда впервые поняла, что единственным для Тони средством унять ярость стал алкоголь. Когда же он впервые остался дома, нагрузившись так, что не мог ни летать, ни даже выйти на работу? Год назад? Два?
Тони оставался все таким же порядочным, но в его глазах читался теперь какой-то смутный укор. В нем поубавилось и джентльменской галантности, и чувства юмора. Глупее всего то, что теперь, когда наконец они могли пожинать плоды своих трудов, получив лицензию и сразу став миллионерами, Тони продолжал пить по-прежнему. А может, даже больше…
«Перестань, Фредди, прекрати», — обрывал он ее всякий раз, едва она заговаривала с ним на эту тему. Что-то в его непроницаемых глазах останавливало ее.
— Ну как, миссис Лонбридж? Что скажете? — спросил Хол Лейн.
Фредди сняла жакет, открыла окно, подняла юбки до колен, влезла на батарею и, наклонившись вперед, высунулась наружу. Через несколько секунд она спрыгнула на пол, размахивая куском металлического желоба, который сломался в ее руке.
— Вся крыша такая, а там, где мне не видно, вообще неизвестно что. Оставим это, мистер Лейн.
Надев жакет, она направилась к выходу, поправляя блузку на талии.
Проехав немного, они остановились.
— Целое поместье, миссис Лонбридж, недавно отреставрированное. Просто мечта.
— Надеюсь, — выдохнула Фредди, нетерпеливо выбираясь из машины.
Это уж точно не был английский стиль, зато слишком французский. Честно говоря, она забыла попросить агента не предлагать ей ничего во французском стиле, вспомнила она, входя в дом. Она так же не любила псевдофранцузский стиль, как Тони — псевдоанглийский.
— Давайте поднимемся по этой великолепной лестнице, — сказал Лейн. — У вас ведь есть дочь, не правда ли, миссис Лонбридж? Только представьте себе ее невестой, сходящей по этой лестнице. Этот потрясающий дом создан для бракосочетаний.
— Энни всего семь, — обронила Фредди.
— Тогда, может, пройдем в гостиную и посмотрим бар?
— Бар в «Малом Трианоне»?
— Между прочим, это Калифорния, миссис Лонбридж. Бары, гостиные, туалетные комнаты, комнаты с огромными встроенными шкафами и отдельными ванными для мужа и жены — это то, с чем мы сталкиваемся везде, правда?
— Вы правы, мистер Лейн. Где кухня?
Фредди сунула нос в духовку, проверила холодильник и краны.
— Пойду-ка взгляну на туалеты. Не беспокойтесь, вам незачем сопровождать меня.
Она вернулась через три минуты.
— Сантехнику нужно заменить, мистер Лейн. Хозяевам следовало бы сначала сделать это, а потом уже расписывать стены в туалете. Ну что, полагаю, нам осталось посмотреть не так много?
— Может, взглянем на новые дома, миссис Лонбридж? — спросил он. — Возможно, они оборудованы лучше?
— Сомневаюсь. Послевоенное строительство гораздо хуже довоенного. Там стараются урезать каждый метр.
Фредди осмотрела копию баварского охотничьего домика и виллу в мавританском стиле, методично все проверяя, тогда как Лейн молча держал ее жакет. Она заглядывала в такие места, куда, как он помнил, не заходила ни одна женщина. Подняв юбки и придерживая их, она постукивала ногой, осматривала, поднимала и передвигала предметы, не в силах вообразить, как будет жить с Тони, Энни, Хельгой и другими, пока неизвестными, слугами в одном из этих домов.
Надо выбрать дом сегодня, решила Фредди. Все оставшиеся дни на этой неделе заняты: из Нью-Йорка приехали репортер и фотограф, чтобы сделать большой материал об «Орлах» для журнала «Лайф». В тяжелые годы борьбы «Орлы» приобрели большую известность, что было совсем неплохо, так как способствовало бизнесу.
Репортеры уделяли особое внимание Фредди, женщине, занимавшейся мужским делом, обладавшей наградами за победу в соревнованиях, снимавшейся в голливудских фильмах, выполняя фигуры высшего пилотажа, наконец, как наследнице дома Ланселей. Может, Тони так расстроился из-за того, что они слишком много занимались ею, думала Фредди, стараясь отогнать эту мысль. Такая мелочность не в его характере. А вдруг его беспокоит то, что, имея теперь миллионное состояние, он не может распоряжаться наличными деньгами? Его гордость была уязвлена все это время, но Фредди казалось, что это не могло стать причиной пьянства.
Когда они узнали о своей победе, Джок пошел и продул в покер десять тысяч баксов за один вечер. Он, должно быть, старался их проиграть. Свид улетел в Тихуану и пропал там на целую неделю. Она заказала себе дюжину новых платьев и двадцать пар обуви… А Тони никак не отметил это событие, только пошел на задний дворик и почти полностью осушил бутылку виски. Он так ушел в себя, пристрастившись к спиртному, что даже Энни не могла отвлечь его.
Фредди тоже вышла во дворик, наполнила стакан и опустилась в шезлонг рядом с ним. Время от времени она бросала на него озабоченные взгляды. Он не замечал их и, погруженный в тоску, смотрел на августовский закат. Его тонкое лицо, как всегда, было прекрасным. Калифорния не изменила его британскую сущность, но в нем произошли какие-то серьезные перемены. Когда Фредди впервые встретила Тони, в тот критический момент мировой истории он излучал жизненную энергию. Если бы не королевские ВВС и летчики-истребители, подобные Тони, Гитлер, без всякого сомнения, выиграл бы войну. Ни один из них не думал тогда об истории, но каждый старался выжить. Тони тогда был самим собой — отважным, радостным властелином неба, верным великому и опасному долгу, добровольно принятому на себя.
А теперь? Ушло что-то жизненно важное, пропала целеустремленность, а взамен ничего не появилось. Он был воином, у которого отняли неприятеля, гладиатором без оружия, командиром без войска. Может, она слишком романтизирует его, подумала Фредди, но не вспоминает ли он с тоской о том, как вел в бой свое авиакрыло? Испытывал ли он в послевоенной жизни что-то подобное опьяняющему чувству тех героических лет? Он никогда не говорил об этом даже с Джоком, хотя для многих пилотов-ветеранов не было большей радости, чем вспомнить воздушные сражения с их участием.
А может, он тосковал о семье, оставленной в Кенте? Даже в 1949 году Англия не оправилась еще настолько, чтобы разрешать своим подданным ездить за границу по делам, не связанным с бизнесом, и Тони не видел своих родителей, братьев и сестер больше трех лет. А вдруг он удручен тем, что они больше не завели детей? Фредди поежилась, взглянув на его замкнутое лицо, тоскливые глаза, безвольный рот. Она не знала, о чем Тони все время думает, а поскольку он так много пил, Фредди не могла это выяснить.
Ей нет еще и тридцати, подумала Фредди, и теперь, когда у «Орлов» такое надежное будущее, почему бы им с Тони не завести еще детей, о чем он всегда мечтал. Наконец-то она может позволить себе иметь еще одного ребенка, а то и нескольких. Впервые с тех пор, как на нее легли заботы о летной школе Мака, Фредди чувствовала себя свободной. Но к праздной жизни она совершенно не привыкла.
У Дельфины и Армана родились два сына — близнецы, а потом третий сын. Дельфина при этом была одной из ведущих актрис французского кино. Дети не помешали ее карьере.
Но чтобы забеременеть, необходимо заниматься любовью. А они с Тони не делали этого уже несколько месяцев. Может, переезд в новый дом что-нибудь изменит? Видимо, их крошечная тесная спальня слишком надоела ему, а потому он засыпал всегда так быстро, что даже не успевал поцеловать ее перед сном, а ведь за этим могло последовать что-то еще? А если виной тому алкоголь? Или другая женщина, встреченная им во время одного из полетов?
Ей почему-то казалось, что причина не в этом. Вид у Тони был отсутствующим, но он не походил на человека, занятого мыслями о женщине. Но не слишком ли она наивна? А вдруг она уже непривлекательна для него и с этим ничего уже не поделать? Тони замечал все ее новые платья — такие женственные, романтичные и обольстительные, но говорил о них так равнодушно и снисходительно, что ей хотелось заплакать или ударить его, поскольку Фредди видела в этом признак распада их совместной жизни. Он не виноват в том, что Фредди больше не возбуждает его: похожие на колокольчик юбки теперь закрывали ее колени. Но проблема возникла задолго до того, как она купила себе модную одежду.
Будь хоть малейший шанс, что новый дом снова соединит их, она ухватилась бы за нее.
— Остановитесь здесь! — взволнованно сказала Фредди агенту. — На этом доме висит объявление «Продается».
Он затормозил.
— В моем списке нет этого дома, — возразил он. — Боюсь, мы не сможем туда попасть. Это… обычный дом, миссис Лонбридж, не поместье, не резиденция, самый обычный дом… большой, конечно, но ничего особенного. Есть маленький садик, но он запущен. Я бы не рекомендовал вам вкладывать средства в такой дом. Он неплох, но не более того. Уверен, что покажу вам что-нибудь получше, то, что больше соответствует вашему положению. Этот… этот дом… построен так давно, что, вероятно, в нем нет даже бара.
Несколько минут Фредди молча рассматривала дом, не изъявляя желания войти в него.
— Я покупаю этот дом, — сказала она. — Позвоните мне завтра и назовите цену. Я, конечно, назначу свою, но определенно собираюсь его купить.
— Миссис Лонбридж, но вы даже не посмотрели его!
— Я знаю, что там, — сказала Фредди. — Я в нем выросла.
21
— Мисс Келли, соедините меня с бюро по найму, — сказал Бруно секретарше, войдя в свой импозантный офис в «Бичем меркантайл траст» во влиятельном частном инвестиционном банке, прочно обосновавшемся в Нью-Йорк-сити более ста лет назад.
— Хорошо, сэр. Вот сообщения для вас, а почта — на вашем письменном столе.
Бруно дал ей пальто, чтобы она повесила его в шкаф. Ветреным и холодным выдался этот день в Манхэттене в начале декабря 1949 года, но Бруно взял себе за правило ходить пешком от своего дома на Саттон-плейс до работы в любую погоду, даже под проливным дождем. Ему было тридцать четыре года, и ответственный пост в банке зачастую вынуждал его отменять ежедневную игру в сквош ради делового ленча, поэтому прогулка от Пятьдесят седьмой улицы и Ист-ривер до Уолл-стрит была хоть какой-то разрядкой.
— Миссис Макайвер на линии, сэр.
— Доброе утро, виконт де Лансель. Что вам угодно, сэр? — раздался жизнерадостный голос хозяйки самого дорогого агентства по найму прислуги.
— Миссис Макайвер, пришлите мне людей для собеседования. Дворецких, шеф-поваров и слуг.
— Сэр, всего две недели назад я направила к вам своих лучших работников. Кто-то из них не справился со своими обязанностями?
— Ни один из них не получил бы места в Париже. Вы могли бы работать и получше, миссис Макайвер.
— Уверяю вас, виконт де Лансель, что каждого из этих людей я проверила персонально, прежде чем они достигли того положения, какое занимают вот уже много лет. Все они без исключения прекрасно работали у меня в доме.
— На мой же взгляд, они не так уж хороши. Попробуйте еще.
— Постараюсь сделать для вас все возможное, сэр. Но вы, конечно, понимаете, как это нелегко. И все же я попытаюсь и позвоню мисс Келли, чтобы договориться о собеседовании.
— Ладно. — Бруно бросил трубку.
На другом конце провода Нэнси Макайвер насмешливо улыбнулась. Если бы всем ее клиентам было так же трудно угодить, как этому французу, золотая жила ее агентства давала бы чистую платину. Всякий раз, когда у него возникали проблемы с кем-нибудь из прислуги, она собирала комиссию, чтобы найти новых людей, но за три года ее общения с Ланселем у него никто не продержался больше двух месяцев. И все же он обращался именно в ее агентство, поскольку ни одно другое в Нью-Йорке не предоставляло такой исключительной прислуги — элиту, специалистов экстракласса в любом виде домашних работ: от прачки, снисходившей до ручной стирки только фамильного белья, и до мажордома, который не согласился бы работать в семье, не имевшей по крайней мере трех домов с полным штатом прислуги. Фамилии людей, направленных ею, и фамилии семейств, где они должны были работать, составляли владения миссис Макайвер, а его границы постоянно перемещались от нескольких кварталов в Манхэттене до Си-Айленда, Палм-Бич, Сараготы и Саутгемптона, в зависимости от времени года.
— Лансель снова буйствует, Дженни, — весело сказала она своей помощнице.
— Что на этот раз? По-моему, это самый трудный субъект во всем городе. У нас не было еще ни одной выжившей из ума вдовы, которая доставляла бы столько хлопот, как этот холостяк.
— Как знать… Запомни Дженни: нет оборота — нет денег. Дай мне, пожалуйста, его досье.
— Но у него уже перебывали почти все из нашего списка. И вот опять мы должны кого-то искать, — возмущалась Дженни, доставая пухлую папку.
— Даже если я пошлю к нему людей, уволенных им прежде, он ничего не заметит. Его дом как турникет в подземке. Если клиент не может удержать хорошую прислугу — это его проблемы, а не наши. Таково золотое правило нашего бизнеса, никогда не забывай об этом.
— Хотела бы я знать, что он такое на самом деле?
— Поверь, это не главное, — насмешливо сказала Нэнси Макайвер. — Что он сам о себе думает — вот это вопрос!
— Бруно де Лансель? Какая нелепая мысль, Марджори, — сказала Синти Бомон своей секретарше.
— Поскольку Лэрри Белл в последнюю минуту отказался прийти на обед, думаю, стоит попытаться.
— Этот проклятый Лэрри Белл! Его больное горло не может служить оправданием. Он что, не может сделать над собой небольшое усилие? Неужели он думает, что я могу найти еще одного мужчину за такое короткое время! Никто бы ничего не заметил — я вовсе не собиралась осматривать его горло.
— Может, он опасается заразить кого-нибудь, — отважилась заметить Марджори, между тем как ее хозяйка, Синти Бомон, гневно ходила взад и вперед по своей гостиной. Ее весьма разозлило, что рухнул так тщательно разработанный ею план размещения гостей на званом обеде.
— Только не он! Да он готов заразить всех проказой, лишь бы об этом никто не узнал. Больше всего он печется о своем драгоценном здоровье, проклятый эгоист! Очень нужно ему беспокоиться о моем обеде!
— О, миссис Бомон, по-моему, это станет событием сезона, — утешительным тоном сказала Марджори.
Проработав много лет секретаршей у самых высокопоставленных особ Нью-Йорка, она знала: ничто так не выводит из равновесия даже очень умных и спокойных женщин, как необходимость в последнюю минуту искать замену мужчине. Ни одна из них не смогла бы смириться с ужасной перспективой посадить за стол рядом двух женщин, хотя, по мнению Марджори, мужчины не придают особого оживления и прелести таким приемам. Обычно они садились, откинувшись на спинку стула, и ждали, когда их начнут развлекать, тогда как можно не сомневаться, что любая живая и интересная дама будет расхваливать званый ужин.
— Что же делать, Марджори? Что же делать? Это же катастрофа! Как вы думаете, может быть, Тим Блэк? Нет, он уже отказался от приглашения. Вычеркните его совсем из списка, он мне вообще никогда не нравился. Что бы ни случилось, я поклялась никогда не обращаться к нему после того, как он безобразно напился на последнем приеме и сделал непристойное замечание миссис Астор. Ну почему же я стремлюсь устроить обед именно в декабре! Мне ведь хорошо известно, что, начиная со Дня Благодарения и до Нового года, невозможно найти ни одного приличного мужчины, располагающего временем.
— Но это же день рождения мистера Бомона, — возразила секретарша.
В жизни даже такого занятого общества, как нью-йоркское, это ежегодное торжество было священным.
— В будущем году ему придется перенести его — вот и все. Я больше не желаю проходить через этот ад. Марджори, ну проявите же творческую инициативу!
— Пойду в свой кабинет и попробую позвонить кому-нибудь из вашего запасного списка.
— Проверьте всех наших врачей и дантистов, может, среди них есть кто-то одинокий или разведенный. А Джеймсу-младшему я позвоню сама.
— Он уже сдал половину выпускных экзаменов, миссис Бомон.
— В самом деле, разве он не может пойти хотя бы на маленькую жертву ради своей матери? О, это полное безумие — иметь пятерых сыновей, четверо из которых женились сразу же после колледжа. Ну что это такое?! Зачем я дала жизнь этим неблагодарным скотам! Подумать только, если бы они не женились, у меня в резерве было бы четыре великолепных молодых человека, даже пять, после того как Джеймс-младший закончит учебу. Так нет же, ни один из них не удосужился подумать обо мне и моих проблемах. Неблагодарные! Все они поглощены только собой. Современная молодежь понятия не имеет о долге, традициях и семье. Какое счастье, что у вас нет детей, Марджори. Вы избавлены от стольких огорчений!
— Честно говоря, я хотела бы иметь девочку, миссис Бомон.
— Еще одну женщину? Боже упаси! Пойду оденусь, пока вы будете звонить.
— Я все же хочу попытаться пригласить Бруно де Ланселя.
— Марджори, как можно приглашать его в последний момент! Я намерена устроить прием в честь этого человека. Одно могу сказать о Бруно де Ланселе: он никогда не позволит себе отказаться от приглашения в последнюю минуту — разве что на смертном одре. Но он слишком хорош, чтобы мечтать о нем. А какие у него великолепные манеры!
— Но вы же просили проявить творческую инициативу, миссис Бомон.
— Но в разумных пределах. Я не рассчитывала на ваш рождественский список. Бруно де Ланселя может оскорбить просьба заменить кого-то на этом вечере.
— Он так часто бывал здесь, что, безусловно, все поймет. Он ведь ваш добрый друг. Думаю, все будет в порядке.
— Он не из таких друзей. Будь он американцем, я бы сказала, что он обрадуется возможности помочь. Но вы же знаете… как он… холоден. У меня нет ощущения, что теперь я узнала его лучше, чем в нашу первую встречу; много раз я усаживала его рядом с собой по правую руку. Однако при его светскости он даже не допускает разговора о себе. И все же никто не станет отрицать — он выглядит совершенно великолепно, очень, очень богат, холост, плюс титул. Конечно же, он бывает молчалив как сфинкс, неприступен, как Папа Римский, у которого не добьешься аудиенции, официален, как английская королева… погодите… Папа Римский… а что, если кардинала Спеллмэна? Как вы думаете, Марджори?
— В качестве резерва — нет, не думаю, что это возможно, миссис Бомон.
— Ах, вероятно, вы правы, — с досадой вздохнула Синти Бомон; эти нюансы так хорошо понимала Марджори Стикли. Ради этого стоило иметь лучшую секретаршу в городе; она и получала вдвое больше других. Даже если бы кардинал был свободен — а Марджори была готова держать пари, что он занят, — все равно ничего бы не вышло.
Когда Синти Бомон вышла из ванной и начала накладывать довольно густой макияж, чтобы затем заняться с флористом, явившимся украшать дом, вернулась Марджори.
— Я пригласила Бруно де Ланселя. Он с удовольствием согласился прийти.
— Невероятно! Вы просто сокровище! Вы спасли мой прием! Что же вы ему сказали? Как вам удалось?
— О, это мой маленький секрет, миссис Бомон. А теперь я должна предупредить флориста, что вы придете к нему через несколько минут, не то с ним случится нервный припадок.
Направляясь по коридору к столовой, секретарша думала о своем золотом правиле: худшее, что можно от кого-либо услышать, это — «Благодарю вас, нет». Она сделала быструю и удачную карьеру и отложила приличную сумму на черный день благодаря телефонным звонкам от имени хозяев, слишком робких для того, чтобы делать это самим. Иногда она даже жалела этих светских дам. Но не часто. Что же касается Бруно де Ланселя, то его репутация холодного и надменного человека внушала многим дамам такой страх, что Марджори почти не сомневалась, что в этот вечер он свободен. Конечно же, он сноб — в высшем обществе это понимали, — но не с людьми своего круга. «Что же он о себе думает?» — усмехнулась про себя Марджори.
В пятницу Бруно вышел из банка пораньше и отправился на четвертую примерку новой куртки для верховой езды, заказанную в фирме Дж. М. Киддера несколько месяцев назад.
— Вы тоже собираетесь на охоту в Мейн-Лайн, виконт де Лансель? — любезно спросил его Алленсби, старший портной.
Бруно буркнул в ответ что-то уклончивое. Он не понимал, почему этот портной считает возможным обсуждать то, что его совершенно не касается.
— Мы обслуживаем многих джентльменов из Мейн-Лайн. Там очень хорошая охота, как они говорят.
Бруно фыркнул. Если считать хорошей охоту с глупыми, напыщенными биржевыми маклерами, юристами и бизнесменами, не имеющими понятия о благородном спорте, никогда не проводившими целый день в погоне за зверем в своих собственных угодьях, тогда, конечно, это так. Но это жалкое подобие охоты в нескольких часах езды от Нью-Йорка — Фэрфилд — всегда был объектом шуток. Однако жизнь без охоты немыслима.
— Воротник скроен неправильно, Алленсби.
— Сейчас, сейчас, сэр, я поправлю его после последней примерки. Это совершенно новый кусок ткани. Посмотрите, как хорошо он облегает шею.
Бруно наклонил голову вперед, назад, повертел ею из стороны в сторону, пытаясь освободить шею хотя бы на сантиметр, но тут воротник треснул.
— Нет, это не годится. Совершенно никуда не годится. Отпорите и сделайте все сначала. — Он с усилием стащил с себя куртку и бросил ее на стул. — Позвоните моей секретарше, когда будете готовы к следующей примерке.
— Хорошо, сэр, — охотно согласился Алленсби.
Унося куртку, он думал о том, что только определенного типа люди срывают свое настроение на портном и они не стоят того, чтобы из-за них расстраиваться. Этот француз думает, что его титул имеет здесь значение. Пусть у него будет столько примерок, сколько он захочет, — такого рода неожиданности предполагались с самого начала и входили в стоимость куртки. Старая фирма пережила не одно поколение трудных клиентов, хотя раньше он не встречал никого с такой великолепной фигурой. «Можно было бы получать удовольствие от примерок, — с усмешкой подумал Алленсби, — если бы он не был таким ублюдком. И вообще, кем он себя воображает на этой земле?»
Выйдя от портного, Бруно посмотрел на часы. Он располагал двумя часами до того, как придется одеваться к обеду. Надо преодолеть совсем небольшое расстояние, и там, у камина его ждет женщина с вьющимися волосами и горделивой грацией породистой кошки. Звучит тихая музыка, у женщины пухлые губы, диковатые глаза выражают нетерпение. Пышная женщина с ленивой повадкой, молочно-белой кожей и восхитительными формами, темно-коричневыми сосками и ртом, больше предназначенным сосать, чем говорить, полным задом, словно приглашающим к упоительному наказанию. Бруно был большим знатоком по части наказаний. У этой женщины настойчивые, порочные, изобретательные руки. Ей, одной из самых высокопоставленных дам в городе, невероятно богатой и знатной, не исполнилось еще и сорока. Она принадлежала ему уже три месяца.
Бруно считал, что, когда ему нужно, она должна принять его, позволить ему делать с ней все, что доставит ему удовольствие. Он звонил ей заранее и подробно объяснял, как ей следует ласкать себя до его прихода. Он знал, как должны раздвигаться ее бедра, чтобы она могла легко проникать в себя влажными искушенными пальцами, предварительно облизав их. Он знал, что ей придется напрягаться и сдерживаться, чтобы оргазм не наступил раньше времени.
Если Бруно входил в комнату, опускался на тахту и говорил, что устал, это означало, что он желает лишь того, чтобы она наклонилась и медленно доставляла ему удовольствие своим большим и жадным ртом — и женщина подчинялась. Ложась на тахту и не дотрагиваясь до нее, он ждал, когда она возбудит его своими ловкими руками, а потом велел широко раздвигать ноги и входил в нее. Если Бруно грубо приказывал ей подниматься и опускаться до тех пор, пока не испытывал облегчения, проникнув в нее, она беспрекословно повиновалась. Если он приказывал ей лечь на ковер, задрать юбку, согнуть колени и раздвинуть ноги, а после этого входил в нее и получал наслаждение быстро и эгоистично, как мальчишка, она была благодарна. Если он приказывал ей оставаться на стуле, а сам становился напротив, расстегивал брюки и засовывал член ей в рот, — она доставляла ему изысканное удовольствие и никогда не протестовала. Если же он просто садился на край стула как зритель и велел ей ласкать самое себя до тех пор, пока она не начинала корчиться от удовольствия, она выполняла и это.
Вот такая это была женщина. Она была именно в том возрасте, который ему нравился. Она знала, чего хотела, а хотела она, чтобы с ней обращались как с шлюхой. Ни один мужчина в Нью-Йорке не отважился бы обращаться с ней так, как он, но, даже только начав проделывать с ней все эти унизительные вещи, Бруно знал, что она страстно желала этого. Она была его творением.
«В этом-то и проблема», — подумал Бруно, не зайдя в эту наполненную ароматами комнату, где его ждала женщина, и отправился домой. Он мог раскрыть любой из ее секретов — они не были для него новостью. Бруно уже почти достиг возраста этих опытных женщин, которых всегда предпочитал другим, и с каждым годом ему становилось все труднее найти такую, самые тайные и запретные фантазии которой не казались бы ему повторением пройденного. Теперь очень редко какой-нибудь новой пассии удавалось надолго взволновать его, особенно дамам из нью-йоркского высшего света. В их сексе, таком скучном и банальном, не было и намека на интригу, в отличие от парижанок они никогда не преступали границ дозволенного.
Да, он обвинял этих блистательных американок с их бледным и скудным воображением в том, что они не возбуждали его. Желанные ощущения в паху не возникали и при мысли о женщине, которая в эти минуты ждала его — страстная, жадная, опьяненная. Бруно завидовал ее страсти и не сомневался: поняв, что сегодня он не придет, она найдет способ удовлетворить вожделение, бурлящее в ней после его утреннего телефонного звонка. Она была счастлива, часами наслаждаясь предвкушением любовных игр, — часами, так же лишенными для него очарования, как и весь этот день и предстоящий званый обед.
На что еще можно надеяться в этом городе? — спрашивал он себя, не замечая оживления, царившего на улицах предрождественского Нью-Йорка, в котором для многих таилось столько надежд; для них ярко светились витрины, а энергия и нерастраченные жизненные силы словно витали в воздухе.
Нью-Йорк. Скверный, скверный город, лишенный очарования, интимности, истории. Здания либо очень высокие, либо очень низкие, но в любом случае слишком новые. Их пропорции неправильны, неинтересны, неуклюжи. Улицы — прямые, правильные, как скучная решетка. Деревьев нет, кроме парка, заключенного в строгий прямоугольник; ни внутренних двориков, ни неожиданных тупиков, ни площадей, где, завернув за угол, можно замереть на месте в восторге от увиденного. Нет и изгибов реки в черте города, а без них городской пейзаж кажется полуживым. Люди, считающие себя элегантными, счастливы тем, что живут в многоквартирных домах на темных, совершенно пустынных улицах, называемых Парк-авеню, где каждый любопытный может глазеть в твои окна.
Нью-йоркский высший свет — великолепное отражение города: слишком шумный, слишком безвкусный и слишком легкомысленный, лишенный очарования и истории, открытый для любого, кто способен заплатить за вход. Высший свет, так и не постигший таких понятий, как семья и род, и не уделявший им должного внимания. Высший свет, не имеющий никакого отношения к аристократии. Интересно, имеет ли какая-нибудь из его знакомых сверхозабоченных дам хоть слабое представление о том, что он думает о них. Скорее всего, нет — они слишком глупы, чтобы заметить его презрение, а его манеры, заученные до автоматизма, слишком безлики, чтобы усмотреть в них какой-то намек. Ну что ж, здесь только эти люди. Французская же колония состоит из парикмахеров и старших официантов.
Единственное утешение Нью-Йорка в том, что это не европейский город. Бруно не выносил провинциализма эгоцентричной Европы — Рима или Мадрида, а Париж, находившийся всего в нескольких часах пути, был закрыт для него. Но здесь, в этом беспросветном изгнании, все интересы сосредоточивались вокруг денег, а деньги, в отличие от секса, никогда не переставали привлекать Бруно. Непредсказуемые, они не утратят прелести новизны; погоня за ними никогда не потеряет смысла. Накапливая их все больше и больше, Бруно никогда не задавался вопросом, для чего они ему, если он даже не может нанять приличного слуги.
Подходя к своему дому, куда он никогда никого не приглашал и который украсил точно так же, как дом на улице Лилль, Бруно подумал, не пришло ли письмо от Жанны.
Экономка в Вальмоне хранила ему преданность. Она регулярно писала из своего уединенного коттеджа в Эперне, сообщая ему семейные новости; он аккуратно отвечал ей, поскольку она давала ему единственную возможность узнать, что происходит в Шампани. Полю де Ланселю исполнилось шестьдесят четыре, а Лансели, как известно, долгожители. Бабка и дед дожили до восьмидесяти, хотя несчастья происходят каждый день, не считаясь с хорошими генами: автомобильные катастрофы, падения с лошади, запущенные инфекции. Болезнь может поразить неожиданно. Дядя Гийом умер довольно молодым.
Да, он знал, что скоро — и эта мысль сводила его с ума и вытесняла все остальные — может прийти печальное письмо от Жанны, которое вернет его к жизни.
Мартовским днем 1950 года, в пятницу, Фредди уселась на письменный стол Тони и посмотрела на него взглядом, полным надежды.
— Тони, давай прокатимся на машине. Джока и Свида не оторвать от дел, но какой смысл всем вместе сидеть в офисе! Такой чудный день!
Тони поднял глаза от пустой амбарной книги, которую он мрачно рассматривал, когда Фредди вошла в контору.
— Прокатиться? Куда? Что такое привлекает тебя? Изумительные виды Голливуда? Светлые пески Санта-Моники? Может, ты собираешься забраться в свою новую «Бонанцу» и полетать, а не ехать в машине?
— Нет, я говорю о поездке на машине, — терпеливо ответила Фредди.
Тони был в отвратительном настроении. Слишком много виски за ленчем или просто раздражение — угадать невозможно.
— Идем, давай опустим верх машины. Мне до смерти хочется уехать отсюда. Это даже не смешно, когда все идет так гладко, ведь и с бизнесом все в порядке. Ну идем же, дорогой!
Тони недовольно поднялся и пошел за ней к месту парковки машин рядом с новым зданием их офиса, в аэропорту Бербанк. Он лениво плюхнулся на сиденье, а Фредди повела машину из долины Сан-Фернандо Вал-лей по холмам в окрестности Лос-Фелис.
Фредди въехала на улицу, которую она, казалось, выбрала наугад, и припарковала машину перед домом на вершине холма. Это был типично калифорнийский вариант испанской гасиенды: эклектичный старый дом с балконами и двумя внутренними двориками, купленный ею в ноябре, почти пять месяцев назад. Она взяла краткосрочный кредит и нашла подрядчика с двумя бригадами. Работая сверхурочно, они привели дом в полный порядок; декоратор трудился целыми днями, украшая его. Улица, обсаженная старыми апельсиновыми деревьями и тянувшаяся вдоль автотрассы, была в цвету и благоухала. Садовник подрезал буквально каждое дерево и восстановил сад, так хорошо памятный Фредди; он перекопал и удобрил запущенную землю, засадив широкие клумбы английскими примулами и крошечными фиалками. Повсюду виднелись анютины глазки; их желтые, белые и темно-красные головки перемежались с ярко-голубыми пятнышками незабудок. В следующем месяце должны впервые зацвести розы, на которых уже появились бутоны. Газоны, заново выложенные дерном, зазеленели. Дом был полностью перекрашен, а красная черепица на крыше оказалась в прекрасном состоянии. Фредди выключила мотор.
— По-моему, ты собиралась на автомобильную прогулку, — сказал Тони. — А мы ехали всего пятнадцать минут.
— Тебе нравится этот дом? — спросила она.
— Конечно же да. По-моему, это единственная архитектура, которая вписывается в пейзаж Калифорнии. Я всегда это говорил.
— Нам нужен новый дом, правда?
— Не могу с этим не согласиться.
— Какой-нибудь дом, вроде этого, — горячо сказала она.
— Полагаю, это означает, что ты его уже купила? — Тони мельком взглянул на нее.
Фредди опустила глаза, чтобы скрыть восторженное выражение, но изобразить безразличие ей никогда не удавалось.
— По-моему, он в самом деле симпатичный и в хорошем состоянии, — продолжал он, не дожидаясь ответа. — В полном порядке — от фундамента до крыши. Все системы работают — проверь, — и можно в нем жить.
— Ты не удивлен? — Фредди огорчилась, волнения — как не бывало.
Каждый день, когда подрядчик и садовники работали здесь, она старалась незаметно улизнуть из офиса и посмотреть, как продвигается дело; она придиралась и льстила, угрожала и заигрывала, пока все не сделали именно так, как она хотела, и за немыслимо короткое время. Она звонила декоратору раз шесть в день, встречалась с ним каждую неделю, чтобы сделать окончательный выбор — и все так, чтобы никто из «Орлов» не знал, чем она занимается. Она была в восторге от своего великолепного секрета.
— Что же я, по-твоему, должен сказать, если меня поставили перед фактом? — спросил Тони. — Теперь, когда мы неприлично богаты, новый дом был лишь вопросом времени. Ты же любишь доводить дело до конца, так ведь, Фредди? — Он говорил с ней мягким, спокойным тоном, который задел ее так же, как неверный звук в хорошо знакомой мелодии. Это отличалось от той мягкости, которую она раньше знала в этом в общем-то спокойном человеке. В его тоне появилось что-то новое, деланное, словно за этой мягкостью скрывалось что-то другое, чего она не могла определить.
— Даже если ты не удивлен, — сказала она, пряча свое простодушное разочарование и делая вид, что ничего другого не ожидала, — ты же не умрешь, посмотрев, как там внутри.
— Уверен, что там совершенно очаровательно. И я собираюсь все посмотреть, так что — открывай, — сказал Тони, выйдя из машины и остановившись перед дверью.
Все последнее время Фредди мысленно проигрывала эту сцену, стараясь представить себе реакцию Тони, воображая его радость от предвкушения будущего, от новых возможностей, которые открывались перед ними. Она никогда не думала, что реакция будет такой вот тихой и кроткой, словно ему предложили блюдо, которое он должен съесть из вежливости, хоть и не голоден. «Может, это с похмелья, — подумала она, идя следом за ним и доставая ключ. — Должно быть, он так «мил» потому, что у него трещит голова или сухо во рту». По поведению Тони этого нельзя определить. Он умеет хорошо держаться, и его состояние очень обманчиво. Иногда только после того, как он отключался, Фредди понимала, насколько он пьян.
Фредди и Тони обошли все комнаты в доме. Повсюду в корзинах стояли пальмы и цветущие растения, пол был выложен большими квадратами из мексиканской терракоты, на нем лежали ковры мягких тонов; прекрасно выполненная, но простая по дизайну мебель воплощала глубинный смысл слова «комфорт», обивка — из льняной и хлопковой ткани с сочной по цвету, но не аляповатой росписью ручной работы. В доме было так много окон, что можно наблюдать восход и закат. Как и предполагалось, этот дом казался уютным, несмотря на большие комнаты и высокие потолки.
Переходя из комнаты в комнату, Тони останавливался в дверях и шептал: «Прелестно, в самом деле прелестно». Ей даже захотелось стукнуть его. Он вел себя как благовоспитанный гость, а не как человек, впервые увидевший свой новый дом. Он не заглянул в туалет, не выдвинул ни одного ящика, не проявил к отдельным деталям интереса, как постоялец гостиницы. «Прелестно!»
Но Фредди покупала дом не для того, чтобы очаровать Тони! Она сделала все это, чтобы увидеть Тони счастливым или хотя бы счастливее.
— А где же бар? — спросил Тони. Он, наконец, сел в гостиной, откуда шесть дверей от пола до потолка выходили на три стороны в сад.
— Здесь, — ответила Фредди, указав на длинный стол, уставленный хрустальными стаканами всех видов и размеров и веселым строем бутылок: содовая, имбирное пиво, тарелочки с орешками и маслинами и серебряная вазочка с лимонами.
— А как насчет льда? — спросил Тони, наливая себе виски.
— Лед приносят в ведерке из кухни, — ответила Фредди, через силу улыбаясь. — Но ты же никогда не пьешь со льдом, дорогой, поэтому он нам понадобится только тогда, когда придут гости, — добавила она, чувствуя себя как продавщица, показывающая товар капризному покупателю.
Тони выпил виски одним глотком и вновь наполнил стакан.
— Налить тебе капельку? — спросил он.
— Да, пожалуйста, столько же, сколько себе. — Ура! — сказала Фредди, когда он подал ей стакан и сел за кофейный столик.
Она подумала, что никогда не произносила этого слова в такой необычной ситуации. Было ощущение… эксперимента… но Фредди знала, что это, безусловно, их дом, и хотя Тони не проявлял энтузиазма, она не сомневалась: он тоже чувствует это.
Тони приподнял свой стакан, едва заметно приветствуя ее, но не сказал ни слова, пока не выпил половину.
Повисло молчание. Фредди рассматривала содержимое своего тяжелого хрустального стакана, словно на дне его была неразгаданная тайна. Потом быстро опустошила его. «Тони должен обрести ощущение дома, — говорила она себе, — оно должно проникнуть в его поры. Может, сейчас он удивлен больше, чем мне кажется, и просто не знает, что сказать».
— Тони, тебе не кажется, что дом слишком велик? — спросила Фредди, нарушив тишину. — Когда у нас будет больше детей и мы будем принимать гостей, и позже, когда дети будут приглашать домой друзей, он уже не покажется таким большим.
— Значит, ты уже все спланировала, не так ли? Ты удивительная женщина, Фредди. Я, наверное, всегда недооценивал тебя. Я знаю, что ты не можешь иметь ребенка, но почему ты не разослала приглашения на сегодняшнее новоселье?
Фредди почувствовала, что закипает. Что с ним случилось? С чего он это взял? В чем он ее обвиняет?
— Нет, я не рассылала приглашений, — сказала она, стараясь выказать беспечность и делая вид, что не замечает его тона. — Дом только вчера закончили, краска едва высохла. Собственно говоря, что плохого в моих мечтах о будущем? Налить тебе еще?
— Нет, спасибо.
— Что? — спросила она испуганно.
— Я должен быть трезвым, — сказал Тони, и у Фредди кровь застыла в жилах. Теперь в его голосе явно чувствовалось слепое раздражение, словно он едва сдерживал гнев.
— Трезвым? — спросил она.
— Трезвым и холодным как лед. Вопреки обыкновению. Я думал, что смогу напиться, но раз уж так повернулось, хмельная смелость меня не спасет. Особенно здесь.
— Здесь? Тебе не понравился дом? Ты намерен сказать мне, что не хочешь тут жить?
— Это очень симпатичный дом. Но это именно то, что ты делаешь всегда и с чем я не могу смириться. «Это дом для тебя, Тони, можно въезжать. Здесь твое будущее, Тони, — приемы, гости, большая семья — тебе будет так весело! А вот дело для тебя, Тони, ты можешь называть себя вице-президентом; вот миллионы долларов, Тони, здесь вся готовая жизнь на блюдечке с голубой каемочкой, Тони! Фредди тебе ее даст!» — Схватив стакан, он швырнул его о камин. — О Господи, Фредди, твои мечты — это факты завтрашнего дня! Если только ты чего-то захочешь — ты все сметешь на своем пути, чтобы добиться цели. Я же — сбоку припека, я — твой чертов супруг. Мы оба совершили ошибку, Фредди. Вот о чем я хотел тебе давным-давно сказать. Я должен оставаться трезвым, чтобы до конца осознать это. Мы ошиблись. Я хочу уйти от тебя. Я прошу развод. Я больше не могу быть твоим мужем.
Жесткость его голоса ошеломила ее так же, как и сами слова. Тони говорил отчаянно, непреклонно, напоминая зверя, готового потерять лапу, чтобы освободиться из капкана.
— Ты сошел с ума! Ты пьян! Мне плевать на то, что ты говоришь, будто не пьян. Ты, наверное, уже с утра успел набраться, ублюдок! — Фредди услышала свой пронзительный голос как бы со стороны. — Если бы ты контролировал себя, тебе было бы очень стыдно.
— Мне и так стыдно. Вот уже много лет. Я даже почти привык к этому, но, слава Богу, не совсем. Прошу тебя, Фредди, выслушай меня! Пьян я или трезв — не имеет значения. Проблема не в этом. Дело в том, что ты управляешь нашими жизнями с той минуты, как мы приехали сюда пять лет назад. Вскоре ты все взяла в свои руки. Ты была непревзойденной, непобедимой. А я не потянул. Если бы не ты, мы бы разорились и вернулись в Англию через несколько месяцев. Ты делала всю работу в «Орлах», мы же с Джоком ничего без тебя не стоили. Тебе нужен был Свид, а я, как оказалось, не нужен никому. Я не приносил никакой пользы — разве что управлял самолетом, но это мог бы делать любой пилот. Я стал балластом с самого начала, а ты…
— Остановись, Тони! Почему ты так несправедлив? Я не представляю всех этих лет без тебя. Я никогда не была сильной, я не смогла бы заниматься этим, будь это действительно трудно.
— Какая чушь! Тебе пришлось, и ты справилась. Ты никогда не отказывалась от избранного тобою пути. Я же обманывал себя, прячась за спасительную ложь. Я говорил себе, что нужен вам, что нужен Энни. Единственный способ убежать от правды — выпивка. Теперь, когда мы добились большого успеха, не осталось никакого оправдания, и я не хочу продолжать обманывать себя. Великая битва завершена. Только не пытайся убедить меня, что вы собираетесь прекратить дело. Вы не такие люди. Но я не могу соревноваться с вами и не хочу больше жить так. Это убивает меня, Фредди. Я потерял уважение к себе. Понимаешь, что это значит?
— Тони, послушай, я вернусь с тобой в Англию, я перестану работать, мы будем жить, как прежде, но теперь мы богаты. Вспомни, решив приехать сюда, мы поставили эксперимент, но никто и никогда не считал, что это — навсегда. — Фредди старалась говорить хладнокровно. Он не ведал, что творил. Если она проявит спокойствие, если не растеряется, если сможет убедить его…
— Бедняжка Фредди! Ты действительно думаешь, что способна все решить, не так ли? И даже изменить свой твердый характер? Ты в самом деле полагаешь, что тебе снова удастся играть роль провинциальной леди? Тогда ты была так несчастна — хотя чертовски здорово держалась, пока нам не представился выбор, а я не догадался, что с тобой происходит. Но теперь это будет забавная шарада: прекрасная беговая лошадь на пике своих возможностей делает вид, что обожает возить телегу по деревенским дорогам. Подумай, что ты сказала только что: «Мы поставили эксперимент». Для тебя дом — именно здесь, в Калифорнии, а для меня — в «Лонбридж Грейндж». Хуже всего, что я потерял его, Фредди. Слезы, и только. Ни ты, ни я в этом не виноваты. Просто мы так устроены, что несчастны вдали от родины: ты — слишком американка, а я — слишком англичанин. И дело не в работе. Если бы мы не переехали в Калифорнию, ты не смогла бы жить в Англии, не подавляя в себе того… за что я тебя полюбил.
— Но… что же тогда не так? — спросила Фредди. Тони не пьян, с болью поняла она, но даже испытывая эту мучительную боль, Фредди не стала бы отрицать, что годы, когда она вела жизнь провинциальной дамы, казались ей дурной шуткой. Но должны же найтись слова, которые объяснят все, слова, которые вернут их назад, помогут им начать все сначала и прекратить этот кошмар, изменить жизнь, сделать так, словно ничего плохого не случилось вовсе. — Скажи мне, пожалуйста! О, пожалуйста, скажи, Тони!
— Поженившись, мы знали друг о друге далеко не все, — заметил Тони. — Вспомни, все, о чем бы мы ни говорили, когда не занимались любовью, превращалось в спор или ссору. Мы с тобой играли в одну игру, и нас охватила страсть. Мне нравился в тебе боец, но… я не понял, что после конца войны ты снова захочешь броситься в бой. Покорять мир? Я не понимал, что ты такое на самом деле, пока мы не начали вместе работать. Я всегда восхищался и восхищаюсь тобой, Фредди, но ты не та женщина, которую я хотел бы видеть своей женой. У нас нет ничего общего, кроме Энни и счастливых дней в прошлом. А этого недостаточно. Прости, но это действительно недостаточно.
Фредди сурово взглянула на него. Тони, казалось, помолодел на десять лет с тех пор, как они вошли в дом. Болезненное выражение муки исчезло с его лица, оно стало просветленным, и это свидетельствовало об искренности его слов.
— У тебя есть женщина, правда, Тони? — неожиданно спросила она, вдруг поняв, что это так.
— Да. Я не сомневался, что ты поймешь. Что же еще ты могла подумать, если я к тебе не прикасаюсь столько времени.
— Не знаю. Но не это. Кто она?
— Обыкновенная женщина. Спокойная, мягкая, милая, с ней отдыхаешь — именно такая, какая подходит мне.
— Ты хочешь жениться на ней?
— О Господи, нет! Я вообще не собираюсь жениться. Я хочу развестись, Фредди. Развестись. Я хочу домой.
Дельфина прочитала письмо Фредди и протянула его через стол Арману. Он быстро пробежал письмо глазами, затем стал читать более внимательно, вдумываясь в каждую фразу. Дельфина следила за выражением его лица.
Когда он положил письмо, она нетерпеливо спросила:
— Ты удивлен?
— Потрясен. Кто бы мог подумать о разводе? Восемь лет совместной жизни без всяких неурядиц — по крайней мере, никто из нас о них не знает — и вот тебе на: все кончено, и она еще пишет, что никто в этом не виноват. Когда два порядочных человека женаты восемь лет, у них есть общий ребенок, общая жизнь, как же можно разводиться без всякой причины, если никто не виноват? Или это новая американская идея?
— Нет, просто Фредди дает нам понять, что она и впредь не собирается обсуждать эту проблему и не желает выслушивать вопросы. Это все ее гордость, бедная девочка. Она дьявольски гордая и никогда не выставляет напоказ своих чувств. В ней нет тщеславия — во всяком случае, я этого не замечала. Это что-то другое: скрытность или даже дикость. Помнишь, как они впервые приехали к нам, когда еще жили в Англии. Она старалась не подать виду, как несчастлива. Фредди всячески пыталась убедить меня, что ее жизнь — воплощение мечты о счастье, но если даже сестре она не рассказала о своих неприятностях, то кому еще могла она довериться? Фредди так и не научилась принимать поддержку и помощь от других. Она упряма и непокорна.
— А намного ли ты отличаешься от нее, детка?
— Да, со мной тоже трудно иметь дело, но только не тебе, — медленно произнесла Дельфина. Ей было тридцать два, еще три года, и почитатели во Франции сочтут, что она вступила в бальзаковский возраст, а пока она радовалась каждой минуте и уходящей молодости. — Поэтому я понимаю Фредди. Ты «вычислил» меня с первой минуты нашей встречи. Мне никогда не удавалось что-то скрыть от тебя. В один прекрасный день я прекратила все попытки делать это. Тони же никогда не знал Фредди, тебе не кажется?
— Мой бывший шурин всегда казался мне загадкой… по-моему, поговаривали о том, что он принадлежит к пятнадцатому поколению английской аристократии — а это совершенно непостижимо для меня, даже при моем прекрасном знании человеческой натуры. Это, кстати, одна из причин, по которой я не пытался снимать фильмы об англосаксах — ни драматические, ни любовные. Я не понимаю их «фокусов».
— Не знаю почему, но мне вдруг вспомнилась детская любовная история Фредди.
— А что за история?
— Прошлым летом, когда мы с детьми были в Вальмоне, мы с мамой разговорились по душам. Она рассказала, что в шестнадцать лет Фредди до смерти влюбилась в своего пилота-инструктора. Несколько лет никто не догадывался об этой связи, пока однажды мама не увидела их вдвоем. Тогда она все поняла. Мама сказала, что это была очень сильная страсть и с его, и с ее стороны… но после войны, когда она спросила Фредди, что с ним стало, сестра ответила, что они не поддерживают отношений уже несколько лет и переменила разговор. Я бы никогда не поверила, если бы не мама сказала мне об этом.
— Так вот о чем беседуют мать и дочь, оставаясь наедине!
— Конечно, если мы не жалуемся на мужей. Видишь, как многого ты еще не знаешь о женщинах, Садовски? Вот представь: маленький наивный сорванец Фредди, которая живет вне брака с сорокалетним мужчиной… а я-то думала, что скандал в семье из-за меня. Теперь-то ясно, что произошло. Она устала от Тони и всей этой английской чопорности. Сыта по горло. В конце концов, она поняла это и бросила его. Держу пари на что угодно: у Фредди есть другой мужчина, который ждет своего часа, и скоро мы узнаем о нем, если, конечно, она захочет нам об этом сообщить. Таков подтекст этого письма. И все же мне жаль ее… Эти восемь лет были нелегкими. Мне жаль и Энни. Но особенно мне жалко Тони. Бедный малый. Ужасно трудно пережить развод, понимая, что тебя отвергли. Как удар по зубам.
Почту в Вальмоне приносили после полудня. Ева отложила письмо Фредди в сторону, чтобы потом не спеша прочитать его. Сейчас она готовила завтрак для покупателей. Ева обошла длинный овальный стол из полированного дерева; плотные, украшенные кружевами подставки для блюд лежали напротив каждого стула. Она раскладывала карточки с именами гостей — дело, которое никогда никому не доверяла. Сюда она посадит покупателя вин для разрастающейся сети английских отелей, а здесь, решила Ева, сядет покупатель из Вальдорф Астории из Нью-Йорка и его жена, справа же от нее займет почетное место покупатель вин из Парижа, а его жена сядет слева от Поля. Что же до пары из милой маленькой Бельгии, где шампанского на душу населения выпивается больше, чем в любой другой стране мира, то он расположится слева от нее, а его жена — справа от Поля, рядом с начальником винного погреба, который всегда присоединяется к ним. Слава Богу, думала Ева, что она, как жена дипломата, привыкла почти автоматически решать все это. На этой неделе ей пришлось устраивать четыре таких приема и почти столько же званых обедов.
Гостеприимство, всегда отличавшее жителей Шампани, теперь стало больше чем традицией. Оно помогало осуществлять торговые операции, а Ева одна из первых научилась этим пользоваться. В 1949 году производители вин в Шампани продали столько же бутылок, сколько продавали ежегодно в первом десятилетии века. Это был самый удачный период в их жизни, а теперь, в 1950, они явно собирались побить этот рекорд.
— Девочки, подойдите сюда, пожалуйста, — позвала Ева. Две молодые англичанки, студентки университета, появились в дверях; они ждали, пока она разложит карточки. Обе жили в замке в течение всего сезона созревания винограда, изучали тонкости искусства виноделия и помогали ей выращивать цветы. Как обычно, едва она разложила карточки, девушки принесли ей подносы с цветами в маленьких вазах. Стебли цветов были коротко подрезаны. Аранжировке цветов девушек обучала Ева. Она никак не могла понять, почему многие дамы ставили посередине стола высокие букеты. Цветы мешали гостям беседовать. Она располагала в центре стола маленькие букетики так, что они напоминали миниатюрную клумбу. Вокруг нее стояли бокалы повыше, по четыре у каждого места.
Меньше чем через час группа иностранцев должна собраться за ее столом. Их объединит общий интерес к шампанскому. Завяжется оживленный обмен мнениями, потому что состав гостей она определила еще несколько недель назад. Возможно, путешествие, обычно предшествующее завтраку, положит начало теплой беседе. Вначале предстоит традиционная поездка к церкви Отвиллер, затем — возвращение в Вальмон. Все быстро обойдут винные погреба, где Поль ответит на вопросы. В комнате перед погребом он откроет бутылку и наполнит бокалы, из которых они будут попивать, возвращаясь в замок по тропинке через виноградники, усеянные в эти майские дни маленькими кисточками винограда, которые становятся больше день ото дня.
Стол был готов. Ева пошла переодеваться к завтраку. Она искусно подправила макияж и, задумавшись, села перед туалетным столиком. Вдруг какой-то мимолетный весенний запах заставил Еву еще раз взглянуть на себя в зеркало. Неужели это она, виконтесса де Лансель, хозяйка замка Вальмон? — спросила она себя, поворачивая голову так, чтобы не были видны морщинки на шее. Она вспомнила другой май, одну из ночей 1917 года, когда ей минул двадцать один, а не пятьдесят четыре, как сейчас. Тогда Ева снимала макияж перед другим туалетным столиком за кулисами «Казино де Пари», и вдруг появился галантный офицер, разыскивающий блондинку с золотистыми волосами, расчесанными на прямой пробор, и с завитками на висках, импульсивную, независимую девушку, называвшую себя Мэдди и знавшую множество ухищрений. Но ни одно из этих ухищрений не было связано с умением раскладывать на столе карточки для гостей так, чтобы незнакомые люди почувствовали себя друзьями, и с умением управлять замком с двенадцатью слугами, множеством комнат для гостей, где принимали покупателей со всех концов света семь месяцев в году.
Ева философски относилась к опасениям своей благовоспитанной тетушки Мари-Франс, уверявшей, что ее племянница не выйдет замуж за респектабельного человека, если не перестанет петь в мюзик-холле. Теперь Ева более чем респектабельна. «Изысканной» называли ее те, кто описывал свои визиты в Вальмон. Ее брови, как всегда, были гордо подняты вверх, а глаза оставались такими же серыми и сияющими. Иногда, прогуливаясь по замку, Ева напевала отрывки из старых мелодий. Ева смеялась над условностями, из-за которых ей приходилось сдерживать свою импульсивность, но готова была признать, что лицо, которое она видела в зеркале сейчас, больше соответствовало замку, чем сцене. Хотела ли она, чтобы все сложилось иначе? Нет, никогда. За тридцать три года замужества она ни разу не пожалела о своем выборе.
Из Дижона — в Париж, потом Канберра, Кейптаун, Лос-Анджелес, Лондон — и вот теперь Эперней. Почти кругосветное путешествие! Непослушная, озорная дочь доктора Кудера закончила свои странствия за сотни миль от родного дома. В прошлом году к ним приезжала с визитом восьмидесятилетняя, но по-прежнему ехидная Вивьен де Бирон. Какое счастье, — сказала она, — что ее Мадлен не вышла замуж за горчичного короля и не осталась в Дижоне. Впрочем, она до сих пор жалела о том, что ее протеже отказалась от своей великолепной карьеры.
Ева надела один из своих костюмов от Баленсиаги, сшитый в испанском духе — из тонкой шерсти, совершенно черный, как наряд игуменьи. Однако он выглядел гораздо роскошнее всех туалетов из последней коллекции Диора. Ева называла эти наряды «блестящими костюмами», считая, что они должны производить такой же эффект, как одеяния знаменитых тореро. Что ж, если ее считают изысканной, а не очаровательной — она постарается этому соответствовать.
Оставалось пять минут до приезда гостей. Ева пристально посмотрела в окно на живые, обещающие хороший урожай виноградные лозы и возблагодарила судьбу за великолепное открытие «Дома Ланселей». Когда Поль сказал ей, что от «Трезора» ничего не осталось, поскольку Бруно продал все на черном рынке, и в погребах лежат лишь неперебродившие вина урожая военных лет, сердце ее пронзила боль за мужа, за его позор и унижение.
Казалось, будет невозможно выжить не только в Вальмоне, но и во всей Шампани. Но Ева недооценила самоотверженность жителей этого края, как не поняла и того, что небольшой урожай военных лет компенсировался великолепным качеством вин. В 1945 году узники лагерей вернулись домой. Рабочие с виноградников, как правило, имевшие крошечные участки, объединились вокруг нового владельца и передали ему все свои скудные запасы вина: все, что осталось после оккупации.
Все послевоенные годы стали годами великой битвы, поглотившей все силы Поля и Евы. Каждый заработанный сантим они вкладывали в землю, пересаживая старые кусты, все восстанавливая и перестраивая. До прошлого года они не могли позволить себе купить ни новой одежды, ни новой кастрюли, ни поездки в Париж. Однако Ева все же ухитрялась устраивать приемы для первых покупателей, которые начали возвращаться. У них еще оставались огромные долги в Реймском банке (наверное, им никогда не избавиться от них!), но «Дом Ланселей», как и другие производители вин высшей марки, возродился.
Война нанесла им тяжелый удар. Ева и не предполагала, что Поль так быстро состарится, ведь ему пошел только шестой десяток. Он работал на износ, а когда выдавалась редкая минута отдыха после многих часов сидения за расчетами, она видела на его лице следы горечи. Он больше никогда не упоминал о Бруно.
Ева посмотрела на часы. Пока спускаться. Она оставила письмо Фредди, к сожалению, очень тонкое, на столе в комнате, так и не успев открыть его, пока не кончился обед. Пожелав гостям спокойной ночи, они с Полем наконец вернулись на свою половину замка.
Поль надевал пижаму, когда Ева появилась в дверях с листком бумаги в руке.
— Фредди с Тони разводятся, — безнадежным тоном произнесла она. В глазах у нее стояли слезы.
— Дай я посмотрю, — сказал Поль, взяв письмо. Он прочитал его, вернул Еве, обнял ее и поцеловал. — Не плачь, дорогая. Я понимаю, что ты сейчас чувствуешь, но это еще не самое страшное.
— Но я не понимаю! Что значит: «никто не виноват»? Это просто смешно! Ты же знаешь, что это неправда.
— Конечно, никто не виноват. И я это понимаю, — медленно ответил Поль.
— Что ты имеешь в виду?
— Прошлой зимой, когда мы ездили в Калифорнию на встречу с нашими покупателями, я проводил с Тони много времени. Он уже тогда не просто пил, а был алкоголиком. Я видел признаки этого, хотя он тщательно это скрывал. Думаю, что это началось во время войны. Англичане всегда поглощали невероятное количество виски, а на следующий день могли сражаться как сумасшедшие. В отличие от нас, у них железная печень. Я ничего тогда не сказал тебе, потому что ты этого не заметила, а Фредди очень нервничала, стараясь скрыть это от меня. Я молился о том, чтобы Тони сам справился с этой бедой, но, честно говоря, надежды было слишком мало. Вероятно, его пьянство и заставило Фредди принять это решение. Едва ли она когда-нибудь расскажет нам об этом, но совершенно ясно одно: Фредди должна уйти от него — ради Энни, ради себя самой.
— Милая моя Фредди, — прошептала Ева.
— Да… но для нее лучше покончить с этой невыносимой ситуацией, чем ждать, когда станет совсем плохо. Она преодолеет это, дорогая, клянусь тебе. Фредди сильная. А Тони мне жаль. Так героически сражаться, столько пережить… и вот теперь стать отвергнутым мужем.
22
— Между нами, Свид, тебе не кажется, что мы, черт побери, знаем о женщинах почти все? — спросил Джок Хемптон приятеля за обедом февральским днем 1951 года. — Спорим, что ни одна женщина не устоит перед нами, если мы вместе возьмемся за нее!
— Только не с тобой, — проворчал Свид.
— Сколько девочек у тебя было? Десятки? Сотни?
— Так много, что не сосчитать.
— У меня тоже. Но ты старше, опытнее и знаешь ее дольше. Скажи мне, что, черт возьми, происходит с Фредди?
— А я-то думал ты говоришь о женщинах вообще… О них я, конечно, кое-что знаю, а вот что с Фредди — понятия не имею.
— Послушай, я понимаю, что она особенная. Я ведь не полный болван и, поверь мне, знаю разницу между Фредди и другими, но все же она тоже женщина. Ведь у нее должно быть больше общего с другими женщинами, чем различий. Так ведь?
— Может, ты и прав, а может, и нет.
— Послушай, Кастелли, я рад, что заговорил об этом. Чертовски нужна твоя помощь. Ради всего святого! Она ведь не священный сосуд, она живая, и я теряю ее! Я хочу вернуть Фредди, чтобы она снова стала такой, какой была до развода. Помнишь?
— Конечно.
— Она всегда изумляла нас, правда? Черт возьми, Свид, помнишь, как мы потешались, когда Фредди, расхаживая с важным видом, придиралась к нашим оплошностям, стараясь вывести нас из себя, как поражала тем, что быстрее всех упаковывала снаряжение, а потом подбадривала нас и подшучивала над нами. Господи, да мне всегда нравились стервы. Сколько ни встречал я великолепных женщин — все они были стервами, но над Фредди словно был ореол святости. Что же с ней случилось?
— Она стала настоящей леди. Это, пожалуй, самое подходящее слово, которое я могу подобрать.
— Я знаю много разведенных женщин, поэтому могу сказать, что превращение в «настоящую леди» — ненормально в такой ситуации. Обычно они пускаются во все тяжкие, назначают свидания, покупают сексуальные наряды, просят друзей с кем-нибудь их познакомить, ну, может, не сразу, но со временем… Фредди и Тони развелись год назад, развод этот окончательный, а она по-прежнему каждый вечер сидит в своем огромном доме, обедает с Энни. А помощь восьмилетней дочери в подготовке уроков стала пиком ее общественной жизни! Я случайно узнал об этом, зайдя однажды навестить крестницу. И так изо дня в день. Только не говори мне, что это нормально.
— Ей так хочется. Не наше это дело.
— Согласен. Мне нечего возразить. Но, между прочим, она еще и наш партнер. Мы потеряем кучу денег, если Фредди не очухается в ближайшее время. Помнишь, как в последний раз она участвовала в новом выгодном деле, — как она тогда ругалась и кричала из-за каждой мелочи так, что слова нельзя было вставить! Не знаю, как смягчить ее сердце, да и ты, наверное, тоже, но мы потеряем бизнес в «Орлах» из-за того, что она теперь стала настоящей леди и даже пальцем не хочет шевельнуть. У нее даже походка изменилась! А помнишь, как в последний раз у нее был один из приступов «начальственности» и она заставила нас сделать то, чего мы вовсе не собирались? Правда, тогда нам удалось заработать кучу денег. Конечно, Фредди появляется в офисе, сидит там целый день, выполняет необходимую работу, но она уже никогда не проявляет свой прежний характер. Она больше не летает, а ведь Фредди всегда делала это — тогда ее и осеняли самые лучшие идеи. Получается так, словно мы купили большие, великолепные, сверкающие «американские горки», а потом они превратились в Маленькие нарядные карусельки. Это несправедливо по отношению к нам, и я считаю, что ты должен с ней поговорить.
— А почему именно я?
— Потому что ты знаешь ее с детства. Она выслушает тебя. Мне же она скажет, чтобы я отстал.
— Нет уж, спасибо. Хочешь сделать дело, делай его сам.
— Ты трусишь?
— Еще бы!
— А вот я — нет. Просто я думал, что лучше бы это исходило от тебя, Свид. Ну если ты такой трусоватый, попробую поговорить с ней сам. В конце концов, что тут страшного? Ну скажет, чтобы я отстал. А может, мне все же удастся заставить ее задуматься о главном. Нельзя же пребывать в трауре из-за развода всю жизнь!
— Ты собираешься касаться этой темы?
— Нет, я проявлю больше такта. Первое, что надо сделать, — это вытащить ее из дома и из офиса.
— Сходи с ней в парикмахерскую — это единственное место, где она бывает, кроме дома и офиса, — ухмыльнулся Свид Кастелли. Он никогда не станет совать нос в личную жизнь Фредди. Он слишком хорошо ее знает. Да и кому, как не ему, знать о том, какая горькая участь постигла ее с двумя мужчинами, так много значившими для нее? И если теперь Фредди хотела отгородиться от мира, можно ли осуждать ее за это? Но как бы то ни было, Джок Хемптон тоже очень волновался за Фредди, и это говорило о том, что души их не очерствели, а значит, с ними все в порядке.
— Я хочу пригласить Фредди на встречу друзей из «Орлиной эскадрильи». Да-да. Она не сможет отказаться. Фредди будет единственной девчонкой, которая знает об эскадрилье все, единственная, кто заслужил право идти туда.
— Ты думаешь, она согласится?
— Если не пойдет по доброй воле, я свяжу ее и брошу в багажник автомобиля. Я украду ее.
— Ты уверен, что изберешь именно этот способ?
— Ты, Свид, просто отвратительный, мерзкий старикан. Пожалуй, я заставлю тебя заплатить за обед.
Фредди хмуро посмотрела на себя в зеркало. Она злилась из-за того, что ее заставляли идти на этот бал. С того момента, как Джок упомянул о встрече друзей из «Орлиной эскадрильи», Фредди поняла, что если и есть на свете место, где она не хотела бы показываться, так это именно этот бал.
Из всех идей Джока эта самая худшая. Это было проявлением такой крайней бесчувственности и невероятной бестактности, что она даже ушам своим не поверила, когда Джок предложил пойти на бал вместе. Да как он вообще осмелился просить ее об этом! Неужели он не может понять, что встреча с людьми из «Орлиной эскадрильи» неизбежно напомнит ей о безудержной храбрости и мужестве, потерянных навсегда, о славных днях, как сказал Тони в их ужасном последнем разговоре, из которого Фредди не забыла ни единого слова. О тех самых днях, когда она была влюблена в свою работу и в Тони, и эти дни любви слились воедино. Тогда она всем существом ощущала свое призвание, и это поднимало ее до таких высот, о которых теперь она вспоминала с тоскливой завистью к прежней Фредди. И вдруг Джок проявляет такую черствость! Ни за что на свете она не войдет в зал, где сидят те, кто когда-то видел ее счастливой. Но Фредди так и застыла с открытым ртом: Джок не дал ей произнести ни слова, ни на минуту не умолкая.
— Нет, я не переживу, если ты не согласишься пойти со мной, — с убитым видом говорил он. — Сама подумай, у каждого из этих ребят есть жена, а у половины — дети. Ты не представляешь, что они говорили мне на прошлом балу! «Бедняга Джок, что, ты не смог найти себе женщины? Нет, что-то с тобой не в порядке. А может, ты слишком привязан к мамочке? Уверены, ты никогда не женишься и кончишь свою бесполезную жизнь старым холостяком». Или хуже того: «Я нашел для тебя девушку!» — и начинали знакомить со своими сестрами. Я очень люблю этих ребят, Фредди, но больше не хочу появляться на балу один, а из знакомых девушек я не мог пригласить ни одной — ведь они совершенно не умеют держаться, и это было бы кошмаром. Ну неужели тебе жалко потратить вечер, чтобы помочь мне? Ты просто прикроешь один из моих флангов и, если они, или особенно их жены, начнут атаку, сменишь разговор и снимешь их с моего хвоста. Понимаешь, в этой стране быть холостяком в тридцать один год — преступление против американского образа жизни. А если когда-нибудь тебе понадобится спутник — пожалуйста, рассчитывай на меня…
Он не принимал никаких отговорок, но единственного, что заставило бы его замолчать, Фредди ни за что на свете не согласилась бы произнести — того, что, с тех пор как удрал Тони (а он считал спасением как можно быстрее уехать от нее), она лишилась сил от бесконечной войны с самой собой и стала инертной. Она испытывала глубокий стыд, униженная укорами Тони и сознанием того, что они справедливы. Фредди беспрестанно обвиняла себя во всем. При этом она злилась как никогда в жизни. Этот слабовольный человек, уже совсем не молодой, свалил все заботы и проблемы на свою жену! Но, охлаждая гнев, память настойчиво твердила ей, что Тони прав: в Англии он был счастлив и все шло хорошо, пока они не переехали в Калифорнию. Каждый вечер, уложив Энни спать, Фредди вершила суд над собой. Она была обвинителем и защитником, судьей и присяжными; она обвиняла себя и находила оправдания, вспоминая до мельчайших подробностей последние пятнадцать лет своей жизни. Мак никогда не ушел бы от нее, если бы поверил, что она прислушается к голосу разума, он никогда не уехал бы в Канаду и не погиб бы там. А Тони? Почему ее не удовлетворяла жизнь в «Лонбридж Грейндж»? Ведь это была именно та жизнь, о которой мечтают многие женщины. Почему она не смогла приспособиться? Почему не постаралась стать женственнее? Походить на Пенелопу, Джейн, Дельфину, свою мать? У них на первом месте — мужья, их детей не коснулся развод, и они вели полноценную жизнь, приносившую им удовлетворение.
Но, черт возьми, разве у нее нет никаких прав? Разве ее мечты и увлечения не имеют значения? Почему нельзя желать, если знаешь, что волей и упорством добьешься этого! Лишь изредка Фредди давала себе передышку от этой изматывающей душу борьбы между стыдом и гневом. Никто не догадывался ни о том, что это Тони бросил ее, ни о том, что у него есть любовница, мысль о которой даже не приходила Фредди в голову. Теперь она потеряла всякую веру в себя. И все же теперь понимала, что ни один из доводов не позволит ей уклониться от приглашения Джока.
А тут еще и Энни. Этот паршивец Джок сказал ей: «Энни, разве тебе не хочется, чтобы мамочка пошла куда-нибудь приятно провести время? Как ты считаешь, разве плохо, если мамочка наденет красивое платье и пойдет со мной сегодня вечером?» Как это ему удалось найти путь к сердцу восьмилетней девчонки? Подучил он ее, что ли, сказать: «Ой, мамочка, конечно, ты должна пойти. Я сама могу сделать уроки, и мне очень нравится есть на кухне с Хельгой. А ты уже так давно не веселилась»! Девочка говорила с таким жаром, что Фредди подумала: «Будет очень плохо, если Энни поймет, что ее мать достойна жалости».
«Нет, — мрачно, решила Фредди, — меня заставили. Этот Джок Хемптон все предусмотрел». Она снова посмотрела на себя в зеркало. Все вроде в порядке, элегантное черное шелковое платье с высоким воротником и длинными рукавами сидело на ней так же безукоризненно, как все ее наряды. После ухода Тони она совершенно потеряла аппетит и заставила себя съесть обед, чтобы подать дочери хороший пример.
Фредди надела белый пояс, стянувший платье на талии. Вполне приемлемо: неброско, невычурно, не привлекает к себе внимания. Именно поэтому Фредди отвергла лучшие платья, от которых не отказалась бы ни одна женщина. Волосы она уже укладывала сегодня, и прическа все еще была аккуратной. Фредди слегка подкрасила губы, косметикой не воспользовалась. У жен бывших летчиков полным полно забот, это счастливые женщины, стремящиеся сделать счастливыми детей, обустроить свой дом для счастливых мужей — когда уж им пользоваться косметикой! Однако в американских журналах мод уже начали печатать советы для домохозяек. Фредди, конечно же, не хотела выглядеть голливудской звездой. Маленькие сережки и туфли-лодочки завершили ее туалет.
Прошло уже полчаса, но Фредди не могла заставить себя выйти из комнаты. Она поправляла платье то здесь то там, и уже в пятый раз рылась в своей сумочке. Джок и Энни оживленно беседовали наверху, Фредди слышала их голоса. Почему он не пригласил Энни на этот дурацкий бал? Но теперь уже поздно говорить об этом. Наконец Фредди заставила себя спуститься. Джок и Энни дружно хохотали, но когда Фредди вошла в гостиную, смех внезапно оборвался.
— Мамочка! — жалобно воскликнула Энни.
— Фредди, мы собираемся не на похороны, — заметил Джок. — Какого черта ты так нарядилась? Пойди переоденься. Мы и так уже опаздываем, так что несколько минут погоды не сделают.
— Ой, мамочка, ты ужасно выглядишь, — сказала Энни.
— Черный цвет годится на все случаи жизни, это всегда элегантно. Да что ты понимаешь в одежде! Это платье — от Жака Фата.
— Меня не волнует, от какого оно черта, но надень что-нибудь более симпатичное.
— Ты выглядишь в нем, как вдова, — добавила Энни, и ее личико омрачилось.
— Хорошо, хорошо. — Фредди сердито взглянула на Джока. Учитывая вкус всех его «Бренд», можно себе представить, что он имел в виду: что-нибудь блестящее, безвкусное и сексуальное. И этот павлин не сказал ей, что сам собирается идти в форме. Проклятый эгоист! Фредди быстро поднялась в спальню и снова стала перебирать платья, отшвыривая одно за другим.
«Что-нибудь более симпатичное»… Какая чушь! Симпатичное! Именно таково его представление о том, как должна выглядеть женщина. «Симпатичное» — слово, которое Фредди всегда ненавидела. Какое-то жеманное девчачье словечко, вызывающее раздражение, никудышное бессмысленное слово, пустота вместо слова. Хуже него разве только «миленькое». Ну уж нет, никто никогда не назовет ее «миленькой»!
Фредди вынула платье и повесила его перед собой. Она купила его как раз перед тем, как ушел Тони. Тогда оно было очень облегающим, и Фредди собиралась надеть его на так и не состоявшееся новоселье.
Больше она никогда не примеряла его, но это единственное у нее яркое платье вполне подходит для сегодняшнего случая. Фредди надела его и застегнула «молнию». Платье сидело великолепно, но придется сменить туфли, сумочку и подобрать другие, более крупные и блестящие серьги. Кроме того, надо нанести макияж, чтобы не выглядеть слишком бледной. Что-то хорошо бы придумать и с волосами — слишком гладкая, как у учительницы, прическа не годится для этого платья.
С волнением и ловкостью, уже почти позабытыми, Фредди наложила макияж, потом принялась за волосы, расчесывая их щеткой. Вместо аккуратной прически появились беспорядочные локоны, которые очень подходили к платью из ярко-красного шифона. Это платье, почти без лифа и с широкой юбкой, предназначалось для танцев, для того, чтобы обольщать при свете луны и падающих звезд. Фредди увидела себя в зеркале совершенно преображенной. Она не казалась симпатичной. Она выглядела… лучше — пожалуй, это самое подходящее слово.
Но чего-то не хватало. Фредди подошла к шкафчику с драгоценностями, выдвинула один из ящиков и достала оттуда «крылышки» Службы вспомогательной авиации. Если Джок надел генеральскую форму со всеми своими регалиями, то и она наденет их. К счастью, лиф платья так прочно пришит к подкладке, что крылышки можно спокойно прикрепить к нему. Да, этот сверкающий черный цвет с золотом, эти два широких распластанных крыла из тяжелого позолоченного серебра со значком Службы вспомогательной авиации в центре овала и есть тот заключительный штрих, что придаст ее наряду необходимую завершенность.
Фредди с гневным видом спускалась по лестнице в изящных ярко-красных босоножках на высоких каблуках.
— Теперь вы, надеюсь, довольны? — воинственно спросила она.
Джок и Энни вскочили со стульев и разинули рты.
— О Боже, Фредди!
— Вот здорово! Ты такая… такая красивая, — выдохнула Энни.
— Спасибо, дорогая. Я вернусь совсем не поздно, но обещай мне, что ляжешь спать вовремя. Я обо всем расскажу тебе утром.
— Ой, мамочка, как замечательно ты выглядишь! А через сколько лет ты позволишь мне надеть такое платье?
— Тогда ты будешь старой, очень старой.
— Тебе исполнится тридцать один год, как и твоей маме, — сказал Джок. — И ты будешь очень молодой. Ну, вперед, красавица! Не то придем позже всех.
— Джок, никогда — слышишь — никогда не называй меня «красавицей» таким самоуверенным тоном, или я шагу не ступлю из этого дома. Я иду не на свидание с тобой, я — твоя спутница, иначе я не согласна.
— Да, сэр, — отсалютовал Джок. — Виноват, сэр. Очень виноват, сэр.
— Вот так-то лучше, — раздраженно проговорила Фредди.
Джок набросил ей на плечи норковую накидку и предложил руку. Она подняла брови, удивляясь этому бессмысленному жесту.
— Думаю, обойдусь без твоей помощи, — сказала Фредди, быстро направившись к двери раскованной походкой.
Фредди остановилась как вкопанная, не решаясь войти в зал, откуда доносилась мелодия «Белые скалы Дувра».
— Джок, — сказала она с мольбой в голосе, — эта музыка…
Джок, безмерно довольный собой, словно не слышал ее. Он сам организовал этот бал, прослушивал оркестр, дал музыкантам список выбранных им произведений, арендовал зал в «Беверли-Уилшир», составил меню и разыскал всех пилотов из «Орлиной эскадрильи». Те, что жили далеко от Лос-Анджелеса, прилетели вместе с женами — это было любезностью со стороны «Орлов», и каждую пару доставили в «Беверли-Уилшир» — еще одна любезность «Орлов». Именно Джок решил, что все пилоты должны быть в форме. Он полагал, что приглашения, направленные им за шесть недель до торжества, давали ребятам возможность посидеть на диете и скинуть несколько килограммов, чтобы влезть в форму, снятую в самом конце войны… Сам же он не прибавил в весе ни грамма.
Упусти он хоть что-то, Фредди не приняла бы его предложения, поэтому он поздравил себя с успехом, который превзошел все его ожидания. Смешно сказать, но он не мог придумать ничего другого, чтобы вытащить ее из дома. Между Джоком и Фредди сложились отношения, не позволявшие ему пригласить ее на обед без особой на то причины. Между ними существовал какой-то невидимый барьер, и будь он проклят, если понимал, что ему мешало чувствовать себя с ней свободно и легко. Если бы не Энни, он ни за что не решился бы время от времени заходить к Фредди домой, позвонив ей. Не знай он Фредди лучше, Джок решил бы, что побаивается ее. Бывает же так, что кого-то отлично знаешь, а на самом деле все не клеится.
— Эта музыка, — повторила Фредди, — она так…
— Великолепна, не правда ли? — просиял Джок.
— Ужасна! — воскликнула Фредди. — Я не хочу увязнуть в этой искусственной ностальгии.
— Не мог же я отказать ребятам, если они просили, — ответил Джок, взяв ее за локоть.
— Глупец! Расчувствовался!
— И вправду какая-то чепуха получается. Ты права, но не можем же мы оставаться здесь. Ты ведь настоящий игрок, Фредди. Я ценю это. Помни, как только они заведут разговор о своих сестрах, ты скажешь: «У Джока уже есть очень милая подружка, но сегодня она не смогла прийти».
— Но это невозможно произнести серьезно.
— Да ради Бога, смейся, хохочи — только нажимай на слово «подружка».
Оркестр заиграл «Танцующую Матильду», слишком шумную, чтобы быть сентиментальной, и на этой волне воодушевления Джоку удалось подтолкнуть Фредди в зал, где их тут же окружили люди в форме, тузившие Джока и обнимавшие Фредди.
«Кажется, будто они начали веселиться еще вчера», — подумала Фредди. Здесь было шумно, многолюдно, суетливо, царило какое-то всеобщее возбуждение. Жены летчиков оделись так же ярко, как и Фредди. Временами Джок подхватывал Фредди и тащил ее танцевать. Оркестр заиграл «Давным-давно и далеко», и Фредди захлопала, даже не вспомнив, что в последний раз они танцевали с Тони под эту мелодию, да и под другую: «Весна наступит поздно»… Фредди внезапно подумала, что Джок — великолепный танцор. Музыка сменилась на «Прошу, приди ко мне…» Фредди почти развеселилась.
— Ты перестанешь напевать мне прямо в ухо? — зашипела Фредди.
— А я знаю все слова, — заметил он.
— Это не оправдание. Ты не Бинг Кросби.
К счастью, вмешались друзья, и весь следующий час Фредди, кружась, переходила от одного к другому, так что Джоку удалось сделать с ней лишь несколько кругов. Джок понимал, что обстановка не позволяет спросить Фредди, почему она плохо относится к нему. Он чувствовал себя не слишком уверенно. Фредди стала царицей этого проклятого бала. Словно какой-то дьявольский дух свободы и возбуждения вселился в нее, заставляя порхать на этих высоких каблуках, в этом сногсшибательном платье, в котором она никогда не посмела бы выйти из дома. Этот дух разрушения станет причиной ссор между многими мужьями и женами после окончания бала. И кто надоумил ее надеть эти крылышки! Из-за них другие женщины казались рядом с ней какими-то… недоделанными.
Обед проходил очень шумно: шампанское пенилось, тосты и шутки сменялись рассказами о подвигах, которые действительно свершались, потом снова начинались танцы… Музыка звучала уже несколько часов, но теперь для Фредди она была только фоном. Даже мелодия «Когда вновь зажигаются огни» утратила свою былую власть над ней. Фредди погрузилась в восхитительную атмосферу непринужденного кутежа — она даже не помнила, бывало ли ей когда-нибудь так весело. Да и вино, которое то и дело подливали официанты, кружило ей голову.
Дирижер оркестра подошел к Джоку и что-то шепнул ему. Чуть поколебавшись, Джок кивнул, затем вскочил на эстраду и знаком попросил всех замолчать.
— Ребята, вспомните, чего только не доводилось нам испытать: мы катапультировались, прыгали с парашютом, летали наперегонки к Блу Сван, пили теплое пиво и пели до упаду. Что же давало нам силы повторять все то же на следующий день? Помните, среди нас была девушка, которая пела песни времен первой мировой войны и учила нас этим песням. Оглянитесь! Сейчас мы снова услышим ее песни. Фредди, где ты? Подойдите сюда, первый офицер де Лансель.
Раздались громкие аплодисменты, и по залу пронесся гул одобрения. Фредди слышала, как все мужчины требовали ее выхода на сцену, и поняла, что попалась. Никто даже не заикнулся о том, чтобы познакомить Джока со своей сестрой, а он и не предупредил ее, что ей придется петь. Фредди бросил на него бешеный взгляд, но Джок лишь махнул ей рукой, приглашая на сцену, где оркестр заиграл мелодию «Алло, центральная! Дайте мне страну, где нет мужчин», — мелодию, которой не могло быть в его постоянном репертуаре.
«Постарайся держаться свободно», — сказала себе Фредди, но чьи-то невидимые руки несли ее к сцене, а там подхватил Джок.
— Ну и хорош ты гусь, — бросила ему Фредди.
— Я знал, что ты согласишься сделать это для ребят.
Она повернулась к дирижеру.
— У нас есть ноты, — заверил тот ее. — Нам дал их мистер Хемптон. Мы много репетировали, так что начинайте петь, а мы подхватим.
Фредди кивнула. Попалась так попалась. Джок даже принес для нее на сцену высокий стул из бара. Фредди взобралась на него и увидела полный зал, застывший в ожидании. Сердце ее заколотилось от воспоминаний. Она с ходу начала «Типперери». Ее голос звучал поначалу хрипловато, пока она не попала в такт с оркестром. Внезапно Фредди ощутила, что какое-то необычное волнение охватило зал. Она пела старые солдатские песни, а не романтические баллады о разлученных влюбленных, под которые все танцевали в сороковые годы. Ее песни пели храбрые мужчины в окопах и траншеях. Эти песни объединяли пилотов «Орлиной эскадрильи», без слов подпевавших ей, с другими поколениями воинов, их братьями по оружию. Фредди допела «Типперери» и начала «Спрячь свои тревоги в старый вещмешок».
Контральто Фредди, хоть и не профессиональное, очень напоминало тембр Евы — соблазнительно-сладкий на высоких Нотах, грубоватый и даже чуть сухой в среднем регистре и почти хриплый, манящий на низких нотах. Фредди все глубже погружалась в музыку, ощущая, как ее власть захватывает ее от куплета к куплету. Она переходила от «Не гаси в доме огней» к вальсу «Синий горизонт», от «Прощай, Бродвей, здравствуй, Франция!» к развеселой «Я всегда гонялся за радугой». Откинув голову, она дарила песни, как сувениры ко дню Святого Валентина, всем людям, слушавшим ее. Она словно перевоплотилась в Мэдди, хотя и в другом красном платье, поющую песни раненым французским солдатам и одному офицеру той самой ночью, которая решила его судьбу. Вдруг ей показалось, что она, двадцатилетняя, поет в битком набитом клубе для людей, которые знали — и гнали от себя эту мысль, — что завтра кто-то из них погибнет в небе, но сегодня они просили песен, а на сцене стояла юная девушка, светившаяся изнутри так, что ей не нужны были никакие юпитеры… Фредди пела песни, памятные ей с детства, но звучали они так свежо, будто их только сейчас сочинили.
Фредди спела все известные старые песни, но публика, охваченная восторгом, была готова слушать ее еще и еще. Фредди соскользнула со стула и сделал знак дирижеру, чтобы оркестр что-нибудь сыграл, пока она уйдет со сцены. Но тут Джок, очутившийся рядом с ней, начал напевать песню, слишком много для нее значащую: как тяжело ей было слушать ее… Едва раздался голос Джока, все мужчины присоединились к нему. Фредди же не могла пошевелить губами, незабываемая мелодия захлестнула ее.
Улыбнись на прощанье и подари мне горький поцелуй… А когда развеются тучи и станут голубыми небеса На улице Любви, я вернусь к тебе, моя дорогая.— Фредди, давай, спой! — подбадривал ее Джок. — Мы не отпустим тебя, пока не споешь эту песню.
Кто-то из пилотов вскочил на сцену, обнял Фредди за талию и закружил ее в танце.
Они вместе напевали:
Будут радостно бить свадебные колокола, И позабудется каждая слеза, Молись и жди меня, моя любовь, Пока мы не встретимся вновь.Они начали песню сначала, и Фредди, не в силах удержать слезы, почувствовала, как они текут по ее щекам. «О, нет! Я больше не могу», — подумала она и, разомкнув руки, обнимавшие ее, спрыгнула со сцены, протиснулась сквозь толпу пилотов, выскочила из зала и через широкий холл, устланный коврами, выбежала на бульвар Уилшир, чтобы поймать такси.
— Подожди, ты забыла накидку! — сказал Джок, нагнав ее и набросив мех ей на плечи. Он достал носовой платок и неловкими движениями стал вытирать ей слезы. — Господи, прости, что расстроил тебя… Я не думал…
— Да, конечно, зато ты хорошо продумал все остальное, — с обидой сказала Фредди. — Эти старые песни… где ты откопал ноты?
— Но послушай, Фредди, ты была грандиозна! А сама разве не рада, что пела?
— Мне пришлось… это не было бы так страшно, если бы я знала об этом заранее. Даже не представляю, как вспомнила слова, — примирительно сказала Фредди.
Привратник подогнал «кадиллак» Джока с откидным верхом. Джок сел за руль, и они двинулись домой в полной тишине, а эхо бессмертных мелодий продолжало звучать в их сердцах. Было уже так поздно, что дорога опустела, и Джок вел машину почти автоматически, с привычной для пилота скоростью. Он явно пренебрегал правилами движения — ведь выпито было немало. Он притормозил на дорожке из гравия и припарковался у дома Фредди.
— Итак, праздник окончен. Теперь увидимся еще лет через десять, — тихо сказал Джок.
«Какой он грустный, — подумала Фредди, — несмотря на такой замечательный вечер».
— Может, такого тебе уже никогда не удастся сделать, — сказала она. — Наверное, так и должно быть: одна такая ночь, а дальше… все пойдет своим чередом…
— Но тогда я больше никогда не услышу, как ты поешь… и, черт побери, Фредди, сегодня ты была именно такой, как всегда…
— Ничто не стоит на месте, Джок, все меняется, и не всегда к лучшему, — сказала Фредди с такой интонацией в голосе, словно все уже было решено. Она взяла сумочку и перчатки, намереваясь выйти из машины.
— Нет, подожди. Останься еще на минутку, давай поговорим. Мы с тобой никогда не говорим ни о чем, кроме бизнеса…
— О чем? — в замешательстве спросила Фредди.
— Да, о чем… ну, наверное, найдется, о чем поговорить, если люди знакомы десять лет и считают, что хорошо знают друг друга — по крайней мере, так оно и должно быть.
— Это ты о нас? — Теперь Фредди откровенно забавлялась. За то время, что она знала Джока, ей никогда не приходилось видеть его под действием алкоголя, и, конечно же, Фредди вовсе не собиралась сейчас вести какой-то бессмысленный разговор. — А тебе не кажется, что ты выпил немного лишнего, лидер эскадрильи?
— Да, черт возьми. Да, я напился. In vino Veritas — это что-нибудь да значит!
— Не думаешь ли ты, что пора отправиться домой и лечь спать? Поговорим в другой раз, — сказала Фредди, сдерживая смех. Он был так серьезен — совсем не похож на прежнего Джока.
— Господи, Фредди, — воскликнул он с негодованием. — Ты ведь совершенно ничего не знаешь обо мне. И даже не хочешь знать.
— Послушай, Джок, — заговорила она таким тоном, которым обычно говорила с Энни, словно он был ребенком. — Ты самый близкий друг Тони, Лонбриджи считают тебя членом семьи, вот уже пять лет мы партнеры по бизнесу, ты крестный отец Энни, ты был шафером на нашей свадьбе — о Господи! Конечно же, я хорошо тебя знаю.
— Ни черта! Для тебя я всегда был только одним из нашей группы — ты и сейчас это подтвердила. А тебе не приходило в голову, что у меня может быть своя жизнь, чертова жизнь, полная надежд, мечтаний и чувств, не связанных ни с Лонбриджами, ни с «Орлами»?
«Пьян он или нет?» — подумала Фредди. В его словах чувствовалась обида, и это заставило ее замолчать.
Но вместе с тем Джок был прав. Он резко повернулся, и очертания его головы и фигуры вдруг показались ей какими-то незнакомыми.
— Джок. — Она протянула к нему руки, словно извиняясь. Заметив этот жест, Джок со стоном схватил ее за руки и притянул к себе.
— Черт возьми, Фредди, тебе когда-нибудь приходило в голову, что я люблю тебя? Я больше не могу скрывать это!
— Джок! — удивленно и недоверчиво усмехнулась Фредди над этими абсурдными словами и оттолкнула его. — Перестань! Это все алкоголь, и этот вечер, и старые друзья, и музыка, и воспоминания… былые славные дни, а вовсе не любовь. Вспомни всех женщин, что были в твоей жизни, — голос Фредди стал шутливым. — Можешь ли ты с уверенностью сказать, что когда-нибудь любил одну из них?
— Черт побери, да будешь ли ты меня слушать? Перестань смеяться надо мной и оставь этот высокомерный тон. Это сущее несчастье влюбиться один раз на всю жизнь. Это произошло там, в церкви, в Англии, через пять секунд после того, как ты вошла туда и стала женой Тони. Когда ты подняла фату, я увидел твое лицо. Бестолковый тупица, я влюбился раз и навсегда. Многие годы я боролся с этим чувством, пытался избавиться от него. Я думал, что-то изменится, чувства угаснут, но такова уж моя судьба, этого не случилось. Я не хочу любить тебя! Как по-твоему, легко ли любить ту, кто воспринимает тебя ну… как обои на стене, забавные обои? Или как приложение к свадебным подаркам?
— Но… но… — Фредди не находила слов. Она никогда не слышала, чтобы Джок говорил так взволнованно, без остановки; вся его привычная холодность и жесткость куда-то исчезли.
— Не надо этих «но»! Я наизусть знаю, что ты мне сейчас скажешь: я слишком поздно появился в твоей жизни, ты уже была влюблена, я твой хороший друг, я часть прошлого, а прошлое нельзя переписать заново, уже поздно о чем-то говорить, ни домашнего очага, цветов, благодарности — единственное, что я от тебя услышал — это «но». Послушай меня, Фредди! Я тысячу раз обо всем этом думал. Мы можем предопределить будущее! Знаешь ли ты, сколько раз я проигрывал наше прошлое, думая, как все могло быть, если бы я встретил тебя тогда, когда должен был встретить? Погоди, не останавливай меня. Да, я слегка наклюкался — в конце концов, это и придало мне смелости сказать тебе все! О, Фредди, представь, что мы вместе с тобой учились в институте или в колледже — ведь это вполне могло случиться, мы ведь жили всего в сотне километров друг от друга, родились в один год и в один месяц — клянусь Святым Петром! Я бы увидел тебя и пригласил пойти со мной на школьный бал, мы бы болтали там только о самолетах и забыли бы о танцах, а потом я проводил бы тебя домой, и ты поняла бы, какие у меня намерения. А может быть, ты даже разрешила бы мне поцеловать тебя и пожелать спокойной ночи. И мы бы никогда больше не смотрели ни на кого другого всю нашу жизнь. Мы ведь разминулись на какой-то дюйм, Фредди! Черт побери, представляешь, как мы могли бы быть счастливы!
— Я думаю… этого не могло произойти… это было совершенно невозможно… если путешествовать во времени. — Фредди никак не удавалось вникнуть в его рассуждения.
— А я уже собирался попросить тебя об одной глупости, — сказал Джок, и сердце его упало, когда он услышал привычные нотки в голосе Фредди.
— О чем?
— Только сопляк просит у девочки разрешения, — сказал он. — Не помнишь, как было в школе? — Он подвинулся к ней, обнял и, не позволив воспротивиться, поцеловал ее в губы. В этом поцелуе было уважение, нежность, наслаждение, но вместе с тем и чувство собственного достоинства. Так ведет себя человек, понимая, что его прикосновение не совсем нежеланно.
— Прекрати, — удивленно взвизгнула Фредди. Она так давно не целовалась, что смутилась и приняла строгий вид.
— Обними меня, Фредди, — сказал он. — Давай, попробуй. Если тебе не понравится, я перестану.
— Что ты, черт возьми, делаешь, Джок Хемптон?
— Целуюсь. Целуюсь — вот и все, — ответил он и снова поцеловал ее.
— Ты собирался поговорить, — напомнила Фредди, совершенно расслабившись от его сильных, уверенных рук, обнимавших ее. Он был такой большой, от него так необыкновенно пахло жареными каштанами, а руки были такими надежными… Кто бы мог подумать, что у него такие приятные губы?
— Потом. Поцелуй меня, Фредди, моя дорогая Фредди, пожалуйста, попробуй ответить на мой поцелуй. Да, это лучше, намного лучше, не стесняйся, ты такая красивая, я люблю тебя, я всегда любил тебя. Я не заставляю тебя любить меня немедленно, но разреши мне сделать все, чтобы ты полюбила меня, пообещай мне это! Всю жизнь я был одинок, потому что любил только тебя. Я всегда мечтал о твоем поцелуе, хотя и не надеялся, что это когда-нибудь произойдет и будет так прекрасно! — Он зарылся в ее волосы, и сердца их забились в унисон в мире, где все внезапно сместилось, и наступление утра зависело лишь от прикосновения губ к губам.
Джок сжал лицо Фредди руками и стал покрывать поцелуями ее волосы, горячие щеки, глаза. Наклонив ее голову и отвернув воротник накидки, он стал целовать нежную шею. Фредди попыталась освободиться, хотя ее охватил трепет от его нежных поцелуев, от его ищущих губ. Ей так не хотелось лишаться этого чудесного чувства безопасности, которое она ощущала рядом с ним. Фредди безуспешно пыталась увидеть в темноте его глаза.
— Джок, подожди! Ты так торопишься, я даже не знаю, что чувствую. Дай задний ход, позволь мне разобраться, представь, что это после школьного бала, не спеши, Джок!
Совсем недавно достоинство Фредди было так больно задето, что она чувствовала себя слишком уязвимой и не хотела терять трезвости, обретенной в долгие ночи, когда она возвращалась к одним и тем же вопросам. Ей не следует доверяться внезапным ощущения, вызванным словами и поцелуями Джока.
Он послушно положил ее голову себе на грудь. Одной рукой он слегка поддерживал Фредди, а другой нежно, словно маленького ребенка, гладил ее по волосам.
— Да, Фредди, как после школьного бала. Одно, чего хотелось бы мне тогда, это вот так же быть рядом с тобой и чтобы это длилось долго-долго… Я не могу поверить своему счастью, не могу поверить, что эта красивая рыжеволосая и синеглазая девчонка хочет летать так же, как я. Я хочу, чтобы однажды мы полетели вместе. Но все это — игра моего воображения, ведь мне еще только шестнадцать. — Он засмеялся. — Я еще слишком молод, чтобы даже мечтать о том, как когда-нибудь буду обнимать такую необыкновенную девчонку, как ты.
Фредди было так хорошо и спокойно рядом с Джоком, что она могла слушать его еще и еще, будто каждое произнесенное им слово убеждало ее в том, что впереди еще целая жизнь. Если соединить все эти слова, может получиться правда. Джок был так неожиданно ласков, так искренен в своей неловкости, прямоте и откровенности — как мальчишка. Фредди вспомнила: впервые увидев его, она подумала, что он похож на благородного викинга… может, она и не ошиблась. В его голосе слышалась такая сокровенная страсть, будто он действительно любил ее всегда. Теперь она понимала, почему раньше ей казалось, что он немного сердится на нее — ведь ему приходилось скрывать свою любовь. Если он любил ее. И вдруг все сомнения разом исчезли. Она узнала голос любви, услышав его снова через столько лет. Фредди протянула руки и крепко обняла сильную шею Джока, приподнявшись, чтобы прижаться страждущими губами к его губам и подарить ему первый поцелуй — неистовый, искренний и страстный.
— Господи! — выдохнул Джок. — Каким надо быть идиотом, чтобы оставить тебя! Я же говорил Тони, что он спятил! Каждый раз, когда я видел его с этой девчонкой, я называл его дураком, но, слава Богу, он меня не послушал.
Фредди ощутила укол в сердце.
— Ты… ты видел Тони с ней? Ты говорил ему! — Она опустила руки.
— Ну… ты знаешь… мужчины, друзья, конечно, они… ну, говорят друг другу…
— Господи, это значит, вы обсуждали меня! — Фредди задохнулась от возмущения. — Вы тайком с моим мужем и его любовницей обсуждали меня, смеялись надо мной, и, конечно, в таких задушевных беседах он доверительно сообщал тебе все ужасные, неприятные, очень личные подробности о том, что происходило между нами. Ты знал обо всем, а я ни о чем не подозревала! — Фредди резко распахнула дверцу машины. Прежде чем Джок успел шевельнуться, она выскочила, побежала по дорожке к дому и хлопнула дверью так, что у него не осталось сомнений: это — конец.
Весь остаток ночи Фредди просидела, согнувшись на стуле в своей спальне, охваченная гневом и болью. Ей было холодно, но она не могла двинуться, чтобы накинуть что-нибудь теплое. Потом она вскочила со стула и помчалась в ванную. Ее рвало до тех пор, пока в желудке не осталась одна желчь.
Как одержимая прокручивала она в голове каждое слово их разговора с Джоком. «Удобной мишенью — вот чем я была», — вновь и вновь повторяла Фредди. Когда изуродован самолет, когда летчик остается без боеприпасов, совершенно один, вдали от своих товарищей на вражеской территории, он молится только об одном: вернуться домой до того, как будет опозорен и расстрелян. Вот тогда он и становится беспомощной, жалкой, беззащитной мишенью, добычей, которой может похвастаться даже самый зеленый солдатик и которую может поразить с земли любой мальчишка с винтовкой. Именно так — не иначе. Как только могла она позволить себе поверить Джоку хоть на минуту!
Фредди страшно злилась на себя и ощущала такое бессилие, что радовалась даже приступам рвоты, приносившим ей облегчение. Она не должна себя обманывать. Она поверила ему. Она действительно поверила ему, когда он нес всю эту чепуху о том, как любил ее (о Боже, как часто женщины бывают такими идиотками!). О, как ей нравилось это! Да, ей нравилось это, нравилось так, что она никогда не перестанет презирать себя за эту слабость. Теперь она поняла Джока Хемптона, этого толстогубого ублюдка, знала, какие женщины ему нужны, — она насмотрелась на них с первых дней своего замужества. Английские «Бренды», американские «Бренды» — девицы, для которых достаточно одной минуты милой беседы в нетрезвом виде — и они твои. «Наверное, отчаяние написано у меня на лбу, — думала Фредди. — Пожалуйста, сэр, сделайте милость, возьмите меня». Вот что, должно быть, видели мужчины, глядя на нее. Она, как дура, растаяла от объятий. Каких-то паршивых объятий! Джок был единственным человеком, кроме Тони, осведомленным о том, что она не занималась любовью вот уже больше года. Джок знал, как она уязвима, и воспользовался своим преимуществом с первой же минуты.
Или — постой, постой… только ли Джок знал об этом? А может, Тони сказал и Свиду? Может, кому-нибудь еще? Вдруг об этом знают все? А может, это старая, всем известная история о Тони Лонбридже и его любовнице, о Тони, который бросил ее, потому что не мог заставить себя даже прикоснуться к бедняжке Фредди!
На сегодняшнем балу никто и словом не обмолвился с ней о Тони. А она разоделась как идиотка, нацепила крылышки… Они наверняка знают о разводе. Она не ребенок и прекрасно понимает, что в маленьком мирке «Орлиной эскадрильи» такие новости распространяются очень быстро, тем более что они были известными личностями. И, конечно же, все, по крайней мере, мужчины, были уверены, что она — девушка Джока. Иначе откуда эти проявления симпатии и одобрения… Тони вернулся в Англию сразу же после того, как они оформили документы о разводе… Было бы естественно, если бы кто-нибудь сказал о нем хоть слово, но никто ничего не сказал. Девушка Джока! О Боже, все они подумали, что она тут же прыгнула к нему в постель… в постель, которая еще не остыла после последней девчонки. Легкая добыча…
Когда же наступит рассвет? Когда? Зимой в Калифорнии рассветает поздно. Перед восходом солнца Фредди надела свой самый теплый летный костюм и оставила на кухне записку для Хельги и Энни.
С рассветом она добралась уже до Бербанка и выводила свою «Бонанцу» из ангара. С того дня, как Фредди показывала дом Тони, она редко на ней летала. А когда-то это было пределом ее мечтаний: самолет, купленный ею для семьи — для нее, Энни и Тони… Семейный самолет, в котором ни разу так и не летала ее семья.
В последний год Фредди несколько раз пыталась преодолеть подавленность, мучившую ее после развода. По вечерам она выводила свою «Бонанцу», но, увы, привычное блаженство полета, всегда излечивавшее ее, не возвращалось. Только уходя с головой в работу, ей удавалось забыться хоть на какое-то время. В офисе «Орлов» она не испытывала одиночества: день заполняли бесконечные разговоры с рабочими и множество проблем, требовавших немедленного разрешения. И ей это было необходимо. Ей нужен был шум голосов, разговоры с секретарями, бухгалтерами, менеджерами. Это хоть как-то скрашивало то тягостное одиночество, которое наступало вечером, когда засыпала Энни.
Но этим зимним утром она, конечно же, не пойдет в офис, рискуя встретиться там с Джоком и Свидом. «Джок отобрал у меня и «Орлов», — подумала Фредди, проверяя самолет. Ну что ж, она продаст свою долю и займется грузовыми перевозками. Она не останется его деловым партнером. Об этом и думать нечего. Но всеми делами она займется потом, после полета, как это бывало всегда после ее возвращения из Англии, — в трудную минуту она находила утешение в небе. Так было и сегодня.
Фредди посмотрела вверх. Видимости почти не было. Низкие, плотные облака, обычные для дождливого сезона в Калифорнии, редели только на небольшом отрезке в конце взлетной полосы, а на земле было темно, промозгло и уныло. Не очень-то приятный день, нелетная погода. Но там, выше облаков, когда она пробьется к солнечному свету, будет так же хорошо, как и раньше, разве что не видно земли. Но это и к лучшему, подумала Фредди, внимательно осматривая самолет. Зачем рассуждать об этом, ведь когда она взлетит, человечество останется внизу, а с ней будет только небо, горизонт и облака. Больше всего она хотела играть с облаками.
За «Бонанцей» приглядывал один из самых опытных механиков фирмы, но Фредди очень внимательно осмотрела самолет снаружи, поскольку уже несколько месяцев не делала этого сама. Сегодня она заставила себя особенно сконцентрировать внимание, так как была очень взволнована. В аэропорту в этот утренний час было тихо, из-за плохой погоды частные самолеты не взлетали. Фредди вырулила на взлетную полосу, чувствуя такое же сердцебиение, как узник, готовящийся к побегу. Она просмотрела предполетный контрольный лист, убедилась, что ни одна из стрелок на приборной панели не стоит на красном, и, наконец, позволила себе освободиться от оков дисциплины и забыть обо всех обязательных вещах, остававшихся теперь внизу, на базе. Она стремилась вперед, к манящему ее небу.
Выше сплошной пелены облаков возникло ошеломляющее царство света. Гладкий покров облаков внизу напоминал крышку огромной консервной банки. Очарования облачного пейзажа, которое надеялась увидеть Фредди, не было. Небольшие пики и долины выровнялись в плотную «крышку», над которой простиралась чистая, прозрачная синева утра, без загадочности и разнообразия. «Скучная синева, — разочарованно подумала Фредди, — синева, в которой нет ничего, что могло бы очистить мою душу и избавить от раздражения; синева, которую всегда спешит пройти пилот».
Фредди полетела на север, надеясь встретить хоть клочок облака, оторвавшегося от серой пелены, такой, чтобы поиграть, потанцевать с ним. Если бы повстречать грозу, которую обходит стороной любой пилот, обычную грозу — пик опасности, сознательно вступить с ней в борьбу, применив все свое умение и опыт. «А здесь, наверное, нет ливня до самого Чикаго», — с огорчением подумала Фредди. Это был день с нулевой видимостью и с нулевой активностью.
Фредди оглядела свою просторную, удобную кабину с внезапной неприязнью. Что за безликий самолет! У него такая безукоризненная обшивка, приборная панель сверкает новизной, а на новой тормозной педали нет ни единого следа. Фредди с раздражением потерла ее ногой. Тысячи раз приходилось ей летать на новых самолетах, доставляя их с завода на аэродром, — это и было работой Службы вспомогательной авиации, — но ни один самолет не раздражал ее так, как «Бонанца».
Этот самолет не только новый, но и абсолютно неинтересный, решила Фредди, удивляясь теперь, почему ей так хотелось купить его. Эта модель появилась на рынке всего несколько лет назад, первый одномоторный самолет для четырех человек с крейсерской скоростью 280 километров в час, очень надежный, с отличным качеством каждой детали. Все считали его бесподобным. Она назвала бы его проклятой жирной коровой, со злостью подумала Фредди, летающей коровой, которая может поднять маму, папу, двух детишек, корзинку с продуктами, спальные мешки, парочку слюнявых собачек — да, и конечно, ночной горшок.
Фредди мчалась на «Бонанце» по синему небу, выполняя некоторые фигуры высшего пилотажа, но ничто не убеждало ее, что эта корова может чему-то противостоять. А почему нет? Она ведь дорого заплатила за этот воздушный лимузин, с отвращением вспомнила Фредди, ощутив острое желание пересесть на какой-нибудь побитый старый славный самолет, на «старичка», каждое крыло которого хранит историю, на самолет с индивидуальностью, незримо запечатленной в каждой его детали. Фредди влюблялась во многие самолеты, и ни один из них никогда не изменил ей, ни один не сделал ее посмешищем. Какая разница самолету, что ты — женщина со своими женскими слабостями? Если ты их проявишь, он высосет из тебя все, ты станешь его жертвой, над которой легко посмеяться, которую легко обмануть.
Справа появился небольшой пробел в облаках. Фредди ринулась туда посмотреть, где она блуждает, и вдруг поняла, что не знает, где находится. Судя по часам, она вылетела из Бербанка час назад. Под ней был океан, серый, с едва заметной, чуть более светлой линией горизонта. Густой туман клубился неподалеку от Санта-Моники. Все аэропорты на многие километры вокруг, должно быть, закрыты для самолетов — лететь можно только вслепую, по приборам.
Это могла быть и Лапландия, подумала Фредди, с досадой покачав головой и вспомнив день, когда она впервые летела над Тихим океаном. Тогда она была до безумия влюблена в небо и гонялась за парусными шлюпками до самого горизонта, пока Мак не остановил ее. Она была такой юной, такой дикой и… такой счастливой! Это был ее первый самостоятельный полет: 9 января 1936 года, почти шестнадцать лет назад.
Не оглядывайся назад, Фредди. Никогда не оглядывайся назад. Кажется, я голодна, решила Фредди. Она не завтракала и, наверное, пропустит обед, поэтому надо поесть, даже не ощущая голода. Ближайшее место, где можно перекусить, аэропорт на острове Каталина. Фредди бывала там много раз: грязная взлетная полоса, без башни, но это единственное место, где можно приземлиться. Эта площадка возвышалась на 450 метров над окрестностями на вершине пустынного скалистого острова с романтическим названием и с гаванью — прибежищем авантюристов в тридцатые годы. Там, рядом со взлетной полосой, находится магазинчик, где круглые сутки продают кофе, и в хорошую погоду Каталину весьма охотно посещают туристы. Но сегодня погода под стать ее настроению, подумала Фредди, направляясь к хорошо знакомому плоскому кусочку суши в океане.
В ясный день Каталина всегда хорошо видна — так говорили многие опытные моряки. Но не сегодня. Остров куда-то исчез. Фредди посмотрела на компас, выверила курс и полетела к острову.
Когда Фредди подлетала к Каталине, ветровое стекло неожиданно окутали плотные клубы тумана, закрывшего все ориентиры. Фредди пришлось лететь быстрее, чем она предполагала. Нос и крылья самолета исчезли из поля зрения. Ей казалось, что она летит в заколдованной кабине. «Ну и что из того? — сердито подумала Фредди. — Ну и что!» Калифорнийский туман не шел ни в какое сравнение с этим. Ей нужно было бы взмыть вверх, к солнцу, но, черт побери, она хочет кофе, это ее территория, ее небо, оно принадлежало ей еще в детстве, и она время от времени снова завоевывала его. Черт ее побери, если она позволит этому паршивому туману отнять у нее все это. Она была одна в своем небе и так хорошо знала этот маршрут, что могла лететь вслепую. Фредди посмотрела на альтиметр. Высота достаточная, а это единственное, что ее волновало перед посадкой.
«Слишком низко» — последнее, о чем успела подумать Фредди, когда Каталина внезапно выступила из тумана, как непреодолимая скалистая стена. Упущена какая-то секунда, мгновение, которого хватило бы, чтобы резко набрать высоту. Самолет Фредди врезался в скалы. Разбитая вдребезги «Бонанца» еще двигалась метр за метром вдоль склона, подпрыгивая и скользя по камням в ущелье. Там она и затихла.
23
«Мари де Ларошфуко могла бы быть русской царевной или испанской инфантой», — подумал Бруно. Вместе с тем в ней очень чувствовалась француженка. Он и не предполагал, что в таком варварском цирке, как Манхэттен, могла появиться такая безупречная, истинная француженка с прекрасными манерами, речью, умением держаться, с осанкой аристократки. Словно какое-то благоухание наполняло воздух вокруг нее и сопровождало ее повсюду. Мари была отпрыском Франции — старой Франции. Она входила в комнату скромно, но с таким спокойным величием, с таким кротким и высоким достоинством, что все невольно поворачивали к ней головы и завистливо переглядывались, словно задавая друг другу немой вопрос. Они хотели знать, эти суровые граждане жестокого каменного города, кто она, ибо чувствовали в ней то, чем им никогда не суждено стать. Получив даже слабое представление о Мари, они были бы польщены.
Бруно одним из первых в Нью-Йорке встретил Мари де Ларошфуко, принадлежавшую к самой большой и знатной французской семье. Перечисление ее предков занимало целую страницу статьи «Дом Ларошфуко», помещенной в книге «Боттэн Мондэн» о французской аристократии. Генеалогическое древо этой семьи украшали имена трех герцогов; сама же семья была так велика, что на протяжении веков многие отпрыски Ларошфуко вступали в брак с отпрысками той же фамилии. Семья, чьи корни уходили в седую древность, состояла в родстве с самыми выдающимися людьми Франции.
Бруно знал одного из братьев Мари по школе и через него познакомился с ней. Это было вскоре после того, как Мари приехала учиться, чтобы получить степень магистра восточных искусств в Колумбийском университете. Почему она сделала такой выбор, было одной из непостижимых загадок ее очень замкнутой матери.
И как это ему не приходило в голову, что однажды он может влюбиться? Почему он был так уверен, что не похож на других? — спрашивал себя Бруно. Да знал ли он или хотя бы подозревал, какой бывает любовь? Как мог он долгие годы ждать встречи с Мари? Этой весной 1951 года не него обрушилось восхитительное чувство, заполнившее все его существо. Но это же чувство заставляло его мучиться: ему было уже тридцать четыре года, а Мари — только двадцать два.
Однако Мари не подает вида, что он намного старше нее, думал Бруно, неподвижно сидя в своем офисе в банке. Конечно, она не догадывается о том, что он к ней испытывает. Она держится с ним удивительно просто и с открытым дружелюбием, как и со всеми другими знакомыми.
Мари жила в большом каменном городском доме Джона Аллена и его жены, давних друзей ее родителей. Обе пары объединяла страсть к китайской керамике. Аллены пригласили Мари жить у них все два года и предоставили в ее распоряжение несколько комнат. У Мари была даже гостиная, куда она время от времени приглашала своих новых американских друзей на чай или шерри, хотя это довольно редко ей удавалось из-за плотного расписания занятий в университете.
Маленькая, очень изящная, Мари была так же совершенна, как драгоценный камень в короне. Ее длинные прямые блестящие черные волосы доставали почти до талии и были зачесаны назад, открывая прекрасный белый лоб, а на затылке стянуты шелковой лентой. Разрез серых глаз и тонкие черные брови были так восхитительны, будто их написал сам Леонардо; изящный нос украшала небольшая горбинка. Мягких, красиво очерченных губ никогда не касалась губная помада. Прелестное лицо было несколько бледным, но именно по контрасту с черными волосами нежная кожа казалась особенно матовой, а серые глаза — сверкающими, что придавало Мари особое очарование.
Одевалась Мари скромно, почти как подросток, в свитера, блузки и юбки; иногда набрасывала кружевной шарф, вельветовую куртку или вышитый жакет, в которых выглядела очаровательно старомодной в этом городе, где каждый считал обязательным шить костюмы у портного. Наверное, она находит одежду на чердаках своих фамильных замков, думал Бруно, мечтая подарить ей какой-нибудь роскошный наряд или дорогое украшение. В день ее рождения Бруно пошел к лучшему в городе антиквару и купил вазу из белой керамики эпохи династии Сун. Покрытая глазурью ваза отличалась удивительной красотой и простотой формы. Мари пришла в восторг, но принять вазу отказалась, зная истинную цену семисотлетнему произведению искусства. Теперь отвергнутая ваза стояла на каминной полке в спальне Бруно, напоминая ему о том, что он вел себя с Мари де Ларошфуко, как глупый нувориш.
Своей чистотой и невинностью она сводила его с ума. Мари никогда не упоминала об этом, но Бруно, как все влюбленные, стал наблюдателен и узнал, что каждое утро она ходит к ранней мессе. Однажды, придя к чаю на несколько минут раньше других гостей, он оказался в гостиной один и в приоткрытую дверь увидел угол спальни Мари, где потертая скамеечка для молитвы стояла рядом с распятием. Бруно не решился открыть дверь шире, и невидимая постель осталась для него священной тайной, но он знал, что недостоин даже помышлять о ней. Просыпаясь среди ночи — а это случалось с ним все чаще, — Бруно удивлялся тому, что так неожиданно и безоглядно влюбился в неопытную, религиозную, интеллектуальную и целомудренную девушку, юность которой протекла в тиши монастырей, классных комнат и музеев. Мари не занимало ни светское общество, ни его интриги, ни ее положение. Средоточием ее интересов, если он правильно понял, была учеба, которая давала Мари чистую радость. С чувственной точки зрения, эта девушка была чистой страницей и словно вовсе не интересовалась тем, подарит ли ей судьба мужа и детей.
Может, он просто идеализирует целомудрие Мари после стольких лет тайных, постыдных связей со зрелыми и порочными женщинами? Или же это следствие его сексуальной пресыщенности? Может, его восхищает ее умение быть истинной француженкой, и это дает ему, тоскующему изгнаннику, надежду, что Мари заполнит пустоту его жизни?
Каждое из этих рациональных объяснений существовало ровно столько, сколько нужно было Бруно, чтобы сформулировать его. Все они рассыпались, едва Бруно вспоминал, как Мари поворачивает к нему свою маленькую головку, смеется над его шуткой или соглашается пойти с ним пообедать или в кино. Она обожала американские фильмы, в лучшем случае, простые и бесхитростные. Нью-Йорк приводил Мари в совершеннейший восторг. Иногда она вытаскивала Бруно на прогулку, и они ехали в метро, а потом на автобусе от Пятой авеню до Вашингтон-сквер-парк. Потом, добравшись пешком до Бликер-стрит, заходили в дешевое студенческое кафе, где Мари любила посидеть, наблюдая кипевшую вокруг богемную жизнь. Но такое счастье выпадало Бруно лишь в редкие выходные дни: в будни Мари обедала с Алленами и занималась до позднего вечера.
Рядом с Мари он видел и других мужчин. Аллены познакомили ее с самыми завидными женихами Нью-Йорка, но острый и ревнивый взор Бруно убеждал его в том, что ни одному из них Мари не отдавала предпочтения. Бруно не заметил среди них ни одного француза, но между тем был абсолютно уверен в том, что Мари не собирается провести жизнь в Соединенных Штатах, хотя ей очень нравился Нью-Йорк и она была поглощена учебой. Мари призналась ему, что очень скучает по своей большой семье. Бруно познакомился с Мари де Ларошфуко на Рождество в 1950 году, а теперь, поздней весной 1951 года, она с нетерпением ждала лета, надеясь провести его во Франции.
— Когда закончатся занятия, я поеду в Иль-де-Франс на целых три месяца и вернусь только к началу семестра, — радостно сообщила она Бруно. — А вы не поедете в отпуск во Францию? Даже нью-йоркские банкиры должны отдыхать несколько недель.
— Безусловно, — кратко ответил он. Ему не удалось бы объяснить, почему француз не хочет провести отпуск на родине. Такова была традиция, и любые другие планы казались странными. Французы не выезжают за пределы страны, если есть возможность избежать этого.
Она пригласила Бруно навестить ее в замке неподалеку от Труа, где семья Мари проводила лето. Он обещал приехать, хотя знал, что расстается с ней надолго. А ведь она может там в кого-нибудь влюбиться! Ужаснее всего было опасение, что Мари вообще не вернется в Нью-Йорк заканчивать учебу в университете. Он не мог представить себе, что ее сердце останется свободным и она все летние дни и ночи будет веселиться, наслаждаться жизнью и принимать гостей.
Но Бруно не осмеливался вернуться во Францию даже на несколько недель, чтобы навестить Мари. Замок Ларошфуко находился довольно далеко от Вальмона, но французские аристократы тут же раструбят о том, что Бруно де Лансель вернулся на родину после долгого и странного отсутствия. Его отец непременно узнает об этом, а Бруно хорошо помнил, что запрет Поля и его угрозы оставались в силе, хотя прошло уже шесть лет. Поль сдержит слово. Бруно потрогал шрам над верхней губой.
Почему бы не предложить Мари выйти за него замуж сейчас, до ее отъезда, в тысячный раз спрашивал себя Бруно, но ответ был все тот же: Мари не влюблена в него, она откажет ему так же мило, но твердо, как это произошло с китайской вазой. Тогда он не сможет часто видеться с Мари, проводить с ней свободные вечера, завоевать ее любовь. Правила Мари, которые он уважал, не позволяли ей понапрасну поощрять надежды. Она станет очень осторожна и постарается не оставаться с ним наедине, узнав о его чувствах. Она вежливо устранит его из своей жизни, а Бруно де Ланселя не устраивал статус ее друга.
Конечно, Бруно рисковал потерять Мари во время летних каникул, но он мог потерять ее и теперь — раз и навсегда.
В последнем письме Жанна сообщила, что дома все хорошо. «Господин Бруно, вам будет приятно узнать, что в Вальмоне все в порядке».
— Мистер Хемптон, вам незачем оставаться здесь дольше, — сказал доктор Дэвид Вейц Джоку. Не отходя ни на минуту, тот сидел у дверей палаты Фредди в больнице «Ливанские кедры» с тех пор, как восемнадцать часов назад ее сюда привезли, неподвижную, упакованную в белый саркофаг. Только по прядям волос можно было опознать Фредди. — Я обещаю позвонить вам, как только появятся малейшие изменения в состоянии миссис Лонбридж.
— Я буду рядом, — уже в десятый раз упрямо отвечал Джок.
— Нельзя сказать, когда она выйдет из комы. Это может длиться дни, недели и даже месяцы, мистер Хемптон. Будьте благоразумны.
— Я знаю. — Джок повернулся и пошел прочь, чувствуя, как на него нахлынула волна сильной и необъяснимой неприязни к Дэвиду Вейцу. Этот человек слишком молод, чтобы руководить, убеждал себя Джок. Он позвонил Свиду, чтобы тот приехал разобраться с ним.
Сорокадвухлетний Вейц был самым молодым за всю историю существования больницы руководителем неврологического отделения. В «Кедрах» не было более высокого авторитета. С кем бы ни разговаривал Свид, все считали, что лучше всего, если Фредди займется доктор Вейц.
Эта информация успокоила Джока лишь на минуту. Этот Вейц отдавал приказы врачам, вызывал специалистов, принимая десятки решений, о которых он тут же информировал медсестер, круглые сутки дежуривших возле Фредди. Однако ни одна из них не потрудилась хоть что-то объяснить Джоку — все они, как и доктор, выражались каким-то стенографическим языком.
А между тем Джок не мог ни увидеть Фредди, ни помочь ей; она разбилась вдребезги и была вся изранена. Ни Джок, ни даже они не знали объективно тяжести ее состояния. Этот чужестранец вдруг стал самым главным человеком в мире, единственным, кто может вытащить Фредди, поставить ее на ноги, а ведь он никогда не знал ее, не встречался с ней, не слышал, как она говорит, как смеется, не видел, как она ходит, и даже понятия не имел о том, как… важна… как необходима Фредди Джоку.
Жизнь Фредди оказалась в руках этого человека, а это означало, что Джок полностью зависел от Вейца и ненавидел его за это. Ему хотелось схватить за плечи этого высокого доктора и трясти до тех пор, пока выражение самоуверенной сдержанности не исчезнет с его лица, пока не слетят и не разобьются его очки. Джоку хотелось наорать на него, заставить его сделать все, чтобы Фредди было хорошо, очень хорошо… ему хотелось, чтобы этот ублюдок боялся его и понимал, как много поставлено на карту. Если Вейц не сделает всего, что нужно, он убьет его собственными руками… и вместе с тем Джок не решался хоть как-то задеть его.
Джок ходил взад и вперед по коридору и злобно думал о медсестре, пытавшейся сказать ему, какое чудо, что Фредди выжила после такой катастрофы. Да что она вообще понимает! Конечно, Фредди жива! Слава Богу, она не разбилась насмерть, но разве они не могут объяснить все это другими словами? Фредди неудачно приземлилась, очень резко и на слишком большой скорости. Люди не умирают от неудачного приземления, у них бывает сотрясение мозга, они ломают ногу или ключицу, иди даже много костей, но кости можно вправить, никто не умирает от перелома костей. Что означают эти слова Вейца «закрытое повреждение головы»? Если череп не поврежден, в чем же дело?
В коридоре стояли стулья, и Джок заставил себя присесть на минуту. Он прошагал уже столько километров, что едва передвигал ноги, но сидеть было еще труднее. Когда он ходил, ему казалось, что он чем-то занят, а не бесполезно ждет. Джок присел на кушетку, сделав вид, что расслабился. Такую позу он принимал возле самолета, когда в эскадрилье объявлялась двухминутная готовность перед наступлением приказа о боевом вылете.
«Будь прокляты эти некомпетентные, преступные идиоты в Бербанке, — подумал Джок, — как же могли они не закрыть вчера аэропорт! Никому нельзя было разрешать вылет в такую погоду. Будь прокляты и эти неуклюжие идиоты из кофейного магазина в аэропорту Каталины, которые спустились в ущелье, чтобы вытащить Фредди. Бог знает, сколько вреда они ей причинили, пока тащили наверх, как мешок с картошкой. Боже, какое ужасное место для приземления в тумане! Будь проклят этот аэропорт в Каталине на высоте 450 метров, без башни, без радиосвязи — его надо разбомбить вдребезги, чтобы никто и никогда там больше не приземлялся». Джок даже не задумался над тем, что Фредди пыталась совершить посадку при нулевой видимости. Может, она сбилась с курса, потерялась в этом плотном тумане — это единственно возможное объяснение того, как она очутилась рядом с этими предательскими смертоносными скалами. Фредди всегда была очень осторожным пилотом.
«Что же заставило ее вчера отправиться в полет на рассвете? Какая сумасшедшая мысль пришла ей в голову?» — в отчаянии спрашивал себя Джок, думая обо всем, что он хотел объяснить Фредди, вспоминая то, что не успел ей сказать и повторял про себя бессонной ночью после бала «Орлиной эскадрильи». Он собирался прийти к ней в то самое утро к завтраку и заставить выслушать все, чтобы она поняла и простила его. И это обязательно произошло бы, потому что он любит ее. И не говорите, будто Фредди не была готова полюбить его! Разве можно… потерять… настоящую любовь именно тогда, когда обрел ее?
«Легкая арматура потолка похожа на мертвое крыло самолета», — подумала Фредди, смутно сознавая, что у нее уже и раньше появлялись такие мысли, возвращавшиеся снова и снова и постоянно сверлившие мозг. Может, она теперь в аду и навеки обречена неподвижно лежать в одиночестве, неспособная даже подать голос, на самом дне белой чаши, до краев заполненной черной угрожающей водой. А наверху опять темное пятно мертвого крыла в стеклянной арматуре, и в него вновь упирается ее взгляд. Уж не зеркало ли это? Или это темное пятно в арматуре — она сама? Неведомая ей прежде паника охватила ее; в висках стучало: она знала, что никогда не сможет позвать на помощь. Фредди открыла глаза, но рот ее был закрыт, а руки — неподвижны. Она была заживо погребена.
— Вы проснулись, — произнес мужской голос, — умница. — Рука коснулась ее запястья и нащупала пульс. Это было спасением. Она не погибла.
— Постарайтесь не задавать вопросов, — сказал тот же голос, когда она проснулась в следующий раз. — Ваши челюсти повреждены, и наложена повязка, так лучше заживает. Пока вы не сможете говорить. Я сам скажу вам все, что вы хотите узнать. Не теряйте присутствия духа, оно вам еще понадобится. Вы встанете на ноги — я вам это обещаю, но пока вы очень слабы и вам, конечно, больно. Мы постараемся облегчить вашу боль, но избавить вас от нее мы не сможем. Я — доктор Дэвид Вейц. Вы — Фредди Лонбридж. Сейчас вы в больнице «Ливанские кедры». Ваша мать приехала из Франции и заботится о вашей дочери. С ними все в порядке. Ваша задача — выздоравливать. Какое-то время мы не будем пускать к вам посетителей. Вам нельзя волноваться. Все утрясется без вашей помощи — я вам это гарантирую. Подумайте о себе и постарайтесь заснуть. Сон восстановит ваши силы. Когда проснетесь, сестра вызовет меня, и я тут же приду. Рядом с вами постоянно будут сестры, вы никогда, ни на минуту не останетесь одна. Не волнуйтесь, все идет хорошо. А теперь спите, миссис Лонбридж, закройте глаза и засыпайте. Волноваться не о чем. Я с вами.
Фредди ответила ему благодарным взглядом. Доктор смотрел на нее сверху и улыбался: он все понял. Фредди закрыла глаза и уснула.
— Может быть, сегодня вы сможете произнести несколько первых слов. Попытайтесь, — сказал Фредди Дэвид Вейц.
Все три недели, что Фредди была в коме, она получала питание внутривенно, потом через соломинку, пока ее челюсти не зажили. Вчера скобки сняли, но говорить она боялась.
— Энни? — спросила Фредди, не шевеля губами, голосом, идущим откуда-то из глубины.
— Она совершенно необыкновенная девочка. Сейчас она в школе. Ваша мать придет позже. Как вы себя чувствуете?
— Лучше.
— Верно. Много, много лучше.
— Как… долго?
— Не могу сказать с уверенностью. Вы ударились головой, когда вас выбросило из самолета. От этого произошло закрытое повреждение черепа — повреждение, при котором трещин нет, но может быть затронут мозг, образоваться кровоподтек, что вызывает скопление жидкости. Вы были в коме с момента удара. Однако это длилось недолго. Избавившись от жидкости, можно рассчитывать на полное выздоровление, но не исключена частичная потеря памяти. К сожалению, мы не знаем, долго ли это продлится. Дело небыстрое, и этот процесс нельзя ускорить. Но у вас есть и другие проблемы: сломаны обе ноги, рука, запястье, нос, челюстная кость — к счастью, не поврежден позвоночник и кости таза. Но все будет хорошо.
Дэвид Вейц склонился над ней, внимательно вглядываясь сквозь очки, стекла которых увеличивали его темные глаза. Фредди смотрела на него, стараясь осмыслить то, что он сказал.
— Не думайте об ушибах и переломах, — продолжал доктор, словно читая ее мысли. — Я горжусь вами — вы действительно идете на поправку. Вам следует знать — мы должны позаботиться о многом, ничего не упустить. Вы готовы встретиться с матерью? Да? Прекрасно, но я предупрежу ее, что вы можете говорить лишь несколько минут. Я приду позже.
Фредди очень обрадовалась встрече с Евой, но после этой короткой встречи почувствовала себя совершенно опустошенной. Пока она могла говорить только с доктором. До сегодняшнего дня она каждую минуту была на грани жизни и смерти. «Все утрясется без вашей помощи», — сказал Дэвид Вейц, и, несмотря на путаницу в мыслях, дни и ночи, заполненные страхом, челюсти, стянутые скобками, руки и ноги, скованные гипсом (уцелела только одна рука), Фредди цеплялась за его ободряющие слова, повторяя их вновь и вновь, словно в них была какая-то магия, сила, наполнявшая все ее существо. Отогнав от себя все мысли и желания, она делала все так, как велел Дэвид Вейц, потому что верила ему. Его преданность была понятной и естественной — ведь он был ее врачом и делал все, чтобы ускорить ее выздоровление, он проявлял к ней личный интерес, как к своей пациентке.
С приездом Евы реальный мир снова окружил Фредди, мир, которому она не радовалась. Она еще слишком слаба, разбита, больна, чтобы вступать в общение с ним. Ей ни о чем не хотелось думать, ни с кем разговаривать, даже шевелить уголками губ и слабо улыбнуться стоило больших усилий. «Придется сказать сестрам, что еще рано пускать ко мне посетителей, — решила Фредди. — Когда же снова придет Дэвид Вейц?»
— Сестры сказали мне, что вы не просите зеркало, — сказал Дэвид Вейц.
— Да.
— Все не так плохо, как вам кажется. Благодаря пластической хирургии можно надеяться на то, что вы будете выглядеть как прежде. К счастью, Калифорния — мировой центр пластической хирургии. Правда, после операции могут остаться небольшие рубцы от повреждения тканей — все зависит от состояния кожи. Большую часть рубцов вы сможете прикрыть волосами. Что же касается игры на виолончели…
— С чего вы взяли, что я играла на виолончели? Я никогда не прикасалась к ней.
— Это в утешение. Это единственное, чего я не обещаю вам.
Впервые после аварии Фредди рассмеялась.
— Это что, медицинская шутка?
— Классическая.
— А что же будет, если вы скажете это настоящему виолончелисту?
— Я этого не сделаю. Я поговорил с Энни перед тем, как она навестила вас.
— Спасибо, что вы предупредили ее, как я выгляжу. Я боялась, она испугается, увидев меня. Энни говорила, что вы рисовали ей схему, чтобы показать, как выглядят все эти бинты и гипсовые повязки.
— Очень славная девочка.
— А у вас есть дети?
— Нет, я давно развелся, а раньше не мог позволить себе этого.
— Я тоже разведена.
— Энни сказала мне.
— У вас, наверное, был долгий разговор. Что же еще она вам рассказала?
— Об отце, о школе, о желании научиться летать.
— Как вы думаете, я буду в форме к началу летних каникул Энни?
— Думаю, еще нет. Вам рано вставать, мышцы очень ослаблены, ведь вам пришлось долго лежать. Придется провести длительный курс физиотерапии.
— Тогда я отошлю ее в Англию. Пусть проведет каникулы в «Лонбридж Грейндж» с бабушкой и дедушкой. Может, и ее отец будет там.
— Он там. Я несколько раз говорил с ним по телефону, но не так часто, как с мистером Хемптоном.
— Он часто беспокоит вас?
— Не более двух раз в день. Иногда три. Он отказывается верить, что вы не хотите принять его. Вы уверены, что это так?
— Абсолютно. Но я увижусь с Свидом Кастелли и сделаю так, что Джок перестанет вам звонить, — решительно сказала Фредди.
— Вы понимаете, насколько лучше себя чувствуете, миссис Лонбридж?
— Благодарю вас, доктор Вейц.
— Не стоит. Вы — боец. В первые недели… Я беспокоился.
— А я нет. Вы сказали мне не волноваться, и я послушалась. Вы обещали все сделать для меня.
— Так вы помните это, миссис Лонбридж?
— Фредди. Не хотите называть меня Фредди?
— С удовольствием. А я — Дэвид.
— Знаю.
— Мне пора. Я зайду к вам, прежде чем уехать в офис.
— Спасибо, Дэвид.
— Господи, Фредди! Что за трюк ты выкинула? Что за чертовщина?
— Да, Свид. Говорят, это выглядит еще страшнее, чем на самом деле. Я пока не просила осмотреть поломку. А у меня все прекрасно… все остальное — вопрос времени и терпения. Не волнуйся. Как дела в «Орлах»?
— Дела идут хорошо. Все самолеты летают с полной загрузкой в обоих направлениях, поэтому наши акционеры очень довольны. Но моральное состояние руководства офиса — на очень низком уровне.
— Что это значит?
— Нам не хватает твоего веселого личика, звука твоих легких шагов и твоего умения держать нас в руках.
— Придется к этому привыкнуть. Я не вернусь.
— Сейчас ты не можешь принимать решения. Я тебе не верю.
— Думай как хочешь. Мне безразлично. Послушай, Свид, заставь Джока успокоиться, пусть перестанет звонить доктору Вейцу. Он очень занят, и у него нет времени отвечать на назойливые звонки.
— Да я уже говорил ему. Джок сейчас в тяжелом состоянии. Хуже, чем ты, — разве что без бинтов и гипса.
— Меня совершенно не интересует его состояние. Просто я не хочу его видеть. Он не должен беспокоить доктора Вейца. Можешь вбить это ему в голову?
— Постараюсь, но ты же знаешь Джока…
— К сожалению, знаю. Даже слишком хорошо.
— Черт возьми, Фредди, никогда не слышал, чтобы ты говорила с такой горечью.
— Наверное, пришло время научиться заботиться о себе самой, Свид.
— Что это значит?
— Свид, старый дружище. Пока мой дух недостаточно окреп. Спасибо, что пришел. Надеюсь, ты поговоришь с Джоком.
— Конечно, Фредди. Думай о себе. Моральное состояние на низком уровне не только у Джока.
— Поцелуй меня, Свид.
— Ты на меня всегда хорошо действуешь.
— Уверена, что у тебя все будет в порядке.
Ева добилась разрешения Фредди забрать Энни из школы пораньше и улетела в Европу с внучкой. Оставив ее с Тони в Лондоне, Ева отправилась в Париж. Ей необходимо было поскорее добраться до Шампани, где приемы гостей не могли начаться без нее. Евы и так уже слишком долго не было в Вальмоне.
Джок отвез их в аэропорт, чтобы посадить в самолет на Нью-Йорк. Пока Энни осматривала аэропорт в ожидании отправления самолета, Джок с мрачным видом сидел рядом с Евой. Ему очень не хотелось, чтобы они уезжали.
— Черт возьми, Ева, мне действительно чертовски будет вас не хватать, — сказал Джок, схватив Еву за руку и сжав ее.
— Дорогой Джок, я тебе так благодарна за все обеды, походы в кино, поездки за город — что бы мы без тебя делали! Ты ни на минуту не давал нам почувствовать себя одинокими. Ты самый преданный друг, и в любое время приезжай к нам в Шампань, живи у нас когда захочешь и сколько захочешь.
— Может, когда-нибудь. Послушайте, Ева, я о Фредди…
— Джок, ты же знаешь, я старалась. Я несколько раз пыталась поговорить с ней, но она не хочет видеть тебя. Думаю… она ждет, когда будет выглядеть лучше. Наверное, она делает это из тщеславия?
— Да какое тщеславие у Фредди! Скажите просто, что вы с этим не справились. — Эта дерзость Джока была лишь маской, за которой скрывались беспомощность и тоска.
— Возможно, ты прав, — согласилась Ева. — Она даже не стала разговаривать со мной об этом. Я не добилась от нее ни единого объяснения. Фредди скрывает от меня многое, наши отношения никогда не отличались особой доверительностью… У моих дочерей всегда были тайны. А у меня… да… у меня тоже были свои секреты. Вот такая у нас семья. Теперь с Дельфиной у нас совсем другие отношения: мы часто беседуем, делимся друг с другом, но Фредди… — Ева пожала плечами. Даже в таком состоянии Фредди не шла на откровенность с матерью.
— Я знаю, что этот ублюдок Вейц собирается проводить с ней время, — мрачно и подозрительно сказал Джок. Даже его золотые волосы, казалось, потемнели от безысходности.
— Джок, ну что ты в самом деле! Твое воображение уж слишком разыгралось. Вряд ли бедняжка Фредди способна сейчас возбуждать желание.
— Вы ее мать, и вам не понять этого. В ней главное… душа.
— Фредди — пациентка доктора Вейца. Он сосредоточен на том, чтобы вылечить ее. Доктора не «проводят время» со своими пациентками.
— Фредди не такая, как другие. Она всегда отличалась от всех. Ни одну девушку я не поставил бы рядом с Фредди!
— Не стану спорить с тобой, Джок. Подожди, она выйдет из больницы, ты поговоришь с ней — все может измениться. Пока же ничего нельзя сделать. Нужно время.
— Думаете, у меня есть шанс? — спросил Джок, качая головой.
«Нет, — подумала Ева, — абсолютно никакого. Наверное, когда-то ты слишком поторопил ее, Джок, ты — любящее, великодушное, неуклюжее существо, не ведаешь, что творишь. Фредди дарит любовь так слепо, решительно, безраздельно и редко, но если она вычеркнула тебя из жизни — никакой надежды нет. Посмотри, что произошло с Тони. Она никогда даже не говорит о нем. И о Макгире — тоже, будто их не было на свете…» Ева с тоской посмотрела на Джока, сидевшего рядом, и подумала, что ее любимую, непокорную, упрямую дочь Мари-Фредерик можно считать ненормальной. Если бы такой красивый и порядочный человек, как Джок, такой трогательно-добрый влюбился в нее, Еву, она, безусловно, дала бы ему шанс, в чем бы он ни провинился. В конце концов, один маленький, ничтожный шанс! Ведь терять уже нечего!
Да, теперь она выглядит вполне нормально, подумала Фредди, глядя в карманное зеркальце в один из августовских вечеров. Правда, остался один тонкий длинный белый шрам от уха до подбородка, который не скроешь ни макияжем, ни загаром, ни волосами — она понимала это. Физиотерапия занимала большую часть ее времени. Хромота исчезла бесследно, мышцы полностью восстановились.
Почему ее до сих пор держат в больнице? Она не имела права занимать отдельную палату — ведь есть же больные, действительно нуждающиеся в этом. Фредди думала о возвращении в свой большой одинокий дом, совершенно пустой (в нем оставались только Хельга и служанка), холодный и пугающий. Родители пригласили Фредди в Вальмон к сбору урожая, а Дельфина — в Сен-Тропез, где они с Арманом купили виллу и собирались прожить до октября.
Думая об этих предложениях, Фредди внутренне сжималась. Она могла путешествовать от своей комнаты до вестибюля больницы, а это было гораздо ближе, чем Европа. Энни могла бы остаться в Англии до конца года. Да, год в английской школе будет очень полезен для нее, кроме того, она совершенно счастлива с Пенелопой, Джералдом и Тони. Тогда, думала Фредди, ей незачем уходить из больницы, из своей палаты.
Здесь, в «Кедрах», она чувствовала себя в безопасности, а мир за пределами больницы был таким страшным! Понимают ли это мама и Дельфина? Отдают ли себе в этом отчет? Как, по их мнению, она должна добираться до них — ведь живут они не за углом. Понимают ли они, что она должна оставаться в небольшом, хорошо знакомом и безопасном месте, где нет гнетущей ответственности, не надо принимать никаких решений, волноваться, бояться, рисковать, опасаться неожиданностей. От палаты до физиотерапевтического центра Фредди приходилось совершать целое путешествие, и только сознание того, что она сможет вернуться в свою безопасную палату, свою надежную больничную кровать, помогало ей проделать этот путь по длинному оживленному холлу, а затем вверх и вниз по лестнице. Фредди не пользовалась лифтом… она не хотела им пользоваться, как ни было трудно преодолевать ступени… лифт — плохое место… дьявольское место.
— Как чувствуете себя сегодня, миссис Лонбридж? — спросила ее дежурная сестра, когда Фредди вошла в палату. — По-моему, вы выглядите прекрасно!
— Ужасно, — ответила Фредди. — Все болит. Не понимаю, почему мне так плохо. Сегодня я не буду обедать, миссис Хилл. У меня совершенно нет сил.
— Я слышал, у тебя сегодня трудный день, — спокойно сказал Дэвид Вейц. — Не обедала?
— Все болит, — пробормотала Фредди, скрючившись в кровати и натянув одеяло до подбородка.
— Абсолютно все? С головы до пят?
— Да.
— Сейчас дам тебе аспирин, и мы отправимся на прогулку. В машине. Это спасительное средство для тех, у кого все болит.
— Нет!
— Ты не хочешь выходить из больницы, не так ли, Фредди?
— Не будь смешным.
— Ага! Верный признак хорошего состояния пациента. Если ты говоришь врачу, что он смешон, значит, готова покинуть это помещение. Ни один врач не вызывает смеха в больнице. Это против правил. Даю тебе пять минут на то, чтобы одеться. Мы поедем на пляж любоваться заходом солнца.
— Я не могу. Не хочу. Мне трудно одеться. Я чувствую себя очень плохо.
— Пять минут, или ты отправишься в ночной рубашке и банном халате.
— Ты не нашел ничего лучшего, как мучить меня?
— Сейчас — нет.
— Черт побери!
— Тебе даже не нужен аспирин. Пять минут — и отправляемся.
— Для леди — куриный суп, а мне — водки с мартини, — сказал Дэвид бармену в ресторане «У Джека на пляже», усаживаясь лицом к закату.
— Пожалуйста, два мартини, — поправила Фредди. — Для меня — двойной.
— Моя мама сказала, что тебе сейчас нужен куриный суп, — возразил Дэвид.
— Ее сын объявил, что я достаточно хорошо себя чувствую и могу выписаться из больницы. А что, твоя мама закончила медицинскую школу?
— Все еврейские матери получают медицинскую квалификацию и могут практиковать, даже если их сыновья не врачи. И даже если у них только дочери.
— Разве мне нельзя спиртного? Мне это не вредно, не так ли? Как, по-твоему?
— Безусловно, ты вольна делать все то же, что до аварии.
— Тогда я была счастлива, правда? — спросила Фредди.
— Чертовски счастлива?
— Я до сих пор не помню, что произошло.
— Это типично. Скрытая травма черепа часто сопровождается амнезией. Память может вернуться, но не всегда. Это нельзя предсказать.
Фредди сидела молча, глядя сквозь огромное плоское стекло на двух человек, которые опускали лист тонкого серого оргстекла, чтобы лучи заходящего солнца не слепили глаза. Так повторялось каждый вечер в этом знаменитом ресторане на пирсе. Слева от ресторана, на некотором расстоянии, находился парк отдыха со старыми «американскими горками». И вдруг Фредди поняла, что совершенно отчетливо видит людей на аттракционе: они держались за поручни, расположенные напротив их сидений. Фредди быстро опустила глаза. То, что она так четко видела предметы вдали, страшно нервировало ее. Она повернулась к Дэвиду и посмотрела на него так же пристально, как он смотрел на нее все эти месяцы. Теперь все изменилось, и это была честная игра. Темные, хорошо подстриженные волосы с проседью, глубокие складки по сторонам рта, придававшие ему выражение грустного клоуна, но полностью исчезавшие, когда он улыбался; крупный полный рот и профессорские роговые очки. Фредди никогда не видела Дэвида без них.
— Ты носишь очки постоянно? — спросила она.
— Только тогда, когда хочу что-то увидеть. Кажется, я снимаю их лишь когда принимаю душ, и то однажды мне в глаза попало мыло.
— Я ничего о тебе не знаю, кроме того, что медсестры считают тебя Богом или чародеем.
— Они преувеличивают. Ну ладно… немного.
— А что же делает Бог в свободное время?
— Я — непредсказуемый, сложный, непробиваемый и на редкость противоречивый человек. В общем, очень обаятельный. Раньше играл в футбол — был известным защитником. Еще я — мастер спорта по шахматам. Мое хобби — поло, а мои пони летом пасутся в Аргентине. Свою костюмы я заказываю у Севил Роу, а в моем погребе с кондиционерами хранится солидная коллекция бургундских вин первого урожая. Время от времени я туда наведываюсь, чтобы они чувствовали мою заботу. Перед сном я всегда прочитываю три страницы Сартра на французском и могу на память рассказать Кама Сутру, произведения Толстого, Джейн Остин и Генри Миллера.
— Гм…
— Точнее сказать, я был шахматистом… в студенческие годы. Однако могу сразиться в пинг-понг.
— Где ты был во время войны?
— В медицинском корпусе. За границу не выезжал.
— Так что же ты делаешь в свободное время?
— В Брентвуде у меня есть дом, и я стараюсь бывать там, когда есть возможность. Немного читаю, слушаю музыку, иногда в выходные уезжаю отсюда и брожу по пляжу, встречаюсь с некоторыми старыми друзьями, хожу в рестораны, в кино, но в основном я работаю.
— Как-то грустно это звучит.
— В сравнении с тем, что я слышал о твоей жизни, моя — совершенно лишена приключений, это однообразная жизнь, хотя медицина никогда не бывает скучной, а я главным образом занимаюсь ею.
— Каждый день спасаешь больных?
— Не обязательно, но случается и такое. Что я могу еще сказать?
— Ты все уже сказал. Я умираю от голода. — Фредди слегка позаботилась сегодня о своей внешности, зная, что в широкой, цвета сухой листвы, юбке с высоким корсажем и скромной белой льняной блузке, которую перед отъездом оставила в ее шкафу Ева, она выглядит совсем неплохо.
— Мне хочется заказать омара на пару. Попросить для тебя меню?
— Мне тоже омара, пожалуйста, — сказала Фредди, удовлетворенная собой. Доктора всегда все о тебе знают, а ты никогда ничего о них не знаешь, поэтому находишься в невыгодном положении. В конце концов, подумала Фредди, теперь ей известно о Дэвиде Вейце чуть больше. Взять, к примеру, такие важные свойства, как доброта, терпение, почти сверхъестественная чуткость к больным и страстная увлеченность работой. Теперь она могла представить себе его в тени деревьев в уютном брентвудском доме с книгой или гуляющим босиком по пляжу у кромки воды с закатанными брюками. Конечно же, в очках, чтобы не заблудиться или не споткнуться.
Когда принесли омаров, Фредди и Дэвид придвинулись к столу и закрыли грудь большими салфетками, которые всегда подавались вместе с омарами, даже без просьбы посетителя. Теперь все их внимание сосредоточилось на омарах — огромных, с двумя клешнями. Этих омаров, отметила Фредди, могли доставить сюда самолеты фирмы «Орлы».
Не чувствуя себя вполне раскованно со своим спутником, не заказывайте омаров, ибо изящно вы сможете разделаться только с доступными кусочками, не прикасаясь к клешням, где таится самое восхитительное мясо. Сегодня впервые за целый год Фредди ела омара. Она погрузилась в это занятие, ловко орудуя специальными щипчиками, длинной тонкой острой вилкой и даже пальцами и зубами. Дважды она попросила топленого масла и после долгого молчания сказала только одно: «Подай мне, пожалуйста, лимон».
Покончив с омарами, Фредди с выражением полного удовлетворения стала приводить себя в порядок, воспользовавшись свежей салфеткой и широкой чашей, заполненной теплой водой, в которой плавали дольки лимона. Вымыв лицо и руки, она сняла салфетку; щеки ее сияли как у только что вымытого младенца.
— Тебе ватрушку или мороженое? — спросила Фредди.
— И то и другое, — ответил Дэвид и, наклонившись, поцеловал ее в губы. Фредди задохнулась от изумления. — Мне нравятся девушки, умеющие наслаждаться омаром, — объяснил он.
— Так нравятся, что ты целуешь их?
— Конечно. — Дэвид снова поцеловал Фредди. Его очки ударили ее по носу. — Извини, пожалуйста, — сказал он.
— Сними очки, — попросила Фредди.
— Тогда я не смогу видеть тебя.
— Ты и так знаешь, как я выгляжу.
— Иначе, чем сейчас, когда ты счастлива. Ты ведь счастлива, правда, Фредди?
— Да, — помедлив, ответила она.
— Но не вполне?
— Нет… не вполне… — сказала Фредди. Она старалась честно оценить свои чувства, которых не понимала, не могла понять и не хотела думать об этом. — С этим, наверное, ничего нельзя поделать, я думаю… что я… несколько угнетена… целым рядом причин… это сложно… вероятно, это пройдет само собой. Полагаю, это вопрос времени. Дэвид, дело в том, что я счастлива именно в данный момент. И была счастлива с той минуты, как мы вошли сюда, и это ощущение я буду помнить долгое время. Другое дело… моя беда, но это не твоя проблема.
— Нет, моя.
— Почему? Ты говорил, что я готова к возвращению домой. Ты вытолкнул меня из гнезда. После того как я успешно атаковала омара, наверное, нельзя сказать, что я слишком слаба для решения других проблем. Мне еще нужна помощь врача?
— Практически — нет. Но я хочу продолжать заботиться о тебе.
— Как? — озадаченно спросила Фредди.
— Я хочу… хочу, чтобы ты вышла за меня замуж. Не говори «нет». Вообще ничего не говори! Не говори, что я не понимаю, о чем прошу. Не говори, что глупо просить руки девушки после одного свидания и двух поцелуев. Ты вправе это сказать, ведь все произошло именно так. Знаешь, никогда раньше я не поступал импульсивно. Я знаю тебя лучше, чем ты думаешь. Я также понимаю, что слишком тороплю тебя, хотя и не должен этого делать, но ничего не могу изменить. Я хочу, чтобы ты знала, что я чувствую и всегда буду чувствовать, но я не тороплю тебя, просто скажи мне о своем решении… когда обдумаешь. Все, больше ни слова.
— Великодушно, — тихо заметила Фредди. — О чем же мы будем говорить на следующем свидании?
24
Ньюйоркцы всегда очень гордились красотой своего города, и Бруно охотно соглашался с ними. Был ли Манхэттен более культурным и интеллектуальным, чем Лондон, более богатым и величественным, чем Рим, более драматичным или даже более романтическим, чем Париж? Да, все именно так! Какие бы достоинства города ни выставлялись, он легко и даже почти искренне соглашался с этим. Так размышлял Бруно де Лансель, мчась в такси на обед, который устраивал Джон Аллен как-то вечером в начале октября 1951 года.
Мари де Ларошфуко вернулась после летних каникул, проведенных ею в долине Луары, свободная и не связанная никакими обязательствами, как и в июле, когда Бруно провожал ее в Иль-де-Франс. После возвращения Мари Бруно старался проводить с ней каждый выходной день. Правда, она отказывалась от всего, кроме вечерних экскурсий и посещения маленьких ресторанчиков. Мари упомянула, что ее семья очень разочарована тем, что непредвиденные дела помешали ему приехать летом во Францию.
— Мама сказала, что очень хотела бы познакомиться с вами после того, что я рассказывала, а мои братья надеялись поиграть с вами в теннис… в общем, нам вас не хватало, Бруно. Не огорчайте нас опять, — мягко и полунасмешливо сказала Мари, бросив на него быстрый застенчивый взгляд, и Бруно, который был склонен улавливать поощрение в каждом ее теплом слове, придал этому особое значение.
Сегодня отмечали день рождения Мари, и Бруно потратил всю неделю на поиски подарка, не слишком дорогого, по ее понятиям, но достойного внимания этой независимой девушки. В конце концов он остановился на первом издании «Алисы в Стране Чудес». Эту книгу она обожала, что было недоступно пониманию Бруно, хотя сам он прочел ее с пристрастным интересом влюбленного, надеющегося подобрать ключик к предмету обожания. Книга стоила очень дорого, но он полагал, что Мари не догадается об этом.
Бруно сидел в гостиной Алленов. Он был взволнован, но узнав, что список гостей составляла Мари, а не миссис Аллен, подавил приступ ревности. Его встретила Сара Аллен, сказав, что Мари одевается.
— Мари так устает от этого ужасного метро, пока добирается из университета — и сегодня, и каждый вечер… поэтому я устраиваю скромный обед, и кроме вас она разрешила мне пригласить лишь двенадцать ее приятелей. Мне очень хотелось устроить для Мари настоящий бал… ведь у нее так много друзей… но она сочла это слишком хлопотным.
«Итак, кроме меня, еще двенадцать человек», — подумал Бруно, когда прибыли гости. Четверо из них — любимые преподаватели Мари с женами; молодая пара: дочь Алленов Джоан с женихом; еще две супружеские четы, однокурсники Мари. Кроме Бруно пришел еще один холостяк с девушкой, подругой Мари. Они явно были в близких отношениях. Этих людей Бруно встречал и раньше. И вдруг, не веря самому себе, он понял, что здесь он единственный неженатый (даже ни с кем не связанный) мужчина. Она выбрала его… или предоставляет ему возможность выбрать ее? А может (для Мари это было вполне вероятным), она так наивно давала понять, что в этом кругу чувствует себя в Нью-Йорке как дома. Но это приглашение может означать, что он — не более чем один из близких друзей, как и все остальные. Бруно лично точно не знал, он догадывался. Может быть, и никогда не узнает.
Бруно угрюмо стоял в углу. Черные брови изгибались дугой над красивым носом, а пухлые губы сжались от гнева, смущавшего его самого. В комнату вошла Мари в длинном изящном платье из тяжелого белого шелка. Длинные черные волосы были прекрасно уложены и подчеркивали горделивую стройность шеи. В ушах — длинные серьги со сверкающими бриллиантами, обрамлявшими крупный рубиновый кабошон; массивную брошь Мари приколола в середине лифа, там, где виднелась матовая кожа.
Столь юная девушка, как Мари, могла позволить себе надеть такие драгоценности лишь потому, что они были фамильными. Впрочем, Мари держалась так же свободно, как в обычных золотых сережках. Волнуясь, Бруно кусал губы. Он страшно разозлился, когда Мари появилась в этих драгоценностях, к которым он не имел никакого отношения. Она не смеет надевать ничего, кроме того, что он сам подарил ей; она никогда не должна удивлять ничем — как бы прекрасно это ни было. О, он научил бы ее, если бы она принадлежала ему!
Обед был долгой и мучительной пыткой для Бруно, оказавшегося на противоположном от Мари конце стола. Сидя между Джоном Алленом и одним из своих преподавателей, она казалась счастливее и оживленнее, чем обычно. Когда за столом шестнадцать человек, общий разговор не возникает, поэтому Бруно пришлось уделять внимание своим соседям, но при каждом удобном случае он поглядывал на Мари, хотя и был учтив с леди, сидевшими справа и слева от него. Мари не посадила его рядом с собой. Но, может быть, не она рассаживала гостей, а только составила их список. Мари и не пытается встретиться с ним взглядом, мрачно подумал Бруно, расправившись с именинным тортом. Ни одна из его любовных историй не требовала от него стольких усилий и изобретательности, как ухаживание за этой простодушной Мари де Ларошфуко. О, будь он ее учителем, он показал бы ей, как выделывать с ним такие штучки.
Кофе и бренди после обеда подавали в гостиной. Бруно попытался сесть рядом с Мари, но это место вдруг занял один из преподавателей — не тот, что сидел с ней рядом за обедом. На вид ему не больше тридцати пяти, прикинул Бруно, злобно изучая этого профессора, знатока китайской керамики. Он не выглядел замшелым и суетливым, какими представлял себе Бруно всех этих ученых. Вероятно, он из хорошей семьи и, судя по элегантности его жены, имеет солидный доход. Мари весело смеялась, разговаривая с этим светловолосым профессором, и парировала его замечания об аспирантуре как таковой. Не выдержав, Бруно повернулся и вышел с гримасой мстительной ревности, исказившей его лицо.
Так вот почему она вернулась сюда, а не завела поклонника во Франции! Что ж, может, она и любила этого профессора, разделявшего ее интересы, и пригласила его с женой для отвода глаз. К каким же ухищрениям они прибегают, чтобы встретиться друг с другом, думал Бруно, прекрасно зная, как легко его любовницы обводили вокруг пальца своих мужей. Где же они встречаются? В библиотеке или в залах, где выставлены фрагменты керамики, потом вместе ужинают, а после… Нет!
Если Мари будет принадлежать ему — никакой дурацкой свободы! Он будет контролировать каждую минуту, никаких близких друзей, никаких посторонних интересов! Ни одно мгновение ее жизни не ускользнет от него. Он будет следить за ней день и ночь осторожно и внимательно. Виконтессе Бруно де Сен-Фрейкур де Лансель он не позволит сидеть в гостиной и хихикать, как школьнице. Он объяснит ей, что ей положено делать, и она никогда не решится ни на что другое.
— Еще кофе, Бруно? — спросила Мари, удивившись его внезапному исчезновению. Взглянув на нее, Бруно заметил зеленоватые крапинки в ее карих глазах.
— Нет, благодарю вас, Мари. Мне очень нравится ваша сегодняшняя прическа. Вы выглядите пятнадцатилетней девочкой.
— А по-моему, я выгляжу слишком уж величественно. Не дразните меня, — сказала она так спокойно, с такой уверенностью в себе и таким очарованием, что сердце его защемило. Ее спокойствие и уверенность не подтверждали его подозрений. — Спасибо вам за «Алису», — продолжала она. — Это самый восхитительный подарок, какой я когда-либо получала… Где вы ее нашли?
— Это секрет.
— Бруно, скажите мне, — настаивала она. — Это не из тех книг, что продаются в магазинах. Ненавижу секреты, вы же знаете!
— По-моему, у вас предостаточно секретов с профессором. — Бруно небрежно указал на светловолосого академика.
— Джо? Правда, он забавный? Я, как и все, его обожаю, а его жена Элен — одна из самых очаровательных женщин, которых я когда-либо встречала. Вам удалось с ней поговорить? Нет? Очень жаль. Они поженились год назад, и она только что сказала мне, что ждет ребенка, — правда чудесно, когда люди так счастливы? Может быть…
— Что может быть?
— На будущей неделе Элен и Джо устраивают прием для студентов. Не хотите пойти со мной? Только предупреждаю, что все гости будут из Департамента восточных искусств. Думаю, впрочем, что они вам понравятся… Я знаю, что вы им нравитесь.
— С чего вы взяли? — спросил Бруно. — Я ведь не разделяю их профессиональных интересов.
— Бруно, иногда вы бываете таким… таким бестолковым! Вы им нравитесь потому, что вы — это вы и… — Она запнулась.
Бруно показалось, что она подбирает слова, стараясь сформулировать свою мысль.
— И что?
— Ради всего святого, Бруно, они… слышали о вас, — взволнованно сказала Мари. — Полагаю… им будет любопытно. Некоторые из них вообще сомневаются в вашем существовании, считая, что я вас выдумала.
— Разве вы говорите обо мне со своими однокашниками?
Мари повернулась к Бруно и взглянула ему прямо в глаза невыразимо искренним взглядом. Она говорила так серьезно и с таким пылом, какого раньше Бруно не замечал в ней.
— Я ничего не могу с этим поделать, Бруно.
— Ты — самый законопослушный водитель, какого я знаю, — сказала Фредди Дэвиду, когда они ехали по почти пустынному бульвару Сансет. — Ты когда-нибудь превышал скорость?
— Возможно, в колледже, но не нарочно. Когда в больнице видишь столько раненых, пострадавших в автокатастрофах, то пропадает желание кого-то обогнать.
— Да, я могу это понять, — согласилась Фредди.
Два месяца назад, отправившись с Дэвидом в ресторан на пляже, она подумала, что он тщательно соблюдает правила, установленные Департаментом дорожного движения, поскольку понимает ее страх перед внешним миром, по опыту знает, какой шок, головокружение и опасения перед внешним миром возникают у человека, который провел несколько месяцев в больничных стенах. Ей казалось, что он заставлял себя соблюдать установленную скорость, чего не делал ни один водитель в Калифорнии. Но теперь, встречаясь с Дэвидом два месяца не реже трех раз в неделю, Фредди поняла, что соблюдение правил было для него органично.
Фредди снисходительно улыбнулась. Дэвид — великолепно организованный человек. Мог ли предположить кто-нибудь из женщин, что доктор, проводивший такие смелые нейрохирургические операции, способен приготовить прекрасный обед, точно следуя букве рецепта и никогда ничего не делая на глазок. Кто из его пациентов, испытавших на себе его новаторское, творческое отношение к медицине, подозревал, что Дэвид в своей библиотеке расставил книги не по именам авторов, а по названиям в алфавитном порядке, как в словаре, что он никогда не оставлял книгу открытой даже на несколько минут, поскольку от этого портится переплет. Если покупатель, открывая книгу, перегибал переплет, Дэвид возмущался вслух. Волнуясь, он походил на мальчишку.
А его патефонные пластинки! Дэвид учил Фредди, как их нужно брать за самую кромку ладонями, так, чтобы пальцы не отпечатывались на черной ребристой поверхности, объяснял, почему их следует помещать в пакетики из тонкой бумаги прежде чем положить в конверт, а перед этим тщательно протирать специальным кусочком ткани, чтобы не оставалось пылинок. Лишь изредка они спорили. Дэвид имел обыкновение прослушивать пластинку до конца, Фредди же иногда хотелось остановить пластинку, не дослушав ее, но он заставлял ее дождаться момента, пока игла его «Мегавокса» не отключится автоматически. «Ты можешь случайно повредить пластинку, если будешь снимать иглу вручную», — объяснял Дэвид, и Фредди поняла, что он абсолютно прав, со стыдом вспомнив, как они с Джейн слушали части то одной, то другой мелодии на своем стареньком ручном патефоне, небрежно меняя любимые пластинки.
Дэвид действительно «лепил» ее, подумала Фредди, когда он остановил «кадиллак» на красный свет светофора так мягко, что она даже не почувствовала. У Фредди в спальне всегда был угол, где вперемешку валялись самые разные вещи: журналы, свитера, письма, газетные вырезки, неоплаченные счета, туфли, на которые предстояло поставить набойки, фотографии, не поместившиеся в альбом. Она называла этот угол «крысиным гнездом». Но, как ни странно, это идеально подходило для хранения документов. Пытаясь отыскать что-нибудь важное, Фредди всегда направлялась к «крысиному гнезду» и обязательно находила. Но когда она попыталась соорудить маленькое «крысиное гнездо» в спальне Дэвида, с которым проводила теперь много времени, то натолкнулась на непреклонное сопротивление.
«Это очень дурная привычка, дорогая. Ведь совсем не трудно положить вещь на место, если она тебе не нужна, или повесить в шкаф, как только ты ее сняла. Я понимаю, что это скучно. И вообще, я — педант по части аккуратности. Ты же знаешь, в операционной в любую секунду необходимо знать, где что находится». И Фредди прекрасно поняла его, более того, оказалось, совсем не трудно класть вещи на места. Теперь «крысиное гнездо» оставалось только дома, но всякий раз, роясь там, Фредди чувствовала себя виноватой и твердо решила избавиться от этой привычки.
В самом деле, если они собираются пожениться, думала Фредди, от растерянности наморщив нос, лучше привыкать к порядку заранее, да и Энни необходимо приучать к этому — ведь она переняла от матери эту дурную привычку. А может, это — генетическое?
Выйдя из больницы, Фредди поняла, что Энни, безусловно, следует остаться в Англии на весь учебный год. Она уделяла девочке очень мало внимания. Дочь вернулась домой к началу учебного года, и Фредди стало трудно продолжать роман с Дэвидом на глазах у девятилетней девочки. Ни одной ночи Дэвид и Фредди не спали вместе; они никогда не просыпались в одной постели, потому что ему приходилось привозить ее домой не слишком поздно — ведь с самого утра ему предстояло отправиться в «Кедры».
Дэвид — самый внимательный и чуткий любовник, о каком только может мечтать женщина, думала Фредди, глядя на его сосредоточенное лицо, и счастье переполняло ее. Нежный, мягкий, ласковый, Дэвид заботился о том, чтобы Фредди испытала такое же наслаждение, как и он… а, может, и больше. Только с двумя мужчинами она могла сравнивать Дэвида, но Фредди не помнила, интересовались ли Тони и Мак тем, испытывает ли она удовлетворение. Может, Дэвид уникален и обладает особой чуткостью, или же он просто хорошо изучил ее реакцию? С ним Фредди всегда испытывала полное удовлетворение после близости.
Интересно, способен ли Дэвид внезапно, в самое неподходящее время схватить ее и сорвать одежду — нетерпеливо, поспешно и горячо? А ведь это вносит разнообразие в сексе! А может, это вообще не свойственно Дэвиду? Не исключено, что он так и поступит: период ухаживания закончится, если они поженятся. Но когда же такое может произойти?
Дэвид сдержал слово: он больше не заговаривал о браке. Он не оказывал на Фредди никакого давления, ожидая, когда она сама примет решение. Фредди чувствовала, что какая-то неведомая сила побуждает ее сказать «да» этому человеку, любовь которого к ней проявлялась во всем. Только безумная не согласилась бы выйти за него замуж.
А вот сегодняшний обед заставляет ее нервничать, подумала Фредди. Обед с матерью Дэвида. Уже дважды ей удавалось уклониться от приглашения, но в конце концов она решилась его принять. Обед с матерью Дэвида еще не означает, что она готова стать ее невесткой, напомнила себе Фредди. Это лишь долг вежливости, не более того. Никакого давления. Ведь не заставил же ее Дэвид встречаться со своими сестрами, хотя, наверное, для Энни совсем не плохо приобрести теток.
Дэвид убедил Фредди, что это самый обычный обед, такой же, как всегда. «Хороший сын теперь кажется чем-то старомодным, — сказал Дэвид с мягкой иронией, — но я же не виноват, что она — добрая мать». Он хорошо знает, что у нее тоже добрая мать, и, не живи они за тысячи километров друг от друга, у Евы с ней установились бы отношения не менее доверительные, чем с Дельфиной.
Сьюзен Грюнваль Вейц, овдовевшая три года назад, жила на одной из зеленых и тихих улиц в шикарном месте Бэль-Эйр, чуть восточнее Брентвуда. Дэвид и Фредди свернули с бульвара Сансет и вскоре подъехали к ее дому в элегантном виргинском стиле — удивительно пропорциональному большому белому особняку за высокими воротами.
— Хм, — пробормотала Фредди. Дом произвел на нее впечатление и даже несколько удивил. У самого Дэвида был небольшой дом, как и положено холостяку. — Я думала, твой отец тоже был врачом.
— У него было хобби — инвестирование — в нефть и недвижимость. А вообще, он отличался разнообразными интересами.
— Какой красивый сад, — заметила Фредди, медленно шагая позади Дэвида и чувствуя, что неохотно идет на встречу с его матерью, пусть даже и доброй.
— А это хобби мамы. Идем, дорогая, тебя никто не съест. — Дэвид поздоровался со слугой, который открыл дверь и пригласил их в гостиную. Фредди бросилось в глаза множество картин и скульптур. Повсюду были цветы. Потом она заметила, что в гостиной гости, а не только «добрая мама», к встрече с которой готовилась Фредди.
Сьюзен Вейц оказалась почти того же роста, что и ее сын. Она спокойно и дружелюбно приветствовала Дэвида и Фредди. Лишь одна седая прядь блестела в ее гладко причесанных пепельных волосах. Такого великолепного жемчужного ожерелья Фредди никогда не видела. Синее платье было гораздо проще и значительно дороже тех, что носила Фредди. Отличие ее стиля одежды от лос-анджелесского сразу же обращало на себя внимание. Сначала Фредди подумала, что она шьет наряды в Париже. Потом решила, что Сьюзен Вейц, вероятно, вторая жена доктора: уж слишком она молода для матери Дэвида.
Между тем Фредди представили гостям. Она узнала, что три дамы лет тридцати — это замужние сестры Дэвида, похожие и на него и на Сьюзен Вейц. Они и их мужья были высокими, стройными и привлекательными. Они с симпатией смотрели на Фредди. «Это небольшой семейный обед», — вспомнила Фредди, расточая улыбки.
— Мама, ты не предупредила, что придут девочки, — с удивлением заметил Дэвид.
— Ничего, дорогой, твои сестры сегодня свободны и очень хотели прийти — ты же знаешь, я ни в чем не могу им отказать.
— Я рассказывал тебе о своих младших сестрах, помнишь, дорогая? — шепнул Дэвид Фредди. — Извини, что так вышло.
— По-моему, они сильно выросли с тех пор, как ты мне о них рассказывал.
— Правда, я самый старший. Мама родила меня в восемнадцать. Поэтому для меня они всегда останутся детьми, — сказал он, наливая ей вина.
Вейцы, как назвала про себя сестер Фредди, не уловив их новых фамилий, вели оживленную беседу, в которую непринужденно вовлекли и Фредди. Вскоре она перестала замечать их рост — сидя, они казались ниже.
После веселого обеда все снова перешли в гостиную, где одна из сестер, Барбара, сообщила Фредди, что она — младшая в семье.
— А у вас только одна сестра, правда? — спросила Барбара с милой улыбкой.
— Да, и живет очень далеко отсюда, — грустно ответила Фредди. Вид большой дружной семьи Вейц заставил ее ощутить одиночество.
— Я видела много фильмов с участием вашей сестры. Она просто великолепна! Дэвид сказал, что Энни очень похожа на вашу сестру.
— Да, очень, хотя вообще-то они очень разные. Не думаю, что Энни станет актрисой.
— По словам Дэвида, Энни хочет стать летчицей. Вы рады этому? Признаюсь, меня очень беспокоили бы такие желания, а ведь вы все это испытали на себе. По-моему, это трудное дело для девочки, не совсем… я хочу сказать, не совсем женское. Думаю, вы сможете объяснить ей это. Дэвид считает, что сможете, он вам об этом, наверное, уже говорил? Направьте ее мягко в другое русло, например, пусть играет в гольф или в теннис. Это очень полезные виды спорта. А когда летаешь, то все время один. Я и сама увлекаюсь гольфом. А вы играете? Нет? Жаль! Ладно, если вы когда-нибудь захотите научиться, я познакомлю вас с лучшим тренером в городе. С вашей координацией — ведь у летчиков она должна быть прекрасной — вы очень быстро освоите гольф! У меня идея: что, если мы поужинаем в клубе и я вас представлю тренеру? Вы сможете назначить день для тренировок. Так или иначе, я позвоню вам через несколько дней.
— Это будет очень мило с вашей стороны. — Фредди через силу улыбнулась. Она не выбирала свою профессию. Это было даровано ей свыше. Почему Барбара считает, что можно уговорить кого-то не летать, если он хочет этого? Могла ли чья-то логика или чьи-то доводы — неважно, мягкие или настойчивые, — заставить ее отказаться от полетов? Если есть потребность подняться в небо и сделать это самостоятельно — никто, даже мать, не сможет этого предотвратить. И не должна. Но Барбара говорила очень горячо и убежденно.
— Отойди, Бабс, — сказала Диана, другая сестра Дэвида, бесцеремонно заняв место Барбары. — Она уже говорила вам о тренере по гольфу? Не обращайте внимания. Она безнадежна: вот уже три года как в этом клубе. По-моему, это ужасно скучно, все время говорить о гольфе. В любом случае, я не могу выкроить для него времени — ведь у меня пятеро детей, а теперь мы ждем еще одного. Знаю, что пока не видно, но у меня вообще не видно до шести месяцев… я так счастлива! А у вас, как я поняла, только один ребенок? Это очень плохо.
— Энни родилась в середине войны. Я работала… — пояснила Фредди.
— Как неудачно! Но вы еще так молоды. Дэвид сказал, что вам только тридцать один. Еще есть время завести дюжину детишек, не так ли? Господи, это что, звучит как «тяжелая работа», да? Вы бы видели свое лицо, Фредди! Да я просто пошутила! Конечно, Дэвид сходит с ума по детям. Его первый брак был так непродолжителен, что он не успел завести детей, он, наверное, рассказывал вам об этом? Сейчас вы, как я слышала, не работаете? У меня есть подруги с детьми, которые продолжают работать, делают карьеру. Мне жаль их… они буквально разрываются на части: никак не могут решить, что важнее, дети или работа. Конечно, многие из них хотят работать, и я уважаю их желание, но считаю, что они заблуждаются и потом пожалеют об этом. А как вы думаете?
— Я никогда об этом особенно не задумывалась, — ответила Фредди. — Энни выросла при работающей матери, но, по-моему, никогда от этого не страдала. По крайней мере, пока.
— О нет, конечно же нет! Ведь тогда была война и все такое. Потом вы занялись бизнесом. Вы не могли ничего изменить. Но теперь ей, наверное, очень нравится, что вы дома и занимаетесь ею. А когда она станет подростком, вы действительно будете ей очень нужны. Чем старше дети, тем больше они нуждаются в нас. А как вы относитесь к беременности? Я так счастлива, что беременна, — не знаю, отчего. Может, это что-то первобытное, атавизм? Поскольку сейчас вы не работаете, надеюсь, вы не заняты вечерами? А не приедете ли вы к нам на ленч? Я позвоню вам на следующий неделе и назначу день. Мне очень хотелось бы, чтобы вы поужинали у нас и увидели моих детей.
«Какого черта эта Диана думает, что я больше не буду работать?» — думала Фредди, ответив Диане дружелюбным взглядом. Фредди еще не приняла окончательного решения о своей работе в «Орлах». Чувствуя себя физически слабой, она сказала Свиду, что больше не вернется на работу, и своего мнения не изменила — просто оставила за собой право выбора. Ведь «Орлы» были для Фредди… ее детищем. О да, Диана — энтузиастка. Должно быть, она прекрасная мать. Фредди хорошо понимала это.
— Я пришел вас спасать, — сказал Фредди Бол, свояк Дианы, и, подняв Диану, уселся на ее стул. — Она уже говорила о радостях труда и восторгах брака? Нет? Вам повезло. — Он шлепнул Диану и отослал ее, потом повернулся к Фредди. — Я — муж Элейн, средней сестры, она отправила меня посмотреть, как вы себя чувствуете в материнских объятиях Дианы. Я знаю, о чем вы сейчас думаете: эта семья подавляет своей массой — я сам испытал то же самое, когда меня представили Вейцам. Я не мог говорить с ними… а их обожествление Дэвида! Слов нет, он прекрасный парень, но не всемогущий же Бог! Только не передавайте этого его сестрам и матери. Более того, надеюсь, вы понимаете, что не найдете с ними общего языка иначе, как поддакивая им. К примеру, возьмите нас: у нас с Элейн только двое детей, но мы собираемся на этом остановиться. Мы не играем ни в гольф, ни в теннис — немного плаваем, чтобы оставаться в форме. Мы — умеренные в этой семье. Мы любим камерную музыку, но никому этого не навязываем. Вы любите оперу? Еще лучше! — говорим мы, — любите концерты, слушайте симфоническую музыку; нравится балет — прекрасно, терпеть не можете балет — что ж, есть много областей, где можно приложить усилия: музеи, больницы — что угодно, лишь бы это было вам по душе. Самое главное — действительно влиться в общество, как вы считаете, Фредди? И еще важно иметь достаточно времени и денег, чтобы, влившись в общество, что-то давать ему, а не только брать.
— Согласна, — сказала Фредди, внимательно глядя на этого энергичного человека. — Совершенно согласна.
— Мы с Элейн чувствовали, что такая вы и есть, — удовлетворенно заметил Боб. — Мы очень надеемся, что вы с Дэвидом сможете приехать к нам пообедать на следующей неделе. У нас будут интересные люди: кое-кто из художников и музыкантов — все они просто мечтают встретиться с вами. Элейн позвонит вам завтра, чтобы договориться точнее. Думаю, вам понравится — вы раньше такого не видели. И помните, что я сказал вам о Вейцах: хоть мы и выглядим так же, но совсем не похожи на них.
«О нет! — подумала Фредди, когда Боба сменил Джимми, еще один зять. — Все вы одинаковы: добрые, милые, сердечные, преданные друг другу, счастливые, гостеприимные, активные, знающие свое место в жизни и то, что хотите получить от нее. Вы — надежная семья».
— Джимми, всем, кроме меня, удалось поговорить с Фредди, — сказала Сьюзен зятю, поднявшемуся ей навстречу. — А ведь она пришла ко мне, а не к вам. Больше никогда не разрешу вам без приглашения приезжать на обед.
Когда Джимми ушел, Сьюзен Вейц посмотрела на Фредди открыто и доброжелательно.
— Ну прямо как дети с новой куклой, — заметила она. — Удивительно, как это они не набросились на вас все сразу и не облизали ваше хорошенькое личико. Но они так рады видеть Дэвида счастливым, что вы не должны сердиться.
— По-моему, для сестер Дэвида солнце всходит только, когда он рядом, — проговорила Фредди.
— То же самое могу сказать о себе, — смеясь, согласилась Сьюзен. — Муж говорил, что я — преступница, но когда у вас три дочери и один сын — трудно быть беспристрастной. Особенно, если такой сын, как Дэвид.
— Да, — подтвердила Фредди. — Особенно Дэвид.
— Много лет я ждала, когда он наконец полюбит. Он все время говорил, что очень занят — какая чепуха! Я знала, что, встретив прекрасную девушку, он найдет время. По натуре Дэвид — не холостяк. Ну ладно, не буду вас смущать. Надеюсь, вы приедете на будущей неделе, Фредди? Обещаю, что девочек не будет, и мы сможем поближе познакомиться. Обещайте мне!
— Постараюсь, — ответила Фредди. — У вас прекрасные картины, миссис Вейц, — сказала она, оглядывая комнату.
— Благодарю вас, Фредди. Мы с мужем начали собирать коллекцию, но и после его смерти я покупала картины — это занимает меня.
Фредди взяла со столика серебряный шар, поднесла его к носу и понюхала.
— Вы сделали это сами? — спросила она.
— Почему? — с восторгом воскликнула Сьюзен. — Как вы догадались? У меня свой собственный, совершенно особенный способ приготовления ароматических смесей. Секрет моей матери. Никто и никогда не мог этого определить — все думали, что я их покупаю. Если вам нравится, могу показать. Это занимает много времени, но стоит того.
— О да, я понимаю, — сказала Фредди.
Виноградники в Шампани спят всю зиму и просыпаются не раньше конца февраля, когда из старых ран, оставшихся от прошлогодней обрезки в марте, появляется белый сок. Для жителя Шампани виноградные слезы — сигнал к началу нового сезона. Чистый клейкий сок, струясь, пробуждает новые силы: появляются почки, голые виноградные лозы пускают ростки. К концу марта почки превращаются в крошечные виноградные кисти. От «слез» до созревания проходит шесть-семь месяцев. Все это время те, кто выращивает виноград — будь то крестьянин, владеющий несколькими акрами земли, или хозяин — обладатель знаменитых марок, такой, как Поль де Лансель, — живут в постоянной тревоге, поскольку всецело зависят от капризов погоды: холода могут погубить урожай.
В конце октября 1951 года Поль и Ева наконец вздохнули с облегчением. Все лето Поль неустанно следил за винодельческими работами, и Еву поглотили заботы о замке и гостях, постоянно к ним наезжающих.
Урожай уже собрали во всей Шампани. Десятитысячная армия сезонных сборщиков винограда, состоявшая в основном из рабочих с шахт и заводов, прибывших из разных районов Франции, а также цыган и наемных работников, наконец отбыла, утомленная напряженной страдой. Во время сбора урожая работники отдыхали в общих спальнях, построенных специально для них крупными хозяевами. Пять раз в день их обильно кормили; перед ними стояли кувшины с красным вином. Каждый вечер они пели и плясали, посещали многолюдные ярмарки. Все остальное время, до самого захода солнца, сильные и здоровые люди работали в неудобной позе, согнувшись, иногда стоя на коленях и даже лежа на земле, если срезали созревшие кисти, висевшие у самой земли. Они делали это с величайшей осторожностью, чтобы не повредить нежные ягоды и не вызвать тем самым преждевременную ферментацию.
— Я чувствую себя как школьница, которая сдала все экзамены и может ни о чем не беспокоиться целых пять месяцев, — сказала Ева Полю за завтраком. — Но что интересно… мне все еще кажется, что я должна составлять расписание на будущую неделю.
— Ты и выглядишь как школьница, только усталая. Что тебе действительно нужно, так это подольше поспать. Позволь это себе. — Поль взял ее руку и нежно поцеловал. Ему нравилось смотреть по утрам на жену, еще не подкрасившуюся и не уложившую волосы. Без краски лицо пятидесятилетней Евы казалось Полю почти молодым.
— Все эти месяцы я вставала так рано, что это стало привычкой. Теперь мне даже не нужен будильник. Но вот что, дорогой, у меня есть для нас один план. День Благодарения мы проведем с Фредди в Калифорнии, Рождество и Новый год встретим с Дельфиной и Арманом на Барбадосе, а когда вернемся в Париж, я закажу себе новый гардероб у Баленсиаги. Я уже забронировала великолепный и очень дорогой номер в «Рице». Будем ходить в театры, музеи, рестораны… я собираюсь потратить все, что мы заработали. Я буду очень счастлива!
— Знатоки шампанского утверждают, что лучше всего пить его утром, а еще лучше — перед завтраком с яйцом-пашот[16].
— Звучит как лекарство от похмелья, — передернула плечами Ева и налила себе еще чая.
— Это годится и от похмелья, если шампанское смешать поровну с крепким портером… или с третью апельсинового сока, третью коньяка и двумя каплями куантро или гранатового сока — так я слышал.
— Давай не будем об этом, — сказала Ева.
— Конечно. — Поль чувствовал себя совершенно счастливым, сидя рядом с женой и глядя в окно на виноградники Ланселей, простиравшиеся до самого горизонта.
— Правда, замечательно наконец-то оказаться одним в Вальмоне? — сказала Ева. — Вчера, когда от нас уезжал этот английский писатель, наш последний гость, я была готова его расцеловать. Я уже договорилась, что, пока мы будем в отъезде, комнаты для гостей перекрасят, кроме того, я уже подобрала ткань для штор и покрывал. Коврами займемся в будущем году.
— Хочешь вместе со мной прогуляться верхом? Такая прекрасная погода, — предложил Поль.
— Нет, я уже давно собиралась заняться розами.
— А кто-нибудь из садовников не справится?
— Справится и ребенок, но я предпочитаю делать это сама.
— Моя мать тоже всегда сама ухаживала за розами, — сказал Поль. — Она говорила, что когда своими руками удобряет землю и укладывает розовые кусты осенью, то никогда о них не беспокоится, поэтому не доверяла этого никому другому.
— И она была права — как всегда или почти как всегда. Сейчас надену свой рабочий халат. Долой Баленсиагу! Блаженство! — Ева поцеловала Поля в макушку, где его густые волосы еще не поседели. — Приятной тебе прогулки. Увидимся за завтраком, дорогой.
Через три с половиной часа, когда часть розового сада была покрыта слоем мульчи, Ева приводила в порядок ногти в ванной. Вдруг в дверь решительно постучала экономка.
— Мадам! Мадам! Скорее идите в конюшню!
— Люси, что случилось? — спросила Ева, поспешив вниз по лестнице.
— Не знаю, мадам. Мальчик с конюшни просил вас скорее прийти туда.
Ева бежала к конюшне. «Упал, — думала она, — упал… Даже у таких прекрасных наездников, как Поль, такое случается».
Напротив открытой двери лежал Поль. Вокруг него стояли пять-шесть человек и смотрели на Еву каким-то виноватым взглядом, словно не осмеливались пошевелиться до ее прихода.
— Вы позвонили доктору? — крикнула она, даже не спросив, что произошло.
Мужчины с шапками в руках стояли неподвижно. Никто из них не шелохнулся.
— Вы что, не понимаете? Быстро отправляйтесь в дом! Звоните!
Молчание.
— Поль! Поль! — Ева обняла голову мужа. — Эмиль, ради Бога! Как он упал?
— Месье Поль, мадам… мы… это… мы ехали, вдруг он остановился и сказал, что у него заболела голова. Это случилось, как только мы выехали из леса. Он показал на затылок. Его нога выскользнула из стремени, он ухватился за поводья, но не успел я помочь ему, он… он… соскользнул с лошади и упал на землю… так, как вы сидите сейчас, вот так. Я подложил ему под голову попону.
— О Господи, почему же вы перенесли его! Так же нельзя!
— Нет, мадам! Я ни за что не стал бы его трогать, если бы не знал… что он уже…
— Уже? Что уже! Вы спятили, Эмиль! Позовите доктора!
— Я позвал бы, мадам, позвал бы, но доктор не поможет… он ушел, мадам.
— Ушел?
— Да, моя бедная мадам. Он покинул нас.
В полном замешательстве, еще не осознав до конца того, что произошло, Ева приняла единственное решение: похороны Поля состоятся только тогда, когда все дети соберутся в Вальмоне. Приехав из Парижа через несколько часов, Дельфина сказала, что позвонит Фредди и Бруно. Ева была в шоке. Она молча, без слез бесцельно ходила по комнатам, иногда останавливаясь и подолгу глядя в окна так, словно видела все впервые, гладила резные рамы картин холодными пальцами, отсутствующим взглядом рассматривала рисунки на вышитых подушках. Казалось, Ева пытается найти объяснение тому, что произошло.
Фредди предстоял долгий путь. Она должна была лететь самолетом из Лос-Анджелеса в Нью-Йорк, а там пересесть на самолет Эр-Франс до Парижа с остановками в аэропортах Гандер и Шэннон. В Париже Фредди встретит Арман и отвезет ее в Вальмон.
Свид Кастелли доставил Фредди в аэропорт. Когда на нее обрушилось горе, Фредди поняла, что единственным близким ей человеком в Лос-Анджелесе был Свид… Это не менялось все пятнадцать лет, что они знали друг друга.
— Послушай, Фредди, постарайся в самолете немного поспать. Ты выглядишь совершенно разбитой, — сказал Свид, когда она шла на посадку. Фредди посмотрела сквозь стекло на гигантский четырехмоторный «Локхид», стоявший на летном поле. Открытый багажный отсек медленно заполнялся багажом.
— Свид, здесь есть бар? — вдруг спросила Фредди.
— В аэропортах всегда есть бар. Поищем?
— Пожалуйста.
Фредди и Свид молча выпили по порции шотландского виски.
— Еще? — спросил Свид. Фредди кивнула.
— Почему виски в баре совершенно не действует? Наверное, его сильно разбавляют водой, — предположила Фредди после второго стакана.
— Обычно в виски наливают половину воды, а потом добавляют кубики льда. В этом стакане, скорее всего, лишь четвертая часть виски. Давай закажу еще. Тогда ты точно уснешь во время полета.
— Хорошая мысль.
Свид никогда не видел, чтобы Фредди пила три стакана спиртного подряд, да еще до одиннадцати утра, но понимал, что так она пытается справиться с волнением.
Фредди пила быстро и мрачно. Полет будет долгим и мучительным. Она знала, что в самолете ей предложат еды и питья больше, чем надо, но, против обыкновения, хотела ощутить действие виски именно сейчас. Если бы она летела не одна…
Если бы Дэвид мог оставить пациентов, он был бы надежным спутником, но она лишила себя этой возможности, сказав ему, что не выйдет за него замуж, сколько бы времени он ни дал ей на размышление. Дэвид подумал, что на ее ответ повлияла встреча с его семьей, которая восприняла их брак как дело решенное и сочла необходимым включить Фредди в свою четко организованную жизнь.
— Ты же знаешь, что вольна поступать как захочешь. Я никогда не позволю им вмешиваться в твою жизнь, — говорил Дэвид с болью в голосе.
Фредди объяснила, что дело вовсе не в этом. Пройдя дрессировку у шестнадцатой баронессы Лонбридж, Фредди вовсе не опасалась, что Вейцы, будь их и намного больше, смогут ограничить ее свободу. Поняв, что их брак считают предрешенным, она вдруг ясно поняла, что не любит Дэвида, по выражению французов, любовью романтической. Фредди любила Дэвида и будет любить всегда как хорошего человека, прекрасного доктора, преданного друга, но это не романтическая любовь. Он будет великолепным мужем, сознавала Фредди, но для нее этого мало. И все же ей хотелось, чтобы сейчас Дэвид оказался рядом. Может, он сумел бы объяснить, почему ее отец, обладавший исключительным здоровьем, внезапно умер от какой-то аневризмы. По словам французского врача, произошла частичная закупорка артерии в мозгу и удар мог поразить отца в любую минуту без всякой предшествующей симптоматики.
— Нам пора идти на посадку, — сказал Свид.
Фредди посмотрела на часы.
— Зачем спешить? У нас есть еще минут десять, — возразила она. — Не улетят же они без меня?
— Ты давно летала коммерческим рейсом? — спокойно спросил Свид.
— Давно, даже не помню, когда.
— Если они намерены прилететь вовремя, им придется лететь без тебя. Давай, маленькая леди, пора идти.
— Маленькая леди?
— Случайно вылетело. Прости.
— Ладно, неважно. — Фредди взяла с тарелки орех и стала задумчиво жевать его.
— Фредди, ты идешь?
— Всему свое время. — Фредди аккуратно поправила пальто, проверила билет, будто не делала этого пять минут назад, и медленно поплелась за Свидом, как ребенок, впервые идущий в школу.
Но Свид не сердился на нее. Будь это даже обычной поездкой, для Фредди она чертовски трудна, а отправляться на похороны отца и вовсе тяжко и горько. Он крепко обнял Фредди у выхода на летное поле и с удивлением почувствовал, как тесно она прижалась к нему. Свид отдал Фредди дорожную сумку и легонько подтолкнул ее к контролеру. Фредди побрела к «Локхиду» — одинокая, ссутулившаяся фигура на порывистом ветру. Она шла так медленно, словно располагала запасом времени, хотя на самом деле оказалась последним пассажиром.
Фредди села у иллюминатора. Отдать пальто стюардессе она отказалась, потому что продрогла до костей. Ее знобило, хотя в салоне было не холодно. Пассажиры, в основном мужчины, ослабили галстуки и приготовились к полету.
Фредди заметила, что рядом с ней свободное кресло. Она достала из дорожной сумки книгу, пристегнула ремень и, раскрыв книгу, прочла несколько строк. Но она не могла вникнуть в смысл. Фредди снова перечитала строки. Нет, ее мозг отказывался воспринимать информацию.
Фредди закрыла глаза и внимательно прислушалась к шуму двигателей. «Звук довольно ровный», — подумала она, откинувшись в кресле и глядя в иллюминатор. Крыло было далеко позади, и пропеллеров не было видно. Фредди постаралась убедить себя, что все в порядке и механики, проверявшие самолет, сделали свое дело добросовестно и точно, не спеша, не упуская из виду даже мелочи. Она внушала себе, что пилот, его помощник и бортинженер — опытные, компетентные люди, настоящие профессионалы, надежно обеспечивающие безопасность пассажиров.
«Ты слишком много знаешь», — сурово сказала себе Фредди; книга незаметно соскользнула на пол. Не будь Фредди летчицей, она волновалась бы меньше. Недаром врачи отказываются оперировать близких, а адвокаты не защищают в суде свои интересы. Господи, не надо было пить!
Открыв глаза, Фредди увидела, что стюардессы, пристегнувшись, сидят в своих креслах. Самолет еще не оторвался от земли, он стоял в самом конце взлетной полосы. Сейчас в кабине экипаж выверяет предполетный лист перед тем, как начать взлет. Мысленно, шаг за шагом, Фредди проделывала это вместе с ними. Когда мощная машина начала набирать скорость, чтобы оторваться от земли, она подумала: «Рано, слишком рано». Они слишком быстро проверили предполетный лист — в этом она не сомневалась, но некому было сказать об этом. Фредди хотелось закричать во все горло, что эти бестолковые, рассеянные пилоты подвергают опасности пассажиров, потребовать, чтобы отложили взлет и снова проверили лист. Слишком рано! Но они уже оторвались от земли, которая медленно удалялась. Самолет сделал круг над аэропортом. Угол наклона был слишком крутым, опасно крутым, намного круче, чем следует. В такой ситуации в любую минуту можно потерять скорость. Понимают ли это ковбои, сидящие за штурвалом? Самолет выровнялся и стал набирать крейсерскую высоту. Слишком быстро набирают, гораздо быстрее, чем надо. Какого черта они так торопятся! Разве они не понимают, что слишком большой угол атаки? — совершенно обезумев, думала Фредди. — Кто позволил летать этим ублюдкам? Кто учил их летать? Может, это отчаянные мальчишки (она слышала, что старых командиров отправляют на пенсию), которые не были на войне и не налетали достаточно часов, чтобы научиться пилотированию.
Фредди отстегнула ремень и нажала кнопку вызова стюардессы.
— Принесите мне, пожалуйста, двойной виски без льда.
— Хорошо, миссис Лонбридж. Может, еще что-нибудь? Журналы, газеты? Для нас большая честь принимать вас на борту самолета. Скоро подадим ужин. Вместе с виски я принесу вам меню.
— Нет, благодарю вас, только виски.
«Черт побери! Эта проклятая стюардесса знает, кто она такая», — подумала Фредди, стараясь разжать пальцы, которыми вцепилась в подлокотники кресла. Пот струйками стекал по телу, волосы стали влажными, но Фредди было так холодно, что она не снимала пальто. Сердце тяжело билось, и Фредди не могла сделать глубокий вдох. Она впервые в жизни чувствовала страх высоты. Не хватало воздуха! В этом был весь ужас. Черт возьми, нет воздуха! Ей нечем дышать! Огромный самолет высоко в небе — без капли кислорода! Только слабая струйка воздуха свистела над ее креслом. Уж не думают ли они, что люди могут часами обходиться без свежего воздуха? Господи, чего бы только она ни отдала, чтобы приоткрыть иллюминатор и впустить хоть немного чистого воздуха в этот загерметизированный салон с его отвратительным интерьером, слишком огромный для самолета и слишком маленький для мятущихся человеческих душ.
Самолет двигался тяжело, четыре двигателя громко ревели. Фредди поняла, что мотор неисправен. Что-то где-то не так, какая-то из сотен жизненно важных деталей, которые Фредди отчетливо себе представляла и могла назвать, вышла из строя, ее нужно исправить, иначе они погибнут.
Фредди снова вызвала стюардессу.
— Слушаю вас, миссис Лонбридж.
— Я должна поговорить с командиром корабля. Это срочно. Срочно!
— Не знаю, сможет ли он подойти к вам сейчас же, но я спрошу.
Целую вечность, сощурив глаза, Фредди внимательно прислушивалась к работе неисправного двигателя. Удар, потом затрудненное дыхание, икота — все, что способен услышать пилот, если он умеет слушать.
— Миссис Лонбридж?
Фредди посмотрела вниз на пару начищенных туфель и синие форменные брюки.
— Командир?
— Да, мэм. Вас что-то беспокоит?
— Какая-то неисправность в одном из левых двигателей. Вы не слышите?
— Нет, миссис Лонбридж. Они работают прекрасно. Я только что проверял.
Он что, глухой, со злостью подумала Фредди, быстро взглянув на капитана. Перед ней был человек средних лет, безусловно, старший летчик, профессионал, прошедший через многие испытания. Беглого взгляда было достаточно, чтобы это понять. Где угодно она узнала бы такого человека.
— Простите, командир. Должно быть, мне показалось. — Фредди заставила себя улыбнуться. Он не должен догадаться, он не должен догадаться, думала она. Это было бы слишком стыдно.
— Все в порядке, миссис Лонбридж. Будем рады, если зайдете в кабину после ленча.
— Спасибо, командир. Я хочу вздремнуть.
— Заходите в любое время, только предупредите стюардессу.
Отказавшись от ужина, Фредди попросила одеяло, подушку и порцию виски. Нужно расслабиться, говорила она сидевшему в ней и сводившему ее с ума страху. Он проник в ее мозг и окопался в нем, повергая Фредди в панику. Когда Фредди закрывала глаза, ей становилось еще хуже. Лучше уж видеть людей, с удовольствием поглощающих ужин. Пока она может сосредоточиться на этом, самолет не упадет, — не могут же они есть, находясь на краю гибели!
Вдруг Фредди задохнулась от ужаса: самолет вошел в облако. Опасно, Боже, как опасно!
Когда самолет еще глубже погрузился в серую массу, Фредди внезапно вспомнила последние минуты перед катастрофой в Каталине. Да, тогда она посмотрела на альтиметр и увидела: высота достаточна, чтобы совершить посадку. Но она не связалась с близлежащими аэропортами и не узнала об изменении атмосферного давления после ее вылета из Бербанка. Любой новичок в летном деле знает, что это необходимо сделать, поскольку с момента вылета прошло много времени и она не раз меняла высоту. Ни один пилот, кроме такого нахального, дерзкого и самоуверенного, как она, не забывает об элементарной осторожности. Если Фредди могла забыть об этом, то в трудный момент и в дурном настроении об этом способен забыть каждый: даже этот выдержанный командир, с которым она только что говорила, и старший летчик на международных линиях. В небе не бывает безопасно. Нельзя, нельзя кричать!
25
После похорон Поля де Ланселя сотни людей, пешком провожавших его в последний путь до деревенской церкви, вернулись в Вальмон, чтобы выразить сочувствие вдове и детям покойного. К вечеру все разошлись, и Ева с дочерьми наконец остались одни, совершенно измученные этим днем, когда приходилось принимать соболезнования, смотреть на печальные лица, еще не осознавая до конца необходимости поддерживать друг друга.
Весь этот трудный день Бруно был рядом с ними. Он стоял, опустив глаза; его внушительная внешность, серьезное, непроницаемое лицо с орлиным носом, достоинство, с которым он пожимал протянутые руки, отвечая на слова утешения, внушали уважение друзьям и соседям Поля де Ланселя. Дельфина и Бруно поздоровались сдержанно и спокойно, как дальние родственники. Оба живо помнили свою последнюю встречу на обеде у генерала Штерна, но скрывали свои чувства. У Дельфины это было профессиональным навыком, у Бруно — врожденным свойством. Можно было подумать, что все забыто, но они были умны и понимали — такое не забывается, не прощается, не обсуждается.
Ева просто не замечала Бруно. Она не подала ему руки и ни разу не взглянула на него. Она не игнорировала его, ибо это означало бы проявить к нему отношение, хоть и недоброжелательное. Но для нее Бруно не существовал, и она ни жестом, ни взглядом не показала, что видит его. Ева делала это так органично, что никто, кроме Бруно, ничего не заметил.
Теперь, когда с формальностями покончили, Бруно вышел из замка и направился в лес. Арман Садовски повез Тони Лонбриджа и его родителей в Реймс, откуда они должны были поездом отправиться в Париж. Джейн, оставшаяся на ночь, поднялась наверх вздремнуть.
— Ты уже думала… о том, что будешь делать теперь? — наконец осмелилась спросить Дельфина Еву. Она не могла оставить мать одну, пока та не определит своего будущего, но через неделю Дельфине предстояло начать сниматься в новом фильме Армана.
— Да, думала, — многозначительно ответила Ева.
Фредди и Дельфина удивленно переглянулись. До этого момента их мать, погруженная в горе, казалась отрешенной и отчужденной от всего происходящего. Ева не утратила самообладания и не плакала, как этого опасались дочери. Но, избегая их общества, она почти все время проводила одна в своем розовом саду, заканчивая работу, начатую перед смертью Поля.
— Я хочу осуществить план, который мы с отцом составили на зиму, — спокойно ответила она. — Если бы умерла я, мне хотелось бы, чтобы Поль поступил так же. Я полечу с тобой, Фредди, потом присоединюсь к Дельфине и Арману на Барбадосе. После рождественских каникул вернусь в Париж и сделаю там все, как мы планировали: закажу в «Рице» номер поменьше. Ранней весной вернусь сюда, где я нужна. Пока виноградники спят, я могу путешествовать, но когда они проснутся — мне надо быть дома.
— Но… сможешь ли ты вести дело… одна? — спросила Дельфина.
— Я буду не одна, дорогая. Почти все, кого мы нашли здесь, приехав после войны, остались и работают. Правда, некоторые из тех, кого угнали в Германию, не вернулись, кого-то, например, троих братьев Мартэн, управляющих винным погребом, замучили в гестапо, но их заменили другие члены этой семьи. Все эти люди соберут новый урожай и приготовят новое вино. Мне же останется нанять управляющего и еще кого-то, кто сможет руководить «Домом Ланселей», как это делал ваш отец. Я найду лучшего специалиста в Шампани, даже если придется переманить его из конкурирующей фирмы. Не забывайте, я кое-чему научилась в этом бизнесе за последние шесть лет: это был жестокий урок и для меня, и для вашего отца. Если бы наш «Дом» или любая Великая Марка всецело зависели от определенных людей, думаете, долго они просуществовали бы? Шампань воспитывает мужественных вдов, Дельфина.
— Мама, как ты можешь так говорить!
— Это — правда. Почитай историю виноделия и все поймешь. Это научит тебя трезво смотреть на вещи. Надеюсь, что будущим летом вы навестите меня вместе с детьми — в конце концов, Вальмон теперь принадлежит вам, а не мне. — Хотя в голосе Евы и слышались слезы, он был сильным и решительным.
Голые виноградники в окрестностях Вальмона весной снова будут плодоносить, как это происходило веками, из года в год. Этот стихийный и неизменный процесс позволял смело заглянуть в будущее и представить его без Поля. Без виноградников Ева пропадет, она никогда не расстанется с ним.
— Что до меня, — сказала Фредди, — я не претендую на Вальмон и не представляю себя его хозяйкой.
— Это так. У тебя есть Энни. Когда завтра нотариус зачитает завещание, сюрпризов быть не должно. Одна треть отойдет мне, остальные две трети по закону разделят между тобой, Фредди, Дельфиной и… Бруно. После моей смерти «Дом Ланселей» будет принадлежать вам троим, а потом вашим детям. Если никто из вас не захочет заниматься этим бизнесом и вести дело, помните: его всегда можно продать. В Шампани нет недостатка в покупателях.
— Какие ужасные вещи ты говоришь, мама, — запротестовала Дельфина.
— Нет ничего ужасного в разговоре о смерти, дорогая. Это неприятно, потому что заставляет тебя осознать, что ты не будешь жить вечно, но когда речь идет о земле — это в порядке вещей. В любом случае, шампанское Ланселей будет всегда — кому бы ни принадлежала земля. Пока здесь выращивается виноград, это имя бессмертно.
Ева нежно улыбнулась дочерям. Много часов провела она в розовом саду, чтобы обрести силы продолжать жизнь без Поля. Однако Ева понимала, что никакие планы не облегчат ей боль утраты. Это плата за огромную любовь.
* * *
Бруно сел на поваленное дерево на лесной поляне, освещенной косыми лучами солнца. Он испытывал совершенно новое ощущение: в его жизни наступил момент, когда он мог сказать себе: «Все идет как нельзя лучше». Предстояли хорошие события, и он видел их так же ясно, как этот лес, и это приводило его в восторг. Но не стоит спешить, стараться приблизить земные радости, которые осуществятся благодаря смерти отца. Сейчас достаточно думать о Мари де Ларошфуко. Менее трех недель назад, на своем дне рождения, она призналась, что говорила о нем со своими друзьями. Она дала понять, что любит его. Такая девушка, как Мари, не могла сказать большего.
После этого вечера Бруно часто встречался с ней. Теперь он знал ее истинные чувства и понимал, что, хотя Мари по-прежнему вела себя аристократически сдержанно, в своей обычной несколько старомодной манере, она с трепетом ждала ответа на свое чувство. Ей удавалось скрывать нетерпение и держаться так, словно она еще не выдала себя, оставляя Бруно в беспокойстве и неуверенности, как это было с момента их первой встречи.
Теперь стоит ему только попросить, и Мари де Ларошфуко будет принадлежать ему! Охваченный радостью, Бруно вытянул ноги. Как только Мари почувствовала, что может потерять его, он начал воспитывать в ней послушание, как когда-то обещал себе. Он поддразнивал ее, заставлял ждать, надеяться, шаг за шагом сокрушал ее обычную уверенность в себе. Бруно сознательно очаровывал ее, чтобы она влюбилась в него еще сильнее. На прошлой неделе глаза Мари уже выдавали ее чувства. Когда ей казалось, что Бруно не обращает на нее внимания, ясные серые глаза смотрели на него с тоской. Заметив это, Бруно становился отчужденным и холодно-любезным на полчаса, но этого времени оказывалось достаточно, чтобы смутить и взволновать ее. Тогда она спрашивала, что случилось. Перед тем как пришла весть о смерти Поля де Ланселя, Мари была уже во власти Бруно. Если бы захотел, он мог бы довести ее до отчаяния, и это заставляло его торжествовать. Но, осознав свою власть над ней, он потерял охоту ее проверять.
Если ничто не помешает его возвращению во Францию, то сразу же по приезде в Нью-Йорк он объявит об их помолвке, решил Бруно. В Париж они полетят уже вместе, пробудут там несколько недель, и он познакомится с родственниками Мари. Ее мать начнет приготовления к пышной свадьбе, на которую соберутся представители двух знатных и благородных родов, к которым они принадлежат. Бруно надеялся, что свадебная церемония состоится весной, довольно скоро, и в назначенный срок Мари станет несравненной виконтессой Бруно де Сен-Фрейкур де Лансель. Она будет жить, чтобы радовать его и продолжить его род.
Но только не здесь, в Шампани. Ему никогда не хотелось вернуться в Вальмон. Только эта смерть, которой он так долго ждал и о которой молился, заставила его приехать в эту провинцию, но только на день. Эта жизнь, заполненная сельскими заботами и тревогами, не для него. Пусть кто-то другой управляет Вальмоном, он же претендует лишь на причитающуюся ему по закону часть прибыли «Дома Ланселей».
«Наверное, пора возвращаться», — подумал Бруно, чувствуя, как неприязнь портит ощущение его полного счастья. Ему совершенно не хотелось идти в замок и расставаться с мыслями о том, что все, чего он когда-то желал, стало наконец таким близким и реально осуществимым; однако лесной воздух был сырым и холодным. «Все идет как нельзя лучше», — повторил он про себя, зная, что это мгновение будет возвращаться к нему вновь и вновь. Повеял легкий ветерок, и Бруно услышал позади себя шорох листьев.
Большая мускулистая рука грубо зажала ему рот и резко запрокинула голову назад, другая зверски сжала горло. Еще две руки больно заломили руки Бруно за спину и связали их, а потом резко поставили его на ноги и толкнули вперед так, что он должен был либо упасть, либо идти. Нападавшие шли позади Бруно так близко, что он ощущал на затылке их дыхание.
— Ты не должен был возвращаться, — тихо сказал незнакомый мужской голос. — Никогда не следует возвращаться на место преступления. Разве ты этого не знаешь?
— Помнишь трех Мартэнов? Людей, которых ты выдал гестапо? Мы — их младшие братья, — прошептал второй голос, едва слышный из-за шуршания опавшей осенней листвы.
Третий заговорил так же тихо:
— Мы приходили за тобой в тот день, когда твой отец вернулся с войны, но ты исчез.
— Мы дадим тебе урок, — обронил первый. — Шагай!
Охваченный ужасом, Бруно понял лишь то, что они идут в направлении погреба. Нигде не было видно ни души. Огромная рука, больно сжимавшая его челюсть, не давала Бруно произнести ни слова.
— Ты думал, тебе удастся выйти сухим из воды, да? Считал, что тебе удалось уничтожить людей, знавших о «Трезоре».
Как безумный, Бруно затряс головой.
— Не отпирайся. Мы знаем, что это был ты, — беспощадно прошептал ему в ухо третий голос.
— Был еще один ключ, — продолжал второй. — Он принадлежал моему брату Жаку, старшему из Мартэнов. Твой дед доверял ему, как и другим. Кроме твоего отца, ключ был только у тебя. За всю историю Вальмона никогда не существовало больше трех ключей от «Трезора.»
— Однажды ночью Жак заметил колонну немецких грузовиков недалеко от погреба. Он тайком пошел за ними и увидел, как солдаты перетаскивают шампанское в грузовики. На следующий день он отправился в «Трезор» и обнаружил, что погреб опустел. Жак испугался, что обвинят его или наших братьев, но вдруг понял, что единственный, кто мог выдать этот секрет немцам, — ты. Все это он рассказал нам и отдал ключ на хранение.
— Когда гестапо пришло за нашими братьями, — продолжал он леденящим душу шепотом, — мы поняли, что это ты выдал их. Тогда мы не могли действовать, потому что твои друзья-нацисты прикрывали тебя. После войны твой отец никогда и ни с кем не говорил о «Трезоре». Он знал имя вора. Мы понимали его позор и уважали его горе, но знали, что однажды ты вернешься. Наверное, он тоже об этом знал.
Теперь они вошли в огромные погреба, заполненные винами. Там не было ни одного рабочего. Они быстро прошли к дальней стене с потайной дверью, ведущей в «Трезор». Бруно неистово сопротивлялся, но не мог вырваться из этих сильных рук. Один из мужчин нажал на побеленную поверхность, и стена повернулась. Замок на потайной двери сверкнул так же ярко, как в тот день, когда дед Бруно впервые посвятил его в тайну Вальмона. Ключ вставили в замочную скважину, и дверь «Трезора» широко распахнулась.
Один из Мартэнов включил свет и опустил толстые, подвешенные на петлях блоки, полностью заглушавшие шум.
Все трое проволокли Бруно через просторный пустой погреб. Поняв все, он помертвел. Братья прислонили Бруно к стене, потом быстро отошли к электрощиту, сняли с плеча ружья и прицелились.
Раздались три выстрела. Мартэны медленно подошли к телу, лежавшему на цементном полу. Один из них ногой повернул Бруно и взглянул на невидящие глаза и раскрытый для крика рот. Бруно умер еще до того, как упал на пол. Другой брат достал кусок бумаги, на котором быстро написал: «Расплата».
— Он заплатил сполна, — медленно произнес он и положил бумагу на грудь Бруно.
Братья повернулись и пошли, снова повесив ружья на плечо.
Когда дверь «Трезора» закрылась за ними, один из Мартэнов сказал:
— Завтра мы должны послать ключ в полицию и сообщить, где находится этот… Расследования не будет… когда они прочтут записку. Иначе нельзя поступить… ведь мадам де Лансель начнет поиски, а его все равно не найдут.
— Его не должны хоронить в Вальмоне, он осквернит его, — заметил другой.
— Согласен, — отозвался третий Мартэн. — Плохо, когда люди не боятся возмездия. Этот и так слишком долго жил.
* * *
Дельфина и Арман уговорили Еву немного отдохнуть перед обедом и вместе с ней поднялись наверх, а Фредди и Джейн остались внизу в маленькой гостиной. Они пытались поговорить о той жизни, которая кончилась пять лет назад, когда Фредди и Тони решили уехать в Лос-Анджелес.
— Я очень горевала, когда вы уехали, — сказала Джейн. — Какой прок от невестки, которая живет так далеко.
— Но ведь теперь Тони вернулся обратно, — заметила Фредди. — И поверь мне, сейчас он выглядит гораздо лучше, чем когда я его видела в последний раз. То, что он снова поселился в Лонбридже, очень изменило его. И эта славная девушка, на которой Тони хочет жениться… и то, что он бросил пить… Я рада за него.
— Если бы можно было выбирать, я предпочла бы тебя — с меня довольно и других братьев. О, дорогая, вы оба здорово запутались. Ужасно обидно! И вообще, бывают ли долговечными фронтовые браки? Я так рада, что тогда не стала спешить. — Она улыбнулась, довольная собой, как женщина, добившаяся в жизни полного успеха. — Только подумай, Фредди, тогда бы я наверняка не встретила моего дорогого Хамфри, у меня не было бы моих любимых детей. Я никогда не стала бы маркизой. Конечно, это увлекательная лотерея, но можно было так и не встретить никого порядочного и проиграть. Да, это очень здорово, что я не стала фронтовой невестой. Что ни делается — все к лучшему!
— Да ты и не собиралась становиться фронтовой невестой, Джейн, я это прекрасно помню, — возразила Фредди. — Что ж ты теперь сидишь здесь и с таким гадким самодовольством говоришь, что избежала судьбы, которой сознательно избегала!
— Если бы Джок сделал мне предложение, я согласилась бы в ту же минуту и помчалась бы за ним в пустынные пески дикой Калифорнии, как бедный старина Тони.
— Не выдумывай, Джейн! У вас с Джоком не было никакого романа.
— Не сыпь мне соль на раны, — попросила Джейн.
После блестящего замужества озорства в ней поубавилось, хотя в остальном оно не изменило ее.
— О чем ты говоришь? — озадаченно спросила Фредди. Джейн обычно фантазировала — ее реальная жизнь превосходила самые смелые фантазии.
— А ты никогда не догадывалась? Мне и не хотелось, чтобы кто-то знал об этом. Это ужасно: до смешного влюбиться в человека, которого ты совершенно не интересуешь, и стать объектом всеобщей жалости.
— Ты была влюблена в Джока Хемптона?
— Несколько лет. И ты не должна говорить об этом скептически… это свидетельствует о моем вкусе, а у меня, с вашего позволения, прекрасный вкус, миссис Лонбридж. Я была влюблена в этого прекрасного человека дольше, чем можно предположить, и никак не могла справиться со своим чувством, пока не встретила Хамфри. Кажется, я всю жизнь буду немного влюблена в этого великолепного белокурого Тарзана.
— В этого головореза? В этого ковбоя? В этого безответственного слабоумного болвана? — с удивлением и злостью спросила Фредди. — Нет, Джейн, скажи, что это не так.
— Да нет же, все именно так. И как это было! Я сомневаюсь, что ты вообще разглядела Джока, но это не имеет значения, это дело вкуса. Согласись, Фредди, что первая любовь остается в нас навсегда.
— С этим я не спорю. — В голосе Фредди прозвучала тоска, она с горечью подумала о том, что никогда не вернется. — Почему же ты так и не завязала отношений с Джоком? Ты даже не флиртовала с ним… а ведь ты одна в Британской империи была способна на самый бесстыдный и отчаянный флирт! Что тебя останавливало?
— Ты, — ответила Джейн.
— Я? — поразилась Фредди. — Таких лживых слов я еще никогда не слышала! Как я могла помешать тебе? Почему я мешала тебе, скажи, ради Бога!
— Не ты сама, глупышка, — просто Джок так безнадежно влюбился в тебя, что не было ни малейшей возможности даже привлечь его внимание, не то что флиртовать с ним. Он все время старался увидеть тебя или, того хуже, не смотреть на тебя, и мне стало все ясно. Боже, как больно было наблюдать за ним! Я чувствовала себя страшно униженной, видя, как Джок сохнет по тебе, когда я схожу с ума по нему, а эта парочка, Фредди и Тони, двое счастливых, поглощенных друг другом юных любовников, ничего не замечала вокруг. Ах, любовь! Но я уже сказала: что ни делается, все к лучшему, по крайней мере, для меня. Ты не представляешь, как мне искренне жаль, что у вас с Тони не сложилось. А как дела у Джока?
— Джок? О, ты же его знаешь, у него… все прекрасно… он здоров.
— Бедняга Джок, все так же держит факел… ради тебя… как статуя Свободы, не правда ли? Тони сказал мне, что заметил это несколько лет назад. Но… насильно мил не будешь, правда?
— Что?!
— Я сказала… да ладно, не имеет значения. По-моему, ты думаешь совершенно о других вещах. Налить тебе выпить, крошка?
— Что?
— Налить тебе выпить? Хочешь? Фредди! Фредди! Сколько пальцев я тебе показываю?
— Что?
— Схожу за выпивкой, а ты посиди здесь, Был трудный день. Я рада, что осталась… нужно, чтобы кто-нибудь позаботился о тебе.
Вечером следующего дня четыре офицера из полицейского управления Эперней прибыли в Вальмон. Они попросили экономку доложить мадам де Лансель о том, что им, конечно, неловко тревожить ее в такое время, но приходится провести расследование по анонимному письму. Это связано с одним из ее винных погребов.
— Пожалуйста, выполняйте свой долг, — авторитетно заявила Люси. — Мадам де Лансель скажет вам то же самое, иначе я не стала бы сейчас беспокоить ее.
Полицейские отправились в погреба с ключом и картой, на которой было отмечено, как найти тайную дверь в «Трезор». Все это рано утром оставил неизвестный в полицейском участке. Через пятнадцать минут они с трепетом и удивлением увидели, как открывается дверь «Трезора». Один из полицейских на ощупь нашел выключатель. Лампы осветили огромное пространство, совершенно пустое, если не считать тела, лежавшего на полу. Подойдя к нему, трое из четверых полицейских — те, что всю войну были в Эпернее, — узнали Бруно. Пока они в минутном замешательстве стояли рядом с трупом, один из них, старый офицер, наклонился и взял с груди Бруно записку. Он молча прочитал ее и передал другому. Остальные так же молча прочитали записку, а трое знавших Бруно понимающе переглянулись.
— Что будем делать, капитан? — спросил самый молодой.
— Перенесем тело в замок, а в участке скажем, что произошел несчастный случай, сынок.
— Несчастный случай, капитан?
— Тебя не было здесь во время войны, Анри. Многие люди имели веские причины желать смерти этого человека. Как знать, кто это сделал? Кто признается в этом? Это невозможно, Анри. Расследования не следует проводить. Прислушайся к моим словам, если хочешь научиться чему-нибудь полезному. Этот несчастный случай должен был произойти.
— Ну, если вы так считаете, капитан…
— Да, Анри. Мы все так считаем.
— Не могу понять, почему полиция считает смерть Бруно несчастным случаем на охоте, — сказала Фредди. — Я просто в шоке. Разве они не понимают, что его убили — ведь Бруно нашли после того, как получили анонимное письмо, — что же еще могло произойти? Они даже не собираются проводить расследование. Лично я не испытываю особого горя из-за смерти Бруно, но все-таки, что происходит? Неужели никого, кроме меня, это не удивляет?
Фредди, Ева, Дельфина и Арман только что вернулись, спешно исполнив формальности, связанные с похоронами Бруно, и сидели на террасе, старые камни которой еще хранили летнее тепло.
— Это не было ни убийством, ни несчастным случаем, — сказала Ева, обняв Фредди за плечи. — Это исполнение приговора.
— Что?! Исполнение приговора? Да что это значит? И с каких пор приведение в исполнение приговора частными лицами считается законным? Почему никто из вас… как бы это сказать… не удивлен? Да, именно так! Когда тело Бруно принесли домой, это потрясло только меня, а вы все вели себя так, будто ожидали чего-то подобного. Но вы же не могли этого предвидеть! Да и вообще, кто мог подумать, что Бруно умрет такой ужасной смертью, отправившись в лес на прогулку!
— Дорогая, ты ведь видела монумент в центре Эпернея? — спросила Ева.
— Да, но какое это имеет отношение к моим словам?
— Это — дань памяти погибшим солдатам, Фредди. На нем выбиты имена двухсот восьми мужчин и женщин — участников Сопротивления, погибших в этом маленьком районе от рук гестапо или в концлагерях. Некоторые из них работали в Вальмоне. Полиция поняла, что смерть Бруно связана с гибелью этих людей. Он сотрудничал с фашистами.
— Ты знала об этом? — Дельфина повернулась к матери, в изумлении прикрыв рот рукой.
— Об этом рассказал мне ваш отец, но только мне. Он понимал, что сын обесчестил его имя, но скрывал это от всех, даже от вас. Однако мы оба понимали, что нам известно немногое. Кто может сказать, что этот дьявол Бруно делал во время оккупации? Три мрачных года после смерти деда он жил один в Вальмоне. У многих людей были причины воздать ему по справедливости.
— Но ведь война закончилась шесть лет назад, — возразила Фредди.
— Сразу видно, что ты не жила в оккупированной стране, Фредди, — сказал Арман. — Шесть лет — это ничто. Даже если бы Бруно вернулся через десять или двадцать лет, те, кто привел приговор в исполнение — кто бы они ни были, — все равно ждали бы его. Это могли быть даже сами полицейские или люди, которых они знают, их родственники или друзья. У полиции есть свои причины не расследовать это убийство.
— Ты тоже о чем-то подозревала, Дельфина? — спросила Фредди. — Ведь тебе приходилось встречаться с Бруно во время войны. У тебя нет предположений о том, что могло произойти?
— Нет, никаких. Бруно был всегда… корректен… со мной, — безмятежно ответила Дельфина, держа Армана за руку. Те события канули в прошлое, их лучше похоронить. А обеда у генерала фон Штерна, казалось, и вовсе не было. Она никогда не соглашалась надеть на себя бриллианты, чтобы снискать расположение в генеральском доме на улице Лилль. За что бы ни убили Бруно, Дельфина была убеждена, что он заслужил это. Никто из них — ни Фредди, ни мать, ни даже Арман — не могут до конца представить себе, что значит жить при оккупации. Тем, кто уцелел, лучше забыть обо всем. Слава Богу, что французская полиция так разумно отнеслась к этому.
— Теперь я больше не могу ждать и отправляюсь! — воскликнула Ева через день после того, как уехал нотариус. — Я хочу погреться под калифорнийским солнцем после всех этих юридических хитросплетений.
— Мама, а может, мы поедем морем? — предложила Фредди. — Я с самого детства не путешествовала по морю, да и погода пока хорошая. Как ты думаешь?
— Ничего хуже ты не могла придумать? Во-первых, вот уже несколько недель, как ты оставила Энни — слишком надолго, да я и сама до смерти соскучилась по этому прелестному ребенку. Во-вторых, ничто так не угнетает, как созерцание океана с утра до вечера в течение пяти дней в окружении чужих людей. Это так мучительно медленно, что можно сойти с ума, а этого я хотела бы меньше всего, Фредди.
— Я думала, так можно… ну, ты знаешь… расслабиться, отвлечься, это мирно и спокойно. Своего рода лечебный отдых.
— Это ужасно скучно, и все так много едят! Очень мило с твоей стороны позаботиться обо мне, но я предпочитаю лететь. Главное — скоро ли мы сможем отправиться. Вещи я почти упаковала, побеседовала с экономкой, садовниками, с ответственными по сбыту вина и управляющим винным погребом. Могу ехать хоть сегодня или завтра.
— Я позвоню в Париж и закажу билеты, — предложил Арман, направляясь к телефону.
— Превосходно, — пробормотала Фредди. — Он всегда такой отзывчивый, Дельфина?
— Мы должны вернуться в Париж. Надо ведь что-то предпринять. Трудно, конечно, заказать билеты в последний момент, но думаю, Арману удастся отправить вас завтра.
— Как только этого дождаться, — пробормотала Фредди. Может, если Ева сядет у иллюминатора, а она будет держать ее за руку, ей не будет так плохо? Но не держать же ее за руки до самого Лос-Анджелеса! Она положит голову на колени матери и будет лежать, закрыв глаза, до самой посадки! Она скажет, что страдает воздушной болезнью. Ей не удастся даже напиться до ступора, если мать будет рядом. Кажется, существуют какие-то таблетки, которые снимают разного рода тревогу. Что, если… — Дельфина, ты когда-нибудь слышала о «милтауне»? — спросила Фредди.
— «Милтаун»? Нет, никогда. А что это такое, Фредди?
— Одно американское изобретение. Ничего интересного.
— Я думала, вы будете позже, — воскликнула Хельга, когда Фредди и Ева выходили из такси.
— Помог попутный ветер, Хельга, — сказала Фредди. — Самолет прибыл рано.
— Мадам де Лансель, позвольте взять ваши чемоданы, — смущенно сказала Хельга, начав суетиться.
— Как хорошо вернуться, — сказала Ева. — Но я очень устала, пожалуй, поднимусь наверх и прилягу. Я даже не знаю, какой сегодня день, а о времени и представления не имею.
— Когда проснешься — позови меня, мама, в любой час. Может, я проснусь.
— Надеюсь, тебе это удастся, хотя ты всю дорогу проспала, укрывшись одеялом. Никогда не видела, чтобы так много спали. Увидимся позже, дорогая.
— Хельга, а где Энни? — спросила Фредди, поднимаясь по лестнице.
— Вы разминулись с ней, миссис Лонбридж. Она ненадолго уехала.
— Уехала? Куда? Когда вернется?
— Я уверена, что она вернется дотемна, через несколько часов, — сказала Хельга, робко двинувшись к кухне.
— Хельга, Энни уехала одна? — резко спросила Фредди. — И что означает это «дотемна»? Ты же знаешь, я не разрешаю ей бродить одной, мне необходимо знать, с кем она.
— Она не одна, миссис Лонбридж, — пробормотала Хельга. — Она с мистером Хемптоном.
— Он сказал, куда они пойдут?
— Точно не сказал.
— Хельга! Почему ты так смотришь на меня? Что за чертовщина здесь происходит?
— Ох! — запричитала Хельга. — Это должно было стать сюрпризом. Я обещала им ничего не говорить. Энни сказала, что вы будете очень гордиться, когда вернетесь домой. Она очень этого хотела, а мистер Хемптон уверяет, что Энни уже достаточно высокая и сильная, ох, миссис Лонбридж. Они уговорили меня, я не могла сказать «нет». Мистер Хемптон… он… учит Энни летать… Они занимаются почти каждый вечер с того дня, как вы уехали… Честно говоря, я думала, вы не будете против. Я слышала, как вы рассказывали Энни о том, как в юности учились летать… Мне, наверное, следовало остановить их, но мистер Хемптон такой опытный, и ведь он ее крестный отец! Энни так расстроилась, когда вы уехали, а она осталась одна, и бедный дедушка умер так рано, ох, миссис Лонбридж!
— Успокойся, все в порядке, все хорошо, Хельга, хватит объяснять, я поняла, что произошло… Перестань плакать и постарайся сообразить, куда они поехали?
— В какое-то место, которое называется Санта-Паула. Мистер Хемптон сказал, что это — хорошее место для учебы: не очень оживленное и не очень большое.
— Ладно. — Фредди побежала в свою комнату, прыгая через две ступеньки, и сняла дорожный костюм. Не прошло и нескольких минут, как Фредди, наскоро приняв душ, мокрая, с влажными волосами, быстро натянула джинсы, старую вылинявшую рубашку и туфли на резиновой подошве. Она гнала автомобиль по долине Сан-Фернандо в Санта-Паулу. Ей хотелось одного — вернуть Энни. «Этот ублюдок решил испортить ей ребенка!» — думала Фредди. О Господи, сама она дождалась, пока ей исполнилось пятнадцать, и только тогда начала учиться летать, а Джок Хемптон давал уроки ребенку, которому нет и десяти. А ведь Джок никогда в жизни не летал на учебном самолете. Какой же псих согласился на это, пусть даже Энни упрашивала его!
Доехав до маленького, хорошо знакомого аэродрома, Фредди бросилась к будке управляющего, расположенной рядом с главным зданием.
— Вы не видели высокого блондина с маленькой темноволосой девочкой?
— Конечно, видел. Сейчас они в воздухе на «Пайпер Кабе», Они приземлялись, чтобы перекусить, и поднялись снова.
— Они не сказали, когда вернутся?
— Я не разговаривал с ними. Спросите у девушки в кафе, может, она знает?
Фредди выскочила из будки и побежала в большой деревянный дом.
— Вы имеете в виду Джока с Энни? Они, как всегда, поели шоколадного торта с молоком и снова сели в самолет, — сказала девушка. — Энни такая умная и милая девочка. Мне показалось, она слишком мала, чтобы учить ее летать… но теперь дети начинают с каждым годом все раньше. Вы хотите чего-нибудь?
— Ничего! Я просто подожду.
Фредди вышла из кафе. Она внимательно и нетерпеливо вглядывалась в небо. Чуть в стороне от единственной здесь взлетной полосы находилось глубокое, почти высохшее русло реки, а на дальнем берегу — хорошо знакомая ей роща из серо-зеленых деревьев: эвкалипты, сосны, дубы — исконно калифорнийские деревья. Стоя как часовые, они чуть шевелились от ветра в тот день, когда она совершала свой первый полет с Маком, и тогда, когда впервые увидела Тихий океан с воздуха, решившись лететь самостоятельно. Фредди опустилась на сухую траву у кромки взлетной полосы, откуда доносился запах бензина, и стала ждать.
Полчаса просидела она, скрестив ноги, под лучами ноябрьского солнца. Теперь темнеет раньше, подумала Фредди. Меньше чем через два месяца наступит самый короткий день в году. Зато после зимнего солнцестояния дни, минута за минутой, будут становиться все длиннее, и это обнадеживает. Но так как большую часть времени за последние два дня Фредди провела в самолете, накрывшись с головой одеялом, и выдержала путешествие только потому, что мама была рядом и спасла ее от страха, она не видела особых причин на что-то надеяться. К тому же ее ребенок сейчас в небе на «Пайпер Кабе» с маньяком.
Фредди услышала тихое жужжание маленького самолета и, подняв голову, увидела желтое пятнышко «Пайпер Каба». Он не то продолжал полет, не то собирался приземляться. Фредди пристально следила за ним: да, он явно заходил на посадку. Она неодобрительно покачала головой. Угол, под которым он летел, заметно отклонялся от положенного — ничего подобного не увидишь ни на одном летном поле, но у Джока свои стандарты. Самолет слегка покачивался, была проведена корректировка, потом еще одна, сильно изменившая угол. Джок работал очень небрежно, чего никогда раньше она не замечала. Его можно было обвинять в чем угодно, но только не в небрежности.
Самолет пилотирует Энни! Вскочив на ноги, Фредди беспомощно уставилась на желтое пятнышко в небе. Фредди потрясло, что Энни управляет самолетом, а она бессильна заставить Джока прекратить этот безрассудный эксперимент. И вдруг неуверенное покачивание сменилось мягким, плавным снижением. «Каб» начал точное приземление; в течение минуты снизил скорость и коснулся земли, как бабочка, севшая на цветок.
Фредди неподвижно смотрела, как самолет остановился и мотор заглох. Люк открылся, и Энни осторожно спустилась, крепко держась за руку Джока, пока ее ноги не коснулись земли.
— Энни, я здесь! — крикнула Фредди. Высокая девочка оглянулась и побежала к ней.
— Ты видела, мамочка? Видела? Видела? — повторяла совершенно ошалевшая от радости Энни, покрывая поцелуями лицо матери.
— Я видела, все хорошо. Ты все сделала великолепно, Энни!
— О, мамочка! Это не так! Сегодня я топталась на месте — так сказал Джок. И все же каждый раз я летаю чуть-чуть лучше. Но он пока не дает мне даже попробовать приземлиться.
— Это… непостижимо!
— Он говорит, что мне еще нужно многому научиться, — серьезно объясняла Энни. — Ты очень удивилась, мамочка? Я хотела сделать для тебя что-нибудь необыкновенное, потому что знала, как ты огорчена смертью дедушки. Мамочка, это была моя идея. — Энни повернулась к самолету, стоявшему за кромкой взлетной полосы. — По-моему, Джок думает, будто ты рассердилась из-за того, что я заставляю его давать мне уроки. Поэтому он не выходит из самолета.
— Почему бы тебе не пойти и не подождать меня в кафе, Энни? Пойду поздороваюсь с Джоком. Мы скоро придем. Вот деньги, купи что захочешь.
Фредди подкралась к «Пайпер Кабу» и заглянула в кабину. Джок сидел у правого штурвала двойного контроля, опустив руки и неподвижно уставившись в одну точку. Судя по выражению лица, он явно сознавал, что неправ, хотя и не собирался признаваться в этом.
— Выходи, — скомандовала Фредди.
— Зачем?
— Хочу сказать все, что я о тебе думаю.
— Это, конечно, заманчиво, но нет, благодарю.
Побуждаемая только что пережитым страхом, Фредди взобралась в самолет и осторожно присела на край сиденья.
— Как ты мог это сделать, Джок, почему так безрассудно поступил с Энни? Я готова была разорвать тебя на части собственными руками!
— Я поступил не безрассудно. Напротив, я был предельно осторожен, поверь. Послушай, Фредди, я прекрасно понимаю, что ты ответила бы, вздумай я позвонить тебе во Францию и спросить разрешения. Я заходил к вам домой, чтобы побыть с Энни, и сам не заметил, как согласился взять ее с собой один раз, потом еще и еще… Она ведь такая простодушная, Фредди. Я чувствовал, что поступаю вопреки разуму.
— Ребенок уговорил тебя сделать то, чего ты не хотел? И я должна верить этому?
— Энни обладает еще большим, чем ты, даром убеждения, но чем дальше, тем отчетливее становилась мысль, что именно я должен учить ее. — Джок обернулся. — Прости, Фредди. Мне действительно жаль, что расстроил тебя, но ты же прекрасно знаешь, что я никогда не позволил бы ей рисковать даже самую малость. Ты простишь меня?
Фредди внимательно посмотрела на Джока. Она не видела его целый год и забыла, какой он крупный. Кабина «Пайпер Каба» казалась тесной для него. Серьезность почему-то делала его жалким, каким Фредди никогда его не видела. Почему она так злилась на Джока, весь этот год проявлявшего такую доброту к ее матери и к Энни?
— Все в порядке, Джок, я прощаю тебя. Но пожалуйста, больше никаких уроков, пока она не повзрослеет. Я ей все объясню.
— Скажи ей что хочешь. — Джок глубоко и с облегчением вздохнул. — Слушай, Фредди, а почему бы нам не полетать? Я всегда хотел полетать с тобой — ты ведь такой прекрасный пилот! — Как объяснить ей, что, когда она рядом, ему кажется, будто он поймал светлячка, единственного в мире, и больше всего боится упустить его.
— Нет! — с ужасом воскликнула Фредди, стараясь говорить спокойно.
— Ну хоть пять минут. Сейчас ведь самое лучшее время суток. Давай посмотрим на закат солнца. — Джок наклонился и захлопнул люк.
— Нет, Джок, не надо!
— Почему? Энни поймет, увидев самолет в небе.
— Я не могу, — оцепенело произнесла Фредди.
— Не буду, — сказал Джок, увидев, как она побледнела. Растерянность, боль и страх читались на ее лице.
— Я… О, черт побери, Джок, мои нервы — совсем никуда, — выпалила Фредди. — После катастрофы я избегала полетов, обманывала себя, убеждая, что ничего такого нет — просто я не готова. Но потом, когда пришлось лететь во Францию, я все поняла. Это был кошмар. Меня охватила жуткая паника, я обезумела от страха, и это не прошло до сих пор. Раздражительность, клаустрофобия, боязнь разбиться… Нет, я никогда больше не полечу! Кроме тебя, этого никто не знает. Я не могу об этом сказать — никто не поймет. Пожалуйста, не говори никому… Я не хочу, чтобы об этом знали.
— Ты не должна поддаваться этому, Фредди. Летать… Это слишком много значит для тебя. Ты должна начать все сначала. Ведь наездник, упавший с лошади, снова садится в седло. — Джок легким движением повернул ключ зажигания.
— Джок, перестань! Выключи мотор! О Боже, не поднимайся, ты, ублюдок! — кричала Фредди, но он уже направил маленький самолет в конец пустой взлетной полосы.
— Сиди и молчи. Я все контролирую. Тебе ничего не надо делать, — прокричал Джок, перекрывая шум мотора. — Пристегни ремень!
Фредди подчинилась. Не могла же она выпрыгнуть из самолета, а начни Фредди бороться с Джоком, это убило бы их обоих. Когда «Пайпер» стал набирать скорость, Фредди зажмурила глаза, сжала кулаки, обхватила себя руками и уперлась подбородком в грудь. Плечи ее были подняты, каждый мускул оцепеневшего тела напряжен, словно перед ударом. Почувствовав, что самолет оторвался от земли, Фредди сжалась еще больше, сердце неистово колотилось в груди.
— Вдохни поглубже! Ты очень уж испугалась, — крикнул Джок, набирая высоту. Фредди наконец перевела дыхание.
— Теперь лучше?
— Иди на посадку!
— Пока не откроешь глаза — не посажу самолет.
— Джок, прошу тебя, не мучай меня!
— Я не могу позволить тебе мучить себя! Открой свои глупые глазки и не будь дурочкой.
Фредди чуть приподняла веки. Да, он не посадит самолет, пока она не откроет глаза — это совершенно ясно. Сквозь полуопущенные ресницы Фредди украдкой взглянула на колени, потом выше, на штурвал, приборную панель и на руки Джока, державшие второй штурвал.
— Уже открыла. Теперь, ради Бога, посади самолет!
— Это называется открыла? Ты должна увидеть все, оглядеться вокруг, посмотреть на землю и понять, что летишь, как птица в небе, и конец света при этом не наступает. Когда первый офицер Мари-Фредерик де Лансель поймет, что законы аэродинамики не изменились и продолжают действовать, я, к своему глубокому удовлетворению, сочту возможным официально объявить, что ее глаза открыты.
— Ох, как ты любишь издеваться, чертов ублюдок! Для тебя нет большего удовольствия, чем мучить меня. Зачем только я тебе все рассказала, такому самодовольному, наглому, гнусному, подлому подонку! Как вообще могла дать тебе хоть малейшее преимущество над собой!
— Эй, да ты и вправду открыла глаза! У меня есть теория: невозможно злиться с закрытыми глазами. Не смотри так сердито! В этом есть свой смысл, не так ли?
— Оставь свои теории до посадки. Ты ведь обещал.
— Я сказал, когда ты оглядишься вокруг, посмотришь на землю, а ты пока посмотрела только на кабину самолета. Ты как будто в автомобиле.
Стиснув зубы, Фредди осторожно повела глазами из стороны в сторону, потом, не меняя положения тела, медленно придвинулась на несколько сантиметров к иллюминатору и посмотрела вниз и тут же вернулась в прежнее положение, уставившись в ветровое стекло.
— Увидела что-нибудь интересное?
— Очень забавно!
— Да? Ну и что же ты увидела? — настойчиво спрашивал Джок.
— Проклятый ублюдок! Увидела то же, что и всегда, а ты думал, стадо слонов?
— Никогда не знаешь… Это прелестное дикое место на самом краю пустыни — можно потеряться, пока узнаешь его.
— Ты думаешь, я его не знаю?
— А ты что, хорошо знакома с местным ландшафтом? — спросил Джок.
— Ты прекрасно знаешь, что в этих краях я училась летать и с маленького аэродрома неподалеку отсюда совершила своей первый полет.
— Я не знал. Да и откуда мне знать? Ты думаешь, мне хорошо известны подробности твоей биографии?
— Наверное, нет. — Фредди стало смешно. В самом деле, откуда ему знать. Опытные пилоты никогда не рассказывают, где и когда совершили первый полет — разве что собравшись вместе и вспоминая прошлое.
— Не помню, рассказывал ли я тебе о своем первом полете? — спросил Джок.
— Нет, да и плевать мне на это. Я хочу только приземлиться, — гневно потребовала Фредди.
— Хорошо, прекрасно. Минуточку! Сейчас я тебе об этом расскажу. Это было в день моего шестнадцатилетия. Мой инструктор, конечно, знал, что я до смерти хочу полететь сам. У меня было девять часов, и я сгорал от нетерпения. Дело было на маленьком аэродроме поблизости от Сан-Хуан Капистрано. Я пришел после школы и немного опоздал, но подумал: сегодня или никогда. Ну вот, мой инструктор дал мне выполнить все упражнения, даже самые рискованные, ни словом, ни взглядом не показывая своего к этому отношения. Потом, когда время урока истекло, этот парень — Господи, никогда его не забуду! — говорит: «Джок, веди самолет к месту парковки». Когда мы туда подрулили, он, как всегда, спрыгнул первым и сказал: «Знаешь, сынок, пойду-ка выпью кофе — тебе еще рано его пить, — а ты пока полетай, сделай упражнения еще несколько раз. Увидимся позже». И ушел не оглядываясь. Так вот, вначале я удивился: неужели он хочет, чтобы я летел один! А потом вскочил в самолет, издал дикий вопль и поднял машину в небо… да… Знаешь, Фредди, что я при этом почувствовал? Это ведь невозможно описать! Понять может только тот, кто испытал это сам. Мне хотелось не возвращаться на землю, а летать всю ночь, пока не кончится топливо, пока не увижу мерцающие звезды. И вдруг я понял, что уже совсем стемнело. Я на полной скорости, старясь избежать тряски, вернулся обратно… и полет был закончен. Да… январь 1936 года. Только на самом деле он никогда не заканчивается — и слава Богу! Порой кажется, что волнение ушло, ты потерял способность удивляться, и вдруг все это вновь возвращается. Как сегодня: глядя на маленькие ручки Энни на штурвале, я подумал о тебе. Мне так хотелось, чтобы ты была с нами и видела ее лицо. Да, вот так. История моей жизни. Прелестная и совершенно необычайная, правда? Такое, думаю, не происходило ни с кем и никогда. Уникальный опыт, достойный упоминания в авиационных анналах. — Джок откинулся на спинку кресла. — Ой, ужасно хочу спать, просто засыпаю… столько волнений за один день… кажется, я начинаю стареть, а, Фредди? Возьми штурвал.
Джок вытянулся, положив огромные руки на голову, и они коснулись потолка кабины. Фредди машинально взялась за штурвал, поставила ноги на педали, проверила показания приборов и повела самолет. «Хорошо, Джок, ты все-таки втянул меня в это, да так ловко, да, очень ловко, я даже не заметила, как это произошло».
Фредди посмотрела на него. Джок очень здорово притворялся спящим. Глаза его действительно были закрыты — никаких сомнений, — и ровное дыхание, кажется, становилось глубоким. Волосы, покрывавшие его сильные мускулистые руки, отливали золотом: кабину заливал солнечный свет. Длинное тело немного сползло с сиденья, Джок начал даже похрапывать. Фредди перестала замечать его.
Ей было необходимо почувствовать этот самолет — ведь она не летала целый год. Она сделала несколько осторожных поворотов с очень слабым наклоном. Самолет казался легким, а мотор — мощным. Фредди уже летала на «Пайпер Кабе» и знала его возможности. Он был так прост в управлении, что пилотировать его мог даже ребенок. А ведь именно ребенок и управлял им, подумала Фредди.
Она сделала более крутой вираж, переходя из одного поворота под большим углом в другой, грациозно выполнив эту фигуру, которой забавлялись многие начинающие пилоты. Это был стремительный опьяняющий танец, который можно исполнить, лишь имея абсолютное чувство равновесия. При этом не обязательно знать, что заставляет тебя лететь и куда ты направляешься. Фредди огляделась. Вокруг никого. Она подняла «Пайпер Каб» выше отметки 1200 метров. Уже лучше… О, это так прекрасно! Это чудесно! Фредди почувствовала, что от прежних страхов не осталось и следа, и слезы навернулись у нее на глаза. Теперь она спокойно, не спеша обдумывала свое состояние во время полетов в Париж и обратно. Она делала это без страха, пыталась восстановить подробности, но все, что ей удалось, — это только вспомнить о них. Фредди думала, что уже никогда не сможет летать, что нервы у нее — никуда! Да, да! Но теперь нервы в порядке. Да! Такое могло случиться с каждым.
Фредди стала искать облако, чтобы поиграть с ним, но небо было безоблачным. Солнце стояло низко над горизонтом, а Энни терпеливо ждала их возвращения в аэропорт. Фредди подняла «Пайпер Каб» еще на 2000 метров, снова внимательно огляделась, не предупреждая Джока, стала постепенно входить в пике. Ничем не сдерживаемый, «Пайпер» свободно несся к земле, ковром раскинувшейся внизу, так, словно давно ждал, чтобы Фредди проделала с ним что-нибудь интересное. Фредди внимательно следила за скачущими стрелками приборов, пока не набрала скорость, достаточную для выполнения «мертвой петли». Теперь она начала постепенно подавать рычаг на себя, выходя из пике и начиная вертикальный набор высоты, чтобы описать круг, который приведет ее к самой вершине горизонта, к вершине мира. Набирая высоту, Фредди мельком взглянула на Джока. Он все еще притворялся спящим, дышал легко, расслабился, только — да! — он улыбался. Паршивец!
Фредди медленно набирала высоту, взмывая все выше и выше, ее охватил волшебный трепет — выше и выше — и еще выше! Вверх… перевернуться, смеясь… взмыть вверх, делая «горку»… Свободна! Летаю! Свободна, божественно свободна! Хозяйка неба, королева горизонта, собеседница облаков, сестра ветра, ускользнувшая от унизительной, нудной реальности силы земного притяжения — это единственное, что может сделать человека счастливым!
Фредди вышла из «мертвой петли» и сняла руки со штурвала.
— Теперь давай ты, Джок, — сказала она. — Если проснулся.
Джок посадил самолет в аэропорту Санта-Паула и медленно вырулил в сторону взлетной полосы. Ни он, ни Фредди не выходили из кабины.
— Спасибо тебе, Джок, — сказала Фредди. — Ты — настоящий друг.
— Ничего особенного не произошло.
— Для меня это очень важно, для меня это — все!
— Произошло… то, что должно было случиться. — Джок, совершенно очарованный, безмолвно улыбался, глядя на Фредди. Она была так прекрасна в своей беспомощности, ненакрашенная, с растрепанными волосами и восторженным взглядом, которого Джок уже давно у нее не замечал.
— Ты меня вылечил. — Фредди тряхнула головой, посмотрев на Джока с искренним восхищением. — Может быть… ты поможешь мне справиться с еще одной проблемой, которая очень волнует меня, — задумчиво добавила она. — Это связано с моей головой.
— Конечно, попробую, — горячо сказал Джок.
— Я страдаю амнезией. Врачи говорят, что это довольно обычная вещь после аварии. Еще они говорят, что память может не вернуться — огромный период моей жизни! Это ужасно! Последнее, что я помню, это как я пела на эстраде отеля. Я точно помню последнюю песню: «Я всегда гонялся за радугой», а дальше — только больница, но между этими событиями, как выяснилось, прошли недели. Очевидно, я попала в аварию в горах, об этом я знаю по рассказам, но сама ничего не помню после того, как пела на сцене.
— Ничего? Совсем ничего?
— Совсем! Не знаю, что делала после того, как закончила петь, как оказалась в самолете. Я не могу найти связь между этими событиями. Это меня убивает. Мне кажется, будто я потеряла часть себя самой.
— А слова «Пока мы не встретимся вновь» тебе ни о чем не напоминают? — рискнул спросить Джок. Прядь его светлых волос упала на лоб, и он украдкой и с тревогой взглянул на Фредди.
— Да-да, Джок, мама всегда говорила, что эта песня приносит счастье, правда, никогда не объясняла почему. Я пела эту песню для вас в Блу Сван, потому что чувствовала в ней… какое-то волшебство… Я думала, она поможет всем вам вернуться назад целыми и невредимыми. Я не утверждаю, что забыла всю свою жизнь, я забыла только часть ее.
— Значит, ты совсем ничего не помнишь после «Радуги»… даже не помнишь, как вернулась домой той ночью, не помнишь… больше ничего?
— Сколько же можно повторять: одно лишь белое пятно.
— Хм, это действительно проблема.
— Но помочь можно! В конце концов, ты ведь понял, что такая проблема существует, а это уже полдела. Надеюсь, что постепенно мы будем двигаться вперед.
— У меня есть идея, только не смейся надо мной.
— Слушаю, — сказала Фредди с озорной улыбкой.
— Мы должны восстановить события той ночи. Думаю, для этого не обязательно снова устраивать вечер встречи курсантов «Орлиной эскадрильи», но можно сделать кое-что другое. Например, ты наденешь то же самое платье невероятно-красного цвета, если оно у тебя еще осталось, те же сногсшибательные ярко-красные туфли, крылышки Службы вспомогательной авиации, и мы пойдем куда-нибудь, где будут танцы и музыка, так же, как тогда, пообедаем, а потом я попрошу дирижера сыграть старые песни, и ты споешь… Таким вот образом мы вытащим все, что надо. Может, что-то произойдет и пробудит твою память.
— Очень изобретательно — мне давно не приходилось петь. Когда мы сделаем это?
— Когда хочешь. Я в твоем полном распоряжении.
— Что, если сегодня вечером? Или это слишком скоро? — спросила Фредди.
— Прекрасно, давай сегодня. Это лучше всего, правда?
— Да, Джок, лучше всего.
Фредди чмокнула Джока в щеку и собралась выйти из самолета. Если бы не «амнезия», она бросилась бы в его объятия прямо здесь, в кабине «Пайпер Каба», но это недостойно леди. Однако Фредди решила упорно работать над «возвращением памяти». О да! Ведь предстояло излечиться от «амнезии», поглотившей столько проявлений любви, столько поцелуев, объятий, слов — всю любовь, которую питал к ней и хранил для нее Джок все эти годы. Фредди хотела снова услышать все это. Пусть повторяет это вновь и вновь.
— Фредди! — Джок порывисто придвинулся к ней, едва не вывалившись из самолета. Глаза его выдавали невероятное волнение.
А вдруг он угадал ее мысли? Нет, ни за что! Не так быстро! Амнезия! У нее — амнезия! Фредди озадаченно прищурилась.
— Что? — простодушно спросила она.
— Я люблю тебя, Фредди, черт меня побери! Я так люблю тебя, что больше не могу молчать!
— Погоди! Скажи еще раз! — потребовала Фредди. Она сдерживалась, но больше не чувствовала себя уязвимой и нуждающейся в сочувствии. Она готова была слушать его снова и снова.
— Почему ты всегда насмехаешься надо мной? — улыбнулся Джок, внезапно обретя уверенность. Эти слова она впервые услышала от него.
— Нет… я только хотела, чтобы ты повторил… Думаю… мне кажется… может, какой-то кусочек памяти оживает… что-нибудь… может быть… о школьном бале? Что-то о полетах вдвоем? Хм… тебе не кажется, что мы уже летали вдвоем?
— Перестань дразнить меня. Хотя нет, дразни меня хоть всю жизнь, только разреши тебя поцеловать.
— Не многого ли ты хочешь, командир эскадрильи?
— О, дорогая, я хочу всего. Всего! Начнем с поцелуя. Пожалуйста, Фредди!
— Помнится, однажды кто-то сказал мне… я точно помню… «Только сопляк просит разрешения у девушки поцеловать ее», — пропела Фредди своим удивительным голосом, придвинулась к Джоку и подняла руки, сдаваясь и ожидая ответа.
Примечания
1
«Ради тебя» (фр.).
(обратно)2
Курорт на северном побережье Франции.
(обратно)3
Превосходный продукт (фр.).
(обратно)4
Belle Epoque — прекрасная эпоха (фр.).
(обратно)5
Мадлен — так по-французски звучит имя Магдалина.
(обратно)6
Так в Австралии называются малонаселенные и нежилые районы.
(обратно)7
Супруга генерального консула.
(обратно)8
Споем! (фр.).
(обратно)9
Знаменитый американский летчик.
(обратно)10
Сокровище, сокровищница (фр.).
(обратно)11
Ты позволишь (фр.).
(обратно)12
Карточные игры.
(обратно)13
Мера площади во Франции.
(обратно)14
Валяться в постели по утрам (фр.).
(обратно)15
Орудие средневековых пыток.
(обратно)16
Яйцо, сваренное без скорлупы в специальном соусе.
(обратно)



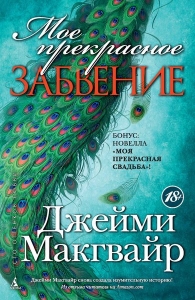
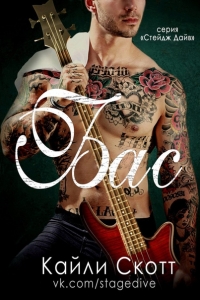
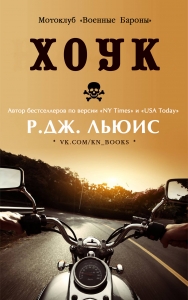

Комментарии к книге «Пока мы не встретимся вновь», Джудит Крэнц
Всего 0 комментариев