Вступление 2001 год
Белая пушинка сорвалась с ветки тополя и, подгоняемая легким ветром, полетела туда, где, невидимые за цветущими деревьями, мчались по широкой магистрали машины. Весна раскрасила аллеи Центрального парка яркими красками, осыпала ветви деревьев белыми и розовыми цветами, наполнила воздух нежным ароматом. Утреннее солнце играло и искрилось на стеклах выглядывавшего из зелени шпиля отеля «Гранд Астория». Где-то за пышными кустами звенели ребячьи голоса на одной из детских площадок. Процокали по дорожке две каурых лошади, запряженные в двуколку образца начала прошлого века. Над подстриженными газонами смешивались запахи цветов и бензина.
В конце аллеи показалась одинокая женская фигура. Невысокая миниатюрная брюнетка в светло-зеленом легком платье и босоножках медленно шла по чисто выметенной дорожке, чуть помахивая на ходу зажатой в руке газетой. Газету она только что купила при входе в парк у продающего прессу молодого бойкого афроамериканца. Несмотря на проведенные здесь, в Америке, четыре года, говорила она с русским акцентом:
— Доброе утро, мне «Нью-Йорк таймс», пожалуйста.
Разворачивать газету она не спешила, предвкушая и оттягивая ожидающее ее удовольствие.
Женщина подошла к спрятанной под столетним раскидистым платаном скамейке, присела, откинулась на спинку и сдвинула на лоб темные очки. Теперь можно было разглядеть ее лицо — резко очерченные скулы, зеленые миндалевидные глаза, яркие, решительно сжатые губы, едва заметная белая галочка шрама на левом виске…
Ее приподнятое настроение объяснялось тем, что в газете она ожидала увидеть большую статью, подписанную ее именем. Последние несколько месяцев, помимо основной работы на телевидении, она увлеченно занималась специальным проектом, задуманным ею вместе со старым приятелем и по совместительству любовником Пирсом Джонсоном. Пирс, редактор одного из отделов «Нью-Йорк таймс», предложил ей сделать серию очерков о жизни нелегальных эмигрантов, стекающихся в Нью-Йорк со всего мира. Журналистка взялась за дело с энтузиазмом, скиталась по трущобам, гонялась за прыткими бангладешцами, пыталась разговорить затравленно моргавших из-под темных покрывал восточных женщин с завернутыми в тряпье младенцами на руках, а как-то ночью даже оказывала первую помощь жертве поножовщины в одном из негритянских кварталов.
Затем, вдвоем с Пирсом, они ночи напролет просиживали над собранным ею материалом, срывали голоса, споря, как лучше скомпоновать статьи, в каком порядке запускать их в печать. К утру глаза начинали слезиться от напряжения, в желудке жгло от неизвестно какой по счету порции крепкого кофе, кончики пальцев желтели от никотина. Но дело было сделано, материал доведен до ума, вечно критикующий Пирс повержен ее неумолимой логикой, и она, выпотрошенная, опустошенная, с довольной улыбкой поднималась из-за стола и потягивалась, глядя в окно на занимающийся над никогда не спящим городом день. Пирс становился рядом, обхватывал своей огромной ручищей ее плечи и говорил с досадой и невольным восхищением:
— Черт, ты опять меня сделала, детка!
Это ей больше всего и нравилось в их отношениях — дух товарищества, ощущение сплоченности, понимания, единомыслия. Не любовный лепет, а крепкий союз двух профессионалов, занятых общим делом. Пирс был одним из немногих мужчин в ее жизни, которому не приходилось объяснять, почему журналистке бывает необходимо сорваться среди ночи по звонку от шефа. Он не закатывал ей сцен ревности, если она пропадала где-то несколько недель со специальным заданием, не вздыхал о недополученном внимании и ласке, не претендовал на главенствующую роль в ее жизни. Может, поэтому их роман, если, конечно, можно было так назвать эти близкие полудружеские полупрофессиональные отношения, продолжался уже несколько лет.
И вот сегодня, наконец, должен был выйти в печать первый очерк из уже полностью готовой серии. Плод многомесячного труда, который, по словам Пирса, должен был в одночасье превратить ее из пусть известного в своих кругах и уважаемого, но все же рядового сотрудника, звезду мировой журналистики. По такому случаю, она даже сменила обычную «униформу» — джинсы, майка, бейсболка — на платье и туфли, чего с ней не бывало с последнего официального приема в российском посольстве, на котором она присутствовала по долгу службы. Кроме того, дома, на рабочем столе, белело подписанное заявление на отпуск, а в прихожей подпирал дверь упакованный чемодан. Теперь оставалось лишь дождаться Пирса, отметить ее триумф обедом в одном из самых модных ресторанов, а затем подхватить багаж и отправиться в аэропорт, откуда блестящий, словно глазированный, белый «Боинг» унесет их к морю и пальмам. И в ближайшие две недели она клянется не включать телевизор, игнорировать телефон, а лишь бездумно валяться на пляже, прихлебывать коктейли, носить открытые платья, словом, хотя бы попытаться делать все то, от чего получают сказочное удовольствие все другие известные ей женщины.
Журналистка откинула голову, полюбовалась солнечными бликами, скачущими по темно-зеленой глади лежавшего по другую сторону аллеи пруда и, наконец, развернула газету. Быстро пробежала заголовки, мгновенно выхватила глазами свой — «Родина взаймы», открыла нужную страницу. Как профессионал оценила верстку, расположение фотографий, удовлетворенно кивнула и лишь затем, чуть подсмеиваясь над собственным тщеславием, взглянула вниз, туда, где должны были стоять ее имя и фамилия. Однако…
Она сдвинула темные брови, поднесла газету ближе к лицу, вдохнув запах свежей типографской краски, и, словно не веря своим глазам, прочитала вслух:
— Пирс Джонсон…
Но как же это? Может быть, ошибка, перепутали верстальщики? Она вернулась к первой полосе, перечитала анонсы размещенных в номере статей. Нет, и здесь тоже стояла фамилия ее бессменного приятеля и любовника. Она так увлеклась, что не заметила, как он сам, собственной персоной, появился в конце аллеи, огляделся и направился к ней, широко улыбаясь. Бесшумно подошел к скамейке, склонился к ее плечу и пропел:
— Тебя можно поздравить?
Она вздрогнула, подняла голову и уставилась прямо в его холеное, гладко выбритое лицо. Удивительно, почему-то его цветущий вид сегодня показался ей отвратительным. Эти прозрачно-голубые глаза на покрытом золотистым загаром лице. Он ведь прекрасно знает, что загар так красиво оттеняет их и не забывает раз в неделю забежать в солярий после работы. Аккуратно подстриженные темные волосы, чуть тронутые сединой, ровные блестящие зубы. Сколько, интересно, он платит своему стоматологу за эту обезоруживающую, вызывающую доверие улыбку?
— Кажется, это я должна тебя поздравить, — ядовито отметила она, развернув перед Пирсом статью.
— Ах, это… — протянул он, слегка поморщившись. — Ну, детка, надеюсь, ты не обиделась? Ты ведь должна понимать как профессионал, что у издательского бизнеса свои законы… На общем собрании решили, что такой социально значимый материал не может быть подписан фамилией русской журналистки. Поэтому я, как редактор отдела, вынужден был поставить свою фамилию. Детка, ты ведь не станешь отрицать, что я тоже приложил много усилий в работе над этими очерками…
Не прерывая своего монолога, он уселся с ней рядом и теперь тискал и мял крупными пальцами ее ладонь.
— У меня имя есть, — резко прервала его она.
— Что? — опешил тот. — А, ну извини, если тебе не нравится. Ок, Лика. Так вот, Лика, если ты посмотришь на последнюю страницу, в графе «Над номером работали», то ты увидишь там свою фамилию. И конечно, я непременно упомяну о том, какой огромный вклад ты внесла…
Его спокойный рассудительный голос раздражающе действовал на Лику. Она почувствовала пульсацию в висках — верный признак начинающейся тяжелой мигрени, преследовавшей ее с детства. Она тупо смотрела на скользящую по ее коленям широкую ладонь, на крупный, словно расплющенный ноготь на большом пальце, и удивлялась, как она раньше не замечала, какие у Пирса некрасивые, грубые руки. В первые минуты разочарование, потрясение, испытанное ею, было настолько сильным, что разум будто «завис», отказался выдать положенную эмоциональную реакцию. Она лишь пыталась как-то понять, уяснить для себя, что произошло, не давая случившемуся никакой оценки. Однако под действием монотонного голоса ее друга-приятеля она начала постепенно приходить в себя, просыпаться от навалившегося отупляющего бессилия. Где-то внутри задрожало, забилось, и Лика поспешила раззадорить саму себя, вызвать гнев, ярость, выплеснуться наружу, не позволяя проявиться самому потаенному, глубокому. Она с силой выдернула ладонь из его руки, вскочила на ноги, подобралась, как кошка перед прыжком, и выкрикнула:
— Ты можешь кому угодно плести эти бредни, кроме меня. Я, как ты верно заметил, профессионал и кое-что смыслю в издательском деле. В частности, я неплохо знаю, что такое плагиат и как это карается по закону.
— Ты что же, угрожаешь мне? — недоверчиво протянул Пирс, вскинув свои льдистые глаза на стоящую перед ним женщину. — Думаешь обратиться в суд?
— Думаю! — яростно подтвердила Лика. — Думаю, мне будет что рассказать адвокату.
— Как хочешь, — развел руками Пирс. — Мда… Никак не ожидал, что ты такая…
— Какая? — запальчиво вскинулась Лика.
— Недальновидная! — пояснил он. — Ведь никакого подписанного договора с редакцией у тебя нет, все строилось на нашей устной договоренности. Я считал, мы понимаем друг друга. Я, человек с именем в нью-йоркской прессе, по доброте душевной помогаю тебе, никому не известной русской журналистке, продвинуться в карьере… Конечно, учитывая и свои интересы при этом… А теперь оказывается, что ты считаешь меня каким-то подлым плагиатором. Думаешь, я за твой счет решил прибавить себе популярности…
— А что? Разве это не так? Кто собрал весь материал? Я! Кто написал все эти тексты? Тоже я. Ты только мешал мне своими дурацкими советами и рекомендациями. Я уйму времени потеряла, объясняя тебе, что и как. А теперь ты взял и просто украл мои статьи, как последний…
— Ну, дорогая моя, — прогудел Пирс, поднимаясь со скамейки, — в таком тоне я вообще разговаривать не желаю. Считаешь себя обиженной — пожалуйста, поступай как знаешь. Но имей в виду, в твоих же интересах не начинать войну. Вспомни, кто ты и кто я, подумай, чье слово будет иметь больший вес. Знаешь, издательский мир очень тесен, испортить себе репутацию легко. А тебе ведь еще работать тут…
Задохнувшись от этакой наглости, Лика резко отвернулась, уставилась на подернувшуюся легкой рябью поверхность воды, старалась дышать медленно и размеренно, чтобы успокоить, унять душившее напряжение. Пирс же воспринял ее молчание по-своему.
— Вот и умница. Сообразительная девочка. — Он положил руку ей на плечо. — Давай больше не будем ругаться. Тем более и времени нет. Во сколько у нас самолет?
Лика резко дернулась, сбросила его ладонь с плеча и яростно выдохнула:
— Пошел в задницу, урод! Не смей больше звонить мне, никогда!
Пирс на мгновение опешил, но довольно быстро овладел собой, осклабился все в той же белоснежно-рекламной улыбке.
— Как скажешь, детка. Надо признать, я не много теряю. Знаешь ли, роман с неврастеничкой, по самую крышку набитой комплексами, довольно скучное дело.
Лика поняла, что еще секунда, и она бросится на него, расцарапает ногтями эту лощеную самодовольную рожу. Она шагнула в сторону и быстро пошла, почти побежала прочь по аллее.
К щекам прилила кровь, в груди колотилось невысказанное бешенство, и Лика не спешила его унять. Она знала, что на смену гневу придет опустошение, боль, отчаяние, и не хотела позволить этого. Нет, уж лучше злость — это, по крайней мере, конструктивное чувство. Она неслась вперед, не разбирая дороги, провожаемая удивленными взглядами туристов с фотоаппаратами на шеях. В конце концов неловко ступила, попала ногой в выбоину на асфальте, тонкий каблук подломился, и Лика, вскрикнув, едва не упала, в последнюю секунду ухватившись за ствол дерева.
«Вырядилась, как последняя дура!» — выругала она себя и, прихрамывая, заковыляла в сторону, опустилась на аккуратно подстриженную траву газона, привалившись спиной к шершавой коре дерева. Где-то вдалеке шумели машины, спешил и рвался куда-то неуемный огромный город. Она же неожиданно оказалась вычеркнутой из его жизни, оторванной, обособленной, словно накрытой стеклянным колпаком. Ярость испарилась. Лика наклонилась, потерла саднившую лодыжку, прикусила губу.
Нет, плакать она не будет, не в ее правилах. Существуют, знаете ли, на свете такие женщины, которые могут позволить себе плакать. Сама нежность, беззащитность, глаза их, наполнившись слезами, делаются еще прозрачнее и прекраснее, и любой мужчина, оказавшийся поблизости от подобной плачущей нимфы, в момент чувствует себя доблестным рыцарем и спешит на помощь. Да, есть такие женщины, она же не из их числа. В ее жизни слезы ей никогда не помогали, ни в ком не пробудили сочувствия, и с годами она разучилась плакать.
Лика с силой выдохнула, расправила плечи и поглядела вперед, туда, где возвышались над зелеными кронами деревьев небоскребы. Забавная, однако, штука жизнь. Мчишься куда-то, сломя голову, торопишься все успеть, ничего не упустить, и вдруг оказываешься совсем одна в огромном, бешено кипящем городе. Впереди две пустых, ничем не заполненных недели, в телефонном справочнике две сотни чужих номеров, а на душе удивительно пусто и паршиво. Впрочем, один номер, по которому можно было бы позвонить сейчас, там все-таки есть. Один… Негусто! Прямо скажем, за долгую насыщенную жизнь ей не удалось обзавестись легионом близких друзей. Только одним. И этот единственно ценный номер она не набирала уже два года. И все-таки…
Лика нашарила в сумке мобильный телефон, нашла нужный номер, несколько секунд вслушивалась в протяжные гудки и наконец сказала в трубку:
— Привет, это я. Можешь сейчас приехать?
Часть первая 1964–1989
1
Все так просто начиналось. Было детство в доме бабки — директора магазина, малообразованной, но крайне справедливой горгульи. Дед обретался там же, его звали «Тынемогбы», как вариант «Эйты». Дед был мирное существо, на рожон с директором продмага не лез, выражениями с ней не мерился, лечил вечерами свою контуженную на войне голову коньячком пять звездочек под толстенькое сальцо. Туда же, в их теплую обитель — директорши, военного летчика на пенсии и пятилетней девицы самого крутого нрава, временами являлась мамахен, красивая, совсем молодая еще женщина, не устававшая проделывать путь через всю Москву на высоченных каблуках. Малолетнее чудовище вне всякого сомнения ждало свою болтающуюся непонятно где мамашу. То есть болталась-то она по вполне определенным территориям, а именно — по дачному участку своего нового муженька, придурка полного по призванию и художника-оформителя волею судеб. Директорша с летчиком знать про новоиспеченного зятя ничего не желали, и посему молодая семья вынуждена была ютиться на плохо отапливаемой даче, в то время как оппозиция заняла трехкомнатные апартаменты, в свое время выданные летчику за заслуги перед Родиной. Да, малолетнее чудовище могло часами таращиться из окна на аллейку, прилегающую к дому, в ожидании прибытия своей непутевой мамаши, и даже спустя много лет, сидючи в самом центре Манхэттена на Серкл сквеа, она себе представляла, что вот такая же ива росла у них перед домом в Подмосковье. Так же томительно и сладко благоухала сирень, а в воздухе разливался ласковый полуденный зной, в бесконечной синеве неба таяли следы реактивных самолетов. И где-то вдалеке стучали каблуки — это мама, мама, мама приехала… Все это давно схлынуло и осталось в памяти мутным, тяжелым наваждением.
Лечь животом на широкий каменный подоконник, нос расплющить о пыльное стекло, прищуриться, пытаясь разглядеть в слепящем глаза солнечном луче прохожих внизу, на бетонной дорожке. Вот проковыляла похожая на пингвина соседская бабка Сосничиха, прошмыгнул через двор Юрка, очень опасный рецидивист восьми с половиной лет, еще какой-то незнакомый мужик торопливо взбежал по ступенькам подъезда. За спиной раздавалась тяжелая поступь семейного главнокомандующего. — Нинк, а мама приедет сегодня? — оборачивалась от окна Лика.
— Ах ты засранка, научил тебя старый леший на мою голову, какая я тебе Нинка, баба я тебе, баба. Ты что же это, очумела совсем, сидишь под форточкой раскрытой? Не болела давно? — разорялась баба Нинка, стаскивая девчонку с подоконника, и добавляла с суровой неодобрительностью: — А шут ее знает, мамашу твою. Я ей не указчик.
И томительный душный день, день, наполненный ожиданием, тянулся дальше. Солнечным лучом полз по вытоптанному ковру детской, витыми стрелками передвигался по циферблату настенных часов, выстукивал невидимыми каблуками где-то внизу, под окнами. И худая низкорослая девочка в вечно съехавших на колени колготках бесцельно бродила по квартире, томясь ожиданием. Слонялась по двору, мимо несших свою бессменную вахту на лавке у подъезда древних бабок, смотрела на надувавшиеся парусами на ветру штопанные простыни, колыхавшиеся на протянутых между деревьями веревках. Уныло карабкалась на деревянную горку, отталкиваясь ногами, кружилась на хрипло скрипящих каруселях и ждала, ждала.
Мать приходила, Лика (бабка догадалась назвать ее Элеонора, заморское имя не прижилось, само собой трансформировалось в Лику, Личку, Ликусю) висла на материнской шее, обвивала всем своим тщедушным тельцем, поджимала ноги, держалась что есть мочи, в детской доверчивости своей надеясь, что сможет удержать возле себя мать как можно дольше. Но час свидания истекал слишком быстро; Лику, заходящуюся в беззвучном плаче, бессильно открывающую рот, как рыба, выброшенная на берег, оттаскивали от раскрасневшейся матери, директорша быстро сворачивала античную трагедию.
— Ну-ну, не реви, брось, — примирительно приговаривал дед, прижимая к себе ее встрепанную черноволосую голову. И Лика всхлипывала еще слаще, вжимаясь опухшим раскрасневшимся лицом в широкую грудь своего единственного защитника, вдыхая такой родной и домашний запах чистой выглаженной рубахи.
— Не реви. Вот, посмотри-ка!
Дед нашаривал на столе листок бумаги и неумело вычерчивал на нем какие-то каракули. Лика поначалу не желала так просто расставаться со своим горем, отворачивалась от рисунка. Потом любопытство брало вверх, и между пальцами прижатых к лицу ладоней выглядывал круглый любопытный глаз.
— Вот видишь, так самолет заходит на посадку, — объяснял дед, тыча узловатым пальцем в рисунок. — И спускается он по такой вот кривой линии. Она называется глиссада.
И Лика уже заинтересованно следила за разворачивавшимися на листке бумаги военными действиями, слушала любимый, чуть надтреснутый голос и лишь изредка, по инерции, всхлипывала.
К вечеру же все три ягненочка — Нинка, Эйты (тот обаятельный, добрейшей души человечище под два метра ростом, непонятно как женившийся на продмаге, при общем-то дефиците мужчин послевоенного времени, подставлял телевизору ухо со слуховым аппаратом) и ослабевшая от пережитого несчастья, насильно накормленная ужином Лика — сидели рядком у телевизора и с увлечением смотрели «Спокойной ночи, малыши». Мир был восстановлен.
До поры до времени Лика и не знала, что ее семья чем-то отличается от общепринятого советского стандарта. Вот ведь и в сказках всегда так было — жили-были дед да баба, и была у них курочка Ряба, то есть внучка Ликуся. О том, что у других детей мамы бывают на постоянной основе, а не с короткими визитами по субботам, Лика начала смутно догадываться годам к шести. Когда же выяснилось, что у некоторых существуют еще и какие-то таинственные папы, Лика и вовсе пришла в недоумение и пристала с вопросами к бабке. Продмагша, имевшая довольно смутное представление о психологии вообще и детской в частности, а также никогда не отличавшаяся сдержанностью и тактом, выплеснула на любознательного ребенка целый ворох плохо вязавшихся между собой фактов. Лике сказано было, что папаша ее, козел паршивый, не захотел на больного ребенка горбатиться и смылся. И что туда ему и дорога, кобелю поганому, сами вытащим, ничего, руки-ноги-голова есть, слава богу. И что мать, дура малахольная, сама тоже хороша, знай путалась с кем попало, а приплод подкинула бабке с дедом, ей, видите ли, тоже жить хочется, а ребенок только на шее висит да гулять мешает. Получив такую исчерпывающую информацию, Лика отправилась переваривать ее в свою комнату, под кровать. И, когда спустя два часа, бабка выволокла ее оттуда за ногу, в голове девочки уже сложилось стойкое представление о том, что другие дети, хорошенькие, умненькие и здоровенькие, своим родителям в радость, она же, Лика, больная, убогая — камень на шее. Должно быть, очень тяжелый и неудобный камень, раз папа совсем не захотел ее видеть, а мама отваживается на встречу лишь раз в неделю.
По-хорошему объяснить ей, что, как и почему, никто так и не взялся, и Лика много лет восстанавливала историю своего появления на свет по обрывкам разговоров, коротким причитаниям матери и неизменному ворчанию бабки. И всякий раз из этих случайно услышанных фраз, восклицаний и вздохов следовало, что ее, Ликино, рождение пришлось совершенно некстати, взбаламутило, переполошило и раскидало в разные стороны некогда дружную семью. Полностью же восстановить для себя ход событий ей удалось лишь через много лет, во вполне взрослом возрасте, когда осознание себя нежеланным, никому не нужным, больным и нелюбимым ребенком полностью укоренилось в ее душе.
2
Первая любовь — последняя игрушка детства.
В те стародавние времена, когда закрутилась вся эта канитель, предшествующая рождению Лики, блудная мамахен звалась еще просто Оленькой, носила узкие платья, приоткрывающие стройные загорелые коленки, начесывала перед зеркалом светлые пушистые волосы, укладывая их в пышный валик на макушке, звонко хохотала и рисовала длинные черные стрелки над блестящими легкомысленными глазами.
Отец, тогда еще крепкий моложавый мужчина, преподаватель в авиационном институте, в единственной дочке души не чаял. Мать воспитывала чадо со свойственной ей суровостью, однако тоже готова была разорвать всякого, кто посмеет покуситься на драгоценное дитя. Оленька особенных забот родителям не доставляла — росла здоровой и послушной, училась не блестяще, но вполне сносно, вертелась перед зеркалом не больше, чем другие семнадцатилетние девчонки. И вдруг — надо ж было такому случиться — к вящей неожиданности семейства выкинула финт: сокрушительно влюбилась в сына крупного партийного функционера, студента МГИМО, «золотого мальчика».
Трибуны стадиона ревели от восторга. Какой-то парень в соседнем ряду, не справившись с нахлынувшими эмоциями, вскочил ногами на узкую деревянную лавку и заорал, размахивая руками: — Женька — молоток! Держись!
Оленька рассеянно глянула вниз, туда, где носились по поросшему ярко-зеленой травой футбольному полю парни в красной и синей спортивных формах. И зачем только Светка притащила ее на этот студенческий матч? Сама-то, понятно, пришла поддержать своего дорогого жениха, но ей-то зачем тут время терять? Кругом все орут, прыгают, как ненормальные, и только она, единственная, скучает, глядя на яростно гоняющих мяч игроков.
Там, внизу, темноволосый фигуристый парень, вероятно, тот самый Женька, завладел наконец мячом и уверенно погнал его к воротам. Светка — вот тоже, болельщица нашлась! — не отрывая глаз от поля, изо всех сил сжала Олино запястье. Парень лихо обошел мельтешившего перед ним игрока другой команды, размахнулся и точным движением послал мяч в ворота. Светка взвизгнула и обхватила подругу за шею. Зрители взревели. Оленька недовольно сдвинула красиво подведенные брови.
— Пойдем, спустимся, — позвала подруга, когда прозвучал финальный свисток. — Надо ребят поздравить.
— Скажи уж прямо, не терпится Славика своего повидать, — съехидничала Оленька, но все-таки пошла вслед за Светой.
Внизу, в узком внутреннем коридоре между раздевалками, толклось много народу. Все голосили, пожимали друг другу руки, обсуждали только что закончившийся матч. Светка заработала локтями, протискиваясь вперед. Из-за двери раздевалки выглянул Славка, увидел их, помахал рукой.
— Славик! — взвизгнула Светка и повисла у него на шее.
Оля терпеливо ждала, когда эти излияния чувств, наконец, закончатся, и они смогут выбраться из потной гомонящей толпы. Но тут дверь раздевалки снова хлопнула, и из-за плеча Славика выглянул незнакомый улыбчивый парень, тот, которого она заметила на поле. Он глянул на Олю быстрыми янтарно-карими глазами, откинул прилипшие ко лбу темные вихры и улыбнулся.
— Девушки приветствуют героев? А я разве не заслужил поздравлений?
— Поздравляю… вас, — пролепетала почему-то вдруг оробевшая Оленька. — Вы… вы очень здорово бегали…
Из его удивительных золотистых глаз так и брызнули искорки веселья. Светка картинно покрутила пальцем у виска.
— Ну ты даешь, Оль! Бегали… Женька же герой! Финальный гол забил. Ты его не узнала, что ли?
— Да девушке, по-моему, что гол, что офсайд, никакой разницы, — хитро прищурился Женя. — Проскучала на скамейке весь матч. Верно, Ольга?
Оленька пожала плечами и почему-то покраснела. А Женя, продолжая веселиться, отцепил от майки маленький металлический значок с эмблемой института, наклонился к Оле и приколол его к ее платью. Горячие пальцы на мгновение коснулись груди сквозь тонкую шелковую ткань, завитки на висках взлетели и опустились от его все еще прерывистого после матча дыхания. Оля сморгнула и смущенно потеребила пальцами значок.
— Это вам, Ольга, как самому заинтересованному болельщику, — усмехнулся Женя. — Ну что, друзья, может, поедем куда-нибудь погуляем? Мне родитель ради такого случая ключи от машины дал.
А потом мчались по Москве в серебристой «Волге», какие Оля раньше только издали видела. Смеялись, болтали обо всем на свете, кричали какие-то глупости в окно. А вечером, на танцплощадке в Парке культуры разноцветные огоньки расцвечивали белое платье яркими горошинами, и звезды, щедро рассыпанные по небу, кружились над головой. Женины ладони на ее спине, Женины губы легко, будто невзначай касаются ее волос. — О-льга, — протяжно шепчет он. — О-льга.
И видно, как вздрагивает впадинка на шее в расстегнутом воротнике его рубашки.
— Я тебя не пущу никуда, так и знай! — разорялась взбешенная неожиданным взбрыком всегда послушной дочери Нина Федоровна. — Какие свидания, ишь чего удумала, у тебя поступление в институт на носу. Сиди занимайся! Она грохнула о письменный стол стопку учебников.
— Олюша, у тебя ведь и в самом деле экзамен через неделю, — примирительно увещевал отец.
И Оля, давясь злыми рыданиями, хлопала дверью своей комнаты, усаживалась за письменный стол, тупо разглядывала корешок учебника. Какие могут быть экзамены, какие институты, когда пришло и накрыло то самое, огромное и настоящее, о чем до сих пор только читалось в книгах и томительно мечталось ночами. Что понимают они, эти пошлые мещане? Для них — лишь бы девочка была здорова и хорошо училась. А то, что девочка давно выросла и у нее в груди сердце разбухает и теснит грудную клетку, на это им наплевать.
И Оленька напряженно прислушивалась к звукам в квартире, ожидая вздоха пружин под тяжелым телом укладывающейся матери и громовых раскатов храпа полуглухого, контуженного на войне отца. Потом тихонько выскальзывала из комнаты, хватала в прихожей модные лакированные лодочки на тонком каблуке, аккуратно прикрывала за собой входную дверь и, обувшись уже на лестнице, сломя голову, летела вниз по ступенькам. Воровато оглядываясь на окна, перебегала двор и проскальзывала на переднее сиденье притаившейся в темном тупичке за гаражами «Волги».
Женька обхватывал ее за плечи, торопясь, словно не мог насытиться, припадал к ней, целуя виски, щеки, губы, шею. И все вместе — запах бушующей во дворе сирени, бензина, его гладкой кожи под ее губами — сливалось в какой-то дурманящий голову аромат любви и сумасшедшего счастья.
В институт Ольга провалилась. Мать покричала, но в конце концов смилостивилась, разрешила догулять последние летние каникулы, а с осени обещала оформить кассиршей к ней в продмаг. Ольга, впрочем, об этом и не думала, мысли ее заняты были совсем другой неожиданной, стыдной и неудобной проблемой. Слонялась по квартире рассеянная, долго тянула, но в конце концов сходила все же к врачу и вечером, когда сидели с Женькой на каменном парапете набережной Москвы-реки, пряча глаза, сообщила ему новость.
— Ольга, так это же чудесно! — обрадовался он. — Это просто здорово. Какая ты у меня молодец!
— Правда? — расцвела Оля. — Ты рад?
— Ну еще бы! Представляешь, мы с тобой оба такие красавцы, так какой же сын у нас получится? Да просто Мастроянни! Следить придется, чтоб не украли.
— Да, но… — неуверенно протянула Оля. — Что же мы будем делать?
— Как что? — удивленно дернул плечами Женька. — Ясно что. Жениться будем.
И Оля, окрыленная, обхватила его руками за шею и поцеловала, не стесняясь неодобрительных взглядов прохожих.
Через несколько дней Женька повел ее знакомиться с родителями. Оля во все глаза смотрела на роскошный мраморный холл высотки на Котельнической, недоверчиво трогала пальцем деревянные панели лифта, вслушивалась в гулкое эхо широченных коридоров. Отец Жени, приземистый краснолицый мужчина в вышитой у горла косоворотке, выслушал их хмуро, сдвинул на переносице кустистые брови и повел сына разговаривать в кабинет. Оля осталась с мамой, холеной дебелой дамой с лакированным начесом. Женщина угощала ее кофе из крохотных чашек китайского фарфора, показывала фотографии в тяжелых, с треском разворачивавшихся альбомах, держалась вежливо и отстраненно. Из окон квартиры видна была вся Москва — улицы, дома, парки и скверы, закованная в гранит река, по которой медленно полз пароходик, играющие золотыми солнечными бликами купола Кремлевских соборов. И Оля немного помечтала о том, как будет жить здесь, подносить к стеклу маленького сына и показывать ему: «Смотри, смотри, это твой город, самый лучший, самый красивый город на земле».
О грядущей свадьбе и пополнении в семействе она за весь вечер не обмолвилась ни словом. Ольга все ждала, что вот появится Женька, и они все обсудят, решат, где будут жить, как назовут будущего Мастроянни. Но Женька в своей роскошной квартире неожиданно стушевался, почти слился с добротной, со вкусом подобранной обстановкой. Все больше отмалчивался, поглядывая на родителей. И провожать ее не поехал, отец вызвал по телефону молчаливого усатого шофера, который поздно вечером отвез Олю домой.
Знакомая серебристая «Волга» бесшумно летела по пустым темным улицам. Ольга забилась в угол на заднем сиденье, стараясь не обращать внимания на гадко царапавшее внутри предчувствие беды.
И беда действительно грянула, разразилась неожиданно и накрыла такой черной и непроглядной тучей, что Ольге оставалось потом только голову ломать, за что же обрушилась на нее такая страшная расплата. Неужели за одно короткое лето ослепительного счастья — за всю эту глупую сирень, за цветные блики на платье и горячие губы на коже?
Грязно-серое небо неопрятными клочьями висело над городом. Тусклое подслеповатое солнце безуспешно пыталось проглянуть сквозь унылую пелену и, отчаявшись, спряталось окончательно. Редкие прохожие спешили по холодному, продуваемому осенним ветром бульвару, кутаясь в кофты и пальто. Ольга плакала, сжавшись на сырой скамейке. Евгений, опустившись перед ней на корточки, заглядывал ей в лицо, щуря так ослепившие ее когда-то золотисто-карие глаза. — Гусенок, ну ты же понимаешь, я не могу отказаться, — сбивчиво объяснял Женька, сжимая ее руки. — Это не я решаю, это такой уровень, тебе и не снилось. Ну перестань!
Он торопливо стирал с ее покрасневших щек слезы, прижимал к себе ее голову, гладил по волосам, успокаивал.
— Почему… ну почему ты должен ехать в эту проклятую Африку? Почему именно ты? — всхлипывала Ольга.
Она вскочила со скамейки, торопливо пошла, не разбирая дороги. Женька догонял ее, утешал, грел руками ее озябшие пальцы. Они свернули куда-то во дворы, брели мимо облетевших лип, мимо кутавшихся в куцые куртки мужичков, забивающих на колченогих столах неизменного «козла». Из приоткрытой форточки кряхтел чей-то патефон, в соседнем окне женщина, стоя коленями на подоконнике, забивала на зиму ватой щели в оконных рамах. Уже темнело, в домах вспыхивали огни, окна оживали. И за каждым стеклом, за каждой задернутой занавеской были люди. И никому из них не нужно было уезжать.
— Ну что ты, как маленькая, — ласково гудел Женя. — Знаешь ведь, какая у меня специальность. А тут — распределение, эта должность в посольстве. Это ведь не навсегда, я вернусь через полгода. Ну, максимум через год.
— А я как же? Что со мной будет? — рыдала Оля.
— Да ничего не будет, — уверял Женька. — Отдохнешь, успокоишься, родишь мне маленького Марчелло, как договаривались. А потом я приеду, и мы тут же распишемся. Черт, да я бы прямо завтра в загс с тобой пошел, если б документы уже не ушли на оформление.
— Ты не приедешь! — в истерике, не желая успокаиваться, мотала головой Ольга. — Ты никогда не вернешься.
И отчаянно вцеплялась пальцами в отвороты его модного болоньевого плаща, словно надеясь удержать.
Но он все-таки вернулся. Правда, не через полгода, а через два. Когда на руках у осунувшейся, почерневшей от безжалостной беды Ольги уже был годовалый ребенок. Не тот красивый, розовощекий и упитанный мальчик, вылитый Мастроянни, о котором они когда-то мечтали, а уродливая девочка с большой головой в бордовых пятнах и маленькими кривенькими ножками. Диагноз, поставленный ей врачами, звучал возвышенно и даже как-то гордо — гидроцефалия головного мозга.
3
— Конечно, случаи разные бывают, — разводила руками роддомовская главврач, благодаря белой крахмальной шапочке на голове и набрякшим синим векам напоминающая вокзальную буфетчицу. — Но прогноз неутешительный. Лет пять, может быть, семь при хорошем уходе. Бывают и случаи выздоровления, но это редкость…
Девятнадцатилетняя Ольга, опухшая от рыданий, отупевшая от навалившегося на нее непосильного груза, сидела на продавленной больничной койке и раскачивалась из стороны в сторону, машинально прижимая к себе тощий сверток, в котором ворочалось и тянуло шею новорожденное дитя. Санитарка, жилистая вертлявая баба Зина, возила вонючей шваброй между кроватями. Поравнявшись с Ольгой, она наклонилась и зашептала ей в ухо:
— Чего ревешь-то? Оставляй девку здесь, под расписку. Ты сама дите еще, куда тебе больной ребенок, дуре? Ниче, государство позаботится.
Ольга, не отвечая, смотрела на санитаркины шевелящиеся темные морщинистые губы, и в голове само собой складывалось: «А что, если правда…» Если уродец исчезнет, испарится, как будто его и не было. Может, тогда она станет прежней беззаботной хохотушкой Оленькой, самой красивой девочкой в классе? Может быть, все станет, как прежде? Вернется весна, радость, юность и… Женька… Женечка, любимый… Так просто… Положить сверток на каталку, подписать бумагу и…
Из коридора донесся необычный для родильного отделения шум — громкий мужской голос, топот тяжелых ботинок, взвизги медсестер:
— Мужчина, мужчина, куда вы? Сюда посторонним нельзя!
Голос рыкнул что-то неразборчивое, и через минуту в палату ворвался отец. Ольга, кажется, впервые за всю жизнь видела обычно тихого покладистого Эйты таким — непреклонным, решительным, идущим вперед, не слушая ничьих возражений. Отец направился к ней, подхватил на руки внучку, бросил дочери:
— Собирайся!
И Ольга принялась послушно натягивать куртку прямо на халат. Что-то было сейчас такое в отце, что-то, заставлявшее слушаться его беспрекословно.
И вот они оказались дома, все вчетвером. И жизнь закрутилась вокруг крошечного орущего комочка, которому врачи пророчили не больше пяти-семи лет жизни. Продмаг и летчик тогда буквально вцепились в это вечно орущее существо. На этой почве родители друг с другом практически не лаялись, чего между ними не наблюдалось аж с 1948 года, а именно с момента свадьбы. Дед, коренной белорус, унаследовал от своей матери способности к знахарству. Все лето и раннюю осень бродил по лесам, собирая целебные травы, которые высушивал, потом измельчал и рассыпал по жестяным банкам. Травами этими он лечил весь их небольшой летный микрорайон, теперь же со всей силой последней любви принялся за выхаживание внучки. Дед поил Лику своими чудодейственными отварами по часовой сетке, спал урывками, так как эта сетка включала в себя и ночной прием отвара. Первое время лечение не давало никакого результата. Синевато-бледный ребенок с непомерно большой головой отчаянно не желал бороться за жизнь, учиться сидеть, вставать, разговаривать. Ольга ревела лишь при одном взгляде на колыбельку, оплакивала все, что сотворила с ней судьба, так много обещавшая и так жестоко обманувшая ее ожидания. Жизнь ее теперь была чередой одинаковых безрадостных дней, наполненных криками больной дочери, руганью матери и постоянным молчаливым давлением отца, который, единственный, казалось, верил в будущее, бродя ночами по квартире, как лунатик, с неизменной чашкой своего пахучего зелья в руке.
В один из таких обычных, ничем не примечательных дней свалившегося на Ольгу кошмара в дверь позвонили. Она открыла, хмуро поглядела на нежданного посетителя и вдруг охнула, отступила на шаг и прижала руку к губам. На пороге стоял Евгений.
Женька в светлой и мягкой заграничной дубленке, с шуршащим целлофаном в руках, в который были обернуты нежные чайные розы, со своей мальчишеской белозубой улыбкой показался сейчас Ольге таким же нереальным, как если бы на пороге ее квартиры возник вдруг Дед Мороз. Казалось невероятным, что когда-то она с легкостью прижималась к нему, ерошила пальцами волосы, целовала. Женька топтался в прихожей, не зная, куда пристроить цветы.
— Ну как ты? Как живешь? — неуверенно спросил он.
— Я? Я нормально. У меня… дочка. — Ольга растерянно теребила пояс халата.
— Да, я знаю, мать мне писала. Так не повезло… Ужас!
— А ты… надолго приехал?
Ольга даже зажмурилась, задавая вопрос. Так жутко и сладко было б услышать «навсегда, насовсем, к тебе».
— Не, я в отпуск, — светски улыбнулся Женя. — Служба, сама понимаешь… Вот, решил зайти. Может быть, помощь нужна? Так я вот…
Он наконец пристроил букет на тумбочке у зеркала, полез во внутренний карман дубленки. Появившаяся на пороге кухни продмагша, скрестив руки на груди, мрачно уставилась на несостоявшегося зятя исподлобья, внимательно следя за его суетливо шарящими по карманам руками.
— Вот, возьми, тут деньги… — Женька протянул Ольге пухлую пачку купюр.
Она же еще не понимала, что происходит, знала лишь, что вот они, его длинные тонкие пальцы, такие родные, снова касаются ее руки. Подскочила мать:
— Это сколько же тут, а? Сколько не пожалел? Откупиться думаешь? Как бы не так! Мы свои права знаем, алименты отстегивать будешь, как миленький.
Женька попятился под напором грозной фурии, Ольга ахнула:
— Мама, о чем ты? Уйди, пожалуйста!
Но тут из комнаты грозной поступью вышел бывший военный летчик.
— А, барин вернулися? На дочь взглянуть не желаете? — тихо осведомился новоиспеченный дед.
И снова в его голосе зазвучало что-то такое, что Ольга отпрянула, забилась в угол прихожей, с ужасом ожидая неминуемой развязки. Евгений же, кажется, ничего такого в голосе ее отца не уловил.
— Я… Я в общем-то… — неуверенно начал он. — Лучше, наверно, в другой раз. Я с мороза. А ребенок все-таки болен.
— Зачем же пожаловать изволили? — наступал на него летчик.
— Я, собственно, денег привез, — петушась, воскликнул Женя. — Вам же нужно, наверное…
— Денег? — гаркнул вдруг отец.
Он выхватил из рук жены пачку банкнот, сунул ее за отворот дубленки пятившегося Женьки, распахнул дверь и вытолкнул того на лестничную площадку.
— Не нуждаемся! — хрипло выкрикнул он. — Вон пошел!
Ольга видела, как Женька, никогда не унывающий Женька, испуганно, как-то боком, трусцой сбегал вниз по лестнице, в панике оглядываясь на сурового летчика.
— Папа, ну зачем ты? — всхлипнула она.
— Ничего, дочка, ничего! — примирительно похлопал ее по руке отец. — Сами вырастим. Никогда перед подонками не лебезил, нечего и начинать на старости лет.
Ольга же бросила быстрый взгляд в зеркало и охнула в отчаянии. Боже мой, неумытая, нечесаная, в старом халате, закапанном молочной смесью. Во что она превратилась, и все из-за этого вечно орущего, издергавшего всю семью младенца. Неудивительно, что Женька не захотел даже обнять ее. Этакое страшилище!
Не в силах поверить, что это и есть конец всем ее мечтам и ожиданиям, Ольга попробовала попытать счастья еще раз. Уж теперь она позаботилась о том, чтобы выглядеть привлекательно. С трудом уложила отвыкшими пальцами пухлую шишечку на затылке, закрутила задорные колечки у висков, набросила на плечи материнскую шубу и поехала прямиком на Котельническую, караулить любимого у подъезда.
Женька никак не появлялся, и она замерзла, замерев возле подъезда высотки. Дом со множеством арок, башенок и подъездов жил своей жизнью, равнодушные люди входили и выходили, и никому из них не было до нее дела. Покрытая серой коркой льда Москва-река обдавала холодом. По мосту, деловитые и быстрые, бежали автомобили. Нос покраснел, стрелки на веках размазались от летевшего в лицо снега, и когда наконец он вышел, Ольга снова не смогла изобразить той, прежней, очаровательной и легкомысленной улыбки.
— Ты что тут делаешь? — удивился он.
И Ольге показалось, что в словах его прозвучала досада.
— Женя, это же я, — тихо произнесла она, напряженно вглядываясь в не желавшие смотреть на нее золотисто-янтарные глаза. — Ты забыл разве? Ведь мы собирались… Я же люблю тебя, Женька!
— Давай-ка прогуляемся, — отвернулся он.
Схватил ее под руку и повел куда-то по набережной. Колючие снежинки сыпались в лицо, и голос Евгения казался таким же — холодным и неприятным.
— Ольга, ты должна понять. Мне ведь было двадцать два, тебе восемнадцать. Что мы вообще видели в жизни, что понимали? Ну, встречались, ну целовались, несли всякую чушь. Но ведь два с лишним года прошло. У тебя своя жизнь, у меня своя. Я мог бы сейчас, конечно, как честный человек и все такое… Но ты же понимаешь, что это все мещанские правила, которые никому не приносили счастья. К тому же у меня другая женщина, и у нас серьезные отношения, понимаешь? Ну зачем мне калечить твою жизнь, а тебе мою? Ведь мы, по сути, чужие друг другу люди…
Ольге казалось, что еще минута, и она закричит, завоет от этих слов.
— Ладно, — кивнула она, отступив на шаг и вытащив руку из-под его локтя. — Я поняла.
Евгений с видимым облегчением улыбнулся, сказал:
— Ну и прекрасно. Ты звони, если что. Денег там или помощь какая-то…
И пошел прочь, сияя сквозь валившийся с неба снег своей модной золотистой дубленкой. Ольга же на самом деле поняла лишь одно — что счастье ее, сумасшедшее, небывалое, никем не виданное прежде счастье, отобрали больная дочь, грозный отец и сварливая мамаша.
Однако делать было нечего, пришлось возвращаться в семейное гнездо, на этот раз возвращаться уже окончательно, ни на что больше не надеясь. Дед и бабка тем временем, вскоре забыв о посещении блудного зятя, с новыми силами взялись за выхаживание внучки, подогнали жизнь под расписание приема лекарств. В результате этого нечеловеческого трехлетнего подвига девочка встала и пошла своими ножками, заговорила, стала держать ложку в руках, и головка у нее теперь болела не двадцать четыре часа в сутки, а двенадцать, затем шесть, а потом и вовсе головные боли перестали ее мучить. Смерть с одной стороны, бабка с дедом с другой. Победила семейственность.
К шести годам Лика ничем не отличалась от нормальных детей. Она не была заторможена, или плаксива, или не в меру капризна. Тяжкие страдания, перенесенные в раннем детстве, закалили ее характер, и девочку не так просто было вывести из себя. Врачи только руками разводили — такое небывалое везение, просто чудо. И все же настоятельно не рекомендовали девочке в будущем обзаводиться потомством — чудеса чудесами, а генетика — вещь неумолимая.
4
После выздоровления Лика, для адаптации к коллективу, была отправлена в детский сад. Но суровое сердце деда-летчика, два раза горевшего в самолете, почти глухого, томилось и спотыкалось в одиночестве, и он, несмотря на яростные протесты продмага и еле слышное шелестение со стороны мамахен, извлек любимое чадо из советской кузницы зла. Пролетарское воспитание для Лики было закончено, она ни разу не ездила в пионерский лагерь, для школы оформлялись бесконечные справки-освобождения от физкультуры, а в столовой ее, единственную, не заставляли давиться манной кашей в склизких, мерзких комочках.
Зато они с дедом бродили в лесу до темноты, приносили разгневанному продмагу две корзины грибов, охапку душистых, свежесорванных целебных трав. И, казалось, нет ничего прекраснее в жизни, чем брести вот так по убегающей из-под сандалий сухой тропинке, держаться за мозолистую ладонь и слушать монотонный тихий голос:
— Вот, помню, в сорок втором тяжело было, зима разразилась лютая…
Ольга тем временем, освободившись от необходимости нести посменную вахту возле больной девочки, занялась устройством личной жизни и вскоре нашла-таки женское счастье в объятиях начинающего художника, по слухам, большого таланта. И хрупкое равновесие, установившееся в семье в последние годы, снова было нарушено. Несокрушимому союзу воздуха и товаров народного потребления отчаянно не понравился зять, художник, придурок и выпивоха. Эти крайне неприятные и, как казалось счастливому новобрачному, тайные пороки были тут же извлечены на свет божий и обнародованы во всеуслышание прозорливым продмагом: «Не будем пригревать нищету голозадую, мазилкин, тоже мне, еще чего не хватало», — был вынесен вердикт. А уж когда Личка после посещения этого козлобородого творца заболела ангиной с высокой температурой, тут уж дед клятвенно пообещал, что ноги его, потенциального убийцы и мучителя ребенка, не будет в доме.
Однако Ольга решительно объявила, что на этот раз не позволит святому семейству разрушить ее счастье, и отбыла вместе с новым избранником в светлое будущее. Поселились они на подмосковной даче творца-недоучки, сопровождаемые последним отцовым напутствием: «Ты, если хочешь, приходи. Но только без него! Без него!»
Лике бородач тоже не понравился. Лика хотела жить с бабой, дедом и матерью, зачем нам чужие… Откровенно говоря, Лика любила и знала только деда, и не понимала, как можно любить кого-то еще. Мать Лика тоже любила, но она ее не знала. По странному стечению обстоятельств Лика пронесла эту любовь к деду через всю жизнь, помнила его, как живого, хотя он и оставил свою обожаемую внученьку довольно рано, и ее, школьницу уже, даже не пустили к нему на похороны…
Под окном подъезда стоял приземистый ржавый автобус с черной полосой вдоль борта. Вокруг него суетились люди — вносили венки, разбрасывали по тротуару еловые ветки. Бабка, в криво повязанном черном платке похожая на престарелого пирата, отдавала распоряжения, и даже отсюда, с высокого этажа, через плотное стекло слышен был ее командирский голос, ничуть не смягчившийся даже перед лицом утраты. Лика, сейчас уже угловатый четырнадцатилетний подросток с цепким и настороженным взглядом зеленых глаз, как когда-то в детстве, висла на подоконнике, прижимая пылающее лицо к стеклу. За окном был душный пыльный летний день, и нагретое стекло не освежало лоб, не приносило хотя бы минутного облегчения. Автобус зафырчал, стайка людей в черном, похожих на встрепанных грачей, загрузилась в салон, и через минуту двор опустел. Ее не взяли.
Весь вечер она билась с матерью и бабкой за право увидеть в последний раз любимого деда, ей же объявили беспрекословно: «Нечего и думать. Ты больная. Тебе сильные потрясения вредны». И она сдалась, согласилась. Слишком сильно было в ней это впитанное с детства ощущение — тебе нельзя, ты больная. Всем можно, а тебе нельзя.
Нельзя прыгать через скакалку, ходить в походы, плавать в бассейне. Нельзя прийти попрощаться с любимым человеком. Да что там, просто нельзя любить, привязываться, мечтать. Жизнь все равно отнимет, отберет самое дорогое. А тебе нельзя, тебе вредны сильные потрясения.
И оставалось только бродить одной по враз опустевшей квартире, ловить пальцем пылинки, плавающие в горячем воздухе, и вздрагивать от мерещившегося в душной пустоте родного голоса:
— А вот, к примеру, бомбардировщик «Б-52». Как бы тебе объяснить… Да вот, смотри, сейчас нарисую.
Много лет спустя, забыв все свое прошлое, похоронив ту, самую юную и счастливую часть себя, она пришла все же к выводу, что единственный мужчина, который ее по-настоящему любил, прощал и всегда желал только добра, был ее полуглухой дед — военный летчик, муж своей жены-продмага и герой войны, вся грудь в орденах.
5
«Я хочу танцевать, рисовать, играть на рояле, писать стихи. Я хочу всех любить — вот цель моей жизни. Я люблю всех. Я не хочу ни войн, ни границ. Мой дом везде, где существует мир…»
Вацлав НижинскийСвет в зале начал медленно гаснуть, постепенно замер обычный театральный гул. Еще пару секунд слышны были отдельные шорохи, чей-то быстрый шепот, и, наконец, все стихло. Грянул оркестр, полилась в зал волшебная музыка Дебюсси, и тяжелый бордовый бархатный занавес пополз в разные стороны, открывая ярко освещенный сказочный лес. Постановка балета «Послеполуденный отдых фавна» была большой уступкой со стороны руководства Большого театра в пользу модерновых танцевальных течений, приходивших с Запада и настоятельно не рекомендованных сверху к внедрению в советское искусство. Возрождение этого легендарного балета, поставленного Нижинским в 1912 году, стало возможно лишь по особому указанию партии и правительства по случаю приезда высокопоставленных правительственных гостей из Франции.
Лика подалась вперед, во все глаза вглядываясь в декорации. Место ей, к сожалению, досталось на балконе неудачное, часть сцены оказалась не видна. Но за билет и на это кресло ей пришлось выстоять многочасовую очередь в кассу, притом занимать ее пришлось накануне вечером. Пока яркие лучи софитов высвечивали лишь распростертое под причудливо сплетенными ветками неподвижное тело, это было не так важно. Тонкая изменчивая мелодия, казалось, вот-вот должна была разбудить дремавшее в заколдованном лесу удивительное существо. Лика, затаив дыхание, ждала, когда это случится.
И наконец существо пробудилось от дремы, подняло голову, потянулось, все исполненное ленивой животной грации, и приложило к губам свирель. Обтянутое бело-коричневым трико тело озорного фавна жило какой-то своей жизнью, пластично гнулось и распрямлялось, полусознательно, повинуясь древним зовущим инстинктам. Танцовщик успел сделать всего лишь несколько движений по сцене, как по залу пронесся уже восторженный шепот:
— Андреевский, Андреевский…
И Лика, словно загипнотизированная, не в силах оторвать взгляда от движущейся по сцене, то настороженно, крадучись, то резко, угловато, фигуре, тихо поднялась со своего неудобного места, прошла между кресел к ступенькам, спустилась вниз, к самому краю балкона, и опустилась на колени перед балюстрадой. Она не слышала раздраженных шиканий, не чувствовала ломоты в ногах. Привалившись к барьеру, она неотрывно смотрела на приковавшего к себе всеобщее внимание фавна. На Никиту…
Казалось удивительным, невозможным, что этот древний языческий бог легко, словно играючи, передвигавшийся по раскинувшемуся на сцене красочному лесу, и есть их молодой преподаватель хореографии из модной театральной студии, заниматься в которую Лику устроил незадолго до смерти дед. Преподаватель, в которого вот уже месяц Лика была отчаянно и безнадежно влюблена. Занятия в театральной студии должны были, по мысли старика, раскрепостить нелюдимую девочку и сдружить ее с коллективом. Именно здесь, как ему казалось, маленькая принцесса могла бы встретить достойного ее принца, тем более что занимались в студии исключительно дети из хороших семей. Замкнутая Лика поначалу ни за что не хотела отдавать занятиям часть того свободного времени, которое могла бы провести в разговорах с любимым дедом, тем более что ездить с их окраины в студию в центр было долго и утомительно. Но видя, как дед зажегся этой идеей, сдалась и уступила. После его скоропостижной смерти девочка собиралась тут же забросить занятия, и вот тут-то как раз и появился принц.
Конечно, годы спустя она бы с удовольствием поспорила о том, существует ли на самом деле вот такая любовь с первого взгляда и можно ли погрузиться в совершенно незнакомого человека, ничего о нем не зная. Но на тот период Лике исполнилось шестнадцать лет, и душа ее, совсем юное женское естество, начинала томиться в преддверии грядущих изменений. Разумеется, девушка ни на секунду не забывала о том, что она всегда будет находиться где-то за пределами обыкновенных человеческих радостей, и не ей выпрашивать у судьбы снисхождения, но все же, все же… Никита ворвался в ее жизнь мощнейшим цунами. Все случилось сразу, в один день, когда в их театральную студию пришел новый молодой балетмейстер. Лика запомнила появление Никиты посекундно, детально, как будто каждый его вздох или движение имели необыкновенное и важное значение.
Лика сидела в самом дальнем углу небольшого танцевального класса, подперев тщательно побеленную стену узкой, совсем детской еще спиной. За приоткрытыми окнами неистовствовала майская гроза, ветер шумел в верхушках кленов. Дверь резко распахнулась, и в класс вбежал Никита, открыто улыбаясь, словно одаривая притихших студийцев своим талантом, уверенностью в себе. Будто приглашая и их тут же, не медля ни секунды, проникнуться его уверенностью тоже, заставляя поверить, что они и есть самые талантливые, а новая постановка непременно станет целым событием в истории драмкружка.
Лика сразу и безоговорочно поверила в него и полюбила этого молодого бога. Любовь заполнила ее до краев, до самых корней волос — безграничным, слепым обожанием. Лика смотрела и не могла оторвать глаз от необыкновенно пластичной фигуры, впитывала в себя, проникалась им, боясь пропустить малейшее изменение в его интонациях или жестах. Как завороженная, следила за его перемещением по классу. Лике казалось, что законы земного притяжения не распространяются на Никиту Андреевского, что он может воспарить в любой момент, оторвавшись от пола, и даже не заметит этого.
Никита шагнул к ней, обдал свежим запахом дождя и пряной гвоздики, обратился к замершей в углу зеленоглазой девочке, больше похожей на ребенка, чем на подростка, вероятно, хотел узнать ее имя. Лика испуганно моргнула, с трудом догадавшись, о чем ее спрашивают, под смешки одногруппников назвала себя.
— Элеонора… но меня все называют Лика…
Никита улыбнулся глазами необычного, очень яркого голубого цвета. Во всем его облике было что-то необыкновенное — его невесомая фигура, вся состоящая из тонко вылепленных рельефных мышц, словно слетела с одного из полотен французских импрессионистов. В нем чувствовалась легкость и сила, грация и мужественность, и при этом не было ничего женоподобного, избыточного, слащавого. Его красота, помноженная на яркую харизму, вызывала мгновенное восхищение всех, кто попадался на его пути — женщин, мужчин, стариков, детей.
Тут прозвенел звонок, хореограф махнул своим ученикам на прощание рукой и выбежал из класса. Ребята, перекрикивая друг друга и делясь впечатлениями от нового учителя танцев, гурьбой повалили в открытую дверь. Лика плелась позади. То, что сейчас произошло, пока еще не имеющее названия, то, что теперь целиком и полностью завладело всем ее естеством, будто давило на плечи, на грудную клетку, затрудняло дыхание. Определенно, с этим стоило разобраться и как-то научиться заново жить.
Странно было, что в ее ничем ранее не примечательном существовании вдруг появился этот парень, легкий, как летний ветер, и подвижный, как ртуть. И словно уже не стало всех ее придуманных проблем, переживания показались вдруг такими нелепыми и смешными. Теперь на свете существовало что-то более важное, чем ее вечная замкнутость и настороженность, и это что-то было ярким и свежим, как молодая, умытая дождем листва.
Лика подбежала к запотевшему окну и изо всех сил дернула фрамугу. Оказывается, гроза давно улеглась, с неба падали крупные, теплые, серебристые капли, сверкающие на выглянувшем из-за туч солнце. И весь мир показался ей вдруг необыкновенно чистым, сияющим, пахнущим свежестью дождя и чудесным запахом мокрого асфальта… И как это она раньше не замечала этого яркого, сладостного, томительного майского счастья.
Лика, не осознавая, что делает, высунулась из окна, почти полностью намочив балетное трико о мокрый подоконник, зажмурила глаза и выкрикнула только что пришедшее ей на ум название всему этому буйному великолепию:
— Ни-ки-та!!!
С того самого дня Лика, высидев положенные часы в школе, бегом неслась в театральную студию, боясь опоздать, упустить хоть секунду из отведенного ей на Никиту времени — полутора часов, ровно столько длилось занятие по танцам. Никита, казалось, совсем не тяготился навешенной на него профсоюзной нагрузкой — занятиями с юными театралами. Приходил вовремя, шутил, смеялся, заражая всех вокруг своей энергией. Высокомерия, презрения признанной звезды к простым смертным не было в нем ни на йоту. И Лике поначалу даже не верилось, что это на него, именно на него, рвется в Большой вся Москва. Только потом, увидев его на сцене, она и впрямь поняла, какой удивительный светлый талант сочетался в этом гибком смешливом парне с обаятельным дружелюбием. Конечно, она и не надеялась на ответные чувства, не ждала, что он заметит ее и полюбит. Она знала, это было невозможно. И все же каждый раз перед занятием особенно тщательно закалывала перед зеркалом блестящие темные волосы и даже купила на сэкономленные на школьных завтраках деньги коробочку туши для ресниц. Никита же, казалось, совсем не выделял ее из стайки молодых стройных учениц. Был одинаково ровно предупредителен, вежлив и галантен со всеми. И вроде бы совсем не замечал, как колотится под черным трико Ликино сердце, когда он на репетиции подходил к ней и помогал ниже прогнуться в спине, мягко, но сильно надавливая ладонью на грудную клетку. Лике же довольно было и этого — только видеть его, слышать звонкий веселый голос, ощущать прикосновения рук. О большем она и мечтать не смела, памятуя о давнем своем наблюдении — жизнь всегда отнимает самое дорогое. Но оказалось, что и такого-то непритязательного, урывками полученного счастья для нее слишком много.
— Я еще раз повторяю, что мы не выйдем отсюда, пока не выясним, кто совершил этот наглый, безобразный поступок, — возмущенно колыхнула пышным бюстом директор театральной студии Марина Васильевна. Солнце за окном уже спряталось за крыши окрестных домов, потянуло прохладой. Внизу прошлепал через двор завхоз Михалыч со связкой ключей. Собрание, посвященное «наглому, безобразному поступку», а именно, выцарапыванию ругательства на борту новеньких директорских «Жигулей», длилось уже второй час и, похоже, не собиралось заканчиваться. Марина Васильевна допрашивала учеников с пристрастием, выдвигала вперед квадратную бульдожью челюсть, всматривалась в очередного подозреваемого и, казалось, даже принюхивалась в поисках виновного. Однако до сих пор так ничего определенного и не вынюхала.
Лика же прекрасно знала, кто этот, по выражению директрисы, циничный хулиган. Вернее сказать, хулиганы, их было двое. Вчера вечером, выходя из здания после занятия, она случайно наткнулась во дворе на неразлучную парочку студийцев, Машку и Валерку, совершающих «неслыханный акт вандализма». Ребята со смехом сообщили ей, что решили проучить гадину директоршу, отстранившую Валерку от участия в финальной постановке за частые пропуски занятий, просили не выдавать. Лика, конечно же, обещала молчать как рыба.
Кто же мог знать, что Марина Васильевна устроит из-за своего средства передвижения такой переполох? Щеки ее тряслись и багровели, пышный бюст взволнованно трепетал в низком вырезе темно-зеленого платья, узловатый палец, увенчанный большим перстнем, то и дело тыкал в каждого из учеников:
— Кто это сделал? Ты? Ты? Ты? А кто?
На Машку страшно было смотреть. Она, бедная, вся вжалась в парту и глаза боялась поднять на разъяренную бульдожью морду.
— Ладно, пойдем другим путем, — зловеще пророкотала Марина Васильевна.
Она поднялась из-за стола, прошествовала к двери и крикнула куда-то в гулкий коридор:
— Никита Владимирович, зайдите в восьмой кабинет, пожалуйста.
Когда же в дверях появился Никита, директриса обратилась к нему:
— Вы, голубчик, не помните, кто вчера последним уходил с занятия по танцам?
— Конечно помню, — светло улыбнулся Никита, не подозревавший, какие страсти кипят и бушуют в маленькой аудитории. — Белова последняя уходила, Элеонора. Она всегда…
Директорша, не дослушав, издала победный клич и ринулась прямо к сидевшей по обыкновению в углу девушке. Никита ошарашенно поглядел на нее, спросил:
— А что, собственно, случилось?
Но ему никто не ответил; Марина Васильевна с остервенением взялась за новую жертву.
— Так, значит, ты последняя выходила с занятий? — вопросила она и вдруг гаркнула: — А ну встань, когда с тобой разговаривает директор!
Лика поднялась из-за парты, сумрачно глядя на разбушевавшуюся тетку.
— Я, — кивнула она.
— Значит, ты видела, кто испоганил мне машину? Видела, а? Отвечай!
С выкрашенных малиновой помадой губ директрисы брызгала слюна, Лика невольно утерлась тыльной стороной ладони, и выщипанные брови Марины Васильевны гневно изогнулись, словно ей только что нанесли величайшее оскорбление.
— Видела? — повторила она.
— Нет, — помотала головой Лика и, опустив глаза, уставилась в облупленную крышку парты.
— Как это не видела? — не унималась Марина Васильевна. — Должна была видеть! Не смей врать! Отвечай, кто поцарапал мою машину!
Лика поймала отчаянный взгляд Машки, взглянула на сгорбившегося на стуле Валерку и решительно отрезала:
— Не знаю! Я ничего не видела.
— Ах так, — зашлась от возмущения директриса. — Ну, значит, это ты сама и сделала! Я всегда знала, что от тебя можно этого ждать. Сразу видно, злая, скрытная девчонка, так и зыркает глазами туда-сюда, так и смотрит, какую бы подлость сделать. А ну, собирай свои вещи, и чтоб духу твоего не было в студии!
Марина Васильевна не отступала, и Лика, помедлив немного, собрала сумку, повесила ее на плечо и, опустив голову, двинулась к выходу из кабинета. Ребята за спиной молчали, очевидно, радуясь, что буря нашла, наконец, на кого обрушиться, пройдя мимо них стороной. Уже в дверях Лика почувствовала смущенный и сочувственный взгляд Никиты, но обернуться не смогла, просто ушла, тихо притворив за собой дверь.
На душе было гадко. Жгла глаза незаслуженная обида, возмущало предательство соучеников, Машки и Валерки, не пожелавших признаться в преступлении, но страшнее всего было то, что отныне единственное, что составляло ее жизнь, что заставляло по утрам вскакивать с постели и улыбаться новому дню, оказалось для нее под запретом. Не видеть Никиту, не разговаривать с ним, не затаивать дыхание, когда он подходит близко. Да и к тому же осознавать, что отныне он всегда будет считать ее мелкой пакостницей, способной из врожденной беспричинной злости испортить чью-то вещь.
6
Без студии, а главное, без Никиты, жизнь сделалась пустой и ненужной. Лика приходила из школы, ложилась на кровать и часами разглядывала выцветший узор на обоях, водила пальцем по хитросплетениям травинок и цветов. Рассказать о своей утрате ей было некому. Закадычными подружками она, по замкнутости характера, так и не обзавелась. С матерью, изредка навещавшей родное дитя, тоже так и не установилось духовной близости. Да к тому же та сейчас как раз готовилась воспроизвести на свет Ликиного братца. Ликин отчим, именовавшийся в бабкином доме не иначе как голодранец, сподобился наконец-таки опровергнуть свое обидное прозвище. По случаю написал портрет какого-то деятеля из верхов. Работа понравилась, художника пригласили снова, и жизнь вдруг пошла на лад, появилась и квартира в центре Москвы, и деньги. И мать, пятнадцать лет ходившая в драных колготках, приоделась, расцвела и озаботилась проблемой произведения на свет потомства — спешила, как бы не опоздать, успеть, носилась со своей беременностью как сумасшедшая. На Лику же, и так занимавшую не самое большое место в ее жизни, теперь времени совсем не осталось. И, конечно, разбираться, почему дочь часами лежит носом к стене, матери было некогда.
Бабка же не дремала, по ястребиному закружила, высматривая, кто обидел внучку, и в конце концов вытянула-таки из Лики рассказ о ее злоключениях. Вытянувши, разъярилась, распушила перья и ринулась в бой. Позвонила кому-то из дедовских однополчан, подняла на уши все «солидные» знакомства и, в качестве финального аккорда, самолично заявилась в студию. Лика о бабкиной подрывной деятельности не знала; о том, как грозная старуха вцепилась в случайно попавшегося ей в коридоре Никиту и вывалила на него все, что думает о губителях и угнетателях бедной больной сироты, не ведала; о звонке в студию откуда-то сверху, после которого директриса тряслась и пила валокордин, не подозревала. И, когда в квартире вдруг раздался телефонный звонок и из трубки с ней поздоровался Никита Андреевский, готова была поверить в самые настоящие чудеса.
— Это Элеонора, которую все зовут Лика? — весело осведомился Никита.
— Да… — растерянно протянула она, чувствуя, как от одного звука его голоса вдоль позвоночника бегут мурашки.
— Ну, что же, вы, Лика-Элеонора, совсем нас забросили, на занятия не ходите? У нас ведь премьера спектакля в сентябре, а вы еще финальный танец не отрепетировали. Как же так?
— Но я же… Меня исключили…
— Да что вы, бросьте, не берите в голову. Это просто недоразумение. Мы здесь уже давно во всем разобрались. Никто вас не исключал. Приходите завтра на занятия, слышите? Приходите обязательно. На вас вся надежда.
Как же летела она на репетицию на следующий день! Как легко перепрыгивала через лужи, улыбалась слепившему глаза умытому дождем солнцу, размахивала сумкой с черным балетным трико. «На вас вся надежда!» — так он сказал. Господи, неужели он выделил ее из всех, заметил, запомнил? — Лика, задержитесь на полчасика, если возможно, — сказал Никита после репетиции. — Мне хотелось бы с вами отработать одну вариацию. Вы же много пропустили…
И Лика осталась с ним наедине, в балетном классе, прижалась спиной к зеркальной стене, сияя на своего принца счастливым взором. В коридоре постепенно стихали развеселые голоса студийцев. Никита подошел к ней, откинул со лба прядь пепельных волос. Лика, встретившись с ним глазами, вдруг потупилась, прикусила губу.
— Вы, Лика, я вижу, стараетесь, занимаетесь всерьез, — начал Никита, по привычке уперев левую руку в бок, машинально поставив ноги в третью позицию. — И у вас неплохо получается. Как вы думаете, что, если нам финальный эпизод немножко изменить, сделать поинтереснее? Включить элементы модерна, а? У вас же от природы великолепный слух! Как думаете, сможете? Только предупреждаю, работать придется много.
— Я смогу, — отчаянно закивала Лика. — Я буду, буду работать! Я все сделаю.
— Ну и прекрасно! — широко улыбнулся Никита. — Тогда давайте попробуем.
Он щелкнул кнопкой бабинного магнитофона.
— Сначала стаккато, выходишь на одну восьмую. Появляешься в левой кулисе, а в центре сцены стоит твой возлюбленный. Понимаешь, ты любишь его, и в твоей пробежке зритель должен увидеть, что ты страдала, ждала и наконец дождалась. Здесь и скорбь, и радость и безумная любовь.
Лика, как завороженная, слушала своего маэстро. Ей казалось, что если бы на сцене, высвеченный софитом, стоял Никита, ей не понадобилось бы ничего играть, все чувства, о которых он говорил, проявились бы сами собой.
— Стоп! Нет, не так! Никита подскочил к ней, взмокший, со сверкающими из-под спутанных светлых прядей ясными глазами.
— Ну это же просто, сколько можно повторять? Мне было бы уже стыдно…
Он отошел к воображаемому левому краю кулисы, раскинул руки и двинулся вперед, ведомый музыкой. И в этом его движении было столько страсти, тоски, любви и преданности, что Лика оцепенела — перед ней впервые разворачивалось настоящее искусство.
Занятие шло уже два часа, за окном давно стемнело, черное трико вымокло от пота. Лика уже не чувствовала волнения от его прикосновений, не замирала. От усталости она почти перестала соображать, двигалась машинально, вся, казалось, превратившись в клубок ноющих мышц. Никита же словно ничего не замечал, снова и снова заводил хриплую пленку, носился вокруг нее, показывая движения, кричал, хватался за голову. Завхоз Михалыч дважды уже заглядывал в помещение, многозначительно поглядывал на часы, Никита же лишь отмахивался от него:
— Мы еще не закончили! Позже!
Лика впервые видела его таким — распаленным, фанатично увлеченным работой. Смотрела на него одновременно с восторгом и страхом. Казалось, этот огонь, полыхавший в нем, сейчас перекинется на нее, опалит, сожжет дотла. В то же время она отчаянно боялась, что этот вечер все-таки закончится… может, это просто сон, все это ей снится — и Никита, и его неожиданное внимание к ней. Она проснется снова в своей комнате с ощущением постоянного одиночества, ненужности и вселенской тоски…
Лика постаралась сильнее выгнуться, как показывал Никита, запрокинула голову назад. В колене вдруг что-то хрустнуло, она охнула от боли и едва не упала, в последний момент ухватившись за Никитино плечо.
— Ой, извините, — прошептала она, пытаясь отдышаться.
Никита словно очнулся, бережно довел ее до скамейки, усадил, присел рядом.
— Тьфу ты, прости меня, ради бога, совсем тебя загонял. Ты как, жива?
— Вроде бы, — неуверенно улыбнулась Лика, потягиваясь.
— Но здорово ведь мы придумали с этим танцем, правда? Такого еще никто не ставил. Модерн и классика. Отлично получится! Эх, вот если бы… — он осекся и махнул рукой. Затем обернулся к Лике. — Ты голодная, наверно? Хочешь, пойдем мороженого поедим? После такой репетиции можно.
И Лика, не веря в то, что все это на самом деле происходит с ней, что сказочный принц Никита приглашает именно ее, незаметную, некрасивую, никому не нужную больную девочку в кафе, лишь молча кивнула.
За стойкой тяжко наигрывал старый катушечный магнитофон. На темных окнах отражались разноцветные блики от укрепленной под потолком елочной гирлянды. Вдоль стен расположились какие-то странные керамические фигуры. Лика и Никита сидели за круглым металлическим столиком. Никита сидел с прямой спиной, при этом умудрившись грациозно подогнуть левую ногу под себя. Дюралевое кресло неприятно холодило Ликины ноги под коленками. Официантка только что поставила перед ними две вазочки, в которых кривоватым айсбергом оплывало мороженое.
— Вот представь себе, — говорил Никита. — Это ведь не просто какое-то хобби, даже не профессия, нет. Это твоя жизнь. У кого-то семья, работа, дом, друзья, дети. А у тебя — только балет. И это твой осознанный выбор. Для всех других ты инвалид, практически, неполноценный человек. Понимаешь?
— Понимаю… это я понимаю…
— Он сожрал тебя с головы до ног, ты им болеешь, ты им живешь. И, главное, у тебя ведь неплохие идеи, и все это признают, даже эти там, — он махнул рукой куда-то вверх. — И ты сам это знаешь. Но вот нельзя, понимаешь? Кто-то где-то там решил, что классику ставить можно, а весь этот вот модерн — нельзя. Не вписывается в идеологию, черт бы их взял.
Он со злостью стукнул ребром ладони по столу, едва не смахнув на пол вазочку с мороженым, криво усмехнулся и залпом опрокинул полную рюмку коньяку. Лика сидела напротив, затаив дыхание. Впервые он разговаривал с ней так — серьезно, откровенно, словно она была не просто случайной знакомой, девочкой из студии, а его давним и близким другом.
— Никита, но разве… — осторожно начала она. — Мне казалось, это должно быть такое счастье — когда выходишь на сцену и даришь людям себя, раскрываешься перед ними. И каждый в огромном зале, каждый, хочет стать таким хоть на минуту, но не может…
— Счастье, — скептически вскинул брови Никита, оторвавшись от своих мыслей, впервые внимательно поглядев на Лику. — Что ж, может быть оно и есть, на сцене… Но ты хоть представляешь себе, что за этим стоит? Нет, я даже не про репетиции сейчас. Я про всю эту гадость и гниль, в которой приходится существовать ежедневно. Про это смердящее, засасывающее болото… Про всех этих художественных руководителей, воинствующих бездарностей… Про всю эту кодлу, которая постоянно шепчется у тебя за спиной, высматривает, вынюхивает, строчит доносы. А… — Он махнул рукой. — Тебе должно быть все это не интересно.
— Очень интересно. Рассказывайте, пожалуйста! — возразила Лика, не отрываясь глядя в его бархатистые, сейчас кажущиеся аквамариновыми глаза, затененные прямыми черными ресницами.
— Да что рассказывать, — пожал плечами Никита. — Просто была мечта, понимаешь? Поставить что-то свое, новое, такое, чего в этой стране никто еще не видел. Ходил, обивал пороги, писал прошения, выпрашивал подписи чинуш. Наконец вроде все срослось, разрешили начинать репетиции. Несколько месяцев не спишь, не ешь, только об этом и думаешь. А на генеральном прогоне, за день до премьеры, худсовет берет и закрывает постановку. И сразу же начинается за спиной шу-шу-шу, и смотришь вдруг, а на твои роли уже второй и третий состав введен. И все, ты в опале, и каждая сволочь, которой ты когда-то дорогу перешел, теперь норовит этим воспользоваться и окончательно тебя прикончить.
Никита рассеянно зачерпнул ложкой растаявшее мороженое, медленно перевернул ее над вазочкой и смотрел, как скатываются и расплываются на металлическом дне тяжелые белые капли. Лика осторожно спросила:
— Поэтому вы так возитесь с нами, да? Потому что в студии нет художественного совета и можно ставить все, что хочется?
— Ну, в этом ты ошибаешься, все, что хочется, у нас в стране нигде ставить нельзя, — усмехнулся Никита. — Но вообще ты права, в студии надзор гораздо слабее. Подумаешь, детишки занимаются танцами, какой от этого может быть вред. Это тебе не передовой фронт балетного искусства всего СССР. Да, Лика, мне с вами интересно, потому что вы настоящие, чистые, у вас на репетициях глаза горят, вам и самим хочется сделать что-то красивое, новое, а не просто выдвинуться на главную роль и вырвать Госпремию.
Он неожиданно протянул руку и положил ладонь на ее плечо, мягко улыбнулся:
— И в тебе этого живого интереса, кажется, даже больше, чем в других ребятах. Я же заметил, как ты первая прибегаешь всегда на занятия, а уходишь позже всех.
Лику бросило в жар, к щекам прилила кровь, и девушка невольно склонила голову, стараясь спрятать пылающее лицо, чтобы Никита не догадался, что не только занятия так влекут ее в студию.
— Я стараюсь… — невнятно выговорила она, не решаясь поднять на него глаза.
— Я вижу, — кивнул Никита. — Молодец! Если и дальше так будешь, на постановке в сентябре тебя ждет триумф, — он засмеялся. — Незабываемое выступление прекрасной дебютантки Элеоноры.
Лика тоже рассмеялась, чувствуя, как отступает сковавшее ее мышцы напряжение, с облегчением откинула голову, встряхивая черными волосами. Никита посмотрел на часы.
— Поздненько уже. Пойдем, доведу тебя до метро.
И Лика неохотно поднялась из-за стола и двинулась вслед за Никитой к дверям. Так не хотелось, чтобы кончался этот волшебный вечер, чтобы уходил куда-то в темноту прекрасный сказочный принц с открытой задорной улыбкой и грустными аквамариновыми глазами. Она чуть помедлила у дверей, любуясь его плавными отточенными движениями, гибкостью и легкостью, заметными при каждом шаге, при малейшем повороте головы. Никита обернулся и махнул ей рукой — мол, где ты, чего не идешь. И Лика поспешила к выходу.
…Это было совершенно небывалое, удивительное лето. Лето, почти целиком состоящее из тяжелых, выматывающих репетиций — не только уроки хореографии, но и сценическая речь, фехтование, самый главный из предметов — драматическое искусство, который вел бородатый и бескомпромиссный гений, заслуженный артист, по совместительству один из молодых режиссеров Театра имени Вахтангова, Глазов Владимир Петрович. Многие студийцы жаловались на усталость, ворчали, что студия отравила им все каникулы. Лика же нисколько не жалела ни о потерянном летнем отдыхе, ни об отмененной в последний момент поездке на море. Каждое утро, едва открыв глаза, она подскакивала на постели, радостно улыбаясь и обхватывая себя за плечи — сегодня они снова увидятся. Каждый день приносил новую встречу, новую возможность побыть с ним, пройти рядом в танце, чувствуя на своей щеке его прерывистое дыхание. А вечером, если он не будет занят, может, снова удастся остаться наедине, брести вместе по темным опустевшим улицам, болтая обо всем на свете. Порой Лике казалось, что она ловила на себе Никитин пристальный взгляд, и было в нем что-то особенное, глубокое, затаенное. Так он не смотрел больше ни на кого из учеников. Поверить в то, что она — жалкий заморыш, никому не нужный неполноценный подросток, может вызвать в сияющем и недоступном Никите какие-то особенные чувства, было трудно. И все же где-то в глубине, тщательно спрятанное от всех и даже от самой себя, что-то сладко вздрагивало и замирало под этим его взглядом, и появлялось непривычное волнующее, кружащее голову ощущение — на меня смотрит мужчина, которому я нравлюсь.
Лето катилось под откос, уже выгорела и запылилась трава во дворе студии, в кудрявых ветвях берез появились первые золотистые пряди. Постановка была почти отрепетирована, к дверям здания пришпилена красочная афиша, приглашающая всех желающих на премьеру. И Лика почему-то уверилась в том, что все у них с Никитой решится после спектакля. И сердце дрожало и проваливалось каждый раз, когда она вычеркивала в настенном календаре дни, оставшиеся до премьеры.
7
Свет над сценой на мгновение померк и вдруг вспыхнул с новой силой. Над головой что-то заскрипело — Лика знала, что это рабочий сцены запускает сложный механизм — и зал ахнул, потому что перед зрителями затрепетали и взметнулись вверх алые паруса. Целый месяц они всей студией обсуждали, какой купить шелк, как правильно раскроить его, как натянуть на специальные металлические крепления, чтобы в финале спектакля паруса легко и красиво развернулись над освещенной площадкой.
— Ничего не бойся! — шепнул Никита и сжал ее руку.
Она почти не видела его в темноте, за кулисами, ощущала лишь исходивший от него жар, чувствовала прикосновение сильной гибкой руки.
— Вперед! — отрывисто скомандовал он.
И Лика, завороженная, загипнотизированная его голосом, двинулась туда, где скрипела стульями, перешептывалась, дышала невидимая в темноте масса зрительного зала. Оказавшись на сцене, Лика замерла от ужаса, впервые ощутив перед собой живую, пульсирующую страшную пропасть. Заиграла музыка Дебюсси — это Валерка там, за кулисами, нажал кнопку магнитофона, руки Никиты легли на ее талию, аквамариновые глаза, необыкновенно серьезные сейчас, остановились на ее лице. И все вокруг словно померкло, испарилось, ничего не осталось, кроме этих его сосредоточенных, внимательных глаз, сжатых губ, кроме его рук, настойчиво и властно влекущих ее куда-то. И все, что оттачивали на бесконечных репетициях, вылетело из головы, Лика повела плечами и вдруг словно полетела над сценой, повинуясь звукам музыки и рукам ведущего ее танцовщика.
Как легко все это оказалось теперь, будто и не было многочасовых изматывающих занятий. Как ловко и радостно было двигаться в такт с ним. Какая удача, что Мишка, ее партнер по спектаклю, в последний момент свалился с ангиной, и Никите пришлось заменить его на премьере. Казалось, она могла бы всю жизнь вот так парить, глядя в его бледное сосредоточенное лицо, чувствуя, как цепкие пальцы сжимают ее руку, не давая ошибиться. Лика едва заметно, краешком губ улыбнулась ему, но Никита не ответил на ее улыбку. И внезапно она поняла, что он сейчас не видит ее, полностью погруженный в гармонию музыки и танца. Он словно не человек теперь, не молодой смешливый хореограф Никита, он древний языческий бог танца. И Лика на мгновение позавидовала этой его фанатичной увлеченности, этой способности самозабвенно отдаваться делу всей своей жизни. Показалось, что нет ничего прекраснее такого вот беззаветного служения искусству, нет участи лучше, чем отдать себя без остатка, сгореть дотла. И Лика вдруг отчетливо поняла, что хочет последовать за Никитой в этот прекрасный, волшебный мир, дверь в который он ей приоткрыл, хочет всегда ощущать на себе невидимую пульсацию, исходящую из темной пропасти у сцены. Решено, она будет актрисой…
Отзвучали последние аккорды, музыка стихла, и Никита разжал руки. Пропасть ожила, забурлила, захлопала. Лика, счастливая, сияющая, присела в изящном поклоне и улетела за кулисы.
Но магия, окутавшая их с Никитой во время выступления, не закончилась и после спектакля. Она мерцала и струилась в сыром осеннем воздухе, когда шли вдвоем по промокшему темному бульвару, сбежав с развеселой студийной гулянки. Она поблескивала на зеленовато-сером платье, которое Лика сама строчила на бабкином довоенном еще «Зингере» и расшивала бисером для своей Ассоль. Она углубила бархатные глаза Никиты, мягкими тенями легла на четко очерченные скулы, сделав его еще больше похожим на бесстрашного романтичного капитана Грея.
Под ногами — размокшие кленовые листья, капли мелкого злого дождя стекают по щекам, но все это неважно — лишь бы идти рядом, прижимаясь к его плечу, вдыхать влажный прохладный воздух, от которого так сладко и тревожно щемит сердце, молчать, прислушиваясь к звуку его шагов. Дождь распугал всех, и мокрые скамейки под деревьями стояли пустые. Вода в еще не забранном досками на зиму круглом фонтане шуршала, вторя дождю. Впереди, освещенные размытым светом фонарей проносились по улице Горького редкие автомобили. С противоположной стороны понимающе кивал укрытый от дождя плащом бронзовый Пушкин.
На углу бульвара Никита поймал такси, назвал водителю Ликин адрес. В тесноте заднего сиденья, когда они неожиданно оказались плотно прижаты друг к другу, стало почему-то неловко смотреть на него, да что там, просто пошевелиться, отвести рукой прядь волос с лица было почему-то невозможно. Автомобиль тряхнуло, Лику швырнуло вперед, Никита удержал ее, обхватив руками за плечи. Она чуть повернула голову, хотела поблагодарить и вдруг осеклась, увидев прямо перед собой его глаза, совсем другие теперь, не серьезные и сосредоточенные, а словно манящие куда-то, поблескивающие темным лихорадочным огнем. Он наклонился к ней еще ближе и коснулся губами ее рта, медленно, осторожно, словно пробуя ее губы на вкус. Лика почувствовала, как задрожали прижатые к его груди пальцы, как гулко заколотилось в груди сердце, казалось, его стук должен был раздаваться на весь пропахший бензином салон автомобиля. Никита, не отрываясь от ее губ, сжал руками голову, погрузив пальцы в ее темные влажные от дождя волосы, потом чуть отстранился, вглядываясь в ее лицо. Лика вскинула руку и осторожно провела кончиком пальца по его колючим черным ресницам; Никита тихонько рассмеялся и прижался губами к ее ладони.
Такси остановилось у подъезда ее дома. На пятом этаже тускло светилось окно кухни — значит, бабка еще не спит, ждет ее. Переживает, наверно, бедная, что не смогла прийти на выступление внучки из-за не вовремя подскочившего давления. Ничего, еще чуть-чуть, пять минут…
Они остановились на ступеньках подъезда. Старый фонарь с надтреснутым молочно-белым стеклом высветил из сырой темноты их сплетенные руки, склонившиеся друг к другу головы. Никита в последний раз поцеловал ее и отпустил, чуть оттолкнул даже:
— Ну иди, иди! Иначе я всю ночь тут простою. Ромео под балконом!
Лика услышала его тихий смех в темноте, обернулась уже от дверей:
— До завтра?
— До завтра. Я тебе позвоню.
Из подъезда под ноги метнулась ободранная соседская кошка. Лика взлетала по ступенькам, уже не обращая внимания на неистовый грохот в висках, не пытаясь сдержать расплывающуюся на лице глупую счастливую улыбку. Неужели впервые в жизни строгий надзиратель, отмеряющий каждому его долю счастья, что-то перепутал и по ошибке вручил Лике чужой счастливый билет? Страшно, страшно было даже подумать об этом, представить себе это незаслуженное, украденное, не по праву доставшееся ей счастье.
Лика вошла в квартиру, перебросилась парой слов с подозрительно глянувшей на нее продмагшей, закрылась в комнате и без сил упала лицом в подушку. Ей, конечно, и в голову не могло прийти, что умудренная опытом и кое-чему наученная дочерью бабка, разумеется, подсмотрела всю сцену прощания у подъезда со своего наблюдательного поста у окна кухни и теперь вознамерилась во что бы то ни стало выяснить, что за хитрый змей морочит голову ее единственной внучке, дорогой кровиночке.
…Назавтра Никита не позвонил, не объявился и послезавтра тоже. Лика боялась пропустить его звонок — не выходила из дома, не закрывалась в ванной, телефонный аппарат утащила к себе в комнату и, ложась спать, придвигала его поближе к кровати. Но звонка все не было. Танцкласс в студии был закрыт, Марина Васильевна, все еще недолюбливавшая Лику после той, весенней, истории, отрезала: — Андреевский? Он на больничном. Не знаю, когда будет.
Лике удалось все же выпросить у нее домашний номер Никиты, пришлось наврать, что брала у него книгу по истории балета, обещала вернуть в срок, и вот, такая неприятность. Директорша, пожевав намазанными сиреневой помадой губами, телефон ей дала, и Лика бросилась в ближайший магазин разменивать двушки. Она и сама не знала, на что надеялась. Ведь, кажется, все было ясно — захотел бы он найти ее, никакая болезнь бы не помешала. А раз пропал, исчез, значит… Но думать об этом было слишком страшно, и Лика, забившись в красно-белую телефонную будку, набирала номер, с трудом попадая дрожащими пальцами в отверстия диска. Трубку сняла женщина.
— Будьте добры Никиту, — растерянно пролепетала Лика.
— Никиту? — настороженно спросила та. — Он… уехал. Что-нибудь передать? Кто его спрашивает?
— Это Лика. Я… Он у нас в студии танцы преподает, — принялась объяснять Лика. — Я хотела узнать насчет занятий.
— А, из студии… — показалось, или голос женщины зазвучал спокойнее? — Девушка, вы знаете, Никита Владимирович вряд ли в ближайшее время вернется в студию. Почему? Ну… так складываются обстоятельства. До свидания.
«Вот, кажется, и все. Что теперь делать? Где искать его, куда бежать?» — думала Лика, понуро бредя домой. А может, и не было того вечера, а? Приснилось, привиделось, померещилось? Может, и не было самого Никиты никогда в ее жизни? Поверить в это было бы легче, чем допустить, что прекрасный, как сказочный принц, талантливый, волшебный Никита мог и в самом деле увлечься ею. И все-таки, все-таки каждый раз, заходя в квартиру, Лика упорно спрашивала:
— Мне никто не звонил?
Пока бабка не взорвалась однажды:
— Да от кого ты звонка-то ждешь? От этого своего педераста, прости господи?
Сказала, словно пощечину влепила. Лика даже отшатнулась, вспыхнула, выговорила с трудом:
— Баб… ты… ты что?
— Я что? — взбеленилась Нинка. — Думаешь, я про него не узнавала? Как же, позволю я всякой швали девчонку-малолетку развращать. Позвонила я кому надо, поговорила, мне такого про твоего Никиту порассказали, что волосы на башке до сих пор шевелятся. Мало ему, значит, жены, ребенка, так он, стыд-то какой, на мужиков еще заглядывается. У, балеруны чертовы, ни стыда ни совести! Ну ничего, сейчас его шашни выплыли наружу, из театра-то его турнули, да теперь, может, еще и посадят.
— Бабуля, ну это же бред! — отчаянно вскричала Лика. — Ты же не знаешь его совсем. Тебя обманули, это сплетни все.
— Обманули, как же! — не унималась бабка. — Да там весь театр гудит — еще бы, позорище такое. А я-то, дура старая, еще к нему ходила — пожалейте, мол, ребеночка, инвалид она, сиротка бедная, возьмите к себе в обучение. А он вишь че удумал, голову тебе заморочил, небось чтоб подозрения от себя отвести, содомист, мать его…
— Куда ходила? К кому ходила? — опешила Лика.
— Да вот, когда жаба эта чертова из студии тебя поперла, — пояснила Нина Федоровна. — Ходила я к нему, извращенцу поганому, просила за тебя, пороги обивала. Ох, да если бы знала, что он за шваль такая, я бы ему в рожу плюнула, а тебя под замок заперла. Ишь чего, плясун, жопа мандолиной!
— Замолчи! Замолчи, ради бога! — уже не сдерживаясь, в слезах выкрикнула Лика и, развернувшись, бросилась к себе в комнату.
Слова разбушевавшейся бабки словно перечеркнули, измазали грязью все светлое, с чем ассоциировался Никита, перевернули с ног на голову. Господи, да как могла она быть такой восторженной самовлюбленной дурой! Как могла подумать, что он и в самом деле смотрит на нее, любуется, что думает о ней, хочет быть рядом. Как могла допустить эту идиотскую фантазию, что такой парень, как Никита, влюбится в нее, жалкую, некрасивую, больную девчонку. Выходит, он просто жалел ее? Конечно, так все и было! У него ведь жена, ребенок, бабка сказала… Значит, и занимался он с ней, и разговаривал, и домой провожал из жалости. Как же, убогонькая, болезная! А тот вечер, последний, когда она видела его… Что это было? Тоже жалость? Бабка сказала, что он использовал ее, чтобы отвести от себя какие-то ужасные подозрения. Да что это за слово такое, что оно значит, и почему Никите теперь угрожает тюрьма?
И Лика стащила с книжной полки толстый том словаря иностранных слов и принялась лихорадочно листать его, отыскивая незнакомое слово «педераст». Нашла слово «педерастия». Прочитав, что оно означает, она в ужасе захлопнула книжку. Как это? Никита и другой мужчина? Такое настолько не укладывалось у нее в голове, что она сразу же решила для себя, что все это чья-то ужасная извращенная фантазия, которой бабка по своей любви к сплетням, конечно же, сразу поверила. Однако, как бы там ни было, факт оставался фактом, Никита, по всей вероятности, относился к ней совсем не так, как она себе нафантазировала.
Лике казалось, что ее бедная голова сейчас расколется, пойдет трещинами от невозможности уместить в ней, уяснить для себя всю эту грязь и мерзость. Ее измученное, издерганное сознание лихорадочно искало какой-то выход, возможность узнать правду. И в конце концов она решилась. Что ж, раз так, она спросит у него самого. Пусть посмотрит ей в глаза, пусть в лицо скажет — да, ты мне совсем не нужна, ты никогда не была мне интересна. Или, может быть, даже так — да, ты мне нужна, но только для прикрытия… Должно же у него хватить на это смелости.
И Лика разузнала адрес — на этот раз уже не связывалась с Мариной Васильевной, попросту пробралась тайком в учительскую и переписала улицу и номер дома из папки со сведениями о сотрудниках — и отправилась караулить своего прекрасного принца, даже не зная, что невольно повторяет историю собственной матери.
Целый день у чужого подъезда. Старый дом из красного кирпича, одинаковые окна, три ступеньки к двери и тусклая лампочка над крыльцом. Пустынный вымокший двор, облезшая песочница под жестяным грибком, дребезжащая на ветру металлическая урна. По улице снуют туда-сюда торопливые пешеходы с сумками и баулами — неподалеку Савеловский вокзал. Спину ломит от многочасового сидения на колченогой скамейке, руки в карманах куртки посинели от холода, губы дрожат. Встать, пройтись вдоль дома, размять затекшие ноги, поймать на себе несколько недоуменных взглядов — еще бы, ошивается тут столько времени, что за безумица. И снова на скамейку, покрасневшие от напряжения глаза прикованы к двери подъезда — только бы не упустить его. Андреевский появился лишь на третий день, ближе к ночи, когда Лика уже отчаялась увидеть его и почти смирилась, что смутивший ее покой светлоглазый принц исчез из ее жизни навсегда. Было темно, редкие фонари слабо освещали переулок, оставляя страшные провалы между домами. Где-то вдалеке промчалась, тревожно сигналя, «Скорая помощь», отрывисто хлопнула дверь подъезда, и Лика вдруг увидела его. Не узнала, не разглядела в темноте, а почти угадала по легкой пружинистой походке, по точным, будто выверенным, движениям.
В груди у Лики подпрыгнуло и заколотилось, и она уверенно бросилась наперерез темной фигуре, осторожно вышедшей из подъезда. — Никита!
Он шарахнулся от нее, словно от зачумленной, затем вгляделся внимательнее.
— А, это ты… Чего тебе?
— Никита, я… Нужно поговорить, я спросить хотела…
Он напряженно вглядывался в темноту, проводил глазами медленно проехавшую по переулку машину, бросил отрывисто:
— Мне некогда сейчас, некогда, извини!
Попытался отстранить ее, пройти мимо; Лика же отчаянно вцепилась в рукав его пальто, почти выкрикнула:
— Но почему?
— Да ты совсем ничего не понимаешь, что ли? — со сдерживаемой неприязнью, сквозь зубы процедил он. — Говорю же, я не могу сейчас с тобой разговаривать. Пусти! — Он с силой вырвал из ее скрюченных пальцев рукав пальто. — Не ходи за мной! Поняла? Это для твоей же пользы!
Выговорил и ускользнул прочь по темному переулку. Лика успела еще увидеть мелькнувшую под фонарем стройную фигуру — и Никита исчез, словно и не было его никогда. Что ж, оставалось лишь идти домой, под крыло к неусыпно бдящей бабуле, вовремя разузнавшей, что волшебный принц оказался лишь фантазией, придумкой жалкого одинокого подростка. Сказка рассыпалась, разбилась на мелкие осколки, Золушка не стала принцессой, царевна Лягушка не превратилась в красавицу. Принц сказал: «Не ходи за мной! Мне некогда!» — и бросил одну промозглой осенней ночью. И с ее стороны было безумием надеяться на какой-то другой финал. Ведь знала же, знала, что жизнь всегда отнимает самое дорогое. Знала, что для таких, как она, судьба не предусмотрела ничего романтического, и все же зачем-то позволила глупым мечтам прочно обосноваться в своей больной голове. Зачем?
Лика, конечно, не могла знать, что история, рассказанная ей Ниной Федоровной и взбаламутившая весь Большой театр, несколько не соответствовала действительности. Донос с обвинениями накатал на Никиту один из танцовщиков, введенный на его роли вторым составом еще несколько месяцев назад. Но администрация временно положила его под сукно и пустила в дело только сейчас, когда строптивый Андреевский чем-то окончательно рассердил художественного руководителя. Мгновенно нашлись и свидетели Никитиного непристойного поведения, и желающие также выступить на процессе в роли жертв его домогательств. Разразился нешуточный скандал, вмешались органы, театр гудел, как растревоженный улей. Немногочисленные друзья настоятельно советовали Андреевскому попытаться найти лазейку и при первой возможности эмигрировать на Запад. И, конечно, озлобленному, затравленному Никите, вынужденному скрываться, боявшемуся стать жертвой очередной провокации, было сейчас не до Лики. Как бы ни заинтересовала его трогательная влюбленная девочка с настороженными зелеными глазами, позволить себе какие-то увлечения сейчас, когда следовало оставаться предельно собранным, внимательным, чтобы попробовать все-таки расплести этот образовавшийся вокруг него клубок, было нельзя.
8
За окном электрички тянулись однообразные, погребенные под снегом поля, серые деревенские домишки. Деревья топорщили в бесцветное небо голые ветки. Изредка мелькали железнодорожные платформы, все одинаковые, ничем не различимые, и Лика напряженно вглядывалась в названия станций, чтобы не пропустить нужную. По пустому, раскачивающемуся из стороны в сторону вагону гулял ветер. Девушка зябко куталась в свое тонкое черное пальто. Здесь, за городом, зима была настоящей — безмолвной, холодной и страшной. И еще страшнее было оттого, что ехала Лика в неизвестное место, искать чужую незнакомую дачу, чтобы увидеть человека, который при последней встрече ясно дал ей понять, что видеть ее больше не хочет.
Она честно пыталась это пережить, забыться в учебе, в повседневных простых делах. И думала даже, что ей это все-таки удалось. Ведь почти полгода прошло с того промозглого осеннего вечера. Студию она сразу же бросила, и, казалось бы, ничто больше не должно было вызывать у нее воспоминаний о прекрасном принце. И все-таки, когда случайно встретила Валерку, и тот, пересказывая ей последние сплетни, упомянул, между прочим, что бывшая восходящая звезда советского балета Никита Андреевский, говорят, живет теперь где-то за городом, на даче у приятеля, сердце у нее в груди сделало сумасшедший кульбит и гулко ударилось о ребра. И потом, когда осторожно расспрашивала общих знакомых, высматривала, вынюхивала, пытаясь добыть адрес, все равно врала себе, что все давно прошло, она успокоилась и движет ею лишь праздное любопытство. Теперь же, когда нужная станция была все ближе и ближе, Лике впервые пришлось честно ответить себе на вопрос, почему она очертя голову бросилась куда-то в снега разыскивать пропавшего Андреевского. Почему? Да потому что, сколько бы ни строила она из себя сильную личность — гордую, бесчувственную, равнодушную, — там, внутри, все еще билась, пульсировала боль. Эта боль сидела, затаившись, словно куница в засаде, и, стоило ей лишь на мгновение учуять, что жертва не владеет собой, она молниеносно готова была вцепиться железными когтями в горло.
Электричка, заскрежетав, остановилась у очередной платформы, и Лика вышла из вагона. Где-то в стороне, невидимая, хрипло лаяла собака, хмурый дворник в ушанке лениво шкрябал лопатой, сгребая снег. Лика спустилась вниз по узкой обледенелой лесенке, поскользнулась, но успела поймать равновесие, лишь зачерпнув снега сапогом. Снег скоро растаял, и в сапоге хлюпало и чавкало, пока Лика бродила по пустынному поселку, от забора к забору, разыскивая девятую дачу. Наконец остановилась у нужной калитки, потопталась в нерешительности, потерла пальцем облупившуюся голубую краску на досках и все-таки решилась, вошла. Участок был маленький, занесенный снегом, лишь от калитки к одноэтажному, выкрашенному желтой краской домику протоптана была узкая тропинка. Снег под ногами заскрипел, в темном окне домика что-то мелькнуло, взвизгнула дверь, и на крыльцо вышел Никита.
Лика остановилась, смотрела на него, словно оглушенная. Хотелось вобрать в себя, впитать эти родные черты, навсегда запомнить и сохранить. Ведь если Никита сейчас прогонит ее, они, наверное, не увидятся больше уже никогда.
Он стоял на крыльце, странный, совсем не похожий на того энергичного, всех вокруг заряжающего волей к жизни парня, каким Лика увидела его впервые в студии. Грубая телогрейка, накинутая на плечи, скрывала легкость и гибкость фигуры, отросшие волосы и щетина на подбородке делали лицо старше. Стоит, привалившись спиной к деревянному косяку, щурит глаза на снег после полутемного дома — чужой, отстраненный, замкнутый. И все же во всем его облике чувствовалось что-то величественное, особа королевский кровей не теряла достоинства даже в изгнании.
— Привет. — Лика подошла ближе, быстро взглянула на него и отвела глаза.
— Это ты… — констатировал он. — Как ты меня нашла?
— Мне Валера сказал, что ты живешь на даче, — начала объяснять Лика. — Ну, парень, помнишь, из студии. И я тогда решила узнать адрес через…
Никита слушал ее, нахмурившись, кивал, затем сказал сумрачно:
— Значит, пол-Москвы уже знает про дачу. Херово дело…
— Я… я никому не говорила… — растерялась Лика.
Только сейчас ей пришло в голову, что своими поисками, расспросами она, возможно, навредила Никите. Девушка смешалась, потупилась, принялась машинально сбивать носком сапога примерзший к ступенькам снег.
— Можно, я войду? — спросила наконец.
— Не надо. — Никита помотал головой. — Я же все ясно, кажется, объяснил — не ищи меня, не звони. Так всем будет лучше. Уезжай!
Что ж, чуда не случилось. Да и, в общем, непонятно было, на что она рассчитывала. Что Никита, измаявшись в разлуке с ней, опомнится, поймет, что своими руками отталкивает от себя счастье? Да он наверняка и думать забыл про нее!
И, задохнувшись от сжавшей горло едкой обиды, Лика выговорила с отчаянием:
— Но почему? Что я такого тебе сделала?
Он взглянул на нее и вдруг улыбнулся, тепло, открыто, как раньше, дотронулся рукой до ее лица, заправил выбившуюся из-под шапочки прядь темных волос, сказал мягко:
— Не глупи, ничего ты не сделала. Просто… Так сложилось все, что видеться нам нельзя. И объяснить я тебе, к сожалению, ничего не могу. Нельзя, и все. В жизни иногда так бывает. И маленький совет — постарайся влюбляться в тех, кто любит тебя, а не наоборот. Так будет гораздо легче, поверь.
Что-то горячее обожгло веки, Лика сморгнула и почувствовала, как по щекам бегут, остывая от холодного воздуха, слезы.
— Ну перестань!
Никита аккуратно стер пальцем слезинку с ее щеки, затем отступил на шаг и взялся за ручку двери.
— Не плачь на морозе, простудишься. — Он улыбнулся.
И Лика грубой шерстяной варежкой стерла слезы, кляня себя за то, что так распустилась, расклеилась перед мужчиной, который — теперь это окончательно стало ясно — никогда не любил ее и не думал даже любить. Так, походя, пожалел бедную сиротку, а потом, когда времени на нее не стало, выбросил из своей жизни без малейшего сожаления. Пригрел, как голодную дворнягу, но брать к себе насовсем и не собирался. Она быстро выговорила «Пока!», развернулась и пошла к калитке, спотыкаясь и проваливаясь по щиколотку в колючий снег. Уже с дороги обернулась на мгновение. Никита все еще стоял на крыльце. Он поднял руку, махнул ей, она же, не отвечая, зашагала к станции.
Веки жгло все сильнее и сильнее, жаром заливало щеки и даже лоб. И Лика прижимала руки к лицу, стараясь успокоиться. Ее знобило, голова налилась тяжестью, клонилась на грудь. Бабка, увидев ее на пороге, ахнула, стащила с Ликиной головы шапку и прижала ладонь к горячему лбу. Лика уложена была под три одеяла, напоена чаем с малиной, но озноб не проходил, становился все сильнее. И, проваливаясь в душное забытье, Лика снова и снова шла по снегу к темной фигуре на крыльце, снова и снова скользила и путалась в сугробах. Наутро врач диагностировал у нее левостороннее воспаление легких, и, под причитания продмагши, Лика была отправлена в больницу. Провалялась там долго, несколько недель, а после выписки оказалась под домашним арестом. Дотошная бабуля прикрывала все форточки, искореняя проклятые сквозняки, и за порог Лику не выпускала даже на пять минут. И только уже в апреле, вырвавшись наконец из-под недремлющего ока, Лика смогла узнать что-то о Никите от бывших своих товарищей по студии.
Слухи ходили разные. Кто-то утверждал, что Андреевского посадили — мол, ездили люди к нему на квартиру и видели милицейские печати на дверях, кто-то плел, что Никита спился и подался куда-то на Север. В администрации Большого театра, куда Лика позвонила, отчаявшись что-либо узнать от знакомых, тонкий мужской голос подозрительно спросил ее:
— А вы с какой целью интересуетесь? Имя, фамилию ваши можно узнать?
Как ни удивительно, достоверную информацию снова принесла бабка. Какая-то домработница чьей-то жены, затоваривавшаяся в ее магазине с черного хода, поделилась сплетней. Слыхали, мол, че деется-то. Плясун-то этот, как бишь его, Андреевский, в загранку сбежал, с женой и ребенком. Вон они че творят, эти танцоры-то, ни стыда ни совести!
И Лика как-то сразу поверила, словно и сама чувствовала, что Никиты в СССР уже нет. И никогда уже не будет. Никогда.
…А жизнь продолжалась. Катился к концу десятый класс, сменяли друг друга экзамены. Одноклассники готовились к выпускному вечеру, девчонки обсуждали наряды, мальчишки — проблемы откоса от армии. Лика же, с тех пор как узнала об отъезде Никиты, сникла, погасла. Ничем не интересовалась, ничего не хотела. Просыпалась по утрам, брела в школу, возвращалась, двигаясь, словно по инерции. Бабка каждый день заводила надоевший разговор о ее будущем, долбила, доказывала, умоляла подумать о себе. Лика же лишь вяло недоумевала — какое будущее, о чем вообще речь, если все, что интересовало в жизни, осталось в прошлом… Разрешилось же все почти случайно. Лика возвращалась откуда-то, шла к метро по Маяковке и встретила Павла Анатольевича, бывшего дедовского ученика, ныне уже полковника, седого, краснолицего, статного. Тот, узнав ее, разулыбался, демонстрируя крепкие, ровные, белые зубы, предложил, как когда-то в детстве, угостить мороженым. Лика вяло пожала плечами.
— Как поживаешь, Ликусь? Я ведь тебя с похорон, наверное, не видел, — покачал головой полковник. — Да, годы, ничего не скажешь… Тебе теперь сколько?
— Семнадцать.
— Школу, значит, заканчиваешь? — покивал он. — А поступаешь куда? Кем быть, решила уже?
— Да нет, как-то не определилась еще, — ответила Лика.
Этот здоровый, ладный мужик почему-то раздражал ее, действовал на нервы. Столько лет в доме не показывался, а теперь пристал как банный лист — расскажи ему, кем быть хочешь да как жизнь строить собираешься.
— А то, может, по семейной традиции, а? — подмигнул Павел Анатольевич.
— Думаете, из меня выйдет военный летчик? — скептически подняла брови Лика.
Тот захохотал.
— Нет, летчик, это ты хватила, конечно. Но вот насчет военных… Я ведь сейчас в военном институте преподаю, здесь, на Маяковке. У нас факультет военной журналистики есть. Ты как, литературой увлекаешься? Читать-писать любишь?
— Вообще, за сочинения всегда пятерки получала, — растерянно протянула Лика.
— Вот видишь! — обрадовался Павел Анатольевич. — Тут и думать нечего, поступай к нам. Я тебе и с экзаменами помогу, не волнуйся, и не заметишь, как поступишь. Чтоб я, да внучку Васильича под крыло не взял, обижаешь…
Военный журналист… Что-то такое сильное, решительное, непреклонное, бесстрашное. Ни пули не страшны ему, ни взрывы. Всегда впереди, «с «Лейкой» и с блокнотом». Стать такой — несгибаемой, железной, храброй. Вымести из души раз и навсегда все эти бредни об искусстве, красоте… о любви. Тебя не любили, не хотели оберегать и защищать, бросали, предавали? Так сделай так, чтобы это больше никому не удалось! Стань независимой и самодостаточной. Чтобы никто и не заподозрил, что ты можешь часами мечтать о том, как откуда ни возьмись появится красивый и сильный папа, что мама перестанет убегать от тебя после двухчасового свидания, что Никита сойдет с крыльца и прижмет твою голову к крепкому плечу, а не прогонит плутать на морозе.
Лика потупилась, машинально разглядывая трещину на асфальте, и спросила бравого краснолицего полковника:
— А когда начинаются вступительные экзамены?
9
В институт Лика действительно поступила легко. То ли Павел Анатольевич сдержал обещание и замолвил за нее словечко перед приемной комиссией, то ли дедовская фамилия сыграла свою роль, а может, она просто хорошо подготовилась к экзаменам, погрузившись в учебники, чтобы хоть как-то заглушить иссушающую тоску, поселившуюся в груди после отъезда Никиты.
И потянулась студенческая жизнь — лекции, семинары, практические занятия. Компании, вечеринки, попойки. Лика в общих развлечениях участвовала, но ни с кем из ребят особенно не сходилась, близко не дружила, выполняла свою программу по превращению в сильную, самодостаточную личность. Записалась в секцию самбо и исправно посещала занятия, чтобы уметь постоять за себя без расчета на помощь какого-нибудь сильного и заботливого мужчины. Ведь единственный такой мужчина в ее жизни, дед, умер, остальные же — что полумифический отец, нафантазированный образ которого с годами приобрел совсем уж утрированно романтические черты, что прекрасный принц Никита — ясно дали ей понять, что их ее благополучие не заботит. И сына, взрослого, мужественного и решительного сына тоже у нее никогда не будет. Рассчитывать в общем-то не на что, нужно брать жизнь в свои руки.
Так Лика и поступала — училась стоять на своем, самостоятельно решать проблемы, отстаивать свои права. Не боясь, спорила на семинарах с самыми суровыми преподавателями, выполняла сложные задания и решительно отвергала попытки многочисленных однокурсников за ней ухаживать. И в конце концов приобрела среди студентов репутацию «своего парня», лихого и бесстрашного товарища, с которым можно и в поход, и на байдарках, и по душам поговорить.
В сентябре, когда Лика училась уже на втором курсе, студентов отправили в колхоз, «на картошку». Проведя три недели на природе, вдоволь насидевшись у костра, напевшись под гитару, наевшись мутного варева из перловки с тушенкой, Лика вернулась в Москву еще сильнее похудевшая, загорелая, с обветренными губами и охрипшим голосом. На коротко остриженные волосы надвинута защитного цвета кепка, плечи обтянуты толстым шерстяным свитером, на ногах тяжелые альпинистские ботинки — «полуторки». Лика вышла из лифта, сунула ключ в замочную скважину, покорно ожидая причитаний ошарашенной ее брутальным видом бабки, вошла в темную прихожую, замешкалась, пытаясь аккуратно сбросить со спины неподъемный рюкзак. Дверь дальней, бывшей дедовской, комнаты скрипнула, и на пороге появился незнакомый парень лет двадцати пяти. Высокий, широкоплечий, он словно заполнил собой всю узкую прихожую. И Лика мгновенно сориентировалась — вор. Прикинула, что справиться с ним будет трудно — слишком уж здоровый, но если действовать быстро, брать неожиданностью, то можно попробовать.
Парень смерил ее взглядом и спросил:
— Может, помочь? С рюкзаком…
— Да, пожалуйста… — Лика постаралась, чтобы в голосе звучала дружелюбная растерянность.
Незнакомец шагнул к ней, взялся обеими руками за рюкзак, приподнял над ее плечами, буркнул «Ого!» и опустил груз на пол. Не дожидаясь, пока парень выпрямится, Лика резко ударила его коленом в пах. Тот охнул от неожиданности:
— За что?
Но Лика, вспомнив уроки самбо, уже применила прием «бросок через бедро», пытаясь опрокинуть незадачливого грабителя на пол. Однако незнакомец ловко вывернулся, хитрым приемом перехватил ее руки. Лика лишь на мгновение потеряла равновесие, но этого оказалось достаточно, чтобы на пол они рухнули вместе, притом парень оказался сверху, всей тяжестью придавил ее к земле — не пошевелиться. Тяжело дыша, Лика пыталась высвободиться, грабитель же наблюдал за выражением ее лица с нескрываемым веселым любопытством.
Дверь в кухню распахнулась, в прихожую ворвался солнечный луч, и Лика смогла разглядеть, что глаза у парня светло-голубые, цвета чуть выгоревшего июньского неба, волосы оттенка спелой ржи, а на скулах рассыпаны едва заметные бледные мальчишеские веснушки.
— Это что же такое делается? — гаркнула за спиной явившаяся на шум продмагша.
Парень ослабил хватку, и Лика смогла приподнять голову, выглянуть из-за его плеча.
— Ба, ты дома? — удивилась Лика. — А я тут грабителя задержала…
— Кто кого задержал, вопрос спорный, — весело заметил незнакомец.
Он наконец оторвался от Лики, откатился в сторону, и девушке удалось приподняться.
— Ты совсем, я гляжу, очумела, какой это грабитель. — Бабка бросилась почему-то не к любимой внучке, а к парню, и принялась тащить его вверх за рукав футболки, приговаривая: — Вставай, вставай, Андрюша. Не убила тебя эта оглашенная? Это же квартирант мой, — обернулась она к Лике.
— Откуда ж мне было знать? — грубовато, чтобы не выдать смущения, ответила Лика, поднимаясь на ноги. — Ты меня не предупреждала…
— А ты уж сама должна понимать, что я деньги не печатаю, а жрать нам с тобой надо, — сурово парировала бабка. — Пенсия у меня не резиновая, стипендия твоя тоже. А тут добрые люди, спасибо, присоветовали — сдай, мол, третью комнату, что она пустует. И парня хорошего подсказали — сам из Ленинграда, доктор будущий, сюда приехал в ординатуре учиться. Так, Андрюша? — заискивающе обернулась она к отряхивавшему джинсы парню.
— Так, — покивал тот. — Но вы, Нина Федоровна, меня не предупредили, что у вас тут обстановка такая… напряженная. Придется вам теперь плату мне снизить за моральный ущерб.
Голос его звучал серьезно, в глазах же — Лика это видела — плясали озорные искры. И, к ее удивлению, железобетонная продмагша рассыпалась мелким хрипловатым смехом, погрозила квартиранту пальцем — мол, шутишь все, озорник, потом обернулась к Лике:
— Извинись хоть перед человеком, скаженная.
И Лика, хмуро потупившись, обратилась к Андрею:
— Извините, пожалуйста, я не знала, что вы наш квартирант. Я внучка Нины Федоровны, меня Лика зовут.
Она по привычке резким мужским жестом сунула ему узкую маленькую ладонь. И Андрей обхватил ее своей могучей лапищей и деловито потряс с едва заметной добродушной издевкой.
— Очень приятно завести такое полезное знакомство. С вами, Лика, сразу видно, не пропадешь.
— Это верно, — поддержала шутливый тон она. — Если что, обращайтесь за помощью. Я буду рядом! — И скрылась в своей комнате.
Несмотря на легкую потасовку, состоявшуюся при знакомстве, Лика с Андреем быстро подружились. Двадцатитрехлетний их с бабкой постоялец как-то незаметно вошел в ее повседневную жизнь, сделался обязательным неотъемлемым элементом. И вскоре уже казалось, что он жил здесь всегда — испокон веку насвистывал по утрам в ванной «В бананово-лимонном Сингапуре», безбожно фальшивя, по субботам приносил по Нинкиной просьбе сетки с картошкой и луком с рынка, по ночам наглаживал в кухне на столе свой белый врачебный халат. Словно неожиданно вернулся домой долго отсутствовавший старший Ликин брат, или, чем черт не шутит, объявился вдруг тот, о ком столько было передумано, перечувствовано, нафантазировано — папа. Как бы там ни было, а друг, настоящий друг — не приятель, перехватить рубль до стипендии, — человек, с которым можно было разговаривать обо всем на свете, хохотать, часами упражняться в словесном фехтовании и обращаться за помощью в любой момент, появился у нее впервые. И Лика, уже не первый год воспитывавшая в себе стойкость и выдержку, даже самой себе боялась признаться, как дорого ценит она эту дружбу.
Они вместе выходили из квартиры по утрам, когда морозная темень даже и не думала еще отступать, давая дорогу хмурому короткому дню, шли через пустынный занесенный снегом парк к автобусной остановке, чтобы ехать из отдаленного летного микрорайона в центр, учиться. И Лика каждый раз удивлялась: — Ты-то зачем выгребаешься в такую рань? Тебе ж сегодня к одиннадцати…
— С Нинкой не хочу пересекаться. Она вздумала меня по утрам овсянкой пичкать, — отшучивался Андрей и, лукаво прищурившись, вопрошал: — А ты думала, я специально тащусь тебя провожать ради твоих прекрасных глаз. Какая самонадеянность, ма шери!
— Неа, я думала, ты боишься один через парк идти, хочешь, чтоб я тебя, в случае чего, от хулиганов отбила, — парировала Лика.
— Не без того, — с комической серьезностью кивал он. — Рука-то у тебя тяжелая, мне ли не знать.
Он дергал ее за рукав куртки, заставляя остановиться, разворачивал к себе и сильнее натягивал на уши вязаную шапочку.
— Смотри, уши продует, возись потом с тобой!
В дни сессии, когда Лика целыми днями просиживала над учебниками, Андрей, возвратившись с учебы, непременно просовывал голову в ее комнату, хмыкал, подходил к столу и насильно вырывал из ее рук книгу. — Так, что это у нас? Угу, английский. А ну-ка, расскажи мне, — он наугад открывал страницу, вчитывался в заголовок текста. — Расскажи про вооруженные конфликты на Ближнем Востоке за последние 10 лет.
Важно кивая, выслушивал Ликин ответ, захлопывал книжку и сдергивал ее со стула:
— Кончай зубрить, мать, ты все знаешь. Рванули на озеро купаться, пока не стемнело, а то ты от науки уже позеленела совсем.
Иногда он пропадал на несколько дней, не являлся ночевать. И Лика, обнаружив вечером, что в комнате его темно и пусто, чувствовала, как что-то неприятно колет внутри. Когда же Андрей возвращался, она вышучивала его особенно ядовито. — Кого на этот раз покорили, благородный дон? Дай угадаю. Муж очередной санитарки в командировку уехал?
— Это все грехи молодости, дорогая моя, — томно отмахивался Андрей. — Вот повзрослею, остепенюсь, заведу жену — и прощай, все прелестные санитарки мира.
— Жену? Это кого же? — хохотала Лика.
— Да вот хоть бы и тебя. — Андрей смеялся, но где-то в глубине глаз, на самом дне, брезжило, как казалось Лике, что-то серьезное, что-то, что одновременно пугало и странно волновало ее.
— Меня? — закатывала глаза она. — Это еще зачем? Думаешь, я, как верная супруга, буду тебе каждый день халат гладить?
— Ну нет, — фыркал Андрей, — доверить мой халат твоим кривым ручонкам — никогда!
Спокойное дружелюбие и непрошибаемый оптимизм Андрея покорили даже подозрительную, как разведчик во вражеском стане, Нину Федоровну. Продмагша обрушила на постояльца лавину своей хлопотливой заботы — пичкала его полезными продуктами, советовала теплее одеваться, следила, чтобы тот не проспал на учебу. И, стоило ей остаться наедине с внучкой, принималась зудеть: — Что ж ты, растяпа, ушами хлопаешь? Такой парень, а? Плечи богатырские какие, а глазищи-то синие! И ведь воспитанный какой, вежливый, внимательный. Другая б на твоем месте уж не упустила случая, а ты на него и не глядишь…
— Я гляжу, бабуль, — отшучивалась Лика. — Я во все глаза гляжу. Особенно когда он твои пельмени уплетает. Куда нам с тобой такой прожорливый?
— Глядит она, — с досадой отмахивалась Нинка. — Мимо ты глядишь, вот что!
Нина Федоровна и не подозревала, насколько права она была. Откуда ей было знать, что, несмотря на три промелькнувших года, Лика до сих пор в ужасе подскакивала ночью на постели, стоило ей увидеть во сне занесенный снегом двор и темную фигуру на крыльце приземистого, покосившегося домика. Слишком сильно обожглась она тогда, слишком свежо еще было воспоминание о Никите, да что там, она до сих пор его любила и цеплялась за эту любовь, будто каждый раз самой себе доказывая, что она — изгой и никому никогда не будет нужна. Особенно молодому, талантливому, здоровому парню. Разумеется, в сторону Андрея она не смотрела и не могла помыслить в отношении его ничего личностно-романтического. Круг замкнулся. Лика выбрала одиночество.
На третьем курсе, зимой, Лика свалилась с ангиной. Лежала дома, маясь от температуры, пыталась читать толстый учебник по экономике развивающихся стран. Но буквы не желали слушаться, расползались со страниц, как диковинные многоногие насекомые. Нинки не было дома — позвонила какая-то бывшая продмаговская подружка, сообщила, что в универмаге «выбросили» польские сапоги, и бабка, кряхтя и охая, собралась в дальний путь, на охоту за модной обувью.
Лика пила оставленный ей на тумбочке у кровати клюквенный морс, изредка проваливаясь в жаркое забытье.
В прихожей стукнула дверь, полетели на пол ботинки. «Андрей пришел с занятий», — поняла девушка, прислушиваясь к знакомым звукам. А вот и он, собственной персоной, заглянул в комнату, покачал головой, присел на краешек Ликиной кровати.
— Совсем расклеилась? — спросил с сочувствием.
— Ничего, мой генерал, я не сдамся! — едва слышно прошелестела Лика запекшимися губами.
Андрей положил ей на лоб широкую ладонь. Прохладная, с мороза, она так приятно студила пылающую голову. И пахло от нее так знакомо — свежестью, чистой водой и мылом — так всегда пахли руки докторов в детстве. Лика невольно чуть подняла голову, плотнее прижалась к его ладони.
— Тридцать восемь и пять, — почему-то очень тихо произнес Андрей.
И вдруг, сильнее наклонившись, коснулся ее лба губами. Легкое прикосновение словно оставило ожог на и без того пылающей голове. Дыхание сбилось, и Лика на мгновение замерла, оцепенела. Губы Андрея скользнули ниже, к виску, щеке, сильные руки сжали ее плечи, пальцы коснулись шеи. Ошеломленная, выбитая из колеи, Лика лишь прерывисто дышала, не отталкивая его, но и не отвечая на поцелуи.
До сих пор ее лица, губ касался только Никита. Она хорошо помнила охватывавший ее тогда, сжимавший горло восторг, пьянящую волну, опрокидывавшую, сбивавшую с ног. И вместе с тем всколыхнулась память о боли, почти физической, невыносимой, вспарывавшей внутренности, выдергивавшей наружу душу. И все ее тело напряглось, скованное паническим ужасом, страхом перед раз уже испытанной болью. И в голове застучало: беги, спасайся, делай все, что угодно, только бы не переживать этот кошмар снова.
И Лика, почти не соображая, что делает, движимая инстинктом самосохранения, резко вырвалась, судорожно всхлипывая, с силой оттолкнула Андрея, отшатнулась в сторону и принялась лихорадочно тереть ладонью губы. Он медленно, как-то криво усмехнулся и поднялся на ноги.
— Прости, прости, ради бога, я… — смешалась Лика.
Сжала руками голову, спрятала лицо в ладонях, пытаясь подобрать слова, чтобы объяснить Андрею эту ее паническую реакцию, попросить не портить ничего, оставить, как есть. Почувствовала, как плеча касается ладонь, со страхом подняла глаза. Он улыбался, как обычно, открыто и чуть насмешливо.
— Виноват, больная, издержки профессии. Говорят, врачи — самый аморальный народ.
Горло неожиданно сжалось, едкая обида защипала веки. Для него это, значит, обычное дело, перепутал ее с одной из своих санитарок и медсестричек. А она-то распереживалась, испугалась, что в ее жизнь снова ворвется что-то неуправляемое.
Лика заставила себя лукаво усмехнуться:
— Понимаю, профессиональная деформация. Но хотя бы дома-то держите себя в руках, дорогой эскулап.
— Впредь обязуюсь, — бодро отрапортовал Андрей, направляясь к выходу. Бросил ей, не оборачиваясь: — Чаю свежего заварить тебе?
— Не надо, — помотала головой Лика.
И, еле дождавшись, пока он выйдет, ничком повалилась на кровать, спрятала лицо в подушку, до крови закусив губы.
10
На четвертом курсе специальность «основы журналистики» преподавал Меркович Владимир Эдуардович, опытный военный журналист, не раз побывавший в зоне вооруженных конфликтов. Лике этот сорокапятилетний мужчина, смуглый, поджарый, двигавшийся между рядами парт с ленивой грацией крупного опасного хищника, казался воплощением профессии, которой она обучалась. Цепкий, тигриный взгляд темных глаз с восточным разрезом, жесткие черные с проседью волосы, широкие плечи. В каждом движении, в каждой позе, с виду — спокойной, расслабленной, чувствуется мгновенная готовность к прыжку. И Лике, глядя на него, хотелось победить в себе все слабое, болезненное, женственное, зависимое, стать цепкой и хваткой, спокойной и собранной, невозмутимой, чтобы ничто на свете не могло выбить ее из колеи, и в то же время быть способной на внезапную яростную атаку.
— Когда разговариваете с вооруженными повстанцами, — чуть растягивая слова, объяснял на занятиях Меркович, — держитесь вежливо, дружелюбно, но страха не показывайте. Будьте бодрыми и уверенными в себе, улыбайтесь открыто — это располагает. Проявляйте искреннее сочувствие и интерес к солдатам, ведь вы понимаете, как несладко им приходится, угостите их сигаретами, предложите газету. Это поможет снять напряжение. Словом, старайтесь наладить связи, не исключено, что вам придется провести там много времени. И тем не менее помните, что общих, единых правил не существует, учитесь ориентироваться по ситуации и мгновенно принимать решения.
— Ну а если они вдруг станут вести себя агрессивно? — дрожащим тенорком спросил с задней парты однокурсник Петька. — Стрелять начнут? Что делать?
Меркович по-мефистофельски изогнул бровь и участливо осведомился:
— А ты-то сам как думаешь, а?
— Ну я не знаю, — протянул Петька. — Руки, наверно, поднять?
— Мать твою! Бежать, пока яйца не отстрелили. Вот что делать!
Лика старалась впитать в себя, запомнить каждое его слово. Вот такой она и станет, когда окончит институт и начнет работать, — бодрой и уверенной в себе, с открытой дружелюбной улыбкой и внимательным настороженным взглядом. Здорово!
После окончания занятий Лика выбегала из темно-красного кирпичного здания, проходила через двор, перебрасываясь репликами с однокурсниками, миновала КПП и оказывалась на улице, где ее уже ждал Андрей. Обыкновенно они шли куда-нибудь перекусить — Андрей был уже молодым врачом-интерном, получал зарплату и мог себе позволить угостить ее, потом вместе ехали домой. Иногда, правда, в период острой фазы какого-нибудь очередного романа, Андрей пропадал на несколько дней, и Лика, выходя из института, напрасно искала его глазами. Что ж, она приучила себя не обижаться. Какое, в конце концов, у нее на это право? Оба они свободные взрослые люди, устраивать детсадовские разборки — ты мне должен, ты обещал, не в ее правилах. Да к тому же это и унизительно, выпрашивать внимание к себе. Решит еще, что ей это очень важно, подумает, что приобрел над ней какую-то власть. Нет уж, такое в ее жизни больше не повторится! Однако каждый раз, когда Андрей оказывался на месте, она бежала к нему с искренней радостью.
— И еще он говорил, не кричать и не скандалить, даже если на тебя наставлено дуло автомата. Всеми силами показывать, что ты адекватный человек и у тебя мирные намерения. Представляешь? Интересно, как этому можно научиться, а? Сам-то он наверняка умеет, по нему видно, он знаешь, такой… — взахлеб рассказывала Лика.
— Я чувствую, этот вояка поразил твое юное воображение, — насмешливо отзывался Андрей. — Втюрилась, что ли, а? Сознавайся!
— Тьфу ты, почему сразу втюрилась?! — досадовала Лика. — Просто он очень интересный человек, его заслушаться можно. Я его уважаю, восхищаюсь, если хочешь, а ты сразу — втюрилась… Мне кажется, люди вообще придают этому чувству какое-то слишком большое значение. Создают нездоровый ажиотаж.
— Это как раз здоровый ажиотаж, — серьезно возражал Андрей. — Человек должен кого-нибудь любить, это в нем природой заложено. А вот что неестественно, так это твоя скептическая позиция по этому вопросу.
— Ну и пусть неестественно, — ощетинивалась Лика. — Я тебе уже говорила, мне это не нужно и не интересно.
— Да ты просто маленькая лицемерка, — усмехался Андрей.
— Думай что хочешь, — сердито буркнула Лика. — И вообще, не хочу обсуждать эту тему. Лучше я тебе еще про Мерковича расскажу.
Они шли вниз по улице Горького, по направлению к Кремлю. Под ногами хлюпал полурастаявший пористый мартовский снег, над головой проносились рваные облака. В воздухе пахло приближающейся весной — водой, сырой землей, ветром.
Лика и Андрей двигались рядом, не держась за руки, почти не касаясь друг друга, разве что изредка сталкивались плечами. Лика, рассказывая, смотрела под ноги, машинально подбрасывала на ладони двухкопеечную монетку. Андрей слушал, глядя куда-то вверх, на узкие окна массивных зданий сталинской эпохи.
— Мне всегда таким представлялся отец, — задумчиво говорила Лика. — Я ведь его никогда не видела, дома даже фотографии нет. И мне всегда думалось, что он должен быть такой — какой-то очень романтический герой, сильный, смелый, всезнающий, много ездивший по свету, многое повидавший. Такой, понимаешь, человек мира, у которого, конечно, ни семьи, ни детей быть не может…
Андрей внимательно слушал ее, затем обернулся, произнес чуть насмешливо, но тепло:
— Твоя беда в том, дружочек мой, что ты в детстве слишком много книжек читала, вместо того чтобы в казаки-разбойники во дворе играть.
— В смысле? — вскинула брови Лика.
— Фантазия слишком богатая, — объяснил Андрей. — Придумала себе какого-то капитана Блада. А что, если он всего-навсего бухгалтер в Доме культуры?
— Ну нет, — уверенно помотала головой Лика. — Нет, такого быть не может. К тому же я от матери слышала, что они расстались, потому что он в Африку уехал.
— Доктор Айболит прямо, — покивал Андрей. — Ты и в самом деле веришь, что кто-то может бросить любимую женщину и ребенка потому, что это помешает ему бороздить Тихий океан?
— Не знаю, — сумрачно бросила Лика.
Она шла, потупившись, пиная носком сапога серый кусок льда. Андрей помолчал, потом вдруг быстро наклонился, зачерпнул липкого мокрого снега, слепил снежок и, крикнув «Берегись!», метнул его в Лику.
— Ах, ты так!
Девушка быстро отскочила в сторону, увернулась и, смеясь, бросилась в атаку. Андрей, спасаясь от града обрушившихся на него снежков, спрятался за углом. И Лика, выбросив из головы тяжелые, годами мучающие ее мысли, с хохотом полетела за ним.
Семейный скандал бушевал уже второй час. Лика закрылась в своей комнате, завела пластинку «Модерн Токинг», пыталась зажимать уши руками, но гневный голос бабки и истеричные рыдания матери заглушить было невозможно. Ольга заявилась неожиданно, без звонка. Вплыла в квартиру, выставив вперед прилично округлившийся живот. За ее спиной смущенно жался маленький насупленный Мишка, Ликин брат, с которым она почти не виделась.
— Здравствуй, Ликушка, здравствуй, — пропела Ольга.
Неловко обняла дочь, ткнулась губами в щеку, подтолкнула сына:
— Мишенька, поздоровайся с сестричкой.
Лика присела на корточки, протянула мальчишке ладонь, сказала:
— Ну привет, вождь краснокожих!
Угрюмый пятилетний пацан буркнул «Здрасьте!», руки не подал и снова спрятался за спину матери. В дверях кухни появилась Нина Федоровна, скрестила руки на груди, подозрительно уставилась на дочь, заранее не ожидая от этого визита ничего хорошего.
— Мамуля, а мы тут мимо проезжали, и вот решили… — зачастила Ольга.
— Ты давай проходи, нечего в дверях торчать, чтоб все соседи уши грели, — оборвала ее продмагша. — Проходи, садись и рассказывай, с чем пожаловала. Чего еще надо?
Подозрения многоопытной мудрой бабки подтвердились, Ольга явилась, конечно же, не просто так, а с заманчивым предложением — прописать в квартиру маленького Мишку и будущее новорожденное дитя.
— Это зачем еще? — искренне удивилась Нинка.
— Ну как же, мама, ты ведь немолодая уже, извини за прямоту. Если что случится, квартира отойдет государству. Я тебе, конечно, желаю здоровья и долголетия, но о таких вещах тоже приходится думать.
— А дочка-то как же? У тебя ж еще и дочь есть. Неужто забыла?
— Лика? — захлопала глазами Ольга.
— Лика, ага, дочурка твоя здесь прописана. Она-то никуда не денется. Или ты и ей остаток дней уже намеряла?
— Ну, мама, что ты так сразу начинаешь… — обиженно загудела Ольга. — Я же не смерти твоей желаю, я просто хочу все предусмотреть. А Лика молодая девушка, она может замуж выйти и к мужу переехать.
— Значит, родную дочь хочешь из квартиры выдворить? Последнего лишить? — взвилась, наконец, бабка. — Совсем совесть потеряла, бесстыжая твоя рожа? И так спихнула ребенка на нас со стариком, вспоминала про нее раз в год по обещанию, а теперь и совсем отделаться хочешь? Как же, новые детки завелись, любимые!
Лика, не желая больше слушать эти крики, выскочила из комнаты и спряталась у себя. Забилась в угол, скорчилась, прижав колени к груди, уткнулась лицом в ладони. Снова, как в детстве, накатило чувство беспомощности, ненужности. Лишняя, нежеланная, нелюбимая. Вечный камень преткновения, всем мешающий, вызывающий одну лишь досаду и недоумение. Вечный изгой, и никуда, никуда ей от этого не деться… Казалось, она опять сделалась одиноким заброшенным ребенком, будто и не была уже взрослой, двадцатидвухлетней девицей, почти окончившей институт и собиравшейся завтра на комиссию по распределению к будущему месту работы.
Из соседней комнаты долго еще доносились крики:
— Да какая ты мать после этого? Всю жизнь на ребенка плевала, и вон что удумала под конец?
— А ты? По-твоему, ты, что ли, идеальная мать? Да я тебя в детстве боялась как огня! Если б ты со мной разговаривала по-доброму, была бы мне близким человеком, может, и не случилось бы тогда всего этого!
— Хочешь сказать, я виновата, что ты в подоле принесла? У, зенки твои наглые!
Наконец мать, так и не добившись от упрямой бабки разрешения на прописку детей, ретировалась, громко хлопнув дверью. Лика слышала, как возмущенно стучали на лестнице ее каблуки, как отрывисто командовала она что-то маленькому Мише. Нинка отправилась на кухню и долго еще угрожающе гремела кастрюлями, разглагольствуя сама с собой о подлости человеческой натуры. По квартире расползался сладкий запах валокордина. Пару раз бабка звала Лику есть, но та отвечала из-за двери, что не голодна, просила не мешать — мол, занимается, готовится к последнему экзамену. Потом вернулся из больницы Андрей. Бабка кормила его ужином на кухне, бурча что-то неразборчивое, должно быть, жалуясь бессменному постояльцу на нерадивую дочь. Лика все так же, не поднимая головы, сидела, скорчившись на полу, рассеянно ковыряла пальцем царапину на старом потемневшем линолеуме.
Наконец, когда Нинка, управившись со своей кухонной вахтой, отбыла в свою комнату и тяжело завалилась там на кровать под скрежет разболтанных пружин, к Лике в комнату заглянул Андрей. Она сумрачно посмотрела на него исподлобья. Подумалось, вот сейчас он будет приставать с расспросами — что случилось, да как, да почему, да не расстраивайся. Андрей же молча подошел к ней и опустился на пол рядом, положил тяжелые руки ей на плечи. От его ладоней по телу побежало тепло, даря спокойствие, ощущение, что рядом есть кто-то сильный, мудрый, кто-то, кто не даст ее в обиду. В горле что-то дрогнуло, оборвалось, Лика охнула и, подавшись вперед, спрятала лицо на его груди.
Она не плакала, лишь судорожно вздрагивала, давясь сухими нервными спазмами. Андрей гладил ее по спине, укачивал, шептал на ухо что-то ласково-неразборчивое, и от его прикосновений, от близости его крепкого здорового тела почему-то кружилась голова, и глаза заволакивало темным сладостным туманом. Лика вспомнила, как в панике вырывалась из его рук тогда, почти три года назад. Сейчас же почему-то страха не было, она будто оттаяла, отогрелась, крепче охватывала руками его шею, словно боясь отпустить хоть на секунду.
Андрей поднялся с пола, прижимая ее к себе, держа на руках, маленькую, хрупкую, неслышными шагами проскользнул в свою комнату. Лика сильнее вжималась лицом в его плечо, чувствовала, как губы касаются гладкой кожи во впадинке под ключицей, жадно вдыхала его запах, теплый, знакомый, запах молодого и сильного мужчины. Андрей опустился с ней вместе на диван, ловкими умелыми движениями стянул с нее рубашку, коснулся губами груди.
Перед глазами мелькали ослепительные яростные вспышки, и почему-то совсем не было страшно, неловко от того, что впервые к ее телу, не прикрытому даже легкой футболкой, прикасается мужчина. Как будто она давно знала, что все должно случиться именно так, ждала этого и теперь лишь радовалась, отдаваясь во власть пробудившегося древнего инстинкта. Тело жило какой-то собственной жизнью, изгибалось и раскрывалось, не повинуясь ее рассудку. И Лика даже не поняла, как оказалась распростертой на диване, не видя над собой ничего, кроме ставших вдруг огромными бездонных голубых глаз, чувствуя лишь сладкую вожделенную тяжесть горячего тела. Она выгнулась, пытаясь прижаться к нему еще крепче, слиться воедино, и наконец-то ощутила на губах его губы.
11
Из дальней комнаты, где почивала бывшая директорша, донеслись какие-то приглушенные звуки. Задребезжали старые пружины, зашуршали по полу тапки, и слышно стало, как чертыхается вполголоса Нинка. Лика насторожилась, подняла голову. Что пробудило бдительную бабку в такой неурочный час, неизвестно, но можно было не сомневаться, если она обнаружит отсутствие внучки, скандал разразится нешуточный.
— Не уходи! — шепнул Андрей, не выпуская ее из рук, зарываясь лицом в ее волосы.
Но Лика уже спешила — ловко выскользнула, на цыпочках пробежала к двери и скрылась в коридоре, прошелестев:
— Спокойной ночи.
Она едва успела прошмыгнуть в свою комнату и нырнуть под одеяло, когда за дверью раздалась шаркающая походка Нины Федоровны. Дотошная хозяйка дома сунула нос в комнату Лики, убедилась, что дитя спокойно спит на своем месте, и ушла дальше по коридору, что-то невнятно бормоча себе под нос.
За окном медленно светало. В густо-серых предутренних сумерках размытыми очертаниями вставали одинаковые дома их летного микрорайона. Вдалеке, почти на горизонте, виднеются четко различимые в прозрачном утреннем воздухе высотки и шпили Москвы. В открытую форточку сладко тянуло вымокшей от ночной росы сиренью. Какие-то невидимые птицы начинали потихоньку утреннюю распевку. Стукнула дверь подъезда, зачихал, заводясь, мотор автомобиля в соседнем дворе. Мир просыпался, начинал свою каждодневную суетливую жизнь.
Спать не хотелось. Дождавшись, пока Нинка угомонится, Лика вылезла из-под одеяла, устроилась, как в детстве, на подоконнике, прилепилась носом к стеклу. Там, за стеной, совсем рядом спокойно спит Андрей. Светлая взлохмаченная голова на подушке, золотистые ресницы на бронзовом лице, а под глазами, заметные, лишь если как следует присмотреться, бледные веснушки. Он дышит ровно и спокойно — надежный, сильный, знакомый. Он, в отличие от того, другого, не скрылся, оставив после себя лишь смутные туманные воспоминания. Напротив, всегда был рядом, готовый прийти на помощь. Почему?
Уж не потому ли, что до сих пор она никогда не навязывалась ему со своей любовью? Закадычная подружка, младшая сестренка, ничего не требующая, ни о чем не спрашивающая. Захотел — пришел, не захотел — пропал на несколько дней. А сегодня что-то произошло, и хрупкое равновесие оказалось нарушено. И господи, как же страшно было ей теперь. Потерять его, такого родного, сильного, наверное, самого близкого ей человека на свете — от одной мысли об этом у нее начинала кружиться голова и больно становилось дышать. А ведь это непременно случится, жизнь не раз уже ей показала, что так происходит всегда, исключений не бывает. Может быть, где-то и есть женщины, созданные для любви, женщины, за которыми ухаживают, которых боятся потерять. Им делают предложения, волнуются, боясь услышать отказ, женятся, рожают пухлых смешливых детей. Она не из таких. Давным-давно ее будущее было раз и навсегда определено врачебным диагнозом. Зачем она Андрею? Болезненный, брошенный всеми заморыш? Она ведь ничего не сможет ему дать, кроме себя и своих собственных невзгод и разочарований. А значит, и нечего обманывать себя и его, такого доброго и хорошего, нечего рассчитывать на послабление в режиме. Надо проживать свою жизнь и не мечтать о несбыточном.
Впрочем, может, все эти ее размышления вообще беспочвенны, ведь ни слова о любви не было произнесено даже и сегодня. Возможно, завтра Андрей, как ни в чем не бывало, весело улыбнется ей утром, надавит пальцем на нос и умчится куда-то по своим делам? А если нет? А если, пряча глаза, будет мучительно подбирать слова, чтобы объяснить, что все случившееся было с его стороны лишь актом сострадания к больной забитой девочке? И тоже посоветует влюбляться в тех, кому нравишься ты, а не наоборот?
Солнце только еще показалось из-за крыш соседних домов, когда Лика, измученная бессонной ночью, изведенная страхом и дурными предчувствиями, неслышно выскользнула из квартиры, тихонько притворив за собой дверь. Сбежать из дома, куда угодно, только быстрее, не ждать терпеливо, когда прозвучит над ее головой приговор, самой строить свою жизнь, ни на кого не оглядываясь. Ей пришлось два лишних часа слоняться вокруг здания института, дожидаясь, пока соберутся однокурсники, откроются тяжелые двери и начнет работать комиссия по распределению. До вчерашнего дня у нее не было особенных планов по поводу будущей работы. Конечно, хотелось, чтобы место было интересным, но и только. Теперь же вдруг пришла спасительная мысль — что, если ее направят куда-нибудь к черту на кулички? Ведь тогда все решится само собой. Не будет мучительных сомнений, выматывающего душу страха потери. Исчезла, уехала — и взятки гладки.
Мимо нее прошел однокурсник Петька, бросив на ходу приветствие. Лика пустилась за ним, окликнула:
— Ну что, Петь, определился уже с местом?
Тот с удивлением посмотрел на нее:
— Да я ж давно уже, по специальному распоряжению. Не слышала разве? Нас — меня, Генку и Влада — Меркович к себе под крыло берет. Сейчас документы оформим и через месяц летим в Афган. Будем там про нашу доблестную армию оды писать, — он рассмеялся. — Еще Колян должен был лететь, но у него со здоровьем что-то там не прокатило, Меркович его забраковал в последний момент, так что сейчас решается, кто его заменит.
— Петька, ты гений, — неожиданно пискнула Лика и с размаху чмокнула оторопевшего однокурсника в щеку.
— Эй, ты куда, чокнутая? — крикнул он вслед уже мчавшейся к дверям института Лике.
Мерковича она отыскала на втором этаже. Преподаватель курил у раскрытого окна в пустой аудитории. Синеватый дым вился клубами в теплом воздухе и неохотно выплывал за окно. Внизу, во дворе, гоготали студенты. Лика тихо отворила дверь, остановилась на пороге, смутившись, не зная, как лучше подать свою просьбу. Владимир Эдуардович обернулся на звук быстрым кошачьим движением, смуглый, грациозный, похожий на хитрого и коварного туземного вождя.
— Владимир Эдуардович, возьмите меня в вашу группу, — с порога бухнула Лика.
— Девушка, вы кто такая? — вскинул брови преподаватель.
— Лика… Элеонора Белова, ваша студентка… — смешалась она.
— Белова… — Он чуть прищурил левый глаз. — Ммм-да, помню. Что вы хотите?
Лика шагнула к нему ближе, отчаянно заглянула в цепкие хищные глаза.
— Возьмите меня в вашу журналистскую группу. В Афганистан! — попросила она. — Я знаю, есть одно свободное место…
Он усмехнулся, словно оскалился, сверкнула полоска белых зубов.
— Зачем?
— Как зачем? Это ведь самая опасная, а значит, самая интересная область работы. Мы же этому пять лет учились, хочется применить знания на практике. Военная журналистика — мое призвание, и я…
Темные глаза будто подернулись дымкой, стали скучными. Меркович отвернулся к окну, затушил бычок о край подоконника, бросил небрежно:
— Женщин не беру.
— Но почему? — не уступала Лика. — Это несправедливо.
— Девушка, — досадливо скривился он. — Здесь речь не идет о справедливости. Мы отправляемся в горячую точку, там война идет, понимаете? И я за свою группу отвечаю головой. А женщина в группе — слабое звено. Я не хочу каждый день выслушивать всю эту трескотню — нет туалета, негде помыться.
— Да нет же, я вам обещаю, со мной проблем не будет, — горячо убеждала Лика.
Она старалась поймать его взгляд, заглянуть в лицо, Владимир же лишь устало хмурился и отводил глаза.
— Ну ладно, — прервал он ее наконец. — Давайте бросим эту лирику. У вас роман с кем-то из моих ребят? Тащитесь в зону боевых действий вслед за любовником?
Лика вспыхнула и отступила на шаг. Подумать про нее, что она будет бегать за мужчиной, навязываться, выпрашивать… Да кто он такой, этот потертый жизнью леопард, чтобы задавать ей такие оскорбительные вопросы? Она почувствовала, как в горле заклокотал гнев, глаза обдало холодом. И, уже не в силах сдерживаться, понимая, что губит свою последнюю надежду быть зачисленной в группу, выкрикнула:
— Да что вы себе позволяете? Как вы смеете мне такое говорить? Я вам не женщина! Я — военный журналист и имею право… А вы… Да вы просто шовинист…
Ее пылкая речь словно пробудила Владимира Эдуардовича от дремы. Он обернулся, взглянул на нее с веселым интересом, словно на забавного зверька, чуть раскосые глаза заискрились смехом. Лика осеклась, замолчала, он же выговорил, будто про себя:
— Бойкая… — и затем, уже обращаясь к Лике: — Ладно, я подумаю. Иди…
Лика, окрыленная, выскочила из кабинета, пролетела по коридору, остановилась у лестницы и только тут поняла, окончательно осознала, что произошло. Так ли уж ей нужна эта поездка, эта работа? Или она отвоевала ее в запале борьбы, просто потому, что ее не хотели брать? Так ли уж необходимо было идти на этот шаг, одним взмахом перечеркивать все, что случилось с ней прежде, все, что произошло вчера…
И тем не менее дело сделано, а отступать, возвращаться к Мерковичу, извиняться и говорить, что погорячилась, было решительно невозможно. Лика тряхнула чуть отросшими черными волосами и двинулась вниз по лестнице. Впереди ее ждала непростая задача — объяснить Нинке, что ее любимая, нежно лелеемая, слабая и болезненная внучка отправляется прямиком на войну, на неопределенный срок.
Андрей ждал на обычном месте, у выхода из КПП. Лика сразу увидела его, и в груди что-то дернулось, зазвенело, словно кто-то неосторожно тронул струну гитары. Стоит посреди улицы, будто возвышается над снующей толпой — сильный, светлый, спокойный. Голубые джинсы, белая отглаженная футболка. Если подойти сейчас, уткнуться носом в его грудь, ощутишь запах свежего хлопка, горячего утюга, опаленной солнцем кожи. Лика медленно направилась к Андрею, махнула рукой приближаясь.
— Привет. — Он улыбнулся ей, как обычно, весело и открыто.
Показалось, или что-то мелькнуло в его глазах, какое-то настороженное ожидание.
— Привет, — кивнула Лика, поравнявшись с ним.
Он не обнял ее, не попытался взять за руку. Они молча двинулись вниз по улице, не касаясь друг друга плечами по старой привычке. Что ж, значит, она поступила правильно, так тому и быть. Одна сумасшедшая ночь, которая ничего для него не значила, конечно, не повод, чтобы что-то менять в их прекрасных, годами выверенных, отношениях.
— Что скажешь? — произнес наконец он.
И Лика снова поймала на себе этот странный взгляд — напряженный, пристальный, будто он ждет от нее чего-то, безуспешно ищет что-то в ее глазах. Ах, ну конечно же, боится, должно быть, что сейчас она спросит, когда он, как честный человек, намерен сделать ей предложение. Подыскивает слова, чтобы объяснить ей, жалкой дурочке, что в жизни все не так однозначно. Не бойся, милый, я не доставлю тебе таких хлопот.
И Лика, широко улыбнувшись, объявила:
— Большие новости. Я еду в Афганистан.
— Куда? — переспросил Андрей.
— В Афганистан. В составе группы журналистов. Вот только что выбила себе место.
И она принялась увлеченно рассказывать о том, как ей удалось переломить самого грозного Мерковича. Андрей рассеянно слушал ее. Это странное, озадачившее ее выражение его глаз исчезло, лицо словно замкнулось, проступили складки у губ.
— Ты с ума сошла, — только и сказал он. — А если тебя там убьют?
— Да брось, — отмахнулась она. — Я же не танкистом буду, не летчиком. Кому я на фиг сдалась.
— Значит, едешь, — повторил он, будто пытаясь свыкнуться с этим, умещая неожиданную информацию в голове.
— Ага, — беспечно кивнула она.
— Уверена? — Он вдруг остановился, дернул ее за руку, заглянул в лицо с какой-то непонятной злостью.
Лике на секунду стало не по себе. Слишком близко оказалось его лицо, слишком яростно смотрели на нее васильковые глаза. И, как нарочно, вспомнился вдруг вкус этих сурово сжатых сейчас губ.
— Конечно, уверена. — Она выдернула руку из его твердых крепких пальцев и, словно нашаливший ребенок, невольно спрятала ее за спину. — А что, ты разве не рад за меня?
Кажется, он взял уже себя в руки, легко хохотнул, откинул волосы со лба.
— Конечно, рад. Счастливого вам пути на войну, мадемуазель.
Он снова пошел вперед, напевая, как всегда, фальшиво:
— Меня зовут юнцом безусым, мне это, право, это, право, все равно…
Лика помедлила несколько секунд, глядя, как играют при ходьбе мускулы на его широкой, обтянутой белой футболкой, спине. На душе стало паршиво и почему-то отчаянно захотелось опуститься на землю и зареветь. Уходит от нее, как обычно, веселый и насмешливый, и даже не обернется, не скажет: «Не уезжай!» Впрочем, разве она послушается, если он так скажет? Конечно нет, не послушается, она ведь привыкла решать все сама, или…
— Ты о чем там замечталась? — повернул голову Андрей. — О доблестях, о подвигах, о славе? Поторапливайся давай, надо же еще Нину Федоровну обрадовать!
И Лика, справившись с собой, изобразив на лице беззаботную улыбку, двинулась за ним следом.
12
…И вот, конь бледный, и на нем всадник, которому имя «смерть»; и ад следовал за ним…
Откровения Иоанна БогословаЗа окном тяжело грохнуло. Мелко задребезжали стекла, скатилась со стола шариковая ручка. Гул разорвавшегося снаряда прокатился по городу и стих.
Лика приоткрыла глаза, сощурившись, посмотрела на будильник у кровати и лениво перевернулась на другой бок. Из-за тонкой стенки гостиничного номера слышно было, как вскочил с кровати в своей комнате сербский журналист, прибывший в Кабул только вчера, забегал, заметался. Лика же снова прикрыла глаза, собираясь поспать в свое удовольствие еще часа два. За год, проведенный здесь, она настолько привыкла к выстрелам, грохоту взрывов, свисту снарядов, что для того, чтобы поднять ее с кровати, требовалось нечто большее, чем один случайный взрыв. Должно быть, моджахеды в очередной раз что-нибудь подорвали. Наверняка кто-то погиб, кто-то ранен. Но ей там сейчас делать нечего, утром все узнает.
В первые дни она так же вскакивала с места, услышав звук взрыва, металась, не зная, куда бежать. Рвалась кого-то спасать, кому-то оказывать помощь. Ее успокаивали, объясняли, что на все есть свои люди — раненым помогут врачи и медсестры, поиском террористов займутся военные. Ей же, журналистке, нужно сидеть ровно, не трепыхаться, не высовываться и терпеливо ждать, пока командование даст отмашку на освещение произошедшего в прессе, да еще и наставит, что именно следует рассказать.
Поначалу она так воодушевлена была своей работой, намеревалась всеми силами отстаивать правду, строчила заметки о нечеловеческих условиях, в которых живут солдаты. Ведь спать в бараках, где их размещали, из-за жары было невозможно, а уже в начале осени, после первых дождей, глинистые дороги превращались в вязкое болото, передвигаться по которому можно было только на бронетранспортере.
Она вспоминала свое первое интервью, которое, не испросивши высочайшего разрешения, взяла у круглоглазого молодого солдатика. Тот, испуганно моргая, рассказал ей по секрету, как страшно ему здесь и одиноко, как издеваются над ним «деды» и какой жестокий и грубый человек старшина Васьков. Лика, обескураженная, возмущенная, всю ночь просидела за работой и к утру притащила Мерковичу готовую статью.
Владимир сидел в холле гостиницы, где размещали журналистов, в единственной приличной гостинице в Кабуле, где два раза в день бывала все-таки вода, иногда даже горячая. Развалившись в низком кресле, откинувшись на спинку, он, казалось, дремал. Полуприкрытые темные глаза сонно щурились на бивший в узкое окно солнечный свет.
Лика сбежала к нему по ступенькам лестницы, торжественно вручила исписанные листки, произнесла:
— Владимир Эдуардович, просмотрите, пожалуйста! Моя первая статья.
Меркович лениво кивнул, пробежал глазами строчки, уголок его рта дернулся, пополз вниз. Он протянул стопку листков ей обратно.
— Молодец, живенько написано, легко. Убедительно!
Лика растерялась.
— А как же… Что мне теперь делать?
— Со статьей? Да что хочешь. Можешь порвать, можешь спрятать в стол, сохранить для истории. А можешь… эээ… Ну ладно.
— Почему в стол? — опешила Лика. — Это ведь правда, он сам мне рассказывал. И я все честно написала, ничего не приукрасила.
— Конечно, правда… — кивнул Меркович. — Но печатать это не будут. А тебя, если сунешься со своей правдой, вытурят отсюда в двадцать четыре часа. Мы должны нести советским читателям самую полную информацию — о наших победах, о том, что наши войска контролируют всю территорию Афганистана, о том, что жалкая горстка оставшихся моджахедов со дня на день сложит оружие, а наши доблестные солдаты живут здесь, как на курорте, получают четырехразовое питание и здоровый сон.
— А если я не хочу это писать? — строптиво вскинула голову Лика.
Владимир Эдуардович подался вперед, тело его, за секунду до этого расслабленное, в мгновение ока налилось силой, вздулись бугры мускулов под защитного цвета рубашкой. Раскосые глаза угрожающе блеснули. И Лика невольно попятилась, слишком уж он был похож на леопарда, готового к прыжку.
— А если не хочешь, нечего было напрашиваться ко мне в группу, — отрезал он. — Может, мне тебя вообще домой отправить? Так я могу. Напишу, что ты, к примеру… — он окинул Ликину фигуру насмешливым взглядом, — беременна. — И добавил серьезно: — У меня здесь нет «хочу — не хочу». Я сказал — и точка!
И Лике пришлось отступить, спрятать свои амбиции. Слишком властным и непреклонным оказался этот человек. Что-то было в нем, какая-то внутренняя сила, несгибаемость, заставлявшая слушаться его беспрекословно. И Лика, не решаясь на открытый бунт, лишь молча злилась, приговаривая про себя: «Диктатор проклятый!»
Вскоре ясно стало, что нельзя писать ни о молоденьких искалеченных солдатиках, мучающихся от ран, изнывающих от удушливой жары и гангрены в Кабульском госпитале, ни об отчаянных криках и рыданиях закутанных в черное женщин после очередного артобстрела, ни о мучившей всю военную часть дизентерии. Разрешалось говорить о братской помощи СССР в борьбе афганского народа с религиозными экстремистами. О победах советских войск, о жестокости душманов, об афганско-советской дружбе. Писать же правду об огромной, дикой, никому не принадлежащей земле, рождающей под яростным солнцем лишь разлапистые кусты конопли, о пустынных дорогах, по которым опасно было передвигаться, о застывших в тишине желто-коричневых горных склонах, за каждым из которых могла притаиться смерть, о криках и проклятиях, доносящихся из случайно попавших под обстрел деревень, было строжайше запрещено.
Но помимо этих общих для всех ограничений, у Лики, по милости проклятого диктатора Мерковича, были еще и свои собственные. Целый год она уже провела здесь, но до сих пор не выезжала из города дальше аэропорта. Казалось, она уже наизусть выучила, как заходят на посадку прибывающие из СССР военные пузатые самолеты. Как взмывают в воздух вертолеты, сбивая тепловые ловушки. Как встречают в посольстве делегации из Москвы. Только это ей и можно было описывать. Сопровождать дорогих гостей до посольства, присутствовать при их визитах в военную часть, наблюдать, как торгуются они за причудливые афганские ковры, вываленные на базаре. Меркович с ребятами ездили на бронетранспортерах в Кандагар, летали на вертолетах в зону боевых действий, прячась от пуль, делали репортажи с места событий. Ей же доставались чиновничьи заседания, переходящие в разухабистые пьянки до утра, где ей приходилось отбиваться от настойчивых предложений дорогих гостей провести вместе остаток ночи. Правда, с наиболее навязчивыми кандидатами разбирался сам Меркович, по-простецки объясняя, чтобы «к его бабе не лезли».
Она злилась, негодовала, что к настоящей работе ее не подпускали, но поделать ничего не могла. Подчиняясь негласному приказанию Мерковича, ребята и здесь, в городе, старались всячески оберегать ее, не выпускали из гостиницы по вечерам, да и днем вечно увязывались следом, куда бы она ни шла. И Лике иногда казалось, что она и не уезжала из Москвы.
Она не отдавала себе отчета, насколько изменилась за этот год. Из зеркала на нее смотрело суровое, смуглолицее, почти бесполое существо, с пронзительным цепким взглядом казавшихся теперь светлее на фоне загара глаз. Коротко остриженные волосы, спрятанные под военного образца кепкой, похудевшее скуластое лицо, извечная сигарета, зажатая в уголке решительного рта… Впрочем, главным было даже не это. Что-то ушло. Умерло в душе безвозвратно. Какая-то врожденная мягкость, впечатлительность, женственность, способность к сопереживанию и стремление к немедленному оказанию помощи. Теперь Лика точно знала — всех не спасешь, не поможешь. Война есть война, она все прикроет, все спишет. И смешными, бессмысленными казались чувства и страдания, составлявшие ее прошлый, московский уклад. Любит — не любит, поймет — не поймет, все это так неважно здесь, когда жизнь каждого может оборваться в любую секунду. И, изредка разговаривая по телефону с Ниной Федоровной, выслушивая причитания и скупо сообщая о себе — все нормально, жива-здорова, она не решалась спросить об Андрее. Словно берегла, боялась разрушить этот панцирь, которым сама собой покрылась тут душа. Жить мгновением, не загадывать на завтра, не думать, не чувствовать, не любить. Не искать глубинный смысл в случайных поступках, не придавать значения словам. Какая, в конце концов, разница, что там случилось вчера, месяц, год назад. Война все спишет…
Сон больше не шел к ней. Лика поднялась с постели, подошла к окну, равнодушно взглянула на ставший уже привычным безжизненный пейзаж. Вдалеке вздымались желто-серые, пологие горные вершины, кое-где поросшие растительностью. Городские строения словно скатывались с них вниз, к изгибу поблескивающей под утренним солнцем голубой реки. Однообразные невысокие домики, изредка встречающиеся коряжистые пыльные деревья, бредущие куда-то темноликие люди со строгими, глубоко посаженными глазами. Облаков не было, но где-то над окраиной курилась струйка густого дыма. Должно быть, взрыв произошел именно там. Лика зевнула, потянулась и начала одеваться.
В коридоре гостиницы ей встретился осунувшийся, бледно-зеленый Петька. — Что рвануло? — спросила она.
— Да… — Он отмахнулся. — Духи автобус взорвали. Четверо погибли, двенадцать раненных.
— Ясно, — покивала Лика. — А ты чего такой снулый? Накурился вчера, что ли?
— Да какой там, — с досадой бросил Петька. — Салат, суки, вчера на ужин подали. Помыли, наверно, зелень плохо, чурбаны проклятые. Всю ночь не спал, с толчка не слезал. Сейчас в Кандагар ехать с нашими офицерами, Меркович договорился, а я выйти из гостиницы не могу.
— Бедняжечка! — со смехом посочувствовала Лика. — Сходи к Петренко, у него должны были таблетки остаться. Он тут тоже как-то салатику поел…
Обрадованный Петька поспешил по коридору, Лика же на мгновение задумалась, затем окликнула его:
— Постой! Сейчас, говоришь, в Кандагар едете?
— Они едут, — махнул головой Петька. — Я уж сегодня никуда не ездок.
— Ясно, — кивнула Лика. — Ну иди лечись, болезный! — И, быстро сообразив что-то, кинулась вниз по лестнице.
У выхода из гостиницы тарахтел выкрашенный под камуфляж армейский джип. Шофер в военной форме проверял что-то, откинув крышку капота. Несколько военных с автоматами наперевес курили чуть поодаль. Меркович стоял у машины, объяснял что-то двум ребятам из группы, уже сидевшим внутри. Лика подлетела к нему и быстро заговорила:
— Владимир Эдуардович, можно мне с вами вместо Пети. Он…
— Доброе утро, — обернулся к ней Меркович. — Я знаю про Петю.
— Так можно? — настойчиво переспросила Лика.
— Нет, — отрезал Меркович и отвернулся к ребятам.
— Почему? — не уступала Лика.
Он посмотрел на нее с нескрываемым раздражением.
— Белова, ты мне клялась, что, если я возьму тебя в группу, с тобой проблем не будет. Тем не менее с тобой сплошные проблемы. Тебе с нами нельзя, потому что обстановка неспокойная. Ты, наверно, знаешь уже, что утром духи взорвали автобус. И на дороге может произойти экстренная ситуация.
— Вы мне тоже обещали, — запальчиво возразила Лика. — Обещали, что я буду здесь военным корреспондентом, а не бесплатным приложением к журналистской группе. И насчет обстановки… Она тут всегда неспокойная. И странно, если б было иначе, война все-таки. За целый год, что я здесь торчу, ни разу еще не было спокойной обстановки.
— Белова, возвращайся в гостиницу, — повысил голос Владимир.
— И не подумаю! — взбеленилась Лика. — Вы мешаете моему профессиональному развитию, не даете проявить себя, а потом говорите, что я еще не готова выезжать за пределы города. Так я никогда не буду готова, вы просто не даете мне возможности…
— Хватит! — резко оборвал он. И, зыркнув на нее злыми темными глазами, скомандовал: — Полезай в машину. Живо! И чтоб я никакого писка в дороге не слышал!
— Есть! — расплываясь в счастливой улыбке, отозвалась Лика и, торопясь, пока он не передумал, запрыгнула в джип.
13
Дышать в тесном кузове было нечем. В спертом недвижимом воздухе стоял запах нагретого солнцем металла, бензина, выжженной пересохшей земли. Лика попыталась перекинуться парой слов с Генкой, журналистом из их группы. Но из-за рева едущего впереди бронетранспортера и непрекращающегося стрекота кружившего над ними вертолета ничего не было слышно. Она выглянула в узкое, заплывшее грязными разводами окно джипа. За стеклом тянулся однообразный желто-серый пейзаж — растрескавшаяся земля, пологие горные склоны, чахлая, изнывающая без воды растительность. Изредка мелькали пустые, словно вымершие, деревушки с низкорослыми домиками. Кругом царили бедность и запустение.
Лика откинулась на кожаную спинку сиденья и обвела взглядом салон джипа. Водитель уверенно вел машину, непринужденно рассказывая что-то смешное согласно кивавшему усатому военному, сидевшему рядом с ним впереди. Генка строчил что-то, пристроив на коленке потертый блокнот. Тусклый солнечный луч, пробивавшийся в кузов сквозь запыленное стекло, высвечивал благородный профиль Мерковича — словно изображение римского императора на древней монете.
Удушливая жара сморила Лику. Голова стала тяжелой, глаза сонно моргали, и в конце концов она задремала, провалилась в неглубокий душный сон. Она не поняла, что произошло. Почему вдруг ожила и заверещала рация на поясе у капитана, что за сухой треск раздался откуда-то слева, почему с кружившего над колонной вертолета донеслась автоматная очередь. Лика приоткрыла глаза, увидела бледного Генку, его трясущиеся губы, услышала резкие выкрики офицера в рацию:
— Мы приближались к посту. Нас увидели с дороги, открыли огонь… Отсюда до поста две тысячи метров. Обстрел продолжается.
Она успела заметить странное выражение на лице Владимира — глаза блестят, раздуваются тонко вырезанные ноздри. Близость опасности словно опьянила его, превратила в древнего, коварного и жестокого бога войны. Машина продолжала двигаться, несмотря на взметавшиеся рядом черные фонтаны земли. Затем что-то ударило совсем близко, взорвалось будто в голове. Окружающий мир дрогнул, зашатался, взлетев на воздух, осыпался мелкими черными осколками. Лика ощутила, как невидимая сила подбрасывает ее тело, словно детский мячик, влечет куда-то, переворачивает. Глаза заволокло красным. И больше уже ничего не было.
Кругом был снег, глубокий, рыхлый, непроходимый. Лика брела вперед, то и дело проваливаясь почти по пояс, падая и снова поднимаясь. Брела туда, где виднелась впереди смутная темная фигура. А снега на пути становилось все больше, он комьями налипал на сапоги, делая ноги тяжелыми, неподъемными, затрудняя каждый шаг, он колол ладони, набивался за шиворот. Непонятно было только, почему же он такой жаркий, горячий, этот странный снег. Жжет руки, лицо и пахнет гарью… И становится его все больше, а темная фигура впереди все отдаляется. И Лика, уже не надеясь дойти, добраться до нее, судорожно кричит: — Никита!
Человек оборачивается. Но только это не Никита. Это кто-то другой, тоже знакомый, смотрит на нее глазами цвета июньского неба…
Лика едва слышно застонала. Кругом было темно, лишь откуда-то сбоку пробивался солнечный свет. Она с трудом приподняла руку, попыталась сориентироваться в окутывавшей ее темноте, пальцы скользнули по прохладной неровной каменной поверхности. Значит, она в каком-то горном ущелье, в пещере, каменном мешке. Лицо и ладони сильно саднило, наверное, кожу посекло осколками во время взрыва. Лика ощупала голову, убедилась, что тяжелых травм нет — лишь на виске коркой запеклась кровь, должно быть, ссадина. Первый шок начал медленно отступать, отчаянно заколотилось сердце, задрожали пальцы. Лика сжала зубы, стараясь взять себя в руки. Нельзя распускаться, нужно действовать быстро и решительно. Узнать, где она, как сюда попала, кто из их колонны выжил. Любыми способами постараться добраться до своих.
Она попыталась приподняться, осторожно, чтобы не удариться о каменный свод, протянула вперед руку, нащупывая дорогу в темноте, и вдруг, услышав слева тихий шорох, в ужасе отпрянула. В пещере кто-то был. Неслышный, невидимый, почти не различимый. Каким-то животным чутьем она ощущала его присутствие, не зная, кто это — свой или чужой, человек или животное.
Действовать молниеносно. Нанести удар первой, пока тот не понял, что она очнулась. Лика собралась, сжалась для резкого рывка. Бить придется вслепую, это плохо. И все-таки… все-таки шанс на спасение есть. Выдохнув, до крови закусив губы, она пантерой бросилась вперед, и тут же крепкие стальные руки стиснули ее, сжали кольцом. Широкая ладонь зажала рот, не давая вскрикнуть. Лика билась, почти теряя сознание, задыхаясь, хрипя. И вдруг уловила запах — знакомый острый, пряный запах опасного хищника. И тут же всплыли в памяти темные, прищуренные, точно выслеживающие добычу глаза, резко очерченные скулы, темные, коротко остриженные волосы, чуть тронутые сединой. И Лика выдохнула прямо в зажимающие ей рот пальцы:
— Владимир Эдуардович, это вы?
Он тут же ослабил хватку и прошептал отрывисто:
— С добрым утром, дочка. Тихо!
И от этого знакомого сорванного голоса отступил сжимавший горло страх, разжались судорожно сцепленные пальцы. И Лика, не понимая, что делает, обвила руками его мощную крепкую шею, прижалась всем телом к твердым мускулам его груди, словно ища защиты, опоры в нем, единственном, настоящем во всем этом обрушившемся на нее кошмаре. Она сухо, бесслезно всхлипывала, уткнувшись лицом в его плечо.
— Ну-ну, возьми себя в руки. Перестань! — шепнул он.
Его широкие ладони скользили по ее спине, успокаивая, укачивая, как ребенка. Лика ощутила легкое прикосновение к виску и в смятении подумала, что, должно быть, он коснулся его губами.
— Успокойся, — продолжал он. — Ты осталась жива, это главное. Самое страшное позади. На войне больше всего гибнут не от ран, а от шока. Ты же у меня не такая. Ты же смелая девушка, да, родная?
Он прижимал ее к себе, даря тепло, уверенность, силы. И Лика постепенно пришла в себя, успокоилась, выровняла дыхание. Он разжал руки, и она неохотно, словно не желая покидать надежное укрытие, отодвинулась чуть в сторону, села, касаясь в темноте его железного плеча.
— Что… что с нами случилось? — спросила она.
— Душманы обстреляли колонну, — объяснил он. — В машину попал снаряд, водитель погиб, капитан, я думаю, тоже. Про Генку не знаю, надеюсь, что его подобрали наши.
— Почему же не подобрали нас?
— Нас с тобой взрывной волной отбросило в кювет. Наверно, нас просто не заметили. Когда я пришел в себя, поблизости уже никого не было, мне удалось оттащить тебя сюда, в укрытие.
— Что же нам теперь делать? — испугалась Лика.
Оказаться отрезанной от своих, в дикой воюющей стране. Могло ли с ней произойти что-то более страшное? Может, не таким уж тираном-самодуром был Меркович, когда настаивал, чтобы она оставалась в черте города?..
— Пока ничего, — ответил он. — Сидеть тихо и не высовываться. Скоро стемнеет, тогда попытаемся добраться до своих. До блокпоста около двух километров. Ты, кажется, не ранена? Сможешь идти.
— Да, конечно, — заверила она. — А вы?
— Меня так просто не возьмешь.
Она услышала, как он усмехается в темноте. Да что же это за человек такой, смерть, опасность, война для него, как стакан хмельного напитка! Тяжелая горячая рука его все еще ободряюще похлопывала ее по плечу. Лика поджала под себя ноги, попыталась поудобнее усесться на камнях — им предстояло провести здесь еще не один час.
Полоска алого света, проникавшая в пещеру сквозь узкое отверстие, потускнела, стала постепенно гаснуть и, наконец, померкла совсем. Снаружи потянуло прохладой. Меркович подобрался к выходу из пещеры, несколько секунд вглядывался в полумрак, будто его кошачьи глаза могли и в темноте видеть так же зорко, как днем, и отрывисто скомандовал:
— Вроде все тихо. Выходим.
Они выбрались из пещеры и медленно, крадучись двинулись по узкой горной тропке вперед. Владимир передвигался плавно, неслышно, пружинисто ступая по почти отвесному склону. Лика раскидывала в стороны руки, стараясь удержать равновесие, хваталась пальцами за вьющиеся по камням колючки, изредка пригибалась к земле, преодолевая горные выступы почти ползком. Вокруг жила и дышала непроглядная черная тьма, и Лика не понимала, как Мерковичу удается ориентироваться в пространстве. В воздухе пахло нагретым за день камнем, сухой горной пылью, пряным хвойным запахом ползучих растений. Из-под ноги метнулся в сторону потревоженный варан. Владимир шел не останавливаясь, изредка поднимал голову, определяя направление по вспыхивавшим в темноте крупным звездам.
Голова кружилась. Сказывались то ли последствия взрыва, то ли голод. Ноги ломило от долгого пути. Меркович двигался очень быстро, и Лика почти задыхалась, но неуклонно шла вслед за ним, не решаясь попросить об отдыхе. Она превратилась в автомат, уже не понимала, что делает, куда ступает, почти не обращала внимания на выбоины в камнях. Вдруг левая нога поехала вниз, Лика утратила равновесие, зашаталась и громко вскрикнула. Ее резкий отрывистый возглас прокатился по темным горным уступам, подхваченный звонким эхом. Владимир стремительно развернулся и удержал ее на тропинке. Но было уже поздно.
Безмолвная темнота ожила, где-то совсем близко затрещал автомат, раздались гортанные выкрики. Метнулись быстрые бесшумные тени. Меркович схватился за плечо. Лика в ужасе отскочила в сторону. Владимир, страшный, оскалившийся, дернул ее за руку, увлекая в темный провал между горными вершинами, резко бросил:
— Падай! На землю!
Они повалились рядом, касаясь друг друга плечами. Лика вжала голову в его горячее пыльное плечо, боясь дышать, стараясь слиться с темнотой, ночью, с ним, единственным своим спасением. Совсем рядом прозвучали хриплые голоса. Мимо прогрохотали тяжелые ботинки. Казалось, можно было протянуть руку и дотронуться до подбитой железом подошвы. Промелькнули в темноте серые от пыли чалмы, донесся спертый тяжкий запах, исходящий от одежды боевиков.
Холодный пот залил глаза, дыхание перехватило. Лика сжалась, вся превратившись в напряженный, готовый к немедленному броску, комок. Но духи прошли мимо, не заметив их.
Дождавшись, пока все стихло, Владимир приподнялся, сел, привалившись к склону горы. Лика только сейчас увидела темное пятно, расплывавшееся по его защитного цвета рубашке у правого плеча. Сердце провалилось куда-то в живот.
— Вы… Вы ранены? — с трудом выговорила она.
— Да, по плечу цапануло. Больно, черт. Надо перевязать. Сможешь? — коротко спросил он.
Она отчаянно закивала, подползла ближе, вытащила из кармана армейских камуфляжных штанов складной перочинный ножик, дрожащими пальцами разрезала рукав рубашки. Пальцы тут же вымокли в теплой, пахнущей солью и железом крови. Лика оторвала от рубахи широкую полосу ткани, принялась накладывать повязку, осторожно касаясь гладкой горячей кожи. Наверное, движения ее были не слишком-то профессиональными и причиняли раненому боль, однако он лишь едва слышно скрипел зубами. Наконец повязка была наложена. Лика вытерла руки о футболку, обернулась к Мерковичу. Он сидел, все так же откинув голову, тяжело дыша. Посмотрел на нее быстро, мелькнули в темноте яркие белки раскосых глаз.
— Теперь слушай внимательно. Я дальше не пойду. Мне до поста не добраться, много крови потерял. Ты пойдешь одна вон в ту сторону. Если собьешься, ориентируйся по звездам. Видишь, вот эта должна быть всегда слева. Как только доберешься до наших, объясни им, где меня оставила, скажи, пусть кого-нибудь за мной вышлют. И побыстрее. Все поняла?
Лика решительно замотала головой, выговорила трясущимися губами:
— Я одна не пойду.
— Да ты не бойся! — принялся уговаривать он. — Осталось уже немного, не потеряешься.
— Нет, — затрясла головой она. — Я не пойду… без вас.
— Что за бабские страхи! — яростно проговорил он.
— Мы вместе пойдем, я вам помогу, я дотащу… — не унималась Лика.
— Ты что, совсем идиотка? — прошипел он. — Немедленно отправляйся, я приказываю!
— А я плевала на твои приказы! Сам идиот. Совсем ничего не понимаешь! — прошептала Лика.
И, подавшись вперед, приблизившись вплотную, сжала его лицо ладонями, вдохнула пряный запах его волос, опаленной солнцем бронзовой кожи, сильного гибкого тела, припала губами к узкой полоске его сжатого рта. И все вокруг — темный провал ночного неба, смутные силуэты гор, подстерегающая за каждой вершиной опасность, запах крови — закружилось, затанцевало в бешеном вихре. Его твердая ладонь легла на затылок, крепче прижимая ее голову, напряглись под тяжестью ее тела крепкие мышцы груди и бедер, а губы, эти всегда сурово сжатые губы, оказались вдруг мягкими, теплыми, трепещущими под ее губами. И захотелось крикнуть ему — держи меня крепче и не отпускай никогда-никогда.
Они медленно продвигались вперед. Володя, уже выдохшийся, посеревший, тяжело опирался на ее плечо и, едва выговаривая слова, язвил: — Ну что, дочка, тяжело приходится? А это тебе за самоуправство. Приказ старшего надо выполнять, товарищ военный корреспондент!
Лика понимала, что он нарочно разговаривает с ней в шутливом тоне, чтобы поддержать, внушить уверенность, что все в порядке, что он дойдет до блокпоста, а не рухнет без чувств прямо ей под ноги. Ее же решительность таяла с каждым шагом. Казалось, не будет конца этому пути через горы… лишь ночь, мгла, страх, тысячи холодных далеких звезд, заливающий глаза пот и тяжесть этого недавно еще совсем чужого мужчины. Когда ее начало тянуть к нему? Неделю, месяц, год назад? Или еще в Москве, в институте, когда он двигался между партами своей кошачьей мягкой походкой, изредка останавливаясь и заглядывая в глаза кому-нибудь из студентов? Или это война, опасность, кровь бросила их друг к другу, заставила уцепиться за него как за единственное спасение? А может, он был просто воплощением всего того, о чем ей всегда мечталось с самого детства, явился, словно ответ на ее тоску по сильному плечу. Может быть, это сама судьба, наконец, смилостивилась над ней и указала на этого прежде такого недоступного мужчину?
Лика не знала, как ответить на эти вопросы, да и не хотела на них отвечать. Это там, в далекой и мягкой, как вата, мирной жизни, было так важно разобраться в чувствах, докопаться до истины. Это там она задумывалась о том, что будет завтра. Здесь же, в этом безрадостном краю, никакого завтра не было, существовало только настоящее, здесь и сейчас, способное прерваться в любую секунду яркой вспышкой, треском автоматной очереди. И тратить, возможно, последние минуты жизни на глупые рефлексии было просто смешно.
Она остановилась, переводя дыхание, утерла лоб тыльной стороной ладони, перехватила давившую ей на плечи руку Мерковича. Прищурилась, стараясь различить дорогу в окружавшей их тьме, и вдруг увидела маленький тусклый огонек где-то впереди. Не веря своим глазам, боясь ошибиться, принялась вглядываться во мглу. Показалось, или там действительно виднелась каменная стена, высилась над ней дозорная вышка и мелькал едва различимый в темноте огонек.
— Володя, — осторожно позвала она. — Володя, ты видишь? Там, впереди…
Он поднял тяжело клонившуюся на грудь голову, попытался выпрямиться, всмотрелся вдаль.
— Это наши, — сказал отрывисто. — Наш блокпост. Дошли.
— Господи! Дошли! — выдохнула Лика.
И, чувствуя, как что-то теснит и распирает грудную клетку, обхватила руками шею Владимира, с яростной радостью целуя глаза, щеки, губы, шепча:
— Володенька, родной, родной мой…
14
Лика не решилась бы назвать их с Владимиром отношения романом. Да и вообще обозначить их каким бы то ни было привычным названием. Они ни о чем не договаривались, ничего не обещали друг другу. Володя не спрашивал ее о прошлом, не допытывался, ждет ли ее кто-нибудь в Москве. Она же знала, что у него в Москве осталась семья — жена, дети, но, в свою очередь, никаких вопросов не задавала. Словно они заключили негласный пакт о ненападении, невмешательстве в частную жизнь друг друга.
Лика отчетливо запомнила тот первый вечер, когда она впервые вошла в его номер в кабульской гостинице, уже после того, как Владимира выписали из госпиталя. Она тихо прошмыгнула по коридору и чуть слышно постучала по двери костяшками пальцев. Дверь распахнулась сразу же, как будто он знал, что она придет, чувствовал и выжидал в своей засаде. Лику словно обожгло темным откровенным взглядом его глаз, она невольно даже отступила, он же положил руку ей на плечо, властно, уверенно, будто имел на это узаконенное самой природой право, заставил войти. И Лика послушалась, подчинилась, как подчиняются вожаку стаи.
Все, что произошло в эту ночь, разбудило в ней что-то ранее неведомое, глубоко дремавшее где-то внутри — плотскую животную радость брать и отдавать без остатка, не оглядываясь, не думая, не разбираясь в теснившихся в груди чувствах. Через несколько часов она поднялась с узкой неудобной гостиничной кровати, накинула рубашку, еле слышно прошептала:
— Я пойду к себе, хорошо?
Он не удерживал ее, лишь быстро притянул к себе, скользнул губами по виску и отпустил:
— Иди!
Она обернулась у выхода. Он лежал, откинувшись на подушки, спокойный, сильный, дочерна загорелый. Лишь на плече выделялась белая полоса бинтов. Бенгальский тигр в своем укрытии. И Лика на мгновение удивилась, почему же рядом с ним ее не посещает это, испытанное уже однажды, чувство защищенности, надежности, тепла. Нет, несмотря на всю свою силу и ловкость, Владимир оставался зверем-одиночкой. Он не жалел ее, не обещал поддержку и опору. Брал что хотел и отпускал, не чувствуя за собой никакой ответственности. И Лика с удивлением поняла, что именно это ей и нравится. Свобода и независимость двух случайно встретившихся и готовых в любой момент разбежаться диких кошек.
С ним, конечно, было удивительно интересно. Теперь, когда Лика проявила себя в опасной ситуации, он больше не боялся брать ее на сложные задания наравне с другими ребятами. Лике нравилось сидеть рядом с ним в кабине стрекочущего вертолета, смотреть вниз на темную растрескавшуюся землю, пересеченную пыльными полосами дорог, на приткнувшиеся друг к другу каменные домики деревень, на изгибы коричневых гор. Нравилось, как четко, немногословно он обрисовывал план действий, как кратко и емко давал указания ей и ребятам. Правки, которые он вносил в написанные ею заметки, всегда были справедливыми, точными. Он учил ее не поддаваться эмоциям, не превращать статью в поток сознания, а четко структурировать материал, не допускать случайных слов, безжалостно вычеркивать лишнее. Случалось, иногда она спрашивала его, одевавшегося, чтобы отправиться добывать какой-нибудь особо ценный репортаж:
— Когда ты будешь? К вечеру? Или завтра?
Он коротко усмехался, застегивая на груди рубашку:
— Если буду. Если…
— Не надо так говорить…
И Лика, напуганная, ошеломленная его непоколебимым спокойствием, подходила сзади, обхватывала его руками за плечи, прижималась всем телом к горячей спине, ощущая, как играют мускулы под рубашкой. Вдыхала острый запах его тела, прикасалась губами к докрасна загоревшей шее. Он резко разворачивался к ней, целовал быстро и жадно, затем, чуть отстранившись, дотрагивался до виска, проводил пальцем по белой галочке шрама, появившегося после того взрыва.
— Не трусь! Все будет хорошо!
И исчезал за дверью.
Немного пугали его деспотизм, жесткость, несгибаемость, порой граничившая с полной бесчувственностью. Лике навсегда запомнился тот день, когда их группа вела репортаж прямо с места проведения операции. Запах гари и крови, не умолкавший ни на минуту грохот стрельбы, разрывов, рев тяжелых военных машин, потемневшее небо над головой. Лика бежала вдоль домов маленькой деревушки, у которой разворачивалась операция, пригнувшись, вжав голову в плечи. Стреляли чуть в стороне, левее, но случайная пуля могла попасть и сюда. Задыхаясь, она наговаривала в диктофон: — Сейчас 8.30 по кабульскому времени. В операции участвуют около двухсот моджахедов. Мы приближаемся к посту. Темнеет. Вперед вырывается группа атаки, пятнадцать-двадцать человек, вооруженных «калашниковыми».
Она споткнулась о что-то темное, не удержавшись на ногах, рухнула на колени и тут только поняла, что преградившая ей дорогу черная груда была местной женщиной, убитой случайной пулей. Наклонившись, Лика смогла рассмотреть точеные черты совсем еще молодого лица, прилипшую к щеке темную прядь волос, выбившуюся из-под платка, приоткрытые губы. Рядом валялась слетевшая с ноги убитой туфля без задника.
На секунду Лике показалось, что женщина еще жива. Сбоку, там, где темное платье сбилось в пыльный, пропитанный кровью ком, что-то шевелилось. Лика откинула в сторону тряпье и вскрикнула — рядом с женщиной копошился ребенок, маленький, меньше года от роду. Наверное, услышав пальбу, мать обезумела от ужаса и кинулась прочь из дому с мальчиком на руках.
— Маленький, — как можно спокойнее, ласковее произнесла Лика. — Иди сюда, не бойся.
Она протянула руки к мальчику, и тот доверчиво ухватился за ее палец. Лика приподняла его на руки, прижала к себе. Ребенок не плакал, лишь моргал черными, как маслины, глазами. Бедный малыш, он, должно быть, даже не понял, что случилось, куда девалось то теплое, доброе, мягкое, что звалось мамой, пело песни, качало на руках, целовало в пухлые щеки. Что же делать теперь? Куда с ним бежать? Ведь нельзя же оставить его одного здесь, на пыльной дороге. Может, забрать с собой в Кабул?
Лика осторожно покачала мальчика, растерянно оглядываясь по сторонам.
— Положи ребенка, — вдруг раздался над ухом сухой властный голос.
Лика обернулась и увидела Владимира.
— Слава богу, ты здесь! Видишь, его мать застрелили. Я не знаю, что с ним делать.
— Оставь его тут и беги к машине. Мы сейчас отходим. — Володя даже не взглянул на ребенка, махнул рукой куда-то в сторону, обозначая, где ждет их джип.
— Володя, ты не понял, — не отставала Лика. — Этот мальчик один остался. Как же я его брошу, он же погибнет…
— А что ты собираешься с ним делать? Усыновить, увезти в Москву? Он из этой деревни, его подберут.
— А если не подберут? — запальчиво возразила она.
— Лика, идет война! Ты думаешь, это первый ребенок, который здесь погибнет? Некогда разговаривать. Пошли!
Он быстро пошел вперед, давая ей понять, что разговор окончен. Лика не двинулась с места, отчаянно прижимая мальчика к себе. Неожиданно вспомнилось почему-то детство, как вот так же хваталась она, вцепляясь изо всех сил в вечно спешащую, убегающую по своим делам мать. Как отдирали ее от матери, разжимали судорожно сжатые руки. Господи, да зачем все это? Зачем вся эта нелепая, страшная жизнь? Кому нужна проклятая ревущая мясорубка, перемалывающая тысячи и тысячи людей, если в результате ломается самое важное в жизни, и ребенок, беспомощный маленький человечек, остается один, без мамы? Ведь человек создан был для того, чтобы продолжать свой род, продолжать жизнь на земле, он же только и делает, что уничтожает ее с каким-то остервенением. И кому, как не ей, женщине, которой дарить жизнь не дано природой, так остро понимать нелепость всего происходящего.
Из-за стены донесся какой-то шорох, приглушенный шепот, и Лика увидела делавшую ей знаки местную старуху. Она что-то лопотала на непонятном Лике наречии и указывала на ребенка. Лика перегнулась к ней и передала мальчика на руки престарелой афганке. Та стрельнула на нее черными горящими глазами из-под надвинутого на лоб платка и жестко каркнула что-то. Лика не поняла, поблагодарила она ее или обругала. Мальчик обхватил женщину ручонками за шею, и Лика, взглянув на него в последний раз, побежала к машине.
Опубликовать зарисовку о копошащемся у груди застреленной женщины ребенке ей, конечно, не разрешили. Писать следовало лишь о благах, которые несли доблестные советские воины угнетенному афганскому народу. Издержки военного положения не должны были беспокоить рядового советского читателя. Кажется, после того случая Лика впервые задумалась о моральной стороне выбранной ею профессии. Конечно, нести людям правду о войне, рассказывать о том, чего никто из мирных жителей не видит, — это нужное и благородное дело. Но зачем же, пользуясь человеческими страданиями, множить ложь, описывать войну не как грязь и боль, а как череду безболезненных победоносных операций?
И хищный азарт, охватывавший Владимира под глухой рокот разрывов, и темный огонь, разгоравшийся в его глазах, теперь скорее пугали ее. И непонятным было, человек ли он, этот бесстрашный, стремительный, опьяненный запахом крови дикарь, или жестокий зверь, не знающий пощады.
Ей, впервые оказавшейся в зоне военных действий, не понятно было, что солдат, однажды попавший в эпицентр вооруженного конфликта, внутренне переламывается раз и навсегда. Возможно, победить в себе сострадание и сопереживание — единственный способ выжить и не сойти с ума, равно как для хирурга недопустимой является личностная жалость к пациенту. Вероятно, когда-то и Владимир, как и Лика, задавался теми же извечными вопросами, ответа на которые найти еще никому не удалось. Однако участие в качестве журналиста во всех локальных войнах, в которые ввязывался СССР, превратили его в того человека, с которым довелось встретиться молодой и наивной, алчущей правды и мировой справедливости Лике. Для него навсегда теперь именно с войной было связано представление о полноте жизни, о ее настоящих красках. Только оказавшись здесь, он чувствовал себя по-настоящему живым, и мирная московская жизнь, преподавательская деятельность, преданная жена и двое драчливых сыновей становились призрачными, хоть и приятными, воспоминаниями. Втайне он иногда даже гордился тем, что вынужден отказываться от благ спокойной жизни, задвигать в дальний ящик свое семейное благополучие, отдавая свой мужской долг стране. Словом, ужасы войны никоим образом не могли нарушить внутреннюю гармонию этого вечного странника. С Ликой же такого превращения не случилось. Теперь она уже не рвалась впереди всей группы на опасные задания, уже не билась за право написать в заметке чуть больше правды, чем было принято. Все больше молчала на общих совещаниях, хмурилась, прикусив кончик неизменной сигареты. Почти три года, проведенные ею здесь, научили ее выдержке, мужеству, быстроте реакции, но заставить предать убеждения так и не смогли.
Владимир постучал в дверь ее номера почти ночью. Лика, уже задремавшая, соскользнула с кровати, прошлепала босыми ногами по полу, откинула задвижку. В последнее время эти ночные визиты случались не слишком часто. Володя, кажется, уловил своим животным чутьем отчуждение, поселившееся в ее душе, и отошел в сторону, ни о чем не спрашивая, ни о каких своих правах не заявляя. И редкими стали ночные встречи, дарившие острое ощущение спонтанности, случайности, схлестнувшей двух так и не сумевших понять друг друга людей.
Лика открыла. Он быстро прошел в ее комнату, не привлек к себе, не поцеловал. Присел на подоконник, вытащил из кармана сигареты.
— Что случилось? — удивилась она этому странному, не типичному для него поведению.
— Только что сообщили, — бросил он. — В СССР принято решение о выводе войск из Афганистана. Нас отправляют домой.
— Домой? — ахнула Лика.
Она не знала, не понимала, чего было больше в охватившем ее волнении — радости или страха. Вернуться в Москву, пройти по Тверскому бульвару, посидеть в сквере у Патриарших, съесть мороженое в кафе «Лира»… Но ведь целых три года вся ее жизнь была здесь — страшная, жестокая, грязная, душная, но привычная, ее жизнь. А комната с голубыми обоями, раскидистая липа под окном, громовой голос бабы Нинки — все это казалось давним сном, полузабытым, стертым воспоминанием. Как вернуться, после всего, что было? Как носить платья и туфли, когда к телу, кажется, намертво приросли военные штаны и тяжелые ботинки? Как это — идти по улице, не прислушиваясь к звукам разрывов, не вжимая голову в плечи? Как, как снова увидеть Андрея после трех пролетевших лет?
Задыхаясь от бившихся в груди вопросов, она опустилась рядом с ним на подоконник, привычным жестом вынула из его губ сигарету, глубоко затянулась. Володя, не говоря ни слова, вдруг накрыл ее руку широкой горячей ладонью. Она взглянула на него, ресницы дрогнули. Смущенная тяжелым пристальным взглядом Володи, Лика поняла, что он впервые за все это время, впервые за эти годы, думает об их будущем. Как сложится там, в Москве, то, что было так просто и понятно здесь?
Она потупилась, сжала его пальцы. Вернулось то, почти забытое, ощущение панического страха, мучившее ее в Москве после ночи, проведенной с Андреем. Все слишком сложно, запутанно, неясно. Все слишком завязано на будущее, которого тут просто не существует.
Внизу, на первом этаже гостиницы, затопали, заговорили. Отрывисто крикнул кто-то, простучали через двор тяжелые шаги. — Водка! У кого водка есть? — вопили в коридоре.
Наверное, до всех уже дошла весть о возвращении домой. Гостиница ожила, забурлила, заторопилась. Лишь Лика и Владимир все так же молча сидели на подоконнике, по очереди затягиваясь одной на двоих сигаретой.
Часть вторая 1989–1996
1
Далеко внизу тянулись засыпанные снегом белые поля, вились волнистыми полосами заледеневшие реки. Безлиственные леса казались сверху наброшенными на белую ткань обрывками жемчужно-серых кружев. Самолет уже приступил к снижению, и земля становилась все ближе. Увеличивались домики подмосковных деревень, вот уже можно стало рассмотреть темные окошки, проезжающие по дорогам машины, отдельно стоящие деревья. Если наклониться к самому стеклу, можно было разглядеть вдали районы Москвы, типовые многоэтажки, приземистые белые кубики школ, ленты автодорог, запруженные разноцветными игрушечными автомобильчиками. Лика почувствовала, как сердце дрогнуло и забилось сильнее — этот город, шумный, безразличный, вечно спешащий, суетливый и родной. Неужели она дома?
— Родина моя! — заголосил с заднего сиденья Петька, успевший набраться еще в аэропорту Таджикистана.
Лика отвернулась от иллюминатора, перевела взгляд на сидевшего рядом Владимира. Откинутая на спинку сиденья гордая голова, темное лицо римского императора, цепкие глаза, сейчас прикрытые тяжелыми веками… Между ними так ничего и не было сказано, и Лика поняла его молчание как попытку дать ей понять, что продолжения не будет. Что ж, она ни на что и не рассчитывала и теперь только пыталась запомнить, сохранить в памяти его ставшее таким родным и близким за эти три года лицо.
Он открыл глаза, поймал Ликин взгляд, протянул руку, привычным жестом провел пальцами по полоске шрама на ее виске и произнес вдруг:
— Не грусти, дочка. Мы что-нибудь придумаем в Москве. Я придумаю… Обязательно!
Лика невесело усмехнулась, отвела голову, скользнув губами по его твердым пальцам. Что-нибудь придумаем… Да, что-нибудь придется придумать. Заново научиться жить, работать, общаться. И так ли уж важно, что именно придумать конкретно для них двоих?
Их отбросило друг от друга, закружило в сутолоке зала прилета. Лика отвернулась переброситься парой фраз с Петькой, наклонилась за сумкой, а когда выпрямилась, Володю уже обнимала привлекательная подтянутая женщина лет сорока. Лика видела, как обвились вокруг его шеи ее красивые хрупкие руки, как унизанные кольцами тонкие пальцы взъерошили волосы на затылке. Темные, глубоко посаженные глаза женщины оставались сухими, но по всему ее опрокинутому лицу, по едва заметно вздрагивающей жилке у глаза видно было, что мужа она ждала, долго и терпеливо, переживала, плакала, надеялась и теперь боится поверить своей радости. Владимир же впервые показался Лике смущенным, неуверенным в себе. Быстро поцеловав жену, он отстранился, невольно покосился в сторону Лики. И женщина посмотрела вслед за мужем, окинула девушку коротким взглядом и, кажется, что-то поняла. Лика хотела пройти мимо, лишь кивнув на прощание, но Меркович уже говорил, справившись с первоначальной растерянностью:
— Ребята! Лика, Петя, познакомьтесь, это моя жена, Лидия Алексеевна.
Женщина улыбнулась Лике и протянула ей руку, заглянула в глаза настороженно и вместе с тем как будто чуть снисходительно.
— Поедемте все к нам! — неожиданно предложила она. — На дачу! Отметим ваше возвращение. У меня и обед готов!
— Какая ты молодец у меня, Лидусик, отлично придумала, — отозвался Владимир. — Поехали!
Лика хотела было отказаться, но разгулявшийся Петька уже издал какой-то радостный туземный клич и устремился на улицу, к поджидавшему Мерковичей такси. И пришлось согласиться. В конце концов, она даже рада была хоть ненадолго отложить возвращение к родным пенатам. Слишком страшным казалось после стольких лет снова оказаться в доме своего детства, войти в маленькую уютную комнату и, может быть, опять увидеть Андрея. Нинке Лика точной даты своего приезда не сообщала, чтобы не волновать ее зря, если вдруг что-то сорвется, и, зная, что дома никто ее не ждет, направилась к машине вслед за Петькой.
В гостиной гудела старая печь, уютно потрескивали дрова в ней, громко рассказывал что-то, сбиваясь и пьяно растягивая слова, вконец отяжелевший Петька. Хрипло перебивал его Генка, порываясь непременно поведать всем собравшимся, как его, раненого, подобрали после взрыва джипа. В разукрашенное морозом окно заглядывало алое, ядреное подмосковное солнце, обещая наступление лютых холодов с завтрашнего дня. Лика, извинившись, встала из-за стола, набросила на плечи куртку и вышла в заснеженный двор. Прислонилась спиной к корявому стволу яблони, чиркнула спичкой о коробок, закурила. От запорошившего все кругом чистого снега резало глаза. Все было слишком белым, холодным, непривычным. Она и не думала, что так отвыкла от подмосковного зимнего пейзажа. В глубине двора носились друг за другом двое голосистых краснощеких мальчишек, десяти и восьми лет от роду — Ромка и Виталька, сыновья Мерковича, сейчас похожие на двух резвящихся бенгальских тигрят. Возбужденные, переполненные радостью по случаю долгожданного приезда отца, они, казалось, совсем взбесились — беспорядочно гоняли по двору, орали просто так, от хорошего настроения, валили друг друга в снег. И Лике на мгновение представилось, что это ее дом — просторный, теплый, добротный. Ее любимый и долгожданный муж сидит там, в гостиной, пробуя приготовленные ею разносолы по случаю его возвращения. Ее дети — маленькие несносные дикари с темными раскосыми глазами отца и таким же неукротимым темпераментом. Как будто ей удалось каким-то чудом, обманом отвоевать у судьбы то, чего ей было не положено. В горле защипало от едкого дыма. Лика бросила сигарету в снег, несколько секунд смотрела на черное, оставшееся от окурка пятно на снегу, повернулась, чтобы идти в дом.
На крыльце, наблюдая за ней, стояла Лидия.
— Воздухом дышите, Лика? — приветливо улыбнулась она. — Хорошо, наверно, свежо, не то что в Кабуле?
— Да, — кивнула Лика. — И еще на ваших мальчишек любуюсь. Они замечательные.
— Бандиты. — Лидия перевела взгляд на ребят и чуть повысила голос. — Роман, немедленно надень шапку. Простудишься!
— Честно говоря, — продолжала Лика, — я даже позавидовала вам немного. Такой прекрасный дом, такие чудные дети…
— Не стоит! — жестко отозвалась Лидия.
— Что? — переспросила Лика и снова поймала на себе пристальный, все понимающий взгляд этой темноглазой женщины с красивыми хрупкими руками.
— Не думаю, что вам, Лика, стоит мне завидовать, — выговорила Лидия и, тряхнув головой, предложила: — Пойдемте в дом. Сейчас чай будет готов.
Желтый кружок лимона, плавно покачиваясь, плыл по чашке от одного бортика к другому. Лика наблюдала за ним, рассеянно размешивая сахар маленькой чайной ложкой с витым тонким черенком. Не поднимала глаз, чтобы не встречаться взглядом с Володей. «Мы что-нибудь придумаем», — сказал он в самолете. И, кажется, она все уже придумала для себя. Не в праве она вносить смуту, разрушать то, что не строила. Не ей, все детство ломавшей голову над тем, почему ее, маленькую послушную девочку, бросил папа, лишать отца этих смешных румяных мальчишек. Вон они сидят, набегавшись, за столом. Младший смешно топорщит губы, отхлебывая чай из блюдца, старший крошит овсяное печенье. У нее таких никогда не будет. Это нечестно, несправедливо, но в жизни вообще не приходится говорить о справедливости. Эта красивая женщина с печальными мудрыми глазами, которая давно и хорошо знает своего мужа, понимает: что бы там ни было, войны заканчиваются, и он всегда возвращается домой. Зачем осложнять ей жизнь, вносить в нее беспокойство, тревогу. Ведь даже если их роман продолжится здесь, в Москве, наивно думать, что это к чему-то приведет. Что она, Лика, может противопоставить этой всепрощающей мудрой любви, этим темным детским головкам? Ничего…
За окном стемнело, ярче выступила полоска снега на подоконнике. Засобирались по домам. Генка поддерживал под руки упирающегося Петьку, пытался нахлобучить на него меховую шапку. Петька бессвязно ревел что-то недовольно. Меркович вызвал по телефону такси, бросил жене: — Я помогу этого остолопа в машину засунуть.
И вместе со всеми вышел из дома. У калитки удержал Лику за руку, потянул к себе. Просунул под куртку сильные ладони, прижался горячими губами ко рту, обдал пряным запахом дорогого виски и табака. Лика щурилась поверх его плеча на горящие теплым оранжевым светом окна темного дома в глубине участка.
— Я позвоню тебе в пятницу. Сможешь? — как всегда отрывисто и коротко произнес Володя, не выпуская ее из рук, жадно вдыхая запах ее припорошенных снегом отросших волос.
— Не надо.
Лика осторожно высвободилась, в последний раз провела ладонью по его впалой колючей щеке.
— Не надо звонить, я не смогу с тобой встретиться.
— А когда сможешь? На следующей неделе?
Она, не отвечая, покачала головой, отвела глаза. Он разжал руки, потупился, глядя в истоптанный множеством ботинок снег у калитки.
— Что-то я тебя не понял… Хочешь сказать, все кончилось, что ли?
— Да, кончилось, — кивнула Лика. — Кончилось, понимаешь? Здесь Москва, другая жизнь…
— Понимаю. — Губы его искривились в короткой злой усмешке, хищные глаза сверкнули. — У тебя, может, и жених тут есть, а? Что молчишь? Отвечай, ждет тебя кто-нибудь?
— Тебя тоже кое-кто ждет. — Лика кивнула в сторону темной громады дома. — Сидят и ждут, что ты сейчас вернешься и расскажешь им, как обещал, про свои боевые заслуги.
— М-да, это верно, — осекся Меркович, затем развел руками. — Ну что ж, тогда прощай, боевой товарищ! Жениху привет передавай!
— Обязательно.
Она резко развернулась и почти бегом бросилась к поджидавшему у заснеженной дороги такси. Закусила костяшки пальцев, запретила себе оборачиваться. Села в машину, сказала что-то грубое вздумавшему лезть обниматься Петьке, отвернулась к окну.
Оказывается, сейчас уже не так больно, уже не рвется на части сердце, не сжимает судорогой горло. Просто накатывает знакомая неизменная тоска, пустота высвистывает в голове от уха до уха. Да, подлец-человек привыкает ко всему. Если судьба с самого детства учит тебя терять, в конце концов ты приобретаешь к потерям своеобразный иммунитет. Больно, страшно, тяжело, но не смертельно. Жизнь продолжается. Продолжается, черт бы ее побрал!
Такси остановилось у знакомой серой девятиэтажки. Лика вышла из машины, опередив услужливого водителя, вытащила из багажника дорожную сумку, взвалила ее на плечо. Пересекла знакомый двор, погладила ладонью облупившийся бок деревянной горки, чуть не оступилась в темноте, наткнувшись на снежную крепость — надо же, сегодняшние мальчишки строят ее в том же углу двора, где и ее одноклассники когда-то. Подпрыгнув, сорвала заснеженную красную кисть со старой рябины, сунула в рот несколько тронутых морозом, мягких горчащих ягод. Словно с головой окунулась в детство — тяжелая шуба, пахнущие мокрой шерстью колючие варежки, снежки, ледянки, сугробы… Дверь подъезда была заново выкрашена зеленой краской, сменились надписи на стенах, но запах на лестничной площадке был все тот же — пахло почему-то борщом и свежевыпеченным хлебом. Лифт со знакомым подвывом взлетел на этаж, Лика вышла, остановилась у их старой, обитой коричневым дерматином двери и вставила ключ в скважину. Вошла в темную прихожую, опустила на пол сумку, на ощупь, не зажигая света, повесила куртку на вешалку. Она могла бы пройти по всей квартире с закрытыми глазами, ни разу не наткнувшись на мебель.
Бабушка, должно быть, уже спала. И в прихожей Лику никто не встретил. Она тихо, стараясь не шуметь, пробралась в спальню, приблизилась к широкой кровати, опустилась на колени. Нина Федоровна действительно спала. Лика слышала ее размеренное, чуть хриплое дыхание. И внезапно старушка, лежащая на двуспальной кровати, показалась ей совсем маленькой, сухонькой — состарившаяся девочка. Лика дотронулась до темной старческой руки и тихо позвала:
— Бабуля!
Нинка тут же открыла глаза, словно и во сне, не расслабляясь, несла свою наблюдательную вахту. Отпрянула, близоруко сощурилась, пошарила по стене рукой, отыскивая кнопку выключателя. В глаза брызнул яркий электрический свет, Лика зажмурилась. А бабушка уже обхватила ее высохшими руками, прижала голову к своей худой, впалой груди, причитая:
— Внучечка моя родная, Ликушка, вернулася…
И сразу заметно стало, как сдала за прошедшие три года некогда грозная и несгибаемая старуха, как осунулось и сморщилось ее лицо, глубоко запали казавшиеся теперь огромными глаза, нос заострился, и губы сделались тонкими и бескровными. Лика ткнулась лицом в ее костлявое узкое плечо, заморгала и впервые за этот длинный тягучий день почувствовала, как что-то горячее опалило веки.
2
Нина Федоровна, накинув старый вытертый халат на ночную рубашку, ходила по комнате, приговаривая со знакомыми ворчливыми интонациями в ослабевшем голосе:
— Нет, ну что бы позвонить, предупредить. Я бы хоть обед приготовила. У, бестолковая!
Она поставила перед Ликой, сидевшей у стола, чашку с чаем, принялась строгать бутерброды. Лика, отчаявшись отбиться от бабкиного врожденного стремления накормить всех вокруг, рассеянно крошила кусок хлеба. Нинка повествовала о не вовремя скрутившей ее болезни, о шарлатане-враче, который только и знает, что прописывает дорогущие лекарства, от которых его пациентке делается только хуже, о подлюке-соседке, которая обещалась каждый день приносить хлеб и молоко, сама же забегает дай бог раз в неделю.
— Ты что же, бабуля, была тут совсем одна, без помощи? — испугалась Лика.
И, кажется, впервые за прошедшие годы ощутила едкий стыд — понеслась искать приключений, оставила одну больную, беспомощную старуху, которая когда-то выходила ее и потом возилась с ней все детство.
— Ну почему одна… — развела руками Нинка. — Вот, говорю же, соседка… И Олька, зараза этакая, забегает все-таки иногда. Да я и сама еще о-го-го, ты не смотри…
— А… Андрей? — осторожно спросила Лика.
— Андрюшка-то да, слов нет, помогал мне сильно. Лекарства редкие доставал. Он ведь этим теперь занимается…
— А он… он не живет у тебя больше?
Лика и сама удивилась, почему так напряженно ждала бабкиного ответа. Казалось бы, прошло столько лет, сменилось столько впечатлений. Что ей теперь Андрей? Просто друг юности, человек из прошлого… Остался занозой в памяти, как некогда было с Никитой.
— Хватила… — махнула ладонью Нина Федоровна. — Он, когда еще съехал, почитай, сразу после твоего отъезда. Но плохого о нем сказать не могу, парень хороший. Как в Москву приезжает, всегда зайдет, справится о здоровье, сходит купить чего надо.
— А разве он не в Москве сейчас? — удивилась Лика.
— Да кто ж его знает, — пожала плечами бабка. — В разъездах он вечно, то здесь, то там. Говорил, и за границу катается… Из врачей-то ушел он, теперь лекарства какие-то возит. Там покупает, здесь продает. Время-то сейчас видишь какое, спекулянтов нынче нет, одни бизнесмены. Ну и он что-то вроде этого…
— Понятно, — покивала Лика.
Ну что ж, смешно и нелепо было надеяться, что здесь ничего не изменилось, что Андрей по-прежнему ждет ее в бывшей дедовской комнате, всегда спокойный, веселый, с вечно заготовленной шуткой. Да и она теперь другая, кто знает, как бы они встретились после всех этих лет. Надо будет все-таки пересечься с ним, поблагодарить за помощь старухе. Только не сейчас, когда она чувствует себя такой выпотрошенной, усталой. Когда перед глазами все еще мелькает круговерть этой сумасшедшей прифронтовой жизни.
— Бабуль, ты прости, я пойду лягу, — поднимаясь из-за стола, проговорила Лика.
— Иди, внучечка, иди, родная, — напутствовала ее вслед бабка.
И Лика оказалась в комнате, которая столько раз снилась ей ночами, глянула в окно на раскинувшую в свете фонаря заснеженные ветви липу. Стянула на ходу брюки, сбросила свитер и, почувствовав вдруг разом навалившуюся страшную усталость, растянулась на оказавшейся слишком короткой и узкой кровати.
Удивительно, как переменилось все вокруг за каких-то три года. Словно по прихоти сказочного озорника-волшебника она оказалась заброшена совсем в другую страну, иную эпоху. По телевизору трещали про перестройку, на улицах бушевали разоблачительные митинги, горела над Москвой красно-белая, вся какая-то праздничная на вид реклама кока-колы. Пестрели на улицах джинсы-варенки, надрывались из музыкальных киосков «Pet Shop Boys», щелкали пузырями жвачек группы шумных американских туристов. И в самом воздухе чувствовалось что-то весеннее, революционное. Казалось, старой, затхлой и насквозь пропитанной лицемерием жизни конец, впереди что-то новое, небывалое, никем раньше не виданное. И Лика очертя голову пустилась в этот красочный сумасшедший водоворот. Теперь, когда все, что ранее замалчивалось, пряталось, объявлялось не подходящим для массового читателя, с восторгом выворачивалось наружу, выбранная ею специальность уже не казалась такой никчемной и лживой. И, покончив с военной карьерой, Лика устроилась работать специальным корреспондентом в службу новостей одного из телевизионных каналов. Целыми днями носилась по бушующей Москве вместе с оператором Сашей, влезала в самую гущу митингующей толпы, бесстрашно вмешивалась в уличные потасовки. Напугать ее было теперь не так-то легко, все это казалось детскими шуточками по сравнению с ревущим и грохочущим адом, который составлял ее жизнь последние три года.
Вскоре она привыкла к новому ритму, привыкла вскакивать ни свет ни заря и нестись в Останкино, привыкла лететь по Москве в любую погоду, отыскивая живописные кадры, провоцировать незнакомых людей на откровенные разговоры, сочувственно кивая и в то же время лихорадочно стараясь запомнить все, до мельчайших подробностей, чтобы изложить потом в сенсационном репортаже. Такая жизнь, свободная и независимая, нравилась ей очень.
Телефон зазвонил неожиданно. Лика случайно оказалась дома среди дня. Съемку в последний момент отменили, и она отпросилась на пару часов домой, чтобы вечером вернуться и отправиться вместе с Сашей делать репортаж о приезде в Москву какого-то видного западного политика. Она ввалилась в квартиру, вымокшая под обрушившейся на город майской грозой, замерзшая, едва справилась дрожащими пальцами с пуговицами куртки и сразу же направилась в ванную, влезла под горячий душ. Нинка, кряхтя, пошла к своему врачу-шарлатану, исключительно для того, чтобы потом весь вечер поносить его, болвана, самыми изысканными словами. И, когда в коридоре задребезжал телефон, Лике пришлось выскакивать из ванной голышом, шипя и отплевываясь от мыльной пены. — Алло! — со злостью бросила она в трубку.
— Комиссар на проводе? — отозвался аппарат знакомым низким насмешливым голосом.
И Лика неожиданно почувствовала, как пробежал по голой мокрой спине озноб, задрожали колени, сбилось дыхание. Она до боли сжала пальцами край тумбочки, выговорила осипшим голосом:
— С вами говорит Генеральный штаб…
— Когда вернулась? — спросил Андрей.
— Да уж несколько месяцев, — отозвалась она. — А ты… Ты в Москве?
— Вчера прилетел. И, как видишь, сразу же на ковер к Нине Федоровне, звезде моих очей. Ты не знала, что меня влекут к ней самые глубокие и нежные чувства?
— Метишь мне в дедушки? — хмыкнула Лика.
Ее раздражало, что после стольких лет они почему-то ведут этот никчемный, бессмысленный разговор, упражняются в дешевом остроумии. Ведь это человек, который столько значил для нее. Она так ждала этой встречи, теперь же почему-то подхватила его идиотскую манеру никогда не говорить серьезно.
— Может, увидимся? — коротко спросил вдруг он, словно прочитав ее мысли.
— Да! Да, конечно. У меня как раз есть несколько свободных часов. Или… или ты прямо сейчас занят?
— Как раз прямо сейчас я свободен. Давай через час на старом месте, у ворот твоего бывшего института.
— Давай, — отозвалась она, чувствуя, как бешено колотится в груди.
— Лика, — позвал вдруг он каким-то напряженным голосом.
— Что?
Сердце сжалось и подскочило, забившись в горле.
— Я буду держать в руке журнал «Огонек», чтобы ты меня узнала, — с комической серьезностью заявил он.
— Да пошел ты, — рассмеялась Лика, стараясь подавить всколыхнувшуюся в груди досаду.
Она увидела его еще издали, взглядом выхватила из торопливой московской толпы высокую фигуру. Невольно залюбовалась широкими плечами, спокойной уверенной силой, сквозившей в каждом его движении. Даже издалека чувствовалось во всем его облике что-то монолитное, вечное, единственный оплот душевного равновесия в этом слетевшем с катушек мире. Как она торопилась на эту встречу, как носилась по квартире, скользя мокрыми ногами по старому вытертому линолеуму. Как подпрыгивала у зеркала, неумело стараясь уложить спускавшиеся до плеч темные волосы в модную пышную копну. Придирчиво изучала скудный гардероб, пытаясь найти в нем что-то более женственное, чем неизменные голубые джинсы и белые спортивные кроссовки. Водила по лицу кисточкой, подсмеиваясь над собой: «Наташа Ростова перед первым балом!» Выдумывала удачные фразы для начала разговора.
Как он встретит ее? Обнимет, прижмет к себе, скажет, что скучал? Ведь они не виделись больше трех лет, должен же он чувствовать хоть что-то. Лика вдруг поймала себя на мысли, что где-то это уже было, когда-то она уже испытывала нечто подобное, вихрем кружась по комнате, собираясь на самую важную встречу. Но где, когда и для кого предназначались все эти сборы, вспомнить не могла, точно всю ее память плотным панцирем окутал серый туман… Борясь с ощущение «дежавю», Лика размечталась, как ощутит тепло и силу, исходящие от рук Андрея, как уткнется головой в грудь, вдохнет запах его крепкого, здорового тела. Голова у нее начинала кружиться, и она старалась отрешиться от дурацких мыслей, настроиться на то, что ничего выдающегося не произойдет — встреча старых друзей, и только.
И вот теперь она идет к нему, медленно, осторожно, потому что боится не удержаться и подвернуть ногу в этих дурацких лакированных туфлях на тончайшей шпильке. И пышная блузка из тонкого шелка все время сползает с плеча, и узкая юбка не дает шагу ступить. И чувствует она себя ужасно глупо, словно нарядившаяся на первую дискотеку малолетняя школьница, и все же ждет почему-то, что увидит в его глазах удивление, восхищение и, может быть, чем черт не шутит, любовь?
Андрей увидел ее, узнал, она поняла это по его на мгновение дрогнувшему лицу, чуть потемневшим глазам. Он не двинулся с места, ждал, пока она приблизится сама. И Лика продолжала идти вперед, еще больше смущаясь под его взглядом. Она остановилась напротив, помолчала, не зная, что сказать.
Он почти не изменился, лишь волосы стали короче, а лицо сделалось чуть жестче, взрослее. Сколько ему сейчас? Двадцать девять? Тридцать? Глаза, синие и глубокие, как июньское небо, смотрят на нее как-то странно, словно выжидают, что она скажет, как поведет себя. Но откуда же ей знать, как себя вести, если он молчит? Броситься на шею, зареветь, рассказать, как пусто и одиноко было ей без него, как снился он ей душными кабульскими ночами? Что порой, просыпаясь ночью от звука дальнего взрыва, она мечтала оказаться сейчас в его объятиях и вместе встретить загорающийся над жарким восточным городом багряный рассвет? Проявить такую чудовищную слабость? А что, если он рассмеется, скажет что-нибудь саркастически сочувственное. Скажет, к примеру, что все забывается и время лечит или еще какую-нибудь несусветную чушь в этом роде… Что тогда?
Он наконец нарушил молчание, произнес чуть насмешливо, смерив ее взглядом:
— Ты что это такая нарядная? Я думал, с автоматом наперевес придешь…
Ну вот и все, вопрос подписан и закрыт. Ничему тебя жизнь не учит, романтическая идиотка! Вечно в голове гнездятся какие-то нелепые иллюзии.
Лика сморгнула, изобразила на лице надменную усмешечку:
— А я думала, ты на «Мерседесе» приедешь. Говорят, ты бизнесмен теперь… Что, не накопил деньжат еще?
— Я его в подворотне оставил, чтоб тебе не было завидно.
— Ценю твою заботу. Но мне, знаешь ли, БТР больше по вкусу.
Глаза его погасли, сделались холодными и насмешливыми. Лицо, передернувшееся было при ее появлении, разгладилось. Лика на секунду отвернулась, провела ладонью по лбу, приказывая себе успокоиться. Она ведь не какая-то романтическая барышня, за которой приятно ухаживать, она — свой в доску парень, приятель, друган. И нечего претендовать на роль, которую ей никогда не суждено сыграть. Кончено! Забыли!
Они пошли вниз, в сторону улицы Горького, как раньше, рядом, но не касаясь друг друга. Андрей рассказывал о том, какая напряженная в стране ситуация с лекарствами, как он хочет открыть свою фирму, которая занималась бы поставками новейших препаратов из-за рубежа в российские больницы. Лика слушала с интересом, кивала, задавала вопросы, говорила что-то о себе. И в каждом слове, в каждой проведенной вместе минуте чувствовала фальшь. Все шло неправильно, не так. И это ясно было, и когда шли рядом по улице, и когда сидели в кафе, смеялись, чокались бокалами с вином, и когда Андрей, прощаясь, сажал ее в такси, так и не сделав в ее сторону ни одного мужского жеста и даже не поцеловав на прощание. Но почему-то не было никакой возможности все переиграть, переиначить, разорвать эту окутавшую их атмосферу отчужденности. Все сложилось так, как сложилось, и ничего с этим поделать Лика не могла.
3
Дни проходили за днями, складывались в недели, месяцы. Жизнь мчалась вперед, набирая обороты, и некогда было остановиться, перевести дух, оглядеться по сторонам. И вот уже оказывалось, что страна, в которой ты живешь, называется теперь по-другому, империя, которую строили твои уверенные в своей правоте родители, рухнула в момент, погребя под своими обломками все, что многие годы считалось правильным и честным. И наступила вдруг пугающая тишина, как на затерянном в океане маленьком острове перед надвигающимся цунами. И всё в одночасье обесценилось. И Нинка тащится в сберкассу снять с книжки деньги, копившиеся годами на приданое любимой внученьке, чтобы купить к завтраку финской колбасы салями.
И как-то незаметно и так быстро все это происходит. Еще вчера, казалось, ты вернулась в надежный и упорядоченный мир, где твоей жизни и благополучию ничто не угрожает, а уже сегодня ведешь репортаж с места очередных бандитских разборок. И темные подтеки запекшейся крови на асфальте, и грузно обмякшее у стены дома тело тебя не пугают, а кажутся удачно подобранной картинкой, на фоне которой ты, бодрая и сосредоточенная, будешь рапортовать о случившемся в камеру оператора Саши.
В один из дней Лика вела репортаж от здания суда, где как раз разворачивался процесс над известным вором в законе по кличке Мамонт. У здания толпились журналисты из разных изданий, с центральных телеканалов. На пороге появился бородатый адвокат подсудимого, и газетчики бросились к нему, отталкивая и перекрикивая друг друга. Лика, сделав знак своему оператору, тоже устремилась в толпу, стараясь поднести как можно ближе к адвокату зажатый в руке микрофон. Какой-то мужчина дотронулся в толпе до ее плеча, она обернулась и отпрянула, словно обжегшись о яростный взгляд матерого хищника. — Володя, — улыбнувшись через секунду, протянула она.
Чуть больше стало в волосах седины, смуглое лицо, лишенное здесь, в московской слякоти, привычного бронзового загара, казалось желтоватым, а в целом он стал выглядеть даже лучше, выделялся из толпы непобедимой харизмой героя голливудского боевика, одного из тех, что стали недавно крутить в стихийно образовавшихся видеосалонах. Кажется, она впервые разглядела и поняла, насколько он хорош собой, по-мужски красив. Именно это, видимо, в свое время и привлекло ее к нему, а вовсе не его несгибаемая отвага и отчаянная тигриная храбрость.
Он смотрел на нее все так же цепко и пристально, пряча в уголках тонких губ мефистофельскую усмешку.
— Давно не виделись, — коротко бросил он. — Поговорим, когда закончишь?
— Конечно, — кивнула она. — Думаю, через пару часов…
Желто-оранжевый лист, покружив в воздухе, плавно опустился на аллею. Скользившая по отражавшей высокие облака водной глади утка, встрепенувшись, принялась чистить клювом буро-коричневые перья. Солнечный луч, пробравшийся сквозь золотистые кроны, скользнув по окнам домов на Малой Бронной, заиграл легкими бликами на скуластом лице. Лика смотрела на него, любовалась резкими чертами, темными опасными глазами, четко очерченной линией губ. И удивлялась самой себе. Почему же так спокойно? Не дрогнет ничего внутри, не собьется с нормального ритма сердце. Только легкая, не бередящая душу грусть, светлая и тихая, как этот ясный осенний день, ностальгия. Они остановились у скамейки. У киоска на углу сквера толпились люди: два случайно встретившихся приятеля покупали пиво, лохматая девочка выпрашивала у матери мороженое. Лика влезла с ногами на сиденье, уселась на выгнутую спинку, вынула из кармана сигареты, закурила.
— Шпана! — ухмыльнулся он.
Провел рукой по ее голове, как раньше, когда легко ерошил ее колючие, коротко остриженные волосы. Только теперь ладонь скользнула по гладким темным прядям, образующим модную асимметричную стрижку. Но Лика не повернула головы, не прикоснулась по заведенному у них ритуалу губами к твердой ладони.
— Я видел тебя в новостях, — продолжал он. — Хорошо работаешь. Уверенно. Как взрослая прямо. Умница, дочка!
Лика скривила губы в усмешке:
— Володенька, ну какая я тебе дочка. Ты уже давно лишен родительских прав.
Подумалось почему-то, что они впервые вместе здесь, в Москве. Никогда раньше ей не доводилось быть рядом с ним в родном городе. Может быть, поэтому такое странное у нее ощущение сейчас? Ведь когда-то этот человек казался ей абсолютным властелином, непререкаемым авторитетом, верховным судьей над всем, что она делала в жизни и профессии. Теперь же его покровительственный тон лишь смешит ее, и почему-то совсем неважно, одобрит он ее достижения или нет.
— Я скучаю по тебе, — неожиданно мягко произнес он.
И, надавив сильной ладонью на затылок, притянул к себе ее голову, прижался лбом. Пахло от него, как и прежде, чем-то терпким, острым, опасным. Но сейчас от этого запаха голова почему-то не кружилась, лишь надрывно щемило в груди. Лика провела пальцами по его щеке, почувствовала, как скользнула к ней под куртку твердая рука, как обожгли где-то у шеи жадные губы. И словно в воздухе запахло жаркой южной ночью, пыльной землей, сухими травами. И вспомнилась расшатанная гостиничная кровать и два сплетенных в яростной схватке тела на смятых простынях.
— Поедем ко мне, — хрипло прошептал Владимир. — Сейчас поедем! Мои все на даче, дома никого. Помнишь, как хорошо было в Кабуле?
Тогда была жадная погоня за жизнью — урвать, отхватить хоть немного тепла у подкарауливающей за стенами города смерти. Теперь же придется прятаться по углам, тайно пробираться в квартиру, спотыкаться о разбросанные по полу игрушки, ощущать на подушке запах духов другой женщины. Гадко, унизительно, противно…
И Лика стряхнула морок, высвободилась из его оплетающих рук, покачала головой, провела ладонью по обозначившейся на лбу складке:
— Не поеду! Ничего не выйдет, Володенька. Ничего не получится. Извини!
— Вечно с тобой проблемы, Белова! — хмыкнул он. — Никак не желаешь слушаться старших!
— Я больше не военный корреспондент, — поддержала шутку она. — Да и времена теперь другие. Свобода слова!
— Ладно, — передернул плечами Владимир. — Как знаешь. А все-таки жаль…
Они вместе дошли до конца бульвара, остановились у фонтана. Переливающиеся в лучах осеннего солнца струи упруго били в разные стороны, и в повисших в воздухе матовых брызгах проглядывали бледные радужные полосы. Владимир обнял ее, Лика быстро ткнулась ему губами в висок, прошептала «Пока!» и поспешила через дорогу, к станции метро. Уже у входа обернулась, махнула рукой. Владимир стоял, опираясь спиной на могучий ствол дерева, смотрел ей вслед, чуть прищурившись от ярких солнечных лучей — поверженный бог войны, на миг утративший свою способность покорять и разить в этом светлом и спокойном мире.
Через два месяца судьба снова свела их на пафосном концерте в Кремле, закончившемся торжественным банкетом, накрытым с небывалой роскошью. Полуголодные журналисты смутных лет воровато таскали со стола невиданные закуски и так и норовили стянуть и спрятать в портфели бутылки импортной водки.
Лика увидела Владимира, стоявшего чуть в стороне и, кажется, совсем не интересовавшегося баснословными яствами. Она поначалу даже не узнала в этом элегантном, словно сошедшем со страниц заграничного глянцевого журнала денди своего бывшего начальника. Черный костюм подчеркивал стройность его фигуры, белоснежная рубашка оттеняла безупречно гладкую темную кожу, на твердом подбородке чуть выделялась короткая седая щетина. Взгляды женщин в зале невольно останавливались на нем, именно ему были адресованы удивление, восхищение и самые сладкие обольстительные улыбки. Владимир без сомнения прекрасно знал, что привлекает женское внимание, и наслаждался моментом. Рядом с ним крутилась, восторженно оглядываясь по сторонам, совсем молодая девочка, должно быть, первокурсница, очередная влюбленная студентка. Девочка была неяркая, серенькая, но юность и чистота придавали ей своеобразное очарование. Она смотрела на Владимира проникновенным, по-собачьи преданным взглядом.
И Лика, усмехнувшись с едва ощутимой горечью, неожиданно поняла, что, наверное, этот коварный бог войны самой природой создан был для того, чтобы пленять сердца юных дев, благосклонно принимать их любовь, даря взамен острые ощущения кружащей голову опасной страсти. И вдруг с сожалением вспомнила она о всепрощающей женщине с мудрыми темными глазами, которая всегда вынуждена будет ждать, когда закончится очередной взлет ее блудливого супруга.
Лика сначала хотела сделать вид, что не заметила Мерковича, но затем, поймав на себе его пристальный взгляд, лишь помахала издали и тут же отвернулась. Говорить им больше было не о чем и незачем.
Под Новый год неожиданно слегла Нина Федоровна. Еще недавно казавшаяся вполне бодрой, хотя и постаревшей, ослабевшей, старуха однажды утром вдруг перестала подниматься с постели. Лежала, откинувшись на высокие подушки, неподвижная, синевато-бледная, прерывисто дышала, не поднимала темных старческих век. Лика теребила ее, пыталась пробудить от нездорового обморочного сна, но бабка лишь на мгновение открывала глаза, окидывала ее мутным взглядом и выдыхала: — Тяжело мне, Ликуша, я подремлю…
Врач-участковый, сверкая на Лику толстыми линзами очков, развел руками:
— Что вы хотите, голубушка, возраст… Естественное старение коры головного мозга. Возможно, имел место микроинсульт, усугубивший, так сказать, ситуацию. Вот я препарат тут выпишу, медсестра походит, укольчики поделает…
Ночь Лика просидела у постели бабы Нинки. В окно заглядывала зеленоватая, водянистая, похожая на срез огурца, луна. По босым ногам тянуло холодом. Где-то внизу, у соседей, навязчиво бренчала музыка. Из соседней комнаты пахло хвоей — еще несколько дней назад Лика притащила с улицы еловые лапы, установила их в старую бабкину хрустальную вазу. И вдвоем с Нинкой они, шутливо переругиваясь, украшали их старыми Ликиными елочными игрушками.
— Ты совсем, я вижу, очумела, — притворно сердилась бабка. — Здоровая дылда, а туда же. Елочку ей надо.
— Конечно, надо, — отшучивалась Лика. — А то куда ты мне подарки будешь класть?
— Какие с меня подарки, видимость одна, — ворчала Нина Федоровна. — Завела бы себе мужика приличного, он бы тебе, может, что ценное под елочку принес. Вот Андрюшка-то какой был парень. Ведь упустила, балбеска!
Теперь же из ее сжатых посиневших губ вырывалось лишь свистящее дыхание. Лика тяжело привалилась головой к спинке кровати, прикрыла устало глаза. Страшно было оставаться в пустой гулкой квартире вдвоем с едва дышащей бабой Нинкой. И еще страшнее было представить себе, что скоро, возможно, она останется здесь совсем одна.
Наутро прискакала шустрая медсестра, посмотрела на бывшую продмагшу, нахмурилась, быстро вколола в змеившуюся по высохшей руке вену шприц. Лика, заторможенная, отупевшая после бессонной ночи, вяло следила за ее манипуляциями.
— Ой, что-то не нравится мне, как она дышит, — забеспокоилась медсестра. — Идите сюда скорее. Я массаж сердца буду делать, а вы искусственное дыхание. Сумеете?
— Да, — растерянно протянула Лика. — Я умею… Был курс оказания первой помощи в институте…
— Давайте скорее! — подгоняла ее медсестра.
Лика нагнулась, припала к сухим синеватым губам, принялась вдыхать воздух. Медсестра, раскрасневшаяся, деловитая, с силой надавливала ладонями на грудь старухи. Через несколько секунд она оттолкнула Лику, бросила:
— Бегите, звоните в «Скорую». Живо!
И сама, наклонившись, начала вдувать воздух в полуоткрытый рот больной. Лика в смятении кинулась в коридор, от волнения долго не могла набрать номер — пальцы срывались и соскальзывали с диска. Когда она вернулась в комнату, склонившаяся над Ниной Федоровной медсестра распрямилась, быстро мотнула головой. По ее напряженному лицу, по ставшим вдруг неторопливыми движениям, Лика поняла, что бабушка умерла.
Над заставленным грязной посудой длинным столом витал кислый запах блинного теста. Заметно постаревший отчим, склонив плешивую голову, задумчиво катал по заляпанной скатерти винную пробку. Мать собирала на поднос рюмки. Лика закрыла дверь за последними уходившими с поминок гостями — бывшими коллегами Нины Федоровны по продовольственному магазину. Вот, значит, и все. Поддерживавшая ее все эти три дня суета окончена, и теперь ничего уже не заполнит собой пустоты, поселившейся в квартире с того страшного утра. Лика знала, по похоронам деда помнила — сейчас еще ничего, легко. Боль придет потом, когда будешь каждое утро выставлять по привычке лишнюю чайную чашку на стол, когда станешь оборачиваться на звучащий только в твоем воображении голос, когда не сразу сможешь ответить на телефонное обращение «Будьте добры Нину Федоровну!». Сейчас же она ощущала лишь клонившую к земле свинцовую усталость.
Лика вошла в комнату, тяжело опустилась на диван. Сейчас распрощается с дорогими родственниками и завалится спать, часов на двенадцать. Стол, посуда, оставшаяся еда — этим она займется потом. Однако драгоценная семья не спешила покидать ее. Художник как-то странно, по-птичьи косил на нее глазом, тряся клочковатой, вытершейся с годами бородой. Мать, раздобревшая после второй беременности, суетливо переставляла на столе тарелки, сдвигая на переносице тонкие брови. Из Ликиной комнаты доносились веселые крики ее братьев — Мишки и Стасика. Мальчишки Нинку почти не знали и не могли, конечно, искренне сожалеть о ее уходе. И зачем только матери понадобилось тащить их на похороны. И дети измучились, и взрослым от них покоя не было…
Лика откашлялась и произнесла:
— Мам, ты что-то сказать мне хочешь?
— Да видишь ли, доченька… — присела к столу Ольга.
Лика даже вздрогнула от такого непривычного обращения, вскинула брови — с чего это такие ласковые слова? И тут же обругала себя: «Ну я уж совсем, как Нинка, везде подвох вижу».
— Нам надо решить что-то с квартирой, — продолжала Ольга. — Ты же помнишь, я поднимала этот вопрос, но твоя бабушка…
— С ней просто невозможно было иметь дело, невозможно, — затряс редкими патлами художник.
Лика неприязненно покосилась на него, и Ольга, видимо, испугавшись, что дочь в раздражении откажет ей в просьбе, зыркнула на мужа:
— Витя, будь добр, помолчи!
Лика откинулась на спинку дивана, сдула упавшую на глаза челку. Мать заискивающе придвинулась к ней поближе, обхватила мягкой пухлой ладонью пальцы, заговорила, проникновенно улыбаясь:
— Ты подумай, зачем тебе одной такие хоромы? Что тебе тут, кроликов разводить? А нас ведь четверо в двух комнатах. Мальчики растут, им простор нужен, сама понимаешь.
Лика смотрела на ее взволнованно колыхавшиеся дебелые щеки, на лживые круглые глаза и не могла представить, неужели эта женщина когда-то родила ее, принесла домой, завернутую в байковое одеяло? Неужели она когда-то кормила ее грудью, качала на коленях, целовала? Не верилось, не укладывалось в голове. И даже те детские воспоминания о красивой нарядной маме, появлявшейся в квартире по субботам, о маме, к которой так хотелось прижаться, прицепиться, рассказать обо всех своих маленьких бедах и огорчениях, казались теперь далекими, фальшивыми. Эта поблекшая располневшая женщина, взволнованно убеждавшая Лику подарить ей дедовскую квартиру, была чужой, абсолютно и безоговорочно.
— Если сейчас прописать сюда мальчиков, можно будет разменять квартиру. И мы, вместо нашей двушки, сможем рассчитывать на три или даже четыре комнаты. И ты тоже останешься не в обиде. Подумай, это ведь только справедливо. В конце концов, это квартира моего отца, и Миша со Стасиком такие же его внуки, как и ты!
Словно учуяв, что речь идет о них, в комнату с гиканьем ворвались мальчишки. Старшему, Мишке, было уже десять, младшему — пять. Размалеванные невесть где найденными красками, обвязавшие головы салфетками, которые заботливо раскладывала по всем поверхностям бабка Нинка, они принялись носиться вокруг стола, изображая индейцев.
— Мама, мама, я великий вождь «черная рука»! — верещал Стасик.
— Мальчики, уйдите, ради бога, отсюда, — взвилась Ольга. — Виктор, что ты сидишь, как истукан? Ты отец или пустое место? Убери их.
Художник, поднявшись из-за стола, вытолкал детей из комнаты, принялся что-то внушать им в коридоре. Лика устало прикрыла глаза. В конце концов, эти мальчишки действительно ее братья. И в жизни им повезло чуть-чуть больше, чем ей. У них есть мама и папа. И может ли она осуждать мать за то, что та старается обеспечить будущее своих сыновей. Это ведь ее дети, она их любит. Двух детей из трех, вполне приемлемое соотношение.
— Ликуша, ну так как же? Ты все молчишь… — настойчиво протянула мать.
И Лика, сгорбившись, не поднимая глаз, очень спокойно и тихо произнесла:
— Мам, можно задать тебе один вопрос?
— Да, доченька, какой, — мелко закивала Ольга.
— Ты что, меня совсем никогда не любила?
— Да как ты можешь так говорить? — суетливо поводя глазами, вскипятилась Ольга. — Как же мне тебя не любить? Ты же дочка моя!
— А почему же ты меня бросила, мама? — заглянув ей в бегающие зрачки, спросила Лика.
— Я? Я тебя не бросила, — Ольга сделала паузу, набирая в легкие воздух, прежде чем разразиться возмущенной тирадой. — Это не я… Это твой отец тебя бросил. Ему, оказывается, только здоровые дети были нужны. Он сына хотел, похожего на Мастроянни. А ты вот с такой головой родилась! А потом… потом, бабка твоя меня к тебе не пускала. Ты думаешь, она такой цветочек была? Одуванчик? Да она, она мне всю жизнь испортила, сука старая, прости господи…
— Замолчи, мама, — резко встала с дивана Лика.
И, переведя дыхание, отрезала:
— Я согласна на размен. Мне нужна большая однушка в центре…
— Ой, ну как же, — перебила ее Ольга. — Нам же тогда ничего не останется, а ты любишь этот район, ты привыкла…
— Не перебивай меня, мама, — продолжила Лика. — Однушка в центре. Но только с одним условием.
Страшное напряжение последних трех дней выплеснулось наружу, и она бросила Ольге в лицо, стараясь не сорваться на крик:
— Чтобы я никого из вас больше не видела в своем доме. В своей жизни… Ни тебя, ни твоего козлобородого голодранца, ни всех остальных. Никогда! Ты меня услышала, мама?
— Договорились! — охотно согласился маявшийся в дверях художник. — Соглашайся, Оля.
А Лика, взглянув на его нелепую, неуклюжую, застывшую в дверном проеме фигуру, принялась вдруг хрипло смеяться, откинув голову, полузакрыв глаза, чувствуя, как от душившего ее хохота вскипают в уголках глаз злые слезы.
— Да как ты так можешь? На мать-то родную, а? — заколыхалась Ольга.
Муж, ухватив ее под локоть, быстро повлек к двери, вероятно, опасаясь, что строптивая падчерица может и передумать.
— Дядя… Витя… — борясь со смехом, выдохнула Лика. — Можно вам совет дать? Вы бороду сбрейте, а то очень уж на дедушку Ленина похожи в старости. Такой хитрый прищур, знаете…
Привыкший к вечным унижениям художник вспыхнул и поджал губы, но так ничего и не сказал. Мать, уже накинувшая на плечи огромную чернобурую шубу, снова ступила в комнату:
— Ну, знаешь, это уж слишком! Уважение надо иметь к старшим, да! Кто только тебя воспитывал?
— Не ты, не ты, успокойся. — Лика уже справилась с собой, утерла ладонями выступивший на висках пот. — Этого греха на твоей совести не числится.
Ольга угрюмо бросила: «Я заеду на неделе с документами» — и выкатилась из квартиры. За ней, словно свита за монархом, следовали ее домочадцы.
Лика не стала чинить матери препятствий, равнодушно подписала все, что от нее требовалось. Ольга, правда, хотела-таки всучить дочери малогабаритную хрущобу где-то на задворках Москвы, но тут уж Лика уперлась насмерть и в конце концов, по прошествии четырех месяцев, въехала со своими скудными пожитками в однокомнатную квартиру в центре, окнами выходившую в один из Арбатских переулков. Здесь, в пустой гулкой комнате с высокими, некогда украшенными лепниной потолками уже ничто не напоминало о том, что когда-то у нее была хоть и своеобразная, но семья.
Она довольно быстро привыкла вместо одинаковых девятиэтажек видеть из окна прямоугольный двор колодцем, седого дворника, махавшего здесь метлой, казалось, еще в довоенное время. Приветливо здоровалась с нафталиновыми старушками, еще носившими шляпки и вспоминавшими, как Арбат был «режимной» улицей. Тут была совсем другая жизнь, своя, камерная, можно сказать, провинциальная, несмотря на самый центр столицы. Спрятанные за парадными фасадами домов, закрытые от посторонних глаз тихие дворики, замысловатые, ведущие в никуда, деревянные лестницы, заброшенные стеклянные башенки, треснутые витражи на лестничных площадках. И ей эта жизнь нравилась.
4
Лика, закутавшись в теплую осеннюю куртку, сидела на краешке тротуара и жадно вгрызалась в черствую булку. Примостившийся поблизости оператор Саша прихлебывал едкую газировку из пластиковой бутылки. Есть хотелось зверски, она уже и не помнила, когда ей удавалось нормально пообедать в эти сумасшедшие дни. Вот уже почти две недели, как она моталась вместе с Сашкой по Москве, снимая митинги, баррикады, демонстрации. Пыталась расспрашивать наводнивших центр Москвы угрюмых милиционеров, обращаться к суровым военным. Целые дни в кипящей, бурлящей, вышедшей из-под контроля Москве — куда-то бежать, кого-то опрашивать, что-то снимать. Сломя голову нестись в телецентр, узнавать новости. И только глубокой ночью добираться наконец до дома, валиться чугунной головой в подушку, чтобы выключиться хоть на несколько часов. А утром вскакивать от телефонного звонка, еще не размыкая глаз, выслушивать от начальства, что еще небывалое произошло за очередную осеннюю ночь этого безумного 93-года, и мчаться опять на свой наблюдательный пункт.
Почти круглосуточно дежурили они у осажденного Белого дома. Снимали людей, живущих тут же, в наскоро установленных палатках. В серой осенней хмари вспыхивали костры, кто-то выкрикивал воззвания, кто-то бежал в соседний ларек за водкой. Полоскались на ветру флаги, разворачивались криво намалеванные лозунги. Вокруг здания стягивалось кольцо из поливальных машин, выстраивалось оцепление из бравых омоновцев с отсутствующими лицами и с дубинками наперевес.
— Нам с тобой сказочно повезло! — восторженно голосил бородатый Сашка. — Мы участвуем в исторических событиях. Это ж просто подарок для любого журналиста.
— Мне вечно сказочно везет на исторические события, — скептически хмыкнула Лика. — И вечный бой, покой нам только снится.
Слишком хорошо ей помнился стрекот автоматных очередей, грохот разрывов и доносящиеся из черного дыма жалобные вскрики, чтобы с жадным любопытством разглядывать вооруженных бугаев в центре родного города.
Пару дней назад им удалось заснять массовую драку, вспыхнувшую в павильоне станции метро, куда милиция дубинками загнала манифестантов. Сашка едва успел оттеснить Лику за мраморную колонну, когда началось беспорядочное побоище. Кто-то лупил кого-то по лицу, кто-то орудовал тяжелыми ботинками. Визжали случайно оказавшиеся поблизости женщины. Разъярившаяся толпа, как некий огромный живой организм, дышала на Лику кровью, потом — утробной животной яростью, и ей сделалось жутко. По-настоящему жутко, может быть, впервые после возвращения из Афгана. Ясно стало, что она лишь песчинка… Ее сейчас сомнут, затопчут и даже не заметят этого. Не потому, что она сделала что-то плохое, кому-то помешала, а просто оказалась на дороге, попалась под горячую руку мракобесам-правдолюбам и ценителям старого строя…
Саша загородил ее, бешено заработал локтями, не позволяя никому вторгнуться в отвоеванный им угол. Но Лике удалось все же ухватить за рукав куртки и вытащить из толпы какого-то парня, совсем мальчика, с испуганными, распахнутыми, рыжими, как у кота, глазами, которого почти уже смяли наступавшие. Потом, когда немного утихло, она усадила мальчишку на деревянную скамейку, стирала с его разбитого носа кровь клетчатым Сашиным платком и уговаривала:
— Ну что тебе тут ловить понадобилось, а? Ведь едва цел остался. Давай-ка дуй домой, закройся на три замка и носа не высовывай, пока все не рассосется. Врубился?
И парень, видно, еще не отошедший от шока, мелко кивал.
И теперь Лике, слишком хорошо еще помнившей круглые глазенки-маслины ребенка, цеплявшегося за пыльные юбки застреленной матери, казалось страшной сумасшедшей нелепостью, что что-то подобное может произойти здесь, в городе ее детства. В городе бульваров и фонтанов, широко раскинувшихся площадей и скользящих под каменными мостами рек, в городе, где голуби кружатся над памятником Пушкину и лебеди лениво покачиваются на мелкой ряби Патриарших прудов.
Короткий осенний день начинал угасать. Ярче вспыхивали оранжевые языки костров. Лика сунула руку в карман куртки, обветрившимися пальцами вытащила из пачки сигарету. Подскочил исчезавший куда-то Сашка, наклонился к ней и возбужденно зашептал: — Слушай, у Останкино серьезная заварушка. Я звонил сейчас нашим, с канала. Рванули!
Глаза его лихорадочно блестели, и Лика невольно поморщилась, вспомнив, как заводился когда-то от близости опасности Меркович. Неужели мужчины до самой старости остаются мальчишками? И все ужасы насилия, все жертвы и потери для них лишь веселая игра в войнушку?
Она поднялась с тротуара, отряхнула джинсы.
— А что там такое?
— Да я сам не понял. Приехали какие-то типы на грузовиках, с автоматами. Требуют, чтоб им прямой эфир дали. Потом спецназовцы подтянулись. В общем, наши там в панике. Давай поторапливаться.
За углом ждал проржавелый Сашин «жигуленок». Оператор, пристроив камеру на заднем сиденье, с силой захлопнул за собой дверь, включил зажигание. Лика уселась рядом, подышала на замерзшие ладони. Машина тронулась и понеслась по взбаламученной Москве.
У здания телецентра выстроились пятнистые бэтээры, знакомые Лике по годам, проведенным в Афганистане. Вероятно, омоновцы, приехавшие на них, уже заняли позиции в нижнем этаже телецентра. Перед зданием останавливались грузовики, автобусы, из которых выпрыгивали люди. Некоторые были вооружены. Бесновался стихийно возникший митинг. Отовсюду слышались призывы идти на здание телецентра штурмом, захватывать милицию, разоружать охрану. Толпились вокруг и обычные зеваки, всегда так живо интересующиеся событиями, в которых могут пострадать люди. Сновали туда-сюда коллеги-журналисты, стрекотали видеокамеры. Чуть поодаль белели кареты медицинской помощи. Сашка затормозил чуть в стороне от толпы, выскочил из машины, врубил камеру. Лика подключила микрофон, быстро заговорила, стараясь подробно описать все, что видит. Обдумывать слова, подбирать наиболее удачные фразы было некогда. Неизвестно ведь, что произойдет дальше, как сложится судьба отснятого ими репортажа, смогут ли они когда-нибудь пустить его в эфир. Но раздумывать об этом сейчас не приходилось.
Неожиданно где-то совсем близко от здания телецентра тяжело грохнуло. Задребезжали стекла, закричали люди, потянуло едким запахом гари.
Сашка дернулся, чуть не выронил из рук камеру, и Лика проговорила в объектив побелевшими губами:
— Судя по звуку, это гранатомет.
А потом грохнуло снова и снова, и из охраняемого здания затрещали автоматные очереди. И тут же застрекотало откуда-то сверху, с крыш окрестных домов. Повис над улицей вой бесновавшейся толпы. Одни бежали куда-то, другие пытались укрыться от секущих демонстрантов пуль. Пузатый дядька с велосипедом, явно не из штурмовиков, просто местный житель, смешно присел на корточки, как-то по-куриному взмахнул руками и тяжело осел на землю. Велосипед рухнул вслед за ним, колесо крутилось еще несколько секунд по инерции. По улицам неслись обезумевшие люди с вылупленными, вылезающими из орбит глазами. И рваными облачками плавал в темнеющем осеннем небе дым от разрывов.
— Бежим! — рявкнул Сашка. — Бежим скорее.
Он как-то неловко перехватил камеру и, ухватив Лику за руку, поволок ее в сторону.
— Погоди! Да погоди же ты! — отбивалась девушка. — Они не будут по нам стрелять, мы ведь журналисты.
— Дура! — не ослабляя хватки, проревел верный оператор.
И Лика, обернувшись уже на бегу, увидела в нескольких метрах от себя валявшегося навзничь парня. Синяя бейсболка слетела с головы, светлые волосы слиплись от крови. Рядом покоилась почти такая же, как у Сашки, кинокамера.
— Это же Вадик, — ахнула Лика, замедлив шаг. — Вадик с третьего канала…
— Бегом, дурная! — потащил ее вперед Сашка.
Они спрятались в какой-то темной подворотне. Забились под ведущую во двор арку, присели на корточки у стены. Пахло гнилью, затхлостью, промозглой осенней сыростью. За стенами домов все еще слышались звуки пальбы, крики раненых. Потом постепенно стало стихать. — М-да… — протянул Сашка. — Ну и вечерок…
Лика почувствовала, как судорожно сжимается от нервной икоты горло. Попыталась задержать дыхание, взять себя в руки. Перед глазами все еще мелькали искаженные лица мечущихся в панике людей, распростертые тела на асфальте, смятые обезумевшей толпой.
— Зачем… Зачем они стреляли по людям? — каким-то не своим, ломким, трескучим голосом сказала она. — По мирным людям… Прохожим, медикам, журналистам… Зачем? Не понимаю…
— Как же, разберешь тут в темноте, кто есть кто, — дернул плечами Сашка. — Ты чего так расклеилась? — толкнул он ее локтем. — А вроде военный человек…
— В том-то и дело, что здесь не война. Должны быть другие правила… — убежденно произнесла Лика.
— Правила… — вздохнул Сашка. — Правил не существует… Знаешь что, мать? Давай-ка все-таки по домам. Сдается мне, тут что-то уж слишком опасно…
Они выбрались из укрытия и осторожно, стараясь двигаться вдоль стен близлежащих домов, направились обратно, туда, где несколько часов назад оставили Сашкину машину. Улицы уже почти опустели. Редкие прохожие шли быстро, почти бежали, вжав головы в плечи. И от этой нависшей над дорогой тишины делалось еще страшнее.
В одном из переулков глухо рокотал мотор заведенного грузовика. Проходя мимо, Лика обернулась. Из-под затягивавшего кузов темного брезента что-то капало. Она сделала несколько шагов по направлению к машине, вгляделась в темноту и вдруг отпрянула, сдавленно охнув, прижав ладонь к губам. Накатила тошнота, в голове гулко загудело. Из-под темной ткани сочилась на мокрый осенний асфальт человеческая кровь. В грузовики складывали трупы людей, застреленных перед телецентром Останкино.
— Идем, идем, — потянул ее за рукав Сашка. — Хватит геройствовать. Поехали домой!
Добраться до ее теперешнего жилья в наполовину перекрытом центре оказавшегося на военном положении города было не так-то просто. Сашка кружил по улицам, натыкаясь то на поваленные на бок троллейбусы — спешно возведенные манифестантами баррикады, то на милицейские кордоны. Нырял в переулки, лихо въезжал на тротуары, проскальзывал в какие-то, одному ему ведомые, узкие щели между домами. Лика сжалась на переднем сиденье, разговор не поддерживала и лишь курила одну за одной отсыревшие сигареты. Старалась отключить сознание, не думать ни о чем, насильно заставить мозг стереть из памяти страшные картинки и не высвечивать их на глазной сетчатке каждый раз, когда она пытается прикрыть воспаленные глаза. Ведь когда-то же она владела этим навыком, когда-то умела. Неужели напрочь утратила все, чему когда-то научилась, за четыре года мирной жизни? Хмурая осенняя ночь начинала уже светлеть. Поблекли мутные фонари, подернулась розовым кромка провисшего над городом насморочного неба. И Сашка вдруг присвистнул и от неожиданности выпустил из рук руль:
— Смотри!
— Что? — Лика вскинула усталую голову.
Из плотного тумана, окутавшего пустынные предрассветные улицы измученного города, величественно и торжественно выползали танки.
5
Тяжелая старинная дверь глухо стукнула за спиной. Лика, не зажигая света, сбросила ботинки и прямо в куртке прошла на кухню, щелкнула кнопкой электрического чайника. Ее бил озноб, плечи и руки судорожно дрожали, и непонятно было, то ли так холодно в пустой квартире с еще не включенным отоплением, то ли сказывается нервное напряжение последних дней.
Ей пришлось все-таки провести на улицах еще один день, вдоволь насмотреться на задымленное здание Белого дома, на тяжело грохочущие танки и бэтээры, на грузовики, из затянутых брезентом кузовов которых свешивались желтоватые, словно восковые, руки убитых.
Она и не заметила, в какой момент началась дрожь. Просто вдруг обратила внимание, что никак не может вытащить из пачки сигарету. Сашка, тоже осунувшийся за последние дни, посеревший, помертвевший, молча вытащил из ее рук пачку, прикурил сигарету и сунул ей в рот. И вот теперь, наконец, она дома, но лихорадочный озноб не прекращается.
Чайник вскипел, и Лика дернулась всем телом от прозвучавшего в темноте кухни резкого сухого щелчка. Готова была уже повалиться на пол, лицом вниз, прикрывая руками голову, словно где-то рядом передернули затвор. Господи, да что же это случилось с ней, что случилось со всем долбаным миром, если за две недели в организме отключается все разумное, человеческое, и остаются лишь голые инстинкты выживания, накрепко усвоенные когда-то среди пологих глинисто-желтых вершин.
Лика плеснула в чашку кипяток, села на край стола, все еще кутаясь в куртку, поджала под себя ноги. Зубы стукнули о край чашки, она судорожно хлебнула обжигающей жидкости, закашлялась. Что делать теперь? Как выходить на улицу, как ездить на работу, делать вид, что ничего не случилось, что все ужасы развеялись, как кошмарный сон. Как? Для чего? Кому станет легче от ее правдивых дотошных репортажей? Тем, сваленным под темный брезент, как ненужные манекены после распродажи в магазине? Кого они спасут, кого предупредят? Бессмысленная жестокость, спекуляция на кошмарных картинах…
Это действительно то дело, которому ты решила посвятить жизнь? Да любой дворник, любой строитель приносит больше пользы, чем ты, носящаяся по городу от сенсации к сенсации.
Чем же отличается твоя любимая профессия от проституции? В советские времена ты послушно описывала мир и покой, которые несут наши воины на афганскую землю, «броня крепка и танки наши быстры». Теперь, когда власть резко сменилась, и каждый последний урка, приобретя депутатскую неприкосновенность, норовит наложить лапу на добытые доблестным трудом советских тружеников богатства, она с энтузиазмом рапортует о становлении демократической власти в нашей обновленной России. Получается, всю жизнь ты заботишься об удовлетворении клиентов и больше всего боишься, чтобы твоя куртизанская ночь (твое журналистское перо) не подешевело.
Тебе, дорогая, почти тридцать. Что ты имеешь на сегодняшний день за плечами? Каков сухой остаток твоей замечательной жизни? Ни семьи, ни друзей, ни близких. Никому не помогла, никого не спасла, ничью жизнь не сделала лучше. И в памяти лишь нелепые, немыслимые потери. Вот и сиди теперь в темноте, стуча зубами о фарфоровую чашку, девочка, которую никто не любил, которая должна была умереть в семилетнем возрасте, но по какой-то злосчастной игре судьбы выжила, чтобы мучиться самой и служить вечным камнем на пути других.
Стол, на котором она сидела, был вплотную придвинут к высокому окну, выходившему в квадратный внутренний двор. Лика наклонилась вперед, прижалась, как в детстве, носом к стеклу. Руки все еще сжимали чашку с чаем. Подумалось вдруг — интересно, а сколько здесь метров? Этаж пятый, но дом не из этих современных муравейников, где, кажется, можно задеть плечом за потолок, — старинный, добротный, каждый этаж метра четыре… Вылететь из окна, вдохнуть сырой ночной воздух и с маху удариться об асфальтированную площадку посреди двора. Голова расколется, как ореховая скорлупа, и выскочат из нее все эти проклятые, мешающие жить мысли и вопросы. И будет она лежать посреди двора, раскинув руки, подтекая собственными остывающими соками, привлекая внимание высовывающихся из окон соседей, а потом прогрохочет через арку грузовик, и угрюмые молчаливые мужики подцепят ее с земли и бросят в кузов, под темный брезент. И хоронить ее, вероятно, придется в полиэтиленовом, наглухо запаянном мешке, и кладбищенские рабочие будут брезгливо держать его, опасаясь, что из него все же будет капать. А ведь может такое случиться, что она еще несколько часов после падения будет жива, и умирать придется, раздумывая о своем поступке. Фу, какая пошлость. Однако, может быть, ей в последний раз сказочно повезет, и сердце разорвется еще в полете.
Лика дернула на себя створку форточки, жадно вдохнула осенний воздух. В кухне запахло дождем, мокрым асфальтом, потянуло жжеными листьями. Нет, она никогда не дружила с фортуной, на снисхождение рассчитывать не приходится. И почти в тот же миг в прихожей зазвенел вдруг телефон, задребезжал, прорезая сгущавшуюся в углах тьму. И Лика вздрогнула, выпустила из пальцев металлическую ручку окна, спрыгнула со стола и на ощупь двинулась к разрывавшемуся аппарату.
— Ну и конспирация, дорогая моя, я тебя еле нашел, — раздался из трубки знакомый, чуть насмешливый голос.
И Лика, не выпуская трубки из рук, тяжело опустилась на пол, привалившись спиной к стене, судорожно глотнула и выговорила хрипло:
— Андрей… Ты… ты в Москве?
— В Москве. И жажду встречи с тобой, моя прекрасная леди. Когда ты могла бы уделить мне часть своего драгоценного времени?
— Приезжай! — настойчиво попросила вдруг Лика. — Приезжай сейчас! Пожалуйста…
Он осекся, помолчал и произнес изменившимся голосом:
— Диктуй адрес.
Лика видела, как затормозила у дома черная «БМВ», как сверкнул блик от фонаря на распахнувшейся дверце, и человек в накинутом на плечи темном плаще быстро пошел к подъезду. Чавкнула далеко внизу дверь, легко простучали по ступенькам ботинки, и в прихожей зазвенел звонок. Лика открыла, шагнула к Андрею и впервые, не заботясь о том, как это будет выглядеть, — не проявила ли она слабость, не подумает ли он, что она решила ему навязаться, — приникла к нему, уткнулась лицом в холодные отвороты плаща, вдыхая родной, знакомый запах, смешанный с запахом улицы, дождя, осенней листвы. — Ого! Что это с тобой случилось, моя дорогая железная леди? — спросил он, как всегда шутливо, но голос его был добрым, мягким.
Он провел одной рукой по ее волосам, успокаивая, другой нащупал на стене выключатель. Вспыхнул свет, и пугающая чернота отступила. Лика словно впервые вдруг увидела, что находится у себя дома, в безопасности, что по углам прячутся не смерть и ужас, а разве что клубки пыли, которые она, будучи безалаберной хозяйкой, месяцами забывает выметать. Андрей смотрел на нее сверху вниз, улыбаясь, и почему-то ей стало легче, словно отчаяние, охватившее ее в этот промозглый вечер, отступило, рассеялось, столкнувшись с его жизненной силой. Он сбросил плащ и продемонстрировал Лике пузатую бутылку виски:
— Я тут захватил по дороге. Не помешает?
— Ох, еще как не помешает, — кивнула она. — Проходи!
Они вошли в комнату, и Андрей скептически оглядел ее скудную обстановку — старый продавленный диван в углу, перевезенный с дедовской квартиры, узкий шкаф, тумбочка с телевизором, у окна — компьютерный стол, заваленный горой разрозненных листков бумаги. — М-да… Обстановочка-то не боярская, — улыбнулся он. — Где же нам расположиться?
— А вот здесь. — Лика уселась прямо на пол, прислонившись спиной к дивану.
— Пикник, значит? — кивнул он. — Идет. Где у тебя стаканы? И вот еще что… — Он остановился у порога, пристально поглядел на Лику. — Ты когда ела нормально в последний раз?
— Я… — Лика смешалась, неопределенно покрутила в воздухе пальцами.
— Все ясно, — оборвал Андрей. — Ладно, сиди, я сейчас.
Через несколько минут она уже уплетала приготовленную Андреем яичницу, прихлебывала янтарную, обжигающую рот и разливающую мягкое тепло по телу жидкость из стакана. — Господи, друг мой, тебя здесь совсем не кормят? — сказал Андрей, глядя, как жадно набросилась она на еду.
Лика лишь отмахнулась и пригубила еще виски из стакана. То ли под действием алкоголя и сытной еды, то ли просто от присутствия рядом этого сильного, надежного мужчины дрожь стала отступать, неохотно сдавать позиции. И Лика сбросила с плеч куртку, села свободнее. Андрей потянулся к ней, взялся теплыми ладонями за ее тонкие запястья, спросил:
— Что же все-таки случилось?
И Лика, словно повинуясь исходящей от него силе, стала торопливо рассказывать, захлебываясь словами, изредка судорожно всхлипывая. Рассказывать об этих ужасных двух неделях, о постоянном дежурстве у Белого дома, о толпах, о смятых, раздавленных людях, об орудующих милицейских дубинках. О юноше с испуганными глазами, с лица которого она стирала кровь. О застреленном случайной пулей Вадьке с третьего канала, о накрытых белым трупах на мостовой, о тяжелом гуле танков в предрассветной тишине.
Андрей слушал, не перебивая, между пшеничных бровей собирались мелкие морщинки, широкая ладонь с чуть красноватыми выступающими костяшками успокаивающе поглаживала Ликину руку.
— И вот сегодня, наконец, когда все кончилось, и я оказалась дома… — сбивчиво повествовала Лика, — я поняла вдруг… Не знаю, как тебе объяснить. Что все это так бессмысленно. Если человеческая жизнь ничего не стоит, если люди только и ждут малейшего повода, чтобы кинуться друг на друга… Не на врагов, понимаешь? На своих же… И зачем тогда все, что я делаю? Для кого это нужно? Кого это чему-нибудь научит?
Она сбилась и замолчала, и тогда заговорил Андрей. Голос его звучал мягко, тягуче, обволакивал ее, успокаивая.
— Бедная моя девочка! Переживать за судьбы человечества бессмысленно, не хватит души. Люди всегда были такими — глупыми и жестокими. За последние две тысячи лет они не изменились ни на йоту. А ты… Ты не в ответе за каждого человека на земле, не пытайся взвалить это на себя.
— Но получается… Получается, что я работаю на стороне зла? — отчаянно выговорила Лика.
— Конечно, на стороне мирового зла, — беззлобно рассмеялся он. — Послушай, дружок, не переживай ты за человечество, ничего с ним не будет, оно само о себе позаботится. А ты… Ты просто делаешь то, что тебе делать интересно. Ну представь, что твоя работа — вышивать крестиком. Ты бы тоже мучилась, что она не спасет людей от ядерной войны?
— Но тогда ведь получается — все бессмысленно… — растерянно протянула Лика.
— Конечно, бессмысленно, — улыбнулся он. — Этим жизнь и прекрасна, своей полнейшей бессмысленностью и случайностью. Выпей-ка еще.
Он плеснул виски в опустевший стакан. Лика залпом опрокинула в рот крепкий ячменный напиток. Левая бровь Андрея чуть вздернулась:
— Я смотрю, ты тут неплохо зашибаешь, а? — погрозил ей пальцем он. — Это все твои огорчения? Или еще что-то беспокоит? Рассказывай, пользуйся случаем, пока с тобой добрый доктор.
Лика потупилась, уставилась в пол, провела пальцем по вытертому паркету. Не станет, не может она рассказывать Андрею о своих тоскливых мыслях, мучивших ее весь вечер. Об одиночестве, холодом заползавшем в душу, об ощущении полной своей ненужности, о том, что прожитая жизнь вдруг представилась ей чередой бессмысленных потерь. Ведь рассказывать о таком означает навязываться, просить — будь со мной, спаси, останься здесь навсегда. Раскрыться, подставить под удар незащищенную душу. Нет, это слишком страшно!
— Наверное, это все, — не поднимая глаз, ответила она.
— А по-моему, ты врешь.
Он вдруг потянулся к ней, взял рукой за подбородок, развернул к себе ее лицо. Глаза его, синие, как летнее небо, смотрели пристально и настороженно. И снова показалось ей что-то в их глубине, какое-то напряженное ожидание, будто он что-то особенное надеется от нее услышать, что-то важное прочитать на поднятом к нему лице. Его теплая ладонь, пахнущая водой и мылом, касалась ее лица, и Лика, не зная, что ответить на его скрытый, не заданный вопрос, лишь потерлась об нее щекой. Неожиданно вспомнилось почему-то, какие у Андрея большие сильные руки, как спокойно бывает, когда они обхватывают ее, отрывая от земли, прижимают к могучей груди.
Окружающий мир пьяно покачивался, и показалось вдруг, что в этой шаткой действительности не нужно больше соблюдать нормы и приличия, не нужно придерживаться раз и навсегда принятых правил игры. Ей страшно, ей муторно и тоскливо в эту промозглую осеннюю ночь, так почему должна она собственными руками отталкивать от себя спасение?
И Лика подалась вперед, потянулась к Андрею. В лице его что-то дрогнуло, задергалась жилка у глаза. Он распахнул руки, и вот она уже оказалась прижатой к его груди, прижатой так сильно, что хрупкие плечи, казалось, сейчас хрустнут под его ладонями. Звякнул и покатился по полу пустой стакан, полетел в сторону бесформенный черный свитер. Господи, как же истосковалась она по этому большому и сильному мужчине, по его спокойной, отрешенной нежности!
Внутри что-то дрожало и билось, заставляя ее всхлипывать бесслезно и отчаянно хвататься за его широкие плечи, словно в нем одном была для нее защита в этом обезумевшем мире. И нелепым, странным казалось сейчас, что она столько времени могла жить без него, просыпаться утром, улыбаться кому-то, целовать чьи-то другие губы. Вот же он, единственный в жизни мужчина, ее мужчина. С ним легко и не страшно, как она раньше могла этого не понимать? И Лика пыталась приникнуть к нему еще теснее, раствориться в этом горячем гладком теле, слиться с ним не только плотью, но и душой, мыслями, сердцем.
6
Во дворе заворчал мотор машины, прошуршали по асфальту колеса, пробежали по потолку желтые зигзаги от света фар. Лика пошевелилась, медленно приходя в себя после опрокинувшего ее вихря. Горячая рука Андрея под ее головой напряглась.
— Ты куда?
— На кухню, курить.
Лика потянулась к нему, дотронулась губами до уголка рта. Как он красив, когда лежит вот так, в полутьме, расслабленно откинувшись на подушку. Могучее, крепкое тело спокойно — былинный богатырь, отдыхающий после боя.
— Ты спи, я сейчас вернусь. — Она встала с кровати, накинула на плечи его рубашку.
— Не спится, — отозвался он. — Я не успеваю переключиться на местное время после Америки. Слишком редко здесь бываю.
— Слишком редко, это точно, — кивнула Лика, подобрала с пола забытую полупустую бутылку виски и вышла из комнаты.
Поставила бутыль на стол в темной кухне, взяла с подоконника сигареты, закурила. За окном дрожали в неясном свете фонаря блеклые листья полуоблетевшей осины.
«Что тебе еще нужно?» — неожиданно застучала в голове навязчивая мысль. От чего ты так отчаянно бежишь, почему прячешься? Вот же он, здесь, совсем близко. Он приехал к тебе, значит, ты не совсем ему безразлична? Примчался, будто почувствовал, что тебе совсем плохо, что ты на грани, издерганная, измотанная. И вытащил из засасывающей тоски, протянул руки, позволил ухватиться.
Но, если это так, почему же он до сих пор молчал, почему не сказал ей ничего ни разу за все годы их знакомства? Может, она просто не давала ему возможности это сказать, с упорством отчаяния переводила любые его попытки откровенности в шутку? Потому что слишком страшно было бы узнать, что ошиблась, что он пригрел ее походя, не имея никаких далеко идущих намерений. Так, может, стоит рискнуть, поверить, поговорить начистоту? Хоть раз в жизни… Единственный раз не трусить, не прятаться, а выйти открыто и подставить голову под удар. И если удар обрушится, ну что ж, значит, так тому и быть.
Небо за окном побледнело, чернота осенней ночи отступала, неохотно сдавая позиции. В форточку потянуло холодом, горьковатым запахом жженой листвы. Лика услышала, как в комнате поднялся со скрипучего дивана Андрей, выглянул в коридор, крикнул:
— От тебя можно позвонить по международному? Я еще вечером должен был… Мой сотовый здесь у вас не берет.
— Конечно, — отозвалась она.
Теперь, после принятого решения, ей казалось, даже голос у нее звучит по-иному — взволнованно, открыто. Неужели он не слышит? Звонить куда-то собрался… Так и хочется крикнуть: «Подожди, сейчас не до звонков! Мне нужно что-то сказать тебе. Признаться…» Окурок ожег пальцы, и Лика швырнула его в форточку, удивляясь тому, как дрожат ее руки. Волнение накатывало и отступало, пузырьками щелкало внутри, словно Лика только что осушила бокал шампанского.
Не в силах больше стоять на месте, она вышла из кухни, на ходу теребя и накручивая на палец прядь волос, почти столкнулась в коридоре с Андреем. Он стоял с телефонной трубкой у уха, босой, в одних лишь светло-голубых джинсах, под гладкой кожей могучей спины поигрывали крепкие мускулы. И Лика невольно замечталась, как чудесно будет вот так сталкиваться с ним в полутемном утреннем коридоре всегда.
Андрей обернулся к ней, но не улыбнулся, свел на переносице пшеничные брови, качнул головой и прижал к губам палец, прося ничего не говорить. Смешной… В такое утро не может выкинуть из головы рабочие дела.
Она нырнула под одеяло, обхватила руками подушку, еще хранившую его тепло, жадно вдохнула запах. Подумать только, ведь они могли бы просыпаться вместе каждое утро уже столько лет…
— Да, я забронировал билет на двенадцатое, — доносился из прихожей голос Андрея. — Нет, раньше никак не получится, еще не все дела закончил. Я понимаю, ну что поделаешь… Придется потерпеть.
«С кем это он? — лениво подумала Лика, сонно потягиваясь. — С секретаршей, что ли?» Впервые за долгую ночь ей захотелось спать. Ну что же он так долго, почему не бросит этот дурацкий разговор? Так ведь она уснет, ничего не успев сказать ему.
— Была у врача? Ага, и что он сказал? Ну вот видишь, я же говорил, что все нормально, волноваться нечего.
«Нет, это не секретарша», — поняла Лика. Сонная истома слетела с нее, она села на постели, потерла пальцем переносицу. Как-то странно. Впрочем, у Андрея ведь есть мать и, кажется, сестра…
— Ну ладно, мне неудобно долго разговаривать, — сказал наконец он. — Здесь это дорого и… Я еще позвоню через пару дней. Пока.
Он буркнул еще что-то неразборчивое. Целую?
Лика подалась вперед, напряженно уставилась на дверь. Андрей появился на пороге, прошел в комнату и аккуратно присел на краешек кровати, как пойманный с поличным мелкий воришка. Он принялся зачем-то разглядывать свою широкую ладонь, словно ища на ней подсказку, как начать это пошлое убогое признание. И Лика в тот же момент все поняла, но, следуя вдолбленным правилам развития драматургии, зачем-то спросила:
— Ты с кем разговаривал?
— Лика, мне надо кое-что тебе объяснить… — сбивчиво начал он.
Господи, как глупо… Ей и слушать не нужно было его дальше, она и так знала, какие слова сейчас последуют. Почему-то заболел затылок, заломило шею и плечи, словно ударили сзади бейсбольной битой, запульсировала боль в виске.
— Я женился, Лика. Извини, мне надо было сказать это вчера, — с вымученной храбростью признался он.
— Видимо, вчера тебя посетил приступ склероза, добрый доктор, — Лика с силой заставила себя хохотнуть.
Смешок получился сухой, отрывистый, похожий на сдавленное рыдание. Смотреть на Андрея было невыносимо. Она отвернулась, стянула через голову его рубашку, потянулась за брошенной на пол своей футболкой. Господи, это просто смешно, сколько еще жен попадется ей на пути? Сколько раз она должна будет с пониманием и смирением отходить в сторону?
Андрей придвинулся к ней ближе, взял за плечо, и она отшатнулась. Казалось, каждое его прикосновение бьет по оголенным нервам.
— Я не хочу, чтобы ты думала, будто я специально это скрыл. Просто я сам еще не привык, все получилось очень быстро. Она…
— А она возьми и забеременей, — торжествующе закончила за него Лика.
Андрей кивнул.
Ну конечно, как могло быть иначе? Наверняка его жена — здоровая, красивая, сильная, не мучимая никакими комплексами и страхами. С ней легко, она не просыпается по ночам с криком от того, что ей снова приснилось, будто она тонет в снегу, не в силах добраться до ускользающей темной фигуры. Ее не колотит ледяной озноб, спасением от которого кажется только прыжок за окно, в промозглую осеннюю пустоту. Она родит ему ребенка… Что уж тут еще говорить? Преимущества очевидны.
— Извини, я… — продолжал Андрей. — Я не предполагал, что мы с тобой… Что так случится.
Господи, как удержаться и не выгнать его вон, не спустить с лестницы! Чтобы не смотреть больше в эти васильковые глаза, глаза опытного предателя и лгуна? Как подавить в себе эту ярость одинокой женщины, которой просто воспользовался чужой человек, который никогда ее не любил. Решил гульнуть, скрасить одиночество вдали от дома?
— Я несу сейчас какую-то чушь, извини, — помотал головой Андрей. — Одним словом, я не могу сейчас сказать ничего определенного. Мне нужно собраться с мыслями, все обдумать… Давай подождем… Я просто хочу, чтоб ты знала, ты для меня…
Лика не дала ему закончить:
— Андрюша, мальчик мой, ты мне совершенно ничего не должен.
Ей казалось, еще секунда, и она не выдержит, закричит, забьется в истерике. Но допустить этого было никак нельзя. Ей и так досталось в жизни, приходится заботиться о том, чтобы сохранить хотя бы чувство собственного достоинства. Жалеть себя, в тайне подсмеиваясь над фантазиями убогой девочки, она не позволит никому.
— Давай не будем портить это утро пошлыми объяснениями. Признаться, мне очень хочется спать, а тебе, наверно, давно пора ехать.
В лице его что-то дрогнуло, губы сжались в тонкую черту.
— Значит, ты на меня не в обиде? — коротко спросил он.
— За что? — недоуменно вскинула брови Лика. — Ты прекрасно себя проявил, можешь передать мои поздравления твоей супруге.
Он неожиданно пригнулся, будто Лика изо всех сил ударила его между лопаток.
— Ну слава богу, а то я подумал, что вдруг ты воспылала ко мне чистыми чувствами в такой неблагоприятный момент.
— Что ты, Андрюша, — лениво потягиваясь, промурлыкала Лика. — Ты же совершенно не мой тип. Я брутальных мужчин люблю, — она томно затянулась сигаретой. — Седовласых мачо. Ну вот примерно как Меркович… Вот тот был мужик так мужик!
— Хорошо, что я не мачо, у меня прям камень с души свалился, — оскалился в улыбке он. — А то в мою нью-йоркскую квартиру гарем не влезет.
Они некоторое время помолчали, переводя дыхание, не поднимая глаз друг на друга. Наконец Андрей поднялся:
— Ну ладно, мне пора. Сегодня еще встреча в министерстве здравоохранения. Нужно договор подписать о поставках лекарств в московские больницы. Ужасно муторно все это тянется.
— Ну-ну, все у тебя получится, мой бескорыстный доктор! — Лика протянула ему чистое полотенце. — Дорогу в душ найдешь?
— Будь уверена, ма шери!
В коридоре хлопнула дверь ванной комнаты, зашипела вырывавшаяся из душа вода. Лика сжала руками виски. Голова болела нещадно, невыносимо, гудел затылок, стальным обручем стягивало лоб. Наверное, не зря когда-то занималась она в драмкружке, за эту роль ей стоило бы вручить премию. Где бы еще взять силы, чтобы накормить его завтраком, ласково напутствовать в дальнюю дорогу, мысленно желая лишь одного, чтобы он пропал, навсегда исчез из ее жизни. Вместе со своей юной и прекрасной женой и приплодом, и своим милосердным и благородным делом, и своей готовностью утешать страждущих. Пусть летит к черту, к черту! Пусть провалится в тартарары, чтобы я никогда о них не слышала! Сука, конченый мерзавец. Ненавижу!
Лика прошла в кухню, взяла со стола бутылку виски, припала губами к горлышку и, запрокинув голову, принялась жадно пить большими глотками.
7
И жизнь покатилась дальше, забурлила, будто и не было никогда этих страшных октябрьских дней. Баррикады растащили, тела с улиц вывезли, дырки от пуль заделали. Покачали головами и забыли. Бросились снова кто в погоню за легкими деньгами, которые так просто можно заработать и в момент потерять во всякое смутное время, кто в отчаянную борьбу за выживание. Из дома, где жила теперь Лика, постепенно пропадали благообразные старушки в отутюженных аккуратных платьицах, день и ночь ревели инструменты, грохотали молотки, вставлялись в оконные проемы стеклопакеты — новые хозяева обустраивали жилье по последнему слову моды. Нижний этаж и вовсе превратился в элитное казино, и Лика временами с изумлением рассматривала стоящие под ее окном роскошные лимузины. Как-то раз она, поддавшись хулиганскому настроению, прицельно метнула из окна бычок прямиком в нежно-розовый салон блестящего кабриолета.
Из переулков куда-то исчезли булочные, помещавшиеся там с незапамятных времен. На их месте за одну ночь возникали салоны красоты и парфюмерные бутики. Соседка жаловалась Лике, что за молоком теперь приходится ездить на трамвае в другой район, да и то неизвестно, сколько еще продержится тамошний продуктовый магазин.
Из машин вальяжно выдвигались быдловатого вида мужички с бычьими шеями, выпархивали юные нимфы, неустойчиво семеня на тонких каблуках. Кое-какие лица были Лике знакомы по работе, по светским тусовкам, на которых ей приходилось бывать по долгу службы. Крупный бизнесмен Тарбеев, хозяин продовольственной компании, депутат Красинский, ранее известный как Леха Кривой, совладелец банка Золотухин… Некоторых она, наоборот, узнавала уже потом, когда делала очередной репортаж о чрезвычайных происшествиях, произошедших за ночь в столице.
Однажды, например, беседуя на открытии модного ночного клуба «Антониони» со знаменитым стилистом Зверевским, пытавшимся изо всех сил доказать почтеннейшей публике свою традиционную сексуальную ориентацию и для того зазывающим Лику к себе домой познакомиться с мамой, она, единственная из толпы, услышала такой знакомый сухой щелчок. Радушно встречавший в дверях дорогих гостей хозяин клуба Харитонов, благодушный толстяк, неожиданно резко запрокинул голову назад, выставив на всеобщее обозрение плохо выбритую шею с красной дырочкой посередине. Через секунду ничего не заметивших, продолжавших светский треп гостей обдало фонтаном алой артериальной крови, а Харитонов схватился за горло и рухнул на левый бок. Кругом завизжали, охранники засуетились, Зверевский в ужасе присел, прикрыв голову руками. Лика прорвалась ближе:
— Пустите! Дайте посмотрю!
Наклонилась над Харитоновым, оценила закатившиеся глаза, булькающий фонтанчик крови на шее и спокойно констатировала:
— Снайпер. С крыши снял.
Пару раз пальба случалась прямо у нее во дворе. Лика по старой привычке быстро шарахалась от окон, отсиживалась в прихожей, и узнавала подробности ночных происшествий лишь утром. Впрочем, серьезных разборок в их тихой подворотне не происходило, так, постреливали от полноты жизни. Зато в доме напротив ей не раз приходилось наблюдать в ярко освещенных окнах силуэты деловито снующих по кухне подростков. И Лика уверена была, что варят они на плите не пельмени, а чернягу или винт. В общем, жизнь кипела.
Лике оставалось только удивляться, как легко удается человеку перестроить свою жизнь, привыкнуть к новым обстоятельствам. Кажется, никого уже не шокировали ни звуки выстрелов, ни сообщения об убийствах в новостях, ни наводнившие центр города роскошные машины. Она и сама уже нисколько не изумлялась, натыкаясь в туалете какого-нибудь модного ночного клуба на девицу, жадно втягивающую носом дорожку белого порошка через свернутую стодолларовую купюру.
Что ж, значит, таковы правила этой новой неизведанной жизни. Ее же дело повествовать о ней с максимальной объективностью, не рассматривая происходящее с моральной точки зрения. Так она и поступала. Митинги и пикеты прошлых лет сменились в ее репортажах ночными перестрелками и вооруженными нападениями, а в целом, все оставалось по-прежнему. Она все так же носилась по Москве с верным Сашей, высматривала, вызнавала, тараторила в микрофон, возвращалась домой поздно с единственной мыслью — упасть лицом в подушки и не поднимать головы часов двенадцать. В общем, на отсутствие работы жаловаться не приходилось.
Однажды, на пресс-конференции, посвященной открытию нового корпуса детского онкологического центра, Лика, в числе прочих официальных лиц, увидела Андрея, представленного журналистам в качестве главного спонсора, поставляющего в больницу медикаменты по очень низким для России ценам. Какая-то бойкая корреспондентка спросила его, почему для него так важны проблемы именно детской медицины, на что Андрей серьезно ответил:
— Ну как же, я ведь сам отец. Мой сын Артур, он вместе с матерью живет в Майами, к счастью, здоров. Но самым страшным ударом для меня было бы, если бы он вдруг заболел, поэтому я стараюсь, чем могу, помогать нездоровым деткам.
Выслушав эту исчерпывающую информацию о счастливой семейной жизни своего старого приятеля, Лика поспешила покинуть пресс-конференцию, пока он ее не заметил.
С этим эпизодом ее личной жизни было покончено. Временами случались какие-то мимолетные романы, ни к чему не обязывающие связи — быстрые, опьяняющие и рассеивающиеся наутро, не оставляющие после себя ничего, кроме легкого привкуса разочарования на губах. В студии телеканала шумно отмечались свадьбы сотрудников, рождение детей, потом, через некоторое время, не менее громкие разводы. За время ее работы на телеканале сложившиеся пары несколько раз уже перетасовывались в самых разных комбинациях. Она же оставалась неизменной — одинокая, хрупкая маленькая женщина с доброжелательной улыбкой на лице и не подпускавшая к себе никого близко. Никто, впрочем, и не лез к ней в душу, не набивался в друзья, коллеги словно чувствовали эту незримую дистанцию, которую она определила между ними и собой. Правда, если нужна была помощь, направлялись все-таки прямиком к Элеоноре Беловой.
— Лика, добрый день, вас беспокоит Лариса Николаевна Рассказова. Вы приезжали как-то брать у меня интервью. Помните? Лика сразу узнала в трубке низкий женский голос с характерными металлическими нотками. К этой внушительной даме, большой шишке в министерстве экономики, она действительно приезжала. Так уж получилось, что для одного из сюжетов в вечернем выпуске новостей потребовался комментарий специалиста, и брать его направили Лику. Ей понравился тогда теплый просторный кабинет с деревянными панелями на стенах, мягкий рассеянный, располагающий к непринужденной беседе свет ламп, удобные кресла напротив массивного письменного стола. Во всей обстановке виделось что-то выдержанное временем, надежное, успокаивающее — не чета современным бездушным холодным офисным помещениям в стиле хай-тек.
Из-за стола навстречу ей шагнула плотная невысокая женщина, отличавшаяся тем не менее очень прямой, горделивой осанкой. Безупречный черный костюм, тщательно уложенные седые волосы, доброжелательный взгляд из-под очков в серебристой оправе. Прямо-таки Маргарет Тэтчер постсоветского разлива.
Рассказова сразу прониклась к Лике симпатией, на заданные вопросы ответила понятно, доходчиво, а потом пустилась почему-то в собственные воспоминания. Удивительно, но Лику, спешившую на телестудию с полученным материалом, эта нежданная задержка не раздосадовала. Что-то было такое в этой пожилой статной женщине, одновременно властное и располагающее. И Лика, уютно расположившись в велюровом кресле, с интересом слушала о ее работе в торгпредстве далекой африканской страны, давно, еще в шестидесятые годы, о возвращении в СССР, об участии в экономических реформах конца восьмидесятых. Словно погружалась в живую историю.
Распрощались они тепло, как старые знакомые. Лариса Николаевна вручила Лике визитку с золотым обрезом, приглашала заходить и обращаться с любыми вопросами. Правда, у Лики за все это время никаких поводов для обращения к новой знакомой так и не возникло. И вот теперь она зачем-то объявилась сама.
— Лика, мне очень неудобно вас беспокоить, — начала Лариса Николаевна, — но у меня к вам небольшая просьба.
— Да, а в чем дело? — заинтригованно спросила Лика.
— А дело вот в чем. У меня есть бывший хммм… коллега, тоже экономист. Впрочем, ладно, что там темнить, на самом деле это мой бывший супруг. Он, в общем, неплохой человек, образованный, даже в своем роде талантливый. Но вот, понимаете, не сложилась жизнь, не устроилась карьера. Служил в свое время в посольстве в Кении, мы там и познакомились, но так получилось, что не смог себя достойно проявить, вернулся в СССР. А потом перестройка, новые времена, и он как-то… растерялся. В общем, сейчас он мается без работы, строчит какие-то статейки в научно-популярные журналы.
— Понимаю, — кивнула Лика. — А я чем могу помочь?
— Голубушка, если вам не сложно, вы не могли бы зайти к нему, посмотреть эти его работы? Чем черт не шутит, может, удалось бы устроить его на телевидение каким-нибудь консультантом по экономическим вопросам…
«Только этого не хватало, заниматься благотворительностью», — хмыкнула Лика. Выходит, она и правда достигла к тридцати годам небывалых карьерных высот, если такие люди, как Рассказова, обращаются к ней с просьбой.
— Это ваш бывший муж, говорите? — переспросила она.
— Да, Рассказов Евгений Павлович. Мы уже много лет в разводе, но как-то так получается… — дама сухо рассмеялась. — Знаете, есть такая избитая фраза — мы в ответе за тех, кого приручили. В общем, это, вероятно, мой крест на всю жизнь.
«И ты решила разделить со мной эту ношу. Ловко!» — мысленно ответствовала Лика.
— Вы не волнуйтесь, Лика, я оплачу ваши услуги, — заверила Рассказова.
Почему бы не заехать на досуге к какому-то безобидному старичку. В конце концов, от нее не убудет, а там, кто знает, может, и вправду удастся куда-нибудь его пристроить. Да и деньги никогда лишними не бывают.
— Хорошо, Лариса Николаевна, я к нему заеду. Диктуйте адрес, — пообещала Лика.
Выкроить время на поездку к Рассказову ей удалось только через несколько дней. Предварительно позвонив и договорившись о встрече, она подъехала на такси к сталинской высотке на Котельнической. С неба сыпал колючий мелкий снег, забиваясь в капюшон темно-серого зимнего пальто. Лика, приставив ладонь козырьком ко лбу, чтобы снежинки не летели в лицо, направилась к подъезду, едва не поскользнулась на обледеневшей каменной лестнице. Вот, значит, где живет неудачный питомец самой великой Рассказовой. Поднявшись в отделанном с шиком сталинских времен лифте на нужный этаж, Лика позвонила в дверь. В квартире что-то зашуршало, зашелестело, прошаркали по полу тапки, и дверь отворилась. С порога на Лику близоруко щурился поверх толстенных мутных очков долговязый, сутулый мужичонка в мешковатом вылинявшем пиджаке. Всклокоченные изжелта-седые пряди топорщились над изрезанным продольными морщинами лбом, пепел с зажатой в пальцах сигареты сыпался на лацканы пиджака. Невозможно было представить такого жалкого субъекта рядом с вальяжной царственной Рассказовой.
— Добрый день. Я Лика, — представилась она. — Я вам звонила.
— Конечно, конечно, девушка, проходите! — засуетился Евгений Павлович.
В прихожей на Лику со стен таращились деревянные африканские маски.
— Ой! — отшатнулась она от одной особенно неприятной клыкастой рожи.
— Страшные? — горделиво осклабился Рассказов. — А я, знаете ли, привык. Столько лет уже среди них живу. В свое время привез из Кении. Работал там, понимаете ли, в нашем советском посольстве. И неплохо работал, — запальчиво продолжал он, словно боялся услышать от Лики возражения. — Долг свой выполнял честно. Если бы не козни завистников…
«Ты бы непременно всем показал и по сей день был бы на коне», — с раздражением подумала Лика. И принес же ее черт сюда. Слишком высокая плата за давнее интервью с высокопоставленной министерской дамой.
Евгений Павлович с неуклюжей галантностью стащил с ее плеч пальто, сгорбившись еще больше, полез куда-то под вешалку, долго копошился и, наконец, извлек оттуда покрытые пылью потертые тапочки. Лика брезгливо поморщилась.
— Вы, кажется, и с Ларисой Николаевной в Африке познакомились? — постаралась она переменить тему.
— Познакомился, познакомился, на свою беду, — закивал Рассказов. — Вы себе не представляете, что это за женщина. Комиссар в юбке. Я тогда совсем молодой был, неопытный, а она… Она ведь старше меня, ну вы, конечно, заметили…
«Неужто? — изумилась Лика. — Так этот сморчок, выходит, не такой уж старик. Лет пятидесяти с небольшим. Ни фига себе, оказывается, мужики стареют даже быстрее, чем женщины!»
— Я ей доверял безгранично, она же… — он зашелся каким-то особенным гиеньим смехом, неожиданно оборвавшимся на самой высокой ноте, — подмяла меня под себя, сожрала с потрохами, одним словом. Ничего не оставила, даже фамилии.
— Как это? — не поняла Лика.
— Ну конечно, она же меня свою фамилию уговорила взять, — всплеснул тонкими волосатыми паучьими лапками Евгений Павлович. — Когда папашу моего сняли… Ох, батя-то был у меня знаете кто? Да ну, вы и не поверите, если я скажу. Большой человек, могучий… Не чета нынешним болтунам. Так вот, когда сняли его, мне жена все уши прожужжала: возьми мою фамилию, возьми, так проще будет. Проще… — скривил губы он. — Вот сколько лет уже в разводе, а я все еще Рассказов.
Распаляясь, он метнулся к буфету, извлек на свет две плохо отмытые, с темными запекшимися пятнами на дне хрустальные рюмки, покрутил перед Ликой бутылкой коньяка.
— Выпьем, милая девушка? За приятное знакомство, так сказать.
— Нет, благодарю, мне еще в Останкино, — решительно замотала головой Лика, ломая голову, как прервать эту затянувшуюся автобиографию, взять у обиженного на весь белый свет собеседника его писанину и побыстрее покинуть этот гостеприимный дом.
Ничуть не смутившись ее отказом, сморчок щедро плеснул себе трехзвездочного коньяка, залпом опрокинул рюмку, дернул тощей шеей и продолжал с все нарастающим возмущением:
— Рассказов… И все меня знают, как Рассказова! С этим приходится считаться, все-таки я не последний человек в Москве. А я, может, не желаю быть Рассказовым. У меня своя фамилия есть, батина! Я, может, желаю, чтоб меня называли Евгений Павлович Стрельников! Стрельников, да!
8
— Стрельников! — с гордостью повторил он, снова наливая в рюмку коньяк.
Лика, как оглушенная, тупо смотрела на его чуть подрагивающие клешни в синих венах. Неожиданно в памяти всплыла картинка из детства.
Маленькая Лика сидит на полу, уставившись в переплетения абстрактных рисунков на обоях. Зеленоватые и коричневые узоры представляются ей таинственными далекими джунглями. Она вытаскивает из кармана застиранного домашнего платья карандаш и, послюнявив грифель, сосредоточенно рисует на одной из пальмовых ветвей длинноклювого попугая.
На кухне, невидимые для Лики, ссорятся мать и бабка.
— Пойми наконец, я давно уже не ребенок, — топает ногами Ольга. — Почему ты себе позволяешь решать, за кого мне нужно выходить замуж. Виктор — прекрасный человек, талантливый художник, и я…
— Да какой он Виктор, морда козлятская, Витька он, как есть Витька. И будет Витькой до седых мудей. У тебя был уже один прекрасный человек, Женечка Стрельников, забыла? — ехидно и громогласно, на радость всем соседям, заявляет Нинка. — Уж такой замечательный, уж такой необыкновенный. И где он теперь? Тю-тю? В Африкандии своей макакам хвосты крутит? Положил с прибором что на тебя, что на ребенка…
И Лика, тряхнув головой и высунув от усердия кончик языка, вычерчивает в зарослях южных трав фигуру путешественника в высоких сапогах и широкополой шляпе. В руках у него ружье, а на плече сидит макака, свесив вниз длинный хвост.
А вслед за этим воспоминанием всплывает в голове напутствие бабки Нинки, провожающей ее, семнадцатилетнюю абитуриентку, на вступительные экзамены в институт.
— И смотри там, не трясись от страха-то, нечего! Слава богу, фамилия наша там всем известна. Как спросят тебя, не Константина ли Васильича Белова ты внучка, сразу и говори — его, его. Эх, хорошо мы с дедом-то настояли тогда тебя Беловой записать. А то пришла бы сейчас на экзамены Стрельникова Элеонора Евгеньевна. Кто такая, с чем ее едят? Никто не знает.
— Вы что же, Лика, совсем не пьющая? — Евгений Павлович потряс перед ее носом узловатым пальцем. — Обижаете, обижаете. Может, все-таки опрокинете со мной рюмочку? Глаза его сделались уже мутными, масляно щурились на нее, и Лика догадалась, что человек этот, вероятно, начинает «опрокидывать рюмочки» с раннего утра. Сидит здесь, в этой огромной пустой квартире, некогда хорошо и дорого обставленной, поражавшей, должно быть, простых советских граждан номенклатурной роскошью. Теперь же пыльной, пропитавшейся запахом неопрятного, давно пьющего стареющего мужчины. Сидит и строчит свои никому не нужные заметки, давясь злобой на несправедливо выбросивший его за борт мир, ненавидя всех — более удачливых бывших коллег, сильную и влиятельную жену, правительство, бизнесменов, ученых… И к вечеру, наверно, доходит до кондиции, и, рассказав о постигших его несчастьях забрызганному зеркалу в ванной, заваливается спать.
Господи, неужели это он? Отважный путешественник из грез ее детства, который однажды приплывет за ней на каравелле, подхватит на руки и скажет: «Здравствуй, дочка!» И паруса захлопают на ветру, и зеленые волны будут весело плескаться в борт судна. Неужели это он поразил когда-то юную Оленьку, самую красивую девочку в классе, своим неиссякаемым весельем, остроумием, нездешней, несоветской красотой? Неужели это он сделал так, чтобы ни в чем не повинную маленькую девочку Лику так отчаянно и непримиримо с самого ее рождения возненавидела собственная мать? Золотой мальчик, слишком прекрасный, чтобы поселиться под одной крышей с грозной бабкой Нинкой, полуглухим контуженным дедом, круглоглазой Оленькой и яростно орущим уродливым младенцем. Отправился куда-то покорять Африку, бороздить океаны, открывать новые земли… Неужели это из-за него считала погубленной свою жизнь молодая Оленька? Разве может этот согбенный заплесневелый сморчок сломать хоть чью-то жизнь? И какое отношение это самое настоящее ничтожество, к которому и прикоснуться-то неприятно, может иметь к ней?
Итак, Женя Стрельников, сын высокопоставленного папаши, в середине шестидесятых, оставив беременную невесту, отправился в африканскую республику на стажировку при посольстве. Конечно, это он…
Между тем раздухарившийся после нескольких рюмок коньяка Евгений Павлович уже тащил к ней пухлую стопку закапанных мутными пятнами, отпечатанных на машинке листков.
— Вот, посмотрите, посмотрите, — настойчиво тыкал он ей бумаги, дыша в лицо тяжелым коньячным перегаром. — Работа проделана, прямо скажем, немалая. Не знаю, что наговорила вам обо мне Лариска — а от этой, с позволения сказать, женщины всего можно ожидать, — но значения моих трудов для современной науки даже и она отрицать не может. Взгляните!
— Хорошо, хорошо, Евгений Павлович, я после посмотрю, — пыталась отклониться от него Лика. — Уверена, это очень ценные заметки.
— Ну еще бы, — приосанился Рассказов. — Опыт-то за плечами немалый. В советское-то время я был известен, очень даже известен в своих кругах. Заслуг хватает. Да и сейчас есть еще люди, которые ценят, не забывают. Но мало, милая девушка, очень мало. Кругом-то, куда ни глянь, одна чернь, ничтожества, лицемеры, подхалимы. А у меня прадед-то был дворянин, чуть ли не царских кровей, кавалер ордена четвертой степени.
«Бред какой-то! — подумала Лика. — Допился вконец, старый маразматик!»
— Что в стране-то делается, а? Да вы и сами видите, наверно. Вы, виноват, где работаете, я запамятовал?
Он, не прекращая взволнованного монолога, хватил еще одну полную до краев рюмку.
— На телевидении. Вам же Лариса Николаевна говорила…
— Ах, да… Я-то, признаться, решил поначалу, что вас из института, с кафедры экономики развивающихся стран прислали… Я туда на днях подготовительные материалы к кандидатской заносил. Ну да ладно. С телевидения, значит? И что же у вас там, на телевидении, я думаю, тоже подонков хватает?
Лика неопределенно передернула плечами. Сказать ему? Что сказать? Здравствуй, папочка, как долго я тебя искала? Видишь, какая я стала взрослая и самостоятельная? А ведь говорили, что не доживу до семи лет… Может быть, если бы ты знал, что я такой вырасту, ты не сбежал бы тогда? Это ведь, возможно, назло тебе я выкарабкивалась из всех детских болезней, зубами цеплялась за жизнь. Папочка увидит, что я теперь совсем здоровая и такая послушная, такая старательная. Увидит и вернется. И мама перестанет пропадать где-то, успокоится, не будет плакать и кричать с бабушкой на кухне. И все мы заживем вместе, долго и счастливо. Может, все-таки сказать… сказать: «Спасибо тебе, папочка!»
— Послушайте! — вдруг резко перебила она снова пустившегося в излияния Евгения Павловича. — А вы не помните Ольгу Белову? Вы с ней были знакомы в юности, она… рассказывала мне о вас.
Рассказов обиженно поджал губы, досадуя, что его перебили, протер очки краем свешивавшейся со стола посеревшей скатерти, наморщил лоб.
— Белову, говорите? Нет, не припоминаю. А мы с ней по каким каналам были знакомы? По институту? Или по посольским делам? А может, через Ларису, жену? Как вы говорите, Ольга Белова? — Он пощелкал сухими пальцами. — Нет, к сожалению, ничего не всплывает… Вы уж не сердитесь, голубушка, но жизнь за плечами длинная, столько значимых встреч, столько пересечений…
— Ничего, — махнула рукой Лика. — Это неважно.
— А что хоть рассказывала вам знакомая эта, хорошее или плохое? — ощерился в любопытной улыбке Евгений Павлович.
«Это твой папа тебя бросил. Ему, оказывается, только здоровые дети были нужны. Он сына хотел, похожего на Мастроянни. А ты вот с такой головой родилась!» — вспомнился Лике истерический крик матери. «Кобель поганый, не захотел горбатиться на больного ребенка, слинял, вражина!» — вторил в голове ворчливый голос бабки. Господи, как странно это, как нелепо, что человек, явившийся причиной твоих самых глубоких, самых затаенных комплексов, и не подозревает о том, какую роль ему довелось сыграть в чьей-то жизни. Сидит, пьяно покачиваясь на табуретке, озлобленный, беспомощный, жалкий паук, щурит на тебя заплывшие глаза и не знает, ни о чем не подозревает… Какие копья ломались из-за него, какие вулканы шекспировских страстей извергались. Сколько неоправданных надежд, нелепых мечтаний, пустых фантазий. Сколько самых противоречивых представлений связано было с этой таинственной личностью, оказавшейся на деле самым обыкновенным спивающимся озлобленным неудачником.
— Так что вы слышали обо мне, милая девушка, плохое или хорошее? — пригнувшись, словно протягивая ладонь за подаянием, пролебезил Евгений Павлович.
И Лика, тряхнув головой, сбросив навалившийся на нее морок воспоминаний, ответила с улыбкой:
— Только хорошее, Евгений Павлович. Ольга Белова отзывалась о вас… с большим уважением.
Она поднялась с табуретки, сгребла со стола отпечатанные листки.
— Мне пора. Ваши труды я возьму, отвезу в экономический отдел. Как только будет какая-то информация, я с вами свяжусь.
— Сделайте милость, моя дорогая, — засуетился Евгений Павлович.
Он проводил Лику до прихожей, нетвердыми руками подал ей пальто. Затем хлопнул себя по лбу и потрусил куда-то в комнату, приговаривая на ходу:
— Ох, что ж это я. Совсем запамятовал…
Лика, уже одетая, маялась в коридоре, не чая уйти наконец из этого замшелого храма развенчанных фантазий. Рассказов появился из комнаты, держа в руках тонкую книжонку в бумажном переплете.
— Разрешите вам преподнести. Моя монография. Вышла пять лет назад. Правда, ограниченным тиражом… Но в наше время, когда забыты все светлые идеалы, а миром правит доллар, и это уже значительное достижение. Одну минуту, я сделаю дарственную надпись.
Лика тоскливо смотрела, как он шарил по внутренним карманам пиджака в поисках ручки, как опустился на табуретку, сгорбившись, неловко пристроив на коленке раскрытую книжку. В тусклом свете электрической лампочки на нее блеснула бородавчатая проплешина. Поднял голову, замигал на Лику желтыми растерянными глазами:
— Как мне к вам обратиться, не подскажете? «Дорогой…»
И Лика, проглотив сдавивший горло комок, усмехнулась:
— Напишите просто: «Случайной знакомой».
Прочь, прочь отсюда! Из этого склизкого, холодного, удушливого склепа.
И только выйдя на улицу, вдохнув полной грудью зимний воздух, она ощутила, как нечто тяжелое, много лет не дававшее распрямить плечи, давившее, делавшее ее хуже других людей, уходит, развеивается по морозному городу. Плечи распрямляются, дышится легче, и чувствует она себя абсолютно свободной.
Рассказовой она перезвонила через несколько дней. Лариса Николаевна отозвалась обычным своим резким, привыкшим повелевать голосом. — Это Лика, — представилась она. — Лариса Николаевна, я побывала у Евгения Павловича, отвезла его работы в экономический отдел, но, к сожалению…
— Совсем ерунда, так? — закончила за нее министерская железная леди.
— К сожалению, наших сотрудников они не заинтересовали, — постаралась выразиться дипломатичнее Лика.
— Ну что ж, мы с вами хотя бы попробовали, — шумно вздохнула Рассказова. — Попытка не пытка, верно ведь?
— Лариса Николаевна, у меня к вам будет просьба, — продолжала Лика. — Вы, пожалуйста, сообщите об этом Евгению Павловичу сами. Мне… мне не хочется больше с ним общаться… Хорошо?
9
Пресс-конференция шла своим чередом. Прибывший утром в Россию премьер-министр Израиля терпеливо и доброжелательно отвечал на вопросы многочисленных журналистов, и только по его глубоко запавшим глазам на посеревшем лице можно было понять, что этот матерый политик едва держится на ногах от усталости.
В зале, где проходила пресс-конференция, стоял монотонный раздражающий гул, то и дело мигали вспышки фотокамер. Стрекочущие вентиляторы не справлялись с духотой, и переводчик премьера изредка промакивал багровый лоб клетчатым носовым платком.
Желающих задать вопросы было много, и над толпой представителей прессы постоянно взмывали вверх руки пытающихся обратить на себя внимание газетчиков. Министр старался никого не обойти вниманием, по очереди кивал то одному, то другому журналисту, предлагая озвучить свой вопрос.
Лика и Саша стояли довольно близко от стола, за которым восседал израильтянин. Они явились на конференцию одними из первых и заняли выгодную позицию. Однако невесть откуда появившийся франт в светло-сером в тонкую голубую полоску костюме вскоре попытался оттеснить Лику назад и занять ее место. Импозантный седоватый представитель писательской братии пробивался вперед с напористостью танка, не забывая, впрочем, расточать направо и налево приветливые белозубые улыбки. Возмущенная этакой бесцеремонностью, Лика подалась вперед и, будто случайно, двинула наглеца острым локтем под дых. Незнакомец сипло вдохнул воздух, беспомощно огляделся по сторонам. Лика одарила его невозмутимой улыбкой и заняла полагающееся ей по праву место.
Конференция была в разгаре, и Лика вскинула руку, дожидаясь своей очереди задать вопрос. Саша уже направил на нее камеру, премьер поощряюще кивнул ей. Лика открыла было рот, собираясь заговорить, как вдруг услышала позади себя хорошо поставленный голос, громко спросивший по-английски:
— Господин премьер, как вы оцениваете сложившуюся на сегодняшний день обстановку на Ближнем Востоке?
Выслушав переводчика, министр пустился в пространные объяснения. Лика, задохнувшись от злости, обернулась и встретилась с все таким же любезным, хотя и выдающим скрытую издевку, взглядом журналиста. Да откуда только взялся этот наглый, невоспитанный хлыщ? Она быстро взглянула на болтавшийся на груди незнакомца бейджик — «Пирс Джонсон, «Москоу ньюс», США». Ах, вот оно что, значит, гость с запада!
Дождавшись, пока переводчик озвучит точку зрения премьер-министра на положение на Ближнем Востоке по-русски, Лика, окинув бравого америкоса уничижительным взглядом, звонко спросила:
— Не кажется ли вам, господин премьер, что США в сложившейся ситуации ведут себя бесцеремонно, можно даже сказать, по-хамски?
Саша удивленно вытаращил на нее глаза, израильтянин поморщился, выслушав такой неполиткорректный вопрос. Лика быстро сверкнула на Джонсона угрожающе сузившимися глазами через плечо. Кажется, ей удалось-таки стереть с холеной физиономии американца неизменную широкую улыбку. В его глазах ей удалось разглядеть неподдельный интерес, он взглянул на нее с невольным уважением.
Пресс-конференция закончилась, и Лика, довольная, что последнее слово все-таки осталось за ней, двинулась к выходу, пробираясь в толпе других журналистов. Уже в коридоре, оглянувшись в поисках замешкавшегося Саши, она снова увидела американца. Тот нагнал ее, обратился с подчеркнутой любезностью:
— Извините, пожалуйста. Мне кажется, я невольно обидел вас…
Он говорил по-русски хорошо, разве что слишком правильно, используя давно вышедшие из повседневного употребления обороты. Его речь могла бы принадлежать кому-нибудь из героев Льва Толстого, и забавно было слышать подобные реплики, вырывающиеся из уст пышущего здоровьем, гладколицего, благоухающего модным одеколоном пижона.
— Невольно? — вскинула брови Лика. — По-моему, вы прекрасно знали, что делаете.
— Но ведь и вы в долгу не остались? — съехидничал Джонсон.
— Не имею такой привычки, — отрезала она.
— Я в отчаянии, — сокрушенно покачал головой он. — Я вызвал немилость очаровательной женщины. Если бы я только знал, как загладить свою вину…
— Попробуйте искупить ее кровью, — с улыбкой бросила Лика.
И, подхватив под руку подоспевшего Сашу, быстро ушла вперед по коридору.
На следующий день Лика скучала на традиционной утренней летучке. Паша, бессменный руководитель отдела новостей, вещал что-то чрезвычайно правильное и не менее занудное. Лика в раздражении машинально рисовала ни листке бумаги скудный восточный пейзаж — пыльную дорогу, пологие горные вершины на горизонте, кружащий в безоблачном небе вертолет. В кабинет заглянул Саша. — Проходи, проходи! Мы уж и не чаяли тебя увидеть, пунктуальный ты наш, — съязвил руководитель.
Саша, кивая налево и направо, извиняясь, пробрался к столу, за которым сидела Лика, плюхнулся рядом, подсунув ей под нос газетный разворот.
— Поздравляю, мать. Прославилась! — буркнул он.
— В смысле? — не поняла Лика.
Она пробежала глазами напечатанные английские строчки, прочла: «Можно было бы сказать, что пресс-конференция с премьер-министром Израиля прошла в полном соответствии с ожиданиями, если бы не внезапный вопрос российской журналистки Элеоноры Беловой. Девушка выступила с резкой критикой политики США в отношении ближневосточного вопроса. Несмотря на принципиальное несогласие с точкой зрения Беловой по данному вопросу, нельзя не отметить, что ее откровенное и «неприглаженное» высказывание придало пресс-конференции неожиданную остроту». Лика быстро заглянула в конец статьи. Что ж, так и есть, заметка была подписана «Пирс Джонсон».
— Что он к тебе прицепился, этот америкос долбаный? — пробормотал Саша.
— Это он так приносит свои извинения, — с довольной улыбкой произнесла Лика.
Неизвестно почему, поступок вчерашнего случайного знакомца пришелся ей по душе.
В следующий раз они столкнулись на открытии модного ресторана в центре Москвы. Лика, не любительница подобного рода мероприятий, попала на шумное торжество почти случайно — у Тани, корреспондента светской хроники, неожиданно заболела дочь, и она позвонила, слезно умоляя Лику подменить ее в этот вечер. Лика прекрасно знала, что репортажи о чрезвычайных происшествиях, перестрелках и убийствах удаются ей куда лучше, чем отчеты о светских тусовках, но Татьяна так просила, что отказать она не смогла. Пришлось специально ехать покупать подходящее случаю платье, записываться на вечер в парикмахерскую, чтобы там хоть как-то уложили ее непослушные тяжелые волосы. И теперь, стоя посреди убранного темно-зеленым бархатом в золотых вензелях просторного зала на тонких каблуках и в черном платье с открытой спиной, она чувствовала себя неуютно. Саша успел уже метнуться к накрытым столам, стащить кусок пармской ветчины и теперь настраивал камеру, увлеченно жуя.
По залу фланировали приглашенные. Проплыла мимо известная актриса, поражая окружающих выставленными как на показ на лебединой шее немыслимо крупными бриллиантами. Прошел, расточая улыбки, женоподобный знаменитый певец, подметая пол за своей спиной лазурным шлейфом одеяния странного покроя. Едкий дым тонкой змейкой вился по полу, придавая этому сборищу зарождающихся и закатывающихся звезд, угрюмых бизнесменов и сладкоголосых политиков, неизвестно как пробравшихся на закрытую вечеринку профессиональных халявщиков, мистический и даже какой-то немного потусторонний вид. Лика хмыкнула и оперлась плечом о колонну.
— Че ты напряженная такая? — дернул Лику за плечо Саша. — Ща быстро отснимемся, пожрем и свинтим отсюда.
Небольшой оркестр заиграл джазовую мелодию. Гости расположились за столами. Застучали вилки, зазвенели тонкие бокалы. Лика присела за один из дальних столиков, ожидая, когда публика основательно наберется, для того чтобы можно было взять парочку интересных интервью, заснять несколько забавных эпизодов и покинуть светский раут. Кто-то интимно прошептал над ухом:
— Желаете шампанского?
Она обернулась и встретилась взглядом со знакомыми размыто-льдистыми глазами.
— Нет, благодарю. Я на работе, — недовольно отозвалась она.
— Разве такому профессионалу, как вы, опасно испить немного шампанского?
Он все-таки плеснул ей в бокал пенящейся золотистой жидкости.
— Откуда вы знаете, что я профессионал? — прищурилась Лика.
— Я смотрел ваши репортажи, — объяснил он. — Ваша персона очень меня заинтересовала.
Лика отвернулась, покачала пузырящийся в бокале напиток. Черт возьми, это было действительно приятно слышать. Если старина Пирс решил во что бы то ни стало расположить ее к себе, лучший способ трудно было избрать.
— Поэтому вы решили внести свою лепту в становление моей известности? — стараясь не выдать своих чувств, жестко спросила она.
— Лика, почему вы все время гневаетесь на меня, — поднял брови Пирс. — Я этого совсем не желаю.
— Гневаюсь… — расхохотавшись, повторила она.
Пирс недоуменно покосился на нее, затем отставил бокал, поднялся из-за стола и, галантно склонившись к ее руке, предложил:
— Разрешите пригласить вас на танец.
— Хочу вам напомнить, что мы оба тут по долгу службы, — попыталась было отказаться Лика.
— Ничего, служба не убежит, — заверил ее Пирс.
Они вышли на освещенную площадку. Джонсон уверенно повел ее в танце, прижав ладонь к обнаженной коже на ее спине. Другая его рука крепко сжимала ее пальцы. Ликин танцевальный опыт ограничивался почти забытыми занятиями по хореографии, которые посещала она когда-то в драматическом кружке. Вспомнилось, как учил ее двигаться легко и плавно, словно летя, гибко откидываться назад и выпрямляться, прекрасный принц Никита. Господи, как давно это было… Кажется, тогда у нее неплохо получалось, но ведь прошло столько лет. Тем более ей никогда не приходилось танцевать с почти незнакомым человеком на глазах у любопытно уставившейся на них публики. Что ж, оставалось лишь расслабиться и довериться уверенным движениям Пирса.
Усилием воли поборов панику, Лика принялась двигаться в такт, чутко слушаясь малейших движений Джонсона, и вскоре поняла, что взгляды, обращенные к ним, выражают не насмешку, а восхищение, порой даже зависть. «А мы, выходит, красивая пара!» — усмехнулась она.
— Почему вы засмеялись, когда я сказал «гнев»? — мягко спросил Пирс. — Разве я выразился неправильно?
— Да нет, правильно, — покачала головой Лика. — Просто несовременно. Сейчас так не говорят.
— А как? — не отставал он.
— Злость, ну, может быть, ярость… — объяснила Лика. — Я заметила, что у вас довольно старомодный русский, хотя и очень хороший. Почему так?
— Дело в том, что мои бабка с дедом были из России. Белоэмигранты, — пояснил он. — Конечно, в доме моих родителей уже не говорили по-русски, но бабуля сама со мной занималась. Мой русский — это ее русский. Язык, на котором здесь говорили в начале века.
— Что ж, это многое объясняет.
Лика взглянула на мужчину, который вел ее в танце, с невольным интересом. Так вот, значит, откуда эти странные обороты в его речи. Американец с глазами цвета вытертых джинсов, с квадратным ковбойским подбородком, словно сошедший с рекламного плаката, разговаривающий на языке Толстого и Чехова… Тут было чем заинтересоваться.
— Мне хочется познакомиться с вами поближе, Элеонора, — словно прочитав ее мысли, заявил он. — Я в России недавно и вряд ли пробуду здесь долго. Моя основная работа в «Нью-Йорк таймс», но я согласился на предложение поработать некоторое время в Москве, чтобы побывать на исторической родине, пообщаться с соотечественниками моих предков. Вы понимаете?
— Понимаю, — кивнула Лика.
Выходца из страны вечной брызжущей молодости потянуло к истокам, к древностям… Что ж, вполне объяснимо.
— Тем более интересно, если эти соотечественники еще и мои коллеги. И такие талантливые коллеги. Такие очаровательные…
Музыка кончилась, и он склонился перед ней в почтительном поклоне и предложил руку, провожая обратно к столу. Положительно, этот ковбой на деле оказался не таким уж невоспитанным мужланом.
— Разрешите, я предложу вам мою визитку. — Он вложил ей в руку твердую глянцевую карточку. — Может быть, мы могли бы встретиться с вами в более непринужденной обстановке? Побеседовать? Обменяться опытом?
— Я думаю, в этом нет ничего невозможного, — улыбнулась Лика, невольно подлаживаясь под его чопорную старомодную речь.
В зал неожиданно ворвался исчезавший куда-то Сашка, поискал глазами Лику и, увидев ее, кинулся напролом, не обращая внимания на испуганно расступающихся танцующих.
— Ты что так мчишься, керосину выпил? — обернулась к нему Лика.
— Рванули быстрее! — дернул ее за руку оператор. — Я сейчас на студию звонил. Только что застрелили Мальцева!
10
К подъезду недавно выстроенного элитного дома на набережной Москвы-реки уже съезжались автомобили с логотипами телекомпаний. Освещенная вечерними огнями набережная превратилась в сплошную гудящую и визжащую тормозами автомобильную пробку. Из неповоротливой белой «Газели» выскочили лихие ребята с телекамерой наперевес и прямо по аккуратно подстриженному газону бросились к двери, возле которой бродили люди в милицейской форме.
Саша затормозил у обочины, под весело мигавшим в темноте рекламным щитом, с которого белозубо улыбалась довольная жизнью блондинка, и Лика, не дожидаясь, пока он выключит зажигание и вытащит камеру, быстро хлопнула дверью и решительно направилась к дому.
— Девушка, вам не стоит туда ходить, — произнес молоденький лейтенант, неуверенно покосившись на глубокое декольте черного вечернего платья.
— Элеонора Белова, специальный корреспондент службы новостей первого канала. — Лика махнула перед носом блюстителя порядка удостоверением и, досадуя на свой нелепый вид, вошла внутрь.
В темноте подъезда то и дело мигали вспышки фотоаппаратов.
— Не толпитесь, товарищи, не создавайте давку, расходитесь, — командовал суровый капитан, пытаясь разогнать сгрудившихся у лестницы журналистов.
В стороне, у застекленной будки консьержки, всхлипывала дородная женщина с обесцвеченными короткими кудрями. Лика быстро направилась вперед, протиснулась к основанию лестницы. Здесь, нелепо подломив под себя левую ногу, запрокинув седую голову, лежал застреленный певец и бизнесмен Вадим Мальцев.
В детстве Лика часто видела этого вальяжного породистого мужика с темными, будто чуть влажными глазами, по телевизору. Мальцев, томно покачивая станом, вразвалочку передвигался по сцене, распевая про несчастную вероломную любовь, и в особо патетических моментах стискивал в руках микрофон. Бабка Нинка, прочитав в программе про концерт любимого певца, обычно устраивалась в вытертом кресле перед телевизором и два часа слушала завывания волоокого детины, покачивая в такт головой.
В девяностые Мальцев вложил накопленные за годы выступлений в качестве первого соловья Советского Союза средства в собственный бизнес. Вместе с приятелем выкупил какую-то провинциальную кондитерскую фабрику, медленно издыхающую с самого начала перестройки, и за считаные годы превратил ее в современное производство элитных десертов. Как ни удивительно, деловой талант голосистого покорителя женских сердец оказался ничуть не слабее певческого. В последнее время Мальцев уже не завершал одной из своих душещипательных баллад шумные эстрадные концерты, так как недавно обретенный статус депутата не позволял ему продолжать такую легкомысленную деятельность.
Теперь же этот крепкий и представительный пятидесятилетний мужчина лежал на вымощенном мрамором полу собственного подъезда, разметав по нижней ступеньке лестницы серебристо-седую гриву. На белой рубашке расплывалось бесформенное пятно, второе темнело на виске.
Появившийся за Ликиной спиной Саша, прищурив глаз, направил объектив камеры на труп и с циничным смешком буркнул вполголоса:
— Погиб поэт, невольник чести… Как думаешь, мать, дуэль?
— Ну конечно! — фыркнула Лика. — Мы с тобой, дружище, столько уже этих потерпевших засняли, что я не хуже любого Шерлока Холмса картину убийства определить могу.
— Ну и что думаешь? — осведомился Саша.
— Заказуха, к гадалке не ходи, — уверенно установила Лика. — Видишь, контрольный в голову…
— Угу, — кивнул Саша. — Так и есть. Киллера прислали. Интересно, кому это помешал старый ловелас?
— Сейчас попробуем узнать.
Лика оглянулась, сделала знак Саше и направилась прямиком к всхлипывавшей у стены белокурой толстухе.
— Добрый вечер! — Она представилась.
Женщина, испугавшись было следящей за ней трескучей телекамеры, все-таки прониклась к участливо кивающей ей Лике доверием и принялась рассказывать:
— Я консьержкой тут работаю. Как дом сдали, так и устроилась. И за все время ни одного нарекания, всегда я здесь, все жильцы меня любят. Только вот сегодня оплошала. — Она принялась тереть щеки замызганным носовым платком. — Сидела я на посту, а тут Николай Иваныч спускается, из шестой квартиры. И говорит… Меня все жильцы по имени знают… Так вот и говорит он: «Любочка, поднимись ко мне, голубушка, на минуту. У меня подарок есть для твоей внучки». Внучка ведь у меня родилась в прошлом месяце. А Николай Иванович уж такой внимательный, заботливый, ведь как запомнил, а? Ну я и ушла с поста, думала — что случится за десять минут? Поднялась к нему да и засиделась. Пока чаю с хозяйкой выпила, пока про малышку порассказала. Спускаюсь, и гляжу — свет-то в подъезде не горит. У меня так сердце и упало, чую, беда стряслась. И вот внизу, у ступенек, на него, родненького, в темноте и наступила. Господи, горе-то… — Плечи ее мелко затряслись, и Любочка снова уткнулась в платок.
— Любочка, а Николай Иванович — это… — все так же проникновенно заглядывая убитой горем консьержке в глаза, не отставала Лика.
— Да жилец наш, Николай Иванович Ефременко. Он еще так дружил с Вадимом Андреичем, покойным… — женщина всхлипнула.
К Лике уже спешил усатый милиционер, делая на ходу размашистые знаки руками и грозно сдвигая брови:
— Вы по какому праву?.. Кто давал разрешение на допрос свидетелей?..
— Валим отсюда, — скомандовала Лика Саше.
И через минуту Сашин видавший виды дребезжащий «жигуль» уже несся по темным улицам осенней Москвы. Лика зябко запахнула на груди тонкое пальто, единственное, подходившее к проклятому вечернему платью, которое ее угораздило надеть именно в этот вечер, пошарила в плоской маленькой сумочке, извлекла на свет измятую сигаретную пачку, выругалась:
— Черт возьми, и как это все леди таскаются с этими конвертиками. Ни хрена в них не лезет.
Она закурила, выпустила в приоткрытое окно струйку белого дыма.
— Леди не таскают за собой кучу барахла. Обходятся надушенным носовым платочком, — хохотнул Сашка.
— Не знаю, как это им удается, — передернула плечами Лика. — Слава богу, мне до леди, как до луны пешком!
Они помолчали, глядя на убегающую под колеса темную в выбоинах ленту дороги. Слегка моросило, и по лобовому стеклу время от времени синхронно скользили дворники.
— Слушай-ка, а Ефременко — это как раз тот самый закадычный дружбан и бессменный компаньон Мальцева? — задумчиво спросила Лика, глядя в темноту.
— Кажется, да, — неопределенно ответил Саша. — А тебе-то это зачем?
— Занятно… — протянула Лика, выдыхая дым из ноздрей. — Занятно, что ему именно в этот вечер пришло в голову вручить преданной Любаше подарок для внучки. Потрясающее совпадение, а? Как считаешь?
Она метнула на Сашу исполненный проницательности взгляд. Тот усмехнулся в бороду:
— Тебе-то что? Или решила журналистское расследование замутить, а? Признавайся!
— А почему бы и нет? — воинственно отозвалась Лика. — А то наша доблестная милиция сам знаешь как работает. Можно голову дать на отсечение, что заказчика они не найдут. А для меня, опять же, новый неизведанный опыт, — улыбнулась она.
— Опасно… — скривил губы Саша. — Ввяжешься не в свое дело и получишь по кумполу ни за что.
— А мне, дружище, к опасностям не привыкать, я ж бывший военный корреспондент, — засмеялась Лика. — Да и бояться мне особо нечего. Ну дадут по кумполу, ну одной прекрасной журналисткой меньше, родина вряд ли от этого пострадает. А плакать по мне некому, это у тебя дома семеро по лавкам…
— Как знаешь, — добродушно отозвался Саша. — Я ж чую, если ты вбила себе что в голову, с тобой спорить бесполезно.
— Вот в этом ты прав, брат, в этом ты прав! — хлопнула его по плечу Лика.
И она действительно ввязалась в собственное расследование убийства Мальцева, сама не вполне себе отдавая отчет, зачем это нужно. Не то чтобы ей особенно дороги были детские воспоминания о гипнотизирующем темными глазами с экрана телевизора певце. И не так уж остро желалось наказать подлого убийцу. Просто почему-то уцепилась еще в тот, первый, день за слова рыдающей консьержки, задумалась, заинтересовалась. А затем, по верному выражению Саши, не могла уже добровольно бросить захватившее ее дело. Почти два месяца она, как натренированная ищейка, шла по следу. Каталась в область, на фабрику Мальцева и Ефременко, расспрашивала управляющего, беседовала со спонсорами, с рекламодателями и даже с простыми рабочими. Вызнавала, вынюхивала, собирала материал. Вскоре ей известно уже было обо всех разногласиях между совладельцами компании, о контракте с западной фирмой, который Ефременко очень хотел подписать, да только вот Мальцев, непонятно почему, уперся рогом. Пока что все складывалось как нельзя убедительнее: деловые партнеры не сошлись во мнениях, один сориентировался быстрее и решил дело простым испытанным способом: нет человека — нет проблемы.
На всякий случай она встретилась все же и с женой погибшего, немолодой холеной дамой, с которой Мальцев недавно отметил серебряную свадьбу, и с его последней любовницей, длинноногой зеленоглазой манекенщицей из модного модельного агентства. Жена явно о похождениях своего благоверного знала и всю жизнь смотрела на них сквозь пальцы — что поделаешь, звезда эстрады, лишь бы деньги в дом носил, а там пусть путается с кем хочет. Моделька же попросту моргала накрашенными глазами и заливалась серебристым смехом в ответ на любые вопросы. Нет, версию убийства из ревности, кажется, можно было отмести. А вот с закадычным другом Мальцева стоило разобраться более обстоятельно.
Ефременко объявился сам, позвонил ей, назначил встречу, попросил подъехать в его офис. Откуда только телефон раздобыл? Контора оказалась расположена в тихом дворике в одном из переулков неподалеку от Малой Бронной. Лика, ругаясь шепотом, пробиралась к недавно отремонтированному старинному особняку, перепрыгивая через подернувшиеся тонкой коркой льда лужи. Стояла уже середина ноября, над Москвой висели ранние грязно-серые сумерки. Окрестные дома подслеповато таращились на девушку тускло освещенными окнами. Во дворе офиса неопрятная черно-серая ворона деловито клевала на асфальте осыпавшиеся ягоды рябины. Она покосилась на Лику круглым блестящим глазом и угрожающе каркнула, словно предупреждая — не тронь, мое!
Ефременко вышел встречать ее на порог своего просторного, уставленного дорогой кожаной мебелью кабинета. Лике он, в общем, даже понравился — умные водянисто-серые глаза на худом усталом лице, глубокие складки у тонких сжатых губ, седой пушистый ежик на голове, со вкусом подобранный светло-серый костюм не имел ничего общего с аляповатой униформой современных хозяев жизни. Ни дать ни взять — серый кардинал зарождающегося бизнеса.
Он провел ее в кабинет, усадил в мягкое кресло, предложил кофе.
— Так, значит, вы и есть та отважная журналистка, которая собирается засадить меня в тюрьму за убийство лучшего друга? — Серые глаза быстро зыркнули на нее и тут же снова подернулись дымкой сдержанной доброжелательности.
— А Мальцев действительно был вашим лучшим другом? — с притворной скромностью склонила голову к плечу Лика.
Ефременко усмехнулся, посмотрел куда-то поверх ее головы.
— Мы ведь выросли в одном дворе, на Таганке… Вы не знали? Да, шпана московская… Голубей ловили на чердаках, загоняли на «птичке» по рублю… Потом судьба разметала, конечно. Вадьку — перед генсеком в Кремле выступать, меня — на лесоповал, сучки рубить…
— Так вы, значит, бывалый сиделец? — подняла брови Лика.
— А как же, — добродушно закивал Николай Иванович. — Любимая советская статья — экономические преступления. Можно сказать, повезло. В федеральном-то был по мокрому, шили двойное убийство. Да мусора, дурачье, доказать не смогли, я их, как шмар последних, по три рубля баночка купил.
Вышколенная молчаливая секретарша принесла Лике густой крепкий кофе в крохотной чашке такого тонкого фарфора, что страшно было сильно сжать ее в пальцах. Девушка пригубила напиток, внимательно посмотрела на собеседника. Мог ли такой человек, как Ефременко, хладнокровно отдать приказ застрелить ставшего поперек дороги друга детства? Вот он сидит тут, сама любезность, сама элегантность, прямо-таки лицо современного российского бизнеса. Но что-то проскальзывает в светло-серых глазах, в отточенных резких движениях — что-то от матерого уркагана-рецидивиста, со словом которого некогда считался даже бесстрашный начальник зоны.
И этот спектакль, который он разыгрывает перед ней, изображая из себя участливого дядюшку, может обернуться кровавой развязкой. И нетрудно догадаться, кому придется погибнуть в финале.
Словно угадав ее мысли, Ефременко чуть отвернулся, тоскливо уставился в окно, за которым медленно кружились в промозглом воздухе первые в этом году снежинки, и проговорил, не глядя на Лику:
— Старых друзей терять очень больно, Лика, уж поверьте. Тем более когда речь идет о друзьях детства, с которыми, как говорится, пуд соли… Принять решение, осознать, что ваши дороги разошлись и вам больше не по пути, не так-то просто. Но иногда это решение оказывается единственно верным, вы понимаете? Однако это не значит, что за него не приходится расплачиваться, хотя бы и перед собственной совестью. Годы-то наши уже не те, — совсем печально добавил он. — Уходят друзья, остается только память…
Он резко обернулся и впился в Лику мгновенно сузившимися, ставшими холодными и проницательными глазами. Вот на кого он похож, этот воротила современного бизнеса, на старого клыкастого матерого волка!
— Николай Иванович, а зачем вы меня пригласили? — справившись с невольной оторопью, прямо спросила Лика.
«Неужели хотели покаяться?» — просились на язык слова, но она решила, что шутить с этим хищником в его логове может быть слишком опасно.
— Зачем? Просто хотелось на вас посмотреть, — с неожиданным задором отозвался Ефременко. — И себя показать. — Он вдруг резким движением распахнул рубашку, обнажив впалую туберкулезную грудь, расписанную куполами. Наверху, у самого кадыка, все это великолепие венчала трехзубая корона. Лика, впечатленная открывшейся ей живописью, попятилась к двери.
— Вот, что со мной Ро-о-одина сделала. А ведь какой в детстве был! Голубей любил, птичек… Каждую тварь. В небо запускаешь, а она летит себе… — с романтическим прищуром, нараспев, заключил Ефременко. — Видать, хорошо этой твари-то в небе летается. Но, как говорится, рожденный ползать, летать не может.
И он двинулся на Лику, картинно ссутулив плечи, наклонив вперед голову и прищурив левый глаз. И ей на секунду даже показалось, что в выставленной вперед правой руке блеснуло лезвие ножа.
— И еще… хочу дать тебе совет, овца бесстрашная. — Глаза его снова сверкнули из-под полуопущенных век и тут же погасли. — Первый и последний. Не суйся не в свое дело. А то, вишь, личико-то у тебя какое мраморное, жаль будет, если губы на уши нятянут.
И Лика почувствовала, как утробный ужас сковывает ее тело, как немеют пальцы ног. И в то же время где-то внутри клокотало возмущение. Да что он себе позволяет, старый уголовник! Грозить ей вздумал? Ждет, что она испугается, начнет оправдываться, обещать, что уничтожит весь собранный материал? Да это он должен ее бояться, а не она его! Это у нее в руках достаточно материала, чтобы отправить его обратно сучки рубить.
— Благодарю за совет, — запальчиво произнесла она. — Но я все-таки считаю, что за свои решения человек должен отвечать не только перед собственной совестью, но и перед законом. Всего доброго!
Она бросилась к выходу из кабинета, уже в дверях услышала прозвучавшее за спиной тихое напутствие:
— Ну лети, лети, ласточка. Семи смертям не бывать, а одной не миновать…
Скатившись по лестнице, не чуя себя от страха, Лика выскочила на улицу, жадно вдохнула холодный осенний воздух. Метнувшийся в лицо ветер освежил ее, успокоил, унял сдавивший грудь ужас. Она медленно пошла по изломанным центральным улочкам, уже укрытым опустившейся на город темнотой. На скамейках у Патриарших жались друг к другу парочки, взрывались смехом шумные студенческие компании. Мигали во влажном дрожащем воздухе размытые пятна фонарей. Лика выставила вперед руку, и в раскрытую ладонь опустилась ажурная снежинка. Почему-то вспомнилось, как они с Андреем бежали вниз по Тверской, именовавшейся тогда улицей Горького, хохоча и перебрасываясь небрежно слепленными снежками. Удивительно теперь вспоминать то время как беззаботное, безоблачное, хотя и тогда жизнь казалась состоящей из гнетущих нерешаемых проблем. Неужели уровень эмоций, заложенный от рождения в нашей душе, всегда остается неизменным, лишь причины, вызывающие ту или иную реакцию, становятся все более концентрированными. И двойка, полученная в пятом классе, вызывает такой же, ничуть не меньший, взрыв отчаяния, который испытываешь через годы, переживая предательство друга. Кто бы мог знать, что когда-нибудь она сможет спокойно возвращаться домой, любуясь неярким московским пейзажем, сразу после встречи с человеком, фактически признавшимся ей в убийстве своего лучшего друга и разыгравшим перед ней скоморошью сцену, единственной целью которой было запугать ее до смерти.
На Арбате суетились художники, прикрывая полиэтиленовыми полотнищами выставленные картины. Из темной подворотни гремели аккорды расстроенной гитары и выводили что-то сиплые голоса. Лика быстро прошла по начинающей покрываться льдом брусчатке, свернула в нужный переулок. Во дворе, где она жила уже три года, было на удивление тихо — ни блестящих иномарок под переливающейся огнями вывеской казино, ни сплетничающих на скамейке бабок-соседок, которых до сих пор еще не удалось выжить из дома толстосумам, желающим переместиться ближе к центру. Даже дворовая кошка Маруся, вечно отправлявшаяся по ночам устраивать свою запутанную личную жизнь, на этот раз не попалась ей на пороге. Темнота и безмолвие.
Лика вошла в подъезд, споткнулась о ступеньку лестницы, чертыхнулась. Интересно знать, кто это с завидной регулярностью выкручивает в их доме лампочки? Древние бабки жаждут интимной обстановки или новые жильцы, солидные деловые люди, предпочитают прятаться в тени?
Она скорее почувствовала, чем услышала, какое-то смутное движение у стены. Мгновенное колебание воздуха, незнакомый запах чужого человека. В ту же секунду пробудился, казалось, забытый, угасший инстинкт, некогда выручавший на пустынной афганской земле — напряглось, сжалось в стальную пружину тело, лихорадочно заработал мозг, отыскивая варианты спасения. Сбить его с толку, запутать, поднять шум…
Лика молниеносно метнулась в сторону, заорала изо всех сил:
— Пожар! Пожар! Помогите!
Невидимый противник настиг ее в темноте, перехватил, обдавая запахом дешевого табака, зажал рукой рот. Она захрипела, отчаянно сопротивляясь, ощутила, как на шее цепкой хваткой сжимаются пальцы. В ушах зазвенело, в висках горячо застучала кровь. Она успела еще услышать, как заворочался замок в двери соседки бабы Риты, как заворчал недовольный старческий голос:
— Кто это у нас тут безобразит на ночь глядя?
А затем что-то тяжелое, холодное ударило в висок, и все стихло.
11
Все было так непросто, так муторно, так больно. Иногда, словно выныривая из адового кромешного сна, Лика приходила в себя и отчетливо понимала, где находится, но это понимание странным образом никак не влияло на ее сознание, никак не отражалось в казавшихся теперь бездонными кошачьих глазах. Никакая тень сомнения, упрека, сожаления не портили этого мраморного лица, обрамленного глухой марлевой медицинской повязкой. Только изредка забегавшие в ее реабилитационную палату врачи-интерны сокрушенно качали головами. Молодая, похожая на попавшего в беду эльфа, пациентка никак не желала выкарабкиваться. Вот уже пошел своими ногами Петька-сантехник, получивший тяжелое ножевое ранение в пьяной драке месяц назад. Никто и не надеялся на такой исход, а пропитой, исколотый капельницами и увенчанный прикрепленными к нему приборами Петька встал и пошел. «Воля к жизни», — судачили хирургические сестры. А эта несносная журналисточка лежит себе, от еды не отказывается, но почти всегда поднос ее не тронут, и, похоже, пора кормить ее внутривенно, дальше уже как пойдет.
Лике ежедневно кололи обезболивающие, но ее рассудок не мутился, не забирала ее в светлые грезы морфиновая круговерть, и в этом была ее беда. Журналистка Белова долгими днями лежала, лишь изредка проваливаясь в тяжкий сон-морок, уставившись в одну точку, а именно — в лазоревое небо за окном, как будто стараясь найти там ответы на мучающие ее вопросы.
У Лики неожиданно появилось много времени на размышления, но ее вовсе не беспокоила мысль о том, что при ее былом диагнозе получить черепно-мозговую травму средней тяжести — не самая лучшая перспектива. С неутешительными прогнозами она научена была смиряться с самого детства. Именно здесь, на больничной койке травматологического отделения института имени Склифосовского, Лика вдруг отчетливо поняла, что ей не для кого, да и вообще незачем больше жить. Все закончилось, оборвалось необыкновенно стремительно, но, наверное, так всегда и бывает. Так заканчивается любая, наполненная бессмысленными, в конечном счете никому не нужными, никому не приносящими пользы событиями, жизнь. Непутевая жизнь, как выразилась бы бабка Нинка. В самом деле, к чему все это было затеяно небесами — сам факт ее злополучного рождения, тяжелое детство, скорая потеря любимых людей? Ее постоянное стремление обмануть судьбу, доказать всем и вся, что она не хуже других, а, возможно, даже и лучше?
Она, девочка с многообещающим диагнозом, а затем девушка — военный журналист, теперь вот женщина, на любовь которой никто ни разу не ответил, никто не подал руки, никто не избавил от этих изводящих ее многие годы кошмаров. Зачем, зачем все это придумали небеса, и какие уроки она должна была усвоить в случае, если ее жизнь чему-то учила, постоянно наказывая и отбирая?
И те короткие моменты счастья, радости, когда она чувствовала себя по-настоящему живой, человеком, женщиной, отчего-то совсем не тянули ее за собой, возвращая к жизни, а всплывали в памяти какими-то блеклыми, скучными эпизодами… Для чего все это было — прекрасный принц Никита, бросивший ее одну в замерзшем поселке, друг юности Андрей, решивший подзагулять на забытой родине от беременной жены и с этой целью воспользовавшийся ее доверчивостью? Вся эта ее суета, бег белки в колесе — зачем? Кому это все было нужно? Определенно никому, и прежде всего ей. Она — лишняя, теперь к тому же отработанный материал. Самое время уйти. Исчезнуть. И даже не царственно и торжественно удалиться, поскольку ее и не хватится никто, а именно исчезнуть, будто ее и не существовало вовсе.
Лика все вглядывалась в зимнее небо, казавшееся ей теперь символом вселенского предательства, вот оно — поманило и бросило, вскружило в детстве голову самолетами, рассекающими его бесконечный простор, оставляющими за собой воздушные ребристые шлейфы… Все это теперь казалось пустой, набившей оскомину декорациией.
В палату незаметно вошла пожилая сердобольная медсестра и о чем-то участливо осведомилась. Лика не ответила, покорно прикрыла глаза. Медсестра сделала еще один обезболивающий укол и со вздохом притворила дверь палаты. Лика провалилась в забытье.
Снег все сыпался и сыпался с провисшего меж тонких голых ветвей ватного неба. Порывами набегал ветер, взметая снежную шелуху, бросая горстями в лицо, заставляя жмуриться и прикрывать глаза рукой. Ноги вязли в сугробах, и идти вперед не было никакой возможности. Но Лика знала, идти нужно. Сдаться, упасть в такой мягкий, такой манящий снег, свернуться клубком, уснуть — это смерть. Надо было во что бы то ни стало пробраться вперед, туда, где чернел на покосившихся деревянных ступенях мужской силуэт. Лика шагнула вперед, нога завязла в снегу, она потеряла равновесие и рухнула, едва успев выставить руки. Подняться не было сил, и Лика, пытаясь ползти, выплевывая изо рта кислый снег, отчаянно закричала, в надежде привлечь к себе внимание отвернувшегося мужчины:
— Андрей!
Поначалу она и сама удивилась имени, сорвавшемуся с ее губ. Разве это Андрей? Разве не Никита ждет ее на крыльце чужой дачи? Лица его не видно, да и общий облик невозможно разглядеть за укутывавшей все вокруг белой пеленой. Но уже через секунду она точно знала, чувствовала всей кожей — конечно, это Андрей, не может быть никто другой.
— Андрей! — собрав все силы, крикнула она.
Человек обернулся, прищурился и протянул к ней руку.
— Белова, к тебе! — объявила дюжая мужеподобная санитарка, заглянув в палату. Лика провела рукой по лицу, пытаясь стряхнуть тяжелый, мутный сон, подтянувшись на локтях, приподнялась на кровати, прислонилась к металлической спинке. Потом ощупала марлевую повязку на голове. Ну и вид у нее, должно быть, прямо-таки только что прооперированный Шариков. Правильно, ее же лишь вчера перевели в общую палату, как еще она должна выглядеть? Сашка забегал утром, обещал, что приведет делегацию сочувствующих из Останкино, но ближе к концу недели. Сегодня она никого не ждала. Вот если только… Если только это Андрей материализовался из ее сна, ощутил каким-то особым чутьем, что ей плохо, и примчался спасать.
Дверь палаты приотворилась, сердце подскочило и стукнулось о ребра, и в помещение вдруг вошел Пирс Джонсон, смешной в нелепо сидящем на его широкоплечей фигуре белом халате.
— Пирс! Какой сюрприз! — Лика попыталась скрыть разочарование.
Впрочем, американец, кажется, даже и не подумал, что она ждала кого-то другого. Он поискал глазами, куда присесть, пододвинул к Ликиной кровати покосившийся деревянный стул и устроился на нем. Соседки по палате, еще секунду назад шумно обсуждавшие очередную серию латиноамериканского мыла, притихли и восхищенно воззрились на появившееся в комнате голубоглазое, душистое чудо. Подумать только, живой американец, глянцевый, словно сошедший с рекламы «Мальборо». И к кому бы вы думали? К этой тощей, себе на уме коротышке с пробитой башкой.
— Здравствуйте, Элеонора, как ваше самочувствие сегодня? Все еще недомогаете? — участливо осведомился Джонсон.
— Ничего, уже лучше, спасибо, — улыбнулась Лика и добавила тихо, кивнув на затаивших дыхание соседок: — Давайте перейдем на английский.
— Охотно! — отозвался Пирс.
Он внимательно всмотрелся в ее бескровное лицо светло-голубыми, будто выгоревшими, глазами и спросил по-английски:
— Значит, ваше журналистское расследование закончилось крахом?
Лика нахмурилась. Казалось бы, Москва — огромнейший город, а слухи распространяются с такой быстротой, словно это деревня в три двора. Стоит ли удивляться, что итогом ее двухмесячной работы стало нападение в темном подъезде, если каждая собака в городе знала, что она что-то расследует. А теперь, конечно, вся эта лицемерная братия уже, потирая ручки, ожидает трагической кончины жертвы криминальных разборок. И, сочувственно качая головами, притворно вздыхает: «Ай-ай-ай, смелая была девушка. Ведь говорили ей, не ввязывайся, а вот не послушалась. А впрочем, что ей, все равно одна-одинешенька». Так нет же, не бывать этому! Думаете, я сдалась, опустила пробитую голову? Как бы не так! Карнавала не будет, я с юности разлюбила всякие театральные действа.
— Смотря что считать крахом, — хмуро буркнула она.
— Думаете, вам удастся призвать негодяя к ответственности? — Пирс вскинул брови.
— Теперь, может быть, и удастся. Со мной у него неувязка вышла, я живучая. И молчать, конечно, не стану.
Джонсон неуверенно покачал головой, заметил, грустно усмехнувшись:
— Вы, мисс Элеонора, удивительно отважная и ммм… наивная леди. Никогда не сдаетесь. А я, признаться, не очень верю в то, что преступника покарают. А потому считаю, что оставаться в Москве после случившегося вам просто опасно.
— Опасно? — вытаращила глаза Лика. — Да вы в своем уме? Москва — мой родной город, что здесь для меня может быть опасного?
Пирс подался вперед и накрыл ее руку своей ладонью. Лика невольно отметила, что ногти на его пальцах очень ровные и блестящие, будто отполированные. Да, в плане маникюра холеный американец может дать ей сто очков вперед.
— Этот каторжник… как его… Ефременко, конечно, не отступится от своего плана, если поймет, что вы продолжаете расследование. Один раз вам повезло, и убийца не успел применить оружие, но во второй раз он может оказаться проворнее.
Лика неожиданно вспомнила острый запах опасности, стоявший в темном промозглом подъезде, обтянутые перчатками стальные пальцы, мертвой хваткой сжимающие ей горло — и в груди снова поднялся мутный липкий ужас.
— Что же вы мне предлагаете? — невольно передернув плечами, спросила она. — Бежать в Нижний Тагил?
— Уехать со мной в Штаты, — просто ответил Джонсон.
От неожиданности Лика даже рассмеялась, затем захлебнулась смехом, закашлялась. Он что, делает ей предложение руки и сердца? Довольно необычный антураж он для этого выбрал — больничная палата и четверка навостривших уши любительниц телевизионных сериалов.
— Это в каком же качестве? — подавив смех, серьезно осведомилась она.
Ей-богу, если он сейчас скажет «в качестве моей законной супруги», она не выдержит.
— В качестве журналиста, конечно, — как само собой разумеющееся пожал плечами Пирс. — Вы можете продолжать работать на первом телеканале как специальный корреспондент в Нью-Йорке. Я же, в свою очередь, буду рад привлечь вас к работе в «Нью-Йорк таймс». Я ведь говорил вам, что интересовался вашими сюжетами, и мне показалось, что мы могли бы неплохо сработаться. Так что не думайте, что я занимаюсь благотворительностью, это не в моих правилах. Я делаю вам взаимовыгодное предложение.
Пирс растянул губы в открытой, нарочито бесхитростной улыбке. Лика наморщила лоб, потерла пальцем переносицу. Такого поворота она и правда не ожидала. Что ж, это предложение интересно ей куда больше, чем перспектива стать миссис Джонсон. Правда, она не собиралась никуда уезжать из Москвы только потому, что ее до смерти напугал какой-то замшелый уголовник. Да кто он такой, в конце концов, чтобы заставить ее бежать?
— Спасибо, Пирс, это очень интересное предложение, — отреагировала она наконец, — но я постараюсь все-таки довести это дело до конца.
Джонсон развел руками.
— Мне кажется, вы совершаете ошибку, мисс Элеонора, — тихо заметил он.
— Пожалуйста, зовите меня Лика, — отозвалась она. — Я имя Элеонора терпеть не могу.
— Лика, — с трудом повторил он. — У вас, русских, очень странная манера сокращать имена… Лика… Вы все-таки подумайте, я пробуду в Москве еще месяц.
Он поднялся со стула, взялся за оставленный на полу плоский черный портфель.
— О, чуть не забыл. Я принес кое-что, чтобы вы не скучали.
Он поставил портфель на колено, расстегнул молнию и извлек на свет блестящий черный ноутбук. Лика чуть не вскрикнула от радости. Такой роскоши она позволить себе не могла, видела только у кого-то из телевизионного начальства. А здесь, в больнице, это ведь просто спасение — можно будет не лежать целый день тюленем, выслушивая пустой треп пациенток, а заняться делом, кое-что набросать, доделать старые статьи. И как он только догадался, этот Пирс Джонсон! Нет, определенно, с этим человеком приятно было иметь дело.
— Огромное спасибо, Пирс, — снова переходя на русский, просияла она. — Не знаю, как вас и благодарить!
Соседки, казалось, сейчас шеи посворачивают, пытаясь углядеть, что же это за чудо заморское приволок побитой журналистке американский красавец.
— Не стоит благодарности, — чуть наклонил голову Пирс и уже у двери обернулся. — Занесите это в счет ваших будущих гонораров, дорогая мисс Лика. Позвоните мне, если соблаговолите принять мое предложение.
Глаза следователя Судакова были тусклыми и сонными. Казалось, он невыносимо скучал, выслушивая Ликины показания. Ей уже разрешили вставать с постели, и следователь, явившийся в больницу, настоял, чтобы их проводили в отдельный кабинет для беседы с глазу на глаз. И вот теперь, сидя в процедурной, среди фанерных белых столов и шкафчиков, пробирок и пузырьков, жестяных банок непонятного предназначения, Лика снова переживала произошедшее ночью в подъезде. Судаков, вяло кивая, выслушал ее рассказ, черкнул что-то в блокноте и поднял на Лику глаза, налитые хронической усталостью.
— А с чего вы взяли, что это был киллер? — протянул он. — С чего вы взяли, что он хотел в вас стрелять? Вы оружие видели?
— Да как же… — задохнулась Лика. — Я ведь вам рассказала про разговор с Ефременко. Ведь он откровенно мне угрожал, что если я не пообещаю отступить от расследования…
Судаков поморщился:
— Детский сад какой-то… Угрожал… Что конкретно он вам сказал? «Если вы не уйметесь, я пришлю к вам киллера?» Свидетели были этого разговора? Не делайте из меня идиота, гражданка потерпевшая.
— Что вы хотите этим сказать? — ощетинилась Лика. — Что я сама себе долбанула по голове, чтобы свалить вину на Ефременко?
— Ну почему сама… — протянул следователь.
Он встал со стула, прошелся по узкой комнатке, задел плечом стоявший у окна шкаф. За фанерными стенками задребезжали стеклянные пробирки.
— Я считаю, что это хулиганское нападение с целью ограбления. Живете вы в центре, среди соседей много обеспеченных людей. Наверняка какая-нибудь местная шпана пошаливает, наркоманы отмороженные. Среди них и будем искать…
— Да какая шпана! — взвилась Лика. — Ведь точно так же застрелили в подъезде Мальцева! Как это у вас говорится, почерк одинаковый? Я вам русским языком объясняю, что покушение на меня организовал Ефременко. Да у меня при себе была полная сумка собранных против него материалов.
Следователь снова сморщился, словно от зубной боли, и протянул:
— Сядьте, потерпевшая, сядьте, успокойтесь… Детективов вы начитались, вот что… Почерк! Мальцев был известная персона, крупный бизнесмен, а вы, простите, кто такая? Журналистка? Не смешите меня, сделайте милость! Материалы какие-то… Вот, посмотрите протокол, ничего у вас в сумке найдено не было — ключи от квартиры, сигареты, зажигалка, носовой платок. — Он извлек из картонной серой папки плохо отпечатанный на машинке листок бумаги и сунул Лике под нос. — Видите, понятые расписались. Соседка ваша, Маргарита Прокопьевна, которая нападавшего и спугнула. Еще вопросы есть?
Лика опустилась на стул, глядя в разбегавшиеся перед глазами «слепые» строчки. Что же это такое? Значит, исчезли все материалы… Крепко же за нее взялись. Конечно, дома в компьютере есть исходники, но кто поручится, что за время ее отсутствия там уже не побывали. И доказывать что-то, объяснять будет бесполезно. Доблестный следователь Судаков квалифицирует происшествие как обычную квартирную кражу. Неужели прав был Джонсон, когда говорил, что ей нужно уезжать из страны? Что ее попытки добиться справедливости наивны и опасны?
Ей вдруг впервые после той октябрьской ночи, когда по улицам родного города ползли танки, стало страшно и гадливо. До чего же, оказывается, это тяжело — не чувствовать себя в безопасности даже дома. Когда-то в Афгане думалось — это здесь ужас и смерть, только здесь. А где-то за тысячи километров есть надежное родное место, куда можно вернуться, спрятаться. Как же так вышло, что это надежное родное место, этот город, в котором она выросла, где хохотала, мчась по широким улицам вместе с однокурсниками, где влюблялась до нервной дрожи, где тосковала и прощала, превратился в чужой ощетинившийся мир, где опасность подстерегает за каждым поворотом, и не к кому бежать за помощью? И жизнью тут правят какие-то склизкие темные личности, для которых она просто назойливо жужжащая муха — смахнут и не заметят.
— Потерпевшая, вопросы остались? — настойчиво повторил Судаков.
Лика подняла голову, усмехнулась прямо в его сонное, словно смертельно уставшее от самой жизни, лицо.
— Остались, — тихо сказала она. — Сколько примерно по времени продлится следствие? Дело в том, что мне, возможно, придется уехать…
— А вот это вы хорошо придумали! — оживился следователь. — Это правильно. Видите, вы же все понимаете, а зачем-то дурочку валяли. Я думаю, мы быстро управимся и задерживать вас не будем.
После ухода апатичного Шерлока Холмса Лика, закутавшись в байковый халат неопределенно-бурого цвета, спустилась на первый этаж больницы, где висел на стене оставшийся еще с советских времен металлический телефонный аппарат. Из-под неплотно прилегающей входной двери тянуло холодом по голым ногам. Мимо прошаркала тапками пожилая медсестра, что-то ворча себе под нос на ходу. Лика прижала к уху тяжелую телефонную трубку, набрала номер.
— Да? — коротко откликнулся на том конце провода румяный выходец из страны грез.
— Добрый день, Пирс, это Лика, — представилась она. — Я… Я согласна на ваше предложение.
12
За мутным заплеванным окном электрички лениво летели мохнатые снежинки. Колеса мерно отстукивали пролетающие километры. Проплывали мимо серые покосившиеся домишки, сараи, столбы линий электропередачи.
Лика, прислонившись к вибрирующей стене тамбура, затягивалась сигаретой. Странно, как быстро пролетает жизнь. В детстве кажется, один день тянется и тянется бесконечно, и до вечера успеваешь прожить несколько жизней. А затем этот вечный поезд набирает обороты, разгоняется, летит вперед, и ты едва успеваешь поймать глазами мелькающие за окнами картинки. Вот будто только вчера так же тряслась она в прокуренном тамбуре, собирая силы для разговора с Никитой. А между тем прошло уже пятнадцать лет, и даже лицо человека, казавшегося тогда единственным светом и смыслом жизни, почти стерлось из памяти.
И ведь совсем недавно Андрей, молодой, беспечный, смешливый, останавливал ее под заснеженными елками, стряхивал с волос снежинки и плотнее натягивал на уши шапку. Куда подевалась теперь та строптивая девчонка, готовая в любую минуту фыркнуть, высмеять своего закадычного друга и, размахнувшись, лихо запустить в него снежком?
Где искать опаленную солнцем и смертью суровую девушку-воина, твердо и решительно прощающуюся с брутальным Мерковичем в саду у занесенной снегом калитки? Все эти абсолютно разные и, как теперь казалось, донельзя чужие ей женщины остались в далеком прошлом, пронеслись мимо, высадились на заброшенных полустанках памяти.
Электричка затормозила у платформы подмосковного Шереметьева, Лика вышла из вагона, привычно огляделась по сторонам. Вот он, небольшой летный микрорайон, где получил когда-то заслуженные квадратные метры бравый военный летчик Константин Белов. Интересно, каким он был тогда? Если верить фотографиям — высоченным, широкоплечим, с глубокими внимательными глазами и почти не улыбающимся ртом. Сюда он привез молодую жену, Нинку, на удивление всего местного женского коллектива, здесь ведь и своих невест было пруд пруди, скосила мужиков война, штабелями уложила в братские могилы. А дед, коренной белорус, расторопно сменивший фамилию Беляй на Белов, взял в жены маленькую, вертлявую, шумную, некрасивую Нинку, словно воплощающую в себе простонародную житейскую хватку. И прожил с ней всю жизнь, от зари до самого своего конца. Эх, дедушка, дедушка, видишь ли ты меня сейчас, свою непослушную проказницу, свою любимую внученьку? Жалеешь ли меня там так, как умел жалеть здесь, или ТАМ, там уже все мирское становится неважно? Ничего и никто?.. Здесь родилась и выросла ваша дочь Оленька, тоненькая блондиночка с круглыми, очень наивными глазами. Любимая дочь и нелюбящая мать. Жаль только, что образ той очаровательной девчушки навсегда вытеснила та, другая женщина, постаревшая, расплывшаяся, истеричная, в день похорон своей матери явившаяся делить дедову квартиру.
Вот под этой липой мастерила кукол из одуванчиков маленькая Лика, замкнутая, необщительная, испуганным волчонком косящаяся на пробегающих по двору детей…
Лика по знакомой тропинке направилась к дому, вошла в палисадник, почти по щиколотку провалившись в снег, стянув перчатку, погладила ладонью шершавый липовый ствол. Задрала голову, отыскивая глазами окно своей детской комнаты. Четыре снизу и три справа — вот оно. Занавеска теперь другая, не прежняя, голубая, расшитая райскими птицами с длинными кудрявыми хвостами, и бабкиных горшков с вонючей геранью на подоконнике больше нет. Да и с соседнего окна, окна дедовской комнаты, пропала некогда склеенная внучкой с дедом в соавторстве модель военного самолета. Вместо него прижимает нос к стеклу плюшевый Микки Маус. Ну что ж, новое время, новые песни… Прощай, мой дом, мой единственный милый дом, где когда-то, много лет назад меня любили, обо мне заботились, оберегая, будто закрывая могучим крылом от всех человеческих несчастий, свою болезную внучку.
Лика вернулась на дорожку и направилась к автобусной остановке, протряслась в ржавом «пазике» до старого кладбища, темнеющего каменными могильными памятниками на опушке леса. Когда-то в детстве она боялась проходить мимо, зажмуривалась и мчалась, не разбирая дороги. Казалось, того и гляди, из могил повылезают истощенные длиннобородые мертвецы и утащат ее, беспомощную малышку, под землю. Теперь Лика твердо знала, смерть не имеет ничего общего с мистическим ужасом и фантазиями, созданными ее не в меру романтическим сознанием. Смерть — это обыденность, данность, растерянное и досадливое выражение на лицах людей, оказавшихся поблизости. Не страшно, нет, противно и глупо.
Дед и бабка лежали рядом, внутри одной ограды. Лика достала из сумки салфетки, опустившись на корточки, принялась стирать пыльные разводы с черного гладкого гранита. Будто вытирала невидимые слезы с выбитых на камне родных лиц. До свидания, Нинка! До свидания, дедушка Костя! Могли ли вы когда-нибудь подумать, что вашей внучке, кровиночке и золотцу, придется трусливо, постыдно бежать из страны, которой вы отдали молодость, силы, жизнь? Бежать, чтобы не оказаться очередным героем милицейской хроники, остывающим на заплеванных ступеньках сырого подъезда трупом? Что бы, интересно, сказал на это тот молодой, честный, навсегда победивший страх летчик, вся грудь в орденах, каким изображен здесь ты, дед Костя? Какими словами обзывала бы новых законодателей жизни ты, железобетонная, несгибаемая, правдивая Нинка? Как глупо, как противоестественно то, что она, их разнесчастный ягненочек, есть, а их уже нет и никогда не будет. Лишь память ее, изрешеченная встречами, ненужными страданиями и потерями, навсегда останется с ними. Прощайте, дорогие мои, прощайте…
Если прожитая жизнь что-то и воспитала в ней, что-то взрастила, это, без сомнения, неубиваемый инстинкт самосохранения. Тот, что помогал ей когда-то выжить под злым афганским солнцем, тот, что однажды не позволил вылететь, взмахнув руками, в мокрую октябрьскую ночь. Это он теперь гнал ее неведомо куда, к черту на кулички, а точнее, в какой-то невообразимо прекрасный земной рай, который обещал ей, сверкая выцветшими глазами, выутюженный ковбой Мальборо.
Аккуратно затворив за собой калитку, Лика вытерла тыльной стороной ладони мокрое и соленое от заливавших его слез лицо и двинулась по дороге обратно к станции. Ну что ж, кажется, все итоги подведены, и ничто больше не удерживает ее здесь.
Вчера состоялся, вероятно, последний в жизни телефонный разговор с матерью. Она и сама не знала, зачем позвонила. Казалось бы, все между ними решено было еще в тот день, когда подписали последние документы по продаже квартиры. И все-таки зачем-то она набрала номер и, выслушав в трубке сосредоточенное сопение младшего братца, попросила:
— Привет. Позови… Позови Ольгу Константиновну.
Слышно было, как мальчишка повозился у аппарата, помчался, топоча ногами, по коридору, свалился где-то на полпути, наверно, зацепившись ногой за провод, и заревел басом.
— Что? Что случилось? — всполошилась на другом конце города невидимая мать.
— Я упа-а-ал, — выл уже давно подросший, но, видимо, крайне избалованный младший сыночек. — Я бежа-а-ал. А тебя к телефону.
— Ох, господи! — всплеснула руками Ольга. — Ну что ж такое-то, покоя мне нет! Витя, где ты? Иди уйми его.
По коридору процокали каблуки, в трубке зашелестело, и голос матери раздраженно буркнул:
— Да?
— Привет! — поздоровалась Лика.
— Здравствуй, — неуверенно произнесла Ольга, выдержав паузу. — Что-то случилось?
— Да, в общем, нет. — Лика уже жалела, что позвонила. — Просто хотела сказать, что я уезжаю.
— С чего это ты решила сообщать мне о своих перемещениях? — съехидничала мать. — От тебя уж два года ни слуху ни духу.
Лика промолчала, не зная, стоит ли объяснять матери, что она уезжает надолго, возможно, навсегда. Сказать? Не сказать? А впрочем, разве это что-то изменит?
На заднем фоне все еще выл, не желая успокаиваться, Стасик, Ольга бросила:
— Послушай, если у тебя дело какое есть, говори быстрее. У меня котлеты на кухне горят.
— Да нет, в общем, никаких дел нет. До свидания… мама, — через силу выдавила из себя Лика.
— Пока. Счастливо съездить, — с заметным облегчением бросила трубку Ольга.
Как ни странно, она не почувствовала ни боли, ни разочарования. Вероятно, все выгорело еще тогда, в день похорон бабушки. Зачем звонила? Наверно, по старому, вдолбленному яростной блюстительницей традиций Нинкой правилу, что, собираясь в дальнюю дорогу, следует попрощаться даже со случайными знакомыми. Что ж, на этом все традиционные реверансы можно было считать исполненными.
Осталось еще в последний раз заехать на квартиру. После выписки из больницы она туда не возвращалась, несколько недель прожила в гостинице. Это Пирс посоветовал, утверждал, что так будет безопаснее. Заставить себя пересечь квадратный двор-колодец и войти в подъезд оказалось не так-то легко. Некогда тихий, интеллигентный, арбатский дворик, превратившийся теперь в уставленную иномарками парковку, жил своей жизнью. Едва Лика ступила на порог, едва вдохнула знакомый затхлый запах, как заныл висок. Она машинально вскинула руку и провела ладонью по голове, там, где волосы колючим ежиком отрастали на месте нанесенной раны. Однако на этот раз все было тихо, лишь где-то за дверью играло фортепьяно, а наверху мерно бухал молоток. Лика поднялась по ступенькам к своей квартире, вставила ключ в замочную скважину и только тут заметила всунутую за косяк вдвое сложенную записку.
Она выдернула листок бумаги, не разворачивая, прошла в квартиру, захлопнула за собой дверь, включила свет в прихожей и только тут прочла написанное размашистым неразборчивым врачебным почерком. «Лика, не могу до тебя дозвониться. Я в Москве. Нужно встретиться. Андрей». Тут же помещался и номер телефона, по которому Андрей просил ее с ним связаться.
Лика снова пробежала глазами записку, усмехнулась. В этом он весь — нужно увидеться, Андрей… Даже мысли не допускает, что она может не захотеть с ним встречаться. Ему нужно — и точка. Ах, Андрей, милый мой златокудрый приятель, неизменный дружище! Жаль, что ты ничего так и не понял тогда, жаль, что не повзрослел. Неужели ты думаешь, что я могу все так же легко и беспечно сорваться по первому твоему зову, чтобы скрасить твое московское одиночество. Нет уж, теперь я знаю, что травмы после подобных развлечений затягиваются куда медленнее, чем после удара рукоятью пистолета по виску. С нее, пожалуй, хватит.
Лика, не разуваясь, не снимая куртки, прошла по квартире, ссыпала в пакет дискеты с компьютерного стола, погрузила в сумку папку с документами, сняла с полки пару книжек, рассовала по карманам деньги, спрятала конверт со старыми фотографиями. Вот, кажется, и все, что нажито непосильным трудом. Негусто. А впрочем, может быть, в этом и заключается своеобразная прелесть ее жизни — не отягощенная вещами, связями и привязанностями, сорвалась с места — и полетела, поминай, как звали. Да сколько людей душу бы дьяволу продало за подобную свободу. Определенно, жаловаться ей не на что. Тридцать один год, чистая страница, все только начинается!
Она вышла в прихожую, снова наткнулась взглядом на брошенный на тумбочке листок бумаги. А что, если… Что, если все-таки позвонить? Услышать в трубке родной низкий насмешливый голос, от которого бегут вдоль позвоночника мурашки. Просто узнать, что ему нужно. Просто попрощаться…
Она неуверенно потянулась к телефонной трубке, успела ощутить кончиками пальцев холодок гладкого пластика, когда аппарат сам вдруг взорвался хриплым трезвоном. Вздрогнув от неожиданности, она сорвала трубку, сказала внезапно севшим голосом:
— Алло!
— Вы готовы… мисс Лика? — как всегда с трудом, выговорил ее непривычное для американца имя Пирс. — До самолета пять часов. Я выезжаю за вами? Ваш багаж со мной.
— Да, Пирс, конечно. Жду вас! — легко отозвалась Лика.
Положив трубку, она решительно скомкала листок, прошла на кухню, рванула на себя форточку и выбросила записку в окно. Зимний ветер подхватил бумажный комок, закрутил и потащил куда-то по покрытому коркой льда асфальту. Лика с силой захлопнула окно.
Часть третья 1996–2000
1
Оператор, оторвав пухлую руку от камеры, сделал особый знак пальцами, и Лика быстро закончила фразу и попрощалась:
— Элеонора Белова из Нью-Йорка специально для Первого канала.
Оператор Пол выключил оборудование, повозился с камерой и показал ей сложенные колечком пальцы, дескать, ок, все в порядке. С толстяком Полом они ладили, понимали друг друга с полуслова, а чаще всего вообще ограничивались языком жестов. Правда, сплоченной команды, как некогда с Сашей, у них не образовалось, но рассчитывать, что такая удача выпадет дважды в жизни, было бы наивно.
Лика распрощалась с Полом, надвинула на голову красную кепку с твердым козырьком и направилась вниз по улице, ведущей к центру Нью-Йорка, к самому его вечно живому, не знающему покоя, огромному, пульсирующему сердцу.
Тайм-сквер сиял и отражался тысячами огней, миллионы лампочек вспыхивали, перемигивались, то образуя причудливые узоры, то вновь рассыпаясь на маленькие сияющие звезды. Названия всемирно известных мюзиклов, афиши с голливудскими актерами, играющие пьесу на так называемом офф Бродвее только один сезон, белозубые разносчики программок, зазывалы-китайцы, черные как смоль, продавцы бубликов, орехов, поддельных Луи Вюиттонов, километровые очереди в знаменитую театральную кассу, в которой можно купить билет вполовину дешевле за полчаса до начала шоу…
Прошло уже почти полтора года с тех пор, как она, растерянная, ошеломленная несмолкаемым шумом и грохотом, впервые оказалась на улицах Нью-Йорка. Никогда не засыпающий город поразил ее хлещущей через край энергией, бешеным ритмом, неистовой скоростью, с которой пролетала здесь жизнь. И ведь, казалось бы, сама-то она приехала не из тихой деревни, а из Москвы, прямо скажем, не самого спокойного места на земле. Однако по сравнению с этим кипящим жизнью лабиринтом из бетона и стекла московская действительность казалась сонной и размеренной.
Конечно, Нью-Йорк, в частности Манхэттен, мало напоминал настоящую Америку. Он выглядел более величественным, извечная жуликоватость местного и недавно эмигрировавшего населения не так бросалась здесь в глаза. То есть туриста, разумеется, в любом случае на чем-нибудь попытались бы тут надуть, но все же не так открыто и беспардонно, как где-нибудь в Лос-Анджелесе. Конечно, Город желтого дьявола был настоящей столицей мира, столицей мирового капитала. Иностранные наречия здесь звучали даже чаще, чем родной английский.
У Нью-Йорка имелась какая-то особенная атмосфера, которая затягивала в себя и заставляла радоваться каждому дню, проведенному здесь. Первые часы придавливали к земле разрезающие небо небоскребы; Лика ощущала себя маленькой букашечкой и впервые во всей красе ощутила страх высоты. Но через некоторое время у нее наступил момент принятия всей разномастной толчеи, грязной подземки, так не похожей на московское монументальное метро, миллиона желтых такси и странной, такой удивительной для русских возможности отведать ненавязчивого шведского стола, не выходя из аптеки. Рестораны, кафешки, забегаловки, орехи, сосиски с лотка… Тайм-сквер сияет всеми цветами радуги, бесчисленные такси несутся по парадным авеню, любимый актер, идол для миллионов, в соседнем отеле дает интервью по поводу премьеры фильма, затем спускается вниз в окружении неприступных бодигардов, но все равно иногда удается улыбнуться ему, и он — ох ты господи — замечает иностранку и улыбается в ответ…
Лика, оглушенная, ослепленная, влюбилась в этот город до беспамятства. Где, как не здесь, казалось, найти ей себе место. Нью-Йорк идеально подходил для целеустремленных одиночек, не обремененных сердечными привязанностями и душевными метаниями. Стремительный, блестящий, равнодушный, он не признавал любимчиков и баловней судьбы, готов был дать шанс любому, одинаково взыскивая со всех за ошибки и просчеты. Что ж, это было ей по душе!
Позади осталась Россия, с ее серебряными метелями и прохладными летними рассветами. И вся былая, прошлая жизнь словно покрылась дымкой. Детство, юность, непростое взросление, первые шаги в самостоятельную жизнь… Как давно это было. Каким неестественным, игрушечным, бутафорским казалось все это теперь жесткой и уверенной в себе американской журналистке. Здесь же жизнь била ключом, обещая впереди небывалые взлеты, невиданные достижения, сумасшедший успех. И Лика, решительно похоронив свое прошлое, отважно неслась вперед, навстречу всем этим обещанным ей свершениям.
Успешная работа в качестве специального корреспондента Первого канала в Нью-Йорке, несколько небольших статей, опубликованных при содействии Джонсона в «Нью-Йорк таймс» — неплохое начало для журналиста, приехавшего сюда лишь полтора года назад. А впереди… Впереди, конечно, самое интересное!
Лика уже подходила к своему дому, в котором обосновалась сразу по приезде. Расположенному в Сохо, построенному как минимум лет сто назад, закрытому со всех сторон чугунными изогнутыми решетками, мощному строению из красного кирпича, которое она полюбила всей душой, сразу и навсегда. Один из припаркованных у обочины желтых «Мерседесов»-такси засигналил ей. Лика обернулась и увидела выбирающегося с заднего сиденья Пирса Джонсона. Идеально сидящий пиджак цвета «кофе с молоком», серебристые волосы, легкий загар — старина Пирс, как обычно, в своем амплуа. Прямо-таки не преуспевающий журналист, а настоящая икона стиля, только что сошедшая с красной ковровой дорожки. Что ж, положение обязывает. Здесь принято заботиться о своем внешнем виде, быть всегда комильфо, чтобы окружающие, не дай бог, не подумали, что у тебя имеются какие-то проблемы. Старина Пирс просто старается соответствовать положенным правилам вынужденной среды обитания, ставшей для Лики почти своей. Лика остановилась, поджидая его.
— Привет! — Пирс подошел вплотную, сдернул с ее головы кепку и поцеловал в макушку. — Как прошел репортаж?
— Все отлично! — не вдаваясь в подробности, улыбнулась Лика.
Они давно уже перешли в общении на английский. Здесь это звучало как-то естественней, чем старомодный витиеватый русский Джонсона.
— Ты меня ждал?
— Нет, у меня тут в каждой квартире по симпатичной русской журналистке, — хихикнул Пирс. — Ну конечно, тебя.
— А что случилось? — невольно напряглась Лика.
Между ними как-то не принято было сваливаться друг к другу, как снег на голову, объявляться без предупреждения. Оба слишком уж дорожили личным пространством.
— Да так, есть небольшая идея, — туманно изрек Пирс. — Надо бы обсудить.
— Ну что ж… — Лика на мгновение замялась и, наконец, махнула рукой в сторону узорчатой калитки, прикрывавшей аккуратно подстриженный газон. — Тогда добро пожаловать. Заходи, все обсудим.
— Поверить не могу! — комично ужаснулся Пирс. — Меня приглашают в святая святых. Надеюсь, ты не хранишь в своем замке тела убитых женщин, как тот старик в старой французской сказке?
— Не беспокойся. У меня там всего-навсего штаб-квартира русской мафии, — отшутилась Лика.
Несмотря на сложившиеся между ними полудружеские-полулюбовные отношения, Пирс еще никогда не был у нее дома. Собственно, в этом как-то до сих пор и не возникало необходимости. Официальной парой они себя не объявляли, продолжали каждый жить своей жизнью, не договариваясь заранее о встречах, не строя планов на будущее, несмотря на переменившую статус их отношений ночь, случившуюся почти год назад.
Лика тогда допоздна засиделась в редакции «Нью-Йорк таймс» в кабинете Пирса. В офисе почти уже никого не осталось, за стеклянными стенами, отделявшими кабинет начальника отдела от помещения, где располагались рядовые служащие, виднелись лишь опустевшие столы, мертво глядящие черными экранами компьютеры. Пирс наклонился над ней, глядя в монитор поверх ее плеча. — Вот это не годится. — Он ткнул пальцем в высветившуюся на экране строчку. — Вот этот заголовок «Ловец во ржи». Ты про что пишешь? Про кризисный центр, куда обращаются потенциальные самоубийцы. Люди с навязчивым желанием сигануть с крыши Эмпайр-стейт-билдинг. Так при чем тут какая-то рожь? Рожь у нас на улицах не растет…
— Но это же Селинджер… — попыталась объяснить Лика. — Название знаменитого американского романа. Эта фраза на слуху, она сразу привлечет внимание…
— Это ты знаешь, что это Селинджер. Ну я знаю, допустим… А рядовой обыватель слышать не слышал про твой знаменитый американский роман. Такой заголовок не просто ничего не скажет ему о том, что говорится в статье, он еще вызовет раздражение. Как будто журналисты нашей газеты считают себя умнее его, выше по развитию. Это неполиткорректно, понимаешь, Лика? Читатель разозлится и завтра не купит «Нью-Йорк таймс», продажи упадут, мы понесем убытки. Понимаешь? И все из-за твоего «Ловца во ржи». Поменяй название!
Он отдернул руку от экрана и случайно задел Лику по щеке. Она обернулась, встретилась взглядом с его бледно-голубыми, ничего не выражающими глазами. Пирс все еще нависал над ней, облокотившись о стол, руки его, словно случайно, кольцом сомкнулись вокруг ее плеч. И неожиданно обстановка опустевшего тихого офиса, мерцающие за стеклом бесчисленные окна окружающих небоскребов, запах бумаги вскружили ей голову, заставили сердце учащенно биться. Разве не такой должна быть первая ночь любви в этой удивительной, такой не похожей на ее родину, стране, в этом помешанном на работе и карьере городе? Лика потянулась к Пирсу и нежно дотронулась губами до едва заметной ямочки на его гладко выбритой, тронутой золотистым загаром щеке. Он вздрогнул, окинул ее коротким быстрым взглядом, отошел в сторону и дернул за шнурок жалюзи на стеклянной стене. Щелчок — остальные помещения офиса скрылись из виду, и они остались вдвоем в снежно-белом заваленном бумагами кабинете.
С тех пор она несколько раз ночевала в его просторной, стильной квартире. Иногда, в выходные, они ездили куда-нибудь в Нью-Джерси, посмотреть на настоящую Америку, так отличавшуюся от бешеного Нью-Йорка. Одноэтажные постройки с маленькими земельными участками, небо нависает так, что можно пощупать облака рукой. Останавливались в небольших уютных отелях или просто устраивали барбекю на поляне. Вековые дубы, странным образом выросшие на довольно каменистой почве, скрывали в своей тени небольшие стада любопытных косуль, и те изредка выходили из своих убежищ, разглядывая парочку с неподдельным и серьезным интересом. Лике казалось это таким необычным — вот только что они были в самом центре мира, только что покинули Уолл-стрит, проехали под мостом, и через какие-то сорок минут оказались в дремучем лесу. Рядом пасутся олени, белки берут орешки прямо с рук, где-то высоко, в самых верхушках крон могучих дубов и сосен, поют лесные птицы. Совсем как в детстве, когда она ходила по подмосковным лесным чащам вместе с дедом. Лике становилось почему-то необыкновенно хорошо и спокойно от этой мысли, от этого, казалось бы, странного сравнения… Но домой к себе Лика Пирса никогда не приглашала, словно оберегая личную территорию от вторжения чужого мужчины, а может, опасаясь, что после этого их чудесные, ни к чему не обязывающие отношения перейдут в нечто большее, что осложнит и отяготит ее только что обретенную настоящую свободу.
И вот теперь Пирс впервые переступал порог ее жилища. Он споткнулся в темноте, чертыхнулся, и Лика включила свет.
— Что это у тебя здесь? — Пирс, потирая ушибленную ногу, подбородком указал на расставленные в комнате картонные коробки, на одну из которых он и налетел так неудачно.
— Вещи, — пожала плечами Лика.
— Какие вещи?
— Ну, мои вещи, из России.
Пирс недоверчиво вскинул брови, затем двумя пальцами извлек из одной коробки белую, довольно поношенную кроссовку.
— Ты удивительная женщина! — заключил он. — За полтора года так и не удосужилась разобрать вещи?
— А зачем? — удивилась Лика. — Если мне что-то понадобится, я достану. И к тому же… Мне так больше нравится. Дорожная атмосфера, понимаешь? Сегодня я здесь, завтра надоест — сорвусь и уеду.
— Если ты согласишься на мое предложение, — сказал Пирс, — то сорваться куда-то в ближайшее время тебе не удастся.
Они прошли в единственную комнату с огромным, во всю стену, окном. Уходящее солнце расцвечивало ярко-оранжевым расписанные граффити стены шумевшего вдалеке Чайна-тауна. Эта просторная, выкрашенная в голубовато-белый цвет комната, почти без мебели — лишь широкий диван, компьютерный стол, два кресла и низкий стеклянный столик на колесах, служила Лике одновременно гостиной, спальней и кабинетом.
Пирс опустился в кресло. Лика, заинтригованная его словами, все же не спешила выяснять, что именно ее ковбойский дружок решил ей предложить.
— Хочешь выпить? — спросила, неубедительно изображая радушную хозяйку.
— Да, виски, если можно, — отозвался Джонсон.
— Посмотри, там за диваном, в коробке должны быть стаканы, — махнула рукой Лика.
Сама же отправилась на крохотную кухню, не приспособленную для приготовления блюд сложнее яичницы, вытащила из полупустого холодильника початую бутылку виски. Пирс с иронией следил за ее манипуляциями.
— Ты прямо какая-то бездомная, — пошутил он.
— Я не бездомная. Просто мой дом — везде, — уверенно возразила Лика.
— Ну и прекрасно, — перешел к делу Пирс. — Тогда мое предложение тебе тем более покажется интересным. Видишь ли, у нас появилась идея сделать серию очерков о живущих в Нью-Йорке нелегалах. Это должен быть острый злободневный материал. Придется встречаться со всяким криминальным элементом, с людьми, живущими на улицах, ночующими в парках. Они, конечно, не захотят идти на контакт, будут прятаться. В общем, придется как следует попотеть. Скорее всего проект растянется на несколько лет. И вот я решил привлечь тебя.
— Хм, заманчиво… — протянула Лика, стараясь не выдать мгновенно вспыхнувшего в ней интереса.
Если чему она и научилась за время своей журналистской практики, так это — не соглашаться ни на какое задание сразу, для начала выяснить все детали, подводные камни, ну и, разумеется, немного набить себе цену. Казалось бы, с Джонсоном у них были особые отношения, позволяющие оставить эти игры, но многолетняя, годами выработанная привычка всякий раз оказывалась сильнее ее добрых намерений.
— Это будет бомба! — продолжал живописать Джонсон. — Очерки наделают много шуму и, конечно, принесут огромную известность всем, кто примет участие в проекте.
— Угу, — Лика кивнула и подалась вперед, пристально глядя на Джонсона. — Так если это такой звездный проект, почему бы тебе самому им не заняться, а?
— Черт, да я бы с удовольствием, — отмахнулся Пирс. — Это уж всяко поинтересней, чем править чужие тексты в душном кабинете. Но я редактор отдела, у меня свои обязанности. Я не могу все бросить и провести ближайшие два года, скитаясь по трущобам.
Звучало резонно. Лика еще некоторое время помолчала, потирая пальцем переносицу, старательно изображая глубокие раздумья, и, наконец, возвестила:
— Ну что ж, я согласна.
— Вот и отлично! — обрадовался Пирс. — Завтра сможешь подъехать в редакцию? Поработаем над планом проекта. Договорились. Ну, за восходящую звезду международной журналистики! — Он потянулся к ней и легко стукнул стаканом с плескавшимся в нем виски о ее стакан.
— И за ее бессменного редактора, — улыбнулась Лика в ответ.
Они выпили, помолчали немного. За окном на пересеченном башнями небоскребов темнеющем небе остывали полосы летнего заката.
— Слушай-ка, — заговорил Пирс. — А у тебя тут, в этих ящиках, не завалялось случайно вечернее платье?
— Гм, можно поискать, — протянула Лика. — А в чем дело?
— Ну, в общем, я предполагал, что мы договоримся, и позволил себе прихватить кое-что, чтобы отметить сегодня вечером наш исторический договор.
Пирс с видом доброго волшебника из сказки извлек из внутреннего кармана пиджака два билета, протянул их Лике.
— Ты любишь балет?
— О господи! — поморщилась она. — Честно говоря, терпеть не могу!
— Почему? — изумился он. — Я думал, вы, русские, помешаны на балете…
— Да так, — неопределенно помотала головой Лика. — Дурацкие воспоминания юности. Ничего особенного.
— Все-таки не пропадать же билетам, — настойчиво произнес Пирс. — Может, рискнем? Вдруг наш, американский, балет понравится тебе больше?
У Лики не было никакого желания отыскивать в ворохе вещей подходящее к случаю платье, наряжаться для похода в театр, а потом целый вечер сидеть в зале, глядя на мечущихся по сцене изможденных жилистых танцовщиц и обтянутых трико женоподобных мальчиков. Удивительно, и что так завораживало ее в этом действе когда-то давным-давно, в почти забытой московской жизни. Но Пирс, видимо, так воодушевился своей необычной идеей, смотрел на нее с таким горделивым ожиданием похвалы, что она не решилась его разочаровать и смиренно кивнула:
— Ладно. Давай попробуем.
2
Лика оказалась в театре впервые после отъезда из России. Как-то не пришлось ей попасть даже ни на один из широко известных мюзиклов. Лика с давних пор чувствовала в себе стойкую неприязнь к разного рода шоу и прочим представлениям, поэтому и не спешила, вслед за оголтелыми туристами, увидеть бродвейские мюзиклы — гордость Нью-Йорка. Пирс провел ее в ложу, отделанную золотом и бархатом. Они присели на расставленные стулья, Лика отыскала на специальной полочке театральный бинокль и принялась разглядывать зрительный зал. В юности, когда за билетами в Большой приходилось биться в очередях и подмигивать перекупщикам, ее поражало обилие в зале благообразных старушек. Невероятным казалось, как этим божьим одуванчикам удается раздобывать дефицитные билеты. Неужели тоже ночуют у ступеней Большого, предварительно намалевав порядковый номер на сухоньких ладонях? Бабульки, наряженные в шелк и бархат, иногда под руку с ветхими, трясущими кадыкастыми шеями стариками, рассаживались в зале и поднимали светящиеся благоговением дальнозоркие глаза на сцену.
Здесь же публика была совершенно другой. В партере, шумя и толкаясь, рассаживались туристы в бесформенных спортивных костюмах и кроссовках, дородные крикливые тетки в затрапезных одеяниях пытались угнездиться на не приспособленных под подобные габариты стульях, дядьки, все, как один, похожие на водителей грузовиков, не удосуживались снять даже кепок. Между рядов сновали услужливые официанты, обнося любителей искусства орешками, сладостями и кока-колой. Свет в зале начал медленно гаснуть, заиграла музыка, но шорох и воркотня не смолкали еще несколько минут.
Первое время созерцание такой непривычной обстановки в зрительном зале увлекало Лику куда больше, чем происходящее на сцене. Округлив глаза, она следила за тянущимися к подносам руками, за жадно жующими ртами. Черт, похоже, Джонсон ошибся и привел ее в Макдоналдс вместо театра. Пирс толкнул ее локтем и протянул программку.
— Это новая постановка, — гордо заявил он. — Знаменитый хореограф со своими революционными идеями. Он, кстати, выходец из СССР и мой хороший знакомый.
— Рада за тебя, — огрызнулась Лика и, не читая, бросила программку на колени.
Мало того, что ей придется часа три созерцать пляшущих человечков, так еще и вокруг будут жевать. Какие тут, к черту, революционные постановки в такой атмосфере?
Однако, как ни странно, действие, разворачивающееся на сцене, ей понравилось. Оно, правда, не имело ничего общего с классическим балетом, к которому она привыкла в России. Напоминало, скорее, танцы, которые разучивали они некогда в драмкружке, только исполняли их профессионалы с известными балетным поклонникам именами. Танцевали артисты босыми. Движения их были подчас угловатыми, ломаными. Больше всего Лику удивило, что у этих юношей и девушек торсы были обнажены, и лишь их скульптурно вылепленные ноги обтянуты иссиня-черным трико. Над сценой вспыхнул столб белого света, сопровождаемый тяжелыми аккордами бас-гитары. Зазвучала музыка знаменитой британской рок-группы. Мощный, пронзительный, несущий свет и гармонию голос певца полился над залом, и откуда-то сверху на сцену полетели белоснежные хлопья. И Лика невольно заразилась восторгом творящегося перед ней волшебства, пробудившего в душе ощущения, которых она не испытывала уже много лет.
Спектакль закончился, и зал взорвался аплодисментами. Лика же не двигалась, пораженная только что открывшимся ей чудом. Это было настоящее искусство, и тем страннее оказалось ощущение, что когда-то, в другой жизни, она уже видела нечто подобное.
— Андреевский! Андреевский! — принялся скандировать партер.
И Лика вздрогнула, испуганная этим неожиданным дежавю.
— Кто это, Андреевский? — наклонилась она к Джонсону.
— Хореограф. Я же тебе говорил в начале, что он русский, — прогудел Пирс, обиженный ее невнимательностью.
Тяжелый занавес чуть дрогнул, и на сцене появилась тонкая легкая фигура в сером костюме и черной шелковой водолазке. Человек стремительно и плавно направился к краю сцены, воздел в приветствии руки, откинул назад царственную седовласую голову, и Лика узнала его. Сердце, отреагировав на увиденное быстрее, чем сознание, екнуло и ухнуло в живот, ладони похолодели, Лика судорожно сжала руками виски. Господи, после стольких лет, почти забытый, почти нереальный, оставшийся в памяти вечно саднившей старой занозой… И вот теперь он здесь — живой, талантливый, такой же стремительный и энергичный, как прежде. Вот только седой. Никита…
В зале затопали, засвистели, загрохотали. Хореограф грациозно раскланялся, перегнулся к толпящимся у сцены зрителям, принимая букеты, передавая их появляющимся из-за кулис танцовщикам. Пирс тронул Лику за руку:
— Давай пройдем за кулисы, поздравим маэстро.
Лика неуверенно мялась у выхода из ложи. Страшно это — совершить такой скачок во времени, и вот так, неожиданно, без малейшей подготовки. И все-таки… Все-таки, если сейчас не воспользоваться случаем, она потом никогда себе не простит… Она решительно тряхнула головой:
— Пошли!
Суровые охранники поначалу не хотели их пропускать. Но Пирс позвонил кому-то по мобильному, и охранники расступились, пропуская их в святая святых. Пирс уверенно вел ее по коридорам, видно было, что он здесь не впервые. Мимо многочисленных дверей, мимо все еще загримированных, недавно виденных на сцене танцовщиков… Лике стало немного не по себе. Мимо протопал, обливаясь потом и обмахиваясь носовым платком, полный мужчина в костюме. Пирс остановился, наконец, перед одной из дверей, быстро переговорил с очередным дежурившим в коридоре охранником, постучался и, не дожидаясь ответа, шагнул в гримерную. Лика, задохнувшись, ступила за ним. Цветы, цветы, цветы — первое, что бросилось ей в глаза. Тщательно составленные букеты и просто огромные охапки… Спертый воздух гримерной был пропитан влажным и душным цветочным запахом. Никита, улыбаясь, направился к Пирсу, дружески потряс протянутую ему широкую ковбойскую ладонь. Лика, не отводя глаз, наблюдала за ним из-за плеча своего проводника. Теперь, конечно, видно было, как сильно он изменился. Черты лица стали резче, заострились, аквамариновые глаза с расширенными зрачками глубоко запали и стали словно еще ярче, светились лихорадочным блеском. Вот только белки были покрасневшими, подернутыми сетью прожилок. Движения его, все такие же стремительные, быстрые, казалось, слегка утратили точность, стали более дергаными. Как будто им, словно марионеткой, двигал за ниточки некто ему не подвластный… Карабас-Барабас, не оставляющий своего подопечного в покое ни на секунду. В целом в облике Никиты не осталось ничего волшебного, сказочного, ни следа от образа прекрасного принца. И этот лощеный моложавый представитель американской богемы, с нервным бегающим взглядом, казался незнакомцем.
— Разреши тебе представить мою спутницу, — заявил Пирс после первых приветственных слов.
Он потянул Лику за руку, заставляя выступить вперед из-за его спины, расплылся в улыбке, вкладывая ее ладонь в протянутую руку Никиты:
— Элеонора Белова.
Никита одарил ее равнодушно-приветливой улыбкой. Научился, значит, за годы жизни на загнивающем западе их фирменной гримасе. Аквамариновые глаза скользнули по ее лицу и вдруг на мгновение остановились, дрогнули зрачки, чуть сдвинулись к переносице узкие, лихо взлетающие к вискам брови. Узнал?
— Никита, ты… Вы меня не помните? — тихо спросила она по-русски.
— Лицо как будто знакомое, — внимательнее вгляделся он. — Что-то крутится в голове… Помогите же мне!
— Москва, восемьдесят первый год, — напомнила она. — Драмкружок. «Алые паруса»…
Конечно же, он ее не вспомнит. Сто тридцать пятая по счету из толпы восхищенных поклонниц… Господи, надо обладать наивностью и апломбом шестнадцати лет, чтобы искренне уверовать в то, что тебя полюбит гений современного танца.
— Лика! — вдруг радостно провозгласил Никита. — Лика, которую все зовут Элеонора!
Неожиданно она оказалась в его объятиях. Гибкие пластичные руки Никиты обхватили ее шею, тонкие бескровные губы прижались к виску. Когда-то она готова была душу дьяволу заложить за этот момент… Лицо его преобразилось, слетела тщательно подогнанная маска, и на секунду проскользнуло то, далекое, любимое, знакомое, забытое.
— Да, только наоборот, — в смятении выдохнула Лика.
— Боже мой, вот это да! Ну и встреча! — не мог поверить своим глазам Никита. — Но как ты здесь? Откуда? И какая стала… взрослая.
— Да и вы… ты, в общем, ты очень изменился, Никита…
Он потянул ее за руку, заставляя покружиться перед ним.
— Я здесь уже почти два года, — объяснила Лика. — Работаю… Я журналист.
— С ума сойти, никак не могу поверить, — восторженно продолжал Андреевский. — Как будто в прошлое провалился, в восьмидесятые, в Советский Союз. Бррр. — Он передернул плечами.
Затем вдруг, как обычно, стремительно и резко, ухватил Пирса и Лику за руки, потащил их к выходу, приговаривая:
— Друзья мои, это нужно отметить. У меня просто в горле пересохло от такого потрясения. Поехали! Поехали куда-нибудь, посидим!
Пирс, чуть приотстав от спешащего Никиты, задержал Лику в коридоре, спросил вполголоса:
— Ты почему мне не сказала, что знакома с Андреевским? Поставила в глупое положение…
— Господи, Пирс, да я ведь до последнего не знала, как зовут твоего знаменитого хореографа… — пожала плечами Лика.
— Как ты могла этого не знать? Он же мировая звезда! Весь Тайм-сквер увешан афишами с его именем, — наседал Джонсон.
— Представь себе, вот такая я темная и нелюбознательная, — раздраженно отозвалась Лика. — Ладно, потом поговорим, неудобно.
И, вырвав руку из цепких лап спутника, она поспешила по коридору вслед за тонкой и легкой фигурой Никиты.
Эта ночь была бесконечной, сумасшедшей, бешено летящей куда-то в пустоту. Картинки сменяли друг друга с невозможной, невыносимой скоростью. Вот они мчатся по улице к припаркованному на другой стороне длиннохвостому лимузину, отворачиваясь от мигающих со всех сторон вспышек папарацци. Вот автомобиль, лавируя среди других машин, несет их по переливающемуся огнями ночному городу, на полной скорости вписываясь в крутые повороты. Вот грохочет и плюется огнями сцена закрытого ночного клуба, Никита заказывает «Дом Периньон», а Лика заливисто хохочет и тащит его на площадку — танцевать. Вот Пирс, мрачный, насупившийся, отчитывает ее, перекрикивая музыку: — Ты ведешь себя неприлично!
Лика же пьяно огрызается:
— Тебе сегодня дьявольски повезло, Пирс. Ты участвуешь в настоящем загуле а ля рюсс.
Так и несутся всю ночь, из одного модного кабака в другой, все еще почти не сказав друг другу ни слова. Как будто пытаются обогнать в этой бешеной гонке просвистевшие за спиной семнадцать лет. Словно надеются, что, завернув за угол, очутятся вдруг на мокром осеннем бульваре, и фонари задрожат во влажном воздухе, а впереди будет расстилаться вся жизнь, удивительная, непредсказуемая, как первая любовь.
Уже под утро, когда за окном бледнел серый пасмурный рассвет, оказались в каком-то тихом пустом закрытом клубе, что называется, для своих. Пирс, нервно потирая воспаленные бессонные глаза, извинившись, отправился в туалет. Лика, оглушенная наступившей внезапно тишиной, лихо опрокинула в себя стопку ледяного, отдающего можжевельником джина, откинулась на спинку стула, чувствуя, как голову охватывает пьянящая эйфория, требующая немедленных душевных излияний. Кажется, впервые за эту ночь она постаралась повнимательнее вглядеться в лицо Никиты. Осунувшийся, изможденный, издерганный он сидел напротив, теребя пальцами край скатерти, словно и сейчас не мог расслабиться, дать отдых уставшему телу. Еще несколько часов назад, в клубе, Лика видела, как он вдохнул, запив шампанским, солидную дорожку розоватого колумбийского кокаина, на ходу пояснив ей:
— Это лекарство, иначе свалюсь.
Удивительно, почему у него, добившегося мировой известности, отвоевавшего право ставить то, что хочется, такой затравленный взгляд? От чего бежит он, вынужденный вдыхать стимулирующий к жизни порошок, чтобы не упасть замертво? Почему проводит ночи в безумных загулах?
— Никита. — Она потянулась к нему через стол, накрыла ладонью тонкую артистическую руку.
Эти длинные нервные пальцы когда-то виделись ей ночами… Да что там, много-много лет подряд она вспоминала их.
— Никита, скажи мне, ты именно этого хотел?
Уголок его рта нервно дернулся вниз.
— Что ты имеешь в виду? Что, ты считаешь, я лузер?
— Наоборот, — покачала головой Лика. — Мне кажется, у тебя просто сумасшедшая известность. И наверняка теперь ты можешь заказывать музыку, никто уже тебе не указ… Ты добился всего, о чем когда-то мечтал, помнишь?
— Ну, здесь ты заблуждаешься, — усмехнулся он. — Быть совершенно свободным нельзя нигде. Там приходилось считаться с официальной идеологией, здесь — с рентабельностью. Хотя в последние годы, пожалуй, да, я достиг такого положения, что мне прощается небольшое самодурство. Но чем за это заплачено…
Он судорожно сжал ее руку, заговорил быстро, словно заученный текст:
— Приезжаешь сюда, думаешь, что тебя тут ждут с распростертыми объятиями, вознесут на пьедестал, закидают розами. А ни фига! Ты никому тут не сдался, это там ты был интересен — опальная звезда, ниспровергатель устоев. А здесь интересно только то, что приносит деньги, а ты, никому не известный танцор, никаких денег не принесешь. И бьешься, бьешься годами, доказывая, что ты можешь… А тебе предлагают либо заплатить за раскрутку, либо стать любовником пузатого спонсора. Тут так устроен мир, Лика. Там меня пугали этой нелепой статьей, хотя, поверь, я никогда не был педерастом. А здесь то, что я предпочитаю женщин, напротив, оказывалось помехой на пути к успеху. Но, впрочем, ладно, все это этапы большого пути.
Никита немного помолчал, плеснул себе в рюмку джина из бутылки, залпом выпил.
— И вот ты добился всего, доказал, пробил лбом каменную стену. Да, ты получил мировую известность, на твои постановки ломится публика, твое имя звучит на всех языках. И, кажется, это предел всех мечтаний. Но вот смотришь на себя и понимаешь, что тебе за сорок, ты загнан и болен, ты не можешь спать, пока не выжрешь убойную дозу снотворного, и не можешь встать утром с постели, пока не занюхаешь полграмма. И все лучшее, юное, светлое, все безумные идеи, вся та музыка, которая мучила тебя ночами — все это истерлось, износилось, прошло. И страшно бывает остаться наедине с собой, и только и остается, что целыми днями изводить себя и артистов на бесконечных репетициях, а ночами колесить из клуба в клуб, боясь возвращаться домой.
— Никита, а как же твои жена, дети?
— А что дети? Дети меня почти не знают, я никогда не занимался ими. Младший вообще учится в Лондоне, подальше от этого вертепа. И, когда приезжает домой, боится меня как огня. А старший давно свалил из родного дома, не желая иметь ничего общего с папашей-наркоманом. Я не знаю, чем он занимается. По-моему, он какой-то программист.
— Ну а как же жена? Ты же, наверно, любил ее, Никита?
— Ой, моя маленькая Ассоль… Любил, да… И не только ее, а еще тысячу прекрасных женщин, которые встречались мне на пути. Вот только она, одна-единственная, способна была выносить меня все эти годы. Потрясающе стойкая женщина, аж деваться некуда от этой стойкости. Представляешь, всю жизнь плакала, что я — ярмо на ее шее, но почему-то никак не хотела его сбрасывать. Единственная моя… — с каким-то нервным, переходящим в злую истерику смешком произнес Никита.
Лика обхватила руками плечи, будто сдерживая невольный утренний озноб.
— Никита, а как же было со мной? Скажи мне, мне так важно это знать, ты тогда хоть чуточку меня любил?
В глазах его на мгновение мелькнуло что-то радостное:
— Как я мог тебя не полюбить? Ты была тогда такая юная, такая трогательная, такая преданная…
Он тяжело уронил голову на руки, и Лика ласково провела рукой по его мягким серебристо-белым теперь волосам. Он поцеловал ее ладонь, потянул к себе. И Лика пересела ближе к нему, на низкий полукруглый диван.
— Никитушка, родной… Ты просто устал, тебе отдохнуть нужно, отдышаться…
Никита тяжело поднял голову, улыбнулся горько, натужно.
— Ты ведь совсем недавно здесь, правда? И тебе кажется, что ты попала в страну небывалых возможностей, ведь так?
— Так… — нехотя призналась Лика.
— Бедная моя маленькая Ассоль. — Он тяжело навалился ей на плечо. — Мы поговорим с тобой после, через несколько лет, когда эта страна небывалых возможностей сожрет тебя с потрохами и не подавится.
Он вдруг придвинулся совсем близко. И Лика вдохнула его запах, не тот пряный запах корицы, круживший ей когда-то голову, а тяжелый аромат влажных лилий, модного одеколона и въевшегося в волосы табака. И она неожиданно провела пальцем по темным ресницам Никиты и, запустив руки в его мягкие волосы, нежно припала к губам. Она ждала, что в голове немедленно разорвется бомба, залив глаза холодным белым светом. Что сердце заполнит собой грудную клетку, а ноги сделаются ватными. Но ничего подобного не произошло. Она целовала его, словно хотела поделиться с этим загнанным, потерявшим себя человеком своей жизненной силой, протянуть ему руку, как протягивают утопающему. Кто, как не она, могла понять его в этот момент, кто, как не она, знала, что такое — ощущение одиночества, конца, обреченности, пустоты.
— Никита, — оторвавшись от его губ, прошептала она в его плечо. — Если б ты знал, как я тогда тебя любила… Как я ждала, что ты когда-нибудь вернешься.
Никита отчаянно взглянул на нее, спросил, словно ожидая высшей милости:
— А теперь?
Лика помолчала, глядя на его склоненную, словно изломанную спину, на изящный серебристый затылок. Что она могла сказать? Жизнь удивительно сволочная штука. Ты можешь тысячу лет жалеть о том, что упустил когда-то в юности, а здесь, сейчас отказываться от возможности наверстать упущенное. Потому что того уже не будет, и ты отчетливо это понимаешь. И лучше уж опустить руки, сохранив нетронутыми пережитые воспоминания, чем уничтожить все, что было тогда, получив взамен лишь боль и разочарование.
— Никитушка, родной, ты милый, ты красивый, ты такой талантливый! В тебе еще столько света и тепла. Ты просто запутался, растерялся. — Она обхватила руками его поникшие плечи.
— Ничего не вернуть, верно? — сдавленно прошептал он. — И тебя у меня не осталось?
— Никита, ты сам у себя остался! А это важнее тысячи Ассолей, вместе взятых.
Казалось, они вечно могли бы сидеть так, потупившись, легко касаясь друг друга плечами, словно только что пережив заново юность и получив глоток свежего воздуха, дающий силы для продолжения этой вечной борьбы, именуемой жизнью. Но у столика появился Джонсон, процедил сквозь зубы:
— Лика, дорогая, может быть, я возьму наконец для нас такси?
И Никита встрепенулся:
— Действительно, пойдемте. И правда пора по домам.
Они вышли из клуба. Лика зябко поежилась, передернула плечами под налетевшим прохладным утренним ветерком. Пирс остановил медленно ползший по сонным улицам ярко-желтый автомобиль, распахнул перед Ликой дверцу. Она помедлила, взглянула на Никиту. Тот вскинул руку в грациозном прощальном жесте, сверкнул аквамариновыми глазами, снова нацепил изысканную великосветскую улыбку:
— Дорогие друзья… Был очень рад. Прощайте!
И, помедлив немного, прежде чем развернуться, он, бросив «Извини, Пирс, ничего личного», сгреб Лику в охапку и поцеловал, прошептав:
— Спасибо тебе! Будь счастлива.
И, легко и стремительно перемахнув через дорогу, скрылся за хлопнувшей блестящей дверцей черного лимузина.
3
Никита, конечно же, просил Лику не пропадать, звонить, клялся, что не отпустит ее так, обязательно нагрянет в ее холостяцкое логово и вытащит на очередную пирушку. Однако Лика знала, что это лишь слова, больше он не появится. Наверно, она сама рада была такому исходу. Как будто давний нерешенный вопрос вдруг закрылся раз и навсегда, как будто она подвела итог под этой историей и отправила ее в пыльный архив памяти.
Жизнь шла своим чередом. Пирс, подувшись немного после неожиданного фривольного ее поведения, вскоре остыл, и непринужденный тон их партнерско-интимных отношений восстановился. Лика продолжала честно нести свою вахту в качестве специального корреспондента службы новостей Первого канала в Нью-Йорке. Однако все ее мысли, все расчеты на будущее были связаны с их совместным с Пирсом проектом. Она, не жалея сил, колесила по Нью-Йорку в недавно купленном темно-синем «Форде», отыскивая пристанища беженцев, борясь с тошнотой, ныряла в непостижимо грязные, вонючие трущобы, пыталась разобраться в самых разных акцентах.
В одну из ночей Лика беседовала с группой миниатюрных бангладешцев с нежно-оливковыми лицами, ютившихся под опорами большого каменного моста. Присев на корточки и выставив вперед темную коробочку диктофона, она задавала вопросы наиболее бойкому из всех молодому парню. Внезапно где-то совсем рядом заворчал мотор машины, темноту прорезал свет фар. Лика ожидала, что ее собеседники, услышав приближающийся автомобиль, разбегутся кто куда в страхе встретиться с полицией, забьются по щелям, как потревоженные ночью на кухне тараканы. Но, на ее удивление, они обрадованно залопотали на своем непонятном наречии и, забыв про Лику, направились к остановившемуся чуть поодаль фургону.
Из кабины выскочила улыбчивая девушка в форменной куртке, вслед за ней два дюжих молодца вытащили из кузова массивные дымящиеся котлы. Девушка, вооружившись половником, принялась разливать по пластиковым тарелкам густое варево, азиаты, выстроившись в очередь, с благодарностью принимали из ее рук пищу. Дождавшись, пока все страждущие получили свою порцию ужина, Лика направилась к уже сворачивающей полевую кухню девушке и принялась расспрашивать ее. Оказалось, что девчонка — активистка какой-то волонтерской организации, обеспечивающей бездомных горячей пищей и медикаментами. Девушка, торопясь отправиться дальше к ожидавшим ее голодным, быстро рассказала корреспондентке:
— Нам многие обеспеченные люди помогают. Жертвуют деньги, одежду. Самый сложный вопрос, конечно, с лекарствами. Но недавно и с этой проблемой удалось справиться. С нами связался один бизнесмен, руководитель крупной фармацевтической компании. Он очень помог нам с медикаментами.
— Как же зовут этого доброго гения? — заинтересованно спросила Лика.
И девушка, уже запрыгивая в кабину фургона, крикнула в окно:
— Мистер Греков. Мистер Андрей Греков.
Лика вздрогнула. Это имя, прозвучавшее из прошлого, эхом отозвалось в жаркой наполненной странными звуками и острыми запахами нью-йоркской ночи. Андрей Греков, руководитель крупной фармацевтической компании… Ну конечно, было бы странно, если бы он не достиг высот. Благородный, целеустремленный, милосердный былинный богатырь. Сколько же они не виделись? Четыре года? Интересно было бы посмотреть на него теперь, здесь, в другой стране. Этот мистер Греков просто преследует ее. Надо же, как мала наша земля. А что, если… Что, если взять у доброго доктора интервью в рамках проекта? Одно то, что они встретятся тут, за одиннадцать часов лета от Москвы, уже повод… Заявиться с диктофоном — мол, расскажите, как дошли до жизни такой, почему помогаете бездомным?
На мгновение она засомневалась, стоит ли встречаться с этим давно вычеркнутым из сердца человеком. Вспомнился их последний разговор, мучительная неловкость, сквозившая в его взгляде, в жестах, отчаяние, охватившее ее, когда стало окончательно ясно, что нафантазированное ею светлое будущее никогда не наступит. Она решительно тряхнула головой, выдавила из себя непринужденную безразличную улыбку. Ну нет, с той историей давно покончено, и она уже не та сомневающаяся и вечно ждущая чего-то девчонка, какой была тогда. Да и грош ей цена как профессионалу, если упустит нужное интервью из-за каких-то глупых рефлексий. Решено, завтра же утром она отыщет телефон благородного и бескорыстного мистера Грекова и договорится с ним о встрече.
Офис Андрея располагался почти на самом верху одной из центральных нью-йоркских высоток, в деловой части города. У Лики даже дух захватило, когда, едва вступив в кабинет большого босса, она оказалась перед стеклянной стеной, за которой открывалась панорама огромного, ощетинившегося небоскребами города. Сквозь окно, выходящее на юг, виднелся изгиб Бруклинского моста, которого Лика смутно побаивалась. С севера же розовели в лучах заката каменные замки Нью-Джерси. Впрочем, вполне возможно, что виновником минутного удушья был не вечно спешащий город, а мужчина, поднявшийся ей навстречу из-за широкого стола темного дерева. Черт его подери, душу он, что ли, дьяволу заложил за вечную молодость? И не думает меняться, подлец! Ну, черты лица чуть грубее, мужественнее, ну, морщинки возле темно-синих глаз — впрочем, это может быть и от солнца. Золотистые волосы, ничуть не поредевшие, без седины, зачесаны назад, волнами спускаются к затылку. Дорогая светло-зеленая рубашка, белые брюки, кожаный ремешок часов охватывает широкое запястье, никаких украшений… Все тот же невозмутимый, спокойный от сознания собственной силы и правоты богатырь из русских народных сказок.
— Привет, спаситель всех голодных и обездоленных! — вспомнила Лика их былую шуточную манеру общения.
Она подчеркнуто непринужденным дружеским жестом протянула ему руку. Он удержал ее в ладонях, будто случайно чуть погладил тонкие пальцы.
— Здравствуй, независимый корреспондент.
С формальностями покончили быстро. Лика задала вопросы по составленному заранее списку, удивляясь, что впервые, кажется, за все время ее профессиональной деятельности, спрашивает точно по шпаргалке, не импровизируя, не цепляясь за что-то интересное в процессе. Просто отрабатывает скучную повинность, спеша перейти к своим не одобренным редакцией личным вопросам.
— Удивился небось, когда тебе секретарша назвала мое имя? — весело прищурилась Лика.
— Ничуть, — покачал головой он. — Ты не бог весть какой неуловимый Джо.
— В смысле? — сдвинула брови она.
— В смысле, я давно знал, что ты здесь, — развел руками Андрей.
Она спросила, подавив всколыхнувшееся внутри неприятное чувство — обиду, разочарование?
— Чего же не объявлялся?
— Повода не было, — отозвался Андрей.
Ну разумеется. С какой стати ему, деловому человеку, миллионеру, обремененному семьей, без повода заявляться к какой-то знакомой юности.
— К тому же, — добавил он, — ты тогда не ответила на мое письмо, не позвонила. И я не был уверен…
— Да… Я тогда не успела… — смешалась Лика. — Так замоталась с этим отъездом. А что за дело у тебя было?
— Да не бери в голову. Теперь уже неважно, — отмахнулся он.
— Ясно… — кивнула она.
За окном пророкотал полицейский вертолет. Лика машинально поглаживала пальцем хромированный край диктофона. Андрей, прикусив нижнюю губу, очень сосредоточенно перекладывал бумаги на столе. Затянувшееся молчание сковало сам воздух в кабинете…
На столе задребезжал телефонный аппарат. Андрей стремительно снял трубку, заговорил с секретаршей, нахмурился, покосился на часы. И Лика, внезапно почувствовав себя лишней, назойливой, отбирающей время у занятого человека репортершей, рывком поднялась с кресла.
— Что ж, спасибо за интервью. Я пришлю тебе экземпляр газеты, только это, наверно, будет не скоро. Это долгий проект…
— Подожди! — остановил ее Андрей.
Он вышел из-за стола, подошел ближе, снова коснулся ее руки. И солнце, словно специально поджидавшее удобного момента, выплыло из-за растрепанного белого облака и ударило в стеклянную зеркальную стену кабинета со всем своим нестареющим, вечно молодым жаром. Золотыми пятнами легло на скулы этого большого крепкого русского мужика, зеленоватыми бликами заискрилось в глазах Лики. И заставило сердце биться сильнее, мешая дышать. Черт возьми, и как это Андрею удается работать в таком душном кабинете?
— Мы ведь так и не поговорили по-хорошему, — начал он. — Может быть… Встретимся как-нибудь? В неформальной обстановке?
— Пожалуйста, — улыбнулась она. — Но ты ведь такой занятой человек.
— Это верно, — со смехом отозвался он. — В Нью-Йорке у меня секунды свободной не бывает, проклятый телефон не унимается. Расстрелять бы того, кто изобрел мобильные! Я его вырубаю, только когда улетаю во Флориду на несколько дней.
— Вот видишь, — развела руками Лика. — И на том спасибо, что для интервью выкроил минутку. Ты же акула капитализма, какие могут быть дружеские встречи.
— А знаешь что, — предложил вдруг Андрей. — Поехали вместе! Серьезно! Приглашаю тебя к себе на дачу, так сказать.
— Огурцы полоть? — хохотнула Лика. — Или колорадских жуков собирать? Учти, мое время теперь дорого стоит, если ты собирался эксплуатировать меня как бесплатную рабочую силу…
— Ничего, я с тобой расплачусь дарами природы, — подхватил он. — Отсыплю тебе пару кило экологически чистых помидоров, тут это дорого стоит, сможешь обогатиться. Не, правда, давай слетаем? В ближайшие выходные?
— А… жена твоя не будет возражать? — чуть прищурившись, ядовито спросила Лика.
— У меня нет жены, — спокойно ответил Андрей. — Мы… разошлись.
Сердце подскочило до самого горла и бешено застучало в голове.
— Ты ничего не перепутал? — пересохшими губами выговорила она. — Или потом к тебе опять не вовремя вернется память?
— Нет, — сдвинув брови, серьезно подтвердил Андрей. — Это точно. Никакой жены у меня давно нет.
— Я ничего не понимаю… — в голосе Пирса звучали неприкрытые собственнические нотки. — Куда ты собралась, интересно? — В гости к одному знакомому. Это недалеко. Всего на два дня.
Лика крутила руль, пытаясь хитрым маневром выбраться из намертво вставшего нью-йоркского трафика. Мобильный телефон она плечом прижимала к уху.
— К Андреевскому? — насторожился Джонсон.
Лика невольно фыркнула. Похоже, ее американский друг пришел в ужас. Должно быть, та разгульная ночь и вправду произвела на него сильное впечатление, и теперь он лихорадочно подсчитывает, на сколько дней выйдет из строя его проверенный боец, если снова встретится со змеем-искусителем.
— Нет, не к Андреевскому, — поспешила она успокоить Пирса. — К одному… руководителю фармацевтической компании. Он оказывает помощь волонтерской организации, занимающейся бездомными. Хочу взять интервью, это будет интересно…
Впереди, откуда ни возьмись, появилась белая «Хонда». Лика резко ударила по тормозам и лихо обругала неаккуратного водителя, высунувшись в окно.
— И из-за этого интервью мы должны отложить съемку? Я уже договорился с фотографом, он должен был связаться с тобой сегодня вечером…
— Слушай, эмиграционная служба США уже столько лет не может справиться с нелегалами. Неужели ты думаешь, они за неделю испарятся? Снимем в следующий раз.
— Мне не очень нравится эта идея, — не унимался Пирс. — Я не люблю, когда срываются планы. Ты уверена, что это интервью того стоит?
— Уверена! — резко бросила Лика. — Абсолютно уверена. Все, дорогой, не могу больше говорить. До связи. Я позвоню.
Она остановила «Форд» на стоянке аэропорта, выйдя из машины, захлопнула дверцу, вдохнула тяжелый душный запах раскаленного асфальта. Вытащила из багажника небольшую сумку и, отключив мобильный телефон, сунула его на самое дно. Затем посмотрела в плавящееся над Нью-Йорком небо. Вот точно такого же цвета глаза у мужчины, пригласившего ее провести с ним несколько дней вдвоем, в маленьком уютном доме на берегу океана.
4
Солнечный луч горячим пятном лежал на переносице. Лика поморщилась и надвинула ниже широкополую соломенную шляпу. Впервые за много лет она вот так спокойно, никуда не спеша, лежала, растянувшись, в шезлонге у бассейна. Рядом высокий полосатый зонт — раскрой его, и попадешь в блаженную тень. Стоит протянуть руку, и пальцы ухватятся за влажный бок бокала, в котором плещется холодный мохито. А через час в доме зазвонит колокольчик, приглашая ее отобедать чем бог послал. Казалось бы, судьба, наигравшись с ней вдоволь, наконец забросила ее в рай. Лежи, ни о чем не думай, наслаждайся пропекающим до самых костей солнечным теплом. Лика же вместо этого отчаянно злилась.
Черт бы подрал этого Андрея, вечно он заставляет ее чувствовать себя полной идиоткой и сволочью. «Поехали вместе, проведем уик-энд в моем доме у моря…» Она и развесила уши, размечталась. Навоображала себе, что он наконец-то понял, оценил, решился… Представила, как на этот раз все будет совсем по-другому. Они смогут просто беседовать, говорить обо всем на свете, сидя вечером на берегу океана. И глядя на закат, она вздохнет, и, может быть, расскажет ему обо всех этих уносящихся с посвистом вдаль одиноких годах. О том, как выматывала себя работой, чтобы, возвращаясь в пустой дом, сразу же падать головой в подушку и выключаться до утра. О том, как пришлось бежать из России, из родного города, где еще оставалось хоть какое-то призрачное ощущение, что она не одна на целом свете. А Андрей будет слушать молча, крепко сжимая ее руку, и от его ладони по телу будет разливаться приятное тепло…
На деле же все произошло совсем иначе, и Лике теперь было стыдно и досадно за свои глупые романтические мечты. Уже в который раз. Стоило им с Андреем въехать на машине в автоматически открывающиеся ворота, как со стороны дома на них понеслось какое-то полуголое лохматое существо. Андрей вышел из машины, и перемазанное чем-то черным, замотанное в красную тряпку существо, истошно голося, повисло у него на шее.
— Кто это? — ошеломленно спросила Лика, выглянув в окно автомобиля.
— Это Артур. Мой сын, — радостно пояснил Андрей. — Артурка, познакомься, это моя старая подруга, Лика.
— Привет! Ты кто такой? Первобытный человек?
Лика вышла из машины, присела на корточки и протянула руки к малышу. Мальчишка был очень похож на Андрея — те же насыщенно-синие глаза, всклокоченные золотистые кудри, прямо-таки маленький ангел с пасхальной открытки. При одном взгляде на него хотелось немедленно взъерошить ему волосы, защекотать, заласкать это глазастое чудо. Ребенок обернулся на нее, сверкнул горячими злыми глазами и бросил:
— Отстань, жопа!
Лика задохнулась от возмущения, Андрей же лишь рассмеялся и с притворной строгостью погрозил отпрыску пальцем:
— Ну вот, разве можно так со взрослыми?
— Пап, а что ты привез? — не выказывая ни малейшего раскаяния, теребил его сын.
— А вот мы сейчас посмотрим. — Андрей, зажав в ладони маленькую лапку Артура, повел его к багажнику машины.
Лике же ничего не оставалось, как отправляться на поиски дома самостоятельно.
Андрей мог, по крайней мере, предупредить ее, что в прекрасном райском уголке, куда он ее пригласил, будет еще один жилец с довольно-таки несносным характером. Она могла бы как-нибудь подготовиться к этой встрече. Может, захватить с собой какой-то подарок, чтобы завоевать расположение наследника фармацевтических капиталов. Черт, она, конечно, всегда любила детей, но, вот беда, совершенно не представляла, как с ними нужно обращаться… Так что со стороны Андрея было не слишком-то корректно ставить ее перед фактом. Или он думал, что Лика с первого взгляда подружится с его дурно воспитанным отпрыском? Хотел сделать приятный сюрприз! Может, тут все-таки еще и супруга где-то припрятана?
Однако жены в небольшом двухэтажном домике из белого камня, где в каждой комнате веяло кондиционированной прохладой, а с террасы открывался вид на океан, не было. В этом Лика убедилась, немного поболтав с тихой горничной Салли, явившейся показать приготовленную для нее спальню. Постоянно в доме жил только маленький Артур с бессменной чернокожей няней, отец же наведывался к сыну лишь по выходным, и то не каждую неделю.
— Хозяин так занят, — участливо качала головой Салли. — Бизнес, поездки…
«Занят… — огрызнулась про себя Лика. — Так занят, что времени на воспитание мелкого тирана у него не хватает». Впрочем, она постаралась подавить вспыхнувшую в ней неприязнь. В конце концов, это ребенок, маленький мальчик. К тому же так похожий на отца… И он не виноват в том, что папаша с мамашей не научили его, как себя вести. Надо будет попытаться найти с ним общий язык.
Однако подружиться с этим вождем краснокожих оказалось решительно невозможно. За завтраком мальчишка плевался вишневыми косточками через картонную трубку, пару раз угодил Лике в тарелку, вызвав лишь добродушное ворчание любящего отца. Затем пробрался к ней в комнату, выкрал из шкафа туфли и выкрасил их ядовито-желтой краской. На предложение Лики поиграть отозвался:
— Давай! Чур ты будешь уродливая ведьма! Ты на нее похожа.
И, в конце концов, когда Лика шла вдоль бортика бассейна, с разбегу плюхнулся в воду, окатив ее с ног до головы фонтаном брызг.
Ни о каких неспешных откровенных беседах с Андреем речь уже не шла. Безумный папаша ни на шаг не отходил от своего отпрыска, восторгаясь каждой его шалостью. Лика терпеливо ждала, когда нянька поведет маленького разбойника заниматься, думала, хотя бы тогда им удастся провести наедине пару часов. Но не тут-то было. Артур, ревниво покосившись на нее, заявил, что не пойдет заниматься без папы, хочет ему продемонстрировать, как он научился читать. И Андрей беспомощно развел руками:
— Что ж, придется пойти. Ты не заскучаешь? — обратился он к Лике.
— Ну что ты! — ядовито отозвалась она. — Пришли ко мне двух обнаженных мулатов, и можешь проваливать на все четыре стороны.
Однако, как оказалось, в этом гиблом месте Андрей утратил не только здравый смысл, но и чувство юмора. Он криво усмехнулся, не нашелся что ответить и потащился в дом вслед за довольным пакостником. И вот уже почти два часа она лежала тут у бассейна одна, больше не грезя о романтических прогулках под луной по флоридским пляжам, но надеясь, по крайней мере, что за два дня не свалится здесь с нервным срывом.
Два часа, проведенные в тишине, под солнцем, прохладный душ и выпитый у бассейна бокал мохито почти вернули ей благодушие. К обеду Лика спустилась в длинном невесомом сарафане, поймала скользнувший по ее обнаженным опаленным солнцем плечам взгляд Андрея и не смогла сдержать довольную улыбку. Что ж, может быть, все еще не так плохо. И, будто услышав ее мысли, на веранду, где был накрыт к обеду стол, словно черт из табакерки, выскочил Артур. Умытый и облаченный в чистое, мальчик уже не казался таким чудовищем. Обыкновенный избалованный ребенок пяти с гаком лет. Лика улыбнулась и ему, спросила:
— Как позанимался?
— Не твое дело! — буркнул мальчишка, влезая на стул.
— Артур, ну как ты разговариваешь с гостьей? — повысил наконец голос Андрей.
— Она мне не гостья. Я ее не звал, — огрызнулся мальчишка, цапнул с блюда куриную ногу и принялся есть ее, пачкая лицо и футболку капающим жиром.
— Извини, я… — обратился к Лике Андрей.
И та, гордясь своей выдержкой, бросила примирительно:
— Не обращай внимания. Он просто шутит.
— Ты обещала рассказать мне подробнее про свой проект, — попытался замять неловкость Андрей. — Что там за история с нелегалами?
— Тебе правда интересно? — обрадовалась Лика. — Вообще изначально идея была не моя, а моего… знакомого американского журналиста Пирса Джонсона. Но теперь, когда я столько сил вложила в эту работу, мне уже кажется, что это дело моей жизни, извини за высокопарность.
Она принялась увлеченно рассказывать о материалах, которые удалось собрать, о том, что еще запланировано, и как проект будет выглядеть по завершении. Андрей заинтересованно слушал ее, задавал вопросы. Мальчишка же явно страдал оттого, что всеобщее внимание не было сосредоточено на нем. Он угрюмо возил ложкой по тарелке, катал шарики из хлебного мякиша, зевал и всячески выказывал свое недовольство. Андрей, однако, впервые за этот день решил уделить часть своего внимания Лике и на обиженное пыхтение сына не обращал внимания.
Салли внесла блюдо с покрытым шоколадной глазурью тортом.
— Ты не разрежешь? — с улыбкой попросил Лику Андрей.
Она встала, неуверенно взялась за нож. Удивительно, на какое-то мгновение ей показалось, что здесь, с ней за столом, ее муж и сын. Что это обычный для них субботний семейный обед. Сейчас она разрежет торт, разложит куски по тарелкам. Они вместе выпьют чаю, а потом пойдут прогуляться к морю…
Первый кусок торта она протянула Артуру. Мальчишка принял из ее рук тарелку, затем молниеносным движением влез в нежную темно-коричневую глазурь всей пятерней и, быстро выскочив из-за стола, изо всех сил шлепнул рукой Лику по спине. Она вскрикнула от неожиданности. На светлом платье остался жирный коричневый пятипалый след. Мальчишка закатился от хохота.
— Нет, это ни в какие ворота не лезет, — вышел наконец из себя Андрей. — Сейчас же иди в свою комнату.
— Папа, ты что? — испуганно заморгал глазами Артур.
— Дэззи! — громогласно позвал Андрей.
Пыхтя и отдуваясь, прибежала толстая негритянка.
— Заберите этого паразита. И чтоб я его не видел до завтрашнего утра!
Мальчик немедленно заревел, словно Дэззи нажала на нем какую-то невидимую кнопку. Нянька подхватила его на руки и потащила из комнаты, он же яростно отбивался и орал, путая русские и английские слова:
— Не хочу, не хочу ведьму! Пусть она уйдет! Она злая…
Наконец крики стали тише, должно быть, Артура водворили в детскую и захлопнули дверь. Лика подошла к зеркалу, посмотрела через плечо на испорченное платье. Интересно все-таки, за что мальчишка так на нее ополчился? Или дело не в ней самой, а в том, что слишком уж часто появляются в уютном белом домике разнообразные «злые ведьмы»?
— Черт, извини, пожалуйста! — смущенно потупился Андрей. — Я мало времени провожу с сыном и не успеваю как следует заняться его воспитанием. Ты, наверно, готова его убить…
— Ну зачем же убивать? Лучше выпороть хорошенько, — засмеялась Лика.
— Не произноси этого слова вслух в этой стране! — с притворным ужасом замахал руками Андрей. — Иначе за тебя возьмутся социальные службы!
— Признают меня маньяком и монстром и запретят приближаться к твоему дому, — подхватила Лика. — Ладно, Андрей, я пойду переоденусь. Сохрани для меня кусочек торта.
Когда она снова спустилась на террасу, уже темнело. Налетевший с моря легкий прохладный бриз шелестел в тяжелых пальмовых листьях, теребил ветки акаций. По расстилавшемуся далеко внизу серебристому океану плавно катились волны. Небо, окрашенное розовым и сиреневым, словно выгнулось, распласталось над темной поверхностью залива. Андрей стоял спиной к ней, облокотившись на перила. Светлая футболка, обтягивающая крепкие плечи, покрытая темным загаром сильная шея, выгоревшие волосы.
Лика чуть помедлила на ступеньках, чувствуя, как замирает и ухает в груди сердце, бесшумно спустилась, подошла ближе и положила ладонь на его широкую спину. Он обернулся, глаза в свете заката отливали сиреневым.
Лика, оттолкнувшись ладонями, подтянулась, присела на широкую балюстраду, откинула голову.
— Тебе нравится здесь? — спросил Андрей.
Кажется, впервые за все годы их знакомства голос его звучал тихо, серьезно, без тени насмешки. И она на мгновение испугалась этой перемены. Будто какой-то притаившийся за сценой невидимый режиссер дал отмашку, заставляя послушных актеров сменить привычную манеру игры. И ясно стало, что теперь не удастся отшутиться, придется отвечать головой за каждое произнесенное слово.
— Нравится. Очень… — кивнула она.
— А ты… хотела бы поселиться тут? Жить всегда? Каждый день…
Он напряженно вглядывался в ее лицо.
— Андрей, у меня ведь работа, — растерянно напомнила она.
— Я не про работу сейчас говорю, ты же понимаешь…
Он придвинулся ближе, горячие ладони легли на талию, в потемневших вдруг глазах опрокинулась и задрожала выплывшая из-за горизонта луна.
Почему-то вспомнился вдруг дурацкий полудетский треп: «Повзрослею, остепенюсь, заведу жену. Да вот хоть бы и тебя!» Как отчаянно вышучивала она его когда-то, как боялась, что он произнесет эти слова всерьез. И вдруг теперь, после стольких лет, когда все надежды хоть на минуту почувствовать себя обыкновенной женщиной, все невольные мечты о доме и семье, мечты, за которые бывало так мучительно стыдно, когда все это задвинуто в дальний угол, заставлено какими-то другими целями и устремлениями, почти забыто…
— Так как же? — настойчиво повторил он.
Лика почувствовала, как сильные руки крепче прижимают ее, как играют под футболкой крепкие мускулы поджарого тела. Дыхание сбилось и подкашивающей волной ударило по глазам. Уже не думая ни о чем, не понимая, что делает, она обхватила его руками, оплела, вцепилась изо всех сил. Вплелась пальцами в мягкие пшеничные волосы, прижалась к его горячей груди, ощутив, как грохочет, ударяясь о ее ребра, его сердце. Губы коснулись ее виска, щеки и, наконец, нашли рот, прижались жадно, жарко, неотвратимо. И она откинулась назад, исступленно подставляя под его поцелуи шею и плечи. Он что-то шептал, неразборчивое. Радость моя? Люблю?.. А медово-желтая сладкая луна все выше взбиралась по потемневшему небу.
Вдруг что-то больно вонзилось Лике между лопаток. Она дернулась, вскрикнула, обернулась. Андрей от неожиданности разжал руки, и она, потеряв равновесие, едва не рухнула с перил вниз, в темноту. Он все-таки успел подхватить ее, и Лика соскочила с балюстрады на пол.
Она провела рукой по саднившей спине. В испачканных кровью пальцах осталась пластиковая пуля из детского ружья. Конец пули был грубо обструган ножом. Видно было, что кто-то неумело и старательно обтачивал ее, пытаясь заострить.
— Что это?
Андрей не успел ответить, как из пышных кустов жасмина под домом раздался отчаянный гадкий хохот, и на дорожку выскочил Артур в испачканной землей голубой пижаме:
— Я самый меткий в мире стрелок! Хо-хо! — заверещал он, молотя кулаками по груди.
5
— Ну, с меня, пожалуй, хватит! — прошипела Лика и решительно направилась к ведущей в сад лестнице.
Добравшись до беснующегося на дорожке мальчишки, она ухватила его за ухо и поволокла к дому. Артур, кажется, не привык к подобному обращению. В первые минуты он до того опешил, что даже не выказывал сопротивления, лишь испуганно сопел. Однако вскоре самообладание к нему вернулось, и бесеныш заорал что есть мочи:
— Пусти меня, пусти, идиотка! Жопа! Сволочь!
Он принялся яростно отбиваться, упираться, попытался укусить Лику за руку и тут же получил звонкую затрещину. Наклонившись, Лика схватила извивающегося мальчишку поперек живота, оторвала его от земли и несколько раз шлепнула, чувствуя небывалое удовлетворение.
— Ааа, она дерется, дерется! — заголосил Артур.
На дорожке появился Андрей. Лика успела увидеть лишь его сдвинутые брови, кипевшие гневом глаза. Она на секунду даже испугалась — казалось, мальчишке сейчас достанется по-настоящему. Но Андрей неожиданно выхватил сына из ее рук и прижал к себе. Почувствовав, что находится под защитой, маленький монстр тут же уцепился руками за отцовскую шею, привалился к его плечу, ненатурально всхлипывая.
— Ты что, охренела? — взревел Андрей. — Бить ребенка…
Лика возмущенно вскинула брови:
— По-моему, это ты охренел. Ты и твой мелкий мерзавец! Тебе никто не говорил, что детей надо воспитывать?
— У тебя, конечно, огромный опыт в этом вопросе, — парировал Андрей. — Заведи своих детей и воспитывай по своему усмотрению!
На мгновение у Лики перехватило дыхание. Такое бывало с ней когда-то на занятиях по самбо, когда противнику удавалось нанести удар в солнечное сплетение. Резкая ослепляющая боль и невозможность вдохнуть. Мгновенный животный ужас и наступающая вслед за ним слабость.
Она отступила на шаг, машинально вскинула руку к лицу, будто защищаясь. Артур, продолжая реветь, не преминул обернуться к ней и показать язык. И Лика постаралась справиться с собой, выговорила помертвевшими губами:
— Пожалуй, после общения с твоим сыном я на детей никогда не решусь. А то еще, не дай бог, они получатся похожими на него.
Она увидела, как задергалось, задрожало лицо Андрея, и испытала короткую мстительную радость — ей удалось вломить ему, сделать так же больно, как он, может, и не желая того, сделал ей.
Со ступенек, кряхтя и охая, спускалась полная негритянка. Она приняла из рук Андрея ребенка, приговаривая что-то ласковое, успокаивающее, и, обхватив его лоснящимися черными ручищами, понесла в дом.
— Пусть она уезжает, пусть проваливает! — заорал Артур, перегнувшись через плечо няньки. — Я не хочу с ней! Ведьма! Ведьма!
— Андрей, ты что, серьезно считаешь, что этого маленького гаденыша надо было по головке погладить за то, что он воткнул мне в спину стрелу? — воскликнула Лика. — А если б он мне в глаз попал?
— Ему надо было объяснить. Он же маленький, он не понимает… А тебе… Знаешь, тебе действительно лучше уехать, — прищурившись, процедил Андрей.
Ах, вот значит как! Вот чем все закончилось. Господи, неужели она никогда не уяснит себе раз и навсегда, что верить его словам можно не больше, чем горячим новостям в желтых газетенках?
— Ааа, ты опять пошел на попятный, — оскалилась она. — В прошлый раз хотя бы до утра подождал!
— Да, если хочешь… Я беру свои слова обратно, — голос его звучал хрипло, резко. — Я как-то подзабыл, с кем имею дело. Что у тебя прекрасный талант — не видеть вокруг никого, кроме себя. Я готов был мириться с этим, когда дело касалось только меня. Но пригласить тебя в свой дом, в дом, где живет мой сын…
От возмущения Лика даже задохнулась:
— Это меня?.. Меня ты обвиняешь в эгоизме? — с нервным смешком бросила она. — Да ты вечно поступал так, как тебе удобно, появлялся и исчезал, когда тебе вздумается. Тебе ни разу даже в голову не пришло спросить, как я к этому отнесусь…
— Да ну! — глумливо осклабился Андрей. — Может быть, это я наутро объявил тебе, что уезжаю в Афганистан? Не удосужившись даже спросить твоего мнения…
— Ты, если помнишь, наутро заявил мне, что женат! И ни разу, ни одного раза не попробовал меня удержать! — срываясь на крик, сжала руки в кулаки Лика. — Если бы ты только захотел… Ты не оставлял мне выбора. Мне приходилось самой принимать решение. Или ты ждал, что я буду умолять, плакать, унижаться?
— Вот в этом ты вся, — остервенело бросил он. — Считаться с кем-то, думать о чувствах других, проявлять сочувствие — это для тебя унижение. Конечно, зачем? Куда проще объявить всех вокруг бесчеловечными скотами. Тогда уж точно не придется ни о ком думать, можно со спокойной душой идти по головам…
— Это неправда, — отчаянно выкрикнула Лика. — Неправда! Это через меня тысячу раз переступали… да если бы ты только знал!
— Знаешь, ты мне за все эти годы все уши прожужжала о своих чудовищных потерях, — махнул рукой Андрей. — Только ты каждый раз кое-что забываешь. Ты не единственный на свете человек, которому тяжело пришлось. Людям постоянно, каждый день приходится переживать беды, болезни, потери. И это не мешает им оставаться людьми. Ты же размахиваешь своими бедами, как флагом, считаешь, что это дает тебе право вести себя, как тебе вздумается. На деле же тебе просто наплевать на всех окружающих! Поэтому у тебя нет ни мужа, ни детей! И, уж ты мне поверь, с твоим характером никогда не будет!
В голове звенело. Темный сад, наполненный тяжелым удушливым запахом цветущих акаций, показался вдруг опасными ощетинившимися джунглями. И захотелось бежать, немедленно бежать отсюда.
Почувствовав, что больше не вынесет, не сможет сдерживаться, Лика рванулась вперед и быстро направилась к дому. Скорее из этого райского уголка, превратившегося в невыносимый кошмар. Уже у ступенек она обернулась и сказала тихо, боясь, чтобы не задрожал голос:
— У меня хоть такое оправдание. А чем ты, интересно, извиняешь свою трусость? Ни разу в жизни тебе не хватило духу стукнуть кулаком по столу и сказать: «Ты моя! Я никуда тебя не отпущу!»
Не дожидаясь ответа Андрея, она взбежала по ступеням и скрылась в доме.
Взлетела по темной лестнице на второй этаж. На бегу оступилась, едва не рухнула вниз, но успела удержаться за перила, лишь коленку рассекла о мраморный край ступеньки. Оказавшись в своей комнате, выдернула из шкафа дорожную сумку, бросила на постель, принялась срывать с вешалок одежду, пестрым комком засовывать ее в раззявленный рот сумки.
Вот, значит, зачем он пригласил ее сюда! Прочитать проповедь, рассчитаться за все нанесенные обиды! Может быть, она и в самом деле не лучший человек на свете, ну так и нечего тогда лезть со своей нержавеющей дружбой, приглашать на уик-энды к морю. Она такая, какая есть! Этим все сказано!
Запихнув все вещи в сумку, Лика присела на край кровати, перевела дыхание. Взяла с тумбочки мобильный телефон, набрала номер:
— Будьте добры, я хочу заказать такси. Да, чем быстрее, тем лучше.
Диспетчер пообещала, что машина будет в течение получаса. Лика бросила трубку на кровать. Ярость прошла, уступив место страшной усталости, опустошению. Господи, да что же за человек она такой, что ничего у нее не получается, как у людей. Что за проклятая карма такая?
В дверь осторожно постучали, и Лика в смятении вскочила с кровати.
На пороге стояла Дэззи, няня маленького Артура.
— Можно к вам, мэм? — пробасила она.
— Конечно, входите, — устало кивнула Лика.
Дэззи будто сразу заполнила собой всю комнату, потопталась, тяжко вздыхая, и, наконец, тяжело опустилась в кресло.
— Я вам что сказать хотела, мэм, — начала она. — Вы уж не обижайтесь на мальчика. Избалованный он, конечно, что и говорить. Отец души в нем не чает…
— Послушайте, Дэззи, я прекрасно понимаю, что родительская любовь бывает слепа. Но всему есть предел! — оборвала Лика. — Если за этого мальчишку не взяться как следует, он превратится в монстра!
— Вы правы, конечно, мэм, правы, — закивала Дэззи. — Да уж очень мистер Андрей трясется над ним после той истории. Беда-то ведь какая! Мать мальчика, бывшая жена мистера Андрея, она их бросила. Вы не подумайте, мэм, что я сплетничаю, да только дурная она была женщина. Три года только мальчонке было, когда повстречала она какого-то восточного миллионера. Шейха, что ли, или принца, я не разбираюсь. Да и объявила мистеру Грекову, что уходит от него. А он ей говорит, мол, сына я не отдам. А ей только того и надо было, подмахнула бумаги, что от ребенка отказывается, и упорхнула.
— Что же, так и бросила мальчика? — недоверчиво покачала головой Лика.
— Так и бросила. Не виделась с ним за эти годы ни разу, не объявлялась. А малыш-то уж так тосковал по ней. Он ведь даже говорить перестал, представляете? Похудел совсем, одни глазки остались, хлопает ими и молчит. Уж сколько его мистер Андрей по врачам таскал, по психологам. Еле-еле поставили на ноги ребенка. Вот теперь он, может, и перебарщивает немного, да что уж взять? Малыша-то жалко, сиротой, считай, стал при живой матери…
Неожиданно вспомнились сильные бабкины руки, отрывающие ее, маленькую, от такой красивой, мягкой и душистой мамы. Отчаянные вопли, сопровождающие еженедельное бегство расстроенной родительницы вниз по лестнице. И выедающая душу тоска, привычная, давно поселившаяся внутри боль. Жизнь без мамы…
Будь ты другой, более строптивой, сильной, непокорной, может, ты бы тоже не пряталась под кроватью? Может, и ты стреляла бы по случайным гостям из игрушечного ружья, отвоевывая то единственное, что судьба еще оставила тебе — папу?
— Когда, вы говорите, жена мистера Грекова оставила его? — быстро спросила вдруг Лика.
— Да уж почти два года прошло, — махнула полной рукой могучая негритянка.
Два года… Вспомнилась вдруг записка, всунутая в дверь ее московской квартиры: «Я в Москве. Нужно встретиться. Андрей». Так вот, значит, что у него было за срочное дело? Спешил сообщить, что снова холостяк? Она будто физически ощутила, как комкает в руке гладкий листок, как метким движением вышвыривает его в приоткрытую форточку. Кто знает, не поступи она так тогда, возможно, все сложилось бы по-другому… Может быть, ей удалось бы подарить брошенному маленькому мальчику все нерастраченное тепло и любовь, сделать его мягче, доверчивее, добрее. И Артуру не пришло бы в голову с оружием в руках защищать свою территорию. Да что там, может, эта территория, этот белый дом с садом стали бы и ее домом. И Андрей никогда не бросил бы ей в лицо эти жестокие обвинения… Возможно, они все трое смогли бы постепенно научиться доверять друг другу…
На покрывале затренькал мобильный телефон. Лика ответила на звонок.
— Вы заказывали такси? — осведомилась диспетчер. — Машина у ворот.
Что ж, как бы там ни было, сделанного не изменишь. Все случается так, как должно случиться, и пути назад нет. Лика поднялась с кровати, тряхнула головой, вскинула на плечо сумку.
— Дэззи, спасибо вам. Я, наверно, и правда была слишком резка с мальчиком…
— Ничего, мэм, вы же не знали… — закивала верная нянька, тяжело поднимаясь из кресла.
— Мне пора ехать. Спасибо вам за гостеприимство. И передайте, пожалуйста, мистеру Грекову…
Она замялась. Что ей сказать Андрею на прощание? Что она огорчена его семейной трагедией? Что, знай она о том, как все произошло, возможно, вела бы себя по-другому? Что сожалеет о вырвавшихся у нее в пылу гнева словах? Черные круглые глаза смотрели на нее с мудрой внимательной добротой.
— Просто передайте «до свидания», — закончила она и вышла из комнаты.
6
Вернувшись в Нью-Йорк, она первым делом затерла последнюю диктофонную запись. Расшифровывать пленку, заново вслушиваясь в его голос, было выше ее сил. Пирсу пришлось что-то наплести про так и не взятое интервью. Кажется, произошла ошибка, и добрый бескорыстный меценат на деле оказался колумбийским наркобароном.
Впрочем, и без этого злополучного интервью работы хватало. Беженцы, нелегалы, бездомные… Съемки, зарисовки… Лето сменилось осенью, осень — зимой. И Лика в какой-то момент осознала, что давно уже не помнит, какое время года на улице. День и ночь, зима и лето — все перепуталось в голове, осталась лишь бесконечная гонка. Успеть, записать, заснять. Пирс неизменно бубнил:
— Еще! Нужно собрать еще материала. Если мы хотим, чтобы этот проект и в самом деле произвел фурор…
У Лики же даже не оставалось времени задуматься, для чего ей нужно, чтобы проект произвел фурор. И нужно ли? Временами казалось, она, как белка, попала в несущееся на огромной скорости колесо и машинально перебирает лапками, стремясь все вперед и вперед, не замечая, что уже бог знает сколько времени крутится на одном месте.
И лишь иногда, в редкие минуты душевного просветления, удавалось вдруг словно выскочить из дребезжащего, мчащего ее куда-то круга, вдохнуть глоток воздуха, оглядеться. Такое случалось, когда под утро приходил старый сон, и Лика подскакивала на постели и еще несколько минут не могла понять, как она оказалась в этой пустой гулкой комнате, если еще секунду назад барахталась в снегу, задыхаясь, путаясь, не в силах выбраться. Она приподнималась на постели, садилась, обхватив острые коленки руками, мутно смотрела в окно, за которым простиралась манящая сладко кружащая голову пустота.
Или как-то на Бруклинскому мосту… Она спешила куда-то, бежала, забросив на плечо тяжелый рюкзак и вдруг остановилась на минуту, прижалась к перилам, как завороженная глядя, как рябит на неярком зимнем солнце вода залива далеко внизу. И снова высота поманила вниз, сладко нашептывала что-то, обволакивая, завлекая. Лика машинально нащупала в кармане зажигалку, вытащила ее на свет, подержала в кулаке и вдруг разжала пальцы. Не отрываясь, следила, как гладкий брусок, переворачиваясь и бликуя на солнце металлическим боком, отвесно летит вниз. Так высоко, даже всплеска не было слышно, когда водная гладь, неохотно расступившись, поглотила маленький кусочек металла, еще минуту назад преспокойно почивавший в ее кармане…
Лика удобнее закинула на спину рюкзак. Нужно было бежать — на сегодня у нее запланирован еще один репортаж для российского телевидения, а вечером они с Пирсом договорились обсудить ее последние наработки.
Весной Лике исполнилось тридцать пять. Она не ждала многого от этого дня, давно уже перестала воспринимать собственные дни рождения как праздник. Так просто, еще одна дата в календаре. Но в этот раз почему-то затосковала по детскому ощущению готовящегося чуда, по праздничному пирогу, подаркам и пожеланиям. Договорились вечером встретиться с Пирсом, сходить куда-нибудь. В кои-то веки выбралась походить по магазинам, купила себе совершенно сногсшибательное платье — бледно-зеленое, в тон глазам, легкое, воздушное, и туфли — остроносые, на немыслимых тонких каблуках. И Лика, притащив все это великолепие домой и вертясь перед зеркалом, невольно подсмеивалась над собой. Кем это вы, барышня, себя вообразили? Вам не к лицу и не по летам наряжаться, словно на выпускной бал. А впрочем… Чем черт не шутит, имеет она право хоть раз в жизни побыть тем, чем ее задумала природа — женщиной? На работе, в телестудии, коллеги, бог весть откуда прознавшие про ее день рождения, преподнесли ей чудовищно тяжелую, уродливую статуэтку. Массивная коротконогая кобыла с волнистыми крыльями должна была, вероятно, изображать Пегаса. «Господи, да этой дурой только от бандитов отбиваться!» — подумала Лика, взвесив в руке подарок. Коллеги, однако, так гордились своей изобретательностью, что она, дабы никого не разочаровывать, изобразила восторг.
Она еле дотащила подарок до дома, по дороге забрела в кондитерскую, взяла заказанный заранее торт. Тут же, в располагавшемся поблизости сувенирном магазине разжилась связкой надувных шариков. Потянулась было за фигурно вырезанными в виде цифр свечками для торта, но в последний момент передумала. Это будет, пожалуй, слишком — гордо выставить среди кремовых розочек и взбитых сливок свои тридцать пять.
Она поднялась в квартиру, сунула торт в холодильник, установила Пегаса в центр стеклянного журнального столика, предвкушая, как они с Пирсом, вернувшись из ресторана, вдоволь посмеются над этим громоздким произведением современного искусства. Затем сняла с плечиков нежно-зеленое воздушное облако, стянула через голову свитер, скинула джинсы и нырнула в ласково скользнувшее по телу платье. Сбросила кеды, надела туфли, слегка покачнулась на каблуках, но тут же поймала равновесие, удержалась. Снова засмеялась над собой — поделом тебе будет, красавица недоделанная, если грохнешься посреди ресторана на глазах у изумленной публики.
В брошенном в прихожей рюкзаке завибрировал мобильный телефон. Пирс! Странно, чего это он названивает, должен бы уже подъезжать к ее дому.
— Привет! — весело бросила она в трубку. — Если ты сейчас скажешь, что тебе не удалось заказать столик, я тебя линчую!
— Детка… — смущенно начал он и вдруг перешел на русский.
Должно быть, сообщать неприятное на чужом языке казалось ему проще.
— Я очень сожалею. Обстоятельства сложились против меня.
— Ты еще скажи, «мое нижайшее почтение», — раздраженно оборвала его Лика. — Что случилось?
— Мне пришлось срочно вылететь в Вашингтон. Необходимо осветить в нашей газете конгресс…
— Постой! — перебила Лика. — Как Вашингтон? А как же… А мой день рождения? Что, кроме тебя, некому было поехать?
— Детка, ты ведь и сама журналист, тебе не нужно объяснять, как это важно для меня… — Справившись с самой трудной частью беседы, Джонсон снова перешел на английский. — А твой день рождения мы отпразднуем, когда я вернусь. Он ведь никуда не убежит, верно?
— Верно! — бросила Лика. — Можешь не торопиться. В случае чего действительно отпразднуем через пару месяцев.
Она нажала отбой, с размаху бросила телефон на столик и опустилась на диван, сжав руками лоб. Что ж, так тебе и надо! Привыкла никогда не рассчитывать на других, так нечего отступать от раз и навсегда выбранных правил.
Лика поднялась на ноги, отправилась на кухню, подвернула ногу и со злостью сбросила изящную, бледно-зеленую туфельку, отлетевшую в угол комнаты. Босиком прошлепала к холодильнику, извлекла на свет бутылку виски, вернулась в комнату и расположилась прямо на полу, у огромного во всю стену окна.
Отхлебывала из горлышка, наслаждаясь разливающимся по телу теплом, затем тянулась за очередным цветным шариком, надувала его и, подкинув, отправляла летать по комнате. Чем не метафора ее никчемной дурацкой жизни? Коробки, набитые ненужным хламом, разноцветные воздушные шарики, а в центре всего тяжеловесный уродливый Пегас. Да еще этот огромный, безумный, несущийся куда-то город за окном. Жестокий, равнодушный многомиллионный город, где не нашлось ни одного человека, который пришел бы поздравить ее с днем рождения. И неожиданно всплыли в памяти слова Никиты: «Мы поговорим с тобой после, через несколько лет, когда эта страна небывалых возможностей сожрет тебя с потрохами и не подавится».
Не пора ли, наконец, признаться себе, что вся твоя жизнь есть не что иное, как растянувшаяся на много лет агония? Тебе пообещали когда-то, что ты не доживешь до семи лет. И, в каком-то смысле, оказались правы. Ведь все, что было после детства, если разобраться, не имело никакого смысла, являлось лишь лихорадочными попытками заполнить хоть чем-то свистящую пустоту. Все эти годы ты только и делаешь, что примеряешь на себя маски, случайные роли, пытаешься прожить чью-то чужую жизнь вместо своей собственной, отнятой у тебя при рождении. Больше всего на свете ты хотела бы быть просто дочкой, женой, матерью. Иметь свой дом, большой и уютный, где каждому гостю были бы рады, где всем нашлось бы место: и друзьям, и родным. Обнимать по вечерам мужа, вернувшегося с работы, усталого и раздраженного, прижиматься губами между бровей, глядя, как словно по волшебству разглаживаются угрюмые складки на лбу. Ставить на стол блюдо с жарким и умиляться, смотря на стучащих ложками голодных мальчишек. Или на вертлявых озорных девчонок…
Так нет же, ей с самого начала было заявлено, что этому не бывать. И она кидалась, как оглашенная, то в свое восторженное увлечение сценой, то в кровавый угар войны, принималась то за политическую хронику, то за детективное расследование. Получала по голове и каждый раз снова поднималась, пускалась в очередную авантюру. Лишь для того, чтобы не пришлось отвечать самой себе на главный вопрос — зачем? Для чего это все? К чему ты стремишься, к чему хочешь в конце концов прийти?
Почему-то вспомнился тот далекий октябрьский вечер, когда она, опустошенная, разбитая, стояла у окна своей маленькой московской квартиры, как загипнотизированная глядя на покрытый трещинами асфальт. Что остановило ее тогда? И зачем?
Лика подтянулась, села на полу, привалилась лбом к нагретому лучами заходящего солнца стеклу. А здесь тоже довольно высоко… Машины внизу кажутся игрушечными сувенирными автомобильчиками. Если собраться с силами и шагнуть в расплывающуюся в глазах пустоту, успеешь, наверно, даже ощутить восторг полета, абсолютной свободы, невесомости. Лучше, конечно, сигать из окна телестудии, с небоскреба Radio City, с 45-го этажа. Тогда можно было бы надеяться, что ее тело, упав на гладкий асфальт с такой высоты, не останется расплывшимся пятном, а разлетится на тысячу кусков. Впрочем, поручиться за это нельзя, с физикой у нее никогда не складывались отношения. В любом случае, здесь, в Нью-Йорке, это не вызовет столько толков и любопытных взглядов. Тут, в городе бесконечных возможностей, такое случается сплошь и рядом…
Затренькал дверной звонок, на нетвердых ногах она прошлепала в прихожую, распахнула дверь и попятилась, глядя на надвигавшуюся на нее корзину цветов.
— Мисс Белова? — уточнил выглянувший из-за ароматного облака сирени посыльный.
— Да… — растерянно протянула она.
— Это вам!
Посыльный поставил корзину на пол, сверился с какими-то бумажками и отбыл восвояси. Лика так опешила от неожиданности, что забыла даже дать ему чаевые. Ошеломленная, она осторожно дотронулась до хрупких нежно-сиреневых звездочек подушечками пальцев. Что за чудо такое посреди бетонных джунглей?
Из соцветий выпала карточка, Лика узнала почерк, прочитала: «С днем рождения! Андрей». Немногословен, как, впрочем, и всегда. Ну конечно, кто же это еще мог быть? Ее персональный ангел-хранитель, добрый доктор Айболит, вечно являющийся в самые сложные моменты, дабы ненавязчиво напомнить — нельзя самовольно сходить с дистанции, нужно жить.
Часть четвертая 2001 год
1
Теплый ветер пробежал по траве, сорвал с ветки дерева нежно-розовую цветочную кисть и бросил на подол Ликиного платья. Тихо шурша, перелистал страницы все еще лежавшей рядом пухлой газеты. Лика откинула назад голову, ощутила нывшим затылком тепло, исходящее от нагретого солнцем шершавого мощного ствола платана. Солнечные лучи, пробиваясь сквозь густую листву, обдавали жаром сомкнутые веки, и, наверно, только поэтому из-под опущенных ресниц по щеке скатилась слезинка.
День постепенно наливался полуденной жарой, все больше туристов и голосистых мамаш с детьми спешили укрыться от палящего солнца в тенистых аллеях Центрального парка. Но никто не обращал внимания на одинокую темноволосую женщину, сидящую прямо на земле, под развесистым столетним деревом.
Что же сделал с ней этот город контрастов? Город сверкающих огнями улиц и темных, как сама преисподняя, районов, куда нельзя вызвать такси, потому что водитель не рискнет ехать по указанному адресу, опасаясь, что на него нападут, отберут машину, проломят череп и отправят отлеживаться в кювет. Город поджарых клерков и огромных двухсоткилограммовых толстяков на инвалидных креслах. Город ничего кругом себя не видящих трудоголиков и ночующих на скамейках в парках живущих на пособие ленивых бродяг. Ведь ей казалось, что она попала в страну мечты, в волшебное царство, где таким, как она, — гордым одиночкам — самое место. Оказалось же, что для этого Ноева ковчега ее самостоятельности и самодостаточности не хватает. Что ж, спасибо, напомнили. Здесь доверять нельзя никому, никому, в буквальном смысле этого слова. Даже человек, которого ты привыкла считать если не близкой и родной душой, то, по крайней мере, другом, партнером, оказался способен обвести тебя вокруг пальца, не стирая с лица пресловутой американской улыбки. А ведь когда-то там, в России, он, можно сказать, спас ее, заставил поднять голову, вернул к жизни. Выходит, только для того, чтобы заполучить в свой стан перспективного бойца, которого можно будет с легким сердцем вышвырнуть вон, когда его профессиональные качества перестанут интересовать.
Нужно было внимательнее читать договор, который подписывала почти два года назад, зубами и когтями драться за каждую строчку, убедиться, что именно ее имя будет внесено в качестве автора всех предоставленных материалов. Покинув Россию в середине девяностых, когда подтверждать устные договоренности официальными контрактами просто не было принято, и получать зарплату в конверте лично из рук редактора считалось в порядке вещей, Лика особенно и не вчитывалась в условия договора. Во всем положившись на Джонсона, подмахнула бумаги, почти не глядя. Теперь и пенять не на кого. «Это бизнес, детка!» — как сказал бы, добродушно осклабившись, ее недавний любовник с выцветшими глазами.
Она снова развернула перед собой газету, еще раз прочла напечатанное имя «Пирс Джонсон» и яростно скомкала листок. Вот так. Ничего не осталось. Последнее, что двигало ею, поддерживало в этой бессмысленной гонке, разбилось, рассыпалось в труху.
И откуда-то из глубины опустошенного сознания выплыла вдруг спасительная мысль, и Лика отчаянно ухватилась за нее, как за последнее, единственное оставшееся ей спасение в уходящем из-под ног мире. Она выхватила из сумки мобильный телефон, набрала номер, по которому не звонила два года, и быстро произнесла в трубку:
— Привет, это я. Можешь сейчас приехать?
Удивительно, но он появился на дорожке через каких-то полчаса. И Лика, как и много лет назад, отметила, что он сразу выделяется из толпы. Большой, уверенный, сильный… Та же горделивая посадка головы, прямой открытый взгляд, светлые, разве что чуть тронутые сединой, волнистые волосы. Он увидел ее издали, она поняла это по тому, как дрогнули его зрачки, едва заметно напряглись плечи. Он направился прямо к ней, подошел почти вплотную и опустился рядом на корточки.
— Ну? Что с тобой стряслось, непутевая? — весело произнес он, положив тяжелые теплые руки ей на плечи.
— Каблук сломала, — беспомощно протянула Лика.
И неожиданно для самой себя прижалась к нему всем телом и в смятении поняла, что всхлипывает, уткнувшись лицом в его плечо.
— Ну вот, — медленно протянул он, бережно прижимая ее к себе. И в голосе его не было привычной насмешки, лишь бесконечная пронизывающая нежность. — Что ты? Не плачь, моя маленькая бесстрашная девочка. Не плачь! Я с тобой, и все теперь будет хорошо.
Темнота плыла и качалась над головой. Лика на ощупь нашарила на полу, возле огромной, прямо-таки королевской кровати сумку, выудила сигареты. Андрей, почти невидимый в темноте, вложил ей в руку металлическую зажигалку. — Откуда ты знаешь, что я хочу курить? — удивилась Лика.
— Я тебя слишком хорошо изучил, чтобы поверить, что твой помешанный на здоровье янки заставил тебя бросить дурные привычки.
Он засмеялся и надавил указательным пальцем на кончик ее носа. И Лика, поддавшись неожиданному порыву, удержала его ладонь у лица, потерлась о нее щекой, прижалась губами. Удивительно, руки его и сейчас пахнут, как у доброго доктора — чистотой, свежестью, туалетным мылом.
Как хорошо ей здесь, в этой незнакомой, но почему-то мгновенно ставшей родной просторной квартире. Как спокойно в этой комнате, где плотные шторы не позволят рассвету серой пеленой пробраться в их укрытие. Пусть никогда не наступает утро! Оно всегда все портит, все уничтожает. Страшно? Да, ей страшно, страшно, что и эта ночь может обернуться кошмаром, разбитыми иллюзиями. Так пусть же она никогда не кончается.
Андрей протянул руку и стальной хваткой сжал ее запястье.
— Ты что? — спросила Лика.
— Да так, — глухо выговорил он. — Жалею, что не обзавелся наручниками. Приковать бы тебя здесь и не выпускать из комнаты. А то, кто тебя знает, еще умчишься куда-нибудь на войну…
Лика почувствовала, как горло сдавило судорогой. Неужели все было возможно еще тогда? Андрей подался вперед, сжал руками ее плечи и спросил хрипло, вглядываясь в ее лицо, едва различимое в темноте.
— Почему ты тогда уехала? Почему?
И Лика, подавившись всхлипом, ответила:
— Мне было так страшно… Я боялась, что ты оттолкнешь меня…
— Господи, какая же ты дура!
Он сгреб ее в охапку, прижал к себе, и Лика обхватила его гибкими руками, обвилась вокруг его тела, словно жалея, что нельзя сплестись вот так навечно.
— А ты? — выдохнула она в его волосы. — Когда я вернулась из Афгана, я так хотела… Так ждала нашей встречи… А ты даже не поцеловал меня, даже не сказал, что скучал.
— Как же мне надо было поступить, если ты все эти годы только и делала, что всячески подчеркивала свою независимость? Мне никто не нужен, я сама по себе. Я думал, если только попробую проявить инициативу, ты сбежишь…
— И поэтому ты женился, — протянула Лика. — Чтобы я уж никак не могла подумать, что ты имеешь на меня какие-то виды.
— Ты же знаешь, я пытался объяснить тебе тогда, — возразил он. — И когда она ушла, я сразу же приехал. И никак не мог тебя найти. Я метался по всей Москве как сумасшедший, а тебя нигде не было — ни дома, ни на работе. Тогда я оставил тебе записку, но ты так и не перезвонила.
— Я знаю, знаю, — закивала она. — Только я поняла все уже здесь. А тогда… Мне просто страшно было встретиться с тобой снова и опять получить щелчок по носу.
— Черт! — выругался он, крепче прижимая ее к себе. — Похоже, оба мы с тобой последние идиоты и трусы!
— Это точно! — тихо засмеялась Лика и прижалась губами к его виску.
Но утро все-таки наступило — неспешное, солнечное, тихое. Лика, набросив на плечи рубашку Андрея, вышла в кухню, улыбнулась ему сонной счастливой улыбкой. Андрей поставил перед ней чашку кофе, сострил: — Наивно было бы ожидать, что ты приготовишь завтрак. Поэтому я сам тут постарался…
Лика влезла с ногами на один из стильных, обтянутых белой замшей кухонных стульев, потянулась к тарелке с золотистыми тостами, зевнула.
— Как хорошо. Представляешь, я совсем забыла, сегодня же первый день моего отпуска.
И вдруг осеклась, испугалась по старой привычке, что он расценит это заявление как навязчивость — мол, теперь ты меня отсюда не выпихнешь, мне спешить некуда. Тут же спохватилась:
— Но тебе, наверно, надо на работу. Я тебя не задержу, сейчас быстро соберусь…
— Мне нужно, да. Но не на работу. — Он сел напротив, поймал ее руку и сжал в своей ладони.
Лика смущенно взглянула в буравящие ее тяжелым взглядом синие глаза.
— Мне нужно в мэрию, или в церковь, или прямиком в Лас-Вегас, это я оставляю на твое усмотрение.
— Я не понимаю, — растерянно протянула она.
— Что же тут непонятного? — в глубине его синих глаз озорно заплескался смех. — Я, конечно, неплохо сохранился, но годы берут свое, и, боюсь, ждать, пока ты наиграешься в свою самодостаточность, у меня уже здоровья не хватит. Поэтому мы с тобой идем жениться, и дело с концом.
— Как? Вот прямо сейчас? — ахнула Лика.
— Ну, кофе все-таки можешь допить, — успокоил ее Андрей.
— Ты бы хоть для приличия спросил, согласна ли я, — все-таки съязвила она.
— В прошлый раз ты пеняла мне, что я ни разу не стукнул кулаком по столу, — усмехнулся Андрей. — Так что я всего лишь стараюсь соответствовать твоим представлениям об идеальном мужчине.
— Тебе не нужно стараться! — ответила Лика, потянулась к нему через стол и добавила, почти касаясь губами его рта: — Ты и есть такой.
2
Счастье казалось таким полным, таким всеобъемлющим, что порой Лике трудно становилось дышать. Первое время, просыпаясь по утрам, она боялась открыть глаза — вдруг все это ей только приснилось, и сейчас она вернется в заставленную коробками квартирку в Сохо, и одиночество снова ощерится на нее из всех углов. Так она и лежала, не решаясь пошевелиться, пока Андрей не склонялся над ней, не дотрагивался губами до ее виска, шепча:
— Доброе утро, любимая.
Еще не открывая глаз, она чувствовала, как на лице расползается глупая счастливая улыбка, подставляла ему губы для поцелуя и лишь потом решалась взглянуть, наконец, на окружающий мир, который, впрочем, весь был теперь заполнен для нее этим удивительно нежным при всей его небывалой силе мужчиной.
Андрей действительно настоял на том, чтобы они немедленно расписались, и Лика поначалу никак не могла привыкнуть, что люди обращаются к ней теперь «миссис Грекофф». Для своих, правда, она все же осталась Беловой. Первую неделю их скоропостижного брака они почти не расставались. Бог знает, как Андрею удалось скрыться от вечно требующих его внимания деловых партнеров, заказчиков, подчиненных, но факт оставался фактом — их не беспокоили звонками и визитами. Это была, наверное, самая невероятная, самая сумасшедшая неделя в ее жизни. Они будто вернулись в ту беззаботную и развеселую пору их юности — отчаянно вцепившись друг в друга, летели вниз в вагончике «русских горок» в районе Брайтона, объедались мороженым в летних кафе, хохоча, гонялись друг за другом по дорожкам Центрального парка. Иными были только ночи. Бесконечные теплые ночи, когда можно было часами лежать рядом в темноте, едва касаясь друг друга плечами, и болтать обо всем на свете. И впервые было не страшно говорить вслух о своих самых сокровенных переживаниях, обидах, ошибках.
— Я не должна была тогда так набрасываться на Артура, — сокрушенно каялась она, прижавшись головой к его плечу. — Но я, честное слово, не нарочно. Я очень хотела с ним подружиться. Только я ведь совсем ничего не знаю о детях, не знаю, с какой стороны к ним подойти…
— Ничего, научишься. — Он быстро поцеловал ее в макушку. — К тому же у тебя ведь могут еще быть и свои дети…
— Не могут, — помотала головой она и, справившись со сдавившим горло комком, объяснила. — Мне с моим прошлым диагнозом врачи настоятельно не рекомендовали иметь детей. Слишком большой риск, понимаешь…
— О господи, — выдохнул он и крепче сжал ее плечи. — Прости… Прости, что я тогда…
— Да брось, ты же не знал. — Она легко провела ладонью по напрягшейся под тяжестью ее головы мощной руке.
— Да, — кивнул он. — Ты никогда мне этого не говорила.
— Ты тоже не обо всем мне рассказал, — мягко упрекнула Лика. — Если бы я знала, что Артура бросила мать, я бы никогда… Мне потом только Дэззи сказала.
— Удивительно, — невесело рассмеялся он, — удивительно, что мы, в конце концов научились все-таки разговаривать друг с другом…
— Да, это, пожалуй, крупнейшее наше достижение… — усмехнулась Лика.
Так, постепенно, ночь за ночью, они открывали друг другу мучившие их все эти годы сомнения, недосказанности, страхи. Осторожно, боясь сделать резкое движение, разрушить хрупкую гармонию, узнавали друг друга заново, учились говорить и слушать. Лике казалось, что она постепенно оттаивает, отогревается, позволяет теплу проникнуть в ее много лет закрытую, запертую на семь замков душу. Наверное, что-то подобное происходило и с Андреем, должно быть, и ему не сразу давались эти проговоренные глухим голосом ночные признания.
Через неделю он уехал по работе куда-то в другой штат, на четыре дня. Лика хотела было на это время перебраться в свою старую квартиру, Андрей же возразил: — Уже сбежать намылилась? И думать не смей! Второй раз тебя из твоей берлоги не вытащить!
И Лике пришлось впервые остаться одной в его квартире, ставшей теперь и ее жилищем. Отпуск ее все еще не закончился, делать было нечего, и она часами бродила по просторным комнатам, дотрагивалась до еще совсем недавно чужих, а сейчас почти уже знакомых вещей, выглядывала из окон, подолгу рассматривала тут и там расставленные фотографии белокурого мальчика. Странно, иногда ей начинало казаться, что она жила здесь всегда, а та, прежняя жизнь, жизнь без Андрея, была лишь сном. Иногда же, наоборот, ее охватывал страх, она ощущала себя воровкой, узурпаторшей, нахально вторгшейся в чужую судьбу и занявшую чужое место.
Странно, нелепо… Ведь если бы они тогда поняли друг друга, не испугались, не спрятали свои чувства за маской дружелюбного равнодушия, она могла бы жить с ним уже много лет…
Бессмысленно бояться счастья, отказываться от него в нелепом страхе, что судьба подслушает, позавидует, отберет. Теперь Лика ясно это понимала. Нужно хватать его обеими руками, держаться изо всех сил, упиваться моментом, не думая о том, что завтра, возможно, твоя радость обратится в прах. Ведь, в конце концов, завтра может никогда и не наступить…
До сих пор, однако, завтра неизменно наступало, и счастье никуда не пропадало, наоборот, становилось все более полным. В одно из таких завтра вернулся Андрей и объявил, что они сейчас же, пока осталось еще несколько дней от Ликиного отпуска, хватают вещи и уезжают на его «фазенду» — валяться на пляже, пить коктейли и с особым цинизмом предаваться одному из грехов — лености. — А как же… Артур? — осторожно поинтересовалась Лика.
Еще раз встретиться с избалованным мальчишкой было страшно. Что, если она снова вскипит, не выдержит — и разрушит все, потеряет едва-едва обретенное счастье?
— Придется вам научиться уживаться друг с другом, — улыбнулся Андрей. — Вы теперь оба моя семья, нравится вам это или нет.
Он обнял Лику за плечи, притянул к себе и надавил пальцем на кончик носа:
— Не дрейфь, комиссар, он не такой уж страшный!
— Как сказать… — неуверенно отшутилась Лика.
На этот раз Артур не встретил их у ворот. Лика слышала, как Андрей по телефону предупреждал его о приезде гостьи и настоятельно просил вести себя прилично. Видимо, единственный способ хорошего поведения для этого маленького разбойника заключался в том, чтобы до поры до времени не показываться на глаза. Выходя из машины, Лика обругала себя за недобрые мысли. В конце концов, прошло два года, и ребенок за это время наверняка взялся за ум. Главное, что бы он ни отмочил, не забывать о том, что это всего лишь маленький мальчик, которого в раннем детстве бросила мама, замкнувшийся, озлобившийся на весь мир. Главное, быть терпеливой, доброжелательной и спокойной. Она невольно потерла ладонью кожу на спине, между лопаток, заметив про себя: «А все же бронежилет не помешал бы».
Андрей под руку ввел ее по ступеням на террасу. Вместе они поднялись в прохладную снежно-белую спальню. Андрей распахнул окно. Прозрачная легкая занавеска парусом надулась от влетевшего в комнату ветерка, запахло морем, цветущими вокруг дома акациями. Лика с наслаждением растянулась на широкой кровати. В этой комнате она еще не была, в прошлый ее приезд во Флориду им с Андреем так и не удалось добраться до этой мягкой пахнущей лавандой кровати.
— Располагайся, — бросил Андрей. — Вон шкаф для одежды, и вот, кажется, эта тумбочка пустая.
Лика лениво потянулась, скатилась с матраса, принялась копаться в дорожной сумке. Развесила в шкафу несколько платьев, бросила в угол пляжные шлепанцы, с шумом выдвинула ящик тумбочки и вздрогнула. С деревянного дна на нее глядело ее собственное фото. Старая черно-белая фотография, на которой смеющаяся третьекурсница Лика Белова позировала во дворе под заснеженными елками молодому интерну Грекову. Она помнила тот день. Андрей тогда только что получил премию и, благодаря торговым связям Нинки, приобрел дорогущий «Зенит».
Лика быстро оглянулась через плечо. Андрей, не глядя на нее, вешал в шкаф свои рубашки.
— Андрей, — позвала она. — А это что? Откуда у тебя?
Он обернулся, увидел фото в ее руке, кажется, смутился немного.
— Это? Это, понимаешь ли, дорогая подруга дней моих суровых. Первая любовь, если быть точным.
Он снова отвернулся, вешая в шкаф очередную гавайку. Лика шагнула к нему, уткнулась носом в его спину между лопаток, вдыхая такой родной, такой теплый запах, прошептала сдавленно:
— Господи, почему же мы были такими дураками?
Он повернулся, обнял ее, скользнул губами по виску.
— Поверишь ли, я сам все время об этом думаю…
Артур объявился только к обеду. Вошел в столовую, угрюмо глянул на Лику исподлобья, проворчал «Здравствуйте!» и уселся за стол. За прошедшие два года он сильно вытянулся, лицо стало резче, взрослее, исчезла детская припухлость щек. Но синие глаза, так похожие на глаза его отца, смотрели на Лику все так же — настороженно и затравленно. — Как ты вырос, — попробовала завязать разговор она. — Совсем большой стал, настоящий мужчина.
Мальчик поморщился и, не отвечая, принялся жевать огурец.
— Ты, наверно, уже в школе учишься? — не отставала Лика.
Ответа снова не последовало. Она беспомощно оглянулась на Андрея, и тот сдвинул брови:
— Артур, почему ты не отвечаешь? Это невежливо.
Мальчишка покосился на отца, потом на Лику и произнес с нескрываемой скукой и высокомерием:
— Да, я совсем большой. Мне уже семь лет. Я учусь в школе. Понятно?
Лика пожала плечами и продолжать разговор больше не пыталась. Ну что ж, на первый раз неудача. Правда, если принять во внимание, что мальчишка ничем в нее не запустил, можно сказать, что в их отношениях произошел большой прогресс.
Вечером ей удалось поймать его у бассейна. Мальчик хорошо держался на воде, сосредоточенно работая руками и ногами. Лика присела у бортика и наблюдала за тем, как он пересекает прямоугольную водную гладь. Когда он, отдуваясь и отплевываясь, вылез из воды, она снова попробовала заговорить:
— Ты здорово плаваешь… Кто научил? Папа?
— Папе некогда, — неохотно ответил Артур. — Но он нанял для меня тренера…
— Тебе, наверно, хотелось бы, чтобы у папы было больше свободного времени? Чтобы вы чаще бывали вместе? — не отступала она.
— Мы часто бываем вместе, — отрезал Артур, словно раз и навсегда хотел дать понять этой назойливой тетке, что не намерен делиться с ней своими сокровенными мыслями.
— Послушай, — устало сказала Лика, — я ведь пытаюсь с тобой подружиться. Может, поможешь мне?
— Я не хочу с тобой дружить! — вдруг совсем по-детски выкрикнул Артур. — Дружи с папой!
Он подхватил с шезлонга полотенце и понесся к дому. Лика сбросила босоножки, поболтала ногами в воде. Ну и к черту! Никто не сможет упрекнуть ее, что она не пыталась. Не хочет — и не надо. Спасибо и на том, что больше не обзывается и не стреляет в нее из игрушечного ружья.
…Как-то после обеда, когда дом и сад, казалось, впали в спячку от нестерпимого зноя, Лика, маясь от жары, спустилась на террасу. Артур, коленками взобравшись на стул, увлеченно чертил что-то на листке бумаги. Лику он не заметил. Женщина бесшумно приблизилась к нему, заглянула через плечо. Мальчик, высунув от усердия кончик языка, рисовал военные самолеты. Чуть подавшись вперед, она узнала тяжелый бронированный «Ил-2». — О, летающий танк! — одобрительно заметила она.
— Что? — Мальчишка резко обернулся, ревниво прикрывая рисунок локтем.
— Этот штурмовик, «Ил-2», называли во время войны «летающий танк». Ты отлично его нарисовал, только кабина должна быть чуть более квадратная, — пояснила она.
Артур взглянул на нее с невольным интересом.
— Откуда ты знаешь?
— Ха! — качнула головой она. — Я про военные самолеты все знаю! У меня дед в войну летчиком был, он меня учил.
— Правда? — восхитился Артур. — А «Як-9» сможешь нарисовать? А то у меня что-то не выходит.
— Да легко! — заверила Лика. — А знаешь что? Я не только нарисовать, я могу модель из картона склеить. Хочешь?
— Конечно, — закивал мальчишка. — Но у меня, кажется, картона нет…
— Фигня, — отмахнулась Лика. — Возьмем коробку какую-нибудь. Давай тащи клей и ножницы.
Через час Андрей, спустившийся из спальни в поисках запропастившейся куда-то молодой жены, нашел Лику и Артура на террасе. Застыв в дверях, он несколько минут наблюдал, как они увлеченно ползают на четвереньках вокруг разложенного на полу куска картона, вычерчивают что-то, спорят, размахивают ножницами, а затем неслышными шагами вернулся обратно в комнату.
3
Первый луч еще по-летнему теплого сентябрьского солнца пробрался в спальню сквозь щель в тяжелых темных занавесках, скользнул по лицу спящей на кровати женщины, высветил высокие скулы, чуть приоткрытые нежные губы, позолотил опущенные черные ресницы. Она сладко потянулась, просыпаясь, открыла миндалевидные блеснувшие зеленым светом глаза, улыбнулась зарождающемуся дню. Из-за приоткрытой двери ванной комнаты доносился звук льющейся воды и фальшивое пение, значит, Андрей уже встал. Лика соскользнула с кровати, накинула на плечи легкий черный халат, босиком прошлепала на кухню. За полгода, проведенные вместе, примерной женой она так и не стала, но в дни отъезда мужа в очередную командировку все-таки находила в себе силы, чтобы приготовить легкий завтрак.
С висевшей на стене фотографии ей улыбнулся Артур. Фото было сделано во время недавней совместной поездки в «Диснейленд». На снимке Лика со своим пасынком, хохоча, неслись по кругу на карусели. Лика не могла бы сказать, что они с мальчиком достигли настоящего взаимопонимания, стали близкими людьми. Пожалуй, он так и не смирился с тем, что эта непонятно откуда появившаяся жена отца стала членом семьи. Но, по крайней мере, ей удалось победить его враждебность, добиться ровных отношений. Лика и сама чувствовала, что привязалась к мальчишке, и порой удивлялась сама себе, когда осознавала, что с нетерпением ждет их с Андреем очередной поездки в белый домик на побережье.
Удивительно и странно было все, происходившее с ней в последние полгода. Удивительно и странно было осознавать, что впервые у нее есть семья. Не совсем, конечно, такая, как виделось ей в мечтах, но, бесспорно, настоящая. Что поделаешь, если сама она часами пропадает на телестудии, ее любимый муж постоянно в разъездах, а усыновленный ею мальчик упорно говорит ей «вы». Значит, это именно то, что было ей нужно. Судьба и без того небывало расщедрилась, и глупо было бы пенять на досадные мелочи. Нужно наслаждаться тем, что есть сейчас.
Лика подставила чашку под кран новомодной кофеварки, достала из холодильника йогурты, извлекла из соковыжималки стакан ярко-оранжевого апельсинового сока. Конечно, не самый хитроумно приготовленный завтрак, но все же.
Через несколько минут на кухне появился Андрей, только что из душа, благоухающий свежестью и одеколоном. Он подцепил с тарелки кусок бекона и восхищенно присвистнул:
— Что это за праздник у нас сегодня?
— День идеальной хозяйки, — объяснила Лика, заправляя в тостер нарезанный хлеб.
— Черт, надо почаще куда-нибудь уезжать, — усмехнулся он.
— Еще чаще? — подняла брови она. — Дождешься, что я в конце концов, просто забуду, что замужем.
— Только попробуй. — Он шутливо показал ей кулак. — Гм, ты не очень расстроишься, если я не буду есть эти угли?
Он брезгливо отодвинул от себя тарелку с пересушенными черными тостами.
— Иди к черту! — рассмеялась Лика. — Тогда сам себе готовь, мне тоже уже пора на студию.
Она быстро чмокнула Андрея в макушку и отправилась в душ. Когда она вышла, он был уже в костюме, сражался с галстуком у зеркала в спальне. Обернулся через плечо:
— Поможешь мне?
— Господь с тобой, — с притворным ужасом замахала руками она. — Я понятия не имею, как это делается. Я же пацанка, забыл разве?
— Черт, нужно было как-то серьезнее отнестись к выбору жены, — сдвинул брови он.
— Поздно, Дубровский. — Лика подошла сзади, обняла руками его плечи, потянувшись, дотронулась губами до шеи. — Теперь ты от меня уже не отвяжешься.
Он повернулся, подхватил ее на руки, прижал к себе, легкую, почти невесомую, прошептал куда-то во влажные после душа волосы:
— Да, похоже, я по-настоящему попал…
Как всегда, от прикосновения его губ у нее сбилось дыхание, бешено заколотилось сердце и перед глазами поплыли цветные пятна.
Уже в дверях, прощаясь, она подала ему плоский кожаный портфель, вскинув руку, поправила растрепавшиеся волосы надо лбом. — Я вернусь через неделю, — сказал Андрей. — Смотри, не сбеги куда-нибудь за это время.
— Не надейся, — хохотнула она.
— Я там купил для Артура сборную модель самолета. Ты ему пока ничего не говори, отвезем вместе, когда вернусь, — попросил Андрей.
— Конечно, — кивнула она. — Вместе и соберем.
Он взялся за ручку двери и вдруг обернулся уже с порога. На губах его играла шутливая улыбка, взгляд же был серьезным, пристальным.
— Я тебе когда-нибудь говорил, что я тебя люблю?
— Нет. — Она медленно покачала головой. — Ни разу за все восемнадцать лет.
— Ну тогда скажу, когда вернусь. Чтобы ты с нетерпением меня ждала. — Он весело подмигнул ей и скрылся за дверью.
4
В необыкновенно высоком, располосованном хвостами туристических вертолетов нью-йоркском небе не было ни облачка. Где-то за заливом блестел давно истомленный жарой сентябрьский солнечный диск. И все равно Лика, проснувшаяся сегодня рано, чувствовала некоторое беспокойство. Подумать только, ей ведь уже тридцать шесть, а она, как девчонка, волнуется, ожидая приезда законного супруга.
Слава богу, сегодня был выходной. Лика раздвинула жалюзи. В лучах осеннего солнца тускло переливалась крыша Эмпайр, стейт, билдинга, в тысячах окон остроконечных небоскребов отражался необыкновенный оранжевый свет, видимый только ранней осенью. Как же она была счастлива сейчас… Неожиданно захотелось обнять этот город с его миллионами огней и наречий, выбежать на улицу, словно нью-йоркская сумасшедшая, и радоваться разномастным прохожим, бархатному теплу, запахам, звукам.
Лика оделась, зачем-то тщательно выбирая наряд, затем долго и придирчиво рассматривала себя в зеркале. В белых, идеально сидящих брюках от Lanvin и снежном кашемировом свитере она была чудо как хороша. Черт его знает, может быть, это неожиданно свалившееся на нее счастье сгладило черты ее лица, придало какой-то внутренней уверенности в себе, неброского, но притягательного шарма. Как бы там ни было, из зеркала тридцатишестилетней Лике таинственно улыбалась красивая загадочная незнакомка не более тридцати лет от роду.
Взяв того же цвета сумочку, покрытую лаком — подарок Андрея, стоивший, наверное, целое состояние — Лика выбежала из дому. Миновала радушного, вечно улыбающегося консьержа и очутилась на Пятой авеню, как всегда оживленной в этот ранний час. Вот уже впереди показался зеленый шпиль «Гранд Астории», а значит, скоро ее охватит, убаюкает, бережно спрячет в своей разлапистой тени Центральный парк. Лика пересекла площадь, спустилась по каменной лестнице вниз, и сердце ее радостно забилось. Жить было чертовски здорово.
Хорошо было брести по аккуратно подстриженным аллеям, откусывая купленное тут же мороженое, и ловить на себе восхищенные взгляды прохожих. Осень уже раскрасила разными цветами кроны деревьев в Центральном парке. Багряные, золотые, зеленые деревья тихо шелестели ветвями на утреннем ветерке. По зеркальной глади пруда проплыла вереница изумрудноголовых уток, дробя и качая опрокинутое в воду небо. Кирпичного цвета кленовый лист слетел с ветки и, тихо кружась, опустился к ногам Лики. Она подняла его, сдула невидимые пылинки и воткнула в волосы.
Лика двинулась по знакомой аллее, спустилась на газон и уселась под могучим платаном. Они с Андреем, должно быть, и в самом деле неисправимые романтики, раз договорились встретиться после недельной разлуки именно здесь, где состоялось их историческое воссоединение. Он звонил час назад, сказал, что уже в Нью-Йорке, но вынужден сразу же заехать в офис к партнеру. Зато надеется быстро освободиться и позавтракать вместе с ней. И Лика еще раз порадовалась, что на сегодня у нее не было запланировано эфира.
— Встретимся в Центральном парке, — предложил он. — Я буду там, недалеко. В офисе Ясумото, японского коллеги, ты его помнишь.
— Хорошо, — согласилась она. — Буду ждать тебя под тем платаном, как верная и долготерпеливая жена.
— Жди меня, и я вернусь, — засмеялся он и добавил тихо: — Я ужасно соскучился.
От его низкого, чуть хрипловатого голоса у нее, как обычно, сбилось дыхание, и вдоль позвоночника побежали мурашки.
— Я тоже, — коротко ответила она, невольно испугавшись той власти, которую имел над ней один только голос этого человека. — До встречи.
— Лика, — попросил вдруг он. — Купи мне, пожалуйста, крендель. Умираю с голоду!
И вот теперь она ждала его под деревом, держа в руках завернутый в бумагу горячий, щедро посыпанный солью крендель, нетерпеливо поглядывая на часы, досадуя, что, не видев ее неделю, этот человек не может отменить свои невыносимо срочные дела и примчаться к ней. Закинув голову, она невольно залюбовалась утренним небом, таким высоким и чистым, насыщенно синим, как глаза ее мужа. Солнце подмигнуло ей с вышины, обещая невозможно счастливый день…
…Вдруг что-то изменилось. Не явно, не видимо. Как-то незаметно, исподволь, словно из самого бархатистого воздуха соткалось недоумение, и в пространстве повис тяжеленный знак вопроса. Как в далеком детстве, когда играли в смешную игру — замирали на счет «три», изображая разные фигуры. Лике почему-то вспомнилось это незамысловатое детское развлечение, краем глаза она отметила, что и прохожие, местные жители и туристы, беспрерывно щелкающие фотовспышками, вдруг замерли, обернувшись в сторону Даунтауна. Именно оттуда доносился отчетливо слышимый даже здесь гул турбин огромного трансатлантического лайнера. Словно нерадивый пилот, забывшись, спутал посадочную полосу с крышей одной из башен Всемирного торгового центра. Вспомнилось, как она, маленькая, спрашивала у деда Кости, почему самолеты не падают. И дедушка долго и дотошно объяснял про подъемную силу крыла, про турбины, про обтекаемую форму фюзеляжа… Но Лике все равно виделся иногда потерявший управление самолет, переворачивающийся в воздухе, как пушинка, и, наконец, падающий на землю и разбивающийся на тысячи острых серебряных осколков. Правда, дед Костя упрямо, раз за разом, повторял свои объяснения, и Лика в конце концов ему поверила и забыла свой детский страх.
И вот сейчас… До Лики донесся глухой грохот, взрыв, стон искореженного бетона и металла. Страшный удар, от которого, казалось, дрогнуло каждое дерево в парке, и множество спрятавшихся в тени птиц с возмущенным криком взвилось в воздух над Манхэттеном. И она поняла, что хромированный, переливающийся в лучах солнца «Боинг» потерпел крушение где-то рядом с Даунтауном. Показалось, или действительно на бесконечно ясном секунду назад небе закрутилась темная, страшная, засасывающая воронка?
Люди замерли в мгновенном оцепенении, остановились тысячи желтобоких такси. Потом снова прогремел глухой взрыв, звон осыпающегося на асфальт стекла, и оттуда, где возвышались башни Всемирного торгового центра, потянуло гарью. Сначала легким запахом горелой резины, вспыхнувшего керосина, затем повеяло плавящимся металлом.
Прохожие давно уже не стояли, прикованные к одному месту. Все они, вся толпа — женщины, клерки, дети, ухоженные старушки с Мэдисон-авеню с породистыми собачками на поводках, разносчики пиццы, все, весь Манхэттен бежал в сторону башен-близнецов. Движение на улицах парализовало, и лишь сирены несущихся к месту происшествия полицейских автомобилей и карет «Скорой помощи» оглашали город своим ревом. Множество людей, каждый с прижатым к уху мобильником, пытаясь дозвониться куда-то, неслись к метро. Но через несколько минут и оно было оцеплено, поезда ходить перестали.
Страшная, сумасшедшая паника охватила толпу, и Лика, бегущая вместе со всеми, не заметила даже, как надломился каблук ее туфли. На секунду остановившись, она скинула изуродованную обувь и двинулась дальше босиком. И как будто специально для того, чтобы подхлестнуть и без того обезумевшую толпу, оглушающий рев снова надвинулся на город, и снова земля задрожала от могучего удара.
Все вокруг заволок запах гари, пережженного топлива, темный дым застилал глаза, небо окрасилось в серый цвет, черное облако сажи накрыло нижний город, а затем и над всем Манхэттеном растянулась ядерная зима. Неожиданно повалил черный легкий снег. Лика поймала ладонью снежинку и поднесла ее к слезящимся глазам. Это оказался пепел, сыпавшийся с неба.
Она бежала и бежала, уже не задыхаясь, уже не чувствуя боли в стертых до крови ступнях, пока какой-то сердобольный таксист не приоткрыл перед ней дверь, буквально схватил за руку и втащил на переднее сиденье. И они помчались против всех правил по встречной полосе, мимо зданий маленькой Италии, Чайна-тауна, двигаясь вместе с толпой, молча, ни о чем не переговариваясь.
Прошло несколько минут, а может быть, часов. Лика не могла с уверенностью сказать, сколько длилась их гонка. Машина остановилась возле оцепления. Пожарные в касках, полицейские, ревущие автомобили. Крики, стоны, глухие стенания, мольба тысяч людей пронизывали раскаленный, наполненный запахом гари от пылавшего топлива и хлопьями сажи, воздух. Множество пожарных машин съезжалось к еще не обрушившимся, высящимся над городом, как гигантские факелы, башням-близнецам. Они стояли почти ровно, только огромные, зияющие дыры, объятые пламенем, смотрелись странно, словно элемент какой-то декорации, созданной рукой безумного бутафора. Огромная толпа, все ширившаяся вокруг места катастрофы, ревела, гудела, стонала, став на это время единым изнывающим от невыносимой боли организмом. Спасатели и полицейские выводили из башен тех счастливчиков, которым удалось выжить и спуститься вниз после взрывов.
— Леди, возьмите мою руку! — слышались их быстрые команды. — Проходите вперед. Не смотрите на улицу.
Но самым страшным было не это — не беснующийся наверху огонь, не осыпающиеся на головы искореженные куски металла, не тысячи искаженных ужасом лиц, а крохотные человеческие фигурки, видневшиеся в окнах Всемирного торгового центра высоко-высоко, выше бушующего пламени.
— Смотрите, смотрите, они спрыгивают! — закричал кто-то.
Лика задрала голову и беззвучно всхлипнула, судорожно закусив костяшки пальцев — люди выпрыгивали из здания, обезумевшие, летели вниз с головокружительной высоты. Женщина в зеленом костюме, мужчина в джинсах, старик в белой рубашке… Она так и стояла в ступоре несколько мгновений, пока ее не оттолкнул плечом темнокожий парень в форме санитара «Скорой помощи». Он выводил из толпы рыдающую китаянку с сильно обгоревшим лицом.
Лика почувствовала, как завибрировал в сумочке мобильный, услышала нежную мелодию сквозь вой сирен, крики людей и стоны раненых. Ох, как же она могла так! Это ведь наверняка Андрей. Гонимая общей паникой и извечной журналистской своей нетерпеливостью, желанием везде и всегда оказаться первой, она забыла позвонить ему, предупредить, что с ней все в порядке. Лика трясущимися пальцами сжала аппарат, так и не рассмотрев за хлопьями кружащегося пепла высветившийся номер, прижала трубку к уху, произнесла хрипло, по-русски: — Андрей, я…
И тут же отчетливо услышала голос оператора Пола, а затем, как в замедленной съемке, увидела и его самого, спешащего к ней с видеокамерой на плече и прижимающего к уху мобильник. Он окинул ее придирчивым взглядом, и Лика впервые за утро представила, как выглядит со стороны. Белоснежная одежда, вся в черно-серых полосах от гари и осыпающегося пепла, темно-багровое кровавое пятно на рукаве — должно быть, ее коснулся кто-то из раненых, растрепанные, прилипшие к вискам волосы… Впрочем, Пол, вероятно, решил, что в такой момент ее внешний вид не слишком важен для прямого эфира.
— Привет! Ты готова? Сейчас начинаем снимать, — отрывисто прокричал Пол.
— Да, — кивнула она. — Сейчас. Дай мне минуту.
Она быстро набрала номер Андрея. «Абонент временно не доступен», — ответил ей механический голос. Где же он, черт возьми? Наверное, мечется сейчас где-то рядом, ищет ее, волнуется. Да нет, он догадался, конечно, что с ней все в порядке. Они ведь договорились встретиться в парке, она никак не могла оказаться поблизости от башен. А вот он…
Мысль — быстрая, жгучая, как укус десятков ядовитых скорпионов, разом вонзившихся во все ее естество… Лика смотрела на Пола, уже наводящего на нее объектив камеры, а ей казалось, что она вдруг очутилась высоко над всем этим пылающим адом. Что, что он сказал ей в последнем разговоре? Господи, почему она назвала его последним? Нет, не то, не то, сосредоточься… Он сказал: «Давай встретимся в Центральном парке. Я буду в офисе…» Вот оно! «В офисе Ясумото». Перед ее глазами всплыло круглое растянутое вечной улыбкой лицо Ясумото, которому Андрей представил ее на каком-то официальном приеме. Они стояли вместе на балконе, опоясывающем зал, смотрели, как медленно гаснет солнце над вечерним Нью-Йорком.
— Вы не боитесь высоты, миссис Грекофф? — осведомился вежливый японец.
— Честно признаться, боюсь. — Лика, передернув плечами, отвернулась от расстилавшейся перед ними великолепной панорамы.
— У вас в России нет таких небоскребов, — закивал собеседник. — А мы в Токио с детства привыкли к высоте. И здесь, в Нью-Йорке, я арендовал под офис помещение в Северной башне Всемирного торгового центра, на девяносто втором этаже. Вот там из окон вид открывается — дааа…
«В офисе Ясумото, в офисе Ясумото», — стучало в голове. Страшное прозрение словно оглушило ее. Андрей был там. Лика застыла на месте, расширенными от ужаса глазами глядя на торчащий из сумки завернутый в салфетку крендель. «Купи мне крендель, я умираю с голоду». Я умираю, умираю…
Андрей был там. Там, где сейчас зияла огромная дыра от врезавшегося в башню самолета. Лика не догадалась, не вычислила логически, она просто и ясно поняла — он был ТАМ. То есть, еще недавно был, а сейчас его там больше не было. Андрея больше не было нигде.
Не осталось ни боли, ни страха. Просто будто кто-то невидимый дернул рубильник, выключил все чувства. И не стало ни бушующей толпы, ни жара, ни удушающей гари. Весь окружающий мир, свистя и набирая обороты, понесся прочь, и она окунулась в черную пустоту, лишенную звука, вкуса, запаха.
Пол дернул ее за плечо, и она растерянно оглянулась по сторонам, словно не понимая, где находится. Толстяк снова нырнул за камеру и показал ей пять растопыренных пальцев. Затем четыре, три.
«Что это? Что он делает?» — не понимала Лика. Такой знакомый жест, сколько раз она его видела… А, да, секунды до эфира. Она почувствовала, как острые ногти изо всех сил впиваются в ладони, как от резкой боли неохотно отступает туман, застивший глаза, забивший липкой ватой уши и нос.
Кажется, пришла в себя, только движения все еще давались с трудом, виделись, как в замедленной съемке. Вот тряхнула она головой — волосы волной скользнули по шее и осыпались на плечи. Вот поймала взглядом уставленный на нее глазок телекамеры. Мелькнула перед глазами пухлая рука Пола с единственным выставленным вперед пальцем. И Лика произнесла, очень отчетливо, очень ровно и спокойно:
— С сегодняшнего дня наш мир необратимо изменился. Я, Элеонора Белова, веду репортаж от комплекса зданий Всемирного торгового центра. Только что два пассажирских авиалайнера врезались в башни-близнецы. Тысячи людей все еще находятся внутри, отрезанные пожаром…
5
Огромный, никогда не сдающийся город погрузился в траур. Уныло повисли приспущенные флаги на административных учреждениях. С телевизионного экрана прочувствованно вещал экипированный в черное президент. И лишь спасатели продолжали работать на месте обрушившихся, сложившихся, как карточные домики, некогда неприступных башен, символа богатства и могущества Соединенных Штатов. Удалось спасти из-под обломков еще одного человека, потом двоих, троих… И с каждым новым сообщением об очередном воскрешенном на мгновение искрой вспыхивала безумная надежда. Вспыхивала и гасла. Где-то в глубине души Лика точно знала — Андрея уже нет.
Его отсутствие словно чувствовалось в воздухе. Будто весь мир опустел, сделался слишком просторным, слишком огромным для нее одной. В новостях крутили аудиозаписи телефонных звонков пассажиров захваченных террористами рейсов, которым удалось дозвониться домой. «Нам всем грозит смерть!» — сообщал дрожащим голосом один из пассажиров. А другой шептал в трубку оставшейся дома жене: «Я люблю тебя, родная!»
Андрей же так и не успел сказать ей «люблю», обещал, что сделает это после приезда. А за полчаса до смерти шутил и смеялся, прося ее ждать его в Центральном парке и непременно купить что-нибудь перекусить. Она знала, она всегда знала, что смерть приходит не торжественной помпезной поступью, наводя ужас и парализуя волю. Нет! Она страшна именно своей обыденностью, нелепостью, невозможностью осознать, что вот еще сегодня утром человек был, а теперь его нет, и ничего уже не поправишь.
В одну секунду оборвались жизни тысяч людей — мужчин, женщин, чьих-то отцов и матерей, сыновей и дочерей, мужей и жен, да просто счастливых влюбленных. Спешащих начать новую жизнь, верящих, как все верят, что они будут всегда. Вместо них осталась лишь видимая со стороны залива Гудзон зияющая дыра между небоскребами, на том месте, где разом приняли страшную, мученическую смерть пять тысяч безвинных людей и еще многие получили ужасные увечья, когда несколько обмотанных взрывчаткой шахидов направили захваченные самолеты в самое сердце Манхеттэна, башни-близнецы… И перед выжившими жителями огромного, прекрасного города стояла теперь непростая задача — научиться заново дышать после перенесенного апокалипсического ужаса. Кому, кому молиться, кого умолять, как избавиться от надвигающегося всепоглощающего страха, который неминуемо сделает жизнь каждого ньюйоркца невыносимой, изведет подозрениями, исполосует души, превратит из свободного человека, жителя огромной и сильной страны, в трясущееся перед шайкой жалких ублюдков, замученное угрозами животное?
Да, научиться дышать и жить заново. Это предстояло и Лике. Временами ей чудилось, будто она видит в пустой темной квартире зловещую усмешку никогда не баловавшей ее судьбы. «Расслабилась, да? Поверила в свое счастье? Перестала настороженно оглядываться по сторонам и прятаться по укрытиям? Так получай же! Вот тебе!» И тогда она валилась на пол, сжималась в бесформенный воющий комок, нашаривала за диваном бутылку виски и жадно припадала к горлышку, как к дарующему блаженное забвение волшебному источнику…
А потом пришло второе дыхание. И холодная ярость проснулась в истерзанной душе. И Лика поднялась с пола. Не сразу, сначала на четвереньки, затем, тяжело опираясь рукой о край кресла, встала на ноги. И показала скалящемуся из темноты злобному ужасу кукиш.
Этого тебе и надо, так? Хочешь запугать меня, сломить, превратить в корчащееся от страха и боли жалкое подобие человека? Так не бывать же этому, слышишь? Я выпрямлюсь и пойду дальше. И не стану ни о чем жалеть. Пускай мое отвоеванное счастье было таким коротким, пускай. Но все-таки оно было у меня! И больше я не стану бояться неминуемой расплаты. Ведь никакая последующая боль не отнимет у меня того, что было, не обесценит эти воспоминания. Господи, да почему же я не поняла этого раньше, много лет назад, когда встречала первый рассвет своей взрослой жизни, сидя на подоконнике? Ничто на свете не побеждается страхом, не искупается потерями. И чем сильнее ты боишься выступить вперед, откинуть забрало, лицом к лицу встретиться со своим страхом, тем большую власть он берет над тобой, отбирая снова и снова жалкие крохи того, что удалось тебе утаить. Нет, больше этому не бывать! Она не станет бояться. Страх умер в ту секунду, когда она судорожно нажимала на кнопки телефонного аппарата, уже догадываясь, да нет, уже зная, что Андрея нет больше в живых.
Через несколько дней, когда закончился официальный траур, и огромная, так и не ставшая ее второй родиной страна, скрипя и стеная, начала набирать обороты, чтобы возобновить свой бесконечный бег, Лика впервые вышла из дому. Одетая в вытертые черные джинсы, спрятав опухшие воспаленные глаза за темными стеклами очков, сжимая под мышкой картонную коробку большого формата. Она должна быть настоящей, до конца. Она ведь поклялась себе, что ничто в жизни больше не заставит ее отступить, позорно бежать, пригнувшись, прикрывая руками голову. И, когда через несколько часов она прошла сквозь автоматические ворота, пересекла заросший пальмами и акациями сад и увидела у бассейна мальчика, она поняла, что вот это и есть самое трудное, самое невозможное за эти последние несколько дней.
Здесь, конечно, обо всем уже знали. Белая вилла — легкое кружевное строение, утопающее в темно-зеленой листве — замерла в тягостном безмолвном оцепенении. Не задрожит резная тень на посыпанной песком дорожке, не прошелестит тяжелая ветка, увенчанная кистью розовых цветов. И лишь отрешенное, равнодушное ко всему на свете, вечное солнце жарит и жарит с безоблачного неба. Неба цвета глаз одного человека, которого нет больше на земле.
Со ступеней к ней тяжело кинулась пышнотелая Дэззи. Обхватила за плечи своими черными лоснящимися ручищами, припала к плечу, мокро моргая:
— Какое несчастье, мэм. Какое несчастье! Как пережить такое?
И Лика устало похлопала ее по пухлому плечу:
— Ничего, ничего, милая! Мы выберемся.
Артур сидел у кромки бассейна, сгорбившись, угрюмо глядя куда-то вниз, машинально болтая в воде загорелой ногой. Он быстро глянул на Лику исподлобья и тут же отвел глаза. Солнечный зайчик запутался в его выгоревших, почти совсем белых волосах, быстро прыгнул на переносицу, высветив бледные едва заметные веснушки. И у Лики отчего-то больно сжалось сердце. Она молча села рядом, положила на мраморный борт привезенную коробку, сбросив сандалии, тоже опустила ступни в прохладную воду.
— Что это? — Мальчишка покосился на коробку.
— Модель самолета, — объяснила Лика. — Ее… папа купил для тебя.
Артур вздрогнул и, испуганно покосившись на коробку, отодвинул ее ногой.
— Мне он не нужен, — буркнул он. — Я не смогу собрать его сам… один…
Его слова ударили прямо по оголенным нервам. Господи, бедный малыш, одинокий озлобившийся волчонок! Так рано оставшийся без мамы, а теперь потерявший еще и отца… Что только делается сейчас в этой светлой встрепанной голове, какие страшные кошмары видятся этим васильковым глазам?
И Лика, поддавшись порыву, положила руку мальчику на плечо, притянула его к себе.
— Не один! Мы соберем его вместе. Я и ты!
Показалось, или Артур слегка придвинулся к ней? Как будто напряжение, судорогой сковывающее всю его тоненькую фигурку, слегка спало. Он поболтал пяткой в воде и спросил, не поднимая глаз:
— Ты была там?
— Да… — просто кивнула Лика.
— Было очень страшно? — Он искоса поглядел на нее.
— Очень, — призналась она. — Ничего страшнее в своей жизни не видела.
Мальчик кивнул, словно такого ответа и ожидал. Лика чуть наклонилась к нему и горячо заговорила:
— Но ты не должен бояться, понимаешь? Они только того и хотят, чтобы мы боялись. Тогда они станут сильнее нас, они победят. А допускать этого нельзя. Если подумать, то кто они такие? Кучка жалких, озлобленных, мстительных людишек. И пока мы понимаем, что они жалкие, они нам не страшны. Мы сильные, и никому нас не победить.
— А папа? — Синие глаза быстро сверкнули на нее.
И Лика, сглотнув комок, продолжила:
— Папа прожил хорошую жизнь. Может быть, не очень длинную, но очень хорошую. Он был честным и мудрым, всегда старался помогать людям и ничего не боялся. И ему совершенно точно не понравилось бы, если бы мы с тобой расклеились. Он бы сказал, что это просто свинство с нашей стороны — предаваться отчаянию. Я думаю, — уверенно закончила она, — он хотел бы, чтобы мы жили дальше. И вспоминали о нем только с улыбкой.
Мальчик издал горлом какой-то странный сдавленный звук, сгорбился еще ниже и вдруг резко обернулся, кинулся к ней и охватил тонкими исцарапанными ручонками ее шею. В смятении Лика чувствовала, как сотрясается от рыданий все его худенькое легкое тело, как горячие слезы, капая ей на шею, стекают за ворот футболки.
«Вот оно, — пришло вдруг понимание. — Вот то, что даст ей силы жить дальше». Быть единственной опорой и поддержкой этого цепляющегося за нее беспомощного существа. Быть сильной и бесстрашной для кого-то. Знать, что ты не пустоцвет, не бессмысленная ошибка природы, ты нужна, чтобы не погибла хотя бы одна маленькая жизнь.
— Мама! Мамочка! — всхлипнул, прижимаясь к ней, маленький Артур.
Сердце принялось раздуваться внутри, все больше и больше, и, наконец, заполнило собой всю грудную клетку, сдавило дыхание, лишило дара речи.
— Ничего, ничего, — осипшим голосом выдохнула она, безостановочно гладя мягкие льняные кудри.
— Мамочка! — повторил мальчик, тычась мокрым лицом в ее плечо.
Эпилог 2006 год
В Центральном парке уже поселилась осень. Ветки столетних раскидистых деревьев уже теряли свои красно-бурые, оранжевые, золотистые листья. Пышное разноцветье красок рябило, преломляясь в брызгах бьющих фонтанов. По подернутой рябью зеркальной поверхности пруда деловито плыла стайка уток. Надрывалась в листве платана звонкая птица. Вдалеке процокали копытами серые лошади, запряженные в повозку старинного образца. Здесь как будто ничего не изменилось. Все так же разбегались из-под ног извилистые аллеи, скамейки, укрытые в тени, манили присесть, отдохнуть от безумной нью-йоркской гонки, послушать тишину.
В начале аллеи появились женщина и мальчик. Она — невысокая, грациозная, в черном элегантном платье, с гладко зачесанными темными волосами. Моложавая женщина чуть за сорок, вполне привлекательная, если бы не извечная печаль, погасившая ее глаза, опустившая уголки губ, желтоватыми тенями залегшая на висках. Белокурый вихрастый мальчишка лет двенадцати совсем не походил на нее. И все же не было сомнений, что это именно мать и сын.
Они двигались рядом, молча. Женщина сжимала в руках пышный букет лилий, мальчик оглядывался по сторонам, щурился, всматривался в местность, словно бывал здесь когда-то очень давно и теперь силился воскресить воспоминания.
— Я помню это место, — объявил он наконец. — Мы с папой как-то раз запускали на этом пруду радиоуправляемую игрушечную лодку. Мне было года четыре или пять…
— Да, — кивнула женщина. — Папа очень любил этот парк…
— Мне тоже здесь нравится, — оглядевшись по сторонам, постановил мальчик.
— Ну что ж, — улыбнулась она. — Если захочешь учиться в Нью-Йорке, подыщем тебе квартиру окнами на парк.
Поравнявшись с могучим платаном, женщина сошла с аллеи, ступила на траву и привалилась спиной к шершавому стволу дерева. Сняла темные очки — блеснули в луче утреннего солнца миндалевидные зеленые глаза в сеточке мелких морщин. Запрокинув голову, взглянула на раскинувшееся над городом насыщенно-синее небо, быстро сморгнула набежавшую от яркого света слезинку.
Мальчик постоял рядом с ней, затем двинулся вниз, к пруду, остановился у кромки воды, принялся крошить зажатую в руке булку и кидать уткам куски мякиша. Женщина рассеянно смотрела, как, быстро работая лапками, сплываются к нему птицы, как, смешно наскакивая друг на друга, дерутся из-за хлеба. Несомненно, жизнь здесь кипела вовсю, продолжалась, несмотря ни на что.
Они прилетели из Москвы только сегодня утром. Тогда, пять лет назад, Лика так и не смогла справиться с собой, заставить себя и дальше жить в этом городе. Почему-то сразу после церемонии прощания с Андреем ее потянуло на родину. Словно это подвело какой-то итог, завершило очередной этап ее жизни. Здесь не осталось ничего, нужно было ехать туда, в страну, однажды исторгнувшую ее, заставившую бежать и все равно оставшуюся родиной. Тем самым домом, куда ты летишь зализывать раны, отсиживаться, набираться сил перед новым рывком. И как только соблюдены были все формальности, подписаны все документы, Лика объявила Артуру, что они летят домой.
— Домой? — удивился мальчик. — Но мой дом здесь…
— А может быть, нет? — возразила Лика. — Может, тебе только кажется, что он здесь? Ты ведь никогда не был там.
— А разве бывает дом, в котором никогда не был? — округлил синие глаза ребенок.
— Бывает… — кивнула Лика. — Поверь мне, бывает…
Осенняя Москва встретила ее уже нежарким солнцем, уходящим теплом, шуршанием листвы в скверах, журчанием еще работающих фонтанов. Шумная, деловая, кишащая машинами Тверская, заполненные веселыми студентами бульвары, бренчащий на гитаре, кичащийся аляповатыми сувенирами Арбат… Старая маленькая квартира в одном из Арбатских переулков, пыльная и затхлая… Лика с удивлением отметила, что с первого этажа исчезло шумное казино, и роскошные тачки не дежурили больше под окнами. Неброские стильные вывески, появившиеся во дворе, оповещали потенциальных клиентов о местоположении бесчисленных страховых компаний, отделений банков, рекламных агентств. Бабулек на скамейке сменили выбегающие на две минуты покурить, торопливые, мечтающие о небывалом богатстве менеджеры. По ночам не гремели больше выстрелы, а наутро в новостях не сообщали об очередных жертвах бандитских разборок. В целом же Москва осталась прежней. Артур поступил учиться в гимназию и довольно долго поражал учителей своим безупречным английским. Классная руководительница без устали твердила Лике, что мальчику непременно нужно готовиться к инязу. Лика же лишь разводила руками, что она могла поделать, если ребенок грезил самолетами и в будущем видел себя исключительно авиаконструктором?
Лика работала в Останкино и, отправляясь снимать очередной сюжет куда-нибудь в область, вглядывалась в проносившийся за окном такой дорогой сердцу, так и не вытравленный оттуда до конца подмосковный пейзаж. В приоткрытое окно влетал сладкий, пряный аромат скошенных трав, изумрудных лугов, цветущих лип. Вечерняя прохлада сменяла удушливый, не по-московски жаркий день. О, как хорошо было бы жить, скинув лет пятнадцать с плеч — ей, студентке журфака… Но и тогда, если подумать, она о чем только с неподдельной серьезностью не горевала и даже пару раз прижгла себе руки сигаретой — от злости все, от непробиваемого эгоизма и сожаления, что жизнь не всегда хочет уступать ее безумным натискам. Неужели и тогда она была несчастлива, все требовала себе какой-то лучшей доли — любви, что ли, немыслимой… И это пронеслось. Ее «старушечьи», как ей тогда казалось, двадцать лет.
Все потом, конечно, завертелось. Она давно не помнила, да и не могла упомнить всех своих мужчин и грандиозных событий жизни. Жила как хотела, ни с кем не считаясь, любила кого хотела, расставалась без сожаления. Казалось, все еще впереди, не жизнь, а оголтелое ожидание жизни. Какого-то самого главного ее события.
Тем не менее она часто и в ранней юности, и сейчас, чувствуя себя глубокой старухой, оставалась одна. Мимо шествовали целующиеся парочки, горделиво выставляли животы беременные, семейные пары с кучей измазанных шоколадом ребятишек веселились в разросшихся и ухоженных московских парках. Иногда ей казалось, что она доживает не свою жизнь…
И тогда, грубо обрывая саму себя, вспоминала, что судьба подарила ей маленького Артура, испуганного, потерявшегося мальчика, к которому она прилепилась всей своей издерганной, измучившейся душой. Чем-то они оказались неуловимо похожи — может быть, тем, что слишком рано научились терять, держать удар, не сдаваться, утирать кровь с лица и заново подниматься на ноги. Может, потому так и уцепились друг за друга, когда сжимавшая штурвал самолета рука безумного фанатика лишила их единственного, самого дорогого для обоих человека. Человека, смутный образ которого Лика видела каждый раз, вглядываясь в веснушчатое скуластое лицо своего приемного сына. И всякий раз приходило облегчение — Андрей не умер, нет. Какая-то частичка его осталась в этом, так похожем на него мальчике. И пока они помнят его, пока не устают говорить о нем — он жив.
Лика окликнула Артура. Он быстро кинул в воду остатки булки и поспешил к ней. Взял за руку, переплетя свои исцарапанные мальчишеские пальцы с ее. — Идем? — взглянула на него Лика.
Он коротко кивнул, снова показавшись ей удивительно похожим на отца. Мать и сын, взявшись за руки, направились к строящемуся мемориальному комплексу.
День был немного ветреный, осеннее солнце почти не припекало. Выбравшись из сабвея на станции «Саус Ферри», Лика с Артуром пересекли площадь Музея эмиграции, миновали Уолл-стрит. Чем дальше они продвигались к точке Гранд Зеро, где теперь в обязательном порядке высаживались из двухэтажных красных автобусов толпы туристов, тем медленнее, тяжелее становился их шаг. Артур брел, что-то тщательно высматривая на отполированной тысячами ног брусчатке, опустив не по годам раздавшиеся сильные плечи.
Лике тоже было не по себе. Пять лет прошло с тех пор, как она покинула этот некогда любимый ею город, пять лет не вдыхала легкого ветра, долетавшего с набережной. За эти годы многое изменилось в ее жизни, забылись лица, мучившие ее раньше, кошмары, какие-то тайные страхи и надежды. И лишь один и тот же сон приходил к ней каждую ночь. Сначала голос Андрея что-то ласково нашептывал ей, заставляя перепутать сон и явь, и она бежала, бежала, бежала на этот голос. Ее безумный бег вдруг обрывался, звук его голоса тонул в стозвучном стоне, рыданиях, зовах о помощи. В такие ночи она неизменно просыпалась с криком. В комнату вбегал испуганный сын, и они долго сидели вместе, обнявшись и всхлипывая. Но вот после гибели Андрея прошло три года, и Артур как-то незаметно перестал давиться рыданиями у нее на плече, все больше успокаивал:
— Ну что ты, мам. Это только сон. Я с тобой!
Он сильно вытянулся, стал всерьез заниматься боксом, возмужал, и Лику воспринимал теперь как беспомощного ребенка, о котором нужно заботиться. Он полюбил свою приемную мать слепо, преданно, принял ее как родную по крови.
Как-то, когда она вернулась после очередного рабочего дня в Останкино с вестью о том, что на месте Великого Нуля будет выстроен самый грандиозный мемориальный комплекс в мире и уже даже открыт музей, посвященный катастрофе того страшного сентября, Артур, ни секунды не сомневаясь, объявил, что они должны непременно поехать туда на годовщину гибели отца. Так и случилось.
Артур обернулся к Лике, открыто и ободряюще улыбнулся ей, подхватив под руку. И Лика пошла быстрее, внутренне замирая от предчувствия того, что ей суждено было увидеть. Они прошли базилику из красного камня, и тут же панораму низкого осеннего неба загородили острые, уносящиеся ввысь верхушки подъемных кранов. Казалось, не менее сотни тяжелых экскаваторов трудились за забором, тысячи рабочих сновали по строительной площадке. До самого последнего момента Лика была уверена, что все в этом страшном месте давно умерло, погребено без возможности восстановления. И вдруг… Здесь все жило, росло, кипело надеждой. И множество людей, самых разных рас и возрастов, собравшихся в этот день у будущего мемориала, как завороженные смотрели на зарождение новой жизни в том месте, где, казалось, навсегда было уничтожено все живое. Здесь были люди, потерявшие в тот страшный день родных и близких, друзей и знакомых, и те, кто просто пришел поклониться памяти жертв часа, когда мировое сознание перевернулось, и человечество столкнулось с тем, что настоящее зло — это не конфликты с коллегами, не личная неустроенность или безденежье. «Может быть, — подумалось Лике, — в тот день ее современники, этакие баловни судьбы, родившиеся в относительно спокойное время, не заставшие мировых войн и крупных конфликтов, впервые задумались о том, что есть в жизни по-настоящему важного. Может быть, для кого-то это стало толчком, чтобы раз и навсегда отринуть все мелкое, суетное, бессмысленное, научиться смотреть вглубь, жить моментом, не страшась завтрашнего дня, не загадывая на будущее».
Лика искоса взглянула на сына, заметила, что на скулах его вспыхнули пятна румянца, взволнованно дрогнули ноздри. Мальчишка резко вскинул руку и быстро, стараясь не выдать своего волнения, отер тыльной стороной ладони глаза.
Они подошли к забору вместе, положили пышный букет белоснежных лилий туда, где высилась уже груда других цветов. Лика достала из сумки толстую свечу в специальном стакане, Артур щелкнул зажигалкой, и над желтоватым восковым столбиком затрепетал огонек. Он дрожал и бился на осеннем ветру, но не гас, не желал сдаваться, маленький, горячий и отважный.
Артур обернулся к Лике, сжал ее руку. И, заглянув в его синие глаза, она невольно увидела его таким, каким он станет когда-нибудь, через много лет. Большим, сильным, бесстрашным мужчиной, которого ничто уже не сможет напугать и сломить. Мужчиной, так похожим на его отца…
— Как ты думаешь, — спросил он вполголоса, — папа… Он совсем исчез или… Или, может быть, он смотрит на нас откуда-то?
И она, притянув его к себе, легко поцеловала в пахнущие солнцем и ветром волосы.
— Конечно, он не исчез. Он всегда здесь, с нами. Потому что бытие и наша земная жизнь, она ведь не прерывается по чьей-то там прихоти и не заканчивается никогда, уж я это точно знаю. Видишь, как кипит все вокруг. — Она махнула рукой в сторону орудующих экскаваторов. — Жизнь не окончена, она продолжается. А твоя… твоя так и вообще только начинается.
И мальчик, ткнувшись лицом ей в плечо, пробормотал отрывисто:
— Не только моя, наша… У меня ведь есть ты…
Кругом толпились люди — мужчины, женщины, подростки, старики, совсем маленькие дети, родившиеся уже после страшной трагедии. А высоко-высоко над толпой, над всем этим суетным городом, над смешным, таким маленьким, что-то себе воображающим человеческим миром, расстилалось бездонное, вечное и мудрое небо. Небо, которое все уже видело и точно знало, что жизнь бесконечна.




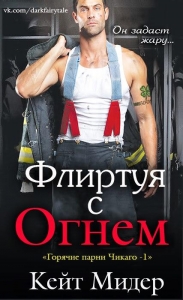
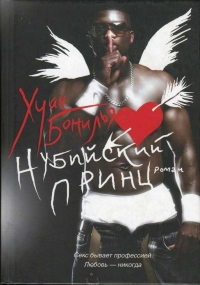

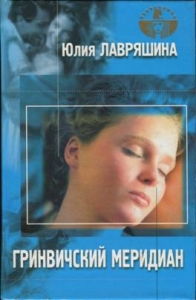
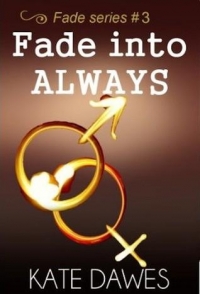

Комментарии к книге «Поцелуй осени», Ольга Владимировна Покровская
Всего 0 комментариев