Брижитт Бро, Доминик де Сэн Перн Во имя любви к воину
Шахзаде.
Пусть эта книга станет маленьким кирпичиком в здании более толерантного мира.
Б. Б.Малиару,
который будет расти,
имея право играть в бумажного змея.
А. С. Р.Предисловие
В феврале 2004 года, когда через одного из своих друзей я познакомилась с Брижитт Бро, я знала ее только как создателя фильма «Взгляды афганок». Это была замечательная лента, сделанная ею вместе с юными ученицами — журналистками из Кабула. Вместе они колесили по Афганистану, прося женщин из Герата, Джелалабада, Бамиана рассказать о перенесенных ими в период талибского режима страданиях, а также о надеждах дня сегодняшнего.
Она работала с небольшой командой молодых афганок в опустошенной стране, напичканной минами, где по-прежнему царил страх, — небывалая смелость и незаурядная решимость… Обучать журналистскому мастерству выросших в заточении семнадцатилетних жительниц Кабула, убедить их снять чадры во время работы, смотреть в глаза мужчинам и продемонстрировать, наконец, новый тип женщин, которые осмеливаются нарушить табу их собственного общества, — все это означало уверовать в разум этого народа, в способность мужчин к пониманию.
Брижитт оказывается на несколько дней в Париже, мы снова встречаемся. Между нами возникает атмосфера доверия. Кое-что интригует меня. Почему, сняв фильм и выполнив свою миссию в благотворительной организации «Айна», она решила остаться в Афганистане? Она журналист на канале «Франс-3», ее место сохраняют за ней. Но уже два года она живет в Кабуле, где, это знает каждый, жизнь невыносима и где даже самым стойким приходится нелегко. Что же так привлекает ее в этой стране?
Поначалу она говорит со мной немного нерешительно. Когда она снимала фильм, то познакомилась в Джелалабаде с молодым главой пуштунского племени, одним из десяти лидеров афганских племен. Шахзаде 35 лет, ей — 41. Взаимное притяжение было мгновенным и сильным. Она — воплощение свободы и современности, тогда как он, в глазах 900 тысяч момандов, проживающих на востоке Афганистана и западе Пакистана, — гарант соблюдения законов феодального общества, в котором женщина не имеет права распоряжаться собственной жизнью.
Передо мной — высокая блондинка, сильная, свободная. Чем больше она говорит со мной, тем сильнее меня трогает ее способность продвигаться вперед в такой нестандартной ситуации, рассчитывая лишь на собственные силы и любимого мужчину. В Кабуле, в среде экспатов, ведущих обособленный образ жизни, ее не могут понять. Брижитт работает там в посольстве Франции, а это осложняет дело.
В каждом сюжете ее откровенного рассказа — непростая история. Шахзада давно женат. Его жена осталась в горах, в момандской деревне, где ведет типичный для пуштунских женщин образ жизни. У них уже семеро детей. Об этом Брижитт знала с самого начала и приняла это. Полюбив мусульманина, победившего талибов с их варварством, отвергшего их мракобесие, она приняла ислам, о чем ее никто не просил, и нашла в этой религии свет и покой.
Как только они познакомились, встал вопрос о свадьбе. Это означало, что Брижитт придется покинуть Кабул, поселиться рядом с первой женой в глинобитном доме без воды и света и подчиниться семейным традициям. Она не сможет поступить по-другому, выйдя замуж за главу момандского народа. Этот шаг, немыслимый для западной женщины, еще не сделан. Случится ли это когда-нибудь? Они предпочитают пока такой вид отношений, который не ограничивает свободу Брижитт и не умаляет престиж Шахзады в глазах его народа.
В голове — тысячи вопросов. Как их союз мог выстоять в условиях строгого следования традициям? Как эта невероятная любовь может продолжаться и развиваться? Чем Брижитт пришлось пожертвовать ради таких необычных отношений? И что она обрела, победив обстоятельства, казавшиеся непреодолимыми?
Брижитт позволила мне рассказать ее историю в этой книге. Я провела с ней два месяца в Афганистане, где познакомилась с теми, с кем она делала свои первые шаги: друзьями генерала Масуда, молодыми тележурналистками, ставшими сегодня признанными мастерами своего дела. Вместе с ней мы проехали по пыльной дороге в Джелалабад — там нас ждал Шахзада. Я познакомилась с главой племени, который, проведя всю свою жизнь в Афганистане, живо интересовался тем, что происходит за горами, за пределами страны, на Западе. Его жажда знаний огромна. Его поддержка молодой афганской демократии колоссальна. Он решился на некоторые откровения со мной, несмотря на то что это нарушало пуштунские традиции. Благодаря ему мы посетили момандские племена, и я увидела афганцев с разных, противоположных, сторон — как воинов и как поэтов, диких, но и духовно богатых, на удивление любознательных. Это позволило мне лучше понять и описать привязанность любимой им женщины к его стране, к сформировавшей его культуре.
Брижитт многое рассказала мне. Некоторые признания были непростыми. Они сделаны почти в конце нашего общения — тогда, когда у нее появилась уверенность, что я смогу ее понять и что она сама готова взвалить на себя бремя публичности в момент, когда об исламском экстремизме пишут первые полосы всех мировых газет. Наши слова и голоса смешались в этой книге; но сама история, полная ошибок и надежд, принадлежит только ей.
Доминик де Сэн ПернГлава 1 Спрятанные картинки
Пуатье.
Июль 1994 г.
«Закройте глаза. Расслабьтесь». Я удобно устроилась в кресле, усталость овладела моими веками, плечами. Голос психотерапевта увлекал меня в глубины, в которые я погружалась с облегчением: «Представьте синий цвет… Так… А теперь красный». Сосредоточившись, я вижу темно-синие тропические моря, зеленые лагуны, закатное небо цвета кобальта… Мой дух поднимается, чтобы воспарить над скалистой горой, по которой я иду в сопровождении мужчины. Мы двигаемся быстро, чтобы избежать опасности; в руках — оружие. Я перестаю бежать, оборачиваюсь и стреляю в невидимого врага. Я знаю, что мы спасены…
Я вышла после этого сеанса опустошенной, потрясенной. Что мне привиделось? Что означали эти картинки? Я никогда не покидала Францию. Эти пейзажи и абсурдные ситуации были мне незнакомы.
Во время последующих сеансов я видела обширную каменистую местность. Пожилая женщина, стоящая возле белого шатра из грубой материи, говорила мне: «Вам нужно рассказать о нас». И снова я спрашивала себя, что все это означает. Я видела пещеры, в которых жили бедняки. И снова горный склон, но на этот раз зеленый, цветущий, где росла молодая пшеница.
Как же могла я догадаться тогда, что в далеком будущем реальность совпадет с этими картинками? Что я буду ходить по каменным склонам гор, таким же, как те, что я видела тогда? Что буду снимать афганских женщин-кочевниц около их шатров, и одна из пожилых хазареек поведет меня в пещеру, в которой живет, чтобы рассказать мне об ужасной доле, постигшей ее соплеменников при талибах?! Еще более невероятным кажется то, что однажды я на самом деле буду идти по горным тропам рядом с мужчиной, воином, который перевернет всю мою жизнь. Мужчину, у которого пока еще нет ни имени, ни лица, зовут Шахзада. Он будет жить в постоянной опасности и ускользать от врагов. Он научит меня защищаться и стрелять.
Все эти картинки рассказывали о моей сегодняшней жизни. Но тогда я спрашивала себя: «Откуда они взялись? Где находится эта страна?» Потом я на время забыла об этом.
Глава 2 Вершины Панджшира
Афганистан.
31 июля 2001 г.
Все началось в тот самый день, когда грохочущий старый вертолет вез меня к генералу Масуду. Я очень четко вспоминаю эти мгновения. Я словно покидала собственное тело, открывала себя, — я жила. Никогда прежде я не чувствовала себя так хорошо. Я поняла это гораздо позже. Эта внезапная свобода, эта легкость означали, что я наконец была готова принять неизвестность. Редко случается так, что ты можешь точно определить поворотный момент своей жизни, что осознаешь его именно в тот миг, когда это с тобой происходит. Для меня он наступил тогда — прозрачным летним утром в горах Афганистана.
Стояла страшная жара. Вертолет был готов к взлету. Я бежала по взлетной полосе среди оглушительного гула работающих винтов, ослепленная тучами песка. Вдруг платок, покрывавший мою голову, слетел. Я поймала его за край, зажала кончик между зубами. И побежала еще быстрей, злясь на свою тучность, на вес видеоаппаратуры, впивающейся мне в плечо, на эту ужасную пыль, въедающуюся в кожу и глаза. Но в глубине души я ликовала. Ведь я буду любоваться одной из самых красивых панорам на земле! Но особенно я была счастлива от того, что осуществила свою мечту — рискнула пуститься в авантюру.
Я бросила беглый взгляд на вертолет, прежде чем забраться в него. Развалина, повсюду заплаты. Настоящий летающий гроб. Огромная желтая цистерна, наполненная горючим, занимала четверть кабины. Один сильный толчок, и машина превратится в бомбу. Впрочем, меня предупреждали: подобные развалюхи с людьми на борту уже разбивались в горах. На все воля Аллаха!
Двумя днями раньше я была в Душанбе, в Таджикистане, где правительство Северного Альянса под руководством Масуда выдавало визы и разрешения журналистам проникнуть в Панджшир — единственную афганскую провинцию, свободную от талибов. Тогда в первый раз в жизни я летела вертолетом. Машина русского производства доставила меня в Роджа-Бауддин, последний форпост генерала Масуда на самом севере Афганистана. В настоящий момент я направлялась для встречи с ним южнее — в Сангану.
Старый Ми-8, раскачиваясь, оторвался от земли. На какое-то мгновение замер, затем клюнул носом и поднялся в воздух, наполняя его ревом винтов. Сидя рядом с пилотом, я видела, как отдалялось и уменьшалось все то, что так впечатлило меня двумя днями раньше по приезде в Роджа-Бауддин. Военные, сновавшие вокруг вертолетной взлетной полосы, саманные дома-крепости, похожие на замки из песка на каменистом морском берегу, развевающиеся шатры палаточных деревень, где скапливались тысячи беженцев, покинувших осажденный Кабул. Все это постепенно исчезло, растворяясь в желтых и коричневых оттенках камней. И мы проникли в скалистые ущелья Панджшира.
Мы пролетали над настоящими сокровищами земли. Прямо под нами текла бурная горная река. Вдоль ее берегов можно было различить ивы и кусты ежевики, иногда узенькие пляжи из гальки. Потом скалы расступились, открыв величественную картину высоких панджширских вершин — гордых, недосягаемых, достигающих высоты в 6 тысяч метров. Теперь мы пролетали над небольшими живописными горами. Схватив камеру, я снимала свои первые афганские кадры.
Я была зачарована. Через крупный план видоискателя я смотрела на склоны гор, покрытые до середины посадками овощных культур. Казалось, чья-то деликатная, чуть дрожащая рука провела границы между участками, где росли овощи. Крестьяне работали, сидя на корточках.
Внезапно всплыли во всем своем величии позабытые картинки. Я была потрясена. Размеренные движения крестьян, ручей, текущий в долине, и яркий солнечный свет над всем этим воскресили в памяти однажды увиденные знаки моей судьбы.
Как по волшебству, исчезли все плохие воспоминания, серость дней в Нанси, мои сомнения и ошибки. Я приехала туда, где что-то меня ждало. Мне было наплевать на залатанный вертолет, в котором я летела. Страх возможного падения был начисто забыт. Никаких дурных предчувствий, лишь огромное возбуждение, которое стирало все пережитое мной до этих пор.
Мне был 41 год, я не была ни авантюристкой, ни сорвиголовой. И если я оказалась здесь, в этом тесном стареньком вертолете воздушных сил генерала Масуда, то только потому, что очень этого хотела. Это была рискованная, новая для меня ситуация; для кого-то — редкая; непостижимая для людей той среды, в которой я родилась. Мне кажется, подумай я об этом тогда, услышала бы ворчливый голос отца. Этого было бы достаточно, чтобы сделать все наоборот.
Самоанализ — не мой конек. Зачем рыться на старых чердаках? Их темные уголки, а также боязнь встретить там нежелательные фантомы пугают меня. Я люблю свет. Однако, если говорить откровенно, истинная причина моего присутствия на афганской передовой кроется гораздо глубже. Это произошло раньше, чем я узнала о генерале Масуде и войне в Афганистане. Истоки — в одном из далеких весенних вечеров, когда маленькая непоседливая девочка потеряла свою детскую беззаботность.
Я родилась в первый день января в Бурже, городе Центральной Франции. Мои родители были булочниками, это тяжелая профессия. Короткие ночи, изнурительные дни. Они поженились практически детьми сразу после войны. Сначала родился брат, через пять лет после него появилась я, пухлая и упрямая. Каждое утро, когда мы с братом спали, прижавшись, в одной кровати над родительской лавкой, один и тот же сладкий запах свеженьких круассанов наполнял улицу, поднимался до нашего окна и будил нас, ласково щекоча ноздри.
Насколько я могу судить, моя мать была женщиной неприметной: я не помню, чтобы она когда-либо занималась собой, прихорашивалась для себя или для моего отца. Он же — ее полная противоположность: красив, опрятен, высок, силен, громогласен. Я так и вижу его, вальсирующего с огромными чанами теста и приказывающего ученикам поторапливаться. Женщины вились вокруг этого победителя, и он не заставлял себя долго упрашивать. Он любил устраивать холостяцкие мальчишники. Мы частенько слышали, как родители кричали друг на друга.
Энергии у меня было полно. Для моего возраста и роста даже слишком. Я шла напролом, бежала, болтала, спрашивала, пела, ничего не доделывая до конца. «Брижитт, ты невыносима! — повторяла мать. — Твой брат намного милей тебя». Я его сильно раздражала, своего старшего братца. Гнев делал его злым, а для убийственных слов нет возраста, особенно таких ранящих, что даже наедине с собой я не могу повторить их. Хотя нет, есть одна фраза, которую он часто выкрикивал мне в лицо: «Ты лишь жалкий выкидыш!» Короче говоря, я была оторвой, но никто не искал причину этого.
По четвергам, когда не было занятий в школе, отец брал меня с собой. Я очень любила располагать им единолично. Так хорошо было усесться рядом с ним в грузовичке, голубом «фиате», загруженном нашими сокровищами — караваями, плетенками, булками, багетами, которые мы развозили от фермы к ферме. Мне нравилось ездить по проселочной дороге, а особенно радовало то, как нас встречали крестьяне — с улыбками, ведь булочник всегда приносит только вкусные вещи.
Однажды после полудня отец остановил машину перед отдаленной фермой. Он вышел и кивнул в сторону маленького мальчика, игравшего во дворе: «Останься с ним, мне надо сказать пару слов его матери». Он протянул нам две шоколадки и исчез в доме. Время шло, мы с мальчиком много раз спели «Братца Якова», погонялись за курами, шумно разбегавшимися от нас, теряя перья. Но больше мы не знали, чем заняться. Наступала темень, у меня заканчивалось терпение. Отец сказал мне, чтобы я оставалась на месте, но ноги уже отказывались меня слушаться. Я позвала его. Ни звука. Я приблизилась к дому. Никого. Я заметила сарай и решительно направилась к нему. Он был закрыт на два засова. Я приподнялась на цыпочки, чтобы дотянуться до задвижек, и с большим трудом приоткрыла дверь. В полумраке я различила вязанки сена, орудия земледелия, вилы, верстак. И я увидела его. Он изменял моей матери.
Мне было четыре года.
Чуть позже отец вернулся в машину, куда я, надувшись, спряталась. И мы снова отправились в путь, как если бы ничего не произошло, как если бы небо не стало вдруг черным и гнетущим. Понял ли он, что я его видела? Не думаю. Он казался спокойным, насвистывал даже. Я молчала, дорога покачивалась перед моими глазами, полными слез. Я еле сдерживала рыдания. Я абсолютно не имела понятия о том, что означало «заниматься любовью», но я знала, что отец виноват. Как он мог поступать так с матерью? И со мной, с его маленькой дочкой? Когда мы доехали, моя грусть переросла в ярость. Я выпрыгнула из машины и побежала к матери, чтобы все ей рассказать. Никто не проронил ни слова во время ужина. Я пошла спать. Прижавшись к брату в темноте, лежа под одеялом, я услышала крики и плач матери. Она угрожала бросить его. «Сейчас будет взрыв», — заключил брат, засыпая.
На следующий день все вошло в свою колею. У матери не хватило решимости забрать нас и уйти. Отец никогда не вспоминал об этом инциденте и ничего не поменял в своем поведении. Но разница для меня теперь была в том, что я знала, что произошло. И возмущение уже не покидало меня. Понемногу оно переросло в обиду на них обоих за то, кем они были.
Годы спустя родители оставили пекарное дело и открыли кафе. Там отец угождал посетителям за стойкой или на террасе. Сколько раз я слышала от него: «В любом случае я предпочитаю друзей семье». Думал ли он так на самом деле? Я, делая уроки за столом в глубине зала, держала ушки на макушке, как все дети; и мне было плохо, мне не хотелось жить. Я выросла, стала златокудрой красоткой, но голос во мне все время повторял: «Ты не способна понравиться мужчине».
Отец не скрывал своей ненависти к арабам. В 16 лет я влюбилась в молодого араба, мне нравились его черные глаза. В то время родители купили гостиницу. По ночам я спускалась по стене, чтобы присоединиться к подружкам-сверстницам и отправиться в город. По хорошо отрепетированному сценарию я закрывала дверь своей комнаты и шла в ночной рубашке в туалетную комнату, где предусмотрительно прятала вещи в груде белья. В туалете, окна которого выходили во двор, я переодевалась, спускала воду для достоверности и, пока родители смотрели телевизор, исчезала до шести утра. Когда отец узнал об этом, я получила первую в жизни оплеуху, сдобренную потоком ругательств. Я была в шоке. Как этот человек, который унижал мою бедную мать, мог упрекать меня за безобидную любовную интрижку? Я огрызнулась: «Ты не можешь меня учить, потому что сам заставляешь мать страдать». Он запретил мне его осуждать. Моя ярость удвоилась.
Еще больше отец не любил журналистов. Они совали нос куда не надо и рассказывали черт знает что. Я же в 17 лет начала догадываться, что окружающий мир намного шире, богаче, свободнее, чем мирок моих родителей. Я поняла, что остаться с ними — значит похоронить себя. Или хуже: стать такими же, как они. Тогда я выучилась на юриста и нашла работу в администрации города Пуатье, где, впрочем, умирала от скуки. «А журналистика? Ты не хочешь стать журналистом? Скоро освободится место внештатного корреспондента спортивной рубрики в газете "Сентр-Пресс"», — предложила мне подруга. С детства я мечтала стать великим репортером. И я ухватилась за этот шанс. В будние дни работала в администрации, а уикэнды проводила на спортивных площадках, получая 10 сантимов за строчку и 1 франк за фотографию.
В один прекрасный день я все бросила, чтобы поступить в Страсбургский университет учиться на тележурналиста. И получила диплом.
Теперь я была журналисткой в редакции региональной компании третьего национального канала «Франс-3 — Лотарингия» в Нанси и специализировалась большей частью на новостных передачах местного масштаба. У меня было одно желание — сбежать оттуда. Происшествия, закрытия заводов, манифестации — все это в полутораминутных роликах — надоели мне. Я часто предлагала делать более длинные, детальные репортажи, которые могли бы лучше осветить человеческие судьбы. Например, о профессиональном и личном участии лотарингских пожарных в серьезных техногенных катастрофах, таких как падение самолета на гору Сент-Одиль. Или об обете молчания монахинь-кармелиток из Вердена. Вот что меня интересовало. Сколько было усмешек, когда я снимала сюжет о Женевьев де Фонтене! Ведь создательница конкурса «Мисс Франс» родом из Лотарингии. Эта женщина, над которой все смеялись, показалась мне интересной. Ее концепция элегантности, далекая от современных ультрамодных тенденций, ее представления о том, как должна выглядеть порядочная молодая девушка, сразили меня. Я обнаружила под ее крикливыми шляпками скрытую печаль и ценности, которые она непреклонно отстаивала. Сегодня она — уже своего рода икона в мире моды, и ее смелые высказывания на самых крупных телевизионных каналах покоряют сердца. Она продолжает смешить, но теперь к ней прислушиваются.
Однажды катастрофа прервала привычный ход жизни. В январе 2001 года в индийском Гуджарате произошло разрушительное землетрясение. Вместе с добровольцами из Нанси поехала и я, как представитель местной телекомпании «Франс-3 — Лотарингия». Мы прибыли на опустевшие земли на северо-западе Индии, где землетрясение унесло жизни 30 тысяч человек и оставило после себя 250 тысяч раненых. Добровольцы направились в отдаленные деревушки, забытые международными гуманитарными организациями. Человеческое достоинство индийцев, сила взаимопомощи на фоне страшного несчастья потрясли меня. Я поняла, почему я выбрала эту профессию. Есть много причин, которые склоняют людей к выбору профессии журналиста, — власть, которую она дает, желание странствий, интерес к человеческой психологии или к функционированию общества, поиск истины. Стоит ли искать причину в каждом случае? Моя же заключалась в том, чтобы, предоставляя слово тем, у кого нет другой такой возможности, раскрыть секрет их преданности своему делу.
Итак, первая часть моей мечты обрела очертания, осталось только снова не погрязнуть в рутине монотонной жизни… Годы бежали, мне было под сорок, пришло время прислушаться к своим желаниям, уйти от обыденности, которая вела к разочарованиям. Я хотела немного пожить по-настоящему, прежде чем умереть. И сделать то, для чего я была создана.
По возвращении из Гуджарата я залезла в Интернет и постепенно заинтересовалась Афганистаном. На сайтах были размещены пейзажи, от красоты которых останавливалось дыхание. Новости же были ужасающими.
В том июле 2001 года Афганистан, раздавленный Талибаном, не слишком интересовал средства массовой информации. Лишь иногда впечатляющие кадры, снятые скрытой камерой, вторгались в размеренный ритм теленовостей. Страшные кадры. На переполненном кабульском стадионе людей вынуждали наблюдать за казнями. Бородачи в черных тюрбанах отрезали руки ворам, вешали участников Сопротивления, забрасывали камнями или стреляли в затылок женщинам, обвиненным в адюльтере. Эти образы — маленькие темные силуэты, коленопреклоненные, с опущенной головой, принимающие наказания, которые сопровождались унижением и ругательствами, — не могли не впечатлить. Было от чего усомниться в гуманности человечества, которое и в ус не дуло. Нужны был март 2001 года и подрыв гигантских статуй Будды в Бамиане, чтобы общественность дружно запротестовала. Потом возмущение опало, как и глиняная пыль на развалинах. И лишь в женских журналах негодовали по поводу судеб несчастных женщин, лишенных образования, работы, медицинской помощи.
Что касается репортажей о Панджшире, горной местности на севере Кабула, единственной, еще как-то сопротивлявшейся неумолимому приближению фундаменталистов, то они были очень редки. Исключением были сюжеты Кристофа де Понфийи. Я же очень хотела сделать такой репортаж, хотя тема его была далека от привычной сферы моей деятельности. Я решила пойти окольным путем, используя каналы взаимопомощи. Десятки ассоциаций приходили на помощь свободной зоне Панджшира, и я выбрала две из них. Одна из них, «Афганистан — Бретань», строила там дома для беженцев. Ее президент, Ахмад Фроз, предложил помочь мне встретиться с генералом Масудом, другом его детства. Интервьюировать самого Масуда, великую фигуру Сопротивления, — какая удача! Другая ассоциация, «Негар» (созданная для помощи женщинам Афганистана), с 1996 года держалась на хрупких плечах двух замечательных женщин — Шанталь Верон и Шукиры Хайдар. Они упрямо не соглашались с варварскими запретами талибов и, рискуя жизнью, организовывали подпольные школы в Кабуле.
У меня не было иллюзий, я понимала, что моя региональная кампания не пошлет меня снимать зарубежный сюжет, где бы это ни было. Все было только в моих руках. Я стучалась в разные двери, чтобы добиться финансирования. Канал «ТВ-5» согласился оплатить мои расходы в обмен на видеосюжеты, а одна промышленная организация Нанси одолжила мне легкую камеру. Я взяла месячный отпуск и полетела в компании Ахмада Фроза, а также вице-мэра города Ренн мадам Николь Кил-Нильсен и сенатора Эмери де Монтескью в место, которое называют «королевством наглецов». Вертолет вез нас в Панджшир, где воевал Масуд. Нас даже не обыскали. Зачем? Ведь с нами ехал старый друг генерала.
Мы приземлились в Сангане. Снова пыль, жара и военные маневры. Джип довез нас до одного из домов, где Масуд оставлял ночевать своих гостей. Его люди подали нам обжигающий зеленый чай. Они кивали головой на каждую мою просьбу. Когда же можно будет увидеть генерала? Масуд мог приехать после полудня, завтра, через три дня. Он был неуловим, никогда не спал две ночи подряд в одном месте и вообще спал недостаточно, «но он придет, раз обещал».
Ждать пришлось пять дней. Ахмад проводил меня в лагерь беженцев — я хотела немного поснимать. Целью его приезда было обсудить с Масудом возможности улучшения условий жилья для беженцев. Архитекторы по образованию, они говорили на одном языке. Жилье? Я увидела лес матерчатых или клеенчатых палаток, поставляемых «Врачами без границ», Агентством по технической кооперации и развитию или друзьями Масуда. Целые семьи кабульцев теснились в них. Они бежали от талибов и террора. Внутри палатки сияли безукоризненной чистотой. Покрывала были аккуратно сложены, а залатанные коврики, лежащие на глиняном полу, создавали ощущение домашнего очага. Самые удачливые смогли, убегая, захватить с собой чайник, кастрюлю, реже — личные вещи. Однако я не заметила ни одного умоляющего жеста, ни одной попытки попрошайничества. Взрослые следили за моей камерой с любопытством; дети, смеясь, бегали под ногами. Жизнь продолжалась, несмотря ни на что.
Однажды вечером, когда мы спасались от жары под вентилятором в гостиной гостевого дома, в дверях появились двое моджахедов, вооруженные пулеметами. Они обвели взглядом комнату, потом удалились. Масуд вошел, словно кошка, — молчаливый, готовый в любой момент исчезнуть. Мы все молчали, завороженные. Даже до того как он произнес первые слова, этот человек вызывал уважение. Он приказал принести нам чай. Я внимательно всматривалась в него. Военная форма удачно подчеркивала его худощавую фигуру. Под паколом, шерстяным беретом, который сделал его узнаваемым во всем мире, — знаменитые заостренные черты, чуть раскосые глаза, лучики морщин на висках. С недавних пор в его темной аккуратной бородке появились седые волосы. Масуд привычным жестом обнял Ахмада, друга детства. Они расспросили друг друга о здоровье, семьях, о проделанной нами дороге. Все говорило о глубокой привязанности этих двух мужчин. Ахмад нас представил, мы обменялись приветствием «салам алейкум». Масуд сел в одно из больших кресел, стоявших в гостиной, мы последовали его примеру. Он пробуравил нас взглядом. Потом, казалось, решил, что присутствие Ахмада, почти брата ему, стоит всех соглашений о доверии.
Я приступила к первому своему большому интервью. Масуд настоял, чтобы Ахмад переводил его доводы фразу за фразой. Это требование сделало беседу ломаной, отрывистой. Жаль, поскольку Масуд говорил очень сильные и красивые слова. А в свете событий, которые последуют вскоре и потрясут мир, они станут пророческими. Он с горечью говорил о войне. Запад, считал он, более великодушен на словах, чем в реальных действиях по поддержке его страны. Вот уже много месяцев он ждал обещанной Францией гуманитарной помощи. Ничего не приходило. Он не обмолвился ни словом об этом, но мы все знали, что ко всему прочему наша страна унизила его. Когда три месяца назад глава афганского Сопротивления приехал в Париж, ни Жак Ширак, ни премьер Лионель Жоспен не согласились его принять. Николь Фонтен, тогдашнему председателю Европейского парламента, понадобилось немало мужества: она, вопреки службе протокола, решилась встретить его с почестями, положенными главе государства.
Масуд запомнил лишь близорукость Запада. Он знал, какие опасности нас подстерегают. В молодости он был членом фундаменталистских организаций и видел, на что эти люди способны. «Если мы победили русских, то прежде всего, конечно, для себя, но также и для вас. Это последствия для всего мира[1]. И сегодня мы сражаемся против талибов за нашу свободу. Но и за вашу тоже». Затем тоном, не терпящим возражений, бросил: «Ладно, пойдем ужинать». Панджширский Лев был голоден. Это было не в моих интересах. Поэтому, пока другие устраивались вокруг стола, а потом руками брали из общего блюда кто горсть риса, кто кусок маринованного ягненка, я снимала. Лица лоснились от пота, лицо же генерала было аристократически безупречно. В объективе камеры, под этим микроскопом, от которого ничего не скроется, я увидела усталость в глубине его глаз.
Несколькими неделями раньше талибы захватили равнину Шамали, открыв себе тем самым доступ к высокогорному ущелью, где Масуд и его люди прятали своих близких. Семьи эти поднимались все выше и выше, на Крышу мира, которая была недоступна врагу. Северный Альянс сохранял контроль над Панджширской долиной и частью Бадахшана. Но надолго ли?
Масуд не терял надежды, и у него были планы на будущее. Когда война закончится, сказал он, он вернется к своей любимой профессии архитектора. Он уйдет из политики, ну разве только народ выразит желание провести демократические выборы. В столовой все были заворожены его словами. Я спросила его, допустил ли он ошибки, в которых сегодня раскаивается. Он задумался, потом признался, что действительно совершал ошибки во время гражданской войны и сожалеет об этом. Но кто их не совершал?
Он ловко встал, выпрямившись во весь свой высокий рост, попрощался с нами, обнял Ахмада и так же внезапно исчез, как и появился.
Все прошло не так. Слишком быстро, наперекосяк. Невозможно управлять этим человеком. И я решила не возвращаться во Францию, пока не увижу генерала снова.
Когда Ахмад вернулся в Бретань, я приступила ко второму своему репортажу для Шанталь Верон и ее ассоциации «Негар». Какая женщина! До прихода талибов она преподавала французский язык в престижном лицее для девочек «Малалай» в центре Кабула. С тех пор она создавала подпольные классы в столице, строила школы в Панджшире, поскольку Масуд очень хотел, чтобы и мальчики, и девочки получали образование. Везде она раздавала тетради, ручки, ластики, линейки — тот необходимый минимум, который зачастую был недоступен многим афганским семьям. В этот раз ее копилка позволила приобрести школьные принадлежности на 9 тысяч долларов.
Надо было видеть, как деревенские жители встречали эту неподкупную, скромную и неутомимую женщину. Как свою родную сестру. Я видела в их глазах тот же напряженный блеск, который встречала в глазах беженцев. Афганский свет. Как люди смогли оставаться такими живыми после стольких перенесенных ужасов, оплакав столько смертей? Какая-то сила поддерживала их. Именно тогда я прониклась любовью к афганцам — мужчинам, женщинам, старикам, детям, — и ни разу не усомнилась в этой любви. Встреча с этим народом расширила мое представление о мире.
По возвращении в Роджа-Бауддин я стала ждать второй встречи с генералом. Время шло, стремительно заканчивался мой месячный отпуск, но никак не моя жажда работы. У меня было время подумать; и, как следствие этого, к моей первой мечте — поговорить с Масудом — прибавилась еще одна: снять передовую.
Военная база Роджа-Бауддин была основной в расположении Масуда, именно здесь он сконцентрировал свои силы. Она была также и местом аккредитации, где специальное подразделение безопасности рассматривало просьбы иностранных журналистов и гуманитарных организаций. Если такое разрешение было получено, подразделение брало на себя все хлопоты по приему, размещению, контактам, переездам. Поэтому через деревню в сторону вертолетной площадки шла нескончаемая вереница машин. Четыре уцелевших в боях вертолета перевозили продукты питания, членов штаба Северного Альянса, военную технику на линию фронта и, наконец, раненых. И это не считая приезжих, направляющихся из Европы в Таджикистан и обратно. Вся эта адская по сложности логистика лежала на плечах двух мужчин — Зубайра Амири, улыбчивого, живого крепыша, и его шефа Азима Сухайла, который, напротив, проявлял нервозную суровость. Безопасность Масуда зависела от их бдительности. Они занимали небольшой офис в крупном здании, которое окрестили Министерством иностранных дел Северного Альянса. Я проводила массу времени, теребя их по-английски: «Ну что, у вас есть новости от Масуда? Он согласен дать мне еще одно интервью? Когда?» Но напрасно я жужжала вокруг них как пчела. Они оставались равнодушными к моему волнению, встречая мои просьбы выражениями типа: «Да, Брижитт» или «На все воля Всевышнего». В Афганистане время течет по-иному. Оно здесь дольше и шире, чем в любом другом месте. Смирившись, я делала единственное, что было в моей власти: сидела и ждала.
В комнате было всегда полно народу. Здесь было много плодов цивилизации: компьютер, принтер, вентилятор и, верх комфорта, маленький телевизор. Радиоузлы, соединяющие Зубайра и Азима с главным штабом, трещали беспрерывно. Капризный генератор дополнял звуковую какофонию. Вся эта современная техника накалялась, весело урча до той поры, пока не отключался свет, что никогда не заставляло себя ждать. И тогда в комнате воцарялась церковная тишина.
Этот офис был настоящей информационной миной, и я сожалела, что не знаю персидского. Мужчины входили, садились на корточки и болтали бесконечно обо всем и ни о чем — о грузовике, который свалился в овраг, о войне, об уборке урожая, об исчезнувших братьях. Любопытно, но в этой оживленной комнате счет времени терялся. Помощник без устали наполнял наши стаканы. Он высоко приподнимал металлический чайник, из которого струился густой крепкий чай, и пары кардамона наполняли ароматом тяжелый воздух помещения. Мухи кружили над паколами. Я была тут единственной женщиной. Однако среди этих суровых лиц с орлиными носами, с мрачными взглядами я ни разу не почувствовала себя в опасности. Сначала они с удивлением рассматривали высокую белокурую женщину, которая каждый день просила о том, чего ей упорно не давали. «Амер Сахеб? Она хочет видеть Амера Сахеба?» — передавали они друг другу шепотом. Я была одета на афганский манер: просторное платье поверх широких шаровар, которые скрывали мои формы, и платок, накинутый на собранный на скорую руку хвостик. Возможно, они говорили себе, что эта женщина проделала огромный путь, чтобы поговорить с их шефом. Во всяком случае, видя, что я безропотно переношу жару и терпеливо дожидаюсь своего, они приняли меня как элемент своей повседневности.
Тем утром Зубайр постучался в мою дверь: «Брижитт, у меня сюрприз для вас».
За его спиной я увидела свою коллегу Франсуазу Косс. Она была внештатным журналистом. Возгласы радости: мы познакомились в Таджикистане, подружились, и мне было так приятно увидеть знакомое и милое лицо. Все же я чувствовала себя одинокой в этом до отказа набитом домике для гостей. Поскольку других мест не было, она устроилась в моей комнате. Мы жили в спартанских условиях: одна душевая и один туалет на весь дом. Франсуаза пережила песчаную бурю, которая накануне парализовала жизнь в регионе, а сегодня высадилась с вертолета с тремя собратьями по перу — русским журналистом Аркадием Дубновым и двумя марокканцами. Ответственные за безопасность Зубайр и Азим насторожились: арабы с пакистанскими визами в стане Северного Альянса были им не по душе. Но этих рекомендовал Абдул Расул Сайаф, их союзник.
На протяжении всего полета арабы избегали контакта, молчали, казалось, из-за рева моторов и винтов. Чтобы убить время, Франсуаза снимала кабину вертолета и ее пассажиров. Дубнов заметил, что один из марокканцев, тот, что поменьше, прикрыл лицо ладонью. Они хотели встретиться с Масудом. Ничто другое их не интересовало: ни лагеря беженцев, ни тюрьмы, где им было разрешено поговорить с пленными арабами. Они ни разу не воспользовались своими видеокамерами.
Я застала их в саду, говорящими по-арабски. Вечерело, становилось прохладно. Как только я приблизилась, они замолчали. Я не отступила: так как нас, горстку коллег, призывали общаться друг с другом, почему бы не начать сейчас? Тот, что носил очки в круглой металлической оправе, был более общительным. Со своими очками и коротко стриженными волосами он напоминал начальника компьютерного бюро. Его звали Кассим. Узнав, что я француженка, он заговорил со мной по-французски без малейшего акцента. Он жил с женой в Бельгии, где работал на лондонское агентство вместе с Каримом. Мы говорили о чем придется. Меня интересовал ислам, равно как и другие религии. Много лет назад, в Пуатье, я познакомилась со старым евреем, который пережил депортацию. Он объяснял мне значение Йом-Кипур (Великого Прощения). Меня всегда интриговали религиозные праздники. Они восходили к незапамятным временам, и если продолжали существовать, значит, человечество в этом глубоко нуждалось. И так как я видела перед собой двух образованных мусульман, я решила расспросить их об исламе.
Кассим рассказывал мне о своей жизни без малейшего колебания. В прошлом он был порядочным дебоширом. Во Франции пил и гулял. «Хоть я и был женат, но вел себя как неисправимый бабник». Но в один прекрасный день решил измениться и, следуя постулатам Корана, вести праведную жизнь — телесную и духовную. Бросил курить, пить, так как это вредно для здоровья, ведь «наше здоровье принадлежит Богу».
Мы говорили о Талибане, когда к нам подошел Зубайр и спросил подозрительно: «Вы с ними встречались в Пакистане, это они вам дали визу? Что вы о них думаете?» Кассим покачал головой в знак отрицания. Он спокойно заверил нас: «В Кабуле мы знали их немало, и я уверяю вас, они не соответствуют тому, что рассказывают о них СМИ. Я, к примеру, не видел ни одного, кто ударил бы женщину». Зубайр недоверчиво взглянул на него.
Что касается другого, Карима, тот стоял в сторонке, а потом и вовсе удалился для молитвы в свою комнату.
Нищета была повсюду. Я заметила, что в гостевом доме остатки еды шли преимущественно обслуживающему персоналу, а затем семьям, которые толпились у дверей, выпрашивая подаяние. Я привыкла есть мало, чтобы им досталось больше. Поэтому худела на глазах. После двух месяцев в Афганистане я потеряла 15 килограммов.
Однажды я вышла в город в компании тех же двух марокканцев, чтобы поесть мороженого. Это особенное афганское мороженое — сливочное, взбитое вручную, настолько вкусное, что не обращаешь внимания на некоторые неприятности со стороны желудка.
Тем вечером 31 августа, пока мы наслаждались теплым воздухом в саду, ответственный за безопасность сообщил мне незаметно:
— Брижитт, если хочешь, можешь отправиться на фронт — ты получила разрешение на съемку. Наш генерал начинает наступление на талибов завтра на рассвете.
— А два арабских журналиста, они едут?
— Нет, только ты. Ты напишешь расписку, и все.
Мы выехали под покровом ночи. Я ехала в сопровождении трех афганских журналистов, близких генералу. Их звали Дауд, Фахим Дашти и Юсуф Жанесар. Они создали кинокомпанию по производству документальных фильмов «Ариана филмз» и снимали того, кого уважительно называли «господин Масуд» — его жизнь, боевые операции, интервью. При этом у них было чувство, что они работают на историю своей страны.
Еще не рассвело, когда мы доехали до военного поста. В свете зеленых ацетиленовых ламп, которые еще даже не погасили, раннее утро было похоже на конец света. Армия-призрак с трудом просыпалась, солдаты грелись у костров, их пату[2] были небрежно накинуты через плечо или намотаны на тело. Они выказывали удивительное для такого момента спокойствие. Я заметила солдата, сидящего и пытающегося соорудить из своего длинного шерстяного школа головной убор, похожий на тот, который носил Масуд. Мы все вместе выпили обжигающий чай.
Затем один моджахед проводил нас до танка. «Поднимайтесь», — приказал он. Я вскарабкалась на самый верх и не пошевелилась, пока мы не доехали. Солнце встало. Я поняла, что переживаю уникальный момент. Я находилась в опасной ситуации. На фоне сказочного пейзажа будут погибать люди, возможно на моих глазах. Неясный страх больше не покидал меня.
На передней линии фронта триста-четыреста воинов готовились к бою: одетые в шальвар камиз[3], обутые в сандалии, нищие, в отрепьях, с гранатометом на плече или с автоматом Калашникова на ремне. Слышалось глухое клацанье автоматов, которые воины проверяли в последний раз. То были совсем юные горцы, которые еще вчера карабкались, проворнее горных коз, по склонам и тропинкам. Мальчишки. Я снимала их со сжимающимся сердцем. Командир, едва ли старше их, напутствовал их на дари[4]: «У вас украли ваши земли, убили ваших отцов, ваших братьев. Сегодня именно вы можете вернуть то, что вам принадлежит. Вы должны бороться из последних сил, чтобы ваши братья могли жить».
Они не уступили бы свое место никому. Я спросила у парня в паколе: «Почему вы здесь?» Он не выказал особых эмоций, особой ярости и сказал обычным тоном: «Талибы взяли наши земли на холмах. Затем людей старше 25 лет, чтобы послать их на фронт. Там они погибли… Поэтому многие перешли на другую сторону и примкнули к моджахедам». За ним его товарищи с важным видом одобрительно кивали головой.
Начали раздаваться крики: «Амер Сахеб, позволь нам умереть за тебя!» Они испытывали абсолютное доверие к своему предводителю. Ведь он приказал своим убить его в случае, если у врагов появится возможность взять его живым.
Я столкнулась с удивительным, тревожным и слишком реальным миром.
Тяжелый пулемет стрелял не дальше, чем на 300 метров. Молодые солдаты забрались в кишку первой траншеи, наиболее удаленной от линии фронта. Несколько минут назад они уважительно отвечали на мои вопросы. Теперь с таким же достоинством они шли на смерть. Повсюду взрывались снаряды. Мужчины больше не разговаривали. Каждый знал, что боеприпасы наперечет.
Мы с Даудом и Фахимом молча стояли рядом, опершись о земляной вал траншеи. Потом нам приказали подняться на командный пункт. Там беседы с военными продолжились за чашкой чая, как если бы снаружи ничего не происходило, как если бы на расстоянии нескольких километров отсюда мальчишкам не грозила смертельная опасность. Солдаты шутили по радио. Я слышала их смех. Дауд объяснил: «Они говорят с талибами, которые находятся на противоположной линии фронта». Я не верила своим ушам.
Появился командующий: «Надо отходить. Дела плохи». Наступление срывалось. Пришлось быстро идти до военного грузовика. Снаряды рвались со всех сторон — то справа в поле, то слева, совсем близко. Мы проезжали мимо раненых, лежащих повсюду в ожидании эвакуации. Зачем смотреть по сторонам? Я трусливо прятала глаза. Страх, который до сих пор повиновался мне, совсем распоясался. На посту Фахим сообщил, что он возвращается в Роджа-Бауддин.
— Ты остаешься?
— Нет, я еду с вами.
Военные размещали раненых в грузовике прямо на полу, нам же отвели скамейку. Было ясно, что я занимала чье-то место, одного из тех раненых, которые часами будут ждать следующего грузовика. В моих ногах на полу умирал мальчишка. Совсем ребенок. Я все бы отдала, чтобы быть медсестрой, а не журналистом. Несмотря на это, на все эти эмоции, у меня появилось желание взять камеру и снимать.
Я посмотрела на трех своих друзей, сидящих на скамейке. Все трое афганцы, журналисты. Они посерели, на них не было лица, и, что хуже всего, они были так несчастны. Я никогда не видела, чтобы мужчины были более несчастны. И моя камера осталась выключенной.
Грузовик высадил нас перед домом, где жила семья, которая встретила нас просто, с уважением, взяв наши руки в свои и прошептав салам. Позже за нами придет другая машина. Все молчали. Свет керосиновой лампы заострял напряженные черты. И каждый умудрился найти укромный уголок, чтобы тихо поплакать.
Песчаная буря парализовала Роджа-Бауддин. Она покрывала все окружающее, людей, животных, машины, удушающим хищным облаком. Завывания дождя били по нашим оголенным нервам. Мы изнывали от изнуряющей жары конца лета. Людей было так много, что Зубайр был вынужден делить свою комнату с двумя гостями — арабскими журналистами. Но он не мог уснуть. Ему было не по себе. Он вернулся в свой кабинет, где и спал прямо на полу.
В своей комнате, устроившись на кровати под москитной сеткой, я думала о будущем. Мне удалось продлить отпуск, но рано или поздно придется возвращаться. Я не смогу продолжать жить, как если бы всего этого не было. Последние недели подарили мне головокружительные эмоции. И все это время у меня было какое-то удивительное душевное спокойствие.
Начиная с 17-летнего возраста, когда меняются и тело, и разум, когда начинается взросление, я искала смысл жизни. Должен же он быть у нее. Жизнь не может ограничиваться кучкой мелких удовольствий, печалей, чередой привычных и автоматических действий — нет, это невозможно. Наверняка есть во всем некий смысл. Вопрос этот очень волновал меня, я ломала над этим голову. Я предпочла бы потихоньку шагать своей дорожкой и оставить все идти своим чередом. Но это у меня не получалось. Я из стыдливости никому не говорила об этом, пыталась найти какое-то решение, направить энергию в нужное русло. Иначе она закипала во мне и оборачивалась против меня же самой. То я готова была горы свернуть, то впадала в безнадежную хандру. Это было ужасно. Что я только не предпринимала: йога, сеансы релаксации, коучинг, эзотерическое чтение, развитие личности — все способы были хороши, чтобы найти душевное успокоение хоть ненадолго, заполнить пугающую пустоту и найти свой жизненный путь.
В тишине гостевого дома я представляла себе возвращение во Францию и пыталась анализировать. Ничего хорошего: отсутствие личной жизни, чувство одиночества. Что касается работы, она не отвечала моим ожиданиям. Надо было выкарабкиваться из всего этого, и быстро. Что мне было терять?
8 сентября погода улучшилась, и служба безопасности решила, что мы должны уступить место тем, кто томился в ожидании в Душанбе. Накануне Франсуаза Косс сумела улететь в Таджикистан. Пришла моя очередь. Я уже не возьму интервью у генерала Масуда. Жаль. Итак, я присоединюсь к Шанталь Верон на юге Панджшира. Я смотрела на коллег-марокканцев: они тоже возвращались недовольные, вынужденные выехать вслед за мной.
В саду, ожидая джип, который должен был отвезти меня на вертолетную площадку, я прощалась с группой. Я попросила Кассима дать мне номер его телефона в Брюсселе. К сожалению, он недавно его поменял, а новый еще не запомнил. Подошел Азим, шеф по безопасности. Расстроенный. И было отчего. Ужасные новости с фронта отняли последние остатки энергии. Кроме того, слишком много народу в гостевом доме, и у каждого гостя свои требования. Его работа состояла в обеспечении безопасности Масуда, а не в роли хлопотливого метрдотеля. Он поторопил меня — джип уже приехал.
На взлетной площадке офицер отказался взять меня на борт: вас слишком много, это опасно. Я вернулась в дом. Азим вспыхнул:
— Что ты здесь делаешь?
— Видишь ли, Азим, вертолет переполнен.
Он не захотел ничего слышать, схватил рацию и дал приказ взять меня. Я помахала в последний раз своим собратьям, оставшимся в саду.
Глава 3 Человеческое безумие
О том, что произошло после моего отъезда, мне рассказал Зубайр четыре года спустя. Во время его признаний были выпиты литры чая. Зубайр был раздавлен чувством беспомощности. Его чистый голос становился глухим при одних воспоминаниях и гремел от ярости при других. Он часто сидел с отсутствующим взглядом… Кабул был отныне свободен, страна встала на демократический путь, но я видела перед собой человека, который никогда себя не простит.
Чувство недоверия к тем двум арабам не обмануло его, хотя и не основывалось ни на одном конкретном факте. Перед моим отъездом он спросил у Азима, кивнув в их сторону: «А с ними-то что будем делать? Они работают в третьесортном издании. А нам необходимы международные телеканалы типа Си-эн-эн или Би-би-си. Все остальное — лишь потеря времени господина Масуда». Азим разделял мнение коллеги. И они решили отослать обоих журналистов ближайшим вертолетом.
Рано утром двое марокканцев попросили разрешения пойти в деревню, чтобы позвонить своим семьям. Там был магазинчик со спутниковым телефоном, откуда мы всегда звонили за границу. Они говорили по-арабски. Владелец прекрасно говорил на этом языке, но назойливый клиент, торговавшийся из-за цен, помешал ему подслушать разговор.
Несколько часов спустя в мою бывшую комнату в гостевом доме заселилась Назрин Гросс, афганка, работающая на американскую ассоциацию. Она хотела воспользоваться единственной душевой, но дверь была закрыта на засов. За дверью шептались по-арабски. Она прислушалась, постучалась легонько. Вышли двое мужчин. Она сказала им на их языке: «Здравствуйте! Я — Назрин Гросс, извините, что побеспокоила вас. Я могу воспользоваться душевой?» Она увидела выражение паники на их лицах, они исчезли в коридоре, как ящерицы, не произнеся ни слова. Но она была настолько занята своими мыслями, что тут же о них забыла.
Зубайр проводил их в аэропорт. Там его ждал сюрприз. Трое швейцарских специалистов по телекоммуникациям летели тем же вертолетом. Они везли огромные батареи, чтобы установить оборудование в Панджшире. Из-за веса батарей на борт разрешили взять лишь четверых человек, ни одним больше. Он попросил одного из арабов подняться в вертолет. Но они ни за что не хотели разлучаться. «Мы работаем вместе, а значит, вместе и передвигаемся». Зубайр смирился: пусть едут завтра.
В тот же день проблемы со связью привели Масуда в Роджа-Бауддин. Его ноутбук сломался, а единственным человеком, который мог помочь, был Азим, чья роль состояла в подготовке людей к работе с новыми технологиями. Азим и Зубайр воспользовались этим, чтобы напомнить о просьбе двух марокканцев об интервью. «Хорошо, — согласился он, — я встречусь с ними завтра утром. У меня потом будет уйма времени, чтобы поспать». Это была шутка. Уже много лет Масуд недосыпал. Зубайр объяснил ему, что агентство марокканцев не имеет большого влияния, но тот улыбнулся: было бы полезно поговорить с арабами, показать им реальную картину происходящего. Если он не ошибается, им уже два раза отказывали: присутствовать на собрании и подняться в его вертолет. А они проявили терпение, и это надо оценить.
По вечерам Масуд любил поговорить вполголоса со своими людьми. Той ночью речь зашла о новых формах терроризма и необычайной фантазии людей, создающих новые технологии. Масуд, привыкший к роли наставника, объяснял: «Сегодня террористы обладают все более изощренным оружием. Они могут использовать инфракрасные лампы и лазерные камеры…» Слушатели были впечатлены. Ведь сами они практически всегда пользовались только списанным оборудованием.
Полночи Масуд помогал по радиосвязи командующему Бисмулле Хану, который на севере Кабула с трудом отражал атаки талибов со стороны Джебел-уль-Сираджа. Когда он понял, что его стратегия удалась, то удалился в маленький домик на другой стороне реки, чтобы поужинать со своим старинным другом Масудом Халили, послом свободного Афганистана в Индии. Он попросил его приехать из Нью-Дели без особой причины, лишь из большого желания побыть рядом с другом.
В три часа ночи он прилег на тошак[5]. «Почитаем Хафиза», — предложил он Халили. Это уже вошло у него в привычку, чтобы расслабиться после тяжелого дня. Он обожал оды великого персидского поэта. По мусульманской традиции, надо открыть книгу наугад, и то, что ты прочтешь, считается вещим. Ночь была великолепна, начиналась осень. Халили взял книгу и открыл ее на таком стихе:
«Мир — это не что иное, как история — история разочарований, ухищрений, крови. Посмотри, ночь ждет ребенка. Ни ты, ни я, никто из нас не знает, кем будет этот ребенок. Это дитя, дитя ночи — завтрашний день. Никто не знает, что это будет за день. Каким он будет».
На следующий день ближе к полудню Зубайр пошел за двумя журналистами в гостевой дом. На них была обувь на толстой подошве, они взяли более громоздкую из своих двух камер. «Надо же, зачем надевать такую обувь, чтобы лишь пересечь двор, учитывая, что все здесь ходят в сандалиях? Зачем брать такую тяжелую камеру, если интервью продлится максимум четверть часа?» В коридоре Назрин перехватила его: «Мне нужно в деревню: я должна позвонить за границу и купить тунику. Ты можешь меня туда отвести?» У Зубайра не было никакого желания. Он по рации попросил Азима заняться этим, но тот отказался. Как шеф безопасности, он хотел присутствовать при интервью. Тогда Зубайр смирился — в конце концов, Азим был его боссом.
Через десять минут они были в деревне. Назрин звонила, когда затрещала рация Зубайра. И без пароля, как это обычно было у них принято в целях безопасности, раздался резкий голос: «Возвращайся немедленно».
Он быстро вернулся. Его сердце остановилось при виде столба дыма, поднимающегося над лагерем. Неужели талибы скинули бомбу на офис? Люди бежали во все стороны. Он помчался к офису, там все было кувырком. Азим умер на месте. Фахим растерянно смотрел на свои обгоревшие руки: «Моя камера взорвалась…» Дауд повторял безжизненным голосом:
— Все умерли.
— А господин Масуд?
Это было единственным по-настоящему важным на данный момент.
— Он пока жив.
Вертолет эвакуировал генерала в госпиталь Таджикистана. Зубайр с ужасом рассматривал комнату. Дым рассеивался, но остался едкий запах, от которого першило в горле. С помощью фонарика Зубайр исследовал каждый уголок комнаты. Большая камера марокканцев валялась на полу, микрофон остался стоять на столе — они не пострадали. Уцелело также кресло, в котором сидел Масуд. Но на уровне, где находилась его голова, в стене был острый металлический осколок.
Зубайр рассказал все по порядку. Офис был забит журналистами и друзьями. Масуд захотел, чтобы ему прочитали вопросы. Их было пятнадцать. Большинство касалось Бен Ладена: «Почему, будучи в Париже, вы сказали, что он преступник?», «Почему вы стали врагами?» Масуд нашел вопросы глупыми: «Это не журналистские вопросы…» Его друг Халили, тоже удивленный, спросил:
— На какую газету вы работаете?
— Я не журналист, — сказал Кассим, тот, что был в очках в круглой металлической оправе. Он задавал вопросы, его напарник снимал.
Недовольство сменилось чувством другого свойства.
— А кто же вы?
— Я представляю исламскую организацию. У нас базы в Лондоне, Париже и во всем мире.
Халили склонился к Масуду: «Они из стана наших врагов».
Масуд секунду помолчал. Его черты приняли выражение глубокой сосредоточенности, на лбу появились новые морщины. Затем он поднялся. Решение было принято: «Включите вашу камеру».
Халили услышал вздох, увидел надвигающийся на них глубокий голубоватый огонь. Он подумал: «Ты не животное, чтобы плакать или кричать. Скажи что-нибудь святое — ты умеешь».
Камера была оборудована лазером. Она послужила детонатором, повлекшим взрыв трех аккумуляторов, наполненных взрывчаткой: ими был обвешан Карим. Сам он умер на месте: его разорвало пополам. Несмотря на панику, кто-то бросился на Кассима и повалил наземь. Его закрыли в маленькой комнате гостевого дома, он убежал оттуда через форточку. Молодой солдат бежал за ним до реки. Там в высоких травах они боролись врукопашную, соскользнули в воду, прогремел выстрел. Террориста потащили за ноги, голова его билась о речные камни. Он захлебнулся. Можно сказать, что он утонул.
Зубайр взял на себя СМИ. Это отвлекало его, загнав боль в отдаленные уголки души. Три часа спустя русское радио уже дало первую информацию, и журналисты начали звонить со всего мира. «Генералу чуть лучше», — отвечал он.
Однако он знал правду. В офисе, полном солдат, раздался телефонный звонок. Голос, едва сдерживая рыдания, произнес: «Наш генерал умер в вертолете. Никто не должен это знать».
Он хотел взвыть. Вместо этого он улыбнулся друзьям, братьям по оружию, которые прислушивались к разговору и бомбардировали его вопрошающими взглядами. «В течение трех дней я врал всем мировым телеканалам».
В тот же день, 9 сентября, я собиралась снимать Шанталь Верон в школах Джебел-уль-Сираджа — деревни, где накануне Масуд смог отразить атаку талибов. Ракеты продолжали взрываться с регулярными интервалами. Мирдад Панджшири, близкий друг Масуда, пришел к нам в ужасном состоянии. Я слышала, как он говорил: «Масуд, два покушения… два мнимых журналиста… арабы, они взорвали бомбу…» Я слышала отдельные слова, не понимая их. Он повторил: «Масуд… взрыв… умер, может быть…» Я все никак не понимала. Что-то парализовало мозг. Мои глаза раскрывались шире по мере того, как фразы выстраивались в голове.
Я говорила с убийцами, которые готовились к теракту. Я говорила с ними об исламе — с людьми, которые собирались умереть за идею. А я ни о чем не догадывалась. Вдруг я поняла: я сама была в двух шагах от смерти. Если бы я знала, что эти двое встретятся с Масудом, я бы ни за что не согласилась уехать. От страха у меня перехватило дыхание. Как будто черное покрывало опустилось на мою память.
И только после этого я подумала о Масуде. И о Фахиме, и о Дауде, таких преданных своему шефу.
Новости доходили обрывками. Двое фальшивых журналистов были террористами-смертниками; они были не марокканцами, а тунисцами; их настоящие имена — Дахман и Эль-Уаэр. По наивности я доверилась одному из этих людей. Кому теперь верить?
За эти несколько дней в Роджа-Бауддине со мной произошло невероятное, и я не знала, как к этому относиться: мой мир разбился.
Улицы Джебел-уль-Сираджа стали пустынными. Прохожие были молчаливы, задумчивы. Напуганы. Если умрет их предводитель, что будет с ними? Что станет с Сопротивлением? Сможет ли оно сплотиться, чтобы помешать окончательной победе Талибана? Другие ходили с маленькими транзисторами в надежде, что Би-би-си или «Голос Америки» сообщит им хорошую новость о том, что Масуд жив. И тогда он снова возглавит борьбу.
«Ты бы лучше убрала свою технику», — посоветовала мне Шанталь. И действительно, население изменило отношение к моей камере с доброжелательного на почти враждебное. У меня был шок. Я была единственной французской журналисткой там, на месте событий. И вообще единственным представителем СМИ. Мне надо было позвонить в мою редакцию в Нанси. Ответ был ясен: «Ничего не снимать. Ни звук, ни картинку».
Я подчинилась. И потом, я была здесь не от «Франс-3», мой канал не давал мне никакого задания. Для них я официально была в отпуске. Надо сказать, что редакции были напуганы с тех пор, как ровно год назад трое журналистов были взяты в заложники на острове Йоло мусульманскими повстанцами[6]. Однако на следующий день многолетний профессиональный рефлекс взял свое — я расчехлила камеру и, рискуя быть уволенной, начала снимать безнадежность и горе на лицах. И хорошо, что я сделала это: это были единственные кадры, которые показывали все телеканалы мира.
Через два дня, 11 сентября, вернувшись из Панджшира, я узнала об атаке Аль-Каиды на башни-близнецы Всемирного торгового центра. Все афганцы прилипли к радиоприемникам. Мирдад Панджшири переводил мне то, что транслировало радио. У нас не было никакой картинки. О чем он говорил? Может, рассказывал сценарий фильма-катастрофы? Его слова, казалось, были далеки от реальности.
Когда стало известно о смерти Масуда, его соратники стали прибывать отовсюду. Они стекались в Астанех в Панджшире на похороны генерала. Меня уже там не было, поэтому я узнала о церемонии позже, из репортажей, показанных компанией «Ариана Филмз».
В тот день Астанех не был тихим местечком с качающимися на ветру тополями, как месяц назад, когда я встретилась здесь с Масудом и взяла у него интервью. Толпа мужчин, оставляя за собой столб пыли, поднималась на холм на краю деревни — там будет похоронен генерал. Настоящее море паколов — их сотни, тысячи, готовых расправиться с любой помехой, возникающей на пути. По маршруту следования траурного кортежа люди висят на деревьях, стоят на крышах — везде, где можно найти хоть маленькое местечко. Тело умершего пока еще находится в одном из деревенских зданий.
Когда гроб, обернутый мусульманским зеленым флагом, появился на плечах десяти верных генералу военных, поднялся крик. Кортеж медленно двигался к вершине холма. На мгновение показалось, что флаг исчез в толпе: повсюду руки, пытающиеся дотянуться и дотронуться — в последний, а может, и в первый раз — до генерала. Около погребальной ямы установилась тишина. Открыли гроб. Когда восковое лицо Масуда явилось взору толпы, снова раздался крик. Красивые черты Масуда, его веки, закрытые навсегда, были неподвижны. Крики множились, мужчины били себя в грудь, призывая Аллаха. Они плакали без стыда. Воины выли от боли. Гроб закрыли и опустили в могилу. Последний крик, последнее рыдание. Ночь опустилась на Панджшир.
Смотря на все это, я спрашивала себя: куда улетела душа этого человека?
Глава 4 Зеркало
Афганистан делает тебя требовательным к самому себе. Свет, эмоции, пространство, манера жить и говорить — все это там слишком ярко. Мое возвращение в Нанси стало разочарованием, если не сказать больше. В редакции меня приняли довольно прохладно — ни одного дружелюбного слова, только гнетущее безразличие.
Могли ли мы предотвратить теракт? Этот вопрос я задавала себе каждый день. Ведь были же знаки. Я, Франсуаза Косс, Зубайр и многие другие очевидцы драмы уловили какие-то из них, но не придали значения. Эта было тяжело сознавать.
Тем не менее я была удовлетворена тем, что мои сюжеты демонстрировались по национальному каналу. Что касается самого первого репортажа — «Школы Масуда», в котором и было то памятное интервью, его приобрел и показал канал «Франс-3». Но, увы, это было в субботу после обеда, когда публика, которой он был адресован, наполняла свои тележки в супермаркетах.
Афганский опыт заставил меня понять что-то очень важное о себе самой. Мне нужна была деятельная жизнь. Я была счастлива, когда мой мозг, мое тело и сердце работали на износ, сконцентрировавшись на выполнении определенных задач. Тогда моя хандра улетучивалась. Обстоятельства столкнули меня с трагедией — я встречалась с бойцами, рисковавшими жизнью во имя свободы, брала интервью у человека, который и был воплощением этой борьбы. Было ясно, что я не могла вернуться к прежней рутине.
Там же события не успевали сменять друг друга. В качестве ответного действия на атаку 11 сентября США организовали операцию «Enduring Freedom»[7] с целью поимки Бен Ладена и его сообщников. 14 ноября, через два месяца после убийства их шефа, люди Масуда освободили Кабул. Режим террора пал 7 декабря; талибы бежали из своей вотчины в Кандагаре. Как только закончился месяц Рамадан, Хамид Карзай встал во главе временного правительства. У меня была только одна мысль: вернуться в эту страну, которую я полюбила с первой же минуты пребывания в ней.
Один из сотрудников передачи «Корни и крылья», Морад Аит-Аббуш, только что создал свою производственную компанию. Я связалась с ним и предложила снять «Кабульскую весну» для передачи Патрика де Каролиса[8]. Я тогда еще не очень хорошо знала столицу Афганистана, но была знакома с двумя удивительными и неравнодушными личностями — Шанталь Верон с ее школами для афганских детей и Нилаб Мобарез, женщиной-врачом, вынужденной в свое время уехать во Францию. Я хотела снять их возвращение в освобожденную столицу. Морад согласился. Удача была на моей стороне.
В январе 2002 года я увидела под ярко-голубым небом город-тень. Город-призрак без души. На каждом углу старики в лохмотьях и женщины в заштопанных чадрах, прижимая к себе детей, просили подаяния, сидя прямо на дороге. Самым большим впечатлением стал для меня потерянный взгляд Надры, афганки из диаспоры. Она покинула страну двадцать лет назад, в эпоху советского режима. Кабул видел, как она родилась, росла, бегала, училась, стала адвокатом. Здесь она познала первые волнения молодой девушки. А теперь ее взгляд искал знакомые объекты, но ничего не находил. Там, где были дома, гостиницы, магазины, яркие светящиеся вывески, широкие аллеи с тополями, улочки с кустами шиповника, теперь были только руины. Целые улицы состояли из полуразрушенных домов, закрытых ресторанов с разбитыми стеклами, обломков кирпичей и камней. Бродили бездомные собаки. Вместо асфальта, по которому раньше скользили машины, теперь была грязь, и над городом больше не витал изысканный аромат кебаба. Кто теперь мог позволить себе мясо?! Кабул, окруженный со всех сторон горами, задыхался в вони скверного топлива.
— Деревья… Где же деревья? — сокрушенно спрашивала Надра.
Их срубили и сожгли, чтобы согреться зимой. В Кабуле больше не было торговли. Чикен-стрит — проспект, известный прежде своими сувенирными лавками, был в запустении, несмотря на наличие нескольких ювелирных магазинов, устоявших в эпоху Талибана. А проспект Джадех-Майванд, с его бутиками, стал сегодня помойной ямой.
Помимо полной разрухи, я чувствовала стойкое присутствие страха. Мужчины продолжали носить длинные бороды, как того требовали талибы; женщины, дрожащие, как испуганная дичь, — темные длинные одежды и чадру. Страх владел умами: а что, если вернутся талибы со своими плетками, требованиями, своим разрушительным безумием?
Афганцы все видели, все пережили. Поэтому без особого удивления они стали свидетелями наступления другого рода — прихода гуманитарных организаций и добровольцев. Среди этих последних были те, кто приехал сюда в 1970-е годы и сохранил свое восхищение этой страной. Приезжало и более молодое поколение романтиков. Они читали рассказы Николя Бувье, Эллы Майар, Жозефа Кисселя, представляли голубой блеск озер Банд-е-Амира или то, как они спускаются с гор на лыжах. Теперь, когда границы открылись, они хотели познакомиться с благородством этого народа, не похожего ни на какой другой. У них было множество планов.
После нескольких дней съемок я уже знала всех находящихся здесь французов, поскольку все они жили в тех редких гостевых домах, которые были в состоянии принять иностранцев. И несмотря на то что печное отопление не работало, канализационные трубы замерзли, а ванные комнаты были ужасно грязными, обстановка там была теплой. Мне сразу понравилась группа молодых людей чуть старше двадцати: они только что закончили престижные учебные заведения, хоть и выглядели несерьезно. В них чувствовался сильный внутренний стержень. Родольф Бодо и Эрик Давен бывали уже в Центральной Азии два года назад, и с тех пор у них появилась настоящая страсть к этому региону. Эрик, высокий, приветливый парень, выпускник Высшей коммерческой школы, занимался когда-то развитием бизнеса. Родольф — дипломированный специалист, окончивший Высшую школу экономики и торговли (ESSEC), — был на руководящей должности в компании «Л'Ореаль». Как видно, они выбрали карьеру по своей специальности. Однако одним из их товарищей, Флораном Милези, бывшим выпускником ESSEC, ставшим начальником отдела кадров одной из фирм Гренобля, овладела страсть к путешествиям. Занимая высокий пост, он каждый день мечтал о далеких горизонтах.
Эти трое парней объединились, чтобы вместе сделать репортаж о Южной Африке. Тогда же, в июле 2001 года, в Париже они познакомились с иранским фотографом Резой Дегати, которого сопровождал молодой афганский журналист Фахим Дашти. Первый был очень известен, он сделал много фоторепортажей о генерале Масуде. Второй тоже снимал своего генерала, которого обожал. Именно этим он и занимался, когда я встречалась с Масудом в Панджшире. Трое французов были впечатлены работой этих мужчин, так же как и их смелостью.
Их энтузиазм мог этим и исчерпаться, их пути могли разойтись. Но то лето 2001 года подарило им встречу еще с одним человеком. Рено Эльфер-Обрак собирался поехать в командировку в Афганистан от имени ассоциации «Право слова» и создать радиостанцию «Сопротивление». Проект репортажа о Южной Африке преобразовался тут же в «Кабул: вкус свободы», идею которого трио продало каналу «Arte». Речь шла о портрете столицы с эпохи хиппи до прихода Талибана. Рено Эльфер-Обрак уезжал 10 сентября, и троица решила вскоре последовать за ним. В последнюю минуту что-то помешало, и уехал только Флоран Милези. Он не знал тогда, что Масуд стал мишенью террориста.
Милези ступил на землю Афганистана в тот момент, когда рухнули башни Всемирного торгового центра. Обстоятельства сложились так, что он стал единственным оператором-любителем, который снял, наряду с Си-эн-эн, приход американских бомбардировщиков Б-52.
Я познакомилась с этим трио в посольстве Афганистана в Париже в октябре 2001 года. Мы понравились друг другу, и я сказала им, что ищу возможность вернуться в эту удивительную страну. Ребята были настоящими предпринимателями, они хотели реализовать удивительные проекты — организовать журналистские курсы, издавать газеты и журналы, которые до этого притеснялись долгие годы. Тогда я сказала им: «Если у вас есть что-нибудь для меня, я готова к вам присоединиться». 30 декабря 2001 года все трое приехали в Кабул, чтобы совместно с Резой Дегати и при помощи субсидий ЮНЕСКО создать ассоциацию «Айна» (Афганскую международную ассоциацию новостей[9]). На дари айна означает зеркало. Это зеркало влекло меня.
Я собрала все неистраченные отпускные дни — получилось три месяца. И в июле 2002 года я вернулась в Кабул. Мне предложили возглавить сектор видеожурналистики в негосударственной организации.
Когда Флоран Милези был проездом во Франции, он позвонил мне в Нанси. У этого парня не было недостатка в идеях, и все они были хороши. Сначала он создал мобильный кинотеатр и возил свою команду по Афганистану — везде, где мог проехать его грузовичок. Он показывал короткометражные фильмы перед толпой завороженных детей. Наверное, было здорово слышать, как они сопят, взрываются смехом, видеть, как радость наполняет эти маленькие существа, чьи лица так долго были только суровыми или смиренными. Он также показывал обучающие фильмы о здоровье, гигиене или об опасности игр на разминированных территориях. Он таскал свое оборудование «фокусника» в самые отдаленные деревни, жил как паломник и зависел от гостеприимства жителей. Он спал и в палатке кочевника, и на соломенном коврике… У него было отменное здоровье, на мой взгляд.
На этот раз он искал кого-либо, кто будет обучать молодых женщин телевизионной журналистике: они будут называться camerawomen. Идея невообразимо дерзкая для страны, которая так долго хоронила мечты женщин под глухим покрывалом. «Ты согласна?» — «Еще как!» — «Ура! Но, знаешь, тебе за это ничего не будут платить: у нас нет денег». Я взяла банковский кредит и собрала вещи.
«Айна» размещалась в самом центре города, в двух шагах от одной из наиболее оживленных и шумных его артерий под названием Талик Ашгар. Посреди нее стоял постовой в праздничном мундире. Вооруженный свистком, он пытался наводить порядок в сутолоке грузовиков, машин, велосипедов и тележек, водители которых, похоже, не знали, где находится педаль тормоза или поворотник. Более неорганизованных водителей я не встречала. Бронированная армейская американская техника врезалась во всю эту кучу, расчищая себе дорогу среди средств передвижения, перегруженных баулами, овощами и людьми, сидящими буквально друг на друге.
Здание «Айны» было красивым, хотя и порядком разрушенным. Три строения, окружающих центральное, также пострадали во время войны. Бригада афганцев активно работала там с лопатами в руках. Благодаря им мы с каждым днем все лучше понимали смысл местной поговорки: «Ночь предназначена для сна, день — для отдыха, осел — для работы».
Арендная плата повсюду в городе была высока. Владелец дома потребовал за него 4 тысячи долларов. Одно крыло было предназначено для проживания сотрудников «Айны», другое — для служебных помещений этой организации.
Там я встретила Фахима Дашти. Он больше не был тем мальчиком, с которым я познакомилась в Роджа-Бауддине. Его лицо и длинные руки были отмечены следами взрыва, который убил Масуда. Легкое заикание замедляло с тех пор его речь. Он потерял человека, которого считал одновременно и отцом, и героем, и командиром, и другом. Так же как Зубайр, он вынужден был жить с грузом своей печали. Он не мог больше переносить ни вид камеры, ни даже саму мысль дотронуться до одной из них. Он перешел работать в печатную периодику и руководил великолепным проектом по возрождению информационного еженедельника «Kabul Weekly».
Три месяца и ни днем больше — вот время, которым я располагала, чтобы осуществить свою миссию. Я использовала сарафанное радио для распространения сообщения о том, что открываются журналистские курсы для девушек. Информация быстро разошлась, и уже через неделю я провела собеседование с примерно сорока кандидатками. В Нанси, когда я еще только размышляла о своем проекте, я планировала выбрать десять кандидаток. Но подруга убедила меня: «Почему только десять? Надо дать им шанс. Возьми двадцать». И я просматривала их — одну за другой.
Они приходили семенящим шагом, закутанные в свои голубые чадры, которые поднимали одним уверенным движением руки, как только переступали порог. В моем офисе они присаживались на краешек стула, оставаясь настороже. Они были крайне взволнованны: шесть лет несуществования и животного страха могли раствориться за секунду, если бы я приняла их на свои курсы. Уверенные в том, что находятся исключительно в женском кругу, они могли предаться смелым мечтам. А я верила в них, еще ничего о них не зная. Они смотрели на меня доверчивым взглядом — огромными миндалевидными глазами, темными, иногда зелеными. Я насмотрелась на их лица — лани, воробушка, нежные или круглые, словно луна, в поту, с черными прядями, прилипшими ко лбу — им было жарко под сетчатой вуалью в разгар лета. Я осознавала, что передо мной сидит поколение, слух которого не знал ничего, кроме разрывов бомб.
Как выбирать? Одни личности закалились под чадрой, другие под ней сломались. Мне не важны были технические критерии, уровень образования или то, что одна говорила по-английски лучше, чем другая. Я искала искру, фанатизм, требуемый от любого хорошего репортера. У меня не было сомнения по поводу их мужества: они его продемонстрировали, упорно посещая подпольные школы. Одному Богу известно, сколько было нужно этого мужества в эпоху правления талибов, чтобы незаметно выйти на улицу, пройти по темным улочкам, постучать в дверь с помощью специального пароля и сесть за парту вместе с другими женщинами и даже с маленькими мальчиками. Они изучали там понемногу математику, грамоту, английский, читали запрещенные стихи, рискуя быть обнаруженными, избитыми, посаженными в тюрьму.
Кого из них выбрать? Мерхию, тонкую, ребячливую, всегда готовую улыбнуться. О ее драме я узнаю гораздо позже. Ни в ее поведении, ни в словах не было и намека на трагедию, приключившуюся с ней когда-то.
Десять лет назад, во время гражданской войны, была убита ее мать. Молодая женщина, только что родившая сына, молилась на последнем этаже дома. Окна были открыты. В это же время на крышах развернулся бой между моджахедами. Шальная пуля разбила счастье Мерхии. Ей было семь лет. У нее был старший брат, но главой была она — миниатюрная, но твердая. Она почувствовала себя ответственной за всю семью и сразу же взяла на себя заботу о безутешном отце и пяти братьях и сестрах, в том числе совсем маленьких. Она не допускала даже мысли, что они могут быть разбросаны по родственникам — на другом конце Кабула, в Джелалабаде или деревенской глубинке. Все это было слишком далеко от нее. И чтобы родственники не смогли ни к чему придраться и позволили ей жить по своему усмотрению, с самого рассвета она драила дом, начищала до блеска пол так, что на руках слезала кожа. Будила, мыла, одевала малышей, готовила еду для отца, отводила детей в школу и потом, наконец, шла в школу сама — с четырехмесячным малышом на руках, с листом бумаги и карандашом в кармане, ведь у нее не было свободной руки, чтобы нести портфель. К счастью, учительницы понимали ее ситуацию и позволяли выходить из класса, когда малыш плакал. Ее любящий отец соглашался с тем, что она приносила себя в жертву. Я часто буду слышать, как Мерхия восхваляет мудрость и понимание своего отца. И каждый раз, пораженная, я буду задаваться вопросом: что же такое отцовская любовь, которая позволяет ребенку нести груз лишений, выбранный им по собственной воле? Семья — самый властный институт в Афганистане — не уступала: раз уж Мерхия хочет заниматься детьми, не может быть и речи, чтобы она ходила в школу. На сей раз отец разозлился и выгнал родственников. Обиженные дяди и тетки не пытались больше помочь малышке и облегчить ее ношу.
Но всего этого я не знала, когда увидела ее в первый раз…
«Почему ты здесь, Мерхия? Ты знаешь, чем мы будем тут заниматься?» Нет, она не знала. Она только слышала, что француженка набирает сотрудников. И прибежала. Видя ее прямую осанку и гордый взгляд, без труда выдерживающий мой, я подумала, что она напоминает мне человека, который остался бы на дне темного колодца, даже увидев наверху свет и руку помощи. Это показалось мне достаточно веской причиной, чтобы взять ее на курсы.
Кто еще? Джамиля, с чувственным лицом, уверенная в своей привлекательности и в том, что никто перед ней не устоит. И особенно ее отец. Он был муллой и обожал ее. Джамиля недавно вернулась из Пакистана, куда ее родители уехали в эпоху Талибана. Ее английский был великолепен. Меня забавляли ее усилия убедить меня выбрать ее: она хотела показать, что знает толк в телевидении — упоминала Би-би-си и Си-эн-эн, чьи передачи она смотрела в Пакистане… У других кандидаток были лишь воспоминания детства, в котором телевизионные картинки еще не были запрещены.
Или Шекиба? Прозрачная кожа, худое лицо. Но, несмотря на вид испуганной птицы, не было человека более уверенного в своей правоте. Во время освобождения страны от талибов она осаждала станцию кабульского телевидения, сидела в холле часами, будучи единственной женщиной среди мужчин, без чадры, лишь в платке. Она хотела, чтобы ее приняли на работу. Афганистан в то время был королевством всех возможностей: кто-то провел ее на студию, где она прочла текст, написанный на клочке бумаги. Так семнадцатилетняя Шекиба объявила своей стране в прямом эфире о возобновлении вещания после шестилетнего перерыва.
Я выбрала этих трех и еще 17 девушек и разделила группу на две части: десять — утром, десять — после обеда. Рамин, молодой афганец, который самостоятельно втайне выучил французский, служил мне переводчиком. Не без волнения — в конце концов, я еще никогда никого не учила — при помощи большой черной доски я объясняла им различные особенности плана, говорила о раскадровке. Очень скоро я почувствовала, что их внимание улетучивается. Эти девушки провели в заключении в своих домах шесть долгих лет. Их ум был сконцентрирован только на домашних обязанностях. И вот вдруг их закрывают в классе и заставляют сидеть за деревянными столами, в надежде что они зацепятся за какую-то идею и доведут ее до конца. Я требовала от них огромных усилий.
Времени было мало, но приходилось повторять сказанное еще и еще раз. В конце концов я начинала злиться. Очень сильно. Мои приступы ярости впечатляли Рамина, но он переводил мои слова как можно более дипломатично.
Была одна вещь, которую я во что бы то ни стало хотела вложить в их головы: «Я хочу научить вас выкручиваться самостоятельно. Перестаньте рассчитывать на иностранцев — не им снимать вашу страну. Вам! И, как только вы научитесь это делать, никто у вас этого не отнимет. А теперь — за работу».
Несомненно, это действовало. Но что оставалось к следующему дню? Я видела, что они строят из себя маленьких девочек, чтобы растрогать меня, и снова начинают жевать жвачку и мечтать. И надо было все начинать сначала.
Практическая работа подходила им больше. Спрятавшись за высокими стенами нашего здания, они учились снимать земельные участки и садовников, жизнь в офисах, возню на кухне. Просмотр их первых кассет привел меня в шок. Они видели жизнь в темном цвете. Все без исключения. Нет сомнения, что это происходило из-за чадры и маленького поля обзора. Но это не мешало им, тем не менее, защищать свои жалкие репортажи, парируя мои доводы: «Такова жизнь». Я научила их тому, что жизнь иногда бывает хороша.
В одно летнее утро, очень рано — шум машин не перекрывал еще переливов колокольчиков, привязанных к гривам ослов, — я увидела, как Мерхия пересекла двор с опущенной головой и поскорее вбежала в класс. Куда делся ее сетчатый «саван»? Он был брошен в крапиву.
Она осмелилась. Осмелилась идти по улицам Кабула под взглядами мужчин, лишь покрыв голову. Он был грандиозен, этот ее жест независимости. Она дрожала как от страха, так и от гордости. Но понадобилось еще восемь месяцев, чтобы она перестала жалеть о своем прошлом заточении. Вооруженный бородач заставил ее носить чадру, когда ей едва исполнилось пятнадцать. Пролив море слез, не единожды упав, испытав удушье, потом она привязалась к ней. Мерхия призналась мне позже: «Мне стыдно было ее носить, теперь мне стыдно ходить без нее. Но как можно держать камеру с такими скованными движениями?»
Как только я приехала в страну, меня предупредили о чудовищном давлении на афганцев, особенно на женщин, со стороны общественного мнения. Один неловкий или неправильно понятый поступок, и их репутация летит ко всем чертям, а позор ложится на всю семью. Тогда я ввела правило, от которого ни я, ни мои ученицы не отступали: избегать любого поведения, которое может вызвать неадекватную реакцию. Я знала, что при малейшей провинности родители заберут у меня своих дочек, и они тут же будут выданы замуж. Каждый вечер я развозила девочек по домам на машине с нашим шофером, ведь было немыслимо, чтобы молодая девушка бродила одна по темным улицам. Я пользовалась моментом, чтобы поговорить с родителями и успокоить их. Они, как-никак, имели достаточно смелости, чтобы разрешить своим дочерям стать журналистками, и мужества, чтобы не обращать внимания на сплетни. Их доверие было очень важно для меня.
Они встречали меня очень гостеприимно, как того требует традиция, просили, чтобы я выпила чаю со сладостями, поужинала с ними. Я отказывалась, но они настаивали, не обращая внимания на мои протесты. У этих людей не было ни мяса, ни овощей, чтобы накормить своих детей, но я знала, что все это будет в моей тарелке. Я не могла этого допустить. Несмотря на то что в их жилищах не было ни проточной воды, ни электричества, они были безупречно чисты, так же как и палатки в лагере беженцев.
Начался месяц Рамадан. Но в «Айне» на вечерах для иностранцев алкогольные напитки лились рекой. Что может быть лучше для успокоения нервов, серьезно пошатнувшихся от нелегкой повседневной жизни? Многочисленные перебои с электроэнергией, ужасный холод зимой, языковой барьер — все это впридачу к послевоенной обстановке оправдывало маленькие слабости. Тем не менее меня они смущали, и когда утром я спускалась завтракать, то испытывала неловкость от такого количества пепельниц, наполненных окурками, и разбросанных повсюду бутылок.
Наутро при помощи двух французских журналистов, шокированных не меньше моего, я собрала весь мусор и выбросила в корзину, чтобы этого не пришлось делать уборщицам-афганкам. Что бы они подумали о манерах молодых европейцев? Наши ученицы первыми стали бы жертвами дурной репутации.
За несколько недель они научились наводить кадр, понимать смысл картинки, ее композицию. Но какой ценой! Эта ускоренная работа выжимала из меня все соки, у меня не было сил поужинать, я успевала только добраться до постели. У меня была маленькая комнатка с кроватью и стулом — негде походить взад-вперед, размышляя. Но наутро их энтузиазм, апломб, смех снова придавали мне сил. Их жажда познания, яростное желание научиться были явны, ощутимы. Я видела, что они созрели для того, чтобы сделать свой первый репортаж. К сожалению, я не могла предложить им ничего лучшего, чем съемки небольшими группами в интерьерах ассоциации «Ашиана», которая помогала беспризорным детям. Сама же улица с толпами зевак, глазеющих на молодых афганок, манипулирующих камерой, с нервозностью, которая все еще царила и могла перерасти в агрессивность, была для нас закрыта. Но они проявляли нетерпение.
Кабул — большая деревня, где все друг друга знают. «Айна» была необычной организацией; ее создатели-энтузиасты, не будучи профессионалами, вызывали симпатию. И народ всегда толпился у этих «НЛО», которые умели организовать праздники по-особенному.
К середине сентября моя миссия в «Айне» заканчивалась. В мою честь была организована церемония, собравшая цвет представителей гуманитарных миссий. Почти весь Кабул пришел в здание «Айны». Я попросила нескольких учениц поснимать: мог бы получиться неплохой репортаж. Убедившись, что платки хорошо сидят на их головах, я бросила девушек в гущу праздника с камерами наперевес. В то время, когда Джамиля и Нилаб сосредоточенно работали, вошел директор ЮНЕСКО. Увидев их, он растерялся. Эти женщины, которых столько лет ни во что не ставили, вышли в люди и работали как настоящие телевизионщики!
На следующий же день ЮНЕСКО предоставила нам бюджет для работы, за ней последовали другие организации. Мы стали почти богатыми. Я сразу же стала получать зарплату в тысячу евро — не бог весть какие деньги, но они позволили мне взять на «Франс-3» продолжительный отпуск без сохранения содержания и продолжить работу.
Иногда моим ученицам не хватало усидчивости. Я выяснила, что они пропускали занятия, как только подворачивалась возможность немного подзаработать на пропитание. И так как наша касса наполнялась, я потребовала, чтобы девочкам выплачивали зарплату в 100 долларов в месяц. За это они должны приходить каждый день, иначе я могла их отчислить.
В СМИ у нас был настоящий триумф. Иностранные журналисты интересовались нами, и афганцы тоже. Статья, прочитанная в афганской газете, побудила англичанку Полли Хайман зайти к нам, когда она была проездом в Кабуле. «Нужна ли вам квалифицированная помощь?» — спросила она, улыбнувшись. Предложение было незамедлительно принято. Полли помогала мне в обучении, и я поняла, какое это счастье — работать с человеком, который настроен с тобой на одну волну и глубоко уважает традиции афганского общества, эту высшую ценность. В один из августовских дней повидать меня пришел Зубайр. Он покинул Панджшир и обосновался с молодой женой в Кабуле в надежде найти работу, как многие другие. Он попросил: «Брижитт, окажи мне услугу. Не для меня, а для девушки, которая недоедает. Ее семья очень бедна… Ты можешь взять ее на свои курсы?» Я сказала «да», не раздумывая, — нас связывало столько воспоминаний. Он помялся и после колебаний сказал: «Она — инвалид, хромает. Ее нога была искалечена реактивным снарядом во время гражданской войны».
— Ничего, посмотрим. Если она недостаточно проворна, чтобы передвигаться и снимать, она может стать прекрасным монтажером.
На следующий день, когда я вела урок, вошел Зубайр. За ним стоял призрак, одетый в черное, каких десятками можно встретить на улицах Кабула. Этот еще и прихрамывал. С платком, натянутым на лоб до бровей, с зеленоватым лицом, горбатым носом, с испещренной кожей — да уж, природа не побаловала это бедное создание. Но что поражало в ней, так это отсутствие жизненной искры, полное неверие в себя, отсутствие всякой надежды. Гуль Макай, так ее звали, пряталась за спиной Зубайра. Я догадывалась, что она мечтала исчезнуть из нашего поля зрения по мановению волшебной палочки. Передо мной была девушка 22 лет, растерзанная несчастьем. Надо было ее ободрить, помешать закрыться еще больше. Я улыбнулась. Она бросила на меня взгляд, но потом он устремился куда-то за мое плечо. Еле слышным голосом она объяснила, что шила одежду для Красного Креста. После смерти отца она стала старшей в семье, но тех нескольких афгани, которые она зарабатывала, было недостаточно, чтобы прокормить семью. Гуль не отвечала ни одному критерию, с которыми я подходила к своим ученицам, но у меня не хватило решимости ее отослать. Вскоре я об этом пожалела. Другие мои ученицы заряжали меня энергией благодаря своей необузданной силе, которая мне так в них нравилась. С Гуль же все было наоборот. Она находилась среди нас, пунктуальная и безразличная, отказываясь подпустить к себе поближе, раскрыться, не позволяя донести до нее те понятия, которые мне хотелось бы вложить в нее. Словно все это было ей не нужно. Как если бы она спряталась в темном уголке, закрыв на замок все входы и выходы.
Однажды, окончательно выбившись из сил, я оставила группу работать самостоятельно и уединилась с Гуль в крошечном бюро, чтобы поставить точки над i. Я устроилась в кресле, она села напротив; в ее глазах была паника, но лицо оставалось неподвижным. Скрестив руки, наклонившись к ней, я не отрывала от нее взгляда. Моя роль заключалась также и в том, чтобы устранять от процесса людей, у которых не было призвания. У Гуль не было никакого призвания, или же она его умело прятала, или была здесь, просто потому что ее привели. Мне надо было быть жесткой. Я сказала твердым голосом: «Тебе дали шанс выкарабкаться, твой день настал. Но, вместо того чтобы работать как каторжная, ты закрываешься и пасуешь. Это касается тебя, Гуль, речь идет о твоей жизни, не о моей. И только ты сама должна принимать решения». Мне показалось, что ее лицо дрогнуло, но она равнодушно сказала, что постарается.
В тот вечер мы отдыхали все вместе в холле, болтали, и я воспользовалась случаем, чтобы поговорить о Гуль с Полли. Она сказала: «Я не понимаю, как ты вообще ее приняла. Она ничего не делает, наши усилия тщетны…» Я колебалась. Была опасность принять поспешное решение, а мне больше всего не хотелось равнодушно отослать Гуль обратно в ад, из которого она уже не выйдет. Я вздохнула: «Эта девушка устала от жизни. Ты не думаешь, что и мы бы устали, если бы каждый день искали пропитание, не находя его?» Но Полли настаивала: «Я уверяю тебя, ее надо выгнать, она расходует нашу энергию напрасно…» Но я приняла решение: «Мы оставляем ее. Это для меня дело чести. Поверь, Полли, если из этой девушки что-нибудь получится, мы поймем, что поступили правильно».
Мы убрали в помещениях так, что все блестело, освободили класс от лишнего оборудования и поставили стулья в ряд. Я ждала родителей своих учениц, так что не должно было быть ни одного упрека по поводу порядка. И они пришли — отцы, братья, старшие сестры: шумя, приветствуя друг друга, устраиваясь на своих местах. Женщины чуть в сторонке, согласно обычаю. Я знала всех, так как принимала их приглашения выпить чашку чая, когда провожала до дома их детей. Я собрала их по важному поводу: я хотела, чтобы их дочери участвовали в значительном проекте — делали репортажи по всей стране.
За исключением Джамили, все ученицы в юности были лишены телевидения. Они не знали, какова была их страна, большинство не выезжали из Кабула. Наша организация только что получила деньги от «Asia Foundation» для создания фильма, основанного на свидетельствах женщин. Одна афганка из диаспоры — Шаиста Вахаб — должна была приехать из США, чтобы взять интервью. Эта была прекрасная возможность взять с собой девочек. Речь шла о том, чтобы не снимать, а именно наблюдать за тем, как работает Шаиста, за ее манерой вести беседу. Я надеялась также, что эти создания, шумные и подвижные, научатся слушать: этого качества им очень недоставало. Работа была рассчитана на несколько месяцев. Маленькими группами мы должны были поехать в Бамиан, Герат, Джелалабад и Бадахшан. Путешествие было рискованным — дороги небезопасны. Мои ученицы должны будут работать без чадры, и, безусловно, им придется разговаривать с незнакомыми мужчинами, смотреть им в глаза. Все это было невозможно без согласия родителей.
Некоторые будут противиться, я это знала. Отец Джамили был муллой, и мне казалось, что его будет сложнее всего убедить. Он погладил свою аккуратную бороду и подождал, пока установится тишина, чтобы сказать слово: «Исламские тексты гласят, что женщины не могут покидать город без своего махрама[10]. Если наши дочери поедут в провинцию с вами, это будет ошибкой в отношении нашей религии». Начались дебаты. Я уверяла, что эти путешествия не содержат риска, что я буду тщательно следить за девочками, как настоящая мать. Разве хоть раз они могли пожаловаться на мое отношение к ним или на мои решения?! Мне было странно слышать такие слова от муллы, который, прежде всего, был любящим отцом, желавшим счастья своей дочери.
Другие же сразу выступили сторонниками поездки. Отец Мерхии, например, с тех пор как она стала посещать курсы, отражал бесчисленные атаки родни. «Нехорошо, когда девушка ходит с камерой, это не в наших традициях», — упрекали его родственники. Традиции, не традиции, но он видел, как его малышка растила братьев и сестер, он никогда не думал, что ребенок на такое способен. И он восстал против своего клана: «Я не вижу никакой проблемы, Мерхия — моя дочь, ответственность за нее на мне, а не на вас. Ее будущее вас не касается». Он рассказал внимательно слушавшей аудитории, насколько он горд, что его маленькая Мерхия сможет стать журналистом и показать всему миру их страну, забытую на многие годы. Нет, он не думал, что поездки испортят ее. И он дал согласие с ободряющей улыбкой.
Для остальных я приберегла аргумент, который не должен был оставить их равнодушными: «Знайте, что те, кто не получит вашего разрешения, должны будут прекратить обучение. Это бессмысленно, если они не могут покинуть учебные корпуса. Как же они могут думать о настоящих репортажах?» Я надеялась, что возможность потери 100 долларов, которые заметно пополняли семейный бюджет, убедит кое-кого из родственников. И все же три семьи не пошли наперекор общественному мнению и отказались. Мне было жалко тех моих учениц. Я даже не пыталась представить их будущее, далекое от той свободы, к которой они стремились.
Путь до Бамиана, первого пункта нашей поездки, трудно было назвать приятным. Десять часов мы тащились по отвратительной дороге. Афганцы уже напрочь забыли, что такое асфальт. Аскар, наш шофер, виртуозно «вальсировал» между выбоинами, воронками от артиллерийских снарядов и головокружительными оврагами. Кроме того, не следовало забывать о противопехотных минах, установленных здесь повсюду. Процесс разминирования уже начался, и власти требовали ставить специальные знаки, указывающие на участки, свободные от мин. Маленькие пирамиды из белых камней означали: «Смелее, территория очищена!» А красные таблички свидетельствовали об опасности — еще не разминированной зоне. Езда по Афганистану требовала невероятного таланта.
Для съемок первого интервью Шаисты я выбрала Нилаб и Джамилю. Как и они, я открывала для себя афганскую провинцию. Но гораздо больше живописных пейзажей меня увлекал спектакль, который я наблюдала, глядя на своих учениц. Я видела, как их поведение менялось на глазах, как освобождались они от привычных установок. На первой остановке в деревне они не решились выйти из машины. Шофер принес им чай в салон, откуда они в полной тишине наблюдали за восходом солнца. Во время второй остановки солнце так накалило машину, что им захотелось немного размять ноги. Я проверила, чтобы их платки были на месте, и мы направились в чайхану[11]. Можно было подумать, что мы попали в кукольный домик с его старинными эмалированными чайниками, расставленными в ряд на крошечной деревянной этажерке. Здесь царил приятный запах горящих поленьев и жареных яиц. Мы умирали от голода. Наше появление не прошло незамеченным — все посетители резко замолчали. Хозяин проводил нас в маленькую комнатку, где на нас не будут пялиться мужчины, которых мы так поразили. Оставив обувь у порога, мы вошли. Девочки говорили мало, взволнованные и озабоченные тем, чтобы не совершить какую-нибудь оплошность, которая могла бросить тень на их репутацию.
Позже мы остановились у берега реки. Девочки дышали полной грудью чистым воздухом, так непохожим на кабульский. Они начали играть, брызгая друг на друга водой и заливаясь смехом. В течение нескольких минут я наблюдала за озорными девчонками, которыми они не имели права быть в течение такого долгого времени. Еще в Кабуле я купила для них длинные пальто и шерстяные перчатки, чтобы им было тепло работать. Был конец ноября.
Прибыв в Бамиан, мы лишились дара речи. Самая красивая в мире долина раскинулась на необъятных просторах между отвесных скал, пурпурных и охряных; цвета переливались на солнце. Это было потрясающее место первозданной чистоты, благословенное небом. Я поняла, почему буддисты выбрали его когда-то для возведения королевского города, окруженного храмами. Дальше к северу привлекали внимание две одинаковые высокие впадины в горах — там в течение пятнадцати веков возвышались высеченные из камня статуи Будды. Полтора года назад их взорвали талибы.
На той стороне нас ждали в маленьком домике миссии ООН. Мы вынесли из машины сумки, спальные мешки, покрывала и поплелись в свои комнаты, где мгновенно отключились со счастливой улыбкой на губах.
Поднявшись утром на террасу, я снова посмотрела на скалы. Мне казалось, что я вижу фильм с оптическим эффектом. Изумительная панорама, такое чистое небо… Перед моими глазами предстало чудо природы.
Вскоре мы ехали по долине. Некогда благополучная и спокойная, сегодня она стала прибежищем для хазарейцев, потомков монгольских кочевников — круглолицых, узкоглазых, с плоскими носами. Хазарейцы находятся на нижней ступени социальной лестницы. Они выполняют самую тяжелую работу, их ни во что не ставят. Испокон веков их жизнь — череда гонений и угнетения.
Мы искали место для съемок. Вдруг перед нашими глазами возникла невероятная картина. Я попросила Аскара остановить машину. Я не верила своим глазам. Вся скала была усеяна пещерами. Жилыми. Женщины и дети пробирались по ним, наподобие мелких животных. Однажды я уже видела эти пещеры. Как и поля, засаженные овощами, в Панджшире, и палатки беженцев в Роджа-Бауддине, эти картинки всплывали из моей памяти. То, что я видела семь лет назад, материализовалось. Тогда мне казалось, что у меня не все в порядке с головой. Но это было не так. Этот странный феномен, его повторение открывали мне двери в другой, иррациональный мир. Был ли он проявлением бессознательного? Или, может, судьбой? У меня не было времени размышлять об этом дольше — женские фигуры в чадрах выходили из своих убежищ и приближались к нам.
Силуэты остановились, рассматривая нас издалека. Шаиста крикнула им что-то на дари, наверняка что-то дружеское, поскольку женщины двинулись к нам более уверенно. Одна из них шла во главе группы с решительным видом. Интуиция привела ее ко мне, она взяла меня за руку и произнесла: «Манда на Баши». Я ответила: «Зенда Баши»[12]. Женщину звали Зейнаб. Ее лицо, изрезанное глубокими морщинами, казалось, не имело возраста. Я взглянула на ее руки. Они были покрыты глубокими красными трещинами. Здесь у них не было ничего — ни дома, ни земли, ни скота, ни даже дров, чтобы согреть воду. Не говоря уже о еде. Зейнаб в отчаянии вскинула руки к небу: «Мы забыли вкус и запах мяса!» Вдалеке дети, сидящие на корточках, казалось, были увлечены игрой. То была иллюзия. Они собирали соломинки, веточки — ничтожное топливо для почти пустой печи. В регионе становилось все холоднее, скоро выпадет снег.
Шаиста решила поговорить с пожилой женщиной. Я доверила съемку Джамиле. Она покраснела. Джамиля, которой часто ставили в вину ее апломб, стушевалась, как маленькая девочка: «У меня не получится. Эти люди не знают меня и ни за что не согласятся говорить со мной…» Я вспомнила страх перед своим первым интервью — он у всех одинаковый. Я взяла ее за плечи: «У тебя получится. Ты докажешь всем, что можешь заниматься этой профессией. О'кей?» Она неубедительно кивнула.
Мы поднялись к пещере, расположенной на приличной высоте. Несмотря на возраст, хазарейка взбиралась, словно проворная козочка. Что касается меня, недостаток спортивной подготовки был налицо, но все же я благополучно добралась до «королевства» Зейнаб. Крошечное, оно состояло из голых каменных стен, глиняного пола и нескольких соломенных лежанок. В старенькой печке тлели угольки. Зейнаб села возле нее, готовая отвечать на наши вопросы. Через несколько минут маленькое помещение наполнилось любопытными соседями. Я собрала их всех у входа и, приложив палец к губам, попросила о тишине. Увлеченная процессом съемки, Джамиля была напряжена и внимательна. Зейнаб рассказывала нам историю своей жизни и жизни ее соплеменников. Я ничего не понимала, ни единого слова, но эмоции, которые возникали от этой монотонной речи, были очень яркими.
В конце гражданской войны, в 1996 году, ее племя ушло в Иран, где получило убежище. В течение всего этого времени хазарейцы не мечтали ни о чем другом, кроме как снова вернуться в Афганистан. Что и произошло. Но, как только они стали обосновываться в стране, пришли талибы. Они забирали нехитрое имущество, убивали мужчин, поджигали дома.
— Они потеряли своих отцов. Кто им поможет? Кто накормит? Оденет? Здесь сотни женщин, оставшихся без мужей. Только у одного из семи детей есть родители! Что с ними станет?
Она хотела помочь им всем, никого не обделяя. Но что она может в своем нищенском положении?
— Талибы убивали и их матерей. Они отрезали женщинам груди. Все наши дома были разрушены бульдозерами — с женщинами и детьми внутри…
Зейнаб видела чудовищные вещи. Без эмоций и слез она пыталась донести до нас то, что ей пришлось пережить.
— Поезжайте в Якоуланг… Там были убиты от семисот до восьмисот человек. Если вы называете себя журналистами, ваш долг увидеть эти испепеленные места.
Зейнаб замолчала, погрузившись в свои страшные воспоминания. Потом снова обратилась к нам. На этот раз ее голос гремел:
— Скажите мне, как появились талибы? Их послал Бог? Они стали бедствием. Аль-Каида ничего не сделала для того, чтобы оставить свой след в истории человечества. На них черная метка. Бог свидетель, мы не хотим их больше в Афганистане!
Она отвернулась, вытерла влажные глаза кончиком платка. Я обернулась: женщины-хазарейки опустили головы. Джамиля, склонившись над камерой, плакала. Боль Зейнаб стала и ее болью. Она не задумывалась о существовании таких страданий и таких зверств. Потом взяла себя в руки и снова схватилась за камеру. На этот раз она снимала ужасающую реальность с широко открытыми глазами — глазами, которые видели боль и стали такими же чувствительными, как и кончики пальцев, в которых бился пульс.
Когда мы стали собираться, Зейнаб подошла к ней:
— Ты — женщина, ты можешь понять нас. Девочка моя, пообещай, что покажешь эти кадры, пообещай, что их увидят люди во всем мире.
Джамиля пообещала. Это был ее долг журналиста.
Глава 5 Розы Джелалабада
Кадры из Бамиана вдохновили Флорана Мелизи на создание нового проекта. Он хотел, чтобы мы снимали короткометражные фильмы, в которых наши стажеры встречались бы с другими женщинами по всему Афганистану. Женщины из горных сел рассказывали бы городским жительницам о реалиях их жизни. Этот обширный проект должен был превратиться в фильм для спонсоров нашей организации.
Мне понравилась идея, но она требовала немалых усилий с моей стороны. Несмотря на внешнюю веселость, мои ученицы были настоящими маленькими злючками, иногда очень суровыми. Их страдания в прошлом трансформировались в необыкновенную жизненную силу. Их энергичность, иногда близкая к агрессивности, могла превратиться в ярость или в ссоры, в которые мне часто приходилось вмешиваться. Когда мы снимали в Бамиане, Шаиста, учившаяся в Америке, одергивала Нилаб. Разговоры, которые они вели, требовали такта и сопереживания, а Нилаб не колеблясь выбалтывала чужие секреты. Выйдя из себя, Шаиста поставила ее на место, добавив, что воспитанные люди обычно вынимают жвачку изо рта, прежде чем с кем-либо говорить. Девчонка встала на дыбы: «Ты не имеешь права учить меня, потому что ты не жила здесь во время войны! Ты не была здесь во время всего того, что мы здесь пережили… Где ты была, а? В Америке?»
Не было и речи, чтобы терпеть это в своей группе. Я не хотела ни гражданской войны, ни жертвенности. Я знала, что у каждой из моих учениц были за плечами драматические истории; и ссылка была одной из них, она была занозой в сердце любого беженца. Я резко оборвала их: «Нилаб, ты не имеешь права говорить так. Извинись». Она посмотрела на меня колючим взглядом, совершенно не готовая капитулировать. «Ты извиняешься или будешь выгнана». Ее рот скривился, но глаза твердо смотрели на меня. Мое возмущенное выражение лица, должно быть, убедило ее в серьезности моих намерений. Нилаб подчинилась. Но поняла ли она?
На этот раз мы ехали по одной из самых опасных дорог страны, той, которая ведет из Кабула в Джелалабад и дальше — к Пешавару в Пакистане. Как только мы проехали узкий участок Хайбер-Пасс, нам открылся настоящий храм из красных скал.
Этот путь на восток был идеальным местом для взятия журналистов в заложники. Годом раньше, 9 октября 2001 года, тут был взят в плен известный репортер «Пари-Матч», француз Мишель Пейрар, передвигавшийся по стране под чадрой. Через месяц четверо западных журналистов попали здесь в засаду и были убиты.[13]
Я тогда еще не знала, что по этой дороге на Танг-и-Гар я буду ездить сотни раз. Удивительный маршрут. Он начинался, как в мрачной средневековой сказке. В самом деле, нет ничего привлекательного в том, чтобы проехать по разрушенному Кабулу и оказаться в угрюмом кольце окружающих его гор. Потом нужно преодолеть километры плохой узкой дороги, достойной высокогорного ралли: справа ты едва не дотрагиваешься до крутой скалы, слева — пытаешься не свалиться в пропасть, где яростно несется река Кабул. А посреди дороги лежат камни, которые приходится объезжать. Дорога двусторонняя, по ней тянутся вереницы высоких нарядных грузовиков с помпонами и колокольчиками. Они резко сигналят, отгоняя пастухов с их стадами коз. Нередко маневр не удается — грузовик падает в реку и разбивается. Груз рассыпается на дороге. Тогда движение останавливается, и начинается бесконечное ожидание. Выбраться уже невозможно. Терпение афганцев в таких случаях поражает. Они выходят из машин, оставляют повозки и идут узнавать новости — образуют группы, разговаривают, не демонстрируя ни малейшего нетерпения. Зачастую транспортная пробка превращается в семейное собрание. Некоторые ходят взад-вперед, другие ищут уединения и находят его на защитных ограждениях у самого края пропасти. Они сидят там на корточках, уставившись в головокружительную пустоту, словно хищные птицы, готовые полететь за своей добычей.
Но, как только мы проходим этот бесконечный каньон, все меняется: горизонт светлеет и расширяется, обнаруживаются равнины, ровно засаженные различными культурами. И уже на подступах к Сароби тебе открывается процветающий вид. Плотины гидроэлектростанций, которые возвели на севере, в месте слияния рек Кабул и Панджшир, создали здесь огромные озера. Впечатляют необъятные рисовые плантации, пальмы и небо, отражающиеся в тихой воде. Восток, с его жарой и влажностью, здесь близок.
Я поехала с Джамилей и Мерхией. Нас сопровождал афганский тележурналист, который помогал устанавливать контакт с населением. Джелалабад имел плохую репутацию. Бывшая вотчина талибов, столица провинции Нангархар долго принимала Усаму Бен Ладена, его трех жен и детей. Власть Аль-Каиды была столь сильна, что талибы создали там арабский квартал — жилой район, окруженный зеленью и отданный в распоряжение симпатизирующим Бен Ладену мусульманам, приехавшим из Чечни, Европы, США и Саудовской Аравии во имя священной войны. Кроме того, будучи самым крупным производителем мака, этот регион кишел торговцами опиумом.
Можно представить, какая решимость требовалась Мерхии и Джамиле, чтобы получить согласие своих отцов на эту поездку. Мы уехали на рассвете. Сидели, тесно прижавшись друг к другу на заднем сиденье, погрузившись каждая в свои мысли. Вдруг я услышала всхлипы справа от меня. Джамиля тихо плакала. Я порылась в сумке, вытащила носовой платок и встревоженно наклонилась к ней: «Что с тобой?» Она стыдливо спрятала лицо под платком. Я настаивала: «Джамиля, почему же ты плачешь?» Я подождала, пока она успокоится, чтобы снова задать ей вопросы. Она объяснилась на своем английском, прерывистом от эмоций. Однажды, пять лет назад, она уже ездила по этой дороге. В то время ей было лишь двенадцать. Ее отец был прогрессивным муллой, который до прихода талибов работал на Президента Демократической Республики Афганистан Мухаммеда Наджибуллу. В 1996 году, сразу после взятия Кабула, талибы поймали и замучили мужчину, которого афганцы с долей страха называли «доктор Наджиб». Потом они повесили его на фонаре на оживленном перекрестке, оставив труп — кусок окровавленного мяса — качаться на веревке всю неделю.
Однажды утром вскоре после этого случая талибы пришли к отцу Джамили. Можно было подумать, что они вышибут дверь, так они шумели. Отец был в ванной на втором этаже, мать, перепуганная, пошла открывать. Джамиля пряталась за ее юбками. Бородачи в черных тюрбанах грубо оттолкнули их. У них были «Калашниковы». Им нужен был отец: «Скажи своему мужу, чтобы он пришел. Или мы убьем вас». Они были словно псы, готовые наброситься на свою жертву. Мать побежала к ванной комнате и прошептала через дверь: «Уходи через заднюю дверь». Джамиля цеплялась за нее, держась за кончик шали. Мужчины почти нагнали их. Мать сказала: «Моего мужа нет, он уехал в Пакистан». Никто не поверил в это. Они схватили ее, потащили по полу, ногами и стволами оружия били по голове, по округлившемуся животу: женщина носила близнецов, которые вот-вот должны были появиться на свет. Они били и били ее, не останавливаясь, с яростной пеной у рта. Девочка кричала. Она видела, как ее мать упала на лестнице, и слышала, как мужчины угрожали ей напоследок: «Скажи своему мужу, чтобы он возвращался. Иначе мы придем, чтобы отнять твой дом и убить вас». Ночью отец вернулся за женой и шестью маленькими дочерьми. Они уехали на машине, ничего не взяв с собой, по той самой улице Джелалабада, по которой мы сейчас двигались. Какой-то бородач остановил их, потому что отец не носил ни тюрбана, ни длинной бороды. Сидя сзади под покрывалом, прижавшись к сестрам, Джамиля видела железный прут, который мужчина вертел в руках так, как если бы не решался ударить. Ей казалось, что она уменьшается с каждым заданным отцу вопросом. Мулла указал на скрючившуюся жену, сидящую рядом с ним. Ей нужна была медицинская помощь. Бородач отпустил их. Утром они добрались до Пакистана, где мать родила одного мертвого ребенка, а другого вполне здоровенького. Сама она много дней находилась между жизнью и смертью.
Я испытала бесконечную боль. Перестанет ли когда-нибудь страдать этот народ? Как они все умудрялись выживать в этой бесчеловечной обстановке да еще держаться так достойно и сохранить способность смеяться по любому поводу? Как и Джамиля, они стерли свои воспоминания, чтобы начать жить. Я прижала ее к себе, чтобы отогреть. Я хотела бы утешить ее словами сочувствия, нежными как мед. Но вместо этого неожиданно для себя сказала: «Джамиля, ты сильная, как мужчина. Никогда не подумаешь, что ты — беззащитная женщина».
Во времена своего расцвета (до советского вторжения) Джелалабад привлекал богатых кабульцев, которые приезжали сюда, спасаясь от зимних ледяных ветров. Уже в пригороде цветущие магнолии окаймляли широкие асфальтовые аллеи, зигзагом ехали рикши, звоня в свои колокольчики, белые дома скрывались под сенью бугенвиллий. Ветер приносил аромат кипарисов и сладкий запах сахарного тростника, который выращивали на близлежащих полях. Эта идиллическая картина была искажена постоянными набегами в советскую эпоху, гражданской войной и талибским режимом. Джелалабад, в который мы въехали тем декабрьским утром, был городом, в котором кипела жизнь, но мало зданий сохранилось в прежнем состоянии.
Прежде чем покинуть Кабул, я попросила помощи у Бабрака, главы совета по делам племен. Он был совершенно очарователен в своем кокетливо уложенном тюрбане а-ля Мазар-е-Шариф. Он великолепно говорил по-французски, поскольку учился в Сорбонне. И поэтому он был рад помочь француженке. Но я не должна была обольщаться. Он дал мне понять, что в восточных зонах, на пуштунских землях, где я хотела снимать, у населения остро развито чувство независимости. К тому же все зависит от рекомендаций, полученных из Кабула, и настроения местной администрации. В нашем случае речь шла о главе регионального комитета по делам племен Шахзаде Моманд-Хане. Он представлял одновременно и правительство, и племена, которые населяли провинцию.
Добраться до этого комитета было нелегко. Наконец нам это удалось. Вооруженный охранник открыл тяжелую железную калитку, и наш джип въехал в величественный парк — настоящий розарий. Тут и там поднимались пальмы, росли дикие и декоративные маки и дельфиниумы. Так как мы находились во владениях пуштунов, где царствуют мужчины, я позволила сопровождающему журналисту и шоферу руководить всем. Наше неожиданное прибытие никого не удивило, хоть мы и не могли предупредить о своем визите — ни одна телефонная линия в стране не работала. Нам подали знак войти. Мы вышли из машины, как три статуи, окоченевшие после шестичасовой езды по ухабам. С начала зимы не пролилось ни капли дождя — дорожная пыль висела в воздухе, как в разгаре лета, проникая в багаж, покрывая все.
Я отряхнула одежду. Я не могла не привлечь к себе внимания, закутанная в стеганую куртку, с серым от пыли платком на голове, с прилизанными волосами. Я попросила Джамилю пойти со мной: она говорила по-английски лучше, чем Мерхия, а перевод высказываний шефа должен был быть как можно более точным. Мерхия вернулась в машину, радуясь, что может спрятаться от этих страшных пуштунских воинов. Увы, то, что она увидела через затемненные стекла машины, не придало ей уверенности: туда-сюда сновали мужчины в тюрбанах, спустившиеся с гор; они приехали, чтобы решить свои проблемы или сделать покупки на базаре. Мужчины, со словно высеченными в камне чертами, были вооружены до зубов. Мерхия спустила платок на лоб и сжалась.
Секретарь провел нас в длинную комнату, где могли спокойно разместиться человек сорок. Ряды кресел и диванов у стены, огромный портрет президента Хамида Карзая на самом видном месте — все создавало впечатление, что мы находимся в помещении, где проходили знаменитые jirgas — собрания вождей племен, на которых принимались важные решения. Здесь не было окон, чтобы ни холод, ни взгляды извне не проникали сюда. Три неоновые лампы давали очень яркий свет. Присев на краешек огромного стола, я почувствовала себя словно на палубе корабля — меня шатало от усталости. Мы долго ждали. Молодой слуга налил чай в стаканы и расставил на столе миски и чашки, наполненные ширини[14] и сладким миндалем. И снова наступила тишина.
Я пила чай и не слышала, как он пришел. Он отодвинул занавеску и вошел, одетый в широкую белую традиционную одежду, жилет по фигуре и коричневый пакол. Гепард. Гибок, молчалив. Удивительное изящество исходило от его манеры двигаться. И впечатляющая сила. Я не могла бы объяснить, что со мной происходило: кто-то заколдовал меня, что-то мешало мне пошевелиться, вздохнуть. Было невозможно оторвать взгляд от этого человека. Все окружающее исчезло, все стало расплывчатым. Я видела только его.
Шахзада Моманд-Хан сел на другом конце стола и поприветствовал нас. Его черные глаза скользнули по моему лицу не останавливаясь. Настоящий мусульманин не здоровается с женщиной за руку, не смотрит ей в глаза. Нравы здесь не такие свободные, как в столичном Кабуле. Здесь воины-горцы не шутят с правилами поведения. Больше наши взгляды не пересекались. Он переключил внимание на Джамилю, которая переводила ему мои доводы на дари. Она казалась оробевшей, но, так же как и я, была настороже. Чего она боялась? Шахзада казался очень вежливым. Я исподтишка наблюдала за ним. Он был слишком молод для того, что занимать такой важный пост. Его глаза не выражали ни симпатии, ни особенного любопытства. Он терпеливо слушал: я говорила, Джамиля переводила. Он слушал ее, не обращая на меня никакого внимания, я говорила снова. У меня было такое чувство, словно меня не существует. Однако мне казалось, что, когда я говорила, он внимательно слушал звук моего голоса, пытаясь найти в нем какую-то правду. Куда девать глаза? В конце концов я решила смотреть на его пакол и не жестикулировать. Я говорила негромко и не очень экспрессивно: нельзя было его шокировать — успех нашей авантюры зависел от него.
Мой план был прост. За месяц до этого мы с ученицами сопровождали Шаисту в Джелалабад по ее делам. По дороге мы обогнали группу кучи, пуштунских кочевников, которые убегали от кабульской зимы в более теплый климат Наргархара. Не было ничего трогательнее младенцев кочевников с разноцветными пилотками на головах. Они сидели на спинах ослов. Чтобы не потерять их в дороге, родители помещали их между двумя большими мешками, в которых было собрано все их богатство. Дети постарше подталкивали стадо черных козочек, направляя их ближе к обочине, чтобы те не попали под колеса грузовиков. Иногда верблюд, украшенный помпонами, бросал на нас высокомерный взгляд. Мои ученицы не могли сдержать восторга при появлении женщин в платьях ярких тонов — зеленых, розовых, желтых. Им, девушкам Кабула, запрещалось носить такие. В их восхищенных глазах платья светились ярким фейерверком. Эти кочевницы были куда беднее горожанок. Однако их шеи были украшены тяжелыми серебряными цепями, а в ноздрях пестрели украшения. Их дочки подталкивали коз. Девочки были очень красивы — с тысячью мелких косичек, которые матери терпеливо заплетали, а потом покрывали засохшей глиной — фантастическое средство для того, чтобы уберечь волосы от палящего солнца и невыносимого холода…
Я рассказала Шахзаде о своем восхищении этими племенами, о своей мечте провести с ними несколько недель, разделить с ними жизнь на больших ветрах — и в зной, и в холод, — пересечь равнины, перегонять их стада по горным дорогам. Потом я вернулась к проекту. Надо было убедить моего собеседника. Нуждался ли он в этом? Его лицо оставалось непроницаемым. «Месье Моманд, мы не хотим вас заставлять. Не может быть речи о том, чтобы говорить о бедности этих кочевников. Мы хотим открыть для себя их мир и понять жизнь женщин племени кучи, познакомить с ними остальной мир».
Джамиля, казалось, поняла, что ничто не угрожает ее жизни. К ней вернулась ее живость, она защищала наш проект уже самостоятельно. Ее пухленькое лицо светилось, по ее тону я поняла, что она выступает от своего имени, как афганская журналистка, и ради женщин Афганистана: «Раис сахеб[15], эта француженка приехала помочь нам, и благодаря вам она протянет руку помощи нашему народу».
Он опустил глаза и глубоко задумался. Я обратила внимание на его длинные густые ресницы, красивый напряженный лоб. Его изящные руки не загрубели, как у других горцев, они казались нежными.
«Вы — первые, кто говорит мне об этом», — его голос был мелодичным, спокойным, твердым. Он делал паузы между фразами, как если бы не доверял словам. Может, он хотел просто быть понятным мне, западному человеку. «Я тебе верю, — сказал он Джамиле, — потому что ты — афганская женщина». Это было сказано без малейшего чувства превосходства. Иностранец, который приехал бы сюда с уверенностью в своей значительности, получил бы по заслугам. Но мне это нравилось. Это общество лишено комплексов, как, впрочем, и чувства превосходства. Это покоряло меня с каждым днем все больше.
В конечном счете он заверил нас в своей поддержке и защите: «С завтрашнего дня я буду вас сопровождать. Со мной с вами ничего не случится». Не было ли в этом излишней самоуверенности, учитывая положение в регионе? Поживем — увидим. Он добавил последнее условие: «Старейшины должны встретиться с вами, чтобы составить собственное мнение». Я шепнула своей переводчице: «Старейшины?» Да, белобородые, старики, воплощение мудрости и власти, которые поддерживают мир в деревнях. Они — память этого общества, где правила и секреты передаются из уст в уста, из поколения в поколение, с незапамятных времен.
Мы уже вставали, когда он спросил:
— Где вы разместились?
— В домике для гостей, — ответила я.
— Ни в коем случае, вы мои гости. Будьте здесь как дома.
Это необыкновенное гостеприимство афганцев смущало меня, так как я предпочитала работать в относительной независимости и свободно передвигаться. Мой отказ мог спровоцировать дипломатический скандал, но все же я рискнула: «Вы уверены в нашей безопасности здесь?» Я знала репутацию пуштунов, она имела под собой прочную основу. Его взгляд потемнел. Как я могла поставить под сомнение его слова? Он повторил свой приказ. Мы были его гостями.
Мы разместимся в просторной комнате на первом этаже, рядом с конференц-залом, а шофер и журналист на втором этаже — с мужчинами. Пока мы забирали Мерхию из машины, вытаскивали багаж, я шепнула Джамиле: «Если бы у меня был роман с таким мужчиной, как он, я бы вышла за него замуж и осталась в Афганистане». Она посмотрела на меня обескураженно.
Может, я бредила? Я была их учителем, а вела себя как девчонка. Но я не могла себя сдерживать, меня в прямом смысле обволакивало обаяние этого мужчины, который, впрочем, ничего не сделал, чтобы меня обольстить. Его поведение, его властность, его голос. Впечатление было таким резким и яростным, что мне нужно было выпустить пар, переполнявший меня. За секунду до того как этот человек произнес первое слово, я поняла, что он будет много значить для меня. И что это на всю жизнь.
В течение дня он несколько раз заглядывал, чтобы узнать, как мы устроились. Мы никогда не слышали, как он входил. Он не стучал в нашу дверь, а открывал ее и входил полноправным хозяином. Мне это нравилось. Слуга принес нам груду мягких шерстяных одеял. Они были совершенно новыми. Шахзада послал за ними на базар. Я знала о нехватке денежных средств, от которой страдала вся страна, в том числе и правительственные инстанции. Этот деликатный способ выразить нам свое уважение бесконечно тронул меня.
Глава 6 Признание
Я провела бессонную ночь. В голову лезли самые безумные мысли. Сколько бы я ни говорила себе: «Хватит! Это невозможно! Не он! Никогда», мой маленький внутренний кинотеатр продолжал демонстрацию фильма. В пять часов при первом пении муэдзина я встала с тяжелой головой. Мерхия и Джамиля спали глубоким сном. «Эй, девчонки, подъем!» Мы должны были уехать с ним на рассвете. В столовой, рядом с нашей комнатой, занавески были заботливо опущены, чтобы нас не было видно снаружи. Нам подали изысканный завтрак. Горный мед из Моманда лился рекой.
В шесть часов Шахзада Моманд-Хан не появился. В семь часов тоже. В семь тридцать он зашел, чтобы объявить нам, что очень занят, но после обеда поможет нам встретиться с людьми, которые нас интересовали.
Ни одного слова сожаления о том, что он испортил наш рабочий день. Шахзада удалился походкой, которая вчера так впечатлила меня. Но в этот раз я была в ярости. У нас было всего четыре дня для съемок, и мы не могли терять ни минуты. Может, и остальные дни недели будут так же потеряны? Ритм этого человека не подходил мне. Я бросила девочкам: «Зу[16], поехали! Будем снимать без него. Нам не нужно ничье покровительство».
Наша машина направилась к востоку. Очень быстро я поняла, что моя идея не была удачной. Мы захватили с собой маленькую камеру «Sony PD 150» — полупрофессиональную, скромную, с микрофоном на «ножке» — и несколько кассет. Оборудование достаточно легкое, оно позволит нам не раздражать этих странных людей при съемке. Поведение афганцев научило меня тому, что бесполезно пытаться управлять событиями, лучше оставить место для неожиданности, и тогда что-нибудь обязательно произойдет. Тем не менее при нашем появлении женщины исчезали в домах и больше не показывались. Поэтому мы снимали через опущенные стекла машины. Я пользовалась моментом, чтобы научить Мерхию и Джамилю съемкам в движении.
Некоторые деревни имели репутацию особенно опасных, их населяли сторонники Аль-Каиды. Но я не видела никакой опасности. Я не была на это способна, потому что все мои мысли были заняты яростью, которая, вместо того чтобы раствориться в работе, только нарастала. Я не прекращала ругаться. Я ворчала, если Акбар не вел машину достаточно быстро или был слишком неповоротлив. Я цеплялась к девочкам, которые болтали не умолкая; хотя на обратном пути они вели себя безупречно. Солнце садилось, когда мы въехали в ворота дома, в котором остановились.
Шахзада ждал на крыльце с суровым лицом: «Где вы были? Почему уехали, не предупредив меня?» Исчез его спокойный тон. Девочки опустили глаза. И, как ни странно, я уже не была так горда своим поступком. Он добавил уже более мягко: «Я обещал заняться вами. Но вы уехали, не предупредив меня. Это чрезвычайно опасно. Вы мои гости, и если с вами что-то случилось бы, я был бы ответствен за это».
Я забыла о том, что здесь правила игры отличаются от привычных. Как только объявили о нашем исчезновении, Шахзада послал людей по нашим следам. Они прочесали весь Джелалабад и ближайшие деревни. «Ищите их везде и приведите обратно. Среди них — иностранка, это опасно». Они вернулись ни с чем. Я проявила безответственность, которая могла стоить нам дорого.
Поворачиваясь, он сказал нам: «Идемте, нас ждут». Мы вошли в зал для собраний. Пятьдесят уважаемых бородачей ждали нас уже несколько часов. Шахзада, глава этих лидеров, человек, уполномоченный регулировать конфликты и следить, чтобы они не перерастали в кровавые, а потом и междуклановые преступления, привел сюда старейшин, которые спустились с гор, оставив все свои дела. А нас не было. Я сделала ужасную глупость, худшее из того, что могла сделать. Из-за меня он был поставлен в неудобное положение. Я сказала себе, что все кончено, я потеряла его доверие и он откажется помогать нам.
Стоя в своем толстом пуховике, со щеками, горящими от стыда, я пыталась взять себя в руки. Мужчины наблюдали за мной в тишине с другой стороны стола. Удивительная публика. Море огромных тюрбанов, недовольные или, напротив, доброжелательные лица, со смелыми глазами, несколько полуседых бород; они распространяли смесь брутальной силы и благородства. Их взгляды выражали спокойное любопытство. Они пришли, чтобы я рассказала им о своем проекте, и безмятежно ждали моей речи.
Я не имела права на ошибку. Эти горцы были чрезвычайно проницательны. Они поняли бы, искренна я или нет. Первым делом нужно извиниться и продемонстрировать свое уважение к их шефу. Мой головной платок был на месте, и я начала: «Прежде всего, я хочу извиниться перед вами, месье Моманд. Я не знала, что эти господа должны прийти, я сделала ошибку». Страх сжимал мне горло, я повернулась к Шахзаде. Сидя на другом конце стола, он, казалось, забавлялся. Конечно, я была смешной. Когда он начал говорить на пушту, все собрание засмеялось так громко, что даже портрет Хамида Карзая покачнулся. Может быть, Шахзада посмеялся над отвагой иностранок? Неважно. Буря утихла.
Он кратко объяснил старейшинам, чего мы хотим: «Задавайте им любые вопросы. Это афганки, вы можете им доверять». И с какой-то новой для него мягкостью подбодрил нас: «Ну, представьтесь, скажите все, что хотите, говорите с ними так, как говорили вчера со мной».
Я объяснила, для чего я приехала в Афганистан. Моим желанием было не просто снять фильм и уехать, но научить этих девочек работать с оборудованием. Джамиля переводила мои слова. Я настаивала на серьезности этого репортажа, сказала, что он будет сделан с уважением к их традициям. Я видела, что тюрбаны закивали.
Сконцентрировавшись на своей импровизации, я не обратила внимания на переводчицу. Я не заметила, что, войдя в комнату, где пятьдесят пар глаз уставились на нас, она побледнела и стушевалась. Не заметила, что она переводила мои слова и извинения дрожащим голосом.
Я поняла это позже. Она была тогда как на Голгофе.
Они к ней вернулись, ее кошмарные воспоминания, обладавшие собственной волей, более сильной, чем разум. Она не видела больше внимающих ей седовласых вождей. Ей мерещились искаженные от ярости лица тех, других, в черных тюрбанах. Ужасные слова, которые положили конец ее детству, раздавались в голове: «Мы убьем вас, мы убьем вас». Она начала дрожать, потом все поплыло у нее перед глазами. Думая, что она попросту под впечатлением, я подошла к ней, чтобы поддержать: «Спокойней, не нервничай».
Накануне, зная, что они с Мерхией в первый раз будут находиться среди такого количества мужчин, я готовила их к этому в нашей комнате. У девочек были свои убеждения, и я не хотела, чтобы эти мужчины приняли их всего лишь за прилежных учениц, повторяющих слова учителя.
Я шепнула Джамиле на ухо: «Ну же, ты сейчас всем докажешь, что ты можешь говорить, что можешь заставить их уважать себя». Она сумела взять себя в руки, уверенность вернулась к ней.
Я ждала трудного боя со старейшинами. Что же до моих учениц, они обе приехали сюда с уверенностью, что горские пуштуны — грубые и ограниченные люди. Но те были довольны, что мы решили дать слово их женщинам. «Нам бы хотелось, чтобы вы обучили кого-нибудь из наших женщин, если у вас будет время», — сказал мне самый молодой из мужчин. Другие благодарили Мерхию и Джамилю за их работу на благо афганцев. Наши предубеждения вмиг рассыпались. Один из стариков подождал, пока ропот смолкнет, чтобы обратиться к Шахзаде: «Мы согласны. Мы верим тебе, раис сахеб, а значит, доверяем и этим женщинам». «Добро пожаловать!» — сказал он нам.
Я рискнула бросить взгляд на Шахзаду: он выглядел довольным. Комната опустела, я подошла к нему и попросила прощения за свой проступок. Он взглянул на меня. «Не будем больше об этом», — сказал он.
Было ли это на самом деле или мне показалось, но в его глазах я увидела веселую искорку!
Было холодно. Несмотря на мягкий климат Джелалабада, который позволял жить без отопления, я не расставалась с пуховиком. В тот вечер я ужинала в том же «изящном» наряде. Наш шеф приказал накрыть стол на западный манер, со скатертью, приборами и стульями. Двойные тяжелые пестрые шторы были задернуты, чтобы защитить нас от холода. «Он принимает посетителей и присоединится позже», — предупредили нас. Несмотря на уговоры начинать без него, я отказывалась. Я совершенно не собиралась умножать свои «грехи». Но поскольку он все не шел, а мы были голодны как волки, я решила дать сигнал о начале пирушки. Мы набросились на салаты, напитки, лепешки и изумительный рис с дикими апельсинами. Он появился, сел у края стола, потом бросил в мою сторону: «Я весь день тяжело работаю, прихожу поздно, а ты меня не ждешь, чтобы поужинать».
Мерхия перевела. Я, изумленная, уставилась на свою тарелку. Как объяснить эту перемену тона? Но главным было то, что лед, казалось, растаял. Груз свалился с моих плеч.
Я не успела поразмышлять об этом, так как слуга поставил в центр стола кастрюльку с маленькими фаршированными птичками. Специально для нас шеф заставил поваров продемонстрировать все тонкости афганской кухни, которая, по его мнению, была лучше пакистанской. Странное это было блюдо. Птички были сварены в собственном соку. Посмотрев на девочек, я поняла, что Шахзада еще не завоевал их доверие полностью. Они присматривались к птичкам — бедняжкам с распростертыми крыльями и раздутыми брюшками. Казалось, их распяли на лету. Однако они оказались удивительно вкусными. Мне они напомнили фаршированных перепелок. Малюсенькие косточки хрустели на зубах и таяли во рту. Одним движением ножа я вспорола живот одной из птичек и увидела горячий фарш с изюмом. Девочки отказывались дотронуться до такой диковинки, они смотрели на нее безумными глазами. Им казалось, что они очутились у варваров, которые готовят птицу, не ощипав ее. Но как можно отказаться, не обидев нашего хозяина? Любой афганец знает, что лучше пострадать, чем быть невежливым. Девочки подчинились и решили последовать моему примеру. А потом не могли оторваться.
Кое-что заинтриговало меня: я не заметила никакого женского присутствия — ни в домике для гостей, ни среди прислуги. Я спросила: «Кто здесь готовит? Женщины?» И снова этот веселый огонек в глазах в сопровождении легкой улыбки, оживлявшей его обычно бесстрастное лицо. «Нет, у меня готовят мужчины. А женщины ужинают за столом…» Решительно, этот мужчина был слишком непонятным для меня. Он резко переходил от безразличия к сочувствию, от уверенного тона к насмешливому без каких-либо объяснений.
Потом, будто меня больше не существовало, он заговорил на дари с Акбаром и девочками. Они говорили очень быстро, взрывались смехом, забыв о своей настороженности. Шахзада говорил с ними очень естественно. Я им завидовала.
Я бросала на него осторожные взгляды. Сколько ему могло быть лет? Резкие черты, длинный нос с горбинкой, впалые щеки ни о чем не говорили. В Афганистане мужчины и женщины стареют быстрее, чем где бы то ни было. Но веселый взгляд, стройная фигура склоняли меня к мысли, что ему около тридцати. Густые черные усы, прикрывающие решительный рот, улыбка, появляющаяся все чаще и чаще, высокий лоб, коротко стриженные волосы на европейский манер. Ну, тридцать с хвостиком. Мне на десять лет больше. Лучше забыть. И однако… В тысячный раз я пыталась собрать воедино мелкие знаки внимания, которыми располагала, и, как бы неправдоподобно это ни звучало, мне казалось, что я его заинтересовала.
Я все больше убеждалась, что у меня наличествуют все симптомы влюбленной женщины. Озноб в ожидании встречи, сердцебиение при его появлении. В остальное время — мысли, занятые всевозможными мечтами. За столом говорили на языке, которого я не понимала. Убаюканная этим мелодичным шумом, я мечтала, пытаясь представить мост между нашими двумя непохожими мирами. Как он поступит? Что скажет? Единственный вывод напрашивался сам собой: «Это безумие. Успокойся».
Шахзада предупредил, что мы поедем завтра утром. Он будет сопровождать нас, чтобы обеспечить нашу безопасность. На пороге комнаты возник молодой слуга с кувшином. Поливая прохладную воду нам на руки, он бросал на нас беглые взгляды. Он никогда не видел женщин так близко, кроме матери и сестер. Как только омовения были завершены, Шахзада проводил нас до нашей комнаты, а потом пошел на собрание, где его уже ждали.
Убедившись в том, что никто не бродит во дворе, я вышла в парк. Я нуждалась в уединении. Было холодно, но я ничего не чувствовала. Я шла по пустынным аллеям, где чуть раньше видела его. Он ходил, держа руки за спиной, увлеченный разговором с каким-то мужчиной с выкрашенной хной бородой. С другой стороны сада, там, где росли розы, за стеной был его дом. Что он делал в этот момент? Стоял ли у окна? Смотрел ли на аллею, которая вела к домику для гостей? Пытался ли проникнуть в мои мысли, как я пыталась проникнуть в его?
На следующее утро, садясь в машину, я увидела вооруженного шофера Шахзады и двух его телохранителей, вооруженных большими пулеметами. Я поняла, какую панику посеяла моя вчерашняя безответственность. Шахзада ехал впереди на машине военного образца. Японский джип, предназначенный для нас, произвел впечатление на девочек. «Лучшая в Афганистане машина, — сказала Мерхия уверенным тоном, — очень современная». Машина Шахзады продвигалась вперед, расчищая путь, постоянно сигналя. Она ни разу не притормозила. Мне объяснили, что командиры всегда ездят так, по-гусарски, чтобы не быть убитыми в пробках. В нашем джипе нам было гораздо спокойнее.
Мне хотелось поскорее увидеть восточные земли — настоящее царство мака. Но в это время года на горизонте виднелись лишь поля риса и пшеницы. Декабрьское небо было ярко-голубым. Мы пересекали деревни, проезжая по хорошим дорогам и уютным улочкам. Кто бы мог подумать, что еще несколько месяцев назад они лежали в руинах, разрушенные двадцатью пятью годами войны? В этом обновлении можно было найти символ неистощимой энергии, направленной на продолжение жизни, когда-то остановившейся здесь.
Еще час, и мы наконец в маленькой деревушке с соломенными крышами. Старик приветствует нас неизменным «Салам алейкум». Несмотря на свое предварительное согласие и присутствие Шахзады, веселый бородач пытается помешать нам снимать женщин. «У нас, афганцев[17], женщины не показывают своих лиц по телевизору», — протестует он.
Та, с которой мы начали беседовать первой, прикрывала лицо платком. Мерхия пошла на обман: «Это не камера. Это просто аппарат для записи голоса…» У меня перехватило дыхание. Где она научилась этим маневрам? Уж точно не у меня. Однако же мы ушли оттуда без видеоряда.
Час езды навстречу солнцу по каменистой равнине, и мы — возле другой деревушки. Вдалеке паслись два буйвола. Шахзада вышел из машины. Я заметила, что он вытащил пистолет из кобуры, которую носил под мышкой. В каком гнезде мы оказались? Он пошел к деревенскому главе. Потом дал нам знак: «Можете идти, здесь у вас есть право снимать».
Я узнала представителей племени кучи. Женщины в переливающихся платьях, иногда расшитых серебром. Тот простой факт, что они не прятали лиц в присутствии иностранцев, говорил о том, что мы были у кочевников. Пуштунские традиции дают больше свободы тем, чья жизнь соприкасается с иноземцами. С приходом талибов племя было вынуждено бежать в Пакистан. Когда они вернулись, то обнаружили, что земли в долине Бамиана, где они пасли своих овец и буйволов, больше не принадлежат им. Исчезли и их верблюды, ставшие трофеями. Ни земли, ни стад, никаких средств к существованию… Нищета привязала их к земле. Мечта о новых дорогах и новых горизонтах мучила этих людей, рожденных, чтобы следовать за ветрами и временами года. Отовсюду гонимые, они заняли пустующие земли, которые дал им в пользование Шахзада. За несколько недель мужчины построили эту убогую деревню из соломы и глины. Несколько коричневых покрывал на соломенных лежанках напоминали о кочевом образе жизни.
К нам подошла потрясающе красивая женщина с золотым украшением в носу. «Я хочу поговорить с вами», — сказала она.
На огне томилось картофельное рагу. Разговаривая, женщина постоянно помешивала его. Она рассказывала о своей жизни, очень похожей на судьбы других женщин ее племени: «У меня нет ни масла, ни специй, которые можно было бы добавить сюда… Это все, что у нас есть. Мы лишены всего — школ, больниц. Наши дети ходят босыми. Наших мужей сейчас нет с нами. Мы не знаем, когда у нас появятся масло, мука… Каждый день — это испытание».
Город находился в двух километрах езды на машине: без мужчин они не могли купить даже куска мыла. Мужья ходили на рынок Джелалабада, возвращались поздно, практически с пустыми руками. Она вздохнула: «У нас даже нет денег, чтобы купить овощи». Но ничего жалостливого в ее облике не было. Наоборот, сияющая улыбка озаряла ее лицо, когда она говорила с нами.
К нам подошли другие женщины, их болтовня стала заглушать голос нашей героини. Джамиля повернулась к ним и поднесла палец ко рту, прося о тишине. Этот простой жест потряс меня. Каких-то шесть месяцев на курсах, и вот они снимают, увлеченные сюжетом, погруженные в процесс. Какая награда для меня!
На всякий случай я взяла вторую камеру, чтобы снимать самой — для подстраховки. Иногда мне приходилось переснимать их сюжеты. Было непросто от того, что мои познания в языках дари и пушту оставляли желать лучшего. Все ли получилось, соединилось? Нет ли дефектов изображения? Я была измучена всем этим и не замечала взглядов Шахзады, наблюдавшего за моей работой.
Существует много способов научить журналистскому мастерству. Но когда твои ученики оказываются перед трудностями, единственный способ реагировать — это помочь.
Я подошла к Шахзаде и сказала ему, что вернусь в эту деревню с продуктами. Он одобрил этот жест:
— Хорошо. Но еда — не приоритет. Я поищу для них на базаре шампунь и мыло.
— Это прилично? Не подумают ли они, что кажутся мне грязными?
— Они нуждаются в этом, — отрезал он. И добавил, что попросит купить для женщин пятнадцать отрезов ткани.
Когда мы были в Бамиане, после болезненной для меня исповеди Зейнаб я сказала ей, что мы вернемся сюда с едой. Она встретила эту новость с благодарностью, но без подобострастия, которое делает ситуацию неудобной для каждого — и берущего, и дающего. Она понимала, что это не будет предано огласке. Не могло быть и речи о том, чтобы это спровоцировало зависть других или слухи о том, что ей заплатили за съемку. В деревенской лавочке мы купили конфеты и шоколад, которые Зейнаб раздала своим детям. А еще для нее самой рис, сахар и мясо, вкус и вид которого она давно забыла. Ее сын пришел к нам ночью. Сделав несколько ходок туда и обратно, он перенес в свой дом все пакеты. Добыча нашла своего обладателя, не успев привлечь к себе внимания.
Ночь опускалась на поселок, освещаемый маленькими кострами, зажженными под котелками с едой. Пора возвращаться. Шахзада предложил нам сесть в его машину. Его телохранители, наш шофер и журналист, сопровождающий нас, пересели в нашу. Мы снова взбирались наверх. Я сидела за ним, в нескольких сантиметрах от его затылка, вдыхая исходящий от него аромат — легкий, немного сладкий.
Чтобы не потерять голову, я сосредоточилась на разговоре Мерхии с Джамилей: они говорили с Шахзадой уже без малейшего стеснения. Их тон изменился. Они продолжали обращаться к нему с уважением, но было очевидно, что они больше не стеснялись его. И как хорошие журналисты, от внимания которых ничего не ускользает, расспрашивали его. В чем заключается его работа главы комитета по делам племен в Нангархаре? Почему он решил помочь нам в работе над репортажем? Чем он занимался раньше? Шахзада отвечал охотно, с множеством деталей. Так, в разговорах, и прошла трехчасовая дорога до дома.
Прежде всего — и навсегда — он был момандом. Старейшины выбрали его главой племени. Из поколения в поколение его семья руководила момандами, этими горскими крестьянами, которые составляли одно из самых многочисленных пуштунских племен. Его отец, дед и прадед были уважаемыми вождями своего племени. И поэтому было вполне естественно, что, достигнув определенного возраста, Шахзада в свою очередь займет этот пост. Четыреста старцев, собравшихся вместе, так и порешили.
У отца Шахзады было пять жен и бесчисленное потомство. Некоторые дети умерли в младенчестве, другие погибли в войнах, раздирающих Афганистан на протяжении четверти века. Его жены, семья, крестьяне порой страдали от вспышек его ярости, но никогда он не поднял руки на своих детей. Нахмуренной брови было достаточно, чтобы привести в чувство провинившегося. Для 900 тысяч момандов Афганистана и Пакистана он воплощал в себе традиции и мораль застывшего во времени феодального общества. Он держал железной рукой пятнадцать пуштунских провинций, которые раскинулись вдоль пакистанской границы, победил «кровавого генерала» Хекматияра, заставил уважать президента Наджибуллу. Достигнув почтенного возраста, он отошел от дел, предпочитая остаться на бесплодной, каменистой момандской земле. Здесь он доживал свой век в тиши прилепившейся на горном хребте деревни.
Шахзада, сколько себя помнил, видел войну. Он был подростком, когда советская армия захватила страну. Его отец и другие мужчины племени взяли оружие и встали на борьбу с оккупантами. «Я не хочу, чтобы унижали мой народ», — сказал тот, кто был тогда во главе момандов.
Он очень любил свою мать — деликатную и нежную женщину. Это ей он был обязан своей стройной фигурой. После ее смерти ему страшно не хватало ее подмигиваний за спиной отца. К счастью, у него был брат от той же матери. Брат был старше на пятнадцать лет. Харизматичный и сильный, весь в отца. Он понял тоску младшего брата, разглядел в нем мужественность и воспитал как настоящего мужчину. Шахзада боготворил его и учтиво называл Момандом. В его понимании этим он оказывал брату почесть, достойную героя.
Отец наводил порядок в племени, Моманд руководил небольшой армией, а Шахзада тем временем, достигнув семнадцатилетнего возраста и закончив военное училище в Кабуле, стал ответственным за дела семьи из пятидесяти человек. Ему предстояло улаживать конфликты и находить для всех работу.
Потом, когда ему исполнилось девятнадцать, он должен был, как того требовал обычай, прикрепить цветок к своему паколу и заняться поиском жены. Но вместо этого на него свалилась еще одна, гораздо более тяжелая ответственность. Президент Наджибулла пожаловал его в полковники и назначил главой пограничных полицейских сил в Нангархаре, провинции очень сложной для поддержания порядка из-за близости к Пакистану, где активизировались силы, стремящиеся низвергнуть афганский режим.
Он предпочел бы продолжить учебу. Или повидать мир. Может быть, стать дипломатом. Его привлекала заграница. Но отец спросил его тогда: «Кто же займется нашим народом?» В этот день он сделался главой племени, и это стало его судьбой. А неведомые страны так остались для него загадкой.
Развернувшиеся в стране события привели к краху режима Наджибуллы. Гражданская война взорвала Кабул, а потом и другие крупные города. В 1994 году в течение трех месяцев, днем и ночью, на Джелалабад сыпались ракеты, разрушая дороги, ведущие в Пакистан. В аэропорт можно было проехать по единственной дороге, усыпанной осколками снарядов. В окрестных лесах не осталось ни одного дерева, в которое бы не попала пуля. Знаменитые на весь мир апельсиновые рощи были изуродованы и разграблены. Та же участь постигла и оливковые плантации. Однажды, когда готовилось вторжение, Шахзада собрал шесть тысяч повстанцев и оттеснил противника, пытавшегося подчинить себе восточную столицу. Но это была лишь одна выигранная партия. Три месяца спустя Джелалабад пал.
Насилие, война, смерть, бесконечные ограничения отразились на молодежи. Старший брат потерял ногу, подорвавшись на мине. Несколькими годами позже, будучи главой секретных служб, он был убит шестью выстрелами, когда направлялся к губернатору. Шахзада никак не выдал своих эмоций, не проронил ни одной слезинки. Ярость, которая не покидала его больше, исчезла, только когда он смог отомстить. Но боль осталась. Отныне две враждующие семьи были в расчете — по одному трупу у каждой. Вендетта могла остановиться на этом, но не исключено, что когда-нибудь у этой истории будет продолжение, ведь рассказы о «преступлениях крови» передаются от отца к сыну, из поколения в поколение. Кто знает…
В 21 год Шахзада стал старшим в большой семье. Во времена талибского режима он укрывался в Пешаваре, в перенаселенной квартире афганского квартала. Не имея возможности работать, он чувствовал себя бесполезным. Никем. Он предпочел вернуться и бороться с врагом, который опустошал его страну. Возглавив отряд из восьмисот мужчин, он охранял горы страны момандов. Ему помогал военный командир Наджи Кадир, присоединившийся к Северному Альянсу. И так шесть страшных лет, страдая от голода и холода, ночуя в пещерах на острых камнях, питаясь в лучшем случае кусочком хлеба за целый день. Ужасы войны, грусть от потери своих солдат было бы сложно пережить, если бы Бог, по его словам, не дал ему сил. Ведь Всевышний против узурпаторов. Не об этом ли говорится в Коране:
«Если кто-то использует Мое имя ради своей выгоды, он однажды обнаружит свое истинное лицо».
После ухода талибов Наджи Кадир, ставший губернатором Нангархара, предложил ему пост главы комитета по делам племен в провинции. Так в 32 года Шахзада стал одним из десяти вождей афганских племен. В течение года он разбирался с различными ситуациями, возникающими в отношениях между племенами, урегулировал конфликты между кланами, информировал правительство о нуждах школ, больниц, определял места для зимовки кочевников. «Именно в этот момент вы меня и встретили», — сказал он в заключение своего длинного повествования.
А потом появились мы со своим проектом. Он подумал, что, может быть, наш фильм поможет разрушить сложившийся во всем мире неблагоприятный образ пуштунов. Ведь талибы были пуштунами. Эти «разбойники» предали ислам и афганский народ. Кто мог простить такое преступление?
Таким был мужчина, который принял нас, — закаленный войной и уставший от нее. По правде говоря, я не поняла ни одного слова из его рассказа, но я была под впечатлением его голоса, сильного и красивого. Мои переводчицы занимались своим репортажем, но обещали все пересказать мне в спокойной обстановке нашей комнаты.
Шахзада повел нас в зал заседаний. Там на столе были приготовлены три пакета. В каждом был отрез ткани. Они были куплены для нас на базаре. Голубой был для меня, он подходил к моим глазам, как сказали мои ученицы. Я была смущена и отказалась взять его. Мерхия ужаснулась: «Прошу тебя, возьми, это наш обычай. Если ты откажешься, шеф обидится».
Не ломаясь, я приняла подарок. Меня накрыло волной эмоций. Никогда ни один мужчина не дарил мне ни ткани, ни платья, чтобы я стала красивее. Это был символический подарок, который наверняка лишит меня покоя. Шахзада настоял на том, чтобы я завтра же пошла на базар, где с меня снимут мерку и сошьют афганские одежды. Он отправит их мне потом в Кабул. Это будет завтра… Мы должны еще снять других представителей племени кучи, а потом вернуться домой.
Утром Шахзада снова попросил, чтобы мы сели в его машину. На этот раз он сам был за рулем, а меня попросил сесть рядом с ним: «Иди, твое место здесь». Я больше ничего не видела — ни неба, ни дороги, ни обочин.
Однако некоторые необычные сюжеты были достойны съемок. В небольшой тени фигового дерева — смиренный голубой силуэт, склонившийся над ивовой корзиной, в которой бьется в ужасе куропатка. Сколько времени эта женщина провела здесь, под палящим солнцем, в ожидании случайного автомобиля, который довезет ее до забытой Богом деревушки, расположенной на другом конце пустыни? В хижине на окраине поля парикмахер, склонившись над затылками, стрижет мужчин. Это картинка выглядела жизнеутверждающе. В лавке под открытым небом мясники отбиваются от мух, а разделанные туши баранов при каждом проезде автомобиля покрываются новым слоем пыли. Неприятное зрелище.
Нам предстояло преодолеть реку. С другого берега, наперекор бурному течению, к нам приближалась смешная переправа. Она напоминала нечто вроде катамарана: две большие моторные лодки были соединены между собой мостиком — идеальным местом для машин. Жестом Шахзада показал в направлении верховья реки. «Когда я был маленьким, мы переплывали ее, сидя в автомобильной шине и орудуя стальным прутом». Он улыбнулся приятному воспоминанию: «Это было рискованно, но быстро». Я смотрела на него, стоя на берегу. Его белая рубаха под коротким жилетом развевалась на ветру, на черных волосах — пакол. Я пыталась представить его ребенком: вооруженный рогаткой, засунутой за ремень, он бежит за бумажным змеем, как все маленькие афганцы. Так было до прихода талибов, которые запретили народу все развлечения.
Я начала понимать стремления того маленького мальчика, а потом и мужчины, в которого он превратился. Ведь все мы не живем сами по себе. В нас заключена та среда, в которой мы родились, город или деревня, где мы сделали свои первые шаги, колыбельная, которую слышали в детстве, игры, которые нас увлекали и помогали взрослеть. Все это создало нас такими, какие мы есть. Каждая подмеченная деталь служила мне ключиком от секретной дверцы к сердцу этого непроницаемого мужчины.
Мы ехали километр за километром под лунным небом, не встречая ни одной живой души. В машине установилась тишина. Джамиля и Мерхия, внезапно напрягшись, искали в горном пейзаже хоть какой-то признак жизни. Ни одного кучи на горизонте. Чахлые деревья и каменные холмы. Ничего другого, не было видно даже коз. За нами на джипе, в окружении телохранителей Шахзады, следовал наш водитель. Он не терял бдительности. Я узнала позже, что этому человеку, так долго прожившему в страхе, стоило больших усилий довериться пуштуну с гор. После того как мы оказались на другом берегу реки, Шахзада с едва уловимой гордостью в голосе объявил: «Начиная с этого места, я у себя дома. И здесь я делаю, что хочу». Мы были в стране момандов. В его руках.
Его страна простиралась от Джелалабада до реки Кунар на Севере и до Шаб Кадара в Пакистане на востоке. Он был хозяином этого горного треугольника, отгороженного от остального мира, — анклава, который был вне досягаемости правительства, полиции, талибов. Безразличные к внешней власти, моманды устанавливают свои правила под контролем глав деревень и кланов, для которых главным судьей выступает Шахзада. Эта независимость духа основывается на том постулате, что племя — это большая семья, иногда разделенная на части, где все внутренние дела не должны выходить наружу. Шахзада заверил нас, что его народ горд и независим, но миролюбив.
Наконец мы увидели пасущихся овец, потом детей, бегущих за нашими машинами. Палатки из грубой коричневой материи, натянутой на колышки, указывали на поселение кучи. Их перевозят на верблюдах и устанавливают на каждой стоянке. У этих людей еще было право на магию путешествия. У них были стада, которые они пасли в долинах и на лугах, и шесть палаток для шести семей. Мы приехали без предупреждения. Мужчины, казалось, считали большой честью для себя принимать своего вождя. Их жены были рядом — они не стояли в стороне и не казались растерянными, в отличие от тех, кого мы снимали накануне в деревнях. Некоторое оживление возникло после того, как мужчины велели женам приготовить еду. Потом снова вернулось безмятежное спокойствие.
Наше внимание привлекли две женщины. Они сидели под навесом, задрапированные в яркие материи. Старинные монеты на шалях отражали яркий солнечный свет, огромные колье из лазуритов и кораллов украшали шеи. На Мерхию их красота произвела такое впечатление, что она смотрела на них не отрывая взгляда. Множество вопросов, должно быть, пронеслось в ее голове, но один из них волновал ее, по-видимому, больше других, потому что она выпалила его первым: «А куда вы ходите в туалет?» Кочевница показала на бескрайние просторы за спиной: «В пустыне… Ночью».
Мои городские девушки, живущие в нищем и разрушенном городе, считали себя вполне цивилизованными. Мерхия сказала в мою камеру:
— Они живут, как животные.
— И едят то, что нам не пришло бы в голову съесть, — добавила Джамиля, без сомнения, самая рафинированная из всех моих учениц.
Одна из кочевниц опиралась на какой-то предмет, накрытый покрывалом. Заинтригованная Мерхия спросила, что та прячет. Ничуть не удивившись, как будто она только и слышала подобные вопросы, женщина подняла покрывало и продемонстрировала автомат Калашникова.
— Для чего он вам?
— Чтобы защищаться от волков и людей.
Накануне волк убил здесь трех овец.
— Никогда не знаешь, что может приключиться с нами, — заметила самая старшая женщина хриплым голосом.
В глазах двух начинающих журналисток отразилось восхищение.
По возвращении Шахзада сказал, смеясь: «Хватит говорить обо мне на этот раз. Ваша преподавательница уже много знает обо мне. Теперь моя очередь задавать ей вопросы». Его шофер занял свое место у руля, я — свое, позади, с Мерхией и Джамилей. Они забавлялись, переводя слова шефа. Мне же было не до шуток. Что-то необъяснимое произошло в этой машине, то, что привлекает друг к другу любящих людей. Шахзада задавал вопросы, не отрывая глаз от дороги. Он слушал мои ответы. Но ни разу не посмотрел на меня. Нас так трясло на неровной дороге, что иногда, для того чтобы сохранить равновесие, я цеплялась за баранью шкуру, покрывающую его сиденье. Он начал, не раздумывая: «Она замужем?» Такое начало в любой другой стране смутило бы меня, но в Афганистане это было частью ритуала. Потом он спросил, почему я не вышла замуж. Афганцы уверены, что все западные женщины свободны от предрассудков, тогда как для них высшей ценностью являются честь и целомудрие. Мне нужно было взвешивать каждое свое слово: «Я не встретила мужчину, с которым мне хотелось бы построить семью».
— Какого мужчину ты ищешь?
С чего он взял, что я ищу мужчину? Это было вполне в духе пуштунов, которые полагают, что женщины созданы для замужества, а если они еще одиноки, то мечтают о браке. Для меня же реальностью было то, что я больше никого не искала, никого не ждала. Сама мысль об этом растворилась в потоке рабочих будней, и я смирилась. Я мечтала о простой и одновременно сложной вещи — о большой любви, единственной, взаимной, настоящей. Может, я установила слишком высокую планку? Но это не мешало мне иметь представление об идеальном кандидате. Повысив голос, чтобы перекричать рев мотора, поскольку в этот момент мы проезжали каменистый участок дороги, я произнесла: «Мне нужен мужчина с простыми ценностями — верный, порядочный, смелый…» Я умирала от желания добавить: «Такой, как вы».
Зеркало заднего вида отразило его улыбку: «Может быть, поэтому ты не можешь выйти замуж… Ты уже встретила кого-нибудь?» Деликатный момент. Но, не дождавшись моего ответа, он добавил: «Ты хочешь иметь детей?»
Он не мог представить, до какой степени! Я хотела выйти замуж, родить детей, я хотела этого, как и все остальные. Я хотела бы иметь большую, дружную семью, не похожую на ту, что была у меня.
В ответ я услышала предложение, совершено нелепое для влюбленной женщины: «Если ты согласишься, мы можем сделать следующее. Я женат, но ищу вторую жену. Ты же ищешь мужчину. Поэтому я помогу тебе в поисках мужа, а ты мне — в поисках жены».
Это было слишком для одного раза. Я узнала, что мужчина, который мне нравится, женат, что он желает быть многоженцем и просит меня озаботиться этим, а в обмен на услугу найдет мне мужа. Посмотрев краем глаза на своих товарок, я поняла, что они предпочли бы оказаться сейчас в другом месте. Не желая принимать все услышанное всерьез, я все-таки поинтересовалась своими шансами:
— Тебе нужна молодая жена?
— Нет, не обязательно. И не красавица… Мне нужна образованная женщина.
Я почувствовала разочарование.
— А мог бы твой муж быть афганцем? — спросил он нейтральным тоном.
Мне не нравилось то, в каком направлении пошла наша беседа. Шахзада не обращал внимания на мои чувства к нему, он играл, ставя меня в неловкое положение. Я ненавижу манипулирование эмоциями людей. У меня не легкий и не шаловливый характер, о чем мне иногда приходится сожалеть. Моя ярость нарастала. Нужно было поставить его на место сейчас же. До нашего прибытия я не произнесла больше ни слова.
Выходя из машины, я попросила Джамилю: «Ты останешься с ним на две минуты и скажешь: "Мне нужно кое-что сообщить вам о Брижитт. Это серьезный человек, который здесь ради работы, а не для чего-то другого. Если вам нравится шутить над ней, лучше прекратить это немедленно"».
Из окна комнаты я могла наблюдать свою посланницу. Она разговаривала во дворе с шефом, на мой взгляд, слишком долго. Что там происходит? Придя ко мне, она улыбнулась: «Сегодня вечером он зайдет, чтобы поговорить с тобой». Невозможно было выпытать у нее подробности.
Шахзада пришел после ужина. У него был усталый вид. Он объявил девочкам: «Мне нужно поговорить с Брижитт». Мы вышли на веранду гостевого дома, сели за стол. Он подождал, когда мальчик, разливающий чай, удалится. Каждое слово он произносил с таким трудом, будто его жизнь зависела от этого:
— Я нашел мужа для Брижитт. Этот мужчина живет в горах. Он беден. В его доме нет ни воды, ни электричества, ни телевизора. Ничего…
Джамиля переводила фразу за фразой. Потом наступила пауза. Я не верила, этого не могло быть. Неужели он нашел для меня кого-то другого?
Он продолжил говорить очень медленно, так, чтобы Джамиля могла перевести каждое слово.
— Этот мужчина женат… У него есть жена… И дети… На сегодняшний момент у него высокое социальное положение… Но может случиться, что завтра у него ничего не будет…
У меня задрожали ноги под столом, это не поддавалось контролю. Я почувствовала, как чье-то колено накрыло мое. Это была Мерхия. Она смотрела на меня с беспокойством и хотела, чтобы я прекратила этот нелепый танец. Она тоже поняла: мужчина, о котором он говорил, это он сам — Шахзада.
Впервые после нашей встречи он смотрел мне в глаза:
— Ты сможешь доверить свои чувства человеку, которого полюбишь по-настоящему?
Он ждал моего ответа, прежде чем продолжить. Каким бы невероятным это ни казалось, он собирался сделать мне предложение. Ему было непросто в этой ситуации, но я никак не могла облегчить его участь.
— Нет, я не смогу, пока он не сделает признание первым.
— Но почему? Ты же иностранка, ты можешь сделать это.
Внутренний голос говорил мне: «Помоги ему, он в растерянности». Но, к сожалению, я не могла произнести ни слова. Я чувствовала, как он борется с собой, чтобы продолжать:
— Ты сможешь принять такие условия жизни? Это непросто. Хочешь ли ты выйти замуж за этого мужчину?
Еще никогда я не была так близка к смерти. Не понимаю как, но я произнесла:
— Да. Но прежде чем выйти замуж, мне хотелось бы встретиться с ним. Кто этот мужчина?
— Это я.
Он собрал все свое мужество, рискуя быть публично отвергнутым. Он произнес это на одном выдохе тоном молодого взволнованного мужчины.
Он сказал мне слова, которых мне никто никогда не говорил. Он полностью мне доверился. Эта страна подарила мне никогда ранее не испытанные сильные эмоции. Я чувствовала себя способной тут же ехать в горы, куда угодно, лишь бы с ним. В нем было все, о чем я мечтала, но уже не надеялась найти. Я сказала ему об этом слабым голосом. Его лицо просияло, я увидела его горящие, словно солнце, карие глаза. Я была так счастлива, что молча поблагодарила жизнь. Все как в сказке: получить предложение руки и сердца в тот момент, когда, казалось, все кончено; чувствовать, что твое сердце бьется, как никогда прежде…
Сначала Мерхия заговорила со мной таким тихим голосом, что ее едва было слышно. Но потом начала протестовать так сильно, что ее невозможно было игнорировать.
— Брижитт-джан[18], что ты делаешь? Мы с Джамилей — афганки, но никогда не согласимся выйти замуж за мужчину, живущего в горах, и не поедем жить в деревню. Как ты, француженка, собираешься жить в условиях Средневековья?
Похоже, она была сильно шокирована. Джамиля, казалось, не соглашалась. «Ну да… да…» — повторяла она мечтательно.
Сидя плечом к плечу за огромным столом, они напомнили мне мировых судей. Шахзада, похоже, относился к ним очень серьезно: он объяснял им, рассматривал ситуацию с разных сторон. Их разговор продлился больше часа. Он хотел, чтобы у меня было время подумать о нашем союзе. Наши отношения не должны были получить развитие, до того как я побываю в его деревне. Он хотел также, чтобы я познакомилась с его женой. Я совершенно не возражала, к тому же это было неизбежно, — и я согласилась.
Я оставила их общаться втроем — меня ничего больше не интересовало. Я приняла решение и мысленно отдалилась. Я размышляла. Нам предстояло решить множество мелких проблем, пока они не переросли в большие. А они не заставят себя ждать, учитывая необычность ситуации. Мы даже не говорим на одном языке. Я решила оставить ему тетрадь, в которую он будет записывать свои мысли на пушту или дари, а в Кабуле мне потом все это переведут. Как же рассказать ему о моих чувствах прямо сейчас, как заверить в твердости принятого мной решения? Я сняла с шеи золотую цепочку, тоненькую, немного потертую, которую я носила много лет, и протянула ему. Он был тронут: «Манына, дера манына»[19]. Потом долго рассматривал ее, как будто в его руках было несметное сокровище. Мне тоже хотелось иметь что-нибудь из его вещей, чтобы, вернувшись в Кабул, я смогла прикасаться к ней и чувствовать его запах. Я показала на каштановый пату, который укутывал его. Шахзада пообещал, что он будет моим.
Я проводила его до стены, которая разделяла наши дома. Мы пересекли парк, наши компаньонки сопровождали нас. В момент прощания он не приблизился ко мне, не обнял. Стоял без движения. Потом сказал, что придет повидаться со мной завтра на рассвете до своего отъезда в Кабул.
Атмосфера в нашей комнате была необычной. Все мы были взбудоражены. Джамиля пребывала в задумчивости, потом пробормотала: «Брижитт… Я тоже влюблена». Что? Джамиля влюблена? «В парня из Кабула… Мои родители не в курсе». Теперь я поняла ее торопливое одобрение моего согласия выйти замуж за Шахзаду. Я повернулась к Мерхии, сидевшей на кровати. Она расчесывала свои длинные черные волосы. «А ты, Мерхия, влюблена в кого-нибудь?»
Она вмиг перестала орудовать щеткой. Улыбка исчезла, внезапно она показалась мне сильно постаревшей. «Не думаю, что когда-нибудь смогу полюбить мужчину, Брижитт-джан. Мое сердце умерло вместе с матерью… Знаешь, есть цветы, которые растут и распускаются на деревьях. Сильный дождь сбрасывает их на землю, где они вянут и умирают. Так вот, я была таким цветком. И когда моя мама умерла, я упала на землю». Я сказала ей, что однажды она почувствует, что ее сердце бьется ради любви. Она наморщилась, выражая сомнение.
Но потом веселье внезапно вернулось в нашу комнату, и девочки стали прыгать от радости за меня. У афганцев есть удивительное, на мой взгляд, свойство: испытывать противоположные эмоции на небольшом отрезке времени. Потом они нанесли мне макияж, чтобы сделать фотографию и обессмертить этот день.
Будильник прозвенел в три утра. Я уже поднялась, торопясь сделать свои сто шагов по веранде, несмотря на холод. Дверь осторожно открылась, пучок света от торшера разогнал темноту. Это был он, завернутый в свой пату. Шахзада, казалось, держал еще большую дистанцию, чем накануне. Впервые мы были одни, без свидетелей. Мы шептали слова, которых ни один, ни другой не понимали. Он медленно снял накидку и протянул мне. Это не было покрывалом из грубого льна, какие носили в Панджшире. Эта была мягкой, из тонкой ангоры. Я собиралась сказать ему, что счастлива, оттого что повстречала его, но он закрыл мой рот поцелуем. Первым. Коротким.
Потом он уехал.
Глава 7 Шахзада
Бог послал ему эту женщину. В ту самую секунду, когда он увидел ее, он почувствовал себя умиротворенным, не понимая почему. Но он знал, когда полюбил ее.
Она держалась прямо и с достоинством перед седобородыми старцами. Высокая, словно каменная статуя. Ее светлые волосы были покрыты косынкой. Она не обращала на него никакого внимания. Звучным голосом, в котором было столько эмоций, она произносила слова, которые он ждал услышать. Она покорила его своей уважительностью, так мило соединившейся в ней с беззастенчивостью иностранки.
Он полюбил ее, когда перед собранием старейшин она продемонстрировала мужество, достойное мужчины. И у него, Шахзады, появилось ощущение, что его сердце раскололось пополам.
Это и есть любовь? Ему было знакомо желание, но еще никогда он не испытывал страсти, не ожидал того, кто занимает твои мысли и днем, и ночью. В мире, где он жил, любовь — ошибка, а само это слово — табу. Пуштуны не женятся по любви, не выбирают себе жен сами. И никогда не выказывают публично своих чувств к ним, даже перед близкими.
Золотистые волосы, жизненная сила этой женщины покорили его. Очень скоро он влюбился в ее голос. Он мог бы отказаться от многого в жизни, только бы слышать этот голос — красивую и сильную мелодию. Она перевернула его, перечеркнула прошлое, освободила от агрессии, избавила от напряжения, которое постоянно мучило его.
«Мохабат»[20]. Он повторял это слово много раз: «Мохабат». Любовь, поразившая его, пришла в тот момент, когда он начал искать себе вторую жену. Годы войны в горах остались в прошлом, пришло время отпраздновать пришедший сюда мир, пусть пока еще хрупкий. Отпраздновать с женщиной, которая будет с ним рядом. Он нежно любил свою первую жену, уважал ее. Но она жила в горах, озабоченная делами на ферме. Она родила и вырастила семерых детей. Сейчас ему нужна женщина, которая жила бы лишь для него одного, образованная женщина, способная открыть для него мир.
Эта иностранка должна была уехать — время торопило. Он столкнулся с неразрешимыми проблемами, но, как бы ни разворачивались события, у него не было времени на соблюдение принятых в афганском обществе условностей: с какой семьей встречаться, с кем из клана договариваться о свадьбе, как сообщить ей о своем намерении? И потом, нравится ли он ей? Она не была пуштунской женщиной, готовой подчиняться, она никогда ничего не сделает против своей воли. Он видел ее в гневе, поэтому и не строил иллюзий.
Он не хотел ни пугать, ни неволить ее. В течение долгих совместных ужинов он наблюдал за ней, пытаясь уловить ее интерес, но все указывало на то, что она видела в нем лишь посредника, помогающего им в работе, ничего больше.
Очень помогли девочки. Его интерес к их преподавательнице не ускользнул от их глаз. Однажды вечером, после возвращения из экспедиции, его возлюбленная попросила учениц передать ему, что пора прекратить играть с ней. Он воспользовался случаем и осмелился спросить у них: «Вы ее хорошо знаете… Что вы думаете о ней?» Их лица просияли. Мерхия, которая напоминала ему перепелочку, живую и веселую, воскликнула: «О, она нас всему научила. Она — наше электричество, без нее мы никогда не увидели бы света!» Они любили ее, всему у нее учились.
Его беспокоил еще один момент, в отношении которого традиция была непреклонна. Но он колебался. Джамиля казалась ему слишком молодой, чтобы обсуждать это, но кого же еще он мог спросить? Обычно сведения такого рода — прерогатива женщин. Но он хотел знать. Понизив голос, он спросил на дари:
— Скажи мне… были ли у Брижитт другие мужчины? Девственна ли она?
— Это просто любопытство или серьезно для тебя?
Малышка нахмурила брови с видом разгневанного цензора. Очевидно, эта женщина умела выбирать себе телохранительниц.
— Она мне нужна! — сказал он, негодуя. — Да, я хочу сделать ей предложение!
— В таком случае знай: если у нее и были другие мужчины, что мне безразлично, она не стала от этого менее порядочной. Если ты любишь ее по-настоящему, ты должен принять это.
Он долго размышлял. Люди будут судачить о них. Но любовь придала ему силы.
— Хорошо. Я принимаю ее такой, какая она есть.
Джамиля пообещала, что поможет ему объясниться с Брижитт.
Невероятно, но эта женщина, по поведению которой ни о чем нельзя было догадаться, любила его с самого первого мгновения их встречи. Мохабат. Она приняла все условия: его жену, детей, ферму в горах — все, не ставя никаких условий. Он был счастлив. Но вместе с тем понимал, на что обрекает ее. От этой мысли ком подступал к горлу.
Она встречалась с кучи, снимала их нищету, как и бедность хазарейцев в Бамиане. Однако она не могла представить, насколько он был нищ. Она не подозревала о том, как живет женщина в кругу семьи, как подавляется ее жизнь в деревне. Ему же было хорошо об этом известно. Если он женится на ней, она должна будет подчиниться правилам племени. Это было немыслимо.
Существовало еще одно препятствие, о котором он ей ничего не сказал. Его окружали враги — по линии кровной мести и политические, которые преследовали его в течение многих лет; может быть, даже наблюдали за ним в этот самый момент. У него всегда было предчувствие, что он умрет молодым… Какое же будущее он может дать этой сильной и свободолюбивой женщине?
По сути, она была, как те синицы, которые жили в вольере у него в парке. Он часто ходил смотреть на них, и не было ничего приятнее, чем слышать их щебетанье или видеть их спящими в рядок на одной ветке. Зимой он переносил их в теплое место, а летом — в прохладное. Они были ухоженны, любимы, но при этом не были счастливы. Ничего странного, ведь они жили в клетке. Брижитт повторит их судьбу. Если он женится на ней, однажды ему придется покинуть ее навсегда. Его сердце сжалось.
Он никогда не уедет отсюда. Он рос здесь, идя по стопам отца, следуя за ним по стране моман-дов — пешком, верхом на муле или в машине. Он спал под открытым небом, шел часами под раскаленным солнцем, делил глоток воды с другими путниками. Он любил эту землю всей душой. И даже если иногда его тянуло за горы, к неведомым морям, океанам, городам, он всегда возвращался к этому пейзажу, потому что все, что делало его счастливым, находилось в этих пределах. Ничто в мире не могло сравниться с величием этой долины камней, плоской, словно ладонь, напрочь лишенной деревьев и кустарников, но каждой весной покрывающейся ковром из диких цветов буквально за несколько часов. Никакое другое небо не пленит своим звездным небосводом так, как это бывает момандскими ночами. Ни один город не обладает такой чистой красотой, как поселения торчи. А чего стоят вырытые в земле улочки племен кабри? И какой другой ветер принесет ему острый приятный запах эвкалипта, смешанный с пылью? Он знал. Знал наверняка: больше нигде он не сможет наблюдать за движением солнца — от восхода до заката. Вот что говорил он себе, усмиряя мечты о бегстве, которые все еще посещали его иногда.
Ночью, когда наконец разошлись последние посетители, он уединился в своей комнатке и открыл большую тетрадь, которую она подарила ему, чтобы он мог записывать свои мысли. С чего начать? Сидя на матрасе под светом неоновой лампы, он писал правду. Он не хотел, чтобы их свадьба повредила этой женщине.
«Брижитт, мое сердце переполняется любовью к тебе. Я счастлив, что ты решила провести со мной остаток жизни. Но я хочу, чтобы ты знала, что существуют две разные жизни: одна — городская, другая — деревенская. Разница между ними огромна, как та, что разделяет ночь и день. А наши ночи очень темные.
Ты родилась свободной как птица. Но, попав однажды в сети, некогда вольная птица должна забыть все, что было с ней раньше…»
Так он и писал до самого утра. Он закончил свое длинное письмо с первыми напевами муэдзина, приглашающего правоверных к молитве.
Глава 8 Танец радости
В небе мирного Кабула нескончаемый балет самолетов и вертолетов заставлял дрожать отныне только оконные стекла. В декабре 2002 года международное военное присутствие было сильнее, чем когда-либо. Баррикады вокруг офисов и жилых домов, состоящие из колючей проволоки, мешков с песком, бетонных плит, росли с каждым днем и охранялись вооруженными людьми.
Я оставила свои мечты в Джелалабаде и покинула Шахзаду, пообещав, что мы увидимся через месяц. Контраст между необъятными просторами Нангархара и этим городом, зажатым среди скалистых гор, слишком уж грубо возвращал меня к реальности. Жить в Кабуле было все так же нелегко, несмотря на постоянные улучшения, которые скрашивали здешнее существование. Конечно, по-прежнему надо было ходить по грязным улицам с канализационными стоками. Но местный базар уже снабжал посетителей фруктами и овощами. Естественно, цены взлетали, если покупателем был иностранец. Чуть дальше, в престижном районе Шахр-е-Нау, открывались новые магазины — настоящие пещеры Али-Бабы, переполненные хозяйственными товарами. Миксеры, стиральные машины, печки, сервизы из Китая и стран Персидского залива напоминали нам о забытых чудесах общества потребления. Что до маленьких магазинов сантехники, их товаров не постыдились бы шикарные отели в Дубаи. Великолепные стеклянные раковины, позолоченные и инкрустированные бриллиантами обойные гвозди и краны в форме лебединых шей, джакузи. Тем не менее простой афганец, желающий купить электрочайник, вынужден был довольствоваться подержанным экземпляром. Для него жизнь по-прежнему была тяжелой. Он выкручивался, работая в двух-трех местах. Наиболее везучие, бюджетники, зарабатывали 50 долларов в месяц. Взлетевшие цены на жилье вынуждали людей жить несколькими семьями под одной крышей.
Не прошло и года, как полмиллиона беженцев вернулись из Пакистана на переполненных грузовиках. Они обнаружили, что у них не было больше земель для пашен, не было рассады, инструментов. У них все украли. Те же, кто стоически пережил талибский режим, не могли выжить в своих деревнях после четвертого года засухи. Все они скапливались на кабульских окраинах, привлеченные возможностью найти временную работу, а их земли в это время оставались заброшенными. Поэтому простой афганец питался, благодаря гуманитарной помощи, импортной пшеницей и бразильскими курами. И считал, что ему еще повезло.
Посреди всех этих трудностей «Айна» продолжала процветать. Энергия организаторов воплощалась в различных проектах. Вновь заработал на полную мощность сатирический журнал «Замбилье-Гам», который в эпоху талибов распространялся тайно. Его создатель Осман Акрам сначала размножал его с помощью ксерокопирования, но потом, когда копировальные машины стали редкостью, переписывал экземпляры от руки. Акрам всегда находил смешные темы в том мраке, в который погрузилась страна, — установленные бородачами запреты на ношение скрипучей обуви, на продажу музыкальных кассет. Потом появилась женская газета «Малалай». Наш телевизионный сектор развивался благодаря сподвижникам, которые постоянно приезжали на короткий срок и давали мастер-классы.
Иностранцы, живущие в Кабуле, уже потихоньку готовились к рождественским праздникам, когда 19 декабря случился теракт. Эльза Леруа, обучавшая монтажу девушек-операторов, журналист Эрик Коревитц и Хабибула Шахими, державший маленький гастроном в самой «Айне», отправились в немецкий госпиталь. Они ждали своей очереди в холле, когда мужчина, сидевший рядом с ними, взорвал бомбу, которую прятал под курткой. Хабибула умер на месте, Эрик был ранен. Эльза обошлась без единой царапины, во всяком случае на теле. Они стали первыми жертвами атак террористов-смертников против международных сил поддержки безопасности (ISAF[21]) в Кабуле.
Это постоянное присутствие опасности должно было бы переубедить меня. Но нет, я собиралась поехать со второй группой учениц снимать наш короткометражный фильм об афганских женщинах. На этот раз мы собирались в Герат, на северо-запад страны. Власти настойчиво советовали не путешествовать ночью, даже в окрестностях Кабула, так как могло произойти худшее. Поэтому мы — Шекиба, Халима и я — сели на самолет
Герат на границе с Ираном — один из самых консервативных афганских городов. Здесь женщины по-прежнему носили чадру, не имели права голоса, а мужчины слишком боялись репрессий, чтобы разрешить им встречаться с нами. Если бы женщины добровольно согласились говорить перед камерой, их бы избили. Всего в часе лета от Кабула вооруженные командиры, близкие к талибам, еще обладали властью и угрожали семьям смертью в случае неповиновения.
Мы ездили по улицам на машине, не осмеливаясь снимать. Несмотря на риск, Халима и Шекиба отказались покрыть голову, возмутившись даже, что я им это предложила для их же безопасности: «Мы — журналистки. Как мы можем работать в чадре?!»
Нам удалось взять интервью у одного врача. Его лицо светилось добротой. У него было столько работы, что он не знал, за что хвататься. Каждый день к нему приходили на прием плачущие женщины, которые не могли заплатить за лечение. Их мужья не работали, многие мужчины здесь были наркоманами. Добрый доктор лечил бесплатно эти бедные создания, которые с утра до вечера искали, чем бы прокормить себя и детей. Затем незаметно клал в их ладони несколько афгани. Жалкие усилия, поглощенные океаном нищеты.
Он указал на пациентку, которую обследовал, когда мы пришли. Ее чадра была откинута назад, лицо открыто. «У нее семеро детей. Вы можете легко представить ее судьбу в Афганистане: без образования, жизнь впроголодь, плохое здоровье». Он посмотрел в камеру и произнес дрожащим голосом: «Во имя Бога, во имя человечества, мы должны найти решение!»
Как Джамиля в пещере Бамиана, Шекиба слушала с глазами, полными ужаса. Потом она спрятала лицо в платок. Она хотела укрыться от объектива моей камеры, направленной на нее.
Были ли мы подвластны вуайеризму, этому журналистскому искушению? Я не знаю. Я знаю только, что мы могли предложить этим женщинам лишь сочувствие, немного поддержки, ничего больше. Но, слушая, снимая их, смешивая наши слезы с их слезами, отдавая им частичку себя, я надеялась, что это разделенное страдание, кем-то наконец признанное, зародит в них какую-то надежду.
Сразу после возвращения в Кабул я переслала Шахзаде через таксиста вкусные пирожные из Герата — хрустящие, с фисташковой начинкой, — а также белый пату. Он написал мне в ответ: «Это как если бы ты подарила мне целый мир!»
Что он знал о целом мире, чтобы сравнивать его с тремя пирожными и шерстяной накидкой? Наверняка впервые в жизни женщина делала ему подарок.
Как и все влюбленные, мы понемногу узнавали друг друга. В нашем случае все было сложнее. У нас не было общего языка, если не считать язык взглядов. К тому же жили мы в шести часах езды друг от друга. Как я жалела о том, что здесь больше не было почтовых голубей и воздушных змеев, этих посланников любви, исчезнувших в эпоху талибов. К счастью, оставались такси. По мере надобности они служили посыльными между Кабулом и Джелалабадом.
Письма Шахзады меня умиляли. Они показывали честного, доброго, сильного и нежного мужчину, обладавшего внутренним светом.
У меня был тайный ритуал. Каждое утро я вставала очень рано, пока в холодном доме для гостей все еще спали. Я зажигала камин в гостиной, брала стул, садилась у разгоравшегося огня, закутавшись в пату Шахзады, который хранил еще его запах, исчезающий с каждым днем. Закрывала глаза, концентрировалась на его умиротворенном лице, представляла его; и когда оно появлялось, улыбающееся, запах становился сильнее и явственнее. Только тогда я читала и перечитывала его послания, переведенные для меня. Шахзада писал много, простым языком. В его последнем письме говорилось: «Пока еще ничего не произошло между нами, как только ты вернешься из Бадахшана, я повезу тебя в свою деревню».
Действительно, последняя часть нашего фильма должна была сниматься в Бадахшане, с другой стороны Гиндукуша, на самом севере страны. На карте эта горная провинция походила на огромную голову барана, пытающуюся просунуться на территорию величественного Таджикистана. Отец Мерхии был и в самом деле бесстрашным: он разрешил дочери поехать в царство бузкаши[22], в степи, куда не ступала нога ни одной афганки — ни аристократки, ни крестьянки. Шекиба также снова смогла уговорить свою мать. Потом Полли спросила меня: «Почему ты не возьмешь Гуль Макай?»
Я ее забыла, мою сдержанную ученицу, хроменькую и мрачную. Я умирала от усталости. Зачем еще и ее вешать на себя мертвым грузом в высокогорной экспедиции, которая могла стать последней? К тому же я решила, что в этот раз мы будем передвигаться на лошадях.
Но Полли настояла. Она привязалась к Гуль, считала, что это единственный шанс оживить ее: «Она не осмеливается сама попросить тебя». Ну что ж, попробуем.
Мы приземлились в Файзабаде, столице Бадахшана. И снова — ни одного женского силуэта на улицах, где еще недавно царили вооруженные моджахеды. Торговля чадрами была не самым выгодным делом, если верить круглолицему продавцу тканей, который жаловался на разорение своего некогда процветавшего магазина. Он так вздыхал, казался таким удрученным среди всех этих тканей, что казался смешным. Во времена Талибана торговля шла бойко, он продавал чадры по тридцать штук в день, но сегодня они никому не нужны!
Так как нам предстояло встречаться с мужчинами, я поручила Мерхии пойти на базар и поспрашивать о местных традициях, касающихся ношения чадры. Гуль Макай запишет звук, пока я буду снимать. Подступы к базару были завалены снегом, нужно было преодолеть сугробы, уличную грязь, обойти нагруженных мулов и, наконец, пробраться сквозь толпу. Я была поглощена съемкой крупных планов, потом подняла голову, посмотрела вокруг… Мерхии не было. Боже мой! Куда она запропастилась? Я заметила толпу бородатых таджиков, черноглазых, с кустистыми бровями. Что происходило за этой людской стеной? Я бросилась туда. Маленькая Мерхия стояла среди них. Один из мужчин, еще довольно молодой, рассматривал ее цветастый платок, который лишь слегка прикрывал волосы, ее накрашенные лаком ногти. Понятно, что он не одобрял того, что видел. Мерхия поднесла ему микрофон, и он сказал: «Согласно пророку Мухаммеду, мир ему, правоверная мусульманка должна оставаться дома и прятать свое лицо, руки и ноги от всех, кроме мужчин своей семьи».
Может, он ждал, что она уберет микрофон, натянет платок на лоб и быстро убежит? Вместо этого произошло невообразимое. Эта маленькая женщина, едва достающая ему до груди, посмотрела ему прямо в глаза и спросила, словно обухом по голове ударила:
— В Коране действительно написано, что женщина не может показать лицо?
— Да, чадра обязательна в исламе. По закону шариата.
Во второй раз за последние несколько минут он увидел еще одну невероятную картину. Мерхия, в ярости, которую она и не пыталась скрыть, бросила ему прямо в лицо:
— Это ложь! Невозможно быть таким невеждой! Вы лжете!
Что они говорили? Я не поняла ни слова, но почувствовала опасность, нависшую над нашей группой, грозу, готовую разразиться в любой момент. Подтверждая мои наихудшие опасения, недовольство начинало нарастать — сначала еле уловимое, а потом все более явственное. И вдруг раскаты смеха потрясли толпу! Людей позабавило, как маленькая, будто воробушек, девушка расправилась со своим противником. Таджики от души ликовали.
Один громила встал на ее сторону:
— Она права. Желание во что бы то ни стало сохранить чадру говорит о том, что мы не верим в самих себя. Все, чего мы хотим, это свобода, а не чадра.
Его седеющие волосы указывали на то, что в молодости он застал более свободное время.
Почувствовав облегчение от того, что смогла высказать наболевшее, Мерхия объясняла толпе свои убеждения:
— Моя мать была мусульманкой, но она никогда не носила чадру. Она умерла, став жертвой ненависти. И именно ее память я сегодня защищаю.
Я подошла к ней, трясясь от страха:
— Ты испугалась?
— Совсем нет, я не боюсь — я журналистка.
Пораженная, я включила камеру.
— Ты больше не носишь чадру, но ты еще носишь платок, тунику, широкие шаровары… Ты собираешься начать одеваться на западный манер?
— Знаешь, я очень рада, что не ношу больше чадры. Конечно, я не выхожу на улицу без платка, но он такой легкий, что совсем мне не мешает. Я так рада, что могу наконец красить ногти, надевать босоножки в летнюю жару. Мне больше ничего не надо. Но я хочу, чтобы это было у всех женщин Афганистана.
Она меня по-настоящему поразила.
Удача нам улыбнулась или же это наше упорство было вознаграждено, но нам разрешили снять свадьбу. Свадьбу совершенно необычную: невеста смогла сама выбрать себе жениха. Несмотря на эту привилегию, несмотря на накрашенные тушью глаза, нарумяненные щеки, платье, украшенное дорогой вышивкой, девушка, казалось, вот-вот заплачет. Традиция велит невесте оплакивать свою молодость, покидая отчий дом.
Сколько же на одну эту счастливую невесту приходилось тех, у кого был настоящий повод плакать в день свадьбы?
Нас познакомили с девушкой, которая осмелилась отклонить предложение. С тех пор она была вынуждена жить затворницей в родительском доме. Претендент, человек военный, известный своей жестокостью и грубостью, поклялся, что если он встретит ее, то изобьет, отрежет грудь и все в таком духе. Испуганная, она не выходит из дома, живя среди кошмаров и несбывшихся надежд.
Она надеялась продолжить учебу, как другие молодые афганки, но должна была отказаться от этого. «Я унесу эту мечту в могилу», — говорила она, оплакивая свою проклятую жизнь. Ей было восемнадцать лет. Приговоренная однажды, она решила не скрывать лицо от камеры. Шекиба разрыдалась, а когда успокоилась, сказала в мою камеру: «Хватит! Сколько мы еще должны терпеть этот гнет? Мы, афганки, достаточно настрадались».
В такие моменты мои мысли улетали к Шахзаде. Эта культура, в которую я постепенно погружалась и в которой открывала темные стороны, с ее запретами и ужасами, сформировала мужчину, которого я любила. Как он верно говорил в письме, ночь здесь очень темна. Смогу ли я ее вынести? Я уже тогда понимала, что мне придется идти на жертвы.
Хабиб, наш коллега из «Айны», присоединился к нам. Он сопровождал нас на север, в Рох, где у него были друзья. Деревня свободна от военных, вооруженных и косных, там мы будем в безопасности.
Это трудное путешествие продолжалось восемь часов. Трудное, оттого что шофер не прекращая слушал кассету с индийскими песнями. Я быстро заметила, что в машине я была единственной, кто не знал этих сладких мелодий, воспевающих любовь на хинди. Шофер, гид, ученицы, в том числе и Гуль Макай, знали их наизусть и напевали без устали. Они были этого так долго лишены, что я не решилась положить конец веселому хору.
На заснеженной дороге у входа в деревню нас ждал старик в белоснежном тюрбане. Его рука лежала на плече ребенка, который служил ему своеобразной опорой, тростью. Аксакал сказал нам «Добро пожаловать!», после чего мужчина в военной форме любезно пригласил нас в дом. Не успели мы согреться у печи, проглотить обжигающий чай, как он уже предложил нам конную прогулку без седла и удил на высокогорное плато, где тренировались игроки бузкаши. Рискованная поездка на резвых конях меня беспокоила, но я согласилась. Как отказаться от конной прогулки среди одного из красивейших пейзажей в мире, где не ступала нога женщины? Что касается моих напарниц, они, не решившись на столь отчаянный шаг, решили пойти пешком.
На краю горы нам открылось удивительное зрелище. Две команды чопендоз в плотных стеганых куртках скакали на круглой площадке и, поднимая тучи пыли, отбивали друг у друга чучело козла, наполненное мокрым песком. Завладеть трофеем путем невероятных прыжков, переворотов, проходок, яростных стычек, не жалея себя, — такова была цель этой игры, воплощающей в себе природу афганца: утонченность, мужество, жестокость и тщеславие. Завороженные, мы наблюдали за диким танцем, дыша при этом на руки, чтобы их отогреть.
Яростный стук копыт, содрогания земли еще долго звучали в моей голове, когда я пыталась уснуть, лежа на матрасе на полу маленькой комнаты, которая служила хозяевам и гостиной, и кухней. Трещала печь. Улыбаясь, вошел старик. Худой дрожащей рукой он протянул тарелку. На ней было несколько маленьких сырых морковок. Старик развернулся и вышел. Услышал ли он безудержный смех, вызванный его появлением? Мы не могли остановиться. Вероятно, мы освобождались от напряжения и сильных эмоций, которые пережили за последнее время. Решительно, Афганистан — страна мужчин. И мужчин более чем странных.
Рано утром восемь деревенских жителей сопроводили нас до Бахараки, узбекской деревни, расположенной на горном хребте. Мы шли пешком. Дороги, ведшие туда, были приспособлены для копыт лошадей и мулов, для ног горцев, но ни в коем случае не для машин. Наш хозяин приготовил четырех коней бузкаши, нервных животных, привыкших реагировать на малейшее движение ног чопендоз. Но эти, по крайней мере, были оседланы. Смирившись, мы взобрались на них, когда я услышала робкий голос Гуль Макай: «Брижитт-джан, у меня проблема… Я не хочу снова покалечить ногу».
Ах да, ее раненая нога, изуродованная, плохо сросшаяся, ее крест. Я запретила себе жалеть ее: если и существовал малейший шанс, что она выкарабкается из этого состояния, осмелится наконец, он представился сейчас: «Ты такая же, как все. Делай как все, садись на коня. И не обсуждай. Это приказ».
Один из мужчин принес табурет и поставил сбоку рядом с лошадью. Гуль оперлась на него, взгромоздилась с трудом в седло и скрючилась в нем, как будто стыдясь самой себя.
— Выпрямляйся, другие сидят прямо.
Впереди хихикали Шекиба и Мерхия, в эйфории от своего подвига, от высоты, от прозрачного воздуха. Они так осторожно продвигались медленными шажками, как если бы скакали галопом. Они путешествовали по своей стране верхом! Кто мог поверить в это годом раньше? Я ехала за ними, спокойная, несмотря на обледенелую дорогу, видя, что моя лошадь смотрит внимательно, куда ставит копыта. Далеко позади Гуль сидела неподвижно, скованная страхом. И в этот раз она хотела остаться незамеченной, раствориться, исчезнуть. Я остановила лошадь и крикнула ей: «Давай быстрей, или всю свою жизнь проведешь так же, волочась за другими. Ты этого хочешь?»
Никогда не забуду вид этой куклы в темных одеждах на фоне белого снега. Я увидела, как она, колеблясь, выпрямилась. Легким движением пятки побудила лошадь двинуться с места. Та легко ей подчинилась. Она ехала, удивленная тем, что не падает и что это красивое животное слушает ее. Я увидела, как она распрямила плечи, как попыталась увереннее устроиться в седле. Чудо продолжалось. Потом она еще больше выпрямилась и теперь ехала с высоко поднятой головой. В этот момент, мне кажется, она решилась расслабиться — отдаться равномерному движению лошади, снежинкам, ласкающим ее щеки, жизни! Ее глаза светились, когда она мне улыбалась! Это был пустяк, почти ничего. Но впервые наконец я увидела Гуль такой, какой она должна быть: молодой и свободной.
Прибытие нашей команды произвело ажиотаж в деревне. Мужчины, маленькие мальчики, смуглые девочки с повадками цыганок встречали нас. Они смеялись от счастья, что видят иностранок. Это было в их жизни впервые. Один мужчина захлопал в ладоши, за ним последовали остальные. Потом он начал напевать:
Видеть ваши красивые лица —
Такое счастье для меня.
А завтра я еду в Мазар…
Он кружился, как неуклюжий медведь, подняв руки. Его поддержала толпа, и песни сопровождали нас до дома, в котором мы должны были заночевать. А там уже вся деревня пела под нашими окнами… Это было красиво, спонтанно — потрясающий момент тепла и приветливости. Для девочек это стало замечательным открытием. Существует жизнь и без ненависти.
Я не видела Шахзаду с того самого времени, как он сделал мне признание. Три недели пролетели как одно мгновение. Его лицо было рядом с моим, его глаза и голос — во мне, но мне его недоставало. Однажды утром я поняла, что не выдержу больше, и попросила Аскара повезти меня в Джелалабад. И неважно, что дорога была опасной, ведь она вела к нему.
Мой приезд никого не удивил: Комитет по делам племен был настоящим ульем, горцы приезжали сюда без предупреждения. Вокруг меня засуетились, я устроилась в кресле на веранде и послала интенданта предупредить Шахзаду о моем приезде. На месте ли он? Как он меня примет? Может, волшебство испарилось? Что теперь творится в его голове? Может, он стер меня из памяти? Я опустила глаза. Руки, лежавшие на коленях, дрожали. И тут я увидела его гибкий белый силуэт. Когда он подошел к ступенькам крыльца, то послал мне такой горящий взгляд, что все мои сомнения улетучились. Я не была лишней. Меня ждали.
После первых приветствий мы замолчали. Что сказать? На каком языке? Я огляделась вокруг. Никого. Здесь говорили только на пушту или урду. Он показал на свой дом и жестом пригласил меня последовать за ним через сад. Мы пересекли разделительную стену и вошли во двор, мое сердце сильно застучало. Дрожа, я шла по аллее из розовых кустов, высаженных с обеих сторон, как невеста, подходящая к алтарю. Дом кишел слугами, которые забегали, увидев Шахзаду. Порог, стеклянная дверь, и вот мы в большой гостиной. Я обвела взглядом стены изумрудного цвета, драпировки с помпонами над окнами и дверями, тяжелые обивочные ткани с цветастым орнаментом, пушистые ковры — все это утопало в свете неоновых ламп. Огромные диваны у стен. На них могли разместиться до двадцати человек. И хотя все было чрезвычайно загромождено, комната казалась уютной. Шахзада проводил здесь большую часть своего времени.
Сидя лицом к лицу на краешке дивана, мы смотрели друг на друга: пленники своих чувств, эмоций, неспособные говорить. Парень, подавший нам чай, выручил нас на какой-то момент. А теперь мы опять были одни. Он, не отрываясь, смотрел на меня. Я рассматривала его дружелюбное лицо. Если бы не его смятые письма, лежащие в моей сумке, я бы не сказала, что он влюблен, причем так сильно. Мы молчали. Он смотрел на стену, потом наши взгляды снова встречались, а потом опять стена или пролетающая муха… Как было глупо приехать без переводчика и словаря! И тем не менее, несмотря на наши смущенные взгляды, ощутимо чувствовалась эмоциональная связь, установившаяся между нами три недели назад.
Наступил вечер. Не было речи, чтобы я возвращалась в Кабул в сумерках. Он приказал приготовить для меня комнату его старшего сына — на верхнем этаже, там, где жили его дети и их двоюродные братья, во всяком случае те, кто достиг возраста, чтобы ходить в школу в Джелалабаде. Смущенные, они все это время не выходили из комнаты. Пару раз я замечала край туники или маленькую пятку в сандалии, которая с моим появлением тут же исчезала.
Слишком много вопросов вертелось в моей голове. Я оказалась в необычайном положении. Впервые в жизни я почувствовала, что теряю контроль над собой. Я была словно солдат, оторвавшийся от армии, который должен идти, не зная куда, доверившись судьбе, и выбраться из этой ситуации живым и здоровым. Была ли любовь Шахзады достаточно сильной, чтобы помочь мне противостоять трудностям, которые нас поджидали? Доверие было самым ценным подарком, который я могла бы ему преподнести. Мне нужна была эта уверенность.
Через несколько дней я снова вернулась в Джелалабад. В этот раз я предусмотрительно взяла с собой молодую афганку Силэй, которая бегло говорила на английском и пушту.
Меня сразу провели в дом. Шахзада нас тут же принял. Я попросила Силэй перевести: «Шахзада, мы лишь туда и обратно, мы скоро уезжаем».
Он выдержал паузу, погладил ручку кресла. «Ты поезжай, если хочешь, а Брижитт останется здесь», — сказал он тоном человека, который привык к беспрекословному подчинению. У меня было чувство, что я ему уже принадлежу. Мне это понравилось.
Я приехала, чтобы узнать некоторые вещи, очень личные. Мне придется потревожить его природную скромность — я ведь знала о сдержанности пуштунов. Но он должен был ответить, это он был мне должен.
— Почему ты хочешь взять вторую жену, Шахзада?
— Я был молод. Отец нашел мне первую жену. Эта свадьба состоялась в страшный период — во время войны. Джелалабад кишмя кишел моджахедами, семья была разбросана по Пакистану. Я воевал в горах и видел, как умирали многие мои друзья. Это было время Великих несчастий и нищеты. В день свадьбы я не смог даже надеть новые вещи, как предписывает традиция… Теперь же я хочу свадьбу, воспоминание о которой будет мне дорого.
— Но почему я? Почему ты выбрал меня?
Задержав дыхание, я ждала ответа на эту загадку, которую не могла себе объяснить.
— Как только я тебя встретил, мне показалось, что моя жизнь будет лучше. Я хочу, чтобы ты знала одно, Брижитт. Бог сделал так, что мы встретились, и Бог знает почему.
Он вышел из гостиной и вернулся с двумя пакетами, которые положил передо мной.
— Это для Брижитт, — сказал он тихим голосом.
Пакеты были завернуты в блестящую бумагу. Волнение мешало мне открыть их. Я не решалась. Дрожащей рукой я сняла искусственные цветы, жасмин и красную розу, украшавшие пакет; потом ленточки. Бумага выскользнула из рук, порвалась. В одном пакете была шаль. В другом — голубое платье, полностью расшитое мелким жемчугом, и шаровары для него. Наряд афганской женщины. Чудо! Платье принцессы.
Глава 9 Мудрость Кути
Название деревни было мне незнакомо. Впрочем, знала ли я его когда-нибудь? Для меня это называлось «где-то там» и было нереальным местом, таким же туманным, каким виделось мне тогда наше будущее.
Шахзада сдержал слово. «Прежде чем мы зайдем слишком далеко, я хочу, чтобы ты побывала в моей деревне, узнала мои корни, — повторял он. — В моей деревне женщины не покупают духов, почти никогда не едят фруктов и мяса, очень часто довольствуясь лишь рисом и хлебом…» Хоть он и опасался моей реакции на увиденное, но считал, что должен поступить именно так, — у момандов нет ничего священнее данного слова.
Мы ехали «куда-то туда» на самый восток страны, молчаливые и серьезные. Рядом — Мерхия, чтобы помочь нам понять друг друга. Шахзада был настороже. Ему было тревожно, и я понимала почему. Однако крестьянская жизнь ничуть не пугала меня. Я знала о суровости деревенского существования, оно беспокоило меня гораздо меньше, чем встреча с его женой. Мое положение не было завидным. Я находилась за тысячи километров от дома, от моих друзей, в стране, где можно было исчезнуть в любой момент — не сегодня, так завтра. Я шла по пути, непостижимому для всех людей моей культуры. Пульс стучал у меня в висках, желудок сжимался по мере нашего приближения к месту. Мне было страшно встретиться с этой женщиной. Как мы будем реагировать друг на друга?
Шахзада предупредил меня, что нежно любил жену почти двадцать лет и ничто не могло ослабить его привязанности к ней.
После нашей встречи он вернулся в свою деревню, твердо решив поговорить с ней обо мне. Она опередила его. Несколько дней назад ей приснился сон, потрясший ее: он полюбил другую женщину. Шахзада без колебаний ответил ей: «Да, я совсем недавно познакомился с женщиной. Она иностранка».
Кути, так ее звали, задрожала. Грозное облако, которое висит над судьбами пуштунских женщин — ужас видеть другую женщину в доме и вести борьбу с ней, — возникло и над ее головой. Согласно правилам ислама, Шахзада попросил у нее разрешения жениться на иностранке. Он успокоил ее, напомнив суру из Корана: «Ты можешь жениться на другой женщине, если будешь относиться к обеим женам одинаково». Он поклялся, что никогда не бросит ее. Но все же она плакала тайком.
Кути была единственной, кто знал о нас. Шахзада поставит в известность других членов семьи позже.
Его голос долетел до меня сквозь водоворот невеселых мыслей: «Какой из них мой дом? Догадайся».
Мы пересекли горы, потом высокогорные села, названий которых не было ни на одной карте, неровные ландшафты и плоскогорья, расположенные вдоль каньонов и пересеченные реками. Шахзада был момандом с горных высот, одним из тех, кому не повезло родиться на плодородной земле, в отличие от тех «снизу», что у ворот Пешавара живут в достатке благодаря сахарному тростнику. Для него, как для любого пуштуна, будь то афганец или пакистанец, официальная граница, разделяющая два государства, могла бы вполне проходить посередине их территории — ее просто не существовало. Они переступали ее, как струйку воды. Единственная граница, которую они признавали, была широкой Индийской дорогой, нарисованной Богом, ближе к востоку Пакистана. Пересечь ее означало проникнуть на территорию иностранного государства.
Мы остановились у деревни, словно вылепленной из глины. Каждый дом напоминал замок, укрепленный саманом, по углам — зубчатые башни. Над входной дверью — развевающийся на ветру афганский флаг. Это здесь.
Шахзада шел впереди. На пороге, немного в глубине, я увидела тень. Царственная осанка, сверкающий взгляд. Кути держалась прямо, словно язык пламени. Шахзада повернулся к ней и, показывая на меня, произнес: «Брижитт». Она оживилась, подошла ко мне и расцеловала в щеки. Два крепких поцелуя, почти грубых и каких-то неловких. Застигнутая врасплох, я чувствовала себя очень стесненно. Некуда убежать, негде укрыться. Мне не оставалось ничего, кроме как взять себя в руки и никого не травмировать своими неуместными реакциями.
Мужчины приходили, чтобы поприветствовать Шахзаду. Они слегка сжимали его в объятиях и троекратно целовали в щеку.
Я оставила обувь на пороге комнаты, в которую вошла Кути. Здесь было темно; низкий потолок, голые стены. На полу соломенный матрас, заменявший стол и скатерть. Молодая женщина указала нам на тошак, укрытый старым покрывалом. Мы с Мерхией сели на него. Тетушки, кузины, матери вереницей шли сюда поздороваться с нами. Но на душе у меня было очень неспокойно, я пребывала в полной растерянности. Что я делаю здесь, в этой пустой комнате, в доме, где прошла вся жизнь мужчины, которого я люблю?
Кути подала мне знак, взяла за рукав и увлекла за собой в еще более темный угол комнаты. Я увидела их кровать. В подвешенном к одной из створок двери куске материи под пологом спал крошечный ребенок. Кути улыбалась, пытаясь разглядеть в моих глазах восхищение — знак одобрения, на который каждая молодая мать имеет право. У меня заболел живот. Я стала быстро высчитывать. Сколько же ему может быть месяцев? Два? Три? Думаю, три. Жгучая ревность овладела мной. У меня перед глазами было свидетельство нежности Шахзады к своей жене, живое свидетельство их любви. Не знаю, откуда я нашла в себе силы улыбнуться. Эта женщина не заслуживала другого отношения.
В очень ухоженном доме было две маленькие комнаты и еще одна, совсем крошечная. Мерхия и я были приглашены на ночь к другим членам семьи, живущим чуть выше, за земляным валом. Толпа женщин в ярких платьях сопровождала нас в дома с плоскими крышами, на которых сушились первые весенние овощи. Они тоже никогда еще не принимали у себя иностранцев. Неужели все эти люди догадались о наших отношениях с Шахзадой? Я могла побиться об заклад, что еще четыре месяца назад, с момента, когда я впервые приехала в Джелалабад, они обо всем знали. Дядюшки и двоюродные братья Шахзады, которые работали у него в качестве секретарей, управляющих или слуг, были лучшими информаторами. Во всяком случае, афганцы обожают судачить.
Шахзада вернулся, чтобы пригласить к себе вечером на ужин. Потом оставил нас одних со своей женой. Мы пили горячий чай, Кути готовила еду, когда мы услышали на пороге странный шум и чьи-то шаги. В воздухе повисло напряжение.
Дверь открыл Шахзада. Его стройный силуэт едва заслонял другой, более крупный, принадлежавший пожилому мужчине. Тот шел тяжелой поступью, опираясь на трость. Отец. Ни старость, ни слабость, ни физическая боль не могли ослабить потрясающего ощущения власти, которое исходило от него. Он навсегда остался первым среди момандов, главой семьи. Строгое лицо, взгляд, от которого бросает в холод. Он пожал мне руку, не глядя в глаза. Он презирал меня, я была уверена в этом. Я чувствовала себя ничтожной. Я просто забыла, что этот пожилой мужчина действовал согласно обычаю, который запрещает смотреть женщинам в глаза. Он произнес несколько приветственных слов, поинтересовался, удобно ли нам. Потом, попив чаю и побеседовав с сыном о деревенских новостях, удалился. После его ухода мне сразу стало легче дышать. Шахзаде тоже. Присутствие отца приводило его в оцепенение. Я была поражена — сила этого немногословного, слабеющего мужчины смиряла меня, заставляла чувствовать свою незначительность. Теперь я была уверена — семья никогда не примет меня. Этого не случится.
В своем маленьком доме Шахзада общался с Кути и со мной с той замечательной непринужденностью, которая характерна для мужчин, живущих в традициях, позволяющих им иметь пятерых жен. К моему большому облегчению, он относился с уважением к нам обеим. И даже если догадывался о моих эмоциях, то ничего не показывал. Я изменилась. Теперь я носила подаренное им голубое платье, усыпанное жемчугом. Но все, что я видела вокруг — их уклад жизни, их манера общаться друг с другом, — было для меня странным. Мне предстояло еще много пройти, чтобы сократить расстояние между ними и мной, между своими эмоциями и самой собой, чтобы превозмочь боль.
Кути была очень вежлива со мной, следила за тем, чтобы я ни в чем не нуждалась, подливала кислого молока, когда мой стакан пустел, расспрашивала меня на пушту. Однажды даже, в какую-то долю секунды, мне показалось, что она смотрит на меня с нежностью. Но я, конечно, ошиблась, этого не могло быть!
Рядом с кроватью послышалось щебетанье. Младенец проснулся. Мать бережно вынула его из маленького гамака и передала мне. Большие, словно подведенные, черные глаза смотрели на меня с удивлением. Ему казались странными моя белая кожа и голубые глаза? Он был очень хорошеньким, этот ребенок любви! Я отдала малыша Кути, которая удалилась, чтобы покормить его грудью. Я запретила себе смотреть на Шахзаду.
Во время ужина сдавленное горло позволило мне выдавить несколько слов, столь же сбивчивых, как и мои мысли… Я бормотала бесконечные «Почему? Почему?», что позволяло мне делать вид, что я там присутствую. Кути засмеялась и сказала мужу: «Теперь я понимаю, почему с недавнего времени ты часто говоришь "Почему? Почему?"». Он ответил ей что-то в свойственной ему ироничной манере. Он смеялся надо мной. Это было слишком. Я не была готова противостоять их близости, она проистекала из давнего и глубокого источника, не иссякшего, несмотря на годы. Я резко встала и сказала Мерхии: «Довольно. Идем спать!»
Я скрылась, словно воровка, до того, как Шахзада смог как-то отреагировать. Страдание поселилось у меня в голове, животе, руках. Нужно поскорей сбежать отсюда, удрать. В другом доме нас ждали женщины, готовые болтать ночь напролет. Я попросила их уйти. Мне хотелось остаться одной. И плакать, пока в сердце не останется ни одной слезинки.
Я рухнула на матрас, даже не снимая своего жемчужного платья. Мой неподвижный взгляд уставился на потрескавшийся глиняный потолок. Всего в нескольких метрах от меня Шахзада спал рядом со своей женой. Забыть их родство, стереть из памяти воспоминания о ребенке, справиться с клокочущим гневом и мечтать лишь об одном — провалиться в ночь. Пока я ворочалась, не сомкнув глаз, по дому ползли слухи. К рассвету уже вся семья знала о моем гневе.
Утром Шахзада с усталым и раскаивающимся видом пришел за нами. Позже он расскажет мне, что после моего ухода Кути хорошенько отчитала его, упрекая в недостойном поведении. Она была очень недовольна тем, что он задел меня. Она понимала мою боль, она сама была с ней знакома.
Я снова оказалась лицом к лицу с Кути. При утреннем свете ее лицо показалось мне еще красивее, чем накануне. Жизнь в горах делает кожу грубее, рано появляются морщины. Вдруг она показалась мне старше Шахзады. Так же как и я. Ее черные волосы, полные губы, острые черты придавали лицу особое очарование красоты кочевников. Неужели эта красивая женщина, простая и гордая, — моя соперница? Она приняла меня с поразительным достоинством.
Мы завтракали, когда отец пришел снова. Женщины, находившиеся в комнате, испарились. Наверняка он здесь, чтобы добить меня. Я напряглась. Он сел скрестив ноги. К моему большому удивлению, он посмотрел мне в глаза:
— Я узнал, что тебе было грустно… — Мне хотелось исчезнуть. — Послушай. Тебе не стоит быть грустной и несчастной.
Сейчас, перед этим уважаемым пуштуном, заговорившим со мной наконец человеческим тоном, несмотря на то что традиция запрещала ему интересоваться чувствами женщин, я поняла, что он принял меня. Его голосом семья сообщила мне, что приняла подругу Шахзады, что бы под этим словом ни подразумевалось. Боль, что мучила меня накануне, улетучилась в один миг.
Я обещала Шахзаде, что поговорю с отцом о его болезни. Шахзада страдал аллергией на пыль — задыхался и кашлял до боли в горле. Эта болезнь была предлогом для того, чтобы мы смогли вместе уехать во Францию. Ему так хотелось побывать в Европе, о которой он мечтал с юности, хотя ни разу не покидал Пешавар. Он никогда не бывал даже в таком близком отсюда Дубаи, в этом искусственном городе, переполненном дорогими товарами, отелями, ресторанами с роскошной кухней. Афганцы и экспаты, живущие в стране, любят съездить туда на уик-энд. Это для них то же самое, что для других пройти курс талассотерапии, — что-то вроде признака статуса.
«Когда будешь у меня, спроси разрешения у моего отца», — попросил Шахзада. Меня удивило это. Почему ему нужно спрашивать отца? Разве сам он не уважаемый в Джелалабаде человек и не глава большого племени?
— Господин Моманд, ваш сын страдает, его уже оперировали, это ни к чему не привело. Я хотела бы повезти его во Францию и провести там обследование. У меня есть друзья-врачи.
Молчание. Бросив взгляд на Шахзаду, сидевшего за неподвижной спиной отца, я продолжила:
— Я спросила разрешения на это у его жены. Она согласна. А вы?
— Тебе не нужно спрашивать у его жены, только у меня одного.
И снова я услышала голос мужчины, привыкшего командовать. Я прикусила язык. Неужели мне всегда придется тщательно взвешивать все «за» и «против», прежде чем открыть рот? И снова молчание, отягощенное напряженным ожиданием. Затем последовал вердикт:
— Да, конечно, ты повезешь моего сына во Францию столько раз, сколько захочешь. И когда хочешь.
Пожилой мужчина оказал мне доверие. Он очень тщательно изучал меня так, как делал на протяжении всей своей долгой жизни, чтобы избежать опасностей, врагов и предателей. Он понял, что во мне нет ничего, что могло бы нести угрозу. Удостоверившись в этом, он стал более словоохотлив.
— Я очень горд, что принимаю у себя иностранку. В прошлом я много путешествовал. Я был в твоей стране, а еще в Швейцарии, — сказал он, вздохнув. — Ты должна остаться у нас подольше: один день ничего не решает.
Получив такое серьезное одобрение, я, наконец-то довольная и счастливая, отправилась смотреть ферму Шахзады, где я когда-нибудь — в этом у меня не было ни малейшего сомнения — буду жить. Он не обманывал меня. Прогресс обошел это место стороной. Ни электричества, ни воды из крана. Только две коровы — черная и белая, куры и коза. Он объяснил мне, что у них было два кролика, которые бегали повсюду. Не имея крольчатника, Кути и он поместили их в маленькую пристройку. Кролики умерли, обессилев от того, что пытались проскрести глиняный пол, выкапывая себе норку, в которой могли бы спрятаться. Шахзада говорил об этом с сожалением.
Я рассматривала все очень внимательно, обращая внимание на все мелочи. «Смотри, — говорила я себе, — смотри на жизнь Кути. Когда-нибудь у тебя будет такая же». Я видела, как трудится эта смелая женщина — стирает белье, носит сено для коров, доит их, кормит кур, мелет зерно, готовит муку и кислое молоко, печет хлеб, поливает сад. И при этом ни слова об усталости, никаких жалоб. Я не видела, как она занимается пятью сыновьями, когда они возвращаются домой на каникулы. Я не видела ее работающей в поле, сеющей и поливающей всходы, согнувшись в три погибели, в то время как мужчины сидят в мечети или обсуждают на деревенской площади местные новости. Но я могла все это представить. Еще полвека назад так трудились у нас шахтеры и крестьяне. Только на плечи Кути был возложен еще один груз: она была центральным объектом кодекса чести, без всякой надежды когда-нибудь избавиться от этого. Если я соглашусь выйти замуж за Шахзаду, такая жизнь станет моей. И пути назад уже не будет.
Какой была Кути в девичестве? О чем мечтала, до того как окунуться в эту строго регламентированную, предельно суровую жизнь? Она не выбирала себе мужа; но, в отличие от других пуштунских женщин, она любила его, а он любил и уважал ее.
Когда я уезжала, она схватила меня за руку и в своей решительной манере что-то положила мне в ладонь. Я разомкнула пальцы и увидела колечко в форме сердца.
— Оно для тебя.
Все произошло очень быстро. Я бы хотела провести здесь больше времени, чтобы принять эту искаженную реальность. Но ее искренность, ее желание оказать мне внимание в знак доверия очень тронули меня. Из глубин нищеты он подарила мне свою драгоценность. Ужасно взволнованная, я полезла в свою сумку, где находилось сокровище, купленное в лавке на Чикен-стрит, — медальон, на котором было высечено золотом: «Нет Бога, кроме Аллаха. И Мухаммед — пророк Его». Я очень дорожила им.
Подарки скрепили дружбу, которая поможет нам вместе противостоять трудностям, которые готовит нам будущее.
В машине воцарилась тишина, менее нервная и более сердечная, чем та, что парализовала нас по пути сюда. С каждым метром дороги мы все более отдалялись от пакистанской границы и глиняных крепостей.
И снова — огромное опустошенное плато, окруженное коричневыми горами. Природа здесь не перестает испытывать человека. Ее мощь, суровый холод зимой и изнурительная жара летом, сильные ветра закалили характер момандов, совмещающий в себе смирение и гордость, упорство и фатализм. Таким был Шахзада. Такими были другие жители деревни. Посреди бесконечных просторов этого горного пейзажа мы казались себе крошечными.
Мной овладело незнакомое и приятное ощущение: я чувствовала себя умиротворенно. Я была здесь и сейчас. Не в прошлом и не в будущем, а именно здесь, в один из моментов вечности. Мои глаза засверкали. Видит ли меня Шахзада в заднем стекле? Нет, он напряженно следит за дорогой. Пока меня обуревали бесконечные эмоции, он молча представлял негативный исход нашей истории. «Если ты разочарована, если ты чувствуешь себя несчастной, после того как увидела мой дом в деревне, пожалуйста, скажи мне об этом, потому что в этом случае нам лучше расстаться, пока не будет слишком поздно», — говорил он в своем последнем письме.
Я хотела бы взять его руку в свои, поддержать его. Но это было невозможно. Этот простой дружеский жест был невозможен в присутствии его водителя, телохранителей и даже Мерхии. Я умирала от желания сделать это.
За несколько недель эта страна, этот мужчина, его близкие вручили мне сокровище, которого я всегда была лишена: быть полностью принятой такой, какая я есть. Этого подарка я ждала долго, но никто, за исключением разве что мамы и папы, не мог мне его преподнести.
С момента моего приезда Афганистан не прекращал наполнять меня жизненной энергией и любовью. Эта земля была благоприятной для меня. Все, что я искала в книгах, было дано мне здесь, исходило из всего, что я любила. К тому же меня привлекало, как люди живут в своей религиозной традиции. Я всегда знала, что существует другой мир, отличный от нашего, и я нашла его на этой исламской земле. Это было сродни зову, провидению. Я приняла решение.
Мы перевалили через гору, солнце садилось. Вдалеке шел старик, обмотанный лохмотьями, с охапкой хвороста на спине. Я сказала: «Останови машину, Шахзада. Я хочу поговорить с тобой».
Он казался удивленным, но исполнил просьбу. Я попросила его оставить телохранителей около машины. Мы же уединились в тихом месте, с нами пошла и Мерхия. Ни о чем не спрашивая, он отдал указания, обвел взглядом окрестности и дал мне знак следовать за ним. Мы стали подниматься по тропинке. Он карабкался с ловкостью горного козла. Мы же с Мерхией так запыхались, что, когда Шахзада велел нам остановиться, были просто счастливы. Он протянул нам руку, чтобы помочь преодолеть препятствие из нескольких больших камней. Нашему взору открылись вершины Гиндукуша, словно гирлянды кружев на чистом голубом небе. Под нашими ногами раскинулась гора. Идеальное место для заключения договора.
Я попросила его найти маленький камень — круглый, отполированный ветром и временем. Его лицо осталось невозмутимым, но я уловила на нем едва заметную улыбку. Я и сама нагнулась в поисках камня. Потом мы сели рядом на фоне заката. Мерхия осталась чуть позади нас, смущенная происходящим, в которое она внесла свою маленькую лепту. Она переводила.
— Шахзада, с того времени, как мы встретились, ты дал мне много любви и ты никогда не лгал мне. Я полностью доверяю тебе. И люблю тебя.
Я не хотела, чтобы мой голос дрожал, не хотела, чтобы эмоции, сдавившее мое горло, помешали мне говорить.
— Спасибо тебе за то, что пригласил меня в свою деревню, познакомил с семьей. Я знаю, что жизнь там трудная… Шахзада, я хочу выйти за тебя замуж и принимаю все, что за этим последует.
Вот так я доверилась ему, вложив свое будущее в его руки. Ни на одном языке мира не существовало таких слов, которые могли бы передать силу моих чувств. Шахзада прекрасно понял это. Он казался таким же напряженным и взволнованным, как и я. Потом его взгляд потускнел.
— Ты принимаешь все?
Он замолчал, сбитый с толку.
— Я необразованный человек, я не знаю, на что похож этот мир, я воин… Ты же привыкла к свободе. Брижитт, ты на самом деле думаешь, что у тебя хватит сил остаться здесь со мной?
Мой любимый мужчина, в котором я хотела бы раствориться, не мог мне поверить. Я успокоила его, возможно, заодно подбадривая и самое себя:
— Шахзада, я буду там, где будешь ты. Я не вижу в этом никакой проблемы. Ведь если я буду счастлива с тобой, ты будешь счастлив со мной.
Его черты смягчились. Но я не закончила. Мне хотелось поблагодарить его самым отчаянным способом, чтобы окончательно убедить в своих чувствах.
— Я хочу сказать тебе спасибо за все, что со мной случилось. А еще я решила стать мусульманкой.
Он замер. И в очередной раз посмотрел на меня с изумлением. Потом прошептал, что я сделала ему самый потрясающий подарок.
Он был верующим, верил просто и искренне. Для него все мы, пришедшие из глубин веков, были созданы одним Творцом. Любовь, невзгоды, здоровье, счастье, сладкий вкус манго — все дается Богом. Мне нравилось такое понимание Бога, прорицателя и защитника. Это был ласковый и добрый мир, антипод безобразного ислама, с которым я столкнулась в Роджа-Бауддине. Моя природа ощущала себя в нем очень комфортно, в католическом мире ей никогда не было так хорошо.
Мы еще долго сидели, погруженные в свои мысли, перед бескрайней живой природой. Я слышала его голос и слова любви, которых он никогда, я уверена, не произносил раньше: «Я счастлив, что встретил такую женщину, как ты. Я очень горд тем, что ты хочешь стать мусульманкой, тем, что ты делаешь это для меня. Я так люблю тебя за это».
Он сознавал, насколько разными были наши культуры, как далеки они друг от друга. Возможно, раньше он сомневался в том, что я тоже понимаю это. Но сейчас он удостоверился в серьезности моих намерений.
— Это значит, что в Афганистане ты будешь носить платок?
— Да, я буду его носить.
— Что больше ты никого не поцелуешь?
— Никого и никогда.
У меня немного кружилась голова. Пришел момент произнести слова, которым недавно научила меня Мерхия и которые изменят мою жизнь навсегда:
— Я свидетельствую, что нет Бога, кроме Аллаха, и что Мухаммед — пророк Его.
Священная фраза прозвучала в абсолютной тишине, потом на мгновение застыла в воздухе, а после поднялась, словно лист, к небу, ставшему к тому времени темно-синим.
Все это время я машинально теребила камень. Я попросила Шахзаду закрыть глаза и дать мне свою руку. Я вложила камень в его ладонь. В свою очередь он осторожно вложил свой камень в мою ладонь. Они стали двумя символами уникального момента.
Шахзада положил свой камень в карман и встал. Дело было решено.
Когда мы приехали в Джелалабад, была уже ночь. Усталость от путешествия, интенсивность наших эмоций оставили нас без сил. Однако мы еще не хотели расставаться. Я вынесла в сад три стула. Этот зеленый уголок был единственным местом, где мы могли ненадолго уединиться. То был наш кокон под открытым небом. Мы болтали под серебряным светом луны, когда Мерхия прервала нас, чтобы с первой звездой загадать желание: пусть предстоящий месяц принесет благоденствие нам и нашей любви. Уверенным жестом, указывавшим на определенную тренировку, она бросила через левое плечо маленький камень, который и был предназначен этой звезде. Сделав это, она вернулась к нашему разговору. Шахзада незаметно подал ей знак. Мерхия подошла ближе и услышала тихое:
— Ты знаешь, что я веду опасный образ жизни. Поэтому обещай мне, что, если со мной что-то случится, если я умру, ты останешься рядом с Брижитт.
Она пообещала, и Шахзада вздохнул с облегчением.
Потом обычным голосом, прищурив взгляд, сказал насмешливо:
— Поскольку ты будешь жить здесь, тебе нужно научиться стрелять из автомата. Мы же в Афганистане, знаешь ли.
О, я научусь при условии, что он будет моим учителем. И смогу стать такой же ловкой и меткой, как он. Он пообещал мне, смеясь:
— Ты очень сильная, Брижитт. Ты покорила меня. Ты сделала то, что не смогла сделать Аль-Каида.
Глава 10 Предрассудки
Наша совместная жизнь началась с этого момента — с возвращения из деревни. Наши встречи, по-прежнему целомудренные, немного неловкие, происходили в большой комнате, в которой всегда было полно народу — слуг и гостей. Когда появлялись глава нашей деревни или член правительства, я исчезала в своей комнате. Шахзада навещал меня там. Комната — невероятно маленькая, настоящая бонбоньерка, Но лишенная всякого декора, каких бы то ни было личных вещей, мебели или картин, — выходила окнами в сад. Мне было достаточно высунуться из окна и протянуть руку, чтобы сорвать распустившийся бутон розы или пион. Их посадили по желанию Шахзады сразу же, как только он оказался в этом неприметном правительственном здании. Его предшественник, служивший талибскому режиму, оставил частный садик в запущенном состоянии, как и большой парк домика для гостей. Нет сомнений, что парк, пестреющий яркими красками, где можно было прогуляться среди пьянящих ароматов цветов, рассматривался как источник удовольствия, а значит, греха. Шахзада же не мог жить без красоты, особенно без красоты природы.
Его предшественник не стремился также открывать двери для глав племен. Он жил затворником за высоким забором в комфорте, соответствующем его положению. Шахзада приехал со своей семьей. За несколько недель он сломал устоявшиеся традиции. По его распоряжению в парке были посажены маки, люпины, подсолнечники и дельфиниумы, а еще фруктовые деревья, пальмы, платаны и ивы, в тени которых, прогуливаясь по летним аллеям, можно было вести неторопливый разговор. Его садовники были загружены работой, но не роптали. Пустовавший раньше большой дом рядом с мечетью был переоборудован в Центр приема студентов Джелалабадского университета, тех, что находились вдали от своих семей.
Что касается визитов глав племен, Шахзада считал своим долгом в любое время дня и ночи принять человека, приехавшего издалека в надежде найти решение проблемы. Вот тогда-то мне и пригождалась моя маленькая комнатка. Мы проводили здесь долгие часы, просто как старые друзья. В том смысле, что нам не нужно было говорить, чтобы чувствовать себя комфортно. С Шахзадой у меня всегда было ощущение, что мы не просто влюбленные мужчина и женщина, а две души, долго искавшие друг друга и наконец нашедшие.
Поскольку я не была больше гостьей Шахзады, а стала его спутницей, мы не ужинали больше в гостиной, а оставались в моей комнате. Все было в традиционной манере — мы сидели на полу вокруг клеенчатой скатерти. Молодой кузен приносил нам ароматный рис, кофта, маринованную курицу и восхитительные салаты из мелко нарезанных помидоров, лука, огурцов, которые нужно было вылавливать при помощи куска наана[23]. Мы всегда ели в тишине. Я не спрашивала у Шахзады, почему, но это было так. Во время еды стояла умиротворенная тишина, которая позволяла каждому из нас окунуться в свои мысли.
Понемногу я начала осваивать язык пушту. В Кабуле я попросила своего переводчика научить меня словам любви. Мина — любовь, дера грана мина — очень большая любовь, Шахзада — мой принц, зе росала йым та сара — я счастлива с тобой, зе дера мина ларым — я люблю тебя. Это было чем-то вроде необходимого набора для «моего принца». Странно, что эти интимные слова, которые ни разу не слетали с моих губ в адрес другого мужчины, произносились мной с такой легкостью. Мне нравилось говорить их, я никогда не сожалела о сказанном. Может, оттого что они произносились на иностранном языке, они казались не такими бесстыдными. В остальных делах мне помогал словарь. Мы находили нужное слово, а затем при помощи мимики старались понять друг друга.
В свою очередь Шахзада открывал для себя свободу собственных эмоций и их выражения. Огромная страна открывалась ему — моя страна, страна нежности. Я бы хотела бесконечно долго продлить это благодатное состояние, но его нетерпение возрастало. И от этого мне было очень страшно. Этот страх мог убить нашу любовь.
Однажды вечером он пригласил меня в свою комнату. Я неуверенно последовала за ним. Комната, маленькая, пустая, забавная при свете дня со своими светло-фиолетовыми стенами, становилась неуютной и холодной при неоновой лампе. Маленький ватный матрас служил местом для сна. Мы сели на него. Он дотронулся до моей шеи, потом его рука постепенно спустилась к моей груди. Я резко оттолкнула его, рассердившись:
— Хватит, Шахзада. Если ты будешь настаивать, я буду вынуждена вернуться в Кабул.
Он положил голову мне на грудь, так близко от моих губ, что мое дыхание слегка приподнимало пряди черных волос на его висках. Настала тишина. Он должен был бы протестовать, выйти из себя, послать меня к черту, но оставался странно неподвижным. Я еле дышала, надеясь, что он уснул. Я боялась разбудить его. Потом почувствовала, что его голова вздрагивает, а на мои пальцы, ласкающие его лицо, капают слезы. Он плакал. Опустошенный. Лишенный отдыха и любви. Дрожащим голосом я объясняла ему свои страхи на ломаном языке, который только он один мог понять. Он посмотрел на меня:
— Тогда почему ты приехала, если не веришь мне? Зачем ты неволишь себя? Брижитт, если ты не доверяешь мне, тебе не следовало бы приезжать.
Конечно, он был прав, и доказал это…
С этого дня Шахзада перенес свои вещи на второй этаж, в комнату, расположенную поодаль от членов семьи и посетителей. Может, последние не решатся подняться по лестнице, чтобы задать ему вопрос или вести долгие беседы, которые заканчиваются так поздно, что им приходится ночевать на чем придется — на полу, диванах. Уединения в афганской семье не существует. Дом — это улей, человек не принадлежит себе, групповое превалирует над индивидуальным.
Он выбрал большую комнату, значительную часть которой очень скоро заняла кровать западного образца, на четырех ножках и с матрасом. В другой половине комнаты поместились большой стол и три удобных диванчика с пестрой обивкой, которые определяли границы рабочей части комнаты. Она стала нашим семейным очагом, никто не решался заходить сюда, за исключением слуг. Как-то дядюшки пытались нарушить это правило, но быстро ретировались, увидев мой недовольный вид. Здесь проходили мои дни и ночи — в постоянном полумраке. Опущенные жалюзи защищали от жары, предохраняли от любопытных взглядов персонала, который все время копошился в саду. Шахзада принимал посетителей на первом этаже или работал в своем бюро на соседней улице.
В первое время я подолгу стояла у окна и смотрела на высокие стены, которые отделяли мое «королевство» от оживленной улицы. Я смотрела на верхушки деревьев, покрытых пылью. Представляла себе магнолии, под сенью которых заливаются птицы, пальмы в тропических садах, мощь эвкалиптов и тополей, высаженных вдоль улиц. Я слышала звонки велосипедов, топот лошадиных копыт, голоса и смех, хохот детей, выходящих из школы. Все это доносилось из-за стены.
Лишенная улицы, отрезанная от всего, я воображала себе то, чего мне не хватало. Мне было хорошо здесь. И потом, внешнего больше не существовало. Мне не был интересен мир, из которого я исключила себя, чтобы все свое внимание уделить одной лишь только комнате: жить в ней, наполнять ее своими мечтами, ожиданием. У меня появились собственные ритуалы. Они возникли в Кабуле, когда мне удалось ускользнуть на уик-энд, который во всех мусульманских странах начинается в пятницу. Я разложила на кровати платья, которые подарил мне Шахзада. Они были куплены в Пакистане и в Дубаи. Я выложила их одно на другое на покрывале, где они, легко шурша шелком, вискозой, тафтой, выступали прелюдией к тысяче и одной ночи, которые ждали меня в Джелалабаде. Там я избавлюсь наконец-то от своей городской униформы — неприметной, широкой, которую носят здесь все европейские женщины, чтобы не быть замеченными мужчинами. Я снова стану женщиной. Лучше — одалиской. И я мечтала, что Шахзада сможет пробудить во мне сладострастную женственность восточных женщин.
Другие маленькие ритуалы заполняли время в ожидании Шахзады. Прохладный душ, мытье волос, ароматические масла для тела… Я вела себя как куртизанка. И мне нравилось эта зависимость от страсти. Мне нравилось чувствовать себя слабой рядом с ним. Мне нравилось его доминирование, нравилось ощущение, что мое место здесь, рядом с ним, под его защитой. Ни за что на свете я не хотела бы умереть, не познав этих ощущений, не повстречавшись с мужчиной, который умеет сделать женщину нежной, красивой и счастливой. И подчиненной тоже.
Потом — зажечь свечи, читать, спать. Подождать еще, растянувшись на канапе, смотреть на крылья вентилятора, монотонное движение которых уносило меня далеко. Время текло в наслаждениях — незначительных, но ни с чем не сравнимых.
Дверь открывалась, он входил, клал голову на мои колени, потом снова возвращался к своим делам. Иногда по утрам он исчезал до моего пробуждения. Иногда, открывая глаза, я находила розу на своей подушке. То был утренний цветок, сорванный в саду.
Странно, но затворничество не тяготило меня. Да, можно говорить именно о нем. Ведь мне было запрещено спускаться на первый этаж, гулять в парке. Хоть Шахзада и был готов принять мою культуру, он оставался афганцем. Он не хотел, чтобы мужчины не из его семейного круга видели мое лицо. Он ничего не говорил мне об этом, никогда ничего мне не запрещал, но я почувствовала это очень быстро.
Как-то в апреле жизнь по другую сторону стены снова привлекла меня. Шахзада работал, теплый весенний день манил в свои объятия. У меня появилось желание пойти на базар, куда я не возвращалась со времен создания нашего репортажа. Я оделась, повязала на голову платок и вышла через маленькую дверь нашего садика на улицу.
Большой базар был в двух шагах от дома, я шла под удивленными взглядами мужчин, еще более гнетущими, чем в Кабуле. Здесь в проходах между рядами бродят одни «тюрбаны». Ни одного женского силуэта, только мой. Афганистан — мужская страна, где покупками занимаются мужчины. В квартале продавцов тканей я снова наткнулась на лавочку коммерсанта, которого снимала четыре месяца назад с Мерхией и Джамилей. Он разговаривал с кем-то в своей «пещере Али-Бабы», стоя напротив необъятных рулонов ткани, сиреневых, розовых, и велюра, усыпанного блестками. Все это переливалось нежным светом в сумерках. В углу дымил самовар.
— Выпьешь с нами чаю, — сказал он приветливо, со сдержанным любопытством, так свойственным афганцам.
Тут вас не забрасывают вопросами, вы — здесь и сейчас, и пока этого вполне достаточно. Какой-то паренек поторопился поставить перед почетной гостьей чайник с черным чаем и стакан, который он сразу же наполнил. А еще чашку с коричневыми шариками разного размера. Я спросила, колеблясь:
— Это же не гашиш, я надеюсь?
Шарики сильно напоминали его. Хозяева развеселились, но покачали головами в знак отрицания.
— Вы употребляете его?
— Нет. Гашиш и опиум — это для вас, иностранцев.
Снова смех. Я сделала вид, что верю им. В данном случае шарики были всего лишь гуром, безобидными кусочками тростникового, почти не рафинированного сахара.
Эта шалость в гостях у старых знакомых подняла мне настроение, и легкой походкой я направилась в Комитет по делам племен. Растянувшись на ковре под тенью платана, Шахзада проводил совещание сельских глав. Он встретился со мной взглядом. Я помахала ему рукой и ускользнула, словно воришка в яблоневом саду.
Придя ко мне, он не сделал ни единого намека на мою прогулку — я оценила это. Но больше так не поступала. К чему портить редкие минуты, которые мы воруем у нашей общественной жизни?
«Я порву твой паспорт и брошу обрывки в реку», — произнес он, устраиваясь в кресле. Он сказал это смешливым тоном, но я чувствовала, что в глубине души он обеспокоен.
Созданный нами уютный семейный мирок взбудоражило одно событие: фильм «Айны» только что выбрали для участия в Дортмундском фестивале. Тремя месяцами раньше, когда мы вернулись из Бадахшана, у нас было пятьдесят отснятых часов. Понадобилось семь недель для монтажа, чтобы из них получился фильм на 52 минуты — «Взгляды афганок». Видя качество материала, который вначале должен был быть фильмом для внутреннего пользования наших спонсоров, мы выбрали для него другую судьбу.
Я была измучена и удовлетворена одновременно. Нас ведь никто не учил тому, как все должно быть. Мерхия, Шекиба, Джамиля, Гуль — эти смелые девушки вдохновили меня. Их энергия, смех, свежесть дарили мне крылья. Мы игнорировали тот факт, что в Дортмунд было отобрано еще двадцать лент со всего мира.
Это мероприятие позволило бы мне продлить мои европейские «каникулы» и провести несколько дней во Франции.
Значит, мы расстанемся на три недели — впервые за все то время, что мы вместе. Это несоизмеримо болезненнее наших прощаний в саду, когда кто-то из нас уезжает в Кабул.
Для Шахзады это было особенно драматично. Жизнь научила его тому, что все может оборваться в одну секунду. Если со мной что-то случится в Европе, кто сможет сообщить ему об этом? Телефона нет, мы не говорим на одном языке, и, что самое главное, никто не знает о наших отношениях. Я просила моих двух сообщниц о строгом соблюдении тайны. Мерхия даже обиделась, когда я намекнула ей на такое предательство:
— Не беспокойся, Брижитт-джан. Мой отец всегда говорил мне: «Если ты слышишь разговоры на стороне, не приноси их в наш дом».
Таким образом, как же ему найти меня? В Афганистане говорят камни, но там…
Для его успокоения и чтобы он ни одной секунды не забывал обо мне, я кое-что придумала. Я написала двадцать писем, датированных и пронумерованных, которые мне потом перевели на дари, — по одному на каждый день нашей разлуки. Я просила его открывать их день за днем. Они задумывались как маленькие черточки, которые постепенно оформляются в рисунок. В рисунок судьбы, которую я хотела бы прожить с ним. Они рассказывали о моих чувствах, планах, будущем путешествии в Европу, даже о смерти. Как не думать об этом? Она омрачала наши жизни. Атаки американских войск сеяли ужас. Особенно страдал юг страны, район Кандагара, где армия США осуществляла постоянное патрулирование в поисках Бен Ладена. Но и Кабул и Джелалабад не очень-то берегли. Американцы начали наступление на Ирак, арестовали Саддама Хусейна, развязав там кампанию и удалив журналистов и сотрудников международных организаций, от которых до нас доходили сведения об усилении давления на иностранцев, особенно на экспатов.
У Шахзады всегда было предчувствие, что он умрет молодым и не своей смертью. Поэтому к чему отрицать смерть? Говорить о ней — значило думать о нашем будущем, каким оно будет — грустным или радостным. Однажды, когда мы были особенно счастливы вдвоем и это счастье было настолько огромным, что не могло продлиться долго, я попросила его обещать мне, что, когда придет мой час, он похоронит меня рядом со своим домом в горах. Меня совсем не вдохновляла идея лежать на безвестном кладбище в Лотарингии. Я хотела остаться рядом с мужчиной, которого любила, погребенной в земле, так много давшей мне. Он не пытался сделать вид, что я говорю о чем-то сверхъестественном, не притворялся. Его жизнь была уже наполнена столькими смертями. Он сказал только: «Да, если ты умрешь раньше меня, ты останешься здесь, и я буду приходить к тебе. Я буду говорить с тобой, и мы снова будем вместе». Может быть даже, он посадит над моей могилой гранатовое дерево, которое оградит меня своей тенью от летнего зноя.
Вернувшись из Дортмунда, я узнала, что он бросился читать мои письма, открыв все в тот же вечер и с жадностью их проглотив.
В начале мая я вернулась в деревню Шахзады, чтобы попросить у его отца разрешения увезти Шахзаду в Европу. Старик не раздумывая согласился. Однако вечером он сказал одной из своих жен: «Шахзада больше не вернется». Но тогда почему же он дал согласие? Думал ли он, что однажды пожалеет о том, что обрубил крылья своему сыну, который хотел познать что-то новое? Надеялся ли сделать его счастливым, с опозданием в долгих десять лет?
Нас занимал один вопрос: почему мы встретились? Почему соединились два таких разных существа, из столь далеких друг от друга стран? Он — спокойный, выносливый, загадочный горец, к тому же наделенный властью. А я — неуклюжая, требовательная, независимая девушка. Но, конечно, эта встреча не была случайной. В Кабуле, когда я оставалась одна в своей комнате, мне было трудно избавиться от размышлений о смысле происходящих событий. Я говорила об этом с Шахзадой, и мы пришли к мнению, что наша встреча была полезна этой стране, лишенной всего. Нам нужно было соединиться ради нее. Во время войны мужчины, которые были рядом с Шахзадой, погибли, поэтому он всегда чувствовал себя в долгу перед ними. Он часто навещал их вдов и сирот. А уходя, оставлял горсть афгани из своих личных средств. Я же приехала из богатой страны, у меня были идеи и некоторые полезные контакты. Главным, самым мощным орудием была моя камера.
Почему нам не заняться здесь развитием туристических маршрутов? Шахзада устроил бы поездки в момандские племена, где туристы небольшими группами в четыре-пять человек могли бы пожить какое-то время. Они открыли бы для себя настоящую жизнь афганцев, а не ту, которую показывают средства массовой информации. Вырученные средства могли бы идти на строительство больниц и школ для мальчиков и девочек. Во время последнего приезда в деревню я сняла больницу и школу, построенные Шахзадой в этом горном местечке. Эти кадры могут понадобиться, когда мы будем искать источники финансирования.
Спустя несколько дней мы уехали. У меня была настоящая эйфория: Шахзада откроет для себя Францию! Он влюбится в мою страну так же, как я влюбилась в его страну. Для этого случая ему сшили европейский костюм и несколько пар брюк: «Я еду в твою страну и хочу выглядеть, как мужчины твоей страны».
Его щегольство умиляло меня. Он менял одежду каждый день. Шкаф в нашей комнате ломился от шаровар самых разных расцветок, развешанных в безукоризненном порядке. Шахзаде нравились одеколоны. Его предпочтения сбивали меня с толку. Когда мы познакомились, он душился «Chance» от Шанель, женской туалетной водой, которую ему привез друг из Англии. Именно этот сладкий запах, исходивший от его затылка, я вдыхала, когда мы в первый раз поехали на поиски кучи. Вместо того чтобы доставить удовольствие, этот запах заставил меня ревновать. Женская туалетная вода! Это было глупо, конечно, соперницы у меня не было. Через французов мне удалось раздобыть несколько флакончиков других духов. Шахзада особенно увлекся «Déclaration» от Картье. Странно, что его совсем не впечатлил «Habit rouge» от Герлена.
Из-за отсутствия прямого рейса из Афганистана в Европу нам предстояло поехать в Дубаи. Я все предусмотрела — в этом экстравагантном городе мы проведем ночь в шикарном отеле. Неожиданная свобода после многочисленных условностей в Кабуле! Я продумала все, но не учла необходимости транзитной визы для Шахзады, которая позволит ему покинуть местный аэропорт, проехать в город и, наконец, улететь из международного аэропорта. В этом эмирате с недоверием смотрят на пассажиров-афганцев, которые, по их мнению, являются идеальными кандидатами для подпольной иммиграции.
Я возмущалась, ворчала, но ничего не менялось. За стеклом зала для транзитных пассажиров Шахзада оставался индифферентным к происходящему, центром которого он был. Я пошла получать наш багаж. Не хватало одного чемодана. Самого ценного для нас. В нем были европейская одежда Шахзады и мой «наряд принцессы», украшенный жемчугом, — первый из его подарков. Кто-то украл чемодан в зале регистрации в кабульском аэропорту.
Мы провели ночь на скамейках в комнате с бледно-голубыми стенами. Сэндвичи в прозрачной пластиковой упаковке заменили нам вереницу блюд разных кухонь мира в ресторанах Дубаи, а одиночество — праздное шатание по сверкающим хрусталем и иллюминацией торговым галереям, в которые, кажется, стекаются все деньги мира. Утром мы проснулись в аэропорту, разбуженные полицейским патрулем.
В общем, Шахзада прилетел в Париж в своих шароварах и больше их не снимал. Его пакол провоцировал прохожих на высказывания типа: «Смотри-ка! Масуд!» Я переводила. К сожалению, Шахзада, как и большинство пуштунов, не жаловал таджикского генерала, которого считал виновным в том, что его страна лежала в руинах. По его мнению, если бы Масуд не победил, если бы он не поддержал переворот, направленный против президента Наджибуллы, в стране не было бы опустошительной гражданской войны, расчистившей путь для талибского режима. В Кабуле, глядя на гигантские изображения Масуда на фасадах домов, я говорила Шахзаде: «Видишь, он — настоящий национальный герой». Он с грустью качал головой: «Эти большие портреты — фасад, за которым несметное число жертв. Они недопустимы».
Мы остановились в маленьком отеле в 15-м округе, рядом с Эйфелевой башней. Вечером из окна нашей комнаты мы видели ее мерцающий блеск. Какой же элегантной и праздничной была ночная красавица! Каждое ее мигание вызывало на лице Шахзады выражение неподдельного восхищения.
В остальном же Париж ему совсем не понравился. «Подземелья» метро, эскалаторы и движущиеся дорожки пробуждали в нем инстинкты горца, привыкшего во всем видеть опасность. Первое его страшило, вторые лишали равновесия: сосредоточенный, недовольный, он пытался подстраиваться под бег движущегося полотна. В конце концов он отказался от таких способов передвижения. Такси его вполне устраивало, мне пришлось потратить на него целое состояние. Было очевидно, что мой любимый город его разочаровал. Однажды, когда мы сидели на террасе кафе в солнечный июньский день и наблюдали за прохожими, он, выйдя из состояния созерцания, сказал мне: «Брижитт, здесь вы все ходите всегда очень быстро. Куда вы спешите с таким грустным, озабоченным видом?» Я не знала, что ответить этому мужчине, несоизмеримо менее избалованному, чем здешние прохожие, но лицо которого излучало свет.
Часть его семьи жила в Исси-ле-Мулино, в предместье Парижа. Многие из его двоюродных братьев, дядюшек и тетушек покинули Афганистан после падения режима Наджибуллы, в тот момент, когда только разгоралась гражданская война. Они любили свою страну издалека. Приезд Шахзады был для них настоящим событием, которое они хотели достойно отпраздновать. Я пойду с ним. Но со всей осторожностью: меня предупредили не делать ничего, что могло бы нанести ущерб его репутации.
Кстати, несколькими неделями раньше Шахзада привел меня к своим родственникам в Гушту, рядом с Джелалабадом. Все прошло гладко, но в конце нашего визита, желая привлечь его внимание, я назвала по имени. «Шахзада» звучит слишком нежно, на его вкус. В машине он призвал меня к порядку: «Не начинай снова, прошу тебя. Не нужно, чтобы люди знали о наших чувствах». Мне стало очень грустно: «Нам никогда не удастся сделать это, Шахзада. Мне постоянно кажется, что я делаю что-то не так, совершаю ошибки…» Я плакала от отчаяния. Если так, он никогда не возьмет меня за руку на людях. Никогда не обнимет за плечи. Не поцелует меня. Все эти маленькие знаки любви были непозволительны для нас, но так необходимы для меня. Они — неотъемлемая часть моей культуры и языка, которые именно так демонстрируют чувства нежности и страсти.
Чтобы утешить меня, он остановил машину в безлюдной местности и стал учить меня стрельбе из автомата.
Нас принимали в большой квартире в Исси-ле-Мулино. Человек тридцать гостей расположились в креслах, на диванах и стульях в гостиной. При появлении главы момандов все встали. Шахзада поприветствовал каждого. Некоторые мужчины были одеты по-европейски, другие — в традиционные наряды. Они обнимались, произнося свое «салам». Меня здесь встретили дружелюбно, и Шахзада представил меня как свою подругу.
Телефон звонил не переставая. Моманды диаспоры хотели поговорить со своим лидером. Поэтому Шахзада провел большую часть времени за телефонными разговорами, оставив меня в гостиной под шквалом вопросов. Кто я? Чем я занималась в Афганистане? В чем заключалась моя работа? Что я думаю об их стране? Я говорила о своей операторской работе и нашем фильме. Ничего компрометирующего я не сообщила, во всяком случае, мне так казалось.
Вернувшись в отель, Шахзада замкнулся в себе. Я была в недоумении. Что я сделала не так?
— Брижитт, ты слишком много говоришь с мужчинами.
Я протестовала. Как же можно было говорить с ними по-другому? Совсем немного? Сколько слов? Два? Три? Это было бы затруднительно, поскольку я всего лишь отвечала на заданные мне вопросы. Он не унимался:
— Ты прекрасно знаешь, что так не делается… У людей сложится очень нехорошее мнение о тебе…
Но этим все не закончилось. На вечере был один из кузенов Шахзады, недолюбливающий его. Он переиначил мои слова и использовал их для своих инсинуаций, заявив, что я работала в разведке. Афганцы обожают такие истории, и, несомненно, слухи быстро доползут до Афганистана. Шахзаде в этом случае придется рассчитывать только на своих друзей. Навредит ли это нам? Никогда не знаешь.
Позже мы поехали во Франкфурт к родственникам его жены. Они хотели повидаться с ним. И снова — большая квартира, заполненная момандами, покинувшими родину много лет назад. Они обращались к Шахзаде очень уважительно. Я была представлена по имени, без всяких уточнений. Не подруга, не будущая жена. Это обстоятельство рождало во мне умилительное чувство тайной любовницы. Но постепенно, час за часом, из-за отсутствия общего языка я стала чувствовать себя здесь лишней.
Женщины были одеты в довольно длинные платья поверх национальных брюк, и, хотя они были в Европе и у себя дома, их волосы были скрыты под платками. Они улыбались мне. Среди них была настоящая красавица — младшая сестра Кути. Дивное лицо с глубокими, словно озера, карими глазами, какие, без сомнения, были и у Кути в день ее свадьбы, до того как жизнь в пустыне закалила ее и заострила черты.
Какая-то женщина смотрела на меня украдкой. Мне объяснили, что это свекровь той молодой красавицы. Она подошла к Шахзаде и, разговаривая с ним, продолжала бросать на меня взгляды. Шахзада объяснил мне все по дороге домой. Подруга этой женщины познакомилась со мной на фестивале в Дортмунде, когда я представляла «Взгляды афганок». После показа мы немного пообщались, и ее поразила манера, в которой я говорила о молодом лидере момандов в Джелалабаде. Афганское «сарафанное радио» быстро донесло эту весть до семьи.
Вопрос, который поставила перед Шахзадой та женщина, умилял своей простотой:
— Брижитт сказала, что влюблена в тебя. Это правда?
— Нет. Брижитт — подруга, ничего больше.
Его дипломатичная ложь вывела меня из равновесия. В Афганистане у меня никогда не возникало ощущения, что меня прячут. Там нас соединила торжественная помолвка, которая отвела мне место в его большой семье. Я не знала, что сказать. Я подозревала, что эта осторожность связана с клановыми традициями, хитросплетениями семейных отношений, от чего я была слишком далека.
Мы вернулись во Францию. Я собиралась представить ему своих друзей, которые, несмотря на расстояние и сложности налаживания постоянной связи, остались со мной. Особенно те, что в Нанси, где я продолжала снимать квартиру.
Моя подруга Анник ждала нас на перроне вокзала. Моя милая Анник! Вихрь эмоций накрыл меня. Но все-таки я постараюсь не плакать! Я наконец вернулась домой, и все теперь будет в порядке…
Уже через две секунды я поняла, что они не поладят между собой. Она поцеловала меня, поздоровалась с ним, после чего почти не замечала его присутствия. На этой запруженной платформе, в толпе спешащих, раздраженных людей, отталкивающих друг друга, чтобы успеть на поезд, Шахзада стоял не двигаясь, опустив руки. Наши многочисленные чемоданы стояли у ног. Он не выказал намерения нести их. Одетый снова в купленный мимоходом европейский костюм, он немного потерял в своем величии. Анник смотрела на него недружелюбно, ожидая, когда же наконец он сделает то, чего ждут от мужчин, — донесет вещи до машины и положит их в багажник. Как объяснить ей, что у себя на родине Шахзада был властелином, который не поднимал даже небольшого пакета, человеком, перед которым все суетились, пытаясь уловить его малейшие жесты, желания? Как объяснить, что в настоящий момент, на этом шумном тротуаре, среди криков пассажиров, непрекращающихся объявлений по громкоговорителю, воя клаксонов, он чувствовал себя совершенно потерянным? Единственное, что связывало его со своей культурой, был пакол, который он носил по-прежнему. Анник рассматривала его с любопытством.
Шахзада чувствовал себя неуютно все время пути до моего дома. Воспользовавшись моментом, когда мы оказались вдвоем на кухне, шкафы которой Анник наполнила провиантом, она шепнула мне: «Не понимаю, что ты нашла в этом типе». Она ушла разочарованная. Ей казалось, что я заслуживаю большего. Слышать такое было немного неприятно, но я знала, что это суждение было продиктовано эмоциями. И конечно, такую оценку я услышу еще не раз.
Я снова оказалась в своей светлой квартирке, как птица в гнезде. Здесь наконец я смогу контролировать ситуацию, делать все, что хочу. Шахзада обвел взглядом деревянную обшивку стен, маленькую деревянную лестницу, ведущую в комнату, диваны, стеллажи с книгами — все, что создавало мою повседневность в моей предыдущей жизни, на чем был отпечаток всего того, чем я была и о чем Шахзада до сих пор не знал. Он пожирал глазами все вокруг, чтобы лучше понять меня. Его привлекла библиотека. Он приблизился к ней с почтением, читал на корешках названия, которые он не понимал. «Здесь книги об Афганистане», — объяснила я ему. Он взял одну, открыл на странице, где была заложена фотография. Ему улыбалось лицо Масуда. Он тут же закрыл книгу и положил на место. Потом молча присел на софу. Ушел в свои мысли.
По его логике, все было просто. Он хранил мои фотографии, потому что любил меня. Я фотографировала его и берегла негативы, потому что любила его. Я сохранила портрет Масуда в одной из своих книг, потому что его любила.
Шок привел его в оцепенение. Я объясняла ему, что речь идет об открытке, иллюстрирующей мой фильм, показанный в Панджшире. Но слова пролетали мимо его ушей, он не слышал меня. Я смертельно устала, меня вывела из себя эта ситуация. Ни я, ни он не проронили ни слова до следующего дня. Такое долгожданное путешествие терпело фиаско.
Проблемы со здоровьем Шахзады, о которых я говорила его отцу, чтобы он разрешил ему покинуть Афганистан, не были лишь предлогом. Он нуждался в лечении. В Нанси у меня была замечательная подруга-врач Женевьева. Она записала нас ко многим врачам своей клиники, с тем чтобы Шахзада мог в один день пройти обследование у разных специалистов. Мы пришли туда хмурыми, уставшими, разбитыми после бессонной ночи. Когда Женевьева встретила нас, мы были похожи на супругов, находящихся на грани развода. Была ли он удивлена? Она не показала виду.
Что касается Шахзады, он был явно озабочен неприятной перспективой подвергнуться осмотру у женщины, даже если она носит белый халат. К счастью, у Женевьевы уже был опыт лечения иммигрантов, она знала их традиции, догадывалась о сложностях, с которыми они сталкивались, когда не могли объяснить на иностранном языке своих проблем. Она заранее побеспокоилась о том, чтобы Шахзаду осмотрели врачи-мужчины.
Он пошел на прием с отсутствующим видом, даже не улыбнувшись на прощание. Я чувствовала себя ужасно. Оставшись наедине с Женевьевой, я объяснила ей все — свое смирение, недоразумения, чувство безысходности, которое иногда портило мне жизнь. Как было приятно поделиться со старым другом!
Вернулся Шахзада. Женевьева, сделавшая так много, не только преуспела в том, чтобы он почувствовал себя здесь наконец комфортно, но даже развеселила его. Увидев его первую улыбку, эта удивительная пятидесятилетняя женщина вскочила со своего места и кинулась ему на шею. Он резко отодвинулся. Женевьева воскликнула: «Скажи ему, что я гожусь ему в матери!» Я перевела. Тогда он позволил дважды поцеловать себя в щеку. Перемирие с этим непонятным народом состоялось, и я внесла свою лепту в процесс заключения мира.
На следующий день Женевьева устроила ужин в нашу честь и пригласила моих лучших друзей. У меня было право на сердечные излияния под укоризненным взглядом Шахзады. Мужчины брали меня за руки с радостными возгласами, рассматривая мой наряд «made in Peshawar». Была там и Анник, все еще недоверчивая. В конце ужина, воспользовавшись паузой в разговоре, она спросила Шахзаду: «Сколько у вас жен?» Все повернулись ко мне.
Катастрофа. Было невозможно признаться моим лучшим друзьям, что Шахзада — многоженец. Я объяснила им, что его жена умерла, говоря себе при этом, что потом что-нибудь придумаю. Бедняжка Кути, замечательная женщина, принесенная мной в жертву ради любви. Ужас! Он открыл рот, чтобы ответить. Я ждала самого худшего: неловкой тишины, смущенных или сочувствующих взглядов.
— Скажи своей подруге, что у меня одиннадцать жен, ты — двенадцатая.
За столом хохот. Однако я чувствовала вопрошающие взгляды, обращенные ко мне. Что ж, пусть они воображают все что им вздумается! Конечно, тайна не будет храниться вечно, хоть я постараюсь сделать все для этого. Мне даже страшно подумать о том дне, когда я признаюсь во всем, в той реальности, которую даже мне тяжело принять.
Потом мы поехали в Пуатье, другой оплот моей французской жизни, где я долго проработала в ежедневной газете «Centre-Presse». Там ждала меня другая Анник, столь же дорогая моему сердцу, как и первая, но принявшая Шахзаду очень дружелюбно. Стояла такая хорошая погода, что в воскресенье мы решили съездить в порт Ля-Рошель. А оказавшись там, нам захотелось сесть на катер и поехать до ближайшего острова д'Экз.
Скоро мы очутились посреди моря. Анник и я болтали, сидя на скамье задней палубы, когда Шахзада поднялся и направился неуверенной походкой к борту. Встал лицом к морю и больше не пошевелился, словно поглощенный мистическим пространством, серым и трепещущим, которое то сжималось, то разжималось. Впервые в жизни он наблюдал за бесконечностью и чувствовал под своими качающимися в такт морю ногами безграничную глубину.
Он повернул ко мне голову. Взволнованно прошептал: «Это красиво, это красиво». Всего лишь два простых слова на французском языке! Но они замечательно передавали всю силу его потрясения.
На острове мы прошли по песчаным дорожкам между сосен, дыша полной грудью свежим морским воздухом. Я смотрела на Шахзаду. Он казался спокойным, умиротворенным. Потом как-то совершенно естественно он взял мою руку и оставил в своей. Этот простой жест заставил забыть все маленькие обиды, которые были между нами в последнее время.
Глава 11 Мушкил
Энергия, которая два года назад объединила создателей «Айны», начала постепенно разделять их. Стресс, пережитый во время пребывания в Афганистане и в период совместного проживания в одном гостевом доме, новые мечты и кое-какие личные проблемы разделяли их все больше и больше.
Что касается меня, я взяла на «Франс-3» длительный отпуск. Срок моего контракта здесь заканчивался, я не хотела больше его возобновлять: невозможно прожить на тысячу евро. Я спрашивала себя, что мне делать дальше. Я распрощалась с мыслью о работе во Франции: мое будущее было отныне связано с другой страной, а мое место — рядом с Шахзадой.
Родольф Бодо ушел первым. «Айна» была некоммерческой организацией и существовала на средства различных международных организаций. За два года она во многом преуспела. Но Эрик Давен и его друзья проводили большую часть своего времени за финансовыми отчетами для спонсоров и только 10 % отдавали творчеству. Они всегда были творческими личностями. А еще они надеялись — и на это у них были все основания, — что роль «Айны» состояла в просвещении афганцев, в том, чтобы помочь им достичь самостоятельности в принятии решений. Им казалось, что эта цель достигнута. Когда Родольф со своим единомышленником создал частную компанию «Алтай Консалтинг», действующую по афганским законам, Эрик решил присоединиться к ним.
Я же подписала контракт с французским Министерством иностранных дел, которое предложило мне должность технического ассистента департамента теле- и радиокоммуникаций посольства Франции в Кабуле. Мне предстояло приобщиться к другой среде — к миру чиновников, добиваться амбициозных целей, а для этого нужно было перевернуть страницу и оставить незабываемые профессиональные приключения в прошлом. Они были больше чем просто работой. Они позволили мне открыть для себя другую страну и встретить мужчину моей жизни. К тому же я смогла направить бурлящую во мне энергию на конкретное дело.
«Взгляды афганок» привлекли к нашей небольшой женской команде международное внимание. За несколько недель наш департамент стал любимым сюжетом иностранных СМИ, а женщины-операторы — настоящим символом. Я видела, как мои ученицы из дебютанток перешли сразу в статус звезд, отвечающих на вопросы в десятки микрофонов разных каналов и изданий. Их звездный час настал, когда Кристина Аменпауэр, известная журналистка из Си-эн-эн, поинтересовалась не только их работой, но и частной жизнью. Теперь в глазах всего мира они стали воплощением освобождения афганских женщин и победы воли над варварством. Даже Голливуд не прошел мимо этой истории. Во время показа фильма на фестивале в Стэнфорде Сьюзен Сарандон, кинозвезда, небезразличная к вопросам политики, выразила свое восхищение создательницами ленты: «Есть тяжелые судьбы, и есть афганские женщины. В то время как главная книга человеческих злодеяний продолжает писаться, они добавляют в нее свою собственную главу».
Во время этой поездки в Америку девушки были приглашены в Белый дом женой президента Лорой Буш и Кондолизой Райс, в то время советником президента. Я же предпочла общество Шахзады в Джелалабаде. Слава и награды никогда не привлекали меня. Учитывая особенности моего профессионального круга, это с моей стороны, конечно, неправильно. Но я не жалею об этом.
«Взгляды афганок» показали во многих американских городах под названием «Афганистан без чадры», а появление на общественном канале Пи-би-эс в конце 2004 года привело его на конкурс «Эм-ми-2005» в Сан-Франциско в номинации «Лучший документальный фильм».
Любому вскружил бы голову подобный успех. Девушки не стали исключением. Они забыли, что им еще многому предстояло научиться. Я наблюдала с некоторым беспокойством за их звездной болезнью. Станет ли их страна достаточно свободной для того, чтобы они могли заниматься своей профессией? А если она снова погрузится в хаос, не станут ли они мишенями? И не будем ли мы в ответе за это?
Но страница была перевернута. Я переехала в большой дом в шикарном квартале Кабула, Тай-мани. Расположение дома в элитном районе хоть и не избавляло от разбитых дорог и засоренной канализации, но все же обеспечивало относительную тишину и безопасность. Я жила с пятью другими соотечественниками. Все они преподавали французский в двух лицеях Кабула. О том, чтобы жить одной, не было и речи. Никто даже не спрашивал об этом — во главу угла был поставлен вопрос безопасности. Тем более что ни у кого не было средств, чтобы снимать такое жилье самим: арендная плата постоянно росла.
В какой-то степени это была жизнь «в замке». Охранник стерег дом, горничная приводила его в порядок, повар ходил на рынок за продуктами. Почти за два года у меня не было ни единой возможности самостоятельно заправить свою кровать или взять в руки веник.
Мы всегда вместе ели в гостиной, пользовались единственной ванной комнатой, смотрели телевизор в маленькой комнате, обставленной в афганском стиле. Хлопковый матрас и несколько подушек на полу и — невиданная роскошь — телевизор, демонстрирующий иностранные каналы, с DVD-проигрывателем. Мы никогда не пропускали вечерний выпуск новостей на «Франс-2», который стал единственной ниточкой, связывающей нас с нашей страной, с другой реальностью. Что касается DVD, то мы обычно смотрели комедии — единственное, что могло гарантировать нам по крайней мере несколько веселых минут. Эти фильмы не отражали мои предпочтения, но жизнь в коллективе оставляет небольшой выбор для личных вкусов. К тому же у нас были большой сад и собственные комнаты, где всегда можно было уединиться.
Я уходила очень рано, а возвратившись вечером, ужинала и ложилась спать. Когда Шахзада приезжал в Кабул в Министерство по делам племен, он приходил навестить меня. Один из моих соседей называл его Эрцгерцог в знак уважения к его естественной элегантности. Если Шахзада был со мной, мы ускользали с совместного ужина и ели в моей комнате. Я ни с кем не хотела его делить.
Его эффектное появление всегда вызывало трепет у моих соседей. Они уважали его. Это уважение еще возросло однажды, когда я решила избавиться от стоящего в моей комнате непривлекательного шкафа. Три преподавателя, стоя на коленях, пытались в течение добрых двадцати минут вынести его из комнаты, в которую его, судя по всему, когда-то каким-то образом внесли. Они потели, нервничали, пытались и так и сяк, но шкаф никак не протискивался в дверь. Пришел Шахзада, в одно мгновение оценил обстановку — размер мебели, ширину дверного проема, — потом дал указания. И шкаф «выбрался» из комнаты самым чудесным образом. Я улыбалась украдкой.
Кабул с каждым годом менялся. Конечно, столбы пыли продолжали нас удушать, шум оставался нормой, так же как и такси без счетчиков. Лучше самому вычислить необходимую сумму, сунуть банкноты водителю и быстро испариться. В ином случае предстояло услышать бесконечные сетования и получить троекратное увеличение тарифа.
Однако каждый день приносил маленькое существенное нововведение. Обращали на себя внимание вывески на некоторых дверях. Они изображали Мистера Мускула, который с удовольствием демонстрировал свои бицепсы. Этот символ освобождения тела, достаточно удивительный в обществе, где царила крайняя осторожность, привлекал внимание к тренажерным залам.
На улице, под чадрой, отвоевывала свои права женственность — кружево на брюках выглядывало из-под складок ткани, ножки, украшенные татуировкой из хны, обуты в модные сандалии. Афганское кокетство незаметно проскальзывало и раньше. Под непрозрачной тканью — тщательный макияж, припудренная кожа, напомаженные губы открывались взору, когда у подруги или в частном саду чадры откидывались легким движением руки и отбрасывались прочь.
В квартале Шахр-е-нау некоторые витрины пестрели роскошными платьями из кружев и газа, с воланами, украшенными искрящимися разноцветными стразами. Похоже, они хорошо продавались. Может быть, они даже проходили мимо меня по улице, невидимые под чадрой.
Как-то утром при сильном ветре, на улице, запруженной ручными повозками и велосипедами, я видела, как чадры развевались, поднимались, открывая облегающие одежды и ноги, затянутые в чулки и обутые в туфли-лодочки.
В какой-то момент благодаря картам AWCC в Афганистан проникли мобильные телефоны. Их можно было раздобыть на обочинах дорог у мальчишек, которые носили их связкой вокруг шеи или на руке. Я звонила Шахзаде по шесть, восемь, десять раз в день. Он делал то же самое. Эсперанто, позволявшее нам общаться, быстро эволюционировало в сторону настоящей лексики. Английские и французские слова, слова на дари и пушту, без синтаксиса — к чему все усложнять! — произносимые с нежной, вопросительной, раздраженной интонацией, позволяли говорить на понятном только нам одним языке.
Я засыпала Шахзаду звонками как ненормальная. Иногда я сомневалась в прочности его нервной системы, которой приходилось выдерживать такой напор. Поэтому я извинялась.
— Брижитт, не извиняйся. Ты никогда меня не беспокоишь. Мне нравится слышать твой голос.
Иногда я звонила ему во время совещаний. В этих случаях он снимал трубку, слушал меня, потом, не произнося ни слова, клал трубку на стол, позволяя обрывкам разговоров в Джелалабаде долетать до меня в Кабуле. Это означало: «Мы далеко друг от друга, но ты всегда со мной».
У меня была машина с собственным шофером, это было предписано нормами безопасности посольства. Эсматулла знал каждый уголок Кабула и с честью выходил из постоянно возникавших сложных ситуаций. Он настаивал, чтобы я представляла его своим ассистентом. Если бы его друзья узнали, что он работает шофером, имея диплом инженера, его престиж в их глазах резко бы упал. Однако он зарабатывал здесь в пять раз больше инженера на государственном предприятии: те получали тогда 100 долларов.
То, что мне не нужно было больше ловить такси на перекрестке, было настоящим облегчением. К тому же не приходилось встречаться с бесстыдными взорами мужчин. Особенно молодых, которые раздевали женщин взглядом, давая понять, что ни во что их не ставят. Они выросли в мире бесконечных табу, где все было грехом, провокацией, обманом. Двух лет свободы было недостаточно, чтобы избавиться от всего этого.
Другим преимуществом передвижения на личном автомобиле было то, что я уже не могла оказаться случайной мишенью при захвате заложников или террористическом акте. Последних не стало меньше: Герат, Кундуз, Кабул, Газни, Кандагар, Джелалабад были площадкой для атак или бомбовых ударов, направленных против талибов. Жертвами же становилось гражданское население. Учитывая это, некоторые предпочитали передвигаться на велосипеде или ходить на работу пешком. Но таких было меньшинство.
Обычно, выходя из здания, мы сразу же садились в машину к знакомому водителю, быстро опускали занавески и поднимали стекла, чтобы солнце и жаркий воздух не проникали вовнутрь. Несмотря на все эти предосторожности, ездить здесь было по-прежнему страшно. Мы просиживали в бесконечных пробках иногда по нескольку часов кряду. Президентский кортеж, направляющийся на инаугурацию, или проезд международных миротворческих сил могли полностью парализовать движение в столице. Невозможно было, оказавшись в стиснутом машинами пространстве, не думать о худшем: а если какая-нибудь из машин взорвется? Вдруг бомба взорвется посреди этой сутолоки? Когда женщина в чадре переходила дорогу перед нашей машиной, у меня замирало сердце. Кто прячется под этой одеждой? Мужчина? Женщина? Смертник?
В любом нормальном городе можно пообедать в ресторане, потанцевать в клубе, развлечься… Ничего подобного в Кабуле не было. Поэтому появление первых ресторанов стало настоящим событием для нашей маленькой колонии экспатов. Были итальянский, китайский, иранский рестораны. Предметом гордости стало открытие двумя бывшими сотрудниками «Айны» французского ресторана «Атмосфера». В нашей повседневности появилось немного светской жизни. Французский повар обучил афганских коллег тонкостям приготовления филе и шоколадных десертов. Зал и столики в саду никогда не пустовали. Летними вечерами мы ужинали здесь при свете установленной в центре сада жаровни. Как будто мы были в мексиканском кафе, в римском ресторанчике, неважно где, но далеко отсюда, за тысячи километров от Кабула с его хаосом.
С Шахзадой мы созванивались каждый вечер в девять часов. Это вошло в привычку, которой мы не изменяли, несмотря ни на какие обстоятельства. Случалось, что он звонил, когда я ужинала в ресторане с приятелями, которые устремлялись сюда, как и я, чтобы хоть на пару часов забыть окружающую нас реальность. На другом конце провода он слышал обрывки разговоров в зале, смех, мужские голоса, звон приборов. По его сухим фразам и немногословию я чувствовала, что он начинает ревновать. Тогда я уединялась в тихом уголке, но вернуть его расположение было уже невозможно. Закончилось тем, что я пошла на маленький обман: говорила ему, что ужинаю одна в своем саду. Не хотелось портить друг другу жизнь из-за пустяков. Тем более что некоторые члены семьи начали вредить нам.
Однажды небо обрушилось мне на голову.
— Ты была в Пешаваре? — спросил он меня по телефону.
Мое ухо сразу уловило его раздраженный тон. Но я не была в Пакистане уже очень давно.
— Нет. Почему ты спрашиваешь?
Он объяснил, что один из сводных братьев сказал ему, что видел меня несколько дней назад в одном из отелей Пешавара. Я вспыхнула: что это еще за история? Я чувствовала себя оскорбленной. Это неопределенное выражение «в одном из отелей Пешавара» означало, что я изменяла Шахзаде. Я задумалась. Такое грязное обвинение имело тройное действие. Оно наносило вред моей репутации, пыталось разбить нашу семью. Наконец, оно дискредитировало Шахзаду, показывая, что глава момандов не способен навести порядок даже в собственной семье. Это было чрезвычайно важно, поэтому я хотела сразу расставить все точки над i.
— Тебе придется заглянуть в мой паспорт.
У меня их было два: один обычный, другой — дипломатический.
В пятницу Эсматулла повез меня в Джелалабад. Озабоченный Шахзада ждал меня в нашей гостиной. Прежде чем поцеловать его, я протянула ему оба паспорта и опустилась в кресло. Он молча стал просматривать их, страница за страницей. Должно быть, так же тщательно он делал свою работу, когда был полковником полиции. Мне было неприятно все это. Нехватка его доверия задевала меня. Но я подумала, что на его месте поступила бы столь же неделикатно.
Когда он убедился, что в документах нет пакистанских печатей, он вернул их мне. Но я хотела закрыть вопрос окончательно, а потому не остановилась на этом. Никаких сомнений не должно остаться. Нужно вернуть его доверие.
— Ты должен проверить списки на границе, — попросила я, стараясь придать голосу максимально нейтральное звучание. Какое унижение!
Шахзада нашел идею хорошей и без промедления попросил все проверить. Каждый пассажир, пересекающий границу, вносится в регистр. Мое имя там фигурировать не будет, а значит, я буду оправдана.
Эта попытка испортить наши отношения показала, что у нас есть недоброжелатели.
Примерно в это же время мишенью другой атаки стала Кути. Моманд, с которым мы повстречались в Европе, приехав в деревню Шахзады, начал цензорским тоном допрашивать его жену.
— Как ты можешь терпеть эту ситуацию? — негодовал он.
— Это наше личное дело, оно касается только меня и моего мужа, — спокойно ответила та, надеясь положить конец вмешательству семьи в нашу жизнь.
Однако все эти бестактные выходки и неодобрительные суждения все же подействовали на женщину, и она стала настаивать, чтобы Шахзада женился на мне. Я восхищалась ею. Находясь в заточении в горах, без поддержки, она отбивалась от ужасных сплетен, которые ложились на нее еще более тяжелым грузом, чем на Шахзаду и меня. Она выдержала все это очень достойно.
Наша связь становилась известной в разных версиях. Мерхия, у которой в Джелалабаде были родственники, сообщила мне о слухах, которые там ходили: «Глава момандов тайно женится на иностранке». Чуть позже переводчица из ISAF пришла ко мне в кабинет с поздравлениями: «Мне сказали, что вы вышли замуж за пуштуна из Джелалабада…» Я не позволила ей продолжать, сказав, что она ошибается. Каково же было ее разочарование!
— Как жаль! Мы бы гордились этим…
Когда же мне в третий раз сообщили о моей свадьбе с афганцем из Логара, я уточнила:
— Да, но он не из Логара.
Этому ответу, похоже, были рады.
Среди экспатов первыми об этом узнали французы из «Айны», потом те, с кем я делила дом в Тай-мани. Больше никто не был в курсе. Я невозмутимо терпела вечные насмешливые намеки о гареме или третьей жене, шутки, которые обожают европейцы.
Несмотря на молчание моих соседей, новость все же распространилась. Как-то вечером одна моя знакомая француженка, к которой я относилась с большой симпатией, пришла повидаться со мной перед ужином. Она тоже была замужем за афганцем уже много лет. Мы потягивали безалкогольное пиво — оно начало появляться в магазинах на Флауэр-стрит, — и она завела разговор о Шахзаде. Я колебалась, но потом все же решилась рассказать ей все открытым текстом, уверенная в том, что она поймет меня. Но в ответ я получила презрение:
— В этой ситуации ты жертвуешь всем, а он — ничем.
Она негодовала под предлогом того, что хотела для меня лучшей доли.
— Остерегайся, — заявила она, — афганцы сочтут тебя проституткой…
Я была раздавлена. Мою красивую любовь, мою страсть превратить в вульгарную историю двойной жизни и грязного белья! Нам пришлось преодолеть столько препятствий, и для меня было очевидно, что Шахзада считает меня своей женой. Я не думала, что когда-нибудь услышу такое. Да, Кути была права, он должен на мне жениться. Впрочем, он обещал мне это.
Приблизительно в то же самое время жизнь преподнесла мне утешение. У меня появилась подруга, иностранка, назовем ее Hyp. Он была замужем за пуштуном уже лет тридцать. Ее мнения отличались мудростью и остроумием, а знания об афганском обществе были незаменимы. Она помогала мне лучше узнать себя и никогда не пыталась осуждать мои решения. По поводу слухов в столице она высказывалась предельно ясно: «О, ты же знаешь Кабул. Если кто-то хочет навредить тебе, он использует все возможные средства. И твой случай — один из таких». Она была единственной, с кем я могла поговорить обо всех своих сомнениях, жизненных планах. Я решила быть сдержаннее с другими, но это вело меня к одиночеству.
Предстоящая свадьба занимала все мои мысли, стала навязчивой идеей. Я думала о ней дни напролет, и каждый раз, когда мне удавалось ускользнуть к Шахзаде, я поднимала эту тему даже помимо своей воли. Иногда я упрекала его в повышенных тонах: «Ты не держишь слова». Его лицо менялось, ведь вся его жизнь строилась на уважении к данному слову. Единственным его богатством была честь. В такие моменты я переставала настаивать. Я берегла его и отступала: «В любом случае я твоя жена». Он глубже усаживался в кресле и напряженно молчал, измученный этой неразрешимой проблемой.
— Не говори так, Брижитт. Ведь потом мне будет в десять раз тяжелее отпускать тебя к твоей европейской жизни.
— Я была бы счастлива, если бы ты сказал мне: «Ты — моя жена».
Я умоляла его на грани нового срыва.
— Я не могу, — бросал он на одном выдохе.
Все просто, я должна его понять, говорил он, снова овладевая собой. Если мы поженимся, мы не сможем больше путешествовать вместе. Нам придется распрощаться с нашим уединением. Пуштунские традиции будут отныне и навсегда регулировать нашу жизнь. Он не хотел этого. Он поместил меня в свое личное пространство, куда никому, кроме меня, не было доступа. Я вошла в его жизнь не для того, чтобы заниматься семьей, детьми, как это делает традиционная супруга. Я была здесь только для него одного. И если мы не поженимся, то все так и останется. Неужели свадебная церемония с музыкой и автоматной очередью в нашу честь стоит всего этого?
Я слушала его с печалью в сердце. Я надеялась однажды сесть в праздничном платье рядом с ним, одетым в новый наряд с ярким тюрбаном. Он держал бы меня за руку под взглядами сотен гостей, пришедших поздравить нас. Я представляла, как будет биться мое сердце, когда одна из женщин подаст нам зеркало, а другая накроет покрывалом, чтобы мы на мгновение остались одни и смогли прошептать друг другу слова любви. Моя мечта о пуштунской свадьбе разбивалась о реальность, и я снова злилась.
— Значит, я живу как хочу, и ты больше не упрекаешь меня, когда мне захочется пойти поужинать в ресторане.
Он, огорченный, обещал мне это. Он любил иностранку, свобода которой приносила ему страдания. Ему было тяжело и от того, что я любила мужчину, для которого было естественным жить с двумя женщинами сразу. Слово «мушкил», которое на пушту означает «трудный», часто возникало в наших разговорах.
Потом тучи рассеивались, и мы начинали мечтать. О том, чтобы уехать, чтобы жить вместе в Кабуле. В такие моменты Шахзада думал о том, как подготовить одного из своих братьев, чтобы тот занял его место во главе семьи и племени. Он говорил мне:
— Было бы хорошо, если бы ты нашла мне работу, чтобы мы могли жить вместе и делить все пополам.
Я внимательно слушала его. Мог ли он оставить свой народ?
— Конечно нет — отвечал он с сожалением.
Он не мог освободиться от своей культуры.
В моменты безысходности, когда я не знала, как поступить, трезвое мышление Hyp становилось для меня настоящим утешением. Она хорошо разбиралась в нравах афганцев. Мне нравилось видеть перед собой ее большие, искрящиеся серые глаза и слышать ее мелодичный голос: «Ты хочешь, чтобы мужчина был только твоим. Но тут это невозможно. На Западе думают, что брак — это муж и жена, а здесь — семья. И в этом случае количество жен — одна, две или три — абсолютно непринципиально. Заметь, Шахзада уважает тебя, чего не было бы, если бы он не относился к тебе как к своей жене. Брижитт, проблема в тебе, ты сама ее придумала».
Я считала, что она немного преувеличивает. Тогда она смеялась. Но потом серьезно продолжала: «Тебе нужно найти в себе силы, чтобы выйти за рамки своей цивилизации, которая иногда становится непосильной ношей. Конечно, мы всегда рискуем, когда соединяем свою судьбу с человеком иной культуры. Но знай, что в моем случае это был лучший выбор, который я когда-либо сделала».
Я уходила с легким сердцем.
Со времени нашей встречи с Шахзадой прошло два года. В любой удобный момент — на пару дней, на неделю или просто туда-обратно — я пыталась ездить к нему как можно чаще.
Дороги по-прежнему были ужасны. Правительство обещало, что, благодаря иностранной помощи, оно скоро займется реконструкцией, заасфальтирует их. Это позволит преодолевать расстояние между Кабулом и Джелалабадом за три часа. Нужно ли было на самом деле радоваться этому? В нынешней ситуации, если вы выехали на дорогу и при этом не столкнулись с другим автомобилем, можно считать, что вам крупно повезло. За рулем афганец звереет, он не отрывает ноги от педали газа, а руки — от клаксона, он хочет проехать любой ценой, считает делом чести не пропустить машину, идущую по встречной полосе. Как проявятся эти особенности на гладкой дороге, по которой водители будут нестись как сумасшедшие?
Пока же мне приходилось иметь дело с выбоинами и облаками пыли. Кути оценила мои усилия. Однажды она сказала мужу:
— Должно быть, Брижитт очень любит тебя, если так часто проделывает такой сложный и опасный путь. Поэтому будь вежлив с ней и люби ее так же, как она тебя.
Шахзада повторил мне ее слова. При этом он выглядел довольным и счастливым. Великодушие этой женщины заставляло меня о многом задуматься.
Когда жара и пыль становились невыносимыми, я позволяла себе остановиться на полпути, чтобы передохнуть. Такси дребезжало всеми частями, кондиционера не было. Водитель открывал окно, но при этом внутрь проникал горячий воздух, принося с собой дорожную пыль. Я тогда просила остановиться в Сароби, в чайхане, всегда одной и той же: она была неприглядна с виду, но там подавали изумительную яичницу-глазунью. Стоило мне войти, и я становилась центром вселенной. Хозяин спешил проводить меня в маленькую уединенную комнату с матрасом, брошенным на неровный глинобитный пол. Я усаживалась по-турецки и расслаблялась, не задумываясь о санитарных нормах на кухне и чистоте кастрюль. Моя обувь оставалась у дверного порога.
Шахзада не советовал мне останавливаться здесь. У Сароби дурная репутация. Регион длительное время был под правлением одного из самых жестоких военных главарей, Фарайяди Сарвара Зардада, связанного с наиболее радикальной из афганских исламистских партий — Хезб-и-Ислами. Зардад правил посредством террора. Вся страна знала о том, что он отдает своих пленников на съедение собакам. С приходом талибов он скрылся в Великобритании, но его приспешники остались здесь. Сароби не был тем местом, где стоило оставаться надолго.
Для чего было проделывать весь этот путь? Чтобы оказаться в нашей комнате. Мировые новости стали проникать в нее с того момента, как Шахзада купил параболическую антенну, принимающую разные спутниковые каналы. Один из них — недавно созданный и наиболее смелый афганский Tolo TV со скандальным душком. Его передачи были скопированы с английских образцов. Появились и каналы национальной музыки, которую афганцы обожают и которой они были лишены при талибском режиме. Еще мы смотрели Би-би-си и Си-эн-эн, а также индийские каналы, где темпераментно танцуют, стреляя глазками, красивые девушки Болливуда.
Насытившись этими программами и приведя в порядок все свои дела, я начинала скучать. Внизу подо мной, в большой гостиной на первом этаже, Шахзада принимал бесконечную вереницу момандов, глав племен или правительственных чиновников. Количество консультаций возросло: политический климат менялся. Намеченные на октябрь 2004 года президентские выборы символизировали переход страны к настоящей легитимной власти. Ответственности у Шахзады прибавилось, и порой я его совсем не видела. Иногда я относилась с пониманием, но чаще начинала протестовать. И упрекать, как обычно.
Помнится один прекрасный майский вечер. Мы могли бы устроиться в саду, чтобы наблюдать за синичками или смотреть на распускающиеся бутоны роз. И конечно, бесконечно болтать, как это часто бывало… Но я не видела его со вчерашнего дня. Когда Шахзада, уставший, пришел ко мне, я встретила его не слишком приветливо.
— Брижитт, я не могу отказаться от посетителей ради тебя. Это немыслимо! — говорил он мне со своей традиционной сдержанностью.
Он повторял то, что я уже знала. Что у него нет ни минуты отдыха, никакого уединения — только со мной. Что он не может, сославшись на усталость, отказаться работать, иначе члены его семьи, возвратившись в деревню, скажут: «Шахзада не захотел принять нас». Могу ли я это понять? Может ли он рассчитывать на мое снисхождение? Я успокаивалась, немного смущенная, оттого что добавляла ему еще одну проблему.
Потом снова долгие часы ожидания. Невыносимо. В один из дней я быстро вскочила с дивана, повязала волосы платком. Спустилась по лестнице, остановилась около его бывшей маленькой комнаты. Там на матрасах сидели по-турецки мужчины в тюрбанах. Дверь была открыта нараспашку. Я сделала несколько шагов по коридору под их удивленными взглядами, потом снова поднялась в «темницу», удовлетворенная тем, что заявила о своем присутствии.
Я работала над своими бумагами, когда через час Шахзада пришел ко мне в страшном гневе. Он очень редко терял над собой контроль. Он негодовал. Говорил, что я прервала его переговоры с двумя крестьянами по поводу сада, который они никак не могли поделить в течение многих лет. И одному Богу известно, что могло бы случиться, если бы дело не удалось урегулировать. Могла бы начаться война кланов! Он не жестикулировал, не кричал, только нервно ходил по комнате. Потом сел и замолчал.
Внезапно накопленная усталость взяла свое. Его плечи опустились, глаза, обычно блестящие, потухли. Он взял с маленького столика сувенир, который мы купили в лавочке для туристов на Марсовом поле, машинально перевернул его. Он следил взглядом за снегом, медленно падающим на Эйфелеву башню, но ничего не видел. Потом заговорил совсем слабым голосом:
— Если бы я жил, как любой другой афганец в Кабуле, то не было бы проблем. Но я — не обычный человек… У тебя никогда не будет нормальной жизни со мной.
Наступила тишина. Но не та, которая возникает в дружеской обстановке, нет. Эта напоминала, скорее, большую черную бездну. Я не знала, что сказать, мне хотелось повернуть время вспять и не спускаться с этой лестницы, поддавшись сиюминутному импульсу. Потом он внимательно посмотрел на меня. Он принял решение, я была в этом уверена.
— Брижитт, если ты ищешь покоя, то нам нужно расстаться. Потому что я не смогу тебе этого дать.
Еще никогда я не видела его таким уязвимым. Я капитулировала. Но надолго ли?
Нам было нужно совсем немного, чтобы снова обрести гармонию. Самую большую радость доставляли нам поездки, когда мы бороздили страну момандов. В то время Шахзада ездил по деревням урегулировать конфликты. Благодаря ему я открывала для себя удивительные места. В этой стране, где так мало дорог, но много едва различимых троп, его внедорожник был очень кстати. Мы ехали без конца, с вооруженным водителем, Шахзада сидел впереди, я — позади него. Мне нравилось это место: оно позволяло мне переговариваться с ним и ловить его взгляд в зеркале заднего вида. Другая машина, с телохранителями, следовала за нами. У меня не было никаких ориентиров, только горные вершины: Спингар и его снежные пики на юго-западе, а на северо-востоке — горы, где затерялся его дом. Они окрашивались в разные цвета в зависимости от погоды. С появлением темно-серых облаков горные вершины приобретали голубоватый, сиреневый и фиолетовый оттенки. Это было настолько красиво, что захватывало дух.
У Шахзады были воспоминания о каждом уголке, он любил рассказывать о них разные истории. Каждый раз, когда мы пересекали реку Кунар, он говорил мне о своем старом танке, оставшемся на другом берегу, в укромном месте. Он находится там уже несколько лет, с того момента как Шахзада ушел в подполье.
Чуть поодаль горная долина, раскаленная, словно печь, напоминала ему об эпохе, когда советские самолеты сбрасывали мины-ловушки в виде часов. Они блестели на земле меж камней. Дети бросались к ним с радостными криками, пытаясь собрать драгоценности, упавшие с небес. Но в их руках они взрывались.
Он обводил взглядом горы и говорил с гордостью: «Видишь, здесь действуют только пуштунские законы. Безопасность полностью обеспечивается главами деревень. Если у нас человек совершает преступление, его ловят».
В самом деле, когда этот ритуал приводится в действие, у преступника мало шансов уйти от преследования. Каждый раз его рассказ увлекал меня. Поскольку кража или другое преступление совершается чаще всего ночью, облава также приходится на ночное время. Жертва должна поднять тревогу, выстрелив несколько раз из своего окна. С этого момента начинается целая вереница действий, в которых каждый играет свою роль. В каждой деревне есть человек, который, когда что-либо случается, начинает бить в барабан. Потом молодые люди в возрасте от 15 до 25 лет выбегают из своих домов с заряженными автоматами. Делают они это очень охотно. Ведь первый вышедший из дома получит на следующий день в деревне и ее окрестностях репутацию смельчака.
Что касается вора, я не осмеливалась спрашивать о ждущей его участи. Он будет избит, повешен, обезглавлен? «Он будет изгнан из деревни», — пояснил Шахзада. Это действительно ужасное наказание для афганца, всегда очень привязанного к семье. Шахзада добавлял: «Он должен будет возместить стоимость того, что украл». Но в других пуштунских племенах этим дело не ограничивалось. «Когда вор возместит украденное, он должен собрать десять уважаемых стариков из своей деревни и просить их сопровождать его до дома жертвы. В зависимости от размеров украденного, он приносит к дверям одного или двух зарезанных баранов. Потерпевший должен приготовить мясо и угостить им не только старцев, но и самого вора в знак примирения с ним».
Что же касается убийств и увечий, все происходит иначе. Право на месть может растянуться на пару столетий.
Пуштуны знают только один способ достижения справедливости и поддержания хрупкого равновесия между человеком и кланом — Задрех. Это традиционный закон, уходящий в глубь веков. Он возник тогда, когда у человека появилась речь, чтобы передавать его из уст в уста, и слух, чтобы внять ему. Согласно ему, когда дело доходит до трибунала, каждая из сторон должна представить равное количество свидетелей. Трибунал располагается на равном расстоянии от домов спорщиков. Судью и свидетелей кормят обе семьи по очереди в течение всего процесса. В Афганистане все проблемы решаются на публике, поэтому процесс происходит посреди дня в присутствии деревенских жителей.
Это скрупулезное уважение справедливости и открытости восхищало меня, так же как и способ выявления будущих судей. Когда ребенок демонстрирует ясность мышления, искусство слушать, хорошую память, родители ждут достижения им возраста семи лет, чтобы позволить ему присутствовать на проходящих в окрестностях процессах. Мало-помалу он запоминает кодекс и новые правила, которые привносятся временем. В конце этого длительного обучения молодой человек становится судьей.
Я наклонилась к сиденью Шахзады и прошептала ему: «Как случилось так, что ты не стал судьей?» Не поворачивая головы, он ответил: «Но я судья всех судей — тот, кого зовут в тех случаях, когда их решения отклоняются одной из сторон».
Его могущество подтвердилось, когда мы с ним сопровождали из Кабула в одно из племен французскую семейную пару, сотрудников гуманитарной организации. Благодаря их присутствию я могла выходить из машины и говорить с мужчинами. Я снова обрела свой статус журналиста и иностранки. В начале нашей истории я много раз использовала эту уловку, что позволяло мне ужинать вместе с мужчинами и Шахзадой на свежем воздухе под навесом, а не в маленькой тесной комнатке с другими женщинами. Я могла заходить в дома. Мне случалось видеть на стенах гигантские постеры Эйфелевой башни или Триумфальной арки, которые можно было купить в кабульских магазинах.
Однажды я открыла рот от удивления, увидев на стене большой портрет Гитлера. Я спросила: «Почему фюрер?» Наша хозяйка покачала головой и сказала тоном знатока: «Он был великим воином». Вопрос сходства. Пуштуны очень озабочены чистотой крови, они считают себя «чистыми афганцами», в отличие от таджиков, хазарейцев или узбеков… Но я никогда не слышала ничего подобного от Шахзады.
С теми французами мы с трудом взобрались высоко в горы — около пакистанской границы, — чтобы встретиться с видными представителями пуштунской военной аристократии — кухихейлами. Мы оставили машину на плоскогорье, а сами пошли пешком по почти отвесной дороге; из-под наших подошв то и дело скользили камни. Был полдень, солнце испепеляло нас. Поднимая глаза, мы могли видеть большое скопление кухихейльских мужчин. Они молча следили за нашим восхождением. Стояли как статуи. Было даже немного жутко, учитывая репутацию пуштунов.
Шахзада обернулся. Он подождал, пока все не поравнялись с ним. Увидев наши лица, он улыбнулся:
— Обычно, когда приезжает их глава, моманды спускаются с горы, выкрикивая приветствия и стреляя из автоматов. Сегодня я попросил их не утруждать себя этим. Иначе вам могло показаться, что сюда вернулась Аль-Каида.
Когда мы взобрались на эту Голгофу и приблизились к ожидающим нас мужчинам, они оказались очень гостеприимными — брали нас за руки и, глядя в глаза, торжественно произносили: «Салам алейкум». По случаю нашего приезда пожилой глава племени водрузил на голову свой самый красивый тюрбан. Он повел нас в комнату под открытым небом, где под соломенным навесом были приготовлены места. Неожиданная свежесть была очень кстати. Плетеные соломенные кровати стояли полукругом, огромные подушки-валики располагали к отдыху под ласковыми дуновениями ветерка из внутреннего дворика. Через маленькие узкие окна, расположенные у самого пола, можно было видеть горный хребет. Я нагнулась, чтобы лучше рассмотреть пейзаж, и увидела мир таким, каким он был еще до прихода человека, который дал этим горам и долинам названия. Было невозможно оторвать глаза от такой красоты.
Нас окружало примерно двадцать мужчин, все они были почтенными жителями деревни. Как и всегда, я снова была впечатлена молодостью Шахзады: он выделялся своей свежестью на фоне измученных лиц других мужчин. Он мог бы быть их внуком, однако они его уважали и советовались, как когда-то с его отцом и дедом.
Рядом со мной сел мужчина в пилотке, чуть моложе остальных, с маленькой дочкой на коленях. Он говорил немного по-английски, выучив язык в Кабуле, когда был студентом-медиком. Деревня, объяснял он мне, многим обязана Моманд-Хану. Это он просил у правительства, чтобы здесь построили четыре школы для окрестных детей, две — для мальчиков, две — для девочек.
Жизнь на этой горной вершине не всегда была спокойной. В прошлом году племени пришлось взяться за оружие и воевать с пакистанцами, которые пытались захватить земли выше в горах и отодвинуть границу, разделяющую Пакистан и Афганистан. Пакистанцы, раздосадованные неожиданным отпором, сообщили американцам ложную информацию о том, что якобы в деревне получили убежище члены Аль-Каиды и талибы. Конечно, они надеялись, что американцы разбомбят кухихейлов. Один из старейшин рассказал мне, что этого удалось избежать только благодаря репутации Шахзады, который боролся с Аль-Каидой и фундаменталистами в течение шести долгих лет.
На этой земле ничего не росло без воды. Я знала, что у них ничего нет, все их богатство — лишь несколько лошадей. Однако они зарезали барана в нашу честь.
Когда мы собирались уезжать, тот врач, что говорил со мной, «от лица жителей деревни» вручил мне большой пакет. Я осторожно открыла его. В нем было тяжелое вискозное полотно, имитирующее велюр, которое могло служить отличной накидкой от ветра. Не сомневаюсь, что кто-то из жителей пожертвовал им ради меня. Я, растроганная, закрыла глаза. Я не представляла, каким образом эти гостеприимные, добрые люди могли превращаться в бездушных бойцов, но знала, что это возможно.
В машине Шахзада подвел итоги нашего визита в своей язвительной манере: «Вам повезло. Их прадеды резали горло неверным».
Но у нас остались самые лучшие воспоминания.
Глава 12 Бастионы
Шахзада владел участком на скалистом плато в Гуште, стране момандов. Невысокая горная гряда, меняющая цвет, охраняла плато от ветров. К востоку была видна глинобитная деревня, которая, казалось, родилась вместе с холмом, к которому приникла, — настолько она растворялась в нем. Будто оазис посреди пустыни. У подножия — тоненькие деревья. Пастух гнал небольшое стадо бычков и коз; виднелись силуэты женщин в ярких одеждах, с тюками на головах. Из-за оптического обмана они, казалось, плыли над нежно-зеленоватым озером. Но это были всего лишь посевы пшеницы, мимо которых они двигались своей королевской походкой. Пейзаж искажался и дрожал от зноя. Мы наблюдали его с участка, который Шахзада недавно приобрел.
Он решил построить здесь дом для всей своей семьи. Под семьей он подразумевал Кути, их общих детей, племянников и — меня. «Когда дом будет закончен, ты приедешь ко мне», — пообещал он. Закончится бесконечное снование между Джелалабадом, Кабулом и его деревней. Он страдал от этого так же, как и я. Мы будем вместе. «Все праздники ты будешь проводить с нами и везде будешь ездить со мной». В деревне родные регулярно справлялись обо мне. «Почему она больше к нам не приезжает?» — спрашивали они. В этом я усматривала признак того, что они готовы принять меня в семью. Увы, несколько месяцев назад пакистанцы аннексировали эти зоны у афганских племен, запретив иностранцам оставаться там на ночь. Так что въезд в деревню мне был запрещен.
Шахзада не терял времени. За эти несколько месяцев он возвел стену длиной в несколько сотен метров, положив начало укрепленному замку. «Кала» у пуштунов означает крепость в средневековом стиле, способную разместить до сотни людей — от главы клана до слуг. Эта же крепость будет в два раза больше обычной. Презрев всякие экологические нормы, Шахзада взорвал горную скалу, и теперь ее блоки, распиленные и обработанные, сложились во впечатляющую стену, высотой минимум три метра. А оставшиеся три метра, объявил он, будут построены из бетона. Что? Бетон на этой восхитительной скале?! Я яростно запротестовала. Бог с ней, с природой, ее охраной и экосистемой — я добилась, чтобы стена была целиком из камня.
Внутри была лишь груда камней и солома. На земле был выстроен лабиринт, высотой всего в несколько сантиметров, который обозначал расположение будущих комнат. Шахзада провел меня на середину этих гигантских «классиков». Тут он планировал зеленый сад, здесь — большую комнату, самую просторную, «нашу комнату, для тебя, Брижитт», сказал он мне на нашем языке. Я вздрогнула. Согласно его планам, моя комната будет рядом с комнатой его жены. Я сказала ему об этом. Было ясно, что наша совместная жизнь никогда не будет уединенной.
Другая половина этого маленького королевства будет превращена в дом для гостей на сто пятьдесят человек — вождь момандов предоставлял им стол и кров.
Конечно, этот дом заставит о себе говорить. Слишком большой, слишком красивый. Откуда у него столько денег, спросят люди. Несмотря на внешний лоск, Шахзада не был богатым человеком, совсем наоборот. Поэтому работы будут продвигаться в зависимости от наличия средств, не одним махом. Двоюродные братья советовали ему обогащаться, пользуясь своим социальным положением, но он качал головой: «Я не хочу быть богатым. У меня есть все необходимое, мне больше ничего не надо, я счастлив и так. Деньги отдаляют от реальности, а я хочу понимать тех, кто беднее меня». Я любила его и за это тоже. Я была ему глубоко благодарна за то, что он был тем, кем был.
Он вывел меня из стен крепости. Охрана, отдыхающая на соломе под лучами нежного солнца, резко вскочила при нашем появлении и заняла свою позицию у машин, работающих вхолостую. Я присела на катт[24]. Поднялся теплый ветерок, он играл с моим платком, дул, свистел. Больше ни звука, разве что легкое позвякивание стаканов, которые мыл в тазике паренек, чтобы подать нам чай. А где-то совсем вдалеке — звук колокольчика на шее какой-нибудь козочки.
Перед нами были бескрайние просторы. Они простирались до горизонта. Взгляду было не за что зацепиться, разве только за редкие деревья вдали, возомнившие себя леском. Здесь в маленьком доме жили родители Шахзады. Позже его брат прятался тут от русских, поэтому дом разбомбили. Во времена другой кровавой страницы истории этой страны сторонники Хекматияра, тогдашнего врага Шахзады, сожгли то, что осталось от их дома.
Я поняла, почему Шахзада решил построить дом на этом плато. «Потому что здесь прохладно летом и тепло зимой», — пояснил он. Но это не так. Важно не забывать. Важно дать понять погибшим, что ни русские, ни Гульбеддин Хекматияр не смогли завладеть этой землей. Оставшийся в живых член клана возвращался, чтобы связать прошлое и будущее, чтобы не прерывалась связь поколений именно в том месте, откуда их никто не должен был прогнать. Потому что теперь главой семьи был он. Его отец умер несколько месяцев назад, и так внезапно, что пошли слухи об отравлении. Кала, обращенная к прошлому, обретала еще более внушительные размеры.
Несмотря на расстояние, у нас с Кути понемногу завязывались дружеские отношения, в которых Шахзада был посредником. Из каждой поездки он привозил послания одной для другой. В первое время он, казалось, был рад видеть, что обе жены ладят между собой. Теперь же я чувствовала, что он обеспокоен. Я тайком посмеивалась, угадывая причину его беспокойства: что, если нам однажды придет в голову идея объединиться, чтобы сделать его жизнь невыносимой? У нас же с Кути были свои опасения. Мы находили его слишком обольстительным и опасались взглядов других женщин, особенно когда он надевал свой вышитый лунги[25], безупречно обмотанный вокруг головы. «Не носи его слишком часто», — умоляла Кути. Она тоже с нетерпением ждала постройки нового дома и просила мужа сделать его красивым: «Чтобы Брижитт проводила много времени с нами. Для меня она — часть семьи».
В джелалабадском доме я постепенно находила общий язык с детьми. Там жили четверо сыновей Шахзады и трое кузенов. Они уже не прятались, как воробушки, при моем появлении. Все были одеты в традиционные пижамы. Когда я ездила во Францию, я привозила им игрушки, цветные карандаши и тюбики с мыльными пузырями. Эти пузырьки лопались, ударяясь о стены их комнат. Это стало уже ритуалом. Один из мальчишек дул, а другие, расширив глаза, затаив дыхание, следили взглядом за траекторией маленьких прозрачных шариков. Когда те лопались с характерным звуком, они хихикали, им это никогда не надоедало. Я следила за тем, чтобы никого из них не выделять особо. Я считала несправедливым уже то, что мальчишки росли вдали от матери, в доме, где не было ни одной женщины, с отцом, который ничего лишнего им не позволял. Я сказала об этом Шахзаде и посоветовала уделять им больше времени. Он слушал меня внимательно. У пуштунов воспитание детей лежит на матери, отцы начинают интересоваться сыновьями, когда те уже могут стать воинами и продолжить род. Но я с удивлением обнаружила, что была им услышана. Теперь он организовывал собрания с малышами. Одно — по поводу одежды, другое — по поводу начала учебного года. Что же касается нежных бесед наедине, им наверняка придется подождать еще несколько веков.
Самый маленький, тот, который разбил мне сердце, лежа в своей висячей люльке, в мой первый приезд, рос в горах. Я стала для него поставщиком конфет всех цветов радуги. Мать трясла ими перед ним, приговаривая «Брижитт», так часто, что он пребывал в полной уверенности, будто эти сладкие штуки так и называются. Как только он видел одну из них, он расширял глаза и протягивал свои пухленькие ручки, шепелявя: «Бихитт». Эта мозаика из маленьких кусочков счастья постепенно складывалась в картину под названием «семейная жизнь».
Судьба подарила Шахзаде шестерых мальчиков и одну девочку. Когда я была в деревне, она не отходила от матери. Красивая тринадцатилетняя пуштунка, очень застенчивая. Разговаривая с ее отцом, я узнала, что она никогда не ходила в школу. Шахзада построил школы в Нангархаре, одобрил мою работу с женщинами-операторами, женился на образованной женщине, а его родная дочь не умела ни читать, ни писать. «Это не в наших традициях», — сказал он, чтобы положить конец дискуссии. Я не отступала: «По крайней мере, я надеюсь, она не выйдет вскоре замуж!» Он ответил: «Она давно обещана парню из нашего племени. Мы выдадим ее через три года». Три года — это уже что-то. Три года, за которые я, может быть, научу ее писать и читать в нашем новом доме в Гуште. Ведь я уже начала брать уроки пушту. В любом случае я пообещала это себе.
Шахзада был открыт прогрессу — при условии вливания малыми дозами, без риска поколебать общее равновесие. Из-за языкового барьера мы еще не обсуждали роль женщины в обществе. Я воспользовалась приездом Мерхии в Джелалабад, чтобы затронуть эту тему. В офисах Министерства по делам племен были одни мужчины и ни одной женщины. «А ведь они прекрасно могут вести счета, писать письма…» — заметила я ему. Он нахмурил брови, задумался, пытаясь ответить мне так, чтобы я поняла: «Губернатор просил нас об этом, но менталитет здесь еще не тот. Люди не готовы. Нехорошо резко внедрять в наше общество ваше равенство между мужчинами и женщинами. Ты представляешь здесь женщин, работающих за компьютером, и мужчин, сидящих рядом и рассматривающих их, словно диковинных зверей?» В Кабуле — да, там все по-другому. Но здесь… Он не был уверен в поведении здешних мужчин. Может быть, позже, благодаря воспитанию в школе, сказал он. Потом он высказал опасение, несомненно, имеющее право на существование: «Ты отдаешь себе отчет, что, если женщина подвергнется домогательствам со стороны коллеги-мужчины, это может развязать войну между двумя племенами? Вот что может произойти».
Афганская женщина-пуштунка — самое ценное имущество, которое мужчина должен охранять от всевозможных посягательств. Но это имущество продают, покупают, обменивают. В некоторых конфликтах, в которых погибают мужчины, семье врага дарят женщину, чтобы остановить дальнейшие преступления. Он и сам прибегал к этому способу четыре или пять раз…
Я раз и навсегда обещала себе не делать ему замечаний по поводу его культуры. Это не моя роль, я предпочитала лучше и глубже понять ее. Но на этот раз я забыла об осторожности и вскрикнула: «Это ужасно!» Он покрутил кистью. Этот грациозный и живой афганский жест открывает кавычки в разговоре: «В любом случае девушка должна выйти замуж, рано или поздно». Я не верила своим ушам: «Ты представляешь, что чувствует такая женщина?» Я была шокирована, и больше всего тем фактом, что он мог приговорить девушку к такой участи. Он добавил, чтобы утихомирить меня: «Конечно, когда девушка придет в дом, ее встретят плохо. Ведь ее новая семья, возможно, потеряла двух-трех человек в конфликте. Ей будет трудно первые два-три года, потом все успокоится».
Несмотря на свой не очень хороший английский, Мерхия переводила наши доводы как можно точнее. Но она показалось мне какой-то не такой — круги под глазами, желтый цвет лица, волнение, которое она выказывала, когда звонил ее мобильный… Я отвела ее в сторонку: «Как там в Кабуле? Что-то не так? У тебя проблемы на работе?» Мы редко виделись, с тех пор как я ушла из «Айны». Ей нужно было излить душу, и она выложила мне все.
Один парень хотел ее посватать. За неделю до этого его мать и другие родственницы пришли к одной из ее тетушек, чтобы завести об этом речь. Мерхия передала им, что в ее планы замужество не входит. Она любила свою работу и хотела продолжать журналистскую деятельность. Мы знаем, что означает замужество — даже в Кабуле. Муж заставит ее сидеть дома — ее, привыкшую путешествовать по стране и брать интервью у мужчин. Семья жениха возразила: их сын позволит жене делать, что она захочет, до пяти вечера, а потом ей надо будет посвятить себя семье. Ее решительный отказ не остановил семью потенциального мужа: на следующий день они нанесли визит другой тетушке Мерхии, но и там потерпели неудачу. На момент ее отъезда в Джелалабад все оставалось по-прежнему.
Я забеспокоилась. Если Мерхия выйдет замуж, ей придется отказаться от профессии. Если же она отвергнет предложение… Известны были случаи краж и издевательств над несговорчивыми невестами. Я очень за нее испугалась. Она призналась, что не спала всю ночь. В три утра ей позвонила сестра и рассказала, что та семья снова объявлялась, в этот раз пришли прямиком к ее родителям. Отца не было дома, но его новая жена, мачеха Мерхии, приняла эту женскую делегацию. Но как! «Мы не согласны, чтобы она выходила замуж. Что мы будем делать без зарплаты, которую приносит в дом Мерхия? Мы живем у нее на иждивении». Итак, это был отказ.
Но девушка была в отчаянии. Признание, что старый и больной отец, а также братья и сестры живут на крохи ее зарплаты, пятнало честь семьи. А ведь это быстро распространится повсюду — афганское сарафанное радио работает исправно. И теперь к страху примешивался стыд.
Надо было как-то помочь ей. Сделать это мог только Шахзада. Он вел совещание, но я попросила его выйти и прошептала: «У Мерхии проблема. Ты можешь поговорить с ней?»
Она ждала в маленькой комнате, присев на тошак, занятая своими грустными мыслями.
— Расскажи мне, что с тобой происходит.
Шахзада оставался стоять во время всего рассказа, я видела, что он очень сосредоточен. Мерхия, опустив глаза, говорила. Потом стала ждать его совета.
Тот привел пуштунскую поговорку. Он сравнил ее отказ выйти замуж с яблоком: «Если ты хочешь яблока, тебе неважно, с какого дерева оно упало, с плохого или хорошего. Оно у тебя в руках, и это единственное, что важно».
Круглое личико девушки тотчас повеселело. Она уехала в Кабул, как мне показалось, в хорошем настроении. Я спрашивала себя, каков был бы ответ Шахзады, если бы в подобную ситуацию попала его дочь.
Шахзада даже не интересовался, скучаю ли я по Франции. Я не обижалась на него, так как тоска по родине была ему незнакома. Он никогда не покидал свой край на долгий срок, так чтобы почувствовать ностальгию, — такую, которая наводит на тебя грусть и превращает красоту вокруг в непереносимые терзания. Я же знала, что это такое.
Однако он мог себе это представить, когда переносил ситуацию на Афганистан. И доказал мне это. Одно из наших путешествий привело нас на земли племени шинвар, в засушливую местность на юго-востоке от Джелалабада. Земля, усеянная маленькими кратерами, напомнила мне снимки Луны. Я сказала: «Как, наверное, тяжело жить здесь!» Машину трясло на неровностях дороги, стоявшее в зените солнце нестерпимо жгло. Шахзада откинул назад свой пакол и ответил мне легендой о Сулеймане, царе и пророке.
«Пять тысяч лет тому назад могущественный Сулейман проходил через засушливую местность, где жили в крайней нищете несколько семей. Этим несчастным нечего было есть, потому что ничего не вырастало на той земле, где они родились. Сулейман приказал своим солдатам препроводить их на плодородные земли, где росли апельсиновые деревья, а дождь был благословенным для пшеничных полей. Маленькое племя расположилось там.
Через год, когда Сулейман вновь посетил эти земли со своей армией, эти люди встретили его и уныло приветствовали. У них был вполне процветающий вид, чистая одежда. Один из них спросил:
— О великий Сулейман, год назад ты пригнал нас сюда. Закончится ли когда-нибудь это наказание? Скажи, что нам сделать, чтобы это заслужить?
— Но я не наказывал вас! Наоборот, я дал вам земли, чтобы вы разбогатели, и дома для ваших семей! — воскликнул царь.
Мужчина продолжил:
— Благодарим тебя за твою доброту, о великий Сулейман. Но вдали от родины мы чувствуем себя в тюрьме. Позволь нам вернуться. Мы предпочитаем вновь обрести свой край песков и камней, для нас он лучше Кашмира[26]».
А где был мой Кашмир? Иногда я спрашивала себя: где моя настоящая жизнь, здесь или в Европе? Мне недоставало комфорта, удобств, фильмов. А больше всего дружбы. К счастью, электронная почта позволяла мне поддерживать контакт с подругами, оставшимися во Франции. Мы об этом мало говорили с Шахзадой. Настоящая дружба, особенно между женщинами, была для него чем-то абстрактным. Но семья… Он удивлялся, что я ему никогда о ней не рассказывала. Как можно прожить без семьи? Я не захотела обманывать: «Я не общаюсь с родителями. Я поссорилась с ними и без них чувствую себя хорошо».
У моих родителей не было новостей обо мне уже десять лет, с того самого дня, как я ускользнула от них: я не хотела быть на них похожей. В моем детстве было немного любви. Я не помню, чтобы хоть раз мать или отец наклонились ко мне с вопросом: «Как дела в школе?» или «Что с тобой, моя рыбка? Иди ко мне, расскажи, чем ты огорчена». Нет, мой старший брат и я имели право на минимум: накормлены, опрятно одеты, вовремя отправлены в школу… Может, любовь и присутствовала во всем этом, но просто они не знали, что с ней делать. Это как если бы они были инвалидами. Это я могла бы им простить. Но я не могла забыть, что мой отец изменял матери, которая в свою очередь делала вид, что ничего не происходит, — и так испортила свою жизнь.
Моя жизнь началась вдали от них. Я уехала в свой Кашмир. Они больше не существовали, так как я никогда не вспоминала о них.
Но прошлое оставило свои следы. Оттуда шел мой страх оказаться недостойной любви, страх быть обманутой. Внутренний голос, возникший слишком поздно, шептал мне: «Если умрешь сейчас, о чем несделанном ты пожалеешь?» Я создала себя вопреки им. И благодаря им, в конце концов.
Концепция семьи в представлении Шахзады была противоположна моей. Безразличие, которое я проявляла по отношению к родителям, было ему непонятно. Он слушал меня, не перебивая, потом сказал: «Это очень нехорошо. Надо общаться с родителями, Брижитт, я прошу тебя им позвонить». Он был прав, но эта правда не находила отклика в моей душе.
Однажды вечером я все же позвонила. Трубку подняла мать. Она не узнала мой голос, мое имя ей ни о чем не сказало: «Вы, должно быть, ошиблись номером». Я повторила: «Это Брижитт». Долгое молчание, потом восклицание. Она была взволнована. Я же ничего не чувствовала.
Я многое поняла благодаря этому звонку. Все эти годы родители следили за моей судьбой, они знали, что я работаю в Афганистане в опасных условиях. Как они это узнали? Я их об этом не спросила. Они жили теперь в Арьеже, где потихоньку старели в одиночестве. Как и я, мой брат решил сжечь мосты. Их любимчик. Это, наверное, было потрясением для них. Мать сказала, что больна раком.
Это внимательное наблюдение за моей судьбой, о котором я не знала, их незаметное участие, их болезни должны были бы меня растрогать… Но этого не произошло. Я закончила разговор словами: «Я скоро вас навещу». Она показалась мне довольной. Я представила отца, стоящего рядом с ней навострив уши и задающего вопросы, которые мать мне и озвучивала… Я положила трубку. Пустота. Я так иссушила свое сердце, что оно превратилось в камень.
Изнуряющая июльская жара нависла над Джелалабадом, когда мы отправились во Францию. Шахзада был счастлив. Эта встреча с моими родителями была для него важной формальностью, как и мой визит в его деревню. Она была этапом, которого не хватало в процессе сватовства: нужно спросить разрешения у обеих семьей, как того требует традиция. В поезде, который вез нас в Тулузу, он начал икать, и эта икота никак не прекращалась.
Я различила родителей издалека среди толпы на вокзале Мотабио. Они постарели. Отец поседел. Все такой же представительный, но куда делось его великолепие? В его облике появилась какая-то хрупкость. Сколько ему могло быть лет? Семьдесят пять? Восемьдесят? Я не помнила. Что до матери, она — тоже седая, маленькая — обняла меня и очень обрадовалась. Эта простая женщина многое повидала. Словно при вспышке, я увидела ее в молодости, еще не состарившуюся, когда я пыталась ее расшевелить, заставить восстать.
Я представила им Шахзаду, они улыбнулись ему, пожали руку. Они были рады. Уф, слава богу. С моим отцом можно было ожидать чего угодно. В Тулузе мы провели вместе день, а потом и ночь. Я заказала две комнаты в отеле, мне не хотелось ехать к ним в Арьеж. Идея этой близости была для меня невыносима. Но, как многие старики, отец хотел спать в своей постели и никак не соглашался. Я отказывалась разрешить ему сесть за руль его старенького «мерседеса» и ехать ночью по горной дороге. А если у него опять будет сердечный приступ, как с ним раньше уже случалось? Наутро он сказал мне, немного насупившись: «Все же приезжай домой». Я согласилась. Раз все шло хорошо и мы не говорили о прошлом, оставив призраки в покое, почему бы и нет?
Они жили в маленьком деревянном доме в очень красивой горной деревеньке. Произошло невероятное: их дочь вернулась. Мать давно болела, но отказывалась лечиться. Но как только она узнала о моем приезде, то сразу поехала в Тулузу на консультацию к онкологу. У него был такой растерянный вид, что она согласилась на операцию. Я поняла, что мой визит вернул ей желание жить, выкарабкаться. Бедная моя мать!
Шахзада чувствовал там себя очень комфортно. Он мало говорил, но много наблюдал. Однажды из трех небольших кусочков мяса, помидоров и нескольких овощей он приготовил афганское блюдо фришти. Значит, он еще и умеет готовить. Решительно, он меня восхищал. Встав к плите, стряпая нам еду, он готовил примирение. Мой отец сказал мимоходом: «Он мил». Мать была от него в восторге. Я чувствовала, что она спокойна за меня. Ее взбалмошная дочь наконец остепенилась, нашла человека, который ее любил и главенствовал над ней, не заставляя ее при этом страдать. Она мне шепнула, довольная: «Я надеюсь, что ты его не потеряешь!» Вот так. Еще одна унизительная ремарка, на которые они были горазды и от которых у меня вставали дыбом волосы. Я навсегда останусь для них маленькой белокурой девочкой, которая приводила их в отчаяние.
В момент расставания я пообещала звонить, писать. В поезде Шахзада настаивал: «Ты должна время от времени помогать им материально, звонить. Твои родители уже старые, а ведь благодаря им ты стала тем, кем стала. Ты должна их уважать». Я кивнула, но очень редко связывалась с ними.
Икота Шахзады прекратилась на полпути из Тулузы в Париж.
Однажды Тикке, финская журналистка, работавшая в «Айне», позвонила мне на мобильный. Моя самая талантливая и профессиональная ученица, Шекиба, была в отчаянии. Она жила с матерью-вдовой, которая была достаточно прогрессивна, чтобы разрешить старшей дочери стать телеоператором и позволить ей путешествовать по стране. Старший брат и две младшие сестренки жили на скромную зарплату, которую девушка получала в «Айне». Но теперь родственники и соседи стали каркать: что делает Шекиба после пяти часов вечера вне дома? Куда она ездит? Ее подозревали в легком поведении, хотя она трудилась как проклятая над своими репортажами или в зале монтажа. Злые языки оказались настолько сильны, что мать согласилась выдать ее за двоюродного брата. Этот парень жил в деревне, привык к суровой жизни. Шекиба же была сама утонченность, она была похожа на лань, испуганную лань.
Я пригласила ее к себе. Она больше не была той жизнерадостной девушкой, которая гарцевала, громко смеясь, рядом с чопендоз в Бадахшане. Она дрожала, объясняя мне, что противится этому браку всеми силами. Я часто слышала, как она говорила: «Я не люблю мужчин». Это мнение, впрочем, разделяют многие афганки, живущие под мужским игом. Они вынуждены смиряться с их волевыми решениями, не имея права на собственное слово.
Шекибу ждала ужасная судьба: выйдя замуж за крестьянина, она будет вынуждена работать в поле, проведет остаток жизни, замурованная в четырех стенах, как было во времена Талибана. И вдобавок ко всему еще и рядом с необразованными людьми. Ни свободы, ни любимой работы — работы, которую она обожала и в которой блистала бы, не родись она афганкой.
У меня не было иллюзий. Если лишить ее возможности работать, она покончит с собой. За несколько месяцев до этого так поступила Хома, одна из ее подруг, которая работала в «Nouvelles de Kabul», ежемесячном журнале, спонсируемом Бернаром-Анри Леви. Когда она узнала, что ее выдают замуж, девушка не рассказала о своем страхе никому. Она лишь попросила небольшой аванс и, зажав доллары в кулаке, раздобыла крысиного яду у аптекаря. Она умерла в страшных мучениях. Шекиба горько оплакивала подругу. И вот настал ее черед.
Как мы, ее бывшие учителя, могли ей помочь? Собралась группа из четырех конспираторов, выходцев из «Айны», я в том числе. У Тикке появилась идея: скинуться и купить билет на самолет до Финляндии. У Тикке были там связи, которые должны были помочь найти для Шекибы стажировку на телевидении. Девушка была бы спасена. Но, увы, надо было подождать четыре месяца. А свадьба запланирована на ближайшие недели. Надо было как-то отодвинуть дату свадьбы. По нашему совету Шекиба сказала матери: «Я согласна выйти замуж, но у меня есть обязательства перед работодателями, я прошу дать мне возможность их осуществить. Затем я буду свободна». Среди этих обязательств — поездка в Европу на презентацию фильма «Взгляды афганок». А потом Шекиба станет образцовой супругой.
Эти несколько месяцев стали испытанием для нее. Она плакала, теряла надежду, задыхалась в приступах страха, в ужасе от мысли, что заговор может быть раскрыт. И самое тяжелое — у нее были угрызения совести, что она покидает свою страну, бросает на произвол судьбы мать и маленьких сестер. Под предлогом презентации фильма одна из сотрудниц сделала ей финскую визу. Все было готово.
Однажды утром — это было в 2004 году — Шекиба вышла из дому, чтобы пойти на работу, как она это делала последние два года. В этот раз машина ждала ее через две улицы. Она доставила ее в аэропорт. Все произошло, как мы и наметили. Шекиба избежала свадьбы, но заплаченная ею цена была высока. Она порвала с семьей, со своей привычной жизнью и своей культурой, хотя совсем этого не желала.
Глава 13 Порыв
Работа в посольстве Франции была захватывающей. В самом деле, помогать стране, которая выходила из двадцатипятилетнего периода кризисов и войн, которая пережила шесть, или семь различных режимов, население которой делало все возможное, чтобы выжить и содействовать восстановлению информационных структур, — все это совпадало с моим жизненным курсом, неизменно амбициозным. Чего хотели афганцы? Чему хотели обучаться? Что им предложить? Как нам найти общий язык?
Я сотрудничала с факультетом журналистики в Кабуле, с компанией телерадиовещания Афганистана и, конечно, с администрацией, которую надо было настойчиво тормошить. Я располагала смехотворным бюджетом в 500 тысяч евро, рассчитанным на два года. Поэтому работала по двенадцать часов в день, семь дней в неделю. Постепенно мы смогли установить цифровую радиостудию, которая была заказана до моего приезда, и, благодаря сотрудничеству специалистов из Ри-эф-ай и Би-би-си, афганское радио становилось все более современным и эффективным.
Другим важным аспектом моей новой работы было установление доверительных отношений с афганцами. Теперь они смотрели в будущее с надеждой, особенно с тех пор, как на конец 2004 года были назначены президентские выборы. Для меня как журналиста это было очень интересное время.
Но еще чуть раньше я приняла участие в одном культурном проекте. И хотя он находился вне моего поля деятельности, я не захотела упускать такую возможность. Речь шла об открытии кинотеатра «Ариана», отреставрированного двумя французскими архитекторами — Жан Марком Лало и Фредериком Намюром.
Этот грандиозный проект родился в голове Юга Деваврена. Этот француз совершил путешествие в Индию в 1973 году на своей малолитражке, и об Афганистане у него остались незабываемые впечатления. Сразу после падения талибского режима он пытался найти возможность помочь этой растерзанной стране. Его интересы лежали в области культуры. В Кабуле раньше был огромный театр — в самом центре, на площади Пуштунистан. Речь шла об «Ариане», центре культурной жизни. Война его обезобразила. Юг Деваврен решил его отреставрировать. Так в Кабуле появился кинотеатр, где демонстрировали французские и другие европейские фильмы, позволяющие афганцам по-иному взглянуть на мир. В декабре 2002 года Даниель Томпсон, Жак Перрен и Патрис Шеро создали ассоциацию «Кино для Кабула» под председательством Клода Лелюша. Старшее поколение афганцев знало Лелюша еще с 1970-х годов, когда его фильмы шли в больших городах Афганистана. Он воплощал, таким образом, собирательный образ Франции, а также воспоминания о счастливом прошлом.
Объединив денежные средства Министерства культуры, Министерства иностранных дел, Европейской комиссии, можно было приступать к реализации проекта. Понадобилось одиннадцать месяцев, чтобы превратить груду камней в величественное строение, каким оно было раньше. Зал был рассчитан на 650 мест. По особому распоряжению вход для женщин сделали бесплатным. Ключи собирались вручить мэру Кабула, который и будет ответственным за функционирование кинотеатра.
В утро открытия французский «десант» высадился у «Арианы». Десятки пулеметов и почти столько же танков, лучшие снайперы охраняли нас от возможного покушения. И действительно, французские знаменитости и крупные афганские деятели, собравшиеся здесь в тот день, были лакомым кусочком для террористов. За час до сеанса толпа женщин в голубых чадрах, с детьми, подошла к периметру безопасности. Мы решили первым показать фильм про Астерикса и Обеликса. Это был, несомненно, правильный выбор. И теперь на площади Пуштуни-стан гудела толпа, — более шестисот человек ждали возможности войти. Когда двери наконец открылись, до нас донесся радостный гул, и поток мальчишек в шароварах устремился к ступеням. Они взбирались по ним, смеясь. И их неудержимая радость поглощала пережитое насилие, войну и унижения. Матери приподнимали чадры, чтобы попытаться разглядеть своих чад, которые, перегоняя друг друга, старались войти первыми. Я увидела, как Клод Лелюш, стоя на верхней ступеньке, прослезился.
Была осень. Афганистан переживал значительное событие в своей истории: первые всеобщие прямые президентские выборы. Мужчин и женщин призывали идти на выборы. Конечно, все мировые СМИ следили за этим событием, которое проходило в напряженной обстановке. Будущему президенту республики предстояло противостоять боевикам, наркобаронам и всякого рода криминальным элементам, которые не желали терять свое влияние в стране. Они предупреждали об этом участившимися терактами. Несколько смелых женщин выставили свои кандидатуры. Они получали в свой адрес угрозы. Многие чиновники, журналисты, борцы за права женщин брали на себя работу с населением, чтобы убедить их пойти голосовать. Этим людям тоже угрожали. И тем не менее результат был.
9 октября 2004 года с самого утра улицы Кабула, обычно запруженные желтыми такси и велосипедами, наполнились прохожими. Мужчины в традиционных одеждах, женщины в платках или чадрах направлялись к избирательным участкам. Это было волнующе — видеть длинные вереницы голубых силуэтов, а рядом с ними — мужей, отцов, которые терпеливо ждали своей очереди. Некоторые выходили, подняв вверх большой палец, окрашенный в чернила: отпечаток служил им подписью. Это был своеобразный знак победы. Конечно, были попытки фальсификации, цифры были вне всякой критики: «проголосовали 120 % зарегистрированных избирателей» или «проголосовали 10,5 миллиона человек», когда лишь 9,9 миллиона имели на это право. Тем не менее Хамид Карзай был избран. Пришло время для страны двигаться в сторону демократии и самостоятельности.
В Джелалабаде Шахзада поставил перед собой деликатную и сложную задачу: убедить вождей племен Нангархара уничтожить посевы мака. Как только его избрали, Хамид Карзай, под давлением США, объявил войну наркотикам. А Нангархар был одним из самых крупных регионов — производителей наркотиков в стране. Проклятый цветок рос в соседних деревнях, на маленьких клочках земли и даже в самом Джелалабаде — в садах. Самый большой рынок опиума был на землях племени шинвар, в Рани Хейл, где производили закупки наркодельцы. Достаточно было войти в любую лавку, чтобы вынести оттуда любое количество расфасованных пакетиков. Даже сегодня Афганистан остается поставщиком трех четвертей потребляемого в мире опиума.
Мак сеют зимой, чтобы получить урожай в мае. Было еще время запретить посев. Шахзада, лидер местных племен, решился на крестовый поход. Он был из числа редких деятелей, связанных с правительством, у которых не были запятнаны руки. Никогда он не промышлял этим, не зарабатывал денег на наркотиках. Его прошлое позволяло ему быть лучшим посланником.
Он ездил по региону, из деревни в деревню, проводя беседы с крестьянами и вождями: «Опиум обогащает семьи, но уничтожает жизни. Подумайте об этом. Правоверный мусульманин не может жить, разрушая чужие жизни». Жители всегда слушали его внимательно, потом один из них обязательно спрашивал: «А на что мы будем жить?» Шахзада предлагал заменить мак пшеницей, кукурузой, арбузами… Сначала нужно избавиться от мака, а затем последуют обещанные дотации ООН и правительства. Тогда можно будет построить оросительные каналы, больницы…
Это было чрезвычайно рискованно. Наркобароны объединялись против сторонников уничтожения мака. И угрожали наркотерроризмом, которого стране до сих пор удавалось избегать. Шахзаде приходилось быть начеку. Число его телохранителей увеличилось с четырех до шести. В нашей спальне мы спали с пулеметом и магазином на 300 пуль у изголовья. В машине под сиденьем был спрятан револьвер. Я боялась, чтобы предатель не проник в команду и, усыпив бдительность, не разрядил его. Если Шахзада попадет в засаду, то как же будет защищаться? Опасность подстерегала, серьезная, как никогда. И это пугало меня. Шахзада это видел и не делился со мной своими мрачными мыслями.
Однажды, возвращаясь из деревни, он позвонил мне на мобильный. Когда дело касалось его, у меня появлялся тончайший нюх. По его голосу я поняла, что он что-то скрывает, но я ничего не узнала. Еще пару дней он хранил молчание. Я сделала все, чтобы к нему приехать. И в самом надежном месте в мире — в нашей спальне — он признался мне.
Это было рано утром, он собирался уезжать из своей деревни с шофером и телохранителями, когда от взрыва задрожали земля и стены домов. Бомба взорвалась у выезда из деревни, там, откуда он должен был ехать в Джелалабад. Старая женщина, идя в поле, наступила на мину, которая предназначалась Шахзаде. Кто хотел его смерти? Бывший моджахед, член Аль-Каиды, кровный враг? Подозрений хватало; он ищет, и он найдет…
Он научился жить с этой угрозой. По телефону он говорил о своих передвижениях всегда расплывчато. Даже верный шофер, готовый отдать за него жизнь, узнавал маршрут, только когда вставлял ключ в замок зажигания.
После того как он мне все это рассказал, он обнял меня и сказал на ухо: «Я не хочу, чтобы ты волновалась. Но, видишь, Брижитт, мы не должны ссориться. Кто знает, что с нами будет завтра?»
Да, зачем устраивать сцены, если я знала, что его жизнь висит на волоске? Зачем добавлять мои проблемы к его собственным, которые он так умело скрывал? Поселившись у него внутри, они проявлялись в виде мигреней, изматывая его. Я обещала не ссориться с ним, но не всегда держала слово. Было трудно сдерживать свою ревность, тревогу, когда я знала, что он проводит время с женой. Он понимал это, поэтому, будучи в деревне, старался звонить мне как можно чаще. У нас обоих были для этого старые трубки Thuraya — огромные спутниковые телефоны, используемые для междугородней связи. Чаще всего он смеялся над моей ревностью, сглаживая ее приступы с присущим ему талантом: «Правильно делаешь, что ревнуешь: Пророк сказал, что женщина должна следить за своим мужем». Он вил из меня веревки. Поэтому мысль, что ему грозит опасность, что наша история закончится, леденила душу, придавая каждой мелочи особый смысл.
Апрельским утром я приехала к нему — вся в дорожной пыли, — чтобы поделиться новостями, которые меня выбили из колеи. Мой контракт, возможно, не будет продлен, а мою должность сократят. Какая напрасная трата средств! Зачем запускать программу, которую прекращают через два года, когда она еще не начала приносить реальные плоды? Шахзада сказал дружелюбно: «Это всего лишь работа, что ты так переживаешь? Самое главное — это то, что мы любим друг друга».
Но ведь эта работа позволяла мне оставаться в Афганистане, а значит, рядом с ним. Он улыбнулся и сказал мне, что решил заняться бизнесом и заработать денег. На той неделе с ним встретилась дама из Великобритании. Я насторожилась. Он устроил ее в доме, отдав в ее распоряжение комнату одного из сыновей на своем этаже. Англичанка хотела открыть бизнес по производству оливкового масла. Зная репутацию Шахзады, его честность, она решила, что он будет удобным партнером. Я была в бешенстве. Женщина под его крышей, на его этаже, — мне это совсем не нравилось. Но хуже всего, что иностранка предлагала ему совместный коммерческий проект, тогда как я не решалась предложить ему свою идею о конном туризме… Это было невыносимо.
Я в ярости кружила по комнате. То был естественный страх любой влюбленной женщины потерять любимого. Сомнения и мучения последних месяцев вылились наружу. Я хотела доказательств его любви. Я сказала, что хочу ребенка от него. Он отмел эту идею: «Брижитт, если у нас будет ребенок, ты должна будешь жить в деревне». Я настаивала, и когда у него кончились аргументы, он улыбнулся и сказал: «Я дам тебе двоих из своих детей, ты их воспитаешь». Я не хотела никаких отговорок, я хотела ребенка от человека, которого люблю. Он опустил голову: «Может, тебе завести ребенка с кем-нибудь другим?»
Шахзада никогда не был жесток со мной. Эта фраза вернула меня к моему одиночеству, разбудила во мне глубокую печаль, меня захлестнули эмоции. Грусть, ярость, ревность взорвались вулканом. Я взяла стеклянный поднос с журнального столика, на котором мы разложили фотографии нашей поездки вдвоем по Европе, схватила их и разорвала на мелкие кусочки. Вспышка прошла так же неожиданно, как и началась. Когда ураган стих, Шахзада сел как побитый. В комнате воцарилась тишина. Я помню лишь шум кондиционера. И ужасное чувство того, что все испорчено.
Он посмотрел на меня. Что-то беспокоило меня в этом невидящем взгляде. Упавшим голосом он прошептал: «Мое сердце закрылось. Я больше не чувствую тебя в глубине своей души». Потом наклонился, чтобы собрать кусочки фотографий с ковра, взял со столика маленькую шкатулку, открыл ее и положил их туда с такой осторожностью, как если бы это была раненая птица. Он протянул ее мне, словно это был волшебный амулет, и сказал на этот раз решительно: «Брижитт умерла. Брижитт, которую я знал и любил, умерла».
Глава 14 Старый учитель
Мы помирились. Сражение, которое могло нас погубить, напротив, укрепило наши взаимоотношения. Шахзада меня убедил: «В любви все прекрасно, не только радость, но и грусть». Он смог утихомирить мою ревность по поводу той англичанки, а также всех других европеек, с которыми ему приходилось встречаться по долгу службы. «Ты должна знать: когда какая-нибудь женщина сидит рядом со мной, я вижу в ней только тебя».
Что до остального — дети, замужество, — я понемногу, хоть и с переменным успехом, смирилась, что это останется лишь желанием. В глубине души я все же мечтала о красивой момандской церемонии. Я говорила ему иногда: «Мы поженимся, когда состаримся. Нам больше не нужно будет путешествовать, и мы будем вести спокойный образ жизни». Но не об этом я мечтала.
Я осознала также, что мне не избежать долгих моментов одиночества и раздумий. Шахзада спрашивал меня, насколько я продвинулась в вопросе принятия мусульманской религии. Он, родившийся мусульманином, не представлял, вероятно, сколько усилий нужно иностранцу, чтобы понять и принять ислам. Я приняла его в эмоциональном порыве, после многих лет поисков себя, и ни на минуту не пожалела об этом решении. Но до его практического воплощения было еще далеко. Да, я молилась пять раз в день в своей комнате на коврике, повернувшись к западу. Я читала молитвы, но сердце на них не откликалось. Я соблюдала некоторые правила ислама в еде, отказывалась от вина или джина под предлогом диеты. Я совершала закат[27] — отдавала бедным незначительную часть того, что зарабатывала… Я пыталась организовать свою жизнь, следуя исламским ценностям, но я чувствовала себя пылинкой у подножия огромной горы, на которую даже и не начала подниматься.
За исключением Шахзады, никто не знал об этом. Ни мои подруги во Франции, ни кто-либо в Кабуле, ни даже моя дорогая Hyp. Я страшилась в этом признаться. Я и сейчас боюсь, так как в мире столько непонимания по отношению к религии, имя которой звучит как оскорбление, с тех пор как фанатики исказили ее тексты. В своих истоках это религия света. Но любую религию делают люди.
Я купила об исламе много интересных, но чересчур научных книг — а я не интеллектуалка. Другие книги были слишком нудными, полными догм и идеологии, от них я тоже отказалась. Всем им не хватало духовности, а я жаждала именно этого. Я бы хотела, чтобы кто-то меня просвещал, наставлял. То, как Шахзада жил в исламе и говорил о нем, меня вдохновляло. Но у него не было ни малейшего желания быть моим духовным наставником.
Однажды, когда я возвращалась из Франции после краткого пребывания там без Шахзады, в самолете Дубаи — Кабул молодая женщина попросила разрешения подсесть ко мне. «Я очень боюсь, и мой муж, который сидит вон там, — она показала на брюнета в деловом костюме, — посоветовал мне сесть рядом с женщиной и поболтать, чтобы забыть о страхе». Она была очаровательной молодой афганкой, живущей в Соединенных Штатах. Мы беседовали в течение всего полета, и я воспользовалась моментом, чтобы поговорить об исламе, о моих трудностях войти в эту религию духовно, так, как я этого хотела. Она порылась в сумочке, вытащила визитную карточку и протянула мне: «Мне недавно дали две, возьмите одну. Речь идет о духовном наставнике, который обучает Корану в Кабуле. Он не похож на обычного муллу, каких там много и которым он сам не доверяет. Если верить тому, что о нем рассказывают, он поможет вам продвинуться в этом направлении». Я посмотрела на карточку. С фотографии на меня смотрело круглое, живое лицо. Оно мне понравилось. Я положила ее в сумочку.
Два месяца спустя я переехала в маленький домик с садом. Распаковывая вещи, я наткнулась на ту самую визитную карточку. Мне часто говорили, что переезд затрагивает не только предметы мебели. Этот переезд помог мне немного прояснить свои мысли. Я начинала новую жизнь, надо было завершить начатое. Я записалась к учителю и попросила своего шофера Эсматуллу отвезти меня к нему.
Старый мужчина встретил меня учтиво. Седые волосы под повязанным в виде короны тюрбаном и короткая седая бородка обрамляли достойное и лукавое лицо почтенного старика. Он говорил на дари, одна из учениц переводила его высказывания на английский. В этом доме, похожем на обычные буржуазные дома столицы, с широкими диванами, толстыми и пестрыми коврами, тяжелыми занавесками, смягчающими дневной свет, у меня возникло чувство спокойствия. Он спросил, что может для меня сделать. Я рассказала ему свою историю, но не решилась вдаваться в некоторые деликатные подробности наших отношений с Шахзадой. Он перебил меня: «Здесь вам нечего бояться. Я не хочу знать его имя». И я пустилась в повествование. К концу мое сердце неистово билось. Впервые я свободно рассказала о своей любви, о ее глубине и, как следствие ее, о перспективах моего духовного развития. Старик заключил: «Это любовь. Что тут еще скажешь?» Он хотел узнать об отношении ко мне его семьи.
— Вы знаете его семью?
— Да, я была у него в деревне и там встречалась с его отцом.
— А вы знаете его жену?
— Я встречалась с ней два раза.
— Как она реагирует?
Я рассказала ему о Кути, какая она понимающая, о ее любви к мужу и дружбе со мной, о месте, которое она готова мне предоставить в ее семье, и о наших все более и более теплых отношениях, несмотря на расстояние.
Молодая афганка, которая переводила нашу беседу, прожила несколько лет в США. Она выразила удивление по поводу реакции Кути. Старик сказал: «Да, да, афганцы такие. Брижитт прекрасно поняла, что сказала та женщина. Она очень любит своего мужа и очень любит Брижитт. Да, любить можно и так». Я была ужасно взволнована. Наконец кто-то понимал нашу ситуацию и одобрял то, как каждый из нас ее проживал, то есть пытался прожить, насколько было возможно, черпая мужество и силы в душе.
Он добавил: «Встреча с этим человеком открыла твое сердце. Религия проживается сердцем, и только так». Он находил прекрасным, что я пришла к исламу через любовь. Я попросила его помочь мне лучше понять эту религию, жить земной любовью, не теряя при этом священной связи. Я не люблю эти высокие слова: «святой», «душа», «духовность»… Они давят и слишком помпезны. Я не стремлюсь к духовности, чтобы убежать от реальности и броситься в мистику. Ничего подобного! Я просто хочу стать хорошим человеком, лучше понимать других и, может, однажды достичь других духовных высот. Любви, я думаю, надо учиться. Старик так красиво, по-детски, улыбнулся: «Я принимаю тебя. Отныне ты моя дочь. Но ты должна понимать, что путь труден, тебе понадобятся упорство и мужество».
Он пригласил меня на свои занятия по четвергам и пятницам. Я вышла окрыленная. Эсматулла ждал меня в машине. Как обычно, я села сзади, подняла стекла, нажала на кнопку дверцы. Он наблюдал за мной в зеркало заднего вида. Мне он нравился. Встречаясь с ним каждый день, я узнала все о его семье, о трудностях выживания. Часто он возил меня в Джелалабад вместо такси, беспокоясь о моей безопасности, и тут же уезжал, проделывая опять шесть часов опасной и утомительной дороги. В этот раз он все чаще посматривал на меня в зеркало. Заметил ли он, что я не была в своем обычном состоянии?
«Со мной только что произошло необычайное, Эсматулла. — Я вся светилась. — Я услышала то, чего еще никогда не слышала. — Слезы застилали глаза. — Мне нужно сказать тебе… Я приняла ислам». Вот, признание состоялось. Я была слишком переполнена счастьем.
Эсматулла расчувствовался. Он сказал на своем плохом французском: «Для нас это честь, мадам Брижитт. Большая честь. Это замечательно». И мы заплакали вместе. Он был так поражен, что перешел на «ты», как того требовала ситуация: «Теперь ты моя сестра, все мусульмане — братья и сестры». Он подумал и добавил: «Ты словно новорожденная теперь. Все, что ты делала до этого, забыто».
И Эсматулла пустился в восхваление ислама, лучшей из всех религий, более высокой, чем католицизм или иудаизм. Я возразила, что ни одна религия не доминирует над другой, как нет одной книги, более священной, чем другие. «Я выбрала ислам, потому что его практика мне подходит, вот и все». Я полюбила эту религию еще и потому, что она вылепила такого человека, каким стал Шахзада, но этого Эсматулла не должен был знать.
Я удобно устроилась на сиденье и размышляла над последними событиями. Водитель воспользовался моим молчанием, чтобы пуститься в объяснения по поводу того, что запрещено, а что позволено в исламе. В этом было столько вздора, что я решила не прислушиваться. Иначе можно было подумать, что мусульмане — глупцы и фанатики. Это было слишком нелепо. Я предпочла вновь окунуться в воспоминания о своей беседе со стариком. И снова я почувствовала себя безмятежной и умиротворенной.
Глава 15 Тропинки жизни
В ту весну 2005 года Афганистан, казалось, был на грани хаоса. Постоянные теракты угрожали хрупкому равновесию, установившемуся в последние четыре года. Выборы в Законодательное собрание были назначены на 18 сентября. Для врагов режима это был удобный случай развязать насилие, которое было направлено в первую очередь против ISAF. Но и гражданские лица не были в безопасности.
Талибы и сподвижники Аль-Каиды поклялись сорвать эти выборы, они ополчились против всех, кто сотрудничает с американцами. В Кабуле взлетели на воздух цистерны, снабжавшие американский контингент. У дома губернатора в Джелалабаде, в двух шагах от Шахзады, взорвалась машина; на юге, в Кандагаре, — армейская машина; в самом центре Кабула взорвано интернет-кафе, которое посещали в основном иностранцы. Трое убитых, в том числе бирманский инженер. В Кабуле же семь мирных граждан погибли от пуль, выпущенных в автомобиль сил Атлантического блока. Ответственность за все теракты брали на себя талибы, советуя населению Кабула «держаться подальше от войск ISAF». Легко сказать. Бронемашины ездили по всему городу, везде были пробки, прижимающие наши машины к армейским танкам. И мы, собрав остатки терпения, должны были ждать под дулом пулемета, которое солдат, как правило молодой и нервный, направлял то на наше лобовое стекло, то на небо, то на крыши домов. Стресс был гарантирован, тем более что военные требовали, чтобы мы уступали дорогу. Это их высокомерие каждый переносил по-своему.
Как-то я вышла после встречи на афганском радио. Дома были оцеплены армейскими, которые, не церемонясь, вынуждали прохожих делать большой круг в обход и шлепать по грязи. Я решила пройти по привычному для меня пути. Молодой филиппинский солдат остановил меня: «No go». Как это «не идти»? Мне надоели эти сложности, невозможность жить нормально; я решила его игнорировать. Он попытался меня остановить, но я продолжала идти, послав его к черту. И добавила известный жест, оставив моего молодого ассистента разбираться с военным, обиженным и разозленным. Все могло случиться. Позади меня разговор шел на повышенных тонах: «Вы ее ассистент, и вы не можете запретить ей проходить?» Аскар не огрызался, его ответ был полон здравого смысла: «Как вы хотите, чтобы я ее остановил, если вы не можете это сделать со своим пулеметом!»
Среди населения начали распространяться антиамериканские настроения. Придя сюда, американские войска своей операцией «Несокрушимая свобода» развязали войну против деревень, которые укрывали членов Аль-Каиды. Часто их сведения опирались на ошибочную информацию. Разбуженные и выгнанные из своих домов мужчины и женщины… Это напоминало подобные операции в Ираке. Тогда эти кадры облетели весь мир. В некоторых деревнях не было ни единой семьи, которую не затронуло бы это унижение, ведь афганская семья не ограничивается десятком людей, она объединяет сто, двести, триста, а то и четыреста человек, связанных кровным родством.
Таким образом, Шахзада оказался во взрывоопасной ситуации.
Мартовской ночью 2005 года, когда дома-крепости деревни Барик-Дхан были погружены в глубокий сон, рев машин разорвал тишину. Световые пучки прожекторов обшаривали лабиринты темных глинобитных улиц, разрывая ночное небо. Послышался дикий лай. Вертолет приземлился в поле, оттуда высадились люди в форме и направились к деревне. Американцы попросили жителей выйти. Всех — мужчин, женщин, детей, стариков. Они обыскивали дома в поисках оружия и террористов. По их информации, крестьяне прятали членов Аль-Каиды и талибов.
Эта была красивая и большая деревня момандов около Джелалабада, я посещала ее с моими французскими друзьями. Мы были поражены ее чистотой и процветающим видом. Присутствие Шахзады привлекло многих мужчин деревни, среди которых было много двадцатилетних парней со смышлеными лицами. Сразу было видно, что это не простые крестьяне, а образованные юноши. Почти все говорили по-английски, некоторые учились медицине. В деревне было две школы для девочек и две — для мальчиков, а также больница. «Но не за счет правительственных денег, которое ничего для нас не делает». Да, еще год назад здесь выращивали мак. Один старик показал нам на поле и вздохнул: «Теперь мы там выращиваем вкусные арбузы». Другой добавил: «Мы уничтожили наш источник богатства, но в Кандагаре не отказались от этого и продолжают обогащаться. Поэтому в следующем году мы снова посадим мак везде, даже на крышах наших домов. И пусть даже не пробуют нам мешать, мы будем драться до смерти». У них было чувство, что их одурачили.
Той ужасной ночью американцы забрали двух мужчин и женщину и посадили их в вертолет, который взял курс на тюрьму Баграм, к северу от Кабула. Военные не знали еще, что совершили святотатство.
У пуштунов женщина является самой большой ценностью в жизни. Никакая ошибка не сравнится с арестом пуштунской женщины. Деревня зашумела и собралась в маленькой мечети. За считаные секунды две тысячи крестьян встали плечом к плечу, их ярость росла. Слышны были щелчки затворов. Мужественные крестьяне, которые своими руками по крупинкам восстановили разрушенную моджахедами деревню, превратились в бравых солдат, какими всегда были в душе. Они были готовы идти на Джелалабад и атаковать американские базы и все организации, связанные с американцами. Один из людей раздобыл в мечети громкоговоритель и передал послание другим деревням, которые, в свою очередь, отправились через поля и каналы к остальным, более отдаленным мечетям. Через два часа 80 тысяч вооруженных крестьян были готовы идти на столицу Нангархара.
Три часа спустя, не в силах избежать надвигающейся катастрофы, американские военные освободили узницу и двух ее спутников. Тщетно. Напряжение продолжало нарастать. Шахзаду вызвали в Генеральный штаб, где начальник местной полиции предложил ему пойти в деревню под охраной двухсот вооруженных человек. Шахзада отказался. Демонстрировать силу пуштунам… Безумие! Это было бы воспринято как провокация. Он задумался. Если моманды атакуют Джелалабад, это может привести к грабежам, беспорядкам, а за этим последуют ужасные репрессии со стороны властей. А он не хотел, чтобы хоть один моманд погиб. «Я не хочу, чтобы с моим народом плохо обращались…» — вспомнились ему слова, произнесенные когда-то отцом. И тогда он отправился в деревню с двумя своими охранниками и начальником полиции. Он взял слово перед толпой седобородых мужчин: «Послушайте, американцы получили ложную информацию, но это и наша ошибка: возможно, среди нас предатель, который и сообщил им это».
Старейшины задумались. Представив, что их собственный сын или двоюродный брат мог быть замешан в этой истории — а тогда позор ляжет на весь клан, — они рискнули. Да, их шеф молод, но мудр; они решили поддержать его стратегию и приказали восстановить спокойствие в деревне. Виновник должен был предстать перед большим момандским советом. Но я так и не узнала, что там произошло потом.
Только мы, иностранцы, начали чувствовать, что жизнь налаживается, как 16 мая взяли в заложницы итальянку Клементину Кантони. Это был серьезный удар по нашему моральному состоянию. Машина следила за ней с того момента, как она вышла с курсов по йоге; четверо вооруженных людей выкрали ее от самого порога дома. Молодая женщина работала на «Саге International», некоммерческую организацию, которая помогала кабульским вдовам и их детям[28]. Тиски сужались вокруг нас. Живя бок о бок с опасностью, из-за нее мы лишились и свобод. ООН тут же запретила своим сотрудникам выходить из дому, кроме как на работу и обратно, и только на машине с охраной. Несколько дней спустя охрана ООН произвела проверку лучших ресторанов Кабула. Всех работающих в этой организации, кого застали там развлекающимися, отправили первым же самолетом в Европу.
В это же самое время откровения «News Week»[29], касающиеся обращения американских солдат с книгами Корана, принадлежавшими мусульманам-заключенным на базе в Гуантанамо, спровоцировали волну протеста в стране.
Джелалабад поднялся, и в этот раз ничто не могло помешать взрыву недовольства. В течение двух дней тысячи манифестантов заклеймили поведение американских солдат, выкрикивая: «Смерть Соединенным Штатам, смерть Джорджу Бушу! Да здравствует ислам, да здравствует Коран!» Здания Министерства по делам женщин, ООН, афганской избирательной комиссии и многочисленных неправительственных организаций, консульство Пакистана были осаждены и разрушены. Итог двухдневных беспорядков: четверо убитых и 71 раненый. Сотни иностранцев были эвакуированы. Я представляла «наш» дом, окруженный военными, а Шахзаду — жертвой шальной пули или, наоборот, привилегированной мишенью. Все могло произойти при этих беспорядках. К счастью, телефон позволял нам связываться в любую минуту.
Дорога на Джелалабад была закрыта, велись работы по ее восстановлению. По маршруту Кабул — Сароби нужно было ехать по старой дороге, которая проходила через земляные валы. В утренние часы она была неописуемо прекрасна, как в библейские времена. Я нуждалась в этой красоте, она меня очищала, захватывала. И что с того, что приходилось тратить семь часов на дорогу вместо пяти? Это было неважно.
Слухи подтвердились: мой контракт в посольстве Франции не будет продлен. Я удвоила силы, надеясь, что новый посол сможет исправить ситуацию. Но это не мешало мне убегать из Кабула при первой же возможности. Условия безопасности в посольстве были намного гибче, чем в агентствах ООН, где каждый сотрудник был снабжен радиодатчиком и должен был ежевечерне, в один и тот же час, пытаться уловить свой кодовый номер в нескончаемом скучном потоке звуков, чтобы ответить на него личным паролем. Для тех, кто в одиннадцать часов вечера падал от усталости, это было бесчеловечно.
Выборы исполнительной власти приближались. Политическая гордость обуяла Шахзаду. Он намеревался выставить свою кандидатуру в Улуси Джирга, эквивалент депутатской палаты. Наблюдатели предвещали от пяти до десяти тысяч кандидатов на 249 мест в нижнюю палату и 420 — в местные советы.
Должен ли он туда идти? Друзья подталкивали его к этому, так же как и наследственность. Его отец, дед и даже прадед занимали политические посты и были членами правительств. Этот пост был назревшей необходимостью для Шахзады, который хотел открыто говорить о проблемах своего народа. Ему было что сказать. Он сможет тогда спрашивать с других, следить за циркуляцией денежных средств, которые редко доходили до населения, сможет добиваться льгот для людей. Он возмущался, что на пост главы района назначили неграмотного человека, который использовал потом рычаги власти, чтобы принять, например, в школу неграмотных, как и он, учителей. Но более всего он желал прекратить вражду между пуштунскими кланами. Они ослабляли страну и мешали выкарабкиваться из прошлого.
Я надеялась, что будут и другие кандидаты, такие же как он, — честные, близкие к реальности, без личных амбиций, надеялась на то, что они пройдут.
Будущий парламент уже вызывал повсюду подозрения. Президент Карзай заявил, что боевики, согласные сдать оружие, смогут участвовать в выборах. Я слышала, как афганский журналист с болью и обидой уверял: «Это будет призрачный парламент воров. Эти выборы — средство для отмывания грязных наркотических денег».
Чистота, с которой Шахзада шел на выборы, меня восхищала — ни личного богатства, могущего ему помочь, ни прибыльного бизнеса, никакой персональной поддержки со стороны правительства или влиятельной группы. Если он подаст свою кандидатуру, он будет вооружен лишь одним — своей честностью, Я слышала, как он говорил старейшине: «Я ни разу ничего не украл, это дает мне право представлять мой народ. Я готов предстать перед их судом, мне не в чем себя упрекнуть». Я была этим глубоко тронута. Я знала слишком хорошо, что политическая игра, где бы она ни велась, подчиняется тем же законам жестокости, иногда цинизма. И я знала также, что Шахзада не понимал тогда, насколько его иллюзии заставят его страдать.
В деревне жена удерживала его от участия в выборах: «На что мы будем жить, если тебя изберут? Как ты будешь кормить всю свою семью?» А ведь Шахзада один поддерживал человек шестьдесят. Если он выдвинет свою кандидатуру, ему придется уйти с поста главы Комитета по делам племен, а значит, потерять зарплату. Он даже не знал, какое депутатское пособие ему будут выплачивать, если его выберут. А если не выберут, он все потеряет. Еще одна огромная ответственность, ложившаяся на его плечи.
Я колебалась. В какие-то дни я разделяла беспокойство Кути и склонялась к отрицательному ответу, в другие — мечтала, как Шахзада расправит крылья. Мне случалось думать, что судьба поставила меня на его пути, чтобы я его подтолкнула, вселила веру в себя, чтобы он нашел свое место. Мы знали друг друга уже три года, и я заметила, что он больше не хмурит брови, ну, может, лишь в случаях, когда очень чем-то недоволен. Кути тоже заметила это и сказала: «Ты уже не такой диктатор, с тех пор как узнал Брижитт». Однажды я спросила, чему его научила война. Он задумался: «Война… Разве война когда-нибудь заканчивается?» Потом признался, что раньше был человеком бескомпромиссным. Должность Главы комитета по делам племен научила его избегать обидных, ранящих слов, сдерживать гнев. Мы видели, что понемногу он становится более человечным. Но теперь ему было тесно на этом посту.
«Брижитт, решение в твоих руках», — сказал он после долгих дней телефонных разговоров и противоречивых доводов. Я выдохнула: «Иди. Ты победишь». Жребий был брошен. С этого дня у Кути не было ни ночи без кошмара, как во времена войны в горах, когда ее муж сражался вдали от нее.
За три месяца до выборов против демократического процесса было развязано насилие. Один из кандидатов был убит, и в этот же день Шахзада рано утром собрался на похороны в Кандагар. В Кандагар? Логово антиправительственных повстанцев? Он что, с ума сошел? Шахзада засмеялся: «Не волнуйся, я буду в машине начальника полиции». Но ведь именно официальные лица и были излюбленной целью террористов Аль-Каиды. Как только он вернулся, сразу позвонил: «Знаешь, что с нами произошло? У нас украли обувь на пороге мечети!» Он вспоминал любое смешное происшествие, чтобы рассеять мои страхи.
Через десять дней эта самая мечеть Абдул Раб Ахунд стала местом страшной резни. Там проходила церемония, посвященная убийству того самого кандидата. Талибы направили две живые бомбы на мотоциклах в толпу, выходившую из здания. Их мишенью был начальник полиции Кабула, генерал Акрам. Двадцать убитых, пятьдесят два раненых.
Несмотря на возросшую опасность, телохранители Шахзады охраняли его даже с большим рвением, чем раньше, несмотря на мизерную зарплату.
Однажды ночью, когда Шахзада спал глубоким сном, его разбудил шум у входа в дом. Мистер Кебаб, достойный старик, готовивший шашлыки для гостей, стоял на пороге растерянный, с непокрытой головой, — он, кого мы никогда не видели без тюрбана. Он молча стоял, вытаращив глаза, пытаясь взять себя в руки: «О, ты здесь, Хан Сахеб, ну тогда все хорошо». И вышел. Наутро Шахзада расспросил его о ночном визите. Бедняге приснился страшный сон: двое убивали Шахзаду на его глазах. Он проснулся в поту, выбежал из дома, пересек сад, взобрался по лестнице настолько быстро, насколько позволяли его старые ноги, и ворвался в дверь, чтобы спасти Шахзаду.
Страх покушения будоражил умы всех, кто любил и уважал его.
И он сам не был исключением. Одним мрачным вечером он попросил меня по телефону: «Обещай, что, если со мной что-то случится, ты не бросишь Кути и детей». Я знала обычай левирата, который заключается в том, чтобы передать вдову своему брату. И для меня, и для Кути была невыносима мысль об этом. Конечно, я поклялась.
Но я спрашивала себя, хватит ли у меня сил на это. Если с Шахзадой случится несчастье, я умру. Мое сердце остановится.
Глава 16 Расправить крылья
Прирученная птица жила в клетке. Дикая птица жила в лесу. Волею судьбы они встретились. Дикая птица воскликнула: «О любовь моя, полетим в лес». Прирученная прошептала: «Давай лучше будем жить в клетке…»[30]Это стихотворение Тагора рассказывает нашу историю. Свободная птица, плененная птица… Шахзада и я были ими по очереди. Можно подумать, что прутья клетки помешают мне расправить крылья или что Шахзада не будет знать, где остановиться в необъятном небе. И все же…
Я продолжаю брать уроки у своего старого учителя, сидя на коврике скрестив ноги, в течение многих часов, вместе с другими учениками. Я учусь там богатству философии света. Я учусь там счастью. Я прогнала свое чувство вины за то, что молюсь с пустым сердцем. «Пророки не молились, когда не чувствовали себя близкими Богу. Они ждали подходящего момента», — сказал нам учитель. Как и я. И такой момент всегда наступает. Мой внутренний голос замолчал. Я считаю, что это хороший знак.
Парламент заседает в Кабуле. Шахзада был избран. Он не давал взяток, никого не запугивал. Честная победа. В эйфории от этого Шахзада сказал мне, что переедет в Кабул. Он снимет большой дом, в котором поместятся все — Кути, дети и я.
Я ждала этого великого события. Я всегда буду его ждать — со страхом и волнением одновременно. Но реальность сильнее нас.
Я потеряла работу в посольстве Франции. Я делала возможное и невозможное, чтобы найти новую работу, но тщетно. Тогда я создала маленькую студию по производству видеофильмов «Women's eyes» — «Женский взгляд», президентом которой является Джамиля. Маленькая Джамиля, которая, плача, снимала женщину-хазарейку, выросла в уверенную в себе журналистку. Заказов мало. Одно время я вела переговоры с ЮНЕСКО о том, что продолжу учить афганок профессии журналиста. Увы, из десяти запущенных проектов ни один не дошел до меня. Я переехала из своего дома с садом и садовником в двухкомнатную квартиру в центре Кабула. Шахзада приходит сюда чаще, чем в свой дом. Он предпочитает этот «кокон».
Иногда я не вижу своего будущего.
У Шахзады жизнь отнюдь не легче. Он получил кресло в парламенте, но потерял часть своего престижа. Он — всего лишь один из 248 депутатов. А в этой стране престиж уже сам по себе богатство. Нет ничего важнее ифтихар — гордости. Он вынужден вести более скромный образ жизни, снять меньший дом в Джелалабаде, распрощаться с телохранителями. Денег не хватает. Иногда ему хочется удалиться в деревню, к своим, к беднякам. У Шахзады ранена гордость. Но я знаю, что он переживет это испытание. Иногда, не предупредив меня, он уезжает «туда», и я в течение нескольких нескончаемых дней остаюсь без новостей от него. Я смотрю на восток, на дорогу, по которой так часто ездила, на невероятно голубое небо, представляю момандские горы и спрашиваю себя, вернется ли он когда-нибудь.
Он советует мне вернуться во Францию.
Однажды он протянул мне сверток. Там было ожерелье, сделанное Кути, — пуштунское колье, украшение бедной женщины. Оно полностью сделано из гвоздик, нанизанных на нитку через равные интервалы, и в центре каждой — красные и белые пластмассовые бусинки, в которых отражается свет. Шахзада объяснил мне, что в деревнях женщины настолько бедны, что у них нет ни украшений, ни духов. Цветки гвоздики ароматизируют их кожу и разжигают желание мужчин. Это ожерелье великолепно. Мне страшно подумать, сколько часов Кути на него потратила. Когда Шахзада описал ей мое восхищение, она удивилась: «Почему она находит этот подарок таким красивым? Она, у которой есть все?»
Все.
Мое решение принято. Я больше не покину Афганистан до тех пор, пока будет жив Шахзада. Возможно, что эта непредсказуемая страна снова окажется в войне, что фундаменталисты вновь захватят власть, — все возможно. Я предупредила Шахзаду: если когда-нибудь ему снова придется взять в руки оружие, если он вернется к партизанам, я последую за ним, какой бы тяжелой ни была там жизнь. Он посмотрел на меня с гордостью: «Ты — сильная и мужественная женщина. Ты настоящая пуштунская жена».
Какой более красивый комплимент он мог мне сделать? Я не знаю такого.
Благодарность
Манюэлю Каркассону за его бесконечное терпение и неоценимую поддержку. А также за его мужество поехать в Кабул, не будучи уверенным, что вернется оттуда.
Югу Деваврену за его проницательность, великодушие и дар объединять совершенно разных людей.
Спасибо Мерхии, Джамиле, Шекибе и Гуль, что они согласились снова пережить важные и трагичные минуты своей жизни. А также Зубайру Амири.
Акбару — за его переводы в стране момандов.
И конечно, спасибо Шахзаде, который открыл нам дверь в свою страну и к племенам, ее населяющим. Без него это погружение в другой мир было бы невозможно. Его гостеприимство незабываемо.
D. S. Р.Примечания
1
Поражение СССР в Афганистане ознаменовало начало его распада, который, в свою очередь, привел к падению Берлинской стены в 1989 г.
(обратно)2
Основная деталь мужской одежды: кусок ткани, который может служить по мере необходимости платком, покрывалом, полотенцем и даже ковриком для молитвы.
(обратно)3
Традиционная мужская одежда, состоящая из просторной туники, надетой поверх широких штанов. Может быть белого или бежевого цвета.
(обратно)4
Персидский язык в Афганистане.
(обратно)5
Тонкий хлопчатобумажный матрас на полу.
(обратно)6
Мариз Бурго, Жан-Жак ле Гарек и Рола Мадюра были захвачены в плен в июле 2000 г.
(обратно)7
В операции «Непоколебимая свобода», организованной после падения талибского режима в конце 2001 г., приняли участие 85 % американских солдат, усиленные силами специального назначения из Франции, Великобритании и Германии. Ее миссия состояла в борьбе с терроризмом.
(обратно)8
Автор и создатель популярной передачи «Корни и крылья» на канале «Франс-3». — Примеч. пер.
(обратно)9
Afghan International News Association.
(обратно)10
Махрам — официальный охранник.
(обратно)11
Чайный дом, ресторан, они размещаются на обочинах дороги и в каждой деревне.
(обратно)12
«Не чувствуйте усталости!»/«Будьте здоровы!» — формулы вежливости на дари.
(обратно)13
19 ноября 2001 года Хари Бартон и Азизулла Хайдари, сотрудники агентства «Рейтер», испанец Хули Фуэнтес из ежедневной газеты «Эль Мундо» и Мария Грация Кутули из «Карьере делла Сера» были захвачены бандой вооруженных людей примерно из 12 человек, когда пытались доехать до Кабула из Пакистана сразу после падения талибского режима. Они были убиты.
(обратно)14
Конфеты.
(обратно)15
Шеф.
(обратно)16
«Давайте!» на пушту.
(обратно)17
На языке пушту слова «афганец» и «пуштун» являются синонимами. В данном случае мужчина говорит о пуштунских нравах.
(обратно)18
Джан — употребляется, чтобы выказать уважение и симпатию к адресату.
(обратно)19
«Спасибо, большое спасибо» на пушту.
(обратно)20
«Любовь» на дари.
(обратно)21
International Security Assistance Force.
(обратно)22
Бузкаши — афганская игра, конное поло, где вместо мяча изначально использовали голову убитого врага. Теперь голову заменяют чучела животных, наполненные песком.
(обратно)23
Хлеба.
(обратно)24
Кровать из плетеных веревок.
(обратно)25
Тюрбан.
(обратно)26
Кашмир всегда рассматривался как самый процветающий край этой части Азии.
(обратно)27
Милостыня.
(обратно)28
Клементина Кантони будет освобождена 9 июня, после того как афганские власти освободят мать одного из похитителей, сидевшую в тюрьме за преступления.
(обратно)29
Американский еженедельник разоблачил некоторые инциденты на базе в Гуантанамо в номере от 2 мая 2005 г. Один охранник, например, выкинул священную книгу в туалет, другой помочился на нее (последовавшее за этим расследование, признавшее пять нарушений, употребит формулировку «нечаянно помочился»).
(обратно)30
Рабиндранат Тагор. Садовник любви. Галлимар (NRF, «Poesie/Gallimard»), 1980.
(обратно)

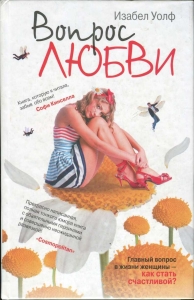
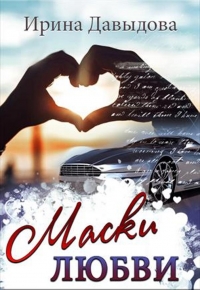


Комментарии к книге «Во имя любви к воину», Брижитт Бро
Всего 0 комментариев