Анхела Валвей Охота на последнего дикого мужчину
Посвящается тем, этим и всем остальным женщинам
Глава 1
В данный момент меня ищут с целью перерезать мне горло. Можно также сказать с уверенностью, что некая шайка злодеев, вооружившись шприцами, зараженными СПИДом, бредет за мной по пятам, желая меня погубить. Кошмар. Следовало бы подыскать место, где меня в ближайшее время похоронят, а еще лучше – найти славную норку, в которой можно укрыться, пока не минует опасность. И все же я вновь и вновь прихожу сюда, чтобы выслушать жалобы моей сестры – она непрестанно жалуется с тех пор, как я себя помню. Очень странно, что мы с ней родня – она совсем на меня не похожа.
Несмотря на мои собственные проблемы и ее стенания, я смотрю на нее с нежностью, понимая, что с этим ничего не поделаешь. В конце концов, она моя любимая сестра.
Успокойся, детка, говорю я сама себе. Пусть это безумное напряжение, которое ты прячешь внутри, осыплется на диван, как перхоть с головы, да там и останется. Успокойся, детка.
– Какая странная жизнь, – замечает моя сестра Гадор.
– По сравнению с чем? – бормочу я вместо ответа.
Гадор погружается в раздумья, хотя я не уверена, что они уведут ее слишком далеко, поскольку обычно она приходит в замешательство, когда обстоятельства заставляют ее выйти за рамки привычных тем. Она не привыкла переходить эту грань.
Ненавижу эти разговоры о жизни, потому что они неизбежно напоминают о смерти, а я по очевидным причинам избегаю подобных мыслей, хотя мне это не всегда удается. Безусловно, в конце концов мне придется с ней встретиться – когда не будет другого выхода. А сейчас для меня смерть как таковая – лишь аргумент победить в этой жизни.
В общем, Гадор вынуждает меня ненадолго вернуться к неприятной теме о жизни и смерти, пренебрегая моим естественным нежеланием нервничать.
Я смотрю на свою сестру, которая превратилась в сплошной клубок нервов – она беременна, в полном отчаянии, несчастна и грустна. Я вижу, как опухли от слез ее глаза. Она невзначай проводит рукой по животу, и я не могу не думать о жизни и смерти. А принимая во внимание, что мне наступают на пятки те, кто желает вцепиться мне в глотку, такие размышления не назовешь неуместными.
Некто утверждал, что жизнь и смерть – два равнозначных состояния. «Тогда почему ты живешь, почему не покончишь с собой?» – спросили его. А он ответил: «Потому что не вижу разницы».
Я лично в этом вопросе предпочитаю придерживаться Эпикура. Не бойся смерти и не будешь бояться жизни. Пока я жива, какое мне дело до смерти? А когда я умру… то какое, черт возьми, все это будет иметь значение?
Я несколько раз повторяю это про себя, однако не чувствую глубокой убежденности.
У меня дрожат ноги, я покрываюсь потом. Честно говоря, не знала, что умею потеть. Гадор мне рассказывала, что даже в детстве я была настолько деликатной, что никогда не потела и не пускала газы, и я верила, что это соответствует действительности.
– Почему все так странно, Кандела? – настаивает Гадор.
– Послушай, не волнуйся… Тебе нужно успокоиться.
– Меня достала эта жизнь… – Похоже, она действительно совершенно подавлена. – Мир – полное дерьмо…
Тут я с ней не согласна. Несмотря ни на что, я считаю, что «наш мир – лучший из миров». Но на самом деле в данный момент я не уверена, что это такое уж утешение.
Я пытаюсь ее успокоить, хотя сейчас сама так нуждаюсь в утешении, но предпочитаю молчать и не просить о том, чего не могу дать сама.
– Да хватит уже, Кандела… Не спорь со мной, – произносит моя сестра сквозь рыдания. – Если это лучший из миров, представляю, какие все остальные… Какие, черт возьми, могут быть другие возможности! Может, ты еще скажешь, что мне очень повезло, что это что-то вроде лотереи!
– Хорошо, предположим, что нет других миров. Значит, мы должны довольствоваться этим. – Я смотрю на нее с нежностью, но, похоже, Гадор меня не понимает. – В общем, мы здесь, и ничего с этим не поделаешь, верно? Хватит плакать, ты должна взять себя в руки.
– Конечно, тебе легко говорить. Ведь не ты беременна, а я.
– Слушай, слушай… остановись! – Я начинаю горячиться, нервничать и заикаться. – Я не виновата, что ты беременна. Так что не переваливай все на меня, ладно?
– А-а-а, теперь и ты тоже на меня кричишь!
– Успокойся, успокойся, я не кричу на тебя, не кричу! – говорю я ей, переходя на крик.
– Дай мне салфетку, не эту, нет! Я хочу высморкаться! – Она указывает то в один, то в другой угол комнаты, и я послушно бросаюсь туда в поисках того, что она просит. – Принеси рулон туалетной бумаги. Она вполне сгодится.
Гадор громко сморкается, и кажется, немного успокаивается.
– Если бы у меня хотя бы работа была! – жалуется она. – Не потому что мне так уж хочется работать, просто так я бы хоть из дома выходила… Но мы живем во времена безработицы… Вот такие дела.
– Это правда… Да.
– Помнишь, как было в школе? Когда меня спросили, какая профессия у папы, я написала «рабочий». Тогда это казалось чем-то значительным. А теперь… Я… я… – Она снова начинает рыдать как ребенок. – Я бы тоже работала на фабрике, если бы взяли. Я просто хотела, чтобы ты знала.
Это можно перефразировать так «Боже, я был бы хорошим вассалом, если бы у меня был добрый господин».
Я внимательно ее разглядываю, и мне кажется невероятным, что эта грудастая гора в старом голубом шерстяном свитере с множеством затяжек – моя старшая сестра.
Время летит просто неприлично быстро, особенно когда его так много потрачено впустую. Большинство из нас подобно часам: только прокручивает время. Гадор в этом особенно преуспела. Она была чудной девушкой, с упругими бедрами и безупречной, тонкой кожей; а теперь я даже не могу вспомнить, какие у нее волосы. Она так часто меняет их цвет, что иногда ее не враз узнаешь, когда увидишь со спины на улице.
Но как бы ни выглядела Гадор, я чувствую, что люблю ее всем сердцем. С точки зрения любой свиньи свинья красива. Я люблю ее поросячье лицо и ее запах, отчаяние и морщины, которые уже взяли в осаду ее глаза. Кроме того, сейчас Гадор угощает меня превосходным вином. Правда, я сомневаюсь, что она сама его купила. В такие мгновения мне действительно кажется, что мы с сестренкой образуем единую частицу огромной вселенной.
А если разобрать эту треклятую вселенную на части, от нее ничего не останется.
Я стараюсь придать себе некоторую элегантность, сидя на порванном диване в гостиной се-мьи-рабочих-желающих-пробиться-в-средний-класс-хотя-их-тянет-вниз-но-не-слишком-низко.
– Демокрит не советовал заводить детей. – Я делаю глоток вина, и оно наполняет мой желудок приятным теплом.
Гадор согласно кивает, продолжая говорить жалобным тоном, хотя я подозреваю, что она не знает, что за типа я только что упомянула.
Она говорит устало, словно размышляя над чем-то; она наверняка считает, что речь идет о каком-то враче, который выступает по телевидению, и ей неприятно, что она никак не может вспомнить, в какой программе.
– В любом случае, у тебя уже есть дочь. Не нужно было больше… – Она снова всхлипывает, а я начинаю нервничать; то есть я начинаю нервничать еще больше. – Знаешь, я тебя люблю, Гадор. Может, хоть это тебя немного утешит.
– Да, конечно… Я это знаю, спасибо. Я тебя тоже люблю.
Все же хорошо, что у женщин есть целая палитра возможностей выразить свои чувства. Мы часто бываем совершенно не способны верно оценить свои успехи в сфере материальной, но по крайней мере можем позволить себе роскошь дать полную волю эмоциям и выплеснуть их наружу, демонстрируя свою удачу или несчастье, и не важно, припасен ли план отступления. Порой этот выброс выглядит нелепым, но так жизнь кажется хотя бы не столь невыносимой.
Я обнимаю Гадор, она прижимается к моей груди. Я чувствую, что она холодная и странно мягкая, и в первый момент даже испытываю некое отторжение, однако потом, вдыхая знакомый запах и ощущая ее слабость, баюкаю ее в объятиях, болтаю всякую всячину, которая, конечно же, полная ерунда и пошлость, и это, очевидно, немного успокаивает Гадор.
Эмоциональное напряжение спадает, и мы устраиваемся на диване, как два давних любовника, которые только что помирились и собираются провести перед телевизором еще один скучный вечер. Я испытываю некоторое облегчение, потому что мне уже не нужно обнимать сестру, но в то же время остается легкая ностальгия по ее родным рукам и теплу ее тела.
Мы смотрим вдвоем телевизор, до предела убавив звук, чтобы не разбудить девочку, которая во время сиесты спит в одной из двух спален на этом же этаже. Только что закончился фильм «Рожденный 4 июля»,[1] за сюжетом которого мы едва следили, занятые нашей собственной драмой, однако, если честно, мне было страшно представить, что Том Круз лишился своего члена.
Лично мне никогда не нравился Виктор, муж Гадор. Меня всегда раздражала его слишком прилизанная прическа и манера бросать косые взгляды, что для него так же характерно, как для других привычка моргать. А теперь, после разговора с сестрой, у меня возникло противоречивое чувство: с одной стороны, не переставало удивлять разнообразие биологических видов, а с другой, утешала мысль об Апокалипсисе, который положит конец всему этому и после которого будет создано новое Небо и новая Земля.
– Самое мерзкое, – вновь вступает в разговор сестра, – что он ужасно скупой. Ты просто не представляешь! Не знаю, на что он тратит деньги – я их почти не вижу. Помнишь, он работал на предприятии, которое принадлежало тому типу с «ягуаром»: у него еще была связь с Хосефой из рыбной лавки. Это была строительная компания. Дела у них шли неплохо, и мой Виктор работал там почти целый год. Когда закончился контракт, ему стали выплачивать пособие по безработице, а эта старая хищница, его мать, каждый месяц тянула из него деньги. Боже! Вот мы, к примеру, отправляемся в супермаркет, конечно, вдвоем, потому что он желает держать под контролем все расходы. Он всегда заставляет меня покупать пиво, которое напоминает козлиную мочу. «Купи его, цена хорошая, – говорит он мне, – другое не бери. Это стоит двадцать за упаковку». «Двадцать песет за упаковку? – переспрашиваю я, почти плача. – Интересно, где его разливают, в проклятом Чернобыле?»
– В конце концов, это его проблема. По-моему, он из тех, у кого на том месте, где у человека должна быть голова, задница, – подзуживаю я. – Но ты не волнуйся. Собери вещи и поехали домой.
– Я никогда не могла выпить приличное пиво или заказать пиццу по телефону. У меня даже нет телефона! А у него, конечно, свой мобильный. Естественно. Он всегда у него на поясе, как будто его приклеили суперклеем или чем-то таким, потому что его никак не отлепить от этого гада, как нарост на коже. Я его спрашиваю, зачем ему мобильный телефон, если он без работы и мы с трудом сводим концы с концами. Я даже не умею им пользоваться, но Виктор отвечает, что зато его всегда можно найти и что так надо. Честное слово, так во всем. За все те годы, что я была замужем, я не купила себе приличные трусы или хороший крем для лица, – все только у негров на дешевом рынке. – Она указывает на балкон, откуда сквозь толстые и безвкусные занавески кремового цвета пробивается мягкий свет. – Вон герани на балконе, черт, посмотри на них, они поникли, как будто собираются броситься вниз, а все потому, что этот недоносок не захотел купить удобрения. Он даже договорился до того, что согласен сам испражняться на них, так как все, что им необходимо для здорового роста, – это время от времени немного дерьма.
– Ты помнишь папу?
– Да. – Она становится серьезной и мечтательно вытягивает губы. – Вот это был мужчина. А кроме того, у него было доброе сердце.
– Верно. Жаль, что оно у него часто перемещалось в область печени.
– Да, но это пустяки. Во всяком случае я бы предпочла папу Виктору или любому другому из тех, кого я когда-либо знала. Они только хороши для… да ни для чего. Все они ни на что не годны, вот что. – Она немного размышляет, сосредоточенно глядя на свои руки. – Знаешь, у меня с мужчинами происходит то же, что с дынями: они мне нравятся, я их выбираю на ощупь, а в результате ем самую горькую.
– Тебе помочь упаковать чемоданы?
Гадор откидывается на подушку и трет колени, как будто они у нее болят.
– Такая жизнь – полное дерьмо. Родиться, вырасти, произвести на свет, умереть… Напрасная трата сил. Зачем все это, если все равно умрешь?
Я смотрю на нее и ничего не отвечаю. Откуда мне знать, я ведь еще никогда не умирала…
– Ты знаешь, Кандела? Ведь, в конце концов, это ты каждый день видишь мертвецов.
– Не каждый день.
– Ну почти каждый день, верно?
– Это не так. – Мне неприятна эта тема. Я не знаю, как ей объяснить, чтобы она поняла раз и навсегда: я предпочитаю говорить о боксе или о научных открытиях, а не об этом.
– А что, в последнее время вяло идут дела?
– Будет лучше, если мы займемся чемоданами, пока не вернулся твой муж.
– Мой бывший муж, – поправляет меня сестра, как будто она уже получила бумаги о разводе. – Не беспокойся, нет никакой спешки. Дело в том, что он сейчас в доме своей проклятой матери. У нее артрит, и так как она сейчас прикована к постели, он поехал ее навестить. Он вернется через два или три дня.
Гадор поднимается с трудом. Она уже на восьмом месяце беременности, поэтому откидывается назад, стараясь сохранить равновесие. Можно с уверенностью утверждать, что первая обезьяна, которая стала ходить на задних лапах, была не самцом, а самкой: она была беременна, и ее живот был таким тяжелым, что она поднялась, чтобы частично снять невыносимую нагрузку с многострадальной поясницы, и таким образом сделала маленький шаг на пути превращения в человека.
Гадор двадцать шесть лет. Она женщина девяностых годов, но не участвует в перформансах и не объехала Индию на велосипеде. Гадор не считает себя какой-то особенной, никогда не получит степень магистра, не станет членом правительства, не изображает из себя маленькую девочку, не знает, какое значение придавал Фрейд трагедии Эдипа, ни даже то, что теория старого венца дала театру. У нее распухли ноги, а юбка в полоску едва прикрывает колени.
– Черт возьми, мне только двадцать шесть лет. А я уже все сделала: родилась, выросла, произвела на свет… Что мне еще осталось из основных пунктов? Правда, прекрасно знаю, что еще…
– Возвращайся домой, – говорю я ей. – Живи нормальной жизнью. Вырасти дочь и того, кто родится… Ты могла бы сделать аборт, если бы не была уверена, что хочешь произвести его на свет, – говорю я с некоторым сомнением.
– Сделать аборт? – Гадор машет руками, отвергая подобную идею как нечто невообразимое. Ясно, что в ее маленькой головке не могла возникнуть такая мысль. – Я бы не смогла. Уже с двух месяцев я его чувствую внутри себя, как живой земляной орех… Это же все равно что вытащить улитку из раковины, только здесь речь идет о человеческом существе. Правда, никто не говорил, что улитки могут занимать жилплощадь и должны платить за квартиру. Кроме того, уже слишком поздно, ведь я знаю, что это мальчик и его зовут Рубен. Я могла бы попросить врача, чтобы он убил ребенка, только если есть опасность, что через месяц я умру во время родов.
– Не знаю. Тебе решать. Рубен?
– Да, нам с Виктором очень нравится это имя. Правда, мне уже наплевать на то, что нравится Виктору, но мне самой это имя нравится. – Она на минуту задумывается, как будто старается что-то вспомнить. – Тетя Мариана меня выставит на улицу, когда увидит, что я вернулась, – произносит она и собирается снова разрыдаться.
– Она этого не сделает.
– А если сделает?
– Мы не позволим. Бабушка ей не даст, и Бренди, и Бели, и Кармина… И мама. И я тоже. Даже собака ее облает, если она попробует.
Гадор грустно улыбается.
– Конечно облает.
Глава 2
Я стремлюсь к отстраненности и хладнокровию, к властвованию над своими страстями, которое позволит мне жить лучше. Стоики пытались достичь этой цели, и я тоже хочу. Но боюсь, у меня получается гораздо хуже, чем у них.
Если бы меня кто-нибудь спросил, что такое жизнь – по мнению Гадор, нечто странное, – я бы не сказала, что это набор каких-то атомов, тайн или эмоций. Я бы сказала, что это цепочка проклятых сюрпризов, приправленных замысловатым космическим свинством под названием хаос.
Когда я была маленькой девочкой, мне часто казалось, что мир окружающих меня существ и предметов лишь создает видимость абсолютного спокойствия и кротости, а на самом деле фальшивка. Теперь мои детские ощущения перестали быть просто предположениями.
Обломки. Мы лишь человеческие обломки.
Но меня особенно удивляет, что, несмотря на такой порядок вещей, солнце по-прежнему светит, и я все еще способна каждое утро открывать глаза. Процесс рождения, роста и смерти можно проследить во всем, что меня окружает, и это продолжает меня поражать, словно я только что родилась, однако уже достаточно сознательна, чтобы оценить такое чудо.
Это лучший из миров. Самый лучший, снова и снова повторяю я про себя. Несмотря ни на что, он самый лучший…
– Как дела? – спрашиваю я свою старую тетю Мариану.
– Плохо.
– Ясно. – Я смотрю на нее с недоверием, потому что не умею по-другому. – Но ведь ты всегда так отвечаешь, верно?
Ее большие зеленые глаза, окруженные синеватыми тенями, холодны, как обратная сторона Луны, губы всегда вытянуты так, что образуют знак равенства, седые волосы кудрявятся, обрамляя лицо, носик вздернут. Все это наводит меня на мысль, что, должно быть, в былые времена она была красавицей. Сейчас она сплошь покрыта морщинами, из-за чего кожа на теле сильно напоминает сумочку из крокодила. Года четыре назад она сделала подтяжку, но, по-видимому, неудачно.
Она хватает бутылку ликера и щедро наливает себе в специальный бокал, который входит в ее индивидуальный набор столовой посуды (мы храним ее отдельно, потому что она боится подцепить какую-нибудь заразу, если воспользуется общей посудой). Сумерки сгущаются и наполняют комнату. Наступает вечер, а глаза тети по контрасту кажутся светлее. Старая женщина поджимает губы, и знак равенства превращается в двоеточие.
– Сегодня мне хуже, чем обычно, – заявляет она. И делает большой глоток.
Я чувствую, что мой долг – будь все проклято – расспросить ее, какого дьявола с ней происходит на этот раз. Ревматизм? Остеопороз? Целлюлит? Я включаю свет, а тем временем она перебирает варианты, которые ей предоставляет современная медицина.
– Думаю, все дело в несварении желудка, – делает она свой выбор, в ее взгляде промелькнули бесстыдство и отвага. – Иногда мне кажется, что еда, приготовленная твоей матерью, не стоит тех денег, которые я ей даю. А ты знаешь, что подобные вещи для такого человека, как я, могут означать смерть.
«Такой человек, как я» нужно переводить как «такая ужасно старая женщина, как я». И хотя тетя почти ровесница изобретателя колеса, на самом деле она убеждена, что гораздо моложе моей матери – своей племянницы, а также и большинства обитателей планеты, и отказывается признавать очевидное. Правда, иногда она противоречит сама себе, указывая на возраст как на аргумент в пользу существования своих недугов, преимущественно мнимых.
Правда состоит в том, что она уже в почтенном возрасте. Шестьдесят девять лет.
– Понятно… – злорадно говорю я, стараясь прикусить язык, чтобы не быть мгновенно отравленной ядом собственных слов. – В твоем возрасте нельзя есть то, что готовит мама.
Я вижу, как она моргает. Черт возьми, пусть моргает.
– Что значит «в твоем возрасте», если мне почти столько же, сколько твоей матери? Хотя она и моя племянница.
– Да, конечно, почти столько же лет, – говорю я, придавая своему лицу предупредительно-дурацкое выражение. – Тебе всего лишь на двадцать лет больше.
– Девятнадцать, – ворчливо поправляет она, пристально меня разглядывая, словно удивляясь, что я позволила себе такую наглость.
– О, я это и имела в виду!
В этот момент в кухню входит моя мать, и тетя Мариана ненадолго отвлекается, пытаясь решить, стоит ли перенаправить свой гнев на нее и получить максимальное удовольствие от бурного проявления собственного раздражения или же лучше продолжить наблюдения за моим бесстрастным лицом и проявлениями моего чувства юмора – признаю, оно у меня своеобразное, – что обычно приводит ее в замешательство и не сулит победы в бескровной, но самой настоящей словесной войне. Естественно, она выбирает мою мать. Ведь если бы тете нужно было выбирать между двумя банками, она бы предпочла банк с более высоким процентом прибыли с капитала и фиксированными сроками – тут двух мнений быть не может.
– Эла! – кричит старая крыса моей матери. – Можно спросить, где ты была?
Не слишком церемонясь, я забираю у нее бутылку ликера и ставлю на полку над холодильником. Тетя Мариана следит за мной мрачным взглядом, поскольку знает, что добраться туда можно, только если встать на стул, а она на это не способна, поэтому ей придется просить кого-нибудь достать бутылку и признаться, что хочется пропустить стаканчик, а это не останется незамеченным.
– Мне нужно было сделать покупки, Мари, ты ведь знаешь, что Гадор вернулась домой. Девочку надо кормить. А она любит поесть. Ты бы видела ее пухлые щечки… – Мать начинает выгружать из пакета фрукты, затем молоко, замороженные овощи и завернутое в полиэтилен мясо, которое ей наверняка дала Кармина.
– Отправь ее обратно к мужу. – Рассерженная тетя судорожно хватается за бокал, в котором еще остался ликер, как за перила, вероятно, полагая, что рухнет в пропасть, если его отпустит. – Кандела, у тебя еще остались оливки, фаршированные анчоусами? Я убеждена, тебе следует выставить Гадор на улицу, чтобы она как-то уладила свои проблемы с мужем… А ты не вмешивайся.
Я достаю оливки, которые плавают в жидкости, покрытой темно-зеленой пленкой. Слив жидкость, я оставляю большую часть бактериального налета на оливках и выкладываю их, затем украшаю сверху кусочками красного перца, чтобы замаскировать остатки плесени.
– Я не могу ее выгнать, Мари. Из-за девочки, из-за всего… – Разговаривая, мать сортирует продукты и кладет их на полку холодильника или убирает в морозилку. – Она моя дочь. Она беременна. А Виктор, ее муж…
– Мама, – прерываю я ее, потому что не хочу, чтобы она открывала тете-ведьме интимные секреты моей сестры. Я ей делаю знаки глазами за спиной у тети Марианы, но, похоже, мама ничего не замечает.
– Мне никогда не нравился ее муженек, – продолжает болтать моя мать, хотя, к счастью, она не собирается раскрывать секреты. – Боже, боже… Знаешь, я никогда не хотела, чтобы она за него выходила. Я ее предупреждала. Она была очень молодой, плохо его знала…
– Мама, насколько я помню, ты ее ни о чем не предупреждала. Ты немного колебалась, когда она тебе сообщила, что выходит замуж, но потом решила, что это неплохой способ избавиться от одной из нас. Ты ни слова не сказала против.
Я так волнуюсь из-за Гадор, что чувствую, как где-то в глубине, у меня в животе, зарождается агрессивность, она поднимается по грудной клетке к горлу, пока не вырывается из глаз, носа, ушей и рта. Даже проникает сквозь чертовы очки.
Я безуспешно стараюсь обрести хладнокровие. Да и к чему терять голову, обрекая себя на уныние, безрассудство или преступление? Но хладнокровие как море, – оно перед тобой, ты его видишь, касаешься его, но не можешь принести домой.
– В общем, было ясно, что она вернется. – Старая обезьяна стала играть на стороне моей матери, решив, что это ей выгоднее, ведь это способ излить на других свою дневную порцию желчи. – Дочери никогда не обращают внимание на советы матерей. Если им говорят не выходить замуж, они это делают, а если советуют, им уже не хочется.
– Неужели? – Я сажусь рядом с ней и наблюдаю за мамой, которая продолжает заниматься своими делами. – А ты откуда знаешь? Ведь у тебя никогда не было детей.
Мариану этим не проймешь; она рада, что не попала в ловушку материнства, и, как подросток, у которого мало достоверных знаний, только начинает постигать жизнь.
– Ты права. Что я знаю о таких вещах? – говорит она, проявляя поразительное благоразумие. – Я только делаю выводы, наблюдая за вашей бедной матерью.
Мне неприятно слушать, как тетя выражает сочувствие моей матери, поскольку считаю, что так старая сорока проявляет тщеславие и самодовольство, и потом, не думаю, что моя мама – как бы несчастна она ни была – нуждается в том, чтобы кто-либо жалел ее.
Я готовлюсь ответить тете как можно более спокойным тоном. У меня достаточно причин для раздражения: предменструальный синдром, который обостряется из-за мании преследования, грозящей перейти в паранойю; тетя Мариана, которая меня всегда раздражает. Я быстро отказываюсь от стремления к бесстрастию и совсем забываю, что дом, где мы живем, принадлежит ей, и только ей, и она может всех нас выгнать на улицу, если я вытащу ее из хрупкой, старческой скорлупы.
Моя мать всегда обожала эту огромную, просторную квартиру, которую после замужества она щедро украсила несметным количеством статуэток и керамическими цветными тарелками. Она довольна, что мы живем в центре. В центре чего?
Я уже собираюсь открыть рот, но в кухню заходит моя сестра Исабель. Бели – любимица тети Марианы. Она единственная может себе позволить говорить тете то, что все остальные о ней думают, но не смеют выразить словами.
– Привет, тетя Мари, как дела? – говорит Бели, целуя мать. – Привет, мамочка.
– Ф-ф… – отвечает Мариана.
– Что означает это «ф-ф»?
– Что я скоро умру, если не случится чего-то непредвиденного. И тогда вы будете счастливы и сможете получить мое наследство. – Она подставляет для поцелуя свою покрасневшую от алкоголя щеку.
– Ты преувеличиваешь, тетушка.
– Преувеличиваю? – Она кладет руку на грудь или, вернее, на то место, где всегда прячет свой кошелек. – Конечно, легко насмехаться над всем, когда тебе, Бели, только семнадцать лет и у тебя один ветер в голове. Уверяю тебя, это очень просто.
Тем временем мама, развив бурную деятельность, снует по кухне. Моет зеленую фасоль и укладывает ее в миску рядом с раковиной. Кипятит огромную кастрюлю с водой, предварительно положив туда кости от окорока. Но не включает вытяжку над плитой, а открывает окно, и кажется, что уличный шум подключается к нашему разговору, как будто он тоже является членом семьи.
Когда Бели была маленькой, мама ее наказывала за каждую шалость. Мы – другие ее сестры – были уже взрослыми и, как могли, старались ее защитить.
– Слушай, оставь девочку в покое, – велела Кармина, когда Бели сделала дырку в диванной подушке и спрятала туда колбасу и сыр на случай, если проголодается после полуночи. Моя старшая сестра возмущенно смотрела на маму, которая шлепала Бели по попе. – Прекрати, ты травмируешь ее психику! – кричала Кармина, которая недавно узнала эти слова.
– Травмирую ее психику? – мать перестала бить девчонку и, нахмурив брови, взглянула на нас, старших сестер. – Она слишком толстокожая, чтобы получить душевную травму, – в конце концов произнесла она, а Бели, почувствовав свободу, рванулась, схватила одну из колбасок и устремилась на улицу, заливаясь смехом.
Мать была права. С сестрой ничего не случилось, и не было ни малейших признаков того, что ее травмировали. Очень скоро Бели преобразилась, став полной противоположностью тому, чего мы так боялись: постепенно, по мере взросления, из шаловливой, пухлой, избалованной, плаксивой и вертлявой девчонки она удивительным образом превратилась в веселую, смелую, ласковую и счастливую девушку. Бели, похоже, из тех людей, которые получают удовольствие от всего, что происходит и что они сами делают, ее трудно не любить. Это относится даже к тете Мариане, которая испытала полное разочарование в моем случае – я бросила биологический факультет университета на четвертом курсе и не стала преподавателем, как ей хотелось, – и теперь питает надежду, что Исабель станет первой женщиной с университетским дипломом в нашей семье.
Моя сестра станет не только первой женщиной, но и вообще первым членом нашей семьи, имеющим университетский диплом. Я тоже буду ею гордиться.
– А где бабушка? – спрашивает Бели.
– Старуха, – Мариане нравится звать бабушку «старухой». Видимо, она считает, что таким образом ее старшая сестра монополизирует в нашем доме квоту на старость и освобождает ее от этой роли, – отправилась за своим лотерейным билетом. Сегодня понедельник. Она мечтает стать миллионершей, и это в ее-то возрасте… – В глубине глаз Мари затаились насмешка и неверие: наверное, тетя боится, что однажды бабушкино увлечение азартными играми принесет свои плоды, наша семья перестанет зависеть от ее денег и она не сможет больше тиранить всех нас.
– Бели, поможешь мне почистить картошку? – спрашивает мама.
Как ни парадоксально, Бели – единственная, кто по-прежнему держится за мамину юбку, хотя только ее мать била с таким рвением, как будто за это ей должны были дать бонус в виде дешевой посуды из супермаркета.
Моя младшая сестра начинает чистить картошку, что-то напевая, пока я безо всякого энтузиазма застилаю скатертью длинный деревянный стол. В былые времена на этом старом столе забивали бедных и невинных свиней, а потом он служил местом, где уже другие животные питались трупами первых. Когда-то его привезла сюда моя бабушка, потому что в обеденное время нас собиралось такое количество, что требовалась по-настоящему большая кормушка, чтобы мы могли совместно осуществлять трапезу. Этот стол мясника нам очень подходит. Мы прекрасно умещаемся за ним, к тому же он, как и мы, чертовски скромного происхождения. Одни могут устроить за ним банкет, а кому-то он служит для других удовольствий.
Но вообще-то, меня не слишком волнует история, когда я покрываю стол скатертью. Это дорогая скатерть, которую с большой осторожностью регулярно гладит моя мать, хотя и с большим жаром утверждает, что делать это совсем не обязательно. Я кладу два дополнительных прибора для Гадор и для моей племянницы Паулы, украдкой поглядывая на тетю, которая, в свою очередь, бросает вожделенные взгляды на бутылку волшебного ликера, недоступно поблескивающую почти под самым потолком.
По кухне начинает распространяться запах мяса, которое моя мать тушит вместе с зеленью. Мне кажется, я слышу журчание желудочного сока у моей тети – его жадный поток пробирается по лабиринту ее больных кишок.
– А когда собираются явиться твои дочери, твоя племянница и твоя мать? – недовольно спрашивает тетушка голосом, напоминающим ржание.
– Кармина и Бренди не собирались задерживаться, – говорит мать и бросает на сковородку брюссельскую капусту, артишоки, зеленую фасоль и мелко нарезанную морковь. – А Гадор и девочка сейчас с бабушкой. Они пошли вместе, чтобы Паула могла прогуляться. Бедная малышка весь день провела в четырех стенах и не дышала воздухом.
– Ей и так повезло, что она здесь. Ни мать, ни дочь не должны жаловаться. А если хотят прогуливаться, пусть отправляются обратно в свой дом. Если только их свинарник можно назвать домом, ведь там просто отхожее место…
Я не совсем понимаю, то ли она имеет в виду, что дом Гадор – свинарник, потому что там беспорядок, то ли, что квартира у нее такая маленькая, что кроме туалета там ничего не могло уместиться. Впрочем, в конце концов, какая разница. Не стоит особенно напрягаться, чтобы ее понять.
Я смотрю на Мариану недружелюбно, но она уже некоторое время избегает моих взглядов.
Слышно, как в другом конце коридора хлопает входная дверь, и наша собачка Ачилипу, которая обычно дремлет на коврике у входа, несколько раз приветственно тявкает.
Я слышу, как Бренди общается с собакой. Через мгновение она входит в кухню и приносит с собой запах – такие терпкие духи привлекают внимание, и в то же время они просто невыносимы – это ее яркая характеристика, как и по-кошачьи чувственные движения. Меня всегда удивляло, что моя сестра Бренди, настоящая кошка, так хорошо ладит с собакой. У нее длинные вьющиеся волосы, которые ложатся крупными, мягкими волнами; ее сережки в виде подвесок такие длинные, что из них можно было бы сделать бусы. Боди из кружевного полиэстера, купленное на распродаже, обтягивает грудь и выглядывает из-под жилета в индийском стиле, украшенного разноцветными блестками, от которых слепит глаза. Брюки, не слишком скромные, сильно облегающие, сшиты из бархата цвета мальвы и подходят по цвету к трем или четырем блесткам на жилете. Моя сестра Рейес, которую мы зовем Бренди, видимо, потому, что мой отец до бровей нагрузился бренди перед ее зачатием, желает добиться в жизни только одного – стать богатой и знаменитой. Однако пока ей приходится довольствоваться совсем другим: она делает массаж, сопровождая его полунаучными объяснениями, с утра до вечера трудится в клинике эстетической хирургии, принадлежащей врачу, который содержит жену и двух любовниц и зарабатывает на том, что вырезает пласты жира у своих клиентов. В ее плане на ближайшее будущее лишь один бизнес-проект: найти страшно богатого мужа, который навсегда освободит ее от запаха машины для липосакции и от песен Эроса Рамазотти, которые любят слушать на ее работе. До настоящего момента осуществлению ее планов часто мешало ее собственное пристрастие к мачо с садистскими наклонностями, у которых обычно нет ни шиша к кошельке, а тем более счета в банке. Однажды она мне призналась, что мечта ее жизни – найти любовника – конечно, не мужа, – который будет заниматься с ней сексом, зажав во рту зубочистку. Я ответила, что мечтаю о чем-то подобном, но в моем случае во рту должна быть не зубочистка, а зажженная сигара. Она рассмеялась и посмотрела на меня, открыв рот от удивления, пробормотав, что такое ей никогда в голову не приходило.
Бренди настоящая пролетарская принцесса и производит неизгладимое впечатление: вследствие каприза природы или генетической мутации она унаследовала красоту от тети Мари. Она продолжает одеваться так, как будто ей не двадцать четыре года, а четырнадцать, обожает, чтобы ее называли «девочкой», в отличие от Гадор, которой никогда такое не приходило в голову, и не только потому, что ту вообще редко посещают какие-либо идеи.
– Всем привет! – говорит Бренди, сразу проходит и садится, ни на кого не взглянув. – Что у нас на ужин?
– Тушеное мясо с овощами и рагу из цыпленка, которое осталось с позавчерашнего дня, – отвечает мама.
– Но, мама… – возмущается она, кокетливо складывая губы, – позавчерашнее рагу из цыпленка не слишком полезно для здоровья, верно? – И она поправляет косу, уложенную на затылке.
– Только этого мне не хватало, – ворчит тетя.
– Не беспокойся, Мари. – Мама направляется к морозилке и что-то там старательно выискивает. – Для тебя есть рыбные палочки. Для тебя и для девочки.
– Ты их купила на распродаже? – спрашивает тетя.
– На распродаже? – в свою очередь переспрашивает моя мать.
– Эти палочки. Надеюсь, они палочки только по названию. Мои зубы стоят больше, чем мебель в столовой, Эла.
– Она хотела спросить, продавались ли они со скидкой. – Бренди выступает в роли переводчика, заплетая в косички белесую шерсть нашей собаки, которая с меланхоличным и задумчивым видом прикрывает глаза. – Эти палочки…
– Похоже, вокруг нас сплошь специалисты по скидкам, – говорю я, вспоминая о Викторе.
– Я на еде не выгадываю, – заверила всех мама. – Но да, они продавались со скидкой. Но я считаю, что скидка – это не уценка.
– А какая разница?
– Ну… Уценка бывает, когда нужно распродать товар, пока он не испортился. А часто товар сразу появляется на прилавке со скидкой, потому что его произвели слишком много. Палочки из мерлана или… мебель из сосны. В этом разница. Что-то в таком роде.
– Мама-а-а…
– Ты хочешь сказать, что я ем благотворительные продукты из супермаркета? – настаивает тетя. – А ведь я тебе плачу, чтобы ты меня хорошо кормила.
По ее мнению, деньги, которые она дает маме, чтобы та готовила еду, убирала за ней и все терпела, – это целое состояние и огромная удача, и что никто, будучи в здравом рассудке, не может быть столь расточительным. Но у меня другое мнение, и любой, кто ее знает, со мной согласится. Мариана – это невероятное чудовище с почти человеческим туловищем и конечностями, но у которого вместо головы кассовый аппарат.
И она никогда не теряет голову.
Глава 3
– Какой ужас, ужас! – Моя бабушка жует с озабоченным видом. Она всегда очень осторожна, потому что боится обнаружить в пище «неопознанные объекты», но в действительности все дело в том, что ее зубные протезы не столь хорошего качества, как у тети Мари.
– Ради бога, бабушка! Что с тобой такое? – Кармина сидит рядом с ней. Она недовольно кладет вилку на свою тарелку, потом наклоняется, чтобы встретиться взглядом с бабушкой.
Кармина видит, что процесс жевания у бабушки продолжается, мускулы на лице моей сестры расслабляются, и она снова берет вилку.
– Не надо нас так пугать.
– Ей бы следовало заново родиться, с другим лицом, – делает замечание тетя Мари, но бабушка не проявляет к нему никакого интереса.
– Я не из-за еды, – объясняет она, глядя на мою сестру Кармину. – Просто прошлой ночью мне приснилось, будто у меня отняли последнее, что осталось.
– Что?
– Ну, знаешь, я совсем разорилась.
Я смеюсь, а моя племянница Паула вопросительно смотрит на меня огромными глазами. Эта девочка серьезна, словно наелась чеснока.
– Я все еще под впечатлением моего сна. В груди какая-то слабость… Эла, я не могу больше есть это… что бы это ни было. Достань мне окорок, – приказывает бабушка.
– Его нет. Я использовала остатки, когда тушила мясо.
– Ничего, не важно. У меня нет аппетита.
– Поешь еще немного, мама.
– Мне не хочется.
Я недавно поняла, что если хочешь узнать, как человек занимается любовью, надо посмотреть, как он ест: манеры поглощения пищи и совокупления совпадают – скажем, тот же стиль. Я начала с этой точки зрения наблюдать за членами моей семьи. Нас за столом девять женщин, значит, девять голов возвышается над спинками стульев, придвинутых поближе к кормушке, и управляет столовыми приборами с большей или меньшей ловкостью и умением. Я пристально слежу за своими руками: не могу себя заставить пользоваться ножом, потому что у меня по телу бегут мурашки, как подумаю, что можно сделать с помощью режущего инструмента. А какими ужасными последствиями для моей блондинистой головы чревато использование глиняных горшков из нашего хозяйства, если опустить на нее один из них. Все ножи в нашем доме тупые, поскольку Кармина работает мясником, и мама обычно приносит мясо домой уже разделанным на бифштексы, мелко порезанным или измельченным в фарш. Нам не нужны дурацкие навахи, острые, как шпага Д'Артаньяна. Самые большие трудности возникают, когда нужно резать арбуз, но мы нашли выход: Кармина разбивает его о стол, и дело в шляпе. Но все же… даже тупой, незаточенный нож остается ножом. А именно сейчас по моему следу наверняка идет пара типов без предрассудков, которые держат в зубах ножи, такие же длинные, как автострада Андалусии. Я вам говорю. Это точно.
Результат: я не ем, у меня нет аппетита. Соответственно можем сделать вывод, что и в постели, в вопросах секса у меня анорексия.
Рядом со мной сидит Паула, моя племянница. У нее скошенный подбородок и испуганное выражение лица, она похожа на мышку. Она такая худосочная, что можно пересчитать все ее кости. Глаза огромные, как блюдца, и грязно-голубые. Рот переполнен замороженным мерланом, который она не может проглотить. Этому не слишком выразительному созданию сейчас пять лет. Трудно понять, как у нее пойдут эти дела.
Дальше, рядом с дочерью, сидит Гадор. Думаю, беременность повлияла на нее. Вижу, как она хватает какую-то зелень и жадно запихивает себе в рот, после чего принимается ковырять вилкой в тарелке, с отвращением глядя на кушанье.
Бабушка почти ничего не ест, только иногда кусок окорока или филе. Она обходится нам дешевле, чем содержание чучела канарейки. Однажды я ее спросила:
– Бабушка, у тебя режим?
А она ответила, даже не взглянув на меня:
– Режим? Я соблюдала только один режим – франкистский, и то только в начале…
Рядом с ней Кармина, которая поглощает пищу так, будто желает уничтожить овощи, словно они ее бесят. Я наблюдаю за ней с интересом. Она накалывает вилкой брюссельскую капусту и подносит ее к губам, но, не успев ничего разжевать, уже подцепляет фасоль, которую тоже запихивает в рот, а потом гору гороха, два куска слегка обжаренного мяса, морковь и лук… и только после шестой ложки начинает жевать и ненадолго закрывает рот. Она обжора. Она всегда так себя ведет, если представляется случай. Я даже не хочу воображать, что она делает в постели. Я слишком большая ханжа, чтобы позволить себе думать о Кармине то, что могла бы.
Моя мать ест с каким-то смирением. Я краснею и перевожу взгляд на ее соседку по столу.
А, тетя Мари. Превосходное зрелище. Она чем-то испачкала подбородок и губы и теперь жадно облизывается. Делает большой глоток хереса из своего бокала, а потом предпринимает жалкие усилия, чтобы добраться до корзины с хлебом, при этом мечет взгляды в нашу сторону, надеясь, что кто-нибудь из нас ей поможет и ей не придется ни о чем просить. Когда Бели протягивает ей корзину, она фыркает. Ест стишком много, хотя обычно не поправляется, а когда отправляется в туалет, ее испражнения весят не меньше младенца. Боюсь, она проживет еще много лет.
Бели ест медленно, но без передышек и пауз, как будто она набралась терпения и намерена дойти до финала, а потом будь что будет.
А Бренди достойна того, чтобы за ней понаблюдать: процесс пережевывания пищи она превратила в искусство. Она жует почти похотливо. Это действительно так, вероятно, потому, что она воображает, будто сидит за столом вместе с восемью канадскими лесорубами. Перед свадьбой Гадор мне сказала однажды ночью, что Бренди, как никто, умеет привлекать мужчин.
– Чем она душится, что все кобели за ней бегают? – спросила она меня довольно раздраженно. Полагаю, для нее, живущей под девизом «Свобода, Равенство, Материнство», трудно смириться с тем, что есть такие девушки, как Бренди, которые легко шагают по жизни.
А Бренди, как и мы все, знала, что Гадор не имела никакого добрачного сексуального опыта, когда выходила замуж, хотя в то время ей уже было двадцать лет. Наша сестра всегда была чем-то вроде неприступной девственницы из Парфенона, только не мифической, а реальной, во плоти, но с малым количеством мозгов. Поэтому когда Бренди решила поздравить сестру после окончания свадебной церемонии, которая сопровождалась странными воплями детей из церковного хора нашего прихода, она не сказала «поздравляю, сестренка», а прошептала ей в ухо: «Никогда не поздно, если подходящий вариант», – после чего Гадор принялась плакать, уткнувшись мне в только что отглаженный воротник из розовой кисеи. Рыдания были военной хитростью, но выглядели довольно нелепо.
У меня совершенно пропало желание есть.
– Можно узнать, откуда это выражение отвращения на твоем лице? – спрашивает меня мама, решительно приводя в порядок свой рот, подбородок, часть воротника и даже ложбинку в вырезе цветастого платья.
Поженившись, Виктор и Гадор решили планировать семью и накупили у негров на рынке кучу флуоресцентных презервативов, которые были такими же непромокаемыми, как пакетики индийского чая. Гадор забеременела, по всей груди у нее высыпали ужасные черные пятна, а когда родилась Паула, уверяла меня, что никогда раньше не проходила через такое длительное и жуткое испытание.
– Я сыта по горло этим дерьмом, понимаешь, – призналась она мне, любовно укрывая свою дочурку, которая спала в корзине из ивовых прутьев, завернутая в хлопковое одеяло с красными медвежатами – на их багровых мордочках сияли безумные улыбки. – Когда на пятом месяце беременности я поняла, что на самом деле все, что внутри меня, должно когда-нибудь выйти наружу… я уже до самого конца не могла сомкнуть глаз. Все это очень тяжело, совсем не похоже на то, как ты вставляешь и вынимаешь тампакс, а ведь и с тампаксами я с трудом разобралась, – объяснила она мне.
В первый год своего брака Гадор, несмотря ни на что, казалась довольной. Невежество – это прекрасное средство против здравомыслия. Однажды она попросила у нас с Бренди совета, что подарить муженьку на годовщину свадьбы.
– Ну, – ответила Бренди, намазывая волосы на затылке Гадор краской цвета баклажанов, похожей на запекшуюся кровь, – по своему опыту я знаю, что мужчинам обычно нужны две вещи: носки и фелация.
– Фела-что? – Гадор подняла голову, и капля краски стекла ей на правую бровь.
– Это от латинского, невежа. Ты никогда не была сильна в языках, верно? Можно ограничиться носками, – ответила Бренди.
После этого мы отправились в муниципальную библиотеку и взяли для Гадор «Энциклопедию секса» доктора Лопеса Ибора, потому что на тот момент я сама была неспособна описать процесс со всеми техническими подробностями и пониманием вопроса. Хотя у меня и было собственное представление, я сама не была сильна в латыни, что и доказала, когда совсем запуталась в специальных терминах и частях тела. С тех времен Гадор углубила свои познания о планировании семьи, что несколько лет давало свои результаты, но восемь месяцев назад произошел сбой; нужно все время учиться, чтобы не забыть то, что уже знаешь.
Глава 4
Нам, сестрам, были выделены три спальни, по две кровати в каждой. До замужества Гадор мы жили вместе, а с тех пор как она уехала, я наслаждаюсь интимностью моего уединения, которое вовсе не хотела бы делить с кем-то еще. Но все же этой ночью я не против, что Гадор остается в моей спальне, наоборот, я ей благодарна за то, что мне не придется спать одной.
Паула спит с Карминой, которая до этого была в привилегированном положении, потому что в ее распоряжении была собственная спальня. Бренди (такая же подвижная, как перо на ветру) – с Бели, потому что только та может ее выносить. У бабушки своя комната на верхнем этаже. Там же обитает и тетя Мари, хотя мне известно, что они мало общаются друг с другом. Мама по-прежнему спит в своей супружеской постели в другом конце коридора.
У меня есть огромное желание довериться сестре и рассказать ей все о грызущей меня тоске, как будто внутри меня живет крыса, которая пожирает мои внутренности, но я сдерживаюсь.
Я считаю, что это будет уже слишком – ей хватает своих проблем. Кроме того, в ее положении нельзя расстраиваться: ребенок может родиться дефективным, а это и так возможно, если учитывать, что он сын своего отца.
Крысенок растет у меня внутри, как ребенок в животе Гадор. Это не удивительно, ведь он только и делает, что ест, а я – его пища.
– Если бы я не была беременна. – Гадор ворочается под простынями, пытаясь поудобнее устроить свой вздувшийся живот.
– Ладно, Гадор, хватит. Пора спать. Завтра мне на работу.
Вдруг у Гадор, будто по какому-то сигналу, открываются шлюзы, и она начинает всхлипывать, как овца.
– Слушай, Гадор… – Я поднимаюсь и зажигаю лампу на ночном столике. – Теперь в чем дело?
– Ни в чем. Просто я больше не могу, черт возьми!
– Успокойся, это нехорошо в твоем состоянии…
– В моем состоянии нельзя даже дышать. Представь себе. Конечно, ты не можешь представить. Ведь ты… ты… – она снова начинает всхлипывать, но на этот раз я уже запаслась туалетной бумагой и передаю ей длинный и мягкий сверток. – Ты не замужем, ни с кем не связана, никто тебя не дергает за юбку и не брыкается у тебя внутри, у тебя нет мужа, который трахается с другой сразу после вашей свадьбы и который купил себе видеокамеру, хотя тебе приходится экономить даже на завтраках – все время печенье и никаких круассанов с мармеладом. Он развлекался с другой и все снимал на видеокамеру, купленную только благодаря тому, что я все время старалась тратить поменьше денег на завтраки, покупая печенье вместо круассанов. Как выяснилось, он держал видеопленки в коробке рядом с моим подвенечным платьем. Его проклятые фильмы! Представляешь, какое свинство? И вот однажды ты никуда не идешь, встаешь и ищешь коробку, в которой хранишь свое подвенечное платье. Тебе нужно его разыскать, потому что… не знаю… тебя что-то подмывает, тебе хочется вспомнить те времена, когда ты еще не ощущала бомбы внутри себя, и был дом, хоть ты и жила с четырьмя сестрами. Ты могла свободно слушать музыку, а готовкой занималась мама… Рядом с твоим подвенечным платьем коробка, как ты считаешь, с его свадебным костюмом, и если бы тебе не пришла в голову мысль проверить, нет ли там моли или чего-нибудь грязного, ты бы не обнаружила в ней целую дискотеку.
– Видеотеку, – мягко поправляю я ее. – Перестань, Гадор, тебе вредно. Постарайся заснуть.
– Черта с два я усну!
– Успокойся, ляг поудобнее… – Я встаю и подхожу к ее кровати, которая находится меньше чем в метре от моей, и подкладываю подушку ей под шею. Она потеет, а ее глаза похожи на два белых бильярдных шара.
– Не представляешь, что значит даже не иметь дома видео. И ты отправляешься в магазин на углу, где продают бытовую технику, который принадлежит Пако Гандиа, тому самому, однорукому.
– Гадор, ты мне уже рассказывала. Не стоит так страдать, повторяя все снова.
– Бедняга подходит и говорит, что эти пленки слишком маленькие и нужен адаптор. А я не поняла, какой адаптор. Я только знала адаптор для розетки, потому что это единственное чудо техники, которым мне посчастливилось пользовалась в моей квартире, если не упоминать о холодильнике и телевизоре в четырнадцать дюймов. Что касается телевизора, то в нем все кажутся не больше блох. Нужна лупа, чтобы разобраться, что показывают: футбол или праздник в Бенидорме.[2]
– Здесь у нас большой телевизор, завтра целый день можешь смотреть его, лежа на диване, – говорю я ей.
– И теннис, черт, как мне раньше нравился теннис, помнишь, Кандела?
– Помню, помню…
– А по моему паршивому телевизору я даже не могла разглядеть, куда летит мячик. Экран такой маленький, что чертов мячик просто не виден. Поэтому я перестала смотреть теннис по телевизору, хотя это была единственная возможность увидеть игру.
– Ничего страшного, здесь ты сможешь смотреть.
– Да, конечно… Бедный Пако Гандиа идет и приносит адаптер «Панасоник», потом ставит пленку в потрясающую видеосистему, которая продается со скидкой и у которой огромная мощность. Знаешь, я в этом не разбираюсь, но на меня она произвела впечатление. В общем, я стою там, в магазине Пако…
– Ты уже много раз говорила, Гадор… – устало шепчу я.
– … а на экране появляется этот недоносок Виктор со своими поникшими шарами и в фуражке, как у полицейского регулировщика. И больше на нем нет ничего, Кандела. Стоит нагишом, козел.
– Шш… знаю, знаю.
– У меня все еще перед глазами эта картина, – она тыкает указательным пальцем в переносицу, – особенно та тетка. У нее такой зад… если бы ты видела, ты бы обалдела. Хочу сказать, он просто огромный. Может, ты и видела такие габариты по телевизору, но это был не зад, а стадион.
– С такой трудно соперничать, – признаю я, гладя ее волосы. – Но не беспокойся, такой тип женщин, с такими задницами, уже не в моде. Они остались в прошлом веке. Или даже в доисторической эпохе, до рождества Христова.
– Ты ее не видела, Кандела. Не наблюдала за выражением ее лица. Она наслаждалась. Мне никогда не приходило в голову развлекаться с Виктором в постели. Я бы скорее предпочла круассан, чем его…
– Пенис, – подсказывает Бренди, входя в комнату и осторожно прикрывая за собой дверь. – Что за плач?
– Еще одна! – начинает рыдать Гадор.
– Ты подслушивала? – спрашиваю я, желая вывести Бренди на чистую воду.
– Совсем немного, в самом конце. Начало я слышала из моей комнаты. Странно, что весь квартал еще не в курсе, – отвечает она, кивая на огромное тело Гадор, дрожащее в моих объятиях. – И что сказал Пако Гандиа? – спрашивает Бренди.
– Что он мог сказать, бедняга? – У сестры дергаются губы, она закрывает глаза, снова все вспоминая. – Насколько я поняла, он думал, что там видеозапись первого причастия. Правда, я его предупредила, что это кое-что другое, но на самом деле это нечто – я бы могла брать деньги за показ, такое это было красочное зрелище.
– Боже, Гадор, мне жаль! – Бренди подходит к Гадор и уже ведет себя вполне по-человечески: она гладит руку, в которой Гадор сжимает остатки туалетной бумаги, мокрой от слез и слюны.
Затем на ее лице снова появляется улыбка, и она посылает проклятия нашему бывшему свояку.
– Может, рассказать все Кармине, – предлагаю я, забыв о благоразумии.
– Не будь дурой, хочешь, чтобы она его убила и мы все попали в переплет? – отвергает мое предложение Бренди. – Ты что, не знаешь, какая у нас сестра?
– Мужчины просто отвратительны, – говорю я, думая о вполне конкретных личностях, которые к этому моменту уже наверняка во всем разобрались и пришли к выводу, что если что-то и есть в этом мире в избытке, так это моя ложь.
– Знаете… – Бренди кивает и садится. – Я часто себя спрашиваю, что способен мне дать мужчина такого, чего я не могу сделать сама с помощью большого пальца?
– Ласку? – неуверенно предлагает Гадор.
– Да уж… Сомнительное удовольствие.
– Большой палец? – в свою очередь переспрашиваю я с некоторым сомнением.
– Не знаю, не знаю… – говорит Гадор, – я искренне верила, что мы с Виктором обустроим дом, где когда-нибудь будет если и не мобильный, то хоть обыкновенный телефон. Такой, как в этом доме. Телефон, который всегда висел здесь в коридоре. Я мечтала, что у меня будут трусы с кружевами и крем «Нивея». Даже видео. И ребенок, или даже два, если без этого не обойтись, и они будут ходить в платный колледж, выучатся на инженера или откроют свое небольшое дело…
– Например, видеоклуб.
– Заткнись, не напоминай мне! Тебе всегда нравилось надо мной издеваться, Бренди!
– Извини, извини… – Похоже, Бренди раскаивается. Она снова хватает руку Гадор, которая сначала немного сопротивляется, но в конце концов уступает сестре. – Мне жаль, правда.
– Ты права, Гадор, наверное, здорово иметь страстные и стабильные отношения, счастливые и продолжительные. Быть вместе…
– В высоком смысле этого слова.
– Да, хотя в твоем случае оказалось, что вы вместе катитесь под откос.
– Но он не был вместе со мной. Вернее, он был со мной и еще с той шлюхой с толстой задницей. Они были вместе, с тех пор как мы поженились.
– Откуда ты знаешь? – спрашивает Бренди.
– Когда Пако Гандиа закрыл магазин, он позвонил мне в домофон… ах да, это еще одно достижение техники, о котором я забыла упомянуть. – Она подняла на меня покрасневшие глаза. – Он закончил работу и сообщил мне об этом, потому что я его просила сделать мне одолжение и помочь мне выполнить то, что я задумала. Я хотела, чтобы он меня оставил в магазине, чтобы я могла спокойно просмотреть пленки, когда туда уже не заходят клиенты. В общем, он мне позвонил, я спустилась и посмотрела еще две пленки. Я не могла продолжать, потому что в моем положении я очень чувствительна не только к запахам, но и ко всему на свете, включая порно. На пленках была дата. Пако мне сказал, что, если нажать на одну из кнопок, можно просмотреть все в быстром темпе и не придется долго выносить их стоны, а ты не представляешь, как они стонали, как будто их били. О-о-о, а-а-а, и все такое. Он скромно удалился в свой офис, оставив включенным кондиционер, забрал с собой девочку и развлекал ее играми. Он даже закрыл дверь, чтобы ничего не слышать и чтобы я могла страдать в одиночестве.
– Вот сукин сын – я имею в виду твоего мужа.
– Ты права, потому что это верное название и для его матери, поэтому я согласна, что он сукин сын. Боже, как болит спина! Пленка… – Гадор садится на кровати, скрестив руки на груди, – на одной из пленок которые я видела, стояла дата нашей свадьбы. Мы женились вечером, помните, потом был легкий ужин для гостей, так что, думаю, видео записали утром, потому что там в комнате ярко светит солнце. Можете себе такое представить? Я прихорашиваюсь, крашу волосы, делаю маникюр, примеряю платье, накладываю на лицо вонючую маску, чтобы открыть поры, а он в это время занят ее задницей.
– Он ее туда трахал? – хочет выяснить Бренди, которую всегда интересуют детали.
– Кажется, да.
– А тебя?
– Никогда. А тогда вообще все могло закончиться большим конфузом.
– Так-так-так.
– Колит… Ведь ты помнишь, Кандела, в тот день я так нервничала, что колит мучил меня почти до вечера? Мне даже пришлось наесться таблеток, потому что мы боялись, что, если так пойдут дела, я и двух шагов не смогу сделать, и у меня начнется понос прямо в церкви Святой Элоисы.
– Не напоминай, не стоит. Я никогда не была сторонницей добрачного сексуального опыта, – с иронией замечаю я. – Этот боров мог опоздать на собственную свадьбу.
– Да, я с трудом сдерживалась и чуть не плакала от боли, а он занимался своими опытами. Я даже подумать о таком не могла. У меня так болит спина. – Она массирует себе спину дрожащей рукой. – Понятно, почему он не настаивал на сексе до свадьбы – у него в то время были отношения с другой… Эти проклятые мужчины. Ай, моя спина!
– У нас в клинике есть аппарат, который снимает боль, стимулируя нервные окончания, – сообщает Бренди. – Я могла бы устроить тебе пару бесплатных сеансов.
– Мою боль не облегчит ни один аппарат.
– Ты только что сказала, что у тебя болит спина. С этим я тебе могу помочь.
– Нет, я же сказала, что нет! Разве ты не понимаешь, что я страдаю?
– Из-за спины.
– Бренди, оставь меня в покое.
– Но я только хочу, чтобы у тебя не болела спина!
– Ладно, хватит! – вмешиваюсь я, хлопая в ладоши. – Перестаньте, еще не хватало, чтобы вы принялись за старое и стали ругаться.
– Мы не ругались. Тебе изменяет память.
– Я решила, что убью его, – продолжает Гадор, внимательно разглядывая плакат на одной из стен. – Как только он заявится, я его прирежу.
– Кармина сделает это за тебя, у нее это лучше получится. Это ведь ее дело, верно? – повторяю я, не в силах сдерживаться.
Неожиданно мы трое замолкаем. Мне начинает казаться, что комната становится нереальной, что она уменьшается и сдавливает нас стенами, как будто мы начинка в бутерброде. Я смотрю на Гадор и на Бренди, которые жестикулируют и гримасничают. Гадор чешется, а Бренди закручивает на пальцы свои волосы. Такое ощущение, как будто я смотрю видеоклип Мика Джаггера[3] без звука. Сюрреализм какой-то. Не знаю, что и думать.
– И что? – Бренди поправляет пижамные штаны мандаринового цвета.
– О чем ты? – Гадор кладет руку на живот, который, кажется, вот-вот лопнет, и мягко поглаживает его в районе пупка.
– Что ты выиграешь, если его убьешь?
– Боже мой, просто я тогда успокоюсь!
– Да, и получишь бесплатную еду в кутузке, где твои внуки будут тебя навещать в рождественские праздники.
– Боже, Бренди. Осторожно, – говорю я ей.
– А что?
– Здравые рассуждения?
– Очень остроумно.
– Я считаю, ты должна его проучить, – настаивает Бренди.
– Как? Дать ему по яйцам? – спрашивает Гадор, и на ее лице появляется слабая улыбка.
– Нет, кое-что похуже. Те видеопленки у тебя с собой? Ты их не оставила дома?
– Я чуть было этого не сделала… Нет, они в моем чемодане.
– Хорошо, мы что-нибудь придумаем, ладно?
Гадор впервые смотрит на нее ласково своими большими и грустными глазами, такими же выпуклыми, как и ее живот.
– Да, придумаем.
– Когда он вернется от своей матери?
– Через пару дней.
– Тогда завтра посмотрим пленки, здесь ведь есть видео.
– Хватит, Бренди, не мучай меня! Я не хочу!
– Их посмотрим только мы с Канделой, и Кармина, если захочет. Я принесу адаптор с работы.
– Тогда почему бы не посмотреть видео всей семьей: бабушка, мама, ведьма Мари?..
– Нет, ни за что. Тете Мари может сделаться дурно… Чувствительным людям такое лучше не видеть.
Гадор снова волнуется и сжимает в пальцах туалетную бумагу, превращая ее во влажную массу, а потом в маленький и бесполезный белый комок.
– Это же не военный репортаж, Бренди. Они там просто трахаются.
– Понимаю, глупая.
Бренди поднимается и выключает свет, не спрашивая разрешения.
– До завтра, девочки. Тогда все обсудим.
Глава 5
Еще никем не доказано, что Бога не существует. Аристотель в IV веке до рождества Христова – кажется, это было именно тогда – сам Аристотель, не больше и не меньше, верил в то, что мухи, комары и моль возникают из ничего: из грязи, из земли или из навоза. Ему представлялось логичным, что раки, моллюски, угри и рыбы появляются из тины или водорослей как результат их распада; крысы, по его мнению, зарождаются во влажной земле, а крупные животные – в остатках огромных прозрачных червей. Идеи старика Аристотеля – блистательного риторика, но довольно посредственного биолога и ученого-исследователя будоражили умы на протяжении двадцати веков. Однако нужно признать, что ценность представляют собой не выводы, которые он делал, – часто бессмысленные с точки зрения научной логики наших дней – а вопросы, которые он перед собой ставил. Очень часто вопросы оказываются настолько же или более важны, чем ответы, и именно поэтому старый хитрец считается одним из величайших учителей и мастеров.
Отдавая должное умению Аристотеля задавать вопросы, нужно сказать, что его злополучное влияние до сих пор чувствуется в лабиринтах, по которым блуждал, как сказал бы Лейбниц, разум на протяжении всей истории человечества. Ни Копернику, ни Галилею, которые опровергли греческий геоцентризм, не удалось опровергнуть теорию Аристотеля о спонтанном зарождении к жизни, хотя они и предложили миру свое – величайшее открытие. Его значение неимоверно было занижено из-за невежества и косности. Заблуждение же Аристотеля оказалось настолько живучим, что в XVII веке врач из Брюсселя Жан Батист Ван Эльмон разработал метод, по которому можно было за двадцать один день создавать крыс. Метод был очень простой: нужно было только положить несколько граммов зерна и грязную рубашку, смоченную человеческим потом, в коробку. Крысы появлялись как по волшебству, живые и во плоти, якобы благодаря живительным свойствам пота, вероятно, его собственного, причем такого хорошего качества – что касается запаха и текстуры – и в таком количестве, что не было бы странно, если бы там обнаружили еще жаб и змей. Неудивительно, что у другого врача, Франческо Реди, примерно в то же время, что и у бельгийца, появилась блестящая идея пронаблюдать, что получится, если поместить разлагающиеся продукты в две коробки и одну закрыть, а другую нет. Незакрытая моментально наполнилась червями; закрытая оказалась пустой.
Спонтанное зарождение жизни – безусловно нелепость, ошибка нашего любимого Аристотеля, живучести которой в течение многих веков способствовал контроль со стороны церкви над наукой и философией.
Существование Бога никогда не было экспериментально подтверждено церковью, ни одной из церквей. Впрочем, речь идет о нетленной и неосязаемой субстанции, чье отсутствие тоже никак не доказано.
Таким образом, еще остается вероятность, что где-то в тихой гавани сокрыто нечто поразительное и безгранично благостное. Как и Аристотель, я испытываю понятный ужас перед пустотой.
Если в конце концов Антонио Амайо все точно подсчитает и покончит со мной, еще остается вероятность, что часть меня поднимется или спустится в другое физическое, химическое или божественное измерение и окажется далеко отсюда. Впрочем, это единственное, что я пока знаю. Пока.
Мне нужно написать, чтобы в случае моей смерти меня кремировали. Не хочу, чтобы мое тело стало базовым материалом для якобы спонтанного зарождения разных червей. Я знаю, что бальзамирование замедляет разложение, которое так любил старик Аристотель. Но все же…
Если закрою глаза, я представляю себя мертвой, похороненной в холодной могиле, ужасно одинокой, как бывают одиноки только мертвые, а потом вспоминаю червей, которые как сумасшедшие сновали по колбасе, пролежавшей пару лет, забытой в глубине одного из кухонных шкафов и полностью сгнившей.
Мы ничего не замечали, пока не пошел запах.
– Ты уже не пользуешься чистящим средством, Эла? – все время спрашивала тетя Мари.
Запах гниения – это давнее, отвратительное и противное воспоминание, которое меня мучает, не знаю почему. Наверное, это как-то связано с моей работой в похоронном бюро, впрочем, я не уверена. Я обнаружила источник мерзкого запаха, пошарив рукой по одной из высоких полок на кухне. Я не могла разглядеть, что там. Я поочередно ощупывала все: заржавевшую взбивалку, алюминиевые формы для тортов и пустые полиэтиленовые пакеты, валявшиеся повсюду. Уже решив передвинуться и продолжить поиски на других полках, я коснулась кончиком пальца чего-то влажного и ощупала – сердце заколотилось. Я попыталась разглядеть, что это, поднявшись на цыпочки на табурете, на котором стояла, но потом схватила это руками – гладкое и подозрительно мягкое. Я с любопытством потянула на себя. Поднеся найденное к глазам, я почувствовала волну тошноты, которая поднималась все выше, пока не ослепила меня. Мой желудок был как переполненный стакан. В моих руках бурлила жизнь, хотя я осознавала, что это не продукт спонтанной регенерации (я уже изучила Пастера[4]). Маленькие червяки, бледные и темные, возмущенно извивались. Крошечные светлые черви, похожие на мех горностая, погружали свои дрожащие тела в испорченное мясо. Глядя на них вблизи, можно было разглядеть кровь, текущую под прозрачной и тонкой кожей, неутомимо движущуюся вверх и вниз по их маленьким, возбужденным телам. Я раздавила одного из червей, и этот неожиданно звонкий звук показался мне невыносимо гадким. Зов того, что не существует и что тем не менее нас призывает; что-то древнее, коварное и неопределенное, чего нельзя не замечать. Подержав в руке гниющую колбасу несколько секунд, я бросила ее на пол, издав, кажется, победный крик, на который сбежались мои сестры и мать. Я снова посмотрела на колбасу, лежащую посреди кухни на белом линолеуме, какую-то зловеще мрачную, и все закружилось вокруг меня. Мне показалось, что я вижу поднимающийся над ней отвратительный пар, слышу шум, треск, шепот, голоса, и меня вырвало. Мама держалась стойко и уверяла, что страшного ничего не произошло.
Ладно, возможно, в этом и нет ничего страшного. Но никогда неодушевленное, дохлое мясо – воплощение смерти – не казалось мне таким ужасно живым.
И эта мысль мучила меня. Через месяц после этого случая я бросила университет. Мне уже не хотелось стать биологом. В результате я начала работать здесь, в похоронном бюро «Долгое прощание», владелец которого дон Хуан Мануэль Ориоль, сказал мне:
– Я в восторге, что почти дипломированный специалист в вопросах жизни оказала мне честь и теперь трудится вместе со мной в моем маленьком храме смерти.
Похоже, я принадлежу к категории людей, постоянно раздираемых противоречиями. Сеньор Ориоль – наш сосед, поэтому он взял меня на работу, а также потому что его младший брат, который почти на двадцать лет моложе его, всегда выражал желание жениться на мне.
Тетя Мари не устает повторять, что это превосходная партия и что нельзя объяснить, почему я еще сомневаюсь. Впрочем, я вовсе не думаю на эту тему. По правде сказать, я ни одной минуты своей жизни не потратила на это.
Глава 6
Сеньор Ориоль вдовец, потомства у него нет. Он страдает метеоризмом, а это значит, что его внутренности производят столько шума, что можно предположить, будто они пытаются самостоятельно общаться с окружающим миром. Ему бы следовало научить Гадор своему противозачаточному методу, который, как я полагаю, он использовал, когда был женат. Он вместе с женой, которая теперь покоится с миром, вырастил своего младшего брата Эдгара как родного сына. Дон Хуан Мануэль любитель кино. Голос у него гортанный и хриплый, поэтому возникает впечатление, что он все время сдерживает отрыжку. По ночам, оставаясь один, он смотрит фильмы. Его интересует испанское кино на религиозные темы, особенно с садистским оттенком, а также картины с участием Дорис Дэй,[5] но того периода, когда она уже не была невинной девушкой. В своем шкафу он хранит фотографии испанских актеров, хотя это тоже не говорит мне о нем ничего утешительного.
Дон Хуан Мануэль ветеран прогрессивного движения и придает этому очень большое значение. Время от времени, пользуясь своим положением начальника, он рассказывает мне о себе и друзьях своей юности, о борьбе против франкизма и об их поражении – ведь их противник умер в своей постели. Когда он в первый раз, понизив голос, будто замышляя дворцовый заговор, сказал что-то о партии, я подумала: «О какой, черт возьми, партии он говорит? Ведь их несколько…»
Потом он мне объяснил, что имел в виду коммунистическую партию, я сказала «А-а…» и почувствовала, что, несмотря на разнообразие моих культурных интересов, многое остается для меня неясным, и я теряю нить разговора.
Я вижу, как он появляется в дверях и ощущаю узел в желудке, как будто его кто-то перекрутил. Сегодня не самый лучший день: у меня месячные недомогания, но главное – страх, который меня мучает.
– Добрый день, Кандела, – говорит он мне с улыбкой, которая обнажает его зубы с коронками из золота и менее благородных металлов, напоминая отбитый кафель в старом туалете на вокзале. – Как сегодня твои нервы?
– Отлично, с нервами все превосходно. Хочу сказать, что у меня их достаточно; даже слишком много для одного человека. Мне свойственна скупость, я их берегу как свой капитал, – отвечаю я небрежно, стараясь казаться остроумной, хотя у меня не слишком хорошо получается. – Но вы же знаете, в нашем мире существуют не только боль и страдание, есть, к примеру, еще и смерть.
– Ха-ха-ха… Тебе уже лучше, уже поправилась?
– О, почти совсем поправилась, как видите. К счастью, в конце концов все проходит. Я так считаю.
– У нас еще один клиент, Кандела, – сообщает он, глядя на меня так, словно я горячий гамбургер. Я отлично чувствую, как он на меня смотрит, хотя на самом деле никто не может точно знать, что другие думают, какие фантазии у них возникают. – Так называемый обращенный.
– Обращенный во что?
– В исламскую религию.
– А…
– Его не надо бальзамировать, так что тебе не придется мне помогать.
Тем лучше, сегодня мне только не хватало украшать мертвецов. У меня на это нет сил.
– Как требует мусульманская религия, погребение должно произойти как можно быстрее. Кажется, его похоронят в Гранаде, на маленьком мусульманском кладбище, которое пару лет назад основала городская община. Матиас, шофер, отвезет его туда. Я предупредил семью, что его сын должен его сопровождать, ведь путь очень долгий.
– А…
– Его звали Хесус Флокс, но он поменял имя на Мохамеда Али, и я не знаю, какое из двух имен нужно писать на венках… Я даже не уверен, будут ли венки. Кажется, в конце обряда мусульман покрывают специальной накидкой с большим количеством вышитых изречений из Корана, и все.
– Он поменял свое имя?
– Очевидно.
– Почему?
Сеньор Ориоль идет по вестибюлю, а я следую за ним, склонив голову.
– Об этом много рассуждают. Человек трансформируется во что-то другое, пожалуй, это сходно с процессом, характерным для некоторых насекомых. Конечно, в его случае речь идет о духовном превращении. В общем, он был Хесусом, а теперь Мохамед. Его предки были арабами.
Да, ясно. А мои были иудеями, но это не значит, что я буду биться башкой о стену и веселить всех окружающих.
– Мне сказали, что у них нет страховки, а значит, семья будет оплачивать все наличными. Получится приличная сумма, Кандела, так что ты займешься расчетами. Я подготовил все квитанции, они там… идем, посмотрим. – Он кокетливо улыбается и встряхивает своим драгоценным «котелком» – у него не больше ума, чем у мешка с гвоздями. – Я только что напечатал… они здесь… Вот!
Он пытается изобразить, что роется в бумагах на своем столе, хотя его поверхность блистает чистотой утренней звезды, и найти там можно только записную книжку в обложке из кожи ягненка, старинную пустую чернильницу и пресс-папье из розового мрамора. Я не знаю никого, кто был бы более организованным, чистоплотным и простым, чем дон Хуан Мануэль.
Его святая жена наблюдает за всем происходящим, глядя с фотографии, которая находится на книжной полке.
У святой Марии де лас Мерседес де Ориоль косы напоминают макраме, а на лице сияет бледная и небесная улыбка, однако глаза блестят так, будто она только что приняла хорошую дозу кокаина. Однажды Эдгар мне признался, что его брат не из тех, кто ходит к проституткам, а из тех, кто приводит шлюху к себе в дом.
Мария умерла десять лет назад.
Мы проходим в мастерскую, и дон Мануэль показывает мне обращенного.
– Тебе нужно будет немного привести его в порядок. Одень и причеши и наложи грим. Я уже занимался его… ну, телом.
Когда сеньор Ориоль говорит «занимался его телом», он сознательно использует деликатную метафору, чтобы не объяснять мне в деталях тяжелый, долгий и сложный процесс, с помощью которого он пытается скрыть приводящую в ужас посмертную эрекцию некоторых усопших. Естественно, для семей умерших было бы тяжелым испытанием наблюдать, как выпирает плоть под брюками и рубашкой – а в этом случае и бурнусом, – проще говоря, эрекцию тел, застывших в трупном окоченении.
Однажды я видела, как в отчаянии он использовал целую банку быстрозастывающего клея для промышленного использования «Локтит» («действует мгновенно, эффективно склеивает все, включая железо и другие тяжелые металлы»), когда сражался с непокорным членом военного средних лет, застигнутого смертью врасплох в одном из домов, который раньше называли «гнездом разврата», а теперь просто домом проституток. Одно из таких шикарных заведений находится здесь неподалеку.
Я радуюсь, что мне это не доверяют и что мне посчастливилось работать на такого удивительного человека, гениального предпринимателя и умнейшую голову, человека, который пунктуально платит мне в конце каждого месяца, не вычитая за то, что выполняет за меня. Неблагодарное занятие, надо признать.
– Как видишь, Кандела, у него уже началось окоченение.
Я бросаю взгляд на труп обращенного. Можно сказать, что когда этот Мохамед умер, он еще находился в фазе куколки. А по его лицу видно, что в будущем у него не было особых перспектив.
– Ладно, я оставлю тебя с ним. – Он направляется к двери, двигаясь, как артист балета, страдающий геморроем. – Развлекайся, Кандела.
Боже мой, этот тип чувствует себя невестой на каждых похоронах, а труп – просто праздник для него. Пусть кто-то другой развлекается, черт возьми. Я вряд ли могу перепутать работу и удовольствие, занимаясь этим делом. Не думаю, что даже извращенцы на такое способны. Я ненавижу этого типа, которого еще минуту назад любила со всем пылом юности, по крайней мере, испытывала самые добрые чувства.
Я надеваю халат и перчатки, переобуваюсь, ищу материал на металлических полках. Терпеть не могу включать искусственный свет утром, мне это кажется лишней тратой энергии.
– Из-за тебя мы тратим лишнюю энергию. – Я ласково улыбаюсь покойнику, но те, с кем я разговариваю во время работы, обычно мне не отвечают.
Впрочем, я считаю, что такой род деятельности имеет одно преимущество: мне не грозят сексуальные домогательства на работе.
Глава 7
– Кандела, тебя спрашивает сеньор, он в офисе. Дон Мануэль деликатно приоткрывает дверь и просовывает голову, гладкую и блестящую. Когда она поворачивается, наверху, на затылке упорно поднимается что-то вроде хохолка, образованного его последними непокорными волосами, которые пока противятся облысению, – остатки того, что в былые времена было густой шевелюрой.
– Сеньор?
Я поднимаю глаза, стараясь делать это как можно медленнее, как будто в данный момент скорость имеет значение, и необходимо с математической точностью выполнить все условия задачи. Спокойно, девочка, говорю я себе. Никто ничего не знает, не может знать. И никому не удастся прочесть то, что ты прячешь в своей голове. Спокойно, девочка. Это самый лучший из миров, и если все пройдет хорошо и ты не будешь нервничать, у тебя еще будет возможность наслаждаться этим замечательным миром. Завтра или на днях. Скоро… Спокойно, девочка.
– А что ему надо? Я сейчас занята. – Я накладываю толстый слой пудры на щеку покойного мусульманина, покрытую рыжими волосами, и недовольно хмурю брови, как будто я художник, которому помешали и прервали божественный процесс творчества. Мне нужно делать вид, что моя работа крайне важна и что без нее нарушится порядок мироздания. Каким бы ни было наше занятие, надо стараться, чтобы так думали окружающие, иначе никто не будет уважать ни нас, ни то дерьмо, которым мы занимаемся.
– Это член семьи, помнишь ту семью этнических цыган, которые были позавчера? – Сеньор Ориоль проходит в мастерскую и закрывает дверь у себя за спиной. В его глазах волнение, и он старается выражаться корректно. – Они потеряли своего любимого патриарха и были просто убиты горем. Из-за них у тебя началась головная боль.
Я снова хмурю брови, на этот раз с умным видом, хотя никогда не предполагала, что умный вид и нахмуренные брови как-то между собой связаны, просто мне хочется так считать. Дон Мануэль улыбается, как студентка, желающая соблазнить профессора.
– Пришел один из них. – Он потирает руки. Всегда кажется, что он втирает в ладони крем, но это просто такая мания. – Высокий и кудрявый, помнишь? Мне рассказали, что он был олимпийским чемпионом в беге с препятствиями. Золотая медаль. Представляешь, олимпийский чемпион, впрочем, это вполне объяснимо, ведь он все свое детство и юность бегал от полиции по своему району, постоянно через что-то перепрыгивая, пока инспектор не познакомил его с тренером. – Он смотрит на меня с выражением плейбоя, вернее, с тем, что у него из этого получается. – Этот олимпийский чемпион очень стройный. Возможно, ты произвела на него впечатление, и он хочет пригласить тебя на свидание. Он очень худой, это точно. Конечно, он тоже этнический цыган.
– Опять цыган? – кричу я, проявляя гораздо меньше такта, чем мой начальник. Как я и боялась, это Антонио из моих кошмаров прислал своего брат а, олимпийского чемпиона, чтобы тот забросил крючок с приманкой и поймал меня на удочку. И я сильно опасаюсь, что у меня не будет сил прочитать молитвы или выполнить ритуалы, и мне не удастся встретить с достоинством мое собственное убийство.
– Ш-ш-ш, говори тише, он может услышать. Не будь расисткой, Кандела.
– Ладно, но я расистка в хорошем смысле этого слова. Мой отец тоже был таким расистом. А моя бабушка такой и остается. В этом нет ничего плохого, многие относятся к ним так же. Только деревенщины нас не понимают.
– Выйди к нему, Кандела. Я не хочу видеть тебя такой же, как прошлый раз. Мои нервы этого не вынесут, а я не могу уйти с работы, как ты.
– Хорошо, вы здесь главный. Скажите ему, чтобы подождал минуту, пока я моюсь.
Глава 8
Как все началось? Возможно, с одного из тех неожиданных виражей, когда случай резко переворачивает твою жизнь. У меня никогда не было «бабок», денег, евро или как еще теперь говорят. Мы уже давно просто проживаем остатки богатства тети Мари, добавляя то, что зарабатываем честным трудом, потому что у нас никогда не было возможности получить деньги каким-то другим образом, и хотя я играю в лотерею с бабушкой, до сих пор мы еще ничего не выиграли.
Не желая чувствовать себя неудачницей, я считала, что удача здесь ни при чем. Я говорила себе, что нечего жаловаться: вот вчера в кошельке не было ни евро, а сегодня есть хотя бы один. Однако на меня это почти никогда не действовало. «Бабки» не дают счастья, но помогают залечивать душевные травмы при его отсутствии.
Последние два дня единственным бальзамом для моей души был Эпикур и группка его последователей, в чьем учении сочетались скептицизм и страсть, а это отвечало перепадам моего настроения и нуждам моей души. Я была убеждена, что следует благодарить природу, которая позволяет легко достичь необходимого и мешает получить избыточное. Я знаю, что изобилие – это нечто ненужное, однако в мире, подвластном его тирании, необходимы значительные усилия воли, чтобы придерживаться такой идеи. Самодостаточность – это большое благо, но нужно признать, что я им обладаю исключительно в физическом смысле: мне всегда хватало тех немногих вещей, которые я имела, и я довольствовалась малым. Те, кто не стремятся к изобилию, больше им наслаждаются, я, например. Поэтому я знаю, что получу от него все возможное. Даже Эпикур не советовал довольствоваться малым, не терять чувство меры, и это войдет в привычку и станет фундаментом будущего счастья. Оно имеет свои границы, но вполне достижимо. А так как разумность – главное из достоинств, а я считаю, что обладаю им, то буду пользоваться им сегодня, и завтра, и послезавтра, и потом… Я не боюсь правосудия, потому что все, чем владею, я получила от природы. Правосудие – это не дар, полученный человеком при рождении, а социальный договор, который варьируется в зависимости от обстоятельств и исторического момента. Я не совершила преступления и не поддалась искушению, я только взяла то, что природа невинным образом положила в мои руки.
И я верю, что выйду из этого переплета невредимой.
Однажды ночью мне позвонила моя подруга Коли, и в моей жизни все существенно изменилось. Пришло время играть, и я знала, что мои номера выигрышные. Надо только остаться живой, чтобы сорвать большой куш.
Мою подругу Коли зовут Флор, она расположена к полноте, и я считаю ее привлекательной, крупной и соблазнительной самкой, у которой, безусловно, больше шансов найти себе пару, чем у меня, в наше время человеческие самцы держат нос по ветру, выслеживая нас. Все знают ее как Колифлор.[6] По правде сказать, я не так воспитана, чтобы называть ее этим именем, поэтому зову ее Коли. По моему мнению, она одна из немногих, конечно не считая Бренди, настоящее призвание которой быть женщиной-объектом, доведенной до психической крайности. Однако она единственная из моих знакомых открыто призналась, что поступила в университет не только чтобы изведать то, о чем сообщала надпись на дверях аудитории: «Здесь ежедневно насилуют». Она сказала, что кроме этого хотела получить профессию, чтобы зарабатывать на жизнь. На втором курсе она сменила факультет, бросив биологию, и перешла в медицинскую школу, вскоре ее закончила и стала работать в больнице в ночную смену. Она поставляет нам с доном Мануэлем большое количество клиентов. Каждый раз, когда кто-нибудь у них умирает, она беседует с родственниками и дает им нашу карточку. Дон Мануэль никогда не платит ей комиссионные. Обычно потом я провожу пару вечеров с Коли в окрестных барах, выступая в роли приманки, на которую она ловит какого-нибудь неудачника-полуночника или больного с отслоением сетчатки.
Я знаю Коли с раннего детства. В ней и тогда было что-то от нынешней Колифлор: генерал Норман Шварцкопф в юбке с соской во рту и идеей-фикс – встретить мужчину, который разобьет ей сердце.
Однажды вечером я находилась в часовне, которую мы используем как зал для бдений у тел покойных и где в то время лежала старуха, а компанию ей составлял только бывший любовник одного из ее внуков, очень впечатлительный и чувствительный юноша, который прорыдал около получаса, а потом попрощался со мной, крепко меня обняв и поцеловав в щеку. Он исчез, и мы с доньей Ампаро на несколько минут остались одни. Потом я удалилась в офис, села в кресло шефа и немного почитала Эпикура, постепенно уясняя, что для него – мудреца и счастливого человека – было одинаково важно хорошо жить и хорошо умереть. Через некоторое время у меня в голове стали роиться ненужные вопросы. Я почувствовала, что меня сморит сон, если я не успею найти среди видеокассет шефа с Дорис Дей такую жемчужину, как «Интимные откровения» с участием Джесса Франко.[7] Я могла поклясться, что прошлым вечером видела эту кассету в сумке дона Ориоля, которую тот оставил, когда зашел в мастерскую, чтобы что-то забрать. Я направилась к полке, где стояли кассеты, и в этот момент зазвонил телефон. И как всегда в таких случаях, когда эта зараза застает меня врасплох, я чуть не подскочила и мое сердце чуть не выскочило из груди.
– Говорите! – закричала я.
– Это ты, Кандела? Какое дерьмо…
– Слушай, подруга. Запихай свое дерьмо себе в рот.
Я уже привыкла к таким звонкам.
– Не вешай трубку, это я, Флор! Не вешай трубку, черт побери!
– Коли, можно узнать?..
– Ты должна приехать в больницу, пожалуйста. Мы здесь вдвоем с Эктором, одни на этаже, а Эктор только практикант, черт, он даже еще не получил диплома. А я… подруга, не представляешь, в каком я состоянии.
Когда Коли немного успокоилась, я наконец поняла суть дела: у них есть клиент, он цыган, и у него ортодоксальная семья. Я оставила донью Ампаро в одиночестве, включила автоответчик, заперла дверь и поймала такси.
Я быстро доехала до больницы. Коли стояла в дверях, ждала меня и дымила как паровоз.
– Поезжай на другом лифте, не хочу, чтобы тебя видели, – сказала она мне. – Мы его положили в отдельную комнату. Не было времени ничего оформить.
– Не надо так волноваться, дорогая. Мы же не роды принимаем, верно? – успокоила я ее. – Мы просто обеспечим достойное и заслуженное успокоение еще одному смертному.
– Ха, сама с ними поговори. Ни Эктор, ни я не в состоянии сообщить им.
Патриарх лежал на спине на раскладной кровати, прикрытый белейшими, но проштампованными простынями, так что можно было определить имя больничного спонсора. Покойный был худым, жилистым, с выдающимся смуглым носом торчащим вверх, и напоминал персонаж из книги о сверхъестественных силах. На голове у него была шляпа, а в руках он решительно сжимал красивую, довольно тяжелую трость, способную нанести серьезные увечья. В ее центральной части была вставка из чего-то вроде стекла, заполненная жидкостью, похожей на воду. Хотя он умер три часа назад, у него все еще стояла капельница и он был подключен к медицинским аппаратам, выносящим единодушный и безоговорочный приговор: все по нулям, конец.
– Вы не хотите убрать капельницу? Вы его так накачаете, что когда прибудем в «Долгое прощание», он еще пару часов будет исходить мочой. Вы могли бы оставить зонд. Будет потоп, – с горечью пожаловалась я. Такие вещи часто случаются после того, как кто-нибудь протянет ноги. И даже еще кое-что похуже. Так что перед тем как отправиться в последнее путешествие, лучше заранее покакать и пописать, поскольку потом обстоятельства уже не позволят сделать для этого остановку.
– Дело в том, что они не знают о его смерти, – шепотом сообщил мне Эктор.
– Они?
– Семья! Поэтому мы тебя и позвали, чтобы ты им… сообщила. Они уже три часа орут и клянутся, что если с их папой что-нибудь случится, они здесь камня на камне не оставят. «Если папа умрет, – говорят они, – мы всех зарежем, отсюда ни один лекарь-шарлатан живым не выйдет, если папа не будет жить». Мы в ужасе. У старика была эмфизема легких. Он уже лежал в больнице с этим диагнозом двенадцать раз. Когда его привезли этой ночью, он был без сознания. – Коли вздохнула, еще раз выругалась и взглянула на старика испуганными глазами. – Будь проклята мать, которая его родила…
– Мы сказали им, вернее, старой женщине, которая единственная была похожа на вменяемую, что он очень плох и чтобы они не строили иллюзий… – Эктор смотрел на меня так, будто я была главным хирургом.
– Я их предупредила, что они могут его потерять: это неудивительно, если учитывать его возраст, и тогда большее, что они могут сделать, это похоронить его по высшему разряду. Наверняка они перевозят наркотики или драгоценности, а возможно, они карточные шулера. Должно быть, у них денег как грязи.
– Четверть часа назад я попросил его супругу держаться, не беспокоить больного, потому что ему становится все хуже и любое волнение опасно для него. – Эктор потел и промакивал лоб белым бумажным платком. – А они подняли такой шум, что теперь вряд ли ему что-нибудь поможет, потому что они его почти доконали. И не только его, но и других больных на этаже, которые и так очень слабы.
– А шляпа и трость? – спросила я.
– У нас не было возможности их убрать; дети сказали, что, если мы тронем их папу, который никогда в жизни не снимал своей шляпы и не оставлял трости, с тех пор как стал взрослым, они сделают из наших голов утиные гнезда.
– Боже, а это что значит?
– Предполагаю, ничего приятного. – Эктор бросил безрадостный взгляд на труп, а потом на дверь. – А в соседней палате у меня тяжелый пациент. Мне нужно его осмотреть. Если тебе не удастся объяснить все родне и ты не заберешь отсюда этого типа, нам придется дождаться утра, когда придет следующая смена, и тогда нас обвинят в том, что мы держали мертвого пациента в течение десяти часов, не выписали свидетельство о смерти и в положенный срок не отправили его в морг. Мы будем выглядеть полными идиотами, которые не могут отличить живого пациента от мертвого тела, лишенного признаков жизни, и, возможно, мы попадем на страницы газеты, где охотно публикуют истории о небрежности или некомпетентности врачей, – закончил он свою речь с презрительной улыбкой.
– Кандела, – Флор схватила меня за руку, – иди, попробуй, а если они взбеленятся, ты просто спокойно уйдешь, ведь ты не отсюда, а мы дождемся восьми часов утра и получим нагоняй. Но если это будет возможно, надо объяснить, что смерть была вызвана естественными причинами, и раз уж пациент умер, его необходимо отвезти в похоронное бюро. Мы вызовем «скорую помощь» и отвезем его к вам, ты наведешь красоту и сделаешь все необходимое, все будут довольны. У меня будет эмболия, если это еще продлится. Я видела одного из сыновей патриарха с вот таким кривым ножом. Его зовут Антонио, он велел, чтобы мы были осторожны с его папой и не считали его каким-то дерьмом. Когда я его выслушала, у меня сразу поднялось давление, верно, Эктор? Пусть тебе Эктор расскажет, как я все пережила.
– Ладно, – согласилась я, – только прошу, не надо умолять меня на коленях, ненавижу женщин, которые унижаются при каждом удобном случае.
И они оба вздохнули с облегчением.
Глава 9
Тогда засияла моя счастливая звезда. Да, мне повезло, очень повезло. Это было началом периода везения в моей жизни, и надеюсь, все этим не закончится и моя засушенная голова не украсит столовую семейства Амайа.
Я надела халат, вышла в слабо освещенный коридор и поговорила со вдовой, которая сидела в сломанном кресле. Большинство родственников храпели в общем зале ожидания на этаже, устав и охрипнув от криков «мой папа, мой папа». Все оказалось проще, чем я предполагала, возможно, потому что при объявлении о ее новом гражданском состоянии вдова не продемонстрировала никаких предрассудков. Или, возможно, она решила, что так будет лучше для бедняги.
Сеньора была очень маленького роста, с пучком черных волос на затылке, крепкая и меланхоличная. Она с рыданиями бросилась мне на грудь, уверяя, что нужно что-то делать, что она была готова к этому и подпишет все нужные бумаги, что лучше не будить остальных членов семейства и дать им немного отдохнуть, что у меня очень красивое лицо и я могу забрать ее мужа в похоронное бюро и подготовить к погребению, и лучше моих рук не найти для ее Хоакинико Серьезного. Ей бы хотелось самой привести его в порядок с помощью кузин и невесток, но теперь ей это уже не под силу. А деньги не проблема. Она желала заказать самую дорогую службу.
У меня было впечатление, что на самом деле она не хотела снова видеть своего супруга. Они были женаты сорок пять лет, а я давно поняла, что иногда любовь заканчивается.
– Сорок пять лет, дорогая, пять сыновей, а он по-прежнему меня хотел… Никогда не видел меня без одежды, я всегда была для него загадкой. Ай, мой Хоакинико! – заявила она мне, осушая слезы и издавая стон, от которого ее тело содрогнулось и грудь в вырезе платья задрожала, из-за чего кожа сморщилась и заходила волнами.
Вдова подозревала, что на этот раз приступ ее мужа приведет к фатальному исходу. Впервые за семнадцать лет, призналась она, голова Хоакинико была неподвижна, и она сразу поняла, что это плохой признак. Ведь Хоакинико все время тряс головой – он страдал тиком уже около семнадцати лет, и когда прежде его привозили в больницу, он повторял: «Нет, нет, нет». Он не успокаивался, даже когда спал. Нет, нет, нет.
Я любезно поинтересовалась, почему он говорил «нет», и Ремедьос Монхе де Амайа ответила мне с суровым выражением лица, похожим на посмертную гримасу ее покойного мужа, что семнадцать лет назад в день похорон ее свекрови Хоакинико решил покинуть плакальщиц на кладбище и отправился домой. Он курил сигару и размышлял о том, что, лежа в холодной могиле, его святая мать уже не будет страдать. Но проходя мимо одного из надгробий, он увидел, как из земли поднялась рука, держащая сигарету, и голос спросил его: «Огоньку не найдется?» Цыган с ужасом посмотрел на руку и начал отчаянно качать головой, стараясь сказать, что у него нет огонька, «нет, нет, проклятье, нет…». Он не остановился, даже когда вслед за таинственной рукой на поверхности появился один из кладбищенских рабочих, который рыл новую могилу, и обиженно произнес: «Знаете, я увидел, что у вас славная сигара. Поэтому спросил, не дадите ли прикурить…»
Хоакинико взмок от страха, но дал прикурить. Он не сказал ни одного слова, а только безостановочно тряс головой: «Нет, нет, нет…»
С этого дня его стали звать Хоакинико Серьезный. Сеньора Ремедьос не помнила, чтобы он снова улыбался, даже когда они спали вместе. И он не переставая качал головой из стороны в сторону… До той ночи, когда его привезли в отделение скорой помощи. Пока он мог сказать «нет», он отпугивал смерть, а когда перестал сопротивляться, смерть схватила его за яйца, как выразилась Ремедьос. Этой ночью она увидела все ясно, как в прозрачной воде, поэтому знала, что все потеряно и что нельзя возлагать вину на врачей, хотя они и были неопытными и молодыми.
Ремедьос снова тяжело вздохнула, начала громко молиться, и я испугалась, что она разбудит остальную компанию, поэтому я отвела ее в комнату для медсестер.
Эктор и Коли выписали свидетельство о смерти, женщина подписала документы, и моя подруга вызвала санитаров, которые вынесли старого, величественного и окоченевшего цыгана со шляпой и тростью по пожарной лестнице.
«Скорая помощь» отвезла нас в бюро «Долгое прощание».
Я рассматривала старика, лежащего на нашем столе в комнате, которую мы ласково и иносказательно называли «мастерская». Тогда я еще не знала, что это мужчина моей судьбы.
Глава 10
Однажды Бели попросила меня рассказать, как мы с сеньором Ориолем бальзамируем умерших. Я ей ответила, что это длительная процедура, которую нужно выполнять с большой деликатностью. Сначала смешиваются в строгих пропорциях сера, винный камень, древесный уголь, клей, обычная поваренная соль, нефть и цветы календулы, затем все это кипятится со щепоткой железа, а уже потом горячим наносится на части тела. Затем покойного заворачивают в листья лавра с парой волчьих зубов, а на глаза кладут компресс из двух унций кардамона, такого же количества парафина и трех граммов серого янтаря, смешанного с жженым сахаром. После этого труп нужно оставить пропитываться три часа при комнатной температуре.
Моя маленькая сестра мне полностью поверила, хотя, конечно, это была лишь невинная шутка. Не хотелось сознаваться, что акт бальзамирования очень похож на процесс маринования, и что хоть я и помощница сеньора Ориоля, но чаще всего в мои обязанности входит мытье лица, наложение макияжа и одевание мертвеца. Я показываю семье различные каталоги, по которым они выбирают гроб и другие аксессуары для похорон, а потом беру деньги и выписываю квитанцию.
Но тогда передо мной лежал дон Хоакинико Амайа, и я решила, что лучше не будить шефа в такой час – уже был близок рассвет, – ведь он и так скоро появится, и от него будет, как всегда, пахнуть шоколадом с чуррос[8] и духами от Шанель. Нет, лучше самой раздеть старика, чтобы дело не стояло на месте, а мне можно было бы удалиться, как только дон Хуан Мануэль появится в дверях: таким образом у меня высвободилось бы время немного поспать утром, а потом вернуться днем и закончить работу.
Приложив немало усилий, я сняла с Хоакинико шляпу и обнаружила заросли красивых черных волос, хотя их владелец, вероятно, уже разменял восьмой десяток.
– Давай, дедушка, я сделаю из тебя красавчика, – сказала я ему. Я люблю немного поболтать, хотя мои клиенты относятся к этому с полным безразличием. Мне кажется, что они по-настоящему одиноки, а у меня отзывчивая душа, и я поддерживаю положительное сальдо, давая выход эмоциям в таких разговорах.
Дон Хоакинико теперь интересовался жизнью не больше, чем собака обедней, и поэтому ему было все равно, будет он красавчиком или нет, оденем ли мы его монахом или проституткой, – ведь он был уже далеко отсюда. Я начала его раздевать и поняла, что трость мешает процессу, вернее сказать, делает его осуществление невозможным. Она могла пролезть в рукава больничного халата, но не в костюм, который нужно было надеть на него потом. Лучше убрать ее, а потом, когда он будет уже одет, вложить ему в руки. Трость была красивой, сквозь прозрачное стекло блестела вода. Я вспомнила шары со снегом, которые мне так нравились в детстве, потому что, когда их встряхивали, внутри появлялись искусственные снежинки. Они падали на маленькие фигурки и на крыши домов, покрытые чем-то белым, напоминающим лед. Разница была в том, что в трости не было снега, поэтому не требовалось ее трясти, чтобы восхищаться фальшивыми падающими снежинками; но резное стекло создавало внутри странные формы и было похоже на калейдоскоп.
Я схватила руку сеньора Хоакинико и попыталась расцепить его пальцы, чтобы извлечь предмет искусства, который теперь стал частью его тела.
– Не беспокойся, приятель, – шептала я ему, стараясь тянуть изо всей силы. – Я ее у тебя не заберу, это временно, пока я буду наводить красоту. Ну же, отпусти. Я верну, когда тебя переодену. Ты заберешь ее с собой в твое новое жилище. Без проблем, дружище.
Я тянула и так и сяк – все безрезультатно, мои суставы покраснели, кроме того, я ударилась локтем об угол стола, на котором лежал старый цыган. Дон Хоакинико упрямо не хотел уступать. А когда он совсем застынет, вырвать трофей из его правой руки станет совсем трудно, даже с помощью вазелина и щипцов.
– Это уж слишком, приятель. Отпусти ее, кому говорю, Хоакин! – повторяла я и продолжала дергать, для меня это уже стало делом принципа, хотя было бы гораздо проще сдаться и оставить его сеньору Ориолю, чтобы он сам занялся этим упрямцем, когда появится на работе. Он всегда быстрее справлялся с такими сложными случаями.
Отчаявшись, я поставила диск в маленький музыкальный центр мастерской и прослушала очень подходящую к случаю песню о том, что, когда твои кости уже в могиле и тебя ничто не связывает с жизнью, оставь свое тяжелое тело земле и посмотри на окружающий мир, на звезды в небе…
– Скажи это нашему упрямцу.
Мне так и не удалось разжать пальцы и вынуть из них палку, что неудивительно, поскольку я не слишком сильная. Я подумала, что, возможно, удастся разобрать палку, оставив в его пальцах рукоятку, которая, казалось, была сделана из серебра, и убрать остальную часть мешающего мне произведения искусства. Если в его руке останется одна рукоятка, можно будет снять с него рубаху, легко надеть что-то другое и таким образом сберечь время: не придется выходить на работу днем. В любом случае, его супруга не хотела, чтобы его бальзамировали, так как подозревала, что для этого мертвым что-то вводят через задний проход.
Мне очень хотелось спать. Всю ночь занимаясь доньей Ампаро и доном Хоакинико, я не сомкнула глаз, а обычно, если приходится работать по ночам, я сплю в маленькой комнате, где есть две переносные кровати: одна моя, а другая сеньора Ориоля. Мы никогда не оставались там одновременно, и у каждого из нас есть свой комплект постельного белья. Если нет трупа, который надо подготовить срочно, я могу спокойно спать, хотя и со включенной сигнализацией, зажженным светом и музыкой, играющей достаточно громко, но если есть тело и если даже родственники не желают провести ночь рядом с ним, я не могу отключиться даже при помощи снотворного моего шефа – специального средства, способного свалить любого. А если я не сплю, то на следующий день я вижу не лучше, чем коротышка с челкой и не могу избавиться от плохого настроения.
Но в ту ночь я и так уже была в плохом настроении.
– И ты еще говорить о расизме? – обратилась я к Серьезному. – Скажи мне, кто здесь расист. Здесь только ты и я. Я не расистка, но это один из нас. Тогда кто?
Разговаривая с ним, я внимательно изучала трость, мне показалось, что ее основная часть была привинчена к серебряной ручке.
– Ага, вот в чем дело! В этом секрет.
Мне нужно было нажать на место соединения – такой замок бывает у некоторых украшений, чтобы освободить что-то наподобие затвора, который позволял повернуть ручку и отвинтить ее от остальной части трости. Естественно, я открутила основную часть, оставив рукоять моему дорогому другу, который отказывался со мной сотрудничать. Когда обе части были разделены, из груди Хоакинико хлынула вода.
– Ой, ой, ой, нужно полотенце! Только не промокни у меня, иначе придется тебя сушить. Мне и так придется с тобой повозиться – эти два шутника в больнице вкачали в тебя слишком много жидкости.
Я направилась к раковине, собираясь убрать воду с помощью шланга-отсоса. Держа его концом вверх, я подошла, повернула его вниз и отсосала жидкость. Неожиданно из шланга что-то стало выпадать…
К счастью, в раковине была установлена мелкая решетка, которая задерживает все, что мы туда роняем. Ее установил мой шеф, потому что однажды, отмывая руки, он потерял золотое кольцо. В данном случае некоторые камешки из вывалившихся были так малы, что просыпались сквозь решетку, и я ничего не могла с этим поделать. Но другие нет: они были так велики, что, казалось, застряли бы в сточной трубе.
Бриллианты. Это были бриллианты. Явно не бижутерия, некоторые были обработаны, другие вроде бы нет. Я схватила один наугад и стала любоваться им. Я совсем обалдела. У меня было ощущение, что это сон, таким нереальным казалось происходящее. Это была маленькая, совершенная, переливчатая фантазия, самое красивое, что я когда-либо видела. Я осторожно собрала камни, не в силах поверить, что все это происходит со мной. Я вела себя вполне естественно, как будто ничего особенного не происходило. Быть может, на самом деле я в своей постели и вижу во сне то, что мне хотелось: совершенные кристаллы, на которые природа потратила миллионы лет, формируя их медленно, не торопясь и не ошибаясь и как будто сознавая, что производит на свет шедевр… Я спала? Бредила от усталости? Что-то не помню, когда я начала принимать наркотики.
Я схватила огромный, размером со средний орех камень и бездумно засунула себе в рот. Я попыталась его разжевать или рассосать, как будто речь шла о леденце. Но он не исчез. Я почувствовала его вверху нёба, потом он прижался к зубам, заставив меня поверить в свое присутствие. Нет, это был не сон, хотя, по правде сказать, все было очень похоже на сновидение.
Я взвесила кристаллы на наших алюминиевых весах – я вовремя о них вспомнила. Бриллианты весили пятьсот семьдесят граммов.
Я должна вернуть их владельцу? Я посмотрела на владельца и сказала себе, что бриллианты его волнуют сейчас, как пинок под зад.
Я должна вернуть их семье? Но семья, вероятно, даже не догадывалась, что старик прятал в трости: если бы узнали, трость уже была бы пустой. Кроме того, сказала я себе, если верну, они решат, что камней было больше, и я оставила себе что-то в качестве вознаграждения за труды, боясь, что мне их не компенсируют. В таком случае к моему длинному перечню внутренних проблем прибавится еще одна: как жить дальше.
Все же должна я вернуть эти сокровища кому положено?
Подумав несколько минут, я пожала плечами и сказала себе, что если верну, то докажу, что я из тех, кто готов отрезать себе ноги, лишь бы не носить обувь.
Глава 11
Амадор Амайо для меня не проблема. Моя проблема – его брат Антонио, который мне представляется чудовищем, начисто лишенным чувствительности. Я счастлива, потому что не он пришел сегодня меня навестить – когда проблемы удостаивают визитом своих адресатов, они почти всегда сообщают плохие новости. Но хотя Амадор и не является главным объектом моих страхов, он вполне может им стать.
Он нагло смотрит на меня сверху вниз, как положено настоящим мачо, и весьма вероятно, что он таковым и является. Или, возможно, он смотрит на меня примерно так, как боги на атеистов. Впрочем, я точно не знаю. У него каштановые волнистые волосы, спадающие на плечи, а глаза – как зеленые маслины и, похоже, смеются над всем, что видят. Если бы в его семье были более цивилизованные отношения и он не одевался бы как боевой петух, я бы сказала, что он самый привлекательный мужчина из всех, кого я когда-либо видела, – это если не считать моего отца, который по-прежнему остается номером один. Птица любит свое гнездо, паук паутину, а я обожаю дикий взгляд, который бросает на меня Амадор.
Не желаю быть слишком податливой с мужчинами – надеюсь, я справлюсь – но от вида его внушительных мускулов и от таких кощунственных взглядов я могу растаять, как масло.
Впрочем, какая разница, ведь он необыкновенный мужчина. Я бы хотела упасть в его объятия.
Нет, не хочу об этом думать. Конечно, он цыган, и страшно подумать, что сказала бы моя мать.
Внешне Амадор совсем не похож на Хоакинико Серьезного, однако я сама переодела и привела в порядок старика, поэтому надеюсь – ради его собственного блага – что кое в чем они все-таки похожи.
– Как поживает твоя жена? – спрашиваю я его, извинившись за то, что задержалась, и желая удостовериться, что он пришел один, без Антонио, так пугающего меня.
– Я не женат.
– Я полагала, что та с длинной косой…
– Это моя сестра Хоакина.
– А…
Я смотрю на него в некотором смятении, не зная, что ему от меня нужно, но сознавая, что существует кое-что, что он мог бы хотеть от меня, и это совсем не то, что мне хотелось бы, чтобы он желал. У меня подгибаются колени, и я ощущаю ужасное жжение в моем чувствительном желудке.
– Ты обряжала моего отца, верно?
– Да, да, я сама.
– Ну, тогда ты знаешь, что произошло с…
Я моментально бледнею, по телу начинает разливаться слабость. Я закрываю глаза, мне хочется кричать и плакать.
– … драгоценностями.
– Драгоценностями? – переспрашиваю, как лицемерка, которой на самом деле и являюсь.
– Да, с драгоценностями.
– Какими такими драгоценностями?
– Которые были на нем.
– Я тебя не понимаю. – Я бросаю взгляды по сторонам, ища какой-нибудь выход. В кинофильмах люди так легко убегают из заточения, но в реальной жизни все по-другому. Единственный выход из офиса, прямо передо мной, закрывает олимпийская фигура Амадора, преграждая мне путь к отступлению, а окон в офисе нет. Единственное помещение в похоронном бюро, где есть окна и двери, которые связывают с улицей и цивилизацией, это вестибюль, но он находится в пятидесяти метрах от места, где мы находимся. Амадор был чемпионом по бегу, а у меня возникают проблемы, даже если я пытаюсь обогнать бабушку по дороге в туалет. Во время работы мы включаем кондиционер, а мертвым и их родственникам больше подходит искусственное освещение, поэтому нам не нужны балконы, через которые проникают лучи света и с которых мы с шефом могли бы спрыгнуть в случае, если нас будут преследовать.
Эта работа явно вредна для моего здоровья.
– Не знаю, о чем ты говоришь… – вру я, понижая голос и опуская глаза. Я пытаюсь придать лицу выражение невинности и чистоты, но боюсь, ничего не выходит.
– Я о слоне, золотом слоне, – объясняет он мне с полуулыбкой, пряча любопытство в глубине горящих глаз. – Вчера мы похоронили старика, но на нем его не было. Моя мать хотела, чтобы была золотая цепочка со слоном. Она говорит, что эти животные приносят удачу. Этот слон остался здесь? Если его здесь нет, мне придется сказать брату Антонио, чтобы он зашел в госпиталь.
– А, слон! Боже, конечно! – Я чувствую пульсацию крови в висках, она начинает ровнее бежать по расширенным сосудам, сдавливающим мне горло еще две секунды назад. – Слон, конечно!
У дона Хоакинико на шее была золотая медаль с рельефным изображением слона; на обратной стороне была надпись, сообщавшая, что этот Слон Удачи – амулет Международного общества магии, который гарантирует, что его владельцу будет сопутствовать удача. Медаль была величиной с собачью галету, и ее сняли еще в больнице. Слон лежал в сумке вместе с одеждой, которую семья еще не забрала, потому что я забыла им о ней сообщить.
– Нет, не надо посылать твоего брата Антонио в больницу. Нет необходимости. Слон в сумке. Я все упаковала и хотела послать вам сегодня с посыльным. Еще там его обувь, шнурок, который был завязан на его запястье, искусственная челюсть с пятью золотыми зубами… нет, челюсть мы ему вставили, – уточняю я гнусавым голосом, – и надели на руку часы. Ты знаешь, мы не смогли вынуть из рук трость, ни мой шеф, ни я.
– Я знаю, мы заметили. Он хотел, чтобы его похоронили с ней, и мы доставили ему это удовольствие, а значит, он не станет бродить по ночам по дому и не нашлет мор на наше племя. Между прочим, трость была серебряная, ручная работа. Знаешь, в молодости мой отец работал по серебру, можно сказать, у него были золотые руки. Много лет назад он сам сделал эту трость ради развлечения.
– А…
– Еще мы положили с ним фотографию короля, потому что он всегда повторял, что, если умрет, с ним должны быть трость, шляпа и фотография короля. Мой отец был настоящим монархистом, – объясняет мне Амадор, следуя за мной, пока я ищу сумку. – Он вставил фото в рамку и повесил над кроватью рядом с гравюрой, изображающей Христа. Мы уложили это фото с ним в гроб. Маленький снимок, такие раздают в школе. На нем у короля очень внушительное лицо. Мой отец был уверен, что король лично назначил ему пенсию и употребил свое влияние, чтобы мне вручили серебряную медаль на Олимпиаде. Обо мне писали все газеты, а мне даже не пришлось никого убивать. Не было никакой возможности его убедить, что выигранные медали я заработал своим потом, из кожи вон лез, если можно так выразиться, без помощи Бога или его легальных представителей здесь на земле. Королей или священников…
– Знаешь, король уже не наместник Бога на земле. Так было много лет назад, – объясняю я ему. – Теперь никто не берет на себя такую роль.
– Ладно, как скажешь, детка.
Амадор говорит совсем не как цыган, он не растягивает гласные и не использует неизвестные мне выражения, но, без сомнения, он настоящий цыган. Слушая его речь с мягким андалусским акцентом, я постепенно успокаиваюсь. Я спрашиваю себя, смотрит ли он сейчас на мой зад, хотя вряд ли он сможет разглядеть меня в этом халате, заляпанном косметикой. Я начинаю ощущать его взгляды: как будто у меня что-то жжет в затылке. Каждый шаг очень труден для моих ног.
– Ты что, меня боишься? – Мы останавливаемся, он меня обходит, смотрит мне прямо в глаза и придвигается все ближе, пока мой нос почти не соприкасается с его. – Я же тебя не съем, цветочек!
Порой я сама не знаю, что говорю, особенно если подвергаюсь такой психологической атаке. И я отвечаю с невозмутимым видом:
– А я бы как раз этого хотела, моя прелесть!
Глава 12
Тете Мари подошла бы предупреждающая этикетка, какие наклеивают на флаконы с лекарствами: «Держать в месте, недоступном для детей». Я знаю, что мою племянницу тоже не назовешь милым созданием, но уж что есть, то есть. Паула любит людей так же, как муха ежедневный душ. Она открывает рот лишь тогда, когда нужно попросить, скажем, свежей воды, у нее обличающий взгляд, который любого заставит испытывать чувство вины за все плохое, что человек сделал в жизни, и даже за то, что не совершал, а только собирался. Любой начинает грустить, только взглянув на нее, и вряд ли возможно узнать ее мысли, даже если при помощи мощной пилы, сверла или чувствительного зонда проникнуть в ее голову.
– Что ты сделала тетушке Мари? – спрашиваю я ее в очередной раз. Я уверена: что бы она ни учинила над тетей, это не может быть достаточно злобным, агрессивным и унизительным, как та заслуживает, но я чувствую, что обязана задать ей этот вопрос. Я также знаю, что всем когда-то приходится взрослеть, стареть, умирать и представлять годовую декларацию в финансовую инспекцию, что есть вещи, которые приходится делать вопреки желанию, и я не могу действовать абсолютно свободно, как мне бы хотелось.
Тетя Мари сидит на диване, обмахивается веером и трагически закатывает глаза. Она трясет своими седыми кудрями и фыркает, вытянув губы, бесстыдно накрашенные карминово-коричневой помадой.
– Но… почему ты не хочешь сказать, что тебе сделала девочка? – спрашиваю я тетю, потому что Паула отказывается отвечать, выбегает и прячется в комнате, в которой поселилась вместе с Карминой.
– Что за отвратительное создание! – восклицает Мари. Ее испуганные глаза полны гнева и злости, эти чувства по-прежнему превалируют, вытеснив все другие, более гуманные, как, например, смирение и грусть. – Сразу видно, что она дочь каменщика и апатичной амебы Гадор.
– Тетя Мариана, успокойся. В конце концов, она всего лишь маленькая девочка. Что она тебе сделала? – настаиваю я, подбирая голубую плюшевую собачку и трусы куклы. – Если ты скажешь, я смогу ее наказать, или лучше Гадор ее накажет, ведь она ее мать. Но мы не сможем ее наказать, если не узнаем, что она натворила, а она тоже не желает говорить. Ты только фыркаешь. Я вас оставила вдвоем всего на пять минут, и… Просто невероятно.
– Она зловредное существо.
– Что она тебе сказала или сделала, можно узнать?
Неожиданно тетя Мари оживает, приподнимается и поправляет свои английские брюки из вискозы, потом снова садится и проводит пальцами по стрелкам на штанинах, она не хочет, чтобы ее одежда портилась из-за того, что ее используют.
– Она меня спросила, ношу ли я маску и почему я се не снимаю, чтобы все увидели мое настоящее лицо. – У нее дергаются губы, она, без сомнения рассчитывает на мое сочувствие, понимание, утешение или другие возможные эмоциональные реакции настоящей христианки, которые в этот момент у меня отсутствуют, а если и существуют, то припрятаны, чтобы создать дефицит для потребителей, до тех пор, пока я не решу снова предъявить их на рынке человеческих отношений. Если говорить кратко, то, черт возьми, дорогая тетя, ты заслужила репутацию настоящей ведьмы.
Я не могу сдержать смех, хотя и стараюсь его скрыть, делая вид, что ищу другие игрушки, разбросанные среди стульев или спрятанные за диванные подушки. Мой живот готов лопнуть и, окатив все вокруг зарядом едва сдерживаемого смеха, подобно смерчу, смести мою тетю и покончить с одной из моих самых больших проблем.
– Она же ребенок, Мари… – Мой голос звучит гортанно, потому что я удерживаю хохот в самой глубине трахеи. – Ничего страшного, не обращай на нее внимания.
– Что значит «ничего страшного»? Надеюсь, придет день, когда тебе скажут подобное. – Она смотрит на меня, как вставшая на дыбы лошадь, но постепенно в ее глазах появляется выражение предвкушаемого удовольствия: очевидно, она верит, что время – ее главный враг – станет ее союзником в тот момент, когда превратится в моего противника. Большие и раскосые зеленые глаза тети Мари как бы говорят с ехидством: «Придет и твоя очередь», но благодаря моей работе я никогда в этом и не сомневалась.
– Но, Мари…
Она поднимается и ищет взглядом бутылку вина, которую уже брала несколько минут назад, наливая прохладный напиток в свой бокал. Она находит бутылку и наливает себе дрожащими руками еще один бокал. Нервы – обычная женская проблема. Как говорит моя бабушка, таблетки от нервов должны лежать в супермаркете рядом с обезжиренным молоком и прокладками. У Мари нервы явно шалят. По неизвестной мне причине она чувствует себя жертвой, хотя я должна заметить, что жизнь обошлась с ней в общем достаточно милосердно.
Она была очень красива. Я это знаю, потому что сотни раз видела ее на фотографиях, где она молодая, так как тетя не ленилась постоянно нам их показывать. Наш дом что-то вроде фотовыставки, где совершенства Мари представлены в снимках, сделанных под самыми невообразимыми углами. Признаю, она была красавицей, была образована лучше, чем большинство женщин той эпохи – они учились лишь для того, чтобы уметь читать, писать и считать, а она даже получила степень бакалавра. Мари быстро вышла замуж за типа намного старше себя, который в начале века владел несколькими модными шляпными магазинами и жилыми домами. Некоторые из них и теперь сданы жильцам, которые платят за жилье по старым тарифам, что в наши дни представляется безумным везением. Другие дома стоят пустыми, и тетя дожидается момента, когда можно будет использовать их с максимальной выгодой. Ее муж умер, прожив с ней в браке десять лет, и с тех пор тетя Мариана богата, свободна и грустна. Ее печаль вызвана не отсутствием детей, потому что она от всей души их ненавидит, и не связана с потерей мужа, которого она откровенно презирала и старалась прибрать к рукам, пока не превратила в хорька, который прятался при малейшей опасности в домах с дурной репутацией, где его встречали покой и похотливые взгляды вместо неприязни и отвращения к такому жалкому созданию, как он. Боюсь, причиной ее печали являются внутренние проблемы, неспособность любить других и одиночество, которое с каждым днем давит все больше. В последние годы муж тети Мари был убежден, что она хочет отравить его, и моя бабушка говорит, что бедняга был вечно голоден, как бродячая собака. Он ел вволю, только когда приходил в дом бабушки, потому что вряд ли можно сказать, что в барах и в публичных домах кормят, как в шикарном отеле.
Овдовев, тетя Мари получила все, что такая женщина, как она – высокомерная, эгоистичная и хитрая – может пожелать, и теперь она, казалась бы, должна была наслаждаться, вместо того чтобы все время жаловаться и отравлять жизнь тех, кто ее окружает.
– Однажды, Кандела, такое случится и с тобой, тогда ты поймешь. Поймешь, как больно, когда кто-то приходит и говорит такое… – Она делает глоток вина. – Считаешь, что тебе всегда будет двадцать пять лет? Сколько тебе осталось до двадцати шести, а? Пара месяцев, если не ошибаюсь. Тебе исполнится двадцать шесть после того, как Гадор исполнится двадцать семь, верно? Что же, пользуйся моментом, потому что когда-нибудь начнешь замечать перемены. Однажды ты обратишь внимание на то, что овал твоего лица уже не такой, как сейчас, оно становится угловатым. Ты впервые увидишь, что на щеке появился черный волос, ты удалишь его пинцетом, но он снова появится, еще более толстый и черный, чем раньше. Особенно их много вылезает на подбородке. И на груди, хотя ты и не поверишь. Потом появится еще, и еще, и еще… Ты будешь сходить с ума, разыскивая волшебные кремы и лосьоны, стараясь сделать волосы незаметными.
– В наши дни от них можно избавиться навсегда, – говорю я ей с самой очаровательной улыбкой. – Спроси у Бренди, в ее клинике это делают.
– Да, конечно. А волосы там, внизу, в интимном месте… – продолжает она ядовитым тоном, указывая на лобок и прикасаясь на секунду к брюкам в соответствующем месте. – Седина в голове ничто по сравнению с тем днем, когда ты обнаружишь седые волосы в том месте. А потом ты поймешь, что у тебя уже не та фигура, что раньше, в двадцать шесть лет.
– Мне еще не двадцать шесть, Мари.
– Какая у тебя сейчас талия? Тридцать восемь? Сорок? В один прекрасный день заметишь, что, хотя вроде и не потолстела, ты уже не влезаешь в старую одежду. Твои бедра уже не такие стройные, а кожа становится все тоньше… Твои колени похожи на пару вялых яблок…
– Я отлично знаю, что значит состариться, я изучала биологию…
– Но ты не получила диплом.
– Я заканчиваю курс заочно.
– Что? Ты нам ничего не говорила.
– Я не собиралась сдавать экзамены, но потом решила, что сделаю это. Мне оставался год, чтобы закончить полный курс, но на деле нужно будет учиться еще три месяца.
– Надо же… не нахожу слов, Кандела.
– Я знаю, что такое старость, и я ее не боюсь. Я знаю, что такое смерть, и смирилась с мыслью, что однажды встречусь с ней лицом к лицу. Я не испытываю страха, скорее сожаление, потому что умереть – значит не быть здесь, когда происходит многое, что хотелось бы увидеть и почувствовать, но мне не страшно, потому что смерть, тетя, это меньшее из зол. Я вижу трупы на работе. Как ни странно, Мари, особенно меня трогает вид их ног. – Я не собиралась особенно распространяться и вести беседы с ведьмой, но не могу остановиться и продолжаю разговор, у меня есть склонность к проповедничеству, которая скрыта глубоко внутри. – Когда я вижу ноги мертвеца, которые торчат из-под простыни, я понимаю, что мы существуем, что это жизнь, а не смерть, которая делает с нами то, чего мы не в силах избежать, и происходит все так, как происходит. У нас есть только этот момент, Мари, это единственное, что пока еще есть, и, если это понимаешь, не стоит грустить, потому что смерти нельзя избежать, а горечь только сокращает жизнь. Мгновение – единственное наше достояние, а печаль лишает нас даже его.
Не знаю, почему все обитатели нашего дома, и стар, и млад, постоянно наводят меня на тему, которую я совсем не желаю обсуждать. Я уверена, что это неважно, и, кроме того, не люблю пустой болтовни.
Я поднимаюсь и собираюсь отправиться на поиски Паулы, чтобы произнести перед ней монолог о том, что нельзя донимать пожилую даму, особенно если в основном за ее счет живут все обитатели дома, и благодаря ей мы имеем над головой крышу, которая тоже является собственностью сварливой старухи.
– Подожди. – Мари смотрит на меня с печалью, потому что ничего не поняла. Ее золотые браслеты радостно позвякивают, безучастные к душевным мукам их владелицы. – Однажды ты встретишься со старостью, и тебе уже не будет все равно. Тебе останется только одно: вспоминать о моментах, которые остались в прошлом и которые тебе не суждено пережить снова. Тогда ты тоже поймешь, Кандела. Юность не вечна, хотя молодые в это не верят. Вернее, юность вечна, но юные не вечны. Знаешь, я тоже была молодой, и посмотри на меня теперь: я должна терпеть, когда мерзкая девчонка заявляет мне, что я ношу маску. Конечно, ее время тоже придет. Я это знаю.
Как жаль, что ты не сможешь быть здесь, чтобы это увидеть, думаю я, отправляясь на поиски Паулы. Моя тетя закидывает ногу на ногу, на секунду забывая, что ее брюки могут помяться, хотя они и сшиты в Англии. Теперь она походит на черепаху.
Иди ты к черту, старая какаду. Ты прожила длинную жизнь, но она тебя ничему не научила.
Я нахожу племянницу, – она сидит с ногами на кровати и занята причесыванием черной прекрасной и стройной куклы.
– Мне пять лет, – говорит она мне. В этом доме у всех в той или иной степени одна и та же навязчивая идея, – а тебе сколько?
Я прочищаю горло и отвечаю, что двадцать пять.
– А ей? – Она указывает на дверь, вероятно, стараясь определить то место, где находится тетя Мариана.
– Кому? – спрашиваю я в свою очередь.
– Тете Мари, сколько лет тете Мари?
– Шестьдесят девять, – ласково отвечаю я. Паула оседает под грузом услышанного. В конце концов, она не такая уж плохая девочка.
Глава 13
– Мы всегда делали то, что он говорил. – Гадор возвращается к своей излюбленной теме – обсуждению своего неудавшегося брака с различных точек зрения, иногда неожиданных: сексуальной, экономической, домашне-философской, обобщающей, героической, материнской. Она говорит о его агонии или даже об имевших место извращениях, помимо многих других привлекательных сторон.
Кармина слушает с сочувствием, устроившись на краю кровати, на которой лежит Гадор, и делает ей массаж ног, используя те же приемы, что требуются для лепки пельменей. Покорные ступни Гадор отливают синевой.
– И вот он приходит и говорит мне, что будет со мной. Приходит и говорит: «Так и быть. Орудие готово», – а я не теряю присутствия духа и отвечаю: «Может, мне самой научиться стрелять? Я бы знала куда!» Представляешь! Он считал, что я еще должна благодарить и благословлять его, будто он оказывал мне честь, козел. А сам изменял мне с какими-то отбросами. Мужлан! – Гадор снова начинает безутешно рыдать. – И теперь я все время думаю, не заразил ли он меня чем-нибудь. Бедный Рубен…
Она продолжает плакать, а Кармина утомленно и ласково просит ее не плакать, потому что это невыносимо. Если надо, говорит Кармина, она этого козла убьет своими собственными руками, а еще лучше вобьет ему кол в одно место. Я сижу за своим письменным столом, который служит также туалетным столиком, и с трудом пытаюсь вникнуть в то, что читаю. Я несколько раз повторяю последнюю прочитанную фразу, но совершенно не в состоянии ее понять или запомнить, потому что возбужденные голоса сестер мешают мне сосредоточиться. Мы четверо сейчас похожи на молекулу, в нас уже заложена на определенном уровне информация о трансмиссии энергии, о том, что она будет передаваться на более низкий уровень по микроканалам и нервным окончаниям. Достаточно поплакать и попереживать, чтобы выступить проводником.
– Слушай, Гадор, – говорит Бренди, теребя свои черные кудрявые волосы, – он не мог тебя ничем заразить, потому что ты беременна, каждый месяц тебе делают анализы и сообщают результаты. И они нормальные, верно? Значит, ты здорова, ты ничего от него не подцепила, ни СПИД, ни что-то еще. И потом, мы же видели пленки: Виктор мерзавец, но он пользуется презервативом.
– Мне не нравятся презервативы. – Кармина уперлась взглядом в пол, а ее плечи кажутся сейчас еще более могучими.
– А я считаю их очень полезной вещью, – говорю я и закрываю книгу, чтобы присоединиться к разговору. – Представляете, как бы было здорово, если бы отец и мать Виктора им воспользовались.
– Но родители о нем забыли! – Кармина презрительно машет рукой.
– Потому что были похожи на тебя: им не нравились презервативы, – настаиваю я, стараясь потеснить Бренди на кровати.
– Если бы у меня был СПИД, мне бы сказали в больнице, верно?
– Конечно, – мы трое успокаиваем Гадор.
– Хорошо, что у меня немного спал отек… эта тяжесть сверху… – Гадор садится, принимая позу лотоса, ее живот свисает и почти закрывает ноги; очевидно, массаж ей действительно пошел на пользу. – Раньше я всегда делала то, что он приказывал.
– Потому что он мелкий диктатор, мужлан и…
– …каменщик, – заканчивают фразу хором Кармина и Бренди.
– Вот какой у тебя муженек. – Я пытаюсь облокотиться на свою подушку но Бренди ее не отпускает, и ей удается отвоевать большую часть, кстати, более мягкую, потому что та, что досталась мне, вся в складках и комках, хотя и не знаю почему.
– Нет, он совсем не диктатор, – поправляет меня Гадор, – он всегда считал себя настоящим демократом и говорил, что для полноценного брака у каждого должно быть право голоса. Так что мы все ставили на голосование, если уж говорить начистоту.
– Но… послушай, Гадор, – я обращаюсь к ней, медленно выговаривая ровным голосом каждое слово, – разве ты только что не сказала, что всегда делала то, что приказывал Виктор? Это значит, что он диктатор. Или, может, тебе нравилось выполнять все, что он предлагал? А если так, тогда он был не диктатором, а демагогом.
– Нет, нет, он был совсем не таким. У нас была демократия, ты же знаешь, что это такое? Голосование, черт возьми, по каждому вопросу.
– И почему же он всегда выигрывал? – интересуется Кармина.
– Все нормально, ведь голосовал он и его причиндалы: он и его два яйца – это уже три, понятно? Поэтому я всегда оказывалась в меньшинстве. Вот так.
– Пошлая шутка. Не стоит так шутить, Гадор, ведь ты беременна, а это неподходящее время для таких острот, красотка. – Я теряю интерес к подушке и наклоняюсь, чтобы посмотреть в глаза Гадор.
– Мне и слова нельзя сказать!
– Ты что, дура? – Бренди смотрит на нее осуждающе, сморщив свое красивое лицо.
– Да, пусть я дура, что есть, то есть! Виктор мне это говорил. И еще он часто повторял в шутку, что он не один, потому что с ним еще его яйца, а я только моргала в ответ, но потом он меня убедил, что это очень умно. Я действительно поверила, что я полная дура. В общем, у него было подавляющее большинство, и он всегда побеждал. Демократическим путем. А я недостаточно благоразумна, чтобы самой принимать решения.
– Даже какое пиво тебе пить, – замечаю я с яростью.
Мы ее окружаем и обнимаем, стараясь утешить, пока новая волна слез не захлестнет ее.
– Я такая глупая!
– Ну же, не плачь, ты испугаешь малыша, – говорит ей Кармина.
– Пусть привыкает к страху, его в жизни в избытке. – Гадор хватает мою голову и прижимает к себе.
Прислонившись к ее животу, я чувствую признаки жизни, которая уже существует внутри нее, беспокойный твердый комочек, который готовится с минуты на минуту выбраться наружу, сюда, где совсем не так уютно, как во влажном тепле в животе матери, сюда, где любое существо восполняет недостаток аргументов с помощью силы или ценой ошибок и неверных действий.
Ты не знаешь, что тебя ожидает, Рубен. Тебе стоит последовать моему примеру и научиться получать от всего своеобразное удовольствие.
– А если я убью этого типа? – не унимается Кармина. Ее глаза тоже наполнены слезами, а губы дрожат, как лепестки цветка под дождем. Она ерошит свои короткие каштановые волосы и с яростью смотрит на мои плакаты. – Я бы могла его убить, он заслуживает смерти и как можно скорее.
– Хватит, Кармина, если будешь продолжать в том же духе, у тебя вырастут яйца! – Бренди небрежно поправляет мини-юбку и вытягивает ноги, не упуская возможности покрасоваться перед нами. – Нет смысла применять такие радикальные меры. Я по-прежнему считаю, что самое практичное решение – это заставить его платить за содержание детей и дать ему хороший урок. Сыграть славную шутку, которую он будет вспоминать каждый раз, как ляжет в постель.
– Почему же каждый раз, как ляжет в постель?
– Потому что это его больше всего достанет.
– А…
Кармина обнимает Гадор. Несмотря на ее мужеподобный вид и значительный вес – она старшая из нас и, как никто, управляется с топором и мясницким ножом – мне всегда казалось, что она самая уязвимая из всех сестер Марч.
– Ты не должна была выходить за него, Гадор, – рыдает она, как слоненок-сирота. – На что вообще он способен? Он бездельник! Что он умеет, кроме как пакостить?
– По крайней мере он был хорош в постели? – спрашивает Бренди.
– Куда там! Раз – и его уже и след простыл, – отвечает Гадор, утирая щеку бумажным платком.
– А почему ты раньше не сказала? Почему не говорила с нами об этом? Почему мы не знали, что на самом деле ты несчастна в браке? – Наверное, я немного наезжаю на Гадор со своими вопросами, но ничего не поделаешь. – Почему ты ждала, пока не раскрыла его тайную жизнь, и только тогда ушла? У тебя было достаточно причин, чтобы его бросить. Ведь он был такой жадный, буквально поработил тебя и оставил без денег. А самая большая глупость, которую может совершить женщина, – это попасть в зависимость от трех сомнительных вещей: мужчина плюс два его яйца, тем более от него не было никакого толку. Это просто неслыханно, Гадор, надо быть полной дурой.
– Если разобраться, это не такая уж редкость. Я могу привести тебе в пример несколько случаев, – защищается обвиняемая. Ее лицо оживляется, когда она вспоминает количество известных ей историй, на фоне которых ее собственная бледнеет и кажется незначительной. – А вы хотели бы, чтобы я приходила сюда и говорила вам: «Знаете, сестры, мама, бабушка и тетя, мой муж мне не дает ни гроша; мой муж, когда ложится со мной в постель, все делает по-быстрому; мой муж принимает решения, потому что его яйца тоже принимают участие в голосовании; мой муж не позволяет мне даже купить удобрения для растений, потому что заявляет, что не собирается тратить деньги на дерьмо, ведь у него полно своего собственного и притом бесплатно… Дорогие сестры, мама, бабушка и тетя, мой брак просто мерзость». Вы хотели, чтобы я сказала это? Я этого не сделала, потому что до появления пленок я была не способна сложить два и два. Когда я вышла замуж, я не имела представления о том, какой должна быть семейная жизнь! Я привыкла довольствоваться тем, что имела. Я видела многих, у кого было меньше, чем у меня. Только когда я нашла пленки, до меня дошло, что есть и другие варианты жизни с мужчиной, понимаешь, Кандела?
– Ладно, ладно… – Я поглаживаю ее по плечу, глядя в другую сторону, – боюсь, что она снова примется плакать, а нам на сегодня уже хватит. – Да, я тебя понимаю, Гадор. Понимаю, но не одобряю.
– Но ты всегда говорила, что меня понимаешь!
– Да, да, конечно… Успокойся.
– Я спокойна. – Она вдруг вытирает глаза новым платком и старается распрямить спину. – Это были мои последние слезы. Я больше не стану плакать. По крайней мере до родов. А потом тоже ни одной слезинки. С этого момента меня больше никто не заставит плакать, абсолютно никто. А тем более мужчина.
– Ты только так говоришь.
– Единственное, что меня волнует, так это будущее моих детей.
– Сделать бы из этого Виктора чучело, – говорит Бренди, зевая.
Глава 14
Моя бабушка уже в возрасте, но физически она очень крепкая, должно быть, ее консерванты в отличном состоянии, хотя иногда у меня возникает ощущение, что она немного теряет чувство реальности или реальность представляется ей в странном свете. Она демонстрирует здравый взгляд на жизнь, когда выбирает номера для лотереи или сверяет их с теми, которые выиграли. Остальное время она пребывает в воспоминаниях и собственных мелких заботах, перемещаясь от кухни в нашем доме до «Корте Инглес»[9] и обратно. Ее короткие, тщательно причесанные, с проседью волосы кажутся произведением мастера инкрустации, у нее поджарое тело и нервные, угловатые движения; лицо мягкое и дружелюбное, как будто она все понимает или же, наоборот, абсолютно ничего не понимает. Мне бы хотелось признаться ей, что я богата, что в настоящий момент я владею настоящими сокровищами, кладом, который позволит оказаться нам двоим очень далеко отсюда, в каком-нибудь месте, где я смогла бы купить ей красивые платья пастельных тонов, которые будут элегантными, легкими и удобными, такими, как ей нравятся, а еще кровать два на два метра с москитной сеткой, которая придаст романтический колорит ее комнате. Мне бы хотелось ей сообщить, что настало время посмотреть мир и что я могу помочь ей это сделать. Она никогда не покидала этот город, с тех пор как приехала сюда в возрасте семнадцати лет с юга страны. Мне бы хотелось отправиться с ней в путешествие и слушать ее комментарии по поводу пейзажей, людей и разных мест, когда она будет их сравнивать с нашими. Страны, народы, храмы, руины, реки, базары… С чего бы начать? Малабо, Ямайка, Стамбул, Карачи?
Названия бурлят в моей голове, известные и чувственные, как обещание возможной любви. У меня есть деньги, бабушка. Ладно, не деньги, но кое-что дороже денег, которые в конце концов просто бумага, чья стоимость варьируется в зависимости от чьих-то капризов и колебаний каких-то индексов. Как говорят, золото – это не все, существуют еще и бриллианты. Подумай, бабушка: Огненная Земля, Москва, Фиджи, Острова Зеленого Мыса, Самарканд. Представь, бабушка: больше чем полкило бриллиантов и полная свобода, дорога, по которой можно идти до бесконечности.
Потому что мир велик, а жизнь просто игра.
Если бы я предложила ей такой план, бабушка поначалу пришла бы в восторг, но боюсь, после подумала бы, что слишком стара, чтобы столько передвигаться, и не захотела бы ехать со мной. Она бы предпочла, чтобы я однажды повезла ее по магазинам, здесь, поблизости. Я уверена. А потом она бы мне сказала «прощай» с балкона на этаже тети Мари и наблюдала бы, как я скроюсь из виду.
– Останови, останови скорее! – торопит меня Бренди, буквально вырывает у меня пульт дистанционного управления видеомагнитофона и сама быстро останавливает пленку. – Привет, бабушка.
Внутри аппарата, на маленькой пленке домашнего видео мой свояк Виктор пытается удовлетворить огромную матрону, настолько же горячую, насколько и уродливую. Тем не менее, похоже, сеньору не заботит собственное уродство, кажется даже, что она о нем не догадывается. Или, возможно, она поняла, что красота – лишь отправная точка уродства, и с тех пор стала любить себя, довольствуясь тем, что имеет.
Мы выяснили из разговоров, которые слышны на пленках, что Виктор сотрудник сети бесплатных сексуальных услуг, свободных контактов без всяких обязательств, угрызений совести и религиозных ограничений; эта деятельность не только снимает эмоциональное напряжение и стресс, но и предоставляет возможность взбираться на самые разные женские тела, которые можно вообразить. В действительности у него была не единственная любовница, как подумала Гадор, увидев несколько эпизодов с одной и той же партнершей, заснятых с разницей в пару лет. Как стало ясно, он обслуживал значительную часть женского населения, достигшего совершеннолетия, трудясь и в нашем городе, и в некоторых пригородах. И, что еще хуже, возможно, у Виктора нет собственной видеокамеры, и он пользуется аппаратурой своих партнерш, которые любезно делают ему копии, хотя он пока не может позволить себе купить видеомагнитофон.
Полагаю, мой бывший свояк – персонаж, о котором можно было бы сделать телевизионную программу и порассуждать в семь тридцать утра о сексе.
Наблюдая за его действиями в домашнем порнофильме, я вспоминаю мужскую особь мухи дрозофилы в разгар ритуала спаривания.
– Привет, девочки, – говорит бабушка, оставляет сумку на буфете и направляется в сторону кухни, потому что не слишком любит смотреть телевизор.
Я ее целую, и она исчезает за дверью. Я ее очень люблю.
Я снова сажусь перед телевизором и говорю Бренди, что, по-моему, у Виктора комплекс Эдипа: он пытается утолить свою жажду, имея многочисленные сексуальные контакты с женщинами почти всегда старше его.
– Комплекс Эдипа? – Бренди с ужасом округляет глаза; в дверях появляется наша собака Ачилипу, она подходит к Бренди, прижимается носом к ее коленям и нюхает. – Ты имеешь в виду того греческого парня, верно? Который убил своего отца, женился на матери, а потом вырвал себе глаза? Хочешь сказать, что Виктор следует его примеру? Разве можно предположить, что кто-то пожелает себе такой судьбы? – Она сурово качает головой, гладит животное одной рукой, а другой крутит прядь волос, немного ее послюнив. – Я считаю, что дело совсем не в этом, просто он таким уродился. Он, черт возьми, без этого не может. Когда он ходил в школу, у него было зеркальце, прикрепленное к ботинку, он ставил ногу поближе к девчонке, чтобы видеть ее трусы. Мне рассказала Гадор, он ей говорил. Парень, который в одиннадцать лет придумывает такой трюк… Я бы сказала, это уже определенный признак. Ясно, что из него мог получиться насильник-маньяк. Нужно благодарить Небо, что он нашел выход для того, что копится у него внутри.
– Чего именно? – спрашивает Бели, недавно пришедшая с улицы с грудой пакетов, которые она сваливает на стол в углу.
– Я не могу все тебе повторить.
– Но что вы смотрели по телевизору? Вы обе.
– Ничего особенного мы не смотрели.
– Уверяю тебя, ничего особенного, – подхватываю я с недовольным и усталым видом.
– Ладно, давайте включим; я хочу увидеть, что вы смотрели. – На лице Бели появляется скорбное выражение матери семейства, которая пытается подловить своих дочерей и вывести их на чистую воду.
– Вот еще! Это можно смотреть только после восемнадцати лет.
– Мне уже почти восемнадцать. Включите видео, мне до совершеннолетия осталась пара месяцев. Не думаю, что сюда явится судья и арестует нас за просмотр этой кассеты. Я на улице видела вещи и похуже.
Бренди отказывается запускать пленку, Бели пытается перехватить у нее пульт дистанционного управления, но ей не удается, и она включает агрегат вручную, а мы обе стараемся ей помешать. Собака начинает лаять, возбужденная этой возней, она не знает, что ей делать: то ли покусать нас троих, то ли убежать и укрыться от всех на своем коврике около двери. В процессе борьбы мы случайно несколько раз задеваем видеомагнитофон, и в результате на экране появляется убыстренная версия сношений Виктора. Ускоренное прокручивание пленки превращает его в персонажа-эпилептика времен немого кино, его жалкие, судорожные наскоки на бесстыдную сеньору желто-зеленого цвета придают ему вид придурка, старающегося разрушить своими тычками китайскую стену.
– Матерь божья! – комментируем мы почти хором, парализованные таким зрелищем.
– Нашей семье только такого не хватало! – говорит Бели, медленно поднимаясь и ища взглядом ленту для волос, которая упала во время сражения. – Не врач, не адвокат, не биржевой маклер… Мерзкий каменщик, вот кто утер нам нос, а мы считали себя такими важными. Если вас это утешит, я никогда не выйду замуж за каменщика. Пойду перекушу что-нибудь на кухне. – Бели выходит, бросив украдкой последний взгляд на телевизор. – Знаете, он у него не такой длинный, как кажется.
– Видишь, Бренди? – говорю я своей сестре, указывая на экран и нажимая кнопку «пауза». – Знаешь, кого мне напоминает эта тетка?
Бренди пожимает плечами, снова усаживается на пол у дивана и обнимает собаку.
– Не имею ни малейшего понятия.
– Жену одного цыгана – невестку старика, которого мы похоронили. Не то что они абсолютно одинаковы, но если смотреть вот так, под таким углом, страшно похожи. Забавно, верно?
– Посмотри, может, это она, – предлагает Бренди.
– Нет, не она. Когда смотришь на нее в движении, сразу заметно, что сходство не слишком большое. Но что-то общее есть, точно есть… Если бы их обеих сфотографировали в одинаковых позах, они бы казались близняшками. Правда, цыганка убирает волосы, и они у нее более красивые и ухоженные. У этой глаза вытаращены, как будто она видит призраки, а прическа хуже, намного хуже… Короче, эта тетка не цыганка, я уверена, но очень ее напоминает. – Я отрицательно качаю головой, рассеянно разглядывая на экране широкий зад, выставленный перед Виктором. – Потом, ты бы видела мужа цыганки! С таким мужем нельзя заводить любовников, и они просто не нужны: если у нее и бывает передышка, она о них и не думает.
Я рассказываю Бренди о семействе Амайа и о яростном Антонио, чей заряд агрессии ощущается на расстоянии.
– Как жаль, что Виктор не трахал Лолес Амайа, жену Антонио Амайа, – коварно улыбаюсь я, – тогда бы мы послали Антонио копию пленки, и он сам убил бы Виктора, оторвал бы ему голову и показал, как обманывать Гадор.
– Да, а заодно, конечно, убил бы и свою бедную жену, – отвечает Бренди, оценив эту идею и догадываясь, какой она может причинить вред третьим лицам. – Его жена невиновна. Мы не станем впутывать тех, кто не имеет к этому отношения.
– Жена Антонио сыта по горло своим мужем. Они дерутся и могут даже убить друг друга. – Я пристально смотрю в пол.
– Не обязательно быть цыганом, чтобы бить свою жену, – убеждает меня Бренди, которая, как и мой шеф, научилась политкорректности на работе, хотя, если говорить о моем начальнике, не только работа способствовала его политической гибкости. – Если хочешь знать, моему боссу пришлось восстанавливать челюсть жене одного импресарио. После четырех операций в травматологии, где ей старались вернуть кости на место, потребовалась еще и пластика. Муж буквально разбил ее о бортик бассейна. Ей было тридцать лет. Судя по фотографиям, которые мы видели, до того как женщину изуродовали, она была так красива, что все оборачивались ей вслед. Но благодаря супругу ее лицо напоминает теперь блюдо с прокисшим фуагра.[10] Еще немного, и он бы ее убил. – Она пожимает плечами, целует собаку, которая прикрывает от удовольствия глаза. – Забудь об этом, милая. Я не хочу навлечь гнев мужа на бедную женщину.
– Скажем, не такую уж бедную.
– Нет? – Она смотрит на меня с ужасом, и ее глаза расширяются так же, как у любовницы Виктора.
– Не совсем. Я уже говорила, что она его поколачивает. Хотя он, конечно, тоже не остается в долгу, и обычно у них ничья. Мне рассказал его брат, Амадор. Они достойная пара. В любом случае это только совпадение.
– Черт, черт, черт… – вздыхает Бренди. – Что за жизнь, верно? – Немного подумав, она добавляет: – Тогда, если они в равном положении, пожалуй, нам стоит отпечатать один снимок с пленки и отправить ее пылкому мужу. Я могу попросить ординатора нашей клиники отнести фотографию. Только чтобы немного досадить Виктору, да? В будущем он будет морщиться каждый раз, как вытащит свой член.
Глава 15
Я сплю уже долго, и хотя моя шея стала затекать и болеть, мне снится один из тех снов, которые делают меня счастливее, чем самые лучшие моменты моей жизни.
Бриллианты находятся в безопасности, в каком-то неопределенном месте, которое я все же точно знаю. Они начинают множиться, увеличиваясь в числе, как армия блестящих крыс.
Я нахожусь на северо-востоке Бразилии, сегодня Страстная пятница. Моя бабушка тоже со мной, но когда ей все надоедает, она открывает дверь белой комнаты и небрежно мне объявляет, что отправляется на кухню нашего дома – достаточно просто открыть и закрыть дверь. Благодаря чудесам, возможным во сне, она пересекает океан и попадает на другой континент, чтобы поужинать с моей матерью и сестрами, а может, и провести ночь под одной крышей с ними.
А пока она гуляет, я остаюсь в Бразилии. Я наблюдаю за соломенным Иудой на площадях маленького городка, полного цветов и веселого шума, слушаю трубадуров, сообщающих о новостях песнями и аккомпанирующих себе на тамбуринах. Я влюбляюсь в местного пастуха, у которого такое же лицо, тело и горячий, глубокий голос, как у Амадора, но, конечно, речь идет совсем не об Амадоре.
Пастух велит мне раздвинуть ноги, потому что хочет доставить мне удовольствие, и я послушно выполняю его приказания, не противясь, хотя и знаю, что он собирается зубами стянуть с меня трусы. На самом деле я именно этого и желаю, и мне очень приятно осознавать, что я наконец нашла страну, где общение с людьми является не тяжкой общественной обязанностью, а приятной возможностью получше узнать друг друга. Когда бразильский пастух с лицом Амадора склоняется к моим ногам, я чувствую, что мое тело покрывается горячей и влажной испариной, а в области таза возникает покалывание, которое поднимается выше, к груди. Тогда он мне говорит:
– Я рожаю. – И эта фраза снижает мое возбуждение, преобразуя его в безграничную ярость. Кто-то хватает меня за плечо, как раз когда я собираюсь дать пощечину улыбающемуся пастуху, который уже не похож на Амадора: его лицо превратилось в нечто неясное, без определенных черт, без рта, чтобы целовать, без глаз, чтобы смотреть, без носа, чтобы нюхать. Только какие-то призрачные разводы, которые мне хочется растоптать и развеять по ветру.
Я открываю глаза, но пока могу только различить ржаво-оранжевый свет и неясную серую фигуру, которая трясет меня с непонятными намерениями.
– Что, что?
– Я рожаю, Кандела. Рожаю.
– Но… дай мне поспать! – приказываю я довольно сердито. – Что тебе нужно?
– Уже. Понимаешь, Кандела? Проснись и помоги мне!
Мне наконец удается разглядеть лицо моей сестры Гадор среди обманчивых теней, которые создает ночная лампа в моей комнате. На ее щеках появились симпатичные ямочки, как будто ее что-то рассмешило, и она едва сдерживается, хотя на самом деле это не улыбка, а гримаса боли, потому что Гадор корчится от все усиливающихся схваток.
– Воды отошли.
– Ничего… – успокаиваю я ее, – ты просто пописала. Ты почти все ночи проводишь в туалете. – Я останавливаюсь, потому что плохо понимаю, что говорю. – Ты перепугала. Ладно, теперь тебе лучше заснуть.
– Я не писала, у меня отошли воды! Разве от меня пахнет мочой?
Она хватает мою голову и насильно притягивает к своей ночной рубашке; мой нос упирается в ее вздутый живот.
– Нет, не пахнет. – Мне хочется снова уснуть, вернуть лицо Амадора-пастуха и продлить сон, начав с того места, где мы остановились, как раз когда мы стали ближе узнавать друг друга.
– Кандела!
– Но у тебя еще целый месяц! Успокойся и возвращайся в постель.
– Месяц? Ты хочешь, чтобы я ждала целый месяц? – Гадор приходит в ярость и издает крик боли. Ты… Ладно, можешь спать. Спасибо за помощь, эгоистка!
Ее стоны окончательно лишают меня сна, и я с трудом отрываюсь от кровати.
– Гадор, Гадор, подожди! Ты рожаешь?
– А ты что решила, дура?
– Слушай, не злись, это не я бросила тебя беременной.
– А! Будь проклята мать, родившая этого козла! – стонет она, задыхаясь под грузом массивной полусферы, в которую превратился ее живот. – Мне бы хотелось, чтобы он был здесь, чтобы он был на сносях и должен был вот-вот родить… Но… Ай! Но еще больше мне бы хотелось, чтобы этот мерзавец обрюхатил своих шлюх, которые стали такими жирными еще до того, как получили право голосовать, и чтобы им пришлось произвести на свет… Ай! Ух!
– Дыши, Гадор, дыши… – Я подхватываю ее под руки и опускаю на кровать. Я очень нервничаю и поэтому не могу сообразить, что предпринять. Мне кажется, я в состоянии справиться с кучей покойников, даже самых зловонных, или с бандой разъяренных родственников, которых я лишила состояния; пожалуй, я даже могу вернуться на факультет и сдать все экзамены, какие нужно для получения диплома, но… по правде сказать, я не уверена, что смогу сделать все, что необходимо, с плацентой.
Нужно вскипятить воду и принести чистые полотенца и простыни? Нужно положить щипцы в печку на кухне, чтобы их простерилизовать?
– Нужно разбудить Кармину, чтобы она отвезла меня в больницу, – с трудом произносит Гадор между схватками.
– Сейчас.
В этом доме только Кармина водит машину. Тетя Мариана и я тоже получили права, но лишь потому, что нам засчитывали очки за каждого пешехода, на которого мы чуть не наехали на практических занятиях, и за другие наши трюки. Мы не смогли даже доехать до местной автоинспекции – Кармина выступала в роли шофера.
Когда я в полном смятении выхожу из комнаты, хлопнув дверью, моя сестра издает громкий стон, вызванный новой схваткой.
Потом я слышу, как она говорит:
– Ай, Рубен, поспокойнее, твою мать! Полагаю, никогда не рано начинать воспитывать ребенка.
Глава 16
Тетя Мари сидит, пьет вермут и прерывисто дышит. Ее волосы образуют подобие венчика вокруг головы. Они слишком длинные и кудрявые, их нужно подстричь и немного подкрасить, чтобы избавиться от седины. В былые времена в ее волосах сочетались все оттенки ослепительно-медного цвета, а сама она была одной из тех пожилых дам, которые фанатично увлечены пляжем и чья кожа иссушена солнцем. Такие обычно живут в Бенидорме и выглядят на все свои шестьдесят пять, хотя постоянно и безуспешно стремятся казаться сорокалетними.
Однажды в ее жизни что-то произошло – подробности я не знаю – и пережитое заставило ее измениться: она решила, что лучше стариться, сохраняя достоинство, не пряча следы возраста, а только смягчая их.
Она не хочет быть смешной, и я ее за это не упрекаю. С тех пор она не сделала больше ни одной подтяжки, и хотя продолжает красить волосы, но только отдельные пряди, так что светло-каштановый оттенок удачно смешивается с абсолютно белым, и она выглядит спокойной, уважаемой и достойной женщиной. Она бы могла быть такой, если бы не стала жертвой собственного характера.
Тетя сидит в двух метрах от Рубена, которого полностью игнорирует с самого его рождения, а он мирно спит, безучастный к внешнему миру, любви и нелюбви, которые он вызывает. Беззащитность ребенка трогает меня до глубины души, но мне совсем не нравится его имя. Мне кажется, что это глупая выдумка Гадор и ее бывшего мужа, который несколько дней назад вернулся от своей матери и явился сюда, ища свою женушку и абсолютно не подозревая о скандале, который вызвала информация о его личной жизни в нашей семье. Его встретила разъяренная Кармина и практически спустила его с лестницы, не совсем справедливо обзывая насильником, убийцей и рогоносцем. И еще она сказала нашему Самому Развратному Каменщику Года, чтобы он навсегда забыл о Гадор и о своих детях, если хочет остаться в живых, но, как и следовало ожидать, Виктор не последовал совету и все время звонит по телефону, жалуясь на то, что тратит кучу денег, потому что говорит по мобильному.
– Ну так не звони, придурок! Тогда сэкономишь деньги! – доносится из коридора голос Бренди.
Тетя Мари не склонна приближаться к малым детям. Она начинает уделять им внимание, когда те уже могут умножать числа и спрягать неправильные глаголы. По крайней мере так было со всеми нами. Из детства я помню единственный случай общения с ней: тогда она разъярилась и даже стала заикаться, потому что я залила пепси замечательную шубу из меха какой-то растрепанной собаки. Теперь тетя относится к Рубену и Пауле так же опасливо, как к паре простуженных крыс. Оставлять детей с ней наедине, вероятно, опасно для их жизней.
– Почему? Почему? Ты прекрасно знаешь, почему, свинья! – Голос Бренди поднимается и набирает децибелы, а я себя спрашиваю, почему бы ей просто не повесить трубку.
Гадор высовывается из дверей ванной комнаты и возмущенно жестикулирует; Бренди раздраженно машет рукой и пожимает плечами.
– Он говорит, что вернется и что мы не сможем помешать ему увидеть детей, – бормочет Бренди и вешает трубку. – Если бы он не узнал, что ребенок родился преждевременно, мы бы могли отдыхать еще целый месяц.
Я выхожу в коридор и в свете, который проникает в дом через окно ванной комнаты, вижу Гадор. Она по-прежнему носит одежду для беременных. Ее грудь еще больше набухла и приобрела преувеличенно игривый вид. На ее платье, в районе сосков, проступили влажные пятна, потому что к моменту кормления ребенка у нее начинает подтекать молоко. Она являет собой настоящую аллегорию плодородия и изобилия.
Глаза Гадор тоже кажутся влажными, как будто ее кто-то незаметно ласкает, доставляя удовольствие. После рождения сына она больше не плачет, как и обещала. Ее кожа стала более гладкой и похожа на поверхность молодой дыньки.
– Неужели этот тип все еще не понял, что ты не желаешь его видеть и хочешь развода? – Бренди в туфлях на платформе, мини-юбке из меланжевой ткани и зеленом топе, который подчеркивает бюст, очень маленький, несмотря на попытки его увеличить, с отвращением смотрит на телефон, как будто все еще говорит с Виктором. – Он неспособен сделать выводы, даже после всего, что ему было сказано и в лицо, и по телефону? Не может сообразить?
– Если бы Бог хотел, чтобы мужчины соображали, он бы наделил их разумом. – Тетя Мари прокладывает себе путь между нами, направляясь в сторону кухни, наверное, в поисках мартини и оливок.
Это редкий случай, когда я с ней полностью согласна. Если бы Бог, или природа, или еще кто-то хотел, чтобы Виктор – этот образец настоящего мужчины – думал, его бы наделили большей мозговой массой, а не большим потенциалом фаллоса. Я не претендую на обобщения, как тетя, но что касается моего свояка, это очевидно.
– Я не хочу его видеть, не хочу, не хочу… – настойчиво повторяет Гадор, глядя на нас своими огромными карими глазищами.
– Ты ему теперь ничем не обязана.
– Она не обязана его видеть, но как же дети? – спрашиваю я с легким беспокойством. – Любой судья даст ему разрешение на встречи с детьми по крайней мере каждые пятнадцать дней. Он их отец.
– Когда меня заставят, тогда я это сделаю.
– Гадор, ты должна поговорить с адвокатом и подать заявление на развод. Все нужно делать по правилам.
– С адвокатом? И как я буду ему платить, если у меня нет ни одного евро?
– Мы все скинемся… – говорю я, наблюдая за Бренди, которая кривит рот, как будто ей такая идея не слишком по душе.
Мы, Кармина, Бренди и я, работаем и живем в этом доме, поэтому каждый месяц отдаем маме половину нашей зарплаты. По правде сказать, того, что остается, недостаточно, чтобы что-то скопить или позволить себе вести веселую жизнь, никак себя не ограничивая. Но у бабушки положение еще хуже, ведь она отдает моей матери всю пенсию и никогда не жалуется.
– Лучше всего позвонить Эдгару Ориолю. Он адвокат и возьмется за дело, потому что знает нас. – На моем лице расцветает широкая улыбка. – Наверное, он сделает тебе скидку или что-то в этом роде.
– Да… – Бренди тоже сияет улыбкой, но по ее виду я бы не сказала, что это проявление радости, скорее, в ней есть оттенок злобы. – Естественно, тебе, Кандела, он делает скидку, ведь ты всегда предлагаешь ему что-то взамен.
– Что, например, лгунья? – С моего лица исчезла улыбка, она уступила место ярости в чистом виде. Гнев заставляет меня густо покраснеть. Я чувствую, что стала такой же красной, как декоративная бутылка, которую моя мать поставила на полку в коридоре. Она украшена рельефным изображением Дон-Кихота, изображенного сумасшедшим и пьяным бродягой. Я сразу проникаюсь лютой ненавистью к бутылке и решаю предложить Пауле, в жизни своей не разбившей ни одной тарелки, уничтожить ее при первой же возможности. – Что, например?
– Фелация! – разъяренно бросает мне Бренди.
– Слушайте, слушайте… Остановитесь, что это вы разошлись? – говорит Гадор, размахивая в воздухе одной рукой, а другой вытирая молоко, которое обильно сочится из ее сосков. Ясно, что если она и знает, о чем говорит Бренди, то только теоретически. У нее двое детей, но боюсь, ее муж всегда сразу переходил к сути и не слишком баловал ее разнообразием. Он был слишком занят другими сеньорами, чтобы терять время в собственной постели.
– Я никогда не встречалась с Эдгаром, – раздраженно уточняю я.
– А я и не говорила, что вы встречались. – Бренди смотрит на меня с чувством превосходства, и ей удается меня смутить, потому что она накрашена, а я нет; она одета, как Золушка, едущая на бал, чтобы поразить принца, а на мне старый плюшевый халат, который скрывает мои формы и совсем не повышает самооценку. Она всегда хорошо причесана и завита, а мои волосы взлохмачены, и создается впечатление, что я рвала их на себе, оплакивая покойника, что выглядело бы вполне правдоподобно, если учитывать специфику моей работы.
– А! – восклицаю я, вызывая в сознании свой самый привлекательный образ – например, когда я навела красоту, чтобы сопровождать Колифлор на дискотеку для негров-иммигрантов. Мне удается так высоко поднять самооценку, что я могу дальше доказывать свою правоту. – У меня никогда не было связи с Эдгаром, он меня не интересует.
– Ты, – контратакует Бренди на глазах у пораженной Гадор, которая наверняка уже задумывается, не начать ли ей снова плакать, чтобы не останавливаться уже до конца своих дней, – ты неплохо умеешь разогреть, детка.
– Я? Что ты про меня сказала? Хитрая зараза! – На какой-то момент я забываю о самоуважении и мечтаю вцепиться ей в волосы и вырвать клок.
– Все, все, все! – У Гадор дергаются губы.
Мы успокаиваемся, испугавшись, что она снова откроет шлюзы своих слезных желез, но напоминаем двух драчунов, которым достаточно одного щелчка, чтобы возобновить дуэль.
– Перестань меня оскорблять, – говорю я Бренди, тыча в нее пальцем.
– Я тебя не оскорбляю. Ты обнадежила бедного парня, а когда он собрался что-то предпринять, сбежала, как лицемерная ханжа.
– Но я и есть ханжа! Разве ты еще не поняла? – Я притворяюсь удивленной и приподнимаю свои ненакрашенные брови. – Даже слово «размер» заставляет меня краснеть.
– Правда? А меня это слово возбуждает, – отвечает мне Бренди, сразу ухватившись за тему.
– Неудивительно.
– Вы можете сделать мне одолжение и заткнуться? – Гадор с упреком смотрит на нас.
– Что за скандал? – В комнату заглядывает тетя Мари, и мы видим в проеме ее ночную рубашку с золотистой вышивкой и изображением черной пантеры.
Мы уверяем ее, что ничего не происходит, и она снова исчезает в сумраке кухни, бормоча, что хочет принять аспирин. Она всегда с нами, хотя обычно не поддерживает нас. Думаю, это потому, что некоторым людям, несмотря ни на что, нравится находиться рядом со своей семьей, особенно если им, как сейчас тете, нужен прилив новой крови. Не буду врать, она, наш старый попугай, принадлежит к этому типу.
– Очень хорошо, – наконец говорю я, отступая и позволяя Бренди почувствовать себя значимой фигурой, я указываю на нее пальцем, как будто у меня в руках пистолет и я легко могу спустить курок, – звони Эдгару и проси его заняться разводом, если тебе так хочется, делай все сама.
– Договорились, – отвечает Бренди, движением руки отстраняя мою руку. – Не беспокойся, позвоню. Никаких проблем, и кому нужно твое участие? Тем более, что я ничем не хуже тебя.
Глава 17
Я встаю рано и принимаю теплый душ, мою голову, брею ноги новой бритвой и чищу зубы, а тем временем думаю о том, что, похоже, бабушка начинает терять рассудок. Прошлым вечером, качая Рубена, которому исполнился месяц и который скромно спал в своей колыбели, она мне сказала, что уверена, будто Иисус Христос вернулся на землю. Она утверждает, что видела его по телевизору, и это точно был он, но люди не узнали его, поскольку перепутали с теми, кто показывает такие же фокусы, как и он, но по другим каналам. Она призналась, что именно поэтому не выносит телевидение, ее от него тошнит, и что она в том возрасте, когда уже нора найти ответы на важнейшие вопросы.
Я захожу в кухню, чтобы выпить горячего молока; этой ночью я почти не сомкнула глаз, потому что у Рубена газы, он капризничает и не переставая плачет.
– Какая гадость, представляешь, Кандела? – обращается ко мне Бели. – Здесь, на кухне, был таракан.
– И как он здесь оказался, ведь это первый этаж? – спрашиваю я ее с притворным возмущением.
– Не знаю, как он сюда залез, я не дала ему времени что-то объяснить, а взяла и прихлопнула его журналом. – Бели улыбается мне садистской улыбкой и поворачивается к другому члену семьи: – Бабушка, ты ведь считаешь, что все знаешь.
– Да, почти все, – отвечает бабушка, скромно попивая короткими глотками кофе с молоком.
– Правда? – ласково провоцирует ее Бели, жуя тост. – Посмотрим… Узнаем, все ли ты знаешь. Например, что ты знаешь о… Платоне?
Бабушка ненадолго задумывается, а потом кусает горячий чурро.
– Он уже умер, верно? – отвечает она и продолжает жевать.
– Ха-ха-ха! – Моя маленькая сестра аплодирует и целует бабушку, продолжающую невозмутимо есть.
Я хочу быстро позавтракать, пораньше приехать на работу и попросить моего шефа, чтобы он разрешил мне сбегать в банк. В Сельскохозяйственном кредитном банке Кастилии и Ла-Манчи хранится кое-что, принадлежащее мне, и время от времени мне нравится проверять, на месте ли оно. Месячная аренда ящика-сейфа стоит небольших денег, всего несколько купюр, если говорить конкретнее, но мне можно не быть слишком экономной, особенно учитывая то, чем я владею на сегодняшний день.
Я люблю оставаться одна в изолированном от остальных служб банка помещении со стенами, облицованными миндально-зеленым мрамором и единственной бронированной дверью напротив меня. Там я чувствую себя так, будто я персонаж какого-то кинофильма: я обожаю запираться с моим маленьким черным ящиком и открывать его осторожно и медленно. Он стоит передо мной, и я закрываю глаза и ощущаю, как жар бриллиантов ласкает мне кожу, как будто от них исходит неизвестный науке невидимый огонь. Конечно, это только мое воображение, потому что камни холодны и их температура не выше, чем у рептилий, и все же при одном взгляде на них я вся горю.
Я резко открываю глаза и вижу горку драгоценных кристаллов на бархатном дне ящика; их невероятная красота принадлежит мне, и эта картина предназначается только для меня. Я сомневаюсь, что кто-нибудь еще испытывал подобные чувства или хотя бы приблизился к накалу моих эмоций. Никто не заставит меня поверить в то, что, как уверял Пифагор, все события повторяются и ничто в мире не является абсолютно новым. Еще я знаю, что никто не видел ничего подобного, сравнимого с этими изысканными камнями, чистыми и прозрачными, делающими меня счастливой. Я не смею до них дотрагиваться, боюсь, что они растворятся в моих пальцах, рассеются, как сон, а я не хочу, чтобы мои сны исчезали.
Время от времени в моей голове происходит прояснение, и я говорю себе, что должна относиться к ним как к предметам и не позволять им владеть мною. Но я не могу ничего поделать: я обожаю свои бриллианты, хотя понимаю, что они не более чем камни.
– Кармина, ты слишком серьезна. Почему ты ничего не говоришь? – Бабушка закончила завтрак и уже вытирает рот краешком салфетки.
– У меня нет желания разговаривать. Я поссорилась с одним человеком и теперь не в настроении, – ворчливо отвечает моя старшая сестра.
– А этот человек, – спрашивает бабушка без всякого злого умысла, – мужчина или женщина или… как ты?
Кармина резко встает и опрокидывает стакан с соком. Она выходит из кухни, хлопнув дверью.
– Но что я сказала? – Бабушка удивленно смотрит на нас. Очевидно, что у нее не было намерения обидеть Кармину, как и Бога-отца, когда она сказала, что видела его сына Иисуса Христа по телевидению. – Но что… что я сказала?
Я отправляюсь на поиски Кармины, которая заперлась в ванной, потому что не могла этого сделать в своей комнате, где еще спит Паула.
– Кармина, открой…
– Идите все к черту, – быстро отвечает она. Я прошу ее простить бабушку, потому что та не понимает, что говорит. Я ей объясняю, что, вероятно, у бабули немного съехала крыша, и прибавляю несколько анекдотов, которые приходят мне на ум и наводят на мысли о старческом маразме.
– Я покончу с собой, – просто сообщает мне сестра.
– И это обязательно делать именно сейчас? – спрашиваю я ее недовольным тоном: все женские особи в этом доме, включая собаку, которая начинает лизать мне щиколотку, решили меня достать, чтобы я опоздала на работу. – Обязательно сейчас? Когда все завтракают? Увидишь, что скажет на это мама!
Я слышу за дверью сдавленный смех. У меня появляется желание уйти, но я остаюсь. Я считаю себя доброй, хотя иногда просто нет выбора. Я возмущенно вздыхаю и снова начинаю требовать, чтобы мне открыли дверь. Если не буду завтракать, я еще успею вовремя попасть на работу.
Кармина отодвигает задвижку, и я с большой осторожностью вхожу в ванную. Я специально проснулась пораньше, но все равно опаздываю из-за приступов истерии у членов семьи. Разумнее было бы встать как обычно, убежать из дома и купить что-нибудь на завтрак в булочной на углу.
– Закрой дверь, ладно?
Я подчиняюсь и сажусь на крышку биде. Сестра сидит на краю ванны. Я смотрю на нее с грустью, как будто ванна совсем не ванна, а целый море-океан, который через секунду ее поглотит, положив таким образом конец ее горестям, какими бы они ни были.
– Что с тобой происходит, милая? – спрашиваю я ее, стараясь придать голосу ласковую интонацию.
– Знаешь, Кандела, для меня жизнь не имеет смысла.
– Не говори глупости, как может жизнь не иметь для тебя смысла, если ты хороший человек? Кто разрубает огромные коровьи туши и делает из них филе, чтобы у людей было достаточно протеинов и человеческий род не вымер? – льщу я ей с ласковой улыбкой, но она по-прежнему не поднимает глаз. – О ком я говорю? О тебе, малышка!
Кармина, рост которой сто восемьдесят пять сантиметров, похожа на что угодно, но только не на малышку, но это создание обожает, когда ее называют так. Она скромно улыбается, но потом снова хмурится.
– Мне не нравится работать в мясном отделе.
– А где бы тебе хотелось работать, малышка? – спрашиваю я ее с искренним любопытством, потому что Кармина работает в этом магазине с шестнадцати лет; сейчас ей двадцать семь, и одного месяца не хватает до двадцати восьми. Похоже, немного поздно менять профессию.
– Мне?
– Да, чем бы тебе хотелось заняться, малышка?
– Мне нравится психология.
Я подхожу и нежно ее обнимаю. Так я вела бы себя с сыном семнадцати лет, если бы он мне сообщил, что решил учиться на инженера-астронавта.
– Не волнуйся, малышка. Пойдешь на муниципальные курсы или в академию, а потом посмотришь, что получится. Может, попросишь тетю Мари, чтобы она уступила тебе какое-нибудь помещение, и откроешь кабинет. А потом будешь понемногу выплачивать долг.
– Нет, это не проблема. Вообще-то работа меня вполне устраивает.
– Тогда в чем дело?
– Дело в Хулиане, парне, с которым я встречаюсь. Понимаешь?
Я пытаюсь понять, хотя озабочена тем, что помяла свой костюм; я надеваю его, потому что мне нравится производить впечатление на служащих банка, когда я навещаю свой секретный ящик. Сегодня я уже не успею полюбоваться своим сокровищем.
– А что с ним такое?
– Дело в том, что он бисексуал.
Я снова вздыхаю и вытаскиваю комок туши из глаза, чрезмерно накрашенного, несмотря на раннее утро. Жизнь продолжает преподносить сюрпризы, говорю я себе, непонятно почему чувствуя удовлетворение.
– Ты же знаешь, Кандела, я считала, что любовь в моей жизни будет похожа на цветной плакат с надписью большими буквами «Тот, кто необходим».
– Да. Да… Ты мне об этом уже говорила.
– Я была так довольна, что он у меня был. А он оказался бисексуалом.
– Ничего… – Я ищу слова, чтобы ее утешить, но ничего связного не получается, тем более, что больше всего меня сейчас заботит опоздание на работу. – Это вполне нормально. Об этом давно говорят, даже сам Фрейд. Хотя он и написал кучу глупостей, но есть и что-то дельное. Если хорошенько подумать, быть бисексуалом вполне логично. Ян-инь, самец-самка… Пол – не более чем свойство, а любое свойство редко проявляется в чистом виде, если не брать в качестве примера Виктора и кое-кого еще. Вся вселенная – это смешение; ничто не может быть только ян или только инь. Ничто не совершенно, чисто и аутентично… «Кроме моих бриллиантов», – с воодушевлением думаю я.
– Все дерьмо. Я его застала в магазине, когда он занимался этим с почтальоном, – рыдает она с преувеличенно трагическим видом. – Ян и инь меня не интересуют. Просто он наполовину голубой.
– Только наполовину. Именно об этом я тебе и толкую.
– Меня не привлекают мужчины, склонные к гомосексуализму, – настаивает Кармина. – Но мне нравятся чувственные.
Я убеждаю ее вернуться на кухню и позавтракать и обещаю все обсудить в другой раз. Чурро уже остыли, молоко тоже приходится подогреть. Я ее уверяю, что она очень скоро встретит другого парня и моментально забудет о каком-то Хулиане.
– Это будет не так легко. Я вижу его на работе каждый день.
– Просто не смотри на него, – советую я ей, потом целую и убегаю на работу.
Глава 18
– Моя проблема в том, что кажется, будто я на десять лет моложе и в десять раз глупее, чем на самом деле, – говорит мне Колифлор, пуская в потолок столб дыма и зажмуривая глаза. Она оттопырила наманикюренный палец, как будто пьет чай с королевой, а не курит в забегаловке. Я не думаю, что сказанное действительно ее главная проблема, но зачем мне развеивать ее заблуждения и расстраивать человека? Жизнь и так довольно сурова. – И еще мне лучше много не пить. В любом случае, в меня вмещается только одна пинта, понятно?
Я бросаю взгляд на ее талию, стараясь охватить взглядом, но если говорить начистоту, это оказывается для меня невыполнимой задачей.
– Не знаю, сколько в тебя вмещается. Но это неважно, – сообщаю я с усталым видом.
Я делаю глоток ледяного сока и осматриваю интерьер бара в бразильском стиле. Светильники с абажурами в виде соломенных шляп. Много плетеных вещей. Стены выкрашены в красный цвет. Несколько чернокожих посетителей расположились на стульях, выполненных из пальмовых волокон и кожи, и целуют своих подружек.
Я спрашиваю себя, являются ли мои нынешние ощущения признаком невроза навязчивых состояний. Но я уверена, что здесь больше подозрительных типов, чем в самом злачном месте. Похоже, что хотя мы находимся всего в пятидесяти метрах от казарм национальной гвардии, распространителей наркотиков это ничуть не смущает, и их бизнес процветает.
Я сопровождаю мою толстушку в ее очередной охоте на подходящего парня и просто сгораю от стыда. Ничего не поделаешь, я лучшая, ближайшая подруга.
Здесь удушающе жарко. Я предупреждала, что нам лучше здесь не застревать, но Коли не послушалась. Ей хотелось сюда зайти, так как она слышала хорошие отзывы об этом месте, и потом, здесь работает кондиционер. Я скептически взглянула на нее и заметила, что «кондиционированный воздух», вероятнее всего, означает присутствие негра с опахалом. Теперь я буквально взмокла от пота.
– Я хотела с тобой встретиться еще по одной причине: мне надо рассказать тебе со всеми подробностями о твоем свояке Викторе, – сообщает она мне значительным тоном, затушив сигарету в старой пепельнице, сделанной из пробкового дерева и имеющей форму чаши.
– Что ты хотела мне рассказать? – повышаю я голос, чтобы перекричать музыку, и ловлю ее блестящий взгляд.
– Недавно в больнице я решила навестить одного друга, работающего в родильном отделении…
Я смотрю на нее с интересом, не прерывая ее рассказ, и знаю, что ей не требуется приглашение, чтобы болтать. Вероятно, ее история – не более чем предлог, чтобы задержать меня в этом притоне, где, по ее мнению, проводят время сексуальные и небедные негры, желающие найти пару на одну ночь.
– И знаешь, кого я там встретила? – Она жадно открывает рот, как будто собирается заказать новый напиток у мулата за стойкой бара.
– Моего свояка Виктора.
– Откуда ты узнала? – спрашивает она озадаченно.
– Потому что ты только что сказала, что хотела встретиться, чтобы рассказать о моем свояке.
– В общем, да. Там был твой свояк, – недовольно признает она.
– И ты плюнула ему в лицо от моего имени и от имени моей сестры?
– Я с ним даже не поздоровалась. Когда я приехала, время для визитов уже заканчивалась, и он уходил. Я спряталась, когда Виктор проходил мимо, и он меня не заметил. Но я спросила главную медсестру в родильном отделении, не знает ли она, кто это.
– И?
– Мне сказали, что он отец ребенка, который только что родился.
– Да, но моему племяннику Рубену уже два месяца. – Я отодвигаю свой стакан с экзотическими фруктами. Мне бы хотелось оказаться в настоящей солнечной Бразилии, а не смотреть на нее на плакате при электрическом освещении.
– Ясно. Я тоже это вспомнила. Мне показалось все это подозрительным. Поэтому я спросила, как зовут жену Виктора и в какой она палате. Я пошла ее навестить и познакомилась с некой Хулианой сорока лет, которая только что родила. Она смуглая, увесистая, кривоногая, если тебя это утешит, и с глазами, как ядерный взрыв. Тетка была похожа на сумасшедшую. Так как я медсестра, а она не знала, что я с другого этажа, я схватила ручку и формуляры, которые хранились у меня в папке, и устроила ей допрос с пристрастием. У меня есть ее имя, адрес, телефон, болезни всех ее родственников и все, что только можно вообразить. Не думаю, что какой-нибудь частный детектив смог бы лучше выполнить подобную работу, притом в моем случае это было бесплатно, – она обращается ко мне с улыбкой заговорщика. – Она родила от твоего свояка сына весом два килограмма пятьсот граммов, которого назвали… татам!.. Рубен, и он еще в инкубаторе!
Коли смотрит на меня с восторгом, как будто только что сообщила мне потрясающе радостную новость. Какое-то время я не произношу ни слова. Хотя я не пью и не принимаю наркотики, сейчас у меня полное ощущение, что все вокруг иллюзорно.
– Что скажешь? – спрашивает Коли, облизывая губы в джин-тонике. – По-твоему, это стоящая новость?
– Вот козел, – произношу я кратко. – Какое ничтожество. Но что с ним такое? У него маниакальная тяга к сексу или к отцовству?
– Наверное, он донжуан. – Похоже, несмотря на мое мрачное настроение, Коли получает удовольствие. – Но только у него любовь сосредоточена не в сердце, а в яйцах.
– Ты так считаешь?
– Конечно, подруга. – Она меняет позу на табурете, который немного маловат для ее зада. – Твой свояк имел наглость почти одновременно зачать двух детей, да еще зарегистрировать их под одним именем! Я никогда не слышала, чтобы кто-то называл своих детей одним и тем же именем. В общем… Не знаю, почему в этой стране не легализуют смертную казнь, стоит только рассмотреть дело твоего свояка.
– Я не возражаю, – замечаю я.
– Не знаю, о чем думала эта женщина, мать Рубена Номер Два. – Коли часто моргает, и ее глаза выделывают несколько смертельных сальто. – У нее такая медицинская карта, ты бы видела… Тринадцать абортов. Она родила этого ребенка, потому что врач предупредил, что после следующего аборта она прямиком отправится в другое место выращивать мальвы или еще что-нибудь, но уже как биологическое удобрение. Скажем так: нельзя сказать, что это была желанная беременность.
– Боже мой!
– Она учительница, и мне показалось, что она считает себя очень умной. Она смотрела на меня, как будто я крыса в больничном халате, а она – капризная маркиза. Она недовольна сестрами, потому что те командуют и не хотят отпустить ее домой, объясняя, что при наличии внутренних отклонений у новорожденного мать должна находиться рядом. – Говоря это, Коли покачивается в такт музыки. – Мерзкая ведьма. Когда я вошла в палату, она читала книгу под названием «Черная магия. Пособие для начинающих». Б-р-р-р. Черт, знаешь, мне стало как-то не по себе, Кандела. Где дерево, я хочу постучать.
– Значит, эта тетка еще в больнице? – невинно спрашиваю я.
– Да. Ее отпустят дня через три-четыре. Мой друг, которого я навещала, когда обнаружила Виктора, уверял меня, что все будут рады, когда от нее избавятся.
– Ты проведешь меня к ней, если я приду в больницу к полудню?
– Завтра я не работаю, глупая. Если бы работала, мы бы сюда не зашли, верно? – Она указывает рукой с очередной сигаретой на темную фигуру, которая заслоняет свет справа. – Ты видела, какой зад у того черного? Упругий и игривый. Ням!
– Я хочу ее увидеть, Коли.
– Тогда подожди до послезавтра. Но зачем тебе ее видеть? Это ненормально, красотка. Разве я не сказала, что она ведьма? Она даже штудирует специальные книги! Я это видела собственными глазами. – Коли кладет мне руку на ляжку и похлопывает.
– Но я хочу ее видеть.
– Зачем? Она любовница мужа твоей сестры. Она же не спит с твоим женихом-цыганом.
– Цыган совсем мне не жених.
– Извини, мне очень жаль. Тогда ты не передашь ему мой номер телефона, а? – спрашивает она, глядя на меня. – Нет? Что же, ладно. Я хочу сказать, что история с Хулианой тебя напрямую не касается, тогда зачем проявлять такой интерес?
– Мне хочется выяснить, не наснимали ли они фильмов, которые не рекомендуется смотреть несовершеннолетним.
Колифлор смотрит на меня и качает головой, ничего не понимая, потом поворачивается туда, откуда доносится шум, который все усиливается и перерастает в настоящий скандал.
Охранник-мулат с трудом продирается сквозь толпу и бьет по носу белокожего типа, чье лицо уже и так достаточно попорчено. К тому на помощь спешат два его друга, но охранник оказывается не слабого десятка и легко разбрасывает их. Кто-то останавливает музыку, и раздается зычный голос двухметрового силача.
– Паразиты, сукины дети! – яростно кричит он, сшибая лбами головы троицы и в очередной раз демонстрируя несостоятельность белой расы. – Ах вы твари, дерьмо поганое! Твою мать, чтоб вас перекосило! Я же сказал, что белым парням вход сюда заказан! Ищите себе белых шлюх на улице!
Мы с Коли переглядываемся и, не обменявшись больше ни единым словом, во всю прыть устремляемся к пожарному выходу, надеясь улизнуть, пока шум не поднял на ноги соседнюю казарму.
Глава 19
Амадор рассказал мне отдельные эпизоды своей спортивной карьеры. Он делал это постепенно, в те дни, что мы встречались с ним после смерти его отца. К примеру, он сообщил, что о нем написано в Книге рекордов Гиннесса как о первом в мире спортсмене – представителе цыганского народа. Не знаю, правда ли это, он несколько раз обещал показать мне книгу, но, похоже, ему не хватает времени, чтобы ее найти. Однако я своими глазами видела вырезки из газет: о нем писали, когда он выиграл «золотую четверку», – четыре раза он обогнал целую кучу негров, которых не могли обойти даже самые способные бегуны. Впрочем, никто не считал, что Амадор является самым талантливым, наверное, поэтому он и выиграл четыре раза подряд у элиты мировых атлетов на дистанции сто десять метров с препятствиями и привез домой свои десять килограммов золота. Часть награды он потратил на метательницу копья из Румынии, рядом с которой я его видела на некоторых фотографиях. Она выделялась своим бюстом, достойным всяческих похвал, особенно если учесть, что на ней была надета футболка с надписью «Нет проблем».
В тот день, когда Амадор выиграл золото, он стал расистом, потому что выяснил, что негры превосходят всех остальных, просто тогда ему повезло больше, чем им. Он перестал выступать после перелома щиколотки, из-за которого ему пришлось перенести операцию. Но к тому моменту у него было достаточно денег, чтобы жить в свое удовольствие, хотя ему еще не исполнилось двадцати шести лет.
У Амадора есть акции, домик на пляже и квартира в сто пятьдесят квадратных метров в центре города. И ему очень приятно сознавать, что он отличная партия.
Он открыл в центре, рядом с домом, спортивный магазин и нанял управляющего, в совершенстве владеющего семью языками, и помощницу – какую-то деревенщину, которая красиво двигается, покачивая бедрами, и лично мне абсолютно не нравится, хотя я стараюсь ее не замечать. Купить в его магазине спортивные тапочки – непозволительная для простых смертных роскошь.
Амадор по-прежнему очень тесно связан со своей семьей, включая брата Антонио – того самого, из моих кошмаров, – хотя все они живут в поселке за городом.
Амадор уже не цыган, но все еще принадлежит к их племени. Он считает, что в этом есть свои преимущества: например, если ты зимней ночью сталкиваешься на улице с двадцатью цыганами – лохматыми типами с длинными ножами, – тебе не надо пускаться наутек.
Мне так нравится Амадор, что даже страшно. Я им восхищаюсь, потому что он сумел завоевать свое золото на глазах тысяч зрителей и телерепортеров со всего мира, а я тайком захватила бриллианты и теперь дрожу и обдумываю план побега.
Тем не менее я стараюсь не терзать себя угрызениями совести. Если я слишком много буду думать, то приду к выводу, что самое лучшее – это отправиться в банк, забрать свое сокровище, положить его в полиэтиленовый пакет из супермаркета, отдать Амадору, попросить у него прощения, не поднимая глаз от стыда, и навсегда исчезнуть. Но бриллианты – так же, как и он, – стали частью моей жизни. Отказаться от Амадора и от бриллиантов значило бы отказаться от самой жизни.
До этого времени у меня было только два более или менее серьезных романа, если не считать моих подростковых увлечений, и оба во время учебы в университете. Первый молодой человек был аспирантом и писал диссертацию по болезням мурсийских коз. Я предпочитаю не вспоминать его имя и игнорировать сам факт его существования, потому что он доставил мне немалые неприятности. За шесть месяцев, которые длился роман, у нас было мало секса, причем неумелого и торопливого, а первый раз был моим дебютом в мире интимных отношений. Словом, этот парень наградил меня целой кучей блох, и я не уверена, что они были мурсийскими. До нашего с ним знакомства я даже не видела блох, хотя в нашем доме жили три собаки. Блохи привели меня в бешенство, нервы у меня расшатались, а кожа покрылась следами от укусов. Когда мне надоело чесаться, я предложила ему поменять тему диссертации и заняться изучением дельфинов, которые на вид довольно чистые. Он промолчал, а через несколько дней, когда мы пили кофе в университетском баре, он мне подарил ошейник против блох. В тот же день я его бросила и вспоминала о нем, только пока на мне были живы последние паразиты, которые сосали мою кровь, чтобы продлить свое существование.
Потом я встречалась с ассистентом кафедры органической химии, вызывавшим у меня восхищение. С тех пор как я провела последний день рядом с отцом, я никогда не сталкивалась со столь привлекательным мужчиной, который к тому же был ко мне неравнодушен. Этот парень был воплощением всего, о чем может мечтать женщина, но тот единственный раз, когда мы наслаждались нашей близостью, я услышала о сексе что-то похожее на те слова, которые Белая Королева сказала Алисе: «Мармелад иногда есть, а иногда его нет». – Парень мне заявил, что иногда мы будем заниматься сексом, а иногда нет, хотя я подозреваю, что он имел в виду то же, что и Белая Королева: «Мармелад можно есть вчера и завтра. А сегодня – это не вчера и не завтра». Результат: сегодня никогда не бывает вчера или завтра, поэтому мармелада никогда не было. Совсем никакого мармелада. Никакого секса.
Через три месяца, придя в полное отчаяние, я оставила ассистента-красавчика. Он обладал абсолютной властью надо мной, теперь я это хорошо понимаю. А я всегда считала, что нет ничего опаснее абсолютной власти, может, только абсолютный идиотизм или их сочетание – как было в моем случае. В результате – грандиозная катастрофа. Я хорошо сделала, что оставила его. А мой несостоявшийся бойфренд не слишком преуспел в научной карьере. Он еще долго был ассистентом в университете и время от времени подрабатывал в качестве модели. Как-то я видела его на плакате рекламирующем аспирин.
Сейчас на меня смотрит Амадор и подмигивает мне. Я нервничаю, не знаю, как лучше сесть и стоит ли скрещивать ноги. Я отмечаю пугающее ощущение неуверенности, как будто муравей поднимается от моих ляжек к горлу. Волнистые волосы Амадора собраны в косичку, с которой стекает вода. Он вышел из ванной в своей квартире и, вероятно, сейчас раздет, но я не могу заставить себя отвести взгляд от его лица.
– Что с тобой? – Амадор подходит ко мне почти вплотную. – Неужели хочешь сказать, что ты расистка?
– Да, расистка. Но, конечно, в хорошем смысле.
Глава 20
– Ты переспала с… цыганом? – спрашивает Гадор. У нее такое выражение лица, будто я ей только что сообщила, что занималась сексом в похоронном бюро с останками вздутой туши кита, которую вчера выбросило на западный пляж. – С настоящим цыганом?
– В общем, да. Пожалуй.
– Но… Кандела… это же цыган! Цыган всегда цыган! – настаивает Гадор.
– Гадор, это же от него не зависит, – бормочу я, как бы оправдываясь.
Я ей перечисляю различные доводы, однако, похоже, они не слишком меняют взгляды моей сестры.
– Дело, конечно, твое, но я тебя не понимаю. Ты накликаешь беду. Все цыгане занимаются переправкой наркотиков.
– Не все, Гадор.
– Но многие.
– Может, некоторые, но не все. – Меня начинают раздражать предрассудки Гадор. – И потом, он очень воспитанный, понимаешь? Они кочующий народ со всеми вытекающими последствиями: всегда торговали тем, что требовало время. Вчера это были мулы, а сегодня наркотики, а завтра чипы для компьютеров, кто знает? Они приспосабливаются к реальности, и это не их вина. А Амадор – не перевозчик наркотиков, он бизнесмен, чтобы ты знала. И олимпийский чемпион.
– Олимпийский чемпион? В чем, в упражнениях на двухметровой кровати?
– В беге на сто десять метров с препятствиями, – отвечаю я с нескрываемой гордостью.
– Брось, не морочь мне голову, Кандела. – Совсем обессилев, Гадор садится на кровать, не сводя глаз с колыбели, в которой лежит Рубен. – Кто в это поверит?
– Не хочешь – не верь, мне все равно. В любом случае, он цыган, но этот факт не помешает мне наслаждаться, – заявляю я.
– Как ты можешь? – Гадор задумчиво переводит взгляд на меня. Она говорит очень тихим голосом и двигается как будто через силу. Возможно, это послеродовое осложнение, отягощенное депрессией.
– Звонят в дверь. – Я выхожу на цыпочках в коридор и оставляю дверь нашей спальни прикрытой, потом просовываю голову обратно и говорю: – Правда, Гадор, он невероятный парень. Это что-то дикое. Когда мы познакомились, я считала, что кое-что знаю о сексе, а потом поняла, что я просто воплощение невинности.
Я и предположить не могла, что на земле остались такие мужчины. А цыгане… что говорить… я не подозревала, что они настоящие мужчины.
Гадор явно собирается заплакать.
– Значит, все, кроме меня, думают об одном? – кричит она мне с яростью, и я путаюсь, что она разбудила ребенка.
Бедная сестренка, с тех пор как я ей рассказала, что ее муж оказался отцом еще одного Рубена, она стала более нервной, чем обычно.
Открыв дверь, я вижу на пороге Виктора и сразу радуюсь, что Паула весь день проводит в школе, а Рубен Первый живет в царстве, которое еще имеет малое отношение к нашему миру. Если бы это было не так, оба создания были бы вынуждены созерцать своего отца, вырядившегося, как на карнавал, в джинсы «Левис» на семь размеров меньше, чем необходимо, которые страшно тянут, но, видимо, по его мнению, придают ему сексуальный вид. На нем футболка с изображением лица серьезного и бородатого мужчины, напоминающего Иисуса Христа. Черная надпись оповещает: «Разыскивается за вознаграждение Иисус из Назарета, галилеянин, тридцать три года, смуглая кожа, борода и волосы, как у хиппи, шрамы на руках и ногах. Ходит в сопровождении больных проказой и нищих, с ним шайка из двенадцати лиц неопределенных занятий. Смущает народ фразами типа „Возлюбите ближнего своего" и „Простите своих врагов". Если его встретите… следуйте его примеру». Мне требуется некоторое время, чтобы прочесть текст на рубашке Виктора, а он тем временем почесывается и несколько раз произносит: «Привет, э-э-э, привет». Затем я раздумываю буквально одну секунду – потому что это максимальное время, которое я позволяю себе размышлять над некоторыми вопросами – например, мне никак не удается припомнить, какая была фамилия у Господа нашего Иисуса Христа. Святой Иосиф, его приемный отец, должен был передать ему какую-то фамилию, но я ее не знаю. В этом смысле Христос подобен Шер:[11] похоже, им удалось стать повсеместно известными только по своему первому имени.
Вероятно, задумка с футболкой – это стратегический ход, чтобы смягчить нас, напомнив, что не по-христиански выцарапывать людям глаза, особенно тому, кто был преданным свояком, зятем, мужем внучки и племянницы, единственным представителем сильного пола, который в течение многих лет переступал порог этого дома, если не считать Кармину, которая очень сильно на мужчину смахивает, но не является им по своей сексуальной ориентации. Но меня не проймешь: я набираю в грудь побольше воздуха и заявляю, что, если мне придется смешать мужчину с грязью, для того чтобы поставить Виктора на место, я это сделаю без всяких колебаний.
– Тебе не стыдно снова появляться на пороге этого дома? – вопрошаю я у него с негодованием. Заметно, что в последние дни Виктор посвежел. Он смотрит на меня с покорностью сконфуженного преступника. Должно быть, на него оказывает влияние текст на футболке, который он наверняка считает удачным переложением Библии.
– Я хочу видеть своего сына, – униженно бормочет он.
– Мы пришлем тебе видеозапись, – говорю я и собираюсь закрыть дверь.
– Подожди, Кандела! – Он пытается мне помешать, и в результате я защемляю ему пальцы правой руки.
– Видишь, что произошло из-за твоего упрямства.
– Я хочу увидеть своего мальчишку… – говорит он, облизывая один за другим пальцы пораненной руки. – Я его отец и имею право.
– Поговори с Эдгаром, он адвокат Гадор и знает, что решил судья. Впрочем, я помогу тебе сэкономить на звонке, ведь твой мобильный слишком дорого тебе обходится: судья решил, что ты можешь приходить один раз в три месяца. Если бы ты не был извращенцем, мог бы чаще видеть своих детей. Семейным судьям не нравятся распутные отцы, они разумно полагают, что такие отцы плохо влияют на детей.
– Но, Кандела, я еще даже не видел младенца, а он ведь мой сын! – Он испуган и молит меня взглядом, а я утверждаюсь в предположении, что он один из тех типов, для которых унижение – не проблема, лишь бы получить что им хочется.
– Я знаю, что у тебя есть другой сын, которого ты можешь навещать, сколько душе угодно. – Я чувствую себя железной дамой, особенно после того как прищемила ему руку.
– Если честно, я не уверен, что тот мой. – Он продолжает ласково поглаживать свои пальцы, как будто это рука другого человека, которого он сильно любит.
– Но ты дал ему свою фамилию.
– Ничего другого я не мог ему дать. – Он не может выдержать мой обличающий взгляд.
– И его ты тоже назвал Рубеном.
– Это единственное, что мне пришло в голову, когда мне дали регистрационную форму… Мы столько передумали с Гадор, пока не нашли наконец имя, которое бы нам нравилось! Ведь мы уже обсудили все достоинства и недостатки разных имен. – Его глаза умоляют, чтобы его простили, хотя я совсем не та, у которой он должен просить прощение.
Конечно, паршивая свинья, я тебе верю, но, как всякой свинине, тебе было бы самое место в духовке. Все дело в том, что ты проявил жадность даже в раздаче имен. Засунь свои объяснения в задницу.
Однажды, еще до того как они с Гадор разошлись, Виктор показал мне фотографию двоюродного дяди. Все говорили, что Виктор просто его живой портрет. «Нет, нет, нет… Ты совсем на него не похож. Извини, что я это говорю, у твоего дяди лицо развратника и прощелыги», – сказала я тогда, изучая желтоватый снимок. «А твоя бабушка только что мне сказала, что я как две капли воды на него похож», – ответил он. Думаю, бабушка откровенно высказала свое первое впечатление, которое обычно оказывается верным, и это касается и живых, и мертвых. Она способна раскусить любого, не только мужчину. Это относится и к любым живым существам, которые попадаются ей на пути. Бабушка может, например, сказать: «Когда эта сучка вырастет, она все время будет приносить потомство, нам лучше ее не оставлять, потому что мы не будем знать, что делать со щенками», – и мы отдаем ее соседу, а позже убеждаемся, что это правда: собака размножается с такой скоростью и простотой, что ее потомство увеличивается в геометрической прогрессии. Или бабушка заявляет: «Сапожник когда-нибудь убьет свою жену, видно, что у бедняги котелок плохо варит. Ей нужно его успокоить, но лучше уйти от него», – а через несколько месяцев или несколько лет мы читаем сообщение об убийстве в разделе криминальной хроники. Бабушка – замечательный психолог, там, где мы видим соринку, она видит бревно.
Моя мама пошла за покупками вместе с бабушкой, которая захотела отправить наш лотерейный билет – я выбираю цвет, а она цифры. Еженедельно мы делим выигрыш, который пока равен нулю. Тетя Мари осталась наверху, на своем этаже и занимается реставрацией своего лица, чтобы блеснуть перед нами, когда придет время обеда. Кармина не ест дома днем, потому что у нее нет времени бегать с работы и обратно, Бренди сегодня дольше занята в лаборатории, а у Бели экзамен. Я надеюсь, что Виктор скоро уйдет, и даже Гадор не успеет его увидеть. Хотя они и расстались, она все еще возбуждается каждый раз, когда слышит имя бывшего мужа, – просто превращается в настоящую кормящую фурию. Поэтому я не хочу, чтобы она видела Виктора.
– Уходи, – говорю я ему, не испытывая никакой жалости.
– Кто там? – спрашивает голос за моей спиной.
– Никто, и он уже уходит. Торговец… – Я смотрю на Виктора и стараюсь применить весь набор гримас, подходящих для такой ситуации. Накал эмоций достиг своего апогея, и на этой гражданской войне может пролиться кровь.
Но Виктор не желает двигаться с места, а услышав голос Гадор, пугливо высовывает физиономию из-за моего плеча.
– Гадор, я хочу с тобой поговорить… Дай мне увидеть малыша! – восклицает он. Его просьба звучит глупо даже для его собственных упрямых ушей.
– Дерьмо поганое! – Шаги моей сестры быстро приближаются по коридору, и прежде чем я успеваю отскочить, два бывших супруга оказываются разделенными только моим телом. – Отправляйся к своей свинье, на которую ты так любишь взбираться и производить Рубенов! И пусть она немного помоется и вытрется своими грудями.
– Гадор, послушай, детка!..
– Только подумать, что ты ложился со мной, только что выскочив из постели такой образины! И ты произвел со мной детей, а потом с ней!
– Но, Гадор, нет… это не мой ребенок.
– Ха! Поэтому ты дал младенцу свою фамилию! Какой щедрый, черт возьми! Любишь всех одаривать? Со мной ты никогда не был таким великодушным, мерзавец.
– Ребенок не мой, понимаешь, детка…
– Как это не твой?! Как не твой, подлец?
Моя сестра просто вне себя, я вижу, что ее глаза готовы вылезти из орбит. Она пытается дотянуться из-за моей спины до Виктора и треснуть его. Я делаю все, что могу, чтобы этому помешать, и мне стоит больших трудов удерживать ее. Ачилипу принимается жалобно лаять: заметно, что она ничего не понимает – такие вещи трудно понять даже нашей собаке.
– Нет, он не мой…
– Но ты же с ней трахался!
– Да, но… послушай, детка… Я всегда занимался с ней любовью сзади… – Это уже наглость, теперь это называется «заниматься любовью». – Поэтому я точно знаю. Он не мой.
– Сзади? Что значит «сзади»?
– Через заднюю дверь. Я занимался с ней любовью через заднюю дверь.
Гадор смотрит на меня с видом полной дуры, она перестала шевелиться и, похоже, оставила на секунду идею разрезать его на куски, как фаршированного индюка.
– Он трахал ее в зад, – объясняю я.
– Что ты сказал? – Она снова смотрит на него и выглядит совершенно спокойной, хотя я ее слишком хорошо знаю и убеждена, что это только видимость.
– Я занимался с ней любовью сзади, поэтому ребенок не может быть моим… – повторяет он, теребя с покаянным видом свои желтые кудри.
– Но… Со мной ты никогда не занимался этим сзади, – говорит Гадор пронзительным голосом.
– Нет, нет, нет.
– А с ней ты занимался этим… сзади, да?
– Д-д-да.
Моя сестра опять начинает нервничать, ее грудь снова вздымается, и кажется, можно услышать, как ее кровь торопливо бежит по венам.
– Значит, ты меня никогда не любил, потому что не делал это сзади. – Ее голос становится все выше, по мере того как она делает свои выводы. – И я просто не знала, что такое любовь?
Значит, ты не занимался со мной по-настоящему? Но чем же ты со мной занимался?
– Нет, я только хотел сказать…
– Ты много чего хотел сказать, но я не расположена тебя слушать. Кандела! Закрой дверь!
Я подчиняюсь, и на этот раз Виктор не смеет мне мешать и не упирается рукой. Гадор мчится на кухню, я следую за ней, думая о том, как ее успокоить, и что, вероятно, нужно снова, после большого перерыва, взять в библиотеке «Энциклопедию секса» доктора Лопеса Ибора.
Глава 21
Я провела некоторое время, разглядывая фотографии моего отца. Все, что нам осталось от него, – это пачка снимков и смутные воспоминания. Он был самым красивым мужчиной, которого мы когда-либо видели. Упрямый, необузданный, дикий, драчливый, с неуемной жаждой авантюр и с грустными зелеными глазами, которые как будто ласкали своим взглядом и чудесным образом заставляли прощать его отлучки и неспособность вести размеренную семейную жизнь. Он был не способен смириться с монотонностью и скукой супружества. Мама до сих пор не избавилась от обид и законного возмущения. Мы почти не упоминаем его имя. Бели даже его не знала. Когда ей было шесть лет, она спросила маму, тот ли у нее отец, что и у всех нас, потому что она не помнила, что он у нее был. Сестра была убеждена, что раньше жила в доме доктора Переса, который очень занят, поэтому никогда не забирает ее из школы, как отцы других детей. Бели верила, что дело обстоит именно так, пока одна подружка ей не объяснила, что доктор Перес только занимается детскими зубами, а не делает детей, и что для этого необходим папа. Услышав эту историю, моя мама, конечно, ударилась в слезы и провела так весь день и следующую ночь.
Мы были маленькими, совсем детьми, когда отец навсегда исчез из нашей жизни, из нашего дома. Мы жили сиротами. Однажды кто-то при мне спросил маму, где ее муж. Она ответила, что он уже давно оставил нас, и сокрушенно потупила взор, как это делают вдовы. Спросивший выразил свои сожаления и соболезнования. «Нет, зачем же сожалеть? – ответила бабушка за маму. – Он упокоился с миром, и мы тоже довольны».
Сегодня вечером, когда я вернулась с работы, меня почему-то тошнило, и я с ужасом подумала о том, что на следующей неделе меня ждут не только куча экзаменов, но и череда праздников, по случаю наших с сестрами дней рождений: мы все родились в июне – Кармина пятнадцатого, Гадор шестнадцатого, я семнадцатого, Бренди восемнадцатого и Бели девятнадцатого. По какой-то астральной, сюрреалистической и, по-видимому, еще и гормональной причине октябрь был, вероятно, роковым месяцем для папы.
Когда я зашла в гостиную, там сидела бабушка и вязала, а Ачилипу лежала у ее ног, прикрыв свои печальные глаза. Я поздоровалась с ними: поцеловала бабушку и дружески потрепала собаку по спине.
– Продавщица в киоске плохо выглядит, – сообщила мне бабушка, не переставая внимательно следить за спицами.
– Думаю, у бедняжки рак, – ответила я ей, размышляя о пяти яичных тортах, которые, к сожалению, нам придется съесть в ближайшие дни.
– А, да. Конечно, рак. Я их видела вчера в магазине, они шли со скидкой. Но мне показалось, что они уже начали портиться. Еще мне хотели подсунуть очень старую сардину, но я вовремя заметила, – продолжила она разговор, а тем временем я озабоченно ее разглядывала. Сегодня она явно где-то витала.
Я вздохнула и спросила ее, где Гадор.
– Гуляет с детьми, чтобы немного развеяться, – ответила она. – У твоей сестры такая же проблема, как у твоей матери: обе не смогли выбрать в мужья достойного мужчину. Когда твоя мать выходила замуж, я ей сказала, что мне совсем не нравится ее выбор. Твой дедушка и я хотели, чтобы Эла вышла за другого человека. Он потом выучился на священника, но на тот момент ничего еще не было решено. Остальное ты знаешь: твоя мать вышла за твоего отца, и родились все вы и затем Бели, которая появилась в наихудший момент, как раз когда твой отец связался с тетей Мари, и ему пришлось бежать отсюда, иначе дедушка сделал бы из него мясной фарш…
– Что ты говоришь, бабушка? – мягко говорю я ей, не отрывая от нее взгляда и ошеломленно задавая себе бездну вопросов.
Она неожиданно замолчала и снова погрузилась в свое мирное занятие, покачивая головой из стороны в сторону, как будто отказываясь неизвестно от чего.
– Что ты сказала, бабушка? – Она на секунду подняла взгляд и посмотрела на меня через свои очки, но в ее больных катарактой глазах был только туман непонимания.
Я закрылась в своей комнате и снова стала рассматривать фотографии отца. Я пыталась вспомнить события детства, но ничего не получалось. Я не помнила похорон папы. Мы так и не узнали, где находится его могила. Основываясь на неясных объяснениях мамы, можно было предположить, что в каком-то неизвестном поселке на юге, откуда мать папы уехала в поисках благополучия, когда была почти девочкой. Так же поступила в свое время моя бабушка по материнской линии: большие города всегда привлекали людей, которые готовы были рискнуть, потому что не имели ничего, что можно было бы потерять.
Идеализированный образ моего отца неожиданно начал терять свою прежнюю безупречность. Появились дурные предчувствия и необъяснимая злость.
Пожалуй, мне следует поговорить с тетей Мари.
Глава 22
– Я принимала ванну. Что тебе надо? – Тетя в купальном халате, с недовольным, вернее, совсем не радостным выражением лица оказывает мне суровый прием. Она открывает дверь и сразу поворачивается ко мне спиной, не дав даже поздороваться с ней.
По телевизору показывают рекламу, в которой девушка делает уборку с помощью чудесного спрея. Она сама, как и помещение, в котором находится, чистая, компактная, сияющая и удобная. У меня всегда было впечатление, что дома похожи на людей, которые в них обитают, так же, как собаки на своих хозяев. Реклама это подтверждала.
У Бренди комната оклеена упаковочной бумагой для подарков, потому что это самое дешевое и яркое, что она смогла найти, Бели просто приспосабливается, принимая вкусы сестры. Моя спальня увешана плакатами. Они помогают мне повысить самооценку. У меня с этим проблема. Бели даже недавно подарила мне книгу под названием «Учебник для женщины без предрассудков» и посоветовала прочесть ее и взять кое-что на вооружение. Комната Кармины выглядит очень строгой: стены выкрашены в синий цвет, и единственным ее украшением являются желтые одеяла на кроватях и несколько романов на книжной полке. Гадор жила в квартире, где чувствовался недостаток во всем, и были только стены и водопроводная вода. Моя мать заставила наш дом довольно пошлыми керамическими украшениями, но, как ни странно, ей удалось сделать его уютным.
Сейчас я проникла в святая святых нашей старой и богатой тети и еще раз убедилась, что жилище дает представление о личности хозяина. Покои теги Марианы, как и она, – неприветливые, холодные, мрачные, меланхоличные, здесь полно зеркал, которые отражают друг друга.
– Я бы хотела немного с тобой поговорить, – я повышаю голос, чтобы она меня услышала в ванной.
– А ты не можешь подождать до ужина? Конечно нет! Вы ведь не знаете, что такое терпение, вам оно никогда не было свойственно, – ворчит она из ванной комнаты, которая для удобства имеет выход и в спальню.
Я жду, пока она закончит, даже не пытаясь ей ответить. Я думаю, что нужно ее понять или хотя бы постараться это сделать; жизнь ей много обещала и много дала, но в итоге в награду за свою красоту тетя получила только одно – одинокую жизнь в двухэтажном доме, часть которого отдана под магазин, а другую занимают семь женщин, собака, девочка и младенец, деля с ней стол и кров, но не слишком ее идеализируя.
Да, нужно быть к ней снисходительной, ведь все ее дороги закончились здесь, и очень тяжело, если после долгого пути вдруг выясняется, что на самом деле ты не сдвинулся с места.
– Ты встречаешься с цыганом? – напрямик спрашивает тетя Мариана, появившись передо мной. Она надела нижнюю рубашку и халат из черного атласа. Мне она кажется в нем какой-то торжественной и слабой. Наверное, потому что еще не успела накраситься после душа.
– Кто тебе это сказал?
– Твой шеф, сеньор Ориоль как-то упомянул. Знаешь, он меня очень уважает. Он дал тебе работу только благодаря мне, и ты могла бы выйти замуж за его брата Эдгара, который работает адвокатом. Он молод, красив и, когда получит наследство от матери, станет очень богат. Ты могла бы стать его женой, если не захотела делать карьеру. – Тетя садится в кресло и надменно смотрит на меня своими запавшими глазами. – Можно узнать, чем ты занимаешься с цыганом?
– Тем же, чем с любым другим, но с гораздо большим удовольствием, – отвечаю я, стараясь не дать ее высокомерию смутить меня.
– Ты такая развратная.
– Не тебе говорить…
Ей не удается скрыть впечатление, которое произвела на нее моя выходка. Ее зрачки изучают меня, и я еле заметно дрожу, втайне надеясь, что ее глаза не смогут проникнуть внутрь и все разрушить. В нашу эпоху, когда состояния появляются, растут, исчезают, переходят из рук в руки, я верю, что моя единственная и настоящая собственность – это мои мысли. И я собираюсь держать их как можно дальше от нашей ведьмы.
– Какой развратной надо быть, чтобы спать с мужем своей племянницы, а потом продолжать жить в ее доме, как будто ничего не произошло, давать всем указания и медленно, день за днем отравлять всем жизнь? – продолжаю я, прежде чем она успевает отреагировать. – Возможно, с твоей точки зрения, иметь друга-цыгана – это неприлично, а мне кажется, что ты побила все рекорды, трудно представить себе что-то более безнравственное.
У тети Мари очень хорошее зрение, но очевидно, ей не удалось прочесть то, что у меня внутри, потому что сейчас она смотрит на меня ошеломленно.
– Что ты говоришь? Кто тебе это сказал? – Она приходит в себя, поднимается и приближается ко мне. На ее лице появляется гримаса злобы и отвращения. Она дает мне пощечину. Я ощущаю жгучую боль, которая меняет мое настроение и стирает улыбку с моего лица.
Я заставляю себя сдержаться и принимаюсь рассматривать турецкий ковер в синеватых тонах, весь в цветах и маленьких птичках.
– Тогда скажи мне, что это ложь, – бормочу я. Она хватает хрустальный бокал с маленького столика, наливает себе из граненого графина, чье сияние заставляет меня вспомнить о толстой и тяжелой трости покойного Хоакинико Серьезного, а потом снова опускается на прежнее место. Взгляд ее становится стеклянным, усталым. Кажется, что ее веки стали очень тяжелыми, она делает короткий глоток и поджимает губы, как будто только что попробовала лекарство с отвратительными вкусом и запахом.
– Нет, это не ложь, – очень тихо признает она. – Твой отец был единственным мужчиной, который делал меня счастливой, хотя я не из тех женщин, которым необходимо, чтобы рядом был мужчина. Если хочешь знать, мне вообще не нужны мужчины.
Я размышляю над сказанным. Мари не сказала «единственный мужчина, которого я любила», она произнесла «единственный мужчина, который делал меня счастливой». Она безусловно личность, не могу не признать этого.
Я упрекаю ее в том, что она была гораздо старше моего отца, но тетя Мари отвечает мне обезоруживающим смехом, а потом следует целая лекция, суть которой можно свести к следующему: когда человек достигает определенного возраста, годы перестают иметь большое значение, особенно в постели, и, возможно, когда придет время, я сама в этом смогу убедиться.
– А твой отец был уже зрелым мужчиной. – Она медленно поглаживает пальцами грани бокала, а я чувствую такой стыд и смущение, что смотрю в другую сторону. – Твой отец был таким… ему очень нравились женщины, потому что он им тоже нравился. Такой мужчина не создан быть отцом семейства. Или мужем. Его предназначение – спать с разными женщинами и когда-нибудь умереть в чужой кровати. Я ненавидела мужчин, пока он не появился в моей жизни, или я в его, но какая теперь разница? – Она смотрит поверх меня на старинную картину, которая висит на стене, над диваном. Вероятно, ей не хочется смотреть мне в глаза, хотя я уже могла бы выдержать ее взгляд. Странно, она только что призналась, что тоже способна испытывать человеческие чувства. – С первого дня моего брака я испытывала неприязнь к моему мужу; он был слабым и отвратительным, и хотя я никогда ему не изменяла, но считала, что все человеческие особи мужского пола похожи на него. Я не помню своего отца, ты знаешь, он умер, когда мне было всего два года. В общем, я презирала их всех. Для меня они были отталкивающими, грязными, неполноценными созданиями. Но потом здесь появился твой отец… – она обводит рукой воображаемое пространство, которое может обозначать ее дом или ее тело, – и я, конечно, изменила свое мнение. Твой отец был диким, никто не может укротить такого мужчину, поэтому твоя мать всегда ходила с печальным лицом. Он не был образованным – какое образование может иметь токарь-фрезеровщик который работает на фабрике и чьи руки будто покрыты наждачной пылью? И все же в нем было что-то… обаяние открытого пространства, гор и моря. Не знаю, как тебе объяснить, но главное то, что если он был не со мной, то, значит, был с другой. Никто не может укротить дикого мужчину. В любой момент он может уйти навсегда, причина не так уж важна. Твоему отцу не нужен был повод, и потом, не думаю, что дело было во мне, не буду тебе врать.
– Но мы все считали, что он умер. Нам так сказали, что мы были маленькими, поэтому нас не взяли на похороны. Мы иногда думали о том, чтобы поехать и навестить его могилу. – Я чувствую изумление, и беспокойство, и огромную тревогу, как будто меня здорово только что разыграли. – Так его все же нет в живых, он действительно умер? – спрашиваю я ее и не могу сдержать слез, я боюсь, что впаду в сентиментальное состояние, хотя сейчас мое сердце затопляют ярость и желание отомстить за ложь и побег.
– Я оплатила ему билет на самолет до Бразилии, с тех пор прошло уже почти восемнадцать лет. Еще я дала ему денег, чтобы он продержался, пока не найдет способ зарабатывать на жизнь. Я никогда не сомневалась, что у него все получится. Он все схватывал на лету, но обычно у него не было никакого интереса к обучению.
– Ты знаешь, жив он или мертв? – настаиваю я, поглаживая покрасневшую щеку.
– Не имею ни малейшего понятия. Когда прошло время, установленное законом, его признали умершим, и твоя мать стала получать пенсию как вдова. Я ей тоже помогала. Мы больше не говорили о прошлом. Твоему дедушке все было так противно, что, вероятно, это свело его в могилу. Знаешь, твой отец был бродяга. Он только и делал, что терял одну работу за другой. А ведь если бы он приложил малейшие усилия, смог бы процветать. Он был не из тех, кто приспосабливается и терпеливо ждет лучшей жизни. Это было выше его сил. А твоя мать со временем утешилась. И даже не таит на меня зла: она ведь его знала лучше, чем другие.
– Значит, не исключено, что он еще жив?
– Не знаю. Но Бразилия – очень большая страна, а может, он даже там не остался, Бразилия граничит с другими странами Южной Америки. Наверняка ему быстро все надоело, и он снова куда-нибудь полетел. Он был как шальная пуля: попадал во все, что было на пути. Ему нужна была свобода. Это трудно описать привычными словами, он просто чувствовал внутри боль, которая заставляла его бежать. За годы, проведенные с твоей матерью, он то появлялся, то исчезал. Неожиданно входил в дверь – борода, и глаза огромные, похож на святого Иоанна Крестителя, – делал очередную дочку твоей матери и снова отправлялся в странствия. Обычно он возвращался осенью. И никогда ничего не объяснял. А она только плакала, любила его и страдала. Поверь, она стала жить гораздо лучше с тех пор, как он исчез.
– Я понимаю.
– И я думаю, что нет необходимости… Твои сестры об этом знают?
– Нет, я никому не говорила. – Я пожимаю плечами.
– Лучше, чтобы они не знали, понимаешь?
– Да, вероятно, им лучше не знать. Скорее всего, они даже не поверили бы, что такая история могла произойти в нашей семье. Все это слишком похоже на сюжет из телевизионного шоу.
Глава 23
Согласно Аристотелю время приносит не только понимание, но и самое грубое невежество, потому что всему приходит конец, и прошлое забывается. Я пыталась противостоять времени и забвению, слабо и безрезультатно сопротивляясь их силе, но смерть, которая по загадочному недоразумению выбрала меня своим свидетелем, день за днем мне доказывает, что она – единственный пример того, что забвение кристаллизуется во времени. Я не могу помешать смерти, я ее материально обслуживаю. Будет ли существовать время, если я не буду о нем спрашивать и не буду служить его инструментом? А забвение, если я не вспомню, что оно существует?
Я знаю очень мало: что я тоже соткана из забвения и времени, – это мое наследство; что дороже всего мне стоят мои собственные ограничения; что даже на последнем этапе я не смогу с полной очевидностью доказать, что существую на самом деле; что наша память может служить укрытием от разочарований реальной жизни. Я понимаю, что все настоящее подвержено влиянию времени и забвению.
Я не хочу думать об этом, мне никогда не нравилось размышлять на такие темы, но все вокруг наводит меня на такие раздумья.
Всю свою жизнь я пыталась трезво смотреть на вещи и быть достаточно проницательной, чтобы знать, какое расстояние оставить между собой и другими людьми. Вероятно, я в этом мало преуспела или не сделала необходимых усилий, чтобы достичь своей цели.
Дело в том, что сейчас передо мной лежит тело девушки, почти девочки, примерно возраста Бели. Вдавленная грудная клетка и свернутая челюсть образуют фигуры какой-то сюрреалистической геометрии. Кровь уже перестала течь, не думаю, что хотя бы капля осталась в ее венах. Врачи безуспешно прооперировали несчастную, зашили и перевязали, потом сделали вскрытие и привезли сюда. Мой шеф занялся ее отцом. Они погибли в автокатастрофе. Я заплакала, когда их привезли, как будто речь шла о моем отце и обо мне.
Прощай, сказала я девушке.
– Дон Хуан Мануэль…
– Что, Кандела?
– Все, я с ней закончила. У нее обезображено лицо, я ничего больше не могу сделать. – Я безнадежно пожимаю плечами, а сеньор Ориоль любезно улыбается мне в ответ.
– Этой ночью их будут оплакивать в часовне, но я сам останусь, не волнуйся. Возьми отгулы на следующую неделю, пока сдаешь экзамены. А мне поможет Матиас, я уже договорился.
– Ладно… Дон Хуан Мануэль… Я вот что хотела сказать… – Я нервно потираю руки, рассматриваю свои переплетенные пальцы. Пожалуй, мне нужно больше бывать на свежем воздухе. Подальше отсюда. Не знаю, как это сказать.
– Что ты хочешь, Кандела? – Мой шеф собирается снять перчатки и вымыть руки. Он принес новый фильм, чтобы скоротать ночь в офисе, пока родственники погибших будут оплакивать их в маленькой часовне нашего похоронного бюро. Уверена, дону Хуану не терпится побыстрее все закончить, чтобы посмотреть «Влажные зоны». Он попытался внушить мне, что это документальный фильм о национальных парках Иберийского полуострова, но я знаю, что речь идет о легком порно, на котором он помешан, как моя мать на Богородице. Полагаю, так сеньор Ориоль старается забыть, что вокруг нас смерть и что мы ее так же ненавидим, как и она нас.
– Спасибо вам, но…
– Говори же, Кандела. Ты похожа на ожившего мертвеца. – Он улыбается, показывая несколько своих зубов, отреставрированных и отбеленных одним из чудесных американских составов, которые применяют те, у кого есть деньги. Мне будет его не хватать. Я почувствовала, что очень привязана к нему, хотя до нынешнего момента не отдавала себе в этом отчета. Он неловкий, вежливый, забавный, в меру развратный, терпимый и ласковый и заслуживает того, чтобы я без него скучала. Я часто критиковала своего шефа за то, что он занялся бизнесом, который унаследовал от своего отца, хотя в свое время получил диплом психолога, мог продать похоронное бюро и посвятить себя другим делам. Я не понимаю, как он может работать в таком месте, где невозможно применить на практике ничего из того, чему его учили в университете: мертвецам особенно не хватает душевных волнений. – А, я совсем забыл: Эдгар проиграл в суде…
– А… Понятно, – говорю я в некотором смущении; странно, но я иногда забываю, на каком свете я нахожусь.
– Прокурор разгромил его защиту.
Боже мой, я всегда забываю, что Эдгар адвокат.
– А, – тихо произношу я.
– Теперь он должен подготовить апелляцию и будет очень занят в течение нескольких дней, поэтому пока не появится здесь. Он позвонил и попросил вам передать, что дело о разводе Гадор на мази, ты знаешь, ему помогает местный адвокат, его партнер. Еще он сказал, что пытался договориться о встрече с Бренди, но с телефоном в клинике что-то не в порядке, а дома ее никогда не застать, поэтому ему так и не удалось с ней связаться.
– С Бренди? – недоверчиво переспрашиваю я. Может, я не так расслышала? Вероятно, перепутали человека, город и век. – Эдгар хочет переговорить с Бренди?
– Да, именно с ней. Почему бы нет, она ведь очень хороша, верно?
Бренди всегда говорила, что Эдгар – слабый тип, что он никогда ничего не добьется; а на ее языке это означало, что ему не удастся открыть текущий счет в банке, который бы не утек сразу, и что, когда он унаследует свою часть наследства матери, все потратит за пару недель, проиграв в бильярд. Когда моя сестра заявила это, ей было пятнадцать лет, а Эдгару двадцать и он жил напротив нас в большом доме, который по-прежнему стоит на том же самом месте, сопротивляясь времени. А Эдгар в свою очередь утверждал, что никогда не будет иметь ничего общего с девушкой, подобной Бренди, для него было совершенно очевидно, что единственный свадебный сюрприз, который такие девицы могут преподнести своему мужу, выходя замуж, – это чудненькую генитальную инфекцию, имеющую тяжелые последствия.
А меня Эдгар обожал. Так было еще до того, как он уехал в Мадрид, чтобы закончить учебу, начал работать в престижной американской конторе и почти исчез из нашей жизни.
– Да, с Бренди. Похоже, они друг другу нравятся. Это не должно тебя удивлять, Кандела. Ты ему много раз отказывала, а он теперь состоятельный и интересный молодой человек, а твоя сестра…
Интересная девушка, думаю я, но ничего не говорю.
– Да, кажется, они встречались несколько раз, чтобы обсудить дела Гадор. Она красивая, согласись, Кандела. Да, Бренди очень хороша. – Он одобрительно кивает головой.
Я только надеюсь, что Эдгар не ударит в грязь лицом.
– Да, она ничего. Когда я ее увижу, скажу, чтобы она позвонила Эдгару.
– Спасибо. Передавай привет.
Я рассматриваю труп отца девушки. Мы с шефом оба погружены в раздумья, наши глаза не отрываются от тела.
– Мы ничто, – произношу я со вздохом.
– Это ты, Кандела, потому что я дон Ничто, вот так ха-ха!
Я смеюсь над его шуткой и снова вздыхаю, теперь с большой уверенностью.
– Дон Хуан Мануэль, я решила оставить работу.
– Но, Кандела… – Он смотрит на меня в явном замешательстве. – Хочешь сказать, ты оставишь ее совсем? – Я киваю и с интересом разглядываю носки своих туфель. – Не знаю, что сказать, может, ты недовольна мной, я плохо с тобой обращался, сделал что-то не так? Что мне сделать, чтобы ты передумала? Должен признаться, ты меня удивляешь, Кандела.
– Нет, дело не в вас. – Я хватаю его руки и сжимаю их, не в силах сдерживаться. Раньше я ничего подобного не делала, и сама не знаю, почему так поступаю. – Вы замечательный человек, и думаю, такого шефа больше не найти. – Я ему улыбаюсь. – Но я устала от зрелища смерти. Не могу больше, правда, не могу.
– Понимаю. И что ты будешь делать?
– Сначала сдам все экзамены. Потом хочу отправиться в путешествие и пожить на то, что скопила, работая у вас.
– Куда ты поедешь?
– Возможно, в Бразилию, хотя пока еще не решила.
– Бразилия – молодая, громадная страна. Там еще осталось много совершенно диких мест.
– Я это уже слышала.
Глава 24
Мы решили отпраздновать дни рождения поздно вечером. Торжества были отложены до окончания моих экзаменов. Сегодня утром я сдала последний и чувствую себя так, словно в одиночку разгрузила в порту четыре грузовика с рыбой. Возможно, я не получу нужную оценку, но по крайней мере я сделала попытку и перенесла это испытание.
Теперь мы можем отметить все дни рождения разом и сэкономить на тортах, несварении желудка и взаимном недовольстве подарками. Мы задуем свечи, а потом уложим детей и отправимся в бар на пляже, который мне настойчиво рекомендовала Коли. Очевидно, она знакома с хозяином. Тетя Мари отнеслась к затее праздновать на пляже без особого энтузиазма, поняв, что мы не хотим с ней связываться и ей придется пропустить веселье, то есть большое количество бокалов, медленно выпитых под плеск волн. Она выразила мне свое недовольство, решив, что я автор идеи, – впрочем, она не слишком ошиблась, а я, радуясь, что все так славно складывается, ограничилась тем, что пожала плечами и выразила свое сожаление.
Я не могу не чувствовать удовлетворение при мысли, что мы обрекаем ее на вечер перед телевизором в компании моей матери и спящих детей Гадор в то время, когда сами будем развлекаться, танцуя босоногими на песке. Когда она страдает, я получаю огромное удовольствие: то, что ее бесит, меня веселит.
– Привет, бабушка. – Я вынимаю ключи из замочной скважины и вижу, что бабушка направляется в гостиную. – Я уже дома.
– Да. Конечно, – отвечает она, затем что-то бормочет себе под нос, как будто молится.
Я следую за ней в гостиную; она идет зигзагами, с опущенной головой, как весной прошлого года, когда все время искала какие-то монеты, которые, по ее словам, все постоянно бросали на пол.
– Бабушка… – Я хватаю ее за плечи, такие же мягкие и хрупкие на ощупь, как стебель увядшей гвоздики. – Я здесь, бабушка.
– Я поняла. Не обязательно объявлять два раза. Я не глухая, Кармина, и еще не слепая.
– Я не Кармина. Я Кандела. – Я беру в ладони ее лицо и поднимаю, заставляю посмотреть на меня.
– Я уже говорила, что сегодня с этими длинными волосами ты похожа на женщину?
– Хочешь, выпьем кофе со свежим молоком? – Я киваю в сторону кухни, ее любимый уголок в доме. – Уже полдвенадцатого, а я совсем без сил и хотела бы что-нибудь съесть, если ты составишь мне компанию. Три часа я сидела запертая в аудитории, сдавая экзамен.
– Сколько времени, ты сказала? – спрашивает она меня с заинтересованным видом, и ее морщинистое лицо оживает.
– Три часа подряд я занималась подсчетами, напрягала зрение и память. Последний час был особенно тяжелым.
– Три часа… – Похоже, она оценивает, что это означает для того, кто все это время продержал наготове ручку и, не отрываясь, смотрел на листы бумаги на столе. Она хмурится, погружаясь в свои размышления. – Три часа?
– Ты же слышала. – Я беру ее за руку и осторожно веду на кухню. Засыпаю кофе в алюминиевый кофейник, закрываю его, и после четвертой попытки мне удается зажечь огонь старой электрической зажигалкой. Я жду, пока кофе начнет закипать, достаю из морозилки несколько кубиков льда и распределяю их по двум массивным стеклянным стаканам зеленовато-мятного цвета. – Хочешь пойти со мной и проделать одну операцию?
– Какую операцию?
– Ну… – Я поворачиваюсь к ней спиной и начинаю копаться в шкафу, ища бумажные салфетки. Я чувствую себя ничтожеством, но надеюсь, что справлюсь, ведь не до конца же моей жизни сохранится это ощущение. Впрочем, вероятно, оно будет долгим. – Я продам несколько бриллиантов. Мы скажем управляющему ювелирного магазина, что они твои, а тебе их подарила твоя мать. Из того, что мне заплатят, я отдам тебе десять тысяч песет, чтобы ты могла купить побольше лотерейных билетов, согласна?
– Десять тысяч песет – это много. – Она смотрит на меня одобрительно, с кокетливой и игривой улыбкой, от которой вокруг ее губ образуется множество морщин. – Если нам повезет в субботний розыгрыш, мы сможем купить целый этаж «Корте Инглес».
– Не один этаж, а весь магазин.
– Здорово. – Она едва не хлопает в ладоши. – Откуда ты взяла жемчужины?
– Не жемчужины, а бриллианты. Я их нашла.
– А, понятно, – задумчиво говорит она, – когда-то за одну неделю я нашла три монеты по двадцать дуро, помнишь?
– Кажется, помню. Я как раз думала об этом несколько минут назад. Мы обе очень везучие и часто что-то находим. – Я наливаю кофе в ее стакан, добавляю немного обезжиренного молока и передаю ей в руки. Наблюдаю, как она сосредоточенно делает несколько глотков. – Но мы не должны говорить об этом ни тете Мари, ни маме, ни девочкам. Если это дойдет до ушей тети Мари, она сразу заявит, что это ее потерянные сокровища, хотя я и нашла их на улице, как и ты те монеты, и захочет забрать все себе. – Я делаю жест, выражающий озабоченность. – И тогда мы не сможем купить лотерейные билеты, а это был бы шанс, потому что они наверняка выиграют.
– Я никому ничего не скажу. Идем.
– Надо взять твое удостоверение личности и еще несколько документов, которые нам понадобятся, ладно, бабушка?
– Хорошо.
Глава 25
Управляющий ювелирного магазина «Картье» – высокий, худощавый, вытянутый тип, на лице которого застыла сияющая улыбка. Он одет в шикарный костюм, от него невыносимо пахнет каким-то дорогим парфюмом, и из-за этого я начинаю стесняться своей помятой хлопчатобумажной рубашки и штанов, на которых нет даже фирменного клейма. У меня возникает мысль, что я никогда не носила дорогую одежду и превратилась в одну из тех, кто не заботится о том, престижно ли он выглядит, и свободно идет по жизни, не утруждая себя необходимостью доказывать свое привилегированное положение, или, по крайней мере, к группе людей с известным происхождением и гарантиями на будущее.
Боже, я чувствую себя мелкой преступницей, которая ищет легкой жизни и крадет кошельки у бедных старушек. Я ощущаю, как мои внутренности сражаются друг с другом, меня сжимает ужас, вызывая тошноту и легкий озноб. Мы уже почти два часа сидим в ожидании в этом кабинете, и мои нервы напряжены, как электрические провода. Но я себе в тысячный раз повторяю, что гораздо лучше было прийти сюда, чем делать попытки продать камни на черном рынке, законов которого я совсем не знаю и куда вряд ли бы нашла входную дверь. Если мой план сработает, все будет замечательно: богатство будет легализовано, и мне не о чем будет волноваться. Останется только схватить деньги и убежать отсюда. А если не сработает – значит, не повезло. Впрочем, не в первый раз. В любом случае, отвечать по закону должна будет бабушка, а она слишком стара, чтобы ее посадили. Отправить ее за решетку в таком возрасте было бы злодеянием, превышающим проступок обвиняемой. В судопроизводстве должны учитывать возрастные рамки.
Меня могли бы обвинить в соучастии, но я ведь просто добрая девочка, которая сопровождает свою бабушку, страдающую старческим маразмом. Она вполне могла обнаружить камни под скамейкой в парке в каком-нибудь пакете. Или хранить их под кроватью со времен своей юности, заботясь о них больше, чем о своей чести.
Я напрягала мозги, пытаясь найти способ легализовать нежданно свалившееся на меня богатство. У меня было предчувствие, что я попаду в плохую историю, если постараюсь продать их здесь. Возможно, они были когда-то украдены и не принадлежали бедному Хоакинико Серьезному, пусть он покоится с миром. Но тогда меня схватит полиция, а это не многим лучше мести Антонио Амайо за то, что я забрала сокровище его любимого отца.
Я провела много дней, снова и снова перебирая варианты и взвешивая их плюсы и минусы. Я думала забрать свои сбережения, спрятать бриллианты в бутылку минеральной воды и полететь прямо в Рио-де-Жанейро, продать там камни, а потом разыскать отца. Но план, который сначала казался мне самым подходящим и наименее рискованным, тоже не был идеальным. Меня могут остановить, прежде чем я поднимусь на борт самолета или когда уже сделаю это. У меня нет никакого опыта международных перелетов, и я не знаю, трудно ли обмануть бдительность властей при перевозке драгоценностей из одной страны в другую. Кроме того, я пока не придумала, как смогу объяснить происхождение более полукилограмма камней, если у меня их обнаружат.
Нет, нельзя так рисковать, ведь я могла бы угодить в бразильскую тюрьму. И здесь кутузка не кажется слишком приятным местом, но не хочу даже думать, каково оказаться в ней в другой стране, вдали от домашнего очага и родного языка, моих традиций и законов – плохих или хороших, но по крайней мере знакомых, а это уже немало.
Потом я послушала рассказы Амадора, и это заставило меня выбрать вариант, который мне показался наиболее законным и наименее рискованным из всего, что мне пришло в голову. Судя по всему, его отец, ныне покойный дон Хоакинико – самый важный человек в моей жизни после моего отца, – никогда не занимался преступной деятельностью. После долгих размышлений и осторожных расспросов моего жениха я пришла к выводу, что бриллианты не должны быть ворованными.
В течение сорока трех лет этот славный человек был ювелиром. Он занимался мелочевкой, ходил от двери к двери, покупал и продавал, что мог, делал небольшие украшения из серебра и пристраивал то, что попадало в руки. С точки зрения Амадора, он был рабочим муравьем, всю жизнь трудился и копил деньги – полная противоположность типичному цыгану, чей образ в общественном сознании ассоциируется с бродягой.
Дону Хоакинико удалось обзавестись скромным домиком в поселке, и там он хранил маленький сундук в тайнике, как это было принято делать еще в докапиталистическую эпоху. Сундук был полон золотых медалей, ожерелий и браслетов, которые Хоакинико сам сделал в своей мастерской и о существовании которых знали дети покойного и, конечно, его супруга, хотя они не имели точного представления о размерах клада. После смерти отца сыновьям пришлось отбить всю плитку в доме, чтобы обнаружить сундук. Похоже, старик умер, не указав место тайника, или, возможно, он не хотел легко отдать его своим наследникам. «Мертвому – яма, а живому – хлеб» – эти слова любил повторять патриарх, как обычно, тряся головой, будто ему было не по вкусу, что так устроен мир.
Я проанализировала всю информацию, которую, ни о чем не подозревая, предоставил мне Амадор, и сделала вывод, что дон Хоакинико не был скупым, просто он обожал драгоценности, их блеск, совершенство, нетленность, уникальность. Возможно, все это лишь мое воображение, а на самом деле старого цыгана восхищало то, что он всегда мог протянуть руку и убедиться, что они на месте, и не торопился вытаскивать их при любой опасности. Он не доверял банкам, и мне следует поблагодарить его за это. Мне кажется, он правильно сделал, что не воспользовался их услугами. Он знал, что в мире есть вещи, которые всегда котируются и растут в цене, верил во власть золота, а не полагался на эволюцию и прогресс. Как и моя бабушка, он всегда руководствовался интуицией. История развивается такими зигзагами, заявляла бабушка еще много лет назад, что у людей часто нет времени хорошо сделать свое дело, ни даже сделать его плохо: одни приходят, другие уходят, одни строят, другие перестраивают. Никто не может предвидеть, как повернутся обстоятельства, и нельзя быть уверенным, что мы находимся в безопасности.
Дон Хоакинико, человек очень серьезный, собирал бриллианты в течение всей своей жизни – этот вывод я сделала, подвергнув логическому анализу его образ мышления, основываясь на характеристике, данной ему Амадором.
Камни попадали в его руки постепенно, один за другим. Он их скупал по низкой цене или обменивал на другие вещи и уже не продавал, а присоединял к горстке, которая росла, подобно ребенку, пока их не набралось столько, что возникла необходимость сделать для них специальный тайник – большую трость с прозрачной частью. Ее нельзя было разбить, но бриллианты можно было видеть, хотя никто другой об этом не догадывался. Таким образом, и днем и ночью он в буквальном смысле держал их под рукой. Они были у всех на виду, но замаскированы, и это оказалось самой лучшей гарантией сохранности.
А если все было совсем не так и я это выдумала?.. Какая разница, какое это может иметь теперь значение?
И хотя уже неважно, как все происходило на самом деле и как бриллианты оказались в трости Серьезного, я столько раз убеждала себя в «честном» происхождении сокровищ, что сама поверила в эту гипотезу, считая ее наиболее приближенной к правде. Я не настолько амбициозна, чтобы претендовать на познание истины – это было бы не только глупо, но и невозможно в данной ситуации, поэтому я утешала себя тем, что, возможно, достигла ее окрестностей. Я почти уверена, что никто – никакая личность или организация – не заявит права на камни и не сообщит, что их украли; я считаю, что их приобрели легальным или почти легальным путем и что никто не сможет оспорить факт, что моя бабушка является их законной владелицей. А эта милая старушка сейчас сидит рядом со мной в платье цвета морской волны и в очках с черепаховой оправой и с очаровательной улыбкой разглядывает элегантный интерьер кабинета управляющего, который в свою очередь натянуто улыбается ей в ответ.
Сеньор Харольдо Альбиньяна – так зовут управляющего – произносит перед нами небольшую речь, в которой касается вложений капитала, завещаний, злоупотреблений доверием престарелых, прав собственности и некоторых юридических уловок, которые я упустила из виду: оказывается, при желании у моей бабушки можно найти признаки воздействия наркоза или наркотиков, несмотря на ее здоровый вид, трезвый взгляд на вещи и выражение лица человека, который знает наизусть все гражданские и уголовные кодексы этой страны.
Я смеюсь про себя, и таким образом немного снимаю напряжение, в тисках которого все еще нахожусь: я знаю, что сейчас моя бабушка думает, какие цифры отметит в лотерейных билетах, которые купит, как только получит от меня десять тысяч песо, и только это не позволяет ей уснуть и дает силы выносить монотонный голос управляющего, который, похоже, вознамерился нас усыпить, прежде чем дать определенный ответ.
– Послушайте, молодой человек… – Неожиданно бабушка отделяется от кресла и принимается отчитывать «молодого человека», которому на вид не меньше пятидесяти пяти лет. Мое сердце на мгновение замирает, а потом пускается вскачь. Ведь я ее предупреждала, что ей не следует особенно выступать, а желательно вообще не произносить ни слова. – Скажите нам, можете ли вы их купить. Я просто хочу поменять свои драгоценности на ваши деньги. Вы прекрасно знаете, что в моем возрасте будущее уже кажется неясным, и у меня нет желания зря тратить время. Если мы вам не подходим, мы можем отправиться в другую ювелирную лавку, пусть даже она будет не такая модная, как ваша, правда, Кандела?
– В-в-в-ерно, – выговариваю я, почти рыдая, не в силах нормально дышать.
Дон Харольдо впервые смотрит на бабушку без своей характерной гримасы-улыбки, словно прилипшей к его тонким губам. Даже я разглядываю ее с интересом, пораженная ясностью изложения и способностью скрывать настоящие мысли глубоко в седой голове. Если этот тип не даст нам быстрый ответ и разум бабушки снова придет в обычное – то есть неустойчивое состояние, весьма вероятно, что тете Мари придется извлекать нас обоих из застенков местного комиссариата.
– Это большое количество бриллиантов, вы должны понять, что нам необходимо принять надлежащие меры, сеньора. – Управляющий вытирает вышитым платком несколько капель пота над бровями.
– Это все, что сорок лет назад я получила после смерти матери, а она их получила от своей матери, – уверяет бабушка, разглядывая резные ножки стола управляющего. Отлично, бабуля, продолжай в том же духе! – Я хотела тоже оставить их своей дочери, но решила, что уже пришло время их продать и потратить деньги, которых нам всегда не хватало.
– Нам необходимо удостовериться, что эти предметы не были похищены и за ними не стоит какая-нибудь темная история.
– Я считаю это правильным. Вы хорошо поступаете, молодой человек. Но я только что объяснила, что они достались мне от матери. Я не знала, что для подтверждения права на владение драгоценностями необходим нотариальный акт. Во времена моей матери дела так не делались, верно, Кандела?
– Вам не обязательно иметь такой акт, но какой-то документ нужен. – Мужчина вздыхает, и его глаза начинают бегать. – При таком количестве и таком весе камней это действительно необходимо. Хотя вы говорите, что ваш дед был владельцем ювелирной мастерской, и мы знаем, что в те времена эти дела оформлялись совсем не так, как в наши дни, все же нужно понимать, что речь идет о слишком большой ценности. – Управляющий дышит с трудом. – Вы должны будете подписать несколько документов, в которых подтвердите, что несете полную гражданскую и уголовную ответственность на случай, если камни будут официально затребованы полицией, судебными инстанциями или Интерполом. – Он рассматривает карточку социального страхования моей бабушки, ее удостоверение личности, свидетельство о вдовстве и сберегательные книжки с жалкими накоплениями – все, что я смогла принести с собой. – По-моему, все документы в порядке. Но вам придется подписать обязательства, о которых я только что упомянул.
– Я не возражаю, а ты, Кандела?
– Н-н-н-ет, конечно, нет.
– И сколько вы нам дадите?
Приступая к решению этого вопроса, сеньор Альбиньяна безуспешно пытается откашляться и выглядеть менее заинтересованным, хотя понятно – он вот-вот совершит покупку, которая станет большой удачей для его фирмы и для него лично. Я внимательно смотрю на него, и у меня возникает подозрение, что я не единственная воровка в этой комнате, что он тоже вырывает кошельки у старушек, которые не могут догнать грабителя. Теперь пришла его очередь извлечь выгоду из некомпетентности клиентов и получить жирные комиссионные от сделки, которые позволят ему расплатиться за ипотеку или купить шубу из соболя для своей любовницы.
– Да, во сколько вы сможете их оценить? – в свою очередь спрашиваю я голосом, который еще не набрал полную силу и гасится где-то трахее.
– Что же, я не буду вам лгать. Их стоимость на рынке будет в двадцать или тридцать раз больше, чем я могу предложить вашей бабушке.
Я открываю рот, не в силах сдержать удивление, но управляющий поднимает руку, стараясь меня успокоить и все объяснить.
– Вы должны иметь в виду, что я сам смогу использовать только два или три камня, остальные нужно будет заново огранить, потому что они обработаны так неумело и непрофессионально, что их нельзя применять для изготовления в ювелирных украшений, если оставить в нынешнем состоянии. Процесс огранки очень сложный и дорогостоящий, и, возможно, будут большие потери, поэтому стоимость нельзя определять по чистому весу бриллиантов. Однако то, что мы потеряем в весе, мы выиграем в красоте и совершенстве, – объясняет он со своей прежней улыбкой.
– Тогда в чем же проблема?
– Я только что сказал, сеньорита, что это длительный и очень дорогостоящий процесс, но он необходим, если мы желаем получить обработанные бриллианты. Потом они будут впаяны в золото или платину. Прибавьте плату за дизайн и стоимость благородных металлов, и так далее, и так далее. Никто не покупает бриллианты в таком виде, как принесли вы. Я могу вам предложить… – Он наклоняется над маленьком листком бумаги с названием его ювелирной фирмы в верхнем правом углу и пишет цифру ручкой с золотым пером, потом двигает записку ближе к моей бабушке. – Поймите, мы лишь посредники, и у нас отличная международная репутация. Не думаю, что кто-нибудь даст вам такую же цену, по крайней мере в нашей стране.
Моя бабушка поднимает листок и подносит его к глазам, но я уверена, что она не может разобраться в цифрах дона Харольдо. Тем не менее она несколько секунд смотрит на них через стекла очков. Потом пожимает плечами и отдает мне листок.
– Это все, что вы можете ей дать? – цежу я сквозь зубы.
– Да, и ни одной песеты больше, ни одной меньше. Или ни одного евро больше, ни одного меньше, если вам будет угодно. Я сегодня же выпишу вам чек, если ваша бабушка подпишет все документы и, конечно, если она согласна с условиями сделки и предложенной суммой.
– Вы можете выписать чек на предъявителя? – спрашиваю я.
– Если ваша бабушка пожелает. Однако я бы вам порекомендовал этого не делать, а если все же решитесь, примите меры предосторожности. Имейте в виду, что, если вы потеряете чек, нашедший его обзаведется приличной суммой в звонкой монете. Как в лотерее. Останется только сожалеть о потерянном.
– Да-да, – отвечает бабушка; потом хватает мою руку и шепчет мне на ухо: – Хорошо, но нам пора, Кандела, я хочу писать.
– Позвольте еще раз предупредить, что чек должен как можно быстрее поступить в банк. Очень опасно гулять с чеком на такую сумму.
– Не беспокойтесь, – я одариваю его доброй и искренней улыбкой. Не каждый день получаешь столько миллионов, поэтому не стоит скупиться на проявления симпатии.
Глава 26
Когда мы выходим на улицу, после того как бабушка сходила в туалет, я снова начинаю нервничать. Чек положен в кошелек на шейном шнурке и спрятан на груди под бюстгальтером, его шершавый край царапает мне сосок, а это не слишком приятное ощущение.
Хитрый тип, который только что обобрал нас, совершив самую блестящую сделку в своей жизни, был так любезен, что вызвал нам такси, и сейчас он сопровождает нас до машины и открывает дверцу.
– Сеньоры… – говорит он нудным голосом, пожимая нам руки. – Было очень приятно.
– Нам тоже. – Я награждаю его рукопожатием, от которого его пальцы хрустят.
– До следующего раза, молодой человек, – произносит бабушка.
Думаю, что самым разумным было бы отправиться прямо в банк и положить деньги на свой счет. Я проверяю время на часах и… – черт возьми! – все банки закрылись четверть часа назад. Боюсь, мне придется держать чек до открытия банка завтра утром, и тогда у меня будет ожог в районе соска. Возможно, лучше оставить чек дома, не знаю. Мы потеряли много времени с доном Харольдо, хотя я начала вести с ним переговоры много дней назад. Вот наказание, думаю я, такова уж моя судьба.
Я делаю раздраженный жест. Впрочем, самое главное, у меня теперь есть деньги. Все в порядке, и я могу спокойно спланировать свою жизнь. Так на что же мне жаловаться? Я полечу в Бразилию, разыщу там отца, а если даже мне не удастся его найти, я позагораю, спокойно поразмышляю и решу, что делать в будущем. У меня недостаточно денег, чтобы до конца своих дней отращивать задницу, лежа на диване, или наблюдать, как над террасой проплывают облака, но все же с данного момента моя жизнь станет гораздо слаще, потому что теперь есть фундамент, на котором можно начать строить все что угодно. Возможно, я поделюсь с Амадором, если ему это будет по вкусу, тем более что у него есть больше прав, чем у меня, наслаждаться этим подарком, а кроме того, он мужчина, которого я люблю.
Я больше никогда не буду заниматься трупами и страдать от зловония мертвых тел. Теперь я почти свободна, и меня интересует жизнь как сложная система, ее нестабильность и процессы накопления. Чем больше элементов находится во взаимосвязи и зависимости друг от друга, тем сложнее система. Например, мой дом, моя семья, мои влюбленности и мой разум – все это моя элементарная система ежедневного выживания. Да, мне интересно жить, и это единственное, о чем я думаю сейчас.
Я достаю десять тысяч и отдаю бабушке, которая быстро хватает их и прячет в сумку. Я сообщаю таксисту адрес нашего дома.
– Кандела, не знаю, какое у тебя мнение, но мне показалось, что сеньор, который дал нам деньги, похож на мошенника, – тихо говорит мне бабушка.
– Ну, можно и так выразиться.
– Мне не нравятся мошенники, Кандела, – продолжает она, крепко вцепившись в свою сумку руками со вздувшимися венами. – У меня был поклонник, который занимался мошенничеством, но я ему отказала, и правильно сделала. Это было до того, как я вышла за твоего дедушку. Гораздо раньше.
– Он занимался мошенничеством? – рассеянно спрашиваю я.
– Да, но имел дело не с деньгами, как этот сеньор из магазина.
– А с чем?
– Он выступал как фальшивый свидетель, – сообщает она мне таинственным голосом. – Когда шел суд, он предоставлял ложные свидетельские показания. Ему за это платили. Думаю, он не слишком хорошо закончил.
– Меня это не удивляет.
– Кандела, если хочешь, иди домой, – говорит она мне, когда мы вылезаем из машины и я расплачиваюсь с таксистом. – Я куплю лотерейные билеты, а потом пройдусь по «Корте-Инглес», чтобы подышать воздухом.
– Ты хочешь дышать воздухом в «Корте-Инглес», бабушка?
– Да, кондиционированным воздухом. Сейчас такая жара, что мне не хочется сидеть дома. Передай своей матери, чтобы она не оставляла мне еду, я съем мясное филе в каком-нибудь ресторане. Официанты здесь меня уже знают и всегда хорошо обслуживают. – Она останавливается, на секунду на что-то отвлекшись. – Странно, но у меня разыгрался аппетит, а насколько я помню, когда такое случилось последний раз, я еще не была старухой. Кандела, может, это звучит дико, я чувствую себя как тогда! – говорит она тоном заговорщика, как будто признается, что тоже когда-то была молодой, хотя это и было очень давно.
Глава 27
– … Я сказал, что она до-дождется, и уж тогда ей мало не покажется, шлю-шлюха и сви-сви-нья… – Складывается впечатление, что Антонио заикается, но, немного прислушавшись, я начинаю понимать, что это не заикание. Просто у него сильный акцент, свойственный многим цыганам юга Андалусии, Каталонии, да еще и проблемы с произношением, вызванные сильным опьянением, так что странные звуки, которые он издает, вызывают ассоциацию с музыкальной установкой, когда игла буксует на виниловой пластинке.
– Похоже, вы не слишком хорошо жили, да? – комментирую я его слова со свойственной мне проницательностью, испытывая безбрежный страх, который буквально скручивает мои внутренности.
– Жи-жизнь, как у ско-скорпиона, вцепившегося в пе-петуха. Она была скорпионом, а я петухом, – с полной серьезностью объясняет мне Антонио Амайо. – Я до-должен был отвернуться, когда впервые увидел Лолес. Ушла, и черт с ней.
Пусть ей пусто будет в Кадисе вместе с ее семьей. – Он ненадолго замолкает, глядя в звездное небо над пляжем. – Даже разогреть в постели не могла. Ни на что не годна, проклятая. Но лучше было ее не трогать – крепка на руку. А потом я получил фото. – Он засовывает руку в задний карман брюк, достает что-то и показывает мне фотографию, которую мы с Бренди вырезали из видео с Виктором и анонимно послали с указанием имени и адреса нашего бывшего свояка. – Она во всей красе трахается с каким-то типом. Если бы она уже не у-уехала, когда я получил это по почте, я бы содрал с нее все волосы и сварил бы ее в супе. Я навестил этого петушка, но даже пальцем не тронул. Извини, что такое дерьмо тебе рассказываю. Я хотел выдрать его поганый член, чтоб не повадно было… Понимаешь?
– А-а-а. Ну конечно, – говорю я, чувствуя как мои ноги становятся ватными от идиотского страха.
Антонио говорит охрипшим от перепоя голосом, а его кадык медленно ходит вверх и вниз, и я начинаю подозревать, что у него что-то засорилось в трахее. Он рассказывает, как отправился с визитом к Виктору, вынул наваху и сообщил, что намеревается прикончить его прямо на лестничной площадке, а мой бывший свояк подскочил на месте и принялся стонать, что никогда не трахал сеньору с такой фамилией. Рыдая, он схватил фотографию и поклялся, что на ней мать его сына, что они поженятся, как только он получит развод от первой жены, матери других детей, что они поселятся в Сантьяго-де-Компостела, потому что она учительница и ее направляют в Галисию. В подтверждение своих слов он громкими криками вызвал на лестницу любовницу, которая все это время находилась в бывшей квартире моей сестры Гадор. Потом он предложил цыгану удостовериться, что это именно та женщина, что на снимке с выставленной задницей, что, как он уже говорил, не знает жену Антонио и, более того, никогда бы себе такого не позволил.
После появления второй супруги Виктора Антонио немного успокоился, убрал наваху, сказал, что «они похожи, как две капли дерьма», и ушел. Но теперь он уже не так уверен, что на фотографии не его Лолес. Иногда ему кажется, что это она, а иногда – совсем не она. Эти сомнения очень его мучают, тем более когда он думает, что мог бы разделаться с ними, а сам не тронул и волоса на их головах.
Антонио заканчивает рассказ о своих бедах, зажигает сигарету, постукивая ногой по песку. Мы оба молча переводим взгляд с небесного свода на линию, где он сливается с темной водной массой.
Непонятно, как я могу оставаться здесь, рядом с типом, который был основным персонажем моих кошмаров с того самого момента, как мне удалось завладеть бриллиантами его покойного отца, – я взяла их как посмертные чаевые.
Я спрашиваю себя, как мне удается внешне сохранять хладнокровие, находясь рядом с ним, и могла бы ответить, что зато повышается температура внутри. Если принять во внимание, что температура моей крови такая, как будто ее вынули из морозилки, а внутренние органы как будто побывали в духовке с температурой в двести градусов, то можно сказать, что в среднем у меня комнатная температура.
Маленький пляж, на который нас с сестрами привезла Коли, больше в два раза лаборатории в похоронном бюро сеньора Ориоля, но не стану утверждать, что здесь намного веселее. В одиннадцать часов вечера единственными посетителями оказались мы и Амадор в сопровождении своего брата Антонио, который был расстроен из-за разрыва с Лолес. Тип, который носит поверх брюк пояс, служащий для того, чтобы держать нож всегда под рукой, вряд ли может оказаться чувствительной личностью со склонностью к депрессиям, но тем не менее Амадор настаивал. По его словам, Антонио нужно развлечься и забыть прошлое.
Нужно привыкать к внешнему виду того, кто может стать моим свояком, но все же при его появлении меня пробрала дрожь, то есть налицо были все признаки панического страха, и Антонио поинтересовался, не от него ли меня трясет. Я заявила, что хотя я не робкого десятка, но он вызывает у меня некоторые опасения, на что Антонио рассмеялся, показав мне полный арсенал волчьих зубов с признаками кариеса, которым в моих снах был хорошо знаком вкус человеческого мяса. Его познакомили со всеми присутствующими, но Антонио дал понять, что только ко мне испытывает симпатию, и, выбрав меня на роль слушательницы и подруги, утащил на пятьдесят метров от всех остальных, пьющих коктейли и явно скучающих под меланхоличные звуки музыки.
Я прижимаю сумку к груди, держу ее обеими руками, обнимая, как маленького ребенка. До этой встречи с Антонио мне не казалась абсурдной идея носить в бюстгальтере чек на предъявителя на много миллионов, который завтра как можно раньше нужно отнести в банк, чтобы моя жизнь в будущем приняла приятный оборот и была вполне счастливой.
Я не отважилась оставить чек в спальне или спрятать в доме, потому что с тех пор как я разбогатела, мною овладела паранойя: я никогда не доверяла тете Мари, а этот вечер мне показался неподходящим моментом, чтобы менять о ней свое мнение. Она могла что-нибудь вынюхать, как обычно, и по нелепому стечению обстоятельств натолкнуться на мой чек и сразу им завладеть, оставив мне мои пустые чемоданы, неуверенность и разочарование.
Но все же теперь я понимаю, что прийти сюда с ним – не самая лучшая идея.
Я вижу, как блестит в лунном свете нож Антонио, и мое тело сводит судорога ужаса. Если бы этот тип знал, что у самого моего сердца спрятано такое количество презренных денег, на самом деле являющихся наследством его отца, он не стал бы мне улыбаться, как сейчас.
– У меня гнилая кровь, Кандела, и все из-за этой хи-хитрой твари, которая сбежала в Кадис. Жаль, теперь мой нож ее уже не до-достанет.
К нам приближается Гадор. Она бледна, и лунный свет, отражаясь в морской воде, придает ее лицу грязно-перламутровый оттенок. Я мысленно от всего сердца благодарю сестру за то, что она неожиданно прервала наш разговор, и в то же время чувствую тяжесть в усталой груди.
– Привет, – бормочет Гадор слабым голосом, останавливаясь передо мной. Ее платье из желтой тафты подчеркивает размеры ее воспаленных грудей и округлость бедер. – Кандела, я еду домой, мне по телефону вызвали такси. Я устала, прошлой ночью ребенок не дал мне сомкнуть глаз. Через час мама должна дать ему рожок, но лучше я покормлю его грудью, – говорит она мне на ухо. – И потом, это не такой уж большой праздник. Я даже не знаю людей, с которыми мы его отмечаем, и я уже привыкла не гулять по ночам, и мне не стоит менять привычки, – заявляет она, раздраженно поглядывая на моего соседа, который явно не замечает ее намеков.
– Как хочешь… – Я смотрю на нее и ласково улыбаюсь. – Я провожу тебя до такси.
Я беру свою сумку и прошу прощения у Антонио, который меня заверяет, что останется и подождет, пока я вернусь, чтобы продолжить наш разговор.
– Не выношу акцент твоего жениха, а тем более его братца, – говорит Гадор, когда мы уходим, оставив Антонио одного. – Им бы следовало подстричься и купить приличную одежду. Наверняка они перевозят наркотики, – устало бубнит она.
– Нет, они этим не занимаются, Гадор.
– А по-моему, занимаются.
– Хорошая новость, сестренка: Виктор переезжает в Галисию.
– Кто тебе сказал?
– Птичка нащебетала.
– Что ж, попутного ветра. Не хочу больше его видеть никогда в жизни.
Мы пересекаем пляж, не говоря больше ни слова и держа туфли в руках, пока не добираемся до тротуара набережной. У нас за спинами слышен смех, мягкий плеск волн о песок и монотонная мелодия, которая доносится из бара. Начинают прибывать новые посетители. Возможно, Коли права, и это место оживает после полуночи.
– Гадор, сделаешь мне одолжение? – спрашиваю я, останавливаясь перед старым домом, превращенным в летний пансионат, который сейчас закрыт на ремонт, хотя и выглядит вполне ухоженным. Я достаю из бюстгальтера мое сокровище и перекладываю в сумку, в отделение с молнией. Я стою спиной к Гадор, которая в ожидании такси изучает улицу, вынимаю кошелек, перекладываю его в задний карман джинсов, закрываю сумку и протягиваю ее сестре. – Отвезешь домой мою сумку, ладно? У меня там документы, и я беспокоюсь, что могу их выронить на пляже. Такая морока получать новые, когда потеряешь или украдут. Положи сумку ко мне в шкаф. Кошелек я взяла.
Сестра соглашается с рассеянным и усталым видом, думая о чем-то своем, возможно, о неверном муже. Или о своих двух детях, которых теперь ей придется растить и учить в одиночку. Она хватает мою сумку, вешает на плечо вместе со своей и поднимает руку, увидев, что из-за угла появилось такси.
– Наверное, вы к нам? – спрашивает она водителя, потом открывает заднюю дверцу машины и устраивается внутри. – До завтра. И следи за Бели, чтобы она не напилась: она уже заказала два пива, а раньше этого не делала.
– Ладно, до завтра. Постарайся отдохнуть. – Я закрываю дверцу и машу рукой. – Не потеряй мою сумку.
– Перестань, разве я когда-нибудь что-нибудь теряла?
У меня отлегло от сердца.
Глава 28
Я возвращаюсь к остальным, но ко мне приближается Антонио и опять отводит меня в наш уголок, заставляет сесть на деревянный настил, и продолжает свой монолог тихим и хриплым голосом, как будто не было никакой паузы в нашей беседе.
Я чувствую себя немного спокойнее, переложив чек в безопасное место, но присутствие Антонио по-прежнему вызывает спазмы в моем животе. У него длинные, волнистые волосы до плеч, рост примерно сто восемьдесят сантиметров. Он широк в плечах, у него натренированные мускулы, а тело такое упругое, что его брюки в районе промежности сильно потерты, поэтому материал стал прозрачен, как папиросная бумага. Иногда я искоса поглядываю на это место, боясь, что слабая ткань разорвется и вот-вот покажется одно из его яиц, весьма заинтересованных в нашем разговоре.
Бабушка говорит, что моя мать никогда в жизни не остановилась, чтобы подумать, поскольку у нее на это не было времени, она всегда ходила с животом, и если бы задумалась, сразу бы разрыдалась. В отличие от моей матери, я всегда останавливаюсь, чтобы поразмышлять и проанализировать все, что приходит на ум, даже если это происходит не в самый подходящий момент и надо торопиться. Сейчас, например, я стараюсь представить, какой должна быть женщина, способная ударить цыгана ростом сто восемьдесят сантиметров, вооруженного ножом с двойным лезвием и очень нервного. Мне кажется, что Лолес – великая женщина. Я ее помню по похоронам. Тогда вся родня явилась в похоронное бюро дона Хуана Мануэля, завывая, как души, которых не желает забирать к себе даже дьявол. У нее был свирепый взгляд, выпуклые глаза, которые не останавливались ни на одном предмете больше чем на секунду, и руки, похожие на две испанские гитары. Она на десять сантиметров выше своего мужа, а волосы, подколотые на затылке черными заколками, похоже, были слишком стянуты и сдерживали ее, как ошейник. Она так рыдала, что, казалось, у нее в каждом глазу по ведру талой воды.
Я украдкой поглядываю на Антонио и говорю себе, что, вероятно, они были потрясающей парой, хотя сами того не осознавали.
Он мне рассказывает во всех деталях о своем неудачном браке с Лолес, о работе в театре фламенко в окрестностях Бенидорма, о старых проблемах с выпивкой (которые, кстати, могут у него возникнуть вновь, судя по тому, с каким удовольствием он допивает пятый стакан виски), о надежде прославиться в качестве певца, взяв псевдоним Безумный Кот, и таким образом отвоевать себе место у богов фламенко. Он питает слабость к журналу «Космополитен», который лучше других освещает вопросы секса. Потом он прибавляет, что такая шикарная девушка, как я, должна отправить его брата Амадора подальше, потому что у того больше подружек, чем дней в году.
– Но ведь сейчас, насколько я знаю, он встречается только со мной. – Я удивленно смотрю на него, и мне вдруг начинает казаться, что он мой единственный друг. – Ведь так?
– Конечно нет, не валяй дурака. – Он продолжает курить и закрывает глаза, глотая дым. – Ну-ка, попробуй это, затянись.
– Нет, спасибо…
– Твою мать, ты туда же, тоже ломаешься. Не будь такой же злой и суровой, как Лолес. Попробуй, что тут такого…
– Нет, у меня болит голова.
Антонио улыбается, как будто я только что назвала болезнь, от которой у него есть подходящее лекарство.
– Попробуй, я положил туда немного аспирина, – шутит он.
Я хватаю самокрутку дрожащей рукой, сжимаю между пальцами обслюнявленный кончик и нехотя подношу к губам. Я притворяюсь, что курю, но на самом деле лишь разгоняю дым, чтобы он окутывал мою голову и Антонио не понял, что я его не вдыхаю. Темнота играет мне на руку, и курево, которое производит его мать, не кажется таким противным.
– Ты должна праздновать, ведь у тебя возраст Христа.
– Возраст Христа? – Я смотрю на него с возмущением. – Но мне исполнилось только двадцать шесть лет!
– Да, верно, во-возраст Христа, когда ему было двадцать шесть лет. – Он берет сигарету пальцами с потрескавшейся кожей. – Только подумать, к моему возрасту Христос был уже три года мертвым. Черт возьми, как представлю, аж дурно.
– Объясни, какие такие подружки есть у твоего брата? – спрашиваю я его жалобным голосом.
Я поворачиваю голову к группе, собравшейся у пластмассового стола недалеко от стойки бара. Амадор уже поднялся на ноги и теперь чувственно покачивается в ритме регги. Он приближается к Бренди и делает жест, приглашая ее на танец, но моя сестра отрицательно качает головой. Тогда Амадор направляется к креслу, где отдыхает внушительный зад Колифлор. Неуклюжая корова принимает приглашение, сразу вскакивает с места и отдается во власть его движений. Презренная предательница и лгунья, если бы я могла, я бы прикончила на месте свою старую подругу. Она, конечно, старая, но я не уверена, что подруга.
– Этой ночью он был с девицей в золотом парике. У нее все было золотое, даже зубы. Буфера, ка-каких я еще не видел, а ее грудями можно подмести пляж, – шепчет Антонио. – Так что тебе лучше уйти и не возвращаться, потому что у вас все закончится.
– Хочешь сказать, что Амадор меня обманывает? – Я потрясена, хотя не происходит ничего такого, о чем бы я никогда не слышала.
– Нет, не обманывает, совсем нет. Просто изменяет.
– Но я считала… что мы с ним… считала, что, возможно…
– Считала, что поженитесь?
– Спрашиваешь, хотела ли я выйти за него? – спрашиваю я. Теперь у меня такое же поганое настроение, как у Антонио и Гадор.
– Да, я об этом, черт возьми, но-но лучше успокойся!
Я замечаю, что по моим щекам струятся слезы, они текут медленно, как будто исследуют мою кожу. Мне кажется, мое лицо – это запутанный лабиринт, который нужно пройти осторожно.
– Твой брат настоящий сукин сын, Антонио.
– Конечно, он начал трахаться, когда был еще ребенком. – Он смотрит на меня, его глаза налиты кровью, и мне хочется сменить тему и желательно место под луной.
– Извини меня, я хочу с ним переговорить.
– Говорить, говорить… – повторяет Антонио, качая головой и становясь менее болтливым, по мере того как процент алкоголя в его крови увеличивается. – Понимаешь, никто не мог его удержать. Как только он впервые залез под юбку. Говорить, говорить… бла-бла-бла! Для чего болтать? Даже дерьмо важнее разговоров.
Я встаю. Антонио поднимает руку, в которой сжимает стакан виски со льдом, и делает жест: он позволяет мне отправиться на поиски Амадора и даже не собирается мне препятствовать.
Глава 29
– Эй, детка, что с тобой? Тебе не нравится мой подарок на день рождения? – Амадор игриво улыбается и гладит коралловое ожерелье, которое он мне подарил.
Я снимаю его руку с моего горла и смотрю прямо ему в глаза, стараясь не моргать.
– Антонио говорит, что ты гуляешь с другими женщинами.
– Ха-ха-ха… Гуляю?
– Да, так он говорит. – Я тоже улыбаюсь.
– Гуляю? Кто гуляет в наши дни?
– Ты. – Я чувствую себя неуверенно и довольно глупо.
– Я не гуляю с женщинами, Кандела. Я просто с ними сплю.
– Ты спишь с женщинами? – Мне трудно дышать.
– А что ты хотела? Было бы хуже, по крайней мере для моей матери, если бы я занимался этим с легионерами, верно?
– Ты спишь с другими женщинами?
– Знаешь, Кандела, не все так просто, но, в общем, да. – Он подносит стакан к губам, заметно, что он несколько возбужден. Как и Бели, он не привык пить, поэтому искусственное веселье скоро сменится тошнотой и гулом в голове. – Нужно кое-что иметь между ногами, чтобы чувствовать себя уверенно. Такая теперь жизнь, понимаешь?
– Да, понимаю.
– А если имеешь, стоит извлекать из этого пользу. В общем, я нравлюсь женщинам, думаю, в этом нет ничего плохого, верно?
– Но ты говорил, что любишь меня.
– А что я должен был сказать? Я был на тебе, а ты подо мной, и нас связывало что-то очень трогательное, по крайней мере мне так казалось. Мы занимались любовью, и что ты хотела услышать, что у тебя пахнет изо рта?
– А действительно пахнет?
– Нет, конечно нет, Кандела.
– Понятно.
– Сейчас все так поступают.
– А я нет, Амадор. Со мной ты никогда в жизни больше не ляжешь в постель, и… и… – Я нервничаю и не могу подобрать оскорбление, которое он заслуживает, или хотя бы выразить свое презрение. – И пусть твои мертвецы перевернутся в могиле, если я вру, – произношу я, целуя пальцы на правой руке, как научилась делать у Антонио.
– При чем тут мои мертвецы, красотка?
– Пусть мои мертвецы тоже перевернутся, мне все равно, красавец. – Я стараюсь вести себя, как королева во время официального визита за границу. – Прощай. Не хочу больше тебя видеть.
– Но, Кандела…
Я поворачиваюсь, не обращая внимания на его слова. Впрочем, Амадор не из тех, кто будет уговаривать женщину, поэтому он сразу замолкает. Я иду к сестрам и подруге. Искусственное освещение бара делает их фигуры похожими на голограммы.
Я самая глупая женщина, а в эти мгновения еще и самая несчастная. Я утешаю себя тем, что, возможно, бабушка права: никогда не стоит бегать за мужчинами, потому что они как рейсовые автобусы: если пропустишь одного, через пять минут придет другой. Надеюсь, у следующего будут глаза Амадора, мягкость и гибкость его тела. Теперь главное не опоздать и попасть к нему вовремя.
Лучше, чем когда-либо, я понимаю Гадор и с горечью осознаю, что мои слова могли ее только раздражать, а не утешать или помочь забыть Виктора.
Да, жизнь по-прежнему вредна для здоровья. Ладно, все, успокоилась. У меня ведь есть мои деньги, верно? У меня есть утешение. Что касается моего бывшего жениха, постараюсь залечить душевные раны, вспоминая, сколько радости мне доставил Амадор, ведь никто не сможет изменить то, что уже было. А все было совсем неплохо.
И потом, потерять любовь – не то же самое, что потерять жизнь. По крайней мере, так говорят по телевизору, который я иногда смотрю.
– Эй, Кандела, иди сюда! Присоединяйся к нам! – кричит мне Колифлор, одной рукой держа за талию Кармину, а другой прижимая к своему бедру друга, набравшегося в баре.
Глава 30
В три часа утра Антонио заявляет, что у него такое ощущение, будто ему в грудь вбили гвозди. Он сильно потеет и время от времени начинает плакать, но даже его слезы и пот пахнут виски. Чарри, друг Коли, посадил Антонио недалеко от стойки бара в полосатый зелено-белый шезлонг и время от времени хлопает его по плечу и бормочет, что «пьяницы благословенны, потому что дважды видят Бога».
– Ты готов, приятель, – говорю я Антонио. Я подхожу и сажусь рядом с ним. Он совсем лыка не вяжет. Это вполне логично, если учесть, с какой скоростью он поглощал спиртное.
– Д-д-да, – с трудом произносит он, еле ворочая языком. – Но-но все равно я заявляю, что настоящее золото не падает в цене.
– Не сомневаюсь, не сомневаюсь. – Я оглядываюсь. Здесь стало более оживленно, но нам уже все равно. – Как ты, Антонио?
– П-п-потрясающе.
– Ты сможешь один добраться до дома? Ты не на машине?
– Не-е-ет. Меня привез Амадор. – Он наклоняется влево, но я вовремя хватаю его за рукав, не давая упасть на землю.
– Амадор уже давно уехал. Мы вызовем тебе такси, ладно?
– Лучше за-закажем еще виски.
– Не стоит, когда вернешься домой, мама тебе нальет рюмку перед сном. Можешь пить дорогой виски, ведь ты унаследовал богатство отца.
Антонио округляет глаза, быстро их закрывает, и тело его расслабляется, как будто он только что упал с большой высоты и потерял сознание.
– Эй-эй-эй! – Я хлопаю его по щекам, стараясь привести в чувство. Живые существа иногда меня пугают своей уязвимостью и заставляют чувствовать свою несостоятельность. Я. бы не смогла работать врачом или медсестрой, как Коли. Мне бы это ужасно действовало на психику.
– Успо-успокойся уже… – Антонио снова поднимает веки, и кажется, что его зрачки исчезли или, вернее, растворились в нескольких стаканах спиртовой мути. – У Лолес было лицо, из-за которого можно было умереть, и зад, ради которого стоило жить.
– Что он говорит? – Ко мне подходит моя сестра Кармина, притворяясь, что испытывает филантропический интерес к моему новому другу.
– Что у его жены было лицо, из-за которого можно было умереть, и зад, ради которого стоило жить. Думаю, он хочет сообщить, что у нее было худое лицо, а зад совсем наоборот.
– Было? Она умерла?
– Она уехала в Кадис со своей семьей. Бросила его, они не слишком хорошо жили.
– Это происходит со всеми. Такова жизнь…
Я согласно киваю.
– Ай-ай-ай, ка-как больно!
– В чем дело? – Кармина склоняется над Антонио.
– Черт возьми, больно! – Антонио показывает на свои ноги.
– Что?
– Чертовы ботинки…
– Что с твоими ботинками? – интересуюсь я.
– Дерьмо, а не ботинки! Больно!
– А, ботинки жмут! – делает вывод моя сестра. – Надо же, какой чувствительный. Черт, как изысканно, как его зовут, Кандела? Где он живет? Кем, ты говорила, он работает? Он не так уж плох, тем более недавно получил наследство.
Я медленно качаю головой.
– Нет, Кармина. Он сейчас уедет. А ты выброси из головы то, о чем подумала. Ни к чему. – Я направляюсь к стойке бара, не отрывая взгляда от моей сестры и продолжая отрицательно качать головой. – Чарри! Вызови такси! Сейчас же!
Глава 31
Мы сажаем Антонио в такси и платим водителю заранее, добавив приличные чаевые, потому что таксист не хотел брать цыгана в четыре часа утра. Потом мы решаем, что пора возвращаться домой.
– Выпьем по последней, – настаивает Коли с глазами, горящими, как раскаленные в жаровне угли.
Столики заняты парами и компаниями. Здесь нет ограничений по половому, возрастному или расовому признаку клиентов. Под этим звездным небом и на песке этого пляжа царит вполне гармоничная атмосфера и хватает места как для веселых негров, так и для сдержанных норвежцев. Ночь началась с самбы, а теперь звучит более спокойная, «ночная» музыка. Мне хочется спать. За эту неделю я пережила такой стресс, что теперь чувствую себя опустошенной и плохо соображаю.
– Ладно, я выпью, но только одну, – наконец соглашаюсь я.
– Спасибо, спасибо, спасибо. – Бели меня целует, в восторге от того, что может еще немного задержаться и не ехать домой. Она отправляется на поиски двух девушек и парня ее возраста, с которыми уже успела здесь подружиться.
Мы устраиваемся у стойки бара, в углу, рядом с местом для официанток.
Бренди, которая всю ночь была воплощением скромности, заявляет, что должна нам о чем-то объявить, что лучше сделать это сейчас и не ждать до утра.
– Тем более, и так уже утро, верно? – добавляет она. – Я бы хотела, чтобы здесь были мама, тетя Мари и бабушка, но, в конце концов, я могу сообщить им завтра, вернее, сегодня.
– Мне можно послушать? – спрашивает друг Коли.
Чарри выглядит несколько подозрительно, но, похоже, не лишен некоторых достоинств. Хотя он лет на двадцать старше моей подруги, уступает ей двадцать сантиметров и двадцать килограммов и показывает все свои зубы каждый раз, как открывает рот. Когда мы приехали, Колифлор нас познакомила, а как только он направился к стойке бара, Бели ей заявила, морща нос.
– Тебе правда нравится этот тип? Фу! Он похож на убийцу Кеннеди! – потому что накануне вечером она посмотрела по телевизору фильм на эту тему.
В ответ Коли возмущенно произнесла:
– Черт возьми, откуда ты знаешь, какое лицо было у проклятого убийцы Кеннеди, ведь, насколько я знаю, этого негодяя так и не поймали? – Моя сестра пожала плечами и самым невинным голосом ответила, что, когда думала об убийце Кеннеди, она представляла как раз такое лицо, и ничего тут не попишешь.
– Да, конечно. Все могут послушать. – Бренди широко улыбается. – Итак… та-там! Я выхожу замуж!
Мы все смотрим на нее, раскрыв рты, и не только потому, что она сияет, как лампа. Бренди выглядит так, будто является главной актрисой нашего домашнего театра.
– Но… – Кармина наблюдает за ней с любопытством. – Ты нас разыгрываешь?
– Нет, конечно нет. Я выхожу замуж за Эдгара Ориоля! – выкрикивает она. – Он мне сделал предложение. Хотя это была моя идея.
– Все произошло очень быстро, – замечаю я.
– Брак – это кошмар! – Чарри смотрит на нее в паническом страхе.
– А в чем дело? Неудачный опыт, связанный с браком? – допрашивает его Бренди, хмуря брови.
– Неудачный опыт? Конечно, детка, чего еще можно ожидать от брака? – отвечает он, не обращая внимания на изумление Коли, которая взвешивает возможные последствия первого брака Чарри и его вероятную реакцию на угрозу новых брачных уз. – Понимаешь, для меня женитьба – это ловушка, если честно, я и так прекрасно устраиваюсь.
Сидящая рядом со мной Коли нервно пьет из своего стакана и бормочет так тихо, что слышу только я:
– Душа моя, соберись с силами, будь спокойна, ведь с тобой пребывает Господь. Ничего не бойся, ведь Бог слышит твои молитвы. – Потом она указывает стаканом на Чарри и кричит на него.
– Свинья! Этого ты мне не говорил!
Я смотрю на мужчину и делаю ему знак, давая понять, что ее не остановить. Он понимает меня и говорит, что, вероятно, пора ехать.
Усталым шагом мы направляемся к выходу. Коли отказалась заплатить за последнюю выпивку и теперь горько жалуется, что никто из тех, кто был женат, не чувствует уважения к узам брака.
– Если брак с Эдгаром тебя разочарует, ты дашь мне его номер телефона, ладно, Бренди? – говорит Коли и начинает стонать из-за переизбытка алкоголя и очередного разочарования. – Дерьмо, мои груди так и засохнут без применения, и я зря надеюсь?
Мы возвращаемся домой, предварительно высадив Коли у ее дома, и зажигаем свет только в коридоре, чтобы не разбудить маму, Гадор и детей. Мы по очереди ласкаем собаку, которая вяло рычит, позволяя себя гладить.
Я, как вор, пробираюсь в свою спальню и ощупываю стены и мебель, пока не нахожу свою кровать. Я слышу дыхание Гадор и Рубена. С тех пор как здесь спит малыш, в комнате чувствуется приятная атмосфера: что-то мягкое, беззащитное и успокаивающее. Иногда даже запах какашек кажется самым сладким в мире.
Я закрываю глаза, и мир, полный запахов, звуков, вкусов и ощущений, мгновенно исчезает.
Глава 32
– Кандела, проснись! – Моя мать наклонилась надо мной и безжалостно меня трясет. – Разве ты не слышишь, что ребенок плачет?
– Н-е-е-ет… нет, – сонно отвечаю я.
Рубен орет в своей колыбели. Моя мать берет его на руки и, слегка покачивая, прижимает к груди, чтобы он успокоился. У него красное лицо, он сжимает кулачки, требуя к себе внимания. Мне кажется странным, что Рубен так жалобно плачет, потому что он хороший ребенок и только иногда жалуется на переполненный желудок, избыток газов или грязные подгузники. Сейчас у него возмущенно дергаются губки, он набирает воздуха и снова начинает плакать, с еще большей силой и отчаянием.
– Он грязный, – сообщает моя мать, проверив подгузник.
– Сколько времени, мама? – спрашиваю я, с трудом поднимаясь с постели. У меня болит все тело, я чувствую себя так, будто кто-то выдернул из суставов мои кости. Но больше всего меня беспокоит затылок, вероятно, я провела ночь в неудобной позе. После экзаменов я стала замечать, что недосып плохо влияет на мою голову и замедляет энергетический обмен моих нейронов. Мне необходимо проспать пару дней подряд, но я помню, что сегодня утром я должна отправиться с чеком в банк. Я чувствую неожиданную слабость, и малейшее движение вызывает резкую боль в области лба.
– Уже пол-одиннадцатого. – Мама кладет Рубена на разобранную кровать, где спит Гадор, и снимает грязный подгузник.
– Где Гадор?
– Не знаю, но малыш голоден. Смотри, как он сжимает кулачки, бедняжка. – Она ласкает Рубена, который, похоже, становится спокойнее, поскольку его персоне оказывают внимание, и теперь лишь недовольно икает, когда щекочут его белые пухлые пальцы.
– А где Бели, Кармина и Бренди?
– Все спят, ведь ночью вы пришли очень поздно, верно?
– Не слишком поздно.
– Ты можешь пойти на кухню и подогреть воду для рожка?
– Мама, я тороплюсь. Мне нужно уйти по срочному делу.
– Ничего. Это займет не больше минуты, а я пока поменяю подгузник у малыша.
Я отправляюсь на кухню и говорю «доброе утро» бабушке, которая сидит за столом. Перед ней стоит чашка кофе с молоком и лежат два чурро. Выражение ее лица безрадостное, и она рассеянно отвечает на мое приветствие.
– Сегодня суббота, Кандела, – напоминает мне она.
Да, но мой банк открыт утром в субботу. Они обожают создавать все условия для таких, как я, – желающих срочно передать в их руки какую-то сумму денег.
– Ты на кого-то сердишься? – Я достаю из холодильника воду для Рубена, отмеряю в стакан нужное количество, ставлю в микроволновую печь, включаю ее и жду несколько секунд. Потом достаю воду и наливаю ее в рожок, встряхиваю, чтобы температура была одинаковой, а затем осторожно добавляю туда три ложки материнского молока. – Ты, кажется, сердишься, бабушка?
– Нет, не сержусь, но сегодня я сцепилась с продавцом чурро, – говорит она и, кивая на тарелку, объясняет: – Считает себя очень остроумным, но он так же забавен, как геморрой, который был у меня в юности.
Я улыбаюсь и верчу рожок в ладонях.
– Почему?
– Потому что этот слизняк мне заявил: «Как здорово, теперь вам только двух рогов не хватает, чтобы походить на старую козу».
– Он правда тебе такое сказал? Какой грубиян.
– Да, но я ему дала отпор. – Удовлетворение местью прочерчивает на ее лице тонкие борозды. – Он острит, но со мной это не пройдет. Это точно.
– Да?
– Я ему сказала, что он больше похож на козла, потому что у него уже есть рога. – Она улыбается с игривым видом. – Ты бы видела, какое у него было выражение.
– Мама была с тобой?
– Конечно, ведь нужно было купить продукты, иначе ей бы пришлось запечь в духовке меня и подать на стол к обеду.
– Боже мой!
– Она начала говорить, что все это только шутка, и все такое. Представляешь, как смешно?
– Мне нужно отнести рожок маме, Рубен очень голоден. Ты видела Гадор?
– Нет, наверное, она пошла за чем-то для малыша. – Она поднимается и хватает меня за локоть своими почти прозрачными руками. – Сегодня суббота, и будет большой розыгрыш.
– Конечно, бабушка.
Я выхожу из кухни и направляюсь в свою комнату, передаю рожок матери, которая спрашивает, не хочу ли я сама накормить малыша. Я отрицательно мотаю головой, и она делает это сама, напевая себе под нос что-то без определенных слов и мелодии. В дверях появляется взлохмаченная Паула в пижаме, которая сосет большой палец.
– Кармина храпит, – торжественно сообщает она нам.
– Иди на кухню, и бабушка Марсела даст тебе молока с печеньем, – прошу я племянницу.
– Нет, я хочу, чтобы меня накормила бабушка Эла.
– Ладно, сейчас иду, подожди меня на кухне, – говорит моя мать.
Паула уходит, а я направляюсь к шкафу, чтобы достать одежду и сумку. Гадор оставила ее там, где я просила, – над ящиками с трикотажем. Стоя спиной к матери, я открываю сумку, собираясь достать чек, погладить его, поцеловать, а потом снова убрать до того момента, как мы придем в банк.
Я роюсь в сумке, открываю карман с молнией, засовываю туда пальцы и, улыбаясь, ощупываю материю подкладки, ощущая мурашки, которые от возбуждения возникают в подушечках пальцев. Где же ты, малыш, где ты, мой любимый, единственный, который никогда меня не покинет?
Я действую с осторожностью, чтобы в спешке не смять обожаемый чек. Ощупываю все очень аккуратно… Но не нахожу его. Я переворачиваю сумку, вытряхиваю все содержимое на свою кровать, не обращая внимания на осуждающий взгляд матери. На простыни падают карандаши для губ, пудра для жирной кожи, использованные билеты метро, очки, пластмассовый браслет, маленькая записная книжка с картинками на обложке, мое удостоверение личности и права, пара спичек без головок и еще множество вещиц неясного предназначения. Но чека нет. Он исчез. Не осталось и следа.
В одном из наружных карманов я нахожу запечатанный конверт и вздыхаю с облегчением. Наверное, Гадор положила туда чек для большей безопасности. Вероятно, она нашла его ночью, решила, что он имеет отношение к бухгалтерским делам моего бывшего шефа и предпочла запечатать его в конверт, а не оставлять во внутреннем кармане с молнией.
Я дрожащими пальцами разрываю конверт.
– Но что ты ищешь? – спрашивает моя мать. – Потеряла какой-то билет или еще что-то?
Я киваю и извлекаю содержимое конверта. Там лежит записка, а чека нет. Слова нацарапаны детским, округлым почерком, точки над буквами превращаются в языки пламени или маленькие сердечки. Письмо написано Гадор и состоит из бестолковых слов и плохо составленных фраз, пестрящих орфографическими ошибками. Впрочем, смысл послания ясен, как удар в лоб.
Сначала Гадор просит у меня прощения за то, что сделала. Затем пишет, что не знает, откуда взялись деньги, и не попаду ли я из-за них в беду, но, если они принадлежат похоронному бюро и сеньор Ориоль потребует объяснений, она советует мне заявить, что их украли, потому что это чистая правда: она их забрала и не собирается возвращать, хотя ей и тяжело причинять мне боль.
Она сообщает, что, если ей удастся их получить, она отправится в какое-нибудь место, где постарается взять у жизни все, что она отняла. И напоминает мне, как я однажды высказала такую мысль: быть богатым не значит быть счастливым, но можно с уверенностью заявить, что бедному точно не видать счастья. Потом она меня умоляет заботиться о ее детях, потому что она их любит и ее сердце обливается кровью при мысли, что приходится бросать всех нас. Она прощается, надеясь, что когда-нибудь вернется и еще раз просит у меня прощения за то, что собирается совершить.
Я заканчиваю читать письмо и бегу к телефону.
– Кандела, что с тобой происходит? – кричит мне моя мать.
Через минуту я уже говорю с доном Харольдо, который, кажется, простужен, но в прекрасном настроении. Он меня заверяет, что уже дал указание банку обналичить чек.
– В восемь тридцать семь утра нам позвонили, чтобы мы подтвердили выплату сеньорите Марч Ромеро. Ваша бабушка нам сказала, что у нее пять внучек, так? Было ясно, что речь шла об одной из вас. Я был уверен, что не может возникнуть никаких проблем, – объяснил он мне своим характерным наставительным тоном. – Ее удостоверение личности было в порядке. Вы чем-то недовольны?
– Нет, полагаю, что нет, – отвечаю я. – Конечно нет. Вы правы, это была моя сестра.
– Всего доброго, сеньорита Марч. Вы всегда можете к нам обращаться…
Глава 33
Уже наступила ночь, а я по-прежнему отказываюсь говорить. Я не перестаю размышлять. О счастье и неудаче, богатстве и бедности, дружбе и ненависти, отце и любовнике, жизни и смерти. Слишком много тем для одной головы.
Еще я отказываюсь есть и целый день провожу в пижаме, сидя на диване в гостиной и уставившись в телевизор, но не понимая того, что слышу и вижу, впрочем, должна признаться, что я всегда так его смотрю.
Когда утром я сообщила матери об отъезде Гадор, она ударилась в слезы, как делает всегда в критические моменты своей жизни. Она позвонила в полицию, разбудила моих сестер, истерический плач распространился по всему дому. Спустилась тетя Мари, а Кармина поднялась в комнату бабушки, чтобы развлечь девочку и отвлечь от напряженной обстановки в доме.
Я рассказала матери, что Гадор уехала с деньгами, которые я скопила, но не уточнила сумму: не хочу, чтобы у нее случился инфаркт, – достаточно уже того переполоха, который вызвал в доме побег моей сестры. Нелегко остаться с двумя детьми, брошенными матерью, и осознавать, что придется их растить.
– Ничего, мама, может, она еще вернется, – говорит Бели, ласково ее поглаживая. – А если нет, так одним ртом меньше. Теперь остались только эти двое. Послушай, мама, не плачь.
– Конечно, и потом, теперь в доме есть мужчина. – Бренди показывает на кулек, в котором спокойно спит малыш. Его колыбель стоит посреди гостиной, а под ней лежит собака, весь день ее охраняя. – Странно, Кандела, тебя словно преследует рок… Надеюсь, мое решение выйти замуж за Эдгара тебя не слишком расстроило?
– Ты выходишь за Эдгара Ориоля? – робко переспрашивает моя мать и, несмотря на все переживания, в ее заплаканных глазах загорается огонек надежды.
– Да, я хотела тебе сообщить сегодня, но забыла из-за переполоха. – Бренди поднимается и начинает кружиться по комнате, напоминая небесное светило, вращающееся вокруг своей оси. – Он предложил мне выйти за него замуж, и я дала согласие, ведь я правильно сделала?
– Замечательно, – заверяет ее тетя Мари. – Кандела не хотела. А ты уже готова, Бренди. В отличие от тебя, Божье наказание, – обращается она ко мне. – Ты осталась без работы, без жениха, без денег…
– Оставь ее в покое, – вступается за меня Кармина-защитница. К счастью, у нее такие мускулы, что к ее мнению прислушиваются, и ненужные разговоры прекращаются.
– Я только хотела сказать…
– Если бы Бог считал, что брак – это благо, он бы сам женился. Однако ему пришлось нанять женщину, чтобы она стала матерью для его сына, и таким образом он избежал неприятностей совместной супружеской жизни, в его случае вечной, – убеждает нас моя старшая сестра. – Ясно, что слишком многое было поставлено на карту, ведь нельзя развестись, если все вечно. Представляете, да?
– В общем, я собираюсь выйти замуж за Эдгара, он адвокат и сможет обеспечить мою жизнь, а когда получит наследство, мы будем отдыхать на Карибах! У нас будут дети-блондины, все похожие на него, а я буду всегда хорошо выглядеть, когда мой муженек будет возвращаться с работы. И потом, у него не будет недостатка в делах, а это самое главное. И конечно, я больше никогда не буду работать.
– Правильно. И ты верно рассуждаешь о его работе, – одобряет моя мать в какой-то задумчивости. Наверняка она испытывает облегчение от того, что в доме еще одним ртом будет меньше. Однако с отсутствием Бренди несколько уменьшатся и ежемесячные поступления.
– Удачи, Бренди, – говорит тетя Мари.
– Спасибо, – отвечает та.
Из кухни раздаются звуки радио, которое слушает бабушка. «А те-е-еперь… девяносто пять и три».
– Паула уже спит, Кармина? – спрашивает моя мать. Она уже немного утешилась, услышав о будущем браке одной из дочерей. Если он не удастся – это уже другой вопрос. Мама сосредоточила свое внимание на нынешнем моменте, и, возможно, если учитывать ее опыт, правильно делает.
– Спит как убитая.
Днем мы объяснили Пауле, что ее матери пришлось отправиться в путешествие, потому что она получила очень хорошую и прекрасно оплачиваемую работу (да уж!), и мы точно не знаем, когда они снова увидятся, но наверняка это произойдет довольно скоро (моя мать и все остальные считают, что Гадор вернется, но как бы не так!), а пока она останется с нами, и мы по-прежнему будем заботиться о ней и ее братике и будем любить их.
В нашем доме девочка чувствует себя уверенно, гораздо лучше, чем в родных стенах, и, хотя сначала она, похоже, что-то подозревает, очень скоро, удовлетворенная нашими объяснениями, начинает играть со своими куклами, как будто ее уже не слишком интересует, как скоро вернется Гадор.
Дети привыкают ко всему, даже к тому, к чему нельзя привыкнуть, и это мне кажется ужасным свойством человеческой природы. Я считаю это просто диким.
Я встаю и собираюсь уходить.
– Куда ты, Кандела?
– В свою комнату. – Это мои первые слова после многих часов сосредоточенного молчания.
Я ложусь на все еще разобранную постель. Темную комнату освещает лишь приглушенный свет с улицы, я закрываю глаза, и передо мной мелькают только световые точки, дрожащие, экзотические, нереальные. Если надавить на глазные яблоки, этот свет разрастается и исчезает, кружится и проваливается в бездну, теряясь из вида и ища чего-то нового, устремляется глубже, к самому сокровенному, вызывая боль и пагубные мысли. Он не существует, но в следующее мгновение я его снова вижу: волшебный, летучий, недолговечный, едва уловимый… Эти лучи света пронизывают покров тьмы, которая окутала мою душу.
Вдруг я слышу звук, который мне кажется похожим на удары железного предмета о каменный утес во время прибоя. Я слушаю с большим вниманием, открываю глаза, на мгновение слепну и напрягаю все органы чувств, чтобы определить источник шума: он точно находится между моим пупком и гортанью – оказывается, я смеюсь.
Более того: я хохочу, хотя, безусловно, располагаю достаточными ресурсами, чтобы достичь максимальных результатов. Да, я не могу сдержать хохот. Я смеюсь, как гиена, собака, пьяный солдат, счастливый идиот. Я смеюсь над моей сестрой, над богатством и бедностью, над хаосом, над подарками судьбы, которые сваливаются без предупреждения, над муниципальными налогами, над колитом, который уже несколько дней меня мучает. Я смеюсь искренне и с энтузиазмом и достигаю вершин исполнительской техники. Не думаю, что кто-нибудь еще умеет так же смеяться, по крайней мере на нашем континенте. Я смеюсь сосредоточенно и целеустремленно; я, потерпевшая кораблекрушение, с восторгом плаваю в море смеха. У меня обострение смеха. Я смеюсь лежа и сидя, в анфас и в профиль. Меня начинает пучить от такого хохота. Этот смех сводит меня с ума. Этот хохот массирует мои мозги и очищает зубы. Мой смех относится к прошлому, хотя нацелен и на будущее. Он желает повлиять на мою жизнь и останется со мной до завтра, до послезавтра, очень надолго. Мой смех мчится на всех парусах и не остановится, даже если в моих легких закончится воздух. Даже когда сотрутся черты моего лица и я не смогу хохотать, потому что мой пепел развеют по ветру, мой смех все равно не прекратится. Вот такой у меня смех.
Согласно Эпикуру, мудрец больше дает, чем получает. Мудрец обладает широтой мысли, и в этом его преимущество. Побежденный выигрывает, если умеет учиться на своих ошибках и делать правильные выводы из поражения. Нельзя сказать, что богатство, удобства или успех избавляют личность от душевных переживаний. Никто не может облегчить страдания, которые испытывает наша душа. Никогда. Никто. Ничто.
Хотя смех обычно помогает – я это проверила и поняла, что он позволяет перенести боль.
– Кандела, Кандела, что с тобой? – В комнату входит бабушка, держа в руке клочок бумаги. – Ты плачешь?
– Нет, бабушка. Я смеюсь.
– А, тем лучше, значит, у тебя подходящее настроение, чтобы услышать мою новость.
– Какую новость?
– Только что сообщили по радио, Кандела.
– Что?
– Мы выиграли в лотерею пятнадцать миллионов! Смотри, я записала номера. – Она показывает мне лотерейный билет и обрывок газеты, на котором дрожащей рукой нацарапаны номера с забавными завитушками. – Они все совпадают. Объявили, что есть один выигрышный билет. Конечно, наш. Сегодня был розыгрыш. Ты мне дала десять тысяч песет на лотерею, и нам повезло. Ты рада, детка?
Я зажигаю ночную лампу и молча смотрю на нее с большой нежностью. Наши губы растягиваются в улыбки.
– Я не сказала остальным, а то вдруг тетя Мари заберет у меня билет и убежит, как Гадор.
– Ты правильно сделала, бабушка. Но нам придется все же сказать им, когда мы получим деньги.
– Да, когда деньги будут у нас, и их нельзя будет отобрать. Возьми, спрячь билет.
– Нет, лучше ты. У тебя будет сохраннее.
– Может, ты не веришь, что мы выиграли? – Бабушка поднимается с моей кровати, оскорбленная недоверием, которое я проявляю. – Иди скорее в гостиную. Через пять минут объявят по телевизору. Мы миллионерши! Ты и я!
Я смотрю на нее растроганным и нежным взглядом. А если она говорит правду? Надо признать, когда дело касается игры в лотерею, у нее никогда не разыгрывается воображение. Вся жизнь для нее игра. Она утверждает, что существует столько же возможностей выиграть, сколько и проиграть. Она верит в случай – единственное, что не подчиняется строгим правилам, все объясняющим с рациональной точки зрения. Сама того не сознавая, моя бабушка верит в энтропию вселенной. Это то, во что еще можно верить в наши дни.
А если бабушка сказала правду? Что, если я все же стану миллионершей? Что я сделаю, когда исполнятся мои мечты? У меня возникнут новые желания, или останутся прежние, которые я все же не смогу полностью удовлетворить, или окажется, что, вопреки моим ожиданиям, их невозможно осуществить? Я смогу отправиться на поиски отца, по моему мнению, последнего дикого мужчины, который еще остался на земле? А зачем мне искать отца, если у него никогда не возникало желания найти меня? Чтобы убить его? Для меня он уже восемнадцать лет как умер. Чтобы вернуть его в мою жизнь? Я никогда не верила в воскрешение людей или идей – этому я научилась в похоронном бюро. Тогда зачем? Просто ограничиться тем, что найду его?
Но если моя бабушка ошиблась? У нее не слишком хорошее зрение и проблемы со слухом, и, хотя она старалась быть внимательной, возможно, пропустила какой-то номер. Трудно ли будет ее утешить, если нас постигнет разочарование? Не думаю, потому что я всегда могу дать ей мои последние десять тысяч песет и предложить снова сыграть в лотерею. И возможно, тогда мы выиграем.
А еще есть вероятность, что мне все-таки удалось сдать все экзамены, я наконец получу университетский диплом по биологии, найду работу в области генетических технологий и, несмотря на неверие тети Мари и мое собственное, превращусь в деловую женщину, первую в нашем квартале, а тем более в нашей семье.
Кто знает? Кто может знать? Кто хочет знать?
Бабушка тянет меня за руку, желая отвести к телевизору, чтобы мы вместе записали результаты розыгрыша. Она дружески ворчит и обещает доказать свою правоту.
Я снова вспоминаю о Гадор. Надеюсь, ей будет хорошо там, куда она уехала, и ей удастся насладиться жизнью. Она моя сестра, я ее люблю, и она меня тоже – это отражает мое представление о мире, мое наследие.
Потом я думаю, что не тот считается мудрецом, кто за свою жизнь накопил больше знаний, а тот, кто лучше использует то, что у него есть, даже если у него небольшой запас.
– Идем, я хочу, чтобы ты сама услышала, – настаивает бабушка. – Ты сама убедишься. Конец нашим проблемам, по крайней мере многим из них. Кандела! Наконец-то!
Я следую за ней в гостиную и спрашиваю себя, неужели действительно конец? Как будто бывает конец, бабушка!
А если и бывает, разве это кому-то интересно?
Самый гармоничный космос состоит из случайно собранных осколков.
ГераклитПримечания
1
«Рожденный 4 июля» – американский фильм о ветеране вьетнамской войны с Томом Крузом в главной роли.
(обратно)2
Бенидорм – испанский курорт.
(обратно)3
Мик Джаггер – солист британской рок-группы «Роллинг Стоунз», известный своим скандальным поведением.
(обратно)4
Луи Пастер – французский ученый XIX века, основоположник микробиологии.
(обратно)5
Дорис Дэй – американская актриса.
(обратно)6
Флор, Колифлор – говорящие имена: flor – цветок, coliflor – цветная капуста (исп.).
(обратно)7
«Интимные откровения» – порнографический видеофильм.
(обратно)8
Чуррос – крендель, поджаренный в масле.
(обратно)9
«Корте Инглес» – крупный универсальный магазин.
(обратно)10
Фуагра – гусиная печень, французский деликатес.
(обратно)11
Легендарная американская певица.
(обратно)

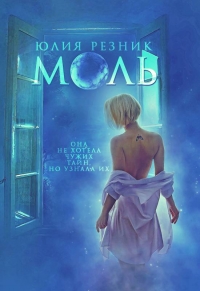

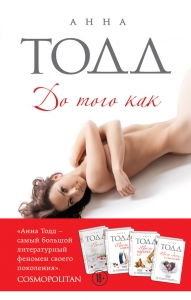

Комментарии к книге «Охота на последнего дикого мужчину», Анхела Валвей
Всего 0 комментариев