Бетти Махмуди Пленница былой любви
С любовью в паре несовместно зло.
Зло – это камень, а любовь – стекло.
ГурганиДве недели отпуска, конечно, можно выдержать везде. Но меня все-таки мучило предчувствие – что Муди обязательно попытается оставить меня и Махтаб в Иране навсегда.
Друзья уверяли, что Муди никогда этого не сделает, потому что уже слишком проамериканизирован: живет в Штатах около двадцати лет. Все, чем он обладал, его врачебная практика, все его настоящее и будущее связаны с Америкой. Зачем ему возвращаться к прежней жизни?
Эти аргументы были достаточно убедительны, но никто, кроме меня, не знал сложной натуры Муди. Он был любящим мужем и отцом, но мог холодно пренебречь потребностями и желаниями собственной семьи. Его разум был соединением блестящей интеллигентности и безграничной беспорядочности. В культурном отношении он представлял собой смесь Востока и Запада и сам не знал, что в его жизни преобладало.
У него было достаточно поводов, чтобы после двухнедельного отпуска увезти нас обратно в Штаты. Но были также и другие причины, чтобы заставить нас жить в Иране.
Зачем я согласилась поехать?
Махтаб…
Первые четыре года она была счастливой щебетуньей, радующейся жизни, привязанной ко мне, к отцу и к своему уже изрядно истрепанному плюшевому кролику.
Махтаб…
На фарси, государственном языке Исламской Республики Иран, это слово обозначает «лунный свет».
Но для меня Махтаб – это солнечный блеск.
Когда шасси самолета коснулись посадочной полосы, я взглянула на Махтаб, потом на Муди и уже знала, зачем приехала в Иран. Мы вышли из самолета и сразу же погрузились в обволакивающий тяжелый зной тегеранского лета. А было еще только раннее утро.
Махтаб прильнула к моей руке. Ее карие глаза познавали этот чужой мир.
– Мамочка, – шепнула она, – я хочу в туалет.
– Хорошо, сейчас поищем.
В здании аэропорта нас встретил невыносимо тяжелый запах человеческого пота. Я надеялась, что мы быстро покинем это помещение, но зал был переполнен пассажирами с нескольких рейсов, и все толпились и пробирались к одной стойке, где производился паспортный контроль и откуда был единственный выход из этого зала.
Нам пришлось прокладывать себе дорогу локтями. Я держала Махтаб в объятиях перед собой, чтобы ее не придавили.
Я знала, что женщины в Иране должны закрывать плечи, ноги, лоб, но меня поразил вид сотрудниц аэропорта и большинства пассажирок, которые были почти полностью покрыты чем-то, что, как мне сказал Муди, называется чадрой. Это кусок ткани в форме полукруга, который забрасывается на голову и плечи. Он окаймляет лоб и подбородок, оставляя открытыми только глаза, нос и рот. Наиболее религиозные иранки оставляли открытым только один глаз. Женщины, бегавшие по взлетному полю, таскали в одной руке тяжелые чемоданы, а другой придерживали чадру под подбородком. Длинные полотнища развевались во все стороны. Меня это особенно удивляло, так как носить чадру было вовсе не обязательно. Остальная одежда была в соответствии с суровыми требованиями кодекса, но эти мусульманки по собственному желанию, несмотря на изнуряющий зной, надевали поверх всей одежды еще и чадру. Здесь я воочию убедилась, какую великую власть имели над ними общество и религия.
Не менее получаса нам потребовалось, чтобы пробраться к стойке для проверки паспортов, где хмурый сотрудник посмотрел на наш, один на троих, иранский паспорт, поставил печать и махнул рукой проходить.
– Мамочка, я хочу в туалет, – повторила Махтаб, нервничая.
Муди спросил по-персидски женщину в чадре, куда идти. Она объяснила и поспешно удалилась, занятая собственными делами. Муди остался присмотреть за багажом, пока мы искали туалет, но, когда мы приблизились к входу, дыхание перехватило от невыносимой вони. Все-таки войдя туда, мы нашли только дыру в цементном полу, который был загажен кучами экскрементов с роящимися над ними мухами.
– Здесь очень воняет, – закапризничала Махтаб, оттаскивая меня за руку.
Мы побежали обратно к Муди.
Махтаб мучилась, но предпочитала терпеть, пока мы не приедем в дом сестры Муди, о которой он всегда говорил с большим уважением. Сара Махмуди Ходжи опекала всю семью, и все с почтением обращались к ней не иначе как Амми Бозорг – уважаемая тетя.
«Все будет хорошо, как только мы окажемся в доме Амми Бозорг», – думала я.
Махтаб очень устала, но сесть было негде, и мы распаковали прогулочную коляску. Махтаб тотчас же устроилась в ней.
Вдруг мы услышали чей-то громкий голос, как будто обращенный к нам.
– Да'иджан! – кричал кто-то что было сил. – Да'иджан!
Муди повернулся и радостно ответил на возгласы бегущего к нам человека. Они бросились друг другу в объятия.
– Это Зия, – представил Муди.
Зия Хаким сердечно пожал мне руку.
Он был одним из тех многочисленных молодых родственников мужского пола, которых Муди именовал общим титулом «племянники». Малюк, сестра Зии, была женой Мостафы, третьего сына старшей сестры Муди. Мать Зии была сестрой матери Муди, а отец был братом его отца, а может, наоборот. Определение «племянник» было самым удобным.
Зия, взволнованный встречей со мной, американской женой Муди, поприветствовал меня на вполне приличном английском языке.
– Я так рад, что ты приехала, – сказал он, – мы так давно ждали этого!
Он подхватил Махтаб на руки и осыпал ее поцелуями.
Это был интересный мужчина с характерными восточными чертами лица и пленительной улыбкой. Его обаяние и изысканность манер сразу бросались в глаза. Каштановые волосы Зии были модно подстрижены, костюм хорошо скроен и элегантен, рубашка с расстегнутым воротом отглажена. От него веяло свежестью. Я так надеялась, что семья Муди будет именно такой.
– Как ты пробрался сюда? – спросил Муди.
– У меня здесь работает друг.
Лицо Муди просветлело. Он с опаской достал из кармана наши американские паспорта.
– Что с ними делать? – спросил он. – Нам бы не хотелось, чтобы их конфисковали.
– Я все устрою, – ответил Зия. – У тебя есть какие-нибудь деньги?
– Да.
Муди отсчитал несколько банкнотов и подал их Зии вместе с нашими паспортами.
– Встретимся после прохождения контроля, – сказал Зия и растворился в толпе.
Но даже Зия, как оказалось, не был в состоянии ускорить проверку багажа. Мы стояли в этом изнуряющем пекле более трех часов, сначала ожидая багаж, а потом в нескончаемой очереди таможенного контроля. Махтаб вела себя спокойно, хотя я знала, что ее терпение на исходе. Наконец мы у заветной цели: впереди Муди, за ним я, Махтаб и коляска.
Таможенник тщательно проверил каждую вещь багажа, задержавшись у чемодана с лекарствами. Начался диалог по-персидски. Муди объяснил мне, что сказал таможеннику: он врач и привез эти лекарства в дар местному медицинскому центру.
Таможенник продолжал задавать все новые вопросы. Муди вез бесчисленное количество подарков для семьи. Каждый следовало распаковать и предъявить для осмотра. Сотрудник открыл наш чемодан с одеждой и наткнулся на кролика Махтаб. Это был ветеран наших путешествий. Он сопровождал нас в поездках в Техас, Мексику и Канаду. Уже в последний момент, когда мы выходили из дому в Детройте, Махтаб заявила, что не поедет в Иран без своего лучшего друга.
Таможенник разрешил нам забрать чемодан с одеждой и, к великой радости Махтаб, кролика, сказав, что остальной багаж отошлет нам после детальной проверки позднее.
Так, не обремененные грузом, спустя четыре часа после приземления мы покинули зал.
Муди тотчас же оказался в толпе людей в длинных одеждах и накидках на голове. Более сотни родственников толпились вокруг, крича, плача, сжимая его руки, обнимая и осыпая поцелуями, целуя меня и Махтаб. Они засыпали нас с Махтаб цветами, потому что через минуту мы держали их целые охапки.
Зачем, собственно, у меня на голове этот идиотский платок? Волосы склеились, пот стекал по спине. Я подумала, что, должно быть, от меня исходит такой же неприятный запах, как и от них всех.
Муди расплакался от радости, когда Амми Бозорг обняла его. Тяжелая черная чадра не помешала мне узнать ее лицо, которое видела раньше на фотографиях. Такой крючковатый нос нельзя было спутать ни с каким другим. Эта широкоплечая женщина схватила брата в объятия так, словно хотела навечно оставить его при себе.
Анестезиолог и дипломированный остеопат, авторитетный специалист с годовым доходом около ста тысяч долларов в Америке, здесь Муди снова стал маленьким мальчиком для Амми Бозорг. Родители Муди, оба врачи, умерли, когда ему исполнилось всего шесть лет, и сестра вырастила его как своего сына.
Наконец Муди познакомил нас. Она бросилась ко мне, крепко обнимая. Нос у нее был такой большой, что казался искусственным. Он торчал на лице ниже зелено-карих глаз, блестящих от слез. Потом Муди представил мне мужа сестры, Баба Наджи, пояснив, что это имя означает «отец, который побывал в Мекке». Хмурый, невысокого роста мужчина, одетый в мешковатый серый костюм, брюки которого почти закрывали каблуки полотняных туфель, он не обмолвился ни словом. Его глубоко посаженные глаза на морщинистом лице избегали моих.
Вдруг я почувствовала, как на плечи упала тяжелая гирлянда цветов. Видимо, это был какой-то сигнал, потому что все как один бросились в сторону стоянки автомобилей. Они мчались наперегонки к одинаковым маленьким белым угловатой формы машинам и начали втискиваться в них по шесть, восемь и даже двенадцать человек. Отовсюду торчали руки и ноги.
Муди, Махтаб и меня торжественно проводили к почетному автомобилю, большому «шевроле» бирюзового цвета и усадили на заднее сиденье. Впереди села Амми Бозорг с сыном Хусейном, которому, как старшему наследнику по мужской линии, предоставили честь везти нас. Зухра, старшая незамужняя дочь, села между матерью и братом.
В убранной цветами машине мы ехали из аэропорта впереди шумной кавалькады. Вскоре обогнули огромную башню Саид. Серая, отделанная бирюзовой мозаикой, она сверкала в полуденном солнце. Муди рассказал мне, что Тегеран был известен этой удивительной башней, которая, как страж, несла вахту в предместье столицы.
На скоростной магистрали Хусейн заставил старый «шевроле» разогнаться до восьмидесяти миль в час, что было пределом его скорости.
Вдруг Амми Бозорг повернулась и вручила мне пакет. Это было что-то тяжелое, красиво упакованное. Я вопросительно посмотрела на Муди.
– Разверни, – сказал он.
Внутри я обнаружила широкую накидку длиной до щиколоток. Муди объяснил, что она сшита из дорогостоящей шерсти. Там же находился большой темно-зеленый платок, значительно толще того, который был у меня на голове.
Улыбаясь и радуясь своей щедрости, Амми Бозорг что-то сказала, а Муди перевел:
– Накидка называется манто, а платок – русари. В Иране ты должна надевать их, когда выходишь на улицу.
К этому я не была готова. Когда Маммаль, четвертый сын Амми Бозорг и Баба Наджи, будучи у нас в Мичигане, предложил нам поехать в отпуск в Иран, он сказал:
– На улице ты должна будешь носить одежду с длинными рукавами, платок и темные чулки.
– Не переживай, – сказал Муди, – это подарок. И все-таки я расстроилась. Когда Хусейн въехал в город, я начала присматриваться к женщинам, семенящим по запруженным тротуарам Тегерана. Они были закутаны с ног до головы. Большинство носили черную чадру поверх манто и русари, как раз таких, как мне подарили. Вся одежда была мрачных тонов.
– А что со мной сделают, если я этого не надену? Арестуют? – спросила я Муди.
– Да, арестуют, – вполне серьезно ответил он.
Однако вскоре я перестала волноваться по поводу местных законов, касающихся одежды, потому что Хусейн попал в гущу городского движения. Узкие улочки были забиты машинами, трущимися друг о друга. Каждый из водителей искал кусочек свободного пространства, а увидев его, одновременно нажимал на педаль газа и звуковой сигнал. Раздраженный очередным ожиданием, Хусейн дал задний ход и поехал обратно по улице с односторонним движением.
Через Муди Амми Бозорг объяснила мне, что обычно по пятницам движение сокращается, потому что пятница – это мусульманское воскресенье: семьи собираются в доме старшего из родственников и проводят свободное время за молитвой. Но сейчас приближалось время вечерней проповеди, которую по пятницам в центре города читал один из самых святых мужей ислама. На нее стекаются миллионы людей. Не тысячи, а миллионы, подчеркнула Амми Бозорг.
Махтаб спокойно присматривалась к этой сцене, обнимая своего кролика. Широко открытыми глазами она познавала новый, чужой мир, пораженная образами, звуками и запахами.
После часа такой езды мы остановились наконец возле дома Баба Наджи и Амми Бозорг. Поблизости находилось китайское посольство. От улицы дом отделяла ограда из густо расположенных железных прутьев, выкрашенных в зеленый цвет. Через двустворчатую металлическую калитку все вошли во двор с бетонированным покрытием.
Следуя примеру Муди, мы разулись и оставили обувь во дворе. Тут же, во дворе, стояли три газовых гриля, которые обслуживали приглашенные по этому случаю официанты.
В одних чулках мы вошли в большой бетонный дом с плоской крышей. Холл был раза в два просторнее, чем самая большая американская столовая. Стены и двери из ореха украшал цветной орнамент из дерева той же породы. Толстые персидские ковры, уложенные в два или три ряда, покрывали почти весь пол. На них были разложены цветные софры.[1] В комнате из мебели был только маленький телевизор.
В окно я заметила бассейн позади дома. Хотя я не люблю плавать, сегодня холодная вода выглядела исключительно заманчиво.
Новые группы весело болтающих родственников выгружались из автомобилей. Муди явно лопался от гордости за свою американскую семью. Он просто пылал, когда его родственники обхаживали Махтаб.
Тетушка Бозорг показала нам нашу комнату в дальнем крыле дома. Это было маленькое квадратное помещение с двумя сдвинутыми кроватями и провалившимися посередине матрасами. Единственной мебелью можно было считать большой деревянный шкаф.
Здесь же, в конце коридора, я быстро нашла туалет для Махтаб. Открыв дверь, мы обе отскочили при виде бегающих по каменному полу тараканов, таких больших, каких мы еще в своей жизни не видели. Махтаб не хотела входить, но уже действительно было невмоготу. Она потянула меня за собой. Здесь, по крайней мере, был туалет в американском стиле и даже имелось биде. Туалетную бумагу заменял висевший на стене шланг с водой, пахло гнилью.
Мы вернулись в холл, где нас ждал Муди. – Пойдемте, я хочу вам что-то показать, – сказал он.
Мы вышли за ним через парадную дверь во двор.
Махтаб вдруг вскрикнула, увидев лужу свежей, ярко-красной крови. Она отвернулась.
Муди спокойно объяснил, что родственники купили барана и зарезали животное в нашу честь. Мы же должны были, входя впервые в дом, переступить через эту лужу.
– Ну хорошо, сделай это, а нас уволь, – сказала я. Муди спокойно, но решительно заявил:
– Ты должна оказать уважение родственникам. Мясо будет роздано бедным.
Я подумала, что это какая-то дикость, но мне не хотелось никого обидеть, поэтому я согласилась. Махтаб спрятала лицо у меня на плече, когда я ее взяла на руки. Вслед за Муди я обошла лужу крови. Родственники произнесли молитву. Официальная часть встречи была закончена.
Раздали подарки. По иранской традиции невесту родственники жениха одаривают золотыми украшениями. Хотя я уже не была невестой, но достаточно была осведомлена об обычаях этих людей, чтобы при первой встрече надеяться на золото. Тетушка Бозорг подарила Махтаб два золотых браслета, но для меня драгоценностей не оказалось. Это был откровенный намек. Я знала, как раздражал ее брак Муди с американкой.
Она подарила также мне и Махтаб по яркой чадре, чтобы носить их в доме. Моя была светло-кремового цвета с персиковыми цветами, а малышка получила белую с розами.
Я что-то пробормотала, благодаря ее. Вокруг суетились дочери тетушки Бозорг, Зухра и Ферест, подавая самым почетным гостям папиросы на подносе и угощая всех чаем. Развеселившиеся дети бегали по всему дому. Взрослые не обращали на них внимания.
Было пополудни. Гости расселись на полу большого холла. Женщины внесли подносы с едой.
Были там блюда с салатами, украшенными редиской, вырезанной в виде прекрасных розочек, и морковкой, подрезанной так, что она напоминала сосновые веточки. Были тарелки с йогуртами и подносы с хлебом в форме блинов, куски острого сыра, высокие пирамиды фруктов, яркий ансамбль которых дополняли подносы с сабзи.[2]
Во дворе официанты раскладывали кушанья, заказанные в ресторане. Здесь были различные вариации, но в одной теме. Заполнявший два котла рис (в одном – белый традиционный, в другом – зеленый, приготовленный с сабзи и крупным горохом, напоминающим лимоны) был приготовлен по-ирански, как учил меня когда-то Муди. Прежде всего рис варится, а потом заливается маслом и выпаривается, пока на поверхности не образуется хрустящая корочка. Это основное блюдо иранского меню дополняется различными соусами, называемыми хореш.
Разложив рис на блюда, официанты посыпали белый рис чем-то вроде мелкой брусники и полили соком шафрана. По этому случаю было приготовлено два вида соуса хореш. Один – излюбленное в нашем доме блюдо – состоял из баклажанов, помидоров и кусков баранины. Второй – из баранины, помидоров, лука и желтого гороха.
Изыском была курица, редкое в Иране лакомство, тушенная с луком и затем обжаренная на масле.
Рассевшись по-турецки на полу или присев на одно колено, иранцы набросились на еду с жадностью. Из приборов были поданы только большие, как шумовки, ложки. Некоторые пользовались ими, помогая себе руками или кусками свернутого хлеба; были и такие, что не утруждали себя даже ложками. Разговаривая, они запихивали пищу в рот пальцами. Эта неаппетитная сцена сопровождалась дискуссией на языке фарси. Почти каждая мысль заканчивалась фразой «инш Аллах!».[3] Это было ужасно – взывать к святому имени Аллаха и одновременно плевать вокруг едой.
Я пыталась есть, но мне было тяжело наклоняться и доставать еду, сохраняя равновесие и скромность. Узкая юбка моего костюма не подходила для обедов на полу. С трудом мне удалось наполнить тарелку.
Муди научил меня готовить многие иранские блюда. Попробовав этот праздничный обед, я убедилась, что еда здесь невероятно жирная. Масло служит в Иране показателем богатства. Поэтому все буквально плавало в огромном его количестве. Ни Махтаб, ни я не смогли съесть много. Поклевали мы слегка салаты, но аппетит у нас быстро пропал.
Наше отвращение к такой пище осталось незамеченным, так как главным объектом всеобщего внимания и любви был Муди. Я понимала, соглашалась с этим, но чувствовала себя одинокой.
Необычайные события этого бесконечного дня помогли мне, однако, несколько смягчить опасение, что Муди мог бы продлить наше пребывание здесь больше, чем на две недели. Он действительно горел желанием увидеть своих родственников, но эта жизнь была не в его стиле. Будучи доктором, он ценил гигиену и здоровую диету. Он очень любил комфорт, ему нравилось поболтать или подремать в полдень в своем обожаемом вертящемся кресле. Здесь, на полу, он испытывал явное неудобство, не привыкший сидеть по-турецки. Я утешала себя, что ни в коем случае он не предпочтет Иран Америке.
Мы обменялись с Махтаб взглядами, точно читая мысли друг друга. Этот отпуск был коротким перерывом в нашей нормальной американской жизни. Мы были согласны его пережить, но это не могло нам нравиться. Мы уже начали считать дни до возвращения домой.
А пиршество продолжалось. Взрослые по-прежнему объедались, а дети становились все беспокойнее, затеяв драку. Они бросались едой и кричали, бегали по софрам, всякий раз попадая в блюда с едой грязными босыми ступнями.
У многих детей были врожденные дефекты. У некоторых – дебильное выражение лица. Мне подумалось, не является ли это результатом заключения браков между родственниками. Муди пытался убедить меня, что в Иране нет вредной наследственности, но я знала, что многие супружеские пары, собравшиеся здесь, – это братья и сестры. О результатах таких браков можно было судить по детям.
Спустя какое-то время пятый сын Баба Наджи и Амми Бозорг представил меня своей жене Эссей. Я знала его хорошо, потому что некоторое время он жил у нас в Техасе. Он тогда изрядно потрепал мне нервы, и я, что было не в моих правилах, поставила перед Муди ультиматум, чтобы он убрал его из дома. Однако сейчас его лицо показалось мне дружелюбным. Он был одним из немногих, кто обратился ко мне по-английски. Эссей училась в Англии и сносно говорила по-английски. На руках она держала малыша.
– Реза столько рассказывал мне о тебе, – сказала она. – Он так благодарен за все, что вы сделали для него.
Я поинтересовалась ребенком, и Эссей помрачнела: Мехди родился с деформированными, повернутыми назад ступнями, с деформированной головкой, вытянутым лбом. Эссей была сестрой своего мужа.
Махтаб пыталась убить комара, который оставил у нее на лбу огромный волдырь. Мы были измучены зноем августовского вечера. И хотя в доме была вентиляция, но по какой-то причине тетушка Бозорг не закрыла двери. Это, как и отсутствие москитных сеток на окнах, оказывало гостеприимство жаре и комарам.
У меня разболелась голова. Запах жирной пищи, человеческого пота, непрерывный шум и смена часового пояса сделали свое.
– Мы с Махтаб хотели бы лечь, – обратилась я к мужу.
Был ранний вечер, большинство родственников еще не разошлись, но Муди знал, что они хотят разговаривать с ним, а не со мной.
– Хорошо, – согласился он.
– У меня сильно болит голова. У тебя есть какое-нибудь лекарство?
Он извинился, проводил нас с Махтаб в спальню, дал мне три таблетки и вернулся к гостям.
Мы забрались в постель такие обессилившие, что даже ни провалившиеся матрасы, ни затхлые одеяла, ни колючие подушки не смогли помешать нам уснуть. Я знала, что Махтаб засыпает с той же молитвой, которая стучалась в моей раскалывающейся голове: «Боже, сделай так, чтобы эти две недели быстро пролетели».
Было около четырех часов утра, когда Баба Наджи загрохотал в дверь нашей спальни. Он кричал что-то по-персидски.
Во дворе раздавался голос азана – усиленный мегафоном, грустный, монотонный, протяжный, – который призывал правоверных исполнить свой религиозный долг.
– Время на молитву, – пробормотал Муди. Зевая и потягиваясь, он встал и отправился в ванную, чтобы совершить ритуальное омовение: облить водой руки, смочить лоб, нос и стопы.
Вскоре голос мужа слился с голосами Баба Наджи, Амми Бозорг, их дочерей Зухры и Ферест и самого младшего тридцатилетнего сына Маджида.
Я не знала, сколько длились эти молитвы, потому что то погружалась в сон, то пробуждалась, и не заметила, когда Муди вернулся. Но даже после этого в доме не закончились религиозные обряды. Баба Наджи читал Коран, монотонно крича во весь голос. Амми Бозорг в своей спальне в другом конце дома тоже читала Коран. Это длилось часами. Их голоса приобрели гипнотизирующее звучание.
К тому времени, когда я встала, Баба Наджи закончил молиться и ушел на работу. У него была фирма «Импорт – экспорт С. Салам Ходжи и сыновья».
Прежде всего мне захотелось принять душ. В ванной комнате не было полотенец. Муди сказал, что, вероятно, Амми Бозорг вообще их не имеет, поэтому я оторвала кусок простыни. Не было здесь и шторы для душа. Вода просто уходила в находящееся в углу наклонного мраморного пола отверстие. Несмотря на все эти неудобства, вода освежала.
Я надела самую скромную юбку и блузку, подкрасилась и некоторое время посвятила волосам. Муди сказал, что дома, в своей семье, я могу не закрываться.
Амми Бозорг, в цветной домашней чадре, вертелась на кухне. Обе руки ее должны были быть свободными для работы, поэтому она обернула широкое полотнище вокруг тела и собрала под мышками. Чтобы чадра не падала, ей приходилось прижимать ее к бокам.
Связанная таким образом, она занималась своей работой в помещении, которое, как и весь дом, носило следы прежнего великолепия, а теперь пришло в запустение. Стены покрывал густой слой многолетней сажи. Металлические шкафчики поржавели от времени. В двухкамерной мойке громоздилась грязная посуда. Горы различных кастрюль и сковород занимали большой кухонный и маленький квадратный столы, и так как на них не было места, то Амми Бозорг работала на полу. Я удивилась при виде холодильника-морозильника с устройством для приготовления льда. Когда я заглянула внутрь, моим глазам открылся целый склад холодных закусок.
Самым большим сюрпризом для меня было, когда Муди с гордостью объявил, что Амми Бозорг убрала весь дом к нашему приезду. Интересно, как этот дом выглядел до уборки?
Стареющая худощавая служанка, испорченные зубы которой удивительно гармонировали с выгоревшей синего цвета чадрой, флегматично выполняла распоряжения Амми Бозорг. На полу кухни она приготовила поднос с чаем, сыром, хлебом и сервировала нам завтрак опять же на полу в холле.
Подавая чай в маленьких стаканчиках, называемых эстаканами и вмещающих не более четверти чашки, обязательно придерживались очередности. Вот и сейчас первым обслужили Муди, единственного присутствующего в этот час мужчину, затем Амми Бозорг, потом меня, а в конце Махтаб.
Чай был крепкий, горячий и очень вкусный. Когда я пробовала его, Амми Бозорг что-то сказала Муди.
– Ты не насыпала в чай сахар, – перевел он.
Я заметила неестественность в его манере говорить. Дома он употребил бы сокращенную форму. Здесь же он избегал ее, выражаясь более формально, как люди, для которых английский является вторым языком. Муди давно уже говорил как коренной американец. Откуда же эта перемена? Я забеспокоилась: не начал ли он снова думать по-персидски?
– Я не хочу сахару. Мне нравится так, – был мой ответ.
– Ты шокировала тетушку, но я пояснил ей, что ты сама достаточно сладкая, поэтому тебе не нужен сахар.
По выражению глубоко посаженных глаз Амми Бозорг легко можно было догадаться, что шутка ей не понравилась. Пить чай без сахара было, видимо, не принято, но меня это не волновало. Я внимательно посмотрела на золовку, и, сделав глоток, попыталась изобразить улыбку на лице.
Хлеб оказался пресный, безвкусный и сухой. К хлебу, как лакомство, подали острый датский сыр.
Мы с Махтаб любили этот сорт, но Амми Бозорг не знала, что его следует хранить с жидкостью, чтобы не улетучился запах. У этого сыра был запах грязных ног. Мы с Махтаб с трудом его проглотили.
После завтрака Маджид вступил со мною в долгую дискуссию. Он был дружески настроен и очень мил, сносно говорил по-английски. Маджид хотел показать нам дворец шаха, а также парк Меллят, где растет трава – большая редкость в Тегеране. Его желанием также было взять нас с собой за покупками.
Мы знали, что со всем этим нужно подождать. Первые дни следует посвятить приему гостей. Родственники и приятели, близкие и издалека хотели увидеть Муди и его семью.
Муди настаивал, чтобы мы сразу же позвонили в Америку. Здесь возникла проблема. Мои сыновья, Джо и Джон, которые жили в Мичигане у моего прежнего мужа, знали, куда мы едем, но они поклялись мне, что будут хранить это в тайне. Мне не хотелось, чтобы узнали мама с папой: они бы беспокоились, а у них и так много других забот, ведь у отца обнаружили опухоль. Я не хотела их еще более беспокоить и сказала только, что едем в Европу.
– Я не хочу говорить им, что мы в Иране, – сказала я.
– Они знают об этом, – заявил Муди. – Я сказал им, куда мы направляемся.
Наконец, фактически с другого полушария, я услышала голос мамы.
– Папа чувствует себя хорошо, – сказала она, – но его мучает химиотерапия.
Потом я призналась ей, что звоню из Тегерана.
– О боже! Как раз этого я и опасалась.
– Не беспокойся, здесь нам хорошо, – солгала я. – Все в порядке. Семнадцатого будем дома.
Я передала трубку Махтаб. Ее глаза заблестели, когда она услышала знакомый голос бабушки. Закончив разговор, я обратилась к Муди:
– Ты обманул меня! Они не знали, что мы здесь.
Он пожал плечами:
– Я говорил им.
Меня охватила паника. Неужели родители не расслышали? Или Муди солгал?
Родственники мужа наплывали волнами, заполняя холл во время обедов или ужинов. Мужчинам при входе подавали домашние пижамы. Они быстро переодевались в соседней комнате и проходили в холл. У Амми Бозорг был под рукой запас цветных платков для женщин, которые удивительно ловко сменяли черные, выходные полотнища на яркие домашние платки, не открывающие при этом ни кусочка запретной части лица.
Визиты проходили за едой и беседами.
Мужчины совершали во время разговоров бесконечные молитвы. Каждый держал в руках четки из пластмассовых или каменных бусинок и перебирал их, произнося тридцать три раза «Аллах акбар».[4]
Если гости приходили утром, изнуряющая церемония ухода начиналась еще до полудня. Переодевшись, они целовались на прощание, а затем медленно продвигались в направлении двери, ни на минуту не умолкая. Затем снова обменивались поцелуями и продвигались немного дальше, разговаривая, крича, обнимаясь. И так полчаса, сорок пять минут, а то и час.
Им, однако, удавалось выйти почти сразу же после полудня, потому что затем наступали часы сиесты, необходимой, учитывая жару и расписание обязательных молитв.
Если гости появлялись к ужину, то задерживались допоздна, потому что мы всегда ждали, когда вернется с работы Баба Наджи, а он никогда не возвращался раньше десяти.
Как правило я не покрывала голову дома, но иногда приходили гости более религиозные, и мне приходилось надевать платок. В один из таких вечеров Амми Бозорг вбежала в нашу спальню, бросила мне черную чадру и буркнула что-то Муди.
– Надень это сейчас же, – распорядился мой муж. – У нас гости. Пришел «господин в тюрбане».
«Господин в тюрбане» – это высший сан мечети.
Не было возможности воспротивиться приказу Муди, но когда я примерила неудобное полотнище, то с ужасом обнаружила, что оно грязное. Полотно, закрывающее нижнюю часть лица, оказалось жестким от засохших соплей. Я не видела в этом доме носовых платков или хотя бы салфеток для носа, зато я заметила, что женщины в этих целях пользуются своей чадрой. Запах был омерзительный.
Прибывшего господина звали Ага Мараши. Он был женат на сестре Баба Наджи, а также состоял в каких-то родственных узах с Муди. Опираясь на деревянную палку, неровным шагом он вошел в холл, с трудом передвигая более 120 килограммов веса своего тела, и, задыхаясь, уселся на полу. Он был не в состоянии сесть по-турецки, как другие, поэтому вытянул раздвинутые ноги вперед. Его огромный живот, спрятанный под черными покрывалами, уперся в пол. Зухра быстро принесла на подносе папиросы для почтенного гостя.
– Дай мне чаю, – распорядился он резко, прикуривая одну папиросу от другой. Он кашлял и харкал, не утруждая себя прикрывать рот.
Чай подали тотчас же. Ага Мараши всыпал в свой стаканчик полную ложку сахара, вытянулся, откашлялся и насыпал еще ложку.
– Я буду твоим пациентом, – обратился он к Муди. – Ты должен лечить меня от диабета.
На протяжении всего визита я боролась с тошнотой. Когда гости ушли, я сбросила чадру и сказала Муди, что она была до неприличия грязной.
– Ваши женщины вытирают этим нос, – пожаловалась я.
– Не может быть, – возразил мой муж.
– Хорошо, посмотри.
Только когда он сам увидел чадру, то согласился со мной. Меня поражало, какие странные мысли роились у него в голове. Неужели ему так уютно было очутиться снова в окружении предметов его детства, что все казалось ему естественным и он менял свой взгляд только тогда, когда я доказывала ему что-нибудь?
Первые дни мы с Махтаб проводили большую часть времени в спальне, выходя для встречи очередных гостей. В нашей комнате мы могли, по крайней мере, сидеть на кровати, а не на полу. Махтаб играла со своим кроликом или со мной. Мы скучали, было жарко, и чувствовали мы себя прескверно.
Ежедневно после полудня иранское телевидение передавало новости на английском языке. Однажды Муди позвал меня посмотреть. Я поспешила, чтобы, наконец, услышать родную речь.
Первая часть обязательно была посвящена войне с Ираком. Вначале происходил триумфальный подсчет убитых иракских солдат, но никогда не упоминалось о потерях со стороны Ирана. С экрана на нас смотрели полные энтузиазма молодые люди и женщины, отправляющиеся на святую войну (мужчины шли сражаться, женщины – готовить пищу, а также печь хлеб, что было в этой стране мужской обязанностью), после чего следовало патриотическое воззвание к новым добровольцам. Затем минут пять отводилось вестям из Ливана, так как тамошние шииты, сильная и пристрастная к насилию секта, поддерживали отношения с Ираном и были лояльны к правительству Хомейни. За три минуты сообщались новости со всего мира, в которые входили события, рисующие негативный образ Америки: американцы мрут как мухи от СПИДа; показатель разводов в Америке растет как бешеный. Если иракская авиация бомбардировала какой-нибудь танкер в водах Персидского залива, то обязательно оговаривалось, что это сделано по указанию Америки.
Мне быстро наскучила эта болтовня.
Саид Салам Ходжи, которого мы называли Баба Наджи, был таинственным человеком. Он редко бывал дома и почти никогда не разговаривал с семьей, за исключением того, когда созывал домочадцев на молитву или читал им Коран. Несмотря на это, весь дом был пропитан его присутствием. Когда после многочасовых молитв ранним утром он выходил из дому на работу, всегда в одном и том же пропотевшем костюме, бормоча под нос святые строфы и перебирая четки, его железная воля продолжала гипнотизировать домашних. Целый день, пока он занимался интересами своей фирмы, время от времени выходя в мечеть, в доме витала его тяжелая, мрачная аура. Отец Баба Наджи был «господином в тюрбане», брат недавно погиб в Ираке. И посему он держался как человек, чувствующий свое превосходство.
Под конец долгого, наполненного работой и молитвами дня Баба Наджи вызывал в доме смятение своим возвращением. Скрип стальной калитки, которая открывалась около десяти часов вечера, был сигналом тревоги. «Баба Наджи!» – произносил кто-то, и это сообщение мгновенно облетало весь дом. Зухра и ее младшая сестра Ферест днем носили только русари, но, когда возвращался отец, они быстро набрасывали чадру.
Дней через пять после нашего приезда Муди сказал мне:
– Ты должна носить в доме чадру или, по крайней мере, платок.
– Как же так, – возразила я. – И ты, и Маммаль говорили мне когда-то, что в доме мне не нужно будет закрываться. Ты говорил, что все поймут это, потому что я американка.
– Баба Наджи очень недоволен, что ты не закрываешься, – продолжал Муди. – А это его дом.
Я услышала в голосе Муди какие-то властные, почти угрожающие нотки. Я хорошо знала эту сторону его натуры, с которой когда-то боролась. Но сейчас он был в своей стране, среди своих. У меня не было выбора. Я надевала платок, чтобы предстать пред очи Баба Наджи, каждый раз с мыслью, что скоро мы возвратимся в Мичиган, в мою страну, к моим близким.
Со временем Амми Бозорг становилась все менее приветливой. Она пожаловалась Муди на нашу американскую расточительность: где это видано принимать душ каждый день! Готовясь к нашему приезду, она пошла в хамам, общественную баню, где совершила ритуал, занявший целый день. С того времени она не мылась, и у нее не было намерения делать это в ближайшем будущем. Все остальные представители клана носили изо дня в день одни и те же грязные одежды, невзирая на страшную жару.
– Вы не можете купаться каждый день, – заявила она.
– Мы должны купаться ежедневно, – отпарировал Муди.
– Нет. Вы вымоете все клетки вашей кожи, простудите себе желудки и будете болеть.
Дискуссия закончилась вничью: каждый остался при своем мнении, а мы продолжали регулярно пользоваться душем.
Хотя Муди заботился о личной гигиене, как и прежде, но, что было невероятным, он не замечал окружавшей его грязи, если я не говорила ему об этом.
– В рисе черви, – пожаловалась я однажды.
– Неправда. Ты просто заранее себя настроила, что тебе здесь ничто не понравится.
В тот же день за ужином я украдкой перебрала свой рис, выловила черных червей и подбросила Муди в тарелку. Оставлять еду считалось невежливым, и Муди съел червей, не желая никого обидеть.
Махтаб иногда играла с детьми многочисленных родственников и даже выучила несколько слов по-персидски, но все же всегда старалась держаться возле меня и забавлялась своим кроликом. Однажды она посчитала следы от укусов комаров на лице. Их было двадцать три. Красные вздувшиеся пятна покрывали все ее маленькое тело.
Со временем Муди все чаще забывал о нашем присутствии. В первые дни он переводил на английский каждую, даже не заслуживающую внимания, беседу. Сейчас он уже не утруждал себя. Нас выставляли напоказ, и целыми часами мы должны были сидеть, стараясь сохранять милое выражение лица. Бывали дни, когда я и дочь разговаривали только между собой.
С нетерпением ждали мы минуты возвращения домой, в Америку.
На кухне постоянно подогревался котел с едой на случай, если кто-нибудь из домочадцев проголодается. Я часто замечала, как они запускали в котел большую ложку и пробовали, не обращая ни малейшего внимания на то, что остатки пищи падают обратно в котел или на пол. Столы и пол были усеяны сахаром, просыпанным неосторожными любителями чая. Тараканы размножались на кухне так же, как и в ванной.
Я почти ничего не ела. Амми Бозорг обычно готовила на обед хореш с бараниной, не жалея сала с домбе – жирового отложения под хвостом выращиваемых в Иране овец.
Пища тушилась до полудня, наполняя дом тяжелым запахом курдючного сала. За ужином ни Махтаб, ни я были уже не в состоянии взять в рот приготовленную Амми Бозорг еду, которая даже Муди не нравилась.
Его медицинское образование и здравый рассудок постепенно брали верх над уважением к родственникам. Так как я постоянно жаловалась на антисанитарию, Муди в конце концов стал тоже замечать ее.
– Я врач и думаю, что ты должна прислушаться к моему совету, – сказал он однажды сестре. – Ты грязная. Тебе следует искупаться. Ты должна приучить детей принимать душ. Жаль, что вы так живете.
Амми Бозорг пропустила мимо ушей слова младшего брата и послала в мою сторону ненавидящий взгляд.
Ежедневное купание не было единственным западным обычаем, который раздражал золовку. Однажды Муди, выходя из дому, поцеловал меня в щеку на прощание. Амми Бозорг тотчас же взорвалась от гнева.
– Тебе нельзя вести себя так в этом доме, – отчитала она Муди, – здесь дети!
Видимо, не имело значения, что самый младший «ребенок», Ферест, готовилась как раз поступать в Тегеранский университет.
После нескольких дней затворничества в мрачном доме Амми Бозорг нас, наконец, взяли за покупками. Муди, Махтаб и я с нетерпением ждали этого пункта культурной программы. Представлялась возможность приобрести экзотические сувениры для близких и приятелей в Штатах. Мы хотели воспользоваться оказией и купить для себя в Тегеране по низким ценам бижутерию и ковры.
Несколько дней подряд Зухра или Маджид подвозили нас утром в город. И каждый такой выезд был приключением. Мы оказывались в сутолоке города, который за четыре послереволюционных года разросся с пяти до четырнадцати миллионов жителей. Хотя точно установить численность населения было невозможно. В результате экономического кризиса обезлюдели деревни, и их жители сбежали в Тегеран в поисках хлеба и крыши над головой. В город хлынули также тысячи, а может быть и миллионы, беженцев из Афганистана.
Всюду, где мы ходили, нас окружали толпы угрюмых, уставших людей.
Вдоль улиц тянулись сточные канавы. Люди пользовались запасами этой бесплатной воды в самых разных целях. По сути это была общедоступная помойка. Продавцы лавок полоскали там тряпки для пола. Одни мочились в воду, другие – мыли в ней руки. Нам постоянно приходилось перепрыгивать через грязный поток.
По всему городу велись строительные работы, выполняемые вручную, беспорядочно. Даже речи не шло о строительных нормах, пользовались брусом разных размеров, и, таким образом, воздвигались строения сомнительного качества и устойчивости.
Город находился как бы на осадном положении, под контролем вооруженных до зубов солдат и полиции. Прогулка по улицам вселяла страх. Казалось, что дула карабинов направлены прямо на нас.
Вездесущие солдаты революции, одетые в пятнистые куртки, задерживали машины, выискивая контрреволюционную контрабанду: наркотики, книги, критикующие шиитскую доктрину ислама, или магнитофонные кассеты американского производства. За последние грозило полгода заключения.
Были там и зловещие пасдары – специальная полиция, которая носилась на белых «ниссанах». Каждый мог рассказать какую-нибудь леденящую кровь историю о них. Овеянные мрачной легендой пасдары были в сущности шайкой наделенных властью уличных бандитов.
Одной из их обязанностей был контроль за женщинами: правильно ли, в соответствии ли с законом страны они одеты. Я не в состоянии была понять явное противоречие: женщины на виду у всех кормили детей грудью – их не волновало, что обнажен бюст; главное – закрыта голова, подбородок, руки до кистей и ноги до щиколоток.
В этом странном обществе мы, как сказал Муди, относились к элите. Мы пользовались авторитетом уважаемой семьи, которая по сравнению с рядовыми иранцами была более культурной и образованной. Даже Амми Бозорг представляла образец мудрости и чистоты. Мы были также относительно состоятельны.
Страну захлестывала инфляция. Банки платили около ста риалов за доллар, но Муди предупредил, что рыночный курс еще выше. Теперь я знала, зачем он отправлялся несколько раз в город без меня. У него было столько наличности, что не представлялось возможным носить ее с собой. Он наполнил деньгами карманы всех костюмов, висящих в шкафу нашей спальни.
Я поняла, почему люди на улице носили пачки денег толщиной десятки сантиметров. К тому же в Иране нет кредитных карточек, и чеки здесь не в ходу.
Мы с Муди не могли представить себе относительной ценности этой валюты. Приятно было почувствовать себя состоятельными. Мы купили наволочки с ручной вышивкой, инкрустированные золотом деревянные рамки для живописи, миниатюры с редким рисунком. Муди подарил Махтаб золотые сережки с алмазами, а мне колечко, браслет и алмазные сережки, а также золотое ожерелье за три тысячи долларов. Я знала, что в Штатах оно будет стоить гораздо больше.
Махтаб и мне понравились длинные цветные платья из Пакистана, и Муди купил их нам.
Мы выбрали комплекты полированной мебели из натурального дерева. Она была инкрустирована золотыми листочками со сложным рисунком и обтянута экзотической тканью. Это была мебель для столовой, а диван и кресла для гостиной. Маджид сказал, что организует транспортировку мебели в Америку морем. Мои опасения несколько рассеялись, когда Муди решился на эту покупку. Значит, он планировал возвращение домой.
В один из дней, когда Зухра собиралась взять меня, Махтаб и несколько женщин из семьи за покупками, Муди, демонстрируя свою щедрость, вручил мне толстую пачку банкнотов, которые даже не считал. В тот раз мне приглянулся итальянский гобелен размером полтора на два с половиной метра. Я знала, что он будет хорошо выглядеть у нас на стене. Стоил он около двухсот тысяч риалов, или приблизительно две тысячи долларов. К концу дня у меня еще оставалось много денег, которые я хотела сохранить. Не приходилось сомневаться, что Муди не спросит о них.
Почти ежевечерне приходил кто-либо из многочисленных родственников Муди. Мы с Махтаб на этих приемах чувствовали себя чужими. Для нас они были сплошной мукой, но отчасти давали хоть какое-то развлечение.
Родственников Муди можно было разделить на две категории. Половина рода жила, как Амми Бозорг, безразличная к грязи, отвергая достижения цивилизации, рьяно придерживаясь наказов фанатичной шиитской доктрины ислама. Остальные были уже более западными, более культурными и дружелюбными, соблюдали правила гигиены. Они охотнее говорили по-английски и гораздо предупредительнее относились ко мне и Махтаб.
Нам нравилось навещать Резу и Эссей. В своем доме племянник Муди был настроен дружески. Эссей тоже не скрывала своей симпатии ко мне. Она пользовалась любой возможностью в разговоре со мной пополнить свои скромные познания в английском языке. Она и некоторые другие помогали мне в какой-то степени преодолеть чувство грусти и растерянности в чужой стране.
И все же мне нечасто удавалось забыть, что, как американку, меня относят к врагам.
В один из дней мы были приглашены к двоюродной сестре Муди, Фатиме Хаким. Некоторые иранки после брака берут фамилию мужа, но большинство остаются все-таки на девичьей фамилии. Неизвестно, как это было в случае с Фатимой, потому что она из семьи Хакимов и вышла замуж за Хакима, своего близкого родственника. Это была доброжелательная женщина лет пятидесяти. И хотя Фатима не говорила по-английски, за ужином, который был накрыт на полу в холле ее дома, она производила впечатление очень милой и заботливой. Ее муж, на редкость высокий для иранца, на протяжении всего вечера произносил себе под нос молитвы и читал Коран. А наш слух был атакован знакомым шумом разговорившихся родственников.
Сын хозяев невольно приковывал внимание. Ему могло быть лет тридцать пять, но рост его едва достигал ста двадцати сантиметров. Черты его лица также были детские. Скорее всего это снова был пример одной из многих генетических аберраций, которых я уже столько видела в переженившейся между собой семье Муди.
Во время ужина это создание, напоминавшее гнома, обратилось ко мне с хорошим британским выговором. Хотя мне было приятно услышать английский язык, но манера собеседника могла каждого вывести из равновесия. Как набожный человек, он не смотрел на меня вообще.
После ужина он снова заговорил со мной, глядя куда-то в угол:
– Нам бы хотелось, чтобы вы поднялись наверх.
Муди, Махтаб и я последовали за ним, где, к нашему удивлению, оказались в гостиной, обставленной американской мебелью. Полки с книгами на английском языке занимали всю стену. Сын Фатимы подвел меня к низкому дивану. Муди и Махтаб расположились по сторонам.
Пока мои глаза всматривались в такую милую и близкую мне обстановку этой комнаты, вошли другие члены семьи. Они заняли места в соответствии с иерархией.
Я вопросительно посмотрела на Муди. Он пожал плечами.
Муж Фатимы сказал что-то по-персидски, а сын перевел, обращаясь ко мне:
– Ты любишь президента Рейгана?
Озадаченная, пытаясь сохранить спокойствие, я ответила:
– Ну да.
Затем последовала серия вопросов:
– Тебе нравился президент Картер? Что ты думаешь об отношениях Картера с Ираном?
И тут я спасовала. Попав в западню в этой иранской гостиной, я не стала рьяно защищать свою страну и попробовала уйти от прямого ответа:
– Мне не хочется затрагивать эти темы. Я никогда не интересовалась политикой.
Но они не отступали.
– Хорошо, – сказал сын Фатимы. – Наверное, прежде чем приехать сюда, ты многое слышала о дискриминации женщин в Иране. Сейчас, находясь здесь, ты понимаешь, что это неправда?
Его вопрос-утверждение был слишком абсурдным, чтобы отмахнуться от него.
– Но я вижу совершенно иное, – ответила я, готовая взорваться.
Однако меня окружали высокомерные, уверенные в себе мужчины, перебирающие четки и бормочущие под нос «Аллах акбар», в то время как закутанные в чадру женщины сидели тихо и покорно, в позе зависимых людей.
– Я не хочу больше говорить об этом, – продолжила я неожиданно. – Я не стану отвечать ни на какие вопросы.
Я повернулась к Муди и попросила:
– Лучше забери меня отсюда.
Муди оказался в неловком положении, раздираемый желанием жены и обязанностью оказать уважение родственникам. Он ничего не сделал, но разговор перешел на другую тему – о религии.
Сын Фатимы взял с полки книжку и сделал на ней дарственную надпись: «Для Бетти. Дар от всего сердца».
Это был сборник поучительных изречений имама Али, основателя секты шиитов. Мне пояснили, что сам Магомет назначил Али своим последователем, но после смерти пророка суннитская секта пробралась к власти, получив контроль над большинством мусульманского мира. Это было по-прежнему основным предметом спора между суннитами и шиитами.
Я постаралась принять подарок так вежливо, как только могла, но вечер все же закончился конфликтом. Мы выпили чаю и вышли.
Когда мы оказались в нашей спальне в доме Амми Бозорг, Муди сказал:
– Ты вела себя бестактно. Тебе следовало с ними согласиться.
К моему удивлению мой муж разделял утверждения шиитов, придерживаясь мнения, что женщины в Иране имеют прав больше, чем кто-либо другой.
– Тебя настроили, – говорил он. – В Иране никто не ограничивает прав женщин.
Я не могла поверить. Ведь он сам видел, что иранки были невольницами своих мужей, что на каждом шагу они подвергались давлению со стороны властей и религии.
В ту ночь мы пошли в постель оскорбленные друг другом.
Нас уговорили посетить один из дворцов бывшего шаха. Когда мы оказались на месте, нас разделили в соответствии с полом. Я пошла за другими женщинами в переднюю. Здесь проверяли, не скрыли ли мы контрабанду и правильно ли одеты. На мне были манто и русари, подаренные Амми Бозорг, а также толстые черные чулки. Не было видно ни кусочка ноги, и все же я не прошла контроль. Мне предложили дополнительно надеть длинные брюки.
Объяснения Муди, что я иностранка и что у меня с собой нет длинных брюк, оказались напрасными. Вся наша группа терпеливо ждала, пока жена Маммаля, Насерин, из дома, который, благо, был рядом не принесет брюки.
Позже Муди утверждал, что этот факт не был проявлением дискриминации.
Осмотрев дворец, я почувствовала разочарование. Много овеянных легендой сокровищ было разворовано. Некоторые из оставшихся предметов были разбиты на куски. От шаха не осталось и следа, но экскурсовод рассказывал нам о бесчестно полученном им богатстве, а потом посоветовал обратить внимание на соседние трущобы и подумать о контрасте между роскошью шаха и нищетой людских масс. Мы проходили по пустым залам, а вокруг носились грязные и недосмотренные дети.
Впрочем, все это не имело для нас особого значения. Главное – мы отсчитали еще один день из тех, которые должны были провести в Иране.
Время двигалось так медленно. Как хотелось вернуться в Америку, к нормальной жизни.
Для Резы одним из самых приятных воспоминаний, оставшимся у него от пребывания у нас в Корпус Кристи, был праздник Благодарения. И он попросил меня запечь индейку.
Я обрадовалась и вручила Резе перечень необходимых продуктов.
Индейка оказалась жалкой невыпотрошенной птицей с головой, лапами и перьями. Кухня Эссей, хотя и запущенная, была оазисом чистоты по сравнению с кухней Амми Бозорг, и я с удовольствием взялась за приготовление американского праздничного блюда.
У Эссей не было противня. Она никогда не пользовалась духовкой своей газовой плиты. Мне пришлось разделить тушку на части, чтобы она поместилась в кастрюле. Я приобщила к работе Муди и Резу, которые бегали то на кухню Эссей, то на кухню Амми Бозорг.
На все это у меня ушел целый день, но в конце концов я состряпала индейку. Правда, она оказалась сухой, жесткой и безвкусной, однако понравилась Резе, Эссей и их гостям. В душе я должна была признать, что по сравнению с грязной и жирной пищей, какая подавалась нам в Иране, это было действительно божественное лакомство. Муди гордился мной.
Наконец наступил последний день нашего отпуска. Маджид пригласил нас в парк Меллят.
Это было приятно. Маджид был единственным человеком в доме Амми Бозорг с искрой жизни в глазах.
Мир бизнеса давал Маджиду столько свободного времени, сколько ему требовалось, и он тратил это время для развлечений с детворой всего рода. Из взрослых в этой семье только он хоть как-то интересовался детьми. Мы с Махтаб называли его веселым дядей.
На прогулку мы пошли вчетвером: Маджид, Муди, Махтаб и я. Ничего более приятного я бы и не могла себе представить в этот последний день нашего двухнедельного пребывания, которое, казалось, никогда не закончится.
Парк был оазисом зеленых лужаек и цветочных клумб. Махтаб так радовалась, что нашла место поиграть. Вместе с Маджидом они побежали вперед. Муди и я медленно шли за ними.
Ах, если бы я еще могла избавиться от этого идиотского пальто и платка. Я ненавидела жару и запах немытых тел, который проникал даже в этот райский сад. До чего же омерзителен был мне Иран!
Вдруг я почувствовала, что Муди сжал мою руку, нарушив тем самым шиитский обычай. Лицо его было задумчивое и печальное.
– Перед нашим отъездом кое-что произошло, – сказал он. – Ты об этом не знаешь.
– Что такое?
– Меня уволили с работы.
Я вырвала руку, подозревая подвох и чувствуя угрозу.
– Почему? – спросила я.
– Клиника хотела взять человека на мое место с окладом значительно ниже моего.
– Это неправда, – сказала я со злобой.
– Да нет же.
Мы сели на траву. Я заметила на лице Муди выражение глубокой депрессии, которая преследовала его последние два года. В молодости он покинул родину, чтобы искать счастья на Западе. Он тяжело работал, пробивался в науке, наконец получил диплом остеопата и дополнительно специализировался по анестезиологии. Мы вместе организовали ему практику сначала в Корпус Кристи, а потом в Альпене, небольшом городке штата Мичиган. Нам хорошо жилось, пока не начались проблемы. Во многих из них мы были виноваты сами. Часть возникала из-за расовых предрассудков, причиной других было наше невезение. В результате наши доходы резко упали, а профессиональный престиж Муди был подорван. Нам пришлось покинуть Альпену, которую мы так любили.
Более года Муди работал в клинике на Четырнадцатой улице в Детройте. Он согласился на эту должность только после моих уговоров, а сейчас он и ее потерял.
Будущее, однако, не рисовалось мне слишком мрачным. Сидя в парке и вытирая слезы, я пыталась утешать Муди.
– Не переживай, – говорила я, – ты получишь новую должность, а я вернусь на работу.
Муди был безучастен. Его взгляд стал тупой и пустой.
Ближе к вечеру мы с Махтаб приступили к самому приятному занятию – упаковке вещей. Возвращение домой было тем, чего мы желали больше всего на свете. Еще никогда и ниоткуда я так не стремилась уехать. «Еще только один иранский ужин, – уговаривала я себя. – Еще только один вечер среди людей, языка и обычаев которых я не могу понять».
Глазенки Махтаб блестели от счастья. Она уже представляла, как завтра вместе со своим кроликом будет сидеть в самолете.
Отчасти я старалась войти в положение Муди. Он понимал, что его страна и его семья не приняли меня, и я вовсе не стремилась демонстрировать радость в конце пребывания. Однако мне хотелось, чтобы он тоже готовился к отъезду.
– Пошевеливайся! – сказала я, заметив, что муж сидит на кровати погруженный в мысли, – сложим вместе наши вещи.
Я взглянула на чемодан с лекарствами, которые Муди привез в подарок Обществу врачей.
– Что ты собираешься делать с этим? – спросила я.
– Не знаю.
– Почему не отдашь их Хусейну?
Старший сын Баба Наджи и Амми Бозорг был неплохим практикующим аптекарем.
Послышался звонок телефона, но я почти не обратила на это внимания: мне хотелось закончить с чемоданами.
– Я еще не решил, что с этим сделать, – сказал Муди.
Голос у него был тихий, холодный.
Муди позвали к телефону, и я пошла за ним на кухню. Звонил Маджид, поехавший подтвердить нашу резервацию. Они разговаривали несколько минут по-персидски, а потом Муди сказал по-английски:
– Лучше будет, если ты сам скажешь это Бетти. Когда я взяла телефонную трубку, меня пробрал озноб. Я все поняла. Вдруг все начало укладываться в страшную мозаику – необычайная радость Муди от встречи с родственниками и его несомненный энтузиазм по отношению к исламской революции. Я вспомнила, как тратил он наши деньги налево и направо. Что будет с мебелью, которую мы купили? Ведь до сих пор Маджид ничего не сделал, чтобы отправить ее в Америку. Случайно ли сегодня утром Маджид с Махтаб убежали в парке? Не для того ли, чтобы мы с Муди могли поговорить один на один?
Мысленно я вернулась к тем таинственным беседам Муди с Маммалем, когда тот жил у нас в Мичигане. Я подозревала уже тогда, что они сговариваются против меня.
– Завтра вы не сможете вылететь, – сказал Маджид.
Делая над собой усилие, чтобы взять себя в руки, я спросила:
– Что ты имеешь в виду?
– Чтобы получить разрешение на выезд, вам необходимо было предъявить паспорта в аэропорту за три дня до вылета. Вы этого не сделали.
– Я не знала об этом.
– Значит, вы не сможете выехать завтра.
В голосе Маджида я почувствовала покровительственные нотки, точно он хотел сказать: «Вы, женщины, особенно с Запада, никогда не поймете, как действительно устроен здешний мир». Но было что-то еще, что подтверждало: все это заранее спланировано.
– На какой ближайший рейс мы можем надеяться? – прокричала я в трубку.
– Не знаю. Мне нужно проверить. Возвращая телефонную трубку, я ощутила, как силы покидают меня. Интуиция мне подсказывала, что речь идет о чем-то большем, чем бюрократическая проблема с паспортами. Я потащила Муди в спальню.
– Что происходит? – спросила я.
– Ничего, полетим следующим рейсом.
– Почему ты не побеспокоился предъявить паспорта?
– Никто об этом не подумал. Я была близка к истерике.
– Я не верю тебе! – крикнула я. – Бери паспорта, бери наши вещи и едем в аэропорт. Мы скажем им, что не знали о трехдневном режиме. Может быть, нам разрешат сесть в самолет. Если нет, то останемся там до тех пор, пока не сможем улететь.
Муди с минуту молчал, потом глубоко вздохнул. Мы жили вместе уже семь лет и все эти годы избегали конфликтов. Мы оба искусно затягивали время, когда возникали серьезные проблемы.
Сейчас Муди понимал, что не может продолжать дальше игру, а я, в свою очередь, знала, что он хочет мне сказать.
Он сел возле меня и попытался обнять, но я отодвинулась. Он говорил спокойно и решительно, с нарастающей силой в голосе:
– Я действительно не знаю, как тебе это сказать. Мы не едем домой. Остаемся здесь.
Гнев и отчаяние охватили меня. Я вскочила.
– Лжец! Лжец! Лжец! – кричала я. – Как ты мог это сделать? Ты же знаешь, что я прилетела сюда только по одной причине. Ты должен отпустить меня домой!
Муди, конечно, знал, но ему до этого не было дела.
Махтаб наблюдала эту сцену, не понимая, что означает такая страшная перемена в поведении отца. Муди рявкнул:
– Я не обязан отпускать тебя домой. Это ты должна делать все, что я тебе приказываю. Поэтому остаешься здесь.
Он схватил меня за плечи и толкнул. Его издевательский голос переходил почти в смех.
– Ты остаешься здесь на всю оставшуюся жизнь. Поняла? Не выедешь из Ирана. Останешься здесь до смерти.
Ошеломленная, я молча лежала на кровати. Слова Муди долетали до меня откуда-то издалека.
Махтаб, всхлипывая, прижала к себе своего кролика. Холодная, жестокая правда оглушила и раздавила нас. Неужели это происходит наяву? Неужели мы с Махтаб узницы? Заложницы? Пленницы этого коварного чужого человека, который еще недавно был любящим мужем и отцом?
Слезы негодования и отчаяния катились у меня из глаз, когда я выбежала из спальни и наткнулась на Амми Бозорг и других членов семьи.
– Все вы – банда лжецов! – крикнула я.
Не видно было, чтобы кто-нибудь заинтересовался или был озабочен проблемами американской жены Муди. Я стояла, глядя на их враждебные лица; я чувствовала себя смешной и беспомощной.
Слезы струились по щекам. И, не имея ни носового платка, ни салфетки, я, как и все в семье Муди, вытерла нос головным платком.
– Я хочу немедленно разговаривать со всей семьей!
Мое желание каким-то образом дошло до них, и они сообщили родственникам, чтобы те собрались.
Несколько часов мы с Махтаб провели в спальне, обливаясь слезами. Когда Муди потребовал, чтобы я отдала ему чековую книжку, я покорно вручила ее ему.
– А где остальные? – спросил он. У нас было три счета.
– Я привезла только одну.
Это объяснение удовлетворило его, и он не потрудился проверить мою сумочку.
Он оставил меня одну. Я сумела взять себя в руки и начала планировать линию обороны.
Поздним вечером, когда Баба Наджи вернулся с работы и съел ужин, а вся семья собралась по моему вызову, я, убедившись, что одета в соответствии с требованиями и держусь достойно, вошла в холл. Я продумала свою стратегию: обращусь к религиозным принципам, пример которым давал Баба Наджи. Добро и зло были для него образными понятиями.
– Реза, – произнесла я, стараясь, чтобы мой голос звучал спокойно, – переведи мои слова Баба Наджи.
Услышав свое имя, пожилой человек поднял на мгновение глаза, а затем, как всегда, опустил голову, не желая в своей набожности смотреть прямо на меня.
Надеясь, что мои слова будут точно переведены, я приступила к отчаянной обороне. Я сказала Баба Наджи, что не хотела приезжать в Иран, зная, что с момента прибытия в эту страну я лишаюсь основных прав, какие имеет каждая американская женщина.
– Так зачем же я все-таки приехала? – задала я риторический вопрос.
Я объяснила, что приехала, чтобы увидеть семью Муди и показать ей Махтаб. Была еще одна, более глубокая причина моего приезда, но я не могла, не нашла смелости в себе передать это словами и доверить родственникам Муди. Вместо этого я рассказала им о клятвопреступлении моего мужа.
В Детройте, когда я поделилась с Муди своими опасениями, что он мог бы задержать меня в Иране, его реакция была однозначной.
– Муди присягнул на Коране, что он не будет пытаться задерживать меня здесь вопреки моей воле, – заявила я, раздумывая, как отнесется к этому Баба Наджи. – Ты ведь человек религиозный. Как ты можешь допустить, чтобы он сделал нечто подобное после того, как присягнул на Коране?
Муди подтвердил правдивость моих слов о присяге, которую совершил перед Кораном.
– Но я оправдан, – сказал он. – Аллах простит меня, потому что, если бы я этого не сделал, она бы сюда никогда не приехала.
Баба Наджи принял быстрое решение. Реза перевел:
– Будем выполнять все, что да'иджан только пожелает.
Я рыдала, задыхалась от слез.
Вся семья делала вид, что ей безразлична моя судьба. Они обменивались между собой понимающими взглядами, явно удовлетворенные, что Муди показал свою власть над этой американской женщиной.
Мы с Махтаб плакали, пока сон не сморил моего несчастного ребенка. Я не могла сомкнуть глаз всю ночь. В голове стучало, точно молотом. Я чувствовала омерзение к мужчине, который спал рядом, и в то же время я боялась его.
Махтаб, лежавшая между нами, всхлипывала во сне так, что у меня разрывалось сердце. Как мог Муди спать так спокойно рядом со своей маленькой измученной девочкой? Как он мог поступить с нею таким образом?
Я, по крайней мере, сама сделала выбор, но в чем была повинна Махтаб? Она была четырехлетним невинным созданием, попавшим в западню жестоких реалий этого необычного, полного проблем брака.
Всю ночь я упрекала себя: как я могла привезти ее сюда?
Но не находила ответ.
Я никогда не интересовалась политикой. Я прежде всего мечтала о счастье, о взаимопонимании в моей семье. Но в эту ночь, снова и снова вспоминая всю нашу жизнь, я поняла, что даже те проблески радости, которые мы испытывали, были всегда отмечены болью.
Головные боли свели нас с Муди более десяти лет назад. Вначале боль охватывала левую сторону и затем быстро распространялась по всему телу. Мигрени начали мучить меня в феврале 1974 года. Они сопровождались обмороками и общей слабостью. Даже незначительный шум вызывал болевые ощущения в затылке и позвоночнике. Только сильнодействующие лекарства позволяли преодолеть эти мучительные боли, заснуть.
Эти страдания были еще тяжелее от того, что именно в то время, в возрасте двадцати восьми лет, я поверила, что наконец готова начать зрелую жизнь самостоятельно. Замуж я вышла по легкомыслию и оказалась в браке без любви, который закончился длительным и изматывающим бракоразводным процессом. Сейчас, однако, я вступала в этап стабилизации и счастья, что явилось непосредственным результатом моих собственных усилий. Работа в Центре «Ганкок» в Элсе штата Мичиган открывала мне перспективы карьеры в области управления. Вначале меня взяли счетоводом в ночной смене, но со временем я выросла до главного бухгалтера. Моей зарплаты хватало, чтобы иметь удобный, хотя и скромный дом для меня и сыновей Джо и Джона.
Я с удовольствием занялась общественной деятельностью: оказывала содействие местному благотворительному обществу помощи больным, страдающим атрофией мышц, в координировании годовых планов. Эта моя деятельность увенчалась участием в телевизионной программе Джери Левиса. В прошлом году я выступила по телевизору в Лансинге по случаю Праздника труда. Я упивалась вновь открытой в себе способностью к самостоятельной жизни.
Было очевидно, что я делаю успехи, что реализую (может быть, и не совсем, но все-таки) честолюбивые цели, которые поставила перед собой еще будучи девочкой. Я хотела в жизни чего-то большего: возможно, диплома о высшем образовании; возможно, карьеры судьи; возможно, иметь собственное предприятие; возможно… Кто знает? Мне хотелось вырваться из монотонного быта, в котором жили окружающие меня люди.
Но начались головные боли. Многие дни я страстно желала лишь одного: освободиться от мучительной, отупляющей боли.
Отчаянно ища помощи, я пошла к доктору Рогеру Моррису, который издавна лечил нашу семью. В тот же день он направил меня в госпиталь в Карсон Сити, где находился Центр остеопатии.
Я лежала в отдельной палате с зашторенными окнами, без света, свернувшись, как эмбрион, и со страхом слушала врачей, которые допускали опухоль мозга.
Навестить меня приехали родители из Банистера. С собой они взяли Джо и Джона. Когда на следующий день ко мне заглянул пастор, я сказала, что хочу написать завещание.
Мой случай был необычный. Мне предложили физиотерапию, а затем мануальную терапию. Мне было так плохо, что я не обратила внимания на доктора, который пришел на первую процедуру. Я лежала лицом вниз на жесткой кушетке, предоставив себя его рукам, массировавшим мышцы плеч. Прикосновения были деликатными, манеры изысканными, он был сама любезность.
Он помог мне перевернуться на спину. Я внимательно присмотрелась к доктору. Выглядел он старше меня лет на шесть. Его нельзя было назвать красивым, но коренастая крепкая фигура не могла не понравиться. Очки, придававшие ему вид ученого, закрывали лицо с восточными чертами. Если не считать легкого акцента, все остальное было вполне американским.
Звали его Саид Бозорг Махмуди, но некоторые врачи называли его просто Муди.
Процедуры доктора Махмуди были светлыми минутами моего пребывания в госпитале. На какое-то время они смягчали боль, а само его присутствие благотворно действовало на мое состояние. Он был самым заботливым доктором, с каким я когда-либо встречалась. Я ежедневно виделась с ним на процедурах, но зачастую на протяжении дня он заглядывал ко мне поинтересоваться моим состоянием. Заходил он и по вечерам пожелать спокойной ночи.
Целая серия исследований исключила наличие опухоли мозга. Медики пришли к выводу, что я страдаю острой формой мигрени, которая в конце концов должна отступить сама. Диагноз был неокончательным, но оказался правильным, потому что спустя несколько недель боль начала действительно отступать. Все это не имело никаких рецидивов, но драматически изменило ход моей жизни.
В последний день моего пребывания в госпитале доктор Махмуди сказал:
– Мне нравятся ваши духи. – Он говорил о духах «Чарли», которыми я всегда пользовалась. – Когда я возвращаюсь домой, постоянно чувствую этот запах на руках.
Он поинтересовался, можно ли позвонить мне справиться о здоровье, когда я выпишусь.
– Разумеется, – ответила я и продиктовала адрес и телефон.
Закончив процедуру, он наклонился и поцеловал в губы. Откуда мне было знать, куда приведет меня этот поцелуй?
Муди не любил говорить об Иране. «Я никогда не хотел бы вернуться туда, – сказал он однажды. – Я изменился. Мои близкие уже не поймут меня».
Хотя Муди нравился американский стиль жизни, он критиковал шаха за американизацию Ирана. Его постоянно злило, что в Иране не продают уже на каждом углу челокебабы – иранские закуски из баранины на горстке риса. Вместо этого везде буйно разрастался «Макдональд». Это была уже не та страна, в которой Муди родился и воспитывался.
Родом он был из в Шуштаре, юго-западной части Ирана, но после смерти родителей переехал в дом сестры в Хоромшар в той же провинции. Иран – типичная страна третьего мира, где отчетливо видна разница между высшими и низшими классами. Если бы Муди появился на свет в более бедной семье, он разделил бы судьбу бесчисленной бедноты Тегерана, живя в склеенной из строительных отходов мазанке, вымаливая любую работу, а то и милостыню. Но его семье Аллах ниспослал деньги и благосостояние. По окончании гимназии Муди получил финансовую поддержку и мог искать свое место в жизни. У него были свои амбиции.
Многие хорошо обеспеченные молодые иранцы путешествовали тогда по всему миру. Правительство шаха приветствовало учебу за границей, надеясь, что это ускорит развитие страны. В конечном счете эта стратегия обернулась против ее создателей. Иранцы оказались устойчивы к влиянию западной культуры. Даже те, кто на протяжении десятков лет жил в Америке, часто поддерживали связи только с другими иранскими эмигрантами. Они сохранили исламскую веру и персидские обычаи. Однажды я встретила иранку, которая прожила в Штатах двадцать лет и не имела понятия, что такое кухонное полотенце. Когда я показала ей, она признала это хорошим изобретением.
Авангард иранских студентов усвоил для себя иную вещь: убеждение, что народ может сам определить форму правления и избрать правительство. Это развитие политического сознания привело в конце концов к падению шаха.
Судьба Муди в определенном смысле была нетипичной. За двадцать лет он усвоил многие обычаи западного общества и в отличие от своих земляков взял у политики развод. Он обнаружил мир, весьма отдаленный от мира своего детства, мир, который предоставил ему больше достатка, культуры и элементарного уважения к человеческой личности, нежели иранское общество. Муди действительно хотел стать человеком Запада.
Прежде всего он поехал в Лондон, где два года изучал английский. В Америку Муди попал 11 июля 1961 года со студенческой визой, выполнил необходимые требования и первый диплом получил в университете штата Миссури. Несколько лет он изучал математику. Будучи достаточно способным, он легко справлялся с любым предметом и чувствовал, что мысль о новых успехах не дает ему покоя. Его заинтересовало инженерное дело. Он возобновил учебу, а затем получил работу в фирме турецкого бизнесмена. Фирма, которая была субподрядчиком НАСА, занималась разработкой программ «Аполлон». Муди часто с гордостью упоминал, что есть и его толика в том, что нога человека ступила на Луну.
В тридцать лет он снова почувствовал беспокойство. На этот раз его внимание привлекла специальность, наиболее уважаемая его близкими, профессия его родителей. И он решает стать врачом. Однако несколько медицинских школ отказались принять его по причине возраста. Наконец он поступил в колледж по специальности «остеопатия» в Канзас Сити.
Когда мы познакомились поближе, он как раз закончил практику в Карсон Сити и должен был начать трехлетнюю специализацию в остеопатическом госпитале в Детройте, где хотел остаться анестезиологом.
– Тебе нужно специализироваться в общей медицине, – убеждала я его.
– Анестезиология приносит деньги, – ответил Муди.
Он получил уже разрешение заниматься в Штатах врачебной практикой и прокладывал дорогу к получению американского гражданства.
Создавалось впечатление, что он собирается разорвать всякие связи с семьей. Он редко писал домой, даже своей сестре Амми Бозорг, которая переехала из Хоромшара в Тегеран. Это отсутствие контактов с близкими меня несколько огорчало. Конечно, у меня самой были проблемы в моей собственной семье, но я по-прежнему очень верила в значение родственных уз.
– По крайней мере, ты должен им звонить, – сказала я. – Ты врач, у тебя достаточно денег, чтобы позвонить в Тегеран раз в месяц.
Это я уговорила его навестить свою родню. После окончания практики он поехал, правда неохотно, на две недели к Амми Бозорг. Он ежедневно писал мне оттуда, писал о том, как сильно тоскует по мне. Я и сама была озадачена тем, что тоже скучаю по нему. И вот тогда-то я поняла, что начинаю любить его.
Мы были вместе все три года, пока Муди проходил практику. Подарки, которые он приносил мне, были какими-то особенными. Мой первый муж не признавал этого, а Муди помнил даже самые незначительные даты и часто сам готовил поздравительные открытки. В день рождения он подарил мне искусно выполненную музыкальную шкатулку, украшенную фигуркой матери с ребенком на руках.
– Потому что ты такая хорошая мать, – сказал он. Я пользовалась ею, когда укладывала Джона под мелодию «Колыбельной» Брамса. Моя жизнь, казалось, была устлана розами.
Однако я твердо заявила, что не собираюсь снова выходить замуж.
– Хочу быть свободной, – объяснила я ему. – Не хочу ни от кого зависеть.
И он тогда чувствовал то же самое. Практика в госпитале Детройта была связана у Муди с дополнительными дежурствами. Тем временем в Элсе я примерялась тщательнее, чем когда-либо, к роли главы дома, своего собственного дома. Начала осуществляться моя многолетняя мечта: я записалась на курсы и успешно изучала управление промышленностью.
Когда Муди вырывался в конце недели, он ехал три с половиной часа на машине, чтобы увидеть меня и мальчишек. Всегда привозил много подарков. В те уик-энды, когда он должен был дежурить у телефона, я отправлялась в Детройт и оставалась у него.
Поцелуи Муди действовали на меня так, что я забывала обо всем. Он был нежным любовником, заботился, чтобы мне было приятно так же, как и ему. Никогда до того я не чувствовала такого сильного физического влечения. Мы просто не могли насладиться друг другом.
Наша жизнь, полная напряжения, текла, однако, благословенно. Муди хорошо заменял отца моим сыновьям. Мы брали Джо и Джона в зоопарк, на пикники, а нередко и на праздники разных национальных групп в Детройте, где мы знакомились с восточной культурой.
Муди научил меня готовить свои традиционные блюда. Моим сыновьям, друзьям и мне самой понравилась такая еда. Я начала понемногу заботиться о Муди. Мне доставляло удовольствие убирать у него, готовить, делать для него покупки. Его холостяцкое жилище нуждалось в женской руке.
У него была целая коллекция книг с анекдотами и описанием различных фантастических фокусов. Он постепенно становился душой всех компаний.
Как-то он познакомил меня с некоторыми основами ислама. На меня произвел впечатление тот факт, что эта вера по многим философским толкованиям совпадала с иудейско-христианскими традициями. Аллах для мусульман – это то же высшее существо, которого я и мои единоверцы из костела Свободных Методистов считаем своим Богом. Мусульмане верят, что Моисей был посланным Богом пророком и что Ветхий Завет – это закон Божий, объявленный евреям. Они верят, что Иисус также был пророком и что Новый Завет – святая книга. Магомет в их представлении был последним и самым важным из пророков, избранным непосредственно Богом. Его Коран, как последняя из объявленных святых книг, главенствует над Ветхим и Новым Заветом.
Муди объяснил мне, что ислам делится на многие секты. Подобно тому как христианин может быть баптистом, католиком или лютеранином, так и ряд законов, руководящих жизнью какого-нибудь мусульманина, может отличать его от других верующих. Семья Муди принадлежала к секте шиитов, малоизвестной западному миру. Как утверждал Муди, это были фанатичные фундаменталисты.
Хотя в Иране они представляли доминирующую секту, но не имели влияния среди представителей власти шаха. Муди перестал исповедовать экстремистское направление ислама. Правда, он по-прежнему не ел свинины, но любил побаловать себя рюмкой крепкого алкоголя. Редко случалось, чтобы он вытаскивал молитвенный коврик и исполнял религиозные обряды.
Вскоре после моего приезда в Детройт, как раз на день рождения Муди, в его квартире зазвонил телефон. После короткого разговора Муди сказал мне:
– Несчастный случай. Вернусь как только смогу.
Когда он вышел, я побежала к машине, чтобы внести складные стульчики, корзины с тарелками и рюмками, а также блюда с персидскими кушаньями, которые приготовила дома в Элсе.
Через несколько минут появился доктор Джеральд Уайт с женой. Они принесли специально заказанный мною торт, украшенный красно-бело-зеленым иранским флагом и поздравлением на персидском: «С наилучшими пожеланиями в день рождения!».
Пришли остальные гости, около тридцати человек. И когда Муди вернулся, все уже были в праздничном настроении.
– Сюрприз! – крикнули все хором.
Муди широко улыбнулся, и улыбка стала еще душевнее, когда мы запели «Нарру Birthday».
Ему исполнилось тридцать девять, но реагировал он на празднество с юношеским энтузиазмом.
– Как замечательно ты все это организовала! Я в восторге, что так все удалось! – радовался он.
Я почувствовала удовлетворение: осчастливила его.
Это уже становилось в значительной степени целью моей жизни. После двух лет более близкого знакомства я посвящала Муди все свои мысли. Моя работа с каждым днем теряла привлекательность. Ценными были только дни, проведенные с Муди.
Карьера моя также поблекла. Я получила должность, которую занимал прежде мужчина, но платили мне меньше. К тому же мне все больше надоедало отражать ухаживания одного из начальников.
Уик-энды с Муди были для меня необходимы, чтобы освободиться от стресса. Этот уик-энд оказался особенно приятным: я удивила не только Муди, но и саму себя. Я гордилась тем, что сумела организовать такой прием, что оказалась искусной хозяйкой.
Гости разошлись далеко за полночь. Когда дверь закрылась за последним из них, Муди обнял меня и сказал:
– Я тебя очень люблю.
В январе 1977 года он сделал мне предложение.
Три года назад я бы не приняла предложение ни Муди, ни кого-либо иного. Сейчас я уже знала, что в состоянии позаботиться о себе и своей семье. Я возненавидела клеймо разведенной женщины.
Я любила Муди и чувствовала, что он тоже любит меня. За три года мы ни разу не поссорились. Сейчас передо мной был выбор, шанс на новую жизнь: стать женой и матерью. Я безмерно радовалась, что буду исполнять роль идеальной хранительницы домашнего очага. Может быть, я закончу колледж. Может, у нас будет ребенок.
Семь лет спустя, в эту страшную бессонную ночь, когда я металась по постели рядом с дочуркой и мужчиной, которого когда-то любила, я оказалась крепка задним умом: ведь было столько сигналов, которые я проигнорировала.
Я понимала, что воспоминания о прошлом ничем мне уже не помогут. Мы здесь – я и Махтаб – заложницы в чужой стране. Реальность была ужасна.
Сколько дней, недель, месяцев нам придется выдержать? Нет, Муди не поступит с нами так, не сможет. Он заметит наконец грязь, которая его окружает, ему станет противно. Он поймет, что все его профессиональное будущее связано с Америкой, а не с этим темным народом, которому следует еще только учиться азам гигиены и социальной справедливости. Он одумается. Он увезет нас домой.
После того как Муди заявил, что мы остаемся в Иране, прошло несколько дней в каком-то страшном расплывчатом кошмаре.
Мне как-то удалось сохранить ясность ума, и я еще в первую ночь подсчитала свои материальные возможности. Муди забрал у меня чековую книжку, но ему не пришло в голову поинтересоваться, есть ли у меня наличные деньги. Вытряхнув сумочку, я нашла целое сокровище – деньги, о которых мы оба забыли в суматохе сборов. У меня было почти двести тысяч риалов и сто долларов в американской валюте. Риалы равнялись двум тысячам долларов, а американскую валюту можно было бы многократно умножить, если бы мне удалось произвести обмен на черном рынке. Я спрятала свое богатство в кровати под тонким матрасом. Каждое утро, когда Муди и все семейство молились, я вынимала деньги и прятала под многочисленными слоями своей одежды на тот случай, если бы на протяжении дня представилась какая-нибудь оказия. В этих деньгах была вся моя сила, мой спасательный круг. Я не знала, что я могла сделать с их помощью, но, может быть, они помогут мне купить свободу. Когда-нибудь каким-нибудь образом мы с Махтаб выберемся из этой тюрьмы.
Да, это была тюрьма. Муди забрал наши американские и иранские паспорта, а также наши свидетельства о рождении. Без этих самых важных документов мы не могли выехать из Тегерана, даже если бы нам удалось убежать из дома.
Мы с дочерью редко выходили из спальни. На меня напали разные хвори. Я могла есть только понемножку риса без приправ. И хотя силы меня почти покинули, я не могла спать. Муди дал мне лекарства.
Большую часть времени он оставлял нас одних, желая, чтобы мы смирились с судьбой и перспективой провести остаток жизни в Иране. Сейчас он был скорее тюремным стражем, нежели мужем. Ко мне он относился пренебрежительно, но (уму непостижимо) был убежден, что Махтаб, которой скоро должно было исполниться пять лет, легко и с удовольствием примет эту перемену в ее жизни. Он старался вернуть ее привязанность, но она замкнулась. Когда он пытался взять ее за руку, она уходила и прижималась ко мне. Ее карие глазенки выражали изумление, когда она смотрела на папу, который внезапно стал нашим врагом.
Каждую ночь Махтаб плакала во сне. Постоянно боялась оставаться одна в туалете. Обе мы страдали несварением и расстройством желудка. Немалую часть дня и ночи мы проводили в кишащей тараканами ванной, которая стала нашим убежищем. Беспомощные в своем уединении, мы произносили ежедневную молитву: «Боже милосердный, помоги нам преодолеть эти преграды, помоги нам найти безопасный путь, чтобы мы могли вернуться в Америку к своим близким». Я всегда твердила дочурке, что мы все время должны держаться вместе. Больше всего на свете я боялась, что Муди заберет ее у меня.
Единственным доступным для меня развлечением было штудирование Корана в английском переводе Рашида Халифы, имама мечети в Туксоне штата Аризона. Эта святая книга была предоставлена мне для прозрения. Мне так необходимо было чем-нибудь заняться, что я ждала, когда первые лучи восходящего солнца проникнут через окно нашей спальни, в которой не было ламп, и я смогу читать. Голос Баба Наджи, выводящий в холле молитвы, монотонно звучал, когда я внимательно вчитывалась в святую книгу ислама, ища абзацы, определяющие отношения мужа и жены.
Отыскав в Коране какие-нибудь аргументы, напоминающие о правах женщин и детей, я показывала их Муди и другим членам семьи.
В стихе 34 я наткнулась на такие тревожные указания Магомета:
«Мужчины стоят выше женщин, потому что Аллах дал превосходство одним над другими и потому что они раздают свое. Поэтому благонравные женщины покорны и сохраняют в тайне то, что спрятал Аллах. И наставляйте тех, неповиновения которых боитесь, оставляйте их в ложе и бейте их! А если они вам послушны, то старайтесь не пользоваться принуждением по отношению к ним. Воистину Аллах возвышен, велик».
Однако уже следующий стих давал мне повод для надежды:
«А если опасаетесь разрыва между ними, то пошлите посредника из его семьи и посредника из ее семьи. Если они захотят помириться, то Аллах приведет к согласию. Аллах всеведущ!»
– Обе наши семьи должны помочь в разрешении проблемы, – сказала я Муди, показывая ему стих.
– Твои родственники не мусульмане, – ответил он. – А кроме того, это твоя проблема, а не наша.
Это были мусульмане-шииты, продолжавшие праздновать победу революции, лицемерно рядившиеся в одежды фанатизма. Как могла я, христианка, американка, женщина, отважиться на собственное толкование Корана, нарушая монополию имама Резы, аятоллы Хомейни, Баба Наджи или, наконец, моего мужа? Как жена Муди, по мнению всех, я была его имуществом, и он мог со мною делать все, что ему захочется.
На третий день заточения, именно тогда, когда мы должны были вернуться домой в Мичиган, Муди заставил меня позвонить родителям. Он объяснил, что я должна говорить, и внимательно прислушивался к разговору. Он держался довольно грозно, чтобы вызвать у меня послушание.
– Муди решил, что мы останемся немного дольше, – сказала я своим, – сейчас не возвращаемся домой.
Мама и папа были в отчаянии.
– Не волнуйтесь, – говорила я, стараясь сохранить беззаботный тон, – мы скоро приедем.
Это их успокоило. Я ненавижу ложь, но рядом стоял муж и у меня не было выбора. Мне мучительно хотелось быть со своими, обнять Джо и Джона. Увижу ли я их когда-нибудь?
Муди стал капризным, хмурым и злым, и сейчас уже из-за Махтаб. Временами он все же пытался быть милым и вежливым. Мне казалось, что он выведен из равновесия и не уверен, как и я. Время от времени он делал усилия над собой, чтобы помочь мне привыкнуть.
– Бетти приготовит сегодня ужин, – сказал он как-то Амми Бозорг.
Он взял меня с собой за покупками. Хотя вначале меня обрадовал яркий блеск солнца, я отметила про себя, что звуки и запахи города стали еще более чужими и отталкивающими, чем раньше. В нескольких кварталах от дома находился мясной магазин. Мы пошли туда лишь для того, чтобы услышать:
– Мяса уже нет, будет после четырех, приходите позже.
Еще в нескольких магазинах нам ответили также. Повторив во второй половине дня нашу вылазку, мы нашли наконец говядину для жаркого в магазине за две мили от дома.
В грязной кухне Амми Бозорг я старалась, как могла, выдраить посуду и приготовить американское блюдо, не обращая внимания на суровые взгляды золовки.
После ужина Амми Бозорг взяла власть над младшим братом:
– Наши желудки не переносят говядины. Никогда больше в моем доме не будет этого мяса.
В Иране говядина считается мясом низшего сорта. На самом же деле Амми Бозорг хотела сказать, что блюдо, которое я приготовила, было ниже ее достоинства.
Муди не смог возразить и ничего не ответил. Было ясно, что Амми Бозорг не собиралась принимать ни крупицы моего вклада в ежедневное функционирование своего хозяйства. Вся семья игнорировала меня: когда я входила в комнату, они отворачивались или смотрели на меня исподлобья. Всему причиной было мое американское происхождение. В первую неделю нашего заключения одна лишь Эссей разговаривала со мною вежливо. Однажды ей удалось на минуту увести меня в сторону.
– Мне очень жаль, – извинялась она, – ты мне нравишься, но нам всем приказали, чтобы мы держались на расстоянии. Нам нельзя встречаться с тобой и нельзя разговаривать. Меня беспокоит все то, что тебе приходится переживать, но я не могу пойти на конфликт с семьей.
Я задавала себе вопрос: неужели Амми Бозорг действительно хочет, чтобы я какое-то время жила в изоляции и презрении? Что в самом деле происходит в этом сумасшедшем доме?
Муди выглядел довольным жизнью за счет щедрых родственников. Что-то бормотал, что ищет работу, но вся его инициатива сводилась к тому, чтобы послать одного из племянников поинтересоваться статусом его медицинского диплома. Он был уверен, что как практиковавший в Штатах врач, немедленно вольется в местные медицинские круги. Он хотел работать здесь по своей специальности.
Для заурядного иранца время не имеет значения, и Муди быстро вернулся к прежнему образу жизни. Дни проходили за слушанием радио, чтением газет и за бесконечными пустыми разговорами с Амми Бозорг. Несколько раз он брал меня с Махтаб на короткую прогулку, но по-прежнему злился на меня. Иногда он с племянниками уходил к своим близким. Однажды принял участие в антиамериканской демонстрации и вернулся возбужденный и агрессивный.
Проходили дни, нескончаемые, знойные, мучительные и страшные. Меня охватывала все более глубокая меланхолия, точно я умирала. Я почти не ела, беспокойно спала, хотя Муди закармливал меня снотворным.
Однажды, а было это вечером, я случайно оказалась возле телефона, когда позвонили. Инстинктивно я подняла трубку и неожиданно услышала голос мамы. Она сообщала, что уже много раз пыталась связаться со мной, и, не тратя времени на лишние разговоры, быстро продиктовала мне номер телефона и адрес Отделения США при посольстве Швейцарии в Тегеране. С бьющимся сердцем я старалась запомнить номер. Через минуту Муди вырвал у меня трубку и прервал разговор.
– Ты не должна с ними разговаривать, если меня нет рядом! – произнес он приговор.
В ту ночь я придумала простой шифр для телефона и адреса посольства и записала в свой блокнот, который вместе с деньгами спрятала под матрасом. На всякий случай я повторяла про себя цифры всю ночь. Наконец я могу искать помощь, ведь я гражданка Америки. Наверняка, посольство вытащит меня с дочерью отсюда, если только мне удастся связаться с ним.
Оказия представилась на следующий день. Муди ушел, не сказав куда. Амми Бозорг и остальные впали в ежедневное оцепенение вроде сиесты. Сердце выскакивало из груди, когда я прокралась на кухню, подняла трубку и набрала нужный номер. Секунды казались мне часами, пока я ждала связи. Один сигнал, второй, третий… Я молилась, чтобы кто-нибудь ответил. И в тот момент, когда подняли трубку, в комнату вошла Ферест, дочь Амми Бозорг. Я старалась сохранить спокойствие. Ферест никогда не обращалась ко мне по-английски, и я была уверена, что она не поймет разговора.
– Алло, – произнесла я сдавленным голосом.
– Прошу вас, говорите громче, – ответил женский голос.
– Я не могу. Умоляю вас о помощи. Я в заключении.
– Говорите громче. Я ничего не слышу.
Пытаясь справиться со слезами и охватившим меня отчаянием, я ответила немного громче:
– Помогите! Меня держат под замком!
– Говорите громче, – сказала женщина и положила трубку.
Спустя десять минут после возвращения домой Муди ворвался в нашу комнату, вытащил меня из постели и начал трясти за плечи.
– С кем ты разговаривала?!
Я была захвачена врасплох. Я знала, что весь дом ополчился против меня, но не думала, что Ферест донесет моему мужу сразу же в момент его возвращения. Я на ходу пыталась придумать какое-нибудь объяснение.
– Ни с кем, – ответила я едва слышно. Это была полуправда.
– Ну да. Ты сегодня разговаривала с кем-то по телефону.
– Нет. Я пыталась позвонить Эссей, но мне не удалось. Я ошиблась.
Пальцы Муди впились в мои плечи. Рядом с нами Махтаб зашлась в крике.
– Ты лжешь! – заорал Муди.
Он грубо толкнул меня на кровать и издевался еще какое-то время. Выходя из комнаты, бросил через плечо категоричный приказ:
– Никогда больше не прикоснешься к телефону!
Поскольку я не могла предвидеть, как Муди будет в будущем вести себя по отношению ко мне, мне трудно было составить какой-нибудь план действий. Когда он угрожал мне, я утверждалась в мысли, что надо любым путем наладить связь с посольством. Когда он был заботливым, у меня появлялась надежда, что он одумается и увезет нас домой. Он вел себя таким образом, что принятие каких-нибудь решений становилось невозможным. Каждую ночь я пыталась найти облегчение с помощью порошков.
Однажды в конце августа (мы были в Иране уже почти месяц) он спросил меня:
– Хочешь ли ты отметить в пятницу день рождения Махтаб?
Я поразилась. Махтаб исполнялось пять лет во вторник, четвертого сентября, а не в пятницу.
– Мне бы хотелось, чтобы это было в день ее рождения.
Муди был взволнован. Он объяснил мне, что прием по случаю дня рождения в Иране – это большое дружеское мероприятие, которое всегда устраивается в пятницу, когда люди не работают.
Я продолжала сопротивляться. Если я не могу противостоять Муди в борьбе за свои права, то буду бороться за каждую минуту счастья для Махтаб. Меня не интересовали обычаи Ирана. К моему великому удивлению и неудовольствию семьи Муди согласился устроить прием во вторник.
– Я хочу купить ей куклу, – сказала я, подчеркивая свое преимущество.
Муди и на это согласился. Мы обошли множество магазинов, отказываясь от иранских кукол, в основном некрасивых, пока не нашли японскую куклу, одетую в бело-красную пижаму. Во рту у нее была пустышка, и, когда ее вынимали, кукла смеялась или плакала. Стоимость ее была по иранскому курсу около тридцати долларов.
– Это очень дорого, – запротестовал Муди, – мы не можем столько денег заплатить за куклу.
– И все же мы купим, – решительно заявила я, – у нее здесь нет ни одной куклы.
Мы купили куклу.
Я надеялась, что этот прием доставит радость Махтаб, что это будет первое светлое событие на протяжении месяца. Она ждала его с нарастающим напряжением. Так приятно было видеть ее улыбку, слышать веселое щебетание.
Однако за два дня до этого торжества произошло несчастье. Играя на кухне, Махтаб упала с табурета. Табурет проломился под ее тяжестью, и острый край одной из деревянных ножек впился ей в плечо. Я прибежала на ее крик и ужаснулась при виде крови, струящейся из глубокой раны.
Муди быстро наложил бандажную повязку, а Маджид выкатил в это время машину, чтобы отвезти нас в больницу. Прижимая к себе рыдающего ребенка, я слышала, как Муди утешал меня. Больница располагалась в нескольких кварталах от нашего дома. Но нас не приняли.
– У нас нет скорой помощи, – сказал сотрудник приемного покоя, безразличный к мучениям Махтаб.
Преодолевая уличные пробки, Маджид отвез нас туда, где оказывали скорую помощь. Мы вошли внутрь. Страшная грязь и невообразимый беспорядок поразили нас, но выбора не было.
Муди отвел доктора в сторону и сказал ему, что он сам доктор из Америки и что его дочери нужно наложить швы. Тот пригласил нас в процедурный кабинет и в порядке профессиональной этики обязался выполнить все бесплатно. Махтаб судорожно держалась за меня, пока доктор изучал рану и готовил инструменты.
– У них есть здесь какие-нибудь обезболивающие средства? – спросила я с недоверием.
– Нет, – ответил Муди. Я вся сжалась.
– Махтаб, ты должна быть мужественной, – сказала я.
Она расплакалась при виде иглы. Муди рявкнул на нее, чтобы она замолчала. Мускулистым плечом он удерживал ее на столе. Она изо всех сил сжимала мою руку. Попавшая в капкан отцовских рук, отчаянно всхлипывая, Махтаб продолжала бороться. Я отвернулась, когда игла впивалась в ее тельце. Каждый крик, раздававшийся в маленьком процедурном кабинете, разрывал мое сердце. Мной овладевала ненависть. Ненависть к Муди, который привез нас в это пекло. Процедура длилась несколько минут. Никто не страдает больше матери, которая беспомощно смотрит на мучения собственного ребенка. Я бы хотела перенести эти страдания вместо Махтаб, но не могла. Мне было плохо, я вся покрылась потом, но ведь это Махтаб переносила физическую боль. Я ничем не могла помочь, кроме как держать ее за руку.
Наложив швы, иранский доктор выписал рецепт на противостолбнячный укол, вручил Муди.
Мы уехали. Махтаб всхлипывала на моей груди, а Муди объяснил, что нас ждет: нам следовало найти аптеку, в которой продавали противостолбнячную сыворотку, а потом поехать в другую клинику, где сделают эти уколы.
Я не могла понять, почему Муди хотел работать по специальности здесь, а не в Штатах. Он раскритиковал своего иранского коллегу, сказав что имея инструменты, он зашил бы рану Махтаб намного аккуратнее.
Когда мы вернулись в дом Амми Бозорг, силы Махтаб были на исходе и она сразу же погрузилась в беспокойный сон. Мне было ее так жаль. Я решила следующие два дня, считая ее день рождения, во что бы то ни стало улыбаться.
Ранним утром, в день пятилетия Махтаб, мы с Муди отправились в кондитерский магазин, заказали огромный торт в форме гитары. По цвету и консистенции он напоминал американское желтое тесто, но был совершенно безвкусным.
– Почему бы тебе самой его не украсить? – предложил Муди.
У меня к этому был особый талант.
– Не могу, нечем.
Обескураженный Муди похвалился кондитеру:
– Она умеет декорировать торты!
Тот неожиданно спросил по-английски:
– Вы бы хотели здесь работать?
– Нет, – испугалась я.
Я не хотела в Иране даже слышать об этом.
Мы вернулись домой и стали готовиться к приему. Должно было прийти более сотни родственников, хотя некоторым для этого пришлось освобождаться от работы. Амми Бозорг вертелась на кухне, стряпая что-то вроде салата из курицы. Из горошка она выложила на салате имя Махтаб по-персидски. Дочери Амми Бозорг укладывали на блюдах кебаб, куски холодной баранины, белого сыра, живописно украшая все это овощами и зеленью.
Мортез, второй сын Баба Наджи и Амми Бозорг, пришел помочь нам. Он привел свою жену Настаран и годовалую девочку Нелюфар, милое создание с живым взглядом и добрым сердечком. Махтаб играла с ней, а Мортез и Настаран украшали холл шариками, серпантином и цветной фольгой. Махтаб уже забыла о вчерашнем шоке и все время просила позволить ей раскрыть подарки.
Стали собираться гости. Глаза Махтаб расширялись, когда она смотрела на все растущую гору подарков.
Мортез, Настаран и Нелюфар вышли и через какое-то время вернулись с сюрпризом – тортом, точно таким, что заказали и мы. В то же самое время Маджид принес из кондитерского магазина наш торт. Два торта-близнеца оказались счастливой случайностью, потому что, как только Маджид вошел с нашим тортом, Нелюфар радостно бросилась к нему. Торт упал на пол и, к отчаянию Маджида и Нелюфар, перестал существовать.
По крайней мере, один торт нам все-таки остался.
Маммаль открыл праздник. До сегодняшнего дня мне казалось, что в Иране любой смех противозаконен. Однако все семейство по-настоящему веселилось на дне рождения нашей дочери.
Пение продолжалось более получаса. Маммаль и Реза резвились с детьми. Потом, как по сигналу, двое взрослых мужчин бросились на гору подарков и начали срывать с них упаковки.
Махтаб не верила своим глазам. Слезы струились по ее лицу.
– Мамочка, они открывают мои подарки! – произнесла она.
– Мне это не нравится, – сказала я Муди. – Пусть она сама распаковывает то, что ей подарили.
Муди что-то сказал Маммалю и Резе. Они неохотно позволили Махтаб открыть несколько пакетов, но не более того. Муди объяснил мне, что в Иране всегда мужчины распаковывают подарки детям.
Разочарование, которое вначале испытала Махтаб, быстро прошло, когда она увидела свои сокровища. Она получила массу иранских игрушек: симпатичного бело-розового ангела, мяч, спасательный жилет и надувное кольцо для игры в бассейне, смешную лампу с шариками, множество платьиц, а еще куклу.
Игрушек было слишком много, чтобы она могла играть с ними сразу. Она прижала к себе куклу, а остальные дети набросились на подарки, начали за них драться и разбрасывать по всей комнате. Махтаб снова расплакалась, но не было никакой возможности успокоить невоспитанных детей. Казалось, что взрослые вообще не замечают их поведения.
Держа свою куклу в безопасности на коленях, на протяжении всего ужина Махтаб была грустной, но при виде торта лицо ее просияло. С болью в сердце я смотрела, как она с удовольствием ест торт. Я знала, что не могу подарить ей то, чего ей больше всего хотелось. После дня рождения меланхолия Махтаб усилилась. Начался сентябрь. Три недели мы обязаны были находиться дома.
Вскоре подошел другой юбилей – день рождения имама Резы, основателя секты шиитов. В этот праздничный день каждый достойный шиит должен посетить могилу имама, но, поскольку эта могила находилась в стране врага, в Ираке, мы должны были удовлетвориться тем, что навестим могилу его сестры в Рее, прежней столице Ирана, в часе езды на юг.
В то утро по-прежнему держался изнуряющий летний зной. На градуснике было выше ста градусов по шкале Фаренгейта. Глядя на тяжелые одежды, я не могла согласиться с мыслью о часовой поездке в убийственную жару в битком набитой машине только для того, чтобы посетить святую гробницу, которая для меня не имела никакого значения.
– Я не хочу ехать, – обратилась я к Муди.
– Не может быть и речи, – ответил он. Махтаб, как и я, была расстроена и несчастна.
Перед выходом мы с дочерью еще раз повторили нашу молитву, произносимую в ванной: «Боже милосердный, сделай так, чтобы мы вместе благополучно вернулись домой».
На эту торжественную церемонию Муди заставил меня надеть тяжелую черную чадру. В переполненном автомобиле мне пришлось сесть мужу на колени, взяв к себе на колени Махтаб. После жуткой дороги мы, наконец, добрались до Рея и выбрались из машины прямо в одетую в черное толкающуюся и кричащую толпу пилигримов. Мы с Махтаб автоматически устремились к входу, предназначенному для женщин.
– Махтаб может идти со мной, – сказал Муди. – Я возьму ее на руки.
– Нет, – возразила она.
Он взял ее за руку, но она вырвалась. Люди оглядывались, чтобы увидеть, что там за замешательство. Махтаб кричала:
– Не-е-е-т!
Возмущенный этим сопротивлением, Муди сильно потянул ее за руку и оторвал от меня, одновременно ударив ее по спине.
– Нет! – крикнула я.
Стесненная тяжелой чадрой, я бросилась за дочуркой. Муди тотчас же направил свой гнев на меня, выкрикивая разные английские проклятия, какие только мог вспомнить. Я расплакалась, бессильная против этой ярости.
Сейчас Махтаб пыталась прийти мне на помощь и протиснулась между нами. Муди посмотрел на нее сверху, как бы не понимая, откуда она появилась. Ослепленный злобой, он сильно ударил ее ладонью по лицу. Из рассеченной верхней губы ребенка потекла кровь.
– Наджес![5] – начали роптать люди вокруг нас. Кровь в Иране считается нечистой субстанцией и должна быть тотчас же смыта. Однако ни один человек не вмешивался в то, что явно было семейной ссорой. Ни Амми Бозорг, ни кто-либо из родственников даже не пытались успокоить Муди.
Махтаб плакала от боли и обиды. Я подняла ее и старалась углом чадры вытереть кровь, а Муди продолжал выкрикивать грубые оскорбления, каких я никогда прежде не слышала от него. Сквозь слезы я видела его лицо, полное ненависти.
– Нужно найти где-нибудь немного льда, чтобы положить ей на губы! – попросила я.
Вид крови, размазанной по всему лицу Махтаб, немного усмирил его. Муди взял себя в руки. Мы вместе поискали продавца, который согласился отколоть несколько кусочков льда от большого грязного блока и продал нам вместе с чашкой.
Махтаб плакала. Муди не только не раскаивался, но и казался обиженным, а я пыталась согласиться с мыслью, что я жена сумасшедшего, задержанная в стране, где согласно закону он имеет надо мной абсолютную власть.
Прошло около месяца с тех пор, как Муди превратил нас в пленниц. Чем дольше длилось наше пребывание в Иране, тем в большей степени мой муж подвергался магнетическому притяжению своей национальной культуры. В его личности был какой-то страшный порок. Я должна была выбраться вместе с дочерью из этого кошмара, пока он не убил нас.
Несколько дней спустя, когда Муди не было дома, я решилась на отчаянный побег на свободу. Достав из тайника свой запас иранских риалов, я с Махтаб спокойно вышла из дому. Если мне не удастся дозвониться до посольства, я как-нибудь туда доберусь. Завернувшись в манто и русари, я надеялась, что во мне не узнают иностранку.
– Куда мы идем, мама? – спросила меня Махтаб.
– Сейчас я тебе скажу. Пойдем скорее.
Мне не хотелось обнадеживать ее, пока я не смогу убедиться, что мы в безопасности.
Мы шли быстро, оглушенные шумом поглотившего нас города, не зная, куда идти. Сердце выскакивало у меня от страха. Я представляла себе ярость Муди, когда он узнает, что мы сбежали, но не собиралась возвращаться. Я позволила себе хоть чуточку расслабиться, почувствовать хоть незначительное облегчение при мысли, что мы уже никогда его не увидим.
Наконец мы нашли здание, на котором виднелась вывеска на английском языке «Taxi». Мы заказали такси и минут через пять были уже на пути к свободе.
Я пыталась объяснить шоферу, чтобы он отвез нас в Отделение США при посольстве Швейцарии, но он не понимал. Я повторила адрес, который мама передала мне по телефону: «Парковая аллея и Семнадцатая улица». Лицо его просветлело, когда он услышал название «Парковая аллея».
– Мама, куда мы едем? – снова спросила Махтаб.
– В посольство, – ответила я. Сейчас я уже могла вздохнуть свободнее. – Там мы будем в безопасности. Оттуда поедем домой.
Махтаб радостно вскрикнула.
После получасовой езды по запруженным машинами улицам Тегерана мы высадились перед нашей безопасной пристанью, большим современным зданием из бетона с вывеской «Отделение США при посольстве Швейцарии». Вход охранялся полицейским.
Я расплатилась с таксистом и нажала кнопку домофона у входа. Раздался щелчок открывающейся двери. Мы с Махтаб оказались на территории Швейцарии. Не Ирана.
Говорящий по-английски иранец вышел нам навстречу и попросил паспорта.
– У нас нет с собой паспортов, – ответила я.
Он внимательно смерил нас взглядом, придя к выводу, что мы американки, и позволил нам войти. Нас подвергли личному досмотру. С каждой минутой моя душа устремлялась ввысь при мысли, что мы свободны.
Наконец нас пустили на территорию Отделения, где серьезная, но доброжелательно настроенная иранская армянка Хелен Баласанян спокойно выслушала нашу историю. Высокая, стройная, лет сорока, одетая в европейский костюм с юбкой до колен и с непристойно непокрытой головой, она смотрела на нас сочувствующе.
– Спрячьте нас здесь, предоставьте нам убежище, – умоляла я, – а затем найдите возможность отправить нас домой.
– О чем вы говорите? Вам нельзя здесь оставаться!
– Но мы не можем вернуться в тот дом.
– Вы гражданка Ирана, – мягко сказала Хелен.
– Нет, я гражданка Соединенных Штатов.
– Вы гражданка Ирана, – повторила она, – и вы должны подчиняться местным законам.
Вежливо, но решительно она объяснила, что выйдя замуж за иранца, я в соответствии с законами Ирана стала гражданкой этой страны. Значит, и я, и Махтаб были иранками.
По моему телу пробежал озноб.
– Я не хочу быть иранкой. Я родилась американкой. Я хочу быть гражданкой Соединенных Штатов.
Хелен покачала головой.
– Вы должны вернуться к мужу, – объяснила она мягко.
– Он убьет меня! – крикнула я и, указывая на Махтаб, добавила: – Он убьет нас!
Хелен прочувствовала нашу ситуацию, но была бессильна нам помочь.
– Нас держали в том доме, – говорила я, а слезы градом текли по моим щекам, – нам удалось убежать через парадный вход. Мы не можем вернуться. Я боюсь: что будет с нами?!
– Совершенно не понимаю, почему так поступают американки, – проворчала себе под нос Хелен и сказала, обращаясь ко мне: – Я могу дать вам одежду, могу отправить письма, могу связаться с семьей и сообщить, что вы хорошо себя чувствуете. Это все, что я могу сделать для вас, но не более.
Леденящий кровь факт был реальностью: я и Махтаб полностью были во власти закона этой фанатичной патриархии.
Следующий час пребывания в посольстве прошел для меня в шоке. И все же кое-что нам удалось! Я позвонила в Штаты.
– Я пытаюсь выбраться отсюда! – кричала я маме, находящейся за сотни миль. – Подумай, что можно сделать там, на месте.
– Я уже связалась с Департаментом штата, – сообщила мама срывающимся голосом. – Делаем все, что в наших силах.
Хелен помогла мне написать письмо в Департамент штата. Его должны были переслать через Швейцарию. В нем сообщалось, что меня держат в Иране насильно и что я не хочу, чтобы мой муж снимал наши деньги со счетов в Штатах.
Хелен заполнила анкету, детально расспрашивая меня о Муди. Особенное внимание она уделила вопросу о его гражданстве. Муди не получил американского гражданства, поскольку вмешался в дела иранской революции. Хелен поинтересовалась его зеленой картой – официальным разрешением на проживание и работу в Штатах. Еще сейчас он мог вернуться в США и получить работу, но если будет медлить, то срок разрешения истечет и у него уже не будет права работать по специальности в Америке.
– Я очень боюсь, что он начнет работать здесь, – сказала я. – Если ему позволят здесь заниматься врачебной практикой, то мы окажемся в западне. Если он не сможет найти здесь работу, то, возможно, решится вернуться в Америке.
Сделав все, что было в ее силах, Хелен дала мне совет, но для меня он прозвучал страшным приговором.
– А сейчас вы должны возвращаться, – сказала она спокойно. – Мы будем делать все возможное, чтобы помочь вам. Потерпите.
Она вызвала такси. Когда машина подъехала, Хелен вышла на улицу, чтобы поговорить с шофером. Я назвала адрес недалеко от дома Амми Бозорг. Нам лучше немного пройти пешком, чтобы Муди не заметил, что мы высаживаемся из такси.
Все во мне сжималось, когда мы с Махтаб снова оказались на улицах Тегерана. Нам некуда было больше идти. У нас не было никого, кроме отца и мужа, который принял роль нашего всемогущего тюремного охранника.
Пытаясь собраться с мыслями, я сказала Махтаб:
– Мы не должны рассказывать папе, где мы были. Скажем ему, что мы пошли на прогулку и заблудились. Если будет спрашивать, ничего не говори.
Махтаб кивнула головой. Жизнь вынуждала ее быстро взрослеть. Муди ждал нас.
– Где вы были? – рявкнул он.
– Вышли погулять, – солгала я, – и заблудились.
Муди с минуту анализировал мое объяснение, а потом отбросил его. Он знал, что я хорошо ориентируюсь на улицах. Глаза его горели, в них была явная угроза мусульманского мужчины, на пути которого встала женщина. Одной рукой он схватил меня за плечо, другой – за волосы. Так он тащил меня на глазах всех членов семьи, которые в полном составе сновали по холлу.
– Она не должна выходить из дома! – распорядился он.
А меня предупредил: – Если еще раз выйдешь из дому – убью!
И снова ограниченное пространство спальни, дни, полные небытия, полуобморочное состояние, тошнота и глубокая депрессия. Когда я выходила из комнаты, Амми Бозорг или одна из ее дочерей контролировали каждый мой шаг. Силы покидали меня. Я понимала, что скоро смирюсь с судьбой и навсегда останусь оторванной от своих близких и отчизны.
Отрезанная от мира, я с удивлением ловила себя на мысли, что меня беспокоят мелочи. Заканчивается последний месяц бейсбольного сезона, а я не знаю, на каком уровне держится команда «Тигров». Когда мы уезжали в Иран, она сохраняла место в своей лиге. Мне хотелось по возвращении домой взять отца на матч.
Охваченная ностальгическими чувствами, однажды в полуденный час я попыталась написать родителям письмо, не представляя себе, как смогу его отправить. К своему ужасу я обнаружила, что у меня слишком слабая рука: я была не в силах вывести даже собственное имя.
Проходили часы, а я анализировала ситуацию. Будучи больной, измученной, погруженной в глубокую депрессию, я утратила присущее мне чувство реальности. Муди выглядел удовлетворенным, что загнал меня в угол, и был уверен в том, что я не сумею восстать и бороться за свободу. Уходило лето. Скоро наступит зима. Поры года сольются в бесконечный ход времени. Чем дольше я здесь останусь, тем легче будет мне примириться с этим.
Я вспомнила излюбленное выражение моего папы: «Хотеть – значит мочь!». Но если я даже найду в себе силы сопротивляться, кто и каким образом нам поможет? Способен ли кто-нибудь вырвать меня и моего ребенка из этого пекла?
Постепенно я сама нашла ответ на свои вопросы.
Никто мне не поможет.
Только я сама могу вызволить нас отсюда.
Однажды вечером, когда я находилась в холле дома Амми Бозорг, в наступивших сумерках я услышала зловещий рев летящего низко бомбардировщика. Небо разрезали трассирующие снаряды противовоздушной артиллерии. Потом мы услышали глухое эхо взрывов.
«О Боже! Война в Тегеране», – подумала я.
Я схватила Махтаб на руки, чтобы вместе скрыться в безопасное место, но Маджид, увидев мое перепуганное лицо, успокоил:
– Это только демонстрация по случаю Недели войны.
Муди объяснил, что Неделя войны – это ежегодный праздник, проводимый в память исторических побед ислама. Он совпадает с войной с Ираком, а значит, и с Америкой, так как Ирак – это лишь марионетка, вооружаемая и контролируемая Соединенными Штатами.
– Мы собираемся на войну с Америкой, – произнес Муди с нескрываемым чувством гордости. – И это справедливо. Твой отец убил моего.
– О чем ты говоришь?
– А о том, что во время второй мировой войны, когда твой отец служил в американской армии в Абадане, на юге Ирана, мой отец, будучи полевым врачом, лечил страдающих малярией американских солдат, заразился и умер, – в его глазах была ненависть. – Сейчас ты за это заплатишь, – зло бросил мой муж. – Твой сын Джо погибнет на войне на Ближнем Востоке. Можешь быть уверена.
Я понимала, что Муди провоцирует меня, но я еще не умела отличить реальной угрозы от его садистского воображения. Просто это был не тот человек, которого я когда-то любила.
– Пошли, поднимемся на крышу, – сказал он.
– Зачем?
– Демонстрировать.
Это могла быть только антиамериканская демонстрация.
– Нет, я не пойду.
Муди грубо схватил Махтаб и вышел из комнаты. Захваченная врасплох и перепуганная Махтаб начала кричать, вырываться, но он, не выпуская ее, пошел за остальными членами семьи на крышу.
Спустя минуту я услышала врывающийся в открытые окна омерзительный крик вокруг.
– Марг бар Амрика! – призывал хор голосов на крышах соседних домов.
Я уже хорошо знала эти слова, которые повторялись в иранских новостях. Это означало «Смерть Америке!».
– Марг бар Амрика!
Я плакала о Махтаб, которая на крыше среди остальных членов семьи корчилась от боли в лапах обезумевшего отца.
– Марг бар Амрика!
В эту ночь в Тегеране четырнадцать миллионов голосов кричало, как мой муж. Этот крик перекатывался с крыши на крышу в нарастающем крещендо, доводя людей до религиозного экстаза. Отупляющий, страшный припев резал мне душу, как нож.
– Марг бар Амрика! Марг бар Амрика!
– Марг бар Амрика!
– Завтра едем в Кум, – объявил Муди.
– Что это такое?
– Кум – это столица теологии Ирана, святое место. Завтра первая пятница махарама, месяца траура. Едем на могилу. Наденешь черную чадру.
Мне вспомнилась наша поездка в Рей, кошмарное путешествие, которое завершилось избиением Махтаб собственным отцом. Зачем им таскать Махтаб и меня в эти свои паломничества?
– Мне не хочется ехать, – объяснила я.
– Поедем.
Я знала мусульманский закон, чтобы выдвинуть уважительную причину для отказа:
– Я не могу ехать к святой гробнице: у меня менструация.
Муди нахмурился. Каждый раз, когда у меня были месячные, он вспоминал, что после рождения Махтаб прошло уже пять лет, а я не могу подарить ему сына.
– Все равно едем, – распорядился он.
Мы с Махтаб проснулись на следующий день, удрученные ожидавшей нас перспективой. У Махтаб болел желудок. Я знала причину: результат сильного напряжения.
– Ребенок болен, – объяснила я Муди. – Нам нужно остаться дома.
– Едем, – повторил он резко.
Погруженная в глубокую меланхолию, я стала надевать предписанную одежду: черные брюки, длинные черные чулки, черное манто с длинными рукавами. Голову я закутала в черный платок. Сверху набросила ненавистную черную чадру.
Мы должны были ехать на машине Мортеза. Вместе с нами забрались Амми Бозорг, Ферест и Мортез с женой Настаран и дочуркой, маленькой веселой Нелюфар. Поездка продолжалась несколько часов, пока мы не выехали на автостраду, а потом еще часа два мы продвигались буфер в буфер с другими автомобилями.
Над городом Кум поднималась легкая бронзовая дымка. Улицы были немощеными, и машины вздымали клубы удушливой пыли. Когда мы вышли из автомобиля, толстый слой пыли покрывал нашу пропотевшую одежду.
Посередине центральной площади был огромный бассейн, окруженный кричащими паломниками, которые пытались пробраться к воде, чтобы исполнить обязательный ритуал омовения перед молитвой. Толпа не проявляла ни малейших признаков любви к ближнему. Работали локтями, а точно направленные пинки помогали некоторым удерживать позицию возле бассейна. Время от времени раздавался внезапный всплеск, а вслед за ним – злобный окрик паломника, который получил неожиданное крещение.
Ни Махтаб, ни я не собирались принимать участие в молитве, поэтому мы не спешили к грязной воде.
Потом нас разделили по половому отличию. Вместе с Амми Бозорг, Ферест, Настаран и Нелюфар мы направились в предназначенную для женщин часть святыни.
Махтаб, подталкиваемая со всех сторон, судорожно вцепилась в мою руку. Мы вошли в просторный зал, стены которого были увешаны зеркалами. Из громкоговорителей разносилась мусульманская музыка, но даже она не заглушала воплей тысяч одетых в черное и закрытых чадрой женщин, которые, сидя на полу, били себя в грудь и тянули молитвы. Слезы печали текли у них по щекам.
Большие зеркала были в золотых и серебряных рамах. Блеск благородных металлов отражался в зеркалах, и это великолепие резко контрастировало с черными одеждами молящихся женщин. Картина и звуки просто парализовали.
– Бишен,[6] – произнесла Амми Бозорг. Махтаб и я сели. Настаран и Нелюфар присели возле нас.
– Бишен, – повторила Амми Бозорг.
С помощью жестов и нескольких основных персидских слов она объяснила, что мне следует смотреть в зеркала. Амми Бозорг с Ферест пошли в соседний зал к большому саркофагу.
Я смотрела в зеркала.
Спустя минуту я почувствовала, что впадаю в транс. Зеркала, отражающиеся одно в другом, создавали иллюзию бесконечности. Мусульманская музыка, ритмические отзвуки ударов в грудь и монотонное пение женщин невольно завораживали. Для верующих это должно было быть волнующим переживанием.
Я не знала, сколько прошло времени. Увидела только, что Амми Бозорг и Ферест возвращаются в зал. Старая матрона подошла прямо ко мне, выкрикивая что-то во весь голос по-персидски и целясь мне в лицо костлявым пальцем.
Что я такого сделала?
Я ничего не понимала из разговора Амми Бозорг, кроме слова «Амрика».
Слезы ненависти текли у нее из глаз. Она запустила руку под чадру и рвала на себе волосы. Другой рукой она била себя в грудь и по голове.
В злобе она указала нам, что мы должны выйти. Мы отправились за ней, задержавшись на минуту, чтобы взять обувь.
Муди и Мортез уже закончили свои обряды и ждали нас. Амми Бозорг подбежала к Муди, вопя и стуча себя в грудь.
– Что случилось? – не понимала я. Он резко повернулся ко мне:
– Почему ты отказалась пойти к хараму?
– Ни от чего я не отказывалась. А что такое харам?
– Гробница. Харам – это гробница. А ты не пошла.
– Она велела мне сидеть и смотреть в зеркала. Все выглядело так, точно скандал в Рее должен был повториться. Муди так разозлился, что я боялась, как бы он не ударил меня. На всякий случай я оттолкнула Махтаб от себя. Я поняла, что мерзкая старуха обманула меня. Она хотела поссорить нас с Муди.
Я ждала, пока Муди прервет свой монолог. Самым вежливым тоном, на какой только я была способна, но в то же время решительно я заявила:
– Лучше перестань и подумай, что ты говоришь. Она велела мне сидеть и смотреть в зеркала.
Муди повернулся к сестре, которая продолжала метать молнии, и обменялся с ней несколькими словами, а потом сказал мне:
– Она сказала, чтобы ты села и посмотрела в зеркала, но она не имела в виду, что ты должна там остаться.
Как же я ненавидела эту злобную женщину!
– Но Настаран тоже не пошла, – ответила я. – Почему же она не набрасывается на Настаран?
Муди спросил у Амми Бозорг. Он так злился на меня, что стал объяснять ответ сестры, не подумав об обстоятельствах.
– У Настаран месячные. Она не могла…
В этот момент он вспомнил, что я тоже в таком же положении.
Логика все же взяла верх над безумием. Он тотчас смягчился и обратил свой гнев против сестры. Они долго ссорились и продолжали дискутировать даже тогда, когда мы сели в машину.
– Я сказал ей, что она была несправедлива, – объяснил он мне.
На этот раз Муди разговаривал со мной мягко и сочувственно:
– Жаль, что ты не понимаешь по-персидски. Я сказал ей, что она нетерпелива.
Он снова неожиданно удивил меня. Сегодня он продемонстрировал понимание. Каким он будет завтра?..
Начался учебный год. В первый день занятий учителя всех школ Тегерана вывели детей на улицы на массовую демонстрацию. Сотни учеников соседней школы маршировали возле дома Амми Бозорг, скандируя хором жестокий призыв: «Марг бар Амрика!» и добавляя еще одного врага: «Марг бар Израиль!».
В спальне Махтаб затыкала себе уши, но не могла не слышать этих воплей.
Хуже всего оказалось то, что этот пример, продемонстрировавший роль школы в жизни иранских детей, вдохновил Муди. Он решил сделать из Махтаб покорную иранскую девочку. Спустя несколько дней он заявил:
– Завтра Махтаб пойдет в школу.
– Нет, ты не сделаешь этого! – воскликнула я. Махтаб судорожно ухватилась за меня. Я знала, что она боится расстаться со мной. Обе мы понимали, что слово «школа» означает стабилизацию существующего положения.
Но Муди был неумолим. Мы еще спорили с ним какое-то время, но безрезультатно. В итоге я сказала, что, прежде чем отправить Махтаб туда, я хочу сама увидеть эту школу. Муди согласился.
Во второй половине дня мы пошли в школу. Меня удивил вид чистого современного здания в красивом ухоженном парке с бассейном и ванными комнатами в американском стиле. Муди объяснил, что это частная школа с нулевыми классами. Начиная с первого класса дети должны обучаться в государственной школе. Муди хотел, чтобы Махтаб училась здесь до тех пор, пока ей не придется перейти в государственную школу, где более жесткие требования.
Я решила, что Махтаб пойдет в школу уже в Америке, но, разумеется, умалчивала об этом, а Муди разговаривал с директором и переводил мои вопросы.
– Знает ли кто-нибудь здесь английский? – спросила я. – Махтаб плохо говорит по-персидски.
– Да, но сейчас этой учительницы нет, – прозвучал ответ.
Муди сказал, что ему бы хотелось прислать Махтаб в школу уже завтра, но оказалось, что ждать приема придется полгода.
Махтаб вздохнула с облегчением, так как пока проблема разрешилась сама собой. Однако когда мы возвращались домой, к Амми Бозорг, мой мозг лихорадочно работал. Еще и еще раз я продумывала ситуацию. Если бы Муди осуществил свой план, это было бы для меня началом поражения. Ведь это означает конкретный шаг в направлении устройства нашей жизни в Иране. А с другой стороны, может быть, это оказалось бы шагом в направлении свободы? Может, хорошо было бы делать вид, что все нормально? Муди был болезненно бдительным, следил за каждым моим шагом. В этой ситуации у меня не было возможности что-нибудь предпринять для того, чтобы выбраться из Ирана. Я начала понимать, что нет иного способа склонить Муди смягчить режим, как сделать вид, что я готова остаться здесь.
Целыми днями и вечерами, съежившись в спальне, которая стала для меня камерой, я пыталась составить план действий. Прежде всего я должна позаботиться о своем здоровье. Сломленная болезнью и депрессией, плохо питаясь и не высыпаясь, я находила облегчение только с помощью лекарств Муди. Надо это прекращать.
Мне нужно было убедить его каким-то образом уехать из дома Амми Бозорг. Все семейство исполняло по отношению ко мне роль тюремщиков. Мы уже прожили здесь полтора месяца. И Амми Бозорг, и Баба Наджи относились ко мне все с большим презрением. Баба Наджи требовал, чтобы я принимала участие в ежедневных молитвах. Из-за этого произошел конфликт с Муди, который объяснил ему, что я изучаю Коран и знакомлюсь с наукой ислама самостоятельно. Муди не хотел заставлять меня молиться.
Он определенно не хотел, чтобы его семья постоянно жила так. Уже шесть недель мы не спали вместе. Махтаб не могла скрыть отвращения к отцу. В своем помраченном разуме он сумел вообразить себе, что мы когда-нибудь сможем в Иране нормально жить. И был лишь один способ усыпить его бдительность: я должна убедить его, что разделяю его мнение и примирилась с решением остаться в этой стране.
Когда я анализировала задачу, поставленную перед собой, меня охватывало отчаяние. Путь к свободе требовал, чтобы я превратилась в первоклассную актрису. Я должна была сыграть так, чтобы Муди поверил, что я по-прежнему люблю его, хотя в душе я молилась о его смерти.
На утро впервые за время пребывания здесь я уложила волосы и подкрасилась. Выбрала красивое платье, голубое пакистанское с длинными рукавами и оборкой внизу. Муди тотчас же заметил во мне перемену и согласился поговорить. Мы нашли уединенное место на площадке за домом возле бассейна.
– Я чувствую себя плохо, – начала я, – я все больше слабею, не могу даже написать свое имя.
Муди согласился с выражением искреннего сочувствия.
– Я не хочу больше принимать лекарства, – сказала я.
Муди не возражал. Как остеопат, он был противником злоупотребления лекарствами. Ободренная его ответом, я продолжала:
– Я смирилась, наконец, с мыслью, что мы будет жить в Тегеране. Я хочу, чтобы все уладилось, хочу обустроить нашу жизнь здесь.
Муди проявил осторожность, но я продолжала атаковать.
– Я хочу, чтобы мы здесь устроились, но мне требуется твоя помощь. Я не справлюсь с этим сама. В этом доме такое невозможно.
– Ты должна, – ответил он, несколько повышая голос – Амми Бозорг – моя сестра. Ее следует уважать.
– Я не могу находиться с ней рядом. Я ненавижу ее. Она грязная, нечистоплотная. Когда не войдешь на кухню, всегда кто-нибудь ест из кастрюли, а остатки пищи попадают обратно. Чай подают в грязных чашках. В рисе черви, весь дом провонял. Ты хочешь, чтобы и мы так жили? Или ты забыл, как мы жили прежде?
Хотя я тщательно все спланировала, все-таки где-то ошиблась и тем самым вызвала его гнев.
– Мы должны жить здесь, – буркнул он.
Все утро мы отчаянно спорили. Я пыталась обратить его внимание на грязь в доме Амми Бозорг, но он спокойно защищал сестру.
Видя, что мой план рушится, я сделала усилие, чтобы овладеть ситуацией и перехватить инициативу, играя роль послушной жены. Краем платья я вытерла слезы.
– Я прошу тебя. Мне так хочется, чтобы ты и Махтаб были счастливы. Сделай что-нибудь, прошу тебя, помоги мне. Если мы должны жить здесь, в Тегеране, забери меня из этого дома.
– Нам некуда переехать, – грустно сказал он. Я была готова к этому.
– Спроси у Резы, не можем ли мы поселиться у них.
– Ты же не любишь Резу.
– И все-таки он нравится мне. Эссей тоже.
– Ну ладно, но я не уверен, что из этого что-нибудь выйдет.
– Но ведь он же столько раз просил нас, чтобы мы навестили его.
– Это только та'ароф, а на самом деле он не думал так.
Та'ароф – это иранский обычай, принятый в разговоре. Он заключается в том, что собеседник делает вежливое, тактичное, но трактующееся несерьезно предложение или столь же двусмысленно произносит что-либо приятное.
– Хорошо, – сказала я, – дай ему понять, что ты принял его слова всерьез.
На протяжении нескольких дней я надоедала Муди. У него была возможность убедиться, что я старалась быть более ласковой ко всем членам семьи. Отказавшись от лекарств Муди, я воспрянула духом и начала закалять волю. Наконец Муди сообщил мне, что Реза сегодня вечером собирается навестить нас, и позволил мне поговорить с ним о переезде.
– Конечно, можете переехать, – ответил Реза, – но только не сегодня. Мы уходим.
Та'ароф.
– А завтра? – настаивала я.
– Наверняка. Я закажу машину, и мы приедем за вами.
Та'ароф.
Муди позволил мне взять лишь немногие вещи из нашего скромного гардероба. Оставляя здесь основную часть, Муди пытался дать понять сестре, что наше пребывание в доме Резы и Эссей не будет долгим. Но на протяжении всего дня он избегал грозных взглядов Амми Бозорг.
На следующий день Реза все же не приехал за нами. Было уже десять вечера, и я попросила Муди, чтобы он позволил мне позвонить. Он стоял возле меня, когда я набирала номер.
– Мы ждем тебя, – обратилась я к Резе, – когда ты приедешь?
– Ой, мы были очень заняты. Приедем завтра.
Та'ароф.
– Я не могу ждать до утра. Не могли бы вы приехать еще сегодня?
Реза наконец понял, что его обещание принималось всерьез.
– Хорошо, приедем.
Когда он появился в дверях, я была уже готова к выходу, но он пытался тянуть время. Переодевшись в пижаму, он выпил чай, съел фрукты и завел долгую беседу с Амми Бозорг. Прощальный ритуал с поцелуями, объятиями и разговорами продолжался целый час.
Было уже далеко за полночь, когда мы покинули дом. Спустя несколько минут мы подъехали к двухэтажному дому в боковой улочке, хозяевами которого были Реза и его брат Маммаль. Реза с Эссей, трехлетней Мариам и четырехмесячным Мехди жили на первом этаже. Маммаль, его жена Насерин и сын Амир занимали второй этаж.
Когда мы приехали, Эссей поспешно наводила порядок. Я поняла, почему Реза так тянул время. Они не ожидали гостей, основываясь на принципе та'ароф. Несмотря на это, Эссей встретила нас доброжелательно.
Было так поздно, что я сразу же пошла в спальню и переоделась в ночную рубашку. Деньги и записную книжку с адресами я спрятала под матрас. Уложив Махтаб спать, я стала внедрять в жизнь очередной пункт своего плана.
Пригласив Муди в спальню, я нежно коснулась его плеча.
– Я люблю тебя и благодарна, что ты перевез нас сюда.
Он деликатно обнял меня, ожидая дальнейших признаний. Я прижалась к нему и открыла лицо для поцелуя.
В последующие минуты я делала все, что только было в моих силах, чтобы меня не вытошнило, но все-таки мне как-то удалось симулировать наслаждение. «Я ненавижу его, ненавижу, ненавижу», – повторяла я про себя на протяжении всего этого омерзительного акта.
Но, когда все закончилось, я прошептала:
– Люблю тебя.
Та'ароф!!!
На следующее утро Муди встал пораньше, чтобы принять душ в соответствии с мусульманским законом, предписывающим перед молитвой смыть с себя нечистоту полового сношения. Шум льющейся воды был для Резы, Эссей, Маммаля и Насерин сигналом, что между нами все хорошо. Это, разумеется, было далеко от правды. Сожительство с Муди я расценивала только как одно из многих отвратительных испытаний, которые мне придется пережить на пути к свободе.
В первое утро нашего пребывания в доме Резы Махтаб играла с трехлетней Мариам. У девочки было огромное количество игрушек, присланных ей проживающими в Англии родственниками. Во дворе за домом у нее были даже качели.
Двор представлял собой островок частной собственности в самом центре многолюдного, шумного города. Дом был окружен трехметровой кирпичной стеной. Во дворе росли кедр, гранатовое дерево и несколько кустов роз. По стене вился виноград.
Сам дом был расположен в квартале, застроенном типовыми мрачными зданиями, связанными общими стенами. Все дома были с одинаковыми дворами. За дворами поднимался следующий ряд таких же домов.
Эссей была значительно лучшей хозяйкой, чем Амми Бозорг, но только в сравнении с последней. Хотя весь вчерашний вечер она убиралась, ее дом не был образцом чистоты. Вокруг копошились тараканы. Надевая обувь перед выходом из дома, приходилось вытряхивать из нее насекомых. Везде царил беспорядок, а в довершение стоял запах мочи, потому что Эссей укладывала маленького Мехди без пеленок прямо на ковер. Она быстро убирала за ним, но моча впитывалась в персидские ковры еще быстрее.
Возможно, этот запах был настолько неприятен Муди (хотя он не признавался в этом), что в то первое утро он взял Мариам, Махтаб и меня на прогулку в ближайший парк. Муди был встревожен и явно нервничал, когда мы вышли на узкий тротуар, отделяющий дом от улицы. Он оглядывался вокруг, желая убедиться, что никто за нами не наблюдает.
Я старалась не обращать на него внимания.
Стоял ясный, солнечный день. Сентябрь подходил к концу. В воздухе пахло осенью. Парк оказался приятным местом отдыха. Он занимал обширную территорию, заросшую травой, с прекрасными клумбами цветов и хорошо ухоженными деревьями. Здесь было несколько декоративных фонтанов, но, к сожалению, они не действовали. Электроэнергии не хватало для квартир, и власти не могли расходовать ее на подачу неиспользуемой воды.
Махтаб и Мариам весело качались на качелях, спускались с горки. Но это продолжалось недолго, потому что Муди нетерпеливо заявил, что мы должны возвращаться домой.
– Почему? – спросила я. – Здесь гораздо приятнее.
– Нужно идти, – сказал он бесцеремонно. Помня о своем плане, я спокойно согласилась.
Мне хотелось исключить самые незначительные конфликты.
Со временем я привыкла к атмосфере этого жилища и к шуму соседей. Целый день через открытые окна врывались голоса кочующих продавцов.
«Ашхали, ашхали, ашхали!» – кричал мусорщик, приближающийся со скрипящей тележкой. Хозяйки выбегали из домов и оставляли мусор на тротуаре. Иногда растянутые котами и крысами зловонные остатки он просто сметал во влажные водостоки, которые, видимо, никто никогда не чистил.
«Намаки!» – выкрикивал продавец соли, подталкивая тележку, на которой возвышалась горка мокрой слежавшейся соли. По его сигналу женщины выносили остатки сухого хлеба, который меняли на соль. Торговец, в свою очередь, продавал этот хлеб на корм скоту.
«Сабзи!» – на высокой ноте зазывал другой торговец, медленно продвигаясь на полугрузовой машине, предлагая шпинат, петрушку, базилик и прочую сезонную зелень, которую он взвешивал на весах. Иногда он объявлял о своем прибытии с помощью мегафона. Если он появлялся неожиданно, Эссей, прежде чем выбежать на улицу, поспешно надевала чадру.
Приход овчара оповещался испуганным блеянием бегущей отары из десяти—двенадцати овец, курдюки которых свисали, как коровье вымя.
Изредка приезжал на велосипеде мужчина в истрепанной одежде, который точил ножи.
Эссей объяснила мне, что все эти люди были очень бедными и жили, вероятно, в жалких мазанках.
Если на улице появлялись женщины, то это были преимущественно истощенные нищенки, которые звонили в дверь и просили немного еды или несколько риалов. Держа порванную чадру у самого лица так, что виден был только один глаз, они умоляли о помощи. Эссей всегда находила что-нибудь для них, но Насерин умела отказать даже в самой отчаянной просьбе.
В общей сложности это была странная мозаика отверженных людей – мужчин и женщин, борющихся за выживание.
Мы подружились с Эссей так, как могут сделать это люди, оказавшиеся в таких необычных условиях. По крайней мере, мы могли разговаривать друг с другом. Для меня было большим облегчением оказаться в доме, где все говорили по-английски. В отличие от Амми Бозорг, Эссей была благодарна, когда я предлагала свою помощь по хозяйству.
В доме у нее был беспорядок, но кухня – радовала глаз. Помогая ей готовить, я сразу же отметила, что холодильник был заполнен наилучшим образом: мясо и овощи, очищенные, порезанные, готовые к употреблению, были старательно упакованы в пластмассовые коробки. Эссей планировала меню на месяц вперед и вывешивала его на кухне. Блюда были продуманы и приготовлены в соответствии с требованиями гигиены. Много времени мы проводили за очисткой риса.
Как это было странно, что возможность выбрать насекомых из крупы пробуждала во мне такую энергию! На протяжении двух месяцев я поняла, как была избалована, как терзалась из-за каких-то пустяков. Здесь все было иначе. Я объяснила себе, что нельзя допустить, чтобы мелочи повседневной жизни одержали верх над важнейшими делами. Если в рисе были черви, следовало его перебрать. Если ребенок испачкал ковер, следует ковер почистить. Если муж пожелал раньше уйти из парка, следует пойти с ним.
Зухра привезла Амми Бозорг к нам в гости. У нее был для нас подарок – подушка, и это сразу же испортило Муди настроение. Он объяснил, что такой подарок вручается тому, кто уезжает. Намек был явным. Амми Бозорг не считала наше пребывание у Резы и Эссей временным. Она была оскорблена тем, что мы пренебрегли ее гостеприимством.
Не было времени рассуждать по этому поводу. Зухра поблагодарила за чай, который хотела подать Эссей.
– Нам нужно уходить. Я везу маму в хамам, – сказала она.
– Самое время, – проворчал Муди. – Мы здесь уже полтора месяца, а она впервые собирается вымыться.
В тот же вечер позвонила Зухра.
– Да'иджан, прошу тебя, приезжай. Мама заболела.
Реза сразу же пошел к своей сестре Ферри, которая жила в нескольких кварталах отсюда, одолжить машину. Муди гордился тем, что появится в родном доме как врач.
Однако вернувшись поздно ночью домой, Муди стал жаловаться на сестру. Амми Бозорг, утомленная ванной, сразу легла в постель, заявив, что у нее болят кости. Она велела Зухре смешать хну с водой и смазать ей лоб и руки. Муди застал ее закутанной в несколько слоев одежды и накрытой одеялами, чтобы выпарить из себя демона. Он сделал ей обезболивающий укол.
– Она вовсе не больна, – проворчал он, – хотела только баню представить как величайшее зло.
Реза по отношению ко мне был необыкновенно предупредителен. Когда я выставила его из нашего дома в Корпус Кристи, он посылал в мой адрес разные проклятия. Однако он явно забыл о наших давних конфликтах, а кроме того, хотя был сторонником иранской революции, все-таки сохранил приятные воспоминания об Америке.
В один из вечеров, желая придать нашей жизни какой-нибудь американский акцент, он пригласил нас на пиццу. Мы с Махтаб были взволнованы и голодны, но, когда перед нами поставили эту пиццу, у нас пропал аппетит. Основой ее был лаваш – сухой тонкий блин, очень популярный в Иране. На него вылили пару ложечек томата и бросили несколько кусочков колбасы из баранины. Сыра не было вообще. И все же мы съели, сколько смогли, и я была благодарна Резе за этот жест.
Племянник Муди наслаждался своей щедростью и гордился глубоким знанием западной культуры. После ужина он внес предложение, которое отвечало моим планам:
– Я хочу, чтобы ты научила Эссей готовить по-американски.
Но чтобы приготовить жаркое или пюре из картофеля, нужно было прежде всего совершить далекие прогулки по магазинам в поисках редких компонентов. Я сразу же согласилась выполнить это задание. Муди не стал возражать, но все последующие дни во время длительных походов на иранские базары он сопровождал нас, как сторожевой пес. Я старалась быть бдительной и училась ориентироваться в городе. Я поняла, как пользоваться такси оранжевого цвета вместо дорогих, которые можно вызвать только по телефону. Водителем такси оранжевого цвета может быть каждый владелец автомобиля, который хочет подзаработать несколько десятков риалов и снует по главным улицам с дюжиной пассажиров. Эти такси курсируют достаточно регулярно, как автобусы.
Присутствие Муди во время наших поездок за покупками было для меня нежелательно. Я надеялась, что его бдительность в конце концов ослабеет и он позволит нам с Эссей совершать их самостоятельно. А может быть, он разрешит даже выходить нам с Махтаб. Это предоставило бы мне шанс вновь связаться с посольством, чтобы узнать, есть ли у Хелен какие-нибудь письма для меня и удалось ли Департаменту штата что-нибудь для нас сделать.
Муди по натуре был ленивым. Я знала, что если мне удастся убедить его, что я привыкаю к жизни в Тегеране, он придет к выводу, что сопровождение нас в подобных походах слишком обременительно для него. Но для этого надо было время, а уже в конце второй недели нашего пребывания у Резы я поняла, что его у меня как раз-то и нет. Каждый день появлялось все больше сигналов о том, что хозяева тяготятся нами. Мариам была эгоистичным ребенком и не хотела делиться с Махтаб своими игрушками. Эссей старалась быть гостеприимной, но я видела, что наше присутствие нежелательно. Реза тоже пытался быть добросердечным, но, когда он возвращался после долгого рабочего дня, я замечала на его лице недовольство из-за безделья Муди. Роли поменялись. В Америке Реза жил за счет Муди. Здесь же ему было не по душе помогать дорогому дядюшке. Приглашение в дом было лишь жестом вежливости.
Муди бесило, что у Резы такая короткая память, но предпочитал уступить, вместо того чтобы воспользоваться своим авторитетом в семейной иерархии.
– Нам не следует здесь оставаться, – сказал он мне. – Мы переехали лишь на короткое время, чтобы ты почувствовала себя лучше. Не надо ранить чувства моей сестры. Мы должны вернуться.
Мной овладела паника. Я умоляла Муди, чтобы он не возвращал меня в тот страшный, омерзительный дом Амми Бозорг, но он был непреклонен. Новость потрясла также и Махтаб. Хотя она постоянно ссорилась с Мариам, этот дом был для нее намного милее, и ей хотелось остаться здесь. Вечером мы снова молились вместе в ванной, чтобы Бог вступился за нас.
И так случилось. Не знаю, может быть, Муди, видя нашу подавленность, поговорил с Маммалем и Насерин. Во всяком случае они спустились к нам, чтобы предложить новое решение. Я была удивлена, что Насерин хорошо говорит по-английски: до сего времени она скрывала это от меня.
– Маммаль целый день на работе, а я во второй половине дня хожу на занятия, – сказала Насерин, – и нам нужно присмотреть за ребенком.
Махтаб даже запрыгала от радости. Амир, годовалый сын Насерин, милый, спокойный ребенок, и Махтаб любила с ним играть.
В Америке я возненавидела Маммаля еще больше, чем Резу. Насерин относилась ко мне с презрением, но возможность перейти к ним наверх была значительно привлекательнее, чем возвращение к Амми Бозорг. Кроме того, их предложение не было та'ароф. Они действительно хотели, чтобы мы поселились у них, они нуждались в нас. Муди согласился, но еще раз предупредил меня, что это временно.
У нас с собой было совсем немного вещей, так что сложить их и перенести не представляло трудностей.
Когда мы носили наши вещи наверх, то увидели, что Насерин держит над головой малыша кадильницу с тлеющими черными зернами. Таким образом она оберегала его от дурного глаза, прежде чем положить спать. Я подумала, что сказка и стакан теплого молока были бы эффективнее, но попридержала язык за зубами.
Маммаль и Насерин великодушно уступили нам свою спальню, потому что на полу во второй комнате им было так же удобно, как и на супружеском ложе. Они вообще пренебрегали мебелью. В столовой у них был большой стол с дюжиной стульев, в гостиной – современный удобный гарнитур с бархатной обивкой зеленого цвета. Однако двери этих комнат были постоянно закрыты, а хозяева предпочитали есть и разговаривать, сидя на полу в холле, всю обстановку которого составляли персидские ковры, телефон и немецкий цветной телевизор.
У Насерин в доме было чище, чем у Эссей, но вскоре я пришла к выводу, что она ужасная хозяйка на кухне. Она не имела понятия о гигиене, питании, вкусно приготовленных блюдах и не заботилась об этом. Если ей случалось добыть курицу, она заворачивала ее вместе с перьями и внутренностями в газету и бросала в морозильник. Мясо размораживалось и замораживалось четыре-пять раз, пока не расходовалось все. Рис был таким грязным, какого я еще в жизни не видела: в нем встречались не только черные жучки, но и белые черви. Однако Насерин не утруждала себя тем, чтобы помыть рис перед варкой.
К счастью, приготовление пищи вскоре стало моей обязанностью. По требованию Маммаля я готовила иранскую пищу, но, по крайней мере, могла быть уверена, что она будет качественной.
Когда Насерин была на лекциях, я занималась домом: пылесосила, подметала и мыла полы. Маммаль был членом контрольного совета иранской фармацевтической фирмы, что давало ему доступ к некоторым дефицитным предметам. В комнате, где Насерин хранила различные запасы, было полно таких замечательных вещей, как резиновые перчатки, бутылки редкого шампуня, коробки стирального порошка, который почти невозможно было купить.
Насерин удивилась, узнав, что стены тоже можно мыть и что в ее доме они первоначально были белые, а не серые. Ее устраивал наш переезд, у нее появилось больше времени не только для учебы, но и на дополнительные молитвы и чтение Корана. Она была набожнее Эссей и даже в домашнем уединении носила чадру.
Махтаб охотно играла с Амиром, я готовила и убирала, а Муди убивал время в безделье. В определенном смысле мы все были удовлетворены. Муди перестал говорить о возвращении к Амми Бозорг.
Иранцы находят всевозможные способы усложнять себе жизнь. К примеру, однажды Муди взял меня в город, чтобы купить сахару, и на эту простую покупку ушел целый день. Местные жители употребляют к чаю разные виды этого продукта, исходя из личных вкусов. Амми Бозорг предпочитала гранулированный, который могла рассыпать на пол. Маммаль клал кусок сахара себе в рот и через него цедил чай.
Маммаль снабдил Муди карточками, на которые мы могли купить сахар на несколько месяцев. Продавец в магазине проверил, действительны ли они, а затем насыпал нам несколько килограммов сахара-песка и с помощью молотка отбил кусок от большой головы сахара.
Дома я должна была превратить этот кусок в кусочки. Первоначально я разбила его на меньшие куски, а потом расколола их похожим на щипцы инструментом, от которого у меня на руках появились волдыри.
Подобными занятиями я заполняла пасмурные дни октября 1984 года.
Вскоре я, однако, отметила прогресс: постепенно Муди ослаблял свой контроль за мной. Он считал, что я готовила национальные блюда лучше многих иранок, и признавал, что я должна ежедневно ходить в магазины, чтобы выбрать наиболее свежее мясо, овощи, фрукты и хлеб.
Я обнаружила что-то типа пиццерии, в которой также были гамбургеры. Как американке, мне продали там два килограмма редко встречающегося иранского сыра, напоминающего мозарелли. Теперь я могла приготовить нечто подобное американской пицце. Хозяин этого заведения сказал, что всегда продаст мне этот сыр, но только мне. Впервые моя национальность здесь хоть для чего-нибудь пригодилась.
Во время этих первых моих выходов Муди был рядом и зорко следил за мной, но я с удовольствием замечала в нем нарастающие признаки утомления и скуки.
Однажды он позволил Насерин взять меня в магазин, чтобы я купила шерсти на свитерок Махтаб. Полдня мы разыскивали спицы, но безрезультатно.
– Их очень трудно достать, – сказала Насерин. – А пока можешь пользоваться моими.
Я спокойно подталкивала Муди к тому, чтобы он сам пришел к выводу, что ходьба с женщинами за покупками требует больших усилий. Часто за ужином я сообщала, что мне необходимо выскочить за каким-то важным компонентом блюда или за чем-либо из домашней утвари. Мне, например, могла срочно понадобиться фасоль или, скажем, сыр, хлеб, кетчуп, который иранцы особенно любят.
На протяжении нескольких дней по каким-то непонятным причинам Муди был хмурым и молчаливее обычного. Однако, вероятно, он все же убедился, что надежно загнал меня в угол. Как-то, погруженный в свои собственные заботы, он пожаловался, что у него нет времени идти со мной в магазин.
– Иди одна, – сказал он.
Здесь возникла новая проблема. Муди не хотел, чтобы у меня были наличные деньги, потому что деньги обеспечивают, хотя и ограниченную, свободу (он не знал, что у меня есть собственный капитал).
– Вначале сходи и спроси, сколько это стоит, – распорядился он. – Потом, когда ты вернешься, я дам тебе необходимую сумму.
Задача была достаточно трудной, но я решила справиться с ней. Все продавалось на килограммы, а мер веса, как и персидского языка, я не знала. Сначала я брала с собой бумагу и карандаш и просила продавца написать цену. Постепенно я постигла эту премудрость.
Эта изнурительная процедура оказалась очень удобной для реализации моих планов, потому что позволяла два раза в день хотя бы на короткое время освободиться от Муди.
Сначала, выходя за покупками без сопровождения Муди, я точно выполняла его инструкции. Я не хотела вызывать его гнев или подозрение. К тому же я допускала возможность, что он мог следить за мной. Позднее, когда все определенным образом установилось, я стала продлевать время отсутствия, жалуясь на переполненные магазины и плохое обслуживание. Это были вполне обоснованные жалобы в таком перенаселенном городе, как Тегеран.
Однажды я наконец решилась позвонить в швейцарское посольство. Бросив в карман несколько риалов, я с Махтаб и Амиром в коляске устремилась по улице в поисках телефона-автомата. Я надеялась, что пойму, как им пользоваться.
Я быстро нашла телефон, но оказалось, что деньги, которые у меня были, не годились. Автомат принимал только дозари – монеты в два риала, эквивалентные половине цента и очень редкие. Я быстро заглянула в несколько магазинов, держа в руке деньги и бормоча «дозари», но продавцы были слишком заняты или вовсе не обращали на меня внимания. Так я вошла в магазин мужской одежды.
– Дозари? – спросила я.
Высокий темноволосый мужчина за прилавком присмотрелся ко мне и спросил:
– Вы говорите по-английски?
– Да. Мне нужны монеты, чтобы позвонить, не разменяете ли?
– Вы можете воспользоваться моим телефоном.
Его звали Хамид, и он похвастался, что несколько раз был в Америке. Наконец мне удалось связаться с Хелен.
– Вам передали нашу просьбу? – обрадовавшись, спросила она.
– Какую просьбу?
– Муж передавал вам, чтобы вы позвонили нам?
– Нет.
Хелен удивилась.
– Жаль, ведь мы пытались с вами связаться. Ваши родители сообщили в Департамент штата, и нас попросили узнать ваш точный адрес и проверить, все ли хорошо с вами и девочкой. Я несколько раз звонила вашей золовке, но она сказала, что вы уехали к Каспийскому морю.
– Я никогда не была там.
– Ваша золовка утверждала, что не знает, когда вы вернетесь. Я сказала, что мне необходимо поговорить с вами тотчас же.
Хелен объяснила, что одной из немногих акций, которые позволили Отделению США по моему вопросу, было заставить моего мужа информировать моих близких в Штатах о том, где мы находимся и как себя чувствуем. Она сообщила также, что выслала Муди два заказных письма, требуя привести нас в посольство. Одно письмо он проигнорировал, но как раз сегодня утром позвонил в ответ на второе письмо.
– Он неохотно соглашался на контакт, – сказала Хелен.
Я испугалась. Значит, Муди уже знает, что мои родители действуют по официальным каналам. Не это ли является причиной его плохого настроения в последние дни?
Я боялась опаздывать домой, но мне еще нужно было купить хлеба. Когда я положила трубку, Хамид спросил:
– У вас какие-нибудь проблемы?
До сих пор я ни с кем, кроме посольства, не делилась своими трудностями. Мои контакты с иранцами ограничивались только общением с членами семьи Муди, и об отношении местного населения к американцам я могла судить лишь на основании обращения этих людей со мной. Все ли иранцы были такими? Похоже, что хозяин Пол Пицца Шоп не такой. Но можно ли доверять ему?
Глотая слезы, зная, что рано или поздно я все равно буду вынуждена искать у кого-нибудь помощи, я рассказала свою историю этому чужому человеку.
– Если я только смогу что-нибудь для вас сделать, пожалуйста, обращайтесь, – заверил Хамид. – Не все иранцы такие, как ваш муж. Приходите сюда, когда вам нужно будет воспользоваться телефоном.
Он подумал и добавил:
– Позвольте мне проверить некоторые сведения. У меня в паспортном отделе есть знакомые.
Благодаря Бога за Хамида, мы с Махтаб и малышом поспешили в нанни – пекарню. Нам нужно было к ужину купить лаваш: это была официальная версия нашего выхода из дому. Мы стояли, как всегда, в медленно движущейся очереди, наблюдая за работой четверых мужчин.
Действо начиналось в дальнем конце помещения, где в большой лохани (высотой около четырех футов и сечением более шести футов) из нержавеющей стали покоилось тесто. Ритмично двигаясь, обливаясь потом от сильного жара открытой полыхающей печи в другом конце помещения, один из мужчин левой рукой набирал порцию теста из лохани и бросал на противень, обрезая острым ножом до соответствующей величины. Потом бросал это тесто на покрытый мукой цементный пол магазина, по которому ходили двое босых мужчин.
Второй, сидевший по-турецки на полу и раскачивавшийся в такт произносимым по памяти строфам из Корана, поднимал с пола мокрый кусок теста, обкатывал его несколько раз в горке муки и формировал шарик. Потом снова бросал на пол в более или менее ровном ряду подобных шариков.
Третий поднимал тесто из этого ряда и клал на деревянную доску. Пользуясь длинным деревянным валиком, он раскатывал тесто в плоский блин и несколько раз подбрасывал вверх, подхватывая концом валика. Ловким движением руки он бросал его на выпуклую раму, прикрытую тряпками, которую держал четвертый мужчина.
Этот четвертый стоял в углублении цементного пола. Были видны только его руки и голова. Пол здесь был устлан тряпками, предохранявшими тело мужчины от жара открытой печи. Таким же ловким движением он вынимал готовые уже лаваши.
В тот день мы ждали дольше обычного. Я беспокоилась, как отреагирует Муди.
Когда подошла наша очередь, мы положили деньги, взяли с пола свежеиспеченный лаваш и понесли его домой незавернутым.
По дороге я объясняла Махтаб, что она должна держать в секрете от папы наш визит к Хамиду и разговор по телефону. Но это было излишне: пятилетний ребенок уже мог распознать, кто друг, а кто враг.
Подозрения Муди я попыталась развеять, сказав, что мы стояли в длинной очереди в одной пекарне, но хлеб закончился и нам пришлось идти в другую.
Не знаю, потому ли, что он сомневался в моих словах, или потому, что его напугали письма из посольства, во всяком случае несколько дней муж злился и искал повода для ссоры.
И повод представился, когда пришло письмо на мое имя. До сего времени Муди перехватывал всю адресованную мне корреспонденцию. Однако сейчас он принес мне нераспечатанный конверт. Письмо было от мамы. Первый раз с момента приезда в Иран я держала в руках исписанные ее рукой листки. Муди сел возле меня на полу и смотрел через плечо, когда я читала. Мама писала:
«Дорогая Бетти, дорогая Махтаб!
Очень беспокоимся о вас. Перед вашим отъездом я видела плохой сон. Мне снилось, что он может вас там оставить и не разрешит вернуться. Я никогда тебе об этом не говорила, потому что не хотела вмешиваться.
Сейчас снилось мне, что у Махтаб оторвало ножку. Если что-либо плохое случится с кем-нибудь из вас, виноват будет только он. Все это из-за него…»
Муди вырвал у меня письмо.
– Это чушь! – прорычал он. – Никогда больше ты не получишь от них ни единого письма, и я не позволю тебе разговаривать с ними.
В последующие дни он сопровождал нас по магазинам, а я дрожала от волнения всякий раз, когда мы проходили мимо магазина Хамида.
Муди, пожалуй, забыл, что, кроме Ирана, существует еще иной мир, но последствия его поступков должны были рано или поздно сказаться.
Перед отъездом из Америки Муди бросился за покупками. Я тогда не знала, что на кредитную карточку он приобрел щедрые подарки для своих родственников на сумму более четырех тысяч долларов. Мы также подписали договор на аренду дома в Детройте, но так как никто не вносил хозяину плату в размере шестьсот долларов в месяц, то на данный момент мы уже были должниками.
Втайне от меня Муди снял большую сумму, но не хотел закрывать всех счетов, потому что я определенно заинтересовалась бы его планами. Наш дом был обставлен дорогой мебелью, мы приобрели два автомобиля. Наши счета равнялись нескольким десяткам тысяч долларов, и Муди собирался перевести эти деньги в Иран.
Он не имел понятия о предпринятых мною шагах. Он не собирался оплачивать свои задолженности в Америке. Он не желал вносить деньги в американскую казну.
– Я не заплачу ни цента налогов в Америке, – зарекался он. – Все, конец этому. Они не получат моих денег.
Муди, однако знал, что если он не урегулирует проблему задолженностей, наши поверенные могут в итоге возбудить дело и вернуть свои деньги вместе с процентами и штрафами. Каждый проходящий день сокращал наши счета.
– Твои родители должны все продать и выслать нам деньги, – распорядился Муди, как будто хаос в финансовых делах был моей виной и мои родители были обязаны этим заниматься.
Муди был не способен к действию, и с каждым уходившим днем наше возвращение в Америку становилось все менее реальным. Он осложнил свою и нашу жизнь настолько, что привести ее в порядок стало практически невозможным.
По возвращении в Америку его привлекли бы к ответственности наши поверенные, а я подала бы на развод. И он это хорошо знал.
Но здесь, в Иране, его диплом врача оказался ненужным. Муди не мог выдержать то давление, под которым находился, и это проявлялось в его нарастающей раздраженности. Мы с Махтаб отдалились от него еще более, избегая по мере возможности даже самых незначительных конфликтов. В беспокойных глазах Муди таилась угроза.
У соседей ремонтировалась канализация, и два дня мы были без воды. Росла гора грязной посуды. И, что самое неприятное, я не могла вымыть продукты. Услышав мои жалобы, Маммаль на следующий вечер пригласил нас в ресторан. Мы никогда там не обедали, поэтому ожидали чего-то необычного. Вместо того чтобы заняться ужином, мы с Махтаб готовились к банкету. Хотелось выглядеть как можно лучше.
Мы уже собрались, когда Маммаль пришел с работы, но вернулся он уставший и в плохом настроении.
– Нет, мы никуда не пойдем, – сказал он. Опять та'ароф.
Мы были подавлены. Так мало нам было нужно, чтобы наша жизнь стала немножко светлее.
– Возьмем такси и поедем сами, – обратилась я к Муди, когда мы с Махтаб сидели в холле.
– Нет, не поедем, – отрезал он.
– Почему?
– Я сказал нет! Мы в их доме и не можем идти без них. Они не хотят идти, поэтому приготовь что-нибудь.
Охватившее меня разочарование привело к тому, что я утратила осторожность. Забыв о том, что я совершенно беспомощна в данной ситуации, и давая свободу накопившейся злобе, я ответила:
– Но вчера шла речь о том, что мы выйдем что-нибудь поесть в город. А сейчас Маммаль не хочет идти.
Я стала считать Маммаля основной причиной всех моих неприятностей. Это он пригласил нас в Иран. У меня перед глазами было его лицемерно улыбающееся лицо, и я вспомнила, как он убеждал меня в Детройте, что его родственники никогда не позволят Муди задержать меня в Иране вопреки моей воле.
Я встала и, глядя на Муди сверху, высказала ранее сдерживаемые слова:
– Он лицемер! Он обычный лжец!
Муди вскочил. Лицо его исказила злобная гримаса.
– Ты называешь Маммаля лжецом?! – заорал он.
– Да, я называю его лжецом, – отпарировала я. – И ты тоже лжец. Вы оба говорили, что…
Мой крик был прерван тяжелым ударом. Я закачалась, точно пьяная, и сразу почувствовала боль. Я успела только заметить, что Маммаль и Насерин вошли в комнату посмотреть, что происходит. Я слышала испуганный крик Махтаб и омерзительные проклятия Муди. Все закружилось у меня перед глазами.
Шатаясь, я попыталась добраться до спальни в надежде закрыться там и переждать, пока ярость Муди пройдет. За мной бежала Махтаб.
Я была уже у двери спальни, а Махтаб наступала мне на пятки, но Муди нас обогнал. Махтаб пыталась протиснуться между нами, но он грубо оттолкнул ее. Она сильно ударилась о стену и вскрикнула от боли. Я рванулась к ней, и в этот миг Муди одним ударом бросил меня на постель.
– Помогите! – кричала я. – Маммаль, на помощь!
Одной рукой Муди схватил меня за волосы, другой, сжатой в кулак, бил по голове.
Махтаб прибежала на помощь, но он снова оттолкнул ее.
Я пыталась вырваться из его рук, но он был слишком сильным.
– Убью тебя! – рычал он.
Мне удалось ударить его и, частично освободившись, я попыталась бежать, но тут Муди так сильно ударил меня по спине, что парализующая боль пробежала по позвоночнику.
Махтаб всхлипывала в углу. Я была в его власти, и он приступил к более методичному избиению, таская за волосы и нанося удары по лицу. Все время он кричал, проклиная меня:
– Убью тебя! Убью!
– Помогите! – умоляла я. – Помогите же кто-нибудь!
Ни Маммаль, ни Насерин даже не пытались вмешаться. Не сделали этого также Реза и Эссей, которые все должны были слышать.
Я не знала, сколько времени это продолжалось. Я ждала потери сознания, смерти, которую он мне обещал.
Удары постепенно слабели. Он прекратил меня бить, чтобы перевести дыхание. Махтаб где-то рядом захлебывалась от рыданий.
– Да'иджан, – послышалось со стороны двери, – да'иджан!
Это был Маммаль. Наконец-то! Муди поднял голову и, казалось, внял этому тихому голосу, раздавшемуся из нормального мира.
– Да'иджан, – повторил Маммаль.
Он деликатно отодвинул Муди от меня и вывел в холл.
Махтаб подбежала и спрятала лицо у меня на груди. Нас объединила общая боль, и не только физическая, но и более глубокая, похороненная в сердце. Мы плакали и задыхались от отчаяния.
Мое тело превратилось в сплошную рану. От ударов Муди на голове образовались две большие шишки, и я испугалась, что получила какую-то серьезную травму. Ломило руки, спину и особенно сильно ногу. Я понимала, что несколько дней буду хромать. А что с моим лицом?
Спустя какое-то время на цыпочках, поддерживая левой рукой чадру на голове, в комнату вошла Насерин – живой пример покорной иранской женщины. Махтаб и я по-прежнему рыдали. Насерин села на постель и обняла меня.
– Не переживай, – сказала она, – все в порядке.
– В порядке?! – спросила я, не поверив своим ушам. – Это порядок, что он меня избивает?! Это порядок, когда он говорит, что убьет меня?!
– Он не убьет тебя.
– Он говорит, что убьет. Почему ты не помогла мне? Почему вы ничего не сделали?
Насерин всеми силами пыталась успокоить меня. Она хотела помочь мне обучиться правилам игры, господствующим в этой страшной стране.
– Мы не можем вмешиваться, не имеем права выступить против да'иджан, – объяснила она.
Махтаб внимательно слушала. Глядя в ее заплаканные глаза, меня захлестнула волна ужаса. А что если бы Муди действительно осуществил свою угрозу? Что тогда будет с Махтаб? Или он убьет ее тоже? Или она еще настолько мала и подвержена влиянию, что по мере взросления воспримет это безумие как норму? А может, станет такой же женщиной, как Насерин или Эссей, и будет прятать свою красоту, разум и душу под чадрой? Или Муди выдаст ее замуж за брата, который станет ее бить, и у них будут рождаться недоразвитые дети?
– Мы не можем пойти против дяди, – повторила Насерин. – Все мужчины такие.
– Нет, – ответила я резко, – не все мужчины такие.
– Все, – твердила Насерин. – Маммаль делает со мной то же самое. Реза делает с Эссей то же самое. Все такие.
«Боже мой, – подумала я, – а что же дальше?»
Несколько дней я хромала и чувствовала себя настолько плохо, что была не в состоянии преодолеть даже короткое расстояние. Мне не хотелось, чтобы кто-нибудь видел меня. Даже платок не мог закрыть синяков на моем лице.
Махтаб еще больше отдалилась от отца. Перед сном она всегда долго плакала.
Проходили дни, полные напряжения. Муди был хмурым и раздраженным. Мы с Махтаб жили в страхе. Сейчас чувство беспомощности угнетало нас больше, чем когда бы то ни было. Это садистское побоище свидетельствовало о том, что впереди меня ждут новые опасности. Мои синяки были доказательством того, что Муди безумен, что он готов убить меня или нас обеих, если что-нибудь вызовет его ярость. Дальнейшая реализация моих еще таких неясных планов побега означала подвергнуть нас еще большему риску. Наша жизнь зависела от каприза Муди.
Разговаривая с ним, глядя на него или даже просто думая о нем, я все больше укреплялась в собственном мнении. Я знала этого человека достаточно хорошо и на протяжении нескольких лет наблюдала, как он теряет рассудок. Я гнала от себя воспоминания, так как они вызывали только бессильную жалость к себе, но они все приходили и приходили. Если бы раньше, до того как мы оказались в самолете на Тегеран, я вела себя в соответствии с тем, что подсказывала мне интуиция… Каждый раз, когда я думала об этом, а думала я часто, я все больше убеждалась, что попала в ловушку.
Я могла назвать множество причин, приведших нас сюда, – финансовых, юридических, эмоциональных, даже профессиональных. Но одна главенствовала над всеми: я привезла Махтаб в Иран, делая отчаянное усилие, чтобы обеспечить ей свободу. И какая же ирония судьбы!..
Могу ли я привыкнуть к жизни в Иране ради спасения Махтаб? Это будет очень тяжело, а пожалуй, и невозможно. Для меня уже не имело большого значения то, что Муди мог быть спокойным и доброжелательным. Я знала, что рано или поздно он утратит контроль над своим разумом. Желая спасти жизнь Махтаб, я вынуждена была подвергнуть ее опасности, может быть, даже пойти на крайний риск.
Ярость Муди в любом случае не склонила меня к капитуляции, скорее, наоборот, она укрепила мое желание, и все мои мысли, каждое действие были направлены на достижение заветной цели.
Махтаб укрепляла мое решение.
Когда мы были вместе в ванной, она тихонько плакала и умоляла меня забрать ее от папы и увезти домой, в Америку.
– Я знаю, как нам добраться до Америки, – сказала она однажды. – Когда папа пойдет спать, мы выбежим из дома, поедем в аэропорт и сядем в самолет.
Для пятилетнего ребенка жизнь может быть так проста и так сложна.
С каждым разом мы молились все усерднее. Хотя многие годы я не ходила в костел, сейчас ко мне вернулась великая вера в Бога. Я не могла понять, почему Всевышний подверг нас такому испытанию, но знала, что без его помощи мы не освободимся от этого тяжкого бремени.
Некоторая помощь пришла от Хамида. Когда я заглянула к нему первый раз после избиения, он спросил:
– Что с вами случилось? Я рассказала ему обо всем.
– Он, наверное, сумасшедший, – медленно произнес Хамид, как бы взвешивая слова. – Где вы живете? Я мог бы послать кого-нибудь, чтобы им занялись.
Это была возможность, над которой стоило подумать, но после размышлений мы пришли к выводу, что Муди мог бы догадаться, что у меня появились друзья.
Когда я поправилась и начала чаще выходить, всякий раз я заглядывала в магазин Хамида, чтобы позвонить Хелен в посольство или просто поговорить с новым приятелем о своей судьбе.
Хамид, бывший офицер армии шаха, жил сейчас в глубокой конспирации.
«Иранцы жаждали революции, – рассказывал он мне, – но не стремились к этому», – он указал на толпы хмурых людей, снующих по улицам исламской республики аятоллы.
Хамид тоже искал способ вместе с семьей выбраться из Ирана. Но вначале он должен был решить ряд проблем: продать магазин, закрыть счета, предпринять необходимые меры, чтобы быть уверенным в безопасности. Он окончательно принял решение бежать прежде, чем откроется его прошлое.
– У меня есть много влиятельных друзей в Соединенных Штатах, – сказал он, – и они делают для меня все, что только в их силах.
Я сказала ему, что мои родственники и друзья в Штатах тоже делали все, что могли, но, по всей видимости, не так уж много можно сделать с помощью официальных каналов.
Возможность пользоваться телефоном Хамида очень помогала. Хотя информация из посольства была невеселой, она оставалась единственной связью с домом. Дружелюбие Хамида имело еще и другое значение. Он первый показал мне, что многие иранцы по-прежнему ценят западный образ жизни и возмущены презрительным отношением нынешнего руководства к Соединенным Штатам.
Со временем я убедилась, что Муди не был таким всесильным, как он себе это представлял. Ему почти ничего не удалось сделать, чтобы получить разрешение на врачебную практику в Иране. Американские дипломы во многих случаях обеспечивали ему престиж, но в государственных учреждениях аятоллы он встретился с определенными преградами.
Не занимал он высокой позиции и в сложной родовой иерархии. Ему приходилось подчиняться родственникам старше его так же, как ему подчинялись младшие. Он не мог проигнорировать свои обязанности в семье, что начало действовать в мою пользу. Родственники заинтересовались, что случилось с Махтаб и со мной. За первые две недели нашего пребывания в Иране он представил свою жену и дочь всем до единого. Некоторые из них захотели увидеть нас снова. Муди знал, что не сможет прятать нас постоянно.
Муди неохотно принял приглашение на ужин к аге Хакиму, которого он очень уважал. Они были двоюродными братьями в сложной родословной этой семьи. Племянник аги Хакима был мужем сестры Эссей, а племянница – женой брата Эссей. Зия Хаким, которого мы встретили в аэропорту, тоже был родственником аги Хакима, первой, второй или третьей степени. Ханум Хаким, его жена, была тоже двоюродной сестрой Муди. Родственные узы требовали уважения, но главным, что давало аге Хакиму большую власть над Муди, был его статус «человека в тюрбане». Он руководил мечетью в Нираване, возле бывшего дворца шаха. В свое время ага Хаким учился в Тегеранском университете на факультете теологии; был известным автором книг по исламу и перевел с арабского на персидский несколько работ Тагати Хакима, дедушки Хакима и Муди. В дни революции ага Хаким успешно провел операцию по взятию дворца шаха, благодаря чему его фотография появилась на страницах «Ньюсуик». Кроме того, его жена носила почетный титул Биби Наджи, что означало «госпожа, которая посетила Мекку».
Муди не мог проигнорировать это приглашение.
– Ты должна надеть черную чадру, – приказал он. – Ты не можешь появиться без нее в том доме.
Я радовалась предстоящему визиту, но одежда, которую я должна была надеть, портила мне настроение.
Дом Хакимов в Нираване, аристократическом районе в северной части Тегерана, был современным и просторным, но в нем почти полностью отсутствовала мебель.
Худощавый, немного выше Муди, с густой седеющей бородой, ага Хаким все время приветливо улыбался. Одет он был во все черное, черным был у него и тюрбан. Это имело существенное значение. Другие люди носили преимущественно белые тюрбаны. Черный же означал, что ага Хаким происходит по прямой линии от пророка Магомета.
К моему удивлению, он оказался не таким уж набожным, потому что, обращаясь ко мне, смотрел прямо в глаза.
– Зачем ты носишь чадру? – спросил он у меня через Муди.
– Я думала, что нужно.
Муди был озадачен последующей фразой аги Хакима, но перевел ее:
– В чадре тебе неудобно. Это не иранский, а персидский обычай. В моем доме тебе не обязательно надевать чадру.
Он понравился мне.
Ага Хаким первым из иранцев спросил о моих близких в Америке. Я рассказала ему об умирающем от рака отце и моем беспокойстве о нем, а также о своей маме и сыновьях.
Он сочувственно покивал головой, понимая силу семейных уз.
Муди что-то готовил для Махтаб и преподнес это довольно жестоким способом. Без объяснения, без подготовки он объявил однажды утром:
– Ну, Махтаб, сегодня идем в школу.
Мы обе расплакались, потому что боялись всего, что могло нас хоть на мгновение разлучить.
– Не заставляй ее идти, – умоляла я.
Однако Муди настаивал. Он сказал, что Махтаб должна привыкать, а школа – это необходимый первый шаг. Она уже изучила язык настолько, что может общаться с другими детьми. Пора в школу.
Он не хотел больше ждать, пока откроется частная школа, в которой мы уже были. Его племянница Ферри, учительница, записала Махтаб в нулевой класс государственной школы. Муди подчеркнул, что получить место в нулевом классе было трудно и это удалось организовать только благодаря протекции Ферри.
– Разреши мне пойти с вами, – попросила я, и он согласился.
Медресе (школа) Зайнаб размещалась в низком цементированном здании, выкрашенном в мрачный темно-зеленый цвет. Снаружи оно напоминало форт. Внутри бегали девочки разного возраста в черной и темно-серой одежде, в русари на голове. Мы с Махтаб неуверенно шли за Муди по темному коридору. При появлении Муди вышла обеспокоенная дежурная: школа была женская. Дежурная быстро постучала в дверь, приоткрыла ее и предупредила о приближении мужчины.
Мы с Махтаб робко стояли в стороне, в то время как Муди разговаривал с директрисой, которая двумя руками придерживала черную чадру у самого лица. Слушая Муди, она не поднимала глаз. Время от времени она посматривала на меня, но ни разу на мужчину. Спустя несколько минут он повернулся ко мне и буркнул:
– Она говорит, что моя жена выглядит не очень довольной.
Он взглядом приказывал мне повиноваться, но я вновь – ведь это касалось благополучия Махтаб – нашла в себе силы противостоять ему.
– Мне не нравится эта школа, – сказала я. – Мне бы хотелось увидеть класс, где Махтаб будет учиться.
Муди обменялся несколькими словами с директрисой.
– Ханум Шахин покажет тебе, – сказал он. – Это женская школа, мужчинам входить нельзя.
Ханум Шахин была молодой, в возрасте немногим более двадцати лет. И хоть она была в чадре, выглядела очень привлекательной. Мой недружелюбный взгляд встретил искреннюю доброту в ее глазах. Разговаривали мы с помощью жестов и нескольких основных слов на фарси.
В этой школе меня поразило все. Мы шли по обшарпанным коридорам, мимо огромного портрета хмурого аятоллы и бесчисленных плакатов, прославлявших военные операции. Фигурировал на них преимущественно доблестный солдат.
Ученицы вплотную друг к другу сидели на длинных лавках. И хотя я мало понимала по-персидски, методика обучения была настолько проста, что невозможно было не понять. Вся система основывалась на механическом заучивании. Учительница произносила фразу, а ученицы повторяли ее хором.
Пока я не увидела школьную ванную комнату, одну на пятьсот учениц, мне казалось, что я знаю, как грязно может быть в Иране. Мне пришлось убедиться, что я заблуждалась. Это была маленькая комната с открытым настежь окном, в которое дул ветер, попадал дождь, влетали мухи и комары. Туалетом служила большая дыра в полу. Туалетную бумагу заменял краник с ледяной водой.
Когда мы вернулись в канцелярию, я сказала Муди:
– Я не выйду отсюда, пока ты сам не посмотришь эту школу. У меня в голове не укладывается, что ты мог бы оставить собственную дочь в таком месте.
Муди спросил, может ли он осмотреть школу.
– Нет, – ответила по-персидски Ханум Шахин, – мужчинам нельзя.
Я повторила громче, настоятельным тоном рассерженной матери:
– Мы не выйдем отсюда, пока ты не посмотришь школу!
Ханум Шахин в конце концов уступила. Она послала дежурную предупредить учителей и учениц о появлении мужчины и пригласила Муди последовать за ней. Мы с Махтаб ждали в канцелярии.
– Ты была права, – согласился Муди, вернувшись. – Мне тоже здесь не нравится. Это страшно. Но в этой стране так выглядят все школы, и она сюда будет ходить. Здесь лучше, чем в школе, которую посещал я.
Махтаб приняла это сообщение тихо, погруженная в свои мысли. На ее густых длинных ресницах дрожали слезинки. У нее невольно вырвался вздох облегчения, когда Муди сказал:
– Сегодня они не могут принять ее. Начнет ходить с завтрашнего дня.
Дома Махтаб умоляла отца, чтобы он не посылал ее в эту школу, но он был непреклонен. Всю вторую половину дня она проплакала у меня на груди.
– Боженька милосердный, – молилась она в ванной, – сделай что-нибудь, чтобы я не ходила в эту школу.
Когда я слушала молитвы своего ребенка, мне в голову вдруг пришла неожиданная мысль. Возможно, она появилась случайно, а может быть, это было самовнушение. Я вспомнила одну из основных проповедей катехизиса, касающихся молитвы. И я сказала Махтаб:
– Бог отвечает на наши молитвы, но не всегда так, как мы этого хотим. Может, тебе нужно пойти в школу, и, может, Бог хочет, чтобы ты так поступила. Может быть, из этого выйдет что-нибудь хорошее.
Махтаб не успокоилась, но я почувствовала какое-то облегчение и умиротворение. Обе мы ненавидели навязанную нам школу. И все-таки я понимала, что благодаря школе шесть дней в неделю Махтаб будет занята с восьми утра до полудня. Ежедневно, за исключением пятницы, у нас будет причина выйти из дома. И тогда, кто знает, какие возможности могут появиться.
На следующее утро мы встали раньше обычного, и это добавило мне оптимизма в достижении моей цели.
Муди уже поднял свой статус да'иджан до роли духовного пастыря этого дома. Он вставал ранним утром и проверял, все ли (за исключением меня и Махтаб) участвуют в молитвах. Конечно, это была просто формальность, потому что и Насерин, и Маммаль были в этом плане очень добросовестными. Однако Муди начал использовать свой авторитет также по отношению к первому этажу, Резе и Эссей, которых мало заботили религиозные обязанности. Это раздражало их, особенно Резу, которому нужно было отправляться на работу, в то время как Муди проскальзывал снова в постель. Утомленный молитвами, Муди приобрел привычку лентяя спать до десяти, а то и до одиннадцати. Я хорошо понимала, что он скоро устанет от расписания занятий Махтаб. Может быть, тогда он позволит мне самой водить ее в школу, и таким образом расширится диапазон моей свободы.
Несмотря на эту надежду, первое утро было очень напряженным. Махтаб молчала, когда я завязывала ей такой же платок, какие носили другие девочки в школе. Она не произнесла ни единого слова, пока мы не оказались в канцелярии школы, где ассистентка учительницы протянула руку, чтобы проводить ее в класс. Тут уже Махтаб не выдержала. Сдерживаемые слезы брызнули у нее из глаз. Она судорожно схватилась за край моего пальто.
Я встретила взгляд Муди. Глаза его не выражали ни тени сочувствия, только угрозу.
– Ты должна идти, Махтаб, – сказала я, с трудом сохраняя спокойствие. – Все будет хорошо. Мы приедем за тобой, не волнуйся.
Ассистентка повела Махтаб. Девочка пыталась быть стойкой, но, когда мы с Муди повернулись к выходу, то услышали ее громкий плач, вызванный болью расставания. Сердце мое разрывалось, но я знала, что не могу противостоять безумцу, который сильно держал меня за плечо и вел к выходу.
Мы сели в оранжевое такси и молча поехали домой. Здесь нас уже ждала Насерин с сообщением:
– Звонили из школы. Махтаб устроила там переполох. Вы должны поехать и забрать ее.
– Это ты во всем виновата! – рычал Муди. – Ты ее так настроила! Она перестала быть нормальным ребенком. Ты ее все время защищала!
Я молча слушала эти упреки, не желая рисковать. Я виновата? Мне хотелось кричать: «Это ты перевернул всю ее жизнь!» Но я молчала, зная, что то, о чем он говорил, было частично правдой. Да, я оберегала Махтаб, боялась потерять ее из виду, страшилась, как бы родственники Муди не настроили его забрать ее у меня. Моя ли это была вина? Если когда и существовала ситуация, требующая от матери чрезмерной опеки, то она была как раз в этом случае.
Муди выбежал из дома и вскоре появился, таща за собой рыдавшую Махтаб.
– Завтра же вернешься в школу, – приказал он, – и останешься там. Будет лучше, если перестанешь плакать.
Весь остаток дня я уговаривала Махтаб.
– Ты должна сделать это, – говорила я. – Будь сильной, большой девочкой. Ты знаешь, что Бог будет с тобой.
– Я просила Бога найти какой-нибудь способ, чтобы я не пошла в школу, – плакала Махтаб, – но он не услышал мою молитву.
– Может, услышал, – заметила я, – может быть, есть какая-нибудь причина, по которой тебе нужно идти в школу. Не думай никогда, что ты одна, Махтаб. Бог всегда с тобой. Он будет заботиться о тебе. Не забывай помолиться, когда тебе страшно, когда чувствуешь себя покинутой и не знаешь, что происходит.
Несмотря на мои советы, на следующее утро Махтаб встала сразу с плачем. Сердце мое разрывалось, когда Муди схватил ее и повел в школу, не позволив мне сопровождать. Плач моей испуганной девочки звучал у меня в ушах еще долго после ее ухода. Я нервно мерила шагами комнату и пыталась проглотить твердый ком, который стоял у меня в горле. Я ждала, пока вернется Муди и расскажет мне обо всем.
Но Эссей задержала его на крыльце и сообщила, что опять звонили из школы и просили, чтобы он забрал Махтаб. Девочка очень непослушная, и ее крики всполошили всю школу.
– Еду за ней, – бросил он в ярости. – Я ей так задам, что в следующий раз она останется в школе.
– Прошу тебя, не обижай ее, – кричала я вслед ему, – я поговорю с ней!
Он не бил ее. Вернувшись из школы, он злился больше на меня, чем на Махтаб. Оказалось, что ханум Шахин попросила его о том, на что ему не хотелось соглашаться.
– Они хотят, чтобы ты приводила ее в школу и сидела там до окончания уроков. Во всяком случае, несколько дней. Только при таком условии ее примут, – недовольно сказал он.
Значит, что-то начало действовать! Я была угнетена тем, что он заставлял Махтаб ходить в иранскую школу, и вдруг передо мной открылась возможность регулярно выходить из дома.
Обеспокоенный такой развязкой, но не видя иного выхода, Муди сразу же выдвинул свои условия:
– Ты должна сидеть возле канцелярии, никуда не отходя. Тебе нельзя пользоваться телефоном.
– Хорошо, – согласилась я, в глубине души считая это условие та'ароф.
На следующий день мы втроем отправились в школу. Махтаб была испугана, но не настолько, как в предыдущие два дня.
– Твоя мать останется здесь, – сказал Муди Махтаб, указывая на стул в коридоре у дверей канцелярии.
Махтаб кивнула головой и позволила ассистентке проводить себя в класс. На полпути она остановилась и оглянулась. Увидев меня на стуле, пошла дальше.
– Ты должна оставаться здесь, пока я не приеду за вами, – повторил мне Муди и вышел.
Утро тянулось бесконечно долго. Я не взяла с собой ничего, чем могла бы скоротать время. Коридоры опустели, ученицы разошлись по классам, и вскоре начались занятия. «Марг бар Амрика! – неслось из каждого класса. – Марг бар Амрика! Марг бар Амрика!» Таким образом податливый ум учениц, в том числе и моего невинного ребенка, усваивал официальную политику Исламской Республики Иран: «Смерть Америке!».
По окончании политических уроков в коридоре послышался легкий шум. Это учащиеся приступали к своим уже более спокойным занятиям. В каждом из классов, даже в самых старших, учительница задавала вопрос, а ученицы хором отвечали слово в слово. Даже интонация у всех была одинаковая. Такую науку усваивал и Муди, будучи ребенком.
Размышляя над этим, я уже лучше понимала, почему многие иранцы так легко преклоняются перед авторитетами. Вот почему всем им очень сложно принять решение самостоятельно.
Каждый получивший такое воспитание естественным образом находил свое место в иерархии, выдавая суровые приказы лицам, стоящим ниже, и слепо подчиняясь тем, у кого был более высокий статус. Подобная школьная система воспитала такого Муди, который мог требовать и ждать беспрекословного повиновения своей семьи; воспитала она также Насерин, полностью повиновавшуюся стоящим выше ее в семейной иерархии представителям мужского пола. Такая школьная система была способна сформировать целый народ, который безоговорочно готов был отправиться на смерть по призыву аятоллы, признанного умом и совестью этой страны. А если так, то что сделает эта система с одной маленькой пятилетней девочкой?..
Спустя какое-то время ханум Шахин выглянула в коридор и пригласила меня в канцелярию. Я ответила иранским жестом – легким поднятием головы и щелканьем языка. В эту минуту я ненавидела всех иранцев, особенно покорных женщин в чадре. Но директриса, тепло и внимательно посмотрев на меня, снова кивнула, настаивая, чтобы я вошла.
Таким образом я оказалась в канцелярии. С помощью жестов ханум Шахин предложила мне чай. Я поблагодарила, а сама наблюдала за женщинами. Хотя они должны были разучивать с девочками антиамериканские песни, они смотрели на меня дружелюбно. Мы предприняли несколько попыток поговорить, но без особого успеха.
Мне очень хотелось поднять находящуюся рядом со мной телефонную трубку и позвонить в посольство, но я не отважилась.
В маленькой канцелярии стояли три стола, за которыми работали пять женщин. Директриса сидела в углу комнаты и, казалось, ничего не делала.
Женщины за остальными столами одной рукой перекладывали бумаги, а другой поддерживали чадру у шеи. Иногда кто-нибудь из них вставал, чтобы позвонить или ответить на звонок. Большая часть времени, однако, уходила у них на разговоры, которые, хоть я и не могла понять содержания, были определенно обычными сплетнями.
В середине занятий в коридоре послышался какой-то шум. В канцелярию вбежала учительница. Она тащила за собой ребенка с покорно опущенной головой. Учительница выдала целую серию обвинений, часто повторяя слово «бэд», которое по-персидски обозначало то же самое, что и по-английски: злой, плохой. Ханум Шахин и остальные ополчились против девочки. Крича, они начали бить ее, пока не довели до слез. Во время этого наказания одна из присутствующих куда-то позвонила. Через несколько минут появилась женщина с диким взглядом, явно мать малышки. Она кричала и осуждающе указывала пальцем на свою дочь, выливая злобу на беззащитного ребенка.
– Бэд! Бэд! – визжала мать.
Девочка отвечала жалобным плачем.
Это унижение длилось довольно долго. Наконец мать схватила дочку за плечо и вытащила из комнаты.
Ханум Шахин и другие женщины тотчас же изменили агрессивные позы. Они смеялись и поздравляли друг друга с успехом, который явно заключался в том, чтобы девочке сделать больно. Я не знала, что там произошло, но могла лишь искренне сочувствовать несчастному ребенку. Я молила Бога, чтобы моя девочка никогда не оказалась в подобной ситуации.
Махтаб прекрасно справилась с собой, зная, что я поблизости. В полдень Муди приехал и отвез нас на такси домой.
На следующее утро, когда я сидела в канцелярии, ханум Шахин привела одну из учительниц.
– Меня зовут Азар, – представилась та, – я немного говорю по-английски.
Она села возле меня, изучая мой недоверчивый взгляд.
– Я знаю, что вы не любите нас, – сказала она, – но нам бы не хотелось, чтобы вы думали о нас плохо. Вам не нравится школа?
– Она грязная, – ответила я. – Я не хочу, чтобы Махтаб посещала ее.
– Нам очень жаль, – объяснила Азар. – Мы весьма сожалеем, что вы чувствуете себя чужой в нашей стране, и хотели бы что-нибудь для вас сделать.
Ханум Шахин стояла возле нас. Мне было интересно, что она поняла. Она произнесла что-то по-персидски, а Азар перевела:
– Директор говорит, что они все очень хотели бы знать английский. Она говорит, что вы могли бы приходить ежедневно и, ожидая Махтаб, обучать их английскому, а они учили бы вас персидскому.
Итак, мои молитвы услышаны! Мы сможем познакомиться.
– Хорошо, – согласилась я.
Мы начали заниматься. У женщин в канцелярии не было работы, если не считать дисциплинарных сеансов время от времени. И по утрам мы учились. В ходе наших занятий я, по крайней мере, начала понимать этих женщин. Отставшие от меня на целое столетие, если речь идет о мышлении и культуре, они все-таки оставались женщинами, которые заботились о детях и хотели их хорошо воспитать тем единственным способом, который знали. Они были заложницами системы образования, которая диктовала, что и как им следует делать, но и здесь появлялись проблески индивидуальности. Общаться было еще очень трудно, но у меня сложилось впечатление, что многие иранцы разочарованы положением в своей стране.
Если говорить о наших личных отношениях, то не могу не признать, что мои новые приятельницы действительно заботились о Махтаб и обо мне: то одна, то другая поднимала на руки и целовала мою дочурку. Ханум Шахин всегда повторяла Махтаб, что она любит ее запах, имея в виду запрещенные здесь духи, какими я чуть-чуть душила ее каждое утро. Когда мы оставались одни, они высказывали неприязнь по отношению к Муди.
Азар была занята своими уроками и не могла уделять мне много времени, но при любой возможности заглядывала в канцелярию.
Я была удивлена, когда узнала, что прежде она была директором этой школы. Это было до революции. При новой власти образованных специалистов с дипломами и опытом работы уволили и заменили политически грамотными и проверенными руководителями. Новые кадры были преимущественно молодыми и менее образованными, но проявляли религиозный фанатизм, что для руководства сейчас стало более важным.
– Вот поэтому и назначили ханум Шахин, – объяснила мне Азар. – Она и вся ее семья очень религиозны. Для этого нужно происходить из семьи фанатиков; здесь невозможно притворяться.
Ханум Шахин была откровенно настроена антиамерикански, но, чем дальше продолжались наши контакты, тем больше она привязывалась ко мне, несмотря на мою национальность.
Однажды после разговора с ханум Шахин Азар сказала:
– Нам на самом деле хотелось бы что-нибудь сделать для вас.
– Хорошо, – ответила я, приняв решение, – позвольте мне только позвонить.
Азар поговорила с ханум Шахин. Та подняла голову и щелкнула языком. Нет. Она пробормотала несколько слов, которые Азар перевела:
– Мы обещали вашему мужу, что не позволим вам выйти из здания или воспользоваться телефоном.
Я поняла, что эти женщины находились так же, как и я, в западне, подвластные законам мужского мира, недовольные, но послушные. Я заглянула им в глаза и обнаружила глубокое сочувствие.
Однажды пополудни в необычный в эту пору года теплый и ясный день Муди неохотно уступил просьбе Махтаб пойти в парк. От парка нас отделяло лишь несколько перекрестков, но Муди сказал, что это далеко.
– Мы можем побыть там только несколько минут, – заявил он.
Я знала, что у него есть более важные дела: почитать газеты, послушать болтовню по радио, подремать в постели.
Когда мы подошли к качелям и горке, Махтаб радостно вскрикнула, увидев светловолосую девочку на вид лет четырех. На ней были шорты и кроссовки, такие же, как Махтаб привезла из Америки.
Неподалеку стояли, по всей видимости, родители девчушки. Мать была молодой интересной женщиной. Из-под ее платка выглядывали светлые локоны. На ней был коричневый жакет с поясом, совершенно непохожий на иранские манто.
– Она – американка, – сказала я Муди.
– Нет, – буркнул он, – она говорит по-немецки.
Махтаб подбежала к горке, чтобы поиграть с девочкой, а я быстро подошла к женщине, не обращая внимания на протесты Муди. Женщина разговаривала с иранцем, но… по-английски!
Я представилась. Муди стоял возле меня.
Женщину звали Юди. Ее муж, иранец по происхождению, был предпринимателем в Нью-Йорке. Он остался там, а Юди привезла двоих детей в Иран, чтобы они увиделись с бабушкой и дедушкой. Уже прошла почти половина их двухнедельного отдыха. Как я завидовала ей! У нее был билет на самолет, паспорт, выездные документы!
Юди представила мне Али, своего деверя. Как только Али узнал, что Муди – врач, он стал рассказывать, что пытается получить визу в Штаты к кардиологам. Юди добавила, что она на следующей неделе летит во Франкфурт, где пойдет в американское посольство, чтобы оформить для него визу. Они заинтересовались, что мог бы посоветовать им ирано-американский врач. Муди в этот момент ощутил себя очень важной персоной, перестал обращать на меня внимание и сконцентрировался на себе.
Девочки оставили горку и отправились на качели. Мы с Юди пошли за ними. Оказавшись вне досягаемости ушей Муди, я решила не терять ни минуты.
– Я здесь заложница, – прошептала я. – Пожалуйста, помогите мне! Я прошу вас пойти в американское посольство во Франкфурте и сказать, что я здесь. Они должны что-нибудь для меня сделать.
Муди и Али медленно приближались. Юди заметила мой взгляд, и мы прошли немного вперед.
– Он не разрешает мне ни с кем разговаривать, – призналась я. – Я здесь как в тюрьме, и у меня нет связи с домом.
– Как мне вам помочь? – спросила Юди. Я на секунду задумалась.
– Давайте будем говорить о лечении, – предложила я. – Мой муж чувствует себя на верху блаженства, если кто-нибудь разговаривает с ним о медицине.
– Замечательно, – согласилась Юди. – Мы все равно должны организовать визу для Али. Возможно, нам удастся втянуть в это вашего мужа.
Мы повернулись к мужчинам.
– Ты можешь ему помочь? – спросила я Муди.
– Да, и с большим удовольствием.
Я заметила, что Муди впервые за несколько месяцев почувствовал себя доктором.
– Я напишу письмо, – предложил он. – Я знаю, с кем надо связаться. У меня даже есть несколько американских бланков.
Он на минуту задумался:
– Но мне нужна пишущая машинка.
– Я могу ее предоставить, – пообещала Юди.
Мы обменялись номерами телефонов и договорились, что скоро встретимся в парке. Мы с Муди возвращались домой возбужденные. У него было прекрасное настроение. Увлеченный разговором на профессиональные темы, он, оказалось, даже не заметил, что мне удалось поговорить с американкой наедине.
Юди действовала быстро. Через два дня она позвонила и пригласила нас с Махтаб в парк.
На этот раз Юди сопровождал невысокого роста бородатый иранец лет тридцати. Она представила его нам. Рашид оказался заведующим кадрами большой клиники. Муди был счастлив, что снова может поговорить на интересующую его тему. Он засыпал собеседника вопросами о процедуре получения разрешения на врачебную практику в Иране. Тем временем мы с Юди снова ушли вперед.
– Не волнуйтесь, – успокоила она меня. – Рашид уже в курсе. Он будет осторожен в разговоре с вашим мужем. Рашид знает, чем его занять, так что мы можем свободно поговорить.
Юди ознакомила меня с дальнейшим планом действий. Через несколько дней свекровь собирается устроить для нее и детей прощальный прием. Юди уже побеспокоилась, чтобы нас тоже пригласили. Она взяла пишущую машинку, так что я смогу перепечатать письмо Муди для Али. Юди надеется, что в общем замешательстве на приеме у меня появится возможность поговорить с Рашидом наедине.
– Он знает тех, кто вывозит людей через Турцию, – сказала она.
Следующие два дня мне показались вечностью. Я с нетерпением ждала приема.
Я решила воспользоваться Юди как почтальоном и передать письма родителям, Джо и Джону. Я писала о своей любви к ним и о том, как мне тоскливо без них, подробно описывая, в каких условиях мы находимся. Перечитывая свои письма, я понимала, что они полны печали и отчаяния. Я чуть было их не порвала, но передумала. Они отражали мое душевное состояние.
Еще одно письмо адресовалось моему брату Джиму и его жене Робин с изложением определенного плана. Я объясняла им, как для Муди важны сейчас деньги: мы истратили здесь очень много, а он постоянно без работы; все наши сбережения остались в Америке. Возможно, Муди нужен только какой-то предлог, чтобы вернуться. Я попросила, чтобы Джим позвонил нам и сказал, что отцу стало хуже и что мы должны приехать домой навестить его. Джим мог бы сказать, что близкие собрали деньги и оплатят наши билеты. Может быть, Муди польстится на бесплатное путешествие?
Прием у свекрови Юди был пышным. В доме звучала американская музыка, и мы увидели что-то необычное: мусульмане-шииты танцевали рок-н-ролл. Женщины, одетые по-европейски, позабыли о чадре или русари. Гости невольно оказались в числе моих сообщников. Они так радовались доктору из Америки, что Муди тотчас же оказался в кругу внимательных слушателей. Он купался в почестях, которые оказывали ему присутствующие, и Юди с его разрешения увела меня в спальню, чтобы я перепечатала на машинке письмо. Там уже ждал Рашид.
– Мой приятель перевозит людей в Турцию, – сказал он. – Это стоит тридцать тысяч долларов.
– Меня не интересуют деньги, – был мой ответ. – Я хочу выбраться вместе с дочерью.
Я знала, что мои близкие и друзья помогут и, наверное, как-нибудь соберут требуемую сумму.
– Как скоро мы сможем уехать? – спросила я с нетерпением.
– Он сейчас в Турции, а погода скоро ухудшится. Не знаю, сможете ли вы выехать зимой, пока не сойдет снег. Позвоните мне, пожалуйста, через две недели.
Я зашифровала и записала номер телефона Рашида в книжку.
Рашид вышел из комнаты, а Юди оставалась со мной еще долго после того, как я перепечатала письмо.
Я отдала Юди письма, которые написала своим. Она согласилась выслать их из Франкфурта. И пока я помогала ей в приятном и в то же время таком горьком для меня занятии – упаковывании вещей, – мы все время разговаривали об Америке. Ни она, ни я не знали, что ей удастся сделать для меня. Не знали мы также, сможет ли приятель Рашида перевезти меня и Махтаб в Турцию, но Юди была полна решимости сделать для нас все, что будет в ее силах.
– У меня есть еще знакомые, с которыми я свяжусь, – пообещала она.
Муди был в восторге от вечера.
– Рашид предложил мне работу в клинике, – радостно сообщил он.
Было уже поздно, когда мы стали прощаться. С Юди мы расставались со слезами на глазах, не зная, встретимся ли когда-нибудь еще.
Амми Бозорг привыкла, что все родственники собираются в ее доме в пятницу, в праздничный день, но Муди, все более охладевая к своей сестре, объявил ей однажды, что у нас на пятницу другие планы.
Услышав это, Амми Бозорг в четверг вечером тяжело расхворалась.
– Мама умирает, – сообщила Зухра Муди по телефону, – ты должен приехать и провести с ней эти последние минуты жизни.
Муди прекрасно знал коварный характер своей сестры, но тем не менее забеспокоился. Он поймал такси, и мы поехали. Зухра и Ферест торжественно проводили нас в спальню матери, где Амми Бозорг возлежала на полу. Голова ее была закручена разными тряпками, а сама она была укрыта двадцатисантиметровым слоем одеял и то и дело вытирала выступавший на лбу пот. Она извивалась, как в агонии, и беспрерывно стонала: – Умираю, умираю!
Возле нее сидели Маджид и Реза; другие родственники были уже в пути.
Муди тщательно обследовал сестру, но никаких признаков заболевания не нашел. Он шепнул мне, что она вспотела не от температуры, а от одеял. Однако она по-прежнему стонала, говорила, что у нее болит все тело, что она умирает.
Зухра и Ферест приготовили куриный бульон. Они принесли его в комнату умирающей, и все семейство умоляло Амми Бозорг хоть немного поесть. Младший сын, Маджид, сумел донести до ее рта ложку бульона, но Амми Бозорг сжала губы и не желала разомкнуть их.
В конце концов Маджид упросил ее проглотить хотя бы одну ложку. Когда она совершила это, в комнате раздался триумфальный возглас облегчения.
Всю ночь и весь день продолжалось дежурство возле умирающей. Баба Наджи не очень часто заглядывал в комнату, потому что большую часть времени у него занимали молитвы и чтение Корана.
Муди, Махтаб и меня все сильнее раздражала эта очевидная симуляция. Мы с Махтаб хотели уйти, но Муди снова разрывался между нами и родственниками, почитание которых в конце концов взяло верх над здравым рассудком. Амми Бозорг оставалась на ложе весь вечер в пятницу.
Наконец, доверившись воле Аллаха, она встала со своего матраса и заявила, что немедленно отправится в паломничество к святому городу Мешхеду, на северо-востоке страны, где находится мечеть, известная своей оздоровительной силой. В субботу весь клан проводил вполне бодрую Амми Бозорг в аэропорт и посадил ее в самолет. Растроганные женщины плакали, мужчины перебирали четки и молились, чтобы свершилось чудо.
Муди играл свою роль до конца, исполняя свои обязанности, но, когда мы остались одни, он проворчал:
– Она все это придумала.
Наступил ноябрь. Утренние заморозки в непрогретом помещении предупреждали, что зима в Тегеране может быть столь же докучливой, как и знойное лето. Мы приехали сюда совершенно не подготовленными к зиме. Для Махтаб необходимо было купить теплое пальто. К моему возмущению, Муди усомнился в необходимости этой покупки. Я поняла, что у него произошел новый сдвиг на почве денег.
План с моим братом Джимом не удался. Он позвонил недели через две после отъезда Юди и выполнил все мои инструкции, сказав Муди, что отец очень болен и что близкие собрали деньги нам на билеты.
– Высылать их вам? – спросил он Муди. – Какую дату поставить?
– Это хитрость! – рявкнул Муди по телефону. – Она никуда не поедет, потому что я не пущу ее.
Он бросил трубку и выместил свою злобу на мне.
Мы яростно ссорились из-за денег. Обещание работы в клинике Рашида так и не реализовалось. Я подозревала, что это было лишь ничего не значащее предложение, та'ароф.
Диплом Муди продолжал почивать в ящике стола, а сам Муди твердил, что не может устроиться на работу по моей вине.
– Я должен сидеть дома, чтобы стеречь тебя, – говорил он, и его придирки становились все более бессмысленными. – Для тебя нужна опекунша. Из-за тебя я не могу сделать ни шага. CIA следит за мной, потому что ты сделала что-то и твои родственники начали искать тебя и Махтаб.
– Почему ты думаешь, что меня ищут родственники?
Его взгляд был красноречивее ответа. Когда он поверит и вообще поверит ли, что я не буду пытаться бежать? Разве что, избивая, поймет, что я окончательно смирилась.
Муди обманом затащил меня в Иран, но сейчас он не знал, что со мною делать.
– Я хочу, чтобы ты написала в Америку своим родителям, – потребовал он, – и попросила их выслать сюда все наши вещи.
Как трудно мне было писать такое письмо! Мучительно еще и потому, что Муди заглядывал через плечо и читал каждое слово. Мне оставалось только надеяться, что мои родители этих желаний не выполнят.
Когда я закончила, Муди наконец согласился купить пальто для Махтаб. Насерин с Амиром должны были сопровождать нас в магазины.
Зная, что Насерин была настоящим агентом и стражем, Муди решил остаться дома. Он потащился в спальню, чтобы погрузиться в полуденную дрему. Мы уже собирались выйти, как вдруг зазвонил телефон.
– Это тебя, – сказала подозрительно Насерин, – какая-то женщина говорит по-английски.
Она передала мне трубку и осталась дежурить возле меня.
– Это Хелен, – услышала я.
Меня поразило, что кто-то из посольства звонит мне сюда, и я сделала над собой усилие, пытаясь скрыть от Насерин, что узнала звонившего.
– Я должна с вами поговорить, – сообщила Хелен.
– Вы ошиблись, – ответила я.
Хелен пропустила мимо ушей это замечание, зная мою сложную ситуацию.
– Мне не хотелось звонить вам домой, – объясняла она, – но кто-то связался с нами по вашему делу и мне необходимо с вами поговорить. Позвоните мне, пожалуйста, или приезжайте как можно быстрее.
– Я не знаю, о чем вы говорите, – твердила я, – это ошибка. – И положила трубку.
Насерин повернулась, стремглав побежала в нашу спальню и разбудила Муди.
– Кто звонил?! – заревел Муди.
– Не знаю, – выдавила я из себя, – какая-то женщина. Я не знаю, кто это был.
Муди вышел из себя.
– Ты знаешь! – орал он. – И я тоже хочу знать!
– Я действительно не знаю, – ответила я, изо всех сил пытаясь сохранять спокойствие и маневрируя так, чтобы своим телом защитить Махтаб на случай, если бы он снова начал драться. Насерин, послушная мусульманская шпионка, оттащила Амира в угол комнаты.
– Я должен знать, что она говорила, – распорядился Муди.
– Это была какая-то женщина, которая спросила: «Это Бетти?». Я ответила: «Да». Тогда она поинтересовалась, хорошо ли мы с Махтаб себя чувствуем. Я объяснила ей, что у нас все в порядке. И связь прервалась.
– Ты знаешь, кто это был, – тупо твердил Муди.
Внезапно разбуженный, он еще плохо соображал. К тому же он никогда не отличался способностью быстро оценивать ситуацию. И все же он пытался рационально подойти ко всему случившемуся. Ему было известно, что посольство пыталось связаться со мной, но он не представлял, что я знаю об этом. Он решил поверить мне, но его явно вывело из себя то, что кто-то, вероятнее всего из посольства, отыскал меня в доме Маммаля.
– Смотри, – сказал он Насерин и в тот же вечер предупредил также Маммаля: – Кто-то за ней следит. Найдут ее и заберут прямо на улице.
Телефонный звонок вселил в меня беспокойство, которое мучило меня все последующие дни. Что могло случиться, если Хелен позвонила мне домой? Всю неделю я терялась в догадках, потому что Муди после телефонного разговора усилил охрану: или он сам, или Насерин обязательно сопровождали меня в магазины. Ожидание было нестерпимым. Возможно, свобода была уже близка, но у меня не было ни малейшей возможности узнать об этом.
Наконец настал благословенный день, когда Насерин была на занятиях в университете, а Муди пришел к выводу, что ему слишком обременительно ходить с нами по магазинам, и поэтому разрешил нам идти самим.
Я помчалась в магазин Хамида и позвонила Хелен.
– Остерегайтесь, – предупредила она. – У нас были две женщины, которые искали вас. Они разговаривали с вашими близкими и хотят вас отсюда забрать. Но прошу вас, будьте осторожны: они понятия не имеют, о чем говорят.
А потом Хелен добавила:
– Попытайтесь прийти ко мне. Нам нужно поговорить.
После этого разговора я совершенно потеряла покой. Кем могли быть эти таинственные незнакомки? Неужели Юди удалось организовать какую-то тайную операцию, чтобы вывезти меня и Махтаб из Ирана? Могла ли я верить этим людям? Достаточно ли они осведомлены и влиятельны, чтобы действительно помочь? Видимо, Хелен что-то насторожило, и поэтому она рискнула вызвать гнев Муди, но предупредить меня. Все это не укладывалось у меня в голове.
Несколько дней спустя, хмурым декабрьским утром, свидетельствующим о приходе тяжелой зимы, раздался звонок в дверь. Эссей открыла и увидела высокую стройную женщину, закрытую черной чадрой. Та сказала, что хочет повидать доктора Махмуди. Насерин пригласила ее в дом. Мы с Муди встретили ее у входа в комнату Маммаля. Хотя лицо ее было спрятано под чадрой, я могла с уверенностью сказать, что она не иранка.
– Я бы хотела поговорить с доктором Махмуди, – сказала она.
Муди оттолкнул меня и закрыл в комнате, а сам вышел в холл. Я приложила ухо к двери, чтобы услышать, о чем они говорят.
– Я – американка, – объяснила женщина на приличном английском языке. – У меня проблема: я страдаю от сахарного диабета. Не могли бы вы сделать мне анализ крови?
Она рассказала, что ее муж – иранец из Мешхеда, того самого города, куда Амми Бозорг отправилась в паломничество. Муж ушел на войну с Ираком, поэтому она временно поселилась у его родственников в Тегеране.
– Я действительно очень больна. Близкие не понимают, что такое сахарный диабет. Вы должны мне помочь.
– Я не могу сейчас сделать вам анализ крови, – ответил Муди.
По тону его голоса я поняла, что он пытается найти возможность. У него еще не было разрешения заниматься врачебной практикой в Иране, а тут пациентка обратилась к нему за помощью. У него не было работы, и ему пригодились бы деньги даже от одного пациента. Какая-то незнакомая женщина на прошлой неделе пыталась связаться со мной. Сейчас незнакомая женщина постучала в его дверь.
– Придите завтра утром к девяти часам, – сказал он. – На ночь ничего не ешьте.
– Я не могу прийти, потому что посещаю лекции по изучению Корана.
Подслушивая под дверью, я почувствовала фальшь этой сцены. Если она жила в Тегеране временно, как утверждала, зачем тогда записалась на лекции по Корану? Если действительно страдает сахарным диабетом, почему не соблюдает рекомендации врача?
– Оставьте мне свой номер телефона, – предложил Муди.
– Не могу. Близкие мужа не знают, что я пошла к американскому врачу. У меня были бы проблемы.
– Как вы сюда добрались?
– Заказала такси по телефону. Оно ждет меня.
Я сжалась и тихонько отошла. Мне не хотелось, чтобы Муди понял, что американка может научиться ориентироваться и передвигаться в Тегеране.
После ее ухода Муди до самого полудня был погружен в свои мысли. Затем он позвонил Амми Бозорг в Мешхед, чтобы спросить, не говорила ли она кому-нибудь, что ее брат – американский врач. Оказалось, что нет.
В тот же вечер Муди рассказал всю эту странную историю Маммалю и Насерин, не обратив внимания, что слышу и я. Он упомянул детали, которые вызвали его подозрение.
– Я знаю, что у нее под платьем был микрофон, – утверждал он, – знаю, что она из CIA.
Возможно ли это? Могла ли эта женщина быть агентом CIA?
Я была точно загнанный зверь. Но сейчас важно лишь одно – свобода для меня и для дочери. Мой мозг напряженно работал, взвешивая каждый факт, каждый разговор. В конце концов я пришла к выводу, что гипотеза Муди сомнительна. Женщина не была профессионалом, а потом, какой смысл CIA вытаскивать меня и Махтаб из Ирана? Была ли эта организация такой вездесущей и всемогущей, как ходили о ней легенды? Казалось невероятным, чтобы американские агенты могли много сделать в Иране. Ведь везде были агенты аятоллы, солдаты, полицейские и пасдары. Как большинство привыкших к опеке государства американцев, я переоценивала роль чужого фанатичного могущества.
Мне подумалось, что, вероятнее всего, эта женщина услышала о моей судьбе от Юди или Хамида. Но у меня не было возможности проверить это, так что оставалось только ждать, чем все это кончится.
Неуверенность рождала напряжение, но все-таки вселяла хоть маленькую, но надежду. Впервые я смогла убедиться, что мои далеко идущие планы начинают приносить плоды. Я сделаю все, что только в моих силах, буду разговаривать с каждым, кому смогу доверять, и рано или поздно я найду людей, которые мне помогут. Я понимала, что мне придется выверять каждый шаг, быть бдительной, принимая во внимание неусыпную слежку Муди.
Однажды, выйдя в магазины, я заглянула к Хамиду и сразу же позвонила Рашиду.
– Он не берет детей, – объяснил он.
– Позвольте мне поговорить с ним! – умоляла я. – Я могу нести Махтаб на руках, это не проблема.
– Нет. Он сказал, что не смог бы взять даже вас. Это тяжело и для мужчин. Путь, по которому он ведет, это четыре дня марша через горы. Вы не сможете пойти с ребенком.
– Я действительно очень сильная, поверьте, я выдержу, – сказала я, почти веря себе. – Я могу нести ребенка. Я справлюсь. По крайней мере, разрешите мне хотя бы поговорить с этим человеком.
– Сейчас из этого все равно ничего не выйдет. В горах лежит снег. Зимой нельзя перейти в Турцию.
Заканчивался декабрь. Муди сказал мне, что я должна проигнорировать приближающееся Рождество. Он не разрешил мне купить подарки для Махтаб и вообще отмечать этот день. Никто из наших знакомых в Иране не признавал христианского праздника.
С окрестных гор на Тегеран спустилась зима.
Муди простыл. Однажды утром, вовремя проснувшись, чтобы отвезти нас в школу, он застонал, пытаясь подняться с постели.
– У тебя температура, – сказала я, коснувшись его лба.
– Это ангина, – проворчал он. – Если бы у нас были наши зимние пальто… У твоих родителей должно быть достаточно ума, чтобы выслать их нам.
Я не обратила внимания на эту смешную эгоистичную жалобу, потому что не хотела начинать ссору в тот момент, когда появился шанс получить еще какие-нибудь сведения. Причесывая Махтаб, я сказала как можно спокойнее:
– Порядок, мы можем сами ехать в школу.
– Ты же не знаешь, как поехать на такси, – сказал он.
– Знаю. Я ежедневно наблюдала, как делаешь это ты.
Я объяснила ему, что дойду до улицы Шариата и крикну: «Седа Зафар!». Это означает, что мне нужно такси, идущее в направлении улицы Зафар.
– Ты должна быть внимательна, – напомнил он.
– Я сумею сделать это.
– Хорошо, – согласился он и повернулся на другой бок.
Раннее утро дышало морозным воздухом, но меня это не беспокоило. Прошло много времени, пока возле нас остановилось такси. Я вынуждена была с опасностью для жизни выйти на проезжую часть и почти стать перед машиной, но зато добилась результата. Значит, я сумею помочь себе в Тегеране. Ведь это был уже шаг, приближающий меня к свободе, к возможности покинуть город и бежать из страны.
Переполненное иранцами такси лавировало в уличном движении: то мчалось с бешеной скоростью, то останавливалось со скрипом тормозов, когда водитель нажимал на сигнал, одаривая своих единоверцев оскорбительным эпитетом «саг», что означало «собака».
Мы добрались до школы вовремя и без приключений. Но четыре часа спустя, когда мы должны были возвращаться и когда я стояла у школы, пытаясь остановить оранжевое такси, белый «пакон» (популярная машина иранского производства), в котором сидели четыре женщины, медленно подъехал с правой стороны. К моему удивлению, женщина, сидевшая на переднем сиденье, опустила стекло и что-то крикнула мне по-персидски.
«Может быть, она спрашивает дорогу?» – подумала я.
Машина развернулась и остановилась рядом с нами. Все четыре женщины выскочили из машины и подбежали к нам. Придерживая чадру под шеей, они хором ополчились на меня.
Я совершенно не понимала, что можно было совершить такого, что вывело их из себя. Но Махтаб мне объяснила.
– У тебя съехал платок, – сказала она.
Я стала поправлять русари и обнаружила, что несколько запретных прядей вылезли из-под платка, поэтому натянула его на лоб.
Блюстительницы нравственности снова сели в машину так же быстро, как и выскочили из нее, и тотчас же отъехали. Я остановила такси оранжевого цвета, и мы вернулись домой. Муди был доволен, а я в глубине души радовалась, зная, что совершила что-то важное, но все время думала об этих женщинах в белой машине.
На следующий день Азар все объяснила.
– Я видела, что у вас вчера были проблемы, – сказала она, – и хотела пойти к вам на помощь, но вы разобрались сами.
– Кто это был? – спросила я.
– Это пасдарки, стражи революции.
Значит, здесь, по крайней мере, существовало равенство. Женская специальная полиция, если шла речь об установленной обязательной одежде для женщин, обладала такой же властью, как и ее мужской эквивалент.
25 декабря 1984 года был самым тяжелым днем в моей жизни. Нет, ничего сверхъестественного не произошло, но именно это меня так огорчило. Я не могла порадовать Махтаб по случаю Рождества и не хотела даже делать каких-либо попыток, чтобы не углублять ее тоску по дому. Мысленно я была далеко, в Мичигане, с Джо, Джоном и родителями. Муди не позволил мне позвонить им и поздравить. Прошли недели после моего разговора с Хелен, предостерегавшей меня от таинственных женщин, которые меня ищут. Я ничего не знала о здоровье отца, о сыновьях.
Махтаб, как обычно, пошла на занятия. Муди по-прежнему хлюпал носом и остался дома. Он заявил, что я плохая жена, потому что сижу в школе, ожидая Махтаб.
– Ты должна вернуться домой и приготовить мне куриный бульон.
– Махтаб не останется одна, – ответила я, – ты ведь знаешь это. Насерин приготовит тебе еду.
Муди устремил глаза к небу: мы оба знали, что Насерин – плохая кухарка.
«Я надеюсь, что ты умрешь от ее бульона, – подумала я, – или от температуры». Я молила Бога, чтобы Муди погиб в результате автокатастрофы, чтобы подорвался на снаряде, чтобы у него был инсульт. Я знала, что это жалкие мысли, но они не покидали меня.
В тот день школьные учительницы и служащие сделали все, чтобы доставить мне хоть какую-нибудь радость. «Поздравляю!» – сказала Азар, подавая мне пакет. Я открыла его и нашла прекрасно иллюстрированное редкое издание «Рубаи» Омара Хайяма на персидском, английском и французском языках.
Ханум Шахин была очень набожной мусульманкой, и я никогда бы не подумала, что она сочтет Рождество чем-то особенным, но и она подарила мне несколько книг по исламу, касающихся всех правил и рекомендаций, связанных с молитвами, праздниками и другими обычаями. Более всего меня заинтересовал английский перевод конституции Ирана. Я внимательно изучала его в то утро и в последующие дни, пытаясь отыскать параграфы, касающиеся прав женщин.
Один из разделов посвящался вопросам брака. В нем говорилось, что иранка, поссорившись с мужем, могла обратиться в определенное бюро определенного министерства. Это влекло за собой освидетельствование в их доме, а также беседу с мужем и женой. А потом оба должны были подчиниться решению судьи, которым был, конечно, мужчина. Мне надеяться здесь было не на что.
Пункты, касающиеся денег и собственности, были ясны. Мужу принадлежало все, жене – ничего. Частью собственности были дети. После развода дети оставались с отцом.
Конституция стремилась урегулировать все детали личной жизни, даже самые интимные ее стороны. Например, преступлением считалось предохранение женщины от беременности, если муж был против. Я уже знала об этом. Муди предупреждал меня и раньше, что за это грозит покарание смертью. Читая об этом здесь, в Иране, я вдруг почувствовала страх. Я понимала, что до сего времени уже нарушила много иранских законов и буду нарушать их дальше, но мне как-то стало особенно неуютно при мысли, что без ведома Муди я поставила… спираль, а это подвергало здесь мою жизнь опасности. Неужели действительно исполнили бы смертный приговор над женщиной, предохраняющейся от беременности? Впрочем, ответ был ясен. В этой стране мужчины могли делать с женщинами все. И делали.
Следующие строки вызвали у меня панический ужас. Там говорилось, что в случае смерти мужчины дети не остаются с матерью: их забирают родственники мужа. Значит, если бы Муди умер, Махтаб отняли бы у меня. Она перешла бы под опеку самой близкой родственницы Муди – Амми Бозорг! Я перестала молиться о смерти Муди.
Во всей конституции Ирана не было даже упоминания о праве, политике или программе, которые давали бы мне хоть каплю надежды. Книга только подтвердила то, что я уже интуитивно чувствовала: без разрешения Муди не было ни одного легального пути, по которому мы с Махтаб могли бы покинуть этот край. Могли произойти непредвиденные события, например развод или смерть Муди, и тогда последовала бы моя депортация, но Махтаб была бы потеряна для меня навсегда.
Я бы скорее умерла, чем согласилась на такое. Я приехала в Иран именно для того, чтобы предупредить такую весьма реальную и ужасающую возможность. Я повторила в душе данный себе обет. Я вывезу нас отсюда. Обеих. Как-нибудь постараюсь, и когда-нибудь это произойдет.
Приближение Нового года немного воодушевило меня. Я уже не была затворницей на протяжении всего дня в доме Маммаля. Я нашла отзывчивых людей в школе. Они были трудолюбивыми и благодарными ученицами, а я со своей стороны поняла, что каждое узнанное мной персидское слово помогает мне все лучше ориентироваться и перемещаться в городе. У меня было предчувствие, что в 1985 году мы с Махтаб вернемся домой. Иного я не допускала.
Муди был, как всегда, непредсказуем. Иногда мягкий и сердечный, иногда надутый и злой, но, по крайней мере, был доволен, как мы устроились, и уже перестал вспоминать о возвращении к Амми Бозорг. Его лень, как я и предполагала, углубилась. Спустя некоторое время он позволил нам самим ездить в школу, а потом постепенно перестал и забирать нас. Мы появлялись дома вовремя, и он был вполне удовлетворен. Я питала надежду расширить свободу передвижения.
Ханум Шахин также подумала об этом, заметив, что Муди сейчас лишь изредка появлялся в школе.
Однажды с помощью Азар она поговорила со мной втайне от других учительниц.
– Мы обещали твоему мужу, что не позволим тебе пользоваться телефоном, а также выходить из школы, и мы должны сдержать данное слово, – сказала она. – Но мы не обещали сообщать ему, что ты приходишь позднее в школу. Мы ничего ему не скажем, если ты задержишься. Не говори нам, где ты была, потому что, если он спросит, мы будем вынуждены ему ответить, но если не будем знать, то и говорить будет не о чем.
Муди, который никак не мог справиться с простудой, с каждым днем становился все ленивее и постепенно ограничивал свою слежку за нами. Он был убежден в том, что иранские учительницы будут сторожить меня строго в соответствии с его желаниями.
Как-то я приехала в школу немного позже, только на несколько минут, чтобы проверить реакцию учителей. Никто не прореагировал. Ханум Шахин сдержала слово. Я же использовала это время на звонок Хелен, которая еще раз предупредила меня о двух таинственных женщинах, настаивавших на том, чтобы помочь мне. Она сказала, что хотела бы встретиться со мной, но я не была уверена, могу ли позволить себе такую длительную и рискованную поездку. Непредвиденная пробка в городском движении могла привести к роковому опозданию.
Однако потребность в действии становилась все настоятельнее. К примеру, меня очень беспокоили игры Махтаб и Мариам. Девочки усаживали своих кукол и играли в дом. Они весело подражали хозяйкам дома. Вдруг Мариам объявляла по-персидски: «Идет мужчина!», и обе быстренько закутывались в чадру.
Однажды утром я решилась. По дороге в школу мы с Махтаб добрались до улицы Шариата, где обычно останавливали оранжевое такси. Несколько раз я оглянулась, желая убедиться, что Муди или кто-нибудь другой не следит за нами.
– Махтаб, – сказала я, – сегодня мы едем в посольство. Папе ничего говорить нельзя.
– Чашм, – согласилась Махтаб, неосознанно поддакивая по-персидски, что еще больше убедило меня в необходимости действовать как можно быстрее.
Махтаб более чем когда-либо хотела уехать из Ирана, но, по-детски быстро, усваивала иранскую культуру. Я знала, что через какое-то время она ассимилируется, даже вопреки своему желанию.
Мы нашли диспетчерскую, где вызвали такси по телефону. Я назвала пункт назначения. Махтаб помогала переводить. После очень долгой езды по городу, после изнурительной процедуры проверки документов и досмотра мы наконец попали к Хелен.
Я с жадностью прочитала письма Джо, Джона, мамы и папы. Письмо Джона было особенно трогательным.
«Прошу тебя, мама, смотри за Махтаб и держи ее все время при себе», – писал он.
– Они что-то предпринимают, – сказала Хелен. – Департамент штата знает, где вы, и делает все возможное.
«Но слишком уж ограничены их действия», – подумала я.
– Какая-то женщина связалась с американским посольством во Франкфурте по вашему делу, – сообщила Хелен.
Юди!
– Они делают все, что могут, – повторила Хелен.
Мне хотелось кричать: «Так почему мы с Махтаб все еще здесь?»
– Единственное, что в наших силах, это сделать для вас новые американские паспорта, – сказала Хелен. – Их выдаст посольство США в Швейцарии. В них, разумеется, не будет соответствующих виз, но, возможно, когда-нибудь они вам пригодятся. Мы будем хранить их для вас.
Полчаса ушло на то, чтобы выписать новые паспорта.
– Сейчас я должна поговорить с вами о тех двух женщинах, которые интересовались вами, – сказала Хелен. – Они связались с вашими родственниками в Штатах. Но будьте осторожны. Они не имеют представления о том, что говорят. Прошу вас, не делайте того, что они предлагают, потому что у вас могут быть серьезные неприятности.
Женщины были американками, женами иранцев. Муж одной из них, Триш, – летчик, второй, Сьюзан, – высокое должностное лицо. Обе свободно передвигались по всей стране и могли выезжать из Ирана, они сочувствовали мне и хотели помочь.
– Как мне с ними связаться? – спросила я. Хелен нахмурилась, недовольная, что я все-таки намерена воспользоваться этой возможностью. Но меня все больше мучила мысль, что официальным путем мне не удастся выбраться. Она могла увидеть на моем лице выражение озабоченности и отчаяния.
– Пойдемте со мной, – сказала она.
Она привела нас к своему шефу, господину Винкопу, вице-консулу посольства.
– Это авантюра чистейшей воды, – предостерег он. – Они просто сумасшедшие. Сказали нам, что предполагают украсть вас на улице и вывезти из страны, но не знают, как это сделать. Такая операция обречена на провал.
Что ж, моя жизнь все больше походила на события остросюжетного фильма. Все могло случиться. Почему я не должна хотя бы поговорить с этими женщинами? И вдруг мне в голову пришла другая мысль.
– А перебраться в Турцию? – спросила я, вспоминая знакомого Рашида, который переправлял людей через горы.
– Нет! – резко отреагировал господин Вин-коп. – Это очень опасно. Есть такие люди, которые скажут вам, что могут переправить вас за границу.
Возьмут у вас деньги, довезут до границы, надругаются, убьют или выдадут в руки властей. Вы не можете пойти на это, потому что подвергли бы жизнь дочери опасности. Это слишком рискованно.
Глаза Махтаб расширились от страха, а сердце мое готово было выскочить из груди. До сих пор Махтаб не понимала, что возвращение в Америку может быть сопряжено с физической опасностью. Она вся съежилась и прижалась ко мне.
Хелен рассказала нам, что совсем недавно одна иранка пыталась вместе с дочерью бежать этим путем, заплатив контрабандистам за переправу через границу. Те вывезли ее в Турцию и просто бросили в горах. Девочка умерла от истощения и холода. Женщина, едва живая, добралась до какой-то деревни. У нее выпали все зубы.
– Из всех путей из этой страны путь через Турцию самый опасный, – сказала Хелен. – Я отправлю вас в отделение Организации Объединенных Наций, и вы получите развод и разрешение на выезд из гуманных соображений. Тогда вы сможете вернуться в Америку.
– Только вместе с дочерью, – решительно ответила я.
– Вы не отдаете себе отчета в сложившейся ситуации, – сказала Хелен. И добавила: – Почему вы не уедете и не оставите ее здесь? Прошу вас, покиньте эту страну и забудьте о ней.
У меня не умещалось в голове, как Хелен может быть такой бесчувственной и говорить подобные вещи в присутствии Махтаб. У нее просто не было понятия о тех глубоких узах, которые связывают мать и ребенка.
– Мамочка, не уезжай в Америку без меня! – горько расплакалась Махтаб.
Я крепко прижала ее к себе, пообещав, что ни за что в жизни, никогда не оставлю ее. В эту минуту я утвердилась в мысли, что нужно действовать, и действовать немедленно!
– Я хочу связаться с этими женщинами, – заявила я решительно.
Глаза Хелен расширились, а господин Винкоп нервно раскашлялся. Я сама не верила своим словам, просто не допускала, что могу позволить себе так рисковать.
На какое-то время воцарилась тишина. Убедившись в серьезности моих намерений, господин Винкоп глубоко вздохнул и сказал:
– Наша обязанность – предоставить вам информацию, но я все-таки не советовал бы связываться с ними.
– Я намерена воспользоваться любой возможностью, – ответила я.
Он подал мне номер телефона Триш, и я сразу позвонила ей.
– Я звоню из посольства, от вице-консула, – представилась я.
Триш обрадовалась моему звонку.
– Вчера вечером я разговаривала с вашей мамой, – сообщила она. – Мы общаемся с ней ежедневно. Она все время плачет. Она в отчаянии, просит, чтобы мы чем-нибудь помогли вам, и мы обещали сделать все, что в наших силах. Мы ждали, пытались с вами связаться. Как нам встретиться?
Мы согласовали детали. Завтра утром я скажу Муди, что после школы мне нужно сделать покупки, так что мы возвратимся несколько позднее обычного. Если у него не появятся подозрения, я позвоню Триш и подтвержу встречу. Мы с Махтаб в 12 часов 15 минут будем у бокового выхода из парка Карош. Триш и Сьюзан подъедут туда на белой машине.
– Договорились! – сказала Триш. – Мы будем там.
Мне понравился ее энтузиазм, но я была насторожена. Что все это значит? Ей нужны деньги или это жажда острых ощущений? Я так хотела верить в искренность ее намерений, но какие у нее возможности? И все же ее оптимизм заражал, а это для меня сейчас было так важно.
Когда я положила телефонную трубку, Хелен долго не могла успокоиться.
Муди ничего не заподозрил. Чуть позже я спросила:
– Вы не хотели бы съесть на ужин пиццу?
– Очень хотели бы! – хором ответили Муди, Маммаль и Насерин.
Никто из них не подозревал, что я что-то замышляю. Мною обуревали разные мысли, сомнения, которые лишали сна. Разумно ли я поступаю? Нужно ли мне слушать советы сотрудников посольства или попытаться вырваться на свободу любыми способами? Подвергаю ли я Махтаб опасности? Имею ли на это право? А если нас поймают? Отошлют ли меня к Муди или же, что еще хуже, депортируют из страны, а Махтаб передадут законному, по их пониманию, хозяину, то есть отцу? Это было страшнее всего: я не могла вернуться в Америку без Махтаб.
Почти невозможным оказалось продумать и предусмотреть ход событий предстоящего дня. Ранним утром, когда Муди поднялся к молитве, я продолжала думать, все еще не придя к окончательному решению. Нырнув снова в постель, Муди прижался ко мне, чтобы согреться и спрятаться от холода зимнего утра. Притворившись, что сплю, я уже знала, что сделаю: я должна убежать как можно дальше от этого омерзительного человека!
Спустя два часа, когда мы с Махтаб были уже готовы идти в школу, Муди все еще валялся в постели.
– Я вернусь сегодня немного позже, – бросила я как бы мимоходом, – я должна зайти в пиццерию за сыром.
– Ага, – промычал Муди.
Я приняла эту реплику как знак согласия.
Когда в полдень закончились уроки, Махтаб была так же взволнована, как и я, но, пожалуй, скрывала это лучше меня. Мы поймали такси и поехали в парк Карош, где нашли телефон-автомат.
– Мы уже на месте, – сказала я Триш.
– Через пять минут мы будем.
Вскоре появилась белая машина с двумя женщинами и несколькими расшумевшимися детьми. Та, что сидела на переднем сиденье, выскочила, схватила меня за руку и потащила в машину.
– Быстро! – скомандовала она. – Едем с нами. Я освободилась от нее.
– Нам нужно поговорить, – сказала я. – Что здесь происходит? Что все это значит?
– Неделю уже мы ищем тебя, а сейчас забираем.
Она снова дернула меня за плечо, а второй рукой поймала Махтаб, но та в страхе отскочила.
– Вы должны сейчас же ехать с нами. У вас нет выбора. Или сейчас же едем с нами, или мы не поможем вам.
– Послушай, я тебя вижу впервые. Скажи, как ты узнала обо мне? В чем заключается ваш план?
Женщина говорила быстро, пытаясь успокоить перепуганную Махтаб.
Она нервно оглядывалась вокруг, волнуясь, как бы эта сцена не привлекла внимания полиции или пасдаров.
– Я – Триш. Юди рассказала нам о тебе. Мы разговариваем с ней каждый день, а также с твоими близкими в Америке. Мы знаем, как освободить тебя отсюда.
– Как? – спросила я.
– Мы отвезем вас в одну квартиру. Возможно, вы будете прятаться там месяц, может, несколько дней или часов, не знаем. Но потом мы вывезем вас из страны.
Женщина, сидящая за рулем, вышла посмотреть, почему мы задерживаемся. Я узнала в ней «пациентку с диабетом». Триш представила ее как Сьюзан.
– Ну хорошо, расскажите мне о своем плане, – попросила я.
– Мы разработали его детально, – заверила меня Триш, – но не хотим сейчас вдаваться в подробности.
Я решила, что не сяду в машину, пока не услышу четко изложенного плана действий, так как у меня создалось впечатление, что они сами не до конца осознают, что затеяли и как это довести до логического конца.
– Поезжайте домой и доработайте свой план. Мы встретимся снова, и, когда план будет готов, я поеду с вами.
– Мы искали тебя днем и ночью. Мы хотим вырвать тебя отсюда, и сейчас у тебя есть шанс. Поедем с нами или забудь обо всем.
– Дайте мне двадцать четыре часа и доработайте свой план.
– Нет! Сейчас или никогда.
Еще некоторое время мы препирались на улице, но я была не готова отважиться на этот дерзкий скачок в сторону свободы. Что будет, если мы с Махтаб скроемся в какой-то квартире, а этим женщинам не удастся организовать побег? Как долго может американка с дочерью оставаться неузнанной в стране, где так ненавидят американцев?
– Ну хорошо. До свидания, – наконец сказала я. Триш, разозлившись, отвернулась и открыла дверцу машины.
– Ты не хочешь уходить от него и никогда его не покинешь. Твои слова пустые, и напрасно люди тебе верят, что ты хочешь уехать. Мы не верим тебе.
Машина помчалась в хаос перегруженных тегеранских улиц.
Мы с Махтаб остались одни. Слова Триш звучали у меня в ушах. Почему я не бросилась в этот водоворот, ведущий к свободе? Могло ли быть зерно правды в ее осуждении? Неужели я сама ошибаюсь, веря, что когда-нибудь нам с Махтаб удастся сбежать?..
Это были мрачные мысли. Мы могли бы уже сейчас мчаться в белой машине навстречу неизвестному, возможно, опасному будущему. Вместо этого мы поспешили в пиццерию за сыром, чтобы приготовить отменный ужин для моего мужа.
Мы стали регулярно встречаться с семьей Хакимов. Я искренне полюбила «господина в тюрбане». Муди тоже любил его. С помощью своих связей в кругу старых знакомых ага Хаким старался помочь Муди найти какую-нибудь работу в медицинских учреждениях или, по крайней мере, преподавателя. Он уговаривал Муди взяться за работу дома и начать переводить на английский труды их дедушки, которые Хаким перевел с арабского на персидский.
Муди купил пишущую машинку, сообщил мне, что я буду его секретаршей, и начал переводить трактат «Отец и ребенок», представляющий взгляды Тагати Хакима на эту проблему.
Стол в столовой Маммаля, практически не используемый, в скором времени был завален горой бумаг. Муди сидел в одном конце стола, писал и подавал мне страницы для перепечатки.
В ходе этой работы я начала лучше понимать позицию Муди. По мнению Тагати Хакима, отец полностью отвечал за воспитание ребенка. Он должен был заботиться, чтобы его ребенок правильно и достойно себя вел, «правильно» думал и жил в соответствии с законами ислама. Мать в этом процессе не играла никакой роли.
За этой кропотливой работой проходили недели. Дедушка Муди писал убористым почерком и тяжелым стилем нравоучений. Каждый день, когда я приводила Махтаб из школы, возле машинки уже лежала стопка бумаг для печатания, а Муди ждал, что я тотчас же сяду за работу, так как придавал своей деятельности огромное значение.
Однажды слова Тагати Хакима глубоко тронули меня. Он писал о долге ребенка по отношению к отцу и приводил историю об умирающем отце, который хотел в последний раз увидеть сына. Слезы текли по моим щекам. Текст расплывался… Мой собственный отец умирал, и я должна была быть возле него.
Муди увидел мои слезы.
– Что случилось? – спросил он.
– История об умирающем отце… – разрыдалась я. – Как ты можешь держать меня вдали от моего отца, когда он умирает? Ты не выполняешь долг, о котором писал твой собственный дедушка.
– Разве твой отец – мусульманин? – иронично спросил он.
– Разумеется, нет.
– В таком случае, это не имеет значения. Он не в счет.
Я убежала в спальню, чтобы выплакаться. Я так глубоко ощущала свое собственное одиночество, что почти не могла дышать. С закрытыми глазами я представила лицо папы и услышала его голос: «Помни: хотеть – значит мочь».
«Должен же быть какой-то способ. Ну просто должен!» – твердила я себе.
В один из визитов Хакимы подбросили мысль, чтобы я начала вместе с Махтаб ходить на лекции по Корану для англоязычных женщин. Они проводились по четвергам в полдень в мечети Хосайни Эршада. Это предложение было еще одним доказательством добрых намерений ко мне. Кроме того, они советовали Муди позволить мне чаще встречаться с людьми, которые говорят на моем родном языке. Хакимы были бы в восторге, если бы я стала послушной мусульманской женой, но исключительно из моих собственных побуждений.
Это предложение мгновенно придало мне сил. Я воспрянула духом. У меня не было желания изучать Коран, но перспектива регулярных встреч с женщинами, говорящими по-английски, была восхитительной.
Муди воспринял это сдержанно. Однако я знала, что он должен согласиться. Каждое Пожелание аги Хакима для Муди было равнозначно приказу.
В следующий четверг Муди, хотя и неохотно, отвез нас на такси в мечеть. Он попытался войти в класс, но решительная англичанка преградила ему дорогу.
– Я хотел только посмотреть, что здесь происходит, – сказал он. – Хочу увидеть, как здесь все организовано.
– Нет, – резко ответила она, – сюда приходят только женщины. Мужчинам вход воспрещен.
Я испугалась, что Муди придет в ярость и именно сейчас впервые пойдет против воли аги Хакима. Он прищурил глаза, присматриваясь к собирающимся на лекцию женщинам. Все были закрыты соответствующим образом, большинство в чадре. Выглядели послушными мусульманками, хотя говорили по-английски. Ни одна не напоминала агента CIA.
После нескольких минут колебаний Муди пришлось признать, что ага Хаким был прав и это действительно поможет мне ассимилироваться в Тегеране. Пожав плечами, он вышел, оставляя Махтаб и меня на попечение англичанки.
– Никакой болтовни, – предупредила она. – Мы здесь для того, чтобы изучать Коран.
И мы стали изучать. Читали его хором, участвовали в «часах вопросов и ответов», прославляющих ислам и унижающих христианство, вместе произносили полуденную молитву. Само по себе это не было приятным времяпрепровождением, но у меня пробуждался огромный интерес, когда я присматривалась к лицам этих женщин. Мне хотелось узнать их историю. Оказались они здесь по собственному желанию или были среди них такие же несчастные, как я?
Я думала, что после лекции Муди будет ждать нас возле мечети, но не обнаружила его в волнообразной толпе спешащих хмурых иранцев. Не желая возбуждать его подозрений с первого дня, я остановила оранжевое такси, и мы поехали домой. Когда я открыла дверь, Муди взглянул на часы и остался доволен, что я не злоупотребила предоставленной мне привилегией.
– Эта лекция произвела на меня большое впечатление! – сказала я. – Там, правда, нужно работать. Не позволят уйти, пока не выучишь. Мне кажется, что я там многому сумею научиться.
– Хорошо, – согласился Муди, сдержанно давая выход удовлетворению, что его жена совершила значительный шаг на пути к отведенному ей месту в Исламской Республике Иран.
Я была тоже удовлетворена, но совсем по другой причине. Я сделала маленький шаг на пути к освобождению из Исламской Республики Иран.
Лекции по Корану начинались сразу же после занятий в школе. Вначале Муди считал необходимым провожать нас до мечети, но я хорошо знала, что пройдет немного времени и он позволит нам ходить туда самим. Таким образом, я буду свободна почти весь четверг.
Хотя любые разговоры были запрещены, перед занятиями и после них все-таки происходил обмен мнениями. После второго занятия одна из женщин спросила, откуда я. Когда я сказала, что из штата Мичиган, она обрадовалась и заявила:
– Вы должны познакомиться с Элен. Она тоже из Мичигана.
Нас представили друг другу. Высокой, крепкого телосложения Элен Рафаи было около тридцати лет, но сухая кожа ее лица была стянута, поэтому она выглядела старше. Элен носила платок, так тщательно прилегающий к лицу, что я не могла увидеть цвет ее волос.
– Где вы жили в штате Мигиган? – поинтересовалась я.
– Под Лансингом.
– А конкретнее?
– Ой, никто даже не слышал об этой местности.
– Скажите мне, пожалуйста, потому что я тоже жила недалеко от Лансинга.
– В Овоссо.
– Ты шутить, наверное! – воскликнула я. – Мои родители живут в Банистере. Я работала в Элсе. Я ходила в школу в Овоссо!
Мы разволновались, как девчонки.
– Ты бы могла прийти с семьей к нам в пятницу? – спросила Элен.
– Не знаю. Муж не позволяет мне ни с кем ни разговаривать, ни встречаться. Не думаю, чтобы он согласился, но я спрошу.
В этот раз Муди ждал нас возле мечети. Я удивила его естественной, искренней улыбкой.
– Угадай, что случилось, – воскликнула я. – Ни за что не догадаешься. Я встретила землячку из Овоссо.
Моя радость успокоила Муди. Впервые за много месяцев он увидел улыбку на моем лице. Я представила его Элен. Какое-то время мы разговаривали, чтобы познакомиться поближе, а потом я сказала:
– Элен приглашает нас к себе в пятницу.
В глубине души я была убеждена, что Муди откажется, но он ответил:
– Хорошо!
Элен прервала учебу в последнем классе средней школы и вышла замуж за Хормоза Рафаи. Она решила свою судьбу, став женой на содержании мужа. Хормоз, инженер-электрик, получивший образование в Америке, занимал довольно высокое положение и в общественном, и в материальном плане и, естественно, полностью принял на себя роль кормильца и опекуна.
Подобно Муди, Хомоз был уже американизирован. В Иране он был зачислен в список врагов режима шаха. Возвращение на родину в те времена означало бы для него тюремное заключение, а, возможно, пытки и смерть от рук совака. Но так же, как и в случае с Муди, политические события на другом полушарии оказали очень сильное влияние на его личную жизнь.
Хормоз получил работу в Миннесоте, и они жили там с Элен, как более или менее типичная американская семья. У них родилась девочка Джессика. Второго ребенка Элен поехала рожать в Овоссо. 28 февраля 1978 года она родила сына и в тот же день позвонила Хормозу, чтобы поделиться с ним радостной новостью.
– Я не могу сейчас разговаривать с тобой, потому что слушаю радио, – сказал он.
Как раз в тот день шах покинул Иран.
Сколько еще было таких людей, как Хормоз и Муди, для которых изгнание и бесчестье шаха стали сигналом к возвращению в прошлое?
Когда Хормоз наконец сообразил, что жена подарила ему сына, он дал ему иранское имя Али. Его жизнь, а значит, и жизнь Элен резко изменилась.
Муди сопротивлялся пять лет, а Хормоз почти сразу же решил вернуться на родину и строить жизнь под руководством аятоллы Хомейни.
Элен, лояльная американка, противилась этой идее, но она была женой и матерью. Хормоз категорично поставил вопрос: в любом случае он возвращается в Иран – с семьей или без нее. Оказавшись в безвыходной ситуации, Элен согласилась попытаться жить в Иране, по крайней мере, хоть какое-то время. Хормоз убедил ее, что если она будет чувствовать себя плохо в Тегеране, то сможет вернуться с детьми в Америку, когда только захочет.
В Тегеране она, как и я, оказалась в домашнем заключении. Хормоз решил, что никогда не вернется в Америку. Она стала гражданкой Ирана, подчиняющейся законам этой страны и воле мужа. Какое-то время он просто ее избивал.
Как странно звучала эта история! Хормоз и Элен рассказали нам ее вместе, когда в пятницу мы сидели в их запущенной квартире. Вначале я подумала, что этот рассказ может быть неприятен Муди, но вскоре поняла, что он должен быть удовлетворен. Муди знал конец этой истории: вот уже шесть лет Элен находилась в Тегеране, явно смирившись с жизнью в стране своего мужа. Именно такого желал для себя Муди.
– Первый год был ужасным, – сказал Хормоз, – но потом все наладилось.
Через год Хормоз предложил своей жене:
– Хорошо, поезжай домой. Я хотел, чтобы ты пожила в Иране, хотел увидеть, решишься ли ты остаться здесь навсегда. А сейчас поезжай домой.
Как мне хотелось услышать от Муди нечто подобное! Я молилась, чтобы он убедился, что было бы разумно позволить мне сделать такой же выбор.
Однако продолжение этой истории вызывало у меня нарастающее беспокойство. Элен с Джессикой и Али вернулись в Америку, но спустя шесть недель Элен позвонила Хормозу и сказала: «Приезжай и забери нас». Трудно поверить, но это происходило дважды!
Каждый раз Элен уезжала из Ирана с разрешения Хормоза и снова возвращалась. Все это было просто неправдоподобно, но этому нельзя было не верить: она была передо мной – послушная мусульманская жена. Элен работала в редакции журнала на английском языке «Маджиби», который распространялся во всех странах мира для мусульманских женщин. Все подготовленные к публикации материалы должны были получить одобрение Мусульманского совета, и Элен с этим справлялась.
Мне очень хотелось поговорить с Элен наедине, чтобы понять мотивы, какими она руководствовалась. Но в тот день случай не представился.
История Элен привела меня в смятение. Я завидовала ей и в то же время была озадачена. Как случилось, что американка предпочла Иран Америке? У меня было желание взять Элен за плечи и крикнуть: «Почему?!».
Продолжение беседы окончательно омрачило мои мысли.
Хормоз сказал, что недавно он получил наследство от отца и что строит собственный дом, который скоро будет закончен.
– Мы тоже думаем об этом, – самодовольно сказал Муди. – Мы собирались сделать это в Детройте, но сейчас хотим построить здесь, как только удастся перевести наши деньги в Иран.
Мы быстро сошлись с Элен и Хормозом, а потом регулярно встречались с ними. У меня эта дружба возбуждала противоречивые чувства. Найти приятельницу, говорящую на английском языке и к тому же приехавшую из Америки и родившуюся в родных местах, было замечательно. Это весьма отличалось от общения со знающими английский иранками. Ведь я никогда не была уверена, что меня до конца поймут. С Элен я могла говорить совершенно свободно. Однако мне тяжело было видеть Элен и Хормоза вместе: я точно смотрела в мрачное зеркало своего будущего. Я предпринимала попытки поговорить с Элен с глазу на глаз. Муди был подозрительным. Ему очень хотелось самому узнать об Элен побольше, прежде чем позволить нам уединиться.
У Элен не было телефона. Он устанавливался по специальному разрешению, а нередко этого приходилось ждать несколько лет. Как многие люди в такой ситуации, Элен и Хормоз договорились с хозяином ближайшего магазина, что при острой необходимости будут пользоваться его телефоном.
Однажды позвонила Элен и сказала Муди, что хотела бы пригласить Махтаб и меня на дневной чай. Муди неохотно позвал меня к телефону, не желая показать Элен, как ограничена моя свобода.
– Я испекла пирожки с шоколадным кремом! – сообщила Элен.
Я прикрыла рукой трубку и спросила Муди, разрешает ли он идти.
– А я? – поинтересовался он подозрительно. – Меня тоже приглашают?
– Не думаю, чтобы Хормоз был в это время дома.
– Тогда и ты не пойдешь.
На моем лице отразилось глубокое разочарование. В этот момент я думала не столько о том, чтобы вырваться из-под контроля Муди, сколько о пирожках с шоколадным кремом. Но Муди, видимо, был в хорошем настроении и спустя минуту произнес:
– Хорошо, иди.
Пирожки были вкусные. К тому же приятно было поговорить с Элен совершенно свободно о личных делах. Махтаб весело играла с девятилетней Мариам (так здесь переименовали Джессику) и шестилетним Али. У Мариам и Али были американские игрушки: книжки, головоломки и настоящая кукла Барби.
Пока дети играли, я задала Элен вопрос, который меня все время преследовал:
– Почему ты вернулась сюда?
– Если бы я была в твоей ситуации, может, и осталась бы в Америке, – ответила она. – Все мое со мной здесь. Родители на пенсии, они не могут мне помочь. У меня нет денег, образования, специальности, но зато у меня есть двое детей.
Мне было трудно это понять. Более того, Элен говорила о Хормозе злобно.
– Он бьет меня, – плакала она, – бьет детей. И считает это нормальным.
Я вспомнила слова Насерин: «Все мужчины такие».
Элен приняла решение не из любви, а из-за страха. Это решение основывалось скорее на расчете, нежели на чувстве. Она не сумела противостоять превратностям судьбы, и выбрала видимость того, что называется безопасностью.
И в конце, всхлипывая, она как бы подытожила:
– Потому что я боюсь, что не смогла бы обеспечить нормальную жизнь себе и детям в Америке.
Мы обе расплакались.
Прошло много времени, пока Элен пришла в себя и я отважилась затронуть особо волнующую меня тему.
– Мне бы очень хотелось поговорить с тобой кое о чем, но я не знаю, как ты будешь чувствовать себя, скрывая это от мужа. Если ты можешь сохранить тайну и не проговориться ему, я скажу тебе. В противном случае не стану обременять тебя.
Элен задумалась, а спустя некоторое время призналась, что, вернувшись в Иран во второй раз, решила стать идеальной мусульманской женой. Она приняла ислам в шиитском понимании, стала закрывать лицо даже в домашней обстановке (и сейчас она была закрыта), молилась в указанное время, чтила всех святых, изучала Коран и воистину приняла свою судьбу как волю Аллаха.
Она была послушной мусульманской женой и одновременно американкой по рождению.
– Я не скажу ему ничего, – наконец пообещала она.
– Для меня это очень важно. Об этом нельзя говорить никому, абсолютно никому.
– Я обещаю.
Я перевела дыхание.
– Я рассказываю тебе об этом только потому, что ты соотечественница, а мне нужна помощь. Мне хочется выбраться отсюда, и как можно скорее.
– Если он тебе не разрешит, это невозможно.
– Возможно. Я хочу убежать.
– Ты сумасшедшая. Это тебе не удастся.
– Я не прошу тебя вмешиваться. Я прошу тебя только время от времени помогать мне выйти из дома, например, как сегодня, чтобы я могла пойти в американское посольство.
Я рассказала о своих связях с посольством.
– Они помогут тебе выбраться из страны? – спросила Элен.
– Нет. Я только передаю и получаю через них информацию, и это все. Если кто-нибудь захочет со мной связаться, то это можно сделать через посольство.
– Я не хочу ходить в посольство, – заявила Элен, – я никогда там не была. Когда мы приехали сюда в первый раз, Хормоз категорически запретил мне это, поэтому я даже не видела здания.
– Тебе не нужно туда ходить, – успокоила я. – Пройдет какое-то время, пока Муди позволит нам встречаться наедине, но я думаю, что в конце концов он согласится, потому что ты ему понравилась. Постарайся только сделать так, чтобы я могла выйти из дома. Скажи, что мы идем в магазин или что-нибудь в этом роде, и покрывай меня это время.
Элен долго думала, но все же утвердительно кивнула головой. Все остальное время ушло у нас на составление различных планов, хотя мы и понятия не имели, когда сможем их реализовать.
Махтаб так понравилось играть с Мариам и Али, что она не хотела возвращаться домой, но дети Элен смягчили минуты расставания, позволив ей взять несколько книжек. Она выбрала «Оскар-ворчун», «Золотистый лютик и три медведя» и книжечку об утенке Дональде. У Элен был также Новый Завет, и она заверила, что время от времени будет давать мне его.
Муди был переменчив: иногда пользовался своим физическим преимуществом, но временами пытался покорить меня мягкостью.
– Пойдем завтра в ресторан, – предложил он 13 февраля, – завтра День святого Валентина.
– Хорошо, я согласна.
Он решил, что отведет нас в ресторан при гостинице «Хаям», в котором обслуживающий персонал говорил по-английски. Мы с Махтаб были взволнованы. До полудня мы готовились, приводя себя в порядок. Я надела костюм из красного шелка, подходящий для такого случая, но скандальный для Ирана. Правда, мне пришлось поверх надеть манто и русари, но у меня теплилась надежда, что гостиница окажется настолько американизированной, что мне позволят предстать в ресторане в моем костюме. Я старательно уложила волосы и заменила очки контактными линзами. Махтаб надела белое плиссированное платьице в красные букетики роз и белые кожаные туфельки.
Втроем мы отправились на улицу Шариата, где сели в такси. Отель находился на центральной улице, которую многие продолжали называть именем шаха – Аллея Пехлеви.
Когда мы вышли из такси, Муди на какое-то время задержался, чтобы расплатиться. Уличное движение шумно растекалось в двух направлениях. От тротуара нас отделял заполненный грязной водой ручей. Он был слишком широк, чтобы его перепрыгнуть. Я взяла Махтаб за руку, и мы пошли к сточной решетке, где можно было переступить по сухому.
Мы стали на решетку. Посмотрев вниз, я вдруг увидела огромную, величиной с небольшого кота, омерзительную крысу, которая замерла у одной из белых туфелек Махтаб. Я быстро оттащила удивленную Махтаб обратно на проезжую часть. Крыса убежала.
– Что ты делаешь? – крикнул сзади Муди.
– Я испугалась, что эта машина может подбить ее, – солгала я, не желая, чтобы Махтаб услышала правду.
Чуть позже я шепотом рассказала Муди о случившемся на самом деле. Он не удивился. Крысы в Тегеране – элемент повседневной жизни.
Я успокоилась и попыталась радоваться предстоящему вечеру. В гостинице, вопреки рекламе, никто не говорил по-английски, а я весь ужин должна была сидеть в манто и русари. Подвергая себя опасности вызвать гнев Аллаха, я все-таки немного расстегнула манто.
Ужин оказался необычным и очень вкусным: креветки с картофелем. Муди демонстрировал щедрость, настаивая, чтобы мы после ужина выпили еще и кофе, хотя чашечка стоила около четырех долларов. Кофе не был очень хорошим, но важен был жест Муди. Он пытался сделать мне приятное. Я со своей стороны старалась убедить его, что мне действительно хорошо. Однако и сейчас я чувствовала себя неуверенно. Я знала, что Муди в одну минуту из нежного мужа может превратиться в зверя.
Меня постоянно преследовала мысль: должны ли мы были поехать с Триш и Сьюзан? Я не знала, я не могла предвидеть, что случится. Анализируя разные обстоятельства, я продолжала верить, что мое решение было разумным. Обе любительницы приключений разработали только общие черты плана. Сама я могла с ними поехать хоть на край света, но имела ли я право подвергать Махтаб такой опасности?
Однако, когда Муди терял контроль над собой, меня обуревали сомнения. Возможно, самая большая опасность для Махтаб было оставаться с отцом?
Отзвук страшного взрыва вырвал меня из беспокойного сна. Я увидела через окно воспламенившееся ночное небо. Очередные взрывы раздавались вокруг нас через краткие промежутки.
Дом дрожал.
– Бомбы! – крикнула я. – Нас бомбят!
Мы услышали вой бомбардировщиков. В окне появились снопы бело-желтого света, а затем, как гром после молнии, ужасающе пронзительно зазвенело.
Махтаб закричала в испуге. Муди схватил ее, положил между нами. Мы прижались друг к другу, безнадежно одинокие в ожидании неизбежности.
Муди в исступлении выкрикивал какие-то персидские молитвы, в его голосе слышалась паника. Он обнял нас, желая защитить, но это лишь усилило наш страх, потому что он дрожал всем телом. Мы с Махтаб молились по-английски, уверенные, что настала минута смерти.
Самолеты налетали волнами, то предоставляя нам минутную передышку, то снова пикируя, а их моторы передавали всю ненависть к людям на земле. Оранжевые и желтые снопы огня противовоздушной артиллерии устремлялись к небу. Каждый раз, когда над головами раздавался вой самолетов, мы ждали взрывов. Иногда свет был неярким, а отзвуки приглушенными. В другой раз освещалась вся комната, а разрыв сотрясал дом до основания, дрожали стекла, и мы не могли сдержать испуганных криков. При свете взрывов, огня противовоздушной артиллерии и менее яркого отблеска пылающих зданий я могла заметить, что Муди было страшно так же, как и мне.
Он прижимал нас все сильнее, а моя ненависть к нему еще больше нарастала, я готова была его убить. В какой-то миг я вспомнила письмо моей мамы и ее сон о том, что Махтаб потеряла ногу от взрыва бомбы.
О Боже! Прошу, умоляю тебя, помоги нам! Спаси нас! Спаси Махтаб!
Очередная волна бомбардировщиков пронеслась над нами. Проходили минуты, и постепенно мы расслаблялись в надежде, что все уже закончилось. Прошло много времени, пока мы позволили себе перевести дыхание. Налет продолжался около пятнадцати минут, но эти минуты нам показались вечностью.
Страх уступил место возмущению и ярости.
– Вот видишь, что ты сделал с нами! – крикнула я Муди. – Ты Этого хотел для нас?!
– Нет! – рявкнул он. – Я тебе этого не сделал. Твоя собственная страна хочет убить тебя.
Разгорелась ссора, но в это время Маммаль заглянул в дверь спальни и сказал:
– Не нервничай, да'иджан, это была только противовоздушная артиллерия.
– Мы слышали самолеты, – возразила я.
– Нет.
Невероятно, но Маммаль хотел меня убедить в том, что это были только учения, такие же, как во время Недели войны.
В холле зазвонил телефон. Это была Амми Бозорг. Маммаль и Муди успокоили ее, заверив, что у нас все нормально.
Насерин зажгла свечи, приготовила чай.
– Нечего волноваться, – сказала она и твердо добавила: – В нас не попадут.
Ее вера в Аллаха была непоколебимой, основанной на искреннем убеждении, что если даже Аллах допустит, чтобы она погибла от бомбы, то нет ничего более достойного, чем мученическая смерть в священной войне.
Ранним утром шумный город зализывал раны и взывал к мести. Налеты были, разумеется, делом иракской авиации, но радио с легкостью выдавало иную информацию: налет запланировали и контролировали американские советники. С точки зрения рядового иранца, президент Рейган лично летел во главе атакующей эскадры. В тот день малоприятным было оказаться американцем в Иране.
Муди почувствовал это и превратился в заботливого опекуна. Мы с Махтаб не поехали в школу. Как оказалось, вблизи школы было немало разрушенных зданий. Много людей погибло.
Позже Элен и Хормоз провезли нас по городу, чтобы мы увидели результаты налета. Целые кварталы домов были стерты с лица земли, разорванные бомбами или уничтоженные огнем. Кое-где все еще подымался дым.
Все соглашались, что это страшно, но у каждого были свои взгляды на причину случившегося. Для меня все это было естественным исходом жизни под руководством фанатичного безумца. Муди и Хормоз проклинали американцев.
Элен заняла сторону мужчин.
Муди втянул Хормоза в дискуссию на одну из своих излюбленных тем о двуличности американского правительства. Он утверждал, что Соединенные Штаты, желая достигнуть равновесия сил в Персидском заливе, настраивают обе страны друг против друга, вооружая Иран и Ирак. Он был убежден, что американцы финансируют не только бомбы, сбрасываемые с иракских самолетов, но и противовоздушную артиллерию иранцев, однако в результате длительного эмбарго на вооружение помощь Ирану оказывалась тайно.
– Иран вынужден тратить все свои деньги на оружие, – ворчал Муди. – Из-за эмбарго мы вынуждены покупать его через третьи страны и платить им больше.
Мы все молились, чтобы налет не повторился. Радио обнадеживало Муди, что так и будет, что священные войска шиитов достигнут быстрого и эффективного перевеса над американскими марионетками.
Город перешел на военное положение. Электростанции были уничтожены. Всем рекомендовалось как можно меньше расходовать электроэнергии.
Наступили ночи страха и напряжения. В течение нескольких недель налеты повторялись через каждые две-три ночи, а потом и каждую ночь. По вечерам, с наступлением темноты, Махтаб жаловалась, что у нее болит живот. Много времени мы проводили вместе в ванной, молясь, плача и дрожа. Спали мы в столовой на полу под большим столом. Пледы, свисающие по бокам, должны были защитить нас от разлетающихся осколков стекла. Мы страдали от недосыпания. Налет бомбардировщиков был самым страшным, что я видела в своей жизни.
Однажды после лекций мы, как всегда, пошли за хлебом. В тот день мы хотели купить барбари – испеченный на дрожжах хлеб в форме овальных булок длиной в два фута. Такой хлеб, свежий, еще теплый, намного вкуснее лаваша. Мы ждали в очереди в пекарне более получаса, присматриваясь к уже знакомому нам процессу. Группа мужчин работала быстро, отмеряя порции теста, формуя и откладывая в сторону, чтобы оно подошло. Когда тесто уже было готово, один из них придавал ему окончательный продолговатый вид. Пекарь отправлял буханки в нагретую печь и вынимал их с помощью плоской лопаты.
Через некоторое время закончился запас теста. Один из мужчин бригады начал готовить новое. Он вложил конец шланга в большую бочку и открыл кран. Зная, что бочка будет наполняться долго, пекарь сделал перерыв и пошел в туалет. Когда он входил туда и потом, когда выходил, оттуда доносился смрад.
Мне было интересно, помоет ли он руки, прежде чем приступить к работе. В поле зрения не было ни одного умывальника. Я почувствовала приступ тошноты, когда пекарь вернулся к бочке и помыл руки в воде, предназначенной для приготовления теста.
Внезапно раздался звук сирены, предупреждающий о воздушной тревоге. Через несколько секунд мы услышали рев приближающихся бомбардировщиков.
Разные мысли проносились у меня в голове, разум пытался бороться с паникой. Что делать: спрятаться здесь или бежать домой? Я решила показать Муди, что мы сумеем справиться с любой ситуацией, тогда и в дальнейшем он будет разрешать нам выходить одним.
– Беги, Махтаб! – крикнула я. – Мы должны добраться домой!
– Мамочка, я боюсь, – заплакала Махтаб.
Я подхватила ребенка на руки. Какое-то чувство подсказывало мне, что нужно бежать с улицы Шариата. Я бросилась в лабиринт бесконечных переулков и мчалась так быстро, как только могла. А рядом мы слышали залпы противовоздушной артиллерии, взрывы бомб, стоны и крики гибнущих людей.
Осколки артиллерийских снарядов сыпались вокруг нас. Мы продолжали бежать.
Махтаб спрятала лицо у меня на груди. Ее пальчики впивались мне в спину.
– Ой, мамочка, я боюсь, мне страшно! – всхлипывала она.
– Все будет хорошо, – говорила я, перекрикивая шум. – Молись, Махтаб, молись!
Наконец мы и вбежали в калитку. Муди выглядывал уже в ожидании. Он открыл дверь и втащил нас в дом. Мы столпились в коридоре первого этажа, опираясь спинами о бетонную стену, и так стояли до конца налета.
Как-то я взяла Махтаб и Амира в колясочке в парк. Наш путь лежал мимо волейбольной площадки, где как раз проходил матч.
Махтаб качалась на качелях, когда я вдруг услышала громкие голоса. Посмотрев в ту сторону, я увидела четыре или пять белых полугрузовых машин марки «ниссан», блокирующих вход в парк. «Пасдары! Ищут здесь кого-то», – подумала я.
Я проверила, все ли в порядке в моей одежде. Пальто было застегнуто, платок на своем месте. И все-таки у меня не было желания встречаться с пасдарами, поэтому я решила вернуться домой и позвала Махтаб.
Толкая перед собой колясочку с Амиром и держа Махтаб за руку, я шла в сторону ворот. Когда мы приблизились к волейбольной площадке, я убедилась, что сегодня мишенью для пасдаров были парни. С помощью карабинов их погрузили в машины. Они молча повиновались.
Что с ними будет? Я поспешила домой, подгоняемая страхом. Настроение было испорчено.
Эссей открыла дверь. Я рассказала ей и Резе об увиденном.
– Это, вероятно, потому, что они собрались группой, – предположил Реза. – Нельзя собираться без разрешения.
– Что с ними будет? – спросила я. Реза пожал плечами.
– Не знаю, – сказал он безразличным тоном. Муди, по-своему прокомментировал инцидент:
– Напрасно пасдары не будут брать.
Иначе прореагировала Азар, когда я на следующий день в школе рассказала ей эту историю.
– Когда они видят группу ребят, то хватают их и отправляют на войну, – сообщила она с грустью. – То же самое делают в школах. Иногда подъезжают на грузовиках к школе для мальчиков и забирают учеников на фронт. Родители их никогда уже не увидят.
Как же я ненавидела войну! Она так бессмысленна. Я не могла понять людей, столь жаждущих убивать и до такой степени готовых умереть. Для Маммаля и Насерин жизнь, в том числе и их собственная, не имела большой ценности. Смерть – явление ординарное. Что человек может совершить без веры в Аллаха? Если даже случится худшее, то не было ли оно неизбежным? Их бравада во время бомбардировок не была притворной. Такая философия формирует мучеников-террористов.
Со всей силой это продемонстрировалось в пятницу пополудни, когда, как обычно, мы собрались в доме уже вернувшейся Амми Бозорг, где домочадцы бесконечно молились по случаю праздника. По телевизору шла трансляция проповеди. Я не обращала на это внимания до тех пор, пока не услышала возбужденных голосов Муди и Маммаля. Амми Бозорг вторила им стонами.
– Бомбят службу! – возмутился Маммаль.
Телевидение в прямом эфире показывало толпу правоверных, собравшихся на площади. Камеры были направлены в небо и отсняли иракские самолеты. Разрывы бомб образовали в толпе ямы, заполненные убитыми и ранеными.
– Там Баба Наджи! – вспомнил Муди. – Он всегда посещает моленья по пятницам.
Смятение охватило нижний Тегеран. Сообщалось о жертвах с обеих сторон, но хорошо спланированный налет свидетельствовал о явном перевесе Ирака.
Встревоженная семья ждала возвращения Баба Наджи. Часы пробили два, потом половину третьего. Баба Наджи никогда не возвращался с молений по пятницам позже.
Амми Бозорг приняла образ плакальщицы и, завывая, рвала на себе волосы. Она сменила цветную чадру на белую и уселась на полу, напевно декламируя Коран.
– С ума сошла, – сказал Муди сестре. – Ты должна дождаться, мы же ничего не знаем.
Родственники по очереди выбегали на улицу, высматривая патриарха рода. Проходили минуты в ожидании, полном напряжения, под ритуальное завывание Амми Бозорг. Казалось, что она гордится своим новым статусом вдовы.
Около пяти часов Ферест вбежала в дом с новостью.
– Он возвращается, – кричала она.
Весь клан собрался у дверей, чтобы схватить Баба Наджи в объятия, как только он переступит порог. Он вошел в дом медленно, молча, с потупленным взглядом. Все расступились, пропуская священного мужа. Его одежда была забрызгана кровью. К изумлению всех, он направился прямо в ванную, чтобы помыться.
Позднее Муди поговорил с ним и рассказал мне:
– Он переживает, что не погиб. Он хочет остаться мучеником, как его брат.
Муди не разделял слепого фанатизма своих родственников. Когда Тегеран привык к военному положению, командование гражданской обороны издало новые инструкции. Во время налета всем следовало находиться в помещении без окон на первом этаже. Мы вернулись в постель, чтобы немного отдохнуть в ожидании страшного сигнала, который выгонит нас на первый этаж под лестницу.
Там даже в присутствии Резы и Маммаля Муди не мог справиться с охватившим все его существо чувством страха. Он плакал, весь трясся в бессильной тревоге. Когда все заканчивалось, он проклинал американцев, но с каждым новым налетом в его словах становилось все меньше уверенности.
Время от времени наши глаза встречались, и это был краткий миг взаимопонимания. Муди осознавал, что несет ответственность за нашу судьбу, но он не имел ни малейшего представления, что в этой ситуации делать.
Раз в году в один и тот же день все в Иране отправляются в баню.
Происходит это по случаю персидского Нового года, Навруза, длящегося две недели. Это праздник, во время которого все женщины приводят свои дома в относительный порядок. Навруза с нетерпением ждут владельцы обувных магазинов, потому что все тогда покупают новую обувь. На протяжении этих двух недель мало кто работает: семьи собираются на праздничные ужины и чаепития. В соответствии с семейной иерархией родственники в порядке очередности предоставляют свои дома для праздничных торжеств.
Навруз выпадает на 21 марта, первый день весны. В тот вечер мы сели вместе с Резой, Маммалем и их семьями вокруг хафт син (семь «с»), или софры, заставленной блюдами с символическим значением, название которых начинается с буквы «с». Внимание всех было приковано к яйцам, положенным на зеркало. Персидская легенда гласит, что Земля покоится на роге быка. Этот бык каждый год переносит свою тяжесть с одного рога на другой. Точный момент прихода персидского Нового года можно установить, наблюдая за разложенными на зеркале яйцами. Когда бык перебрасывает земной шар с одного рога на другой, яйца подпрыгивают.
Все считают минуты, отделяющие старый год от нового, совершенно так же, как в Америке. Наблюдая за яйцами, мы ждали момента, когда солнце окажется в знаке Барана.
Внезапно в комнате стало темно, а вой сирены предупредил о появлении самолетов. В ту ночь яйца определенно подскакивали.
И хотя налеты вселяли ужас, жизнь как-то двигалась дальше, а бомбежки иракской авиации не помешали Ирану праздновать Навруз. Цикл приемов начался уже на второй день, и мы направились в дом патриарха и матроны рода. Реза, Эссей, Мариам, Мехди, Маммаль, Насерин, Амир, Муди, Махтаб и я втиснулись в машину Маммаля и поехали в дом Амми Бозорг. У меня, конечно, настроение было далеко не праздничное.
Длинноносая сестра Муди выбежала нам навстречу, как только мы вошли в дом. В радостном крике она бросилась к брату, осыпая его поцелуями. Потом она повернулась к Махтаб и нежно обняла ее. Прежде чем она поцеловала меня в щеку, я инстинктивно обтянула платок, чтобы избежать прикосновения ее губ.
У Амми Бозорг были уже приготовлены праздничные подарки. Она подарила Муди дорогой письменный стол и книжную полку с задвигающимися стеклами. Махтаб получила сшитое портнихой платьице из натурального шелка, привезенного из Мекки. Амми Бозорг, счастливая, крутилась все время и раздавала подарки всем, кроме меня. Муди не заметил, что меня обошли вниманием, а мне было безразлично.
Печальным был для меня этот день. Никто не утруждал себя (или не хотел) тем, чтобы поговорить со мной по-английски. Махтаб прижалась ко мне, боясь остаться рядом с Амми Бозорг.
Каждый день повторялись эти изнурительные церемонии.
Однажды утром, когда мы собрались навестить несколько домов, я надела коричневый шерстяной костюм с удлиненным жакетом, который мог вполне сойти за плащ. Надела толстые носки и на голову платок.
– Надо ли мне надевать манто на этот костюм? – спросила я Муди.
– Нет, конечно, нет, – ответил он. – Нужно присмотреться очень тщательно, чтобы увидеть, что это не плащ.
Маджид обвез нас по домам многочисленных родственников, где мы должны были показаться. Затем он нас оставил, у него были другие дела, и мы втроем поехали на такси в дом Хакима.
Когда мы вышли от них, было уже почти темно. Нам пришлось пройти несколько перекрестков, чтобы добраться до главной улицы и поймать такси. Машины с шумом проносились мимо, но свободного такси не было.
Внезапно возле нас затормозила полугрузовая машина, а за ней легковая. Из «ниссана» выскочили четверо бородатых пасдаров в оливково-коричневых мундирах. Один из них поймал Муди, а другие направили в него карабины. Меня окружили четыре стража революции в черных чадрах и начали что-то орать прямо мне в лицо.
Я знала, что причиной явился коричневый костюм. Мне нужно было надеть манто.
Пасдары тащили Муди в «ниссан», но он упирался, крича им что-то по-персидски.
«Заберите его в тюрьму! – умоляла я их в душе. – Возьмите его себе!»
Муди какое-то время спорил с пасдарами, а стражи революции выкрикивали мне в лицо персидские проклятия. Потом они все вместе вскочили в машины и уехали так же быстро, как и появились.
– Что ты им сказал? – спросила я.
– Что ты зарубежный гость и не знаешь законов.
– Ты сам мне сказал, что я могу так идти. Муди признал свою ошибку:
– Я не думал, что все так выйдет. Теперь ты должна носить на улице манто или чадру.
В конце недели пришла очередь Маммаля и Насерин принимать гостей. Мы убрали дом. Муди с Маммалем поехали на рынок. Мы заварили несколько литров чаю. Можно было ожидать, что на протяжении дня к нам заглянет не менее сотни гостей.
Вместе с другими у нас были Элен и Хормоз, когда из мегафонов на улице раздался призыв к молитве. Ежедневно три раза в день призыв к молитве входит в жизнь всех жителей Тегерана. И где бы ты ни находился, что бы ни делал, нельзя забыть о времени молитвы. В принципе молитвы можно произносить и в последующие часы, но Аллах щедрее награждает тех, кто тотчас же отвечает на призыв.
– Мне нужна чадра, – сказала Элен, вскакивая на ноги.
Остальные правоверные вместе с Амми Бозорг также занялись приготовлениями, и уже спустя минуту в соседней комнате монотонно зашуршали четки.
Позже Амми Бозорг призналась, что ей очень понравилась Элен.
– Машаллах![7] – обратилась она к Муди. – Как вдохновенно она молится, Аллах вознаградит ее.
Во второй половине этого праздничного дня Муди разговорился с Мараши – одним из кузенов Насерин, который тоже был врачом.
– Почему ты не работаешь? – спросил Мараши.
– Вопрос с моими документами еще не выяснен, – ответил Муди.
– Я поговорю в больнице. Нам нужен анестезиолог.
Радость Муди была безгранична. Во всяком случае эта работа казалась реальной. Муди, правда, хоть и ленив, но в то же время достаточно квалифицированный врач. Для него важны были не только деньги, но и авторитет, которым пользуются врачи в Иране.
Когда я задумалась над таким стечением обстоятельств, то пришла к выводу, что мне это выгодно. Уже сейчас у меня было немного свободы, хотя и недостаточно. Со временем Муди понял, что постоянно караулить меня – это довольно трудная задача. Он вынужден был постепенно расширять диапазон моей свободы, чтобы облегчить свою и без того запутанную жизнь.
Если бы сейчас Муди пошел на работу, я бы могла передвигаться значительно свободнее. К тому же, возможно, это укрепило бы его ослабевающее чувство собственного достоинства.
Вторую неделю праздника Навруз мы провели в так называемом «отпуске» у Каспийского моря, простирающегося на север от Тегерана и составляющего часть ирано-российской границы. Брат Эссей работал в министерстве по делам исламизации, которое конфисковало все имущество шаха. Он предложил родственникам воспользоваться отдыхом на одной из прежних вилл монарха. При этом он описывал чудеса и богатства, которые окружали шаха.
Если бы я только сейчас приехала в Иран, на меня это произвело бы впечатление. Вилла шаха! Но я уже знала слишком многое, чтобы верить в россказни о роскоши в республике аятоллы.
Прежде всего мое представление о неделе отпуска начиналось с того, что я буду одной из двадцати шести человек, втиснутых в три автомобиля. И все-таки я радовалась, что появилась возможность познакомиться с окрестностями города. Я знала, что Иран – большая страна, но не имела понятия, какое огромное пространство нам с Махтаб предстоит преодолеть, пока мы когда-нибудь выберемся отсюда. Во время путешествия я на все обращала внимание, запоминала мельчайшие детали, хотя и не знала, могут ли они нам пригодиться.
По дороге, созерцая пейзаж, я испытывала все меньше желания ехать на этот отдых. Виды, правда, открывались восхитительные, но это была красота огромных горных цепей, более высоких и более изрезанных, чем Скалистые горы на западе Соединенных Штатов. Они окружали Тегеран со всех сторон, точно город был в западне. Зажатая в перегруженной машине, я часами следила за подымающимися все выше и круче обрывистыми скалами и наконец погрузилась в меланхолическую беседу сама с собой.
А вдруг за эту неделю представится какая-нибудь счастливая оказия, и мы с Махтаб вырвемся на свободу!.. Мы могли бы пробраться на какой-нибудь корабль, переплыть Каспийское море и оказаться в…
В России!
Неважно где! Лишь бы выбраться отсюда.
Все эти размышления привели меня к ужаснейшему выводу. Я поняла, что с каждым днем впадаю все в более глубокий пессимизм, разочарование, панику. Муди тоже нервничал. Возможно, это была подсознательная реакция на мое угнетенное состояние.
Я боялась, что если в ближайшее время не произойдет ничего хорошего, то может случиться что-нибудь плохое.
Вилла шаха, как я и предполагала, оказалась совершенно разграбленной. Все, что напоминало о западной цивилизации, исчезло, включая мебель. Когда-то дом, наверное, производил большое впечатление, сейчас же от него осталась лишь оболочка. После ужина все улеглись спать на полу. Поскольку с нами были мужчины (возле меня спал сам ага Хаким), мне следовало всю ночь быть одетой в обязательную униформу, и я старалась как-нибудь уснуть в застегнутом пальто и платке.
Через открытые окна с моря дул холодный ветер весенней ночи. Мы с Махтаб дрожали и ворочались с боку на бок, в то время как наши иранские родственники спали сном праведников.
Утром мы узнали, что во всей округе засуха. Большую часть дня в целях экономии не подавали воду, в результате первое утро своего «отпуска» я вместе с другими женщинами провела во дворе за мытьем овощей и салатов в единственной бочке с холодной водой. Мужчины допоздна спали, а потом сновали по двору, присматриваясь к нашей работе.
После завтрака мужчины отправились на конную прогулку. Женщины же прогуливались по пляжу, когда-то, должно быть, прекрасному, а сейчас заваленному мусором и всяческими нечистотами.
Неделя длилась немилосердно долго. Возникали все новые неудобства и множились унижения. Мы с Махтаб каким-то образом выдерживали это, понимая, что выхода нет. Мы уже привыкли.
Приход весны принес одновременно и оптимизм, и депрессию. Скоро с гор сойдет снег. Сможет ли знакомый Рашида переправить нас в Турцию? Мягкая погода создавала возможности действовать. Но наступление новой поры года отчетливо напомнило мне, как давно мы очутились в заключении. Мы с Махтаб находились в иранской западне уже более семи месяцев.
По возвращении в Тегеран Муди узнал, что ему предоставили работу в клинике. Он был настолько возбужден, что целый день бегал по дому, шутил с Махтаб и со мной, что случалось редко, пылал нежностью и любовью, которые когда-то (так давно!) привлекли меня.
– Правда, нет еще некоторых документов, – признался он, – они примут меня на работу. Им нужен анестезиолог. Когда бумаги будут в порядке, они заплатят мне за весь период работы.
Но к концу дня его энтузиазм угас. Он задумался. Я безошибочно читала его мысли. Как он мог пойти на работу и одновременно караулить меня? Я оставила его одного, пусть подумает. Режим работы в клинике не был напряженным. Муди будет занят не каждый день, и даже в случае его отсутствия я все равно остаюсь под контролем. Насерин будет докладывать, когда я ухожу и прихожу. Я должна была возвращаться сразу же после окончания уроков Махтаб, чтобы присматривать за Амиром, потому что Насерин уходила в университет. Исключением в этом расписании были мои занятия по четвергам. В этот день Насерин приходилось заниматься Амиром самой.
Я чувствовала, что у Муди просто раскалывается голова. Можно ли мне верить? Но ничего другого не оставалось. Иначе ему пришлось бы забыть о работе.
– В четверг ты должна возвращаться домой сразу же после лекции по Корану, – сказал он. – Я буду проверять.
– Хорошо, – пообещала я.
И он еще раз порадовался мысли, что будет снова работать.
Я злоупотребляла предоставленной мне свободой лишь тогда, когда действительно необходимо было рисковать. Я знала, что Муди, будучи достаточно коварным, может поручить слежку за мной своим родственникам. Возможно, он приказал им время от времени контролировать мои поступки. Иногда он сам делал это. Когда у Муди был свободный день или он раньше приходил с работы, он появлялся в школе и забирал нас домой. Все время держал меня под стражей.
Поэтому я скрупулезно придерживалась установленного расписания занятий, отступая от него лишь тогда, когда это имело смысл.
Однажды в школе, когда дети играли на перерыве, одна из учительниц робко вошла в канцелярию и села возле меня на скамейку. Я знала ее лишь с виду. Она всегда приветливо улыбалась. Мы поздоровались.
Она оглянулась, чтобы убедиться, что за нами никто не следит, а потом шепнула уголками губ:
– Нагу.[8] Нагу Ашар.
Я согласилась, кивнув головой.
– Я говорить мой муж о тебе, – сказала она, с трудом справляясь с чужими словами. – Она хочет тебе помочь.
В персидском языке нет категории рода. Иранцы всегда путают местоимения «он» и «она». Учительница опустила глаза, глядя на свои колени. Почти неуловимым движением она вынула руку из-под свободного платья и придвинулась ко мне. Убедившись еще раз, что на нас никто не смотрит, она быстро коснулась моей руки, оставляя в ладони обрывок бумаги. На нем был нацарапан номер телефона.
– Ты звонить, – прошептала она.
Спеша с Махтаб домой, я все же рискнула забежать на минутку в магазин Хамида. В трубке послышался женский голос. Женщина назвала себя Алави и приветствовала меня на английском языке. Она пояснила, что работает у мужа учительницы и тот рассказал ей и ее матери о моем положении.
– Он спросил меня, могу ли я чем-нибудь помочь, потому что знаю английский язык, я училась в Англии. Я обещала.
Это было еще одним доказательством того, что иранцев нельзя огулом относить к категории фанатичных врагов Америки. Алави была абсолютно искренней и, разговаривая со мной, возможно, рисковала жизнью и уж определенно свободой.
– Как мы могли бы встретиться? – спросила она.
– Я должна подождать, пока представится случай.
– Как только вы сможете встретиться со мной, я сделаю себе перерыв на ленч и приеду в указанное вами место.
– Хорошо.
Бюро, в котором она работала, было далеко от дома Маммаля, далеко от школы Махтаб и даже от мечети, где проходили лекции по Корану. Трудно было организовать встречу так, чтобы у нас обеих в один день было достаточно времени и свободы для более близкого знакомства. Меня интересовало, какими мотивами руководствуется Алави, но я не сомневалась в ее надежности. Ее слова звучали искренне и сразу вызвали доверие.
Дни тянулись мучительно долго, проходили недели, а я все искала безопасный способ организовать встречу. Со времени начала работы Муди я почувствовала усиление контроля за собой. Насерин стала еще более подозрительной.
Но рано или поздно у меня неминуемо должна была появиться возможность для встречи с Алави. В четырнадцатимиллионном городе Муди не мог уследить за мной.
В один из дней я застала Насерин нетерпеливо ожидающей моего прихода. Ей позвонили, что состоится какое-то чрезвычайное собрание в университете, и она должна оставить Амира со мной. Она быстро собралась и ушла. Муди был на работе, Реза и Эссей навещали родственников.
Я позвонила Алави.
– Я могу с вами встретиться сегодня, сейчас?
– Уже еду.
– Как я узнаю вас? – спросила я.
– На мне будет черный плащ, черные брюки и платок. Я в трауре. У меня недавно умерла мама.
– Примите мои искренние соболезнования.
– Спасибо. Все в порядке, – ответила она.
Я оставила записку Муди. Рано утром у него была операция, но он не знал, когда освободится. Он мог не вернуться до одиннадцати часов вечера, но мог появиться в любую минуту.
«Дети просто невыносимы, – написала я, – иду с ними в парк».
Махтаб и Амир всегда радовались, когда случалось выйти в парк. Я могла полностью доверять Махтаб, а Амир был еще слишком маленький, так что у меня не было опасений со стороны детей. Меня лишь беспокоила реакция Муди на то, что я вышла из дома без сопровождения и без его разрешения. Я очень надеялась, что мы успеем вернуться домой до его возвращения.
Дети были заняты собой, когда ко мне приблизилась женщина в черном. Трудно определить на вид возраст незнакомой женщины в иранском платье, но я предположила, что ей может быть лет пятьдесят, возможно, чуть меньше. Она села возле меня на скамейку.
– Я оставила мужу записку, – быстро сказала я, – он может здесь появиться.
– Хорошо, – ответила она. – Если это случится, сделаю вид, что я здесь с детьми.
Затем она обменялась несколькими словами по-персидски с сидящей на скамейке напротив женщиной.
– Она согласилась в случае необходимости подтвердить, что сюда я пришла с ней и ее детьми, – пояснила мне Алави.
Я начала понимать, что иранцам нравятся заговоры и интриги. Они, видимо, привыкли жить в конспирации еще при шахе и уж точно при аятолле. Просьба Алави нисколько не удивила и не обеспокоила нашу соседку, а скорее внесла остроту в ее скучную жизнь.
– Так что же случилось? – спросила Алави. – Почему вы в Иране?
Я рассказала ей свою историю настолько кратко, как только смогла.
– Мне близка ваша ситуация. В Англии меня считали иностранкой, хотя я хотела остаться там. Я нуждалась в помощи других людей. Мне не помогли, и я вынуждена была вернуться в Иран. Это было очень печально для меня и для мамы. Мы дали себе слово, что будем помогать иностранцам в нашей стране. Я знаю, что сумею это сделать по отношению к вам.
Она замолчала на минуту, собираясь с мыслями.
– Моя мама умерла две недели назад, – сказала она, – вы уже знаете об этом. Перед смертью она взяла с меня клятву, что я помогу вам, если только смогу. Я обязана сдержать свое обещание, и я сделаю это.
Краем платка она вытерла выступившие слезы.
– Каким образом? – спросила я. – Что вы можете для меня сделать?
– Мой брат живет…
– Мамочка, мамочка! – прервала Махтаб, подбегая ко мне. – Папа здесь!
Он стоял за оградой и внимательно смотрел на меня. Резким движением руки он подозвал меня к себе.
– Только спокойно, – шепнула я Алави и Махтаб. – Ведите себя как обычно. Махтаб, возвращайся на качели.
Я встала со скамейки и подошла к Муди.
– Что ты здесь делаешь? – буркнул он.
– Такой замечательный день, – сказала я, – уже чувствуется весна. Мне хотелось вывести детей в парк.
– Что это за женщина сидит около тебя?
– Я не знаю, кто она. Ее дети тоже здесь играют.
– Ты разговаривала с ней. Она говорит по-английски?
Зная, что Муди был слишком далеко и не слышал нас, я солгала:
– Нет. Я учусь говорить по-персидски.
Муди настороженно огляделся вокруг, но увидел лишь детей, шумно резвящихся под неусыпным оком матерей. Алави и соседка встали со скамейки и подошли к качелям, чтобы все видели, что они занимаются своими детьми. Не происходило ничего подозрительного. Муди убедился, что я была там, где должна была быть. Не проронив ни слова, он повернулся и отправился домой.
Я медленно пошла в сторону площадки, задержавшись, чтобы покачать Махтаб и Амира на качелях. Мне мучительно хотелось повернуть голову и посмотреть, наблюдает ли за мной Муди, но я продолжала играть свою роль. Спустя несколько минут я вернулась на скамейку, как будто ничего не произошло. Алави, выждав какое-то время, присоединилась ко мне.
– Он уже ушел, – сказала я.
Я посмотрела на женщину напротив и кивнула ей головой в знак благодарности. Она сделала такое же движение, не зная сути этой интриги, но охотно в ней участвуя.
– Так что же ваш брат? – спросила я, чтобы не терять времени.
– Он живет в Захедане. На границе с Пакистаном. Я поговорю с ним и спрошу, сможет ли он организовать побег.
– А у него есть такая возможность?
Алави перешла на шепот:
– Он занимается этим все время: переправляет людей за границу.
Я воспрянула духом. В сущности эта встреча была менее случайной, чем это могло показаться. И учительница из школы, и ее муж должны были знать, что госпожа Алави является кем-то более значительным, чем просто говорящая по-английски особа.
Можно было с уверенностью сказать, что они знали о ее брате. Я не была единственным человеком, который оказался в иранской западне. Эта страна с традициями авторитарных режимов давно уже имела (и это вполне логично) развитую сложную профессиональную сеть, занимающуюся переправкой людей за границу. И вот наконец я нашла контакт с одним из таких профессионалов.
– Сколько это будет стоить? – спросила я.
– Не беспокойтесь о деньгах. Я заплачу сама. Я поклялась маме. Если вы когда-нибудь захотите вернуть мне деньги, тогда и вернете. Если же нет, то это не имеет значения.
– Когда мы можем ехать? – спросила я возбужденно. – Как нам добраться до Захедана?
– Скоро. Я должна получить для вас документы, чтобы вы с дочерью смогли вылететь в Захедан.
Она объяснила мне все детали плана, особо подчеркивая одну: когда все будет готово, нам придется каким-то образом на несколько часов вырваться из-под стражи Муди и сделать это так, чтобы он не заметил наше отсутствие; затем, добравшись до аэропорта, сесть в самолет рейсом до Захедана и связаться с братом госпожи Алави; со всем этим нужно справиться до того момента, пока Муди сообщит в полицию.
Лучше всего подошел бы, конечно, четверг. Муди будет на работе. У нас с Махтаб установленное расписание: утром школа, в полдень лекции по Корану.
Это был, несомненно, более осмысленный план, чем предложенный Триш и Сьюзан. Хелен и господин Винкоп в посольстве подчеркивали, что самый большом риск – это необходимость скрываться от Муди, а может быть, и от полиции в самом Тегеране. Алави тоже подтвердила бессмысленность этого. Агенты в аэропорту были бы тотчас же предупреждены, что следует обращать внимание на путешествующую американку с ребенком. Мы же должны пройти таможенный контроль в аэропортах Тегерана и Захедана и добраться к людям, организующим побег через границу, до того, как власти будут предупреждены о нашем исчезновении.
– Как скоро? – спросила я взволнованно.
– Через две недели. Я поговорю с братом. Позвоните мне, пожалуйста, в ближайшее воскресенье. Возможно, нам удастся встретиться еще раз и обсудить все детали.
Мне очень трудно было спрятать свое возбуждение не только от Муди, Маммаля, Насерин и других врагов, но даже от собственной дочери. Правда, Махтаб, если нужно было, становилась первоклассной актрисой, но у меня не хватало смелости поделиться с ней радостной тайной. Я скажу ей, когда настанет время побега, но не раньше.
Когда мы вернулись из парка, Муди был занят. Он оставил меня наедине с моими мыслями; они бурлили в моей голове сильнее фасоли, которую я готовила на ужин.
Размышляя, я вдруг почувствовала себя как-то неуютно. Я вспомнила страшные вещи, которые Хелен и господин Винкоп рассказывали о контрабандистах.
«Но ведь они говорили о границе с Турцией, – успокаивала я себя, – а эти собираются переправить нас в Пакистан».
И все-таки они контрабандисты. А вдруг надругаются, заберут деньги, убьют или выдадут в руки пасдаров?
А возможно, все эти ужасы – элемент пропаганды властей, чтобы запугать людей? Неужели правда была такой жестокой?
Госпожа Алави легко добилась моего доверия. Однако я не знала ни ее брата, ни других людей. Мне очень хотелось обсудить с Хелен этот новый план.
На следующий день по дороге в школу мы с Махтаб зашли в магазин Хамида, и я позвонила Хелен.
– Приезжайте, пожалуйста, – сказала Хелен. – Хорошо было бы встретиться еще сегодня. Для вас есть письма и готовы паспорта. Приезжайте сегодня.
– Попытаюсь.
Но как? Муди не был занят в клинике, и я не знала, появится ли он в школе и в какое время.
Я воспользовалась телефоном Хамида еще раз. Позвонив Элен на работу, я сказала ей, что пришло время осуществить наш план: я должна попасть в швейцарское посольство.
Спустя какое-то время Элен позвонила Муди и спросила, можно ли нам пойти с ней во второй половине дня по магазинам. Она заберет нас из школы, мы пообедаем у нее и поедем покупать одежду к весне.
Муди согласился.
После этого Элен набрала канцелярию школы. К телефону подошла ханум Шахин. Директриса говорила по-персидски, но несколько раз повторила имя Бетти, и я догадалась, с кем она разговаривает.
Мы хотели проверить, позволит ли ханум Шахин мне подойти к телефону. Этого не произошло. Элен вынуждена была попросить Муди позвонить с работы в школу и дать разрешение на телефонную беседу.
В конце концов мы связались.
– Все в порядке, – сообщила Элен, хотя ее голос явно дрожал, – я заберу вас из школы.
– Хорошо. Но что-нибудь случилось?
– Нет, – резко ответила она.
Минут через пятнадцать она позвонила снова.
– Я перезвонила Муди и сказала ему, что у меня не получается. Я не могу сегодня после обеда, – заявила она.
– Что случилось?
– Я передумала. И должна поговорить с тобой. Я проклинала Элен. Мне отчаянно хотелось добраться до посольства, но у меня не хватало смелости ехать туда, не заручившись чьей-нибудь поддержкой.
На следующий день оказии тоже не представилось, потому что Муди снова не пошел на работу и был в ужасном настроении. Он конвоировал нас до школы и, прежде чем уйти, рычал, выдавая распоряжения. Он запретил нам одним возвращаться домой и сказал, что приедет за нами в полдень. Но полдень уже миновал, а его так и не было. Мы послушно ждали. Проходили минуты, мы нервно посматривали друг на друга. Возможно, он проверяет нас? Что же нам делать?
Прошел целый час, а Муди все не было.
– Поедем лучше домой, – сказала я Махтаб. Дома мы застали Муди лежащим на полу в холле. Он плакал.
– Что случилось? – спросила я с тревогой.
– Нелюфар упала с балкона. Собирайся, едем в больницу.
Нелюфар, дочь Настаран и Мортеза, было год и семь месяцев. Очаровательное существо, щебетунья, она так любила играть с Махтаб и со мной.
Первой моей реакцией было безграничное беспокойство о ее здоровье, но уже через минуту в моей голове как бы раздался предупредительный звонок. Неужели это западня? Или Муди что-то задумал, чтобы вывезти нас отсюда?
Мне не оставалось ничего иного, как пойти вместе с ним. Страх обострял мою бдительность. Я волновалась. Не наговорила ли Элен чего-нибудь Муди? Неужели он решил спрятать нас в каком-нибудь другом помещении?
Дважды нам пришлось пересаживаться из одного такси в другое. Я молилась, чтобы Махтаб ничем не обнаружила, что ей знакомы эти улицы. Мы ехали дорогой, которая вела в Отделение США при посольстве Швейцарии.
Оказалось, что клиника, в которую мы наконец прибыли, находилась напротив посольства.
Муди быстро провел нас в приемный покой и спросил номер палаты, в которой лежала Нелюфар. Даже несмотря на мои ограниченные знания персидского, я могла догадаться, что возникли какие-то проблемы, и Муди, используя свой авторитет врача, пытался пробиться через бюрократические препоны. Какое-то время он яростно спорил с дежурной, а потом объяснил нам:
– Вам с Махтаб нельзя войти в палату. У вас нет чадры.
Я догадалась, какие трудности возникли у него в связи с этим обстоятельством. Чтобы зайти к Нелюфар, ему пришлось бы оставить нас одних без стражи в приемном покое, притом рядом с посольством. Я поняла, что это не ловушка и с Нелюфар действительно что-то случилось. Я тотчас же забыла о своих неприятностях. Мне было искренне жаль малышку и ее родителей.
– Оставайтесь здесь! – приказал он и поспешил узнать что-нибудь о состоянии Нелюфар.
Быть так близко от посольства и не иметь возможности что-нибудь сделать… Это ужасно. Но ради нескольких минут разговора с Хелен не стоило вызывать ярость Муди.
Он очень скоро вернулся.
– Никого здесь нет, – сказал он. – Мортез забрал ее в другую клинику, а Настаран вернулась домой. Пойдем туда.
Мы шли мимо посольства, и я заставляла себя не смотреть в сторону здания. Я боялась, чтобы Муди не заметил, что мы прочли вывеску.
Дом Мортеза и Настаран находился в одном квартале с посольством. Там уже собрались несколько женщин, чтобы выразить сочувствие. Среди них была племянница Муди Ферест, которая занялась приготовлением чая. Настаран, взволнованная, ходила по комнате, время от времени посматривая с балкона, не возвращается ли Мортез с новостями о дочери.
Она упала с этого же балкона, с третьего этажа вниз на тротуар, перегнувшись через тонкий металлический барьер высотой не более восемнадцати дюймов. Такие балконы и такие трагедии не были в Тегеране редкостью.
Два часа прошли в нервозно-успокоительных разговорах. Махтаб с серьезным личиком держалась возле меня. Мы думали о хорошенькой малышке и шепотом молились, чтобы Бог не обошел своим вниманием крошку Нелюфар.
Я пыталась успокоить Настаран. Она знала, что мои чувства были искренними. Из моего сердца исходило материнское сочувствие.
Я и Настаран были на балконе, когда наконец увидели Мортеза. Рядом шли братья. Они несли коробки с гигиеническими платками, которые очень трудно было купить.
Из уст Настаран вырвался страшный душераздирающий крик боли. Она догадалась, что это значило. Платки нужны были, чтобы утирать слезы.
Она подбежала к дверям и встретилась с мужчинами у крыльца.
– Морде![9] – сказал Мортез сквозь слезы. Настаран осела на пол.
Почти тотчас же в доме собрались погруженные в траур родственники. Женщины били себя в грудь и кричали, как того требовал ритуал.
Муди, Махтаб и я плакали вместе с ними.
Я искренне сочувствовала Настаран и Мортезу, но на исходе ночи слез и отчаяния задала себе вопрос: а как эта трагедия отразится на моих планах? Был вторник, а в воскресенье я должна была встретиться в парке с Алави. Мне нужно было как-то добраться до телефона, чтобы позвонить Алави, а может быть, и Хелен в посольство. К тому же мне очень хотелось узнать, что произошло с Элен.
На следующее утро, одетые в траур, мы были готовы сопровождать похоронную процессию на кладбище. Тельце Нелюфар на ночь положили в холодильник, а днем родители в соответствии с традицией должны были совершить ритуальное омовение ее тела, в то время как родственники читали специальные молитвы. Затем Нелюфар, одетую в белый саван, должны были увезти на кладбище.
Когда мы готовились в нашей спальне дома Маммаля к печальному дню, который нас ожидал, я предложила:
– Почему бы мне не остаться дома и присмотреть за детьми, когда все пойдут на кладбище?
– Нет, – решил Муди, – ты должна идти с нами.
– Я не хочу, чтобы Махтаб видела все это. И от меня действительно будет больше пользы, если я останусь и присмотрю за детьми.
– Не может быть и речи!
Но когда мы приехали в дом Настаран и Мортеза и я в присутствии всех высказала свое предложение, его посчитали разумным. Муди быстро уступил.
Я не собиралась выходить из дома, но, как только я осталась одна с ничего не подозревающими детьми, я побежала к телефону и позвонила Хелен.
– Приходите, – сказала она, – нам нужно поговорить.
– Я не могу. Нахожусь на противоположной стороне улицы, но не могу прийти.
Однако я подумала, что, возможно, мне удастся выйти с детьми в парк позднее, когда взрослые уже вернутся. На всякий случай мы договорились с Хелен, что встретимся в три часа дня в парке, возле посольства.
Мне не удалось связаться с Алави, но я дозвонилась в бюро к Элен. Это был ужасный разговор.
– Я решила все рассказать Муди, – заявила Элен. – Я скажу ему, что ты собираешься бежать.
– Не делай этого! – умоляла я. – Я призналась тебе, потому что ты – американка. Я рассказала тебе, потому что ты обещала сохранить тайну. Ты поклялась, что никому не расскажешь.
– Я рассказала обо всем Хормозу, – голос Элен начал дрожать. – Он очень недоволен мной. Он приказал мне не приближаться к посольству и сказал, что я должна сообщить Муди, потому что это мой мусульманский долг. Если я этого не сделаю, а с тобой и Махтаб что-нибудь случится, это будет мой грех, точно я убила вас. Я обязана ему рассказать.
Меня охватила паника. Муди меня убьет! Он точно запрет меня и заберет Махтаб. Раз и навсегда я потеряю желанную свободу, хоть маленькую, но которой я с таким трудом добилась. Он уже никогда мне больше не поверит.
– Прошу тебя, – задыхалась я от волнения и слез, – не говори ему.
Я кричала по телефону на Элен, плакала, просила, взывала к памяти нашего далекого детства в родных краях, но она была неумолима. Она еще раз повторила, что должна исполнить обязанность мусульманки, что она любит меня и заботится о моем и Махтаб благе и поэтому должна рассказать обо всем Муди.
– Позволь мне самой рассказать ему, – предложила, отчаявшись, я. – У меня это лучше получится.
– Хорошо, – согласилась Элен. – Я дам тебе немного времени, и ты расскажешь ему. В противном случае это сделаю я.
Я положила телефонную трубку, чувствуя, как на моей шее затягивается исламская петля. Что делать? Сколько времени я могу ждать? Как долго я смогу придумывать отговорки, которые удержат Элен? Должна ли я рассказать Муди? Как он отреагирует? Он изобьет меня, в этом нет никакого сомнения, но как далеко распространится его ярость? А что дальше?
Если бы я держала язык за зубами и не выдала свою тайну Элен! Но разве я могла предположить, что такой удар обрушится на меня вовсе не со стороны иранцев, а его нанесет американка из моего родного города?!
Чувствуя, что отчаяние и гнев переполняют меня и что я не могу с этим справиться, я оглянулась вокруг и увидела знакомый домашний беспорядок. Не зная, с чего начать, я принялась за кухню. Пол в иранской кухне с наклоном, поэтому его легко помыть, вылив пару ведер воды, которая стекала в канализацию. Я сделала это, выливая ведро за ведром. Я также вымыла и под металлическими шкафами, куда большинство иранок никогда не заглядывают. Преодолевая отвращение, я вычистила кухню до блеска, не обращая при этом внимания на доносившийся из холла шум, где бесновались около пятнадцати детей.
Проверив запасы продуктов, я решила приготовить ужин. Еда – основной интерес в жизни этих людей, и я знала, что вернувшись, они оценят ожидающий их ужин. Мне просто необходимо было что-то делать. В холодильнике вместо употребляемой здесь, как правило, баранины я нашла говядину. Я собралась приготовить таскабаб – персидское блюдо, которое Муди очень любил. Порезав и поджарив большое количество лука, я уложила его в кастрюлю вместе с тонкими пластинами мяса и приправами. Наверх положила картофель, помидоры и морковь. Все это готовилось на слабом огне, распространяя аппетитный запах пикантного говяжьего гуляша.
Сердце мое разрывалось от страха, но привычные действия позволили сохранить спокойствие. Из-за трагической смерти Нелюфар у меня было в запасе несколько дней. В период траура Муди не свяжется с Элен и Хормозом. Я подумала, что лучше всего для меня будет поддерживать существующее положение так долго, как только возможно, и надеяться, что Алави совершит какое-нибудь чудо прежде, чем возымеет действие предательство Элен.
«Нужно чем-то заниматься», – приказывала я себе.
Когда все вернулись с кладбища, я решила приготовить еще одно свое блюдо: горох по-ливански.
– Ты не умеешь это делать. Мы готовим не так, – заявила Ферест, видя, что я добавляю лук.
– Позволь мне сделать это по-своему, – ответила я.
– Все равно это никто не будет есть.
Ферест оказалась не права. Родственникам понравились мои блюда; они хвалили меня. Мне было, конечно, приятно, а Муди просто светился от гордости, но ведь у меня были свои тайные мотивы. Мне было известно, что всю следующую неделю взрослые будут заняты траурным ритуалом, и мне хотелось укрепить свою позицию, оставаясь дома, присматривая за детьми, убирая и готовя обед. После ужина мне единогласно были вручены эти функции.
Около трех часов дня я предложила отвести детей в парк, и все от этой мысли были в восторге. Издали я увидела Хелен и едва заметным поклоном поприветствовала ее. Какое-то время она наблюдала за нами, но не решилась подойти.
Неделя тянулась нестерпимо долго. Я никак не могла позвонить, потому что кто-нибудь из взрослых всегда находил повод, чтобы остаться со мной и детьми дома. Я успокоилась, когда Муди сообщил наконец, что в пятницу заканчивается траур и в субботу (за день перед условленной встречей с Алави) Махтаб вернется в школу.
Муди был раздражен. Отчаяние после смерти Нелюфар немного угасло, и мой муж все больше занимался собственными делами. В его блуждающем взгляде я снова заметила тень нарастающего бешенства. Такое бывало и прежде, но довольно редко. Я теряла самообладание, мной овладевала паника.
Может быть, Элен уже все ему рассказала?.. Впрочем, у него достаточно и собственных поводов, чтобы прийти в ярость.
В субботу, когда мы собирались в школу, он был особенно раздражен. Не отпускал нас ни на минуту и проводил до самой школы. В каком-то агрессивном настроении вел нас по улице, а потом грубо втолкнул в такси. Испуганные, мы с Махтаб обменялись взглядами, зная, что это не предвещает ничего хорошего.
В школе Муди сказал мне в присутствии Махтаб:
– Оставь ее здесь. Она должна научиться оставаться одна. Отведи ее в класс, оставь и возвращайся со мной домой.
Махтаб вскрикнула и уцепилась за полу моего пальто. Ей было всего пять лет, и она не могла понять, что от этого будет только хуже.
– Махтаб, ты должна быть самостоятельной, – быстро сказала я, пытаясь сохранить спокойствие и чувствуя, что мой голос дрожит. – Пойдем со мной в класс. Все будет хорошо. В полдень я приду за тобой.
И я повела ее по коридору. Но чем ближе мы подходили к классу и чем дальше удалялись от угроз отца, тем становилось все хуже: Махтаб начала хлюпать носом, а потом и плакать. Когда мы были уже возле класса, она рыдала так же, как в первые два дня.
– Махтаб, – умоляла я, – успокойся. Папа действительно сегодня очень злой.
Разрывающие сердце крики Махтаб заглушили мои слова. Одной рукой она судорожно держалась за меня, а второй отталкивала учительницу.
– Махтаб! – крикнула я. – Прошу тебя…
Вдруг весь класс завизжал от изумления и беспокойства. Все как один схватились за платки, убеждаясь, что их головы закрыты в соответствии с требованиями. В их святилище проник мужчина!
Муди стоял над нами. Его лицо исказила злоба. Он занес кулак.
Муди схватил Махтаб за руку и ударил ее. Потом повернул девочку лицом к себе и стал грубо бить ее по лицу.
– Не смей этого делать! – закричала я. Махтаб вскрикнула от боли и неожиданности, но ей удалось вырваться. Она подбежала ко мне и еще крепче уцепилась за полу моего пальто. Я пыталась заслонить ее своим телом, но Муди был сильнее нас. Очередные удары достигали маленькой подвижной цели, ее спины и плеч. С каждым ударом Махтаб кричала еще громче.
Я схватила Махтаб за плечо, пытаясь оттянуть ее, но одним движением левой руки Муди толкнул ее так, что она ударилась о стену. Ханум Шахин с учительницами поспешили на защиту ребенка.
Ярость Муди тотчас же обрушилась на меня. Его правый кулак достиг моей головы. Я зашаталась и отпрянула назад.
– Я убью тебя! – рычал он по-английски, с ненавистью глядя на меня. Потом, вызывающе посмотрев в сторону учительниц, схватил меня за локоть и обратился к ханум Шахин.
– Я убью ее, – медленно повторял он с бешенством в голосе.
Он потащил меня за плечо. Я не оказывала сопротивления: я была оглушена ударом по голове и у меня не было сил вырваться из его клещей. Где-то в глубине моего испуганного сознания теплилось удовлетворение, что он обратил свой гнев против меня. Я покорно пойду с ним, только бы он очутился подальше от Махтаб.
Неожиданно Махтаб вырвалась из рук удерживающих ее учительниц и прибежала мне на помощь, таща меня за пальто.
– Не бойся, Махтаб, – всхлипывала я. – Я вернусь… Оставь нас.
Ханум Шахин подошла и обняла Махтаб за плечи. Остальные учительницы встали по сторонам, чтобы мы с Муди могли выйти. Все эти женщины были совершенно бессильны перед одним агрессивным мужчиной. Крики Махтаб стали еще громче и отчаяннее, когда Муди выволок меня из класса через коридор на улицу. Я была ошеломлена болью и страхом перед тем, что будет со мной сейчас. Действительно ли убьет он меня? Если я уйду из жизни, то что он сделает с Махтаб? Увижу ли я еще когда-нибудь свою девочку?
На улице он остановил такси и рявкнул водителю:
– Прямо!
Муди открыл заднюю дверь и грубо втолкнул меня внутрь. Там уже сидели четверо или пятеро человек. Муди плюхнулся на переднее сиденье.
Когда такси тронулось, Муди, не обращая внимания на присутствие других пассажиров, повернулся ко мне и стал кричать:
– Ты подлая! Но с меня уже хватит, я сыт тобой по горло! Я убью тебя! Сегодня же убью!
Он не переставая изрыгал проклятия. Но в такси я почувствовала себя относительно безопасно, и меня охватил гнев, такой сильный, что перед ним отступили страх и слезы.
– Да? – спросила я с сарказмом. – Тогда скажи, как ты собираешься это сделать.
– Возьму большой нож и порежу тебя на куски. Пошлю твоим родителям нос и ухо. Они никогда больше не увидят тебя! Вместе с твоим гробом я вышлю пепел сожженного американского флага.
Я оцепенела от ужаса. Зачем я его спровоцировала? Он действительно обезумел, и неизвестно, что он может сделать. Угрозы звучали вполне реально. Я не сомневалась, что он способен совершить то страшное, что так детально описал.
Он что-то продолжал бессвязно говорить, кричал, визжал, заикался. У меня уже не хватало смелости вступать с ним в пререкания. Я могла лишь лелеять слабую надежду, что он все-таки разрядит свой гнев словами, а не действиями.
Такси двигалось в сторону клиники, где работал Муди. Он успокоился.
Когда машина остановилась в образовавшейся пробке, Муди повернулся ко мне и скомандовал:
– Выходи!
– Я не выйду.
– Я сказал выходи! – заорал он, затем повернулся и открыл дверь. Второй рукой он вытолкнул меня. Я осталась на улице. К моему удивлению, Муди сидел в машине. Пока я сообразила, что происходит, дверь захлопнулась, и машина уехала, увозя Муди.
Окруженная толпой спешащих людей, занятых своими делами, я почувствовала себя покинутой и одинокой, как никогда ранее. Прежде всего я подумала о Махтаб. Может быть, Муди отправился в школу, чтобы забрать Махтаб, избить и спрятать от меня? Нет, он поехал в клинику.
Я знала, что в полдень он вернется за Махтаб, но сейчас у меня есть несколько часов.
Найти телефон! Позвонить Хелен! Позвонить в полицию! Позвонить кому-нибудь, кто мог бы положить конец этому кошмару!
Я нигде не могла найти телефон и какое-то время тащилась как обезумевшая по улице. И вдруг я сообразила, где нахожусь, – совсем близко от дома Элен. Я помчалась бегом, проклиная длинное пальто, которое сковывало мои движения. Я молила Бога, чтобы Элен и Хормоз были дома. Если мне не удастся связаться с посольством, я должна буду довериться Элен и Хормозу. Должна же кому-то я довериться!
Уже возле дома Элен я вспомнила о ближайшем магазинчике с телефоном. Может быть, мне удастся позвонить оттуда? Миновав дом Элен, я старалась прийти в себя, чтобы не вызвать подозрений. Я заставила себя войти в магазин спокойно и сказала хозяину, что я подруга Элен и что мне бы хотелось позвонить. Он разрешил.
Уже через минуту я разговаривала с Хелен, и все мое самообладание рухнуло.
– Помогите мне, вы должны мне помочь, – говорила я, всхлипывая.
– Успокойтесь, пожалуйста. Что случилось? Я рассказала о происшедшем.
– Он вас не убьет, – заверила Хелен. – Он уже и раньше грозился.
– Нет. Он собирается сделать это сегодня. Вы должны прийти ко мне. Прошу вас…
– Вы можете прийти в посольство?
Я задумалась. Я бы не успела добраться до посольства и вернуться оттуда в школу за Махтаб к двенадцати часам, а мне нужно было там быть, несмотря на огромный риск. Мне необходимо было спасти ребенка.
– Нет, – ответила я, – я не могу.
Я знала, что ежедневно Хелен осаждают многочисленные посетители, иностранцы, которые оказались в Иране каждый со своей грустной и отчаянной историей. Она очень дорожила временем и почти не имела возможности выйти. Но я так нуждалась в ней сейчас!
– Вы должны прийти!
– Хорошо, но куда?
– В школу Махтаб.
– Хорошо.
Я побежала обратно в сторону главной улицы, где можно было поймать такси. Слезы струились по моему лицу, на бегу я расталкивала прохожих. Я пробегала мимо дома Элен, когда Хормоз выглянул в открытое окно второго этажа.
– Бетти! – крикнул он. – Куда ты бежишь?
– Никуда. Все в порядке. Оставь меня! Хормоз почувствовал тревогу в моем голосе. Он выбежал из дому и догнал меня. Через минуту мы уже стояли на перекрестке.
– Что случилось? – спросил он.
– Оставь меня! – ответила я, всхлипывая.
– Нет, мы не оставим тебя одну. В чем дело?
– Ни в чем. Я должна идти.
– Зайди к нам.
– Не могу. Мне нужно быть в школе Махтаб.
– Зайди, – повторил он мягко. – Скажи, пожалуйста, что случилось. Потом мы отвезем тебя в школу.
– Нет. Я звонила уже в посольство. Меня будут ждать возле школы.
Хормоз почувствовал себя уязвленным. Затронули его национальное достоинство.
– Зачем ты звонила в посольство? Это не их дело. Пусть не вмешиваются. Они ничем не помогут тебе.
В ответ я лишь разрыдалась.
– Ты делаешь большую ошибку. У тебя действительно будут проблемы с Муди из-за этого звонка в посольство.
– Я ухожу.
Хормоз понял, что не переубедит меня.
– Хорошо, – согласился он, – мы с Элен отвезем тебя.
– Спасибо, только быстро!
В школе было смятение. Ханум Шахин сообщила, что Махтаб в классе. Она подавлена, но спокойна. Директриса посоветовала мне сейчас не тревожить ее. Элен и Хормоз долго разговаривали с ханум Шахин, выясняя подробности происшедшего. Хормоз выглядел огорченным и обеспокоенным. Он чувствовал себя неловко, слушая о Муди и видя мои страдания. Он думал, как бы уладить этот конфликт, не создавая новых осложнений.
Спустя какое-то время Азар подошла ко мне и сказала:
– Кто-то ждет вас на улице.
– Кто? – подозрительно спросила ханум Шахин.
Хормоз что-то сказал ей по-персидски, и ее лицо нахмурилось. Она не хотела, чтобы в этот конфликт вмешивались представители швейцарского посольства. Но я проигнорировала гневный взгляд директрисы.
Хелен и господин Винкоп ждали возле школы. Они подвели меня к машине, которая не была похожа на посольскую, и посадили на заднее сиденье. Там я рассказала им всю историю.
– Мы увезем вас в полицию, – предложил господин Винкоп.
В полицию! Я уже не раз задумывалась над этой возможностью, но всегда отбрасывала ее. Полицейские были иранцами, исполнителями иранских законов. По иранским законам Муди был хозяином семьи. Они могли мне как-то помочь, но я боялась окончательного решения. Меня могли выслать, заставить покинуть страну без дочери. Махтаб осталась бы навсегда в этой безумной стране у психически больного отца. И все же в данный момент полиция казалась мне единственным спасением. Вспоминая события этого раннего утра, я была уверена, что Муди реализовал бы свои угрозы. Я боялась за Махтаб еще больше, чем за себя.
– Хорошо, – согласилась я, – поедем в полицию, но прежде я должна взять дочь.
В школе я объявила, что забираю Махтаб.
Ханум Шахин пришла в негодование. На протяжении нескольких месяцев, а особенно сегодня утром она была явно на моей стороне в конфликте с мужем. Но сейчас я совершила непростительный грех, приведя сюда сотрудников посольства США. Официально они были из швейцарского посольства, но представляли интересы Америки. Задачей ханум Шахин было «думать против Америки» и вбивать эту антиамериканскую чушь другим. Не даром она занимала свою должность.
– Мы не можем отдать ее. Это мусульманская школа, и мы должны придерживаться мусульманского закона, а в соответствии с ним ребенок принадлежит отцу.
– Вы должны! – крикнула я. – Он сделает с ней что-нибудь ужасное.
Ханум Шахин нахмурилась еще больше.
– Нет. Вам не следовало приглашать сюда людей из посольства.
– Хорошо, а вы поедете с Махтаб и со мной в полицию? Кто-нибудь из школы поедет с нами в полицию?
– Нет. Мы ничего не знаем.
– Но ведь он же говорил в вашем присутствии, что убьет меня!
– Мы ничего не знаем, – упрямо повторяла директриса.
Я обратилась к ханум Матави:
– А вы? Вы слышали, что он говорил?
– Да, слышала.
– Вы поедете со мной в полицию?
Матави быстро взглянула на ханум Шахин, которая подняла голову и щелкнула языком: нет.
– Во время уроков не могу, – ответила ханум Матави, – но после школы я поеду с вами в полицию и подтвержу, что он грозил вас убить.
Разочарованная в людях, от которых я ждала поддержки, ошеломленная страхом, возненавидевшая мусульманский закон, отнимающий у меня мою собственную дочь, я вернулась в машину.
– Они не отдадут мне Махтаб, – плакала я. – Я не хочу идти в полицию.
– Что вы собираетесь делать? – спросила Хелен.
– Не знаю.
Слова «полиция» и «мусульманский закон» не выходили у меня из головы. Если мусульманское право имеет такую власть над ханум Шахин, могла ли я надеяться на понимание со стороны полиции?
Там будут мужчины. Я уже не сомневалась, что появление в полиции означало для меня утрату Махтаб навсегда. Я не могла пойти на это, даже если мне угрожала смерть. Можно ли было рассчитывать, что Муди успокоится, что он не осуществит свои угрозы и что я доживу до завтрашнего дня? Был ли у меня какой-нибудь выбор?
Хелен и господин Винкоп пытались успокоить меня, помочь мне обдумать ситуацию. Они поняли, что я боюсь идти в полицию. Это было ясно. Они беспокоились также о моей безопасности и о судьбе невинной пятилетней девочки, втянутой в это безумие.
Я рассказала им о госпоже Алави и ее брате, который переправит нас с Махтаб в Пакистан.
– Вы сошли с ума, – спокойно произнесла Хелен. – Прошу вас, пойдемте в полицию. Нужно покинуть страну с их помощью, а Махтаб пусть остается здесь.
– Никогда! – решительно возразила я, еще раз пораженная бесчувственностью Хелен. Она вовсе не хотела причинить мне боль, но я помнила, что она иранка, несмотря на армянское происхождение. Эта женщина не в состоянии была понять моих чувств, чувств матери.
– Вы не пойдете в полицию? – спросил господин Винкоп.
– Нет. Если я сделаю это, то никогда больше не увижу Махтаб.
Сотрудник посольства глубоко вздохнул.
– Ну хорошо, – сказал он. – Мы сейчас не можем больше ничего сделать для вас. Может быть, нам поговорить с вашими приятелями?
Я позвала Элен и Хормоза.
– Вы можете ей помочь? – спросил господин Винкоп.
– Да, – ответил Хормоз, – мы не оставим ее одну. Будем с ней, пока не приедет Муди. Заберем Бетти и Махтаб к себе домой и обеспечим им безопасность.
Все уже понемногу успокаивались. Элен и Хормоз действительно хотели помочь. Хелен и господин Винкоп дали мне свои домашние телефоны, чтобы я тотчас же позвонила, если возникнут какие-нибудь проблемы. Затем они уехали.
Вместе с Элен и Хормозом я возле школы в их машине ждала возвращения Муди. Вдруг Хормоз сказал:
– Хотя это наша мусульманская обязанность, мы решили ничего не говорить сейчас Муди. Но ты должна пообещать, что все уладишь и не будешь снова обращаться в полицию.
– Спасибо, – прошептала я, – обещаю остаться в Иране, если смогу быть с Махтаб.
Я поклялась, что не попытаюсь больше бежать. Я поклялась бы даже на Коране.
Около двенадцати возле школы остановилось такси, из которого вышел Муди. Он сразу же заметил нас в машине Хормоза.
– Зачем ты их втянула в эту историю? – заорал он на меня.
– Она ничего не делала, – вмешался Хормоз, – и не хотела, чтобы мы приезжали, но мы сами настояли.
– Это неправда! Она ходила за вами! Она вмешивает вас в наши дела!
Хормоз вел себя с Муди не так, как Маммаль и Реза, которые не осмеливались противоречить «дорогому дяде». Молодой и сильный, он знал, что в любом случае справится с Муди, и не боялся его. Муди тоже чувствовал это.
Хормоз принял разумное решение.
– Давайте заберем Махтаб, поедем к нам и обсудим все это, – предложил он.
Вторую половину дня мы провели у них дома. Махтаб свернулась калачиком у меня на коленях, прильнула ко мне и с ужасом слушала тирады Муди. Он рассказывал Элен и Хормозу, какая я плохая жена, что ему давно нужно было разойтись со мной.
– Я прихожу в ужас, когда смотрю на него, – буркнула я в ответ. – Он хочет остаться в Иране, потому что он плохой врач.
Я вовсе не думала так. Муди был компетентным и даже известным врачом, но мне хотелось хоть как-то ему отомстить.
– Он такой ничтожный врач, что его вышвырнули из клиники в Альпене, – сказала я. – У него был один судебный процесс за другим, одна ошибка за другой.
Мы обменивались ядовитыми оскорблениями до тех пор, пока Хормоз и Муди не ушли под предлогом купить сигареты для Элен.
Элен воспользовалась ситуацией, чтобы дать мне совет.
– Не раздражай его, – сказала она. – Не говори о нем ничего плохого. Пусть он говорит о тебе, что только ему захочется, а сама молчи.
– Но ведь он рассказывает обо мне совершенно неправдоподобные вещи.
– Иранские мужчины звереют, если о них говорят плохо, – предупредила Элен.
Когда мужчины вернулись, Муди снова взялся за свое. Я презирала себя, но на этот раз слушала молча. Я покорно сидела, позволяя Муди разрядить бешеную ярость.
Подействовало. Постепенно Муди успокаивался, а какое-то время спустя Хормоз попытался дипломатически смягчить наши отношения. Он хотел, чтобы мы помирились. Он знал, что смешанные браки могут быть и благополучными. Во всяком случае, он был счастлив. Элен тоже. Так, по крайней мере, он думал.
– Ну, хорошо, пойдем домой, – сказал наконец Муди.
– Нет, – возразил Хормоз, – останьтесь здесь, пока все уладится.
– Мы возвращаемся к себе, – буркнул Муди. К моему удивлению, Хормоз согласился.
– Вы не можете отпустить меня с ним, – умоляла я, – вы же обещали… – Я чуть было не прикусила свой язык, чтобы не вырвались слова «людям из посольства».
– Он не обидит тебя, – успокоил Хормоз, глядя Муди прямо в глаза.
Махтаб вся напряглась в моих объятиях. Неужели они оставят нас на милость этого сумасшедшего, который поклялся еще сегодня убить меня?
– Пошли! – снова буркнул Муди.
Когда мы собирались уходить, мне удалось на минуту задержаться с Элен.
– Умоляю вас, проверяйте, что с нами, – плакала я. – Я уверена, что-то произойдет.
Мы вышли из такси возле овощного магазина. Несмотря на страшные события этого дня, Махтаб увидела в магазине редкое лакомство.
– Клубничка! – воскликнула она.
Я не знала, что в Иране есть клубника. Это были мои любимые ягоды.
– Папа, давай купим клубнику! – попросила Махтаб. – Пожалуйста…
Муди снова пришел в ярость.
– Обойдешься без клубники. Махтаб расплакалась.
– Домой! – заорал Муди в бешенстве. Сколько бессонных ночей провела я в этом мрачном окружении! И вот еще одна, еще хуже и тягостнее прежних!
Весь вечер Муди не обращал на меня никакого внимания, перешептываясь с Маммалем и Насерин. Когда далеко за полночь он пришел в спальню, я притворилась спящей.
Он сразу же уснул, а я не могла сомкнуть глаз, и с каждой минутой мой страх все усиливался. Мне не от кого было ждать помощи. Я не могла надеяться на защиту Маммаля или Резы. Ужас не давал мне уснуть: я боялась, что мой муж проснется и придет ко мне с ножом или куском шнурка, а то и просто задушит меня голыми руками. Может быть, попытается умертвить меня каким-нибудь уколом.
Ночь тянулась бесконечно долго. Мой слух чутко улавливал любой звук. Нежно прижимая к себе дочь, я беспрестанно молилась, в ожидании своего последнего часа.
Прошла целая вечность, прежде чем раздался призыв к молитве. Спустя несколько минут я услышала, как Муди вместе с Маммлем и Насерин молятся в холле. Махтаб стала собираться в школу, дрожа от страха, жалуясь на боль в животе, то и дело бегая в туалет.
Сейчас я уже была совершенно уверена, каким будет следующий шаг Муди. Это нетрудно было прочесть по его глазам и понять по его голосу, когда, подгоняя Махтаб, он сказал мне:
– Сегодня я один отвезу ее в школу. Ты останешься здесь.
Последние восемь месяцев мы были неразлучными союзницами. Вместе мы еще могли оказать сопротивление, но по отдельности – наверняка погибнем.
– Ты должна пойти с папой, – мягко, сквозь слезы сказала я Махтаб, когда утром мы остались одни в ванной. – Ты должна хорошо себя вести с папой, даже если он тебя заберет от меня и не приведет обратно. Не говори никогда и никому, что мы были в посольстве. Не рассказывай, что пытались убежать. Даже если тебя будут бить, ничего не говори. Пусть это будет нашей тайной.
– Я не хочу, чтобы он забирал меня от тебя, – плакала Махтаб.
– Знаю. Но если он заберет тебя, не волнуйся и помни, что ты не одна. Помни, что Бог всегда с тобой, какой бы одинокой ты себя ни чувствовала. Если тебе станет страшно, помолись. И знай, что я без тебя никогда не уеду. Никогда. Когда-нибудь мы с тобой обязательно выберемся отсюда.
Махтаб все еще была не готова идти в школу. Время шло. Муди, одетый в темно-голубой костюм в узкую полоску, явно нервничал: он может опоздать в клинику. Весь его вид говорил, что он уже на грани взрыва. В тот момент, когда Муди собирался выходить, девочка снова побежала в туалет. Муди бросился за ней и потащил ее к двери.
– Она больна, – крикнула я, – ты не можешь с ней так обращаться.
– Вот как раз и могу, – буркнул он.
– Позволь мне пойти с вами.
– Нет!
Он толкнул Махтаб так, что она закричала.
Я снова забыла о своей собственной безопасности, бросившись на Муди, готовая отчаянно защищать Махтаб от любого угрожающего ей удара. Я молниеносно схватила его за плечо, раздирая ногтями пиджак.
Муди оттолкнул Махтаб, схватил меня и, бросив на пол, начал бить. Он сжал мою голову ладонями и бил ею об пол.
Махтаб с криком побежала на кухню, ища Насерин. Муди на минуту повернулся, посмотрев ей вслед, а я воспользовалась этим моментом и вцепилась в его лицо ногтями. Какое-то время мы боролись на полу, пока он не одержал надо мною победу, ударив меня кулаком в висок.
На кухне никого не было, и Махтаб побежала в спальню Маммаля и Насерин.
– Помогите! Помогите! – звала я на помощь. Махтаб дергала дверь спальни, но она была заперта. Ни единого звука изнутри, никакой помощи.
Чувствуя в себе накопившиеся за восемь месяцев презрение и злобу, я поразила Муди силой сопротивления. Бросаясь на него, кусая, целясь ногтями в его глаза, пытаясь ударить в пах, я отвлекла его внимание от ребенка.
– Беги вниз, к Эссей! – крикнула я дочери. Махтаб, которая боялась за мою жизнь так же, как и за свою, не хотела оставлять меня одну наедине с обезумевшим отцом. Заливаясь слезами и крича, она в порыве беспомощности и отчаяния била его маленькими кулачками по спине, стараясь оторвать от меня. Он с силой ударил ее и отбросил в сторону.
– Беги к Эссей! – крикнула я еще раз. Отчаявшийся ребенок исчез наконец за дверью, а мы с Муди продолжали нашу борьбу не на жизнь, а на смерть.
Он укусил меня за плечо до крови. Я вскрикнула, вырвалась из его рук и ударила в бок. Но это лишь рассмешило его. Он снова ударил меня. Я упала на спину и почувствовала пронизывающую боль вдоль всего тела.
А Муди стоял надо мной, изрыгая проклятия, и бил, бил ногами, потом схватил меня за волосы и потащил по полу. Несколько прядей так и осталось у него в руках.
Он остановился, чтобы перевести дыхание. Я лежала на полу, задыхаясь от боли и слез, не в состоянии даже пошевелиться.
Вдруг он выбежал из комнаты. Тяжелая деревянная дверь громко хлопнула, а потом я услышала, как два раза повернулся ключ в замке. Муди помчался вниз. Спустя минуту до меня донесся отчаянный крик Махтаб. Затем наступила тишина.
Прошло немало времени, пока мне удалось сесть, еще больше – пока я встала. Тревога за Махтаб была сильнее моих физических страданий. И хотя при каждом движении меня пронизывала боль, я добралась до двери, через которую мне удалось расслышать, как Муди жаловался на меня Эссей, клялся убить меня. Эссей отвечала мягко и вежливо. Махтаб не было слышно.
Это продолжалось достаточно долго. Я еле сдерживала крик: страшно болела спина. Однако сейчас я не могла думать о себе. Разговор внизу постепенно затихал, и до меня уже не долетали даже отдельные персидские слова. Потом вдруг раздался голос Махтаб. Она снова кричала.
Я слышала этот крик, который доносился из квартиры Эссей в холл, а потом с улицы. Железная калитка захлопнулась глухо, как тюремные ворота.
Плечом я выбила дверь и ринулась к Маммалю и Насерин. В комнате никого не было. Я подошла к окну, выходящему на фасад дома. Я увидела Муди. Рукав его костюма, видимо, зашила Эссей. Она тоже была внизу. Муди крепко держал за руку вырывающуюся Махтаб, а свободной рукой раскладывал коляску Амира. Затем он посадил Махтаб в коляску и привязал за руки и за ноги.
В моей голове пронеслась ужасная мысль, что я уже никогда не увижу свою дочку. Я была уверена в этом. Я бросилась в нашу спальню, выхватила из шкафа фотоаппарат Муди и, вернувшись к окну, успела сделать снимок обоих, удалявшихся в сторону улицы Шариата. Махтаб кричала, но Муди был глух и нем.
Глазами полными слез я следила за ними, пока они не исчезли из виду. «Никогда больше я не увижу тебя, девочка моя», – повторила я про себя.
– Ты хорошо себя чувствуешь?
К этому времени дверь кто-то снова закрыл, поэтому Эссей обращалась ко мне через вентиляцию в ванной. Она слышала мой плач, когда я смывала кровь.
– Да, – ответила я, – но я бы хотела с тобой поговорить.
Так невозможно было разговаривать, потому что пришлось бы кричать.
– Выйди на задний двор.
Я потащила свое измученное тело на балкон и увидела Эссей.
– Почему ты впустила Муди? – резко спросила я сквозь слезы. – Почему ты не защитила Махтаб?
– Они оба появились одновременно, – объяснила Эссей. – Махтаб спряталась под лестницей. Он нашел ее и внес в комнату.
Бедная Махтаб!
– Ты должна мне помочь, я тебя очень прошу, – обратилась я к Эссей. – Ведь Реза ушел на работу.
Я видела в глазах Эссей искреннее сострадание. Это ощущалось и в ее поведении. Но вместе с этим она была настоящей иранской женщиной.
– Мне действительно очень жаль, но мы ничего не можем сделать.
– Что с Махтаб? Где она?
– Я не знаю, куда он забрал ее.
В этот момент Мехди, малыш Эссей, расплакался.
– Мне нужно идти в дом, – сказала Эссей.
Я тоже вернулась в комнату. «Нужно позвонить в посольство», – подумала я. Почему я еще не позвонила туда? Если не застану Хелен или господина Винкопа на работе, у меня есть их домашние телефоны. Но как выбраться из комнаты?
Как загнанный в клетку зверь, я металась из угла в угол. Конкретного плана у меня не было. Я снова вышла на балкон и осмотрелась, но возможность прыгнуть вниз исключила, потому что тогда оказалась бы на заднем дворе Резы и Эссей, окруженном высокой стеной.
С одной стороны балкона находился узкий выступ шириной лишь в несколько сантиметров. Через окно нашей спальни я могла бы выйти и пройти по этому выступу на крышу соседнего двухэтажного дома, хотя это был бы рискованный шаг. Но что дальше? Будут ли открыты балконные двери в том доме? Будет ли кто-нибудь в нем? Поможет ли мне соседка? А вдруг она позвонит в полицию? А если я даже выберусь на свободу, то что будет с Махтаб?
Голова раскалывалась от боли.
И тут я вспомнила о внутреннем окне в ванной комнате. О нем Муди забыл. Закрытое занавеской, оно было почти незаметно.
Окно оказалось открытым, достаточно было только толкнуть. Я выглянула. Можно было бы проскользнуть через окно и выйти на лестничную площадку, но я не сумела бы справиться с тяжелой железной калиткой, которая всегда была закрыта. Я обратила внимание на ступеньки, ведущие с лестничной площадки вверх на крышу недалеко от комнат Маммаля и Насерин. Можно добраться туда и перебежать на крышу прилегающего дома. Но что дальше? Осмелилась ли бы какая-нибудь из соседок впустить в дом американскую беглянку и позволить ей выйти на улицу? Даже если бы это произошло, я бы осталась без Махтаб.
Слезы бессилия ручьями текли по моим щекам. Я чувствовала, что моя жизнь закончена, что Муди каждую минуту может убить меня и у него есть неистребимое желание сделать это. Я понимала, что нужно позаботиться о других. Достав свою записную книжку, я перелистала ее, поспешно стирая номера телефонов, хотя большинство из них были зашифрованы. Мне не хотелось подвергать опасности людей, сделавших хоть самое маленькое усилие, чтобы помочь мне. И я сожгла все листки.
Измученная событиями этих страшных нескольких дней, я опустилась на пол и не знаю, как долго, лежала в отупении. Может быть, и уснула.
Очнулась только услышав, как в замке повернулся ключ. Вошла Эссей. Она принесла поднос с едой.
– Съешь что-нибудь, – предложила она.
Я взяла поднос, поблагодарила и попыталась завязать разговор, но Эссей была очень напугана и быстро повернулась к двери.
– Извини, – тихо произнесла она и сразу же вышла. И опять в замке повернулся ключ. Он откликнулся эхом в моей больной голове. К еде я не прикоснулась.
Прошло много мучительных часов, пока возвратился Муди. Он был один.
– Где Махтаб?! – крикнула я.
– Тебе это не нужно знать, – резко ответил он. – Не беспокойся о ней. Сейчас я займусь ею.
Он прошел мимо. На какое-то мгновение я почувствовала удовлетворение, увидев на его лице следы моих ногтей. Но это чувство быстро исчезло, когда я подумала о своих собственных, значительно более серьезных проблемах. Где мой ребенок?..
Через пару минут Муди вернулся. В руках он держал несколько платьиц Махтаб и куклу, которую мы подарили ей в день рождения.
– Она попросила куклу, – объяснил он.
– Где она? Позволь мне увидеть ее!
Не произнеся больше ни слова, он оттолкнул меня и вышел, снова заперев меня.
Во второй половине дня, когда я лежала в постели, извиваясь от разрывающей спину боли, послышался щелчок домофона. Кто-то стоял на тротуаре перед домом. Я подбежала и подняла трубку. Это была Элен.
– Меня закрыли, – объяснила я. – Подожди, я подойду к окну. Мы сможем поговорить.
Я прижалась головой к решетке. Элен с детьми стояла на тротуаре.
– Я пришла посмотреть, что у вас тут происходит, – сказала она и добавила: – Али хочет пить.
– Я не могу дать тебе попить, – объяснила я Али, – меня закрыли на замок.
Эссей, разумеется, все слышала и через минуту вышла к ним, неся стакан воды для малыша.
– Что мы можем сделать? – спросила Элен. Эссей тоже хотела бы знать ответ на этот вопрос.
– Иди к Хормозу, – предложила я, – попытайтесь поговорить с Муди.
Элен согласилась и поторопила детей. Весенний ветер развевал ее черную чадру.
В тот же день я поговорила с Резой. Он стоял во дворе, а я на балконе. Я знала, что у Эссей есть ключ, но Реза не хотел подниматься к нам наверх.
– Реза! – сказала я. – Я тебе действительно благодарна, что ты был доброжелательным ко мне с тех пор, как я приехала в Иран. Ты был добросердечнее, чем кто-либо другой, несмотря на то, что произошло между нами в Штатах.
– Спасибо. Ты хорошо себя чувствуешь?
– Помоги мне, прошу тебя. Ты единственный человек, кто мог бы поговорить с Муди. Увижу ли я когда-нибудь еще Махтаб?
– Не беспокойся, увидишь ее. Он не будет прятать ее от тебя. Он любит тебя и Махтаб.
– Прошу тебя, поговори с ним, – умоляла я.
– Я не могу с ним разговаривать. Если он что-нибудь решил, то его невозможно переубедить.
– Прошу тебя, Реза, попытайся.
– Нет, не могу. Завтра я еду в Решт по служебным делам. Если через несколько дней, когда я вернусь, ничего не изменится, тогда, может быть, я поговорю с ним.
– Пожалуйста, не уезжай. Я боюсь оставаться одна.
– Но я должен ехать. Вечером Эссей открыла дверь.
– Пойдем вниз, – сказала она.
Я застала там Резу, Элен и Хормоза. Мариам и Али играли с детьми Резы и Эссей, а мы искали какой-нибудь выход из создавшейся ситуации. Когда-то все они оправдывали Муди и были на его стороне. Еще недавно согласно традициям они должны были уважать право Муди руководить семьей. Но в то же время они были моими приятелями и любили Махтаб. Даже живя в этой мрачной Исламской Республике, они понимали, что Муди в этот раз зашел далеко.
Никто не хотел обращаться в полицию, а я меньше всех. В присутствии Резы и Эссей я не могла говорить с Элен и Хормозом о посольстве. К тому же я знала, что они все равно не согласились бы на связь с американскими или швейцарскими дипломатами.
Чем они могли мне помочь? Никто ничего не мог сделать, кроме как попытаться поговорить с Муди, но все понимали, что это бесполезно.
Я старалась погасить нараставшую во мне ярость. Мне хотелось кричать: «Избейте его! Закройте на ключ! Отправьте меня с Махтаб в Америку!» Хотелось не просить, а требовать у собравшихся здесь людей немедленного решения этой страшной проблемы. Но я должна была принимать во внимание действительность, в которой они живут. Мне нужно было найти какое-нибудь нейтральное решение, на которое они могли бы согласиться. Казалось, что такого просто нет.
Во время нашего разговора мы услышали, как открылась и закрылась калитка. На пороге появился Муди.
– Как ты вышла? – спросил мой муж. – И почему ты здесь?
– У Эссей есть ключ, и она привела меня сюда.
– Отдай его мне! – рявкнул Муди. Эссей послушно выполнила приказание.
– Все в порядке, да'иджан, – спокойно сказал Реза, пытаясь смягчить гнев Муди.
– Что они здесь делают?! – заорал Муди, указывая в сторону Элен и Хормоза.
– Пытаются помочь, – объяснила я. – У нас серьезные проблемы. Нам нужна помощь.
– У меня нет проблем! Это у тебя проблемы. Муди обратился к Элен и Хормозу:
– Убирайтесь отсюда и оставьте нас в покое. Это не ваше дело.
К моему удивлению, Элен и Хормоз встали, готовые уйти.
– Прошу вас, не уходите. Я боюсь. Он убьет меня, и никто даже не узнает об этом. Не уходите, не оставляйте меня одну, – умоляла я.
– Мы должны идти, – ответил Хормоз. – Он сказал, чтобы мы ушли. Это его решение.
Через минуту они вышли. Муди поволок меня наверх.
– Где Маммаль и Насерин? – спросила я с беспокойством.
– Они не выдержали твоего дикого поведения и переехали к родителям Насерин. Они вынуждены были съехать из собственного дома, – голос Муди зазвенел: – Это не их дело. Никто не должен вмешиваться. Сейчас я займусь всем.
Мы остались одни в квартире, лежали в одной постели, отодвинувшись друг от друга как можно дальше. Муди спал, а я переворачивалась с боку на бок, тщетно пытаясь найти удобное положение. Я беспокоилась о Махтаб, мысленно с ней разговаривала, беспрестанно молилась.
Утром Муди собрался на работу. Выходя, он забрал кролика Махтаб.
– Она просила, – сказал он и закрыл дверь.
А я еще долго лежала в постели, плача и взывая: «Махтаб! Махтаб!». Мое тело превратилось в одну большую рану. Самую мучительную боль я ощущала в области крестца.
Вдруг я услышала знакомый звук со двора за домом. Так скрипела ржавая цепь на металлической балке, на которой висели качели Мариам. Это было любимое место Махтаб. Я с трудом встала и медленно пошла на балкон.
Я увидела Мариам, дочь Эссей, наслаждающуюся теплом апрельского утра. Она заметила, что я смотрю на нее, и спросила невинным детским голоском:
– А где Махтаб?
Я не смогла ответить: я задыхалась от слез.
Только по известным мне одной причинам я привезла Махтаб в Иран. Я понимала, что мне нужно собраться, взять себя в руки. Неужели Муди удастся меня сломить?
Что Муди сделал с Махтаб? Этот самый важный и тревожный вопрос не давал мне ни минуты покоя. Но, думая об этом, я со страхом спрашивала себя еще и о другом: как он мог поступить с ней так? Муди, которого я знала сейчас, был не тем человеком, за которого я вышла замуж.
Что произошло? Ведь я могла предвидеть все это. На протяжении восьми лет нашей совместной жизни я замечала усиливающуюся депрессию моего мужа. Я связывала ее с профессиональными проблемами.
Почему я не придала этому значение и не предотвратила несчастья? Я чувствовала себя раздавленной, сознавая, какими запоздалыми являются мои теперешние раздумья.
Восемь лет назад, когда контракт Муди в клинике Детройта приближался к концу, мы оказались перед трудной проблемой. Необходимо было решить, будем ли мы жить вместе или наши дороги разойдутся. Мы вместе обсуждали приглашение на работу в клинику Корпус Кристи, где требовался анестезиолог. Реальные доходы составляли около ста пятидесяти тысяч долларов в год, что вызывало у нас головокружение.
Одна часть моей души противилась тому, чтобы покинуть родителей в Мичигане, но вторая готова была начать новую, счастливую жизнь. Я знала, что у нас будет не только достаток, но и высокое общественное положение.
Джо, а особенно шестилетний Джон радовались по поводу переезда.
Джон перед нашей свадьбой сказал мне:
– Мамочка, я не знаю, нужно ли мне жить с Муди.
– Почему? – спросила я.
– Он дает мне столько конфет! Я боюсь, что у меня испортятся зубы.
Серьезность его тона рассмешила меня. Муди ассоциировался у Джона со сладостями и всякими приятными вещами.
Конечно, главным аргументом, выступающим в пользу брака, была наша любовь. Мне уже трудно было даже представить себе, что я смогу расстаться с ним, отправить его в Корпус Кристи и вести обычную и, как теперь мне казалось, тоскливую жизнь в промышленном центре Мичигана.
Таким образом, шестого июня 1977 года мы тихо обвенчались в мечети Хьюстона. После произнесения нескольких простых слов по-персидски и по-английски я почувствовала себя так, точно удостоилась огромной чести, как будто стала коронованной особой.
Муди засыпал меня цветами и подарками. В ежедневной почте я находила разрисованные им открытки или записки с объяснениями в любви – слова, вырезанные из газет и наклеенные на листок бумаги. Особенно ему нравилось говорить о любви ко мне в присутствии наших приятелей. Однажды за ужином он преподнес мне огромную, сверкающую золотом и лазурью медаль, на которой было написано: «Самая замечательная жена в мире». Мой арсенал коробок-шкатулок непомерно вырос. Он часто дарил мне книги, делая на них надписи, полные самых нежных чувств. Почти каждый день он чем-нибудь доказывал мне свою любовь.
Вскоре мы убедились в том, как разумно поступил Муди, став анестезиологом. Анестезиология принадлежит к наиболее выгодным областям медицины. Муди осуществлял главным образом надзор над коллективом дипломированных терапевтов и медсестер, специализирующихся в методах обезболивания, что давало ему возможность одновременно принимать трех-четырех пациентов и выставлять им довольно большие счета. Распорядок дня не был слишком напряженным. Муди нужно было быть в клинике ранним утром, чтобы ассистировать на операциях, но часто уже к полудню он возвращался домой. У него не было регламентированного рабочего времени, а дежурство в экстренных случаях он делил со вторым анестезиологом.
Воспитанный в состоятельной иранской семье, Муди легко вошел в роль пользующегося успехом американского врача. Мы купили большой красивый дом в престижном районе Корпус Кристи. Нашими соседями были врачи, юристы и другие представители интеллигенции.
Муди нанял служанку, чтобы освободить меня от наиболее прозаических домашних дел, что позволило мне наконец воспользоваться моей профессиональной подготовкой.
Моя жизнь была заполнена приносящей удовлетворение работой. Я занималась счетами пациентов, вела бухгалтерию лечебной практики Муди. К этому прибавлялись ведение домашнего хозяйства и приятные хлопоты о семье. Поскольку служанка выполняла всю черновую работу, я могла сконцентрироваться на ведении дома и кухни, что доставляло мне немало радости.
Мы много общались с друзьями. И не только потому, что нам это нравилось. Мы понимали, что дружеские контакты имеют большое значение для карьеры врача. Перед нашим прибытием в Корпус Кристи единственный практикующий там анестезиолог был очень перегружен, поэтому испытывал к Муди в некотором смысле чувство благодарности. Но в то же время присутствие Муди уже создавало возможность конкуренции. Работы хватало для двоих, однако мы были убеждены, что укрепление нашей позиции требует обширных связей. Наш круг знакомых состоял как из коренных американцев, так и из тех, кто, подобно Муди, приехал из других стран, чтобы учиться и работать в Штатах. Здесь было много индусов, арабов, пакистанцев, египтян и представителей других национальностей. Нас связывала радость, которую мы получали от познания различных культур и обычаев. Я прославилась образцовой иранской кухней.
В университете Техаса училось много иранцев. Мы часто принимали их у себя. Как члены Исламского общества Южного Техаса мы организовывали встречи и торжества по случаю праздников, отмечаемых иранцами и мусульманами. Я радовалась, что Муди обрел наконец здесь такую желанную связь с родиной. Он упивался ролью американизированного врача, старшего и пользующегося авторитетом руководителя своих молодых земляков.
Муди решил закрепить свое желание остаться американцем, написав заявление о признании его гражданином Соединенных Штатов. Анкета содержала много вопросов, среди них были и такие, которые требовали самых категоричных ответов.
Являетесь ли вы сторонником Конституции Соединенных Штатов и форм правления этой страны? Готовы ли вы присягнуть на верность Соединенным Штатам? Если того потребует закон, будете ли вы бороться с оружием в руках, защищая Соединенные Штаты? На каждый из этих вопросов Муди ответил утвердительно.
Мы много путешествовали. В Калифорнии и Мексике мы были несколько раз. Как правило, мы отправлялись туда, где проходили семинары по медицине или научные симпозиумы, оставляя детей на попечение няни. Налоговые инструкции позволяли нам пользоваться комфортабельными гостиницами и перворазрядными ресторанами, которые оплачивала фирма. Я заботливо собирала все квитанции и счета, подтверждающие профессиональный характер нашего путешествия.
Мне казалось, что эти поразительные перемены в моей жизни подавляют меня. Хотя я не работала в традиционном понимании этого слова, я была занята больше, чем когда бы то ни было, но, осыпаемая деньгами и нежностью, обожествляемая мужем, имела ли я право жаловаться на что-либо?
Однако почти сразу же в нашу супружескую жизнь проникли проблемы. Вначале это были редкие случаи непонимания, и возникали они у нас из-за некоторой несовместимости культур. Для Муди это были несущественные детали, но они приводили его в изумление. Например, когда в банке в Корпус Кристи мы открывали счет, он вписал в формуляр только свою фамилию и имя.
– Что это значит? – спросила я. – Почему ты не вписываешь и мою фамилию?
Он выглядел удивленным.
– Мы не вписываем имена женщин в банковские счета, – ответил он. – Иранцы этого не делают.
– Но ты здесь не иранец, – возразила я. – Ты же собираешься стать американцем.
Очень скоро я поняла, что Муди рассматривает меня как свою собственность. Когда мы бывали среди людей, он всегда требовал, чтобы я находилась возле него. Обычно он обнимал меня и держал за руку, точно опасаясь, что я могу убежать. Мне льстили его привязанность и интерес, но настойчивость, с какой он демонстрировал это, порой раздражала.
Превратившись из приятеля мамы в отчима, Муди постепенно терял свой авторитет в глазах детей. Став главой дома, он потребовал от Джо и Джона безоговорочного послушания. Это особенно не понравилось одиннадцатилетнему Джо, который уже начинал проявлять самостоятельность. Ведь именно Джо раньше был главным мужчиной в семье.
Кроме того, источником большого напряжения в наших семейных отношениях, несомненно, был Реза. Он учился в университете Детройта и какое-то время жил там в комнате Муди. Через год после заключения нашего брака Реза получил диплом экономиста, и Муди пригласил его в Корпус Кристи пожить у нас, пока тот не найдет работу.
Когда Муди не было рядом, Реза брал на себя роль хозяина и господина, пытаясь выдавать мне и детям распоряжения и требуя повиновения. Как-то ко мне пришли несколько приятельниц на чай. Реза молча сидел с нами в комнате. Было видно, что он старается все запомнить, чтобы потом доложить Муди в случае, если, по его мнению, мы говорили бы о чем-нибудь недозволенном.
После ухода гостей Реза распорядился, чтобы я помыла посуду.
– Я займусь этим в подходящее для меня время, – процедила я сквозь зубы.
Реза пытался подсказывать мне, когда следует стирать, что давать мальчикам на обед и когда мне можно пойти к соседям на кофе. Я спорила с ним, но он становился все более невыносимым. Сам он ни разу даже пальцем не прикоснулся к домашней работе.
Я неоднократно жаловалась Муди, что Реза вмешивается в мои дела, но муж всегда в таких случаях рекомендовал мне быть терпеливой.
– Это ненадолго, – говорил он, – пока он не найдет работу. Он ведь мой племянник, и я должен ему помочь.
Мы с Муди интересовались рынком недвижимости в поисках возможности вложить наши деньги и использовать тем самым налоговые льготы. Для этого мы связались с одним из наиболее процветающих банкиров в городе. Я упросила его взять Резу на работу.
– Мне предлагают должность кассира, – жаловался Реза, вернувшись из банка. – Я не собираюсь работать кассиром.
– Многие бы обрадовались такой должности, – ответила я, возмущаясь его поведением. – Это открывает большие перспективы.
Тогда Реза произнес фразу, смысл которой я поняла лишь несколькими годами позднее, когда хорошо узнала ментальность иранца, особенно мужской части рода Муди. Он заявил:
– В этой стране я не соглашусь ни на одну должность ниже председателя.
Он был готов пользоваться нашим гостеприимством до тех пор, пока какая-нибудь американская фирма не окажется настолько любезной, чтобы безоговорочно подчиниться его власти.
Целыми днями он пропадал на пляже или читал Коран, молился и контролировал каждый мой шаг. А когда ему и это надоедало, он дремал. Так продолжалось недели и месяцы, пока, наконец, я не вынудила Муди принять решение.
– Или он уйдет, или я, – заявила я решительно.
Говорила ли я серьезно? Я определенно рассчитывала на любовь Муди ко мне и не ошиблась. Бормоча что-то по-персидски, наверное, осыпая меня проклятиями, Реза перебрался в собственную квартиру. Разумеется, за деньги Муди. Вскоре после этого он вернулся в Иран и женился на своей сестре Эссей.
После ухода Резы все вернулось на свои места – так мне, по крайней мере, казалось. Между мной и Муди случались конфликты, но я знала, что брак основан на компромиссах. Я была уверена, что время позволит нам сгладить все острые углы.
Откуда мне было знать, что где-то там, за двадцать тысяч километров на восток от нашего дома, грянет буря, которая разрушит наш брак, превратит меня в заложницу, оторвет от близких и будет угрожать не только моей жизни, но и жизни моей еще не родившейся тогда девочки?
Вскоре после Нового, 1979 года Муди купил себе дорогостоящий транзисторный приемник с наушниками. Он был таким мощным, что принимал станции почти со всех частей света. Муди начал вдруг проявлять интерес к трансляциям из Тегерана.
Студенты в Тегеране организовали серию демонстраций, направленных против режима шаха. В прошлом уже случались подобные инциденты. На этот раз, однако, все выглядело гораздо серьезнее.
Находящийся в эмиграции в Париже аятолла Хомейни начал громко и резко высказываться против шаха и влияния Запада на исламский образ жизни.
Информация, которую Муди слышал по радио, зачастую противоречила сообщениям вечерних телевизионных новостей. В итоге Муди перестал доверять американским средствам информации.
День, когда шах покинул Иран, и следующий день, когда аятолла Хомейни триумфально вернулся в страну, Муди воспринял как большой праздник.
Не предупредив меня, он пригласил к нам группу иранских студентов. Они сидели до поздней ночи, наполняя мой американский дом восторженными, оживленными разговорами, звучащими по-персидски.
Революция пришла не только в Иран, но и в наш дом. Теперь Муди совершал свои мусульманские молитвы с таким рвением, какого я до сих пор не замечала. Он оказывал содействие различным группам шиитов.
Не поинтересовавшись моим мнением, он выбросил большой запас напитков, которые мы держали всегда под рукой для навещающих нас гостей. Он стал высокомерен и заносчив. И в результате мы растеряли многих наших друзей.
На протяжении нескольких месяцев иранские студенты часто использовали наш дом как место собраний. Они организовали какое-то общество, назвав его Группой патриотических мусульман, и наряду с иными формами деятельности составили воззвание, которое разослали в адрес средств массовой информации.
Это уже было слишком. Наши дискуссии превратились в яростные ссоры, что было совершенно не похоже на прежнюю, без серьезных конфликтов, совместную жизнь.
– Нам необходимо объявить перемирие, – предложила в отчаянии я. – Нам просто нельзя говорить о политике.
Муди согласился со мной, и какое-то время нам удавалось поддерживать мирное сосуществование, но я уже перестала быть для него вселенной. Его свидетельства любви теперь становились все реже. Могло показаться, что он женат не на мне, а на своем транзисторном приемнике, пачках газет, журналах и всякого рода пропагандистских брошюрах, которые он начал нумеровать. Некоторые из них были изданы на персидском языке, но часть на английском.
Муди забрал свое заявление с просьбой предоставить ему гражданство США.
Время от времени в моем подсознании всплывало слово «развод». Я ненавидела это слово, боялась его. Однажды я уже прошла через это. Я не хотела больше глотать эту горькую пилюлю. Развод с Муди был равнозначен крушению всех моих планов.
А кроме того, все мысли на эту тему оказались беспредметными с того момента, когда я поняла, что беременна.
Эта новость ошеломила Муди. Он перестал прославлять иранскую политику и почувствовал себя гордым отцом, вернувшись к давней милой привычке ежедневно осыпать меня подарками. С момента, когда я начала носить платье для беременных женщин, он показывал мой живот каждому, кто хотел и кто не хотел его видеть. Он сделал сотни снимков и утверждал, что сейчас я выгляжу гораздо привлекательнее, чем прежде.
Третье лето нашего супружества прошло в безмятежном ожидании рождения ребенка. Пока Муди работал в госпитале, я приятно проводила время с Джоном. Ему исполнилось восемь лет, и он был уже достаточно зрелым молодым человеком, чтобы приготовить дом к приему братика или сестрички. Мы вместе превратили одну из спален в детскую комнату. Мы весело покупали белые и желтые одежки для новорожденного. Вдвоем с Муди мы ходили на лекции, и он не скрывал своего желания иметь сына. Для меня это не имело значения. Эта новая жизнь во мне была существом, которое я уже горячо любила.
В начале сентября, когда я была уже на восьмом месяце, Муди предложил мне вместе с ним поехать на медицинскую конференцию в Хьюстон. Это путешествие принесло бы нам несколько беззаботных дней перед тем, как стать родителями. Мой врач разрешил, успокоив, что роды не начнутся раньше чем через месяц.
Однако уже в первый вечер в Хьюстоне в гостиничном номере я почувствовала боль в пояснице и начала беспокоиться, не наступил ли мой час.
– Все в порядке, – успокоил Муди. Ему хотелось на следующий день посетить центр НАСА.
– Я чувствую себя не очень хорошо, – предупредила я.
– Ну что ж, тогда пойдем за покупками, – предложил он.
Но прежде всего мы отправились на обед. В ресторане боли в пояснице усилились, и я почувствовала слабость.
– Давай вернемся в гостиницу, – попросила я.
В номере родовые схватки начались активнее, и отошли воды. Муди не мог поверить, что наступил решающий момент.
– Ты же врач, – говорила я. – Уже отошли воды. Разве ты не понимаешь, что это значит?
Он позвонил моему врачу в Корпус Кристи. Тот порекомендовал ему акушера в Хьюстоне, который согласился заняться мной.
Я помню мягкий, теплый свет родильного зала, помню также Муди, одетого в стерильную форму, который стоял рядом, держа мою руку. Я помню это огромное усилие и страшную боль, сопровождавшую рождение новой жизни. Может быть, это было предостережение того, что должно было произойти через несколько лет?..
Но лучше всего я помню акушера, который объявил:
– У вас родилась девочка!
Бригада медиков восторгалась по поводу этого чудесного события, а я улыбалась; голова кружилась от счастья и усталости.
Медсестра и врач занялись новорожденной, и потом принесли нам нашу девочку.
Это было настоящее сокровище, розовенькое, со светло-голубыми глазками, слегка прищуренными от яркого света. Прядки каштановых волосиков приклеились к влажной головке. Чертами личика она была миниатюрой Муди.
– Почему у нее светлые волосы? – спросил Муди с ноткой явного напряжения в голосе. – Почему у нее голубые глаза?
– Я не оказывала на это ни малейшего влияния, – ответила я, слишком уставшая и счастливая, чтобы обращать внимание на претензии Муди к столь совершенному созданию, которое я подарила миру. – За исключением цвета кожи, она вылитая твоя копия.
Какое-то время я полностью была поглощена моей девочкой и даже не обращала внимания на то, что делают со мной врачи и медсестры. «Я назову тебя Мариам», – шептала я, прижимая к себе дочурку. Я знала, что это было одно из любимых женских имен в Иране, а для меня оно звучало как американское имя, произносимое несколько экзотическим способом.
Я не сразу заметила, что Муди исчез.
Меня охватила волна смешанных чувств. Муди явно не смог громко заявить о своем разочаровании. «Почему девочка?» – такой вопрос он, по всей вероятности, задавал в душе. Его мусульманское мужское достоинство было глубоко уязвлено тем, что его первым ребенком оказалась девочка. Поэтому он бросил нас обеих, хотя именно сейчас должен был быть с нами.
Ночь прошла в беспокойном сне, прерываемом то неописуемым восторгом по поводу этой новой жизни у моей груди, то приступами отчаяния из-за недостойного поведения Муди. Я задумывалась: преходящее его плохое настроение или он бросил нас совсем? Временами я так злилась, что мне уже было безразлично.
Ранним утром он позвонил, ни словом не обмолвившись о своем внезапном уходе, не извинившись, но и не вспомнив о неоправдавшихся надеждах. Он сказал лишь, что ночь провел в мечети, молясь Аллаху.
Когда позднее он приехал в клинику, то радостно улыбался, размахивая пачкой листочков, исписанных розовыми персидскими буквами. Это были подарки мужчин из мечети.
– Что там написано? – спросила я.
– Махтаб! – ответил он с восторгом.
– Махтаб? А что это значит?
– Лунный свет, – ответил он.
Он рассказал мне, что позвонил своим родственникам в Иран, и те предложили несколько имен для ребенка. Он выбрал имя Махтаб, так как в ту ночь было полнолуние.
Я настаивала на Мариам, потому что это имя звучало более по-американски. Но я была слишком слабой, растерянной в этом хаосе чувств и эмоций, а кроме того, Муди уже заполнил свидетельство о рождении, записав в нем Махтаб Мариам Махмуди. В душе я только удивлялась: как это случилось, что я настолько подчинилась воле мужа?
Махтаб было два месяца. Наряженная во все розовое, выбранное из множества одежек, какие без меры покупал человек, признавший, что она восхитительна, и быстро забывший о своем первоначальном разочаровании, девочка спокойно лежала у меня на руках. Цвет ее глазок с голубого поменялся на темно-коричневый.
В доме царило оживление. У нас гостило более сотни мусульманских студентов, которые отмечали праздник Эид-э-Корбан. Было 14 ноября 1979 года.
Муди, активность которого в Исламском обществе Южного Техаса постоянно росла, был одним из инициаторов празднования, проводящегося в местном парке. Я быстро вернулась к прежнему состоянию, а поскольку торжество носило не политический, а только товарищеский характер, меня радовало участие в подготовке к нему. Вместе с другими женами (среди них были иранки, египтянки, женщины из Саудовской Аравии и американки) я готовила огромное количество риса, вкусно пахнущие густые соусы хореш. Мы нарезали пластинками огурцы, помидоры и лук, поливая лимонным соком. В огромные корзины мы укладывали свежие сочные фрукты.
Главными актерами этого празднества были мужчины. Праздник знаменует день, когда Бог велел Аврааму принести в жертву сына Исаака, но в последнюю минуту пожалел парня, посылая жертвенного барана. Несколько мужчин, обращенных лицом в направлении Мекки, перерезали живым овцам горло, произнося при этом жертвенные молитвы. Затем они втащили мертвых животных на рожны, где должно было печься праздничное мясо.
Праздник был связан с исламом вообще, а не только с обычаями, принятыми в Иране. Политикой в тот день занимались лишь немногие группы иранцев.
Я держалась подальше от этих дискуссий. Я находилась в обществе знакомых женщин, представляющих Организацию Объединенных Наций в миниатюре. Большинству нравились экзотические стороны восточной культуры, но все они были довольны, что живут в Америке.
Вскоре после этого праздника мы с Муди и Махтаб отправились в Даллас на конференцию остеопатов, а мальчишки остались дома. По дороге мы задержались в Аустине, чтобы навестить нескольких из все растущего количества родственников Муди, которые тоже покинули родину и осели в Америке. Муди называл их племянниками. Мы поужинали у них и собирались пригласить их на следующий день к нам в гостиницу на завтрак.
Уставшие после тяжелого дня, мы рано уснули. Торопясь с утренним туалетом, мы не подумали включить телевизор. Когда мы вышли в гостиничный холл, один из «племянников», мальчишка по имени Джамал, уже нетерпеливо ждал нас. Возбужденный, он подбежал к нам.
– Да'иджан, ты слышал новости? Занято американское посольство в Тегеране, – рассмеялся он.
Только сейчас Муди убедился, что политика – это чертовски серьезное дело. Находясь на расстоянии в полсвета от Ирана, он чувствовал себя достаточно безопасно, чтобы громко выражать свою поддержку революции и стремлениям аятоллы Хомейни преобразовать Иран в Исламскую Республику. Бороться теоретически за сотни километров было несложно.
Но теперь, когда студенты Тегеранского университета встали на военный путь борьбы с США, для Муди появилась реальная опасность. Это было не лучшее время для пребывания иранца в Америке, да и для его жены тоже. Один иранский студент из Техасского университета подвергся нападению. Муди боялся, что та же участь ждет и его. Опасался он также и возможного ареста и депортации.
Некоторые сотрудники в клинике начали называть его Доктор Хомейни. Однажды за ужином он сказал, что кто-то на машине пытался его сбить. Несколько раз нам звонили по телефону с угрозами. «Доберемся до вас, – голос в трубке звучал с южным акцентом, – убьем». Не на шутку перепуганный, Муди нанял частную охрану.
«Неужели это безумие никогда не кончится? – задумывалась я. – Зачем мужчинам нужно впутывать меня в эти их идиотские военные игры? Почему они не оставят меня в покое и не позволят быть женой и матерью?»
Муди балансировал меж двух огней. Его иранские приятели хотели втянуть его в активную работу, в подготовку демонстрации. Наш дом они превратили в некое подобие оперативной базе. Зато наши американские знакомые, соседи, а также коллеги в клинике желали услышать от Муди выражение лояльных чувств по отношению к стране, которая так много ему дала.
Сначала Муди колебался. И мы часто спорили. Он произносил бесконечные тирады по поводу американского эмбарго на поставку оружия в Иран, постоянно повторяя, что Америка лишь пускает пыль в глаза, а на самом деле снабжает Иран оружием при посредничестве третьих стран, повышая цены.
Затем произошло нечто странное. В свое время Муди познакомился и сблизился с доктором Моджалили, иранским нейрохирургом. Поскольку тот учился в Иране, у него не было разрешения заниматься практикой в Штатах, поэтому он работал лаборантом. Муди уважал его; они оба помогали иранским студентам. И вдруг день ото дня эта дружба стала угасать. Ни с того ни с сего Муди перестал здороваться с доктором Моджалили, но не хотел открыть мне причину.
В клинике Муди делал все, чтобы избежать конфликтов, полностью сконцентрировавшись на работе. И хотя по-прежнему он позволял иранским студентам собираться в нашем доме, однако теперь старался эти собрания сохранять в тайне и избегать разговоров на политические темы.
Но осложнений все же избежать не удалось. Ситуация стала крайне напряженной, когда второй анестезиолог в клинике обвинил Муди в том, что он во время операции слушал по наушникам радиостанцию. Я могла вполне поверить в это. Но, с другой стороны, я знала профессионализм Муди. Мы оба могли рассчитывать на хороший заработок Муди в качестве анестезиолога, но только при условии, что его клиентура будет непрерывно расширяться.
Спор разделил персонал клиники на два лагеря. Назревал еще больший конфликт.
Бурный год подходил к концу, а Муди все еще никак не мог окончательно определить свои политические взгляды, позиции и потому оказался выставленным для атаки с обеих сторон.
На Рождество мы отправились в Мичиган навестить моих родителей. Это была благословенная пауза после невыносимого напряжения в Корпус Кристи. Вместе с моими родителями мы весело провели праздники. Они засыпали подарками Джо, Джона и маленькую Махтаб. В эти спокойные дни я подумала, каким образом можно было бы избежать хаоса в нашей жизни в Корпус Кристи. Муди нравилось в Мичигане. Но серьезно ли он относился к возможности приступить к работе здесь, если представится случай? Открылись ли здесь новые клиники? Я знала, что если он встретится со старыми коллегами, то сможет поговорить об этом. И в один из дней я предложила ему:
– Может, ты бы подъехал к старым друзьям в Карсон Сити?
Ему понравилась эта идея: можно было поговорить на профессиональные темы, в среде, в которой не знали о его симпатиях к иранской революции. Эта встреча вернула ему интерес к работе и убедила в том, что еще есть места, в которых его убеждения не являлись главенствующим фактором. Он был воодушевлен: один из врачей сообщил ему о вакансии анестезиолога.
Муди связался с врачом, тоже анестезиологом, в Альпене и получил приглашение на предварительное собеседование. Затем события разворачивались молниеносно. Мы оставили детей у родителей и на машине отправились в неизвестность.
Порошил мелкий снежок. От этого первого зимнего пейзажа захватывало дух после трех лет, проведенных в жарком Техасе.
«Как мы могли отсюда уехать?» – задавал Муди себе вопрос.
Клиника в Альпене представляла собой «страну грез». В центре находился ансамбль современных зданий, искусно вкомпонованных в покрытый снегом парк. Среди сосен спокойно бродили дикие канадские гуси. Вдали волнистые холмы создавали притягательный пейзаж.
Все складывалось удачно. В Альпене нужен был еще один анестезиолог. В конце беседы врач с улыбкой протянул Муди руку и спросил: «Когда вы можете приступить к работе?».
Прошло еще несколько месяцев, пока нам удалось завершить все дела в Корпус Кристи. Муди так хотелось побыстрее переехать, что в середине мягкой техасской зимы он несколько раз включал кондиционер, чтобы затопить камин. Это напоминало ему Мичиган. С легким сердцем мы закончили все дела, связанные с переездом. Мы снова становились дружной командой, устремляющейся к единой цели. Муди сделал выбор: он будет жить и работать в Америке, он будет (и в сущности, был) американцем.
Мы продали наш дом в Корпус Кристи, сохранив другую недвижимость, в которую вложили когда-то деньги, чтобы избежать налогов. Весной мы уже были в Альпене, всего в трех часах езды от дома родителей и за десятки тысяч километров от Ирана.
Как мучительно далеко была Альпена от этого мрачного дома, где меня сейчас держали в заключении. Как далеко были мама и папа, Джо и Джон. И моя девочка тоже была так далеко от меня!
Находилась ли Махтаб сейчас у Маммаля и Насерин? Я надеялась, что нет. Я тешила себя надеждой, что она у кого-нибудь, кто знает и любит ее, кого она любит. А может, она у Амми Бозорг? Я вздрогнула от одной мысли об этом. Как мне жаль было мою бедную дочурку!
Одна в комнате, закрытая на ключ, я сходила с ума при мысли о судьбе Махтаб. Я серьезно опасалась за состояние своего разума. Заливаясь слезами от горя и отчаяния, я сделала то, что когда-то советовала плачущей Махтаб: когда почувствуешь себя одинокой, помолись – и ты уже будешь не одна. Я закрыла глаза и попробовала молиться. «Всемилостивейший Боже, помоги мне!» – начала я, но мой измученный разум не слушался меня. Вместо облегчения появилось чувство вины. Годами я игнорировала религию и обратилась к Богу за помощью лишь тогда, когда стала заложницей в этой стране. Почему он должен меня сейчас слушать?
Я попыталась еще раз. Я уже не молилась о том, чтобы мы с Махтаб оказались в Америке, а лишь о том, чтобы со мною снова была моя девочка. «Боже милосердный, – взывала я, – помоги мне найти Махтаб. Позаботься о ней и сделай так, чтобы она не страдала. Окажи ей свою любовь, чтобы она знала, что ты рядом с ней и что я очень ее люблю. Помоги мне найти ее!»
Вдруг как будто кто-то сказал мне, чтобы я открыла глаза. Действительно ли я слышала какой-то голос? Пораженная, я оглянулась вокруг и заметила лежащую на полу папку Муди. Обычно он брал ее с собой, но сегодня, вероятно, забыл или просто оставил дома. Я начала внимательно изучать папку. Я понятия не имела, что в ней находится, но, может быть, найдется что-нибудь, что мне поможет.
Здесь должен быть какой-то код. У Муди свой шифр, и я не знаю, как ее открыть. «Я начну с нуля, нуля, нуля!» – говорила я себе. Итак, у меня появилась работа.
Усевшись на пол, я установила цифры 0-0-0. Нажала кнопку, замок не открылся. Я заменила последний 0 на 1 и снова попыталась открыть замок. По-прежнему безрезультатно. Внимательно прислушиваясь к звукам, доносившимся с улицы, я методично работала: 0-0-3, 0-0-4, 0-0-5.
Так я дошла до 1-0-0, но все впустую. Это стало казаться мне бессмысленным. В папке, вероятно, не было ничего полезного для меня. У меня еще было 900 цифр и никакого другого занятия.
Установила уже 1-1-4. Ничего.
1-1-5. Ничего. Зачем все это?
1-1-6. Никакого результата. А что если Муди вернулся потихоньку, вошел в дом и сейчас поймает меня с поличным?! Я установила цифры 1-1-7, автоматически нажала замок. Послышался щелчок!
Открыв папку, я не могла от радости перевести дыхание. Внутри был клавишный телефон. Маммаль купил его, будучи в Германии.
Подойдя к розетке, я остановилась, вспомнив, что Эссей была дома этажом ниже. Я слышала, как она ходила, как плакал ребенок. Кроме того, я знала, что когда кто-нибудь набирает номер наверху, внизу аппарат позванивает. Эссей сразу догадается. Могу ли я рисковать? Нет! Она уже не раз демонстрировала свою лояльность по отношению к Муди.
Время шло. Минуло двадцать минут, а может, и полчаса. Я стояла в коридоре с телефоном в руке, готовая подключить его и взвешивая в душе степень риска. Вдруг я услышала, как дверь комнаты Эссей открылась, а потом закрылась. Вскоре и на улицу дверь закрылась. Я подбежала к окну: Эссей с детьми переходила улицу. Вот он, ответ на мои молитвы.
Я тотчас же включила телефон, позвонила в посольство Хелен и, рыдая, описала подробности моей отчаянной ситуации.
– Я думала, что вы в доме Элен и начали действовать, – сказала она.
– Ничего подобного. Он запер меня здесь и забрал Махтаб. Я даже не знаю, где она и не случилось ли с ней чего-нибудь.
– Как мне помочь вам? – спросила Хелен.
– Пожалуйста, ничего не делайте, пока я не разыщу Махтаб, – поторопилась я предупредить ее. – Я не хочу рисковать. Может, я еще увижу ее.
Поговорите с господином Винкопом, – предложила она и переключила телефон.
Я повторила свою настоятельную просьбу.
– Но это неразумно, – сказал господин Вин-коп. – Мы должны попытаться освободить вас. Нужно сообщить полиции, что вас держат взаперти.
– Нет! – крикнула я в трубку. – Ничего пока не делайте! Не старайтесь помочь мне. Как только смогу, я сама свяжусь с вами. Я не знаю, когда это будет: может быть, завтра, а может быть, через полгода, но сами не предпринимайте попытки связаться со мной.
Я положила трубку и подумала, могу ли я рискнуть и позвонить еще Элен на работу, но в этот момент услышала звук поворачивающегося в замке ключа: Эссей с детьми возвращалась домой. Я быстро отсоединила телефон и положила его в папку на прежнее место.
Меня беспокоили снимки, которые я сделала, когда Муди забирал у меня Махтаб. Пленка была уже отснята. Если бы он проявил ее, то обнаружил, что я сделала, и тогда пришел в бешенство. Я искала в папке другую пленку, чтобы заменить, но ничего не нашла.
Я не хотела рисковать из-за снимка, на котором видны были только плечи Махтаб, когда Муди вез ее в коляске. Я открыла кассету и засветила пленку в надежде, что уничтожила важные для Муди снимки.
Два дня спустя Эссей вышла из дому с Мариам и Мехди. Через окно я увидела, что она с детьми и чемоданом, закутанная в чадру, садится в такси. Это выглядело так, как будто она собиралась навестить родственников. Реза ушел по своим делам. Сейчас я была одна.
Случалось, что Муди вечером не возвращался. Я не знала, радоваться этому или нет. Я ненавидела этого человека и боялась его, но он был единственной ниточкой, соединяющей меня с Махтаб. В те вечера, когда он приходил, обвешанный покупками, он по-прежнему был жестким и молчаливым, а мои вопросы о Махтаб оставлял почти без внимания, кратко отвечая:
– Все хорошо.
– Как у нее дела в школе?
– Она не ходит в школу, – ответил он резко. – Ей не разрешают ходить в школу из-за того, что ты сделала. Это твоя вина. С тобой одни только неприятности.
И новое высказывание в мой адрес:
– Ты плохая жена. Я собираюсь найти другую, чтобы наконец иметь сына.
Я мгновенно вспомнила о противозачаточной спирали. Что будет, если Муди узнает о ней? Что будет, если Муди изобьет меня так, что потребуется помощь и какой-нибудь иранский врач обнаружит спираль? Если меня не убьет Муди, это определенно сделают иранские власти.
– Я отведу тебя к Хомейни и скажу, что ты не любишь его, – кричал он. – Я поведу тебя к властям и скажу, что ты агент CIA.
По правде говоря, можно было сомневаться в реальности этих угроз, но я уже слышала подобные истории о людях, осужденных по причинам и без причины, увезенных в тюрьму и пропавших без вести. Я знала, что моя судьба зависит исключительно от каприза Муди и его аятоллы.
Как только я замечала безумный блеск в его глазах, я заставляла себя держать язык за зубами, надеясь, что он не увидит ненависти в моих глазах.
Всю свою ярость он обрушил на то, что я не мусульманка:
– Ты будешь гореть в адском огне! – орал он. – А я вознесусь на небо.
– Я не знаю, что будет, – ответила я спокойно, пытаясь его смягчить. – Я не судья. Только Бог может судить меня.
В те ночи, когда Муди оставался дома, мы спали в одной постели, но он ложился подальше от меня. Отчаянно борясь за свободу, я несколько раз пододвигалась к нему и клала голову ему на плечо, хотя меня тошнило от отвращения. Но муж тут же поворачивался спиной ко мне.
Утром он оставлял меня одну, забирая папку, а вместе с ней и телефон.
Я сходила с ума от страха и тоски. Тело мое по-прежнему болело после той страшной драки с Муди. Охваченная депрессией и отчаянием, я часами лежала в постели. Лежала без сна, но у меня не было ни сил, ни желания встать. Дни проходили как в тумане. Я давно уже не знала, да и не заботилась о том, чтобы узнать, какой день, месяц, взошло ли солнце. Я жаждала лишь одного: увидеть мою дочурку.
В один из таких мучительных дней все мои мысли сконцентрировались на одной детали. Введя пальцы внутрь своего тела, я стала искать конец медной проволочки, утопленной в противозачаточную спираль. Найдя его, я с минуту колебалась. Что будет, если у меня откроется кровотечение? Ведь я была узницей в доме без телефона. А если я умру?
В эти минуты мне было все равно, выживу я или нет. Я рванула проволочку и взвыла от боли, но спираль осталась на месте. Я пыталась еще несколько раз, прилагая усилия и корчась от боли. Все безрезультатно. В конце концов я взяла пинцет из маникюрного набора и зацепила за конец проволочки. Медленно вытягивая, крича от невыносимой боли, я все-таки довела эту операцию до конца. У меня в руке оказался кусочек пластмассы с медной проволочкой, который мог вынести мне смертный приговор. Превозмогая страшную боль, я подождала несколько минут, чтобы убедиться, что нет кровотечения.
Что теперь сделать со спиралью? Я не посмела выбросить ее в мусорное ведро, потому что Муди мог найти ее там.
Металл был мягкий. Может, мне удастся порезать ее? Из коробки для швейных принадлежностей я вынула ножницы и принялась за работу, разрезая все на мелкие кусочки.
Взяв нож, я отвернула болты окна, открыла его и убедилась, что меня никто не видит. Затем я выбросила куски спирали на улицу Тегерана.
5 апреля был день рождения папы. Ему исполнялось шестьдесят пять лет, если он еще был жив. День рождения Джона выпадал на 7 апреля. Ему исполнялось четырнадцать лет. Знал ли он, что я еще жива?
Я не могла послать им подарки. Я не могла испечь для них торт. Не могла позвонить, чтобы поздравить их. Я даже не могла послать им открытки.
Иногда я стояла ночью на балконе, смотрела на луну и думала о том, что хотя мир огромен, но ведь одна и та же луна светит для Джо, Джона, для мамы, папы и для меня тоже. И ту же луну видит Махтаб…
Однажды, выглянув в окно, я остолбенела: на противоположной стороне улицы стояла госпожа Алави и смотрела на меня. Какое-то время мне казалось, что этот силуэт лишь мираж, предмет моего больного воображения.
– Что вы здесь делаете? – взволнованно спросила я.
– Я давно наблюдаю за этим домом, ожидая часами, – ответила она. – Я знаю, что с вами случилось.
Как ей удалось узнать, где я живу? В посольстве? В школе? Это неважно. Испуганно, не веря своим глазам, я смотрела на эту женщину, готовую рисковать своей жизнью ради того, чтобы Махтаб и меня вырвать из этой страны. И сейчас, как никогда, я отчетливо осознала, что Махтаб нет со мной.
– Что я должна сделать? – спросила Алави.
– Ничего, – ответила я, охваченная отчаянием.
– Мне нужно с вами поговорить, – сказала она очень тихо, потому что понимала, что разговор по-английски с женщиной в окне может показаться подозрительным.
– Подождите, пожалуйста, – ответила я.
В один миг я отодвинула раму, потом просунула голову между прутьями.
– Я наблюдаю за этим домом много дней, – повторила Алави.
Она рассказала, что какое-то время ее сопровождал брат, сидевший в машине. Однако это вызвало подозрения, и у них спросили, что они тут делают. Брат Алави ответил, что он наблюдает за девушкой, живущей в одном из домов, так как хочет на ней жениться. Этого объяснения оказалось достаточно, но сам инцидент встревожил мужчину. Так или иначе сейчас она была одна.
– Все уже готово для переезда в Захедан, – сообщила она.
– Я не могу ехать. Со мной нет Махтаб.
– Я найду ее. Возможно ли это?!
– Я прошу вас не делать ничего, что вызвало бы подозрения.
Она утвердительно кивнула и исчезла так же внезапно, как и появилась. Я вернула на место оконную раму, спрятала нож и погрузилась в раздумья, моля Бога, чтобы все это не оказалось только сном.
Наверное, Богу было угодно, чтобы земной шар оборачивался медленнее. Мне казалось, что сутки растянулись до бесконечности. Это были самые длинные дни в моей жизни. Основным моим занятием стал поиск способов как-нибудь убить время.
Я придумала хитрую стратегию общения с Махтаб. Из того, что я нашла дома, или из продуктов, которые приносил Муди, я старалась приготовить любимые блюда Махтаб. Больше всего ей нравился болгарский плов.
Из остатков шерстяных ниток мне удалось связать крючком маленькие башмачки для куклы Махтаб. Потом я вспомнила, что у нее есть несколько блузочек с воротниками под шею типа «гольф», которые она носила, жалуясь, что воротники ей жмут. Я обрезала воротники, а из полосок ткани сшила платьица для куклы. Найдя белые блузки с длинными рукавами, из которых Махтаб выросла, я обрезала рукава и получила необходимый материал, чтобы удлинить блузки. Теперь моя девочка сможет их надевать.
Муди взял эти подарки с собой, но так и не сказал мне о ребенке ни слова. Лишь возвращая обратно башмачки куклы, он проронил:
– Махтаб сказала, что не хочет надевать кукле эти башмачки, потому что дети испачкают их.
Я старалась не показать Муди, какую радость доставили мне эти слова. Сообразительная маленькая Махтаб поняла мой план. Таким образом она передавала мне: «Мамочка, я жива». Значит, она была с другими детьми. И это, слава Богу, исключало дом Амми Бозорг.
Но где же она?
От тоски и растерянности я начала просматривать изданные на английском языке книги Муди. Большинство из них были об исламе, но мне это не мешало. Я перечитала их от корки до корки. Среди них я нашла словарь Вебстера и тоже прочла его. Я весьма сожалела, что здесь нет Библии.
Бог был моим единственным собеседником во время этих полных отчаяния дней и ночей. Постепенно в моем возбужденном разуме начал формироваться определенный план. Беспомощная в этой западне, не имея ни малейшей возможности хоть как-то защищаться, я хваталась за все, что могло приблизить меня к Махтаб. Поэтому я обратилась к религии, которую исповедовал Муди.
Я подробно изучила справочник обычаев и ритуалов мусульманских молитв и начала практиковаться. Перед молитвой я мыла руки, ладони, лицо и стопы. Потом надевала белую молитвенную чадру. Во время молитвы верующий на коленях склоняется в смирении перед волей Аллаха, и его голова не должна касаться ничего, что сделано рукой человека. Вне дома это просто. В жилых помещениях верующий должен пользоваться молитвенным камнем. Я нашла их в доме несколько штук. Это были обычные кусочки затвердевшей глины диаметром около трех сантиметров. Молитвенным камнем мог быть любой кусочек земли, но эти были слеплены из земли в Мекке.
Надев чадру, положив перед собой открытую книгу на пол и головой касаясь камня, я регулярно произносила молитвы.
Однажды утром, когда Муди встал с кровати, я привела его в замешательство, занимаясь ритуальным омовением. Озадаченный, он смотрел, как я надеваю, чадру и занимаю положенное мне место в холле. Я точно знала, где оно: не рядом с ним, а позади него. Мы вместе обратились лицом к Мекке, произнося торжественные молитвы.
Я стремилась достичь двух целей. Прежде всего, удовлетворить Муди, даже если бы он заметил, что скрывается за моей религиозной преданностью. Он должен понять, что я хочу заслужить его расположение, чтобы вернуть Махтаб. Но разве не этого ему хотелось? Забрать у меня Махтаб было единственным и окончательным средством, которое должно было заставить меня покориться и согласиться с его взглядами на нашу будущую жизнь. И сейчас он мог убедиться, что его стратегия принесла желаемые результаты.
Но даже это было для меня второстепенным. В моих мусульманских молитвах я была более искренней, чем Муди мог бы предположить. В сущности, я только лихорадочно искала помощи. Если Аллах является таким же высшим созданием, как и мой Бог, я буду выполнять его требования так рьяно, как только смогу. Я хотела удовлетворить Аллаха еще больше, чем угодить Муди.
После окончания молитв Муди сказал:
– Ты не должна молиться по-английски.
Теперь у меня было новое занятие: я учила арабские слова, стараясь при этом убедить саму себя, что таким образом я не стану послушной иранской женой.
Однажды пришла Элен. Она позвонила в дверь, и мы разговаривали через окно.
– Я знаю, что Муди запретил нам приходить, но я все-таки хотела убедиться, жива ли ты еще, – сказала она. – Что-нибудь изменилось?
– Нет.
– Ты знаешь, где Махтаб?
– Нет. А ты?
– Не знаю, – ответила она, а потом предложила: – Может быть, помог бы ага Хаким? Муди уважает его. Я могла бы поговорить с ага Хакимом.
– Нет, – поспешно запротестовала я. – Если Муди узнает, что я разговаривала с кем-нибудь, это только ухудшит мое положение. Мне хочется только увидеть Махтаб.
Она согласно кивнула головой, покрытой чадрой, но осталась недовольна.
– Ты можешь кое-что сделать для меня, – предложила я ей. – Принеси мне, пожалуйста, Новый Завет.
– Хорошо, но как я тебе его передам?
– Я спущу тебе на веревке корзинку или еще что-нибудь.
– Порядок.
Элен ушла, но так и не вернулась с Новым Заветом. Возможно, из чувства вины за этот тайный визит.
В один из солнечных дней я стояла на балконе, пытаясь осознать, в полном я еще рассудке или уже нет. Как долго все это длится? Я пыталась вспомнить тот день скандала с Муди. Это было месяц назад. А может быть, два? Я не в состоянии была вычислить. Я решила считать пятницы, потому что только эти дни чем-то отличались. Напрягая память, я вспомнила только одну пятницу со времени нашего конфликта. Неужели прошла лишь неделя? Неужели все еще апрель?
На противоположной стороне двора я увидела соседку, наблюдающую за мной через открытое окно. Я никогда прежде не видела ее.
– Откуда ты? – неожиданно спросила она на ломаном английском языке.
Я растерялась и даже испугалась, а потом с недоверием спросила:
– Почему вы спрашиваете?
– Потому что знаю, что ты иностранка. Отчаяние развязало мне язык, и я разразилась потоком слов. Я не задумывалась над тем, кто она: друг или враг.
– Меня держат под замком в этом доме, – торопливо говорила я. – У меня забрали дочку, а меня закрыли в этом доме. Прошу вас, помогите мне.
– Я сочувствую тебе, – ответила она. – Я сделаю все, что смогу.
Но что же она может сделать? Замужняя женщина в Иране, по существу, была немногим свободнее меня. Потом, однако, мне пришла в голову мысль.
– Я бы хотела послать письмо своим близким, – обратилась я к ней.
– Хорошо. Напиши. Я перейду улицу, и ты бросишь его.
Я молниеносно написала письмо, которое, я уверена, было нескладным и весьма непоследовательным. Как сумела, я описала события и предупредила маму с папой, чтобы не тревожили посольство или Департамент штата, пока я не найду Махтаб. Я написала, что очень их люблю. Слезы заливали страницу.
Я снова сняла оконную раму и с конвертом в руке застыла в ожидании. Прохожих было немного, однако я не была уверена, удастся ли мне узнать среди других закрытых чадрой женщин ту, что обещала помочь. Я пыталась уловить какой-либо подаваемый мне знак.
По улице быстро шла женщина, одетая в черное манто и русари, как бы погруженная в свои ежедневные проблемы. Но когда она приблизилась ко мне, то посмотрела вверх и едва заметно кивнула головой. Письмо выскользнуло у меня из руки и полетело на тротуар, как опадающий лист. Моя новая союзница тотчас подняла его и спрятала под манто, не меняя даже темпа.
Я никогда больше ее не встречала, хотя проводила на балконе много времени в надежде, что снова увижу ее. Вероятно, она не хотела больше вступать со мной в контакт.
Как я и надеялась, мое участие в молитвах несколько смягчило Муди. В награду он принес мне издаваемую на английском языке газету «Хаян». Все статьи были иранской пропагандой, но я наконец могла читать на своем родном языке что-то большее, чем религиозные книги или словарь. А кроме того, сейчас я могла понять, в каком времени нахожусь, я знала число. Трудно мне было поверить, что я пребывала в этой изоляции всего лишь полторы недели.
Появление газеты внесло и некоторую перемену в отношении Муди ко мне. Домой он приходил теперь каждый вечер, принося мне «Хаян», а иногда и какие-нибудь сладости.
– Клубника, – сообщил он, вернувшись как-то под вечер.
Я знала, что она дорогая и ее трудно достать.
Прошел почти год, как последний раз я лакомилась этими душистыми ягодами. Они здесь были мелкие и сухие, да и на вкус не лучшие, но тогда они показались мне необыкновенно вкусными. Я проглотила три ягодки и не без усилия сдержалась, чтобы не съесть еще.
– Отнеси ее Махтаб, – попросила я.
– Хорошо, – согласился он.
Временами он был относительно спокойным и даже расположен к разговору, а порой держался на расстоянии и возбуждал во мне страх. И хотя я постоянно спрашивала у него о Махтаб, он оставался глух к моим вопросам.
Мрачные дни сменяли друг друга…
Однажды среди ночи нас разбудил звонок у входной двери. Всегда готовый к защите от преследовавших его демонов, Муди вскочил с постели и подбежал к окну. Пробудившись от тяжелого сна, я услышала голос Мостафы, третьего сына Баба Наджи и Амми Бозорг.
– Что случилось? – спросила я, когда Муди вернулся в спальню и стал торопливо одеваться.
– Заболела Махтаб, – ответил он. – Я должен ехать.
Сердце у меня тревожно забилось.
– Позволь мне поехать с тобой! – умоляла я.
– Нет, ты останешься здесь.
– Прошу тебя, привези ее домой.
– Нет, я никогда ее сюда не привезу.
Когда он шел к двери, я выскочила из постели и побежала за ним, готовая мчаться по улицам Тегерана в ночной сорочке, чтобы только очутиться рядом с моей девочкой.
Муди оттолкнул меня и закрыл дверь на ключ. Я была в близком к панике состоянии. Махтаб больна! Моя дочурка так больна, что пришлось среди ночи послать Мостафу за Муди. Отвезет ли он ее в больницу? Неужели она так серьезно больна? Что это за болезнь? «Моя девочка! Моя девочка! Боже, помоги нам!» – рыдала я.
В течение этой бесконечной ночи, проведенной в слезах и отчаянии, я пыталась проанализировать новую информацию о Махтаб. Но почему Моста-фа?..
Потом я вспомнила, что ведь Мостафа и его жена Малюк живут через три дома от нас. Видимо, Муди это место показалось подходящим, чтобы спрятать Махтаб. Моя дочурка была знакома с ними и хорошо играла с их детьми. В конце концов, Малюк была несколько более доброжелательной и более симпатичной, чем остальные члены семьи. При мысли, что Махтаб у них, мне стало легче, но не настолько, чтобы успокоить мое исстрадавшееся сердце. Больше всего ребенку во время болезни нужна мать. Я предпринимала усилия, чтобы хоть мысленно передать ей мою любовь и принести облегчение. Я надеялась, молилась, чтобы она услышала меня, почувствовала мое беспокойство о ней.
На протяжении прошедших недель я считала, что мои горести достигли предела, но сейчас я поняла, что это не так. Время остановилось. Наконец начало светать, а я была в полном неведении. Утро тянулось еще медленнее. С каждым ударом мое сердце разрывалось, кричало от отчаяния: Махтаб! Махтаб! Я не могла есть, не могла спать.
Делать я тоже ничего не могла.
Перед глазами стояла моя бедная девочка, испуганная, брошенная, в больничной кровати.
Тревожная и мучительная вторая половина дня превратилась в бесконечность. Это был, пожалуй, самый длинный день моего заключения.
Вдруг меня охватила ярость. Я вскочила с постели, выглянула в окно спальни, и на соседнем дворе увидела женщину. Это была служанка, старая женщина в чадре. Она наклонялась над бассейном декоративного фонтана, чтобы помыть одной рукой посуду. Я видела ее за этой работой уже не раз, но мы никогда не разговаривали.
Я молниеносно приняла решение. Я убегу из этой тюрьмы, доберусь до дома Мостафы и спасу моего ребенка. Слишком ошеломленная, чтобы мыслить логично, я не задумывалась о последствиях. Что бы ни произошло, я должна немедленно увидеть мою девочку!
На выходящем во двор окне не было решетки. Я подвинула к нему стул, встала на него и прошла по подоконнику, ища узкий выступ, который выходил на пять сантиметров от внешней стены дома.
Стоя на выступе, судорожно сжимая руки на раме окна, я была только в шаге от крыши одноэтажного дома, находящегося рядом.
Я повернула голову и позвала:
– Ханум!
Старая женщина быстро повернулась ко мне.
– Вы говорите по-английски? – спросила я.
Я надеялась, что мы договоримся, и она позволит мне перебраться на крышу, а потом через дом я выйду на улицу.
Однако в ответ на мой вопрос женщина подхватила свою чадру и убежала в дом.
Я осторожно начала возвращаться. Мне не приходилось рассчитывать на помощь, выйти отсюда я не смогу. Я металась по комнатам в поисках какого-нибудь решения.
Надо хоть чем-нибудь занять себя.
Я снова перевернула библиотеку Муди в надежде найти что-нибудь на английском, чего еще не прочла от корки до корки. Мне попалась брошюра из четырех страниц, которая завалилась за стопку книг. Я не видела ее прежде. Это было нечто типа справочника, который содержал подробное описание мусульманских молитв для определенных ритуалов.
Я села на пол и очень внимательно прочла брошюру. Мое внимание привлекло описание ритуала наср.
Наср – это торжественная присяга на верность Аллаху, что-то вроде клятвы. Реза и Эссей совершили наср. Если Аллах сделает так, что ноги Мехди будут излечены, родители обязуются каждый год поставлять в мечеть тазы хлеба, сыра, сабзи и других продуктов, чтобы их отдавали нуждающимся.
Репродуктор на улице сзывал к молитве. Слезы текли по моим щекам, когда я совершала ритуальное омовение и надевала чадру. Я знала, что следует делать: совершить наср.
Забыв, что смешиваю понятия ислама и христианства, я громко говорила: «О Аллах! Обещаю, если Махтаб и я снова соединимся и благополучно вернемся домой, я отправлюсь в Иерусалим, к Святой земле. Это мой наср». Затем по книге я вслух читала с истинным преклонением и преданностью длинную специальную молитву по-арабски. Отрезанная от мира, я непосредственно говорила с Богом.
Наступил вечер. Сидя на полу, я старалась чтением скоротать время.
Вдруг погас свет. Впервые за многие недели пронзительный вой сирен, предупреждающих о налете, донесся до моего уже и так воспаленного мозга.
«Махтаб! – подумала я. – Бедная Махтаб испугается». Я инстинктивно бросилась к двери, но она, конечно, была заперта. В отчаянии я ходила взад-вперед по комнате, нисколько не заботясь о собственной безопасности. Я вспомнила о том, что Джон написал мне в письме: «Я прошу тебя, смотри за Махтаб, не отпускай ее от себя ни на минуту». Я плакала от жалости к своей девочке, и слезы уже струились не из глаз, а из самой глубины моей исстрадавшейся души.
На улице по-прежнему выли сирены. Слышны были отдаленные разрывы снарядов противовоздушной обороны. До меня донесся шум реактивных самолетов и потом эхо разрывов бомб. Я все время молилась за Махтаб.
Через несколько минут налет закончился. Он был, пожалуй, самым коротким из всех пережитых ранее. Но я, покинутая всеми, еще долго дрожала в темном доме, в затемненном городе, в страшном отчаянии. Спустя полчаса я услышала скрип открывающейся входной двери. На лестнице послышались тяжелые шаги Муди.
На фоне ночного мрака в слабом свете карманного фонарика в дверном проеме едва различалась фигура человека. Он держал что-то вроде тяжелого свертка. Я подошла ближе, чтобы разглядеть.
И вдруг я поняла: это Махтаб! Завернутая в одеяло, она прижималась к нему. Она была в сознании, но безучастная ко всему. Лицо ее даже в темноте казалось мертвенно-бледным.
«О, благодарю тебя, Боже! Благодарю!» – вздохнула я. В этот момент я вспомнила свой наср, ту клятву, которую я сегодня дала. Бог исполнил основную часть моей просьбы: он вернул мне Махтаб. Я была вне себя от радости, но эта радость смешивалась с тревогой: мой ребенок был таким измученным, подавленным и больным.
Я обняла мужа и дочурку.
– Я люблю тебя за то, что ты привез ее домой, – сказала я.
Я понимала нелепость своих слов: ведь это он был причиной моих страданий.
– Я думаю, что этот налет был знаком от Аллаха, – сказал Муди. – Ничего хорошего не выйдет, если мы будем жить раздельно. В такое время надо быть вместе. Я очень беспокоился о тебе. Мы не должны расставаться.
Лоб Махтаб покрылся капельками пота. Я протянула руки, и Муди отдал ее мне. Как хорошо было снова обнять мою девочку!
Закутав в одеяло, я приложила к ее горячему лбу смоченную водой тряпочку. Махтаб была вся в каком-то напряжении. Похоже, она боялась сказать хоть слово в присутствии Муди.
– Она что-нибудь ела? – спросила я.
– Да, – заверил он. Девочка очень похудела.
Всю ночь Муди не спускал с нас глаз. Махтаб ничего не говорила, была по-прежнему вялой, но температура спала. Мы провели ночь втроем в одной постели. Махтаб лежала посередине. Она часто просыпалась. Ее мучили боли в животе и понос.
Утром, собираясь уходить, Муди сказал мне не со злобой, но уже и не так сердечно, как ночью:
– Одень ее.
– Прошу тебя, не забирай Махтаб.
– Нет, я не оставлю ее здесь с тобой.
Я не осмелилась спорить с ним. Муди имел надо мной абсолютную власть. Махтаб молча согласилась одеться, а дома оставалась мать, которой казалось, что ее сердце разорвется от отчаяния.
Между нами троими происходило что-то непонятное. Много времени ушло у меня на то, чтобы заметить какие-то неуловимые изменения в нашем поведении, но интуитивно я чувствовала, что мы вступаем в новую фазу нашего совместного существования.
Муди стал мягче, менее агрессивен и более рассудителен. Внешне он казался даже спокойным и уравновешенным. В его глазах я могла отметить все более глубокую заботу. Его беспокоили материальные проблемы.
– Мне по-прежнему не платят за работу в клинике, – жаловался он.
– Тогда откуда у тебя деньги? – спросила я.
– Я беру взаймы у Маммаля.
Я все-таки не верила ему. Я не сомневалась, что ему хочется убедить меня, что у нас нет денег и поэтому мы ничего не можем изменить в нашей ситуации.
Он стал приводить Махтаб домой каждый вечер, за исключением тех дней, когда у него были ночные дежурства. Через пару недель он уже позволял иногда Махтаб оставаться со мной весь день, когда он был на работе, но щеколда, задвинутая на дверях с двойным замком, давала нам ясно понять, что мы по-прежнему в заключении.
Однажды утром он вышел, как обычно. Я ждала знакомый щелчок закрываемой двери, но не услышала его. До меня донеслось лишь эхо удаляющихся шагов Муди. Подбежав к окну спальни, я увидела его на улице.
Неужели он забыл нас закрыть? А может быть, это лишь ловушка? Мы с Махтаб по-прежнему сидели дома. Через несколько часов он вернулся. Его хорошее настроение укрепило меня в убеждении, что незапертая дверь была проверкой. И теперь он был доволен, что мы оправдали доверие.
Все чаще и с большим волнением Муди говорил о нас троих как о семье, стремясь к тому, чтобы наш союз стал надежной защитой в этом чужом мире. Проходили дни и недели, и я все больше убеждалась, что он вернул Махтаб навсегда.
Махтаб тоже изменилась. Постепенно я узнала о ее жизни без от меня.
– Ты часто плакала? Ты просила папу, чтобы он привез тебя сюда? – спрашивала я.
– Нет, – ответила она тихим испуганным голоском. – Я не просила. Я не плакала. Я ни с кем не разговаривала, не играла, я ничего не делала.
Я неоднократно пыталась разрушить эту стену страха даже передо мной. В конце концов мне удалось узнать, что ее постоянно расспрашивали, особенно жена племянника Муди, Малюк. У нее выпытывали, ходила ли мама с ней в посольство, пыталась ли убежать из страны. Махтаб всегда отвечала односложно: «Нет!».
– Я пробовала убежать из дома, мамочка, – сказала она, точно думала, что я буду злиться на нее за то, что она не сумела выбраться оттуда.
В душе я была благодарна судьбе, что ей не удалось этого сделать. Я представляла себе маленькую одинокую Махтаб на запруженных улицах Тегерана, среди беспорядочно движущихся автомобилей, управляемых неосторожными водителями, среди этих бездушных, злых и подозрительных полицейских. Меня охватывал ужас.
Долгие дни, проведенные взаперти, я мучительно размышляла, анализировала ситуацию. Я не сомневалась, что никогда не привыкну к жизни в Иране. Я знала также, что мне нельзя верить больному, неуравновешенному Муди. Сейчас он стал более рассудительным, не таким агрессивным, но ни в коем случае я не должна полагаться на него.
Пока я разработала только общую стратегию. Меня глубоко обеспокоили расспросы Малюк, и я пришла к выводу, что должна все сохранять в тайне от дочери. Не буду говорить ей о возвращении в Америку. Это решение было для меня очень болезненным.
Маммаль и Насерин по-прежнему жили у родственников. Реза и Эссей вернулись в свой дом. Мы с Эссей втайне подружились.
Шестнадцатый день персидского месяца ордибехешт, который в этом году выпадал на 6 мая, – это день рождения Мехди, двенадцатого имама.
Много веков назад имам Мехди исчез, но шииты верят, что в день Страшного суда он появится вместе с Иисусом. По обычаю в этот день ему следует высказывать разные пожелания и просьбы.
Эссей пригласила меня пойти с ней к одной старой женщине, которая в этот день отмечала сороковую годовщину исполнения своего насра. Она поклялась, что если дочь излечится от смертельной болезни, будет каждый год в день рождения имама Мехди организовывать праздничные встречи.
Эссей пояснила, что на приеме будет около двадцати женщин. В моем воображении уже рисовался длинный день плача и молитв, поэтому я сказала, что у меня нет желания идти туда.
– Пойдем со мной, – просила Эссей. – Каждый, кто хочет, чтобы его желание исполнилось, идет туда, платит женщине, которая читает Коран, а она молится за него. На протяжении года перед следующим рождением имама Мехди это желание обязательно исполнится. Разве у тебя нет никакого желания? – Эссей тепло и искренне улыбнулась мне. Она знала мое желание!
– Хорошо, – ответила я. – Если Муди позволит, я пойду.
К моему удивлению, Муди согласился. Почти все его родственницы идут туда, а Эссей проследит за мной и Махтаб. Он даже хотел, чтобы я приняла участие в этом благочестивом собрании.
Тот день был полон неожиданностей. Мы вошли в дом и увидели женщин без чадры, одетых в пестрые одежды: пурпурные вечерние туалеты с глубокими декольте, расшитые цехинами платья без плеч, облегающие брюки. У всех были прически прямо от парикмахера и очень яркий макияж. Сверкало золото. Из стереофонических динамиков лилась музыка бандари.[10] В холле женщины танцевали очень эмоционально, поднимая руки над головой, ритмично двигая бедрами.
Эссей мигом сбросила чадру, и меня поразило платье бирюзового цвета со скандально большим декольте. Она была обвешана украшениями, точно рождественская елка.
Насерин была одета в костюм красного цвета. Зухра и Ферест тоже были там, но без матери. «Амми Бозорг больна», – объяснили они.
Когда я уловила общее настроение, я поняла причину болезни Амми Бозорг. Она не любила радостной атмосферы. Перспектива такой встречи вынудила ее «заболеть».
Вскоре торжественный вечер достиг апогея. Несколько женщин стали инициаторами танца живота. Другие начали петь.
Одна за другой они подходили к женщине, читающей Коран в углу холла. Та по динамику объявляла желание каждой и затем начинала читать молитвы.
Ферест пожелала, чтобы ей удалось сдать экзамены в школе.
Зухра жаждала найти мужа.
Эссей просила, чтобы Мехди начал ходить.
У Насерин не было желаний.
Спустя какое-то время Эссей спросила меня:
– У тебя нет никаких желаний?
– Есть, но я не знаю, как их выразить. Эссей дала мне немного денег.
– Подойди к женщине и дай ей это, а потом сядь рядом. Она помолится за тебя, – сказала она мне и предупредила: – Тебе не нужно говорить о своем желании, но ты должна сконцентрироваться на нем во время молитвы.
Я взяла Махтаб за руку и подошла к святой женщине. Молча вручив ей деньги, я села рядом.
Она обернула мою голову куском черного шелка и начала молиться.
В мозгу пронеслась мысль: ну и идиотка же я! И все же я должна испробовать все. Я сконцентрировалась: я желаю вместе с дочерью вернуться в Америку.
Ритуал длился лишь несколько минут. Возвращаясь к Эссей, я поняла, что у меня могут возникнуть проблемы. Эссей, Насерин, Зухра, Ферест могут сказать и непременно скажут Муди, что у меня было желание, и он захочет узнать какое.
Я решила сказать ему сама сразу по возвращении, пока кто-нибудь меня не опередил.
– Я попросила имама Мехди, чтобы он исполнил мое желание, – сказала я дома.
– А чего ты пожелала? – подозрительно спросил Муди.
– Я просила его сделать так, чтобы у нас снова была по-настоящему счастливая семья.
Надзор Муди постепенно ослабевал. Он позволял Махтаб проводить со мной по нескольку дней в неделю.
Мне стоило огромного труда набраться терпения, но ничего другого мне не оставалось. Сейчас я играла не только перед Муди, но и перед Махтаб. Я страстно произносила мусульманские молитвы, а Махтаб, следуя моему примеру, делала то же самое. Со временем Муди поверил, что наша жизнь постепенно приходит в норму. Меня угнетало сейчас только одно: я должна была демонстрировать свою любовь мужу. А если я забеременею? Я не имела права умножать свои проблемы, производя на свет новую жизнь в этой безумной стране. Я не хотела носить в себе ребенка, отца которого я ненавидела.
Девятого июня мой день рождения. Я не собиралась устраивать никакого торжества по этому случаю. Муди дежурил в клинике и потому приказал нам с Махтаб спуститься вниз, чтобы Эссей могла нас видеть. Я попыталась возразить, но он был непоколебим. Итак, вечером, в мой день рождения мы с Махтаб подметали пол в квартире Эссей, убирая дохлых тараканов. Потом мы разложили пледы и пытались уснуть.
Посреди ночи зазвонил телефон. Подошла Эссей, и я услышала, как она повторяет: на, на.[11]
– Это мои близкие, – сказала я. – Я хочу поговорить с ними. Сегодня мой день рождения.
Я схватила трубку и услышала голос моей сестры Каролин. Она сказала мне, что состояние отца без изменений и что Джо начал работать на монтаже в моей прежней фирме в Элсе. Слезы душили меня. Я с трудом могла говорить.
– Передай ему, что я люблю его, – наконец смогла я выдавить из себя. – Скажи Джону… что… я его тоже люблю.
Утром Муди вернулся с ночного дежурства и преподнес мне в честь дня рождения букетик хризантем. Я поблагодарила его и тотчас рассказала ему о звонке Каролин, желая опередить Резу или Эссей. К моей радости, он отреагировал на это без гнева, скорее безразлично.
В один из дней Муди взял нас на прогулку. Недалеко жили его родственники. Их, сын Мортез, почти ровесник Муди, жил с родителями. Несколько лет назад у него умерла жена, и родители помогали ему растить его дочь Элкам, приветливую и симпатичную, но очень грустную и одинокую девочку, которая была на несколько лет старше Махтаб. Муди привел нас к ним.
Из разговора я поняла, что родственники стараются убедить Муди, дать мне больше свободы.
– Мы очень рады, что ты пришла, – сказал мне Мортез. – Последнее время тебя не было видно. Мы беспокоились о тебе.
– Она чувствует себя хорошо, – ответил Муди. Его лицо выражало неудовольствие.
Мортез работал в министерстве, которое контролировало связь по телексу с заграницей. Это была очень ответственная работа, предоставляющая ему многие привилегии. В разговоре он признался нам, что намерен поехать отдыхать с Элкам в Швейцарию или Англию.
– Было бы хорошо, чтобы она подучила немного английский перед отъездом, – сказал он.
– Я с удовольствием позанимаюсь с ней, – предложила я.
– Замечательно, – согласился Муди. – Вы могли бы приводить ее к нам домой.
Позже Муди признался, что очень доволен. Элкам – чудесный ребенок, воспитанный лучше большинства иранских детей, и он хочет ей помочь. Муди был сильно привязан к девочке, ведь он так же, как и она, потерял мать в раннем возрасте. Кроме того, его радовало, что для меня нашлось занятие.
– Мне хочется, чтобы ты была здесь счастлива, – сказал он.
– Я тоже бы хотела этого, – соврала я.
Реза и Эссей решили совершить паломничество к святой мечети в Мешхеде, где к Амми Бозорг пришло чудодейственное выздоровление. Перед рождением Мехди Реза и Эссей поклялись совершить паломничество, если Аллах одарит их сыном. То, что Мехди был калекой, не имело значения. Они должны были выполнить наср и предложили нам поехать с ними. Я настаивала, чтобы Муди принял приглашение.
Я тотчас же подумала о том, что до Мешхеда мы полетим самолетом. В последнее время на внутренних рейсах нередко совершались угоны самолетов, кто знает, что случится с нами. Кроме того, путешествие, пожалуй, успокоит Муди, а мое желание участвовать в паломничестве убедит его в моей растущей привязанности к исламскому образу жизни.
Была еще одна, более глубокая причина моего рвения. Я действительно хотела совершить это паломничество. Эссей сказала мне, что у того, кто правильно проведет ритуальные молитвы у гробницы в Мешхеде, исполнятся три его желания. У меня было только одно желание, но оно для меня означало все.
Муди охотно присоединился к паломникам. У него тоже были желания.
Полет до Мешхеда длился очень недолго, а по прибытии мы сразу же поехали на такси в гостиницу. Муди с Резой забронировали места в лучшей гостинице города.
– Да что это такое? – буркнул он, когда мы оказались в холодной и сырой комнате.
Нас ждала измятая постель. На окне вместо штор болтался оборванный кусок ткани. Серые стены потрескались. Ковер был таким грязным, что мы не отважились снять обувь. Вонь из туалета перехватывала дыхание.
«Апартаменты» Резы и Эссей не отличались от наших. Мы решили незамедлительно посетить гробницу. Отчасти из религиозных мотивов, а главное, чтобы скорее сбежать из гостиницы.
Мы с Эссей надели абу, которое одолжили для этого случая. Оно напоминало чадру, но с эластичным шарфом, поддерживающим одежду. Для таких новичков, как я, абу значительно удобнее.
Мы отправились в мечеть.
Я никогда еще не видела такой большой мечети. Она была украшена огромными куполами и минаретами. Мы пробирались через толпы верующих, совершавших омовение перед молитвой.
У харама мужчины и женщины разделились. Мы с Эссей, держа за руки Мариам и Махтаб, пытались прокладывать себе дорогу локтями среди молившейся в экстазе толпы. Мы хотели подойти так близко, чтобы коснуться харама, чтобы высказать Аллаху наши желания, но всякий раз нас оттесняли в сторону.
Оставив меня и Махтаб, Эссей нырнула в людское море, подняв дочь высоко над толпой, и все-таки пробралась к хараму, чтобы ребенок мог коснуться фоба.
Позднее Муди злился на меня, что я не сделала того же для Махтаб.
– Завтра ты возьмешь Махтаб, – обратился он к Эссей.
Три дня пролетели в религиозном экстазе. Мне удалось отвоевать доступ к хараму, и, прикасаясь к гробу, я горячо молила Аллаха выполнить лишь одно мое желание: позволить Махтаб и мне, не подвергая нас опасности, вернуться в Америку, пока еще жив мой отец.
Паломничество произвело на меня глубокое впечатление. Я, как никогда раньше, почувствовала, что религия Муди стала мне близкой. Возможно, это был результат моего отчаяния. Так или иначе я начала верить в силу харама. В последний день нашего пребывания в Мешхеде я решила повторить святой ритуал со всей преданностью, на какую только была способна.
– Я бы хотела пойти к хараму одна, – сказала я Муди.
Он не задавал вопросов. Моя набожность была для него очевидной. Едва заметной улыбкой он выразил свое удовлетворение.
Пока все еще собирались, я вышла из гостиницы, чтобы занести к священному гробу свое последнее и самое искреннее желание. Я легко пробралась к хараму, дала несколько риалов мужчине в тюрбане, который согласился помолиться за меня, за мое тайное желание, после чего села у гроба, погрузившись в глубокую медитацию. Раз за разом я повторяла Аллаху мое желание, испытывая при этом чувство удивительного покоя. Сейчас я надеялась, я верила, что Аллах-Бог исполнит мою просьбу. Скоро. Очень скоро.
Фрагменты плана начали складываться в единое целое.
В один из дней Муди взял нас в дом Амми Бозорг. В этот раз он не переоделся, как обычно, в свободную пижаму. Более того, спустя несколько минут он затеял шумный спор со своей сестрой. Они перешли на диалект шуштари, на котором разговаривали с детства, так что мы с Махтаб не могли ничего понять.
– У меня есть кое-какие дела, – сказал он вдруг, обратившись ко мне. – Вы с Махтаб останетесь здесь.
У меня не было желания разговаривать с кем-нибудь из домашних. Мы с Махтаб прошли на патио рядом с бассейном, чтобы погреться на солнышке.
К моему неудовольствию, Амми Бозорг вышла за нами.
– Азизам, – произнесла она мягко.
Дорогая! Амми Бозорг назвала меня дорогой! Она обняла меня длинными костлявыми руками.
– Азизам, – повторила она.
Она говорила по-персидски, пользуясь простыми словами, такими, которые я сама могла понять или Махтаб могла перевести мне.
– Мне очень, очень неприятно, дорогая. – Она подняла руки кверху и запричитала: – О Аллах!
Затем неожиданно предложила:
– Иди к телефону и позвони своим близким. «Это хитрость», – подумала я.
– Нет, – ответила я. – Я не могу, потому что Муди не позволяет мне делать это.
– Это ничего, позвони, – настаивала она.
– Папа будет сердиться, – сказала Махтаб. «Что здесь происходит? – думала я. – Может, это очередной капкан Муди? Или что-нибудь изменилось, а я даже не знаю об этом?» Амми Бозорг обратилась к Махтаб:
– Твой папа не будет злиться, потому что мы ему ничего не скажем.
Я продолжала сомневаться. Моя подозрительность усилилась.
Амми Бозорг исчезла на минуту, но вскоре вернулась в сопровождении дочерей, Зухры и Ферест, которые обратились к нам по-английски.
– Позвони домой, – сказала Зухра. – Нам в самом деле неприятно, что у тебя нет с ними связи. Позвони всем, говори сколько хочешь. Мы ему ничего не скажем.
Слово «ему» было произнесено с оттенком злобы.
И я позвонила, выплакивая в трубку мою горечь и любовь к своим родным. Они тоже плакали. Отец признался, что его состояние ухудшается с каждым днем, что боль атакует его все больше, а врачи настаивают на необходимости следующей операции. Я связалась также с Джо и Джоном, разбудив их среди ночи. Они жили в доме своего отца.
Во время разговора Амми Бозорг оставила нас одних и не подслушивала. Потом она пригласила меня в холл. С помощью Махтаб, Зухры и Ферест мы поговорили, в результате чего я многое для себя прояснила.
– Это я сказала Муди, чтобы он вернул тебе Махтаб, – утверждала она.
Возможно ли это? Возможно ли, чтобы та женщина, которую я так ненавидела и которая была так враждебно настроена ко мне, вдруг стала моей союзницей? Неужто она была столь здравомыслящей, чтобы заметить прогрессирующее безумие у младшего брата? Или настолько милосердной, чтобы попытаться защитить меня и Махтаб? Слишком сложно было во всем этом сразу разобраться. Я разговаривала с ней очень осторожно, однако мне казалось, что она меня понимает. Я убедилась, что в ее отношении ко мне действительно произошли изменения. Но чем это объяснить?
В тот день мне удалось решить еще одну проблему. Большинство вещей нашего багажа находилось в шкафу спальни, которую когда-то – тысячу лет назад – отдали в этом доме в наше распоряжение. Никто этой комнатой не пользовался, она по-прежнему принадлежала нам. Я дождалась, пока останусь одна, вошла туда и нашла пакет с лекарствами, которые Муди привез из Америки.
В узкой пластмассовой коробочке я обнаружила маленькие розовые таблетки.
Я никогда не узнаю, каким образом Муди удалось провезти противозачаточные средства через мусульманскую таможню. Во всяком случае я нашла эти таблетки: много упаковок, разбросанных среди других лекарств. Считал ли их Муди? Этого я не знала. Но страх, что Муди узнает об этом, оказался слабее, чем опасение забеременеть. В конце концов я решила рискнуть и забрать месячную норму.
Я спрятала маленький пакетик под одежду. Пластмассовая коробочка шелестела при каждом движении, и я могла лишь молиться, чтобы никто не услышал.
Когда Муди вернулся, никто не рассказал ему о моем телефонном разговоре с Америкой. Собираясь уходить, я дрожала от страха при каждом шорохе, сопровождающем мои движения. Но, по всей видимости, слышала его только я.
Дома я спрятала таблетки под матрас. На следующий день я проглотила первую пилюлю, не имея понятия, в какое время нужно ее принимать, и молилась, чтобы она подействовала.
Дня через два позвонил Баба Наджи и сказал, что хочет навестить нас.
Я металась по кухне, готовя чай и угощение для уважаемого гостя, в страхе, что, быть может, он пришел рассказать Муди о моих телефонных звонках. Но, к своей радости, мы с Махтаб подслушали разговор, который неожиданно вселил в меня надежду.
Насколько мы могли понять, Баба Наджи говорил: «Эта квартира принадлежит Маммалю. Он переехал к родственникам из-за тебя, потому что Насерин не хочет все время ходить закрытой в собственном доме из-за того, что ты здесь. С них уже хватит. Этажом ниже квартира Резы, которой ты тоже пользуешься. Вы должны сейчас же переехать. Вы должны отсюда уйти».
Муди отвечал спокойно и уважительно. Он сказал, что, конечно, прислушается к «просьбе» Баба Наджи.
Муди был в бешенстве от своих родственников, своих собственных племянников. Неожиданно Махтаб и я стали единственной его опорой. Сейчас мы втроем оказались покинутыми и ненужными в этом несправедливом и жестоком мире.
Мы уложили Махтаб и долго разговаривали.
– Я помог Резе получить образование, – жаловался Муди, – давал ему все, в чем он нуждался. Я дал ему деньги, машину, помог приобрести дом. Я оплатил операцию Маммаля. Я всегда предоставлял моим родственникам все, что они хотели. Когда они звонили в Америку и просили одежду, я высылал ее. Они забыли обо всем, что я для них сделал, а сейчас они хотят меня отсюда выбросить!
Потом он добрался до Насерин.
– А эта Насерин! Она просто глупа: ей вовсе не нужно постоянно закрываться. Почему она не может быть такой, как Эссей? Конечно, им было очень удобно с нами. Ты убирала, готовила и меняла пеленки Амиру. Ты занималась всем. Какая она мать и жена? А сейчас лето, у нее каникулы, ей не надо ходить на занятия в университет и ей не нужна уже нянька, поэтому они решили избавиться от нас! А нам некуда идти, у нас нет денег.
Мне странно было слышать эти слова. Прежде Муди, движимый мусульманским рвением, осуждал Эссей за то, что она небрежно закрывала лицо, и, напротив, хвалил Насерин.
Я выразила ему свое сочувствие. «Будь я на месте Насерин, ни за что не согласилась бы на присутствие Муди в своем доме», – подумала я. Но полностью заняла позицию мужа, как он того ожидал. Я снова была его союзницей, бесстрашным товарищем, его самой заинтересованной сторонницей. Я всячески старалась обласкать его неискренними, но желанными для него признаниями.
– У нас на самом деле нет денег? – поинтересовалась я.
– Да. Мне по-прежнему не платят. До сих пор не улажены формальности.
Я не поверила ему, но вслух спросила:
– Куда мы должны переехать?
– Маджид предложил, чтобы мы подыскали себе квартиру, и они с Маммалем будут оплачивать.
С большим трудом мне удалось скрыть радость. Теперь уж мы уйдем из этой тюрьмы, ведь Муди дал слово Баба Наджи. Кроме того, я знала, что о возвращении в дом Амми Бозорг не может быть и речи. Жить с родственниками не входило в планы Муди, уж очень они оскорбили его достоинство.
В глубине души я надеялась, что Муди подумает о возвращении в Америку.
– Они тебя не понимают, – мягко говорила я. – Ты столько для них сделал. Но оставим это. Все как-нибудь устроится. В конце концов, нас трое.
– Да, – сдавленно ответил он и обнял меня, потом поцеловал. В последующие несколько минут мне удалось забыть о действительности. Мое тело стало единственным инструментом, каким я пользовалась для обретения свободы.
В поисках дома мы бродили по грязным улицам в сопровождении посредника. Все, что нам было предложено, находилось в ужаснейшем состоянии. На протяжении десятков лет к этим жилищам не прикасалась не только кисть маляра, но и даже метелка.
Я наблюдала за Муди. Потребовался почти год, чтобы он наконец-то избавился от сантиментов детства и начал замечать нужду, которую его земляки считали нормой. Ему уже здесь не нравилось.
Вокруг его шеи сжималась петля случайных стечений обстоятельств. Хотя по-прежнему он занимал престижную должность в клинике, однако врачебную практику вел нелегально: он не мог убедить антиамерикански настроенные власти признать его диплом; был не в состоянии получить свою зарплату; не мог обеспечить семье благополучие.
Муди коробило также и то, что он должен подчиняться желаниям старейшины рода. Баба Наджи имел приятеля-посредника по найму недвижимости. Тот показал нам квартиру по соседству с домом Маммаля, но она нам не понравилась, и мы отказались. Это послужило поводом для острой дискуссии Муди и Баба Наджи.
– Там нет двора, – объяснял Муди. – Махтаб нужно где-то играть.
– Это не так важно, – ответил Баба Наджи. Потребности и желания детей его вообще не интересовали.
– Там нет мебели, – продолжал Муди.
– Это неважно. Вам не нужна мебель.
– Но у нас же ничего нет, – стоял на своем Муди. – Нет плиты, холодильника, стиральной машины. Нет даже ни одной тарелки или ложки.
Я была поражена и удовлетворена аргументацией Муди. Он хотел, чтобы у Махтаб был двор, чтобы у меня было все необходимое. Ему хотелось, чтобы у всех что-нибудь было, а не только у него. И он стремился ко всему этому так сильно, что готов был воспротивиться старейшине рода.
– Это неважно, – повторял Баба Наджи. – У вас будет своя квартира, а мы дадим вам все необходимое.
– Та'ароф, – отрезал Муди, почти крича на святого мужа. – Все это лишь та'ароф.
Баба Наджи вышел в ярости. Муди боялся, что зашел слишком далеко.
– Нам нужно как можно быстрее найти квартиру, – сказал он. – Следует подыскать что-нибудь приличных размеров, где бы я смог открыть кабинет и начать зарабатывать хоть немного денег.
После минутного раздумья он озабоченно добавил:
– Необходимо получить наши вещи из Америки.
Родственник Муди Реза Шафии был анестезиологом в Швейцарии. Его периодические визиты к родителям всегда были поводом для больших торжеств. И когда мы получили приглашение на обед, даваемый в его честь, Муди пришел в неописуемый восторг. Поскольку он сейчас работал в клинике и собирался открыть частный кабинет, профессиональные разговоры представляли для него особый интерес.
Нам очень хотелось вручить Резе Шафии подарок, и мы с Махтаб отправились его покупать, но магазин был закрыт на время молитв.
– Подождем здесь, – сказала я, указывая тень под деревом. – Очень жарко.
Невдалеке мы заметили группу пасдаров – грузовик, заполненный мужчинами в мундирах, и «пакон» с четырьмя женщинами-полицейскими. Машинально я подняла руку к лицу, чтобы удостовериться, что ни одна прядь волос не выбилась из-под русари. «На этот раз они не привяжутся ко мне», – сказала я себе.
Нам скоро надоело ожидать, и мы снова подошли к магазину, желая посмотреть, нет ли где расписания его работы. Тут же «пакон» рванул с места и со скрежетом тормозов остановился возле нас. В мгновение ока выскочили четыре пасдарки. Говорила только одна.
– Ты не иранка? – спросила осуждающе она по-персидски.
– Нет.
– Откуда ты приехала?
– Из Америки, – ответила я по-персидски.
Она говорила резко и быстро. И я вынуждена была обнаружить мое ограниченное знание языка.
– Не понимаю, – отозвалась я.
Это еще больше распалило пасдарку. Она выплеснула на меня всю свою злобу на этом непонятном мне языке, пока Махтаб не перевела ее слова.
– Я хочу знать, почему ты не понимаешь, – перевела Махтаб и добавила: – Она говорит, что вначале ты говорила по-персидски.
– Объясни ей, что я знаю только несколько слов.
Это немного успокоило пасдарку, но она продолжала стрекотать, а Махтаб переводила:
– Она задержала тебя, потому что твои носки опускаются.
Я подтянула свои носки, а пасдарка ушла, оставив Махтаб последнюю инструкцию:
– Скажи своей матери, чтобы она никогда не выходила на улицу в спущенных носках.
По дороге домой я предупредила Махтаб, чтобы она не рассказывала отцу об этом инциденте. Я опасалась, что Муди ограничит нашу свободу.
В тот вечер мы отправились к аму[12] Шафии в район Гейши, чтобы передать ему фисташки для Резы. Там было в гостях пятьдесят—шестьдесят человек.
Поздним вечером, когда уже некоторые гости разошлись, а мы собирались последовать за ними, раздался зловещий вой сирен. Погас свет. Я прижала к себе Махтаб, и обе мы протиснулись к стене вместе с другими гостями.
Слышен был только гул приближающихся самолетов, но артиллерия молчала.
– Нехорошо, – сказал кто-то. – Может, у нас закончились боеприпасы.
Атакующие самолеты зависли почти над нами. Последовавший взрыв оглушил меня.
Вдруг на нас рухнула стена. Мы с Махтаб инстинктивно бросились вперед. Послышался звон бьющегося стекла.
Мы не успели опомниться, как нас накрыл второй, а за ним третий взрыв. Дом задрожал. Отовсюду сыпалась штукатурка. Махтаб отчаянно плакала. Муди судорожно сжимал мою ладонь.
Вскоре гул самолетов и чудовищный звук разрывов бомб сменились сиренами «скорой помощи». С улицы доносились крики пострадавших.
– На крышу! – раздался чей-то голос, и все как один бросились на плоскую крышу. Зарево пожарищ и фары машин «скорой помощи», автомобилей полиции и пожарных машин освещали темноту ночного города. Сквозь густой дым и пыль мы увидели вокруг смерть и разрушения. Здания превратились в открытые кратеры на поверхности земли. Ночь дышала порохом и жженым мясом. На улице в состоянии крайнего возбуждения мужчины, женщины и дети бегали как безумные, крича, плача, разыскивая близких.
На следующее утро улицы по-прежнему были перекрыты, но за Муди из клиники прислали машину. Пока он был занят, я целый день перевязывала раненых.
Вечером Муди вернулся в дом аму Шафии. Район все еще был закрыт для движения, за исключением «скорой помощи», поэтому мы провели здесь и следующую ночь. Муди, уставший и раздраженный, принес угнетающую информацию о многочисленных жертвах налета. В одном только доме, полном гостей по случаю дня рождения, погибло около семидесяти детей.
Реза Шафии отложил свое возвращение в Швейцарию и предложил Муди:
– Ты не должен оставлять Бетти и Махтаб здесь, – сказал он. – Для них это небезопасно. Позволь мне забрать их в Швейцарию. Я позабочусь о них.
«Насколько Реза Шафии осведомлен о моей ситуации? – спрашивала я себя. – Действительно ли он собирался караулить нас в Швейцарии? Может быть, он только хотел развеять опасения Муди о том, что мы сбежим?» Я была уверена, что в любом случае оттуда мы сможем вернуться в Америку.
Однако Муди в одно мгновение затушил эту слабую искорку надежды.
– Нет, ни в коем случае, – буркнул он.
Его больше устраивало подвергнуть нас опасности, связанной с войной.
В доме аму Шафии мы провели еще два дня. Сообщения правительства звучали с каждым днем все таинственнее. По сведениям репортеров, причиной молчания противовоздушной обороны явилось то, что в настоящее время Иран располагает самыми современными ракетами типа «воздух—воздух», более эффективными, чем артиллерия. Один из комментаторов сказал, что люди удивятся, когда узнают о происхождении этих ракет.
Америка? Россия? Франция? Израиль? Умозаключения были самые разные, но Муди был уверен, что новое оружие поступает из Соединенных Штатов. По причине эмбарго на оружие, говорил он, вероятнее всего, Америка поставляет оружие через третьи страны, заставляя Иран платить высокие цены.
Я не знала, да и не хотела знать, откуда поступают ракеты. Я лишь молилась, чтобы ими не нужно было пользоваться.
Однажды Муди разрешил нам с Махтаб сопровождать Эссей и Мариам во время походов в магазины за одеждой для девочек. После многочасовой беготни мы остановили оранжевое такси и вчетвером уселись на переднее сиденье. Я сидела посередине с Махтаб на коленях. Машина двинулась, и вдруг я почувствовала, как таксист гладит мою ногу. В первую минуту я подумала, что это случайность, но его ладонь поползла выше, почти до самого бедра.
От него исходил неприятный запах пота: он похотливо наблюдал за мной краем глаз. Воспользовавшись тем, что Махтаб была занята Мариам, я толкнула его локтем под ребра. Но это его лишь разохотило. Он мял мою ногу, а потом стал пробираться еще выше.
– Остановитесь здесь! – обратилась я к нему. Таксист затормозил.
– Ничего не говори, быстро выходи, – сказала я Эссей.
Я вытолкнула ее и девочек на тротуар, выбираясь за ними следом.
– Что случилось? – спросила она. – Мы же не сюда ехали!
– Знаю, – ответила я, вся дрожа.
Я предложила девочкам посмотреть витрины. Когда они отошли, я все рассказала Эссей.
– Я слышала о подобных случаях, – сказала она. – Правда, со мной ничего такого не происходило. Я думаю, что так относятся только к иностранкам.
Я понимала, во что это может вылиться.
– Эссей, – умоляла я, – прошу тебя, не говори об этом Муди, потому что он не позволит мне снова выходить в город. Очень тебя прошу, не говори об этом и Резе.
Эссей задумалась и утвердительно кивнула головой.
Я часто думала о причине ухудшения отношений Муди с его иранскими родственниками. Стараясь понять этого человека как можно лучше, чтобы быть готовой к контратаке, я внимательно изучала детали его биографии. Едва достигнув совершеннолетия, он уехал в Англию. Потом переехал в Америку. Работал в школе, но ушел, чтобы учиться в политехническом институте. Будучи уже инженером, занялся медициной. Три года прошли в Корпус Кристи, два в Альпене и год в Детройте. Затем он взорвал спокойный быт, привезя нас в Тегеран. И вот снова, спустя почти год, в его жизни воцарился хаос.
Он умел сохранять жизненное равновесие только недолгое время, а потом снова менял место в силу объективных причин, коими и объяснял все. Но сейчас задним умом я понимала, что в каждом случае причина была только в нем самом.
Все эти мысли порождали у меня надежду, хотя и слишком призрачную, что он, возможно, примет решение о возвращении в Америку. Но оказалось, что это далеко не так.
Однажды я завела разговор на эту тему. Муди скорее помрачнел, чем разозлился. Он поведал мне историю, которая мне показалась неправдоподобной.
– Ты помнишь доктора Моджалили? – спросил он.
– Конечно, – ответила я.
Доктор Моджалили был приятелем Муди в Корпус Кристи. Но вскоре после того, как было занято посольство США в Тегеране, они порвали всякие отношения.
– Он работал на CIA, – утверждал Муди, – и хотел, чтобы я настраивал иранских студентов против Хомейни. Естественно, я отказался. Так что сейчас нам закрыт путь в Америку. Если я туда вернусь, меня убьют.
– Это неправда! – запротестовала я.
– Это правда! – крикнул он.
Вскоре я узнала другую, определенно более вескую причину, по которой Муди был закрыт путь в США. О ней мне рассказала Хелен.
– Он не может сделать это: у него закончился срок карты постоянного пребывания.
Таким образом, сейчас Муди мог бы вернуться в Америку только в том случае, если бы я, его жена, согласилась на это. Наверное, я бы так и поступила, хотя бы для того, чтобы мы с Махтаб тоже могли вернуться домой. Но он не стал бы просить меня о согласии. Это ранило бы его мужское достоинство.
Он слишком долго ждал. Придуманный им такой совершенный с его точки зрения план рухнул. Именно Муди сейчас является заключенным в Иране!
В одном из номеров газеты «Хаян» я прочла объявление агентства по найму квартир для иностранцев.
– Я думаю, что это заслуживает внимания, – сказала я Муди. – Может быть, мне следует связаться с ними?
– Попробуй, позвони им, – согласился он.
К телефону подошла женщина, которая хорошо говорила на английском языке. Она была в восторге, узнав, что квартиру ищет американская семья. Мы договорились встретиться на следующий день.
Посредники агентства показали нам несколько квартир. Все они были чистыми, светлыми, прекрасно меблированными. К сожалению, ни одна из них нам не подходила: одни были слишком маленькие, другие находились очень далеко от клиники, – но мы понимали, что на сей раз мы обратились туда, куда следовало. Дома и квартиры принадлежали инвесторам, находящимся за границей, или состоятельным и культурным иранцам, которые хотели, чтобы арендованные помещения содержались в хорошем состоянии, и потому не сдавали их своим землякам.
Мы были уверены, что рано или поздно найдем подходящий вариант. Поскольку работа Муди ограничивала нас во времени, сотрудница агентства предложила нам свои услуги. Не зная ситуации в нашей семье, она простодушно спросила:
– А может Бетти сходила бы со мной днем? Мы смогли бы посмотреть намного больше квартир, и, если бы ей что-нибудь понравилось, тогда бы и вы посмотрели.
Я взглянула на Муди, ожидая его реакции.
– Хорошо, – выдавил он.
Позднее, наедине, он не преминул уточнить свои условия:
– Она должна за тобой заехать, и ты будешь с ней все время, а потом она привезет тебя обратно домой.
– Я согласна, – ответила я.
Медленно, очень медленно я освобождалась от связывающих меня пут.
На следующий день я нашла то, что отвечало всем нашим требованиям. Это была просторная двухэтажная квартира в северной части Тегерана, где все дома были новыми, чистыми и более современными, которая находилась в пятнадцати минутах езды на такси от клиники.
Дом был построен еще во времена правления шаха. Заинтересовавшая меня квартира имела итальянскую мебель: удобные диваны и кресла, элегантный гарнитур в столовой, современная кухня. Телефон подключен, значит, нам не нужно записываться в бесконечную очередь ожидавших. Был и большой покрытый густой травой луг с бассейном.
Апартаменты занимали большую часть здания, имели два крыла, которые сотрудница агентства называла виллами. Вилла с правой стороны могла быть в нашем распоряжении, а центральная часть прекрасно подходила для кабинета Муди.
Спальня и комната для Махтаб находились на верхнем этаже. Там также была большая ванная комната с ванной, душем и туалетом в западном стиле.
Вечером Муди вместе со мной пришел посмотреть квартиру. Она не могла не понравиться ему.
Наш переезд, оплаченный Маджидом и Маммалем, осуществился в конце июня. Одни родственники дали Муди приличную сумму денег, чтобы он смог приобрести все необходимое: полотенца, одеяла, подушки, столовую посуду, кастрюли и продукты. Другие тоже помогли нам, обрадовавшись, что мы наконец устраиваемся.
Чтобы отметить наше примирение, ага и ханум Хакимы пригласили нас на ужин, приготовив Муди сюрприз, который оказался для меня многообещающим. Когда мы вошли в дом, Муди вдруг вспыхнул при виде двух неожиданных гостей.
– Шамси! Зари! – возбужденно воскликнул он. Со своими сестрами Муди давно потерял связь, и сейчас искренне радовался встрече с ними. Мне с первого взгляда понравилась Шамси Наджафи, еще до того, как я узнала подробности ее жизни. Она носила чадру, но совершенно иного типа, чем те, которые я видела: ее чадра была сшита из тонкого прозрачного гипюра. На ней были черная юбочка и розовый свитерок по западной моде. И разговаривала она со мной на безукоризненном английском языке.
Восторгу Муди не было предела, когда он узнал, что муж Шамси работает хирургом в одной из частных клиник Тегерана.
– Может быть, доктор Наджафи устроит тебя к себе на работу, – заметил ага Хаким.
И еще я узнала нечто, что меня очень обрадовало: Шамси и Зари десять месяцев в году жили в Америке. Доктор Наджафи делил свое время между двумя странами. Шесть месяцев в году он проводил здесь, где, работая частным образом, получал огромные гонорары, а другую половину года – в Калифорнии. Зари была на пятнадцать лет старше Шамси. Овдовев, она стала жить с сестрой. Ее английский не был столь совершенным, как у Шамси, но и она показалась мне очень милой. Обе женщины считали себя американками.
Ужинали мы сидя на полу. Я прислушивалась к разговорам, которые велись то на персидском языке, то по-английски, и осталась довольна. Зари спросила Муди:
– Как твоя сестра относится к Бетти?
– Ну, не все у них гладко складывается, – ответил он.
Шамси набросилась на Муди.
– С твоей стороны нехорошо вынуждать жену общаться с такими людьми, как твоя сестра, – сказала она. – Я знаю ее и понимаю, что Бетти никогда не найдет с ней общего языка. Она всегда будет недовольна Бетти. Они принадлежат к слишком разным культурам. Я убеждена, что Бетти ее не терпит.
Несколько оскорбленный порицанием женщины, Муди, однако, согласился с ней.
– Да, это было нехорошо, – ответил он.
– Вам нужно вернуться домой, – сказала Шамси. – Почему вы так долго живете здесь?
В ответ Муди пожал плечами.
– Это ошибка, – продолжала Шамси. – Не глупи, возвращайся.
Зари поддержала сестру.
Муди снова молча пожал плечами.
«Нам нужно проводить больше времени с этими людьми», – подумала я.
Когда мы собирались уходить, Муди сердечно позвал их к нам на ужин.
Мне хотелось убедиться, что это приглашение было чем-то большим, чем та'ароф.
– Ты знаешь, они действительно мне очень понравились, – сказала я по дороге домой. – Давай пригласим их как можно скорее.
– Хорошо, – согласился он, умиротворенный вкусной едой и приятной встречей.
Наконец начальник моего мужа сообщил, что ему начислена зарплата. Деньги переведены на счет в банке, в котором Муди нужно было лишь сослаться на регистрационный номер.
Возбужденный, он сразу же пошел в банк, чтобы получить первую зарплату после почти годового пребывания в Иране. Однако там его проинформировали, что денег на счету нет.
– Но мы же перечислили туда деньги, – уверял Муди начальник администрации клиники.
– На счету нет денег, – упрямо твердил банк. Муди неоднократно путешествовал туда и обратно, все более распаляясь, пока в конце концов не понял причину недоразумения: бюрократия. Вся бухгалтерия в Иране ведется вручную. Он пришел в бешенство, узнав, что свои деньги должен будет ждать еще около десяти дней.
– Чтобы навести порядок в этой паршивой стране, потребовалась бы атомная бомба! Ее надо стереть с карты мира и начать создавать заново! – кричал он дома.
Позднее у него появилось еще больше причин для гнева. Когда деньги наконец пришли, оказалось, что сумма значительно меньше, чем обещали. Кроме того, клиника пользовалась особой системой оплат. Муди рассчитал, что, работая два дня в неделю, он может получить столько же, сколько в шестидневном цикле дежурств в клинике. Он заявил, что будет работать только по вторникам и средам, и таким образом высвободил время для своей частной практики.
Он прикрепил к дверям табличку на персидском языке: «Д-р Махмуди. Американский диплом и практика. Специализация – обезболивание».
Его племянник, юрист по профессии, зайдя к нам домой и увидев объявление, поднял крик.
– Не делай этого! – говорил он взволнованно. – Это рискованно, заниматься практикой без разрешения. Тебя арестуют.
– Меня это не беспокоит, – ответил Муди. – Я ждал столько времени, но никто и пальцем не шевельнул, чтобы решить мой вопрос. Я не собираюсь больше ждать.
Если бы даже Муди и опасался, что мы с Махтаб попытаемся сбежать, то он все равно не смог бы что-либо предпринять. Сейчас он нуждался в нас больше, чем когда-либо. Мы были его семьей, единственными близкими ему существами. И это давало шанс.
Мы жили недалеко от центральной улицы, на которой находилось три продуктовых магазина. Один из них – супермаркет. Конечно, он не шел ни в какое сравнение с себе подобными в Америке, но в нем все же можно было купить основные продукты. Всегда здесь были фасоль, сыр, кетчуп и приправы. По определенным дням – молоко и яйца. Второй магазин торговал сабзи. В третьем продавали мясо.
Муди поддерживал приятельские отношения с хозяевами этих магазинов. Их семьи лечились у него бесплатно. Из благодарности они сообщали нам, когда должны поступить дефицитные продукты, и оставляли для нас лучший товар.
Почти каждый день я заходила к ним с пачками газет и кусками шпагата для упаковки продуктов. Ага Реза, владелец супермаркета, сказал однажды:
– Вы – самая лучшая женщина в Иране. Иранские женщины, как правило, расточительны.
Все три хозяина называли меня «доктор ханум», и всегда находился какой-нибудь парень, который относил домой мои покупки.
Мечта Муди стать пользующимся авторитетом врачом осуществлялась. Но ему не хватало времени заниматься деталями, поэтому он доверил все свои деньги мне.
– Купи, что нужно, – сказал он. – Устрой дом, мой кабинет.
Такое разделение обязанностей означало борьбу с повседневными проблемами. А для меня, иностранки, живущей в четырнадцатимиллионном городе, иногда полном враждебно настроенных и непредсказуемых людей, это было особенно трудно. Я не слышала ни об одной женщине, будь то иранка, американка или кто-либо еще, которая бы осмеливалась на регулярные вылазки в центр Тегерана без сопровождения.
Однажды Муди попросил меня зайти в магазин, принадлежащий отцу Малюк (она заботилась о Махтаб, когда та жила там), и купить кухонные полотенца, а также материал для простыней – роскошь, которая ввела бы нас в число элиты.
– Поезжай автобусом, – сказал он. – Это далеко, а автобус – бесплатно.
Он дал мне пачку автобусных билетов, которые выдавали сотрудникам государственных учреждений.
Мы с Махтаб воспользовались его советом.
Поездка в центр заняла более часа. Мы нашли магазин и сделали покупки. Наконец нам удалось добраться до автовокзала. Я не могла найти нужный нам автобус и уже начала по-настоящему беспокоиться.
Наверное, в моих глазах можно было прочесть ужас, потому что какой-то иранец спросил:
– Что вы ищете?
– Саид Чандан, – ответила я. – Это Саид Чандан.
– Нет, – ответил он, отрицательно покачав головой.
Жестом он пригласил меня и Махтаб следовать за ним и проводил нас к пустому автобусу.
– Вот Саид Чандан, – сказал он.
Я поблагодарила его. Мы с Махтаб забрались в салон. В нашем распоряжении были все свободные места. Мы выбрали первые, сразу за водителем.
Вскоре автобус заполнился пассажирами. К моему удивлению, мужчина, который помог нам, занял место за рулем.
Я подала ему билет, но он лишь махнул рукой. Я стала беспокоиться, так как водитель уже вызывал у меня подозрение.
У него были коротко подстриженные чистые волосы, однако только это и можно было отметить в нем как положительное.
Когда пришло время отправления, водитель прошел по узкому проходу на заднюю площадку и стал собирать билеты. Взяв протянутые мной билеты, он схватил мою ладонь и медленно провел своей рукой вместе с билетами по ней. Я испугалась еще сильнее, потому что такой жест не был характерен для иранцев. Я пыталась отвлечься, желая только одного: как можно быстрее вернуться с Махтаб домой.
Моя девочка уснула и всю дорогу спала. «Как же я занесу ее домой со всеми этими пакетами?» – думала я и решила ее разбудить.
– Махтаб, – ласково позвала я ее. – Пора выходить.
Она спала так крепко, что даже не пошевелилась.
Все пассажиры уже вышли. Водитель ждал только нас. Он улыбнулся, давая понять, что вынесет Махтаб из автобуса. «Это очень мило с его стороны», – подумала я.
Он поднял Махтаб и, к моему ужасу, плотоядно прикоснулся губами к ее щеке.
Я в панике оглянулась вокруг. В пустом автобусе было темно. Я быстро собрала пакеты и направилась к выходу.
Водитель, держа на одной руке Махтаб, второй преградил мне дорогу. Молча он наклонился ко мне, наваливаясь всем телом.
– Извините, – сказала я, выхватывая Махтаб из его объятий.
Я пыталась обойти его, но он, загородив проход, по-прежнему молча продолжал наваливаться на меня своим омерзительно вонючим телом.
Испугавшись не на шутку, я лихорадочно обдумывала, что можно использовать в качестве орудия защиты. Ударить его в пах?
– Где ты живешь? – бесцеремонно спросил он. – Я помогу тебе добраться домой.
Он протянул свою лапу и положил мне на грудь.
– Извините! – крикнула я так громко, как только сумела. Собрав все силы и удачно маневрируя локтем, я все же протиснулась к выходу и вместе со спящей Махтаб выскочила из автобуса.
На следующий день во время визита к Элен я услышала, какой опасности подвергает себя женщина в обнищавшем, полном беженцев городе. Мы с Элен придерживались неписаного перемирия. Несмотря на ее угрозы выдать меня в соответствии с обязанностью мусульманки, она и Хормоз делали все возможное, чтобы облегчить мою жизнь в самые трудные моменты. Хотя мы и отличались жизненной философией, однако по-прежнему нас многое связывало. В конце концов, мы обе были американками.
Стало уже почти темно, и я начала собираться домой.
– Тебе нельзя ехать одной, – сказала Элен.
– Ничего страшного, – возразила я.
– Исключено. Хормоз тебя отвезет.
– Нет-нет, я не хочу беспокоить его. Я сама справлюсь, поймаю такси.
– Я не позволю тебе идти одной, – настаивала Элен. Потом она объяснила причины такой осторожности: – Вчера по соседству убили девочку тринадцати лет. Она вышла из дому в пять утра, чтобы получить мясо по карточкам, и не вернулась. Ее тело нашли на нашей улице. Над ней надругались, а потом убили.
– Это дело рук афганцев, – заключила Элен. – В Иране очень много афганцев, у которых нет женщин, поэтому они насилуют всех, кого только могут поймать.
Однажды позвонила Эссей.
– Мне очень неприятно, – почти плача говорила она. – Только что звонила из Америки твоя мама. Я сказала ей, что ты переехала. Она просила твой новый номер телефона, и я дала ей его, но очень боюсь, что у меня будут проблемы с Муди.
– Не переживай, – успокоила я Эссей. – Муди нет дома, так что все в порядке. Положи трубку, чтобы мама смогла дозвониться.
Через минуту зазвонил телефон. Я схватила трубку и услышала срывающийся голос мамы. Папа тоже был на линии.
– Как ты себя чувствуешь? – спросила я отца.
– Нормально, – ответил он. – Хотеть – значит мочь. – Его голос был бодрым.
– А как у тебя дела? – поинтересовалась мама.
– Лучше.
Я рассказала ей о новой квартире и большей свободе.
– Как Джо и Джон? Я так тоскую без них.
– Хорошо. Они становятся настоящими мужчинами, – ответила мама.
Джо работал во вторую смену на одной из фирм. Джон, студент третьего курса колледжа, был членом футбольной команды.
– Скажите им, что я их очень люблю.
– Обязательно скажем.
Мы условились о времени связи по телефону. По вторникам и средам, когда Муди будет в клинике, можно звонить и разговаривать свободно. Это означало, что им придется вставать в три часа ночи, но это стоило того. Неделю спустя мама сказала, что в следующий раз я поговорю со своими мальчиками.
Утром я навестила Эссей, чтобы у нее было алиби, а вечером рассказала Муди, что, когда я была там, позвонила мама и я дала ей наш новый номер.
Похоже, его нисколько не обеспокоил мой разговор с родителями. Скорее наоборот, он даже был удовлетворен таким стечением обстоятельств.
– Приходите к нам на чай, – пригласила нас как-то раз Шамси.
Я спросила разрешения у Муди. «Разумеется, пойди». Иного ответа я и не ожидала. Он уважал Шамси и Зари, и ему очень не хотелось, чтобы они узнали о наших проблемах.
Этот визит стал для меня приятным событием. Мы с Шамси подружились и в то лето проводили вместе многие часы.
Обычно Шамси жила в этом прекрасном доме не более двух месяцев в году. На этот раз она собиралась остаться в Иране дольше, потому что они продавали этот дом. Шамси совершенно откровенно стремилась разорвать все узы, соединяющие ее с Ираном, и искренне жаждала вернуться в Калифорнию. Но нас обеих огорчала мысль о том, что порвутся также и наши сестринские отношения.
– Я не представляю себе возвращения в Калифорнию без Бетти, – сказала однажды она Муди. – Позволь ей поехать со мной.
Ни Муди, ни тем более я не хотели открытой конфронтации, до которой бы дошло, если бы кто-нибудь из нас хоть как-то отреагировал на это заявление.
Шамси была для меня как дуновение свежего ветерка, но я долго не решалась на откровенность с ней. Я знала, что могу рассчитывать на ее поддержку, однако не была уверена, что она сохранит тайну. Ведь меня уже предавали и прежде. Итак, я довольствовалась ее дружбой, не раскрывая своих намерений, пока она не догадалась сама.
Однажды, когда я рассказала ей о своей тревоге об отце в Мичигане, она спросила:
– Так почему ты не поедешь и не навестишь его?
– Не могу.
– Бетти, ты поступаешь очень плохо. Затем она поделилась воспоминаниями:
– Когда я жила в Шуштаре, а мой отец был здесь, в Тегеране, в один из дней мной овладели предчувствия. Что-то подсказывало мне, что я должна его увидеть. Я поделилась этой мыслью с мужем. Он ответил: «Сейчас ты не можешь ехать. Поедешь через месяц, когда закончатся занятия в школе». Мы тогда впервые в жизни сильно поспорили. Я сказала ему: «Если ты не позволишь мне ехать к отцу, я брошу тебя». И он согласился.
В доме отца в Тегеране Шамси узнала, что на следующий день ему нужно отправиться в клинику на специальное обследование. Долго в ту ночь они разговаривали, делясь новостями, а утром она сопровождала его в клинику, где в тот же день он умер.
– Если бы не послушалась своего сердца и не поехала к нему, никогда бы этого себе не простила, – сказала Шамси. – Наверняка бы развелась с мужем. Ты тоже должна навестить своего.
– Не могу, – повторила я, и слезы хлынули из моих глаз.
Тогда я рассказала ей, почему это невозможно.
– Я не верю, что Муди способен на подобное.
– Это он меня сюда привез. Но сейчас все складывается хорошо. Я счастлива, что встретила тебя и что мы подружились, хотя если он узнает, что тебе все известно и о моем желании вернуться домой, то не позволит нам дружить.
– Не волнуйся, я ничего ему не скажу.
Она сдержала слово, но с этого дня можно было заметить явную перемену в ее отношении к Муди. Она держалась на расстоянии, скрывая свой гнев с таким же результатом, как ее гипюровая чадра скрывала западную одежду.
Прошло лето. На конец августа выпадало празднование Недели войны. Это явилось печальным напоминанием о том, что мы с Махтаб заточены в Иране уже более года. Каждый вечер на улицах маршировали мужчины, выполняя ритуальное бичевание. Они ритмично ударяли цепями по обнаженным спинам: раз через левое, раз – через правое плечо. При этом они монотонно пели, погружаясь в состояние, подобное трансу.
Телевизионные новости были в большей степени, чем когда либо, полны искаженной информации, но сейчас я относилась к этому спокойнее. Я уже знала огромную разницу между тем, что иранцы говорят, и тем, что они делают. Кичливые высказывания и крикливые хвалебные гимны – все это лишь та'ароф.
– Мне бы хотелось отметить день рождения Махтаб, – обратилась я к Муди.
– Хорошо, но мы не будем приглашать никого из родственников, – ответил он и самым неожиданным образом добавил: – Я бы не вынес никого из них. Они такие грязные и вонючие.
Несколько месяцев назад отмечать день рождения без членов его семьи было бы непростительной бестактностью.
– Давай позовем только Шамси и Зари, Элен и Хормоза, а также Малиху с семьей, – предложил Муди.
Наша соседка Малиха плохо говорила по-английски, но очень дружелюбно относилась ко мне. Благодаря ей я лучше стала понимать персидский.
Список гостей, предложенный Муди, свидетельствовал о том, как изменился круг наших друзей и как сблизился мой муж с Элен и Хормозом. Муди тоже чувствовал, что они старались нам помочь в кризисных ситуациях.
На этот раз Махтаб не хотела торт из кондитерского магазина. Она попросила, чтобы я сама испекла пирог. Это оказалось непросто.
Пирог получился сухой и ломкий, но Махтаб осталась довольна. Особенно ей понравилась дешевая пластмассовая куколка, положенная внутрь пирога.
День рождения Махтаб выпадал в этом году на один из многочисленных религиозных праздников. Это был нерабочий день, и мы планировали скорее обед, чем ужин.
Я приготовила ростбиф с картофельным пюре и поджаренной фасолью, которую очень любила Элен.
Пришли все, за исключением Элен и Хормоза. Пока мы ждали их, Махтаб стала открывать пакеты с подарками. Малиха принесла ей Мышку Муш с огромными оранжевыми ушами – любимую по мультипликационным фильмам игрушку в Иране. У Шамси и Зари для Махтаб был редкий подарок – свежий ананас. Мы с Муди подарили блузку и брючки любимого ею цикламенового цвета. Кроме того, мы подарили нашей дочурке велосипед тайваньского производства стоимостью в 450 долларов.
Элен с Хормозом появились только к вечеру, изумленные, что мы уже пообедали.
– Ты же пригласила нас на ужин, – сказала Элен. В ее голосе чувствовалась обида.
– Я определенно приглашала вас на обед, – возразила я, – произошло какое-то недоразумение.
Еще долго Хормоз ворчал на жену в нашем присутствии. Она молча опустила покрытую чадрой голову.
Судьба Элен была для меня стимулом в неустанных поисках способов побега из Ирана. Конечно, и без этого негативного примера я делала бы все, что в моих силах, но ее ситуация подсказывала мне, что следует торопиться. Чем дольше я оставалась в Иране, тем больше опасалась, что я стану похожей на нее.
В нашей жизни в Иране наступил переломный момент. Хотя настоящие условия были несравненно лучше, однако именно поэтому возрастал риск смириться с действительностью. Возможно ли было достичь относительного счастья здесь, в Иране, рядом с Муди?
Каждый вечер, отправляясь в постель с Муди, я знала наверняка, что ответом на этот вопрос будет «нет!». Я ненавидела мужчину, с которым спала. Более того, я боялась его. Сейчас он был уравновешенным, но я знала, что это не продлится слишком долго. В глубине души я чувствовала, что следующий взрыв безумия и грубости является лишь вопросом времени.
Теперь я часто могла пользоваться телефоном; достаточно часто, хотя и тайно, могла навещать посольство; возобновила свои усилия в поисках того, кто мог бы и хотел бы мне помочь. К несчастью, оборвалась самая надежная ниточка на пути к свободе: телефон госпожи Алави не отвечал. После многих безрезультатных попыток мне снова удалось связаться с Рашидом, друг которого переправлял людей в Турцию. Он опять отказался организовать побег вместе с ребенком.
Нужно было искать кого-то другого. Но кого?.. И как?..
Я смотрела на адрес, который был нацарапан на клочке бумаги, втиснутом мне в ладонь.
– Иди по этому адресу и спроси шефа, – было велено мне.
Меня направлял доброжелатель. Открыть его имя означало обречь его на смерть в Исламской Республике Иран.
Это был адрес учреждения, находящегося на другом конце города, так что предстояло долгое и мучительное путешествие по запруженным улицам. Я решила отправиться туда немедленно. Махтаб была со мной. Время приближалось к обеду, и я не знала, удастся ли мне вернуться домой до прихода Муди. Все более дерзко я пользовалась свободой. При необходимости можно будет купить что-либо и этим объяснить опоздание. По крайней мере, один раз он поверит.
Я не могу ждать. Чтобы выиграть время, я вызвала дорогостоящее такси по телефону, вместо того чтобы искать оранжевое. Несмотря на это, поездка была длительной и изнуряющей. Махтаб не спрашивала, куда мы едем.
Наконец мы добрались. Это было обыкновенное бюро. У секретаря я спросила, как можно пройти к директору.
– Идите налево, затем в конце холла по ступенькам вниз, – ответила она.
Мы с Махтаб пошли в указанном направлении и оказались в цокальном этаже. В приемной для посетителей я попросила Махтаб:
– Подожди здесь минутку. Она согласно кивнула головой.
– Где можно найти директора? – снова спросила я проходящего мимо сотрудника.
– В конце холла, – указал он на кабинет в стороне, и я решительно направилась туда.
Постучав в дверь и услышав мужской голос, я в соответствии с инструкцией назвала себя:
– Я – Бетти Махмуди.
– Войдите, – ответил мне мужчина на хорошем английском языке.
Сжимая мою ладонь, он сказал:
– Я ждал вас.
Он закрыл за мной дверь и, улыбаясь, пригласил меня сесть. Это был худощавый, невысокого роста мужчина, элегантно одетый. Он сел за стол и завязал со мной свободную беседу.
Я знала историю сидящего передо мной мужчины. В свое время он питал надежду покинуть Иран вместе с семьей, но обстоятельства сложились иначе. На работе он был процветающим бизнесменом, всецело поддерживающим правление аятоллы Хомейни. Дома же становился самим собой.
Его знали под несколькими именами. Я называла его Амаль.
– Я очень сочувствую вам, – сказал он без всякого вступления. – Я сделаю все возможное, чтобы вывезти вас отсюда.
Его открытость весьма импонировала, но вместе с тем пугала. Он знал обо мне все и был уверен, что сможет мне помочь, но я уже пережила подобные ситуации с Триш и Сьюзан, с Рашидом и его приятелем, с таинственной госпожой Алави.
– Послушайте, уже несколько раз меня обещали вывезти из страны, но всегда вопрос упирался в моего ребенка. Я не поеду без моей дочери. Если ее нельзя вывезти, то и я не поеду. Давайте решим это сразу, потому что нет смысла терять время.
– Я уважаю ваше желание, – сказал он. – Если вы настаиваете, то я вывезу вас обеих. Нужно быть только терпеливой, ибо не знаю, как и когда мне удастся организовать это.
Я почувствовала, как в моем сердце разливается тепло и становится светло и ясно, хотя и старалась не поддаваться этому состоянию.
– Вот номера моих телефонов, – сказал он, быстро записывая что-то на листочке. – Я поясню вам сейчас, как они закодированы. Это служебный и домашний. Можете звонить в любое время. В случае надобности делайте это без малейшего колебания. Я должен как можно чаще иметь о вас информацию. Я не могу рисковать, связываясь с вами дома. Ваш муж мог бы это неправильно понять, мог бы приревновать, – Амаль рассмеялся.
У него был заразительный смех. «Жаль, что он женат», – подумала я и тотчас же устыдилась своих мыслей.
– Хорошо, – согласилась я.
В нем было что-то такое, что заставляло верить в успех.
– Мы не будем разговаривать по телефону, – продолжал он инструктировать меня. – Вы позвоните, и если у меня будет для вас какая-нибудь информация, я скажу, что мне нужно с вами встретиться, и вы должны будете приехать сюда. По телефону мы не будем обсуждать никаких вопросов.
«Что-то должно за этим скрываться, – подумала я. – Может быть, речь идет о деньгах?»
– Мне нужно попросить родителей, чтобы они передали в посольство некоторую сумму? – спросила я.
– Нет. Сейчас не идет речь об этом. Я сам за все заплачу. Вы вернете мне деньги по возвращении в Америку.
На обратном пути Махтаб не произнесла ни слова. Я благодарила Бога за это, потому что в моей голове творилось что-то невообразимое. Я старалась оценить возможности успеха нашего мероприятия. Неужели я действительно нашла наконец путь для побега из Ирана?
«Вы вернете мне деньги по возвращении в Америку», – сказал он уверенно. Но я помню и другие его слова: «Я не знаю, как и когда мне удастся организовать это».
Закончилось лето, снова приближалось начало учебного года. Мне нужно было делать вид, что я поддерживаю желание Муди послать Махтаб в первый класс, поэтому я не возражала, когда он затронул эту тему.
К моему удивлению, Махтаб тоже была согласна. Она действительно начала привыкать к мысли остаться в Иране.
В один из дней Муди, Махтаб и я отправились в ближайшую школу. Здание было меньше похоже на тюрьму, чем медресе Зайнаб. В нем было много окон, через которые проникал солнечный свет. Однако оказалось, что эта светлая атмосфера никак не влияет на директрису, ворчливую старую женщину в чадре. Она внимательно присматривалась к нам.
– Мы хотим записать дочь в школу, – объяснил Муди по-персидски.
– К сожалению, невозможно. У нас нет свободных мест, – проворчала она.
Скрипучим голосом она дала нам другой адрес.
– Но мы пришли сюда, потому что эта школа ближайшая, – не соглашался Муди.
– Мы никого не принимаем!
Мы с Махтаб пошли к выходу. Я чувствовала, что моя дочь довольна, что не останется у этой черствой старой женщины.
– Ну что ж, – проворчал Муди, – у меня сегодня нет времени идти в другую школу. Я должен ассистировать при операции.
– Ах, так вы врач? – заинтересовалась директриса.
– Да.
– Вернитесь, пожалуйста. Прошу вас, присядьте.
Всегда найдется место для дочери врача. Муди был очень доволен, получив подтверждение своего высокого общественного положения.
Директриса решила с нами необходимые формальности. У Махтаб должна быть серая форма, еланча, брюки и большой платок, а также шарф, сшитый спереди вместо узла, более неудобный, чем русари, но удобнее чадры. Меня предупредила, что мне следует приводить Махтаб в назначенные дни на собрание матерей и дочерей.
Выйдя из школы, я сказала:
– Как можно ходить в одной форме? Она должна носить ежедневно одну и ту же одежду?
– Другие ходят так, – ответил Муди. – Но ты права. У нее должно быть несколько.
Он пошел на работу, оставив нам деньги на школьную форму. Тепло солнечного сентябрьского дня наполняло меня бодростью и надеждой. Мы гуляли с дочерью совершенно свободно. Я вступила в следующий важный этап. Когда Махтаб будет в школе, а Муди на работе, я смогу заняться решением наших проблем.
Несколько дней спустя мы с Махтаб пошли на вступительное собрание, взяв с собой в качестве переводчицы нашу соседку Малиху. Правда, она плохо говорила по-английски, но с ее и Махтаб помощью я смогла понять суть.
Собрание длилось почти пять часов. Обязательными были молитвы и чтение Корана. Затем директриса обратилась к родителям с возвышенной речью, прося о пожертвованиях для школы. Она сообщила, что в школе нет туалетов и деньги необходимы на улучшение условий.
Вечером я заявила Муди:
– Не может быть и речи. Они ничего не получат от нас. Если у них достаточно денег на такое количество пасдаров, то могут найти деньги и на обустройство туалетов.
Однако он не согласился со мной и передал щедрое пожертвование. А когда начались занятия, оказалось, что школа оборудована вместо туалетов дырами в полу.
Вскоре установился определенный распорядок. Махтаб ранним утром шла в школу. Я должна была лишь проводить ее до автобусной остановки, а после полудня ждать там ее возвращения.
Большую часть недели Муди оставался дома, занимаясь частной практикой. По мере роста его репутации увеличивалось и число пациентов. Люди особенно хвалили его методы обезболивания. Поскольку возникли определенные проблемы с посетительницами, Муди обучил меня некоторым приемам. Эти дополнительные обязанности совместно с работой регистратора отбирали у меня почти все время на протяжении дня.
Я была свободна только по вторникам и средам, когда Муди работал в клинике. Эти два дня в неделю принадлежали исключительно мне. Я могла без ограничения бродить по городу, решая свои дела.
Я снова начала регулярно навещать Хелен в посольстве. Каждую неделю я получала письма от родителей и сыновей. Я так тосковала по ним! Каждое письмо от мамы усиливало мое беспокойство: она писала об ухудшающемся здоровье отца, о том, что неизвестно, как долго он протянет. Он постоянно говорил о нас, молился о том, чтобы увидеть нас перед смертью.
Почти ежедневно я звонила Амалю. Всякий раз он спрашивал меня только о здоровье, добавляя: «Прошу набраться терпения».
Как-то раз я отправилась за покупками. Муди поручил мне заказать дубликат ключа от квартиры.
По дороге мне встретился книжный магазин. Я не могла не зайти в него.
Хозяин говорил по-английски.
– У вас есть поваренные книги на английском языке? – спросила я.
– Да, этажом ниже.
Спустившись, я нашла много старых кулинарных книг и почувствовала себя как в раю. Мне так не хватало маленьких, нехитрых радостей, таких, как чтение рецептов приготовления пищи.
Вдруг я услышала голосок девочки:
– Мамочка, ты купишь мне сказки?
И тут я увидела женщину и ребенка. Обе они были одеты в епанчи и шарфы. Женщина была высокой, темноволосой, с несколько смуглой кожей, как у большинства иранок. Она не была похожа на американку, но на всякий случай я спросила:
– Вы американка?
– Да, – ответила она. Ее звали Элис Шариф.
Элис – учительница начальной школы в Сан-Франциско. В Америке вышла замуж за иранца. Вскоре после того, как ее муж Малек защитил докторскую диссертацию в Калифорнии, умер его отец. Сейчас они приехали сюда для урегулирования наследственных формальностей. Ей не нравилось здесь, но она не опасалась за свое будущее. Их дочь, Самира, которую родители звали Самми, была ровесницей Махтаб.
– О Боже! – воскликнула я, взглянув на часы. – Мне нужно встретить дочь из школы.
Мы обменялись номерами телефонов. Вечером я рассказала Муди об Элис и Малеке.
– Нам нужно их пригласить, – сказал он с нескрываемой радостью. – Их можно познакомить с Шамси и Зари.
– Может быть, мы пригласим их на пятницу? – предложила я.
– Хорошо, – тотчас же согласился он.
С приближением полудня в пятницу он был взволнован не меньше меня. Ему сразу понравились Элис и Малек. Элис была интеллигентной, очень добросердечной, разговорчивой женщиной, всегда готовой рассказать какую-нибудь забавную историю. Присматриваясь к гостям в тот вечер, я пришла к выводу, что из всех моих иранских знакомых только Шамси и Элис казались мне действительно счастливыми. Возможно, потому, что обе знали о своем скором возвращении в Америку.
Элис рассказала анекдот:
«Один посетитель вошел в картинную галерею и увидел портрет Хомейни. Ему захотелось его купить. Хозяин назвал цену: пятьсот туманов.[13]
– Плачу триста, – предложил клиент.
– Нет, пятьсот.
– Триста пятьдесят.
– Пятьсот.
– Четыреста, – сказал клиент, – это мое последнее слово.
В этот момент вошел другой посетитель и обнаружил портрет Иисуса Христа, который ему очень понравился. Он поинтересовался у хозяина галереи его стоимостью.
– Пятьсот туманов, – был ответ.
– Беру.
Клиент отсчитал пятьсот туманов и ушел с портретом.
Тогда хозяин сказал первому посетителю:
– Вы видели того человека? Вошел, посмотрел понравившуюся ему картину, заплатил столько, сколько я сказал, и ушел.
Первый посетитель ответил на это:
– Согласен. Если вам удастся распять Хомейни, то я заплачу эти пятьсот туманов!».
Смеялись все, включая Муди.
На следующий день позвонила Шамси:
– Бетти, Элис – неподражаема, вы определенно подружитесь.
– Несомненно, – согласилась я.
– Расстанься с Элен, – добавила Шамси. – Она такая ограниченная.
С Элис мы встречались регулярно. Она была единственной женщиной в Иране, в хозяйстве которой имелись такие роскошные вещи, как автоматическая сушилка или специальное средство для смягчения выстиранного белья. У нее всегда была горчица.
А кроме того, у нее был паспорт, по которому она могла вернуться домой!
– Не рассказывай Шамси, что произошло с тобой в Иране, – предупредил меня Муди. – Элис тоже не должна об этом знать. Если ты поступишь иначе, больше никогда их не увидишь.
Я пообещала, что ничего не расскажу.
Этого ему было достаточно. Он верил в то, во что ему хотелось верить. Надеялся, что тема возвращения в Америку уже никогда больше не будет обсуждаться. Был убежден, что победил и сделал из меня то, что Хормоз из Элен.
Несмотря на то что отношения Муди с родственниками претерпели глубокие изменения, мы все-таки должны были исполнять наши обязанности по отношению к ним. Муди не хотелось приглашать Баба Наджи и Амми Бозорг на ужин, но он не мог не оказать им уважения. Мы уже и так слишком долго тянули с приглашением.
– Махтаб ходит в школу. В восемь часов она должна быть уже в постели, поэтому приходите в шесть часов, – сказал Муди своим родственникам по телефону.
Амми Бозорг намекнула, что они всегда ужинают в девятом часу вечера.
– Меня это не интересует, – ответил Муди. – Поужинаете в шесть или вообще можете не приходить.
Амми Бозорг была вынуждена согласиться.
Чтобы нейтрализовать ее неприятное общество, мы пригласили также Хакимов.
Я приготовила пышный ужин, основным блюдом которого были крокеты из цыпленка. Для них я очень старательно выбрала мясо. Визиты в магазины на этот раз оказались успешными. Мне впервые удалось найти в Иране брюссельскую капусту. Кроме того, я приготовила еще тушеный лук-порей с морковью.
Хакимы были точны. А Баба Наджи и Амми Бозорг вместе с Маджидом и Ферест появились в восемь вместо шести. Мы все расположились в столовой.
Хакимы чувствовали себя совершенно свободно, а Баба Наджи и Амми Бозорг, хотя и старались выглядеть наилучшим образом, были явно стеснены. Баба Наджи посматривал на серебряные приборы: он не знал, как ими пользоваться. Наверное, ему приходилось думать, что делать с салфеткой, а отдельный стакан, поданный каждому из гостей, он скорее всего принимал за смешную экстравагантность.
Амми Бозорг вертелась на стуле: никак не могла найти удобную для себя позу. Наконец она взяла свою тарелку и села на пол, восторженно кудахтая над блюдом брюссельской капусты, которую называла «капустка Бетти».
Спустя несколько минут в моей столовой уже царил кавардак. На столе и на полу были разбросаны остатки еды, потому что гости брали пищу руками, лишь изредка пользуясь ложками. Муди, Махтаб и я ели молча, пользуясь необходимыми приборами.
Ужин вскоре подошел к концу, и, когда гости перешли в гостиную, Муди сказал мне вполголоса:
– Посмотри на место, где сидела Махтаб. Ни возле тарелки, ни на полу не найдешь даже зернышка риса. А сейчас посмотри, что творится там, где ели взрослые.
У меня не было желания смотреть на это. Я знала, что мне придется за полночь собирать остатки еды со стен и ковра.
Я подала чай в гостиную. Амми Бозорг добралась до сахарницы и стала сыпать в стакан сахар одну ложку за другой, оставляя на ковре сладкую дорожку.
Как-то я навестила Акрам Хаким, мать Джамала, «племянника» Муди. Была там также очень взволнованная племянница Акрам Хаким. Я поинтересовалась причиной ее тревоги. Оказалось, утром того дня она убирала в доме и ей вдруг захотелось покурить. Она надела манто и русари и отправилась на другую сторону улицы, оставив дома девочек (десяти и семи лет). Купив папиросы, она возвращалась домой, когда была задержана пасдарами. Несколько пасдарок втащили ее в машину и ацетоном смыли ей лак с ногтей и помаду с губ. Они кричали на нее, а потом сказали, что отвезут в тюрьму.
Она умоляла, чтобы ей позволили забрать девочек, но пасдарки не вняли ее просьбам и почти два часа продержали в машине, заставляя выслушивать свои нравоучения. Они пригрозили, что не выпустят ее до тех пор, пока она не пообещает никогда больше не красить ногти и не пользоваться косметикой. Спросив, молится ли она, и получив отрицательный ответ, они потребовали, чтобы она пообещала, что будет прилежно молиться.
– Я ненавижу пасдаров, – сказала я.
– Я боюсь их. Они очень опасны, – поддержала женщина.
Она рассказала, что на пасдаров возложены также обязанности тайной полиции. Они преследуют врагов республики или просто беззащитных. Если в руках пасдаров оказывается девушка, которой вынесен смертный приговор, то мужчины прежде должны надругаться над ней из принципа: «женщина не может умереть девушкой!».
Мысль о побеге не оставляла меня ни на один день. Я не предпринимала конкретных шагов, однако изо всех сил старалась сохранить любые контакты, способные мне помочь. Очень часто я навещала Хелен в посольстве, ежедневно звонила Амалю.
Повседневная жизнь была подчинена одной цели. Я решила, что мне необходимо быть такой хорошей женой и матерью, какой только я сумею. Во-первых, я стремилась укрепить видимость семейного счастья. Во-вторых, это давало возможность создать для Махтаб благоприятную атмосферу в доме и не дать ей почувствовать, что мы – узницы.
– Мамочка, мы не можем уже поехать в Америку? – время от времени спрашивала она.
– Не сейчас, – отвечала я. – Может, когда-нибудь папа поменяет свое решение, и мы все вернемся домой.
Мечты несколько смягчали ее боль, мою – нет. В-третьих, создавая «счастливый дом», я берегла свои нервы.
Желая сделать для меня что-нибудь приятное, Муди предложил мне посетить салон красоты. Это выглядело абсурдным в стране, где никто не имел права видеть мое лицо и волосы, но, несмотря на это, я пошла. Когда мастер спросила, нужно ли мне поправить брови и убрать лишние волоски с лица, я согласилась.
Вместо воска или пинцета мастер воспользовалась длинным пучком хлопчатобумажных нитей. Сильно натянув, она продвигала его по моему лицу в одну и в другую сторону. Было очень больно, и через час мое лицо напоминало сплошную рану.
Вечером я заметила на лице сыпь. Вскоре она покрыла и шею.
– Эти нитки, вероятно, были грязные, – прокомментировал Муди.
Вернувшись однажды в полдень домой из супермаркета, я заметила, что приемная Муди переполнена.
– Пригласи несколько пациентов в гостиную, – распорядился он.
Мне очень не хотелось впускать чужих людей в свое королевство, но делать было нечего.
Подавая пациентам чай, я злилась, ожидая, что скоро гостиная будет забрызгана чаем и засыпана сахаром.
Когда я возвращалась с подносом на кухню, одна из женщин в гостиной спросила:
– Вы американка?
– Да, – ответила я. – Вы говорите по-английски?
– Говорю. Я училась в Америке.
Я присела рядом с ней. Настроение мое несколько улучшилось.
– Где вы учились? – спросила я.
– В Мичигане.
– А я родилась в Мичигане. А в каком городе?
– В Каламазу.
Ее звали Ферест Навруз. Это была молодая женщина привлекательной внешности. Ее мучили боли в затылке и спине, и она считала, что процедуры Муди могут помочь. Мы разговаривали с ней более получаса, пока не подошла ее очередь.
Ферест часто приходила на процедуры, и я всегда приглашала ее сразу в гостиную, где мы могли поговорить. Однажды она сказала мне:
– Я знаю причину этих болей.
– Правда? И что же это такое?
– Стресс.
Она разрыдалась. Более года назад ее муж поехал на заправку и не вернулся. Ферест и ее родители долго и безуспешно искали его по больницам.
– Через двадцать пять дней позвонили из полиции: «Можете забрать его машину». Но о нем не сказали ни слова.
Ферест с годовалой дочуркой переехала к родителям. Прошло еще четыре страшных месяца, прежде чем полиция сообщила ей, что ее муж находится в тюрьме и что она может его навестить.
– Его схватили прямо на улице и посадили в тюрьму, – всхлипывая, говорила она. – Прошло уже более года, а они так и не предъявили ему обвинения.
– Как это возможно? И почему? – спрашивала я.
– У него диплом экономиста, – объяснила она. – У меня тоже. Мы вместе учились в Америке. Именно таких людей власти боятся.
Ферест просила, чтобы я никому не говорила о ее муже. Она опасалась, что и ее могут арестовать. Вечером после приема Муди сказал:
– Мне нравится Ферест. Чем занимается ее муж?
– Он экономист, – ответила я.
– Прошу вас, как можно быстрее приезжайте.
В голосе Амаля слышалось требование. Сердце мое вырывалось из груди.
– Я могу приехать только во вторник, когда Муди пойдет в клинику, – объяснила я.
– Позвоните мне, пожалуйста, предварительно, чтобы я был готов, – попросил он.
Что это значит? Я надеялась скорее на добрые вести и чувствовала, как бесконечно тянется время. Махтаб пошла в школу в семь. Муди отправился на работу без четверти восемь. Я наблюдала за ним через окно и, убедившись, что он сел в такси, позвонила Амалю, чтобы подтвердить визит. Через час я уже сидела в кабинете Амаля.
– Чай, кофе?
– Кофе, пожалуйста.
Я с нетерпением ждала, пока он наполнял чашки. Он, однако, явно старался потянуть время. Наконец, подав мне чашку кофе, он сел за стол и сказал:
– Ну что ж, я думаю, вам нужно связаться с родными.
– Что-нибудь случилось?!
– Вы можете сообщить им, чтобы в День Благодарения они поставили на стол два дополнительных прибора.
Я вздохнула с глубоким облегчением. Я знала: на этот раз удастся, мы с Махтаб вернемся в Америку.
– Как?
Он изложил мне план. Мы с Махтаб полетим самолетом до Бендер-Аббаса, города на южной окраине Ирана. Оттуда нас на моторной лодке переправят через Персидский залив в Арабские Эмираты.
– В Эмиратах потребуется решить вопрос с документами, но вы уже будете вне территории Ирана, и оттуда вас не вернут обратно. Вы сможете получить в посольстве паспорта и отправиться домой.
Мысль о путешествии по морю в моторной лодке несколько пугала, но, если это могло открыть дорогу к свободе для меня и моей дочурки, мы предпримем эту попытку.
– Нужны ли будут деньги? – спросила я.
– Я заплачу за все, – опять заверил он меня. – Когда вы вернетесь домой, передадите мне деньги.
– Возьмите это, пожалуйста, – я подала ему пачку купюр. – Спрячьте для меня эти деньги. Лучше, чтобы Муди их не нашел.
Там было около девяноста долларов. Амаль согласился сохранить их для меня.
– Вам необходим документ, удостоверяющий личность. Без него вас не пустят в самолет, – сказал он.
– В посольстве лежат мои водительские права, метрика, а также кредитные карточки.
– А иранское свидетельство о рождении?
– Нет. У них есть только мое американское свидетельство о рождении, то, которое я привезла с собой. Мое иранское свидетельство о рождении Муди куда-то спрятал.
– Можно, конечно, попытаться купить билет на основании американского свидетельства о рождении, – рассуждал Амаль, – но лучше было бы, если бы вам удалось добыть иранское. Заберите, пожалуйста, документы из посольства и постарайтесь вернуть свое иранское свидетельство.
– Хорошо. Когда летим?
– Мой человек в Бендер-Аббасе сейчас занимается этим. Я надеюсь, что он приедет в Тегеран через несколько дней. Не волнуйтесь, пожалуйста. На День Благодарения вы с дочерью будете дома.
Из кабинета Амаля я позвонила Хелен.
– Я должна сейчас же встретиться с вами, – сказала я.
Часы приема в посольстве уже закончились, но она ответила:
– Сейчас я спущусь вниз и предупрежу охранника, чтобы вас впустили.
После моего разговора по телефону Амаль предупредил меня:
– Ни о чем в посольстве не рассказывайте. Однако я была так взволнована, что, увидев меня, Хелен сразу же спросила:
– О Боже! Что с вами происходит? Вы выглядите счастливой, совершенно обновленной.
– Я возвращаюсь домой!
– Я не могу в это поверить.
– Я правда возвращаюсь домой, и мне необходимы мои документы и кредитные карточки.
Хелен искренне радовалась за нас. Она сердечно меня обнимала, и мы обе плакали от счастья. Она не спрашивала, как, когда и кто поможет мне, понимая, что я все равно не скажу, а в сущности, она и не хотела этого знать.
Хелен отдала мне документы. Затем мы вместе пошли к господину Винкопу. Он тоже был доволен, услышав новость, но подошел к этому более сдержанно.
– Наша обязанность – предостеречь вас от попытки бежать. Вы не должны рисковать жизнью Махтаб, – сказал он. – Я очень беспокоюсь за вас. Вы так счастливы, что каждый на это обратит внимание. Ваш муж быстро догадается, что с вами что-то произошло, – предупредил он.
– Я постараюсь скрыть свою радость.
Было уже поздно, поэтому, извинившись, я поспешила в обратный путь.
Когда я добралась домой, я увидела у закрытых ворот заплаканную Махтаб.
– Я думала, что ты уехала в Америку без меня! – всхлипывала она.
– Я никогда не уеду в Америку без тебя, – заверила я Махтаб. И тут же попросила: – Не говори папе, что я пришла домой после тебя.
Махтаб утвердительно кивнула головой. Слезы ее быстро высохли, и она пошла гулять. А тем временем я прятала документы в закрывающемся на молнию покрывале дивана в гостиной и старалась подавить переполнявшие меня чувства.
Подумав, я позвонила Элис.
– Мне бы хотелось отметить у нас День Благодарения. Мы вместе приготовим ужин, пригласим Шамси и Зари. Я познакомлю тебя с Ферест.
Элис сразу согласилась.
Замечательно! Меня в этот день уже здесь не будет, но никто об этом не догадается.
Муди застал меня в превосходном настроении.
– Мы с Элис хотим отпраздновать День Благодарения! – сообщила я.
– Прекрасно! – обрадовался он, ведь индейка на ужин ему нравилась всегда.
– Надо купить индейку.
– Справитесь?
– Конечно.
– Вот и хорошо, – ответил Муди, довольный, что жена строит планы на будущее.
На протяжении нескольких последующих недель в те часы, когда Махтаб была в школе, а Муди на работе, я бегала по Тегерану с энергией и жизнеспособностью школьницы. Вместе с Элис мы искали необходимые продукты.
Элис поражалась моей способности передвигаться по городу. Она тоже любила ходить в центр, но никогда не отваживалась отправиться одна далеко от дома. Она с радостью сопровождала меня. Мы добирались на базар более часа.
– Здесь можно достать любое мясо, птицу, рыбу, овощи и фрукты, – сказала я Элис.
В лавке было несколько худых индеек, висящих под потолком. Мне хотелось купить птицу весом около пяти килограммов, но самая большая весила только три.
– Мы можем приготовить еще ростбиф, – предложила Элис.
Мы купили эту индейку и отправились домой.
Нам долго пришлось ждать оранжевое такси. Многие проезжали, не останавливаясь. Это был самый оживленный район города, и все такси были перегружены. Наконец какое-то такси остановилось. Сзади все места были заняты, поэтому мы сели на переднее сиденье, вначале Элис, а затем я.
Я смотрела в окно на ненавистный мне город. Я никогда не запеку эту проклятую индейку, – в этом я была уверена. Зато я помогу маме приготовить праздничный ужин, за который мы вечно будем благодарить небеса.
– Остановитесь здесь! – потребовала Элис. Ее голос вернул меня к действительности.
– Но это же не здесь… – недоуменно заметила я. Элис вытолкнула меня из машины, и я сразу же поняла, что произошло.
– Ты не представляешь, что этот таксист со мной делал, – сказала она.
– Вполне могу себе представить. Я побывала уже в такой ситуации. Мы не должны говорить нашим мужьям об этом происшествии, потому что они никогда больше не позволят нам самим ходить по городу.
Элис согласилась со мной.
Мы никогда не слышали, чтобы такое неуважение было оказано иранской женщине. Может быть, иранская пресса, беспрерывно сообщающая о числе разводов в Америке, добилась того, что иранцы воспринимают нас сексуальными демонами?
Мы остановили другое такси и на этот раз втиснулись на заднее сиденье.
Дома мы несколько часов с помощью пинцета очищали костистую птицу от оперения, а затем заморозили ее.
Необходимо было сделать еще несколько вылазок за покупками. Я постоянно торопила Элис, привозя ее домой еще до полудня. В первый же день я попросила ее:
– Если Муди спросит, скажи, что после магазинов я зашла к тебе на чашку кофе и ушла около часу.
Элис удивленно посмотрела на меня, но не стала задавать вопросов. Потом, когда я отправлялась в город, она каждый раз подтверждала, что я у нее.
Я частенько заходила в магазин Хамида и звонила Амалю. Праздник Благодарения неумолимо приближался, но Амаль по-прежнему был полон оптимизма.
Зато Хамид на эти события смотрел скорее пессимистично. Когда я поделилась с ним своей удивительной тайной, он сказал:
– Не верю я ему. Вы останетесь в Тегеране до пришествия имама Мехди.
Элис была моим бесценным союзником. Однажды я сказала ей:
– Мне бы очень хотелось поговорить с родителями. Я так тоскую по ним.
Элис знала, что Муди не разрешает мне звонить домой. Ее муж тоже не позволял ей часто звонить в Калифорнию, но по материальным соображениям. У Элис были свои деньги, и иногда она сама оплачивала телефонные разговоры.
– Придется мне проводить тебя на площадь Тупчун, – сказала Элис.
– А что там?
– Центральный телеграф. Оттуда можно позвонить за границу, заплатив наличными.
Замечательная новость! На следующий день мы отправились на площадь Тупчун. Элис связалась с родными в Калифорнии. Я позвонила родителям в Мичиган.
Папа очень обрадовался, услышав мой голос. Сообщил, что сразу же почувствовал себя лучше.
– У меня для вас праздничный подарок, – сказала я. – Мы с Махтаб будем дома на День Благодарения!
– Я прошу вас ничего не говорить, – предупредил Амаль. – Сидите молча.
Я подчинилась и сидела неподвижно в кабинете Амаля. Он пригласил меня вместе с ним подойти к двери, открыл ее и сказал несколько слов по-персидски.
В комнату вошел высокий смуглый мужчина, обошел вокруг меня, всматриваясь и стараясь запомнить мое лицо. Я подумала, что, возможно, мне следовало бы снять русари, но ничего не стала делать без разрешения Амаля.
Он постоял минуту или две, а затем вышел, так и не проронив ни единого слова. Амаль никак не прокомментировал визит незнакомца.
– Я послал человека в Бендер-Аббас нанять моторную лодку и сейчас жду его возвращения, – сказал он. – Договорился я и с перелетом в Бендер-Аббас. На борту будут и другие беглецы.
Амаль вызывал доверие, но, несмотря на это, я волновалась. Дела продвигались отчаянно медленно. Для иранцев время не имеет большого значения.
Дни пролетали один за другим. Был уже понедельник, скоро наступит День Благодарения. Я уже понимала, что мы с Махтаб не сможем добраться на праздник домой в Мичиган.
– Возможно, удастся в следующий выходной, – сказал Амаль, пытаясь успокоить меня. – Может быть, в следующий. Не все еще готово.
– А если вообще не получится?
– Не беспокойтесь, я прорабатываю и другие варианты. Один из моих людей как раз встречается с вождем племени в Захедане, чтобы бежать в Пакистан. Одновременно я веду переговоры с женатым человеком, имеющим ребенка. Я попробую убедить его, чтобы он взял вас как своих жену и дочь на самолет в Токио или в Турцию. А потом я заплачу одному из сотрудников, который отметит в паспортах возвращение его жены и дочери в Иран.
Последнее вызывало особое беспокойство. Я не была уверена, что смогу выдать себя за иранку. Фотографии на паспорт женщинам делают в чадре, с закрытым лицом, но если таможенник или кто-нибудь при таможенном досмотре спросит меня о чем-нибудь по-персидски, могут возникнуть проблемы.
День Благодарения в Иране был для меня печальным, особенно потому, что я сама пообещала родителям отпраздновать его вместе с ними. Слава Богу, что я ни о чем не рассказала Махтаб!
В четверг, в День Благодарения, я проснулась очень угнетенной. И за что я должна благодарить?
Чтобы хоть как-то поднять настроение, я бросилась в водоворот приготовлений к праздничному ужину, ломая голову, как костлявую птицу превратить в аппетитное блюдо.
Мое настроение улучшалось по мере прихода гостей. Я была благодарна судьбе, что существует совершенно новый круг хороших, дорогих мне людей. Они собрались в нашем доме, чтобы отметить типично американский праздник: Шамси, Зари, Элис, Ферест. Как я их любила и как нестерпимо я тосковала по дому!
Моя меланхолия вернулась после того, как было съедено подобие пирога с тыквой. Муди развалился в кресле, сложил ладони на животе и дремал, явно удовлетворенный своей судьбой, точно за последние полтора года ничего не изменилось в его жизни. Как же я ненавидела этого спящего обжору! Как мучительно мне хотелось быть с мамой, папой, Джо и Джоном!
Во вторник из Америки позвонил мой брат Джим. Он рассказал, что состояние отца значительно улучшилось после моего звонка.
– Три дня подряд он вставал с постели и ходил по дому, – говорил Джим. – Он давно уже не вставал и вдруг вышел даже в сад.
– А как сейчас он себя чувствует? – спросила я.
– Поэтому я и звоню. Когда наступил День Благодарения, а ты не приехала домой, отец пришел в отчаяние. Его самочувствие ухудшается с каждым днем. Ему нужна надежда. Позвони ему!
– Это непросто, – объяснила я. – Я не могу звонить из дому. Мне нужно ехать на Центральный телеграф. Это будет нелегко, но я попытаюсь.
– Когда же вы вернетесь? – спросил Джим.
– Я делаю все, что в моих силах, чтобы вернуться к Рождеству. Но не буду больше папе ничего обещать.
– Не обещай, пока не будешь совершенно уверена, – согласился он со мной.
Звонок Джима привел меня в подавленное состояние. Я чувствовала себя так, точно это по моей вине мы не смогли покинуть Иран. Рождество! Прошу тебя, Господи, сделай так, чтобы этот праздник мы встречали в Америке.
Рождество в Иране не считается праздником, но большая группа армян обычно отмечала его очень торжественно и весело. Однако на этот раз в начале декабря иранская пресса опубликовала запрещающее предупреждение армянам. Счастье и радость, обвестил аятолла, не имеют права пребывать в стране, находящейся в состоянии войны, в стране, переполненной болью и страданиями.
Муди не задумывался над этим. Он открыто афишировал свою врачебную практику, перестал интересоваться политикой и намеревался устроить дочери веселый рождественский праздник.
Чтобы занять чем-то время и отвлечь внимание Муди от моих частых выходов в город, я занялась покупками.
– У Махтаб мало игрушек, – сказала я. – Мне бы хотелось, чтобы у нее было настоящее Рождество. Я куплю ей много подарков.
Он согласился со мной, и я целые дни проводила в походах по магазинам, иногда в сопровождении Элис, иногда одна. В один из таких дней до полудня мы пробыли на базаре и домой возвращались автобусом. Элис вышла рядом со своим домом, а мне нужно было ехать еще несколько остановок. Взглянув на часы, я убедилась, что успеваю.
И тут полуденную суету иранской улицы разорвал внезапный вой сирен. Сирены в Тегеране были обычным явлением, настолько привычным, что водители вообще не обращали на них внимания, но на этот раз они были громче и пронзительнее. К моему удивлению, водитель автобуса притормозил, чтобы пропустить машину «скорой помощи». Рядом промчалось несколько полицейских машин, а за ними огромные, странно выглядевшие платформы.
– Бом! Бом! – восклицали пассажиры.
Это была бригада саперов. Элен уже видела такую платформу и рассказывала мне о ней. Механические руки укладчика поднимали снаряд и помещали его в предохранительную емкость сзади платформы.
Я встревожилась: где-то впереди, где находился наш дом, была бомба.
Автобус наконец остановился. Я быстро поймала такси, но спустя минуту мы оказались в пробке. Водитель изрыгал проклятия, я нервно посматривала на часы: Приближалось время возвращения Махтаб из школы. Она испугается, не увидев меня на остановке. И к тому же мчащиеся полицейские машины. Где-то впереди была бомба!
Наконец мы приехали, и я увидела школьный автобус. Махтаб вышла и растерянно оглянулась вокруг. На углу все бурлило от полицейских и зевак.
Бросив таксисту несколько риалов, я выскочила из машины и подбежала к Махтаб.
Держась за руки, мы поспешили домой, но, повернув за угол, наткнулись на огромную голубую платформу, стоящую не более чем в ста метрах от нашего дома.
Мы остановились как вкопанные. Как раз в этот момент гигантские руки автомата поднимали ящик со стоявшего рядом желтого автомобиля. Несмотря на свои огромные размеры, автомат обходился с бомбой деликатно, осторожно помещая ее в стальную емкость позади платформы.
Спустя несколько минут платформа с саперами уехала.
Для полицейских это был один из многих подобных случаев. А я в который раз остро подумала об опасности, какой мы подвергались в Тегеране. Мы должны выбраться из этого пекла и как можно быстрее, пока все не взлетим в воздух.
В один из дней я просто обезумела, притащив для Махтаб гору игрушек, однако занесла их я не домой, а к Элис.
– Мне бы хотелось оставить это все у тебя, а потом я заберу по частям, – попросила я.
– Пожалуйста, – согласилась Элис, не задавая вопросов.
Элис была исключительно интеллигентной женщиной, предупредительной, внимательной и тактичной. Она знала, что я недовольна своей жизнью в Иране, да и Муди ей не особенно нравился. Она была совершенно уверена, что я веду какую-то двойную жизнь, и определенно думала, что у меня роман.
И в каком-то смысле так и было. Между мной и Амалем не было физической близости. Его большая привязанность к семье не позволила бы мне допустить эту близость. Он был привлекательным мужчиной. И очень заботился о Махтаб и обо мне. В этом смысле мы были близки, нас связывала общая цель. Это Амаль, а не Муди был мужчиной моей жизни. После разочарования, которое постигло нас в День Благодарения, он заверял, что мы с Махтаб попадем домой на Рождество.
Мне нужно было выбирать: или поверить ему, или сойти с ума. Наполненные лихорадочными заботами дни пролетали, не принося видимого успеха.
Однажды утром я отправилась в супермаркет. В этот день привозили молоко. Повернув на главную улицу, я остановилась как вкопанная.
Возле супермаркета, магазина с сабзи и мясного магазина стояли несколько машин с вооруженными автоматами пасдарами.
Мне не хотелось попадаться им на глаза. Остановив оранжевое такси, я поехала в другой супермаркет.
На обратном пути я заметила, как пасдары выносят из магазинов продукты и грузят их на машины.
Уже дома я спросила мою соседку Малиху, не знает ли она, что случилось в магазинах, но она лишь пожала плечами. Несколько минут спустя появился мусорщик, источник сведений обо всем происходящем в округе. Его и спросила Малиха. Он знал лишь то, что пасдары конфисковали запасы в магазинах.
Любопытство, а также забота о моих знакомых – хозяевах магазинов, заставили меня выйти из дома. Проверив, правильно ли я одета, я решила пойти в супермаркет, точно ничего не случилось. Ага Реза стоял на тротуаре и удрученно смотрел на происходящее.
– Я бы хотела купить молока, – сказала я по-персидски.
– Нет, – ответил он тихо, демонстрируя стоическое спокойствие. И, вздохнув, добавил: – Закончилось.
Затем я пошла в овощной магазин, где еще большая группа пасдаров развязывала упаковки с зеленью, а свежие фрукты и овощи грузила на машину. Из магазина по соседству выносили мясо.
Когда Муди вернулся домой с работы и я рассказала ему, что случилось с нашими тремя приятелями, он прокомментировал так:
– Наверное, торговали на черном рынке.
Муди проявил довольно странный подход к морали. С одной стороны его устраивало, что на черном рынке можно купить дефицитные товары, но он занимал позицию властей, которые карали владельцев магазинов, нарушающих распоряжения.
Махтаб была огорчена случившимся. В ту ночь она молилась: «Боже, прошу тебя, сделай так, чтобы эти люди могли снова открыть свои магазины. Они такие добрые. Будь и ты добр к ним».
Проходили недели. Ежедневные разговоры по телефону и визиты к Амалю при каждом удобном случае ничего не изменили.
Иногда я задумывалась, может, все это лишь та'ароф.
– Мы обязательно отправим вас домой на Новый год, если не на Рождество, – заверял меня Амаль. – Прошу вас, потерпите, пожалуйста!
Потерпите, пожалуйста! Сколько раз я уже слышала это! Все мое естество восставало против этой фразы.
Разрабатывался еще один план побега. Амаль связался с офицером пограничной службы, и тот согласился легализовать мой американский паспорт, выданный посольством Швейцарии. Он взял бы нас на борт следующего до Токио самолета. Он вылетал каждый вторник утром, то есть тогда, когда Муди был в клинике. Амаль старался предвидеть любые неожиданности. План казался продуманным, однако я считала его достаточно рискованным.
– А что с Бендер-Аббасом? – спросила я.
– Над этим мы также работаем, – ответил он. – Потерпите, пожалуйста.
Я чувствовала себя глубоко разочарованной и не скрывала своих слез.
– Мне иногда кажется, что я останусь тут навсегда, – сказала я.
– Вы обязательно уедете, – заверил Амаль. – Я, кстати, тоже.
Его слова родили во мне новую надежду.
Незначительные на первый взгляд факты из жизни в этой безумной стране не переставали меня потрясать.
Однажды в полдень Махтаб смотрела по телевизору детскую программу. После нее выходил медицинский журнал, который заинтересовал нас. Речь шла о рождении детей. Увиденное не поддавалось логическому объяснению. Роженица была мусульманкой, принимал роды мужчина. Камера показывала обнаженное тело женщины, но ее голова, лицо и шея были плотно закрыты чадрой.
– Ты оставишь для Деда Мороза печенье и молоко? – спросила я Махтаб.
– А он придет в наш дом? В прошлом году ведь не пришел.
Мы с Махтаб много раз говорили об этом, и в конце концов мне удалось ее убедить, что Иран находится очень далеко от Северного полюса, поэтому Деду Морозу тяжело всякий раз добраться сюда.
Может быть, в этом году он постарается приехать сюда.
– Не знаю, приедет он или нет, но ты должна оставить что-нибудь на всякий случай.
Девочка пошла на кухню приготовить угощение для Деда Мороза. Потом она отправилась в свою комнату и возвратилась с иконкой, которую ей подарила Элис.
– Может быть, Дед Мороз захочет увидеть, как выглядит его жена, – сказала она, положив образок на поднос рядом с печеньем.
Возбужденная атмосферой Сочельника, Махтаб долго не хотела ложиться спать. Когда наконец я укрыла ее одеялом, она сказала:
– Прошу тебя, разбуди меня, когда услышишь, как приближается Дед Мороз. Мне бы хотелось с ним поговорить.
– А что бы ты ему сказала?
– Я хочу, чтобы он поздравил от меня бабулю и дедулю и сказал им, что я хорошо себя чувствую, тогда и у них будут веселые праздники.
Что-то сжало мне горло. Дед Мороз может принести ей кучу подарков, но он не может дать ей того, чего она больше всего желает. Если бы он мог завернуть ее в красивую бумагу и по мановению волшебной палочки перебросить на спине северного оленя через горы за границы Ирана, а потом через океан на крышу одного небольшого дома в Банистере, в штате Мичиган!
А время шло, приближалось очередное Рождество в Иране. И снова вдали от Джо, Джона, мамы и папы.
В тот день Муди допоздна принимал пациентов, для которых этот праздник ничего не значил. Когда он закончил, я спросила:
– Может быть, Махтаб завтра не пойдет в школу?
– Исключено, – сухо ответил он. – Она не может пропускать уроки только потому, что завтра Рождество.
Я не спорила с ним. В его голосе я услышала властный тон и снова заметила перемену в его поведении. В одно мгновение вернулся тот хорошо знакомый психически не уравновешенный Муди. У меня не было желания пререкаться.
– Махтаб, давай проверим, был ли Дед Мороз здесь ночью!
Я разбудила ее пораньше, чтобы у нее было время распаковать подарки до ухода в школу. В мгновение ока она выпрыгнула из кроватки и сбежала вниз по лестнице. Махтаб пришла в восторг от того, что Дед Мороз съел печенье и выпил молоко. Потом она увидела праздничные подарки. Муди присоединился к нам. Настроение его было лучше, чем вчера вечером.
В Америке ему нравилось отмечать Рождество, а это утро несло с собой теплые воспоминания. Он широко улыбался, глядя, как Махтаб погружается в гору подарков.
– Я не могу поверить, что Дед Мороз приехал издалека ко мне в Иран! – радовалась она.
Муди сделал несколько фотоснимков, а потом неожиданно предложил:
– Ты можешь не ходить сегодня в школу. Или, если хочешь, пойдешь немного позже.
– Нет, я не могу пропустить уроки, – ответила она с чувством долга, привитым мусульманскими учителями.
В тот вечер мы сидели с приятелями за праздничным ужином. Но всем нам было грустно, и все мы искренне сочувствовали несчастной Ферест. Она не переставая плакала. Наконец ее мужу было предъявлено обвинение, и он предстал перед судом.
Даже после всего, что я слышала об этой безумной стране, я с трудом могла поверить в слова рыдающей Ферест:
– Его признали инакомыслящим, «врагом нового правительства»! Его осудили на шесть лет тюремного заключения!
Муди сочувствовал Ферест, потому что любил ее так же, как и я, но позже сказал:
– Здесь, наверное, что-то другое.
В душе я не соглашалась с ним, но знала, как жадно ему хочется верить в иранскую справедливость. Несомненно, он противник правления аятоллы. Наверное, ему самому было страшно. Ведь Муди сам грубо нарушал закон, открыв частную врачебную практику без разрешения. Если можно было посадить человека на шесть лет только за мысли, то какое же наказание ждет за явное нарушение закона?!
Следующий день прошел, к счастью, в непрестанных хлопотах, поэтому у меня не было времени жалеть себя. На нашу голову неожиданно свалилась толпа родственников Муди со всевозможными подарками – едой, одеждой, домашней утварью, игрушками для Махтаб и огромными букетами цветов. По сравнению с прошлым годом это был поворот на сто восемьдесят градусов. Все семейство явно пыталось продемонстрировать, что приняло меня.
Единственным членом семьи, который не пришел, был Баба Наджи. Его отсутствие старалась компенсировать своим энтузиазмом его жена.
– Азизам! Азизам! – восклицала она уже от самого входа.
Так теперь она обращалась ко мне: дорогая!
Амми Бозорг была обвешана подарками. Тут были кухонная утварь, цветы и носки для Махтаб, упакованный в полиэтилен очень дорогой шафран из святого города Мешхед, килограмм барбариса, новое русари и очень дорогие носки для меня. Муди в этот раз не подарили ничего.
Амми Бозорг, как всегда, болтала без умолку, а я стала главным объектом ее внимания. Каждую фразу она начинала со слова «азизам» и рассыпалась в похвалах в мой адрес. Она говорила, что я очень добрая, что все меня любят, что слышала обо мне столько хорошего от людей, что я так много работаю и что я такая замечательная жена, мать и сестра.
У меня просто раскалывалась голова от расточаемых в мой адрес комплиментов, и я отправилась на кухню, обеспокоенная тем, как накормить эту орду неожиданных гостей. В доме были только остатки праздничного ужина. Приготовила все, что сумела.
Амми Бозорг посоветовала, чтобы каждый гость попробовал все понемногу, потому что эти необычные американские блюда приготовлены ее сестрой и очень вкусные.
Вечером, когда некоторые гости уже ушли, прибыли ага и ханум Хакимы. Как «человек в тюрбане», ага Хаким взял инициативу в свои руки и направил разговор в религиозное русло.
Муди явно был доволен, что наш дом в праздничные дни был в центре внимания. Поэтому, даже не спрашивая его согласия, я пригласила приятелей на встречу Нового года. К моему удивлению, Муди разозлился.
– Никаких напитков! – распорядился он.
– Ну, конечно. Откуда же здесь их взять?
– Они могут принести с собой.
– Я скажу, чтобы ничего не приносили. В моем доме не будет алкоголя. Я знаю, что это небезопасно.
Это удовлетворило его, но были и другие претензии.
– Никаких танцев и поцелуев! Я не разрешаю тебе никого целовать или желать счастливого Нового года, – заявил он.
– Я не собираюсь делать это. Я просто хочу провести время с приятелями.
Он буркнул что-то, понимая, что уже поздно отменить приглашения. Весь день он работал, не вышел даже тогда, когда собрались гости: Элис и Шамси с мужьями, а также Зари и Ферест. Мы ожидали его более часа: пили чай и ели фрукты. Раздался телефонный звонок. Мужа Шамси, доктора Наджафи, вызывали по экстренному случаю, но он отказался.
– Пусть найдут кого-нибудь другого, – сказал он.
Ему не хотелось покидать нашу компанию. Когда Муди наконец появился, то сообщил:
– Звонили из клиники. Там чрезвычайный случай. Я должен ехать.
Всем стало ясно, что он избегает нашей компании. Как и доктор Наджафи, он мог попросить, чтобы его заменили кем-нибудь другим.
Спустя несколько минут у входной двери остановилась машина «скорой помощи». Вернулся Муди в половине одиннадцатого вечера, мы сидели за ужином.
– Поужинай с нами, – попросила я.
Но в эту минуту снова зазвонил телефон.
– Это пациентка. У нее боли в позвоночнике. Сейчас ее привезут сюда, – сообщил Муди.
– О нет, – возразила я. – Скажи, чтобы отложили визит до утра.
– Ты не должен принимать пациентов в такое позднее время, – поддержала меня Шамси. – Нужно, чтобы ты установил часы работы.
– Исключено. Я обязан принять ее сейчас. И он исчез в кабинете.
– Портит нам вечер, – проворчала Элис.
– Это часто случается. Я не сержусь на него за это, – сказала я.
Я видела, что всем жаль меня, но, по правде говоря, я намного лучше чувствовала себя в обществе друзей, когда рядом не было Муди.
Ужин удался, но гости стали собираться по домам. Новый год не признавался в Иране; завтра обычный рабочий день. Муди наконец вышел из кабинета.
– Вы не можете уйти сейчас, – сказал он с притворной грустью. – Я только закончил работу.
– Утром очень рано вставать, – ответил доктор Наджафи.
Минуту спустя после того, как за нашими гостями закрылась дверь, Муди неожиданно обнял меня и неловко поцеловал.
– А это по какому поводу? – пораженная, спросила я.
– Ну, счастливого Нового года!
«Нечего сказать, счастливый этот Новый год, – подумала я, – 1986-й! Прошел еще один год, а я по-прежнему здесь. Сколько еще лет пройдет?..»
Закончились праздничные дни, и я ощутила пустоту. Как я хотела провести эти праздники дома, в Мичигане! Но и День Благодарения, и Рождество, и Новый год пришли и ушли, а осталась лишь хмурая зима…
Время тянулось немилосердно медленно.
– Потерпите, пожалуйста, – говорил Амаль, когда я связывалась с ним.
За окном шел снег. Улицы превратились в грязные лужи. Каждое утро я просыпалась все в более глубоком отчаянии. Каждый день случалось что-нибудь, что усиливало чувство безнадежности.
Однажды, когда я проходила мимо площади недалеко от дома, меня остановила пасдарка. Махтаб была в школе – некому было мне помочь. На этот раз я решила сделать вид, что ничего не понимаю.
– Не понимаю, – ответила я по-английски.
К моему удивлению, блюстительница закона тоже заговорила по-английски. Впервые я слышала родную речь из уст пасдаров. Она гневно произнесла:
– Когда ты шла по улице, я увидела узкую полоску тела между твоими носками и пальто. Тебе следует надевать носки длиннее.
– Вы думаете, мне нравятся эти носки? Никогда в жизни я не носила ничего подобного. Если бы у меня был выбор, я бы давно уже была в Америке и носила колготки, а не эти носки, которые постоянно сползают. Не будете ли вы любезны сказать мне, где в Иране можно купить носки, которые держатся на ногах?
Пасдарка задумалась.
– Понимаю, ханум, понимаю, – произнесла она вежливо.
Она ушла, оставив меня в недоумении. Невероятно: я встретила пасдарку, у которой нашла понимание.
В середине января около четырех часов дня зазвонил телефон. Я находилась в это время в приемной Муди среди пациентов. Подняв трубку, я услышала голос моей сестры Каролин. Она плакала.
– Приходил врач домой. У отца закупорка кишечника. Решили оперировать. Без операции не обойтись, но врачи считают, что он слишком слаб и не перенесет ее. Говорят, что может сегодня умереть.
Я не видела ничего вокруг себя. Слезы лились ручьем, впитываясь в русари. Сердце разрывалось от боли. Мой отец умирал за тысячи миль отсюда, а я не могла быть рядом с ним, взять его за руку, сказать о моей любви к нему, разделить с близкими боль и горечь.
Вдруг я увидела рядом Муди. Лицо его было отмечено печалью и, казалось, сочувствием. Он слышал разговор достаточно хорошо, чтобы догадаться, о чем идет речь. Он тихо сказал:
– Поезжай. Поезжай повидаться с отцом. Слова Муди меня совершенно озадачили. Мне хотелось удостовериться, не ослышалась ли я. Закрыв ладонью микрофон, я сказала:
– Отец в очень тяжелом состоянии. Врачи считают, что он не переживет эту ночь.
– Скажи ей, что приедешь.
В долю секунды меня охватила неописуемая радость, но уже спустя какое-то время возникли подозрения. Откуда эта внезапная перемена?
На какой-то миг я задумалась.
– Послушай, – кричала я в телефонную трубку. – Мне бы хотелось поговорить с папой перед операцией.
Муди не возражал. Он прислушивался, как мы с Каролин оговариваем детали. Я должна позвонить в Карсон Сити в клинику через три часа. Она подготовит отца к разговору со мной перед тем, как его увезут в операционную.
– Скажи ей, что приедешь, – повторил Муди. Терзаемая сомнениями, я проигнорировала его совет.
– Скажи ей сейчас же, – настаивал он. «Что-то тут не так, – подумала я. – Происходит что-то нехорошее».
– Ну, говори! – повторил он требовательным тоном.
– Каролин, Муди говорит, что я смогу приехать домой.
Послышался восторженный крик моей сестры.
Муди сразу же вернулся в кабинет, где его ожидали пациенты. Я убежала в спальню в слезах, переполненная смешанными чувствами. Я плакала от жалости к отцу и одновременно от счастья, что мы едем в Америку.
Не знаю, как долго я была в таком состоянии, когда вдруг поняла, что в комнате находится Шамси.
– Я позвонила, и Муди сообщил, что с твоим отцом плохо. Мы с Зари пришли поддержать тебя, – сказала она.
– Огромное спасибо, – ответила я, вытирая вновь полившиеся слезы.
Шамси отвела меня в гостиную. Там я увидела Зари, которая постаралась меня успокоить.
– Я беседовала сегодня утром с Муди, – сказала Зари. – Я объяснила ему, что он должен позволить тебе навестить отца.
Я задумалась. Неужели поэтому Муди так неожиданно изменил свою позицию?
Зари передала мне разговор с моим мужем. Муди возражал против моей поездки в Америку потому, что был убежден, что я уже никогда не вернусь в Иран.
– Ты не смеешь так поступать, – возмутилась Зари в ответ. – Ты не можешь держать ее здесь всю оставшуюся жизнь из-за своих предположений.
Зари заявила Муди, что он поступает плохо, не разрешая мне навестить отца. Это было оскорбительное и злое заявление, особенно в силу того, что оно исходило от женщины старше Муди, давней приятельницы семьи, пользующейся уважением.
Муди был непреклонен, пока Зари неосознанно не подсказала ему решение проблемы. По своей душевной простоте она подумала, что Муди беспокоится о Махтаб, поэтому предложила:
– Если причина кроется в Махтаб, то она может жить с Шамси и со мной.
За полтора года пребывания здесь ничто не причинило мне большей боли. У Зари были самые добрые намерения, но таким образом она приготовила мне западню. Каждый раз, когда мы с Муди обсуждали возвращение в Америку, речь шла обо мне и Махтаб! Махтаб понимала это так же, как и я. Я не в силах была сказать ей, что, возможно, мы будем вынуждены расстаться.
Я не поеду в Америку без дочери.
А если Муди попытается отправить меня одну?..
– Дедуля, мы приедем навестить тебя! – сказала Махтаб, когда нас соединили с клиникой.
Она произнесла эти слова восторженно, но лицо выражало сомнение. Она не очень верила в то, что отец позволит нам поехать.
Дедушка мог поговорить со своей маленькой Тобби только с минуту, с трудом произнося каждое слово.
– Я так рад, что вы приедете, – сказал он мне. – Поспешите, не откладывайте.
Я тихо плакала, стараясь убедить его, да и себя, что мы обязательно увидимся. Я боялась, что Муди отпустит меня только на его похороны.
– Я буду молиться за тебя во время операции, – заверила я его.
– Хотеть – значит мочь, – ответил он. В его голосе я почувствовала прилив новых сил. Потом он добавил: – Пригласи Муди к телефону.
– Отец хочет с тобой поговорить, – я отдала трубку Муди.
– Дед, мы хотим тебя навестить. Очень тоскуем по тебе, – произнес Муди.
Это прозвучало довольно искренне, но все мы знали, что Муди лжет.
Разговор быстро закончился. Приближалось время операции.
– Спасибо тебе за то, что поговорил с папой, – сказала я, ища способ смягчить нарастающее в нем раздражение.
Он что-то ответил. Муди, когда хотел, мог быть хорошим актером. Я точно знала, что он не собирается возвращаться в Америку или позволить Махтаб ехать со мной. Но какую игру он ведет с нами на этот раз?..
Муди принимал посетителей допоздна. Махтаб была уже в постели, но спала неспокойно, встревоженная тяжелым состоянием любимого дедули и возбужденная перспективой путешествия в Америку. Лежа в постели, я без удержу плакала. Сердце мое разрывалось от безысходности. Я плакала об отце, который, по всей вероятности, был уже мертв. Я понимала отчаяние и горе мамы, сестры, брата, Джо, Джона и плакала оттого, что меня не будет возле них, чтобы их поддержать. Я плакала о Махтаб: как перенесет она это дополнительное бремя, которое свалится на ее хрупкие плечики? Она слышала, как говорил отец, что мы возвращаемся в Америку, чтобы навестить дедушку. Как сказать ей, что она не поедет и что дедушки уже нет?!
В ту ночь Муди пришел в спальню в половине одиннадцатого и сел возле меня на кровати. Сейчас он старался меня успокоить.
Даже сейчас я пыталась разработать стратегию, которая позволила бы мне вырвать отсюда Махтаб.
– Поедем с нами, – просила я. – Нам понадобится твоя поддержка. Нам бы хотелось, чтобы ты поехал с нами, чтобы мы втроем… В такие минуты, как сейчас, ты мне очень нужен. Без тебя я не справлюсь со всем там.
– Я не могу ехать, – ответил он. – Если я поеду, то потеряю работу в клинике.
То, о чем я говорила, было последней попыткой сделать невозможное возможным.
– Хорошо. Мы с Махтаб поедем вдвоем.
– Нет. Махтаб должна ходить в школу.
– Если она не поедет со мной, то я тоже не поеду, – решительно заявила я.
Не произнеся ни слова, он встал и вышел из комнаты.
– Всем займется Маммаль, – сообщил Муди на следующее утро. – Я очень рад, что ты навестишь близких. Когда ты хочешь лететь? Когда собираешься вернуться?
– Я не поеду без Махтаб.
– Поедешь, – сказал он ледяным тоном. – Разумеется, поедешь.
– Если поеду, то только на два дня.
– О чем ты говоришь? Я забронирую тебе билет на самолет до Корпус Кристи, – сказал он.
– А зачем мне туда лететь?
– Чтобы продать дом. Нечего лететь на несколько дней. Ты пробудешь там, пока не продашь все, и вернешься с долларами.
Значит, вот в чем было дело. Вот что скрывалось за неожиданным согласием на мою поездку в Америку. Его не интересовал мой отец, моя мама, мои сыновья и остальные родственники. Он вовсе не стремился дать мне возможность проститься с отцом. Ему нужны были только деньги. И конечно, он хотел задержать Махтаб в качестве заложницы, гарантирующей мое возвращение.
– И не подумаю! – воскликнула я. – Я еду на похороны отца и не в состоянии буду думать о продаже имущества. Ты сам знаешь, сколько там всего. И возможно ли это – продать все сразу? Как же я в такой ситуации смогу заниматься этими вопросами.
– Я знаю, что это непросто, – начал, в свою очередь, кричать Муди. – Меня не интересует, сколько ты там пробудешь. Меня не интересует, сколько это займет времени. Ты не должна возвращаться, пока все это не сделаешь!
Когда Муди ушел в клинику, я выбежала на улицу, поймала такси и поехала к Амалю. Он внимательно выслушал меня. Его лицо выражало беспокойство и озабоченность.
– Я могу поехать на два дня, только на похороны, а потом вернуться сюда, – сказала я. – Тогда я могла бы убежать вместе с Махтаб в соответствии с планом.
– Вы не должны ехать, – посоветовал он. – Если вы поедете, то никогда больше не увидите Махтаб. Я в этом убежден. Он не даст согласия на ваше возвращение в Иран.
– Но ведь я обещала отцу.
– Прошу вас не делать этого.
– А может быть, поехать и привезти эти деньги? Я бы могла привезти деньги, необходимые для побега!
– Я не советую вам ехать. Отец ваш не пожелал бы вашего приезда, зная, что Махтаб останется в Иране.
Он был прав. Я знала, что если покину Иран без Махтаб хотя бы на пять минут, Муди уже навсегда разлучит нас. Хотя наша жизнь в Тегеране в последнее время стала сносной, в глубине души я не сомневалась, что Муди с удовольствием уберет меня из своей жизни. Он будет обольщать меня надеждой, заставит все продать, но получив от меня деньги, сразу же разведется со мной, найдет себе какую-нибудь местную женщину, которая будет воспитывать Махтаб.
Мой разговор с Амалем принял новый оборот.
– Нельзя ли ускорить побег, прежде чем Муди заставит меня поехать?
Амаль беспокойно ерзал на стуле. Он понимал, что вся эта ситуация слишком затянулась. Знал он также, что она стала для меня критической. Но он не был волшебником.
Он объяснил, что мне нужен иранский паспорт. Тот, который есть у нас сейчас и на основании которого мы выехали в Иран, был выписан на троих. Чтобы воспользоваться им, нам нужно было бы путешествовать всей семьей. Без Муди я не могу им воспользоваться. Не могу я также выехать и по американскому паспорту, который Муди где-то спрятал.
– Я не смогу быстро сделать для вас паспорт, – сказал он. – Обычно для этого требуется год. Даже если постараться ускорить процедуру, для этого необходимо шесть—восемь недель. Насколько мне известно, самый короткий период для получения паспорта – шесть недель. До того времени вас уже отсюда вывезут. Потерпите, пожалуйста.
В тот же день я разговаривала с Каролин. Отец перенес операцию. Папа продолжал жить! Сестра говорила, что на пути в операционную он рассказывал врачам и сестрам, что Бетти и Тобби приедут домой. Моя сестра была уверена, что именно надежда на встречу позволила ему выжить. Однако он был очень слаб, и врачи считали, что его жизнь висит на волоске.
Вечером появились Маммаль и Маджид. Они закрылись с Муди в его кабинете, обсуждая детали моего отъезда. Я была на кухне, когда туда вошла Махтаб. По выражению ее лица я поняла, что с ней происходит что-то неладное. Она не плакала, но смотрела на меня со смешанным чувством гнева и боли.
– Это правда, что ты хочешь уехать и оставить меня здесь?
– О чем ты говоришь?
– Папа сказал мне, что ты поедешь в Америку без меня!
Она разрыдалась.
Я подошла, чтобы обнять ее, но она отскочила от меня к самой двери.
– Ты обещала, что никогда не поедешь без меня, – плакала она. – А сейчас хочешь оставить меня.
– Что тебе сказал папа?
– Он сказал, что ты хочешь меня оставить и никогда уже ко мне не вернешься.
– Пойдем поговорим с папой об этом, – предложила я, взяв Махтаб за руку. Во мне все клокотало от гнева.
Я рванула дверь кабинета Муди, где трое мужчин сговаривались против меня.
– Почему ты сказал Махтаб, что я еду без нее в Америку? – закричала я.
В ответ он прокричал тоже:
– Я не вижу смысла скрывать это от нее. Она должна привыкнуть к этой мысли и может начинать это делать уже сейчас.
– Я не поеду без нее!
– Поедешь!
– Ни за что!
Так мы какое-то время кричали друг на друга. Ни один из нас не собирался уступать. Маммаль и Маджид демонстрировали безразличие ко всему происходящему. Их не волновало, как на это реагирует Махтаб.
В конце концов я выбежала из кабинета, и мы с Махтаб пошли наверх в мою спальню. Я крепко обняла ее и повторяла:
– Махтаб, я не уеду без тебя. Я никогда тебя не покину.
Она хотела верить мне, но в ее глазах таилось сомнение. Она знала, какую власть имел ее отец над нами обеими.
Я попыталась еще раз:
– Поверь мне, Махтаб: если папа не изменит своего решения перед отлетом, я заболею так сильно, что не смогу войти в самолет. Только ничего ему об этом не говори.
Я чувствовала, что она по-прежнему не верит мне, но я не осмелилась все-таки сказать ей об Амале. Нет, еще не время.
Она долго плакала, пока не заснула, прижавшись ко мне в ту бесконечно длинную ночь.
Муди отправился в паспортный стол и, проведя там целый день, вернулся возмущенный бесконечной очередью и тупостью бюрократов. Как и предполагал Амаль, он пришел ни с чем.
– Ты должна идти туда сама. Пойдешь завтра. И я пойду с тобой, – заявил муж.
– А как же Махтаб? – спросила я, лихорадочно ища какой-нибудь предлог. – Ты провел там целый день. Дома никого не будет, когда она вернется из школы.
Он задумался.
– Значит, поедешь одна, – наконец произнес он. – Я тебе объясню, а сам останусь дома и подожду Махтаб.
Вечером Муди заполнил паспортную анкету и написал заявление. Он рассказал мне, как добраться до паспортного стола, и назвал фамилию сотрудника, который должен ждать меня.
«Я должна туда идти, – решила я». Однако я была убеждена, что вернусь с пачкой анкет для заполнения и с многочисленными извинениями за задержку.
После изнурительного плутания по коридорам я увидела длинные очереди женщин и мужчин, пытавшихся справиться с невероятно трудной задачей получения разрешения на выезд из Ирана.
Наконец я нашла нужного мне человека. Он встретил меня приветливо, а потом повел меня через ряд комнат, пользуясь своим авторитетом и локтями.
Мы очутились в огромном зале. Какое-то время всматриваясь в толпу, он в конце концов увидел того, кого искал, – молодого иранца.
– Я знаю английский, – сказал молодой человек. – Здесь отдел для мужчин.
Это было понятно и без объяснений.
– Он хочет, чтобы вы подождали в этой очереди. Возможно, через час или два он вернется и решит ваш вопрос.
– А что это значит?
– Вам выдадут паспорт.
– Сегодня?
– Да. Здесь, в этой очереди.
Они оставили меня одну совершенно растерянной. Возможно ли это? Муди так долго ждал разрешения на ведение врачебной практики. Несмотря на хвастовство, ни он, ни его родственники не имели большого влияния на бюрократию в здравоохранении. Неужели мы с Амалем недооценили знакомства Муди в этой сфере? А может быть, это работа Маммаля? Или Маджида? Или Баба Наджи, у которого столь обширные связи в бизнесе? Я вспомнила, что Хия Хаким первым встретил нас в аэропорту, и именно он свободно обошел сотрудников таможенной службы.
Я все поняла и испугалась. В толпе галдевших иранцев я чувствовала себя безвольной, обнаженной, одинокой женщиной. Неужели Муди удастся этот сатанинский план?
Мне хотелось отсюда бежать. Но куда? Впереди были только улицы Тегерана. Посольство? Полиция? Амаль? Но там нигде не было Махтаб. Она дома, в руках врага.
Очередь двигалась невероятно быстро. Я часами ждала буханки хлеба, куска мяса или десятка яиц. Неужели получение паспорта не должно занять больше времени? Неужели сейчас я встретилась с исключительной оперативностью учреждения?
Подошла моя очередь. Я вручила хмурому чиновнику свои документы. Взамен он подал мне паспорт. Я смотрела на него точно в шоке, не зная, что делать дальше.
Был только первый час. Муди не мог знать, что я так быстро получу этот проклятый документ.
Надо немедленно действовать! Надо найти какой-то выход из этого тупика! Прежде всего я поймала такси и отправилась к Амалю.
Первый раз я пришла к нему без предупреждения. Его лицо выражало озабоченность и беспокойство. Он понял, что случилось что-то чрезвычайное.
– Я не могу поверить, – сказал он, рассматривая паспорт. – Это невероятно. У него такие связи, о которых я и мечтать не могу. У меня есть тоже свои лазейки, но мне еще ни разу не удавалось организовать что-либо подобное.
– Что же делать?
Амаль внимательно изучал паспорт.
– Здесь написано, что вы родились в Германии, – заметил он. – Откуда это взялось? Где вы родились?
– В Альмане, в штате Мичиган. Амаль задумался.
– Все ясно. Альман – по-персидски означает «Германия». Это очень хорошо для нас. Вы скажете Муди, что нужно вернуть паспорт для исправления ошибки. По этому паспорту вас не выпустят. Утром поезжайте в паспортный стол. Оставьте документ у них, а сами уйдите. Мужу скажете, что паспорт задержали. Думаю, выяснение займет какое-то время.
– Хорошо.
Я настолько была поглощена обдумыванием, как объяснить ошибку в паспорте, что Муди застал меня врасплох.
– Где ты была? – проревел он.
– В паспортном столе, – ответила я.
– Звонили после часа, что уже выдали тебе паспорт, – сказал он ядовитым тоном.
– Тебе звонили?
– Да.
– Извини за опоздание. В городе напряженное движение. Были сложности с пересадками.
Муди пристально посмотрел на меня. Я понимала, что он подозревает. Как могла, старалась отвлечь его внимание.
– Что за ротозеи! – сказала я, показывая ему паспорт. – Ты только взгляни. Я ждала целый день, а они выдали мне паспорт с ошибкой. Здесь написано «Германия». Я должна его отнести на исправление.
Муди посмотрел паспорт и согласился. Действительно, данные в паспорте не совпадают с данными в свидетельстве о рождении.
– Завтра, – буркнул он.
Больше он не произнес ни слова. Утром я старалась убедить Муди, чтобы он позволил мне ехать в паспортный стол одной: ведь справилась же я вчера. Но он не обращал ни малейшего внимания на мои аргументы. И хотя на тот день у него были назначены пациенты, он поехал со мной. Мы очень быстро добрались до места назначения. Там он сразу же нашел своего знакомого, отдал ему паспорт, и через пять минут у него в руках был правильно заполненный документ – официальное разрешение на выезд из Ирана, но… для меня одной.
Муди забронировал мне билет на пятницу, 31 января.
– Все готово, – сказал Амаль. – Наконец-то! Это произошло за три дня до моего отъезда, во вторник утром. Завтра, когда Муди будет в клинике, мы с Махтаб уедем, перечеркнув его планы за два дня до срока.
Амаль подробно ознакомил меня со своими намерениями. Несмотря на все его усилия, план вылета в Бендер-Аббас и пересечение границы на моторной лодке был все-таки еще недоработан. Поскольку Муди начал действовать столь решительно, Амаль предложил воспользоваться одним из резервных вариантов. Мы с Махтаб полетим до Захедана самолетом в девять часов утра. Там мы должны присоединиться к группе профессиональных контрабандистов и через почти непроходимые горы добраться до Пакистана. Контрабандисты доведут нас до Кветты, откуда мы вылетим в Карачи.
Меня охватила паника. Совсем недавно я прочла в газете «Хаян» об австралийской семье, увезенной в Кветту местной бандой и переданной в Афганистан. Там этих людей продержали восемь месяцев. Я могла представить себе пережитый ими кошмар.
Я рассказала Амалю об этой истории.
– Это правда, – подтвердил он. – Такие случаи происходят постоянно. Но вам не удастся покинуть Иран без риска.
Нам нужно было бежать сейчас же. Я не могла больше позволить себе роскошь выслушивать привычный совет Амаля: «Потерпите, пожалуйста». Скорее нужно было воспользоваться советом моего отца: «Хотеть – значит мочь».
Я дала Амалю на сохранение пластиковый мешок с запасной одеждой для меня и Махтаб, а также менее значительные вещи, которые мне не хотелось оставлять дома. Среди них был большой тяжелый гобелен, представляющий бытовую сцену: мужчины, женщины и дети у ручья. Мне удалось сложить гобелен в пакет размером около тридцати сантиметров. Кроме того, там были фиалки и шафран, которые подарила мне на Рождество Амми Бозорг.
Я слушала Амаля, и беспокойные мысли роились в моей голове. Вести из Америки были и хорошие, и печальные одновременно. Отец упорно цеплялся за жизнь, ожидая нас. Я была готова бежать. Завтра я постараюсь сделать так, чтобы Махтаб немного задержалась. Я должна быть уверена, что школьный автобус уедет без нее. Потом я сама отведу ее в школу. На улице я сообщу ей радостную новость. Когда мой ничего не подозревающий муж поедет в клинику, мы с Махтаб встретимся с Амалем, который отвезет нас в аэропорт и посадит в самолет до Захедана.
Что за ирония судьбы: мы убегаем той же дорогой, о которой говорила госпожа Алави! Что с ней могло приключиться? Не исключено, что ее арестовали. А может быть, она уже покинула страну? Я надеялась, что ей это удалось.
– Сколько это будет стоить? – спросила я.
– Просят двенадцать тысяч долларов, – ответил он. – Не забивайте себе этим голову, пожалуйста. Вы мне вышлете их по возвращении в Штаты.
– Я вышлю деньги сразу же, – обещала я. – Спасибо вам.
– Не за что.
Почему Амаль делал все это для нас, рискуя солидной суммой и полагаясь лишь на мою порядочность? Пожалуй, в какой-то степени я знаю причину, хотя никогда не спрашивала его об этом. И прежде всего Амаль – это ответ на мои молитвы, христианские и мусульманские, ответ на совершенный мною наср, на мою просьбу к имаму Мехди, на мое паломничество в Мешхед. Мы с ним верили в одного и того же Бога.
Амаль хотел что-то доказать себе, мне, всему свету. Полтора года я была заложницей в стране, которая, как мне казалось, заселена лишь ничтожествами. Хозяин магазина Хамид первым доказал мне ошибочность моих суждений. Поступки Алави, Шамси, Зари, Ферест и некоторых других убедили меня, что нельзя выносить людям приговор заранее. Даже Амми Бозорг по-своему доказывала о своих добрых намерениях.
Мотивы, которыми руководствовался Амаль, были одновременно и простыми и сложными. Он хотел помочь двум невинным жертвам иранской революции. Взамен он ничего не требовал. Его единственной компенсацией будет удовлетворение, если операция закончится благополучно.
Закончится ли благополучно?..
Статья об австралийской семье, а также то, о чем говорил господин Винкоп, пугали меня. Я помнила его слова: «Заберут у вас деньги, привезут к границе, надругаются, убьют или отдадут в руки охраны».
Сейчас это уже не имело значения. В пятницу я могу сесть в самолет, с комфортом долететь до Америки, но никогда больше не увижу моего ребенка. Или же завтра я возьму свою девочку за руку и вместе с ней отправлюсь в крайне опасное путешествие. Мой выбор был однозначным.
Или я умру в горах, или отвезу свою дочь в Америку.
Я вышла из такси и, дрожа от холода, с трудом пробиралась по грязной улице. Скоро придет из школы Махтаб, потом Муди вернется из клиники. Вечером Шамси, Зари и Хакимы придут к нам на прощальный ужин. Все они уверены в том, что я вылетаю в пятницу. Я должна взять себя в руки и ничем не выдать своих планов.
Приближаясь к дому, я заметила Муди и Маммаля. Оба они смотрели на меня. Муди был взбешен настолько, что даже не обращал внимания на ледяной ветер и усиливающийся снегопад.
– Где ты была?! – заорал он.
– В магазинах.
– Лжешь! У тебя нет никаких пакетов.
– Я искала подарки для мамы, но ничего не нашла.
– Лжешь! – повторил он. – Иди домой. Останешься здесь до пятницы.
Итак, мне нельзя выходить из дома, нельзя пользоваться телефоном. В ближайшие три дня я буду в заключении. Он взял свободный день в клинике, чтобы остаться дома. На время приема пациентов Муди закрыл телефон в своем кабинете. Вторую половину дня я провела на внутреннем закрытом дворе, который все время просматривался из окна кабинета. Мы с Махтаб слепили снежную бабу, завязали ей ленточку любимого Махтаб цикламенового цвета.
Снова я была узницей. Мы не сможем завтра встретиться с людьми Амаля. У меня даже не было способа связаться с ним, чтобы рассказать о возникших осложнениях.
В тот вечер, готовясь к встрече с приятелями, я дрожала от страха и холода. Я старалась занять чем-нибудь руки. Мой мозг лихорадочно работал. Мне необходимо позвонить Амалю. Он должен найти выход из создавшейся ситуации. Я почувствовала еще более сильную дрожь и вдруг поняла, что стало холоднее в доме. Молниеносно созрел план.
– В доме не работает отопление, – пожаловалась я.
– Испортилось или не поступает нефть?
– Я пойду к Малихе и проверю, не случилось ли что-нибудь с печью, – сказала я в надежде, что мои слова звучат правдиво.
– Хорошо, иди.
Стараясь не обнаружить моего волнения, я пошла в квартиру Малихи. Я спросила ее по-персидски, можно ли воспользоваться телефоном. Она согласно кивнула головой.
Я быстро набрала номер Амаля.
– Ничего не выйдет, – сказала я. – Я не могу ехать, не могу даже выйти из дома. Он был дома, когда я вернулась от вас. Он что-то подозревает.
Амаль тяжело вздохнул.
– Все равно бы из этого ничего не вышло. Как раз минуту назад я разговаривал с людьми из Захедана. Там сейчас самый глубокий снег за последние сто лет. Пройти через горы невозможно.
– Что же делать? – простонала я.
– Прошу вас, не входите в самолет. Он не может втолкнуть вас туда силой.
– Не уезжай, – сказала Шамси в тот вечер, когда мы остались на минуту одни на кухне. – Не садись в самолет. Я знаю, что произойдет потом. Как только ты уедешь, он отдаст Махтаб своей сестре и снова позволит своим родственникам опутать себя. Не уезжай.
– Я не хочу ехать, – ответила я. – Я не хочу ехать без Махтаб.
Однако я чувствовала, как Муди затягивает мне петлю на шее. Он может заставить меня войти в самолет; достаточно того, что он пригрозит забрать Махтаб. Я не перенесла бы даже мысли об этом. Но в то же время не могло быть и речи о том, что я оставлю свою дочь здесь и вернусь в Америку. Так или иначе я потеряю ее.
Я не чувствовала вкуса еды, которую в тот вечер мне удавалось проглотить. Я не слышала, о чем говорят.
Ханум Хаким предложила мне пойти с ней завтра в кооперативный магазин. Это был специализированный магазин для членов мечети аги Хакима. Туда как раз завезли чечевицу, которую, как правило, было трудно купить.
– Мы должны туда пойти, пока все не раскупили, – сказала она по-персидски.
Шамси тоже хотела пойти. Я согласилась, хотя мне эта чечевица была абсолютно не нужна.
Позднее, когда Шамси и Зари ушли, Махтаб была уже в постели, а Муди в кабинете принимал последних пациентов, мы с Хакимами сидели в гостиной и пили чай. Вдруг появился неожиданный и менее всего желанный гость – Маммаль.
Он поздоровался с Хакимами, вызывающе потребовал чаю, а затем со злорадством протянул мне авиабилеты.
Полтора года, проведенных здесь в заключении, сыграли свою роль. Я потеряла контроль над собой.
– Давай, давай эти билеты! – кричала я. – Я разорву их в клочья!
Ага Хаким тотчас же принял роль арбитра. Деликатный «господин в тюрбане», наиболее разумный из всех родственников Муди, он стал спокойно расспрашивать меня. Он не говорил по-английски. Маммаль мог бы перевести, но не стал делать этого. Я с трудом объяснялась по-персидски, но отчаянно старалась, видя в аге Хакиме сторонника и друга.
– Вы даже не представляете, через что я прошла, – жаловалась я. – Он удерживает меня здесь силой. Я хотела вернуться домой в Америку, но он не позволил мне.
Хакимы были искренне озадачены. Ага Хаким продолжал расспрашивать меня, и на его лице отражалась боль, когда он слушал мои ответы. Ему открылись страшные подробности моего существования.
Выслушав меня, он, однако, удивился:
– Так почему ты не радуешься по поводу своего возвращения домой и встрече с родственниками?
– Мне очень хочется вернуться домой к своим близким, – объясняла я. – Но он требует, чтобы я осталась там до тех пор, пока не продам все наше имущество и не привезу деньги. Мой отец умирает. Я не хочу ехать в Америку только для того, чтобы устраивать свои дела.
Закончив прием, Муди присоединился к нам в гостиной и сразу же попал под перекрестный огонь вопросов аги Хакима. Ответы Муди были спокойны. Он делал вид, будто только сейчас узнал о моих сомнениях в связи с поездкой.
Наконец ага Хаким спросил:
– Так если Бетти не хочет ехать, зачем ты ее отправляешь?
– Я делаю это лишь для того, – ответил Муди, – чтобы она навестила родителей.
Ага Хаким обратился ко мне:
– Ты хочешь ехать?
– Нет, – не задумываясь, ответила я.
– Порядок. Так к чему весь этот шум? Это только твое дело, хочешь ли ты увидеть умирающего отца. Если ты не хочешь ехать, то и не должна.
В его словах чувствовались искренность, любовь и уважение ко мне. Все с почтением отнеслись к мудрому совету аги Хакима. Вопрос был решен.
Остаток вечера Муди непринужденно разговаривал с Хакимами. Он был радушным хозяином. Затем он проводил их, а когда они выходили, поблагодарил за то, что пришли, а особо поблагодарил агу Хакима.
– Я зайду за тобой утром и мы вместе поедем в магазин, – пообещала я ханум Хаким. Я надеялась, что поход за покупками предоставит мне возможность связаться с Амалем.
Муди спокойно закрыл дверь за Хакимами, а затем повернулся ко мне и ударил меня по лицу так сильно, что я упала на пол.
– Довольна?! Постаралась?! – визжал он как сумасшедший. – Ты все уничтожила. Сядешь в самолет! А если этого не сделаешь, то я заберу Махтаб и до конца твоей жизни запру тебя в доме!
Он мог это сделать. И сделает.
Проблемы начались приблизительно четыре года назад, вечером 7 апреля 1982 года, когда Муди вернулся с работы (он работал в Центральном госпитале Альпены) озабоченный и с каким-то отсутствующим взглядом. В первый момент я ничего не заметила, приготовив праздничный ужин: в этот день Джону исполнилось одиннадцать лет.
Прошедшие годы мы были счастливы. Муди вернулся в Мичиган из Корпус Кристи в 1980 году, решив раз и навсегда игнорировать политические события в Иране.
Портрет грозно глядящего аятоллы Хомейни отправился на чердак. Муди поклялся, что не позволит втянуть себя в разговоры о революции, помня, что его возрожденный патриотизм принес ему в Корпус Кристи одни только неприятности.
Мое душевное состояние тоже улучшилось, особенно после того, как мы нашли дом над рекой. Снаружи он казался неприглядным, но, как только я вошла в него, он сразу же мне понравился.
Дом оказался просторным, с большими спальнями, двумя ванными комнатами и большой гостиной. Вид на реку действовал успокаивающе.
Муди дом тоже понравился. Мы купили его сразу же.
Альпена находится лишь в трех часах езды от Банистера. Таким образом, я могла часто навещать родителей. Мы с отцом наслаждались рыбалкой, вытаскивая из спокойной воды золотистых сомов, голубых окуней, зубаток, а иногда даже щуку, а с мамой проводили целые часы за вязанием, стряпанием и разговорами. Я радовалась, что могу посвятить им больше времени: они так быстро начали стареть. И мама, мучившаяся от заболевания кожи, и отец были счастливы, что могут проводить время с внуками. Особым источником радости для родителей была малютка Махтаб, делавшая первые шаги по дому. Папа называл ее Тобби.
Мы легко вошли в профессиональный круг, сложившийся в Альпене, часто звали гостей, да и нас нередко приглашали. Муди был очень доволен работой, а я снова стала счастливой хозяйкой дома и матерью. Все это было до того самого момента, когда Муди пришел однажды с немым страданием в глазах.
Его пациент, трехлетний мальчик, умер во время несложной операции, в которой Муди участвовал по собственному желанию. Его обвинили в профессиональной несостоятельности. Началось следствие.
На следующее утро позвонила моя сестра Каролин. Я подняла трубку совершенно разбитая после бессонной ночи. Мгновенно известие Каролин заставило меня забыть обо всем остальном: у отца рак.
Мы сразу же отправились в клинику Карсон Сити. Туда, где я впервые встретилась с Муди. Сейчас мы нервно мерили шагами приемную, пока врачи обследовали отца. Результаты не обнадеживали. Хирурги вскрыли толстую кишку, но не смогли удалить новообразование полностью: оно слишком углубилось. Мы проконсультировались с химиотерапевтом. Он сказал, что на какое-то время жизнь отца можно продлить, но на сколько – не знал. Было ясно лишь одно: мы теряем папу.
Я поклялась, что буду рядом с ним до конца.
Жизнь перевернулась. Совсем недавно мы были так счастливы. И вдруг – карьера Муди под угрозой, отец умирает, а наше будущее в тумане. Напряжение отразилось на каждом из нас по-разному.
Несколько последующих недель мы с Муди курсировали между Альпеной и Карсон Сити. Муди помогал отцу справиться с послеоперационным состоянием. Казалось, что уже одно присутствие Муди смягчает его боль.
Когда отцу стало немного легче, Муди пригласил его в Альпену. Часами сидел с ним, давая советы и помогая смириться с болезнью.
В итоге отец был единственным пациентом Муди. Рядом с ним Муди снова чувствовал себя врачом. Но, оставаясь день за днем дома, он все чаще погружался в тяжелые мысли.
– Это все политика, – повторял он постоянно, комментируя проводимое в клинике следствие.
Муди старался поддерживать профессиональную форму, участвуя в различных семинарах по медицине, но это лишь усугубляло пустоту в его жизни, потому что он не мог воспользоваться на практике тем, чему научился.
Мы переживали материальные затруднения. Я была убеждена в том, что возвращение на работу позволило бы Муди воспрянуть духом. Пока шло следствие, ни в одной клинике не разрешили бы ему занять место анестезиолога, но у него был еще диплом остеопата. Я всегда считала, что в этой области он мог бы добиться значительных успехов.
– Ты бы съездил в Детройт, – осторожно подсказывала я, – и подошел в клинику на Четырнадцатой улице. Им всегда требовались квалифицированные остеопаты.
– Нет. Я останусь здесь и буду бороться, – ответил он.
Он замкнулся в себе; злился на детей и на меня по самому незначительному, часто надуманному поводу; не желая встречаться с другими врачами, перестал принимать участие в медицинских семинарах; целыми днями молча сидел в кресле, а устав от такого состояния, засыпал. Иногда Муди слушал радио или читал книгу, однако это продолжалось недолго: он явно не мог сосредоточиться. Муди не хотел выходить из дому и никого не хотел видеть.
Как врач, он знал, что это – классическое проявление депрессии. Я тоже знала об этом, как жена врача, но он никого не хотел слушать и отвергал все попытки помощи.
Я всячески старалась окружить его заботой, помочь ему справиться с депрессией. Все это, конечно, отражалось и на мне. Несколько раз в неделю мы с детьми ездили в Банистер навестить дедушку, но Муди уже с нами не было. Он оставался дома.
Какое-то время я мирилась с ситуацией, избегая конфликтов в надежде, что в конце концов он проснется от этого летаргического сна. Я была убеждена, что так не может продолжаться долго.
Однако недели медленно день за днем превращались в месяцы. Основное время я проводила с отцом в Банистере, значительно меньше – дома, где пассивное присутствие Муди с каждым днем становилось невыносимее. У нас не было источника доходов. Наши сбережения также закончились. Пока могла, я воздерживалась от разговоров на эту тему, но однажды взорвалась.
– Поезжай в Детройт и найди какую-нибудь работу! – не выдержала я.
Муди резко повернулся и посмотрел на меня. Ему не понравилось, что я поднимаю голос. Секунду он колебался, не зная, как поступить в такой ситуации.
– Нет, – ответил он кратко и решительно. Затем быстро вышел из комнаты.
Мой взрыв привел к тому, что депрессия Муди приобрела новую форму. Беспрерывно он повторял, что есть единственная причина всех его настоящих и прежних проблем:
– Меня отстранили потому, что я иранец. Если бы я им не был, то никогда бы этого не произошло.
Несколько врачей в клинике были по-прежнему на его стороне. Время от времени они заходили и в частной беседе выражали обеспокоенность состоянием Муди.
Я умоляла, чтобы он обратился к психиатру.
– Я знаю больше их. Они мне не помогут, – отрезал он.
Никто из приятелей и родственников не знал, какие большие перемены произошли в личности Муди. Из-за нашей трудной материальной ситуации мы перестали общаться с приятелями.
Я нашла работу на полставки в адвокатской конторе. Муди злился на меня. Он считал, что место его жены – дома.
Его настроение ухудшалось с каждым днем. Его любовь была ранена профессиональным поражением. Он воспринимал это как оскорбление своего мужского достоинства. Желая отыграться, он требовал, чтобы я приходила днем с работы домой и готовила ему обед – таким образом он пытался вернуть себе доминирующее положение. Я согласилась выполнить это его идиотское желание отчасти потому, что хотелось смягчить его, но еще и потому, что под влиянием событий последних месяцев я утратила уверенность в себе, была подавлена. Уже было непонятно, кто какую роль играет в нашей семье.
Днем я часто заставала его в халате. Он ничего не делал, за исключением мелочей, связанных с заботой о детях. Приготовив еду, я спешила обратно на работу. Вечером я находила на столе грязную посуду с едва тронутой пищей. Мой муж привык лежать на диване. Он просто прозябал в безделье.
«Если он злится из-за того, что я работаю, – говорила я себе, – то почему сам ничего не делает?»
Эта странная ситуация продолжалась более года. В то время как моя профессиональная жизнь приносила мне все больше удовлетворения, в личной жизни я ощущала нарастающую пустоту. Работа, которая вначале предполагалась как временная, стала вскоре занятием, требующим все больших усилий. Моей заработной платы было, разумеется, недостаточно для того, чтобы вести прежнюю жизнь, а поскольку сбережения наши иссякли, я потребовала, чтобы Муди продал наш чудесный дом.
Я повесила на доме объявление о его продаже и ждала, что из этого выйдет. Если повезет, не нужно будет платить гонорар посреднику по торговле недвижимостью.
Время шло. Муди говорил, что несколько пар приходили осматривать наш замечательный дом, восторгались видом на реку, но не сделали никаких предложений. Я подозревала, что или Муди специально их отговаривал, или их пугал вид неряшливого, опустившегося человека.
Однажды вечером Муди вспомнил, что какой-то семье очень понравился наш дом и что эти люди придут завтра, чтобы еще раз взглянуть на него. Я осталась дома.
– Нам нравится дом, – сказал мужчина, – но как скоро вы могли бы освободить его?
– Какой срок устроил бы вас?
– Две недели.
Это несколько нарушало мои планы, но они готовы были учесть ипотеку[14] и выплатить нам разницу наличными. После всех оплат у нас в кармане оставалось бы более двадцати тысяч долларов, а деньги нам были очень нужны.
– Я согласна.
Когда Муди вернулся и узнал, что все уже решено, он пришел в бешенство.
– Куда мы можем переехать за две недели? – возмущался он.
– Нам нужны деньги, – решительно настаивала я.
Мы долго спорили, в основном о переезде, но при этом высказывая давно накопившееся недовольство друг другом. Борьба была неравной, потому что у Муди уже почти не было сил для такого спора. Он предпринимал слабые попытки вернуть то, что, по его мнению, составляло его авторитет как главы семьи, но мы оба точно знали, что он уже давно смирился.
– Это ты виноват в том, что с нами произошло, – говорила я. – Если будем ждать, то можем вообще потерять покупателей.
Я вынудила его подписать договор о продаже.
Следующие две недели я была очень занята. Я пересмотрела все шкафы, шкафчики и ящики, упаковывая остатки нашей жизни в Альпене, хотя не имела понятия, куда с этим деваться. Муди не помогал мне.
– Упакуй, по крайней мере, свои книги, – сказала я.
Он не шелохнулся.
У него была огромная библиотека, состоящая из медицинской литературы и мусульманских пропагандистских изданий. В один из дней я дала ему картонные коробки и потребовала:
– Упакуй свои книги сегодня же! Вернувшись с работы после напряженного дня, я увидела его сидящим безвольно в халате, небритого и неумытого. Книги по-прежнему оставались на полках. Я взорвалась:
– Сегодня же ночью упакуй свои вещи! Завтра ты сядешь в машину и поедешь в Детройт! И не возвращайся домой, пока не найдешь работу! С меня уже хватит! Я не собираюсь жить так, как сейчас! Ни минуты больше!
– Я не могу получить работу, – заскулил он.
– Ты даже не пытался.
– Я не могу работать, пока меня не восстановят в клинике.
– Тебе не обязательно работать анестезиологом. Ты можешь заняться терапией.
Он был подавлен.
– Я не практиковал много лет, – говорил он покорно. – Я не хочу быть терапевтом.
Сейчас он напоминал мне Резу, который не соглашался ни на какую работу ниже должности председателя фирмы.
– Есть столько вещей, которых ты не хочешь делать, а я должна! – произнесла я с нарастающим гневом. Ты – лентяй. Ты пользуешься ситуацией. Конечно, ты не сможешь найти работу, сидя дома. Тебе нужно выйти и осмотреться вокруг. Сама работа не упадет с неба. А сейчас убирайся и не возвращайся, пока не найдешь работу! Или ты найдешь работу, или… – слова эти вылетели прежде, чем я поняла, что говорю, – или я разведусь с тобой.
У него не было сомнения в серьезности этого ультиматума.
Муди поступил так, как я того требовала. И уже назавтра он позвонил из Детройта и сообщил, что нашел работу в клинике. Он должен был приступить к ней в ближайший понедельник после Пасхи.
«Почему, – думала я, – нужно было ждать так долго? Почему раньше я не настояла на своем?»
Конец недели перед Пасхой 1983 года был наполнен лихорадочной суетой. Мы должны были покинуть дом в Страстную пятницу, а Муди начинал работу в Детройте в понедельник. До среды мы не смогли найти квартиру. Это было напряженное время, но я чувствовала удовлетворение: по крайней мере, что-то делалось.
Один из клиентов канцелярии, где я работала, узнав о наших проблемах, предложил временное решение. Он сдал нам в аренду дом по принципу ежемесячного договора. Мы подписали необходимый документ по найму в полдень в Страстную пятницу и сразу же начали перевозить вещи.
В выходные дни Муди проявил энергию, помогая мне обставить дом. В воскресенье он, поцеловав меня на прощание, отправился в пятичасовое путешествие до Детройта. Этот поцелуй, впервые за несколько месяцев, пробудил во мне тень желания, что меня очень озадачило. Муди не слишком стремился к малопривлекательной тяжелой работе в клинике, однако я чувствовала, что ему уже лучше. Легкость, с которой он получил работу, несколько успокоила его уязвленное самолюбие. Зарплата была очень хорошей. Конечно, ее нельзя было сравнивать с прежними доходами, но все же она составляла почти девяносто тысяч долларов в год.
Вскоре мы оказались в ситуации, подобной той, какая была в начале нашего знакомства. На протяжении недели каждый из нас выполнял свои профессиональные обязанности, а в выходные мы встречались в Альпене или в Детройте.
Муди постепенно воспрянул духом.
– У нас все хорошо! – признался он во время одного из визитов.
Он всегда несказанно радовался при встречах с нами. Махтаб сразу же бросалась ему на шею, счастливая, что папа снова такой, как прежде.
Так прошли весна, лето и осень. Муди не очень любил Детройт, однако утверждал, что в большом городе встречает меньше фанатизма, и надеялся, что именно там его ждет будущее.
Что же касается меня, то я снова почувствовала себя свободной. На протяжении недели я была хозяйкой своей судьбы, а в конце недели – вновь влюбленной. Возможно, именно такой образ жизни нам был необходим для сохранения брака.
По крайней мере, на данном этапе я была довольна.
В марте 1984 года позвонили из Тегерана. Мужчина на ломаном английском языке с сильным акцентом представился Мохаммедом Али Ходжи, племянником Муди. Если знать их обычай заключать браки с родственниками, то этому можно было поверить. Мне казалось, что существуют сотни иранцев, которых Муди считал своими племянниками.
Я сообщила об этом Муди в Детройт, и в тот же вечер он позвонил в Тегеран. Муди сказал мне, что это звонил Маммаль, четвертый сын его сестры Амми Бозорг. Врачи в Тегеране обнаружили у Маммаля нарыв в желудке и сделали операцию, но Маммаль продолжал слабеть. Расстроенный, он полетел в Швейцарию на консультацию. Там врачи сказали, что операция выполнена плохо и нужно прооперировать повторно. Тогда он связался с дядей в Америке и спросил, где ему делать операцию.
– Я ничего ему не посоветовал. А что ты думаешь по этому поводу?
– Пригласи его сюда, – предложила я. – Мы поможем ему найти специалиста и больницу.
Муди понравилось это предложение.
– Но из Ирана очень трудно перевести деньги, – сказал он.
– Я думаю, что ты мог бы оплатить расходы. Мне кажется, в случае необходимости ты бы сделал это для моих родственников.
– Безусловно!
Все устроилось, и спустя несколько дней Маммаль находился уже в самолете на пути в Штаты. Он должен был прилететь в пятницу в начале апреля.
Я решила быть для племянника Муди милой хозяйкой дома. С удовольствием готовила иранский ужин, ожидая с детьми его приезда.
Однако с того самого момента, как Маммаль переступил порог нашего дома, я невзлюбила его. Он был невысокого роста, как большинство иранцев. Несмотря на это, а возможно как раз по этой причине, он держался высокомерно. Щетинистая борода и усы создавали впечатление неопрятности.
Его маленькие глубоко посаженные глазки смотрели мимо меня, точно я была пустым местом. Казалось, весь его облик говорил: «Кто ты такая? Я достойнее тебя!».
Я убедилась, что Маммаль плохо влияет на Муди. Слова Маммаля «Ты должен навестить нас в Тегеране. Все хотят увидеть тебя и Махтаб» вызвали во мне тревогу. Первый вечер мужчины провели в оживленной беседе по-персидски. Это было вполне понятно, ведь у них было столько тем для разговора, но я опасалась, что Муди может всерьез воспринять приглашение Маммаля. К тому же, разговаривая только по-персидски, они тем самым полностью игнорировали меня. Я знала, что английский Маммаля был вполне сносным.
Вскоре я начала считать часы до конца недели, мечтая о спокойном воскресном вечере, когда Муди и Маммаль уедут в Детройт. Однако в воскресенье Муди сказал:
– Пусть он побудет здесь с тобой, пока я не договорюсь об операции.
– Это исключено. Он твой племянник и твой гость, – ответила я.
Муди холодно обратил мое внимание на то, что он все-таки должен работать в клинике, а о Маммале нужно заботиться, тем более что он на диете.
Мне было жаль Маммаля, потому что где-то затерялся его багаж. Моя знакомая армянка Анна Куредьян, портниха по профессии, помогла мне купить для Маммаля несколько костюмов. Затем она подогнала их к его маленькой фигуре.
Маммаль принял одежду не поблагодарив, молча положил в своей комнате и продолжал ходить в грязной рубашке и джинсах.
Когда наконец нашелся его багаж, оказалось, что в нем есть подарки для нас, но нет никакой одежды, хотя Маммаль должен был провести в Америке несколько месяцев.
– Может быть, ты хочешь, чтобы я постирала тебе одежду? – спросила я.
– Нет, – беззаботно ответил он.
Невероятно, но казалось, что приехавший в следующий выходной Муди не чувствовал неприятного запаха, пока я не обратила его внимание на это.
– Маммаль, дай Бетти постирать твою одежду и прими душ, – предложил Муди.
Племянник неохотно послушался. Купание было редким событием в его жизни. Он рассматривал его скорее как неприятную обязанность, чем желание освежиться.
Маммаль был ленивым, требовательным и бессовестным гостем. Он пробыл у меня две недели, пока я не отвезла его в клинику Карсон Сити на операцию. Я провела там немного времени, затем навестила родителей, после чего вернулась в Альпену, вычеркивая Маммаля из своей жизни.
Муди сказал мне потом, что Маммаль был очень оскорблен этим. Оказывается, я должна была снова освободиться от работы, нанять на ночь няню для детей и проделать четырехчасовой путь в Карсон Сити, чтобы находиться в клинике во время операции.
Десять дней Маммаль пробыл в клинике, восстанавливаясь после операции. Затем Муди привез своего выздоравливающего племянника из Карсон Сити и снова оставил на мое попечение.
– Я не собираюсь заботиться о нем, – запротестовала я. – А если с ним что-нибудь случится? Ты – врач, вот ты и занимайся им.
Муди пропустил мимо ушей мои замечания и вернулся в Детройт.
Злясь на себя, что снова приняла роль послушной жены, я продолжала заботиться о Маммале, приготавливая для него пять диетических блюд ежедневно в соответствии с рекомендациями врача. Он так же откровенно не переносил моей кухни, как я не переносила готовить для него. Но у меня не было иного выхода. Я должна была вооружиться терпением и ждать, пока Маммаль поправится окончательно и вернется в Иран.
Муди считал, что Махтаб должна почувствовать кровное родство с его племянником. Он пытался заставить ее проводить больше времени с Маммалем, но Махтаб реагировала на неряшливого иранца так же, как и я.
– Оставь ее в покое, – вмешивалась я. – Махтаб нельзя принудить к дружбе. Она вот такая, и ты об этом знаешь. Не обращай на нее внимания. В свое время она сама поймет.
Муди не слушал меня и несколько раз отчитывал Махтаб за то, что она испуганно убегала от Маммаля.
На протяжении недели Муди звонил Маммалю из Детройта каждый вечер. Они часами разговаривали по-персидски, и вскоре я поняла, что он использует Маммаля для контроля за мной. Однажды вечером Маммаль вдруг подал мне телефонную трубку, сказав, что Муди хочет со мной поговорить. Муди был взбешен: почему я позволяю Махтаб смотреть некоторые программы по телевизору вопреки его запрету?
Наши приятные выходные остались в прошлом. Муди приезжал сейчас в Альпену, чтобы субботу и воскресенье провести с Маммалем.
Они разговаривали главным образом о проблемах в их семье, рассуждали об аятолле Хомейни, возмущались Западом, особенно американскими обычаями и моралью.
Что мне было делать? На моих глазах мой муж, живущий в Америке уже более двадцати лет, шаг за шагом все больше становился иранцем. Пока Маммаль был с нами, моя любовь к мужу подверглась тяжелому испытанию. Я вышла замуж за Муди-американца; а Муди-иранец был нежеланным иностранцем. И более того, они с Маммалем строили планы, как бы увезти Махтаб и меня в Иран навестить родственников в Тегеране.
Они постоянно закрывались и вели долгие, оживленные и непонятные для меня дискуссии. Даже говоря по-персидски, они приглушали голоса, как только я входила в комнату.
– Как скоро он уедет? – спросила я однажды.
– Когда разрешат врачи, – ответил Муди.
Два события ускорили катастрофу. Во-первых, банк нашел покупателя на арендованный нами дом, поэтому мы вынуждены были выселиться. Во-вторых, почти в то же время я потеряла работу. В этой ситуации Муди заявил, что пришло время, чтобы мы снова стали семьей в полном смысле этого слова.
Мне не хотелось уезжать в Детройт. Я не была уверена, что готова отказаться от своей независимости. Я знала, что Маммаль скоро покинет Америку, и надеялась, что мы сумеем вернуться к прежнему образу жизни, красивому и удобному. Но требования Муди становились все более настойчивыми. И хотя мы об этом не говорили, я чувствовала, что выходом из ситуации был только развод. Итак, я согласилась переехать в Детройт.
Самое худшее, думала я, уже позади. Я верила в это, я молилась об этом. Я должна и, конечно, попытаюсь восстановить нашу семью.
Несмотря на это, я предприняла некоторые предосторожности. Неуверенная в будущем, я боялась забеременеть. За неделю до переезда я пошла к врачу и попросила поставить мне противозачаточную спираль.
Муди жил все время в маленькой квартирке, и поэтому мы отправились на поиски жилья. Я считала, что мы должны купить дом, но Муди настаивал на временной аренде какой-нибудь квартиры. А затем без спешки мы поищем красивый район с землей и построим дом нашей мечты. Все произошло так быстро, что я не успела опомниться. Муди уже полностью подчинил меня себе. Пока я поняла суть происходящего, мы уже сняли дом и переехали в него все: я, Муди, Джо, Джон, Махтаб и… Маммаль.
Я записала Махтаб в школу, находящуюся недалеко от Бирмингема.
Муди купил мне новую машину. Почти ежедневно я возила Маммаля на экскурсии или за покупками, на которые Муди давал ему деньги без ограничения. Маммаль вел себя по-прежнему снисходительно-вызывающе. А я не могла дождаться дня, когда он уедет в Иран.
Маммаль оставался у нас до половины июля и с каждым днем все настойчивее настаивал, чтобы Муди, Махтаб и я навестили родственников в Тегеране. К моему глубокому удивлению, Муди согласился, сказав, что мы приедем в августе на две недели. Джо и Джон поживут это время у своего отца.
Так вот что означали эти тайные перешептывания Муди с Маммалем до поздней ночи! Несколько дней перед отъездом Маммаля Муди проводил с ним каждую свободную минуту. Неужели они что-то затевают?
Однажды я открыто заявила Муди о своих недобрых предчувствиях.
– Каковы ваши планы? – спросила я. – Собираетесь забрать Махтаб и вывезти ее в Тегеран?
– Не смеши, – ответил он. – Если сошла с ума, то обратись к психиатру.
– Я не настолько выжила из ума, чтобы ехать в Иран, а ты поезжай. Мы с детьми останемся здесь.
– Ты с Махтаб поедешь со мной. У тебя нет выхода, – ответил он.
У меня, конечно, был выход. Этот выход, хотя и неприятный, был у меня в резерве. Но я все-таки по-прежнему питала надежду, что мне удастся сохранить нашу семью, если только уедет Маммаль. Мне хотелось оградить детей и себя от обид, какие несет с собой развод, но в то же время я не желала ехать в Иран.
Муди несколько смягчился, пытаясь меня убедить.
– Почему ты не хочешь ехать? – спросил он.
– Потому что знаю: если я поеду с тобой, а ты решишь остаться там, то я не смогу вернуться домой.
– Значит, в этом причина, – нежно сказал он. – Я никогда бы ничего подобного не сделал, потому что люблю тебя.
Потом неожиданно он попросил:
– Принеси мне Коран.
Я достала с полки святую книгу ислама и подала мужу. Он положил ладонь на обложку и произнес:
– Клянусь на Коране, что никогда не заставлю тебя остаться в Иране. Клянусь на Коране, что никогда не заставлю тебя остаться в каком-либо месте вопреки твоей воле.
Маммаль присоединился к этим клятвам.
– Ничего такого не может случиться, – заверил он. – Наша семья никогда бы этого не позволила. Обещаю, что, если нечто подобное произойдет, наша семья защитит тебя.
В тот момент я почувствовала облегчение.
– Хорошо, поедем, – согласилась я.
Муди купил билеты. Первое августа приближалось быстрее, чем я этого желала. Несмотря на торжественную и в то же время драматическую присягу моего мужа на Коране, меня охватывала все возрастающая тревога. И сам Муди все больше возбуждался, часами поглощая любую информацию из Ирана. С нежностью он рассказывал о своих родственниках, особенно об Амми Бозорг. Начал молиться. В очередной раз с ним происходила метаморфоза.
Я тайно встретилась с адвокатом.
– Я должна или ехать, или разводиться, – объясняла я. – Я не хочу ехать в Иран. Боюсь, что он не позволит мне вернуться.
Мы начали обсуждать различные возможности и обнаружили одну опасность. При разводе Муди вычеркнет меня из своей жизни. Но иначе обстояло дело с Махтаб. Если он заберет ее в Иран, я потеряю дочь навсегда.
– У него останется право навещать ее? Нельзя ли убедить судью в опасности со стороны Муди и склонить к тому, чтобы он не позволил встречаться Муди с Махтаб? – спрашивала я.
Адвокат объяснил мне, что американский закон не допускает наказания до совершения преступления.
– Он еще не нарушил закон и нет такой статьи, по которой вы могли бы запретить ему навещать дочь. Мне не очень нравится, что вы едете в Иран, – продолжал он, – но я не вижу в этом ничего страшного. К тому же, возможно, Муди нужна эта поездка. Навестив родственников, он получит приток энергии и тогда вернется, чтобы начать жизнь сначала. Мне кажется, поездка пойдет ему на пользу.
Разговор с адвокатом привел меня в еще большее замешательство. В глубине души я знала, что, если я подам на развод, Муди заберет Махтаб, обрекая ее на жалкое существование в своей стране. У меня не было выбора. Я могла лишь рассчитывать на то, что он не сможет прижиться в Иране. В то время я могла только предполагать, какую печальную жизнь мы будем вести в Тегеране, и все-таки решила рискнуть в надежде, что двух недель Муди будет достаточно.
Единственной причиной, по которой я взяла Махтаб в Иран, была альтернатива: на меня падет проклятие, если я это сделаю, но я потеряю Махтаб, если не сделаю этого.
Этот день наступил. Мы с Махтаб взяли немного вещей, оставляя место в багаже для подарков родственникам в Иране. У Муди было несколько чемоданов, в том числе с лекарствами, которые, как он говорил, он хочет подарить Обществу врачей в Тегеране.
Таким образом, 1 августа 1984 года мы вылетели в Нью-Йорк, а оттуда в Лондон. Там, в промежутке между рейсами, я купила Махтаб несколько кукол. И, может быть, это было предчувствие, во мне медленно нарастал страх.
Пока мы ожидали в аэропорту перед вылетом на Кипр, а затем в Тегеран, Муди разговорился с иранским врачом, возвращавшимся домой после короткого пребывания в США.
– Трудно ли выехать из страны? – обеспокоенно спросила я.
– Нет, – утверждал он.
Иранский врач пообещал помочь на таможне, сказав, что все товары из США облагаются высокой пошлиной.
– Если вы скажете, что собираетесь остаться и работать в Иране, возможно, с вас не возьмут пошлину, – посоветовал он.
Мне это не понравилось.
– Но ведь мы…
– Знаю, – прервал он.
– …не собираемся оставаться в Иране, – продолжала я. – Мы едем только на две недели.
– Разумеется, – ответил он.
Потом они с Муди разговаривали только по-персидски.
Во время посадки в самолет меня била нервная дрожь, вызванная чувством опасности. У меня было желание кричать, вернуться, бежать обратно по эскалатору, но мое тело не хотело слушаться сердца. Вместе с Махтаб, доверчиво державшей меня за руку, мы вошли на борт самолета, нашли места и пристегнули ремни.
Стоянка на Кипре была очень короткой, и стюардесса объявила, что пассажиры до Тегерана должны оставаться на местах.
Прошло несколько минут, и мы снова оказались на стартовой полосе, набирая скорость. Нос самолета поднялся, колеса оторвались от земли, нас окутал мощный гул двигателей.
Махтаб дремала возле меня, измученная длительным путешествием. Муди читал иранскую книгу.
Я сидела оцепеневшая и потрясенная, зная конечный пункт, но еще не ведая, какая судьба мне уготована.
Утро 29 января 1986 года было холодным и хмурым, соответствующим моему настроению. В зеркале я увидела покрасневшее и опухшее лицо – результат ночных слез. Муди отправил Махтаб в школу и сказал, что мы поедем в паспортный стол, чтобы отдать мой паспорт. Он будет там находиться до момента, когда в пятницу я войду на борт самолета.
– Я должна идти с Шамси и ханум Хаким в магазин, – напомнила я.
Он не мог пренебречь обязанностями по отношению к жене «человека в тюрбане».
– Вначале поедем в агентство авиалиний, – решительно заявил он.
Это заняло у нас достаточно много времени, так как нужная нам контора находилась в противоположном конце Тегерана. Пока мы тряслись в такси по разбитым улицам, меня занимала одна лишь мысль: позволит ли Муди нам, трем женщинам, пойти без него? Удастся ли мне позвонить?
Муди все-таки сопровождал меня до дома Шамси.
– Что случилось? – спросила она, увидев меня. Я не ответила.
– Скажи мне, что произошло, – настаивала она.
Нас стесняло присутствие Муди.
– Дело в том, что я не хочу ехать в Америку, – разрыдалась я. – А Муди требует, чтобы я поехала и занялась делами: нужно все продать. Я не хочу ехать!..
Шамси обратилась к Муди:
– Ты не можешь заставлять ее заниматься делами в такое время. Позволь ей поехать на несколько дней, чтобы она только увиделась с отцом.
– И не подумаю, – буркнул он. – Ее отец вообще не болен. Все продумано и спланировано.
– Но это же чудовищно! – кричала я. – Отец действительно болен, ты ведь знаешь это не хуже меня.
В присутствии Шамси и Зари мы кричали друг на друга, переполненные ненавистью.
– Ты попалась в собственные сети! – рычал в приступе бешенства Муди. – Это было вранье, чтобы забрать тебя в Америку. Вот ты и поедешь. Поедешь и пришлешь сюда все деньги.
– Никогда! – крикнула я.
Муди схватил меня за плечо и потащил к двери.
– Пойдем! – потребовал он.
– Уважаемый! – вмешалась Шамси. – Возьми себя в руки. Об этом следует поговорить спокойно.
– Пошли! – повторил он.
Грубо вытолкнутая за дверь, я повернулась с мольбой к Шамси и Зари:
– Умоляю, помогите мне! Защитите меня!
Муди с грохотом закрыл дверь.
Судорожно сжимая мое плечо, он толкал меня по многолюдной улице в сторону дома Хакимов. Так мы шли не менее пятнадцати минут. Всю дорогу он оскорблял и проклинал меня. Но глубоко ранили меня лишь слова: «Никогда больше не увидишь Махтаб!».
Когда мы приближались к дому Хакимов, он приказал:
– Приведи себя в порядок. Не лей слез перед ханум Хаким. Она не должна ни о чем догадаться.
Муди поблагодарил ханум Хаким за чай.
– Пойдемте в магазин, – сказал он.
Втроем мы отправились в магазин. Муди ни на минуту не отпускал мое плечо. Мы купили запас чечевицы и вернулись домой.
Во второй половине дня Муди работал в кабинете. Он не сказал мне ни слова, караулил молча. Это должно было продолжаться еще два дня, пока я не сяду в самолет.
Вернувшись из школы и убедившись, что отец занят, Махтаб нашла меня на кухне и неожиданно произнесла:
– Мамочка, возьми меня сегодня в Америку!
Впервые за многие месяцы она сказала мне об этом.
Я обняла ее и крепко прижала. Мы обе плакали, и наши слезы смешивались на щеках.
– Махтаб, мы не можем поехать сегодня. Но я не уеду без тебя в Америку, – успокаивала я ее.
Каким чудом я могла выполнить это обещание? Был ли способен Муди, несмотря на мое сопротивление, несмотря на все мои мольбы и крики, втолкнуть меня в самолет? Конечно же, да. Я была убеждена, что никто и не попытается помешать ему. Он мог даже дать мне какое-нибудь средство, лишающее меня сознания. Он мог сделать все.
К вечеру пришла Ферест проститься со мной. Она знала, что я в отчаянии, и, как могла, старалась утешить меня. Моя игра была закончена. Больше я уже не могла делать вид, что я счастливая мусульманская жена. Зачем?..
Неожиданно появился Муди и попросил чаю. Он спросил Ферест о ее муже, вызвав у нее снова слезы. У всех у нас были свои проблемы.
«О Боже, прошу тебя, – молилась я, – сделай так, чтобы мы с Махтаб смогли убежать от Муди. Прошу, прошу, прошу!»
Не знаю, услышала ли я или просто почувствовала приближающуюся «скорую помощь». Я видела свет фар, который, попадая через окно, отражался на противоположной стене. А может, это мне приснилось? Сигнала не было слышно. Машина подъехала прямо к дому. Это было чудо.
«Скорая помощь»! Муди должен ехать в клинику!
Наши взгляды встретились. Я прочитала в его глазах ненависть, разочарование, озадаченность. Как же оставить меня без охраны? Как я могу поступить? Куда могу сбежать? Он стоял в нерешительности, раздираемый глубоким недоверием ко мне и чувством долга врача. Он не мог отказать в помощи, но также не мог оставить меня одну.
Ферест почувствовала драматизм ситуации.
– Я останусь с ней до твоего возвращения, – успокоила она его.
Не проронив ни слова, Муди схватил медицинскую сумку и вскочил в ожидавшую его машину.
Он уехал. Я не имела понятия, когда он вернется: через пять часов, а может, через полчаса – все это было делом случая.
Мой мозг проснулся от летаргического сна. «Вот он, тот шанс, о котором я молилась, – произнесла я про себя. – Делай что-нибудь! Сейчас же!»
Ферест была моей хорошей приятельницей. Она любила меня и вполне заслуживала доверия. Я могла бы рассказать ей о своей жизни, но ради ее же безопасности не должна была этого делать. Она ничего не знала об Амале. Не знала она и тайных сторон моей жизни. Ее муж сидел в тюрьме за «инакомыслие к властям», и уже одно это создавало для нее опасность. Я не имела права впутывать ее в свои дела.
Размышляя, я потеряла несколько минут имеющегося в моем распоряжении времени, а потом сказала, стараясь придать голосу безразличный тон:
– Мне нужно пойти купить цветы: вечером мы идем в гости.
Нас пригласила соседка Малиха. Она устраивала еще один прощальный прием. Причина звучала правдоподобно: приносить цветы считалось правилом хорошего тона.
– Хорошо, я подброшу тебя, – сказала Ферест. Что ж, это будет значительно быстрее. Я помогла Махтаб одеться, и мы сели в машину Ферест.
Она остановилась за несколько домов от цветочного магазина, а я сказала:
– Оставь нас здесь. Мне хочется немного пройтись. Мы с Махтаб вернемся домой пешком.
Конечно, это прозвучало глупо: кому захочется гулять по снегу и льду.
– Позволь, я тебя подвезу, – не уступала Ферест.
– Нет, спасибо. Мне действительно хочется пройтись, подышать свежим воздухом.
Я наклонилась, чтобы обнять ее.
– Оставь нас здесь, – повторила я. – Возвращайся домой. Спасибо тебе за все.
Она произнесла традиционное «о'кей», а в глазах у нее стояли слезы.
Холодный ветер хлестал по щекам. Махтаб шла молча рядом.
Дважды мы пересаживались из одного такси в другое, чтобы замести следы, пока не остановились на заснеженной улице возле телефона-автомата. Дрожащими пальцами я набрала номер частного бюро Амаля. Он сразу же поднял трубку.
– Это самый последний шанс. Я должна бежать немедленно, – проговорила я прерывающимся голосом.
– Мне еще нужно время. Не все окончательно организовано.
– Я не могу ждать. Если я сейчас не выеду, то потеряю Махтаб.
– Хорошо, приезжайте.
Он дал мне адрес квартиры недалеко от бюро и попросил проверить, не следят ли за нами.
Я положила трубку и поделилась с Махтаб хорошей новостью:
– Махтаб, мы возвращаемся в Америку. К моему изумлению, она заплакала.
– В чем дело? Ведь ты сегодня просила меня об этом.
– Да, – всхлипывала Махтаб, – но я должна вернуться и забрать кролика.
Я старалась справиться со своими нервами.
– Послушай, кролика мы купили в Америке, правда?
Она согласно кивнула головой.
– В Америке купим нового. Ты хочешь ехать со мной или вернуться домой к папе?
Махтаб вытерла слезы. В глазах моей шестилетней дочурки я заметила решимость и в этот момент поняла, что Муди не сумел воспитать в ней покорность. Она не стала послушным иранским ребенком. Она была моей рассудительной американской девочкой.
– Я хочу ехать в Америку, – уверенно заявила она.
– Тогда пошли быстро. Нам нужно поймать такси.
– Бетти? – спросила молодая женщина через приоткрытую дверь.
– Да.
Она впустила меня в квартиру. Более часа ушло у нас, чтобы, несколько раз сменяя такси, пробраться через беснующуюся в Тегеране снежную бурю.
– Амаль предупредил, чтобы я принесла вам еду, если проголодаетесь, – сообщила незнакомка.
Ни я, ни Махтаб не хотели есть. Мы думали сейчас совершенно о другом. Но я понимала, что на пути к свободе нам потребуется много сил. Поэтому я сказала:
– Да, принесите, пожалуйста.
Женщина надела черный платок, скрывая под ним молодое лицо. «Может быть, она студентка, – подумала я. – Что она знает о нас? Что ее связывает с Амалем?»
– Я скоро вернусь, – пообещала она.
Она оставила нас одних. Я подбежала к окну и задернула шторы.
Квартира была маленькой и несколько запущенной. В гостиной стояла старая софа с торчащими пружинами. В спальне не было кровати, на полу лежали свернутые матрасы.
Страх заразителен. Мой отразился в глазах Махтаб. Вернулся ли Муди уже домой? Сообщил ли полиции?
Во взгляде Махтаб я заметила и нечто большее. Возбуждение? Радость? Надежду? Наконец мы что-то совершили! Ведь у нас позади уже были долгие отупляющие месяцы бездействия.
Голова раскалывалась. Что будет, если мы не успеем быстро выбраться из Тегерана? Может, завязнем тут на многие дни и ночи? Столько людей говорили мне, что побег можно совершить, лишь когда все спланировано до минуты. Мы пренебрегли этим.
Я подняла трубку и в соответствии с инструкцией позвонила Амалю.
– Алло! – услышала я знакомый голос.
– Мы на месте, – сказала я.
– Бетти! – воскликнул он. – Я так рад, что вам удалось добраться. Не волнуйтесь, все будет хорошо. Мы займемся вами. Я уже связался со своими людьми. Еще не все окончательно готово, но у меня уже есть одна идея.
– Поторопитесь, пожалуйста.
– Конечно, будьте спокойны, все получится. Потом он добавил:
– Девушка принесет еду и должна уйти. Утром я принесу завтрак. Оставайтесь в квартире. Не подходите к окну. Если вам что-нибудь понадобится, позвоните мне, пожалуйста. Если потребуется, можете звонить и ночью.
– Понимаю.
– Я кое-что вспомнил. Запишите, пожалуйста. Положив трубку, я достала из сумки ручку и листок бумаги.
– Чтобы вывезти вас из Тегерана, мы должны отвлечь вашего мужа. Позвоните ему.
– Меньше всего на свете мне хочется разговаривать с ним, – упиралась я.
– Я знаю, но так нужно.
Он сказал мне, о чем я должна говорить. Я все записала.
Вскоре после разговора с Амалем вернулась девушка с пиццей местного производства: на сухом блине лежал гамбургер, немного томатной пасты и соль. Она выслушала слова благодарности и быстро вышла.
– Я не хочу этого, – сказала Махтаб, глядя на неаппетитную пиццу.
Мне тоже не хотелось ее есть. В это время основным нашим «питанием» был адреналин.
Я посмотрела на свои нацарапанные записи, аккуратно переписала, прочитала еще раз, а затем мысленно побеседовала по телефону. Я понимала, что стараюсь отложить этот разговор, но понимала и то, что он необходим. Решительно подняла трубку и набрала номер. Муди ответил после первого же гудка.
– Это я, – были первые мои слова.
– Где вы? – рявкнул он.
– В доме у приятеля.
– Какого приятеля?
– Я не собираюсь тебе говорить.
– Немедленно возвращайся домой! – приказал он. Тон был агрессивным, но я, руководствуясь указаниями Амаля, невозмутимо продолжала:
– Нам нужно поговорить. Мне бы хотелось разрешить наши проблемы. Конечно, если и ты этого хочешь.
– Да, хочу, – его голос звучал уже более сдержанно и спокойно. – Возвращайся домой, и мы все обсудим.
– Я не хочу, чтобы другие узнали о том, что произошло, – сказала я. – Не хочу, чтобы ты рассказывал Маммалю, Маджиду, сестре или кому-либо еще. Это лишь наше дело, и мы вдвоем должны об этом поговорить. Последние дни Маммаль часто вмешивался в нашу жизнь, и это дало печальные результаты. Если ты не согласишься на мое условие, я кладу трубку.
Муди не был в восторге от моего бунтарского тона.
– Вернись домой, тогда поговорим об этом, – повторил он.
– Если я вернусь домой, ты скажешь Маммалю, чтобы он забрал Махтаб, а меня закроешь на ключ, как обещал.
Муди растерялся. Он не знал в этот момент, как со мной разговаривать. Его голос зазвучал примирительно:
– Ничего подобного не случится. Я отменил завтрашний прием. Вернись. Поужинаем и будем разговаривать всю ночь.
– Я не войду в пятницу в самолет.
– Этого я не могу тебе обещать.
– А я тебе говорю, что не сяду в самолет в пятницу, – повысила я голос.
«Нужно контролировать себя. Ни в коем случае нельзя позволить втянуть себя в ссору. Нужно выиграть время, а не спорить», – корила я сама себя.
На другом конце провода Муди кричал на меня:
– Немедленно возвращайся домой! Даю тебе полчаса, в противном случае я сделаю то, что следует в такой ситуации!
Я знала, что он имеет в виду полицию. Вот и пришла очередь моей козырной карты.
– Послушай, – спокойно произнесла я, – ты занимаешься врачебной практикой без разрешения.
Если ты устроишь мне какие-нибудь осложнения, я сообщу о тебе властям.
Голос Муди тотчас же смягчился:
– Нет, прошу тебя, не делай этого. Нам нужны деньги. Я ведь стараюсь для нас. Прошу тебя, не делай этого. Вернись только домой.
– Я должна подумать, – сказала я и положила трубку.
Я не представляла себе, что Муди сделает сейчас, но уже знала, что он не сообщил до сих пор полиции, и была убеждена, что моя угроза заставит его воздержаться от этого, по крайней мере до утра.
Махтаб внимательно прислушивалась к нашему разговору.
– Ты уверена, что хочешь ехать? – обратилась я к ней. – Ты должна знать, что в этом случае ты уже никогда не увидишь папу.
– Да, я хочу ехать в Америку.
Она вновь поразила меня своей рассудительностью. Решимость в ее голосе придала мне уверенности. Сейчас уже не могло быть и речи о возвращении в дом Муди.
На протяжении нескольких последующих часов мы взволнованно вспоминали Америку. Мы так давно там не были! Наш разговор прерывался телефонными звонками Амаля. Он интересовался, все ли в порядке, и очень расплывчато информировал, что дела подвигаются.
Очередной звонок раздался за полночь:
– Я больше не буду беспокоить вас в эту ночь. Вам нужно выспаться: у вас впереди тяжелые дни. Ложитесь спать, я позвоню утром.
Остаток ночи мы провели в молитвах. Махтаб удалось заснуть. Я бодрствовала до самого рассвета, который медленно входил в комнату. Рано утром снова позвонил Амаль и сказал, что скоро приедет к нам.
Он появился около семи. Принес сумку с хлебом, сыром, помидорами, огурцами, яйцами и молоком, а также мешок с запасной одеждой и вещами, которые я оставила у него во вторник. Он подарил Махтаб альбом для рисования и цветные карандаши, а мне – дорогой кожаный рюкзак.
– Всю ночь я работал, разговаривая с разными людьми, – сообщил он. – Решено, вы бежите в Турцию.
Турция! Я испугалась. Турция с точки зрения Амаля была самым плохим вариантом: очень трудным физически, да и на контрабандистов нельзя было полностью положиться.
– Поскольку сейчас вас считают пропавшими, вы не можете лететь самолетом, – объяснил он. – Придется покидать Тегеран машиной. До турецкой границы дорога длинная, но это сейчас единственная возможность.
– Они потребовали тридцать тысяч долларов, – сообщил он. – Это нереальная сумма. Я торгуюсь с ними. Договорились мы уже на пятнадцать, но и это много.
– Хорошо, пусть будет так, – сказала я.
Я понятия не имела, сколько осталось на наших счетах, но меня уже это не волновало. Когда вернусь, как-нибудь добуду эти деньги.
Амаль покачал головой.
– Это все-таки много, – не соглашался он.
Я сообразила, что мы ведь говорим о деньгах Амаля, а не о моих. Это он должен будет заплатить сразу, не имея гарантии, что мне удастся добраться до Америки и вернуть ему долг.
– Я буду пытаться снизить цену, – говорил он. – Сегодня у меня много работы. Если вам что-нибудь понадобится, звоните, пожалуйста, мне в бюро.
Мы с Махтаб провели целый день в напряжении, прижавшись друг к другу, разговаривая и молясь. Пару раз она взяла альбом для рисования, но не смогла сосредоточиться. Я ходила взад-вперед по вытертым персидским коврам, снова и снова анализируя свой поступок. Руководил ли мной эгоизм? Подвергала ли я риску жизнь моей девочки? Может быть, для нее лучше вырасти здесь со мной или без меня, чем вообще не вырасти?
Амаль пришел около полудня и сообщил, что окончательная цена нашей свободы двенадцать тысяч долларов.
Потом начал меня успокаивать:
– Эти люди не обидят вас, я обещаю. Это хорошие люди. Если бы они были опасны, я не послал бы вас с ними. Правда, я бы выбрал иной путь, но нам нужно действовать как можно быстрее.
Ночь с четверга на пятницу показалась мне бесконечно длинной. Диван был такой неудобный, что мы с Махтаб, разложив матрасы, перебрались на пол. Махтаб уснула, а я всю ночь не сомкнула глаз. Я понимала, что не смогу обрести покой, пока не довезу дочурку до Америки. Или я сделаю это, или погибну.
Ранним утром в пятницу приехал Амаль. Он снова принес еду: курицу, завернутую в газету, и редко встречающиеся в Иране кукурузные хлопья для Махтаб. В свертке были еще несколько альбомов для рисования, плед и манто для Махтаб, черная чадра для меня и пачечка жевательной резинки немецкого производства.
– Днем и ночью я занимаюсь нашим планом, – сказал он. – Это нелегко и непросто, потому что большинство людей не имеет телефона.
– Когда мы выезжаем? – нетерпеливо спросила я.
– Еще не знаю, – признался он. – В связи с этим я хотел бы, чтобы вы снова позвонили мужу, но только не отсюда. Я вернусь позже и побуду с Махтаб, а вы сможете выйти и позвонить из автомата. Я напишу вам, что нужно ему сказать.
– Хорошо.
Мы с Махтаб верили Амалю безгранично. Она не согласилась бы остаться ни с кем другим, а сейчас лишь кивнула головой и улыбнулась, жуя жевательную резинку.
В полдень я покинула относительно безопасное укрытие в квартире Амаля и вышла на улицу Тегерана. Впервые за полтора года я была довольна, что могу спрятаться под чадрой. Ледяной ветер пронизывал насквозь, когда я брела к автомату. Вынув из сумки карточку с инструкцией, замерзшими руками я подняла трубку и набрала номер Муди. Ответил Маджид.
– Где ты? – спросил он. – Скажи, где вы? Проигнорировав этот вопрос, я спросила:
– Где Муди? Я хочу поговорить с ним.
– Муди нет дома. Он уехал в аэропорт.
– Когда вернется?
– Часа через три…
– Я как раз хочу поговорить с ним по этому вопросу.
– Он тоже хочет поговорить с тобой. Приезжай, прошу тебя.
– Хорошо, я завтра приеду с Махтаб и моим адвокатом, тогда и поговорим. Я не хочу, чтобы при этом кто-нибудь присутствовал. Передай ему, что я могу приехать между одиннадцатью и двенадцатью или между шестью и восемью. Мой адвокат может сопровождать меня только в эти часы, – солгала я.
– Приходи между одиннадцатью и двенадцатью, – посоветовал Маджид. – Муди отменил на завтра прием. Приходи без адвоката.
– Это исключено. Без адвоката я не приду вообще.
– Приходи одна с Махтаб. Обсудим все вместе. Я буду тоже.
– Я боюсь, – сказала я. – Когда Муди избил меня и закрыл, ни ты, ни кто-либо другой из ваших родственников не помогли мне.
– Не бойся, я буду здесь, – повторил он.
Мне захотелось посмеяться над этим человеком, и я сделала это.
– Много мне от этого пользы, – прыснула я. – Я уже один раз прошла через это. Передай ему мое мнение.
Меня охватил ужас. Я знала, зачем Муди поехал в аэропорт: он хотел забрать мой паспорт. Он не мог допустить, чтобы я опередила его. А что если следующим его шагом будет обращение в полицию?..
Даже в гарантирующей анонимность чадре я чувствовала себя нагой. Везде были полицейские с оружием наготове. Мне казалось, что все смотрят на меня.
Для нас существовал единственно возможный выход из ситуации – побег. Я понимала, что даже контрабандисты менее опасны моего мужа, который уже обворовал и похитил меня, надругался и, без сомнения, был способен и на убийство.
Когда я вернулась, Амаль объявил:
– Сегодня ночью вы уедете. Если кто-нибудь обратится к вам за какой-либо информацией, ничего не отвечайте, – предупредил Амаль. – Обо мне ничего не говорите. Не рассказывайте, что вы американка и что с вами произошло.
Контрабандисты должны были вывезти нас из Тегерана до границы, переправить в Турцию в санитарной машине Красного Креста и сопровождать до Вана, города в горах восточной Турции. Там мы уже будем предоставлены сами себе, но по-прежнему должны быть очень осторожны. Мы не сможем пересечь границу официально, потому что в наших американских документах не будет соответствующих печатей. Это может вызвать подозрение у турецких властей. В таком случае они хотя и не вернут нас в Иран, но могут задержать и скорее всего разлучат. В Ване мы должны сесть на самолет или автобус до Анкары, столицы Турции, где сразу обратиться в посольство Соединенных Штатов. И только тогда мы будем в безопасности. Амаль вручил мне горсть монет.
– Я прошу вас звонить мне из каждого автомата по дороге. Будьте внимательны к тому, что говорите мне.
Он ненадолго задумался, глядя в окно.
– Исфахан, – произнес он название иранского города. – Так мы зашифруем Анкару. Когда доберетесь туда, сообщите, что вы находитесь в Исфахане.
Мне хотелось задержать его, поговорить, уточнить детали, потому что рядом с ним я чувствовала себя в безопасности. Однако он ушел.
Неужели это последняя моя пятница в Тегеране?! Я молила Бога, Аллаха, чтобы это стало реальностью.
Я огляделась вокруг. Что следует забрать? Я посмотрела на тяжелый гобелен, который во вторник притащила к Амалю на работу. «И как это мне такое пришло в голову?! – спрашивала я с возмущением у самой себя. – Мне ведь это не нужно. Мне ничего не нужно, только добраться до дому. Гобелен должен остаться, а вместе с ним и шафран».
Часы, несомненно, нужны. А бижутерию можно будет по дороге поменять на наличные деньги. Я положила украшения в сумку вместе с ночной рубашкой Махтаб и сменой белья для себя. Махтаб упаковала печенье и кукурузные хлопья, а также несколько книг в свой школьный ранец, и мы были готовы, ожидая только сигнала.
Около шести позвонил Амаль.
– В семь вы должны быть готовы.
Оставался только час. После многих дней, недель, месяцев оставался только час! Я чувствовала себя, однако, неподготовленной. «Милосердный Боже! – молилась я. – Что я делаю?! Прошу тебя, не покидай нас. Прошу тебя, храни мою девочку, что бы ни случилось».
В десять минут восьмого приехал Амаль с двумя мужчинами, которых я никогда прежде не видела.
Нельзя было терять ни минуты. Я помогла Махтаб надеть манто, сама надела свое, а лицо почти полностью закрыла чадрой. Она была как нельзя более кстати.
Я повернулась к Амалю, и от него не ускользнуло мое сильное волнение.
– Вы уверены, что действительно хотите осуществить это? – спросил он.
– Да. Я хочу ехать, – подтвердила я. В его глазах я увидела слезы.
– Я правда люблю вас обеих, – сказал он. Потом он обратился к Махтаб:
– У тебя чудесная мама, береги ее.
– Я буду беречь ее, – торжественно обещала она.
– Я бесконечно благодарна вам за то, что вы сделали для нас, – голос мой дрожал. – Я верну вам эти двенадцать тысяч долларов, как только доберусь до Америки.
– Все хорошо, – сказал он.
– Я знаю, вы делали все это от чистого сердца, – добавила я. – Я должна отблагодарить вас.
Амаль посмотрел на мою девочку.
– Единственной благодарностью и платой для меня будет улыбка Махтаб, – сказал он.
Потом он отодвинул край чадры и осторожно поцеловал меня в щеку.
– А сейчас в путь! – скомандовал Амаль.
Вместе с Махтаб и молодым человеком мы вышли из квартиры.
Он подвел нас к машине неизвестной марки. Я забралась в салон и посадила Махтаб на колени. Мы двинулись в густеющие сумерки пятничного вечера, навстречу неизвестности. «Свершилось! – думала я. – Удастся или нет? Удастся только тогда, если на то будет воля Божия. А если он не захочет, значит, его приговор был иным». Но, когда мы продвигались среди сигналящих машин, кричащих водителей и гневных, возмущенных пешеходов, я не могла поверить, что Бог желал бы для нас такой жизни.
Мы ехали около получаса. Внезапно водитель резко затормозил, сделал крутой поворот и поехал по узкой улочке.
– Поспешите! – лаконично приказал мужчина.
Мы вышли и нас сразу же втолкнули на заднее сиденье другой машины. Для вопросов не было времени. Вслед за нами в машину вскочили еще несколько незнакомых людей, и мы помчались дальше.
Я стала присматриваться к нашим спутникам. Мы с Махтаб сидели за водителем, мужчиной лет за тридцать. Рядом с ним сидел парнишка лет двенадцати, а ближе к дверям – мужчина постарше водителя. На заднем сиденье расположилась девочка, по виду ровесница Махтаб, одетая в дождевик, рядом с ней женщина. Они разговаривали по-персидски слишком быстро, чтобы я могла понять, но догадалась, что это семья.
Мы все составляли одну семью! И в этом наша сила.
Кто были эти люди? Что они знали о нас? Собирались ли они бежать?
Водитель гнал машину на запад, за город. На окраине Тегерана мы остановились у контрольного поста полиции. Инспектор заглянул в машину, направляя дуло карабина в наши лица, но увидел типичную иранскую семью, которая в пятницу вечером покидает город. Он махнул нам рукой.
Женщина пыталась завязать со мной разговор, переплетая английские слова с персидскими. Откуда ей было знать, что мы американки? Но она явно знала это. Я делала вид, что не понимаю, а вскоре закрыла глаза, будто задремала. Махтаб спокойно спала.
От Амаля я знала, что Тебриз находится на расстоянии четырехсот пятидесяти километров от Тегерана, а оттуда было еще около ста пятидесяти до границы. Пассажиры, успокоившись, спали на своих местах, а ко мне сон не приходил.
Украдкой одним глазом я посматривала в окно, чтобы увидеть, как далеко мы уехали. Часы отсчитывали бесконечные секунды. Я прикинула, что при такой скорости с каждой минутой мы приближаемся почти на два километра к границе.
После полуночи, где-то между Зиаабадом и Зенджаном, водитель стал притормаживать. Машина остановилась около маленькой придорожной кофейни. Попутчики жестами приглашали меня зайти, но мне не хотелось рисковать: а вдруг меня там кто-нибудь поймает? Показав на спящую у меня на коленях Махтаб, я дала понять, что мы останемся в машине.
Семья зашла в кофейню и сидела там целую вечность. Я завидовала Махтаб: когда спишь, время проходит быстрее. Если бы можно было закрыть глаза, заснуть и проснуться в Америке!
Наконец один из мужчин подошел к машине. «Неска», – пробормотал он, подавая мне чашечку кофе. В Тегеране почти невозможно было достать этот напиток, а тут в такой глухомани, в кофейне-развалюхе – и вдруг горячий кофе.
Спустя какое-то время все вернулись в машину, и мы снова двинулись в сторону границы.
Вскоре к стеклам машины стали прилипать хлопья снега. Водитель включил «дворники». Снежная буря набрасывалась на нас все сильнее. Дорога покрылась твердой ледяной коркой, но наш водитель не снижал бешеного темпа. «Если чудом полиция нас не остановит, то мы определенно погибнем в катастрофе», – думала я с грустью и тревогой.
Усталость все же взяла свое. Я погрузилась в беспокойный сон, пробуждаясь при каждом толчке.
Наконец над морозным горизонтом взошло солнце. Вокруг нас из мрака выплывали покрытые снегом горы. Далеко на западе вершины были выше и казались совершенно недоступными. Мы по-прежнему мчались по обледеневшей дороге.
Видя, что я уже не сплю, женщина снова попыталась завязать со мной разговор. Она говорила о том, что хочет поехать в Америку.
– В Иране так плохо, – бормотала она, – но мы не можем получить визы.
Махтаб рядом со мной потянулась и зевнула.
– Делай вид, что не понимаешь, – прошептала я ей на ухо. – Не переводи.
Она согласно кивнула головой.
Мы приближались к Тебризу. У полицейского поста водитель сбросил скорость. Сердце мое готово было выскочить из груди при виде нескольких солдат, которые одни машины пропускали, другие – задерживали. Нашу задержали. Дежурный офицер пасдаров всунул голову через окно. Я обмерла: у нас с Махтаб были только американские паспорта. А вдруг мы уже в списке беглецов? Пасдар коротко поговорил с водителем, а потом, махнув рукой, позволил нам отъехать, не проверив документы. Все в машине с облегчением вздохнули.
Мы въехали в Тебриз, чистый и более современный, чем Тегеран. Возможно, такое впечатление у меня сложилось потому, что все вокруг было покрыто белым пушистым снегом. А может быть, тут я уже ощутила дуновение свободы?! Тебриз находился в стороне от революционных событий. Отделы пасдаров и иранской армии были везде, но мне казалось, что население Тебриза в большей степени чувствует себя дома, чем жители Тегерана.
Водитель долго кружил окольными улицами, пока вдруг не остановил машину. Женщина приказала парнишке выйти. Я понимала по-персидски настолько, чтобы уяснить, что он приехал навестить тетушку. Его проконсультировали, что он не должен ничего говорить о нас. Подросток вышел и направился в боковую улочку, но спустя несколько минут вернулся. «Тети нет дома», – сообщил он. Женщина вышла из машины, намереваясь удостовериться лично. Не знаю почему, но меня это обеспокоило. Позже я поняла, что, хотя она была совершенно чужой, ее присутствие в машине придавало мне уверенности. Мужчины были вполне симпатичные, но у меня не было желания остаться с ними наедине.
Махтаб посмотрела на меня и прошептала:
– Мне плохо.
У нее горела головка. Она жаловалась, что болит живот. Я успела открыть дверцу, когда Махтаб вытошнило. Она тоже чувствовала напряжение. Наконец женщина вернулась одна.
Тетя оказалась дома, но не слышала, как стучал мальчуган. Я приободрилась, поняв, что эта женщина будет нас сопровождать. Мы поехали дальше.
Спустя две-три минуты мы остановились на перегруженном перекрестке. Это была центральная площадь города. Наш водитель стоял перед регулировщиком.
– Быстро! Быстро! – торопила нас женщина.
В этот момент мы молниеносно пересели в оказавшуюся рядом машину. Если все это было запланировано, то вполне удалось. Пока кто-нибудь сумел сориентироваться, мы с Махтаб были уже надежно спрятаны в другой машине. Муж, жена и дочь втиснулись за нами, и снова мы двинулись в путь.
Женщина, указав на нашего нового водителя, мужчину лет шестидесяти, сказала:
– Не разговаривай с этим человеком, не говори, что ты американка.
Водитель производил впечатление вполне благопристойного человека, однако, вероятно, не был посвящен в суть операции.
Мы пересекли Тебриз и направились в сторону другого города. Мы видели ужасающие следы войны – разрушенные бомбами здания, изрешеченные осколками стены которых напоминали соты. Везде было много военных патрулей. Спустя какое-то время мы остановились в боковой улочке за голубым «пикапом», внутри которого сидели двое мужчин. Один из них вышел и медленно направился к нашей машине. Он поговорил о чем-то с водителем на незнакомом мне языке, который я приняла за турецкий. Затем вернулся в «пикап», и автомобиль уехал.
Наша машина последовала за ним, но вскоре мы потеряли его в уличном движении. Несколько минут мы кружили по городу. «Почему это так долго?» – нетерпеливо думала я. Была суббота, день, когда я должна была вместе с адвокатом встретиться с Муди. Как скоро до него дойдет, что его обманули? Когда его гнев достигнет такой степени, что он сообщит в полицию о моем побеге? А может быть, он уже сделал это?
Я подумала об Амале. Он так просил связаться с ним. Но это оказалось невозможным.
А что с Джо, Джоном и моими родителями в далеком Мичигане? Звонил ли Муди им? Возможно, они сообщили что-нибудь об отце? Что Муди мог им сказать? Волнуются ли они по-прежнему за нашу с Махтаб жизнь? Неужели мою семью в ближайшее время ждут три смерти?
«Поспешите, пожалуйста!» – хотелось мне кричать.
Наконец мы покинули город и направились на запад. Часы проходили в полнейшем молчании, которое было прервано единственным незначительным инцидентом.
– Не делай этого! – проворчал водитель, оглянувшись на Махтаб.
– Ты стучишь в его сиденье, – сказала я Махтаб и подтянула ее повыше.
Путешествие продолжалось. В полдень мы подъехали к заброшенному дому возле полевой дороги. Сразу же за нами остановился знакомый «пикап». Нам с Махтаб велели пересесть в него. Машина тронулась, и мы остались с двумя мужчинами.
Хмурое выражение лица одного вселяло тревогу.
Другой оказался более приветливым. Высокий и худощавый, в нем было что-то властное. Он улыбнулся мне и сказал по-персидски:
– Меня зовут Мосейн.
Мы проехали не более сотни метров и повернули на полевую дорогу, ведущую в маленькую деревню. В ней было лишь несколько разбросанных то здесь, то там домов. Несмотря на поземку, дети бегали без обуви, почти раздетые. Мы резко остановились, а водитель, подбежав к кирпичной стене, взобрался на нее, видимо, проверить, что за ней. Дорога была свободной. Кивком он велел подъехать. Мосейн проскользнул на место водителя и медленно подогнал машину. Мы въехали в железные Ворота, которые тотчас же захлопнулись за нами.
– Быстрее! Быстрее! – подгонял Мосейн.
Мы с Махтаб выскочили из машины прямо в болото посреди двора. Спотыкаясь, мы тащились за Мосейном, который вел нас к напоминавшему сарай дому. Несколько животных сопровождало нас.
Цементные стены дома усиливали и без того пронизывающий холод. Нас била дрожь. Мое дыхание зависало в воздухе ледяным облачком, когда я шептала Махтаб:
– Сейчас лучше не отвечай никому, ничего не переводи, пока я тебя не попрошу об этом. Не признавайся, что ты понимаешь, о чем идет речь. Притворись уставшей и сонной.
Я обняла свою девочку, стараясь таким образом согреть ее и себя. Я осмотрелась вокруг. На полу были расстелены плахты с ярким рисунком. Сшитые, они выглядели, как одеяла без ваты. Вдоль стен лежали шерстяные одеяла. Мужчины принесли печку, которую топили мазутом, разожгли ее, подтянули плахты поближе к огню и жестом пригласили нас сесть.
Мы сели как можно ближе к печи, укрываясь настывшими влажными одеялами. Маленькая печурка едва грела.
– Я скоро вернусь, – пообещал Мосейн и вышел.
В курдийском национальном костюме, очень отличавшемся от бесцветных одежд женщин в Тегеране, в сарай вошла женщина. На ней было несколько слоев юбок ярких расцветок, достигающих пола и сильно собранных в талии. К спине ее был привязан, видимо, годовалый ребенок с выразительными, как у нашего водителя, чертами лица. Я догадалась, что это его сын.
Женщина была невероятно подвижна. Сначала она чистила сабзи, потом вышла. Я наблюдала за ней через открытые ворота. Она поливала двор водой. Вскоре она вошла снова и стала собирать с пола тряпичные половички и одеяла, сворачивая и складывая их. Потом подмела голый пол метелкой из сухой травы.
«Что будет дальше? – думала я. – Действительно ли Мосейн вернется за нами?»
Вскоре женщина ушла, но тут же вернулась с хлебом, сыром и чаем. Хотя мы были очень голодны, сыр есть было невозможно: он был очень острым. Мы попили чаю и пожевали немного твердого хлеба.
Вечер принес с собой гнетущую тишину. Мы с Махтаб дрожали от холода и страха, чувствуя себя беззащитными и бессильными. Если бы этим людям пришло в голову расправиться с нами, у нас не было бы никаких шансов на спасение.
Наконец вернулся Мосейн. Увидев его, я вздохнула с облегчением. Что-то в его поведении вызывало доверие.
– Что у тебя в сумке? – спросил он.
Я высыпала все на каменный пол: альбомы для рисования Махтаб, сменную одежду, бижутерию, деньги, монеты для телефона-автомата, которые дал Амаль, наши паспорта.
– Дай мне это, – сказал он.
«Неужели он просто вор? – подумала я». Все, кроме часов, я отдала ему.
Мосейн, рассортировав вещи, сложил их в маленькие пакеты.
– Завтра, – сказал он по-персидски, – наденете все, что сможете, на себя. Остальное оставите.
Он перебирал в руках две мои цепочки и перламутровый браслет, затем положил их в карман.
Желая как-то его ублажить, я достала свою косметичку и также подала ему.
– Подари это своей жене, – сказала я. Была ли у него жена?
Он завернул также деньги, паспорта и золотую цепочку.
– Оставь это на сегодняшнюю ночь, но перед тем, как мы выедем, я заберу эти вещи, – предупредил он.
– Хорошо, – поспешно согласилась я.
Он осмотрел школьный учебник персидского языка, который Махтаб взяла с собой. Когда он заталкивал книгу в карман плаща, в глазах Махтаб заблестели слезы.
– Я хочу это взять, – всхлипывала она.
– Я отдам тебе потом, – пообещал он.
Этот человек с каждой минутой казался мне все более загадочным. Он держался очень мило, но его слова и действия не оставляли нам выбора. Он улыбался по-отечески, а карманы набил моими драгоценностями.
– Я вернусь сюда утром, – сказал он и вышел в темную холодную ночь.
Было поздно. Мы с Махтаб закутались в плахты, прижавшись друг к другу возле печи. Махтаб наконец погрузилась в неспокойный, неровный сон.
Изнуренная до предела, дрожащая от холода, голодная, почти в бессознательном состоянии от напряжения и беспокойства, я лежала рядом со своей девочкой. У меня все сжималось внутри от мысли, что Муди уже мчится по нашим следам. Я страшилась полиции, солдат, пасдаров. Я боялась завтрашнего дня, опасностей, связанных с пересечением границы. Как они это сделают?
Я волновалась об отце, маме, Джо и Джоне.
Переполненная тревогами и страхом, я то забывалась в полном кошмаров сне, то просыпалась. Так прошла ночь.
К утру сарай казался еще холоднее, чем с вечера.
Женщина принесла нам чай, хлеб, а также сыр, но еще более острый, просто несъедобный. Когда мы пили чай и жевали твердый хлеб, женщина вернулась с настоящим лакомством – семечками подсолнуха на маленьком подносе. Как обрадовалась моя Махтаб! Мы были голодны, и я была уверена, что она проглотит все сразу. Но Махтаб разделила семечки на две маленькие порции.
– Мама, мы не должны съесть все сегодня. Нужно немного оставить, – сказала она. – Вот эти съедим сегодня, а те оставим на завтра.
Она поразила меня своим совсем не детским рационализмом.
Женщина суетилась во дворе, разжигая маленький костер. Она готовила курицу, одну из тех, которые бегали по двору.
В воздухе стоял аппетитный аромат отварного мяса. Женщина вернулась и стала приготавливать сабзи. Я села рядом, чтобы помочь ей.
Еда была готова, на полу расставили тарелки, и мы только сели обедать, как внезапно появился Мосейн.
– Зад баш! Зад баш! – распорядился он. Женщина тут же встала и вышла на улицу, а какое-то время спустя вернулась с ворохом одежды. Она быстро нарядила меня в тяжелый яркий четырехъярусный курдийский костюм. В моем одеянии были длинные рукава с почти восьмисантиметровой ширины полоской ткани, свисающей у запястья. Внешний слой юбки был сшит из тяжелой шелковой парчи апельсинового, голубого и розового цветов.
Голову мне плотно обернули длинным куском ткани, концы которой с одной стороны свисали. Таким образом, я стала курдкой.
На Махтаб по-прежнему было манто.
– У меня нет брюк, – сказала я.
Мосейн тут же принес длинные мужские брюки. Я подвернула манжеты, пытаясь натянуть брюки под многочисленными слоями курдийских юбок. Затем Мосейн вручил нам с Махтаб толстые шерстяные носки, на которые мы надели обувь.
Только сейчас мы были готовы.
Мосейн попросил деньги, цепочку и паспорта – все ценное, что оставалось у нас, за исключением часов. Не имело смысла переживать о них, если речь шла о нашей жизни.
– Побыстрее! Побыстрее! – подгонял он.
Мы вышли за ним из сарая, оставляя нетронутым обед, и забрались в голубой «пикап».
– Ты не беспокойся, не беспокойся, – повторял Мосейн.
Он объяснил мне, как умел, свой план: какое-то время мы будем ехать «пикапом», потом пересядем в другую машину и наконец в машину красного цвета.
Детали я так и не смогла уяснить.
По-прежнему у меня были к Мосейну смешанные чувства. Его поведение часто таило в себе что-то зловещее. У него были мои деньги и драгоценности. О паспортах я не беспокоилась: без виз они все равно были бесполезны. Если нам только удастся добраться до посольства США в Анкаре, наверное, нам выдадут новые.
С другой стороны, он был заботливый и доброжелательный. Я ожидала от него защиты и помощи. Будет ли он сопровождать нас всю дорогу?
– Я никогда еще и ни с кем не переходил границу, – сказал он по-персидски. – Но ты моя сестра, и я перейду границу вместе с тобой.
Оригинально. Я сразу же почувствовала себя увереннее.
Спустя какое-то время мы увидели мчащийся нам навстречу автомобиль. Поравнявшись, машины внезапно затормозили. Мосейн торопил нас.
Мы вышли на шоссе. Я повернулась к Мосейну, уверенная, что он присоединится к нам.
– Отдай это мужчине в другой машине, – сказал он, подавая мне паспорта.
Я быстро потеряла его из виду, потому что водитель нажал на педаль газа до отказа. Голубой «пикап» исчез, а вместе с ним и Мосейн.
«Значит, он не поедет с нами, – убедилась я. – Я никогда больше не увижу его».
Очередная машина развернулась и затормозила прямо возле нас. Мы забрались в кабину.
Это была открытая машина вроде «джипа». В кабине сидели двое мужчин. Одному из них я подала паспорта. Он взял их осторожно, точно они обжигали. Ни у кого не было желания быть пойманным с американскими паспортами.
Затем он сказал нам пересесть наверх. Я не знала, для чего это нужно, но выполнила его распоряжение. Мы тотчас же двинулись с бешеной скоростью.
В прошлую ночь в каменном сарае мне казалось, что холоднее уже не может быть. Но я ошибалась. Мы с Махтаб прижались друг к другу на открытой платформе. Ледяной ветер пронизывал нас насквозь, но ни Махтаб, ни я не жаловались. Мы ехали по ухабистой дороге, вьющейся серпантином в гору.
«Сколько испытаний уготовано судьбой еще на нашу долю?» – спрашивала я себя.
Проехав около километра, водитель остановился и пригласил нас в кабину. Мужчина, которому я отдала паспорта, указал рукой на вершину горы. Я посмотрела в ту сторону и увидела силуэт стоявшего там человека с карабином через плечо. Это был часовой. Мы ехали дальше, и мужчина все время показывал мне все новых и новых часовых.
Вдруг тишину разорвал резкий выстрел из карабина. Второй разнесся эхом от горных откосов.
Водитель тотчас же остановился. Оба мужчины побледнели от страха. Их страх усилил мой. Махтаб прижалась ко мне, точно пыталась забраться внутрь меня. В напряженном молчании мы ждали приближающегося солдата. На нем был мундир цвета хаки, стянутый в талии ремнем. Внезапно в моих руках оказались паспорта. Не зная, что с ними делать, я всадила их в сапог и ждала, прижав Махтаб еще крепче к себе.
– Не смотри на этого человека, – прошептала я ей, – ничего не говори.
Солдат осторожно подошел к окну машины, а дуло карабина направил на водителя. Сердце у меня остановилось.
Солдат что-то сказал на непонятном мне языке. Махтаб сжала свою ручонку у меня на ладони. Я боялась дышать.
Наконец спустя несколько минут, которые показались мне вечностью, солдат отошел. Наш водитель взглянул на своего товарища с явным облегчением. Видимо, он сумел наговорить солдату нечто правдоподобное.
Снова тряслись мы по ухабам, пока не выехали на автостраду. Нас то и дело обгоняли военные машины. Впереди показался контрольный пост, но, прежде чем мы к нему подъехали, водитель свернул на обочину и жестом приказал выйти. Речь явно шла о том, чтобы обойти пост.
Мы последовали за мужчиной по открытой местности – плоскогорью, покрытому снегом и льдом. Мы все время находились в поле зрения поста. Я чувствовала себя мишенью на стрельбище. Несколько минут мы брели по полю, пока не добрались до следующей автострады.
Я надеялась, что здесь нас заберет «джип» или та красная машина, о которой вспоминал Мосейн. Но вместо того, чтобы ждать на обочине, наш проводник повел нас по откосу вдоль дороги. Замерзшие, несчастные и дезориентированные, мы продолжали идти за ним. Махтаб топала своими маленькими ножками, и я ни разу не услышала от нее жалобы.
Так тащились мы около часа, пока у подножия крутой горы наш проводник не нашел ровное место в снегу. Он кивнул нам, чтобы мы сели и отдохнули. Жестами он приказал нам остаться здесь и дал понять, что вернется, а затем исчез.
«А, собственно, зачем ему было возвращаться? – подумала я с горечью. – Амаль заплатил этим людям с лихвой. Чего ради, скажите, этот мужчина должен возвращаться?»
Я не знаю, как долго мы находились там, ожидая, полные недоверия, волнения и отчаяния.
Вдруг я увидела «джип». За рулем сидел тот же человек, который разговаривал с солдатом. Он посмотрел на нас, но не подал виду, что узнал.
Махтаб молчала, но лицо ее выражало еще большую решительность, чем раньше: она возвращалась в Америку.
Этот человек не вернется. Сейчас я уже была уверена в этом. Подождем до наступления сумерек, а потом надо что-то предпринять. Но что? Двигаться самим на запад? Мать и дочь, самостоятельно пытающиеся пробраться через горы в Турцию! А может быть, лучше найти обратную дорогу на пост, сдаться, теряя иллюзии и даже жизнь? Или просто замерзнем здесь ночью и умрем.
Этот человек не вернется…
Я вспомнила рассказанную мне Элен (как давно это было!) историю об иранке и ее дочери, которых бросили так же, как и нас. Девочка умерла. Женщина едва выжила, но в результате этой трагедии потеряла все зубы. Я утратила покой.
Я была совершенно парализована холодом и паническими мыслями и поэтому не смогла заметить приближающийся красный автомобиль.
Этот человек вернулся! Он быстро посадил нас в машину и приказал водителю трогаться.
Спустя четверть часа мы приехали в какой-то дом возле центральной магистрали. Это было белое кирпичное здание с плоской крышей. Во дворе лаяла большая грязная дворняга, а едва одетые, босые дети бегали по снегу.
Везде было развешано белье. Оно свисало с веток деревьев, столбов и оконных фрамуг, напоминая жесткие замерзшие гирлянды.
Женщины с детьми откровенно разглядывали нас. Они все были хмурые, грязные и плосконосые. Курдийская одежда делала их почти квадратными.
– Поторопитесь! – сказал «человек, который вернулся».
Мы вошли в дом. Несколько женщин жестами показали, чтобы мы оставили там свою обувь. Голод и страх давали о себе знать. Все вокруг казалось нереальным, теряло контуры.
Потом нас провели в большое холодное и пустое помещение.
Мы сели на твердом полу, молча и настороженно присматриваясь к курдийским женщинам, которые, в свою очередь, смотрели на нас не очень доброжелательно.
Одна из женщин натопила печь и приготовила чай. Другая подала нам несколько кусочков твердого, замерзшего хлеба. Третья принесла одеяла. Мы плотно завернулись в них, но так и не смогли согреться.
«О чем они думают? – спрашивала я себя. – О чем разговаривают? Знают ли, что мы американки? А может быть, у курдов нет ненависти к американцам. Может быть, мы союзники, враги шиитского большинства?» «Человек, который вернулся» молча сел возле нас. Я не имела представления, как узнать о дальнейших планах.
Вскоре в комнату вошли мальчуган лет тринадцати и женщина в такой толстой юбке, какой я еще никогда не видела. Женщина подошла к нам и что-то сказала резким голосом парнишке. Я поняла, что она приказала ему сесть рядом с Махтаб. Он подчинился и смотрел на женщину, стыдливо ухмыляясь. Женщина, видимо, была его матерью. Она стояла над нами как часовой.
Мною овладевал страх. Что здесь происходит? Я была близка к панике.
Навалились воспоминания… Муди! Я видела его злую усмешку в мерцающих тенях на стене. Огонь в его глазах, когда он бил меня, когда ударил Махтаб, сейчас сверкал в пламени печи. Голоса курдов становились все громче, и я слышала в них полный бешенства омерзительный визг Муди.
Муди!
Это он вынудил меня бежать. Я должна была забрать Махтаб. Но, Боже мой, что, если ее встретит несчастье?
Неужели эти люди что-то замышляют? Неужели собираются отнять у меня Махтаб? Кто этот паренек и его злая мать? А может, они выбрали Махтаб невестой? Прошедшие полтора года убедили меня в том, что в этой причудливой стране все может случиться.
«Не стоило!» – кричала моя душа. Если они собираются продать ее или использовать для чего-нибудь иного, то не стоило убегать. Лучше я бы до конца жизни оставалась в Иране. Как я могла втянуть Махтаб в такую авантюру?!
Я старалась взять себя в руки, обуздать свое взбудораженное сознание, убеждая, что этот страх лишь результат мрачных видений, усталости и напряжения.
– Мама, мне не нравится здесь, – Махтаб тоже чувствовала странную атмосферу.
Время от времени мальчуган пытался отодвинуться от Махтаб. Сидящий возле меня «человек, который вернулся» в молчании отдыхал.
Так мы сидели не менее получаса. Вдруг в дом вошел еще один мужчина, и его появление вызвало оживление среди женщин. Ему тотчас же подали горячий чай и хлеб, суетясь вокруг него и проверяя, наполнен ли у него стакан. Он сел на полу, не обращая на нас ни малейшего внимания. Достал сверток папиросной бумаги и начал разрывать что-то вроде пакетика, из которого вместо табака посыпался какой-то белый порошок. Марихуана, гашиш или опиум? У меня не было представления, как это выглядит, но что бы это ни было, оно не похоже на табак. Вероятнее всего, он был хозяином дома. Может быть, эти женщины – его жены? Что ждет нас?
– Когда мы отсюда уедем? Мне не нравится здесь, – шептала Махтаб.
Я посмотрела на часы. Приближался вечер.
– Я не знаю, на что надеяться и чего ждать. Будь готова ко всему, – ответила я.
Комнату постепенно окутывал мрак. Кто-то принес свечи, и в окружающей нас темноте дрожащее пламя создавало еще более сюрреалистическую картину. Монотонное гудение печи отупляло нас.
Мы находились здесь уже четыре часа.
Из напряжения вывел нас лай собаки. Все мгновенно вскочили.
В комнату вошел пожилой мужчина. Ему было около шестидесяти. На нем был костюм цвета хаки, добытый, наверное, в армии, лохматая шапка и военного покроя оливково-коричневая куртка. Хозяин дома что-то сказал нам, видимо представляя его.
Пожилой человек буркнул «салам!» или что-то в этом роде. Потом быстрым шагом пересек комнату, с минуту грел ладони у печки. Он был оживлен, энергичен, готов к действию.
Одна из женщин принесла нам новую одежду, жестом приказывая снять многочисленные слои курдийского наряда. Потом помогла мне надеть четыре других платья, немногим отличавшиеся от предыдущих. Когда женщина закончила, я была так закутана, что едва двигалась. Мужчина жестом приказал нам обуться.
Махтаб не могла сделать это самостоятельно, а я, в свою очередь, с трудом согнулась, чтобы помочь ей. Быстро! Быстро! Пожилой мужчина все время подгонял нас.
Наконец мы были готовы. Махтаб отважно схватила меня за руку. Мы не имели представления, куда идем, но все-таки с радостью покидали это место. Наверное, этот человек отведет нас в санитарную машину Красного Креста. Молча мы шли за хозяином дома и нашим новым проводником. «Человек, который вернулся» тоже вышел. Дверь за нами тотчас же закрылась.
Яростный лай собаки эхом разносился по околицам вместе с порывами ветра. Пес подбегал к нам, тыкался носом.
Послышалось ржание лошади. Звезды ярко горели, но почему-то не освещали землю. Зато свет их окрашивал небо в удивительный серо-белый цвет. Мы едва различали нашего проводника.
Он жестом объяснил нам, чтобы мы сели на лошадь. Седла не было. Пожилой помог мне, а «человек, который вернулся» поднял Махтаб, усаживая ее впереди меня.
– Держи голову ниже, потому что очень холодно, – посоветовала я Махтаб.
Я обняла ее и ухватилась руками за гриву. Лошадка была небольшой и напоминала своих американских соплеменниц.
Пожилой человек быстро пошел вперед через ворота и исчез в темноте. «Человек, который вернулся» схватил нашу лошадь за узду и повел за ним.
Много лет я уже не передвигалась верхом, тем более без седла. Плед подо мной скользил. Изо всех сил, на какие было способно мое измученное тело, я пыталась удержаться на спине лошади. Махтаб трепетала в моих объятиях.
В открытом поле мы двигались не очень быстро. Иногда нужно было объезжать замерзшие лужи: лед проламывался под копытами животного. В этой горной стране каждый звук отдавался эхом, точно выстрел. Шум был нашим врагом.
Дорога постепенно поднималась к подножию гор, за которыми возвышались другие, более высокие.
Когда мы добрались до одной из вершин, лошадь неожиданно закачалась на крутизне, и мы, неподготовленные, съехали с ее спины. Падая, я судорожно прижимала к груди дочурку, стараясь уберечь ее от удара. Мы тяжело упали в заледеневший снег. «Человек, который вернулся» моментально помог нам подняться, стряхнул с нас снег. Махтаб, несмотря на то, что лицо у нее обветрилось, тело болело, что она была голодна и измучена, по-прежнему проявляла решимость и спокойствие. И сейчас, после падения, она даже не заплакала.
Ночь стала еще холоднее. Мрак сгустился. Звезды померкли. Колючий ледяной ветер обжигал наши лица.
Мы брели дальше, по-прежнему то поднимаясь в гору, то спускаясь вниз, пока возвышенности не уступили место горным вершинам, из которых каждая следующая была более неприступной, чем предыдущая. Дорога под гору казалась легче; мы хотя бы были защищены от порывов ветра. Под гору лошадь бежала быстрее, изредка спотыкаясь и цепляясь за ветки кустарников. Зато спуск по склону был опаснее. Как только мы поднимались на вершину, тотчас же нас хватал в свои объятия вихрь, бросая в лицо снегом, который ранил, как дробь. Кроме того, снег там был очень глубокий. Мы брели по таким высоким сугробам, что путник проваливался в них до самой макушки.
У меня болели руки. Я не чувствовала пальцев ног. Мне хотелось кричать, упасть с лошади и лежать, погрузившись в небытие. Я боялась обморозиться. Бедную Махтаб непрерывно била дрожь.
Время и пространство потеряли для меня смысл. Мы были затеряны навеки в темной морозной пустыне.
И вдруг до меня донеслись голоса сверху. Сердце перестало биться: это – пасдары! Неужели после всего, что нам пришлось пережить, именно сейчас нас схватят?
Но «человек, который вернулся» никак не отреагировал, а спустя несколько минут мы наткнулись на стадо овец. Странно было встретить животных в таком месте. Как они могут жить в этом страшном климате? Их мясо, наверное, очень жесткое. Я завидовала их толстой шерстяной шубе. Чуть позже показался пастух.
Он тихо поприветствовал «человека, который вернулся». Взял у него узду и молча повел нас дальше, оставив овец. Я оглянулась, инстинктивно отыскивая моего опекуна, однако он исчез, не простившись.
Пожилой человек по-прежнему шел впереди как разведчик.
Снова и снова продвигались мы вверх и вниз через очередную гору. Мне чудом удавалось держаться на лошади. «Нам не выдержать этого! – кричала моя душа. – После всего этого мы не сможем жить». Махтаб в моих объятиях не переставала дрожать, и это было единственным признаком, что она еще жива.
В какой-то момент я посмотрела вверх и увидела картину, отчетливо вырисовывающуюся на фоне мутно-белого неба: несколько лошадей и всадники на их спинах.
«Пасдары…» – прошептала я. Из всех несчастий, какие могли на нас свалиться, самое худшее было бы попасться в их лапы.
Через какое-то время мы снова услышали голоса, на этот раз уже отчетливее, как будто кто-то ругался. Я судорожно сжимала Махтаб, готовая стать на ее защиту. Слезы боли и отчаяния замерзали у меня на щеках.
Пастух остановил лошадь.
Ветер доносил до нас голоса нескольких мужчин. Они явно не старались скрыть свое присутствие. Но голоса их уже не выражали злобы.
Мы ждали возвращения нашего «разведчика». Прошло еще несколько полных напряжения минут.
Наконец пастух сообщил, что мы можем не опасаясь двигаться дальше.
Когда мы подъехали, лошадь застригла ушами на фырканье трех других лошадей. Мы въехали в центр группы из четырех мужчин, разговаривавших так спокойно, точно это была обычная экскурсия.
– Салам, – тихо приветствовал меня один из мужчин.
Даже среди рева ветра я узнала этот голос. Это был Мосейн!
– Никогда еще и ни с кем я не переходил границу, – сказал он. – Но сегодня я сделаю это для вас и переведу вас на другую сторону. Слезайте с лошади.
Сначала я подала ему Махтаб, а потом и сама спустилась на землю, убеждаясь, что ног я не чувствую так же, как и рук. Мне с трудом удалось удержаться.
Мосейн рассказал мне об изменениях в планах. В тот день, когда наш «пикап» был обстрелян и задержан солдатом, мы избежали ареста только благодаря изобретательности водителя, который правдоподобно объяснил наше присутствие в приграничной зоне, где проводились военные учения. Сейчас Мосейн считал, что было бы слишком рискованно воспользоваться санитарной машиной. Значит, дальше мы отправляемся на лошадях и пересекаем границу вдали от дорог через безлюдные неприступные горы.
– Махтаб должна ехать с одним из мужчин на другой лошади, – сказал Мосейн по-персидски.
– Нет, я не хочу! – внезапно запротестовала Махтаб.
Спустя пять дней после побега, после непрерывного голодания, мучений, хаоса она в конце концов взорвалась рыданием. Слезы текли у нее по щекам, тотчас же замерзая на платке.
– Я хочу ехать с тобой, мама, – всхлипывала она.
– Тише, тише, радость моя, – успокаивала я. – Мы уже столько проехали, нам осталось чуть-чуть и мы сможем полететь в Америку. Иначе придется вернуться к папе. Прошу тебя, постарайся сделать это для меня.
– Я не хочу ехать одна на лошади, – снова расплакалась она.
– С тобой будет один из этих дядей.
– Я не хочу ехать на лошади без тебя!..
– Но так нужно. Они знают, как лучше. Я прошу тебя, поверь им.
Где-то в глубине своего существа моя девочка нашла источник силы и мужества. Она вытерла слезы и снова стала самостоятельной и решительной. Она сделает, что говорит Мосейн.
– Махтаб, мне очень больно, что так вышло. Я не предполагала, что будет так трудно. Я не знаю, как ты это выдержишь. Я вообще не знаю, возможно ли это выдержать, – сказала я.
– Выдержу, – твердо произнесла она. – Я сильная. Я сделаю все, чтобы вернуться в Америку. – Задумалась, а потом добавила: – Я ненавижу папу за то, что из-за него нам приходится делать все это.
Она позволила посадить себя на колени мужчины, оседлавшего свою лошадь. Мосейн помог мне сесть на другую, а узду взял новый проводник. Остальные шли пешком, провожая меня и Махтаб.
Итак, мы снова двинулись в путь. Я обернулась, чтобы посмотреть, как чувствует себя Махтаб. Я слышала стук копыт, но самой лошади не могла увидеть. Не видела я также и своей девочки.
«Будь мужественной, моя дорогая», – обращалась я в душе к ней и к себе тоже.
Казалось, что бесконечно длящаяся страшная ночь приближается к своему концу. И давящее однообразие пейзажа: вверху горы, внизу тоже горы. Когда же наконец мы пересечем границу? А может, уже пересекли?
Я обратилась к мужчине, ведущему мою лошадь.
– Турция? Турция? – прошептала я, указывая на землю.
– Иран, Иран, – ответил он.
Дорога стала такой плохой, что мы вынуждены были спешиться. Путь наш лежал по-прежнему вверх и по льду. Мои ноги подкосились. Длинные юбки мешали, обувь скользила по обледеневшей земле. Один из мужчин схватил меня как раз в тот момент, когда я падала. Он поставил меня, а затем, держа под руку, помогал подниматься по откосу. За мной другой мужчина нес Махтаб на плечах. Я старалась изо всех сил, но все-таки задерживала группу, скользя, спотыкаясь, путаясь в юбках.
– Турция? Турция? – время от времени спрашивала я того, кто держал меня под руку.
– Иран, Иран, – отвечал он. Спускаясь, мы снова сели на лошадей.
У подножия горы мы наткнулись на овраг. Мой проводник повернулся, придвинув лицо к моему так близко, чтобы я его хорошо видела, и приложил палец к губам. Я задержала дыхание. Мужчины ждали молча несколько минут. В горах мы были закрыты возвышенностями. Но сейчас перед нами простиралось плато, покрытое снегом, освещенное блеском неба.
Наконец один из мужчин быстро двинулся вперед. Я видела серый контур его фигуры, когда он проходил по плато. Потом он исчез.
Через несколько минут он вернулся и шепотом что-то сказал Мосейну. Тот, едва слышно, обратился ко мне.
– Мы вынуждены проводить вас по одной, – сказал он по-персидски. – Дорожка вокруг оврага очень узкая и опасная. Ты пойдешь первая, а потом переведем ребенка.
Он не оставил мне времени на возражения и пошел вперед. За ним отправился мой проводник, схватив узду моей лошади. Я молилась, чтобы Махтаб не заметила моего отсутствия.
Мы вышли на плато, преодолевая открытое пространство так быстро и так тихо, как только могли. Потом мы пробирались обледеневшей тропинкой по краю обрыва вдоль распадка, затем дальше по противоположной стороне плато. Минут через десять мы были на другой стороне.
Мой сопровождающий остался со мной. Мосейн вернулся за Махтаб. Я молча сидела на лошади, дрожа и высматривая свою девочку. Я пыталась взглядом пробиться сквозь темноту. «Быстрее, быстрее, быстрее», – умоляла я в душе. Мне было страшно, что Махтаб может расплакаться.
Но вот появилась и она, сгорбленная в объятиях одного из мужчин, вся Дрожащая, но притихшая.
Как раз в это время проводник заметил мой вопросительный взгляд. Указывая на землю, он прошептал:
– Турция, Турция.
– Альхамдулилах, слава Богу! – произнесла я с облегчением.
Несмотря на страшный мороз, я почувствовала прилив чудодейственного тепла. Мы были в Турции! Мы выбрались из Ирана!
Но еще далеко было до настоящей свободы. Если заметит нас турецкий пограничный патруль, он может открыть огонь по группе нарушителей. Если нам удастся избежать этого, нас могут арестовать турки, и тогда придется отвечать на множество неприятных вопросов. Однако, по крайней мере, я знала (об этом меня предупреждал Амаль), что турецкие власти не отошлют меня обратно в Иран.
Снова налетел ледяной ветер. Символическая линия на карте ни на йоту не изменила погоду. Мы снова поднимались по слишком крутой горе. На этот раз я сползла с лошади и постыдно зарылась в снег. Мосейн поставил меня на ноги. «Как долго может человеческий организм держаться благодаря лишь собственному адреналину? – спрашивала я себя. – Наверное, я скоро упаду».
Мне казалось, что моя душа на какое-то время покинула тело.
– Сколько еще этих гор? – спросила я Мосейна.
– Уже близко, – ответил он.
Я старалась найти утешение в этой лаконичной информации, ибо отчаянно нуждалась в тепле и отдыхе.
Я взглянула на грозный силуэт: гора была выше и более недоступна, чем все те, которые уже остались за нами. А может быть, мне так уже просто казалось?
– Это последняя вершина, – прошептал Мосейн.
В очередной раз, когда я сползла с лошади, ноги совершенно подвели меня. Я бессильно барахталась в снегу, но не могла встать даже с помощью мужчин. Я не могла с уверенностью утверждать, принадлежат ли мои ноги мне. Несмотря на жестокий мороз, я чувствовала себя так, точно меня охватывает пламя.
– Только десять минут, – сказал мой проводник, показывая рукой в гору.
– Позвольте мне отдохнуть, – умоляла я.
Но проводник поставил меня на ноги и потащил дальше. В какой-то момент я качнулась так сильно, что проводник выпустил мое плечо, и я упала на спину. Съехав несколько метров по обрыву, я задержалась в сугробе. Проводник подбежал ко мне.
– Не могу, – простонала я.
Проводник тихо позвал на помощь Мосейна.
– Махтаб, – прошептала я, – где она?
– Она чувствует себя хорошо. Наш человек несет ее на руках.
Мосейн вместе с проводником стали поднимать меня. Забросив мои руки себе на плечи, Мосейн тащил меня по крутизне. Мои ноги бессильно свисали, волочась по снегу.
Несмотря на тяжесть, мужчины легко поднимались в гору, даже не переводя дыхания.
Неоднократно они пытались поставить меня, но всякий раз мои ноги тотчас же сгибались в коленях, и они снова вынуждены были подхватывать меня, предотвращая падение.
– Умоляю… дайте отдохнуть, – стонала я.
В моем голосе звучало отчаяние. Мосейн помог мне лечь на снег, потом приложил холодную ладонь к моему лбу, проверяя температуру. Его лицо, насколько я могла рассмотреть, выражало сочувствие и обеспокоенность.
– Не могу больше, – шептала я, будучи уверенной, что умру в эту ночь.
Мне уже не вернуться домой, но я вырвала Махтаб из Ирана. Она вернется. И этого достаточно.
– Оставьте меня, – сказала я Мосейну. – Поезжайте с Махтаб. Вернетесь за мной завтра.
– Нет! – отрезал Мосейн.
Его тон поднял меня быстрее, чем удар в лицо. «Как ты можешь говорить нечто подобное? – укоряла я себя. – Ты ведь так долго ждала этого дня. Ты должна идти дальше».
Но у меня не было сил. Я не могла двигаться. Двое мужчин снова поставили меня на ноги и тащили дальше в гору. Местами сугробы были по колено. Втроем мы несколько раз падали в снег, но после каждого падения мои спутники поднимались, хватали меня под руки и тащили дальше.
Я впала в оцепенение. Наверное, я потеряла сознание.
Несколько минут спустя в этом, как мне казалось, туманном и иллюзорном мире я услышала шепот Махтаб: «Мамочка!».
Она была рядом со мной. Мы достигли вершины.
– Остаток дороги поедете на лошадях, – сказал Мосейн.
Одну руку он положил на мое бедро, другую подставил под мою ногу. Мой проводник сделал то же самое с другой стороны. Таким образом они подняли мое закаменевшее, затвердевшее тело и посадили на лошадь. Мы двинулись вниз по склону. Мне как-то удалось удержаться на лошади до самого подножия горы. По-прежнему нас окружала темнота, но я знала, что скоро будет светать. Я едва видела лицо Мосейна, который стоял передо мной, пальцем показывая на едва мерцающие вдалеке огоньки.
– Мы едем туда, – сказал он. – Наконец мы найдем убежище.
Требовалось последнее усилие.
Мы ехали еще минут десять, пока я не услышала лай собаки. Скоро мы добрались до дома, спрятавшегося в горах. Во двор вышли несколько мужчин. Видно, они ждали нас. При ближайшем рассмотрении дом оказался полуразрушенной хибарой. Это был уединенный рай контрабандистов на восточной границе Турции.
Мужчины окружили Мосейна и поздравляли с успешной экспедицией. Мужчина, который вез Махтаб, осторожно поставил ее на землю и присоединился к остальным. Забытая всеми, не имея возможности соскочить с лошади, я отпустила ее гриву и, как и прежде, хотела сползти по ее спине, но упала на низкую цементную веранду. Я лежала неподвижно. Махтаб подбежала ко мне. Мужчины, даже Мосейн, и не подумали прийти на помощь. Одни занялись лошадьми, другие исчезли в тепле дома.
Собрав остатки сил, я поползла на руках, волоча за собой обессилевшие ноги. Махтаб пыталась тащить меня. Я царапала локти о твердый холодный цемент. Взгляд мой был устремлен на спасительную, как мне казалось, дверь хибары.
Кое-как мне удалось добраться до порога. Только тогда Мосейн обратил на меня внимание. Он и еще кто-то втащили меня в дом. Я кричала от боли, когда Мосейн стягивал сапоги с моих ног. Мужчины положили меня и Махтаб перед гудящей печью.
Прошло много, очень много минут, прежде чем я смогла пошевелиться. Я неподвижно лежала, стараясь впитать как можно больше тепла от огня.
Тепло медленно возвращало меня к жизни. Я могла уже улыбаться Махтаб. Удалось! Мы были в Турции!
Наконец я смогла сесть. Начала двигать пальцами рук и ног, чтобы восстановить кровообращение. Наградой была сильная, жгучая боль.
Приходя постепенно в себя, я осмотрелась. И снова мной овладело беспокойство. Дом был полон мужчин. Да, мы были уже в Турции, но снова сданные на милость презирающих закон контрабандистов.
Возможно, почувствовав растущий во мне страх, один из мужчин принес нам с Махтаб горячий чай. Я взяла в рот несколько кусочков сахара и цедила чай через сахар на иранский манер. Обычно я пью чай без сахара, но сейчас мне нужны были силы. Я уговорила Махтаб, чтобы она тоже подкрепилась таким образом. Помогло.
Прошел еще час, пока я наконец почувствовала, что могу подняться. Я неуверенно встала на ноги. Увидев это, Мосейн кивнул головой, пригласив нас пойти за ним. Он снова вывел нас в морозный серый рассвет.
Мы вошли в помещение, где были женщины и дети. Одни разговаривали, другие, завернутые в одеяла, спали на полу.
Когда мы появились, к нам подошла одна из женщин. Мосейн сказал мне по-персидски:
– Это моя сестра.
Он подложил дров в огонь.
– Завтра мы забираем вас в Ван, – предупредил он и ушел.
В Ване контрабандисты покидали нас. Нам уже надо будет рассчитывать только на собственные силы.
Сестра Мосейна принесла толстые пуховые одеяла и нашла для нас место на занятом уже полу возле стены и в отдалении от огня. Хибара была сырой. Мы с Махтаб прижались друг к другу под одеялами.
– Мы в Турции. Мы в Турции, – повторяла я. – Ты можешь в это поверить?
Махтаб уснула. Она была счастлива в моих объятиях, а я искала в этом доверчивом спокойном сне силы для себя. Голова по-прежнему гудела. Каждая клеточка тела болезненно пульсировала. Я была голодная как волк. Иногда я забывалась тревожным сном. Большую часть времени я провела, молясь и благодаря Бога за то, что он привел меня сюда. Я просила его о дальнейшей помощи. «Прошу тебя, Боже, будь с нами остаток дороги, – умоляла я. – Только с твоей помощью мы сможем все выдержать».
Около восьми часов утра пришел Мосейн. Он выглядел отдохнувшим после нескольких часов сна. Махтаб просыпалась медленно. Наконец вспомнила, что мы в Турции, и тотчас же вскочила, готовая отправиться дальше.
Я тоже почувствовала себя новорожденной. Мы были в Турции. Махтаб была рядом со мной. Все мое тело болело, точно было избито, но при этом пальцы рук и ног вернулись к жизни, я их ощущала. Мосейн вывел нас из дома к совершенно новому виду транспорта – с цепями на колесах. Мы забрались в кабину.
Мы ехали по узкой горной дороге, вьющейся серпантином по краю крутых обрывов. Там не было никаких балюстрад, предохраняющих от падения в пропасть. Мы все время спускались, углубляясь в территорию Турции и отдаляясь от Ирана.
Вскоре мы остановились у двора, уткнувшегося в горный склон. Мы вошли внутрь, где нас ждал завтрак, состоящий из хлеба, чая и снова острого елкого сыра. Хотя я была голодна, но съела совсем немного, выпив зато несколько стаканов очень сладкого чая.
Женщина принесла для Махтаб кружку горячего козьего молока. Махтаб попробовала и сказала, что хочет чаю.
Появилась очень толстая женщина, седая, беззубая, вся в морщинах. На вид ей можно было дать около восьмидесяти лет. Она принесла одежду для меня и Махтаб.
В бездействии снова ко мне пришло беспокойство. Я поинтересовалась, не случилось ли что-нибудь, и узнала, что Мосейн пошел в «город» за машиной. Мне также объяснили, что старая женщина, которая помогла нам одеться, это мать Мосейна. Здесь была и его жена. Это объясняло одну из загадок: Мосейн был турком, а не иранцем. А на самом деле, как я убедилась, не был ни тем, ни другим, потому что принадлежал к курдам и не признавал границы, которую мы пересекли ночью.
Возвращение Мосейна вызвало оживление. Он вручил мне небольшой пакет, завернутый в газету, и позвал нас в машину. Я быстро втолкнула пакет в сумку и поблагодарила мать Мосейна за гостеприимство, но она, к моему удивлению, забралась вслед за мной на заднее сиденье, подав знак отъезжать.
Один из контрабандистов сел за руль, а рядом с ним – молодой парень. Женщина практически закрыла Махтаб. Возможно, так все и было задумано. Мать Мосейна явно воспрянула духом за время этого бешеного спуска. Она беспрерывно курила турецкие папиросы.
У подножия горы водитель сбросил скорость. Перед нами выросло здание поста. Я обмерла. Турецкий солдат заглянул в машину. Поговорив с водителем, проверил его документы, но нас уже ни о чем не спрашивал. Мать Мосейна дохнула ему в лицо дымом папиросы. Часовой махнул рукой, разрешая нам свободный проезд.
Мы двинулись по двухполосному асфальтовому шоссе, бегущему по высокогорной равнине. Почти каждые двадцать минут мы должны были останавливаться на очередных постах. Всякий раз у меня замирало сердце, но нас без проблем пропускали дальше. Мать Мосейна чудесно прятала нас своим телом.
На одном из перекрестков парень молча вышел и направился в видневшуюся вдалеке деревню.
Я вспомнила, что в спешке не попрощалась с Мосейном и не поблагодарила его. Мне стало совестно.
И еще я вспомнила о пакете, который Мосейн вручил мне перед отъездом. Тогда я, не открывая, запихнула его в сумку. Сейчас я вынула его и развернула газету. Здесь было все: и наши паспорта, и деньги, и украшения. Были там все мои доллары; иранские риалы были обменены на толстую пачку турецких лир. Мосейн вернул все, за исключением золотой цепочки. Таким был конец нашего короткого и необычного знакомства. Я была бесконечно благодарна этому человеку за свою и Махтаб жизнь.
Мы снова остановились. Мать Мосейна прикурила следующую папиросу и вышла не простившись, а в машине остались только мы с Махтаб и водитель.
На безлюдной околице одной из деревень водитель обернулся и жестом показал нам снять национальные костюмы. Мы разделись, оставаясь только в американской одежде. Сейчас мы были американскими туристами, хотя и без соответствующих печатей в паспортах.
Я заметила, что деревни, через которые мы проезжали, становятся все более ухоженными. Вскоре мы оказались в предместье Вана.
– Аэропорт, – объясняла я водителю.
Махтаб перевела, и его лицо просветлело: он понял. Машина остановилась у бюро, окна которого были испещрены рекламами путешествий, а сам водитель вышел. Спустя минуту вернулся и с помощью Махтаб проинформировал меня, что ближайший самолет до Анкары вылетает через два дня.
Это слишком долго. Мы должны добраться до Анкары как можно быстрее, прежде чем кто-нибудь начнет нами интересоваться.
– Автобус? – спросила я с надеждой в голосе.
Он кивнул головой и, включив двигатель, помчался на автовокзал. Снова жестом показал нам оставаться на местах, а сам пошел в здание вокзала. Спустя минуту он вернулся и попросил лиры.
Я вытащила из сумочки пачку турецких денег. Он выбрал несколько банкнотов и исчез. Вскоре он уже был в машине и, широко улыбаясь, размахивал билетами до Анкары. Он разговаривал с Махтаб, с трудом подбирая персидские слова.
– Он говорит, что автобус уходит в шестнадцать часов, – объяснила она. – До Анкары доедем в полдень на следующий день.
Я посмотрела на часы. Был лишь первый час пополудни. Мне не хотелось томиться в ожидании на вокзале, поэтому я произнесла единственное слово, которое для меня и, я была уверена в этом, также для Махтаб было сейчас самым важным.
– Хаза,[15] – сказала я.
С момента, когда мы покинули опасное убежище в Тегеране, мы ели только хлеб и семечки, запивая чаем.
Водитель проводил нас в ближайший ресторан. Усадив нас за стол, он сказал:
– Тамум, тамум,[16] – и хлопнул в ладоши. Всё. Его задача была выполнена.
Мы могли только поблагодарить.
Заказывая незнакомые кушанья из меню в чужой стране, мы с Махтаб понятия не имели, что нам принесут. Мы были приятно удивлены изысканным блюдом: это был рис и цыпленок барбекью. Все это имело божественный вкус.
Мы ели медленно, наслаждаясь каждым кусочком, убивая время и возбужденно разговаривая об Америке.
Махтаб вдруг улыбнулась.
– Ой, мама, посмотри. Это тот дядя, который с нами приехал! – воскликнула она.
Оглянувшись, я увидела водителя, возвращающегося к нашему столику. Он сел и заказал еду и чай для себя. Ему явно было неловко, что он оставил нас одних до того, как мы сядем в автобус.
Покончив с едой, мы втроем пошли на вокзал. Там наш опекун нашел какого-то турка, возможно, директора вокзала, и поговорил с ним о нас. Мужчина тепло нас приветствовал. И снова хлопок в ладоши и слова:
– Тамум, тамум.
Турок пригласил нас присесть возле печки. Мальчик лет десяти подал чай. Мы продолжали ждать.
Когда стрелки часов приближались к четырем, турок подошел к нам.
– Паспорт? – спросил он.
Сердце у меня учащенно забилось. Я смотрела на него пустым взглядом, делая вид, что не понимаю.
– Паспорт! – повторил он.
Я открыла сумку и рылась внутри, пытаясь тянуть время. Мне не хотелось показывать ему наши паспорта.
И тут он остановил меня жестом. Я старалась понять, что ему было нужно. Видимо, его обязанностью было проверить, у всех ли есть документы. Он догадался, что у нас есть паспорта, и больше его ничего не интересовало. Как бы я хотела знать, что ему сказал наш водитель.
Служащий сообщил какую-то информацию, из которой я поняла только слово «Анкара». Мы с Махтаб встали и пошли за пассажирами, садящимися в современный дальнего следования автобус.
Мы нашли два свободных места. Несколько пассажиров уже сидели, и вскоре почти все места были заняты. Двигатель работал, внутри было тепло и уютно.
Двадцатичасовое путешествие до Анкары – это последний этап в цепи наших страданий. Потом будет уже безопаснее.
Вскоре мы уже были за городом, двигаясь по узкой горной дороге. Водитель часто балансировал на краю пропасти, автобус опасно наклонялся на крутых поворотах.
«О Боже, – думала я, – неужели мы преодолели столько опасностей, чтобы сейчас свалиться в бездну?»
Нервное истощение давало о себе знать. Измученное тело болело, но боль не могла отогнать сон. Я погрузилась в тяжелую дремоту.
Проснулась я среди ночи от толчка. Водитель автобуса резко нажал на тормоза, и мы какое-то время двигались по инерции, а потом машина остановилась. За окнами бушевала метель. Впереди стояли другие автобусы. Я заметила на повороте дороги огромный сугроб. Несколько автомобилей увязли в снегу, блокируя дорогу.
Вблизи находилось какое-то здание – гостиница или ресторан. Увидев, что придется долго ждать, многие пассажиры покинули салон.
Была почти полночь. Махтаб крепко спала рядом со мной, а я, точно в тумане, наблюдала этот зимний спектакль и незаметно опять заснула.
Почти рассвело, когда в очередной раз меня разбудил шум снегоочистителя. Махтаб дрожала во сне.
Наконец после шестичасового опоздания мы двинулись по заснеженной дороге.
Махтаб зашевелилась возле меня, протерла глаза, с минуту смотрела в окно, прежде чем вспомнила, где мы находимся, и задала вечный вопрос ребенка в дороге:
– Мамочка, когда мы приедем?
– Мы приедем в Анкару очень поздно, – объяснила я.
Автобус мчался с бешеной скоростью среди слепящей метели. Я стала беспокоиться. На каждом повороте обледеневшей горной дороги я была уверена, что это уже конец. Казалось невероятным, что автобус еще удерживается на колесах. Страшно глупо было бы погибнуть таким образом.
Около полудня автобус внезапно затормозил: впереди перед нами перевернулись шесть автобусов. Вокруг на снегу лежали раненые стонущие люди. Другие помогали им.
Трудно поверить, но, когда мы выбрались из пробки, наш водитель опять выжал газ до отказа. Я все время молилась, чтобы мы благополучно доехали до Анкары.
Снова сгустился мрак – вторая ночь путешествия, которое должно было уже давно закончиться. Сейчас я сама себе задавала вопрос Махтаб: когда же мы наконец доедем до Анкары?
Мы погружались в неспокойный, не приносящий облегчения сон и снова пробуждались. Тело мое превратилось в сплошную рану, оно болело при каждом движении и без него. Каждый мускул сводило от боли. Я вертелась на сиденье: любое положение казалось мне неудобным.
Был второй час ночи, когда мы наконец въехали на великолепный современный автовокзал в центре Анкары.
Была среда, 5 февраля, неделя после нашего отчаянного побега из западни, в которую загнал нас Муди. Я подумала, что вот сейчас мы уже действительно спасены.
Удобно расположившись в салоне такси, я попросила отвезти нас в гостиницу «Шератон», хотя понятия не имела, есть ли такая в Анкаре.
– На.[17]
– Гостиница «Хият».
– На.
– Хорошая гостиница, – нашлась я.
Кажется, он понял. Спустя несколько секунд он притормозил, указывая на погруженный в темноту дом.
– Амрика, – сказал он.
Остановил машину перед элегантным фасадом здания, на котором было написано по-английски «Гостиница «Анкара».
Сделав нам знак подождать, таксист вошел внутрь, через минуту вернулся с администратором, говорящим по-английски.
– Да, у нас есть свободные номера. Ваши паспорта при себе? – спросил он.
– Да.
– Входите, пожалуйста.
Я вручила таксисту щедрые чаевые. Мы с Махтаб вошли за администратором в прекрасно оборудованный холл. Там я заполнила бланки прибытия, вписав адрес родителей в Мичигане.
– Ваши паспорта, – попросил администратор.
– Пожалуйста.
Я рылась с минуту в сумке, затем решила воспользоваться советом Амаля. Подавая паспорта, я вложила в них сто пятьдесят долларов.
– Это за комнату, – сказала я.
Администратор скорее заинтересовался деньгами, а не паспортами. Он одарил меня улыбкой и вместе с гостиничным мальчиком сопровождал нас до нашего номера, – как нам показалось, самого прекрасного номера в мире. Там были две двуспальные кровати с плюшевыми покрывалами, раскладывающиеся кресла, большая современная ванная. В комнате был телевизор.
Мы с Махтаб бросились друг другу в объятия от счастья.
– Можешь ли ты поверить в это? – спрашивала я. – Почистим наконец зубы, примем ванну и… спать.
Махтаб сразу же отправилась в ванную, чтобы навсегда смыть с тела грязь Тегерана.
Вдруг раздался громкий стук в дверь. Я поняла: дело в паспортах.
Я открыла дверь и увидела администратора с нашими паспортами в руке.
– Где вам выдали эти паспорта? – спросил он строго. – Здесь нет ни виз, ни печати, позволяющей вам въезд в Турцию.
– Я согласна, – ответила я. – Но утром я все улажу. Я сразу же утром пойду в посольство.
– К сожалению, вы не можете остаться здесь. Эти паспорта недействительны. Я должен сообщить в полицию.
О Боже! Только не это! После того, что мы пережили!
– Прошу вас, – умоляла я. – Мой ребенок в ванне. Мы страшно измучены, голодны и замерзли. Разрешите нам остаться здесь только на одну ночь, а утром мы сразу же пойдем в посольство.
– Мне очень жаль, но я обязан вызвать полицию, – повторил он. – Вы должны покинуть номер.
Он держался вежливо, но не оставалось никаких сомнений в его намерениях. Хотя ему и было нас жаль, он не мог рисковать своей работой. Он ждал, пока мы собирали свой жалкий багаж, а затем сопроводил нас в холл первого этажа.
«Мы были в безопасности аж целые две минуты», – с горечью подумала я.
Спускаясь по лестнице, я снова пыталась его убедить:
– Я дам вам еще денег. Прошу вас, позвольте нам остаться здесь только на ночь.
– К сожалению, не могу. Наша обязанность сообщать полиции обо всех иностранцах, которые у нас останавливаются. Я не могу разрешить вам остаться здесь.
– Позвольте нам остаться хотя бы в холле до утра. Я не получила ответа.
И вдруг мне пришла в голову мысль!
– А вы не могли бы позвонить в посольство? Возможно, нам удастся поговорить с кем-нибудь, кто урегулирует наши проблемы?
Он согласился. Спустя минуту он уже с кем-то разговаривал, а потом подал мне трубку.
– В чем дело? – голос дежурного звучал недоверчиво.
– Мне не разрешают остаться здесь, поскольку наши паспорта не проштампованы. Нам нужно где-то остановиться. Мы не могли бы приехать к вам?
– Исключено! – отрезал он. – Сюда вы не можете приехать.
– Так что же нам делать? – простонала я в отчаянии.
Голос профессионального стража стал ледяным:
– Каким образом вы попали в Турцию без печатей в паспортах?
– Я не хочу об этом говорить по телефону, поймите меня.
– Как вы добрались до Турции? – повторил он вопрос.
– На лошади. Дежурный рассмеялся.
– Послушайте, сейчас три часа ночи. Я не настроен на шутки. Ваши проблемы не касаются посольства. Это вопрос полиции. Обратитесь туда.
– Как вы можете говорить подобное?! – кричала я. – Я уже целую неделю избегаю полиции, а вы мне советуете обратиться в полицию. Вы должны мне помочь!
– Ничего мы не должны.
В отчаянии, в шаге от свободы, я положила телефонную трубку. Я снова умоляла администратора, чтобы он разрешил нам переночевать в холле.
– Я не могу позволить вам остаться здесь, – сказал он.
Говорил он решительно, но тон его смягчился. Возможно, у него тоже есть маленькая дочурка. Его поведение подсказало мне еще один маневр:
– А вы не смогли бы заказать разговор с Америкой за счет абонента?
– Да, конечно.
Когда мы ждали связь с Банистером, администратор дал кому-то распоряжение, и спустя несколько минут нам принесли небольшой чайник чаю, стаканы и настоящие салфетки. Мы медленно пили горячий напиток, наслаждаясь минутным покоем и надеясь, что нам не придется выходить в эту морозную черную ночь.
В Анкаре была среда, а в штате Мичиган еще вторник, когда я сказала маме:
– Мы с Махтаб в Турции!
– Слава Богу! – воскликнула она.
Плача от радости, мама рассказала, что вчера вечером моя сестра Каролин позвонила в Тегеран, и Муди со злостью сообщил, что мы пропали и он не имеет понятия, что с нами случилось.
Страшась ответа, я все-таки спросила:
– Как папа?
– Держится, – услышала я. – Он даже вышел из клиники. Он здесь. Я отнесу ему телефон в постель.
– Бетти!!! – кричал папа в трубку. – Я так счастлив, что вы сбежали. Приезжайте домой как можно скорее! Я буду… крепиться, пока не увижу вас, – добавил он слабеющим голосом.
– Я знаю, папочка, что ты дождешься нас. Хотеть – значит мочь!
Трубку снова взяла мама, и я попросила, чтобы она связалась с сотрудником Департамента штата, с которым когда-то работала. Нужно, чтобы из Вашингтона кто-нибудь позвонил в посольство в Анкаре и объяснил мою ситуацию.
– Как только я приеду в посольство, я тотчас же позвоню вам, – пообещала я.
Закончив разговор, я вытерла слезы и вернулась к действительности.
– Что вы мне посоветуете? – спросила я администратора. – Я не могу среди ночи идти с ребенком на улицу.
– Лучше всего, если вы сядете в такси и поедете по гостиницам, – посоветовал он. – Возможно, где-нибудь вас примут. Старайтесь не показывать паспортов, если только в этом не будет острой необходимости.
Он вернул нам документы и мои сто пятьдесят долларов, а потом вызвал для нас такси.
Он явно не собирался сообщать в полицию. Ему просто не хотелось ввязываться в неприятности. А когда приехало такси, он сказал водителю отвезти нас в гостиницу «Дедеман».
Там администратор оказался более сговорчивым. Когда я убедила его, что на следующий день решу все формальности с паспортами, он спросил:
– Но у вас нет проблем с полицией?
– Никаких, – заверила я.
– Тогда порядок, – сказал он.
Администратор посоветовал, чтобы я зарегистрировалась под вымышленной фамилией. Я записала в карточку девичью фамилию: Бетти Ловер.
В номере мы с Махтаб приняли горячую ванну и погрузились в глубокий и благословенный сон. Утром я позвонила Амалю.
– Бетти! – воскликнул он радостно. – Где вы?
– В Исфахане! – ответила я, переполненная до краев счастьем.
Послышался удовлетворенный возглас.
– Как вы себя чувствуете? Все было хорошо? Как они относились к вам?
– Хорошо, – убежденно ответила я. – Спасибо. Тысячу раз спасибо. О Боже, я благодарна вам от всего сердца!
За завтраком мы объедались яйцами и жареным картофелем, политым кетчупом, пили апельсиновый сок и настоящий кофе.
Сразу же после завтрака мы поймали такси и поехали в посольство Соединенных Штатов. Когда я расплачивалась с таксистом, Махтаб уже визжала от радости.
– Мамочка, посмотри, посмотри! – она пальцем указывала на американский флаг, развевающийся на ветру.
Войдя, мы назвали свои фамилии сотруднице в кабине из пуленепробиваемого стекла и вручили ей наши паспорта.
Спустя минуту появился мужчина. Он представился вице-консулом Томом Марфи. Ему уже позвонили из Вашингтона.
– Мы приносим извинения за то, что произошло ночью. Я обещаю вам, что этот дежурный будет наказан. Не хотите ли вы остаться в Турции на несколько дней и познакомиться со страной?
– Спасибо, нет! – воскликнула я. – Первым же самолетом мы хотим лететь домой.
– Хорошо. Мы уладим формальности с паспортами и сегодня во второй половине дня посадим вас на самолет, – пообещал он.
Он попросил, чтобы мы подождали несколько минут в холле. Мы сели в кресла. Я увидела еще один американский флаг, который висел на вертикальной мачте в холле, и вдруг почувствовала, как мое горло сжалось.
– Махтаб, ты можешь поверить, что мы едем домой? Можешь ли ты поверить, что наконец мы едем домой?!
Мы просто помолились, поблагодарив Бога: «Спасибо тебе, Боже, спасибо!».
Пока мы ожидали, Махтаб нашла или кто-то дал ей карандаши. Она стала рисовать. В голове у меня все смешалось от переживаний и возбуждения, и я не обращала на нее внимания, пока она не показала мне свой рисунок. В верхней части листа сияло золотистое солнце на фоне четырех рядов коричневых горных вершин. На первом плане находилась лодка – воспоминание о доме в Альпене. С одной стороны она нарисовала самолет, а возможно, птицу. Черным карандашом был нарисован типичный курдийский дом, один из тех, которые мы видели по дороге. Она нарисовала даже пробоины от пуль в стенах. А в самом центре был изображен красно-бело-голубой флаг, развевающийся на ветру. И на этом полотнище четко вырисовывалось слово «АМЕРИКА».
ПОСТСКРИПТУМ
Мы с Махтаб вернулись в Мичиган 7 февраля 1986 года. Наше возвращение придало отцу сил. Некоторое время он был бодрым и жизнерадостным, но потом его победил рак. Он умер 3 августа 1986 года, спустя два года после того, как мы с Махтаб высадились в Тегеране. Нам его очень не хватает.
Мама пытается приспособиться к жизни без папы, но часто плачет. Она благодарна судьбе за то, что дочь и внучка вернулись на родину.
Джо и Джон оказались неоценимыми помощниками в устройстве нашей новой жизни. Они хорошие сыновья и уже сейчас больше мужчины, чем мальчишки.
У меня нет никаких вестей о моих приятельницах Шамси, Зари, Элис и Ферест. Никто из них не знал о моих планах побега, и я надеюсь, что ни у одной из них не было неприятностей по этому поводу. Я не могу подвергать их опасности, связываясь с ними.
Хелен Баласанян по-прежнему работает в Отделении США при посольстве Швейцарии в Тегеране, делая все возможное, чтобы помочь другим людям, оказавшимся в ситуации, подобной моей.
Я послала короткую информацию Хамиду, хозяину магазина мужской одежды в Тегеране. Его телефон помогал мне связываться с Хелен, Амалем и другими. 2 июля 1986 года я получила письмо, доставленное третьими лицами. Вот что он писал:
«Моя мужественная Бетти!
Я не сумею передать того, что ощутил, когда получил от тебя письмо. Впервые за долгое время я почувствовал удовлетворение. Я позвал жену и рассказал ей твою историю. Она тоже искренне порадовалась. Все мы были довольны, что вы уже наконец дома и хорошо себя чувствуете. Ты знаешь, я очень полюбил тебя и твою малютку, твою очаровательную спутницу М.! Я не забуду вас до конца жизни.
Около двух месяцев назад мой магазин закрыли, обвинив в продаже маек с английскими надписями, поэтому сейчас мы не работаем. Ситуация ухудшается с каждым днем. Я думаю, что вам повезло.
Передай привет М. и мое глубокое уважение твоим родителям.
Пусть хранит вас Бог!
Хамид».
Сердобольный банкир одолжил мне деньги, чтобы я могла сразу вернуть долг Амалю. В конце 1986 года он сам планировал побег, но его план не осуществился из-за спора о поставках американского оружия в Иран.
Шум вокруг американских поставок оружия был неожиданностью как для меня, так и для каждого, кто находился в Иране на протяжении нескольких последних лет. Здесь было известно раньше, что США поставляют оружие обеим воюющим сторонам: Ирану и Ираку.
Привыкнуть снова к жизни в Америке было для Махтаб немалой проблемой, но она справилась и с этим. В школе у нее одни пятерки. Она снова счастливый и улыбчивый ребенок. Иногда она тоскует о папе, но не о том ненормальном человеке, который держал нас заложницами в Иране, а о том прежнем своем отце, который любил нас обеих. Она тоскует также о своем кролике. Мы обошли все магазины с игрушками, но такого, как был у нее, найти не удалось.
После нашего возвращения в Америку я встретила Терезу Хопгуд, сотрудницу Департамента штата, которая помогала моей семье все полтора года, пока продолжалась эта драма. Она согласилась со мной, что следует рассказать о моих переживаниях, для того чтобы предостеречь других. Отдел, в котором работает Тереза, занимается судьбами женщин и детей, задержанных насильно в Иране и других мусульманских странах. У нее в картотеке сейчас более тысячи таких дел.
Мы с Махтаб должны согласиться с мыслью, что, возможно, мы никогда не освободимся от Муди, находящегося на другом конце света. Его месть может настигнуть нас каждую минуту или непосредственно, или же с помощью его многочисленных племянников. Муди хорошо знает, что заманив каким-нибудь образом Махтаб в Иран, закон этой страны будет полностью на его стороне.
Возможно, он не знает о том, что мое желание мстить так же настойчиво, как и его. В настоящее время и в Штатах, и в Иране у меня есть влиятельные друзья, которые никогда не позволят ему взять верх надо мной. Я не могу здесь сообщить подробно, какими средствами я воспользовалась. Могу сказать только то, что обе мы живем под вымышленными именами и фамилиями где-то в Америке.
О Муди я ничего не знаю, за исключением того, что мне написала Элен в письме от 14 июля 1986 года, которое она выслала моей маме:
«Дорогая Бетти!
Я надеюсь, что это письмо найдет тебя в добром здравии и счастливой. Вообще-то я рассчитывала на то, что ты первая напишешь мне. Мне казалось, что мы все-таки подруги.
Несколько раз после вашего исчезновения мы навещали твоего мужа. Я помогала ему даже разыскивать вас, потому что очень за вас беспокоилась. Я и до сих пор не знаю, что с вами случилось.
Вот уже несколько месяцев я не видела доктора Махмуди. Как-то мы заехали к нему, но его не оказалось дома. Всю зиму, даже после иранского Нового года, мы заходили к вам. Каждый раз снеговик, который вы слепили с Махтаб, становился все меньше и меньше, и однажды от него осталась лишь цикламеновая ленточка на земле. Снеговик растаял в воздухе подобно тому, как это случилось с вами…»
Примечания
1
Клеенчатые салфетки в яркие цветы.
(обратно)2
Свежий базилик, мята, молодой лук-порей.
(обратно)3
Воля Аллаха!
(обратно)4
Аллах велик.
(обратно)5
Нечистый.
(обратно)6
Садись.
(обратно)7
Слава Аллаху!
(обратно)8
Не говори.
(обратно)9
Умерла!
(обратно)10
Веселая народная музыка юга Ирана, запрещенная аятоллой Хомейни.
(обратно)11
Нет, нет.
(обратно)12
Дядюшке.
(обратно)13
Один туман равняется десяти реалам.
(обратно)14
Ипотека – залог недвижимого имущества для получения ссуды.
(обратно)15
Еда.
(обратно)16
Всё, всё.
(обратно)17
Нет.
(обратно)







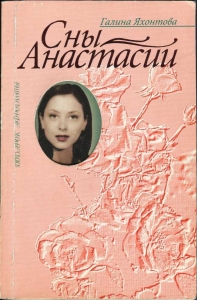
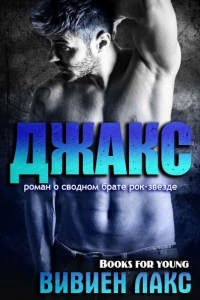
Комментарии к книге «Пленница былой любви», Бетти Махмуди
Всего 0 комментариев