Светлана ДЕМИДОВА ОЖЕРЕЛЬЕ ИЗ РАЗБИТЫХ СЕРДЕЦ
Часть I
Я волк. Нет... Конечно же, волчица. Одиночка. И это не комплекс. Мне хорошо одной. У меня вообще нет комплексов. Я полноценна. Самодостаточна. Убежденная волчица. Опять не так: надо с большой буквы – Волчица. Это мое имя или ник, как хотите. Нет, нет! Я не сижу в Сети. На Сеть (ха-ха) не подсела и не подсяду, потому что однажды чуть не вляпалась. Это было последней каплей перед тем, как я окончательно осознала себя Волчицей. История банальна до вульгарности: молодой мужчина, с которым я переписывалась, оказался моей подругой (теперь, конечно, бывшей). Она непременно хотела доказать мне, что я такая же, как все: то есть ведусь на виртуальных сладкоголосых менестрелей. Повелась, да. Было дело. Но на этом все и кончилось. Никакой Сети. Никаких менестрелей: ни виртуальных, ни тем паче реальных.
Конечно, можно было бы выбрать хищника поизящней, например, рысь или какую-нибудь пуму, но... Однажды я встретилась глазами с волчицей... Настоящей. В зоопарке. Да... Ее засунули в клетку, но она не смирилась. У нее были белые глаза. То есть... конечно, желтые, но горевшие белым огнем ненависти. Если бы волчица могла прогрызть толстую металлическую сетку клетки, она так и сделала бы. Прогрызть было нельзя. Можно было только ненавидеть двуногих тварей до белых глаз. И она ненавидела. Ее уши стояли двумя напряженными пирамидками, серо-черные бока ходили ходуном, но зубов волчица не скалила. К чему? Суетливые движения – напрасны и бесполезны.
Я тоже никогда не скалю зубов. Пока. Вокруг меня также натянута металлическая сетка, свитая из многорядной стальной проволоки. Она никому не видна, кроме меня. Я также не стану ее грызть. Может, где-нибудь подрою, если найду где и если без этого будет не обойтись. У той бедняги из зоопарка в клетке был бетонный пол – его не подкопаешь. Под моими ногами чего только нет: то земля, то песок, то асфальт, то камень, то паркетный ламинат... и всегда рядом сеть – протяни руку – пальцы встретят холодные металлические звенья. Я уже давно не протягиваю руки и смирно живу внутри. Пока. Нет, я не сумасшедшая! Не бойтесь! Не стану впаривать вам про алжирского дея, у которого под самым носом шишка. Это, пожалуйста, к Николаю Васильевичу, к Гоголю... Но иногда, как гоголевскому сумасшедшему, мне кажется, что у дней нет ни числа, ни месяца. Все они, числа, на одно лицо... Может, когда и наступит месяц Мц гдао, число... где-то так...349-е...
Сейчас я собираюсь в магазин, что, конечно, вполне объяснимо. Надо же что-то есть. Говорят, существуют какие-то солнцееды. Твари! Вместо того, чтобы молоть колбасу «Любительскую» или редиску, они жрут наше солнце! Хотя... имеют право... Солнце – оно большое... На всех хватит. Ешь – не хочу! Сама я Волчица-вегетарианка. Нет, так бывает! Я волчица не по образу питания, а по убеждениям. Меня ненавидят за то, что я не ем мясо. Я не ем его не столько из соображений здоровья, сколько из-за нелюбви. С детства. Особенно из супа. С такими... полупрозрачными прожилками хрящей... с пленками... с обломками трубчатых костей, в которых трясется желеобразный мозг... с желтым оплавленным жиром... Да и без жира тоже. Могу, конечно, съесть котлету, но без восторга. Ненавижу шинку, шейку, карбонат и иже с ними. Мне кажется, что все это сделано из особого синтетического материала. Я никогда не могу отличить шинку от шейки, а шейку от карбоната. Терпеть не могу сервелат – застывшие в тягучем коричневом не пойми что шарики жира. Все остальные это любят. И им, остальным, здорово не нравится, когда кто-то не разделяет их пристрастий.
– Ну почему мы каждый раз должны изгаляться, чтобы придумать, чем бы тебя накормить! – Это не вопрос. Это риторическое замечание, которое бросает мне очередной именинник, когда собирается угощать сослуживцев в обеденный перерыв.
Я всегда молчу, потому что уже давно сказала по этому поводу все, что только можно было сказать. Их, именинников и неименинников, злит, что я не ем продукты, вредные для здоровья, а они не могут себе в них отказать. Рассевшись вокруг двух столов, сдвинутых друг с другом посреди нашего отдела, они обязательно начинают упражняться в остроумии на мой счет. Самое умное, что я по этому поводу слышала, следующее двустишие:
Кто не курит и не пьет, Тот здоровеньким помрет.Чаще они говорят другое. Например:
– А мы себе запросто можем позволить!
– В жизни так мало радостей!
– Да съешь ты, Тонька, хотя бы маринованного огурчика! Не помрешь!
А я не люблю маринады. Никто не верит. Но дело не в этом. Я могла бы не есть это и из других соображений: например, если бы у меня был гастрит или язва, как у нашего начальника Мастоцкого. Они все равно вязались бы ко мне с маринованными огурцами, как вяжутся к нему.
– Ну-у-у... Кирилл Анатольевич... ну-у-у... съешьте кусочек! И не заметите, как проскочит!
И он ест. У него проскакивает. После каждого такого «банкета» начальник потом неделю валяется с приступом. Сослуживцам даже в голову не приходит, что это они организовали Кириллу Анатольевичу болезнь. Они ходят к нему домой с цветами, шинками, глазированными сырками, лимонами и требуют, чтобы он немедленно все принесенное съел.
Я однажды сказала Мастоцкому:
– Кирилл Анатольевич, какого черта вы идете у них на поводу?
– Я не могу противопоставить себя коллективу, – ответил мне он. – Вот вы каждый раз противопоставляете, и что из этого выходит хорошего?
– А то, что я не ем их промайонезенный салат и потом не болею.
– А что они при этом про вас думают?
– Ну что уж такого можно про меня думать из-за какого-то салата?
– Вы же еще и не пьете!
– А почему я должна пить?
– Но ведь все же пьют!
– Не все. Я не пью.
– И что из этого выходит хорошего?
В общем, сказка про белого бычка.
На месте Мастоцкого я запустила бы лимонами в любимых сотрудников, но Кирилл Анатольевич аккуратно чистит принесенные цитрусовые, режет тоненькими прозрачными кружочками и ест, не морщась, несмотря на свою повышенную кислотность.
Я ему как-то шепнула на ухо:
– Режь потолще, быстрее съешь, а мы скорее уйдем.
– Не суйся, куда не надо, – прошипел он мне в ответ.
Тут надо пояснить, что с Мастоцким мы вообще-то давно на «ты». Правда, сотрудники об этом не знают. Мы с ним учились в одной группе института. Кирилл после выпуска очень хорошо устроился в отделе стандартизации какого-то предприятия. Хорошо, потому что, как только он пришел в этот отдел, его начальник моментально собрался на пенсию. Он только и ждал какого-нибудь молодого да резвого выпускника вуза, чтобы наконец прекратить мучить свою язву лимонами и майонезом. Он передал свое дело Мастоцкому, а тот в первый же год работы заработал язву и себе, за что сотрудники его мгновенно полюбили.
Когда Кирилл окончательно сжился с коллективом, он перетянул к себе и меня. Я в то время перебирала бумажки в архиве при публичной библиотеке, куда меня временно пристроила мама. Мастоцкий очень долго наставлял меня перед первым выходом на рабочее место:
– Никто не должен знать, что мы с тобой знакомы! Я для тебя – Кирилл Анатольевич, ты для меня – Антонина Александровна! Мы с тобой на «вы»!
– А зачем? – задала я законный вопрос.
– А затем, что незачем разводить на работе семейственность!
– Кирка! Ты спятил! Какая промеж нами с тобой может быть семейственность? Мы же просто друзья!
– Вот именно! Коллектив, как узнает об этом, будет считать, что я тебе по дружбе делаю поблажки!
– А ты не делай!
– А я и не буду!
– Ну!
– Что «ну»! Они все равно будут считать, что я их тебе делаю, раз мы давно знакомы!
В общем, я согласилась на все его условия, потому что давно уже люто ненавидела свой архив. И вот с тех пор мы с Мастоцким исключительно на «вы» и очень редко выходим из образа. Ну... вот разве что тогда, с лимонами...
В общем, я отвлеклась. Мне давно пора в магазин...
На золотом крыльце сидели...
Крыльцо дома, где я живу, и не золотое, а высокое. На него ведут десять ступенек. Еще оно широкое. На нем, прижавшись спиной к стене, стоит садовая скамейка, на которой вечно сидят пенсионерки нашего дома. Каждый раз приходится проходить перед ними, как на смотринах. Они меня ненавидят, хотя я регулярно с ними здороваюсь. Ненавидят, потому что я никогда не останавливаюсь, чтобы с ними поболтать. А о чем, собственно, с ними говорить? Да и вообще, зачем? Мне скучно и жаль тратить свое время на пустые разговоры. Иногда тетки пытаются меня задержать, сделав какое-нибудь замечание, например:
– Какие у вас, Тонечка, красивые бусики!
Я сдержанно киваю и иду своей дорогой. На «Тонечку с бусиками» не покупаюсь. Я слышала, как однажды Ольга Семеновна с четвертого этажа говорила Наталье Александровне с девятого:
– Эта Тонька из сто двадцать четвертой квартиры – натуральная шлюха! Точно говорю! У нее же на морде написано! Как нацепит свои цацки – прямо смотреть противно!
О «цацках» надо сказать отдельно. Я люблю украшения. Из серебра и натуральных камней. У меня их много. Одеваюсь я преимущественно в черные брючные костюмы. Украшаю их камнями. Каждый день надеваю разные «цацки». У меня есть скромные, есть очень яркие, есть крупные, есть вызывающие. Разумеется, у теток на крыльце вызывающие украшения и вызывают ненависть ко мне. Впрочем, все мои украшения вызывают ко мне неприязнь, а иногда и зависть, абсолютно всех знакомых мне женщин.
Как украшают себя дамочки... к сорока? Как правило, штампованными золотыми комплектами: цепочка, серьги, обручальное кольцо (если замужем) и какой-нибудь (можно несколько) невыразительный перстенек с рубином, аметистом или александритом. Высшим пилотажем считается браслет – тоже непременно золотой. Все это богатство надевается абсолютно каждый день к любому платью или костюму. Никакого разнообразия. Никакой гармонии. Женщины накупают себе кучу безвкусного шмотья и не замечают того, что у меня всего два черных костюма: один спортивного типа, другой – романтического. Им кажется, что я каждый день переодеваюсь. На самом деле я только меняю украшения, а они кардинально изменяют мой имидж. Еще я люблю однотонные шарфы и платки сочных чистых цветов, без крапинок, цветочков и переливающегося ворса. Это тоже бесит всех женщин, с которыми мне приходится общаться.
– Вечно выпендрится, как на прием к английской королеве! – «слышу» я спиной, уходя с работы. Это говорит Леночка Кузовкова. На ней малиновая шелковая юбка, украшенная бархатными прошивками и шнуровкой, и розовая блузка, утыканная серебристыми пайетками. Поверх этих пайеток на ее груди располагается массивная золотая цепь. С ушей свисают тяжелые кольца, тоже из золота, а практически все пальцы унизаны перстнями с камнями, абсолютно не сочетающимися друг с другом. Если перевести все золото, которое ежедневно носит Леночка, в денежный эквивалент, то на полученную сумму можно купить пару-другую килограммов таких украшений, которые обычно ношу я. Одна ее юбка с бархатной отделкой и шнуровкой стоит в два раза больше, чем мой скромный черный костюм, но Кузовкова об этом не знает. Она меня ненавидит за то, что я не такая, как она. Не такая, как все.
Собственно, я-то знаю, что я – как все. Но ОНИ почему-то думают иначе. Они не допускают меня в свои ряды. Стоит мне войти в отдел, как все разговоры смолкают. Все поднимают на меня глаза и с ненавистью оглядывают. В их глазах явственно читается: «Ну-у-у... Что там она еще удумала? Ба-а-а... Похоже, янтарь нацепила... На работе? Вот крыса!»
Да, они думают, что не впускают меня в коллектив. На самом деле мне коллектив не нужен. Я не крыса. Я Волчица. Одиночка. На работе я, как ни странно, работаю. Болтать мне некогда. Их это тоже раздражает. Недавно у меня завис компьютер. Все попытки привести его в чувство результата не дали. Пришлось его отключить от питания. Когда включила вновь, компьютер заработал, но таблица, которую я усердно составляла два дня подряд, бесследно исчезла. Я не могла не выругаться по этому поводу вслух. Нормально выругалась. Без идиом и нецензурщины. Та же Леночка Кузовкова «посочувствовала»:
– А не надо так когти рвать! Работа не волк!
Они думают, что я рву когти, чтобы выслужиться перед начальством и потребовать повышения зарплаты. Конечно, повысить зарплату мне не помешало бы. Она у нас с Кузовковой одинаковая, только я безвылазно сижу за компьютером, а она раз десять уходит на перекур, часами распивает кофе, заедая его чипсами. Если бы я хоть пару раз перекурила с Леночкой или закусила кофе ее дурацкими чипсами, возможно, она стала бы моей подругой. Мне иногда кажется, что она именно этого и хочет: чтобы мы стали подругами. Наивная! Мне не нужны подруги. Я не курю. Ненавижу чипсы. Кофе не люблю. А работаю много не для того, чтобы меня заметили и повысили. Мне так нравится. В то, что я делаю, обычно погружаюсь с головой. Мне всегда интересно получить результат. Я всегда жду, как сойдутся концы с концами. А если не сходятся, я с азартом начинаю все сначала. Без раздражения. С интересом: почему же не сошлось? Я могу забыть про обед. Могу не забыть, но не хочу прерывать увлекший меня процесс. Сотрудники меня и за это ненавидят. Я под куполом ненависти, как волчица из зоопарка в своей железобетонной клетке. Но у меня не вздымаются бока и глаза спокойны. Мне все равно, что они все обо мне думают. Я – вещь в себе. Я Волчица, которая умеет держать себя в руках. Ха... не в лапах же...
Ну конечно... На крыльце все в сборе: и Ольга Семеновна, и Наталья Александровна, и еще пара теток. Среди них – мне незнакомая. Кажется, она недавно выменяла однокомнатную квартиру в нашем доме. Сейчас начнется: «Какие на вас бусики, Тонечка!» На мне и впрямь бусики. Бусы. Из змеевика. Такой светло-зеленый камень в черных прожилках и пятнах. Он довольно дешевый. Я часто бываю на минералогических выставках. Женщины довольно редко покупают украшения из змеевика. Он больше идет на подсвечники, шкатулки, вазы. Но мне очень нравится. Я люблю просто держать этот камень в руках. Через него в меня вливается древняя энергия земли. Считается, что каждому знаку Зодиака подходит определенный камень или несколько камней. Змеевик – не мой, но это ничего не значит. У меня с этим камнем особая связь.
Сегодня на мне как раз комплект: серьги и бусы из змеевика. Кроме того, из-под полы пиджака виднеется платок в тон камням. Если бы без платка, то еще бы ничего, но с платком...
– А вот и наша Тонечка, – сахарным голоском проговорила Ольга Семеновна. Та самая, которая считает меня шлюхой. – Она в сто двадцать четвертой квартире живет, как раз над вами.
Я невольно задержалась на крыльце и даже бросила взгляд на незнакомку.
– Очень приятно, – отозвалась она. – Меня зовут Надеждой Валентиновной.
Я буркнула в ответ что-то вроде «взаимно» и поспешила сбежать с крыльца. Не люблю врать и притворяться. Мне вовсе не было «взаимно очень приятно». Мне было никак. Мне вообще нет никакого дела до этой Надежды Валентиновны. Мне надо в магазин. Недалеко от нашего дома открыли новый супермаркет под названием «О’Кей». Меня тошнит и от «о’кей»-ев, и от супермаркетов. Чем было плохо – универсам? Конечно, слово «универсальный» тоже не наших кровей, но как-то уже обрусело...
В общем, в этом супермаркете есть все, на то он и супер. Мне все не надо. Мне надо овощей, зелени, творога, минералки и так... кое-чего по мелочи. В этом «О’Кее» мелочей завались – только покупай. Я как раз подошла к кассе со своей корзинкой, полной мелочей, когда увидела у соседней Надежду Валентиновну, которой меня только что представили. Ну и скорость у тетки! И как же она успела меня догнать и... где-то даже обогнать? Впрочем, ясно. Она выгружала на движущуюся полосу у кассы всего лишь батон и пачку молока. В общем: заскочила и – назад. Я почему-то подумала, что если бы она попросила, я могла бы захватить ей молоко и хлеб.
Из магазина мы вышли вместе. Она мне улыбнулась. Пришлось тоже скроить приветливую мину. Если бы я вовремя сориентировалась, то вышла бы через другую дверь. Ненавижу попутчиков, особенно малознакомых. Ненавижу говорить ни о чем. Вообще говорить с кем бы то ни было. Я хочу быть одна! Всегда!
– Скажите, Тонечка... – начала она, – ...а где здесь поблизости аптека?
Я обрадовалась, что тетку можно отправить в сторону от нашего дома, и махнула рукой в направлении пластиковой избушки с дурацкой надписью на боку «Будьте здоровы!». Надежда Валентиновна благодарно кивнула, но как-то вяло. Я вдруг заметила, что лицо ее стало неестественно красным.
– Вам плохо? – зачем-то спросила я. Какое мне дело до ее здоровья?
– Нет-нет... – прошептала она. – Все в порядке. Все в норме.
Она попыталась улыбнуться, но у нее не получилось. Губы скривились в такую гримасу, что хоть плачь вместе с ней. Я схватила женщину за локоть и потащила к одной из скамеек, которых видимо-невидимо понаставили вокруг супермаркета, вероятно, в надежде, что отдохнувших от блуждания в его глубинах покупателей вновь потянет за товарами.
– Быстро говорите, что купить в аптеке! – потребовала я, одновременно ругая себя за то, что ввязалась в это дело.
Женщина вытащила из кармашка пиджака уже потертый список лекарств и пятисотенную купюру. По всему было видно, что ей страшно неловко от того, что она заставляет меня беспокоиться, но все же Надежда Валентиновна ничего не сказала. Я была ей благодарна за молчание. Ненавижу, когда рассыпаются в благодарностях.
После того как она проглотила принесенные мной таблетки, запив их только что купленным молоком, Надежда Валентиновна сказала:
– Спасибо вам, Тонечка. Вы... вы идите... Не теряйте времени. Я сейчас отдышусь и тоже пойду.
– Ну уж нет, – буркнула я и плюхнулась рядом с ней на скамейку.
Несколько минут мы молчали, что мне понравилось. Она не лезла с вопросами и не оправдывалась. Сидела тихо и приходила в себя. Бросая на нее косые взгляды, я пыталась разглядеть новую знакомую. Она была неопределенного возраста. Кажется, моложе пенсионерок с нашего «золотого» крыльца, но старше меня. Или больнее... Не понять... Ей можно было дать и тридцать лет, и все пятьдесят.
– Что ж... – начала она. – Кажется, я могу идти...
– Кажется или можете? – противным голосом спросила я.
Она не обиделась. Просто сказала:
– Могу, – и поднялась со скамейки.
И мы пошли. Вместе, но как бы отдельно. Не разговаривали. Но это почему-то не было тягостно. Иногда мы встречались взглядами. Понимающими. И опять смотрели в разные стороны и думали каждый о своем.
На «золотом» крыльце никого не было. Надежда Валентиновна удивленно осмотрела пустую скамейку. Я сказала:
– По телевизору сейчас идет «Мой светлый ангел».
– А-а-а-а... – протянула новая соседка сверху.
– Вы не смотрите? – спросила я и удивилась собственному вопросу. Какое мне дело до нее и сериала про дурацкого ангела?
– Так... Иногда... Редко...
– Не любите? – зачем-то продолжала я.
– Я больше люблю читать. Но и телевизор смотрю. Иногда, знаете, бывает, что и каким-нибудь «ангелом» увлекусь. Как все...
Мне понравилось, что она не стала врать. Действительно, все мы иногда увлекаемся «ангелами» и прочей хренотенью.
Сама не пойму, каким образом я оказалась у нее в квартире. Наверное, она еще плоховато выглядела и мне хотелось убедиться, что моя помощь действительно больше не нужна.
Надежда Валентиновна предложила чаю. Я почему-то согласилась, хотя обычно отказываюсь. Не люблю бессмысленные посиделки, не ем пирогов, пирожных и даже пресловутых бутербродов. Так решила давно. Но если острую и жирную пищу, как уже говорила, я не люблю, то выпечку и сладости обожала. Раньше. Сейчас я от всего этого отвыкла. Объяснять гостеприимным людям, что, почему и как – бесполезно. Они все пропускают мимо ушей и в ответ на доводы обычно говорят что-нибудь вроде: «Ну, один-то разик можно себе позволить!» Нельзя! Ни разика! Иначе все! Все труды напрасны! Любовь к сладкому – это как алкоголизм. Можно только не есть, как не пить. Нельзя – чуть-чуть. Иначе – понесет.
Да! Я хочу хорошо выглядеть и не скрываю этого! Я склонна к полноте, особенно ниже талии, а потому, единожды решив построить себе красивое тело, следую этому неукоснительно. Это всех злит. Все пытаются меня сбить с пути. Особенно им хочется дать мне понять, что я такая же, как все, а потому все равно не выдержу и начну за обе щеки трескать сладости. Им очень хочется, чтобы я начала. Этим они смогут оправдать свою лень и слабую силу воли: «Все равно ни у кого ничего не получается, все возвращается на круги своя, так и не стоит себя истязать». Они не понимают, что я давно не истязаю. Я так живу. Это мой образ жизни. Он мне нравится, но я его никому не навязываю. А вот они свой – навязывают и ненавидят меня за то, что я не сдаюсь. Я – живой укор. Мне скоро стукнет сороковник, но я ношу одежду сорок четвертого размера. Ну... иногда сорок шестого – брюки. Я вообще не вылезаю из брюк. В крайнем случае могу надеть юбку, но обязательно удлиненную. Я вполне могу позволить себе мини, но мне такая длина не нравится. Удлиненная одежда визуально стройнит.
Надежда Валентиновна предложила мне к чаю печенье. Вместо того чтобы решительным образом отказаться, я как-то вяло сказала:
– Я печенье не ем.
Женщина не стала расспрашивать, почему да отчего. Она сосредоточилась, сморщив нос, и, все еще пребывая в задумчивости, проговорила:
– Сейчас... сейчас...
Потом открыла дверцы навесной полки, покопалась там и вытащила яркий целлофановый пакетик.
– А вот тут у меня есть сушки. Самые обыкновенные, даже без мака. Пойдет?
– Пойдет, – согласилась я, продолжая удивляться тому, что соглашаюсь. Видимо, все дело было в том, что Надежда Валентиновна поступала нестандартно. Она не собиралась заставлять меня трескать курабье, которое лежало в вазочке, хотя ела его сама. У нее не возникло ни одного вопроса, почему я грызу сушки, когда есть курабье. Впрочем, может быть, вопросы и возникали, но она их не задавала из деликатности. Нынче же деликатность не в чести. Все считают, что имеют право всюду совать свои носы.
Разговор тек на удивление свободно. Обычно я довольно скованна с незнакомыми людьми, но с Надеждой Валентиновной неожиданно для себя разговорилась. Может быть, потому, что мы не обсуждали погоду, политику, цены и сериалы. Она не сюсюкала со мной, как часто любят делать люди, старшие по возрасту, но и не заискивала, что тоже иногда бывает. Мы были на равных.
Я узнала, что Надежда Валентиновна разъехалась со взрослым сыном. Хорошую трехкомнатную квартиру они, по ее словам, не без труда разменяли на две однушки в разных районах. Мне очень хотелось спросить, не боится ли она жить одна, раз так слаба здоровьем, но постеснялась. Меня же не спрашивали про сушки. В общем, тоже проявила деликатность.
Когда я опустошила свою чашку и собралась уходить, Надежда Валентиновна задерживать меня не стала, что мне опять же понравилось. Всякие гости хороши в меру.
Дома я вдруг подумала о том, что, пожалуй, могу с ней подружиться. Так... не слишком близко. «Мы – к вам, а вы – к нам» – это не для меня. Я всегда должна держаться на некотором расстоянии. Похоже, с этой женщиной такое возможно. Она не станет ловить меня на лестнице, чтобы я скрасила ее одиночество, и не потянет с собой в супермаркет без серьезной причины.
Надо сказать, что подруг я давно не держу. Про одну сетевую мерзавку уже рассказывала. Других не имею не потому, что кто-то из них увел у меня мужчину, как, например, у Людмилы Прокофьевны из «Служебного романа». Такого не было, врать не буду. Я просто устала от подруг. Почему-то все они, мои бывшие подруги, были очень требовательны в дружбе. Я должна была часами висеть на телефоне, разговаривая ни о чем. Я должна была шляться с ними по магазинам, где они часами простаивали у каждого прилавка. А я ненавижу шопинг. Всегда иду в магазин с определенной целью и, как правило, сразу нахожу то, что мне нужно. И, опять же как правило, много дешевле того, что выходили себе подруги в многочасовом марафоне. Это их злило. Всегда. Иногда они просили помочь выбрать вещь. Я не отказывалась и, по своему обыкновению, почти в первом же бутике находила то, что сидело на той или иной подруге как влитое. Они никогда не хотели покупать сразу, хотя выбранные мной вещи нравились. Им казалось, что во-о-он в том магазинчике может оказаться что-то еще более привлекательное, а в том бутике, который за углом, – вообще умопомрачительная вещь. В конце концов, в двадцать пятом магазине, уставшие и обессиленные, они покупали первую попавшуюся дрянь за сумасшедшие деньги, а потом ненавидели меня за то, что я не настояла на своем.
А еще они мне завидовали. Тому, что я не замужем. Нет, они, конечно, делали вид, что сострадают, и без устали подыскивали «подходящие» партии по принципу: «Возьми, боже, что нам негоже». Раздражались, когда я не соглашалась даже посмотреть на объект. Ни одна из моих бывших подруг не была счастлива в браке, а потому моя свобода от всех видов супружеских обязанностей выводила их из состояния равновесия. Бесило их и то, что, не имея семьи и детей, я не выгляжу несчастной. Я не синий чулок, а элегантная дама. У них не поворачивался язык назвать меня старой девой, хотя, наверное, очень хотелось.
Я не дева. Когда хочу, у меня бывают мужчины. Но я редко хочу. Они, как и подруги, тоже чересчур требовательны. Одним нельзя звонить домой, потому что там жена, другим – нельзя и на мобильник, потому что жена и туда часто сует свой нос. Третьи, наоборот, хотят, чтобы я без конца звонила и проявляла нечеловеческую любовь к ним. Четвертые хотят секса без конца и без краю. Пятые боятся, что я потащу их под венец, ждут от меня постоянного подвоха, а потому вообще ведут себя неадекватно. Шестые желают прописаться в моей квартире. В общем, дальше, думаю, можно не продолжать. Мне никто не нужен ни под венцом, ни в квартире. Я одиночка. Волчица. А секс – такое дело, что... В общем, при определенном навыке без него можно жить, как без сладких булочек.
Чем я наполняю свой досуг? Я люблю читать. Люблю театр. Музыку. Остальное свободное время провожу в спортзале. Я занимаюсь всем, чем можно. Фитнесом – да. Обязательно. В качестве основы я выбрала себе пилатес – упражнения, растягивающие позвоночник и благотворно влияющие на суставы. Иногда хожу на силовую гимнастику, иногда – в тренажерный зал. Нечасто. Мне не нужна выпирающая из одежды мускулатура. Я всего лишь хочу быть в тонусе. А еще мне нравится йога. Нет, я не собираюсь спать на гвоздях, ходить по битому стеклу и погружаться на десять лет в анабиоз. Мне нравятся асаны – позы, каждая из которых благотворно влияет на здоровье и сознание. Йога предлагает почувствовать сияние души. Я пока его не чувствую, занимаюсь только телом, но... Я в самом начале пути... Да, мне тридцать с большим хвостом, но я в начале...
Кстати, если хотите избавиться от надоедливой приятельницы, пригласите ее ходить вместе с вами на фитнес, а еще лучше – на йогу. Она непременно скажет:
– Да-да, конечно! Как только раскидаю в стороны некоторые дела, так и пойдем. В общем, созвонимся!
После этого она исчезнет навсегда. Перестанет вам звонить и даже, завидев вас, начнет переходить на другую сторону улицы, чтобы вы опять не принялись тянуть ее на йогу. У нее и без йоги полон роток дел: сериал посмотреть, дамский роман почитать, вышить розочку на кофточке и в двадцать пятый раз на неделе вымыть в квартире пол.
* * *
Он был некрасив. Воинственно некрасив. Как-то нарочито. Очень высокий, он сильно сутулился, и его руки с огромными кистями некрасиво свисали. Голова тоже была крупной, заросшей иссиня-черным волосом, густым и непокорным. Похоже, что парикмахерскую он посещал от случая к случаю, а может быть, вообще игнорировал: считал это пустым занятием, поскольку волосы теперь уже только густились и кустились, а в длину не росли. Я не могла поверить, что Феликс – родной сын Надежды Валентиновны. Она была хрупкой, светлой и будто бы всегда в дымке: светло-пепельные тонкие волосы, глаза – такого же оттенка и матово-белая кожа в маленьких сухих морщинках. Да, я потом их разглядела. Надежде Валентиновне было пятьдесят пять. Сыну – тридцать три. Он находился в возрасте Иисуса, но как же на него не походил! Антипод. Антихрист.
Я решила, что Феликс – приемный сын Надежды Валентиновны, поскольку невозможно было даже представить, что он есть плоть от ее плоти. Потом я заметила, что он смотрит точно так же, как она: слегка исподлобья и настороженно. И так же, как она, совершенно неповторимо слегка поводит головой при разговоре. И улыбается точь-в-точь, как она.
Я стала думать, что отцом Феликса был наверняка какой-нибудь высокогорный знойный джигит. Потом узнала, что его отчество – Сергеевич. Впрочем, и Сергеи встречаются всякие. Может быть, тот Сергей был не совсем Сергеем, а, например, Серго. А может, Сержем или Серапионтом... Может, у Феликса и фамилия какая-нибудь эдакая... Хотя... Что мне до этого?
Надежда Валентиновна оказалась тяжелой гипертоничкой. Она не успевала выползти из одного криза, как впадала в другой. После того чая с сушками и неспешно-приятного разговора я почему-то посчитала себя обязанной хоть в чем-то помочь ей, печальной затворнице. Странно, право слово! Я всегда старалась жить так, чтобы никому не быть обязанной, а тут вдруг вляпалась. Но тогда я еще даже не подозревала, во что. Тогда я думала, что всего лишь слегка поступилась волчьими принципами. Да. Ради хорошего и очень больного человека. В конце концов, даже волки могут к кому-нибудь привязаться.
Как-то, еще в нежных девушках, я гостила в лесничестве, у деда одной моей тогдашней подруги, с которой нынче, разумеется, расплевалась. Так вот: к этому самому деду волки выходили из леса на тропу, чтобы поздороваться. Это он так нам говорил. Я хорошо помню одного огромного самца, как с картины Виктора Васнецова. Этот волчара запросто выдержал бы на своей спине пару откормленных Иванов-царевичей вместе с царевнами. Он выходил навстречу деду, и они долго-долго смотрели друг другу в глаза. Потом зверь опускал (!) голову и, пятясь, скрывался в кустах. Дед спокойно поворачивался к нему спиной и с выражением торжества и гордости на коричневом до обугленности морщинистом лице шел к нам, наблюдающим за ними из-за ворот лесничества.
– Дед, а ты его не боишься? – каждый раз спрашивала моя подруга.
– Если бы он только почувствовал, что я его боюсь, давно перегрыз бы мне горло, – всегда отвечал он.
Тогда его ответ мне был не очень понятен. Теперь я его прочувствовала на своей задубелой волчьей шкуре. Надежда Валентиновна меня не боялась. Та же Леночка Кузовкова и иже с ней меня побаивались, поскольку знали, что я сильней: им еще ни разу не удалось склонить меня на свою сторону и заставить делать то, чего я не хочу, и то, что мне неинтересно. Например, мне неинтересны застолья на рабочем месте по поводу праздников и дней рождений. Я высиживаю со всеми для приличия минут двадцать и ухожу в другую комнату (благо она есть в нашем отделе). Сначала все упрекали меня в неуважении, высокомерии, наплевательском отношении и... прочее. Потом привыкли. Но я их раздражаю. Еще бы! Время-то рабочее! Я – работаю, а они... Кроме того, у меня всегда чистое дыхание, и я запросто могу в любой праздничный день смело идти на прием к начальнику, а они вынуждены закрывать рот ладошкой и не без труда собирать разбегающиеся глаза в кучку.
Все они, во главе с Леночкой, сто раз подумают, прежде чем обратиться ко мне с каким-нибудь вопросом, даже по работе. С ерундой не полезут. Я не стану с ними обсуждать Галочку из соседнего отдела и нового зама – Игоря Михайловича. И не потому, что такая высоконравственная. Галочка с Игорем Михайловичем мне неинтересны. Даже если бы они задумали заниматься любовью прямо в холле нашего этажа, я и то совершенно равнодушно прошла бы мимо. Галочке – Галочково, а мне – мое. Впрочем, я очередной раз отвлеклась. Так вот: Надежда Валентиновна меня не боялась. Она не пыталась под меня подстроиться. Она не делала идиотского лица прежде, чем что-нибудь спросить. Она принимала меня такой, какова я есть, и всегда держала для меня пачку простых сушек без мака. Она ни разу не спросила, почему я не ем курабье.
Исходя из вышеизложенного, я тоже не спрашивала Надежду Валентиновну ни о чем личном. Наверно, я никогда не познакомилась бы с Феликсом, если бы у его матери было хорошее здоровье. Но оно у нее было хуже некуда. Однажды ее увезли в стационар, несмотря на то, что она, как всегда, жутко сопротивлялась. После работы я поплелась к Надежде Валентиновне в больницу, кляня себя за то, что во все ввязалась. Нельзя приближаться к человеку на расстояние ближе того, при котором отчетливо слышится слово: «Здравствуйте!» Этого слова хватает на все: оно и приветствие, и пожелание здоровья, а сказанное деловым тоном – намек на то, что здоровающемуся очень некогда и он не собирается обсуждать даже внезапно испортившуюся погоду. Хруст сушек – это уже совершенно другой звук. Это знак доверия: я у тебя ем, потому что знаю – не отравишь ни сушкой, ни словом. Это принятие на себя определенных обязательств. Ты мне – сушки с чаем, я тебе – посещение в больнице с апельсинами и бананами.
В общем, Надежда Валентиновна была очень плоха. Ее поместили в реанимацию и не взяли у меня ни апельсины, ни бананы. Послали за минералкой без газа и велели позвонить сыну.
– Я не знаю его номер, – ответила я хорошенькой медсестричке с золотыми кудельками, хулиганским образом выпроставшимися из-под голубенькой шапочки.
Девушка велела ждать ее у дверей реанимации, а сама скрылась за ними, тщательно прикрыв за собой белую створку, которая тут же прегромко щелкнула замком. Можно подумать, что я навязывалась пойти за ней. Я вовсе не хотела смотреть на Надежду Валентиновну в проводках и капельницах. Я и сыну-то звонить не хотела. И вообще, пусть они сами звонят! Кто я и кто они! Меня он знать не знает, а на звонок из реанимации мигом прискачет резвым зайцем. Я успокоилась счастливо найденному решению и даже быстренько съела банан. Чего добру пропадать. Съела бы и апельсин, но медсестра опять появилась передо мной, все так же тщательно прикрыв за собой дверь.
– Вот, – сказала она, протянув мне бланк рецепта. – Тут телефон ее сына Феликса и адрес.
– Может быть, лучше вы ему позвоните... – начала я, но девушка меня тут же перебила:
– Разумеется, мы позвонили, но он не отвечает. Вам надо съездить за ним.
Мне очень хотелось крикнуть: «С какой стати?», но ограничилась следующим замечанием:
– Раз он не отвечает, значит, его нет дома. Зачем же мне к нему ехать?
– Больная сказала, что ее сын работает на дому и часто отключает все телефоны, чтобы ему не мешали.
– Да-а-а... а-а-а... вдруг его нет дома?
– Женщина! – Медсестра посмотрела на меня с укоризной, а мне сразу не понравилось, что она назвала меня женщиной. Хотя я действительно женщина, но как-то... хотелось бы услышать в свой адрес «девушка» или по крайней мере «дама». – Ваша больная чуть жива и страшно нервничает. Ей очень нужно что-то сказать сыну, а в ее положении нервничать... ну вы понимаете... И вообще, сын должен знать, что случилось с матерью, и элементарно помочь. – Девушка скосила красиво подведенный глаз на мои фрукты и добавила: – И не этим. Ей лекарства нужны. Дорогие. У вас есть деньги на лекарства?
– Ну... рублей пятьсот у меня сейчас найдется...
– Что такое пятьсот рублей? Мизер! Тут тысячи нужны!
Я выдернула из кукольной ручки медсестры бланк с адресом, тяжело вздохнула (не ешь в другой раз чужие сушки! не ешь!) и поехала.
Несколько раз я пыталась звонить по нацарапанному на бланке рецепта номеру телефона, но безрезультатно. Сына Надежды Валентиновны либо не было дома, либо он действительно его отключал. А что, если он отключал и звонок входной двери? Вот интересно, чем он там занимался, отрубив себе все коммуникации?
Феликс был дома и довольно быстро распахнул дверь на мой звонок. Вот тогда-то я и ужаснулась его звероподобному виду. Ужаснулась и даже отшатнулась, молча разглядывая огромного, практически снежного человека.
– Что надо? – вынужден был спросить он. Его голос оказался очень низким, но красивым.
– Понимаете... – залепетала я. – Ваша мама... Надежда Валентиновна... она в больнице... в реанимации...
Снежный человек, схватив меня за плечо своей огромной лапищей, мгновенно втащил в квартиру, припечатал к стене крохотной прихожей и шаляпинским басом прогудел:
– Так! Все сначала, подробно и без эмоций!
После выяснения подробностей он меня, как былинку, переместил на кухню, буркнув:
– Щас! Переоденусь... Жди!
Я подумала, что переодеваться ему необязательно. Кинг-Конг, как ни наряжай, все останется Кинг-Конгом. Оглядевшись на кухне, такой же маленькой, как прихожая, я поняла, что нога женщины здесь давно не ступала. А может быть, не ступала никогда. Впрочем, оно и понятно. Какая женщина захочет быть раздавленной меж жерновов его ладоней? В кинг-конговской кухне не было особой грязи или развала. Все вроде бы стояло на своих местах, но уюта не было. Создавалось такое впечатление, что сюда забегают только наспех перекусить и никогда не задерживаются долее. Никелированный чайник, стоящий на плите, был не грязным, а каким-то мутным, будто подернутым тонкой паутиной. Электрический, который стоял на столе, казался пересохшим колодцем. Видимо, хозяин его не жаловал. Плафон оранжевого светильника под потолком неравномерно выцвел: со стороны окна был почти белым. А занавески... Впрочем, Феликс не дал мне рассмотреть занавески. Он, облаченный в узкие черные джинсы и коричневый мягкий джемпер, появился на кухне. У меня упало сердце. Его глаза были в тон джемпера: карие и... мягкие. А ведь он не так уж и...
– Поехали! – оборвал мои размышления сын Надежды Валентиновны.
Мне бы сказать ему адрес, да пусть катит в больницу сам, но я почему-то безропотно затолкалась в его очень большую машину. Видимо, иномарку. Я в автомобилях не очень-то разбираюсь, но, судя по высоким колесам, это был какой-то внедорожник. Еще бы! В другие машины Снежному человеку не поместиться. Даже в просторном салоне этого автомобиля высоко задранные колени, как мне показалось, мешали ему рулить. Я намеренно не села на переднее сиденье. Расположилась на заднем и рассматривала (стараясь делать это как можно незаметнее) удивительного человека, с которым свела меня судьба. Нет, он уже не казался мне некрасивым. Первое впечатление часто обманчиво. Но и красавцем он тоже не был. Более оригинальной внешности я в своей жизни еще не видела. Его лицо... оно постоянно менялось, как бы балансируя на грани между уродством и красотой. Это была дьявольская смесь Квазимодо с микеланджеловским Давидом. Губы его оказались пухлыми и чувственными, нос – прямым и породистым, но подбородок был слишком тяжел, лоб – чересчур нависал над глазами. И эта копна давно не стриженных волос, и излишняя сутулость...
– Кончай на меня пялиться! – неожиданно потребовал он и ожег меня быстрым взглядом своих темно-карих, чуть удлиненных к вискам глаз.
Я, застигнутая на месте преступления, вздрогнула и спросила первое, что пришло в голову:
– А вы всем «тыкаете»?
– Нет, тем, кто на меня пялится.
– А другого слова, кроме «пялиться», вы не знаете? Я, например, просто вас рассматривала.
– Ну и чего высмотрела?
Что мне было ему ответить? Во мне вдруг проснулась волчица. Нет... Волчица – вот так! Какого черта я должна сидеть в его машине подбитой птицей? Он должен быть мне благодарен. А я ему ничего не должна. А раз задает вопросы, пусть получит правду в ответ:
– У вас необычная внешность, вот я и смотрю.
– Ну и?
– Что бы вам хотелось от меня услышать?
– Правду, разумеется.
– А до сих пор вы ее ни разу не слышали?
Он с силой нажал на тормоз. Нас чуть не вынесло на тротуар, а я пребольно ударилась лбом о переднее сиденье.
– Какого черта? – пискнула я, кривясь и потирая лоб. – Гибэдэдэшников на вас нет!
– То, что я уже слышал, тебя не касается. У тебя ведь на все свое собственное мнение, не так ли?
Я видела, что Феликс разозлился. Ноздри его нервно подергивались. Мне казалось: еще немного – и он двумя пальцами переломит мне шею. Видимо, нескромные взгляды и разговоры о внешности достали этого человека уже не на шутку.
– Слушайте, а не оставить ли нам эту тему на потом? – предложила я. – Все-таки у вас мать в реанимации...
– Мы сейчас туда непременно двинем, но ты... – Он смерил меня диким взглядом. – Прямо сейчас скажешь, что я – урод, чтобы больше уже к этому не возвращаться и не играть в идиотские гляделки.
Я вдруг рассмеялась и, почему-то тоже перейдя на «ты», весело спросила:
– Хочешь правду, значит?
– Твою правду...
– Да пожалуйста! Я и сама не пойму: уродлив ты или красив. Сумасшедшая помесь! Потому и глаз не оторвать!
Феликс куснул свою нижнюю губу, потом резким движением перебросил через сиденья ручищи, сграбастал меня за плечи и вытащил, как репку из грядки. Я странным образом зависла посреди салона, а мои глаза оказались прямо напротив его, яростно-карих. Он мог бы меня заглотить целиком, но поцеловал в губы. Честное слово, после этого мне страшно захотелось быть им проглоченной... нет... им испробованной... изведанной... исцелованной вусмерть... И мы уже оба знали, что так оно и будет.
Нет смысла описывать, как мы занимались делами его матери. Мы должны были сделать все быстро не только потому, что Надежда Валентиновна уже балансировала между жизнью и смертью, а еще потому, что нам не терпелось остаться вдвоем. После того, как в отделение реанимации были переданы все необходимые лекарства, Феликс побеседовал с главврачом и вышел ко мне, дожидающейся его в холле на желтом кожаном диванчике. Он сел рядом и в бессилии откинул голову на спинку.
– Что?! – испуганно спросила его я.
– Ничего хорошего, – ответил он в потолок. – Пятьдесят на пятьдесят.
– Но... она же еще не старая... Всего пятьдесят пять...
– Поэтому к ее пятидесяти пяти и дают еще пятьдесят... – невесело пошутил он. – На то, чтобы выкарабкаться...
– Что-то нужно сделать еще?
– Нет. Надо смирно ждать.
– Надеюсь, не здесь?
Феликс вернул голову в нормальное положение, с интересом посмотрел на меня и спросил:
– А ты где собираешься ждать?
– Ждать – это твоя задача. А я... – Я ткнула себя пальцем в грудь, – ...твоей матери никто, всего лишь соседка.
Своей огромной ручищей он повернул к себе мое лицо и сказал:
– Врешь... Ты теперь... моя женщина...
Если бы по коридору не сновали медицинские работники и родственники больных, мы слились бы в объятиях. Но даже презирающие всяческие условности Волчицы не готовы делать это прилюдно. Я вывернула подбородок из его жестких пальцев, поднялась с дивана и сказала:
– Ты заблуждаешься на предмет своего и чужого. Я не твоя и никогда ею не буду. Я – сама по себе! Запомни это! Но сегодня я готова поехать... к тебе...
– А почему не к тебе? – в свою очередь спросил Феликс.
– К тебе или никуда! – отрезала я.
Он почему-то задумался. Потом потер пальцами виски и сказал:
– В общем, так: если ты действительно не против... меня... то сейчас я завезу тебя домой... ну... в твою собственную квартиру, потом ненадолго съезжу... по делам и вернусь за тобой... часа через полтора... Устроит такой вариант?
Меня не устраивал. Еще не хватало, чтобы эдакая заметная машина с таким выразительным водителем подкатила к нашему «золотому» крыльцу. Утонешь в сплетнях и домыслах.
– Не устраивает, – сказала я. – Ровно через полтора часа я буду на станции метро «Горьковская». Жду тебя минут пятнадцать, не более. Не уложишься – гуд-бай, беби!
– Йес, босс! – в тон мне ответил он, поднялся с дивана и пошел к выходу, нисколько не сомневаясь, что я спешу за ним следом. Я не спешила. Я продолжала сидеть на диванчике.
Феликс, вынужденный вернуться с лестницы, картинно встал в дверях, не оставив щелей между косяками. На лице застыло выражение: «Какого черта?» Я неспешно поднялась с насиженного места, подошла к нему и сказала:
– С этих пор ты будешь мармеладно-галантен... или... пошел сам к черту!
Феликс усмехнулся, губы разъехались в улыбке, и он стал красив. Честное слово! У меня чуть не подкосились ноги от этой его невероятной мужской привлекательности. Он отошел от косяка, дал мне пройти, на лестнице опять протиснулся вперед и сказал:
– Моя маменька учила меня, что на лестнице мармеладно-галантные мужики должны идти чуть впереди дамы, чтобы страховать на случай... если вдруг что. Не возражаешь?
Я не возражала. На выходе он открыл мне дверь и пропустил вперед себя. Потом довел меня до остановки троллейбуса, поскольку я отказалась садиться в его огромный автомобиль.
Мне надо было привести себя в порядок. Нет, конечно, я всегда в порядке, но сегодня мне явно предстоят сексуальные утехи, а к этому надо подготовиться более тщательно.
Дома, стоя под душем, я размышляла о том, не поторопилась ли согласиться на свидание. Может быть, стоило помучить Феликса, который на меня явно запал? Хотя... Волчицам это не пристало. Волчицы сами выбирают себе самца... Так мне кажется... Мне хочется, чтобы так было... И времени зря не теряют. Вряд ли у волков долгие брачные игры. Не глухари, поди, не павлины и не австралийские птички, самцы которых для своих возлюбленных строят бессмысленные арки из перышек, веточек и бумажек. Нам с Кинг-Конгом этого не надо. Мы чуть не вспыхнули факелами от одного-единственного поцелуя, так к чему теперь долгие ухаживания?
Я вышла из дома без бус и в очень скромных серьгах, которые почти скрывались за волосами. Тетки с «золотого» крыльца отвесили челюсти. Я без бус – это все равно что голая. Ольга Семеновна с четвертого этажа нервно булькнула горлом, а Наталья Александровна с девятого прикрыла свои бледные губки аж двумя ладошками сразу. Представляю, сколько я дала пищи для разговоров, пройдя перед ними в обычном черном костюме, не расцвеченном ни камнями, ни шарфиками. Как только я скрылась за углом, Ольга Семеновна наверняка обрадовалась:
– Ага!!! Ты все пела – это дело, так поди же попляши!
А Наталья Александровна, конечно же, высказала предположение, что мне наконец запретили выряжаться на работе, чего ей давно хотелось посоветовать моему шефу.
Но мне плевать на всех. Я не надела бусы и крупные серьги, чтобы не снимать их. Я сегодня должна быть раздета. И бижутерия в данном случае будет неуместна, даже самая элитная.
* * *
Когда я вышла из метро, Феликс уже ждал меня с царственным букетом бело-розовых лилий в руках и конфетной коробкой под мышкой. Я, усмехаясь, подошла к нему. Он протянул мне цветы и конфеты и сказал, улыбаясь своей потрясающей улыбкой:
– Вот! Это самое мармеладно-галантное, что я только смог найти.
Я опустила глаза на крышку конфетной коробки. На красном фоне были изображены разноцветные, обсыпанные сахаром мармеладины. Колокольцы лилий пахли сладко и пряно, как старые бабушкины духи. Карие глаза Феликса уже не были яростны. Они, две плавленые шоколадины, обещали наслаждение, такое же пряное, как запах цветов.
Комната сына Надежды Валентиновны была безлика настолько, насколько неинтересна комната любого холостяка: невыразительная мебельная стенка, шторы, совершенно негармонирующие с обивкой дивана, уродливый, бочонком, светильник под потолком и компьютерный уголок. Обычно компьютерные столы мужчин завалены всякой дрянью: дисками в коробочках, дисками без коробочек, раскуроченными дискетами, журналами, буклетами, отжившими свой век мышками с препарированным нутром, сломанными наушниками, а еще отвертками и чуть ли не разводными ключами.
Компьютерный стол Феликса был девственно чист. Кроме самого компьютера, на нем не было абсолютно ничего. Книжные полки над столом тоже были до странного пусты. На одной жалась к стене жидкая кучка журналов, на второй были довольно красиво и... редко расставлены толстые компьютерные справочники.
Честно говоря, я даже не знаю, почему обратила внимание на эти полки. На самом деле мне не было до них никакого дела. Я же не собиралась селиться рядом с ними. Я всего лишь хотела еще раз отведать мягких губ Феликса, ну... и всего остального...
Сын Надежды Валентиновны, очевидно, тоже побывал в душе. От него приятно пахло чем-то мятным с горькой нотой непонятного происхождения. То есть я не знала, что еще было добавлено в косметическое средство, которым он умастил свое тело, но эта горечь так щекотала мне ноздри, что я начала раздеваться первой. А он стоял и смотрел. Я не стеснялась. Волчицы не стесняются своих чувств и желаний. А вот Феликс явно комплексовал. Он расстегивал и застегивал воротничок рубашки, кусая свои выразительные губы. Он опять был почти красив. Нет, не почти... Он был огромен, но хорош... Колосс... Меньше, конечно, той копии Давида, которая стоит в Пушкинском музее стольного града под названием Москва, но крупнее всех мужчин, которые были у меня до него.
Впрочем, мне очень хотелось посмотреть, насколько он похож на Давида. И я подошла к нему и сама взялась за пуговицы его рубашки. Феликс не дал мне ничего сделать. Он обхватил меня за талию своими огромными ручищами и приподнял так, что наши глаза опять оказались на одном уровне. Шоколад его глаз медленно закипал. Мне казалось, что их коричневая радужка начинает медленно вращаться и пузыриться, будто шоколадная масса, разогреваемая на водяной бане. И меня начало затягивать в этот горячий омут. Где обжигающие глаза... где запекшиеся губы... где я... где Феликс... Фе-ликс... Фе-никс... Каждый раз сгорающий и восстающий из пепла... И я сгорала... факелом, превращаясь в черное ноздреватое нечто: тронь – рассыплется... И рассыпалась, и восставала, чтобы опять тонуть в горячем шоколаде, опять вспыхивать, искря и распадаясь на миллиарды медленно потухающих частиц, чтобы потом начать все сначала...
«...я делаю тебе больно...» – «...нет... мне хорошо...»
«...ты Снежный человек...» – «...я всего лишь сын женщины...»
«...ты Дюймовочка...» – «...нет... я Волчица...»
«...чушь... волчицы пахнут псиной... ты пахнешь... водой... свежей и чистой... самый живительный запах... ты То-ня... ты – самое ТО...»
«... и ты – ТО... никогда еще не было настолько ТО...»
В общем, я влюбилась... Волчица неожиданно нашла своего волка. Кстати сказать, я как-то читала, что у волков очень крепкие пары. Часто на всю жизнь. Неужели и у меня на всю? Мне бы так хотелось...
Волчицей я все равно останусь для всех остальных. С появлением в моей жизни Феликса мне еще более, чем когда-либо, стал неинтересен социум. У меня теперь было все, что нужно для полной гармонии: мой внутренний мир, мои привычки и пристрастия, мои правила и установки на здоровый образ жизни. Не все из них Феликс одобрял, но ни в чем не пытался меня разубедить или переориентировать. Он был сыном своей матери. Он, как и она, принимал меня такой, какова я была. Покупал... нет, не сушки... хрустящие хлебцы упаковками... Никогда не предлагал съесть пирожное или курабье, которое любил так же, как Надежда Валентиновна. А она... Впрочем, о ней чуть позже.
И должна признаться, что с Феликсом я была совершенно незащищена. Открыта. Распахнута. Сначала я считала себя влюбленной, потом поняла, что люблю. Волчицы не скрывают своих чувств, и я сказала ему первой:
– Я люблю тебя, Феликс.
Он долго и пристально смотрел на меня своими закипающими глазами, а потом попросил повторить. Я повторила. Я могла бы повторять это всю ночь, а потом день и снова ночь... Каждая клеточка моего тела любила его... одного... и никогда... никого... другого – так...
Феликс не ответил мне, но мне тогда и не надо было слов, когда он и без них весь – мой... У меня же есть глаза... чутье... всяческие рецепторы, улавливающие малейшие колебания и изменения на атомарном уровне... и даже на уровне флюид и эманаций... Этот человек... он такой огромный, а я, как... цветок в его руках... Орхидея с бесстыдно вывернутым напоказ влажным сладким нутром... Я вся для него... Всегда буду для него... Для всех – Волчица, для него – истекающая медовым нектаром Орхидея...
Все это вовсе не означало, что я переехала к нему жить под те полки с красиво расставленными компьютерными справочниками. Нет, я неизменно возвращалась домой. Он отвозил меня на своей огромной машине. У меня не было желания выйти за него замуж. Волки не сочетаются браком в загсах и не венчаются в церквях. Конечно, они живут в одном логове, но мы ведь не обычные волки... Словом, меня все устраивало. Я любила Феликса и одновременно любила свой дом, который был устроен так, как мне этого хотелось. Феликс не селился в нем, а значит, не разбрасывал по квартире своих вещей, не переставлял с мест мои любимые штучки, не забрасывал газетами мои бусы и браслеты, не мочил пол в ванной, не усыпал в кухне крошками пол и не балдел перед телевизором, транслирующим футбольный матч. Я в ответ не нарушала стиля его жилища. Нам обоим это нравилось. Мы были так поглощены друг другом, нам было настолько хорошо вместе, что не приходило в голову как-то изменить положение. Как там говорят: лучшее – враг хорошего. Вот мы и не стремились ничего менять.
* * *
А Надежда Валентиновна выкарабкалась. Да! Феликсовыми неусыпными заботами. Он больше не позволил мне к ней ходить. Сказал, что нанял специального человека для ухода за матерью. Я и не ходила, раз попросил. Я никогда не делаю того, чего человек не жаждет от меня получить.
Когда он перевез мать из больницы домой, я поначалу пыталась навещать ее, чтобы хоть как-то помочь. Я воспринимала ее как часть Феликса... нет... наоборот: его как часть ее... или не так... в общем, я запуталась... Эта женщина стала дорога мне как мать возлюбленного. Но возле нее постоянно терлась сиделка, и я была явно лишней. Кроме того, в глазах Надежды Валентиновны, устремленных на меня, я с каждым днем все явственней читала странное неудовольствие. Сначала она прятала его от меня, потом уже прятать не смогла.
– Ты любишь моего сына? – как-то спросила она.
– Люблю. – Я не могла ответить по-другому. Да и чего скрывать, если я была переполнена этой любовью.
– Феликс приносит женщинам несчастье.
– Ерунда, – со счастливым лицом отмахнулась я. – Просто у него еще никогда не было такой женщины, как я.
Надежда Валентиновна посмотрела на меня то ли с жалостью, то ли с сомнением. Я тут же поспешила эти ее сомнения развеять:
– Он тоже любит меня.
– Это он тебе сказал?
– Это я чувствую...
– Чувствуешь?
– Я ТОЧНО ЗНАЮ ЭТО! – Да, я проговорила это так, будто писала заглавными буквами, потому что была уверена в Феликсе, как в себе.
Следующим вечером я случайно услышала конец разговора, который произошел между Надеждой Валентиновной и сыном. Он был странным. Я сначала слегка насторожилась, а потом опять отпустила себя на волю. Я люблю Феликса. Моя любовь запросто снесет все преграды, если они есть. Я в этой своей любви настолько сильна и могущественна, что в состоянии переделать мир, а не то что отдельно взятого человека! Впрочем, я не собираюсь переделывать Феликса. Он мне нравится именно таким, каков есть.
– Ты взялся за Антонину? – с непонятной мне интонацией спросила сына Надежда Валентиновна.
– У нас с ней все хорошо, – прогудел в ответ Феликс.
– Но ведь все будет так, как всегда?
– Нет... не уверен... – действительно неуверенно ответил он.
– Зато я уверена!
– Позволь мне самому решать... Это моя жизнь!
Как же мне понравился восклицательный знак в конце предложения, который я явственно услышала. Конечно же, мать, одинокая женщина, ревнует сына к его возлюбленным. Это нормально, и понятно, почему она смотрит на меня с неприязнью.
– А что будет, если она... скажем так, узнает о твоей... нестандартной профессии? – В голосе Надежды Валентиновны слышалась нескрываемая ирония, и мне вдруг открылось, что мать с сыном не так уж и любят друг друга, как мне казалось до этого. А мать Феликса между тем продолжила: – С ней может случиться нервный срыв!
– Хорош! – рявкнул сын.
В ответ и прозвучала странная фраза, сказанная твердым голосом женщины, которую я считала нежным, чуть увядшим цветком:
– Я ни за что не выйду из игры, понял!
– Тут не до игр! Тоня... она – другая...
– И в чем же?
– Она называет себя Волчицей.
– Отлично... Это может стать новым направлением...
На этом «направлении» я решила войти в комнату. Да, Надежда Валентиновна сказала нечто странное, но я все равно ничего не боюсь! В особенности – «нестандартных профессий». Мне нет дела до профессии Феликса. Я никогда этим не интересовалась. Мне не нужны дивиденды с его трудов. Мой приятель и одновременно начальник Кирилл Мастоцкий мне всегда хорошо платил. Я сама обеспечивала свою жизнь. Предыдущие женщины Феликса меня не интересовали. И у меня было полно мужчин. Некоторых я бросила сама, другие, как и женщины сына Надежды Валентиновны, не смогли вынести меня. С ними тоже происходило что-то вроде нервного срыва. Нелегко сосуществовать с Волчицей. У Феликса получалось. У нас с ним все получалось в лучшем виде. Я никогда в жизни не была так счастлива, как сейчас.
Конечно, через несколько дней я все-таки спросила его о работе. Так... Из чисто спортивного интереса. Мне хотелось знать, чем его профессия так сильно не угодила матери и тем дурным женщинам, которые из-за нее смогли отказаться от Феликса.
– Я работаю дома на компьютере, – ответил он.
Я никогда не видела его компьютер включенным, а потому спросила:
– У тебя разовые заказы?
– Что-то вроде этого. Я работаю по договорам.
– Работы немного?
– А почему ты об этом спрашиваешь? – удивился он.
Я сказала про вечно выключенный компьютер. Он рассмеялся.
– А чего его зря включать? У него вентилятор, собака, гудит, как три пылесоса. Все никак не могу сменить. Когда ты у меня в гостях, этот звук – лишний. А работа у меня такая, что... в общем, то пусто, то густо... Погоди, ты еще здорово огорчишься, когда я его включу.
– Почему?
– Это будет означать «густой» период. Мне тогда, уж прости, будет не до тебя...
После этих его слов я окончательно успокоилась. Дурам, которыми, безусловно, являлись его предыдущие бабенции, конечно же, хотелось, чтобы Феликс целиком и полностью принадлежал им. А у него, значит, бывают периоды, когда он по горло завален работой и ему не до женщин. О! Я сумею это перенести, потому что отлично понимаю состояние полной поглощенности делом. Когда я пишу для Мастоцкого отчеты о проделанной работе, даже есть не хочу. Впрочем, я уже, кажется, это говорила... А Феликс был прав, когда заявил матери, что Тоня, то есть я, – другая и интереснее всех его бывших. Да! Это так! Я другая! Я Волчица. А Волчица непременно дождется своего Волка с охоты!
* * *
Вскоре началось ЭТО. То есть сначала я, конечно, даже не подозревала, что началось. Все шло своим чередом. Как всегда. Я любила и была, как мне казалось, любима взаимно. А однажды на мой электронный адрес пришло странное письмо. Вот его содержание:
«Раз вы читаете эти строки, значит, я все-таки решилась. Программа должна отослать вам письмо после того, как с момента моих похорон пройдут положенные сорок дней. То есть, если в течение сорока дней никто не пошлет с моего ящика ни одного письма, тогда вы получите его – мое последнее. Я все рассчитала. Очень странно писать о собственных похоронах и сороковинах. Будто не о себе. Будто о ком-то другом, незнакомом, а я еще буду жить долго-долго... Нет, не буду. Не хочу. Незачем. Не для кого. То есть вообще: НЕ ДЛЯ КОГО и НЕЗАЧЕМ. Боюсь, что с вами случится то же самое. Я видела вас вместе с ним. С НИМ! Он чудовище! ЧУДОВИЩЕ! Впрочем, я злоупотребляю большими буквами. Их величина ничего не сможет вам объяснить. Мне ничего не стоило определить ваш электронный адрес. Я программист... Программистка... Хорошая программистка. Можно уже написать – бывшая... да... Практически, хакер... бывший... Когда я... Впрочем, вы не сможете сделать то, что смогла я, зато можете не поддаваться этому человеку. С вашего знакомства прошло всего пара месяцев. Не будете же вы утверждать, что успели за это время влюбиться насмерть. Хотя... смерть ходит за этим человеком по пятам. Или нет... Он водит ее с собой за ручку. Она его сообщница. Впрочем... Да, опять „впрочем“... Этим словом я тоже злоупотребляю. Я вообще всем злоупотребляю. Жизнью злоупотребляла. Любовью злоупотребляла. Доверием злоупотребляла. И с чем осталась? Ни с чем. А вы... Вы прочтете мою жизнь от корки до корки. Только бы не было слишком поздно. Для вас.
Что-то я расписалась. Тяну время? Пожалуй... Все! Прощайте! Желаю вам лучшей участи! Очнитесь, Антонина!»
Я посчитала бы, что письмо пришло в мой ящик по ошибке, если бы не имя. Конечно, можно предположить, что письмо было написано другой Антонине, но вы поищите-ка другую Антонину моложе шестидесяти лет. Нынче это имя не в почете. Меня назвали в честь прабабушки, замечательной красавицы, в надежде на то, что из меня со временем вырастет нечто подобное. Не развилось. Прабабушка сама по себе, я – сама по себе. Ничем на нее не похожа. Она – волоокая брюнетка с запредельным взглядом и небрежными прядками, выбивающимися из волнистой прически в стиле звезды немого кино Веры Холодной. Я приземленная шатенка с геометрической стрижкой и замороженным взглядом.
Итак: Антонина – это все-таки я. Он – это Феликс, потому что другого «его» у меня не было уже около года. У меня нет привычки нырять из постели в постель. С того времени, когда я окончательно сказала Мастоцкому «нет», прошло... да-да... около года: одиннадцать месяцев. Вот так! Да! Мой начальник периодически приударяет за мной. Мы с ним со студенческих времен сто раз сходились, расходились... В последний раз разошлись, поскольку мне не нравилось, что Кирилл не хотел афишировать наши отношения в отделе, обращался ко мне исключительно на «вы» и постоянно требовал не противопоставлять себя коллективу. Он даже пытался выставлять мне условия: если я... то он... В конце концов я послала его подальше. На что мне такой муж, который станет вечно извиняться за меня перед коллективом? Да и вообще: замуж, как я уже говорила, меня никогда не тянуло.
Я довольно долго раздумывала над всем этим из тех соображений, чтобы подольше не возвращаться мыслями к электронному письму. Но Мастоцкий был настолько обыкновенным среднестатистическим мужчиной, что долго думать о нем не получалось. Волей-неволей пришлось перевести взгляд на монитор, на котором так и висело это письмо.
Можно, конечно, распечатать его, сунуть под нос Феликсу и спросить: «Что ты на это скажешь?» Я на его месте не сказала бы ничего, а вдобавок покрутила бы пальцем у виска. Еще бы! Где доказательства того, что речь идет именно о нем? А может, о Мастоцком? Нет! Я ведь знаю, что не о нем! Кирилл если уж и станет водить кого-нибудь за собой за ручку, то точно не смерть. В крайнем случае мою бывшую подругу Маринку. И задворками, чтобы женщины вверенного ему отдела не увидели, а то мало ли что. Маринка каждый раз прыгает к Кирке на шею, когда я для нее эту шею освобождаю. Впрочем, Мастоцкого я освободила навсегда.
Хотя, я бодрюсь... Черт! Черт! Черт! Я начала употреблять любимое слово этой сумасшедшей хакерши! Зачем она прислала мне то, что прислала? Что она имела в виду? Все чушь! Наговор! Они разошлись с Феликсом, и она не смогла его забыть. Да... Его трудно забыть... Я, пожалуй, тоже не смогу... А, собственно, почему я должна забывать? У нас все хорошо! Хорошо! А если он кого-то разлюбил, то это не повод вешать на него всех собак. Я вот тоже бросила Мастоцкого, но ему не приходит в голову рассылать по Питеру идиотские письма. Этой хакерше надо срочно обратиться к психиатру. Впрочем... Черт возьми, как это слово заразительно! Она не сможет обратиться ни к какому врачу, потому что уже прошло сорок дней после ее... смерти... Нет! Нет и нет! Те, кто по-настоящему хотят свести счеты с жизнью, никогда не трезвонят об этом. Они, наоборот, делают вид, что радуются жизни, чтобы усыпить бдительность друзей и родных, и только тогда... по-тихому... А эта... хакерша – напоказ! Наверняка она жива и здорова! А как же письмо через сорок дней? Ерунда! Она просто забыла о нем и... например, уехала в отпуск, а программа – взяла да и отослала письмо через сорок дней, как ей было велено. Хотя... у кого в нашей стране отпуск в сорок дней? Ну... например, у учителей... летом... Но сейчас... осень... разгар, так сказать, учебного года... Ну и что! Программа могла дать сбой и вообще... Все это может быть дурным компьютерным приколом! Розыгрышем! Дрянной рассылкой с единственной целью – пощекотать нервы получателям! Это спам!!! Но как же тогда мое имя – Антонина... Все, я пошла по второму кругу...
Отдышавшись, я взглянула на адрес отправителя. Какая-то Elis... Еще бы! Не Антонина же и не Варвара будет рассылать такие письма. Или Elis – это в том смысле, что – Лиза... Та, которая бедная... Хотя, может быть, этой особе просто нравилось звучное импортное имя. А что? Сейчас куда ни глянь везде такие названия, что только диву даешься! Вот, например, в Питере есть кафе под названием «Мутный глаз». Вы пошли бы ужинать в «Мутный глаз»?
А что, если черкнуть этой Elis ответ? Может быть, она отзовется, извинится, объяснит, что письмо – есть недоразумение, что в Интернете болтаются еще и не такие маразматические послания и что не стоит все принимать на веру и переживать. Может быть, мы еще подружимся с этой Elis? Стоп! Стоп! Стоп! Волчицам не нужны друзья и подруги! Не стоит поступаться принципами ради... Ради кого? Ради Феликса я поступлюсь чем угодно!
Я кликнула мышкой в окошке для ответа и выдала следующий текст:
«Привет, Elis, дорогая моя Лизавета! Надеюсь, что у тебя все в порядке. Если все еще хочешь выговориться, пиши. Можешь по-прежнему – эзоповым языком, можешь – открытым текстом (что, конечно, предпочтительнее). Возможно, я смогу тебе помочь. Антонина».
Вряд ли я смогу помочь этой сумасшедшей, если она вообще существует в природе, но надо же хотя бы попытаться прояснить ситуацию.
В свой электронный ящик я не заглядывала неделю. Специально. Еле вытерпела. Зато все эти дни пытливо вглядывалась в глаза Феликсу. Нет ли в них чего-нибудь брутально-фатального, не горят ли они адовым пламенем? Шоколадная радужка по-прежнему сладко плавилась и вскипала под моим взглядом. Теплые, мягкие губы любимого человека целовали меня, и воспоминания о тревожном электронном письме тонули в глубинах мозга.
К концу недели я убедила себя в том, что эта Elis – патентованная шизофреничка, и полезла в свой почтовый ящик якобы только для того, чтобы посмотреть, не пришло ли уведомление из интернет-магазина, в котором я сделала заказ на специальный коврик для занятий йогой.
Уведомление было. А еще было Re: на Re:. От Elis. Сначала я почувствовала, как покрылась липким потом, потом рассмеялась вслух. Так-то оно и лучше! Раз Elis пишет, значит, жива и здорова!
Что ж, я готова стать для нее виртуальной жилеткой! Пусть плачет в мой почтовый ящик. Таким образом я буду контролировать ситуацию и уже не впаду в коматозное состояние от ее неожиданных писулек. Еще раз освобожденно вздохнув, я открыла ответ Elis и прочитала следующее:
«Здравствуйте, Антонина. Судя по письму, вы не знаете, что Наташа погибла 28 августа. Если вы были ее подругой и не услышали об этом трагическом событии по какому-то недоразумению, то приглашаю вас на Николаевское кладбище в следующую субботу в 12.00. В течение получаса буду ждать вас у центрального входа. Я – несколько рыжеволос, что всегда отличало меня от других. Думаю, не ошибетесь. Виктор, Наташин брат».
По прочтении этого послания я застыла перед монитором. Шевелиться не могла довольно продолжительное время. Ощущения были такими, будто я умудрилась проглотить огромную ледяную глыбу, которая прижала меня к компьютерному креслу и мгновенно проморозила внутренности. Не без труда выйдя из ледяного ступора, я взглянула на календарь, хотя и без того знала, что там увижу: «следующая суббота» – завтра. Плохо и одновременно хорошо. Плохо, потому что я ко всему этому не готова. Ох, как не готова... Хорошо, поскольку уже завтра я могу узнать... Что? Может быть, мне лучше ничего не знать? Что мне за дело до какой-то Наташи, которая никогда не была моей подругой! Ага! Не знать и мучиться ужасными подозрениями! Да какие там подозрения? Шизофреники – они на то и шизофреники, что их действия нормальным «умом не объять» и «аршином общим не измерить». Бедный Тютчев, Федор Иваныч... Знал бы он, к чему я пристегну его бессмертные строки!
Вечер пятницы я провела в обнимку с пузырьком валерьянки, единственным успокоительным средством, имеющимся у меня в наличии. Неожиданно позвонил Феликс и сказал, что в субботу мы не сможем встретиться, поскольку он обещал отвезти Надежду Валентиновну к какому-то знаменитому врачу. Я ответила что-то вроде «да-да-да... конечно-конечно... не беспокойся... все хорошо... встретимся в воскресенье», и он, похоже, даже не заметил, что голос мой нервно подрагивал. В общем, все само собой складывалось так, чтобы на следующее утро я отправилась на Николаевское кладбище. Встать придется пораньше, потому что оно находится на окраине Петербурга, и пилить до него на перекладных более полутора часов. А может, вызвать такси? Влетит в копеечку... А ради чего? Да ради Феликса, черт возьми! Фу! Что-то последнее время я стала часто поминать черта! Не к добру! Ой, не к добру! А что вообще в последнее время у меня к добру?! Говорила же мне Кузовкова, что выпендреж (так она называет мою независимость) еще выйдет мне боком. Якобы люди мне вслед плюются и запросто могут пожелать зла. Я еще спросила:
– Люди – это ты?
– Я тебе зла не желаю. Я только удивляюсь, и все. А другие, мимо которых ты шлындаешь с задранным вверх носом, могут и пожелать. Гляди, как бы не накрыло с головой их пожеланиями!
– Не каркай! – сказала я ей тогда.
– Тут каркай не каркай... – отозвалась Леночка и безнадежно махнула рукой.
Может быть, и правда меня сглазили. Я никогда не верила в сглаз и порчу, но кто может поручиться, что этого и впрямь не существует в природе.
* * *
Без десяти минут двенадцать я вышла из такси у центральных ворот Николаевского кладбища и сразу увидела Виктора. Он был не несколько рыжеволос, как писал в письме, а пламенно-рыж. Ошибиться действительно было невозможно. На нем были подобающие месту черные одежды. Увидев, что я направляюсь к нему, он надел на пылающие волосы черную кожаную кепку. Видимо, молодому мужчине казалось, что их яркий цвет на кладбище неуместен.
– Я Антонина, – представилась я для приличия, хотя мы оба поняли, кто есть кто.
– Виктор, – из вежливости кивнул он и сделал рукой жест, показывающий на вход.
Мне очень хотелось вцепиться в его черную куртку и потребовать, чтобы он немедленно рассказал, что случилось с Наташей, но я понимала: сначала должна в траурном молчании дойти до ее могилы, постоять перед ней со слезами во взоре и только потом, на выходе, начать расспрашивать Виктора.
– Кладбище старое, – неожиданно сказал мой спутник, и я вздрогнула. – Здесь уже больше не хоронят, но у нас за оградкой оказалось много места, а потому... ну... вы понимаете...
Я яростно закивала, усиленно делая вид, что все понимаю, хотя соображала плохо. Я боялась от напряжения сбиться с той легенды, которую себе придумала насчет его погибшей сестры. Черт... И чего она придумала себе идиотский ник – Elis... Ведь не Лизавета же, в самом деле... Наташа... Какой кошмар: опять поминаю черта...
По кладбищу мы шли довольно долго. Со всех сторон на меня смотрели люди с портретов, переведенных на керамику или высеченных на камне. Они будто выгладывали из окон своих последних пристанищ. Одни были грустны, другие улыбались. Некоторые высеченные на камнях улыбки были неудачны. Казалось, что их обладатели по-вурдалачьи скалят зубы, дожидаясь темного часа. Виктор заметил, с каким ужасом я оглядываюсь на некоторые портреты, и сказал:
– Да, здесь неудачный мастер. Я закажу памятник в другом месте. Наташа была улыбчивой красавицей. Она на всех фотографиях улыбается. Не дай бог, чтобы ее сделали такой... – И он указал на особо кошмарное лицо, скалящее на нас зубы с блестящего черного монумента. Под этим лицом находилась поникшая ветвь, роняющая маленькие листочки. Очевидно, кладбищенский художник пытался изобразить аллегорию скорби, но получилось, будто с подбородка мужчины стекают капли липкой слюны.
Кладбищенская аллея резко свернула вправо, и мы, пройдя от нее вглубь, между оградками, оказались около двух свежих могил.
– Я попросил пока снять оградку, – сказал Виктор. – Надо добавить звеньев. Все-таки две могилы прибавилось... Вот те... – Он указал на три памятника. – ...это бабушка с дедом и отец...
Виктор говорил очень деловым тоном и, как мне показалось, избегал смотреть на два холмика с временными деревянными крестами. Возможно, он еще что-нибудь сказал про лежащих в могилах родных, но я его слов уже не воспринимала, поскольку во все глаза смотрела на незнакомую мне Наташу. Большая цветная фотография была вставлена в застекленную черную рамку и врыта в землю. Изображенная на ней особа действительно была красивой, улыбчивой и такой же ослепительно-рыжей, как ее брат. На фотографии ее волосы блестели начищенной медью.
– Да... наша мать тоже была красавицей, – раздался над моим ухом голос Виктора, о котором я, погруженная в свои размышления, уже успела забыть.
Я в испуге отвернулась от фотографии. Похоже, Виктор не догадался, что я приняла его мать за Наташу, которую никогда не видела.
Уже знакомым жестом он указал на другую могилу. К ее кресту тоже была прислонена фотография. С нее улыбалась девушка. Очень хорошенькая и тоже рыжеволосая, но несколько темнее колером.
– Наташа была больше похожа на отца, – опять заговорил Виктор. – У нее и волосы были темнее наших с матерью. Да вы, конечно же, помните, какие у нее были красивые волосы...
Я затравленно кивнула и дрожащим голосом произнесла:
– Да... конечно...
Наташа смотрела с фотографии прямо в мои глаза и улыбалась. Мне вдруг стало казаться, что я могла бы ее спасти... вернее... не допустить... Если бы я не подружилась с Надеждой Валентиновной, не познакомилась бы с Феликсом, возможно, он остался бы с Наташей. Бедная девушка! Конечно же, я много эффектней ее и... сильней... Она юна, свежа, но... проста... А я... я Волчица! Я сама выбираю себе партнеров по сексу и... любви... Кем она была против меня? Жалкой овечкой... рыженьким котенком... Впрочем, я зря себя виню. Феликс не смог бы долго забавляться с этим ребенком. Он все равно сменил бы ее на другую женщину. Ему нужна именно женщина, опытная и, возможно, роковая. В общем, вроде меня... Интересно, он знает о смерти Наташи? Или бросил и думать забыл?
– Вы... вы давно были знакомы с Наташей? – Виктор опять первым начал разговор. – Видите ли, я живу в пригороде... редко с ней виделся...
– Мы случайно познакомились на одной вечеринке, – выдала я первое предложение накануне составленной легенды. – У нас оказались общие знакомые... Мы с ней не то чтобы дружили... я ее постарше, вы видите... но приятельствовали... перезванивались... И я не понимаю...
– Да... Я тоже был в шоке... Когда мать мне все рассказала...
– Мать? – Я непонимающе уставилась на соседнюю могилу.
– Она отравилась через неделю после Наташиной смерти... – Виктор с трудом вытолкнул изо рта эти слова, и я побоялась расспрашивать дальше, хотя приехала на кладбище исключительно за информацией. Все оказалось не так просто, как мне представлялось дома. Передо мной медленно разворачивались страницы семейной трагедии, и требовать быстрого изложения фактов было по меньшей мере неэтично. Но брату погибшей девушки, видимо, хотелось выговориться, и он продолжил: – Понимаете, оказалось, что они... я имею в виду мать и сестру... были влюблены в одного и того же человека... Наш отец умер совсем молодым, и мама, красавица и умница, долгое время была одна. Она всегда говорила, что у нее был такой замечательный муж, что найти ему замену невозможно, а тут вдруг, понимаете ли, нашелся...
Виктор, болезненно скривившись, замолчал, а у меня опять появилось ощущение тяжести и холода от будто бы проглоченной ледяной глыбы. Две женщины были влюблены в одного... Мать и дочь не поделили... Феликса... Может быть, все-таки не его...
– Вы знали этого человека? – осторожно спросила я, едва ворочая застывшими губами.
– Нет... Он даже на похоронах не был.
– Может быть, он не знал о... ну о том, что они погибли...
– Может быть... Но я с ним не был знаком, а потому пригласить не мог... Да, скорее всего, не пригласил бы, даже если бы знал, кто он. Я убил бы его там... у Наташиной могилы... или у материнской... – Виктор сказал это так тихо и убежденно, что я поняла: он действительно убил бы... во всяком случае, попытался бы это сделать...
– Может быть, он... простите... не так уж и виноват... – начала я и торопливо добавила: – То есть я хочу сказать, возможно, он и исчез из их жизней, когда узнал, что они обе в него...
– Не-е-ет... – Наташин брат протянул это «нет» с презрением и ненавистью. – Мама... перед тем как... В общем, она мне все рассказала. Он... спал с ними двумя... Понимаете, одновременно... Не пытался скрываться. У нее создалось такое впечатление, будто он хотел, чтобы они обе знали положение вещей... пытался стравить мать с дочерью и посмотреть, что из этого выйдет.
– Не может быть... – выдохнула я. – Это же... это же...
– Да, я тоже не знаю, как это назвать. Понимаете, он обеим внушил какую-то запредельную любовь. Они обе решились на ребенка.
– Вы хотите сказать...
– Да, они умерли беременными... обе... Мама говорила, что они с Наташей даже обсуждали этот вопрос, представляете! Им казалось, что их общий возлюбленный просто не может выбрать из них одну, потому что они очень похожи: только одна моложе и свежее, а другая старше, а потому опытнее в определенных вопросах. Наташа будто бы даже соглашалась пожертвовать собой, поскольку всегда любила мать... всегда хотела ей счастья. Она будто бы говорила, что еще может встретить другую любовь, а у матери это последний шанс. Мама, наоборот, утверждала, что готова отойти в сторону ради счастья дочери... В общем, трагедии ничего не предвещало. Они еще решали, как лучше поступить, кому рожать, кому не надо, как вдруг Наташа что-то узнала...
– Что?! – опять выдохнула я.
– Не знаю... – тяжело покачал головой Виктор. – Только с тех пор она страшно переменилась. Она стала предлагать матери срочно сделать аборт, чтобы не рожать сатаненка. Наташа будто бы так и сказала – сатаненка... В общем, мама испугалась, что у дочки на почве всех этих передряг что-то случилось с головой. Она решила, что надо вычеркнуть из своей жизни этого человека. Она особенно упирала на то, что из своей, не из Наташиной. Мама даже записалась на аборт в одну частную клинику, потому что срок был уже приличным... – Виктор замолчал, а я не могла проронить ни слова. И он снова начал: – Вы, наверно, удивляетесь, почему я с вами, незнакомой мне женщиной, так откровенен... Сам не знаю... Я пытаюсь все это еще раз переосмыслить, понять и... не могу. Ничего не понимаю... Остался без матери, без сестры, а эта... сволочь где-то живет припеваючи, соблазняет других женщин...
Я по-прежнему молчала. Виктор молчать не мог.
– Мама не успела пойти в эту клинику, потому что однажды, возвращаясь из магазина, увидела под своими окнами... – Рыжеволосый мужчина нервно сглотнул, но все-таки продолжил: – ... кучу народа, милицию, «Скорую помощь», которая никому не могла помочь... даже ей, маме... Наташа выбросилась с двенадцатого этажа на голый асфальт. Под окнами не было даже деревьев, чтобы как-то смягчить удар. А мама... Она хотела додержаться хотя бы до девяти дней со дня смерти дочери, но не смогла. Она позвонила мне и сказала, что больше не может терпеть. Изо всех сил старалась, но не может... Я уговаривал ее подождать меня и ничего не предпринимать, но пока добрался до Питера из пригорода... В общем, она была уже мертва, когда я приехал... Отравилась какими-то препаратами. Она была химиком, профессионалом в этом смысле...
– Может быть, не надо было оставлять ее одну? – прошептала я.
– Я и не оставлял. Я все время был рядом. Поехал домой на несколько часов... У меня, понимаете ли, семья, две маленькие дочки-близняшки... Я скучал... Не знал, что так получится, верите? Как там говорят: в одну и ту же воронку второй снаряд не попадает... а в нашу семью попал... вот ведь какая штука получилась.
За этим кошмарным разговором мы незаметно добрались до выхода с кладбища.
– Вас подвезти? – спросил Виктор. – Я на машине.
– Нет-нет, – поспешила отказаться я. – Я прекрасно доберусь на городском транспорте. Вам далеко ехать...
– И то верно... – согласился он. – Я теперь и свою собственную семью боюсь оставлять надолго. Прямо мерещится: приеду, а там все...
– Зачем же вы сегодня приезжали? Если ради меня...
– Не ради вас, уж извините, – покачал головой он. – Дела у меня были тут, в кладбищенской администрации. А Наташин ноутбук я себе домой забрал. Имею право. Она моя сестра. Вот ваше письмо и прочитал... Еще раз простите...
– Ну что вы... – промямлила я, скомканно попрощалась и поспешила к троллейбусной остановке. Такси на сегодня хватит.
Всю дорогу до дома меня не покидало ощущение, что где-то я уже слышала эту историю. Мать и дочь влюблены в одного и того же мужчину и не враждуют по этому поводу... Может, в газетах писали? Нет, откуда газетам знать, что Наташа с матерью до такой степени любили друг друга? А что? Желтая пресса на то и желтая, что их корреспонденты без мыла влезут в любое место. Может быть, разнюхали про двойное самоубийство и выпотрошили Виктора. У него душа так болит, что он просто не в силах молчать. А я, наверное, прочитала это. Вообще-то я не покупаю желтых газет, но иногда все-таки случается прочесть: сунут в почтовый ящик, а я и разверну за обедом... Там такое бывает понаписано... Волосы шевелятся... Обычно я не верю россказням этих газетенок, но эта история...
Впрочем... что-то я, как покойная Наташа, стала злоупотреблять этом словом... В общем, я не о том думаю. Если из-за Феликса эти две женщины погубили себя, то... И что же «то»? Я его разлюблю? Или уже разлюбила?
Я прислушалась к себе. Нет. Не разлюбила. Эта мрачная история существует отдельно от меня. Отдельно от Феликса, потому что уже в прошлом. Что бы ни случалось с ним до нашей встречи, не может иметь существенного значения, потому что любовь ко мне сделала его выше этого прошлого. Он очистился любовью ко мне. У него ничего не могло получиться ни с этими женщинами и ни с какими другими, потому что на его пути должна была встретиться я. Мы предназначены друг для друга. А если у Наташи с матерью оказалась такая слабая психика, то это не вина Феликса. Да и вообще: не верю я, чтобы он сразу с двумя. Наверняка была какая-то последовательность. Сначала он познакомился с Наташей. Она ему понравилась. Может быть, он даже хотел жениться, познакомился с ее матерью, как с будущей тещей, а эта будущая теща оказалась такой ярко-медной красавицей, что затмила Наташу... Разве такого не могло быть? А Виктор – что он, действительно, знает? Только то, что захотела сказать мать, и только в том виде, в каком захотела все представить.
Какой кошмар... Неужели влюбленные женщины вот так же оправдывают убийц, маньяков, террористов и кровавых диктаторов? Но Феликс не кровавый диктатор. Он – мой любимый. Тут впору снова употребить это пресловутое «впрочем»: впрочем, он ни разу не говорил мне о любви. Я считала, что при таком ярком ее проявлении все слова излишни. Может быть, потребовать наконец слов?
* * *
Уже в воскресенье мы обедали с Феликсом в ресторанчике «Рахат-лукум», выдержанном в сказочном восточном стиле.
– Почему ты сегодня так пристально в меня вглядываешься? – спросил Феликс, отправляя в рот обсыпанный сахарной пудрой и очень приличный по размерам кусок того самого рахат-лукума, именем которого был назван ресторан.
Признаюсь, искушение рассказать ему о вчерашнем посещении еще свежих могил Наташи и ее матери было слишком сильным. Вслед за Феликсом я затолкала себе в рот кусочек восточного лакомства, чтобы промолчать о трагической гибели родственниц несчастного Виктора. Еще не время. Я решила начать распутывать эту историю с другого конца.
– Ты мне нравишься, – сказала я, тщательно прожевав вязкий лукум и сдув с пальцев сладкую пудру.
– Ты мне тоже, – сказал он, улыбаясь, и глаза его опять закипели горячей шоколадной пенкой.
Я могла бы в этот момент сказать ему о любви и потребовать ответного признания, но решила подождать другого момента. И он настал, этот роковой момент, когда мы уже находились в постели Феликса и когда все самое главное (на сегодняшний вечер!) между нами уже произошло. Я растянулась на теле своего возлюбленного, уютно устроив голову на его огромном плече.
– Я люблю тебя, Феликс, – прошептала я ему на ухо.
Он поежился от щекочущего дыхания, повалил меня на спину и принялся целовать. Я вывернулась, взяла в ладони его лицо и, глядя строго в черные туннели зрачков, спросила:
– А ты?
– Что я? – глупо отозвался он.
– Ты меня любишь?
Мне показалось, что в его туннелях полыхнуло алое зарево и тут же потухло.
– Само собой, – ответил он.
– Это не ответ, – возразила я.
– Нормальный ответ, – лениво процедил он, убрал от лица мои руки и опять улегся рядом на спину.
– Когда любят, так и говорят: «Люблю».
– Все любят по-разному.
– Любят, может быть, и по-разному, только название у этого процесса одно. Кроме слова «люблю», другого не придумали.
– Почему? Есть еще, например, «обожаю»... А еще...
– Брось, Феликс, – бесцеремонно оборвала его я. – Ты прекрасно понимаешь, о чем я говорю. Ответь честно: ты любишь меня?
Он немного помолчал, потом спросил:
– Может, не стоит все усложнять?
– Стоит, – не сдалась я и укуталась до подбородка одеялом. Если он сейчас же не скажет мне «люблю», я сначала оденусь, а потом приступлю к допросу на предмет Наташи и ее красавицы-матери.
– Мне хорошо с тобой, Тонечка, – неожиданно теплым голосом сказал он. – А любовь ли это... я не знаю... Никогда не знал... Может быть, поэтому так и не женился, хотя давно пора по всем показателям. Женщины всегда требовали от меня это самое «люблю», а я не говорил, и они уходили, разочарованные и обиженные, будто я их обманул: поманил конфеткой, а вместо нее сунул в руки пустой фантик.
– Хочешь сказать, что никогда не бросал женщин сам? – осторожно спросила я.
– Нет, не хочу... Всякое бывало...
– А что эти женщины? Неужели они не боролись...
– За что?
– За тебя... за любовь...
– Говорю же, Тонечка, всякое в моей жизни было, но к чему это вспоминать, когда теперь у меня есть ты!
– Я такая же, как все! – уже довольно зло выкрикнула я.
– Ну не-е-ет... – протянул он. – Не такая. Как ты себя называешь? Волчицей? А разве Волчицу интересует, любит ли ее Волк? Она всегда уверена в своем партнере. В противном же случае может запросто перегрызть ему горло.
– А если я перегрызу?
– Я дорого продам свою жизнь...
Ярко-карие глаза Феликса опять оказались против моих. В зрачках плясало алое пламя и уже не гасло, а разгоралось сильней и сильней. Мои ноздри тревожил горьковатый запах его кожи. И мне мгновенно сделалось жарко и сладостно-больно. Никакие кладбищенские воспоминания уже не имели власти надо мной. Я должна была освободиться от этой боли, выплеснув жар и полностью растворившись в этом человеке, став его неотделимой частью. Момент истины еще не настал. Нет... не так... Сейчас истинна была одна лишь любовь, которую я испытывала к Феликсу вопреки всему: страхам, подозрениям и неизвестности.
* * *
Потерпев, таким образом, фиаско в воскресенье, я решила зайти с третьей стороны, то есть со стороны Надежды Валентиновны. Я пила у нее на кухне чай с сушками и неугомонно трещала о Феликсе, что вообще-то не в моих правилах. Никогда в жизни я никому не открывала своих привязанностей. Несмотря на то, что Надежда Валентиновна была в курсе моих отношений с ее сыном, я никогда не стала бы с ней это обсуждать, если бы не надеялась что-нибудь у нее разузнать. Я вдруг вспомнила странный разговор между ней и Феликсом, который однажды слышала. Что-то там было про какие-то игры? Может быть, Надежда Валентиновна тогда выражалась вовсе не фигурально, а по существу? Может быть, она знает об одновременной связи сына сразу с двумя женщинами? Или может все опровергнуть?
– А почему Феликс не был женат? – прикинувшись дурочкой, расспрашивала я. – Вот если бы он был разведен, то я не удивлялась бы, потому что такое случается сплошь и рядом. Неужели он никогда не был влюблен?
Надежда Валентиновна поглядывала на меня с большим подозрением и отвечала весьма неохотно:
– Ну... почему же не был... Был... как все...
– А вы знали его возлюбленных?
– Приходилось...
– А вам они нравились?
У матери Феликса сделалось такое лицо, будто она очень жалела о том, что разрешила мне распивать чаи в ее квартире. Я даже подумала, что сушек она мне больше никогда не предложит. Отказать мне от дома ей, интеллигентке в каком-то там поколении, не хватит духа, а вот чай она с этих пор будет подавать голый. Или мне придется пить его с курабье. Или вообще не пить. И не приходить больше. Выгнать меня прямо сейчас, с сушкой во рту, ей было неудобно, да и, формально, причины не было, а потому Надежда Валентиновна ответила:
– Некоторые нравились, некоторые не очень...
– А много их было? – нагло продолжала я.
Мать Феликса молча уставилась в окно, но я не отставала:
– Понимаете, я люблю вашего сына. Он меня тоже, но почему-то замуж не предлагает. Я думаю, может быть, все дело в каких-нибудь старых привязанностях. Может быть, у него есть обязательства перед другими женщинами? Вы скажите... я пойму...
Последние слова я проговорила с мольбой и очень искренне. Я действительно хотела во всем разобраться. Надежда Валентиновна чутко уловила смену интонации, повернула ко мне слегка порозовевшее лицо и сказала:
– Думаю, что он никому не предложит замужества.
– Почему? – еще искренней изумилась я.
– Потому что у него такая работа... которая женщин не устраивает... но... он утверждает, что это его призвание...
Я замерла с размокающей сушкой во рту, чувствуя, как по спине потекла струйка холодного пота. Да что же у него за профессия такая? Кто он? Патологоанатом? Могильщик? Ассенизатор? Рэкетир? Он говорил, что работает дома на компьютере... Что же делает? Взламывает банковские аккаунты? Передает иностранным разведкам секретные материалы? Распространяет детское порно? Рассылает «письма счастья»? ЧТО?!!
Выплюнув в блюдечко кусок сушки, которую так и не смогла проглотить, несмотря на ее уже почти жидкую консистенцию, я спросила свистящим шепотом:
– И кто же он по профессии?
Надежда Валентиновна, как-то странно улыбнувшись, ответила:
– Он тебе сам расскажет, если захочет.
– Удивительно, что вы с Феликсом делаете тайну из такого обыкновенного дела, как профессия.
– Это не то чтобы тайна... Другое... Словом, за этими сведениями, пожалуйста... к Феликсу...
Надо ли говорить, что после этих слов я встала и ушла. Не прощаясь. Не потому, что сегодня же собиралась прийти еще раз, а в знак разрыва наших отношений. Я запросто обойдусь без ее чертовых сушек, потому что происходящее уже вообще ни на что не похоже. Она права в одном: надо прямо спросить обо всем Феликса! Хватит ходить вокруг да около!
Спустившись к себе в квартиру, я сняла телефонную трубку и набрала номер сына Надежды Валентиновны. Когда он отозвался, я спросила с ходу, без приветствия и лишних слов:
– Кем ты работаешь, Феликс?
Поскольку на другом конце провода повисло молчание, я сформулировала вопрос по-другому:
– Я спрашиваю, кто ты по профессии?
– Давай поговорим об этом в другой раз, – вяло отозвался он. – Сейчас я слишком занят...
О! Я знаю этот приемчик! Он из мексиканских сериалов. Как только герой намеревается открыть героине страшную тайну, которая может прекратить сериал на корню, она в этот момент оказывается слишком занята или больна и просит отложить разговор серий так на сто шестьдесят. На сто шестьдесят первой серии героиня уже в амнезии, а потому не помнит даже самого героя, не то что разговор о какой-то там тайне. Если потом лишить памяти еще и героя, мыльная опера автоматически растягивается еще серий на двести.
Сериал с Феликсом в главной роли и так уже слишком затянулся, а потому я выдвинула ультиматум:
– Или ты говоришь сейчас, или мы... больше не увидимся.
Сама не знаю, зачем я это сказала. Я умру, если мы больше не увидимся. Я слишком влюблена... Слишком... Он, похоже, и не достоин такой силы чувств с моей стороны... Может быть, они как раз и подогреваются тайнами, которыми он себя окружает?
– Не говори ерунды, Тоня! – отозвался Феликс, и у меня как-то несколько отлегло от сердца. Он не хочет со мной расставаться! Не хочет! Он тоже любит меня, хотя и не умеет говорить об этом!
– Никакая это не ерунда! Ты что, секретный агент ЦРУ?
Феликс рассмеялся:
– Секретный агент ЦРУ давно прикинулся бы каким-нибудь... бухгалтером и непременно сводил бы дебет с кредитом прямо на твоих глазах!
– Ты тоже мог бы кем-нибудь прикинуться, чтобы я тебе не досаждала неудобными вопросами. Разве нет? Зачем ты меня мучаешь?
– Я непременно все расскажу тебе, Тоня. Мне только надо закончить один заказ и... все... Возможно, я больше вообще не буду этим заниматься... В общем, так: дай мне две недели. Я завершу дела, приеду к тебе и все объясню. И ты тогда сама решишь, хочешь ли остаться со мной или нет. Идет?
– То есть мы не увидимся две недели?! – ужаснулась я.
– Если мы не будем видеться, я быстрее все улажу. Только ты не дергай меня, Тоня! Мне действительно надо плотно посидеть за компьютером недели две!
– И потом...
– И потом я буду в полном твоем распоряжении.
– И все расскажешь?
– И все расскажу.
– Ты любишь меня, Феликс?
– Похоже на то...
– И ты возьмешь меня в жены?
– Возможно...
– Что значит «возможно»?
– Ты можешь не захотеть...
– Я захочу!
– Посмотрим...
– Я же люблю тебя!
– До встречи через две недели, Тоня!
После этого трубка запищала зуммером. Ждать две недели? Четырнадцать серий? Может быть, все-таки поехать к нему домой и посмотреть, чем он там занимается. Не выйдет. Он сразу выключит компьютер. А если он вовсе не за компьютером? Надо поехать и припереть его к стене! Если же выяснится что-нибудь отвратительное, я просто разлюблю его – и все! А если не разлюблю? Не разлюбила же, когда узнала о Наташе. Черт! Почему я не спросила его о Наташе? Ага... Так бы он мне и ответил... Сказал бы: и об этом поговорим через две недели. Но тогда стало бы окончательно ясно, что он имеет отношение к той мрачной истории. Впрочем... конечно же – впрочем! – и так понятно, что имеет. Может быть, только о трагическом финале не знает.
Я выскочила в прихожую и принялась натягивать сапоги. «Молнию» на втором так и не застегнула. Я вдруг подумала, что две недели вполне могу и потерпеть. Пусть сериал моей жизни длится подольше... Я слишком люблю Феликса. Я дам ему шанс. А потом... Не знаю, что будет, но в любом случае из окна я не выброшусь и химикатами травиться не стану. Как он там говорил: Волчица запросто может перегрызть Волку горло. Если и не перегрызу, то покину его логово навсегда и заживу привычной жизнью: работа, спортзал, чтение и, может быть, иногда, на сладкое, – Кирилл Мастоцкий. Маринку он сразу турнет, как только я сделаю ему особый знак. На загс она его так и не растрясла. Об официальном бракосочетании наш начальник коллективу не сообщал.
* * *
Две отпущенные Феликсу недели я старалась о нем не думать. Получалось, но не всегда. Иногда я вдруг начинала рисовать в своем воображении идиллические картины в стиле все тех же сентиментальных сериалов:
Вот я... Взяла отчет на дом, парюсь с графиками... Вдруг звонок... Вбегает Феликс с огромным букетом пряных розово-белых лилий и обручальными кольцами в кармане... Я о них еще не догадываюсь... А он говорит, что порвал навсегда с криминалом, откупился от кредиторов и просит меня стать его женой... Я, разумеется, соглашаюсь, залившись сладкими слезами... Он вынимает кольца... Надежда Валентиновна нас благословляет... Далее прокрутка титров... Happy End, в общем...
Честно говоря, в счастливый конец мне почему-то не очень верилось. Все-таки я не сахарная Барби, а Волчица, которая живет среди Волков... но даже обычные волки привязываются к людям... Да-да, помню... я уже и это говорила...
* * *
Вечером того дня, которым заканчивались договорные две недели, я специально взяла отчет на дом и действительно принялась за графики. Мне хотелось, чтобы хоть что-то совпало со сладкими мечтами. Графики шли плохо. Спина, обращенная к выходу из комнаты, была напряжена. Уши, казалось, переехали на затылок. Все мое существо ждало звонка в дверь. Он не прозвучал ни в восемь вечера, ни в десять, ни в двенадцать. В 00.30 я набрала номер домашнего телефона Феликса. Мне хотелось услышать, как он оправдывается, уверяя меня, что до завершения мероприятий ему не хватило одних суток. Всего лишь суток, а завтра...
Феликс так и не отозвался.
Бесстрастный голос робота мобильной связи утверждал, что абонент находится вне зоны доступа.
Швырнув мобильник в кресло, я бросилась к дверям из квартиры. Сейчас я вытрясу из этой дымной Надежды Валентиновны все! Я убью ее, если она не... Она не... Конечно же, она не... Она НЕ станет со мной говорить о сыне. Она уже дала мне понять, что никогда его не предаст. А если я стану настаивать, Надежда Валентиновна на нервной почве впадет в очередной гипертонический криз, который и в самом деле может убить ее. Она еле-еле выползла из предыдущего... Нет, хватит нам могил Наташи и ее матери. Третьей не надо... А кроме того, не белый день на дворе...
В ту ночь я так и не смогла заснуть. То разъяренной Волчицей металась по квартире, то рыдала в подушку, как обыкновенная обманутая и брошенная женщина. Часам к шести утра я вдруг успокоилась. В конце концов, Феликс мог не уложиться в две недели. Всякое бывает. Телефоны отключил специально, чтобы я не надоедала. Сегодня он обязательно позвонит сам и все объяснит.
В семь часов утра я пришла к выводу, что будет гораздо лучше, если я позвоню сама. Не сейчас, конечно... Перед тем как выйти из дома на работу, я и позвоню. И он, конечно же, откликнется! А если не откликнется, то впадать в коматозное состояние тоже не стоит. Возможно, Феликс работал всю ночь и теперь отсыпается, чтобы вечером прийти ко мне с лилиями. Можно даже без обручальных колец в кармане. К черту кольца! Не в них суть!
Если бы телефоны Феликса не отозвались, то я, уговорив себя, пережила бы тот день еще довольно спокойно. Но они отозвались. Оба. И стационарный, и мобильный. Но лучше бы они не отзывались, честное слово! Я бы придумала себе еще что-нибудь утешительное! Я бы смогла!
– Феликс!!! – истерично крикнула я на мужское «алло» из трубки стационарного телефона. Я даже не обратила внимания на «алло». Феликс никогда не употреблял это телефонное словечко. Он всегда говорил в трубку «слушаю».
– Вы не туда попали, – ответил спокойный мужской голос, и в моем ухе запищал зуммер.
Чертыхнувшись, я набрала номер еще раз, медленно, чтобы уж не ошибиться. Тот же мужской голос опять прогундосил свое «алло». В крайнем раздражении я шмякнула трубку на аппарат и открыла записную книжку мобильника. Сверяясь с записью, еще раз набрала номер домашнего телефона Феликса. В ответ получила все то же спокойное «алло». На месте того мужчины я бы уже крыла навязчивого абонента идиоматическими выражениями.
– Простите, это номер... – и я зачитала его из записной книжки.
– Да, – все так же спокойно ответил мужчина.
– Почему же вы тогда говорите, что я не туда попала? – сморозила я сущую глупость, но у мужчины на том конце провода была очень крепкая нервная система.
– Но ведь это вы спрашивали Феликса, – сказал он.
– Я...
– Потому я и сказал, что вы ошиблись. Никакого Феликса здесь нет и никогда не было.
– Как это не было?! – взвизгнула я.
– Так... Я прописан в этой квартире десять лет, а этот номер у нас уже три года. С тех пор как построили новую АТС.
– Плевать мне на вашу АТС, – продолжила истерию я. – Вы ведь живете на улице Полярников, 35?
– Да.
– В квартире 171?
– Да.
– И будете утверждать, что Феликс Плещеев никогда не жил в этой квартире?
– Конечно, буду это утверждать, раз в ней уже десять лет живу я.
– Бред!
– Слушайте, девушка, не звоните сюда больше! – вышел наконец из себя мужчина и повесил трубку. Я смотрела на нее с ужасом. Потом осторожно положила на рычаг. Немного подумала и взялась за мобильник. Номер Феликса отозвался звонким девичьим голоском:
– Алё!
– А Феликс... – начала я, уже с трудом сдерживая подступившую к горлу тошноту.
– Чего-чего? Говорите понятнее! – прощебетала девушка.
– Как давно у вас этот номер? – сменила тактику я.
– Какой еще номер?
– Этот!
– Какой еще этот? Не понимаю! Вы куда звоните?
Я отключилась и снова вызвала номер Феликса. В ответ все та же девчонка завопила еще пронзительней:
– Чего вам надо?!
– Девушка, не отключайтесь, – попросила я. – Дело в том, что этот номер две недели назад был у моего хорошего знакомого Феликса Плещеева. Вы с ним знакомы?
– Не-е-ет... – протянула особа нежного возраста.
– А откуда у вас он?
– Кто?
– Да номер же?!
– Как откуда? Подключилась – и все!
– А сам мобильник?
– Что – сам мобильник?
– Откуда, спрашиваю, у вас мобильник! Может, нашли?
– Ага! Щас! Мне родители подарили!
– Давно?
– А вам-то какое дело?
– Что, трудно ответить?
– Нетрудно. Год назад подарили, когда я школу окончила. А чё?
На «а чё?» я отвечать не стала. Мне пора было на работу. Если я сейчас же не выйду из дома, то непременно опоздаю, и Мастоцкий оторвется на мне по полной. За все. Я, кажется, потеряла Феликса. Не хватало еще потерять работу! Да и Кирка может еще пригодиться. Когда он не корчит из себя начальника, то вполне нормальный человек.
* * *
Сколько бы раз, уже находясь в отделе перед светлыми очами Мастоцкого, я не набирала номер домашнего телефона Феликса, он больше не отозвался. То ли утром, взвинченная до предела после бессонной ночи, я не могла правильно попасть пальцами на кнопки телефона, то ли отвечавший мне мужичок тоже отчалил на службу. Мобильник еще пару раз отозвался голоском той пташки, которой родители подарили трубку на окончание школы, а потом с этого номера, который еще две недели назад принадлежал Феликсу, мне пришло сообщение следующего содержания:
«Если ты, сумасшедшая овца, не прекратишь мне звонить, то тебя размажет по асфальту Коля Сивый».
Очевидно, в окружении той пташки все побаивались Колю Сивого. Я готова была схлестнуться хоть с Сивым, хоть с Бурым, если бы это помогло мне прояснить ситуацию, но, похоже, не поможет. И я перестала звонить пташке.
– Что-то сегодня наша железная леди с лица спала! – пропела над моим плечом Леночка Кузовкова. – Неужели йоги болеют?
– Пошла ты, – беззлобно отмахнулась я.
Леночка присела рядом, тщательно разложив на коленях складочки новой юбки цвета ослепительной морской волны, и сказала:
– Тонь, я серьезно! У тебя такое ужасное лицо... Случилось что-нибудь?
Я развернулась от компьютера к Кузовковой и ответила, глядя в ее голубые глаза, совершенно негармонирующие с яркой морской зеленью юбки:
– Могу я быть не в настроении?
Леночка покачала головой и сказала:
– Не можешь...
– То есть? – удивилась я.
– Сколько тебя знаю, ты всегда в настроении, в бусах и серьгах.
Я дотронулась рукой сначала до груди, потом до ушей. И в самом деле, я была без любимых украшений. Первый раз за энное количество лет. Как же меня достал Феликс!
– Вот видишь! – качнула круто завитыми кудрями Кузовкова.
– Да-а-а... – протянула я и зачем-то сказала о наболевшем: – Мужик меня кинул, Ленка... Самым наиподлейшим образом...
– Как? – ахнула Леночка и прикрыла рот пухлой ручкой с тремя золотыми перстенечками на пальцах. – Кирилл Анатольевич кинул?
– При чем тут Кирилл Анатольевич? – изумилась я.
– Ну как же... Вы же... Это же все знают...
– Да ну?! – Мои глаза, похоже, чуть не вывалились из орбит.
– Мы... конечно, понимаем, что вы не хотите афишировать свои отношения, – стала говорить Кузовкова, – а потому делаем вид, что ни о чем не догадываемся...
– А на самом деле догадываетесь?
– Ну... это же очевидно...
– Что именно?
– Что... Кирилл Анатольевич влюблен в тебя, а ты... В общем, мы всем отделом тебя уже сто раз осудили. Кирилл Анатольевич... он такой... Такой! Да не мог он тебя кинуть! Ерунду говоришь!
– Я не про Кирилла, Лена...
– То есть у тебя был другой?!
Леночка так закатила глазки и так подалась ко мне всем телом, что я поняла: она безмерно рада моему откровению. Она всегда лезла ко мне в подруги или в наперсницы, и тут вдруг ей такой подарок отвалился.
– Знаешь, Тоня! – Она даже позволила себе дотронуться до моего плеча рукой в перстнях. – Ты не расстраивайся по поводу того, другого... Наплевать и забыть! Вот Кирилл Анатольевич – это совсем другое дело. Он не кинет и не предаст. Ты подумай об этом, Тоня! Это я тебе как... друг говорю.
Леночка очень хотела бы сказать «подруга», но постеснялась, и правильно сделала.
– Ладно, Лена, так и быть, подумаю, – согласилась я, чтобы Кузовкова побыстрей отвалила. Я уже кляла себя за то, что позволила себе сойти со своего пьедестала. Пора было возвращаться на монументальное возвышение. Перед возвращением я еще раз взглянула в Леночкины голубые глазки и сказала:
– Только ты уж...
– ...никому! – продолжила за меня она. – Могила!
Минут через сорок после нашего с Кузовковой разговора в комнату, где я любила работать одна, ворвался разъяренный начальник.
– Какого черта ты растрезвонила всему отделу о наших отношениях? – прошипел Мастоцкий.
– А разве у нас есть какие-то отношения? – спросила я, мысленно аплодируя Леночке. Я представила, как с ее подачи сотрудники почесали языки о наши с Киркой спины.
– Ну... сейчас... нет...
– Вот! Как же я могла трезвонить о том, чего нет?
– Ты прекрасно понимаешь, о чем я говорю! – продолжал с присвистом шипеть Мастоцкий, и брови его при этом изгибались смешными домиками.
– Дурак ты, Кирилл Анатольевич, – сказала я, и начальник тут же огляделся кругом: не слышит ли кто-нибудь из сотрудников, как я его унижаю. Я усмехнулась и сказала: – Никого тут нет. Они, твои обожаемые сотрудники, сюда не ходят, когда здесь я, потому что мешаю им сплетничать.
– Антонина! – взвыл он.
Я за плечо опустила его в соседнее компьютерное кресло и предложила:
– Охолони чуток, Кира. Кузовкова сама мне сказала, что они давно заметили, как сильно ты в меня влюблен, и...
– Врешь... – перебил он меня. – Специально, чтобы еще больше унизить.
– Вру, что ты в меня влюблен? – рассмеялась я.
Кирилл уронил лицо в подставленные ладони, и мне вдруг стало жалко всех: его, себя, Феликса и даже почему-то Леночку Кузовкову с ее идиотским пристрастием к кошмарным юбкам.
– Прости, – сказала я. – Я не хотела сделать тебе больно.
– Больно?! – взвился Мастоцкий. – Это не то слово, Тоня! Ты постоянно делаешь мне очень больно! Я просил не афишировать наши отношения только потому, что никогда не верил в тебя. Я всегда знал, что ты натешишь свое тело и уйдешь от меня... читать свои книжки или... к другому! Хорош мужик, которого бросает женщина! Мне не хотелось, чтобы сотрудники об этом знали!
– Как оказалось, они все поняли, Кира.
– И что теперь?
– Ничего... Все останется, как было. Сотрудники будут делать вид, что ничего не знают. А мы с тобой будем делать вид, что не знаем, что они знают.
– Я люблю тебя, – сказал он.
– Это не ново, – печально отозвалась я.
– А ты опять в кого-то влюбилась, да?
– Влюбилась.
– Он бросит тебя!
– С чего ты взял?
– Ни с чего... Не он, так ты его бросишь... Мы уже все это проходили сто раз...
– Если он меня бросит, Кира, то...
– Что? – Мастоцкий подался ко мне всем телом. Я посмотрела ему в глаза и ответила:
– То я выйду за тебя замуж...
– Врешь...
– Нет... Мне уже много лет. Пора заводить семью, а то будет поздно...
– Обещаешь? – еле продышал Кирилл.
– Обещаю, – ответила я и отвернулась от него к своим графикам на экране компьютера.
* * *
После работы я, разумеется, поехала на улицу Полярников, 35. Дверь квартиры 171 мне открыл лысоватый толстяк в трениках с вещевого рынка и детской футболке с волком из старого мультика «Ну, погоди!».
– Мне бы Феликса Плещеева, – проговорила я немеющими губами.
Толстяк внимательно оглядел меня поверх очков, которые с трудом держались на кончике его круглого носика, и без тени сомнения сказал:
– А-а-а... Это вы утром звонили...
Я беззвучно открыла рот, но из него так ничего и не вылетело.
– Нет здесь никакого Феликса, – вынужден был сказать мужчина в волке и, похоже, испугавшись моего лица, посторонился. – Можете сами проверить... если хотите...
Я хотела. Я должна была убедиться... В чем? В том, что схожу с ума? Или в том, что Феликс фантастическим образом водит меня за нос? Но зачем?
Войдя в квартиру, я с ужасом огляделась по сторонам. Обои в коридоре были другими. И не новыми, которые за две прошедшие недели можно было переклеить. Они были потертыми, замасленными, кое-где отставали от стены, а около двери в комнату прямо поверх замысловатого обойного цветка зеленым фломастером была нарисована кособокая полосатая кошка. Увидев, что я не могу отвести взгляда от рисунка, мужчина солидно откашлялся и сказал:
– Это... видите ли... внук нарисовал... Бориска... Я не стал ругать – кошка хорошая, полосатая, как в жизни. Не находите?
Я кивнула. Пусть думает, что хорошая.
В комнате стоял кислый дух запущенного жилища. Обои, как и в коридоре, были старыми, выцветшими от времени и кое-где испещренными кошками, похожими на ту первую, зеленую. Видимо, кошки были любимыми животными начинающего анималиста Бориски. Что ж, я знаю вполне взрослых художников, которые ничего, кроме кошек, не рисуют. Эдакие котоманы... кошкожисты...
– Ну! – потерял терпение дед юного котомана. – Сами видите, нет тут никакого Феликса!
Феликса не было. Не было ничего, что могло бы хоть как-то быть с ним связано. Вместо дивана, на котором мы с ним обнимались, у стены стояла узкая односпальная тахта, наскоро прикрытая бесцветным от старости гобеленовым покрывалом. В том углу, где у Феликса находился компьютерный уголок, дед Бориски пристроил на кухонную табуретку телевизор LG последней модели – единственную новую и более-менее стильную вещь в квартире.
Я стояла и кусала губы посреди холостяцкого жилища, отнюдь не Феликсова.
– Изволите проверить кухню с санузлом? – насмешливо спросил хозяин.
Я отрицательно покачала головой. Нет смысла. Произошло что-то странное, чему я не могла дать названия. Эта квартира, безусловно, та же самая, где я встречалась с Плещеевым. Во всяком случае, адрес я не перепутала. В чем же путаница? Или меня намеренно стараются запутать? Зачем? С какой целью? Чтобы выбить из-под ног почву, как у бедняги Наташи? Но тогда опять хочется спросить: зачем?
Когда Борискин дед закрыл за мной дверь, я уставилась на стену возле нее. Стена, в отличие от квартиры, была точь-в-точь такой же, как и две недели назад: грязно-желтой, размалеванной различными надписями и рисунками, много хуже Борискиных кошек. Самой выразительной была меловая ядовито-розовая надпись: «ГЕНКА КУНЯЕВ КАЗЕЛ». Да, гротескно выполненная именно такими огромными буквами и с козлом через «а». Эта надпись лезла мне в глаза каждый раз, когда я нажимала на кнопку звонка квартиры Феликса.
В состоянии сильнейшего недоумения я зашла в лифт и вынуждена была отметить, что и он ничуть не изменился: все такой же темный, с прилепленными к тусклому светильнику жжеными спичками.
По приезде домой первым делом я, естественно, направилась к Надежде Валентиновне в надежде получить от нее какие-нибудь разъяснения. Да, вот так: к Надежде в надежде. Сразу скажу: надежды не оправдались. Надежда так и не открыла мне дверь, несмотря на то, что я без устали давила на кнопку звонка минут пятнадцать. Может быть, она опять попала в больницу с гипертоническим кризом? Я готова была ухаживать за ней, как за родной матерью, если бы она объяснила происходящее. Очень не хотелось думать, что она больше не живет в нашем доме, как ее сыночек на улице Полярников.
Отлепив занемевший палец от кнопки звонка, я несколько раз согнула его и разогнула. Во-первых, это было на пользу пальцу, а во-вторых, мне хотелось хоть на миг оттянуть время, когда опять придется действовать. После четвертого сгибания палец больше не нуждался в дальнейшей гимнастике. Тяжело вздохнув, я вытащила из сумки мобильник и набрала номер сначала стационарного телефона матери Феликса, потом мобильного. Ни тот, ни другой так и не отозвались: ни голосом одинокой пенсионерки, ни щебетом юной пташки. Молчок.
В большой задумчивости я начала спускаться по лестнице вниз. Можно, конечно, съездить в ту больницу, где не так уж и давно отлеживалась Надежда Валентиновна. Но где гарантия, что ее отвезли в ту же самую больницу? И вообще: кто сказал, что ее вообще куда-то отвезли? Может быть, она просто больше не живет здесь. Может быть, через полчаса ее дверь все-таки откроет какая-нибудь старушка, которая будет утверждать, что живет здесь уже все двадцать лет, а на звонки не отзывалась, потому что именно в тот самый момент ходила в соседний «О’кей» за хлебом и плавлеными сырками.
Нет! Шалишь, старушка с плавлеными сырками! Уж я-то точно знаю, кто в нашем доме в какой квартире живет! Я сама здесь прописана уже лет пятнадцать! И потом, мимо нашего «золотого» крыльца не прошмыгнешь! Точно! Вот уж где все знают, так это на «золотом» крыльце!
Последние три лестничных пролета я проскакала вприпрыжку и так сильно стукнула дверью подъезда о стену, что все, сидящие на крыльце, вздрогнули и разом повернули ко мне свои головы.
– Тонечка, ты с ума сошла! – вскричала самая боевая из наших пенсионерок – Ольга Семеновна с четвертого этажа, та самая, что за глаза называет меня Тонькой-шлюхой. – Мы же совсем недавно новую дверь поставили! Если каждый будет так шандарахать...
– Ольга Семеновна, – перебила ее я. – Вы не знаете, не приезжала ли сегодня «Скорая» за Надеждой Валентиновной?
Боевая пенсионерка посмотрела на меня с недоуменным прищуром и спросила:
– Это какая ж такая Надежда Валентиновна?
– Ну... из 129-й квартиры!
– Которая над тобой, что ли?
– Ну да...
– Чёй-то я не знаю никакой Надежды Валентиновны... – сказала Ольга Семеновна и пожала плечами, обтянутыми молодежной сиреневой курточкой.
– Не знаете, значит? – Я саркастически улыбнулась. – Вы – и не знаете?! А кто ж тогда знает?!
Разумеется, Ольга Семеновна не могла вытерпеть такой постановки вопроса, а потому, поджав бледные губки, с достоинством ответила:
– А никто не знает, потому что там почитай уже года два никто не живет.
– Ага! Не живет! – встряла Наталья Александровна с девятого этажа, которая относилась ко мне все-таки получше.
– Да ладно... – Я легонько отмахнулась от них рукой, на которой и в этот день не было надето ни браслета, ни кольца: мол, хорош шутить.
– Да ты чё, забыла, Тонечка, – опять перехватила инициативу Ольга Семеновна, – там же жил этот ханурик... как его...
– Шурка! – подсказала ей Наталья Александровна.
– Ага! Шурка! А как, значит, он помер, квартира так и стоит, значит, пустая, ждет его племянника. Он как школу закончит, так в Питер и нагрянет! Поступать, значит, будет в институт или там... колледж какой... шут его знает...
– Шурка? – переспросила я.
– Ага! Шурка!
– Какой еще Шурка, если в этой квартире жила тетя Таня Щукина, которая как раз и обменялась с Надеждой Валентиновной! – не могла не удивиться я.
На крыльце все притихли, поглядывая на своих лидеров Ольгу Семеновну с Натальей Александровной и не смея выступить со своими соображениями вперед них.
Ольга Семеновна подняла воротник яркой молодежной курточки, будто бы продрогла, и заявила, глядя куда-то вбок:
– Вот я всегда говорила, что женщинам нельзя так долго не выходить замуж, потому что в их организмах начинаются необратимые изменения!
– Это вы обо мне? – еще больше удивилась я.
– Нет... это я так... вообще... Ты, Тонечка, слишком много работаешь и совсем себя не бережешь!
– То есть вы намекаете на то, что я несколько повредилась в уме?!
– Я этого не говорила, а только... никакой Надежды Валентиновны в 129-й квартире отродясь не проживало!
– Не проживало? – обратилась я к самой невинной старушке Нениле Федоровне, которая никогда не зарилась на молодежные курточки, а всегда ходила в одной и той же серой вязаной кофте с большими карманами.
– Не проживало... – попугаем повторила она и тут же засунула тощенькие кулачки в необъятные карманы своей кофты.
– Ага, – кивнула я. – И вы никогда не видели, как в наш подъезд входил огромный черноволосый мужчина?
Ненила Федоровна испуганно зажмурилась, и Наталья Александровна успела ответить вперед своей подруги:
– Черноволосых, милая моя, пруд пруди! Всех и не упомнишь! Мало ли кто к кому ходит!
– Этого мужчину вы обязательно запомнили бы, потому что у него очень нестандартная внешность, – все еще хваталась за соломинку я.
– Значит, не проходил, раз не запомнили, – опять перехватила инициативу Ольга Семеновна.
Я медленно развернулась и пошла к подъезду. Ольге Семеновне, видимо, очень хотелось поговорить со мной подольше, как со свежим человеком, и она послала мне в спину:
– И вообще никто с нестандартной внешностью не проходил!
Ситуация до боли напоминала эпизод из старой киносказки о Золушке:
« – Нет, не проходила, Ваше Величество! И никто не проходил!
– Чего ж тогда расспрашивали, идиоты?
– А из интересу, Ваше Величество! Из интересу!»
Незнакомая принцесса из сказки обернулась бедной замарашкой. Кем же обернулся Феликс Плещеев?
* * *
Бесконечно размешивая на собственной кухне сахар в насмерть остывшем чае, я вдруг задалась классическим вопросом: «А был ли мальчик?» Если взять да и на минуту поверить завсегдатаям «золотого» крыльца, то получается, что они никогда не видели Феликса, и, кроме меня, его вообще никто и никогда не видел. У меня нет подруг, с которыми я могла бы познакомить своего нового возлюбленного или хотя бы «похвастать им издалека». Даже Леночке Кузовковой я сказала не конкретно о Феликсе Плещееве, а о некоем мужчине вообще. Чуткий Мастоцкий сам догадался, что я в очередной раз влюбилась, но никогда не видел меня с Феликсом. Плещеев никогда не встречал меня с работы, мы не ходили с ним на корпоративную вечеринку нашего отдела по поводу удачно выполненного заказа. Он даже никогда не звонил мне на работу. Никто из сотрудников никогда не слышал его удивительно низкого голоса. В свою очередь, Феликс не знакомил меня со своими друзьями, приятелями или родными. Исключение составляла Надежда Валентиновна, с которой я познакомилась самостоятельно.
Если же допустить, что бабульки с нашего крыльца все-таки видели Феликса, то только одного, когда он навещал мать. Вместе нас не видели ни Ольга Семеновна, ни Наталья Александровна, ни тихая Ненила Федоровна в своей вечной серой вязаной кофте. Я всегда просила Феликса остановить машину за квартал до нашего дома, чтобы не попасть на язычки кумушек с «золотого» крыльца.
Почти за три месяца знакомства мы с Плещеевым никогда по два раза не обедали и не ужинали в одном и том же ресторане или кафе. Мы все время перемещались. Феликс выбирал самые скромные и отдаленные от центра заведения, утверждая, что не любит суетливый питерский бомонд, предпочитая тихие места с хорошей кухней. Поскольку я ем только определенную пищу, то для меня все кухни одинаково плохи. Я посещала рестораны только для того, чтобы угодить Феликсу. В тех безликих местах, где мы с ним отметились, вряд ли кто-нибудь запомнил нас.
Когда взвинченный воронкой чай наконец выплеснулся через край чашки на стол, я очнулась и подвела итоги. Они оказались неутешительны. На вопрос: «Был ли мальчик?» – можно со всей определенностью ответить: нет. То есть как бы не был, потому что его, кроме меня, никто из моих знакомых никогда не видел... Эдакий мальчик-фантом...
Но, может быть, его действительно не было. Может быть, Феликс Плещеев – всего лишь плод моего больного воображения? Но с какой стати мое воображение вдруг сыграло со мной такую злую шутку? У меня, невозмутимой Волчицы, практикующей йогу, вдруг ни с того ни с сего поехала крыша? То, что вещала на крыльце Ольга Семеновна по поводу необратимых изменений в организме незамужних женщин, в расчет принимать не стоит. У меня с организмом все в порядке. Я – здоровая женщина, натренированная, имеющая секс в том объеме, в каком нуждаюсь, не могла свихнуться на почве отсутствия в жизни постоянного мужчины. Мне стоило только повести бровью – и Кирилл Анатольевич Мастоцкий был готов на все. Чем я обычно пользовалась, если не было в желанный момент другой подходящей кандидатуры.
Если все же допустить, что Феликс – плод моей неуемной фантазии, то какого черта я вдруг выдумала ему еще и больную гипертонией мамашу? Целоваться с Феликсом было приятно, а выносить судно из-под Надежды Валентиновны... не очень... И как я могла навоображать себе медицинское судно, если до этого я его никогда не видела? Как-то не приходилось даже в кино. Или это так называемая память предков? Или воспоминания реинкарнации? Стоп! Хорош! Так можно далеко зайти! Осталось только приплести инопланетян, и для меня широко распахнуться двери любой питерской психиатрической больницы.
Вот-вот... может быть, стоит посмотреть в Интернете что-нибудь насчет расщепления сознания? Фу-у-у... А с чего я взяла, что оно у меня расщепилось? Ну как же... Похоже, что я существую в двух ипостасях: то я обычная Антонина Карелина, которая ходит на работу, бранится с сотрудниками и периодически спит с начальником... то вдруг встречаюсь с каким-то виртуальным Феликсом... Нет... Если бы у меня на самом деле произошло такое раздвоение, то одно мое «я» даже не догадывалось бы о существовании другого. Во мне как бы самопроизвольно (или под воздействием каких-то внешних факторов) переключалась программа. Но ничего не переключается. Я одновременно везде: и с сотрудниками, и с Мастоцким, и с Феликсом... Впрочем, разве я что-нибудь понимаю в психиатрии...
И что же делать? Разве что съездить на Николаевское кладбище? Убедиться в существовании могилы Наташи? Черт! Я даже не удосужилась узнать, как ее фамилия, только на фотографию смотрела. Надо же! Про того покойничка с вурдалачьими зубами и падающими листочками в виде кровавых капель все запомнила: Сургучев Николай Степанович... 1934 – 2001... А вот Наташину фамилию... И все равно! Надо ехать! Если могила существует, значит, я не сошла с ума! Или сошла... Ведь я так и не выяснила, связаны жизнь и смерть Наташи с Феликсом или нет...
Я отодвинула от себя чашку, зачем-то размазала ладонью по столу пролившийся чай и бросилась одеваться. Поеду на кладбище! Поеду! Надо убедиться, что не все в этой жизни мне только мерещится! В противном случае действительно придется сдаваться в психушку...
На выходе из квартиры я столкнулась с Мастоцким.
– Ты что здесь делаешь? – задала я ему законный вопрос.
– Хотел позвонить, но слышу, ты дверь открываешь... – смущенно ответил он.
– А вдруг это не я открываю!
– А кто?!
– Любовник мой, вот кто!
– Любовник... – повторил начальник, а потом вдруг рассмеялся: – Нет у тебя никакого любовника!
Лучше бы он этого не говорил! Лучше бы не говорил! Неужели Феликса действительно не существовало в природе? Неужели на самом деле у меня сейчас розовый период Кирилла Мастоцкого? Я сплю с ним, а думаю, что с виртуальным Феликсом? И ведь даже фамилию ему выдумала, и жизнь... Ни дать ни взять Чарубина де Габриак! Привет вам, Макс Волошин!
– Тоня! Что? Что с тобой?! – вдруг крикнул Мастоцкий. – Тебе плохо? Я идиот... Я не хотел тебя обидеть... Тоня... ну прости...
В общем, кончилось тем, что у меня подо-гнулись ноги, и Кирка, ловко подхватив на руки, внес меня в мою собственную квартиру, ногой захлопнув дверь. Мне очень хотелось по-волчьи выть, драть его лицо и тело когтями, но вместо этого я тихо заплакала. Я думала, что уже не умею этого делать. Оказалось, получается. Бедный Мастоцкий перепугался не на шутку. Уложил меня на диван и бросился вызывать «Скорую». Придурок! Женщина всего лишь плачет, а он – «Скорую»! Пришлось встать и отобрать у него трубку.
– Совсем рехнулся, да? – бросила ему я.
Мастоцкий смотрел на меня... не скажу с испугом... скорее с недоумением и молчал. Я шмыгнула носом, вытерла тыльной стороной ладони слезы, поддернула, как Мальчиш-плохиш, сползшие штаны (в смысле: джинсы) и сказала:
– Поехали на кладбище!
Кирилл не пошевелился, продолжая ошалело взирать на меня. Я еще раз шмыгнула носом и рассказала ему все. Да. Все. Он продолжал молчать. Я спросила:
– А ты чего пришел-то?
Он, не без труда разлепив губы, ответил не то, о чем я спросила:
– А тебе не кажется, что на кладбище уже поздно?
Я взглянула в окно. Сиреневато-серой пеленой уже затягивали сумерки. Да я и при свете дня могу не найти могилу, а уж в темноте, которая непременно сгустится окончательно, пока мы доберемся до кладбища, и подавно. Мой начальник, как всегда, прав. Начальники всегда правы. Те, которые всегда правы, непременно становятся начальниками. Начальники... Стоп!!! Хватит!!! Опять понесло...
– В общем, так! – тоном прирожденного руководителя сказал Мастоцкий. (Может быть, ему надо было так разговаривать со мной всегда, а не только на работе?) – Сейчас ты идешь принимать ванну, а я готовлю ужин. Потом поешь и – спать! Без возражений! Завтра нам с тобой оформят командировку в... в общем, неважно куда... Поедем на кладбище. Завтра! Ты поняла!
– Поняла, но у меня не из чего сделать ужин...
– Кто бы сомневался, только не я! Сказал же: иди в ванную, а я в магазин...
На возражения у меня не было сил. И потом... что плохого в ванне и в ужине, сделанном чужими руками? Не все же Волчице таскать в логово добычу? Хотя... какая я Волчица... Я полурастерзанная зубами Вепря Лань... нет...Овца... Плещеев – Вепрь?
Размякшая после ванны с ароматической солью, наевшаяся Киркиных свиных отбивных, которые не ела уже лет десять, я предложила ему остаться у меня на ночь.
– Ты же меня не любишь, – набычился он.
– Я и отбивные не люблю, но съела.
– Хорошенькая аналогия.
– Нормальная. Раньше тебя почему-то не заботила моя любовь. Ты оставался – и все.
– Теперь все по-другому.
– Почему?
– Сам не знаю. Оказывается, не все можно объяснить словами.
– А мы и не будем словами.
Я подошла к Кирке, обняла за шею и поцеловала в губы. Знала, что не устоит. И он не устоял. Я обнимала его и ласкала так, как никогда раньше. Это было местью Плещееву. Мастоцкий все прекрасно понимал и не проронил во время процесса ни слова, хотя всегда был падок на красивости и выспренности.
– Ты так его любишь? – спросил он после.
– Я его так ненавижу! – зло отозвалась я.
– Ненавидь так меня... всегда...
Я не ответила. Положила голову к нему на плечо и отключилась.
* * *
На кресте, разумеется, была табличка с надписью: «Наталья Серебрякова-Элис». Ага! Вот вам и Elis... Угораздило же родиться с двойной фамилией и... чуть ли не сразу умереть... Что такое двадцать два года... Пустяки...
Могила была вполне реальной. Мы с Кириллом долго бродили по Николаевскому кладбищу, пока наконец случайно не наткнулись на черный монумент с безобразным портретом Сургучева Николая Степановича. А там уж до могил Наташи и ее матери было рукой подать. Мастоцкий еще за завтраком сказал, что вчера, когда я уже спала, нашел в моем электронном почтовом ящике письма Наташи и ее брата Виктора. Я, разумеется, знала, что они там должны быть, но безумно обрадовалась тому, что их увидел Кирилл. Это означало, что с головой у меня все нормально.
– Ну и что делать дальше? – спросила я в кладбищенское пространство.
– Не знаю, – отозвался Мастоцкий. – Подумать надо. А пока предлагаю пожить у меня на даче.
– Зачем? – удивилась я.
– Тебе надо прийти в себя. У тебя лицо, как у смертельно больного человека. А в Завидове сейчас очень красиво. Настоящая золотая осень. Природа... она врачует...
– Ты что, собрался оформить мне дополнительный отпуск? Я свой отгуляла в июне? Или ты забыл?
– Я ничего не забываю из того, что касается моих сотрудников. Отпуск тебе оформим за свой счет... в смысле... за мой...
– А ты, значит, будешь приезжать ко мне в свой загородный дом, чтобы я подавала тебе твои любимые отбивные на блюдечке с голубой каемочкой?
– Во-первых, у меня не загородный дом, а маленькая дачка, состоящая из комнаты и крохотной кухни. Во-вторых, я не стану приезжать...
– То есть запрешь меня там одну?
– Я буду там жить... с тобой...
– То есть тоже возьмешь отпуск за свой счет? Так ведь и разориться недолго, а, Мастоцкий!
– Я не брал даже очередного отпуска уже два года. Тебе, конечно, дела до этого никогда не было... но не об том речь. Я пойду в отпуск с тобой.
– На виду у всего коллектива?
– Ты же сама сказала, что они уже обо всем знают.
– И ты, значит, чтобы они уж больше и не сомневались...
– Дура! – выкрикнул Кирилл и, схватив меня за плечи, приблизил к себе. – Я люблю тебя, но готов был отдать тому, кого ты полюбишь! Но ты никого не любила! Волчица только входила в половые контакты с самцами! Одни были лучше, другие хуже, но ты не полюбила никого из них. А сейчас ты во что-то вляпалась! Я не могу отдать тебя монстру, о котором ты рассказала! Я не могу оставить тебя один на один с идиотскими мыслями! Мы что-нибудь придумаем, Тоня! А для начала просто отдохнем на природе, отвлечемся! В Завидове много интересных коттеджей понастроили. Там начал обживаться питерский бомонд. Запросто можно встретиться с Зариной Корниловой.
– Это... с телеведущей? – удивилась я.
– Ага! Она выстроила дом прямо напротив моего участка. А рядом коттедж Гороховского.
– Футболиста?
– Да. А к нему частенько приезжает его невеста. Догадываешься, кто?
– Дана Росс?
– Никакая она не Дана, а всего лишь Даша Росомахова.
– А ты откуда знаешь?
– Случайно... Пришлось познакомиться с ее настоящим именем, когда утрясали дела нашего садоводства. Теперь-то, конечно, никакого садоводства и в помине нет. Одни частные владения.
– То есть ты частный владелец?
– Ага! По-прежнему шести соток и маленького домика, отделанного вагонкой.
Кирилл посмотрел мне в глаза и спросил:
– Так что? Поедем?
И я согласилась поехать в Завидово.
Часть II
Мне она понравилась, как никто до этого. Может быть, потому, что ничего не клянчила: ни слов, ни денег, ни замужества. И это несмотря на то, что была влюблена. Нет, не так... Она меня любила. Думаю, любит до сих пор. Я уже подумывал о том, не жениться ли мне на ней и не зажить ли обычным обывателем? И именно в этот момент она наконец спросила: «Ты женишься на мне?» Очень хотелось сказать «да», но я сказал «возможно», что тоже было правдой. На всякий случай я решил оставить за собой право выбора еще на некоторое время, и когда прикинул так и сяк – получилось, что выходить из игры еще рано. Еще не всё из задуманного кое-кем воплощено, еще не все пьесы поставлены, не все аплодисменты получены. Главное – не всем сестрам роздано по серьгам.
А еще эта новая женщина всерьез заинтересовалась моей профессией. Если бы она знала, что профессии как таковой у меня уже давно нет... Я... А кто же я? Всего лишь статист? Марионетка? Герой-любовник? Сын своей матери? Всего понемногу...
О том, что я не такой, как все, понял в очень нежном возрасте. В детский сад я не ходил, потому что мать, тогда еще чересчур сильно любя, не могла передоверить меня чужим теткам. Она работала в маленькой районной библиотечке, где, собственно, я и вырос. Однажды некая читательница (чтоб ей ни дна ни покрышки!), погладив меня, пятилетнего, по вечно спутанной шевелюре, понимающе прищурила белесые глазки и сказала:
– И какой же у тебя, однако, оригинальный папа!
– У меня нет папы! – выкрикнул я, на что белоглазая приторно улыбнулась и, погрозив пальчиком, наставительно произнесла:
– У всех изначально были папы, малыш!
– Оставьте ребенка в покое! – вмешалась мать, которую я, конечно, тогда мог называть только мамой. – Как вам не стыдно?
– А что такого? Дело-то житейское! – в пофигистском стиле знаменитого Карлсона сказала женщина, взяла вписанные в абонемент книги под мышку и ушла.
Понятно, что после этого эпизода я тут же поинтересовался у матери отцом. До этого я как-то не задумывался не только о его отсутствии в собственной жизни, но и о мужчинах вообще. Мне и с матерью было неплохо.
– Дома поговорим, – отмахнулась мать, видимо, надеясь, что я об этом событии забуду. Но разве можно было забыть почти белые прищуренные глаза? Сейчас я склонен думать, что эта тетка была моей Судьбой. В самом деле, ни до, ни после я ее никогда не видел, хотя по-прежнему проводил с матерью в библиотеке каждый день. Пока не ходил в школу – с самого ее открытия, когда стал школьником – с обеда.
Тем же вечером дома моя мать вынуждена была пропеть мне вечную материнскую песнь о летчике-испытателе, но я как-то сразу в нее не поверил. Матери пришлось сказать, что мой отец оставил ее, как только узнал о скором моем рождении.
– Каким он был? Как его звали? – начал допытываться я.
– Звали его Серго...
– Серго?
– Да, он был грузином.
– А грузин – это кто?
В общем, бедной матери пришлось пуститься в длинные путаные объяснения, из которых я уяснил, что:
1) грузины живут в Грузии;
2) Грузия – это такая же страна, как, например, Лапландия, куда доводилось забредать девочке Герде из «Снежной королевы»;
3) в отличие от Лапландии в Грузии практически нет льда, разве что высоко в горах;
4) не все грузины плохие, как, собственно, и лапландцы, и русские;
5) мой отец был сначала хорошим, а потом почему-то испортился.
– А как ты добралась до страны Грузии? – спросил я мать, представив, как ее несет туда северный олень с ветвистыми рогами.
– Серго здесь учился, – ответила она.
Она очень много еще чего пыталась мне втолковать в тот день, видимо, надеясь, что я, заполнившись информацией под завязку, больше никогда не буду ее об этом расспрашивать. Я действительно больше не расспрашивал. Не знаю, каким чутьем обладал тогда я, пятилетний ребенок, но четко осознал, что расспрашивать больше не надо. Я понял, что мой отец, не красавец наружностью, был очень крупным и сильным человеком, а я пошел в него. Я действительно был выше многих своих одногодков из нашего двора. Они не очень любили играть со мной, потому что я нечаянно делал им больно. Старшие обзывали меня мерзкими словами, но я был уверен, что они это делали из зависти к моей недюжинной силе.
Во втором классе, когда Наденька Пухова, кукольная блондиночка, которая нравилась всем мальчишкам, отказалась сесть со мной за одну парту и даже расплакалась при этом, я опять призадумался. Потом внимательно рассмотрел себя в зеркало и понял наконец, что некрасив. Очень некрасив. Страшно! Ужасно и непоправимо! Черты лица были очень крупными и уже почти совсем не напоминали мальчишечьи. Я будто бы стал взрослым сразу в восемь лет. Это злило и приводило в недоумение парней, пугало и вызывало омерзение девчонок. Они меня не просто невзлюбили. Я вызывал у них чувство гадливости. Я, которого так любила мать, оказался отвратителен всем остальным.
Я долго держал это в себе. Учился. Занимался спортом. Но когда все мои одноклассники уже вовсю целовались с девчонками, в моем взоре проявилась такая тоска, которую наконец заметила мать. Не буду пересказывать все наши с ней разговоры на эту тему. Я от них все время уклонялся, а она на них настаивала. Суть ее высказываний можно передать одной фразой: «Твои невесты еще учатся в начальной школе». Я не верил, но она оказалась права. Не в смысле начальной школы... А в том, что найдутся «невесты» и для меня.
Лет в двадцать пять я вдруг похорошел, если, конечно, допустимо такое выражение по отношению к моей оригинальной персоне. Во мне, огромном обезьяноподобном мужике, ни с того ни с сего вдруг начали проявляться материнские черты. Во-первых, как-то широко раскрылись глаза, откуда-то взялись длинные ресницы, кончик носа благородно опустился, а губы необыкновенно привлекательным для женщин образом изогнулись. Я, еще очень редко, но уже стал ловить на себе заинтересованные взгляды представительниц противоположного пола. Окрылился. Развернул плечи и, идиот, тараном пошел знакомиться.
Двадцатилетние с хвостиком девушки уже не плакали, как Наденька Пухова, и даже напропалую кокетничали, но ни одна не согласилась на романтическую встречу вдвоем. Более юных я по-прежнему боялся напугать своей необыкновенной мощью. А однажды я возвращался в Петербург из деловой поездки. Ехал в одном купе скорого поезда с довольно привлекательной женщиной лет сорока. Мы разговорились, как это часто бывает в дороге. Нет, я не вешал на нее свои проблемы. Я даже не воспринимал ее как женщину. Она была всего лишь попутчицей. Условно среднего рода. Мы непринужденно болтали обо всем, что приходило в ум. Я не рассчитывал по приезде в Питер с ней еще раз когда-нибудь увидеться. Но Татьяна (именно так она требовала называть ее) перед выходом из поезда попросила номер моего телефона. Я работал тогда в службе по ремонту холодильного оборудования, и она сказала, что телефончик знакомого мастера никогда не повредит. Я нацарапал свой телефон на бумажной салфетке и отдал ей именно от лица холодильных дел мастера. Условно среднего рода.
Татьяна позвонила через неделю. Я ни разу не вспомнил о ней после того, как по выходе из поезда помог донести чемодан до метро. Я выбрал день и с рабочим чемоданчиком поехал к ней ремонтировать холодильник «Юрюзань». Надо ли говорить, что холодильник был в полном порядке? Он задорно гудел себе на кухне. Обратив удивленный взгляд на хозяйку вполне исправной машины, я вдруг заметил, что на ней надет очень откровенный халатик. Войдя в квартиру, я даже не посмотрел на нее, а между тем можно было уже в коридоре понять, чего от меня хотят. У халатика был очень глубокий вырез, в котором аппетитно круглились молочно-белые груди, абсолютно не стесненные бюстгальтером. Такие же круглые и белые коленки чуть прикрывала кружевная оборочка. Халатик не застегивался, а запахивался и завязывался на жалкие тесемочки. В общем: дерни, деточка, за веревочку – дверь и откроется.
И я дернул. Под халатиком оказалось богатое и хорошо тренированное плотскими утехами тело. Меня же надо было всему учить. И она учила, приходила от этого в крайне возбужденное состояние и устраивала мне настоящие сексуальные оргии. Тогда я впервые поблагодарил судьбу за то, что начал именно с опытной женщины, а не с какой-нибудь сопливой большеглазой стрекозки, которая, как и я, ничего не умела.
Разумеется, я без ума влюбился в свою ПЕРВУЮ ЖЕНЩИНУ. Мне было плевать, что она старше меня чуть ли не вдвое. Я даже не понимал, что она практически одного возраста с моей матерью. Мне казалось, что мы одинаковы, что мы во всем совпадаем, что любим друг друга, как какие-нибудь Шахсенем и Гариб. На Изольдиного Тристана я не тянул в виду знойности собственной внешности, а Ромео против меня был всего лишь неуравновешенным мальчонкой.
В общем, мое помешательство продолжалось три месяца. На исходе последнего нас с Татьяной наконец застал ее собственный муж, о существовании которого я даже не подозревал. Потом-то у меня сразу будто открылись глаза. Мужские вещи Татьяна никогда не прятала. Они всегда лежали и висели на одних и тех же местах, но я не видел ничего вокруг, кроме белого и жадного до любви тела прекраснейшей (как мне казалось) из женщин. В тот самый момент, когда моя обнаженная возлюбленная, не пытаясь прикрыться, что-то говорила мужу, я вдруг заметил, что она вовсе и не красавица. У нее были чересчур полные ноги, как сейчас сказали бы, в самой запущенной стадии целлюлита, живот в некрасивых, каких-то масляных складках и довольно обвисшая грудь.
Когда я с большим удивлением обнаружил пороки тела Татьяны, у меня вдруг открылся и слух. Суть того, что она верещала мужу, коротко можно передать следующим образом: несчастная женщина вызвала мастера, поскольку неожиданно вышел из строя холодильник; холодильник мастер починил, а потом набросился на нее, как зверь; она не смогла отказаться, потому что мастер и есть зверь, настоящая образина, которая грозилась убить, если что...
Муж, тщедушный очкарик в шляпе с полями, которую забыл снять, стал кричать (на всякий случай держась от меня на почтительном расстоянии), что непременно доложит о вопиющем происшествии у себя на квартире в мою контору, откуда меня непременно и прямо сегодня же уволят.
Встав перед ним во весь свой могучий рост и в полном неглиже, я без нервов и крику предложил ему самому чинить холодильник, а также электропроводку и сантехнику, поскольку его жена бросается на всех без разбора.
– Этого не может быть! – смешно подпрыгнул на месте тот мухортенький мужичок.
– А ты шляпу сними, – посоветовал ему я. – Рога и сквозь нее пробиваются!
И он, кретин, снял и даже ощупал свою лысеющую головку.
Сразу скажу, что с того дня я действительно перестал ремонтировать холодильники. Уволили-таки. Спасибо, без статьи. Татьянин муж оказался каким-то большим человеком в Питере. Да! Такой вот хлипкий мужичонка – и большим начальником! Но его женщине хотелось спать не с большим начальником, а с большим мужчиной.
Мне же очень хотелось Татьяну придушить. Я даже представлял, как хрустят под моими пальцами куриные косточки ее горла. Разумеется, не придушил.
После жены «большого человека» на призывные взгляды стареющих развратниц я больше не смотрел. С женщинами, конечно, время проводил, но только с теми, которых выбирал сам. Были они, признаюсь, не лучшего качества. За качеством я не гнался. Всего лишь усмирял бушующую плоть.
Как ни странно, с годами интерес ко мне женщин все усиливался и усиливался. Я смотрел на себя в зеркало и удивлялся. Красавцем я не стал. Что же их влекло? Мужская мощь? Огромные бицепсы? Бычья шея? Грива волос, которая, как ни стриги, все выглядит нестриженой?
Вскоре я во всем разобрался: они жаждали фантастического секса с фантастическим мужиком. Любить меня они не собирались. Любили они других, а со мной совокуплялись без всяких чувств из интереса. Некоторые мужики падки на экзотических женщин: вьетнамок, кореянок, африканок (если повезет найти). Я со своей знойно-вызывающей внешностью был экзотикой для петербурженок. Я был живым воплощением их эротических снов и фантазий. Когда на экраны страны хлынули западные фильмы, мои любовницы стали называть меня в постели то Кинг-Конгом, то Кононом, то Терминатором. Они не стеснялись меня. Они выделывали рядом со мной то, что постеснялись бы творить в постели со своим возлюбленным. Для них я был иным... виртуальным персонажем... Они занимались со мной сексом, будто онанировали перед компьютерным экраном, читая сообщение: «А теперь представь, что я тебя...»
Я принимал жизнь такой, какая она есть. Собственно, у меня и выбора-то другого не было. Но женщин я начал ненавидеть. Всех. Сначала тихо. Потом до скрежета зубовного. Иногда мне хотелось пополам разорвать девку, корчившуюся передо мной в какой-нибудь непристойной позе. Мое зверение они воспринимали, как новомодные игрища в стиле садомазо. И получали то, чего ждали. И просили еще. Твари! Похотливые гадины!
А потом они вдруг стали меня любить. Эти греховодницы! Эти секс-машины! Сначала я думал, что начались какие-то новые игры. Были игры в садомазо, начались – в любовь. Потом оказалось – действительно любят... Они в меня влюблялись до потери собственного «я». Может быть, за то, что я весьма поднаторел на сексуальном фронте. Может, за что-то другое... Только я-то уже не хотел любви. Они опоздали, красотульки! Я уже научился прекрасным образом обходиться без любви. Я не собирался ни на ком жениться. А они теперь хотели именно этого. Они донимали меня своей любовью и желанием выйти за меня замуж. Разумеется, им это не удавалось. Разумеется, я расставался с женщинами, которые надоедали мне своим скулежом. Они преследовали меня. Мне хотелось их давить, как тлю, тучами наползающую на тянущийся к небу побег и истощающую его. Не давил. Выход был найден другой. Потом.
А однажды я вдруг встретил Наденьку Пухову. Да, ту самую одноклассницу, которая когда-то плакала от омерзения ко мне.
– Фе-е-еликс! – протянула она. – На-а-адо же, каким ты стал!
– Каким? – спросил я, потому что был все таким же: огромным и нескладным. Это их сознание каким-то чудом трансформировалось.
– Таки-и-им больши-и-им... – только и смогла сказать она, будто раньше знавала меня чересчур маленьким.
А я вдруг понял, что она несчастна. Беленькая кукольная Наденька очень котировалась у мальчишек начальной школы. В старших классах рейтинг ее не упал, думаю, только оттого, что все привыкли: Пухова – самая лучшая. А за порогом школы паслось столько беленьких Наденек, черненьких Танечек, рыженьких Олечек и прочих хорошеньких девушек, что образ бывшей одноклассницы Пуховой очень быстро потускнел. Одноклассников она перестала окончательно интересовать, как только они поступили в вузы и техникумы. А те молодые люди, которые не учились в одной школе с Наденькой, вообще не находили в ней ничего интересного. Признаться, глядя на нее, нынешнюю, я тоже ничего не мог в ней отыскать. То есть то, что видел, мне решительным образом не нравилось. Сквозь ее почти белые волосенки, оказавшиеся весьма реденькими, просвечивала розовая кожа. Ротик был чересчур маленьким даже для современных кукол. В общем, передо мной стояла не сексапильная Барби, а кукла Варя с фарфоровой головой и мягкими тряпичными ручками и ножками. Пожалуй, только глаза Пуховой были неплохими: большими, голубыми и, как я уже сказал, несчастными. Наденьку хотелось прижать к себе и долго цитировать классику с некоторыми несущественными поправками:
Тише, Наденька, не плачь, Не утонет в речке мяч...Надо сказать, мне сразу показалось, что Пухова хочет того же, то есть чтобы я ее прижал где-нибудь в безлюдном месте. Отчего же не прижать, если женщина хочет...
К тому времени я уже давно разъехался с матерью. Жил в маленькой комнатушке коммуналки. Но она была моя, а потому я мог приводить в нее, кого хотел. Я привел Наденьку будто бы для того, чтобы попить кофейку и повспоминать золотые школьные годы. Мы оба это знали, но часа полтора на всякий случай повспоминали. Потом я предложил ей коньяку будто бы для того, чтобы выпить за наш дружный класс, который никогда таковым не был. Я налил ей, чтобы она слегка захмелела и ей было не так уж неудобно ложиться ко мне в постель. Наденька тоже понимала, зачем пьет, а потому выпила гораздо больше, чем я собирался ей наливать. Когда бутылка опустела, несчастной Пуховой уже сам черт был не брат, и она очень охотно и вполне самостоятельно разделась. Я не знал, какие сексуальные игры она предпочитала, а потому положился на интуицию. Она меня подвела. Наденька оказалась девственницей. И эта девственница после проведения дефлорации вцепилась в меня как в своего первого мужчину с недюжинной для тряпичных ручек и ножек силой.
Как уже говорил, жениться я не собирался в принципе, детей не хотел и очень заботился о том, чтобы они ненароком не завелись в Наденькином нетронутом, а потому очень здоровом организме. Пухова хотела обратного, то есть чтобы я на ней женился и у нас косяком пошли дети. Потом она догадалась, что последовательность вполне можно нарушить: сначала – дети, потом – свадьба. Когда это озарение ее посетило, она вдруг принялась уверять меня в том, что находится на третьем месяце беременности и что аборт делать ей очень не советуют ввиду какого-то там отрицательного резуса. Я ничего не понимал в резусах, зато точно знал, что забеременеть она не могла. Наденька принесла мне из женской консультации несколько бумажек, подтверждавших ее правоту. Я еще раздумывал, каким образом мне выкрутиться из создавшейся ситуации с наименьшими издержками, когда в отсутствие Наденьки ко мне зарулил пьянющий сосед с верхнего этажа и начал в буквальном смысле рвать на себе рубаху и посыпать пеплом дешевой вонючей сигареты мою комнату. Когда я выудил перлы здравого смысла из его пьяного бреда, получилось, будто Наденька с ним спала.
– Зачем? – спросил я.
Сосед ударился в еще более замысловатые рассуждения, общий смысл которых заключался в следующем:
1) Наденька хотела за меня замуж, а я не хотел на ней жениться;
2) она хотела ребенка, а я не хотел;
3) она организовала себе ребенка от соседа, чтобы ребенок, которого в сожительстве со мной взять было абсолютно неоткуда, все-таки откуда-нибудь взялся.
Сосед уверял, что готов понести самое суровое наказание за свой непроизвольный (как он выразился) блуд. Я же сказал ему «спасибо», отвалил приличную сумму на опохмел и даже довел до его жилища, так как расставаться он со мной не только не хотел, а усиленно предлагал брататься, поскольку все равно уж у нас одна баба на двоих.
Призванная к ответу Наденька залилась слезами, уверяя, что все совершила токмо из великой любви ко мне. Ее горе было таким горьким, а отчаяние – таким отчаянным, что если бы я любил ее, то непременно простил бы и слезы наши смешались. После этого я надавал бы по мордасам соседу и женился бы на женщине, которая готова ради меня на все. Но я не любил, а потому простить Наденьке комбинацию в стиле Остап-Мария-Бендер-Бея никак не мог. Я выставил ее за дверь своей комнаты, рассчитывая на то, что дорогу из нашей коммуналки она найдет самостоятельно.
Куда делась Наденька, я так и не узнал. Ненависти к ней уже не испытываю. Даже где-то благодарен. Именно моя бывшая одноклассница сделала меня тем, кем я сейчас являюсь. Она дала мне первый урок манипуляции людьми. Я оказался хорошим учеником. Дальнейшее обучение мне не потребовалось. Я сам выпестовал из себя Великого Манипулятора, и теперь даже имею с этого неплохие дивиденды. Я запросто мог бы манипулировать и мужиками, но принципиально занимаюсь только женщинами. Они должны ответить за то, что со мной сделали. Да, я живу неплохо... Да, у меня все есть... Да, я могу теперь иметь практически любых женщин... телок... леди... каких только захочу, но... Я почти никого не хочу. Не в сексуальном плане. Я нормальный мужик, и ничто плотское мне не чуждо. Я не хочу любви. Я не хочу связывать себя никакими обязательствами. Я не хочу детей, которые цеплялись бы за мои джинсы крохотными ручонками и кричали бы мне: «Папа! Папа!» Я хочу быть один, и именно это мне во мне же и не нравится. Я хотел бы быть таким, как все! Я хотел бы радоваться обычной нормальной жизни, но... не могу... Женщины убили во мне все человеческое. Они презирали меня, когда я жаждал их любви. Они занимались со мной сексом, не любя, как с мужчиной по вызову. И, даже любя, обманывали меня и пытались обвести вокруг пальца. Впрочем, я зря назвал себя Манипулятором. Много чести этим... куклам... Пожалуй, я и есть кукловод... Да! Самый Великий Кукловод в мире!
Когда я познакомился с Волчицей (она так называла себя), мне показалось, что с этой женщиной у меня может наконец что-нибудь получиться. Она была не такой, как все. Она была независимой от других, но страшно зависимой от своих собственных взглядов на жизнь. Она была уверена, что презирает мужчин, и даже не предполагала, что всей своей женской сутью продолжает мечтать о том единственном, который перевернет с ног на голову все ее представления. Волчица не собиралась в меня влюбляться, но влюбилась, потому что я тоже не такой, как все. Но она даже не догадывается, до какой степени я не такой.
Мне показалось, что я тоже влюбился. Я даже хотел бросить к чертям собачьим свои занятия и предложить ей руку и сердце, но... Словом, я уже увяз в том деле, которое... В общем, я решил еще раз сыграть, сделать еще одну ставку. Клянусь, если Волчица поведет себя нетрадиционно, я положу к ее ногам все, что имею, плюс собственную повинную голову. К тому же, как я уже говорил ранее, еще не всем сестрам роздано по серьгам, а потому не все аплодисменты получены. Я столкну их: ту «сестру», которая пока еще без серег, и Волчицу. Если Волчица перегрызет ей горло, а потом еще и простит меня за все, во что я ее вовлек, значит, она именно та женщина, которая предназначена мне судьбой. Значит, именно из-за нее все и затевалось. Значит, именно за тем грузин Серго встретился с моей матерью, а потом бросил ее. Я должен был родиться, а потом вызвериться единственно для того, чтобы составить счастье Волчицы...
Часть III
В Завидово тогда мы так и не поехали. Руководство Мастоцкого никуда не отпустило, несмотря на то, что Кирилл Анатольевич действительно не был в отпуске два года. Его еще и заслали на две недели как можно дальше от меня – в командировку. Словно для того, чтобы мне не на кого было опереться. Я уже кляла Кирку за то, что он до отъезда успел оформить мне отпуск на те же две недели. И зачем, спрашивается? Чтобы сидеть дома и сходить с ума? Конечно, можно было бы взять да и отправиться на работу. Я даже хотела это сделать, но когда посмотрела на себя в зеркало – быстренько раздумала. Ни следа от былой Волчицы: обалделый взгляд безмозглой курицы, которую вместо курятника для острастки засунули в лисью нору. Лис пока где-то промышляет охотой, но непременно вернется в свое логово. Ох, вернется!
А через день после отъезда Мастоцкого в его родном Завидове произошла такая трагедия, что оставалось только радоваться нашему с ним отсутствию на даче. В особняке футболиста Михаила Гороховского покончила с жизнью его невеста и одновременно очень популярная певица Дана Росс. Абсолютно все СМИ чуть ли не без перерыва трезвонили об этом событии, будто персоны важнее Даши Росомаховой на сегодняшний день в России не было. С экрана телевизора не сходила фотография Даны, с которой красавица улыбалась как всегда ослепительно и высокомерно.
Сам Гороховский в этот момент находился за границей на каком-то чемпионате, а потому никак не мог предотвратить трагедию. Дана выпила огромное количество снотворного, которое, похоже, специально привезла с собой на дачу из Питера. Газеты писали, что она обзвонила чуть ли не всех своих приятелей и приятельниц и объявила им о желании отравиться. Все как один сочли ее смертельно пьяной, обозвали недоделанной Мэрилин Монро, и никто не бросился спасать. Тело девушки обнаружила домработница Гороховского, пришедшая поутру, как обычно, на место своей трудовой деятельности.
Не знаю почему, но смерть Даны подействовала на меня самым удручающим образом. Я никогда не была на даче у Мастоцкого и не видела особняка знаменитого футболиста, но мне живо представлялась и Киркина халупа, обшитая вагонкой, и почему-то очень отчетливо виделся силуэт несчастной Даны, в отчаянии заламывающей руки за шелковой занавеской окна Гороховского. Я даже не могла представить, в каком состоянии оказалась бы, если была бы вынуждена увидеть это воочию.
Я вырубила все средства массовой информации, чтобы не нервничать, но разнервничалась еще больше. Оказалось, что я не могла находиться одна в собственной квартире. Мне казалось, что из какого-нибудь особо затемненного угла непременно выступит Феликс Плещеев и заставит меня горстями глотать таблетки снотворного. Разумеется, он не мог иметь никакого отношения к Дане Росс, но в моем мозгу почему-то фантастическим образом соединились и Феликс, и еще не похороненная Дана, и давно уже покоящаяся в могиле Наташа Серебровская-Элис. «Надо сделать аборт, чтобы не родить сатаненка...» – что-то в этом духе она говорила своей не менее несчастной матери.
В общем, я накинула куртку и сбежала из собственной квартиры. Я брела, куда глаза глядят, по питерской улице, натыкаясь на прохожих и мало чего соображая. В конце концов я врезалась в молодого человека, который от неожиданности выронил прямо в осеннюю грязь букет белоснежных гвоздик.
– Извините... я заплачу... – залепетала я, когда увидела, что пушистые венчики превратились в малярные кисти, измазанные бурой краской, которой у нас обожают красить лестничные клетки в старых домах.
Парень посмотрел на изгаженные цветы, опустил их в очень кстати подвернувшуюся урну, посмотрел на меня веселыми глазами и неожиданно сказал:
– Значит, так тому и быть!
– Чему? – удивилась я.
– Понимаете, я не хотел идти на этот день рождения, но все же отправился... гвоздики купил... А теперь с чистой совестью могу не идти!
– Я заплачу вам за цветы, и вы купите новый букет, – продолжала настаивать я.
– Бросьте! Не судьба мне идти на этот день рождения! Наверняка, если куплю новый букет, его прижмет дверями в метро или случится еще что-нибудь в подобном духе!
Я растерянно пожала плечами, все еще глядя в урну, из которой торчали зеленые стебли с узкими длинными листьями.
– А вот у вас что-то чересчур несчастные глаза, – сказал парень.
Я вздрогнула и зачем-то посмотрела ему в лицо. Лучше бы я этого не делала. Лучше бы не делала! Какие же у него оказались глаза! Огромные, серо-голубые, чуть удлиненные к вискам, как у Феликса, и тоже опушенные черными загнутыми вверх ресницами. И весь он был чудо как хорош и очень молод! Мне показалось, что ему нет и двадцати.
– Глаза как глаза, – только и смогла выдавить из себя я, попытавшись его обойти.
– Не-е-ет, – протянул он, схватив меня за рукав куртки. – Они необыкновенные: красивые и... все-таки несчастные...
Я попыталась выдернуть из его пальцев куртку. Мне не удалось. Пришлось заглянуть ему в лицо. Парень смотрел на меня очень серьезно.
– Что вам нужно? – уже раздраженно спросила я этого юного красавчика.
– А давайте сходим в бар? – неожиданно предложил он.
– В бар?!
– Ага! Во-о-он в тот! – и парень махнул рукой на противоположную сторону улицы. – В «Скарабея»!
– Слушай, а в песочнице с тобой не посидеть? – не удержалась я от язвительного замечания.
Вместо того чтобы оскорбиться, он рассмеялся и ответил:
– А что? Тоже мысль! Я тут знаю одну... недалеко... Пошли?
И я пошла. От тоски, оттого, что некуда было себя деть и очень не хотелось возвращаться домой. И потому, что парень мне понравился. Волчица, которая в тот момент еще не совсем во мне умерла, пожелала приласкать Маугли. А он и впрямь был чем-то похож на рисованного героя из советского мультфильма: высокий, стройный, мускулистый, с завязанными в хвост очень темными волосами. Только вот глаза у него были другие: голубые и глубокие...
Песочница оказалась настоящей «Песочницей», то есть кафешкой, где подавались различные сладости исключительно из песочного теста. Я не смогла сдержать улыбки, когда прочитала название на вывеске.
– Ну вот! Вы уже улыбаетесь! – обрадовался Маугли и затащил меня внутрь заведения. С удивлением я обнаружила, что страшно проголодалась и продрогла.
Я с удовольствием пила горячий шоколад, смотрела в голубые глаза своего нового знакомого и молчала. Если надо, пусть говорит сам. Не я его сюда приволокла.
– Меня зовут Вадимом, – решил представиться он.
– Антонина, – отозвалась я.
– И по-другому нельзя?
– Нельзя.
– Почему?
– Потому что я в матери тебе гожусь, – намеренно перешла на «ты» я.
– А мне плевать на возраст, – отозвался он ослепительной улыбкой.
– А мне нет.
– Это только поначалу.
– А что, уже был опыт?
– Все, что надо, у меня было, – несколько неопределенно сообщил он.
– Тебе сколько лет? – вынуждена была спросить я.
– Девятнадцать.
– А не шестнадцать, случаем?
– Показал бы паспорт, но с собой нет...
– Ну и чего от меня хочешь?
– Вы мне нравитесь, и я хотел бы для начала перейти на «ты».
– Перебьешься.
– Ладно. Пока перебьюсь.
– Ты уверен, что «пока» трансформируется во что-то другое?
– Нет, но хотел бы.
В этот момент из динамика, который висел чуть ли не над нашим столиком, полилась незнакомая мне, но очень красивая мелодия.
– Потанцуем? – предложил Вадим.
– Совсем обалдел, да? Кто здесь танцует-то? – Я показала рукой на плотно стоящие друг к другу столики. Никакого танцпола в «Песочнице» предусмотрено не было.
– Тебе так важно, что о тебе подумают?
– Не смей мне «тыкать»! – взвизгнула я.
– Но ты же мне «тыкаешь»!
– А ты и есть «ты»! Мальчишка! Маугли!
– Маугли? – удивился он и опять расхохотался вместо того, чтобы обидеться. – Ну... пусть Маугли! Маугли, то есть мне, совершенно очевидно, что твой Акела промахнулся!
– В смысле?
– В том смысле, что прыгнул мимо тебя: может, случайно, может, специально. И ты именно поэтому несчастна.
Да, мальчишка был прав. Мой Акела сделал удивительный пируэт, и именно поэтому я несчастна. Чтобы не разразиться в адрес проницательного Вадима бранью, я затолкала в рот чуть ли не половину песочного пирожного с курагой и орехами. Кусочки арахиса с глухим шорохом посыпались на блюдечко. Я попыталась залить пирожное горячим шоколадом, чтобы оно быстрее разжевалось, но в рот уже больше ничего не лезло. Я поперхнулась, закашлялась. Маугли соскочил со своего места, принялся колотить меня по спине, и я уже не помню, как оказалась в его объятиях. Потом я обнаружила себя медленно переминающейся под музыку около нашего столика, заплеванного мною же арахисом и курагой. Конечно, не садиться же обратно в эту грязь. А люди с соседних столиков вместо того, чтобы осуждающе покачивать в нашу сторону головами, тоже повскакивали со своих мест и также начли топтаться в обнимку в узких пространствах «Песочницы».
– Глупость заразительна, – сказала я, показав Вадиму глазами на соседнюю парочку.
– Не глупость, а взаимопритяжение, – ответил он и поцеловал меня в висок.
Я схватила рукой его за хвост с целью отодрать по первое число, но почему-то только притянула к себе голову мальчишки, который тут же впился в мои губы своими. И, скажу я вам, поцелуй оказался весьма неплох. Видать, у этого юнца действительно уже все было. Именно это и решило все дело. Я не стала бы соблазнять ребенка. Маугли же дал бы сто очков вперед любому опытному мужчине. Да, молодежь нынче быстрее набирается этого самого опыта. Все табу сняты, все разрешено и одобрено Минздравом.
Мы не выходили из моей квартиры три дня. Я была в отпуске, а дела Маугли меня не интересовали. Понятно, что, насытившись мной, хвостатый парень исчезнет из моей жизни, не простившись, а потому я не собиралась впускать его в свое сердце. Секс так секс. Если девятнадцатилетний юнец уже прошел все огни и воды, почему бы и мне не попользоваться им, почему бы не утешиться в своем горе, почему бы не заслониться его довольно широкими плечами от страшных видений, которые еще продолжали время от времени мерещиться мне в углах собственной комнаты.
На четвертый день теснейшего слияния телами Маугли объявил мне, что ему надо отлучиться. Я не возражала, поскольку не собиралась удерживать его подле себя. Пусть уходит. Если надо, придет опять. Будет уходить и приходить, но только до тех пор, пока не возвратится из командировки Мастоцкий. Я обещала выйти за него замуж и выйду. Маугли – мое последнее холостяцкое приключение.
Вадим действительно пришел через день. Потом опять ушел. А после ко мне притащилась его мамаша. Вся в слезах. Принялась стыдить и угрожать. Я постеснялась сказать женщине, что далеко не первая, в чьих объятиях спал ее сын. Разве можно было сказать матери, что ее юный мальчик – уже тертый мужик, прошедший, скорее всего, сквозь горнила саун, массажных салонов и прочих заведений, где учат искусству не стесняться ничего ради удовлетворения своих сексуальных желаний? Бедная женщина, отругавшись, принялась рассказывать, как всегда хорошо учился ее Вадичка, какие положительные характеристики получил после окончания средней школы. Испугавшись, что она начнет предъявлять мне почетные грамоты, полученные сыном за успехи в изучении отдельных предметов и за победу в забеге на пятьсот метров, я сказала:
– Вам бы его в армию...
– Ну что вы! У него же сколиоз и хронический панкреатит!
Более красивые мужские фигуры, чем у Вадички, я видела только по телевизору и в кино. Хронический панкреатит не мешал ему уминать за обе щеки хот-доги и шаурму, заливая их первым же попавшимся паленым алкогольным напитком, купленным в ларьке по дороге ко мне. Разве можно сказать об этом матери, свято верящей в сыновний панкреатит?
В общем, мы почти подружились с мамашей Маугли. Я обещала больше не пускать Вадичку на порог. Но пускала. Все равно я его турну, как только вернется Мастоцкий. Я даже не стала сообщать Вадиму о явлении его маменьки. И даже не спросила, откуда она узнала мой адрес. Посчитала, что несчастная мамаша просто выследила, куда шляется ее ненаглядный сыночек.
За три дня до приезда Кирилла я сказала Вадиму, который одевался в прихожей:
– Прощай, Маугли.
– А что так? – спросил он, как мне показалось, ничуть не огорчившись прощанию.
– Скоро приедет мой... ну... в общем... Акела, и рядом с ним тебе тут места не будет.
– Понял, – отозвался Вадичка, сочно чмокнул меня в щеку и исчез за входной дверью.
После его ухода я отдраила квартиру так, чтобы нигде не осталось и волоска, случайно упавшего с буйной шевелюры Маугли, и отправилась в магазин за продуктами. Я встречу Мастоцкого королевским обедом. Надо привыкать к роли жены.
По возвращении я нашла в своем почтовом ящике конверт. На его чисто-белом, без всякого рисунка поле было написано одно слово: «Тоне». Я не знала почерка Феликса, но почему-то сразу поняла, что письмо от него. Из наскоро и небрежно вскрытого конверта я выхватила листок, на котором прочитала: «Если хочешь увидеть меня, приезжай на Витебский вокзал. Буду ждать тебя у табло с расписанием поездов дальнего следования с 16.00 до 18.00. Феликс».
Вот оно! Я никогда не верила в то, что его не существовало в природе! Я не сумасшедшая! С Феликсом просто что-то случилось, и он срочно вынужден был уехать из Питера, забрав с собой мать. Да... но тетки с «золотого» крыльца утверждали, что Надежда Валентиновна никогда не жила в нашем доме, несли чушь про какого-то Шурика... Ну и что? Он же намекал на то, что у него особенная профессия... Возможно, Феликса преследует... например... мафия, и он вынужден заметать следы... Может быть, он даже любительниц посидеть на нашем крыльце самым натуральным образом озолотил, чтобы они молчали... Нет, ерунда какая-то... Мафия... Дичь! Надо же до такого додуматься!
Но письмо от него все же пришло. Было бы, конечно, лучше, если бы Феликс позвонил, но, видимо, у него нет такой возможности...
Мне уже хотелось выбросить в мусоропровод продукты, которые я купила для Мастоцкого. Мне нет дела до Кирилла! Я люблю Феликса! С ним произошло что-то... из рук вон... Он явно нуждается в моей помощи! Иначе не прислал бы этого письма... Стоп! А как же он его прислал, если на конверте нет даже адреса? Одно только мое дурацкое старорежимное имя! Неужели он приходил, а меня не было? Феликс хотел меня видеть, а я затаривалась мясом с овощами для Кирилла! Какой кошмар!!!
Ага! Приходил и захватил с собой на всякий случай аккуратненький беленький конвертик... Вы носите с собой беленькие конвертики на всякий случай? Уверена, что нет! И я – никогда! Если бы мне приспичило написать что-нибудь человеку, которого не застала дома, я просто оторвала бы кусок объявления, которые всякие паразиты лепят возле крыльца чуть ли не каждого дома, а на его обратной стороне как раз и...
А может быть, Феликс написал письмо на том самом Витебском вокзале, на который меня приглашал? Точно! А письмо попросил отнести какого-нибудь надежного человека...
Я понимала, что все мои рассуждения не выдерживают никакой критики, но мне хотелось думать именно так. Мне хотелось, чтобы Феликс во мне нуждался, чтобы назначал тайные свидания, чтобы кто-то носил от него письма, а я... А я готова была бежать за ним на край света. Я так истосковалась по нему, что уже не вспоминала ни покойную Наташу, ни ее мать, ни Дану Росс. Прижав письмо к груди, я быстренько поднялась на лифте в квартиру, забросила продукты в холодильник, потому что они могут пригодиться не только Мастоцкому, и поехала на Витебский вокзал. Я была у табло с расписанием в 15.55. Феликса возле него не было. Это меня не расстроило. Он же четко написал: будет ждать с 16.00 до 18.00. Он, конечно же, придет минут через пять-десять, а интервал ожидания продлил до шести вечера из-за меня. Он же не знал, как скоро я смогу примчаться на вокзал.
Феликса не было ни в 16.10, ни в 16.30, ни в 17.30, ни в 18.00. Я напряженно вглядывалась в снующую мимо меня вокзальную публику с чемоданами и ручными тележками. Мои мозги вскипели и заработали в стиле какой-нибудь Агаты Кристи: вдруг пришло на ум, что Феликс мог изменить внешность. Трудно, конечно, представить, каким образом Плещеев смог бы закамуфлировать свою могучую стать, но, например, надеть парик и темные очки – это ведь запросто...
В 19.30 я поняла, что опять схожу с ума. Парики... очки... тайные письма... Наверняка не было никакого письма... Просто я, выгнав из своего дома Маугли, который меня худо-бедно отвлекал от свалившихся проблем, опять впала в состояние психоза. Хорошо, что Кирилл приезжает не завтра. Сегодня я как следует отосплюсь, шарахнув для верности таблетки три снотворного, завтра приготовлю его обожаемый борщ, куриные котлетки в сухариках... и... послезавтра пойду с ним в загс.
Уже в метро я нащупала в кармане письмо. Вытащив его на тускловатый свет электрички, еще раз прочитала короткий текст. Письмо мне не привиделось. Письмо БЫЛО! Я резко смяла его, и бумага захрустела в моих пальцах. Девушка, которая читала книгу рядом со мной, вздрогнула от этого звука и даже смущенно улыбнулась: мол, ничего... хрустите на здоровье...
Входная дверь в мою квартиру была чуть приоткрыта. У меня упало сердце. Феликс! Он не смог приехать на вокзал и примчался прямо сюда, а я-то, дура, столько времени потеряла у табло с расписанием! Или... Или это раньше времени возвратился Мастоцкий? Или они там оба? Сидят друг против друга и не знают, чего ожидать от противника? Но дверь-то могли прикрыть... мало ли что...
На мысли «мало ли что» я осторожно протиснулась в приоткрытую дверь, потому что уже понимала: там нет ни Феликса, ни Кирилла, разве что они успели поубивать друг друга. В квартире было слишком тихо... Слишком... Но это была моя квартира, и я не могла не посмотреть, что внутри ее делается... тем более что замок был... явно... сломан...
В квартире ничего не делалось. Там уже давно все было сделано, то есть перевернуто кверху дном. Все полки были раскрыты, все ящики выдвинуты. Их содержимое в беспорядке валялось на полу. Вместо страха я испытала чувство гадливости. Все мои вещи были осквернены, их касались грязные руки мерзких людей, возможно, больных нехорошей и абсолютно неизлечимой болезнью. Я перешагивала через свои книги, компьютерные диски, белье, обувь, внимательно оглядывая комнату. Не просто так у меня рылись. Хотели найти что-нибудь ценное. А что у меня ценного? Ничего...
Крышка зеркального бара была откинута. У меня никогда не хранилось в баре вино. Там стояла косметика, шкатулки с моими любимыми камнями и хранилось портмоне с небольшой суммой денег. Ну конечно... вон оно, раззявленное портмоне... Представляю, как разозлились эти ублюдки, когда вытащили из него три жалкие тысячи. Ха! Больше у меня не было! Зря они рылись в белье и книгах! Вот чего мне действительно жалко, так это моих украшений. Шкатулки, похоже, пусты... Немного же эти кретины выручат за кораллы, змеевик, бирюзу, халцедон, янтарь и прочие самоцветы.
Осторожно переступая ногами, чтобы не споткнуться и не рухнуть на какой-нибудь пустой остроугольный ящик, я подобралась к бару, вплотную к которому придвинули кресло. Я слегка откатила его в сторону и... расплакалась. Мои любимые камни лежали на полу в самом жалком состоянии. Было такое впечатление, будто их специально дробили каблуками от злости, что в шкатулках не оказалось золота и бриллиантов. Всхлипывая и кусая губы, я опустилась на пол и принялась перебирать руками осколки своих украшений. Вот это колье я купила себе на прошлый день рождения, а эти серьги – без всякого повода... просто так... за красоту...
Я глотала слезы и выла, будто эти раздавленные камни были для меня дороже всего в жизни. Мне казалось, я чувствовала их боль, будто это мои кости только что безжалостно переламывали с хрустом. Да что там: я готова была действительно подставить под тяжелые сапоги свои руки и ноги, только бы в живых остались мои украшения... моя радость... мои друзья...
– Тоня! Что случилось?! Ты где?! – услышала я знакомый голос Мастоцкого. Он не мог видеть меня, сидящую на полу за креслом, но вой он, безусловно, слышал. У меня не было никакого желания отзываться, но и прекращать стенать я не хотела. Я собиралась это делать вечно. Выть и ласкать руками осколки самоцветов. О! Как же сладка была моя боль! Все, что должно наступить после того, как я встану с пола, отвратительно и безотрадно, а потому я не хотела вставать. Это он – тот особенный день: число 349, месяц Мц гдао! Привет тебе, гоголевский сумасшедший!
Я не хотела видеть Кирку, который все-таки явился не запылился раньше времени. Я не хотела ничего объяснять ему. Мне не нужно было его участие. Мне нужно было, чтобы время остановилось за минуту до прихода Мастоцкого. Но... кому интересно то, чего мне хотелось, чего не хотелось! В конце концов Кирилл обнаружил меня за креслом.
– Ну-ка поднимайся немедленно! – заявил он, потому что не знал, что я намеревалась остаться в этом месте навсегда.
Разумеется, я не повела даже ухом.
– Антонина! Вставай! – потребовал Мастоцкий с интонациями начальника отдела, но и это ему не помогло. Я все так же ныла, раскачиваясь над поруганными украшениями, как над обесчещенными знаменами.
– Да что же это такое... – в ужасе вскричал Кирка, всунул свои руки мне под мышки и попытался поднять с пола.
Ужас! Мои ноги не разгибались... Я болталась в пространстве в позе «алмаза», будто костяная статуэтка Будды... Мастоцкий перетащил мое бренное тело на диван, кое-как разогнул мне ноги, уложив их прямо на яркие шарфы и платки, в беспорядке сваленные на нем. Потом он обнял меня как-то всю сразу, прижал к себе и горячо зашептал в ухо:
– Тонечка... Тонечка... все же хорошо... ты жива и здорова... и это главное... А этих... твоих камней... я куплю... мы вместе купим... столько, что их некуда будет складывать... Придется покупать специальный шкаф... и мы купим...
Кирка непостижимым образом угадал единственное, что мне надо было говорить в тот момент. Он не спрашивал о том, что произошло, он не призывал меня звонить в милицию или повнимательней оглядеться вокруг, чтобы оценить истинные масштабы происшествия. Он говорил именно о том, о чем я в данный момент хотела скорбеть больше всего. И я оттаяла, мои члены отпустило это кошмарное окостенение. Я обняла Мастоцкого за шею и заплакала уже совсем по-другому: тихими, светлыми слезами.
Когда и они закончились, волей-неволей пришлось говорить о том, о чем говорить не хотелось. Нет, Кирилл так и не спросил ничего. Я сама должна была ему рассказать. Я же собиралась за него замуж. Между нами не должно было остаться никаких недоговоренностей.
– Тонь! Ну можно ли так слепо доверять первому встречному! – сказал Мастоцкий о Маугли. И это опять было тем, что я хотела бы слышать. Он не стал упрекать меня за то, что я спала с мальчишкой, за то, что вообще с кем-то спала в его отсутствие. – Хорошо, что он оказался квартирным вором, а не убийцей! Хотя... – и Кирка опять прижал меня к себе, – ...трудно сказать, что он сделал бы, если бы ты вдруг вернулась в тот момент, когда он тут хозяйничал...
– Думаю, он просто привязал бы меня к батарее, засунув в рот кляп, – предположила я, вспоминая в общем-то добрые глаза Маугли.
– Тоже хорошего мало...
– Да я и не пришла бы раньше, чем через два с половиной часа: бдение у табло и дорога в оба конца... Он все предусмотрел... он...
Я опять окостенела. Ясно, что из квартиры меня выманил Вадим, но почему он подписал свое письмо именем Феликса?
– Да... я тоже этому удивился, – сразу понял причину моего очередного ступора Мастоцкий. – Выходит, они как-то связаны...
– Выходит... И ведь опять в деле мамаша! – И я рассказала Кирке о матери Маугли, которая выпала из предыдущего моего повествования как необязательный элемент.
– Может, наводчица... – сказал, на мой взгляд, полную глупость Кирилл.
– Да этот Маугли уже давно все у меня в квартире рассмотрел сам!
– Мало ли... Сама говоришь, он слишком юн. Может быть, тетка, которая прикидывалась несчастной матерью, выглядывала совсем другие вещи.
– Да разве у меня есть вещи, которые стоит выглядывать!
– Тонь! Давай все-таки посмотрим, что пропало. И потом... наверное, надо в милицию...
* * *
Если не считать ноутбука и старинной серебряной сахарницы, доставшейся мне от бабушки, ничего серьезного не пропало. Так... мелочовка, о которой не стоило и сожалеть. Как я уже говорила, больше всего мне было жаль погубленные самоцветы. Почему-то я даже о ноутбуке не так печалилась, как о них.
– Ну что, я звоню в милицию? – спросил Мастоцкий.
– Не надо, Кира, – грустно сказала я. – Я сама во всем виновата, а потому не хочу никаких объяснений, следствий, протоколов, отпечатков пальцев... – Я обняла его за шею и, глядя в пестро-серые глаза, попросила: – Давай уйдем отсюда... куда-нибудь... к тебе домой... уедем на твою дачу... куда хочешь... если ты, конечно, простишь меня за все...
– Я люблю тебя, Тонька, со всеми твоими примочками-заморочками... – ответил он и с нежностью провел пальцами по моей зареванной щеке. – Только как же мы уйдем, если квартира нараспашку. Неужели этот придурок не мог стащить у тебя ключи и сделать дубликат?
– А зачем ему излишне напрягаться? Помнишь, ты сам говорил, что мой замок можно ногтем открыть!
– А ты уверяла, что у вас какой-то навороченный домофон...
– Так оно и есть.
– Ну и как же твой Маугли сквозь него просочился?
– А ты не знаешь, как это делается?
– Представь, не знаю!
– Учу неразумного: звонишь в любую квартиру и говоришь: «Откройте, пожалуйста! Почта: новые буклеты о скидках в „О’Кее“.
– И что, неужели открывают? – удивился Мастоцкий.
– Разумеется... В общем, Кир... пусть квартира стоит открытой. Здесь уже совершенно нечем поживиться. Не выносить же самую обыкновенную мебель и холодильник ледникового периода?
– А и правда! Что нам какой-то холодильник! Мне кажется, ты уже достаточно наигралась, а, Тонька?
– И что?
– Ну... и выйдешь наконец за меня замуж, как обещала...
– Выйду, – сказала я, и в моем голосе послышался даже некоторый энтузиазм.
Кирилл осторожно поцеловал меня в уголок распухших губ. Он всегда с этого начинал. Это был его фирменный поцелуй. И я откликнулась. А что мне было еще делать? Продолжать казниться? Черта с два! Что было, то было! Я начну жизнь с чистого листа! Кирилл меня по-настоящему любит. Мне он симпатичен, а потому наши отношения на несколько порядков выше моей связи с аферистом и квартирным вором Вадичкой-Маугли. Что касается Феликса, то это закрытая тема.
В общем, всякий, кто прошел бы мимо моей квартиры, мог бы заглянуть в нее сквозь распахнутую дверь и увидеть, чем занимаемся мы с Мастоцким посреди разоренной комнаты. Хорошо, что никто из наших с ним сотрудников не жил со мной на одной площадке! Представляю, что сделалось бы с Леночкой Кузовковой, если бы она увидела наши обнаженные тела на свалке из предметов первой необходимости и некоторых элементов роскоши. Предмет роскоши – это, например, фарфоровая танцовщица. Она пребольно упиралась мне в бок своей вскинутой в неаполитанском танце рукой с раскрытым веером, но я не хотела даже шевельнуться, чтобы отбросить зарвавшуюся женщину подальше. Киркины губы ввели меня в состояние почти настоящей нирваны, и если бы не эта паршивая статуэтка... И чего Вадичка не раскрошил ее своими башмаками?
Никто из моих соседей так и не заглянул в странно приоткрытую дверь квартиры. Видимо, все были увлечены вечерними сериалами. Что ни говори, а какая-никая польза от них иногда все же есть.
* * *
Кое-как прикрыв дверь квартиры, чтобы она не вызывала ненужного любопытства соседей, мы поехали домой к Мастоцкому. В дороге ни о чем не разговаривали. Я почти дремала, скрючившись на заднем сиденье его «Форда». В странном взвешенном состоянии выбралась из машины и как-то вдруг неожиданно для себя оказалась под струями колкого душа. Заботливые руки моего начальника вытащили меня из ванной, как недавно из машины, обернули махровой простыней и уложили в постель. Измученная всем происшедшим, я заснула как убитая.
Когда я наконец очнулась после своего мертвого сна в постели Мастоцкого, первым делом спросила, почему он приехал раньше времени. Можно было подумать, что этот вопрос был самым насущным на тот момент. Но Кирка понимал, что я не хочу вот так сразу обсуждать свои непростые проблемы, и долго рассказывал мне о командировке, о том, какие новые заказы он выбил для нашего отдела. Я слушала с большим участием. Новые заказы для отдела (а я уже говорила, что люблю свою работу) – это куда интереснее, чем моя жизнь в отпуске, который на свою и мою голову организовал мне все тот же Кирилл.
– А приехал я раньше потому, что, во-первых, все нужное уже было сделано, во-вторых, хотел быстрее увидеть тебя, – объяснил он, а потом вдруг добавил: – Сначала просто хотел увидеть, а потом...
– А что потом? – почему-то испугалась я.
– А потом уже не просто...
Я почувствовала, что мое тело опять костенеет. Я даже не смогла поднять на Кирилла глаза, только прошептала куда-то себе в ямочку между ключицами:
– Что значит «не просто»?
– Ну... я по порядку... – начал он. – Чтобы тебе было все понятно... Ты же знаешь, что я поехал с двумя женщинами: с Судаковой – начальницей планового отдела и с экономисткой Маргаритой Васильевной. Женщины набрали с собой в дорогу кучу современных романов в мягких обложках, а поскольку погода была очень плохая, вечерами читали их напропалую в гостинице. Я сначала маялся дурью, смотрел телевизор, листал газеты, журналы. Книгу я с собой взял чересчур серьезную, и она у меня в той обстановке никак не шла. От скуки попросил какой-нибудь легонький романчик у женщин. Судакова дала мне один. Сказала, что он не такой уж и легонький, но в условиях гостиничного безделья наверняка и у меня пойдет хорошо. И он действительно пошел... Написан хорошим языком, и события в нем разворачивались очень бурно, но... Понимаешь, Тоня, чем дальше я читал, тем больше впадал в состояние так называемого дежавю.
– То есть? – Я наконец смогла поднять на него глаза. Непонятно, какого черта он рассказывает мне о какой-то дурацкой книжке.
– Я читал, и мне казалось, что все описываемое очень знакомо, что все это уже происходило где-то рядом со мной... То есть я не был участником этих событий, но... Словом, Тоня, я точно знал, чем кончится этот роман.
Я молчала. Я не знала, что ему сказать, а он закончил так:
– В общем, я не буду тебе пересказывать сюжет. Тебе лучше прочитать это самой.
Мастоцкий порылся в своей дорожной сумке, которую еще так и не распаковал, и достал из нее маленький пухленький томик в яркой обложке. На ней была изображена лежащая на полу красивая женщина с запрокинутой головой и остекленевшими глазами. Женщина была явно мертва. В ярко-алой лужице крови, которая вытекла из-под головы покойницы, мокла белая гвоздика. Я не могла не вспомнить те гвоздики, которые выронил в осеннюю грязь Вадичка-Маугли. Да... дежавю... Мне стало очень не по себе. Судорожно поведя вмиг озябшими плечами, я прочитала название – «Двойная ошибка». Автором была Манана Мендадзе. Да-да! Та самая Манана, каждая вновь вышедшая книга которой становилась бестселлером. Я, признаться, и сама пару раз покупала ее романы. Она писала сентиментальную прозу с элементами детектива. Об этой Манане почти ничего не было известно. Ни один из самых расторопных и наглых папарацци не сумел сделать ни одного ее портрета. Личность Мендадзе, несмотря на большое количество изданных романов, оставалась загадкой. Поговаривали о литературной мистификации. Романы приписывали перу то одной известной литераторши, то другой, и с нетерпением ждали, когда наконец все объяснится. С завидной регулярностью бульварные газетенки хвалились, что в следующем номере непременно дадут интервью с Мендадзе и опубликуют ее снимки, но обещанное так ни разу нигде и не появилось. Представители издательства «Марс», которое выпускало книги Мананы, на все провокационные вопросы СМИ каждый раз только разводили руками и говорили, что строгая конфиденциальность – условие, выдвинутое автором. Еще они говорили, что если читатели хотят и впредь читать книги Мендадзе, им лучше прекратить задавать вопросы, а бежать в магазин за новым ее романом, пока экземпляры еще есть в продаже.
– Ты знаешь этого автора? – спросил меня Мастоцкий.
– Ну-у-у-у... читала несколько ее книг... – ответила я, уже чувствуя отвратительный холод в желудке.
– И что?
– Что?
– Тебе книги этой тетки ничего не напоминали?
– Ничего такого... обыкновенные истории...
– Обыкновенные?
– Финал, как правило, трагичен, но читать всегда интересно.
– Ну-ну... – проговорил Кирилл с неясной интонацией.
– Что значит это твое «ну-ну»?! – взорвалась я, потому что нервы и без того были уже на пределе.
– Не стоит злиться по пустякам, – заявил Кирилл и усадил меня обратно в кресло, с которого я вскочила. – Лучше почитай, а я пока... посплю... с твоего разрешения. В поезде как-то не выспался, да и сегодня ночью... твой сон караулил...
– Зачем? – удивилась я.
– Сам не знаю, – пожал плечами Мастоцкий. – Мне казалось, что если я надолго отключусь, с тобой непременно опять что-нибудь случится.
– А сейчас не боишься?
– А сейчас – белый день!
Мне хотелось еще что-нибудь сказать Кириллу, чтобы не начинать читать книгу, которой я уже здорово побаивалась, но сказать было решительно нечего. Мастоцкий тоже как-то нервно передернул плечами и пошел на кухню, где у него стоял небольшой диванчик. Мне не понравилось, что он не стал ложиться возле меня на диван нормального размера. Кирке будто хотелось оставить меня с романом Мананы один на один. В общем, мне не нравилось абсолютно все...
Еще раз «полюбовавшись» на застывшие глаза покойницы на обложке, я вынуждена была приняться за чтение. Роман, как всегда у Мендадзе, захватывал с первых же страниц. Она всегда писала очень живым, образным языком, а кроме этого, была женщиной, что называется, до кончиков ногтей. Мысли, сомнения и терзания героинь были так понятны и знакомы, будто списаны с меня. Но не это же Кирилл называл дежавю. Ему-то откуда знать образ мышления женщины!
Но по мере продвижения сюжета я поняла, что Мастоцкий имел в виду. За три с половиной часа я одолела роман.
Он состоял из трех частей, написанных от трех разных лиц соответственно. Начинался он рассказом двадцатилетней девушки, которая в поезде Москва – Санкт-Петербург познакомилась с сорокалетним мужчиной. Их билеты оказались на одно место. Методом очень сложного обмена местами и билетами проводнице удалось рассадить всех пассажиров с учетом их требований и претензий, и девушка оказалась рядом с мужчиной. Они разговаривали всю дорогу, и девушка, разумеется, влюбилась. До этого она общалась только со своими сверстниками, и мир взрослого, умудренного жизненным опытом мужчины показался ей необыкновенным. Потом они встречались в Петербурге. Любовь девушки крепла с каждой новой встречей. Она была убеждена, что тоже любима, а потому решилась познакомить возлюбленного с матерью.
С этого места рассказчиком становится мужчина. Выясняется, что он страшный бабник, ловелас и циник. Несколько раз был женат. Жить ему скучно, поскольку прошел все огни и воды и знает наперед, чем кончаются любые романы. Восторженность юной девушки его всего лишь забавляет. Ему нравится ее нежное тело, нравится наставлять ее и учить сексу. Жениться на ней он не собирается, поскольку вообще уже зарекся «ходить под венец». Он уже раздумывает над тем, как бы половчей ее бросить, когда девушка предлагает ему познакомиться с матерью. Он не отказывается, потому что мамаша может оказаться тоже ничего себе женщиной. Ей должно быть лет сорок с небольшим, что для современных, следящих за собой женщин – вовсе не возраст. Мать действительно оказывается красивой моложавой женщиной и нравится ему не меньше девушки. И мужчина начинает игру, которая будоражит ему кровь. Жизнь вновь становится интересной. Для начала он влюбляет в себя мать, а потом, чтобы увеличить поступление в кровь адреналина, намеренно сталкивает обеих женщин друг с другом, дабы посмотреть, как те будут себя вести в столь экстремальной ситуации. Ему безумно нравится выступать сразу в нескольких ролях: и режиссера-постановщика разворачивающегося действа, и главного исполнителя, и зрителя, который наблюдает за происходящим как бы со стороны. Он давно не был в состоянии такого подъема, а потому молодеет и хорошеет прямо на глазах, и бедные женщины привязываются к нему еще крепче.
Далее повествование переходит к матери девушки. Поняв, что влюбилась в жениха дочери, она не находит себе места, мучается и страдает, но преступная любовь захлестывает ее все сильнее. Она уже не может противиться ей, поскольку таких сильных чувств не испытывала даже в молодости. А жених дочери вдруг начинает уверять, что влюбился в нее, как только увидел. Бедная женщина пытается сопротивляться, но сил не хватает. Дочь застает мать в постели с собственным возлюбленным, и жизнь обеих женщин превращается в сущий кошмар. Мужчина думал, что две влюбленные в него кошки начнут, фигурально выражаясь, драть друг другу когтями бока, а он будет наблюдать со стороны и веселиться. Но выясняется, что и мать, и дочь – обе готовы принести себя в жертву. В конце концов они предлагают ему сделать выбор. Мужчине не нужна ни мать, ни дочь. Комедия, которую он ставил, стала сама собой трансформироваться в трагедию. Участвовать в ней он не собирается. Он объявляет женщинам, что не любит ни одну, ни другую, и уходит.
В эпилоге, написанном от лица автора, выясняется, что и мать, и дочь ждут ребенка от этого мужчины. Девушка не выдерживает свалившегося на нее груза проблем и выбрасывается из окна. Честь по чести похоронив дочь, мать тоже сводит счеты с жизнью. Мужчина, который ничего не знает об этом двойном самоубийстве, в уличном кафе лениво флиртует с очередной женщиной и думает при этом, что жизнь чертовски скучна.
Мне показалось, что в этом романе Манана Мендадзе превзошла самое себя по части тонкого психологизма. Создавалось такое впечатление, будто автор одинаково хорошо знает и женщин, и мужчин. Я не могла сдержать слез, когда читала о страданиях двух обманутых женщин, ставших игрушками в руках мерзавца. И в то же время этот мерзавец был как бы и не таким уж мерзавцем. Его достала жизнь и женщины, которые вешались на него гроздьями. Он разуверился в любви и решил брать от жизни хотя бы то, что она в избытке может ему предложить: развлечения. Пусть жестокие, но всего лишь развлечения. Мужчина не знал, что эти две дурочки так серьезно его воспримут, особенно та, сорокалетняя, которая, казалось бы, тоже уже терта жизнью. Он, не слишком любимый собственной матерью, даже не мог предположить, что в семьях бывают и другие отношения, что мать и дочь могут быть так преданы друг другу. И о смерти обеих он так и не узнал. Манана выписала мужской характер таким образом, что почему-то верилось: если бы он узнал, что произошло с обманутыми им женщинами, это изменило бы его кардинально.
Надо ли говорить, что сюжет чуть ли не в деталях повторял рассказ Виктора Серебровского. Вторую часть их фамилии я буду для краткости опускать. Девушку в романе звали Катей, но это была история сестры Виктора – Наташи – и их матери. Мастоцкому я обо всем этом рассказывала, а потому и на него роман Мендадзе произвел соответствующее впечатление. В книге была описана реальная жизненная история. Кто-то мог, конечно, рассказать ее Манане, но вряд ли это сделал Виктор. Он не стал бы трезвонить о трагедии собственной семьи всему свету. Но у семьи могли быть знакомые, которые... Нет... Написано будто изнутри происшедшего... Будто действующим лицом... Или таким образом проявилось мастерство Мендадзе?
Нет, нет и нет! Тот, кто писал, очень хорошо знал перипетии истории, потому что многие детали до тонкостей совпадали с тем, что рассказывал мне Виктор. Тогда кто мог написать эту книгу? Сама Наташа? Нет... Наташа не знала, что мать тоже покончит с жизнью. Не знала... Но могла предположить, если они уж так любили и чувствовали друг друга. А мать... А мать могла поступить так, как написала Наташа, выполнить ее, так сказать, последнюю волю...
Нет, ерунда... Откуда у двадцатилетней девушки такое знание жизни? Мужчин? И потом... Манана Мендадзе на книжном рынке уже лет пять и находится на первых местах в рейтингах популярности с первых же вышедших в свет книг... Не в пятнадцать же лет начала писать романы Наташа Серебровская! Конечно, нет... Тогда... значит... писала ее мать... Ее мать? А что? Возраст у нее подходящий, жизненного опыта уже не занимать. Она могла сначала смоделировать свою смерть, а потом проиграть этот вариант в жизни.
Я захлопнула книгу и еще раз посмотрела на обложку. В верхнем правом углу красовалась золотистая надпись «Новинка». Еще бы... Свежи пока могилы... Перелистав книгу, я уткнулась в листок с выходными данными. Да... конечно... роман вышел уже после смерти обеих женщин... Лебединая, так сказать, песнь... Но тогда...
Я пулей выскочила из кресла и бросилась в коридор. Когда я натягивала куртку, из кухни выбежал заспанный всклокоченный Мастоцкий.
– Ты куда? – крикнул он еще хриплым со сна голосом.
– В книжный... – буркнула я и ринулась к дверям.
– Погоди... – Кирилл перегородил мне дверь. – Зачем?
– Надо посмотреть, не вышла ли очередная книга Мендадзе.
– Ты что, думаешь, она печет их, как блины? На той, которую ты читала, ведь ясно написано: «Новинка»!
– Кира, я не знаю писательской кухни. Может быть, за месяц... а уже прошло гораздо больше... профессионалам ничего не стоит сбацать новую вещь...
– За какой месяц?
– Ну... Ты же не случайно дал мне это читать! Ты ведь тоже понял, что сюжет совпадает с историей, которую я тебе рассказывала... Уже много больше месяца прошло со смерти Наташи и ее матери. Я хочу знать, не появился ли за это время новый роман Мананы Мендадзе!
– Давай посмотрим в Интернете!
– Нет! Я хочу сразу купить! И парочку предыдущих!
– А если их нет в продаже?
– Кира! Манана Мендадзе всегда есть в продаже! В нашей стране популярнее ее автора нет!
Мастоцкий сдернул с вешалки свою куртку и сказал:
– Хорошо! Пошли вместе! Я боюсь тебя отпускать одну!
Из магазина мы вернулись с охапками книг в руках. На нервной почве скупили по экземпляру чуть ли не всех имеющихся в наличии произведений. Даже не сняв куртки, я опять опустилась в кресло и уставилась на обложку еще одной новой книги Мендадзе. На ней также золотилась надпись «Новинка» и была изображена очередная красивая женщина, поющая в микрофон. Роман назывался – «Последний шлягер». Что-то мне очень не нравилось в этой женщине, в ее микрофоне.
Я перелистала книгу и, прочитав выходные данные, поняла, что роман вышел в свет уже после смерти Серебровских. Ну-у-у... в конце концов, «Последний шлягер» мог быть написан и раньше... Как бы вперед, чтобы не сразу прервалась деятельность Мендадзе. Может быть, матери Наташи хотелось еще добавить интриги, сыграть, так сказать, вслепую... Странно, конечно, но кто их знает, этих писателей... Что там делается в их умах, набитых виртуальными историями? Впрочем, как оказалось, не только виртуальными...
А может быть, это издательство выбрало, какой роман печатать вперед из двух новых, которые предоставила им Серебровская один за другим?
Я могла бы гадать еще долго, поскольку боялась начинать чтение. Мне казалось, что я узнаю из романа что-то такое, чего бы мне лучше не знать. Но и не читать почему-то казалось опасным.
Не стану пересказывать «Последний шлягер» так же подробно, как «Двойную ошибку». Скажу, что и он был написан мастерски, как и все предыдущие книги Мананы. Стиль был тот же самый, легко узнаваемый, но в то же время в каждом произведении особенный, самобытный. Передо мной прошла жизнь девушки из заштатного городка, которая, приехав в столицу, за короткий срок сумела сделать такой мощный рывок, что превратилась в известную певицу. Она получила все, что хотела: лучшие концертные площадки, выступления на главных телеканалах страны, тысячи поклонников и большие деньги. Не получила только ответной любви страстно желанного мужчины и однажды ночью покончила с собой, выпив большое количество снотворного средства.
У меня дрожали руки, когда я перевернула последнюю страницу романа. Конечно, мне не был известен в подробностях путь к успеху Даны Росс – Даши Росомаховой, но я была уверена, что в книге описана именно ее жизнь и... смерть... а значит... Значит, за псевдонимом Мендадзе не могла скрываться мать Наташи. Дана покончила с собой позже трагедии, происшедшей с Серебровскими. И кто же тогда автор? Кто?!
Как говорила раньше, я уже давно поняла, что автор романа о Наташе должен был лично участвовать в описанной истории. Действующих лиц в «Двойной ошибке» было три. Как выяснилось, женщины не могли быть авторами. Кроме того, им уже не было никакого дела до смерти Даши Росомаховой. Значит, автором мог быть только мужчина, тот самый, который довел всех трех женщин до самоубийства! Какой кошмар! Неужели все романы Мендадзе взяты из жизни? Неужели за каждым стоит смерть до умопомрачения влюбленной женщины? Да у Мендадзе романов больше пятидесяти... Неужели за каждым... Неужели... Вспомнить бы, вспомнить... Я же читала несколько книг... читала же... Да... одна из них была о стюардессе, которая мечтала разбиться вместе с самолетом... тоже от несчастной любви, так как не хватало силы воли покончить с жизнью самостоятельно. И однажды их самолет попытался захватить какой-то шизанутый террорист. Его потом быстро нейтрализовали, и с самолетом ничего не случилось, но стюардесса, которая могла бы одним движением руки выхватить у сумасшедшего парня пистолет или успокоить его, спровоцировала неадекватного пассажира на то, чтобы он в нее выстрелил. Я даже вспомнила, что подобная история была в прессе, только ни о какой несчастной любви там, разумеется, не шла речь. Говорилось лишь о неправильных действиях погибшей бортпроводницы.
Тут же вспомнился еще один роман Мендадзе. О женщине, погубившей и себя, и своих троих детей после того, как от нее ушел муж, а потом еще и возлюбленный, которого она уже представила детям как нового папу. О подобной истории тоже писали газеты, только в то время, когда я читала книгу, мне не было никакого дела до прототипов того романа.
В общем, из книг Мананы Мендадзе только что не капала настоящая кровь. Я сидела в кресле и не могла пошевелиться от ужаса. Что же это за маньяк скрывается за псевдонимом Мендадзе? И какое я имею ко всему этому отношение? Но ведь имею же! Имею! Именно мне написала Наташа перед смертью! Меня предостерегала! От кого? Так ведь ясно же, от кого... От Феликса... Никого другого со мной тогда не было... Это от Плещеева она не захотела, как сказал Виктор Серебровский, рожать сатаненка...
Неужели Феликс Плещеев и Манана Мендадзе – одно и то же лицо? Похоже на то... Хотя... когда я читала романы Мананы, мне казалось, что она женщина до кончиков ногтей, потому что слишком точно описывает переживания влюбленных женщин. Откуда бы Феликсу это знать? Или мужчины испытывают сходные чувства? Нет! Нет! И нет! Мы слишком разные, чтобы чувствовать одинаково. Но... тогда получается, что книги писал не Феликс... Нет, не получается! Их писал именно он! Может быть, его настоящая профессия – психолог? Загнанные обстоятельствами в угол женщины приходили к нему на прием, рассказывали о своих переживаниях, а он, как раньше говорили, все брал на карандаш! Да! Все именно так и есть! Надо признать это со всей очевидностью! Но Наташа... Откуда она могла знать? Или сообразила, как и я, по книгам? Или... Да разве теперь что-нибудь узнаешь о том, как до всего дошла Наташа! Но почему не предупредила меня открытым текстом? Зачем позволила, чтобы я... Или хотела, чтобы у нее на том свете была компания потесней?
Стоп... стоп... не надо форсировать события! Я еще пока на этом свете, и ничего ужасного со мной не случилось, если не считать ограбления квартиры поганцем Вадичкой. И Феликса рядом нет! Неужели он меня пожалел? Нет! Такие не пожалеют! Гонорары упадут! Рейтинги понизятся! Такие самым натуральным образом идут по трупам... Значит... значит, он что-то задумал... Но... не на ту напал... Конечно, я влюблена в него сильно... была... но не до психоза, подобного тем, что он описывал в своих романах. Я вообще собралась замуж за Мастоцкого... Неувязочка получилась у Мананы Плещеевны, кровавой Чарубины де Габриак...
Конечно, хорошо бы для полноты впечатления прочитать еще что-нибудь из... но сил уже нет. И так весь день отдан псу под хвост, вернее, Манане Мендадзе, вернее...
В комнату влетел Кирилл с раскрытой книгой в руках (видимо, тоже читал Чарубину на кухне) и с воплем:
– Ну если у этой бабы все истории подлинные!
– Про все не скажу, Кира, а вот эта, последняя... – Я потрясла книгой, которую держала в руках, – ...похоже, тоже списана с натуры...
– Да ну... – Мастоцкий, смешно сморгнув, опустился на кресло против меня.
– Ты ведь на даче еще не был? – спросила я.
– Нет, я же сразу к тебе, с поезда...
– И про Дану Росс ничего не слышал?
– Кажется... нет... А что?
– Она покончила с собой на даче Гороховского!
– Да ну!
– Кира! Телевизор просто разрывался от этого сообщения! Все газеты писали!
– Я мало смотрел телевизор в гостинице... да и то больше по местным каналам шастал... А потом, этой вот... Мендадзе увлекся... А что с Даной-то?
– Судя по этому роману... – Я опять потрясла «Последним шлягером», – ...наложила на себя руки из-за несчастной любви.
– Наложила руки?
– Ну это я так... Она отравилась... снотворным...
– Погоди... – Мастоцкий пересел ко мне на подлокотник кресла. – Какая же у Даны могла быть несчастная любовь, если Гороховский ее на руках носил! На виду у всей страны в телевизоре и на виду у всех дачников у нас в Завидове!
– А она любила вовсе не Гороховского!
– А кого?!
Я поежилась и выдавила:
– Думаю, Феликса...
– Феликса?! Это который...
– Да, тот самый, в которого, как мне казалось, я влюбилась без памяти!
Кирилл недоверчиво посмотрел на меня и спросил тихо и вкрадчиво, как разговаривают с душевнобольными:
– То есть в романе прямо так и написано?
– В романе написано, что некую певичку Дину Мандел любил баскетболист Горбовский, а она сходила с ума от некоего Анатолия Зуева, который ею помыкал, как хотел, чуть ли не ноги себе вытирал ее роскошными волосами...
– Ну... вот! С чего ты взяла, что этот Зуев списан именно с твоего Феликса... будь он трижды неладен...
Я собралась с духом и рассказала Мастоцкому, каким путями я пришла к данному выводу.
– То есть ты хочешь сказать, что Манана Мендадзе на самом деле никакая не Манана, а... – И он посмотрел на меня совершенно сумасшедшими глазами.
Я только лишь кивнула. Кирилл покусал губы и выдал:
– Да, похоже, что ты права, но тогда... – Он отшвырнул книгу в угол комнаты и потряс меня за плечи. – Неужели не понимаешь, что ты в опасности, если Мендадзе – действительно Феликс Плещеев!
– Почему это я в опасности? – не своим голосом спросила я, поскольку и сама об этом уже подумывала. – Я не собираюсь травиться, выбрасываться из окна и даже самолетом в ближайшее время не полечу! А своими руками он никого не убивает...
– Ага! Ты думаешь, он не сообразит, как тебя использовать для своего нового романа? Да он же маньяк! У него же мозги набекрень и настроены на волну своих жертв. Ты, конечно, по-прежнему думаешь, что ты есть Волчица и все такое... Дура! На каждую Волчицу найдется такой Волчара!!! Одного не пойму...
– Чего?
– Как он не боится выпускать романы после смерти своих женщин?
– А чего ему бояться? Женщины уже ничего не расскажут!
– Но ведь кто-то может все сопоставить, как ты...
– И что? Он скажет, что использовал для своих сюжетов трагические истории, освещенные прессой. Никому не возбраняется. Иногда в книгах даже пишут: по следам реальных событий...
– Но кто-то же мог видеть его с жертвой... будем уж называть вещи своими именами...
– Кира! Он потрясающе осторожен! Никто меня, например, с ним не видел! Я же тебе говорила: мне уже стало казаться, что я его себе придумала, что с ума сошла!
– Да-а-а... И угораздило же тебя! Вот ведь я тебе, видите ли, никак не подходил! Тебе надо было в эдакого урода втрескаться!
– Кира!!! – отчаянно выкрикнула я. – Перестань!! А то я и впрямь наложу на себя руки, а эта сволочь напишет новый роман!
Мастоцкий сгреб меня с кресла, спрятал внутри своих объятий и сказал:
– Ага! Как же! Пусть губенку-то обратно закатает! Пусть поищет себе других дурочек...
– А ведь он найдет, Кирка! Он потрясающе привлекателен... Даже не могу объяснить, чем... Надо его как-то остановить...
– Как? Я не Человек-паук... Мы с тобой не Скалли с Малдером... И даже не Абдулова с Дукалисом...
Мы еще немного постояли молча. Я понежилась в объятиях Мастоцкого. В них Плещеев не мог меня достать. По крайней мере, сейчас... На данную минуту... В данном месте...
Через пару минут Кирилл сказал:
– Тонь! А ведь у меня, пожалуй, есть идея, достойная мозга Фокса Малдера... ну... или хотя бы Толяна Дукалиса...
– Ну?
– Надо встретиться с Виктором Серебровским.
– Зачем?
– Ты говорила, что ноутбук Наташи теперь у него.
– И?
– Можно попросить разрешения на просмотр файлов его сестры. Может быть, там есть что-нибудь интересное.
– Виктор мог все удалить.
– Вряд ли. Ты говорила, что он искренне любил сестру, а потому вряд ли станет удалять память о ней.
Я высвободилась из рук Мастоцкого и задумалась. Да, вполне возможно, что Наташа написала о Феликсе то, чем его можно прижать к стене... Он прекратит свои чудовищные эксперименты над женщинами, если поймет, что придется за все ответить. Но кому ответить? А хотя бы нашим доблестным органам! Кажется, есть статья за доведение до самоубийства...
– Кира! Ну как мы найдем Виктора? – огорченно проговорила я. – Мы с ним не обменялись даже телефонами!
– Как-как?! По электронной почте!
– Я не знаю его адреса!
– Тоня! Иногда ты кажешься гораздо глупее, чем я привык о тебе думать!
– Да...
– Да! Он же приглашал тебя на кладбище!
– Но ведь из ящика Наташи!
– Тонька!!! – взвыл Мастоцкий.
Я вздрогнула и возопила не хуже его:
– Едем ко мне!
– Зачем?
– Чтобы посмотреть адрес Наташи.
– Брось, – Кирилл, мягко надавив на плечи, усадил меня все в то же кресло. – Я войду в твой комп из своего.
– Так, может быть, ты сможешь влезть и в записи Наташи?
– Ишь чего захотела! Я, конечно, ничего себе пользователь, но не хакер, не взломщик... Это с тобой мы давно побратались компьютерами...
* * *
Я не стану описывать, как мы с Мастоцким добрались до Виктора, как получили разрешение просмотреть файлы Наташи. Понятно, что Серебровскому тоже хотелось бы хоть как-то расквитаться с виновником смерти его любимых женщин, а потому он охотно предоставил нам компьютер сестры. Сразу скажу, что я удостоверилась в своей правоте: Манана Мендадзе и Феликс Плещеев – одно и то же лицо. Я приведу здесь несколько отрывков из записей Наташи.
«... сначала я решила, что он просто не знает, как отказать мне. Мамочка – очень красивая женщина, и не влюбиться в нее трудно, практически невозможно. В нее постоянно кто-нибудь влюбляется... Она всем отказывала, пока не явился он... Феликс... Он странный... Его нельзя назвать красивым, нельзя некрасивым... Он потрясающий...
Фу-у-у... я не о том хотела писать... не о нем, потому что о нем можно... но не буду... В общем, я решила: пусть он останется с мамой. Я еще молода, может быть, повезет еще раз... А у нее это последний шанс...»
«Так вот: я неправильно думала. Феликс вовсе не переживает за меня, но, похоже, и маму он... Боюсь написать, что мне пришло в голову. Вдруг ошибаюсь, а слова мои сбудутся. Говорят, такое бывает...»
«...теперь уже можно все назвать своими словами. Горько, но я ни в чем не ошиблась: Феликс ведет двойную игру. Странную. Опасную. Не могу понять, чего он хочет... Он не любит ни меня, ни маму. Это уже совершенно очевидно. Но что ему от нас нужно? Почему он не бросает нас? Зачем пытается жить с нами обеими, будто это норма?»
«...игра продолжается, но Феликс начинает делать ошибки. Мне и раньше не нравилась его квартира: безликая, полупустая, будто в ней живут от случая к случаю. Вчера я нагрянула к нему без предварительной договоренности. Феликс не смог даже изобразить радость, но пройти все-таки позволил. На диване валялось несколько романов популярной писательницы Мананы Мендадзе. Я посмеялась над тем, что уличила его в пристрастии к дамским романом. Он в ответ улыбнулся, но слишком уж натянуто, а потом чересчур поспешно выключил компьютер, который до этого я вообще никогда не видела включенным. Возможно, я и не заметила бы ни натянутости, ни поспешности, если бы уже давно не была насторожена. Особенно мне не понравился выключенный компьютер. Зато пришла в голову одна идея...»
«...в этот раз он привел меня к себе сам, а потому на диване не валялись томики женской литературы, а компьютер был выключен. Я принесла диск с фотографиями и стала привязываться к Феликсу, чтобы мы вместе посмотрели, какая я была в детстве, как похожа на юную маму. Я уже давно носила диск в рюкзачке и ждала удобного случая. Пришлось довольно долго корчить из себя дурочку, чтобы Феликс все-таки согласился включить компьютер. Мы смотрели мои фотографии. Феликс снисходительно, а я с выражением полного кретинизма на лице. В конце концов он расслабился. Я завладела мышкой и принялась дурачиться: загнала несколько фоток в „Photoshop“ и стала растягивать и удлинять лица, хохоча во все горло. Потом, как бы невзначай, попросила кофе. Феликс, совершенно спокойный на мой счет, вышел в кухню. Мне хватило нескольких минут, чтобы кое-что переписать с его системы на тот же самый диск. Сейчас посмотрю, что принесла домой. Пишу дневник, чтобы оттянуть время. Мне кажется, что я узнаю нечто отвратительное...»
«...отвратительнее не бывает. Игра Феликса не двойная... тройная... Я принесла домой бомбу... Если опубликовать в СМИ то, что я теперь знаю... Но мне не до СМИ. У меня свои проблемы. Бедная мамочка!!!
Черт! Черт! Черт! Зачем мне даны такие компьютерные способности?! Пользуясь тем, что перенесла на диск с фотками, я смогла влезть в систему Феликса. Он не Феликс! Он – Манана Мендадзе!!! Но это было бы еще ничего, если бы он просто писал романы и скрывался за женским именем. Не это страшно! Не это!»
«... не могла сразу дописать. Руки тряслись. В общем, этот дьявол – Феликс Плещеев – использует нас с мамой, чтобы написать новый роман!! Я читала страницы будущего произведения! Он не постеснялся описать даже интимные сцены... в том самом виде... в каком они и были на самом деле... Вот только язык... Безобразный... Я никогда не читала романов Мендадзе, поскольку вообще презираю женскую литературу. Неужели вся страна читает такое убожество? Неужели ЭТО может нравиться? Или на него работает целая свора редакторов? А что! Сюжетики-то он выдает классные! Какой ужас – проклятая Манана Мендадзе делает на нас с мамой свой бизнес! Я не хочу... Я не позволю... Я спутаю ему все карты...»
«... я хотела сказать мерзавцу, что все знаю, но... в общем, оказалось, что я беременна...»
«...действительность страшнее любого романа – мама беременна тоже. Нам обеим надо делать аборты. Мама против... она любит этого... этого...»
«...пришлось маме все рассказать... что с ней стало... этого не сможет описать даже гнусная Манана Мендадзе...»
«...Феликс сказал, что не любит нас обеих. Лицо его при этом было абсолютно спокойным. Мы с мамой застыли каждая в своем кресле, а он... ушел... Я еще не знаю, как расквитаться с ним... но... обязательно отомщу! Он будет помнить меня всегда!»
«... видела его с новой женщиной. Хотела броситься к ней с криками – беги от него прочь!!! Потом подумала, а вдруг он наконец влюбился... Она... та женщина... очень... даже не знаю, какая... В общем, не такая, как мы с мамой... Может быть, она сможет его победить? Адрес виртуального ящика этой особы запросто достала из компьютера Феликса, к которому у меня теперь постоянный доступ. На всякий случай я написала ей предостережение. Пусть подумает на досуге...»
«...я продолжаю читать роман о себе!!! Этот негодяй придумал мне смерть!!! Смерть!!! Он в своем романе написал, что я решусь на подпольный аборт и умру на квартире промышляющего этим врача. Откуда он узнал про беременность? Или это художественный вымысел, как и подпольный аборт?!»
«...для мамы он придумал другую смерть – она должна броситься в шахту лифта, который будто бы станут ремонтировать в нашем подъезде. Работяга будто бы отойдет перекурить, а она...»
«...несмотря на то, что я уговаривала маму на аборт, чтобы не рожать сатаненка, поняла: сама на это пойти не смогу. Ребенок ни в чем не виноват. Я любила его отца, когда отдавалась ему... Я не смогу убить свое дитя... Просчиталась Манана с подпольным абортом!»
«...не могу больше... жизнь ужасна... не хочу здесь больше находиться... наше место... ну... с моим ребенком... в другом измерении... Я подарю Манане другой конец романа. Тоже убойный! Тиражи будут многомиллионные! Прощай, Феликс-Манана! Прощай, мамочка, и прости... Прощайте, все... Витенька, не сердись на нас за то, что мы тебе ничего не говорили! Мы хотели стать счастливыми, две дурочки: я и мама...»
* * *
Да-а-а... Бедная девочка... Вот что она имела в виду, когда писала мне о том, что я прочту ее жизнь от корки до корки... Я действительно прочитала... Наташа думала, что предначертанная ей романом смерть – всего лишь беллетристика. Ей казалось, что Плещеев никогда не простит себе ее настоящую смерть. Наташа не знала, что все романы маньячки Мананы заканчиваются смертью героини. Самой настоящей смертью. А про криминальный аборт романной Кати – это так... всего лишь черновичок... на тот случай, если реальная Наташа устоит и не покончит с собой. Не устояла... Слишком чиста была и юна... И эта сволочь, Плещеев, переписал конец. И ничего в нем не дрогнуло... Еще бы: в его романах одна лишь правда жизни...
А еще Наташа боялась, как бы не запоздало мое прозрение... Чуть не запоздало. Феликс уже засунул меня за стальные звенья клетки, как ту волчицу из зоопарка. У меня сейчас наверняка такие же белые от ненависти глаза. Но, в отличие от нее, я найду, где подрыть проволочную сеть. У меня уже вздымаются бока от возбуждения... И возможно, что я... перегрызу-таки Плещееву горло, если... Словом, пусть только проявит хоть какую-нибудь слабину. Я наброшусь на него... Помните, что говорил про волков старый лесник, дед моей школьной подруги?
* * *
– Знаешь, Тоня, мне кажется, эта проклятая Манана описала и твой... мягко говоря... печальный конец... прости уж меня за это, – сказал Мастоцкий, когда мы ехали от Серебровского назад в Питер.
– Но если она думает, что я что-нибудь над собой сотворю и ей удастся переписать конец по живым следам, то... – запальчиво начала я, – ... то... черта с два это у нее получится, понял!
– Да я-то понял, только мне не нравится этот твой Маугли...
– Забудь ты его! Обыкновенный симпатичный домушник. Выглядывает на улице теток с заплаканными глазами, утешает изощренным сексом, усыпляет бдительность, подослав «мамашу», и при первом же удобном случае выносит вещи.
– Да вот что-то не забывается...
– Брось! Думай о хорошем!
– Это о чем же?
– А хотя бы о том, что у нас теперь против Плещеева есть такой компромат...
– Какой?
– А то ты не знаешь! Он ведь довел до самоубийства Наташу Серебровскую и ее мать. В Наташином дневнике это все явственно написано!
– А он скажет, что мы все это сфабриковали... придумали то есть... Ты, например, сочинила от ревности, когда он тебя... бросил!
– Ну-у-у... не знаю... Можно ведь, наверное, как-то проверить Наташин ноутбук, диск с данными, благодаря которым она проникала в компьютер Плещеева...
– Может быть... может быть... Хорошо, что Виктор нам его отдал. Я сам вряд ли что смогу с ним сделать, но у меня есть один знакомый паренек... Компьютерный гений! Может быть, он сможет залезть в компьютер Плещеева, и...
Я почему-то испугалась. Кирилл заметил это, обнял меня за плечи и очень бодрым голосом сказал:
– Не дрейфь! Возможно, нам удастся узнать, какой конец этот мерзавец уготовил тебе, и спутать все его планы.
– Наташа тоже хотела спутать...
– Но ты же не станешь делать глупости?
– Конечно, не стану!
– Вот и хорошо...
Мастоцкий заглянул мне в глаза. Я их быстрехонько опустила. Мне было невыносимо стыдно. Я, которая всегда так высоко ценила свою интуицию, не смогла разглядеть истинное лицо Плещеева! Влюбилась чуть ли не в Синюю Бороду.
Кириллу не понравились мои стыдливо опущенные глазки. Он резко приподнял мое лицо рукой и с горечью не столько спросил, сколько констатировал:
– Вот ведь не любишь ты меня...
– Оставим это, Кира, до лучших времен, – пробурчала я.
– Ладно, – кивнул он. – Попробую до них дожить... до лучших... Жизни-то хватит, Тонька?
Я не стала ему отвечать, села на диван и скорчилась в углу.
– Вот что! – опять начал Мастоцкий. – Завтра я все же отвезу тебя на дачу.
– В бронированном автомобиле?
– В обыкновенном.
– А на даче у тебя что, бункер?
– Я не думаю, что он станет подсылать к тебе наемных убийц!
– А вдруг так будет разворачиваться действие его романа?
– Тонь, он не творит, а списывает с жизни.
– Но ведь придумал же криминальный аборт Наташе!
– Но она же его не сделала!
Не могу сказать, что наш диалог меня успокоил, а потому я сказала:
– Кира, у меня ведь и отпуск кончился...
– Или я тебе не начальник?!
– А Кузовкова... – начала я.
– А Кузовкову, – продолжил за меня Мастоцкий, – собираются перевести в другой отдел, так что ей уже до тебя не будет ровным счетом никакого дела!
– Конечно, я рада за Леночку... она давно хотела перевестись к снабженцам... но неужели ты думаешь, что мне на даче будет спокойнее... одной...
– Не одной! Я буду с тобой! Меня обещали после командировки отпустить на все четыре...
– А вдруг...
– Только путь попробуют!
* * *
С утра Мастоцкий съездил на работу, отчитался о командировке, раздал задания коллективу, лично отвел Кузовкову в отдел снабжения, отдал диск Наташи Серебровской компьютерному гению и вернулся домой. Я, почти как верная жена, подала ему обед.
– Вот бы каждый день так жить! – заявил Кирилл, уплетая за обе щеки мой фирменный суп из шампиньонов.
Я не ответила, потому что не могла даже представить, каким образом дальше будет развиваться наша жизнь. Что-то должно было произойти, но что...
– Не грусти, Тонь, – погладил меня по руке Кирилл. – Я вот сейчас доем и кое-что тебе покажу.
Я кивнула головой без всякого интереса и продолжила хлебать рядом с ним суп, который казался безвкусным. Я солила его и солила, до тех пор, пока Мастоцкий не отобрал у меня солонку. После этого он отодвинул тарелку с так и недоеденным моим кулинарным шедевром, встал из-за стола и очень скоро вернулся на кухню с чем-то зажатым в кулаке. Если бы он знал, насколько мне было неинтересно знать, что у него там зажато...
Мой начальник Кирилл Анатольевич зашел ко мне со стороны спины и надел на шею какое-то ожерелье или колье. Я дотронулась рукой до прохладных камней. Хорошо, что не золото с бриллиантами, а то он мог бы... Пришлось встать со стула и идти к зеркалу. На груди красиво лежало плоское колье из змеевика, так мною любимого... Я не выдержала и разрыдалась. Кирилл прижал меня к груди и опять стал говорить о своей вечной любви. Я молча всхлипывала. Тогда он стал рассказывать, как договорился о новых замках для двери моей квартиры. Я продолжала гнусно сопеть. Терпеливый Кирка нашел в себе силы не обидеться. Он сказал:
– Все! Собирайся! Едем!
Нищему собраться – только подпоясаться.
Примерно через полчаса мы уже ехали в Завидово.
* * *
Я не была в этом поселке с тех самых пор, когда наша студенческая группа праздновала в дощатой хибаре семьи Мастоцких сдачу одного из последних экзаменов. Как говорится, воды с тех пор утекло немерено. Завидово было не узнать. Теперь многим его жителям действительно стоило позавидовать. От шоссе в глубь бывшего садоводства вела широкая асфальтированная дорога, которой раньше не было и в помине. По левую руку от нее лепились скромные, но тоже несколько похорошевшие со времен моей студенческой юности домики дачников Киркиного образца и достатка. Зато по правую... Такие коттеджи я видела только в кино и на снимках в газетах, жирующих на объявлениях о купле-продаже недвижимого имущества. У меня настолько неприлично отвесилась челюсть, что Мастоцкий вынужден был по ходу дела давать пояснения:
– Вот это дача диджея радио «Мост», Бруччо.
– Бруччо? – удивилась я, оглядывая аккуратненький особнячок в викторианском стиле.
– Ага... Кликуха такая. Псевдоним, значит... Ты не слушаешь «Мост»?
– Я вообще радио не слушаю...
– А... ну да... Я и сам-то только в машине. В общем, этот Бруччо в прямом эфире такие «забранки загинает», что уши вянут, зато видишь, какую дачку отгрохал!
Я подумала, что для этого Бруччо работа – одно, а личная жизнь – совсем другое... Ну... это как... Вот возьмем, к примеру, палача... Он рубит головы, потом любовно вытирает лезвие сначала ветошью, потом мягким бархатом, после укладывает свой топор в футляр, подобный скрипичному. Дома он запирает его в затейливый шкафчик и идет нянчить детей, которых у него штук семь: мал мала меньше... чтобы, значит, компенсировать нарубленное... А тот, который в телевизоре рассказывает отвратительные анекдоты исключительно про разного рода совокупления, в жизни, наверное, носит пояс целомудрия и не выпускает из рук Святого Писания. А эта...
– Тонь! Посмотри правее! – донесся до меня голос Кирилла. – Вот тот дворец – и есть дача Гороховского!
Я, вывернув шею, увидела монументальное сооружение из красного кирпича с массой разнообразных башенок на крыше. Да-а-а... Если бы я была футболистом, построила бы себе что-нибудь спортивное: из стекла и бетона, как крытый бассейн. Воистину: работа – работой, быт – бытом. В доме-бассейне Дане, может быть, и не захотелось бы сводить счеты с жизнью. А эти кирпичные башенки и почти крепостные стены настраивают на определенный лад: будто ты узница в замке привидений... Особенно в отсутствие хозяина...
На перекрестке, где широкую дорогу пересекала довольно узкая, стоял еще один очень красивый особнячок без особых прибамбасов, но очень изящный, со стенами, увитыми плетями уже увядшего плюща, что его совсем не портило.
– А это и есть дача телеведущей Зарины Корниловой, – сказал Кирилл.
– Значит, твоя где-то рядом? – спросила я.
Кирилл кивнул, свернул с широкой дороги на узкую и очень скоро остановил машину у небольшого домика, почти скрытого разросшимися деревьями.
Дачка Мастоцкого выглядела гораздо лучше, чем на заре нашей юности. Ее дощатые бока обшили вагонкой, крашенной спокойной охрой, крышу покрыли терракотового цвета черепицей.
– Прямо домик бабушки Красной Шапочки, – сказала я, улыбнувшись этому домику.
– Ага! Только у меня на дверях пара замочков фирмы «Цербер», под ставнями – решетки и – никаких веревочек.
– Что? Громят?
– А ты думала! Как только сезон пройдет... налетают, соколы...
– Но ведь тут теперь такие особняки. Наверняка охрана...
– Это у них охрана, а у нас – замки и решетки.
– Кир, а ты не боишься, что они... ну эти... которые могут позволить себе строить особняки, как-нибудь купят всю землю в Завидове вместе с потрохами, то есть с вашими дачками? Похоже, элитное местечко организовывается...
– Да... поговаривают уже об этом, но пока держимся. Многие уже успели сами выкупить землю. Теперь ее можно только перекупить или...
– Или что?
– Думаю, радикальные меры тебе известны... Входи!
Кирилл наконец открыл все запоры, и мы вошли в маленький коридорчик. В лицо неприятно пахнуло затхлостью.
– Да... амбре еще то, – скривился Мастоцкий. – Но это неизбежно, когда дом месяцами стоит закупоренным. Сейчас проветрим!
Он первым прошел в комнату и открыл настежь все окна.
– Замерзнем же! – простонала я. – Чай, не лето!
– Согреемся! У меня тут обогреватели есть...
Потом мы устраивались. Мне пришлось здорово попотеть, чтобы привести в порядок дачное жилище холостяка. Что делал на участке за домом Мастоцкий, я не вникала. И только когда во все еще открытое окно потянуло вкусным дымком, поняла – топил баню. Она и тогда была, эта баня, в нашу студенческую пору. Разумеется, мы ею не пользовались. Не то время было, чтобы устраивать на даче свальный мыльный грех. А что теперь? Теперь Кирилл хочет... А почему бы ему этого не хотеть? Мы уже не раз были близки. Но теперь все по-другому... Он сделал мне официальное предложение, которое я вполне официально приняла. В наше свободное время можно считать, что я уже за ним замужем. Мы будем вместе париться в бане, как муж с женой... Странно это... Отдаваясь Кирке, я всегда знала, что это так... баловство... что потом обязательно будет другой мужчина – лучше, интересней... Другого больше не будет. Могу ли я этому радоваться? Нет, но приму как должное. Все! Я замужняя женщина и – точка!
Кирилл пригласил меня в баню очень смущенно, словно думал, что я откажу. Он тоже с трудом постигал наше новое положение и не особенно мне доверял. Мало ли, что дала слово. Как дала, так и назад возьму. Я не возьму... Не возьму!
Я услала Мастоцкого в банный домик, пообещав прийти через несколько минут, и крепко задумалась. Похоже, у меня сейчас будет первый брачный помыв... Надо бы как-нибудь это дело обставить... Но как? Здесь же ничего нет... Хорошо бы надеть тонкую хлопковую сорочку, которая сразу прилипнет к телу, красиво вырисовывая его изгибы. Потом, постепенно намокая, она станет почти прозрачной, и...
Но где же взять белую сорочку? Я переворошила в домике все полки шкафа и старинный комод. Из нижнего ящика этого самого комода неожиданно вытащила белый мужской тельник, старый, выношенный до ветхости, а потому очень тонкий. Он, наверно, принадлежал еще Киркиному деду, потому что наши отцы уже таких вещей не носили. Это было как раз то, что надо. Я быстренько разделась догола и натянула на себя тельник, пахнувший лежалым бельем. Ничего, банный дух перебьет неприятный запах. Рубаха была просторной и доходила мне до колен. В широком вороте с оборванными пуговицами красиво смотрелся подарок Мастоцкого – колье из змеевика. Снимать не буду. Красиво. Пикантно. И длинные рукава, скрывающие кисти, – тоже интересно. Эх, венок бы еще на голову, и прямо день Ивана Купалы... Ладно, без венка тоже неплохо...
А потом было то, что я и задумывала. Рубаха Киркиного деда впитала в себя аромат березовых веников и облепила мое тело. Мастоцкий целовал его через дедову рубашку, потом спустил с плеч, и я вылезла из нее через широкую горловину. Ожерелье из змеевика тоже пришлось снять, потому что оно грозило ожечь мне шею. И поцелуи Кирилла жгли и распаляли и без того горячее тело. И я даже назвала его милым... может быть, и любимым... И то, что не было правдой, стало ею... на время... на дивный вечер, а потом на такую же потрясающую ночь. То утро, которое мудренее и которое все непременно расставит по нужным местам, не наступало долго. Мы оба не хотели, чтобы оно наступило. С его приходом надо было решать кучу неприятных вопросов, и мы тянули время, как могли. И оно тянулось, резиновое, упругое... В домике, как и обещал Кирилл, было тепло от масляного обогревателя, а потому не нужна была одежда. Нужны были только поцелуи и объятия, срастание друг с другом, приносившее нечеловеческую негу, охватывающую наши тела, снова и снова толкающую их друг к другу.
Проснулись мы далеко за полдень, и оба не могли вспомнить, как же умудрились уснуть.
– Ты моя жена, – шепнул мне Кирилл.
– Хорошо, – ответила я.
– Странный ответ.
– Нормальный.
– Хотелось бы чего-нибудь поласковее...
– Не торопи меня, Кирюша, – попросила я.
– Ну... только за «Кирюшу» из твоих уст я согласен порвать в клочья всех твоих врагов.
Таким образом мы и вернулись к нашим баранам.
– Как ты думаешь, сколько времени понадобится твоему компьютерному гению, чтобы разобраться с диском Наташи и что-нибудь предпринять? – спросила я.
– Понятия не имею. Он обещал позвонить.
– И что же, сидеть и ждать?
– Зачем? Пойдем прогуляемся по поселку. Ты еще не все особняки видела.
– А кто из известных лиц еще у вас живет?
– Я всех и не знаю, тем более что многие не бывают на тех тусовках, которые снимает телевидение и всяческие папарацци. Думаю, что тут полно просто бизнесменов, которым особенно светиться ни к чему.
* * *
Да, особняков в Завидове высилось много. В основном вычурные и помпезные. Казалось, что их хозяевам просто некуда было девать деньги, иначе они не стали бы устанавливать у себя при входе чуть ли не эрмитажных атлантов, а водяные сливы с крыш делать в виде мерзких морд, подобных химерам собора Парижской Богоматери. Но один особняк с изящной балюстрадой мне понравился. Я даже попросила Кирилла подойти к нему поближе. Он был отделан плиткой из пепельного гранита и чуть-чуть (очень в меру) лепниной.
– Кто тут живет? – спросила я Мастоцкого.
– Понятия не имею, – ответил он. – Мы далеко забрели от моей фазенды. Никогда не видел хозяев.
– У них, в отличие от остальных буржуинов, хороший вкус.
– Согласен.
– Гляди, какая красивая решетка у ворот! – не отставала я. – Пойдем потрогаем!
– Ага! Потрогаешь, и тут же сирена взвоет!
– А что, бывало?
– У этой Корниловой, домина которой напротив, иногда так воет, что хочется на всякий случай спрятаться в подпол: мало ли – война!
Я рассмеялась. В этот момент ажурные ворота растворились, и из них вышла женщина. Тихо охнув, я спряталась за своего начальника и без пяти минут мужа. Из-за его плеча я следила, как женщина быстрым шагом удалялась от нас.
– Ты что, Тонь? – встревоженно спросил Кирилл, вытаскивая меня из-за своей спины, когда женщина скрылась за поворотом. – Ты знаешь эту тетку?
Я кивнула, потому что говорить не могла: язык, что называется, присох к небу.
– Тоня! Да что случилось-то? Не пугай! – Мастоцкий чувствительно тряхнул меня за плечи, отчего мой язык наконец отклеился, и я прошуршала все еще сухим ртом:
– Это Надежда Валентиновна...
– Отлично! И кто ж она такая?
– Мать... Феликса... Я же тебе рассказывала про нее...
– Мать... Я уже и забыл ее имя... Но...
– Что «но»?
– Я говорю: может, ты обозналась... Что-то она уж больно простовата для родительницы великой Мананы.
– Она всегда просто одевалась... когда и в нашем доме жила...
– Может, эта сволочь... на нее денег жалеет?
– Не знаю... – безразлично уронила я и тут же вскрикнула: – Кира!!!
– Что?! – с таким же ужасом в голосе отозвался он.
– Нам надо с ней поговорить!
– О чем?
– О... ее сыне...
– И что ты ей скажешь?
– Все, что знаю.
– Она, наверно, и так в курсе. Не могла же не спросить сыночка, на какие шиши он отгрохал себе этот дворец.
– Она может не знать всего. Знает, что он пишет книги, но откуда берет сюжеты, не догадывается, хотя...
– Тонька! Перестань делать многозначительные паузы! – взревел Мастоцкий.
– Понимаешь, Кира... я вспомнила один странный разговор Феликса с матерью... Она точно знает, чем он занимается, потому что говорила о его профессии и еще что-то такое про игры...
– Какие еще игры?
– Я... Я не могу вспомнить, потому что тогда не придала этому особенного значения...
Я хотела поделиться с Кириллом еще кое-какими соображениями, как вдруг он прижал меня к дереву и принялся целовать. Я начала брыкаться, потому что его нежности были совершенно неуместны и некстати.
– Она идет назад! – шепнул мне Мастоцкий. – С бидончиком. Я знаю, куда она ходила. Тут неподалеку живет женщина, у которой козы. Она их молоко продает, говорят, полезное...
– Странно, что мамаша Феликса сама ходит за молоком, будто крестьянка по воду, – буркнула я, пытаясь разглядеть Надежду Валентиновну из-за Киркиного плеча. – Этот... которая Манана... наверняка мог бы обеспечить доставку молока на дом.
– А может, его маменьке прогуляться хочется... моцион, так сказать, совершить...
Не знаю, что мне вдруг стукнуло в голову, но я с силой оттолкнула Кирилла, который на это явно не рассчитывал, и выскочила на дорогу перед самым носом Надежды Валентиновны.
– Здрасссь... – произнесла я, впиваясь в нее глазами. Не призрак. Реальная женщина. Та самая, которая была моей соседкой и угощала сушками без мака, а сама трескала курабье.
Надежда Валентиновна вздрогнула и уронила бидончик. Молоко расползлось по асфальту огромным белым осьминогом. Мои джинсы и ноги матери Феликса были заляпаны жирным каплями.
– То-о-оня... – протянула она.
– Она самая... – Мне хотелось рявкнуть ей это в лицо, но гортань выдала жалкое сипение.
Мать Плещеева взяла себя в руки быстрей.
– Ну и чего же ты хочешь, Тоня? – спросила она и подняла пустой бидон.
– Поговорить, – несколько тверже сказала я, так как за плечи меня уже обнимал Мастоцкий.
Надежда Валентиновна оглядела его равнодушным взглядом светлых глаз и спросила:
– О чем?
– О том, что у нас есть материалы, мягко говоря, компрометирующие вашего сына.
– Да ну?! – улыбнулась она, и улыбка ее мне не понравилась. Впервые. Раньше я не замечала, что у нее такая неприятная улыбка. Мне хотелось ей сказать, что она зря улыбается, но женщина спросила: – И в чем же они состоят?
– У нас есть неопровержимые данные, что ваш сын является виновником смерти нескольких женщин! – выпалила я.
– Даже так? – Что-то в лице Надежды Валентиновны неуловимо изменилось, но она все так же невозмутимо вытряхнула из бидона на асфальт остатки молока и сказала: – Что ж... тогда пройдемте в дом.
Внутри дом был так же хорош, как и снаружи. Отделан дорого, но с большим вкусом, в приглушенных пастельных тонах. Интерьеры были будто выписаны акварелью. Очень простые, тонкой сеточкой тюлевые занавески пропускали свет в виде легкой дымки, которая гармонировала с обликом женщины, здесь проживающей. Я придирчиво оглядела ее одежду. Да, проста. И все же не такая, в какой она ранее принимала меня у себя в гостях. Ее прямая серая юбка и чуть голубоватый джемпер, думаю, стоили больше моей месячной зарплаты.
Надежда Валентиновна привела нас в просторную гостиную, центр которой занимала массивная кожаная мебель бежевых тонов. Кресло, в которое я упала, казалось, тут же под меня подстроилось, со всех сторон бережно поддерживая мое тело. Так удобно я еще никогда не сидела. Тем лучше. Не встану, пока все не выясню. Рядом со мной устроился Мастоцкий, всем своим видом демонстрируя хозяйке, что бросится на мою защиту в любую минуту.
Надежда Валентиновна уже совсем справилась с собой. Ее лицо было невозмутимо и непроницаемо. Если бы не застывшие капли козьего молока, можно было подумать, что резкого разговора не было.
– Ну так что же вы хотели мне поведать? – светским тоном начала она.
И я рассказала матери Плещеева о дневнике Наташи Серебровской, а также поделилась своими соображениями на предмет литературной деятельности ее сына. Выслушав меня, она немного помолчала, а потом проронила в пространство:
– Я всегда говорила, что до добра это не доведет...
– Послушайте, милейшая! – взорвался Мастоцкий. – А не кажется ли вам, что вы могли бы прекратить это на корню?!
– Вы считаете, что я имею хоть какое-то влияние на своего сына? – усмехнулась она.
– Ну... он же не вчера начал писать свои романы! – продолжил Кирилл. – Неужели вы не знали, откуда он берет сюжеты?
– Знала. – Надежда Валентиновна выпрямилась в кресле. – Но первую его книгу я одобрила, вернее, сама же на нее, если можно так выразиться, подбила.
– То есть? – удивилась я.
– Видите ли, его очень сильно оскорбила и... предала женщина... Он был еще молод... впал в страшную депрессию. Я должна была что-то сделать... как-то помочь... Перепробовала много способов привести его в норму, а потом вдруг меня осенило, и я предложила ему записать свои переживания, сжечь написанное и таким образом освободиться от гнетущих воспоминаний.
– Видимо, он не сжег?
– Вы правы.
– То есть ему понравилось таким образом освобождаться от гнетущих воспоминаний?
– Да.
– Надежда Валентиновна, – вступила в разговор я, – не станете же вы утверждать, что не знали, как ваш сын манипулировал женщинами ради успеха своих романов.
– Он... не для успеха...
– А для чего?
– Он мстил. – Лицо Надежды Валентиновны тоже приобрело жесткое мстительное выражение.
– Да за что же мстить Наташе Серебровской, которая его любила?!
– Вам не понять...
– А вам?!
– А я... я понимаю! Я его мать! Когда у тебя, Антонина, будут дети, ты меня вспомнишь!
Мне хотелось сказать, что я тоже любила Феликса, но не успела, потому что его мать спросила первой:
– Сколько стоят ваши... материалы?
– Они бесценны, – опередил меня Мастоцкий.
– Ну и куда вы собираетесь с ними пойти? – с каменным лицом спросила Надежда Валентиновна.
– Для начала можно в любую популярную газету типа «Комсомольской правды».
– А потом?
– А потом – в органы.
– Зачем?
– Чтобы предотвратить дальнейшие его преступления.
– Но женщины сами! – взвизгнула Надежда Валентиновна.
Я никогда не видела на ее лице выражения такого бешенства.
– Вы прекрасно знаете, что до самоубийства их доводил ваш сын, – спокойно сказал Кирилл, поднялся с кресла и предложил мне руку, как бы давая понять хозяйке дома, что разговор не состоялся.
– Подождите! – уже гораздо спокойнее произнесла она. – Вы ведь зачем-то пришли... Не только же для того, чтобы сказать мне о том, что узнали.
– Да, – согласилась я и рукой подтолкнула Мастоцкого обратно к креслу. Он нехотя опустился в него. – Я хочу знать, какова ваша роль во всей этой истории?
– В какой? – Надежда Валентиновна сама вскочила с кресла, и я увидела, что руки ее слегка подрагивают.
– Скажите, зачем вы поселились в наш дом, коль у вас... – я обвела рукой прекрасную стильную гостиную, – ...такие хоромы?
Женщина усмехнулась, прищурилась, посмотрела на меня с нескрываемым презрением и сказала:
– А за новыми впечатлениями.
– То есть? – искренне удивилась я.
– Я поселилась в обычном доме, чтобы мой сын, который непременно будет приходить меня навещать, нашел... скажем так... новых знакомых. Мы часто так делаем.
– Новых женщин?
– Не только. Здесь, в Завидове, мы с ним отдыхаем, а в городе – работаем. У каждого своя работа.
– То есть... вы.. нет... – Я никак не могла выразить мысль, которая вертелась у меня на языке, потому что она казалась чудовищной.
– Вы что, с ним вместе работаете? – выразил мою мысль Мастоцкий. – Ильф и Петров, значит?
– Я просто делаю то, что просит меня мой сын. Повторяю, вам этого не понять, пока у вас не будет своих детей.
– А наши бабки... ну с крыльца... – опять начала я. – Почему они уверяли маня, что никогда не видели ни вас, ни Феликса? Плели про какого-то Шурика...
– Неужели непонятно, что для получения нужных материалов приходится идти на определенные затраты?
– Вы им заплатили?
– Разумеется.
– И сколько же стоит их молчание, если наши женщины в принципе не умеют молчать? – изумилась я.
– Они получили не деньги, а то, что им очень нужно, но может быть в любую минуту у них изъято, если они скажут хоть одно лишнее слово.
– Дальновидно... А можно узнать, что именно они получили?
– Ну, например, одна из них – микроволновку...
– То есть вы готовы были ее отнять, если вдруг что? – перебила ее я.
– Запросто, – усмехнулась она. – Продолжать?
– Не надо... Хотя вот Ненила... та старушка, которая не снимает вязаную серую кофту...
– А ей было достаточно двух пакетов корма для ее любимых кошек, – рассмеялась Надежда Валентиновна. – Кому что, милочка... Я хорошо изучила людей.
– А ваш приступ? Больница?
Надежда Валентиновна улыбнулась:
– Вот это было настоящим. Я действительно страдаю гипертонией, но не в той степени, в которой тебе продемонстрировали. Я просто поняла, что ты, Антонина, не такая, как все, а потому можешь стать хорошей моделью для... ну... ты понимаешь...
Я понимала и не понимала одновременно, а потому пролепетала:
– А тот... пенсионер с зелеными кошками на обоях... – Как там-то вы умудрились все переделать? Я же не сумасшедшая! Я же видела, что пришла в ту самую квартиру, где жил Феликс!
– Просто повезло. Книги Феликса экранизируют. Он и предложил один из эпизодов фильма, который уже в производстве, снимать в той квартире. Декораторы постарались на славу! Пенсионер – разумеется, артист, которому тоже было хорошо заплачено за то, что он поживет в этой обстановке месячишко. Больше и не понадобилось бы.
– Но запах! Как можно смоделировать запах запущенного жилища старого холостяка?
– А этот актер и есть старый запущенный холостяк, запахом которого моментально пропиталось жилище.
– А девчонка... у которой оказался мобильник Феликса...
– Разумеется, тоже актриса! И очень хорошая, между прочим! Если бы не договоренность, я бы назвала вам ее фамилию. Вот уж удивились бы!
Я в ужасе сжалась в кресле. Эти люди, похоже, могут по собственному желанию смоделировать все! Любой эпизод... любую жизнь... любую смерть...
– Скажите... а этот Мауг... в смысле, Вадим, который... – начал Кирилл, тщательно подбирая слова, и я поняла, что он тоже потрясен.
– А этот Вадим... – Надежда Валентиновна опять презрительно поджала губы, – ...поганец! Ему было дано другое задание, а он... подлец! Мамаша его тоже – дурища! Никак не поймет, что ее драгоценный Вадичка – не маленький пай-мальчик, а вполне сформировавшаяся не без ее участия большая сволочь!
– Мне кажется, что для квартирных воров поганец – слишком мягкое определение! – возмутилась я. – В квартиру... это... это даже не в карман залезть! И вообще...
– Подожди, Тоня, – остановил меня Мастоцкий и обратился к матери Феликса: – Вы говорите, что ему было дано другое задание... Какое еще задание... – Кирилл уже не мог даже держать вопросительной интонации.
– Ну вот что! – твердым голосом хозяйки положения сказала Надежда Валентиновна. – Я вовсе не обязана вам это говорить. А на Вадичку можете подавать заявление в милицию. Чем раньше его посадят, тем лучше!
– И вы не боитесь...
– Нет! Этот Вадичка лучше отсидит несколько лет, чем скажет хоть слово о Феликсе или обо мне!
– Потому что...
– Потому что в противном случае его осудят пожизненно.
– Вы страшные люди... – Проговорил Мастоцкий, пересел на подлокотник моего кресла и обнял меня за плечи.
– Мы обычные люди, – с усмешкой ответила Надежда Валентиновна. – Феликс пишет для удовольствия миллионов читателей уже по всему миру, а я... я всего лишь помогаю ему, как могу. В общем, у нас работа такая.
– Ясно, пошли, Тоня! – Кирилл опять попытался вынуть меня из кресла.
– Погодите, – еще раз остановила нас Надежда Валентиновна. – Я понимаю, что у вас есть против Феликса что-то существенное, в противном случае вы не пришли бы сюда, верно?
Мы с Мастоцким синхронно кивнули.
– Так вот: предлагаю бартер!
Мы с Кириллом выпучили глаза. Какой еще бартер возможен в нашем случае?
Надежда Валентиновна поправила выбившуюся на висок дымчатую прядь и сказала:
– В обмен на ваши материалы я предлагаю тебе, Антонина, последние страницы романа о ваших с Феликсом отношениях.
При этих ее словах я превратилась в ничто, бесплотный дух. Мне предлагали узнать, чем все должно завершиться. Просмотреть, так сказать, Книгу Судеб на страничке, посвященной моей кончине.
– Неужели вы считаете, что случится именно то, что ваш маньяк-сын там напридумывал? – спросил за меня Мастоцкий.
– Очень может быть. Чаще всего случается именно так.
– Нет! Ничего не выйдет! Мы с Антониной женимся... венчаемся, и никто ничего не сможет с нами сделать! Не программируете же вы, в самом деле, чужую жизнь!
– Как знать, молодой человек, как знать... – Надежда Валентиновна проговорила это с интонацией пифии.
Этого я уже вытерпеть не смогла. Все мое тело бывшей Волчицы завибрировало от самого настоящего животного страха. Против этой женщины я была всего лишь жалким ягненком, который (согласно известной басне) был виноват уж только тем, что Феликсу с мамашей хотелось кушать на серебре и золоте. Да-а-а-а... Слишком много я о себе навоображала. Права была Леночка Кузовкова, когда считала мою индивидуальность выпендрежем чистой воды. Мне не перегрызть этим людям горла... Никогда...
Кирилл наконец сумел вытащить меня из кресла, и мы покинули «гостеприимное» жилище.
В дверях я все же нашла в себе силы, чтобы обернуться и спросить:
– А где сам Феликс-то?
Надежда Валентиновна даже не посчитала нужным мне ответить. Она повернулась к нам спиной и будто растворилась в своем дымчатом жилище. Мы с Кириллом выбирались за пределы владений Плещеевых самостоятельно. Меня уже колотила самая настоящая дрожь, сопровождаемая зубовным перестуком. Кирилл что-то пытался мне говорить, но я в ответ только клацала челюстями.
В домике Мастоцкого я уже смогла выговорить кое-что членораздельное:
– Кира! Я их боюсь!
Он хотел мне что-то сказать, но именно в этот момент подал голос его мобильник. Я не вслушивалась в разговор Кирилла, потому что не могла перестать думать о визите в особняк Плещеевых. Когда Мастоцкий отключил телефон, лицо его выглядело растерянным.
– Что случилось еще? – прошептала я.
– Да понимаешь... Сашка... тот самый, кому я отдал диск Наташи, сказал, что комп пуст.
– Что? – не поняла я.
– В общем, благодаря Наташиным данным Сашка легко вошел в компьютер Феликса...
– Ну и?
– Ну и... в нем вообще нет никакой информации. Нет папок с файлами. Одна ерунда: несколько программ и игры, игры... игры...
– Может, твой Сашка не такой уж гений, каким ты его представлял?
– Нет, Тоня, он действительно может многое, если не сказать – все. Если говорит, что в компьютере ничего нет, значит, действительно нет.
– А не может быть так, что он... ну... нечаянно... вошел в другой комп... не в Феликсов?
– Исключено. Видимо, Плещеев и тут соломки подстелил.
– И что теперь?
– Все то же. У нас есть записи Наташи Серебровской. У ее брата – в целости и сохранности ноутбук сестры. Это значит, что мы можем... как я и говорил этой... грымзе... идти или в милицию, или для начала предоставить материалы СМИ. Представляешь, какой скандал мы раздуем. И это только мягко сказано – скандал! Думаю, Манане Мендадзе грозит тюремное заключение!
– Но ее... то есть его... книги при этом только вырастут в цене!
– Плевать! Тоня! Какое нам дело до его книг? А потом... как всегда, найдутся неравнодушные люди, которые призовут к какому-нибудь бойкотированию книг убийцы!
– Вряд ли это бойкотирование на что-нибудь повлияет. Думаю, что, если бы сейчас вдруг нашлись, к примеру, записки Чикатило, их выпустили бы сумасшедшими тиражами и благодарные читатели расхватали бы книги за день! Ты только посмотри, какие нынче расплодились программы на телевидении. Люди смакуют трагедии, не говоря уже о несчастных случаях и неловких ситуациях, в которые каждый из нас попадал. Комментаторы, сглатывая сладкую слюну, говорят: «Давайте посмотрим на катастрофу этого самолета еще раз!»; «А вот теперь более крупный план того, как N нечаянно сел мимо стула!»
– И все равно мы должны сделать то, что должны!
– А если они успеют опередить нас? – опять с трудом ворочая языком от страха, проговорила я.
Мастоцкий в очередной раз прижал меня к себе, пытаясь спасти от тревожных раздумий. Но разве от них спасешь?
– Тоня! Ничего не бойся! – сказал он. – Материалы Наташи в надежном месте! Я не позволю упасть с твоей головы ни волоску!
– Не говори банальностей, Кира, – просопела ему в грудь я.
– Это не банальности, а правда жизни. Я за тебя, Тонька, на что хочешь пойду, хотя ты этого совершенно не заслуживаешь!
Эти слова заставили меня улыбнуться. Я отстранилась от Мастоцкого, с интересом посмотрела ему в лицо и с удивлением обнаружила, что он очень даже ничего себе мужчина. Я была знакома с ним так давно, что, казалось, знала его всего наизусть. Сегодня его пестро-серые глаза показались мне очень красивыми, а губы...
В общем, потом мы чуть ли не весь остаток дня провели в постели. Я старалась думать только о том, что мой будущий муж – классный мужчина во всех своих проявлениях и я совершенно напрасно так долго им пренебрегала. И свадьбу мы закатим роскошную, назло всем чикатилам! И я, бывшая Волчица, уберу себя розовыми цветочками и бабочками, как какая-нибудь кукла Барби! Назло! С прошлой жизнью покончено навсегда.
Часть IV
Я собирался сам все рассказать Волчице, но она узнала раньше положенного. Мне доложила об этом мать. Как же я ее ненавижу! Как же ненавижу! Давно известно, как веревочке ни виться... К чему же приведет конец этой веревочки?
Все началось давно... Мне было лет двадцать, когда мать наконец поняла, что девушкам я активно не нравлюсь. Я переживал очередную несчастную любовь, и она посоветовала мне записать все то, что не дает покоя, на бумагу, а потом сжечь написанное. Сказала, что это какой-то особый прием, который советуют психологи. Мне было настолько плохо, что я готов был воспользоваться чем угодно. Я записал. Хотел сжечь. Искал спички, так как никогда не курил. Пока искал, мать ознакомилась с записями. Я разозлился на нее за то, что она сунула свой нос туда. Она заявила, что имеет право все обо мне знать, как мать. Это была наша первая с ней ссора.
Записанное я все-таки сжег. Потом произошла очередная неудача. Я снова написал об этом уже в предвкушении, как будут корчиться в огне страницы. Хотелось заодно увидеть в бликах пламени корчившееся в адовых муках лицо той девушки, которая с брезгливостью отказалась от меня. Мне казалось, что я увидел. Это было захватывающее зрелище. Мне резко полегчало. Мать дала дельный совет.
А потом я нечаянно чуть не спалил весь дом. Когда на столе, на металлическом подносе, пылала моя очередная несчастная любовь, подал голос телефон в другой комнате. Звонил старый знакомый, с которым я говорил до тех пор, пока не стало ясно: горит вовсе не помойка во дворе, как мне сдуру показалось, а что-то в нашей квартире. В общем, выгорела моя комната, после чего мы здорово поскандалили с матерью. Это была уже не просто ссора, а настоящий скандал. Тоже первый и необыкновенной силы. Может быть, мы с ней так разбушевались именно потому, что больше двадцати лет жили душа в душу. Должно же это было когда-нибудь кончиться. Я орал благим матом, потому что вдруг решил выместить на матери все свои неудачи. Кто меня родил эдаким страшилищем? Она! Кто научил меня превращать в пепел несчастные любови? Опять она! Мать же кричала, что из-за меня не сказала «да» ни одному мужчине, который предлагал ей руку и сердце. Я вопил, что мне начхать, кому она и по какой причине отказала. Я же ее об этом не просил!
После этого скандала мы с матерью разъехались, благо у нее где-то были какие-то знакомые, которые помогли сделать это абсолютно без потерь. Мы с ней получили по однокомнатной квартире, правда, на задворках Питера. Мне было плевать где: лишь бы не с ней.
Через некоторое время мы помирились. Когда живешь с родителями раздельно, отношения резко улучшаются. Мать стала приходить ко мне в гости, иногда готовила обед, иногда устраивала постирушки. Я тоже бывал у нее в гостях. По обстановке в квартире понимал, что никаких мужчин, о которых она мне заливала, у нее и в помине нет. Хотя... может быть, они остались в прошлом. Мать, увы, не молодела и не хорошела. Впрочем, в отличие от меня, она всегда была бледна и как-то сера. Думаю, что и грузин Серго в свое время запал на нее только потому, что она резко отличалась от знойных женщин солнечной Грузии. Для него она была своего рода экзотичной.
Потом я купил компьютер. Истории о своих несчастных любовях набирал одним пальцем в текстовом редакторе, а потом глумился над собственными записями: заливал их виртуальной кровью, скручивал чуть ли не в узел, заставлял «тлеть» уголки. Иногда мне так нравилось, что я сделал с текстом, что я оставлял файлы в специальной папочке под простеньким названием «Собакам собачья смерть».
А однажды в осеннюю эпидемию гриппа я томился в огромной очереди к участковому терапевту. Рядом со мной на коричневой клеенчатой кушетке сидела девушка и читала книгу. Перевернув последний лист, она глубоко вздохнула и, глядя на обложку книги, выдохнула:
– У-у-ух ты-ы-ы...
Я поинтересовался от скуки:
– Что, так интересно?
– А то! Это же Манана!
– Что еще за Манана? – довольно лениво спросил я, с презрением оглядывая обложку, «залитую» клюквенного цвета кровью почти так же обильно, как я поливал свои электронные экзерсисы.
– Ну вы даете! – возмутилась девушка, и носик ее покраснел. – Можно подумать, что есть какая-то другая Манана! Разумеется, Мендадзе!
– Мендадзе? – переспросил я уже более заинтересованно. Мой беглый папаша Серго носил точь-в-точь такую же фамилию.
– Да! – с восторгом выпалила девушка. – Она так пишет... так... Прямо... у-у-ух!!!
Словарный запас собеседницы был маловат, но мой интерес ей явно льстил. Возможно, она все-таки родила бы что-нибудь еще, кроме «у-у-ух! », но в этот самый момент из кабинета вожделенного всеми нами терапевта наконец выплыла величественная женщина в рембрандтовском берете, которую очень трудно было заподозрить в какой-нибудь болезни. Над дверью препротивно замигала красная лампочка, и девушка перед тем, как юркнуть в кабинет, сунула мне в руки книгу со словами:
– Берите! Почитаете! Вам еще долго сидеть...
Если бы не фамилия автора книги, я ни за что не стал бы ее читать. Несмотря на то, что и сам, как уже говорил, любил побаловаться виртуальным кровопусканием, подобного вида обложки не одобрял. Мои записки – тайная порочная страстишка, которой я, в общем-то, стыдился и за приобретение которой уже давно не был благодарен матери. А тут кровища совершенно бесстыдно хлестала с типографского глянца чуть ли не на колени читателям. Куда это годится? Да и назывался сей опус слишком вульгарно: «Оплати кровью любовь».
Надо сказать, что свою очередь к врачу я чуть было не пропустил. Книга действительно была написана хорошим языком, динамично и интересно, но дело было совершенно в другом. По мере разворачивания сюжета я ощущал, как у меня начинают гореть уши, потому что я читал о собственных отношениях с Наденькой Пуховой. Главную героиню книги звали Машенькой, а героя – Николаем, но дела это не меняло. Какая-то сволочь рассказывала всему свету историю из моей жизни!
Разумеется, я не смог прочитать всю книгу в очереди к врачу. Когда все же вынужден был зайти к нему в кабинет, был так красен лицом и нес такую околесицу, что эскулап вынужден был измерить мне давление и нашел его серьезно повышенным. Больничный мне продлили без всяких просьб и намеков на это с моей стороны.
Я читал роман в метро, в лифте, дома, усевшись в коридоре на тумбочке. Когда перевернул последнюю страницу, замер в состоянии, которое давно не испытывал: смесь животного ужаса и брезгливости. Эта самая Манана, которая носила фамилию моего отца, очень точно описала мою связь с Наденькой. Это не могло быть случайностью. Или все же такое вот чудовищное совпадение? Понятно, что я пытался лукавить с самим собой. Конечно же, уже в поликлинике смутно вырисовывался источник информации, но мне очень не хотелось, чтобы эта мысль оформилась до конца. Потому что если до конца, то... В общем, я тогда должен лишиться последнего человека, который... которого... с которым...
Особенно мне не понравился конец романа. Выгнав из своей жизни Наденьку, я никогда больше не интересовался ее жизнью. По книге выходило, что она, Наденька-Машенька, измученная домогательствами того самого моего соседа сверху, отравила его какой-то дрянью, сама же явилась в органы с повинной и умерла в тюремной больнице при родах.
Что-то я давно не видел этого соседа... Как довел его тогда до квартиры, так больше и не видел... Или видел, но мое сознание не фиксировало этого? Я отрезал от себя Наденьку, а вместе с ней – и соседа. Какое мне до него дело? Впрочем, с тех пор прошло уже много лет. Может, он съехал? А если не съехал...
Отбросив в сторону «Оплати кровью любовь», я вышел из квартиры и очень медленно поднялся на верхний этаж. Нет... Этого не может быть, чтобы...
Дверь мне открыла девчушка лет двенадцати, вся головка которой была убрана каким-то странными разноцветными штучками. И что за мода... Она смотрела на меня весело и вопросительно. Я вдруг понял, что не знаю, как звали... нет!... как зовут соседа.
– П-позови, п-пожалуйста, отца... – жалко пролепетал я. Мне бы только удостовериться, что он жив и здоров!
– Па-а-а-ап!!! – неожиданно громко для такого тщедушного создания крикнула девочка в глубину квартиры.
На ее зов в коридоре показался мужчина в женском фартуке.
– Люська! Я тебя сколько раз просил не открывать посторонним людям дверь!
– А если ты не слышишь!!!
Мужчина отодвинул дочь в сторону, встал передо мной, как лист перед травой, и спокойно сказал:
– Слушаю вас.
Я молчал, потому что этот мужчина был – ДРУГОЙ!
– Так что вы хотели? – вынужден был спросить Люськин отец.
Я очнулся и натужно заговорил:
– Понимаете... мне нужен... тут живет или, может быть, жил... мужчина... такой очень высокий... худой...
– Люся, ну-ка иди отсюда немедленно, – распорядился мой визави, легонько подтолкнул девочку в глубь квартиры, вышел на площадку, прикрыл за собой дверь и сказал:
– Понимаете, я купил эту квартиру после того, как... Разве вы не знали? Мне казалось, что вы давно уже здесь живете...
Поскольку я продолжал молчать и пялить на него сумасшедшие глаза, мужчина вынужден был продолжить:
– В общем, здесь человек умер... Я не говорил об этом жене и дочери, чтобы они не боялись, а квартиру освятили...
Я попятился от Люськиного папаши, как от прокаженного. Это все не могло быть правдой... Не могло...
Не знаю, что он тогда обо мне подумал, но с тех пор здоровался со мной настороженно. Мне было все равно.
Скатившись по лестнице к своей квартире, я глянул на часы. До закрытия книжного магазина на соседней улице оставалось минут сорок. Вполне можно успеть.
Обратно я вернулся еще с тремя романами Мананы Мендадзе. Читал до утра, благо был на больничном. В 6.30 захлопнул глянцевую обложку третьей книги. Теперь уже абсолютно не подлежало сомнению: эти романы писала моя мать, пользуясь записями в моем компе. Она приходила ко мне не только постирать и сварить обед. Она приходила за информацией. Когда-то мне казалось, что справедливее, интеллигентнее и нежнее ее нет женщин в природе. Когда мы начали ссориться, она впервые показала свои весьма острые зубки. Когда же я чуть не спалил квартиру – оторвалась на мне по полной программе. Уже тогда я задумался о том, а так ли уж был не прав Серго, когда оставил мою беременную мать.
Мне казалось, что давление поднялось у меня еще выше того уровня, который привел в ужас участкового терапевта. Во всяком случае, в голове шумело и кровь никак не могла отлить от лица. Красный, всклокоченный, взбудораженный, я поехал к матери. Поскольку был рабочий день, она уже проснулась и собиралась в библиотеку, где работала в читальном зале. Какое удобное, тихое, спокойное местечко для написания кровавых романов!
Ворвавшись в квартиру, я шмякнул на кухонный стол четыре романа Мананы Мендадзе. Я думал, что мать смутится, но она улыбнулась и спросила:
– Ну как?
– Как?! – в ярости воскликнул я. Мне хотелось своей огромной ручищей стереть улыбку с ее бледного лица. Есть ли что-нибудь смешное в том, что она написала? Можно ли улыбаться в этой ситуации?
– Вот именно. Я всего лишь спросила, Феликс, понравились ли тебе мои книжки, – спокойно ответила она. – Только и всего.
Я не хотел отвечать на ее вопросы. Я хотел задавать свои.
– Зачем ты это сделала?! – выкрикнул я так громко и мощно, что колыхнулся шелковый абажур, болтающийся чуть ли не перед самым моим носом.
– Что?
– Во-первых, какого черта ты рылась в моем компьютере?
– Я твоя мать, Феликс, а потому имею право знать о тебе все!
– С чего ты это взяла?!
– Это известная истина, сынок!
– Не смей называть меня сынком!!!
– Но это же правда. Не горячись, Феликс. Ты сказал «во-первых», а что во-вторых?
– Все эти... мерзостные романы кончились смертями главных героинь... Ты это... придумала или...
– Кто конкретно тебя интересует? – все так же спокойно спросила она.
Я взял в руку дареную «Оплати кровью любовь».
– Вот здесь... в этой книге... Машенька, то есть Надя Пухова... она... она, надеюсь, жива?
– А почему ты вдруг так взбудоражился? Мне казалось, тебя совершенно не интересовала ее судьба.
– Ну... да... это мерзко... я сознаю, но... В общем, я вчера выяснил, что этот... ну... который в романе – Славик... он, оказывается... действительно умер... Ты что, знала об этом?!
Мать села на диванчик уютного кухонного уголка и все так же невозмутимо спросила:
– Ты уверен, что хочешь знать все?
– Уверен! – рыкнул я, подвинул ногой табуретку и сел напротив матери.
– В общем, твоя Наденька приходила ко мне и пыталась рыдать на моем плече.
– А ты?
– А что я? Чем я могла ей помочь?
– Что она говорила?!
– Она говорила, что любит тебя, что сделала глупость, просила замолвить за нее словечко.
– Чего ж не замолвила?
– Зачем? Пусть получит то, что заслужила.
– Да что ж она заслужила-то? Неужели то, чтобы я ее бросил?
– Но ты же бросил?
– Так я сволочь, а чем тебе-то Наденька не угодила?
– А чем она лучше меня? – Мать неожиданно перевела разговор в другую плоскость.
– В смысле? – ошалело спросил я.
– А в том смысле, что меня однажды тоже бросил твой... папочка! Чем она лучше?
– Так ты... что же... из-за этой старой обиды так кроваво расправилась с Наденькой в книге?
– Эта твоя Наденька здесь кричала, что она тогда лучше убьет всех: и себя, и соседа этого Лешу, и, заметь, тебя!
Я вздрогнул и спросил:
– Ну а ты?
– А я сказала, что она очень пожалеет, если у тебя прорежется хотя бы кашель. Она пыталась вопить, что ей все равно, что ей жизнь не дорога, но я...
Моя мать так отвратительно усмехнулась, что я даже не посмел попросить продолжения, но она не собиралась молчать.
– В общем, я сказала ей, что после смехотворного самоубийства, на которое она намекает, я сделаю так, что ее родная сестрица с грудным ребенком останется без квартиры. Ты знаешь, у меня связи в этом бизнесе, который, кажется, начинают называть риелторским...
– А откуда ты про сестру...
– Откуда узнала? Да от самой Наденьки. Она же и сказала, что у нее сестра осталась одна с ребенком, и что участи сестры она себе не желает.
Я не знал, что и сказать. Скромная непритязательная библиотекарша открывалась мне абсолютно с новой стороны. Я с изумлением оглядывал ее все еще нежные и какие-то тихие черты и не мог понять, откуда в ней вдруг взялась такая злоба. Нет... она не взялась... Видимо, она лелеяла и пестовала ее все то время, что прошло с ухода от нее отца.
– Что ты так странно смотришь на меня, Феликс? – спросила она проникновенным голосом, который я когда-то так любил...
– Мой сосед сверху действительно умер, – сказал я. – Может быть, ты знаешь, как сейчас... живет Надя...
– Знаю. Она не живет...
– Как?! – выдохнул я.
– С ней случилось почти то, что написано в романе. – Мать смотрела на меня все так же спокойно, поигрывая кончиком пояска своего халатика.
– Что значит «почти»? Ты... ты, что, за ней следила? Специально узнавала?
– Не следила. Но действительно специально узнала.
– Зачем?
– Затем, что начала писать роман. Я и сама могла бы придумать конец, но хотелось узнать, чем все дело кончилось. Из интереса.
– Из интереса?
– Ну да. Я решила сходить к твоему соседу сверху, чтобы разузнать о Надежде.
– И?
– И, представь, попала на поминки.
– А я...
– А ты, разумеется, был на работе. Хоронить стараются до полудня.
– Почему? – зачем-то спросил я.
Мать пожала худенькими плечами и сказала:
– На поминках я и узнала, что Алексея действительно убила Наденька. Вернее, она убила сразу и его, и себя. Что-то подсыпала в еду или питье, когда он в очередной раз пришел к ней, как она это называла, с домогательствами.
– При чем же тут тюрьма?
– Мне показалось, что такой финал понравится читателям гораздо больше.
– Понравится? – с трудом выговорил я.
– Феликс! Не придирайся к словам! Читателям книги именно нравятся или не нравятся! – Мать встала с диванчика и добавила: – И хватит, пожалуй, на сегодня. Мне надо на работу.
Я резко отбросил ее обратно на диванчик. Она ударилась локтем о стоящий рядом холодильник и, сморщившись, потерла его ладонью другой руки. Мне почему-то не было ее жалко. Мне хотелось сделать ей еще больнее, и я с трудом сдержался.
– Как... как... – голос мой вибрировал от негодования и непонятной боли, – ...как ты могла использовать мои записи...
Я замолчал, стараясь подобрать слова повыразительней, и мать закончила за меня, опять улыбаясь:
– ...в своих гнусных целях? Так ты хотел сказать?
– Примерно... – выдавил я.
– А ты, значит, белый и пушистый?
– Сам знаю, какой я, но чего никогда не стал бы делать, так это наживаться на чужих трагедиях!
Мать захохотала так сатанински, что я уже готов был ее придушить и, возможно, что-нибудь подобное сделал бы, если бы она вдруг не замолчала, будто смех в ее организме автоматически отключился.
– Во-первых, я еще не очень-то и нажилась – это раз, – сказала она. – Во-вторых, эти истории произошли не с чужим человеком, а с моим собственным сыном – это два. А в третьих, и в самых главных, – это ты устраивал своим бабам трагедии! Это ты заносил свои победы в компьютер! Я же только литературно обработала твои опусы, то есть сделала их лучше!
– Но кто дал тебе право публиковать их? Это моя жизнь! Понимаешь ли ты это?! Моя!!!
Я придвигался к матери все ближе и ближе и наконец навис над ней всем своим огромным телом. Мне уже не верилось, что передо мной стоит моя мать. Это была какая-то новая женщина: отвратительная и очень опасная. И эта новая женщина даже не подумала с испугом отпрянуть от меня. Она смело взглянула мне в глаза и сказала очень твердым голосом:
– Ты сейчас заткнешься раз и навсегда!
Я подавился возмущением и негодованием, и она успела вставить еще одну фразу:
– У меня против тебя куча козырей!
– Ну!!! – рявкнул я.
– Это копии абсолютно всех твоих записей!
– А что в них такого... – начал было я и действительно заткнулся.
– То-то! – резюмировала мать, отодвинула меня с дороги и пошла одеваться на работу.
Я со всего маху рухнул на изящный диванчик, чуть не сломав его при этом. Мать имела в виду записи, где я признавался в том, что научился манипулировать женщинами и с успехом применяю это на практике. Я даже называл себя Самым Великим Кукловодом в мире. Какой же я кретин, что копил эти записи вместо того, чтобы фигурально сжигать... удалять то есть... И мамаша видела, что я выделывал с этими текстами! И кто только ее научил работать на компе? Уж точно не я! Видимо, их библиотеку оснастили компьютерами... Если же она вдруг кому-нибудь покажет тексты из папочки «Собакам собачья смерть», тот сразу поставит мне диагноз: паранойя, маньячизм. А если с этим еще и в ментовку, они там закроют «глухарей» за все прошлые пять лет...
Разумеется, мы надолго расплевались с матерью. Я сменил замок. Ключей ей не дал. С ужасом узнавал о выходе в свет каждого нового романа Мананы Мендадзе, которая становилась все популярнее и популярнее. Интерес к ней подогревался еще и тем, что она не давала интервью, не появлялась на светских тусовках и вообще прятала от любопытной общественности свое лицо и, соответственно, жизнь.
Того, что мать скопировала из моего компа, ей хватило на несколько романов. А потом она пришла на переговоры. Я тогда еле перебивался с хлеба на квас, поскольку никак не мог устроиться на нормальную работу. Частные фирмы, в которых я подвизался все тем же мастером по холодильному оборудованию, лопались одна за другой. И вообще вся жизнь шла вразнос. Старый дом, в котором я жил, не желали ремонтировать. Мы с соседями «текли» друг на друга, раз в неделю обязательно сидели без света, а однажды посреди лютой зимы у нас окончательно и бесповоротно отключили горячее водоснабжение ввиду полного износа труб. Мать как знала, когда прийти.
– Предлагаю заключить перемирие, – сказала она.
Мне не хотелось перемирия. Я так ей и ответил:
– Не хочу.
– А сидеть дома в пальто и ватном одеяле, как в блокаду, хочешь?
– Ты можешь предложить что-то другое?
– Разумеется.
– Ну!
Мать поежилась внутри своей шубки из блестящего коричневого меха, которой я у нее раньше не видел, и с расстановкой начала:
– В общем, так! Мои романы идут в драку. Начали снимать сериал. Права на некоторые книги собираются продать немцам. В общем, я уже заработала денег на приличную квартиру. Но я хочу дом. За городом. Конечно, я уже написала несколько романов, опираясь на истории собственной жизни и жизни приятельниц, но то, что происходит с тобой, – куда интереснее. Я родила тебя нестандартным ребенком, ты вырос в нестандартного мужчину, и надо наконец начать получать с этого дивиденды. Думаю, тебе не стоит жалеть своих женщин – ни одна не принесла тебе счастья. К тому же ни ты, ни я не делаем ничего криминального.
– А ты цинична, – процедил я.
– Не циничнее тебя...
Слова матери падали на благодатную почву. Я очень хотел выехать из этого рассыпающегося дома. А что касается женщин, то... В общем, я уже говорил, что давно и прочно ненавидел их. И я сдался. А действительно, какого черта я должен их жалеть? Остальные мои женщины были гораздо хуже Наденьки Пуховой. Пусть получат по заслугам. Да и получат-то всего лишь виртуально. Действительно, нет никакого криминала в том, что предлагает мне мать. Кроме того, мне вдруг безумно захотелось хотя бы в романном варианте расправиться со своей первой женщиной – сорокалетней Татьяной, которая так подло сдала меня своему мужу. По какому-то странному упущению с моей стороны о ней я не написал ни слова. Что ж! Напишу! Пусть мамаша придумает ей какую-нибудь кошмарную смерть, хотя бы и виртуальную! Тоже неплохо!
Мать оказалась бизнесменшей от литературы. С моей помощью дела ее еще быстрей пошли в гору. Деньги потекли рекой. Фантазии ее не было границ. Мать начала мои романы ставить, будто на сцене. Уже набив руку и, что называется, раскачав мозги, она могла бы придумывать сюжеты самостоятельно от начала до конца, но ей нравилось сталкивать меня с женщинами, наблюдая, что из этого выйдет, и если надо, направлять наши отношения в то или иное русло. Надо сказать, что со временем я и сам увлекся этой полувиртуальной игрой. Как я уже говорил, влюбленные женщины интересовали меня мало. Мне хватало секса, а придуманная матерью мистерия захватила всерьез. Я не задумывался над тем, что делали женщины, когда я их бросал. Я просто съезжал с той квартиры, которую временно снимала мать, и на какое-то время ложился на дно. То есть уезжал в загородный дом в Завидово, как только в нем появились первые комнаты, пригодные для жилья. Я как бы уходил в отпуск. А работа моя заключалась в соблазнении и бросании женщин, которых находила мне мать или иногда я сам. А еще в писании электронных текстов о моих с ними отношениях, как бы «рыбы» к новым романам Мананы Мендадзе.
Жил я при этом хорошо. Ел и спал сладко, несколько раз ездил на курорты за границу. Приоделся, купил тачку и стал еще более интересен женщинам. Неизвестно, сколько бы все продолжалось, если бы не Наташа Серебровская. Я познакомился с ней случайно, в поезде. Романа заводить не собирался, потому что она была совсем юная. А она вот собралась. Она такими сумасшедшими глазищами смотрела на меня по приезде на Московский вокзал Питера, что я сдался и попросил ее телефон. Она с радостью «вбила» его в мой мобильник. Я долго не звонил, потому что, в общем-то, и не собирался. А потом как-то затосковал, захотелось чего-то чистого, искреннего и красивого. Вспомнил Наташу и, идиот, позвонил. Она так живо обрадовалась, так хотела со мной встретиться, что я не смог ей отказать. Эта девушка и была тем чистым, чего я вдруг возжелал.
Я вовсе не собирался предоставлять матери материалы об этой моей связи с юной девушкой. Более того, я тогда и сам не знал, что из нее выйдет. Наташа была так мила, что я начал подумывать о том, не влюбиться ли мне в нее по-настоящему. Но оказалось, по заказу не влюбишься. Мне она просто нравилась, и все. Я наслаждался ее юным телом, изумлялся и восхищался вполне зрелыми мыслями, которые роились в ее хорошенькой головке, но не более. Я всегда чувствовал, что спокойно могу обойтись и без нее. Наташа же прикипала ко мне все сильней и сильней. Ей вдруг приспичило познакомить меня со своей матерью. Я долго сопротивлялся, а потом согласился, потому что она уж очень просила, и я не смог отказать. Разве мог я знать, что ее мать окажется такой огненно-рыжей красавицей, такой женственной и сексапильной, что я просто онемею при первой же встрече. Я не влюбился, нет, но возжелал эту дивную особу так, как еще никого до этого. По взгляду Наташиной матери я понял, что произвел на нее такое же неизгладимое впечатление. И началось...
Сначала она не хотела, как говорила, разрушать счастье дочери, а потом не смогла удержаться. Нас влекло друг к другу с такой силой, что мы все равно смели бы на пути к сближению все препятствия. Это был только вопрос времени. Клара влюбилась в меня еще сильнее, чем Наташа. Я же так и не полюбил ни ту, ни другую. И вдруг почему-то сам, уже без материнской инициативы, начал сатанинскую связь с двумя без памяти влюбленными в меня женщинами. Я опять начал кропать тексты на компьютере. Мне казалось, что теперь я и сам смогу написать роман не хуже Мананы Мендадзе. Настоящая Манана, недовольная простоем, стала предлагать мне еще одну женщину, которая к тому времени оказалась у нее на примете. А я не мог оторваться от захватывающего действа, которое спланировал сам. Когда первые наброски будущего романа были готовы, я решился показать их матери. Кто бы слышал, как она хохотала.
– Феликс, очнись! – всхлипывала она, вытирая слезы, выступившие у нее на глазах от смеха. – У тебя больше «трех» с минусом по литературе никогда не было. Дай материал мне, и я сделаю из него очередной бестселлер Мананы Мендадзе.
Я еще немного покочевряжился, потом перечитал свои вирши еще раз и в конце концов согласился с мнением матери: они были кошмарны. Я отдал ей материал и тут же утратил интерес к Наташе и к Кларе, имевшим звучную двойную фамилию – Серебровские-Элис. Мне стало безумно скучно. Я объявил женщинам, что не люблю обеих, и съехал в Завидово. Черновой вариант романа матери я прочитал с полнейшим равнодушием к героям, то есть к Кларе, Наташе и собственной персоне. То, что мать уготовила девушке смерть при подпольном аборте, а Кларе – безумие на почве утраты великой любви и дочери, меня вообще не взволновало. Если бы Наташа была беременна, то так и сказала бы мне. Между прочим, трудно сказать, что я тогда сделал бы, если бы вдруг узнал о ребенке. Возможно, даже женился бы. Пожалел. А сам наверняка спал бы попеременно то с ней, то с Кларой.
В общем, тогда я думал, что хорошо отделался: скрылся в Завидове и не натворил еще более ужасных дел. А потом ушел с головой в занятия большим теннисом и забыл даже думать о Серебровских, как никогда не думал ни об одной из своих брошенных женщин.
Через некоторое время мне напомнили о них газеты. Еще как напомнили! О двойном самоубийстве матери и дочери Серебровских-Элис с неделю трубили все СМИ. Я был раздавлен этим известием, как асфальтовым катком. При вскрытии установили, что обе женщины были беременны. Моими детьми! Я ждал, когда за мной придут, чтобы передать в руки правосудия. Я был достоин самой страшной кары. Да и не хотел жить. Наши с матерью игры завели нас слишком далеко. Я сожалел и о нелепой смерти Наденьки Пуховой, но та хоть в чем-то была виновата передо мной, но Наташа... Чистая, светлая девушка с нежной кожей, слегка пахнущей черемухой... И Клара... горячая, неистовая, страстная... Что я наделал?! Как смел!!!
В общем, я зверем метался по почти уже достроенному матерью дому, как по клетке. Мне хотелось бы расшибить себе лоб о стены, скинуться вниз со второго этажа, но... я не смог... Не смог лишить себя жизни и не понимал, как смогли сделать это они, две трепетные, прекрасные женщины? В конце концов, обессилев, я собрался идти сдаваться ментам, которые по непонятной причине почему-то за мной не приходили.
Не пошел. Мать не то чтобы не пустила... Нет... Она даже картинно распахнула мне дверь. Она все про меня знала. Да. Знала, что смалодушничаю и не пойду. Не пошел. Хотелось бы как-нибудь обезуметь или хотя бы впасть в депрессию. Ничего не удавалось. Слишком могучим организмом наградил меня папаша Серго, фамилией которого так гнусно воспользовалась его бывшая возлюбленная. Как же я понимал теперь моего папеньку! Да от таких женщин, как Надежда Валентиновна Плещеева, надо бежать без оглядки. А еще лучше было бы сразу убить ее вместе с отпрыском, то есть со мной...
Мать надо мной смеялась. И еще над двумя, как она их называла, нелепыми смертями. Я не мог ее видеть. Боялся придушить. Нечаянно, в порыве, потому что специально – не смог бы. Как выяснилось, я, такой огромный мужик, был слишком слаб и малодушен, чтобы отважиться на отчаянный поступок. А ведь смертей было не две! Не две! Четыре! В обеих женщинах уже жили мои дети! Мои!
После этой жутчайшей истории я окончательно отказался работать с матерью. Пусть пишет свои мерзейшие романы без моего участия. Должна уже набить руку-то. Все магазины завалены ее книгами. Нескончаемой рекой идут сериалы по ним. Один полнометражный фильм получил даже какую-то кинематографическую награду. Весьма престижную. Все те же СМИ хором требовали, чтобы Гюльчатай наконец показала личико. Мамаша уже почти собралась это сделать, но... В общем, испугалась, что без моего участия дело у нее не пойдет так резво. Я же в этот раз был тверже гранитной стены: никогда больше и ни за что!
Через свою подругу в риелторской фирме мать сняла на время квартиру в обычном блочном доме, из которой выехал жилец, а новый еще не успел вселиться. Рядом был расположен косметический салон. Мать планировала изучить быт женщин этого дома, нанести визит в соседний салон и слепить какую-нибудь косметологическую трагедию самостоятельно. Без меня. И надо же случиться такому, чтобы ее разразил гипертонический криз как раз тогда, когда они оказались в одном магазине вместе с Тоней... Волчицей...
Мы познакомились... Как я уже говорил, Тоня мне понравилась. И чем дальше, тем нравилась больше. Она не была похожа ни на одну из женщин, которых я знал ранее. Она любила меня – видел, но не делала никаких попыток затащить в загс или забеременеть обманным путем. Она интересно мыслила и была совершенно независима. Мне иногда даже хотелось, чтобы она принялась просить меня взять ее замуж. Я поломался бы для порядка и взял бы. И она попросила... Нет... Не так... Она спросила: «И ты возьмешь меня замуж?» Я ответил что-то вроде «возможно», хотя мне изо всех сил хотелось крикнуть: «Да-а-а-!»
Что меня сдерживало? Мать... Она уже начала писать новый роман обо мне и Тоне. Я просил... нет... умолял ее не делать этого. Я говорил, что всерьез полюбил эту женщину и собираюсь жениться.
– Пока не напишу, не женишься! – отвечала она.
– Ты, мать, не хочешь счастья собственному сыну? – зачем-то спросил я, хотя понимал, что наши отношения уже давно нельзя назвать родственными, кровными. Мы были всего лишь партнерами по бизнесу. Виртуальная литературная деятельность вполне заменила матери меня.
– Хочу, – ответила она, но я видел: ей все равно. – Но сначала я допишу роман, потом дам интервью прессе, а уж после... В общем, то, что я делаю сейчас, – моя лебединая песнь! После я уже больше не буду писать.
– А что же ты станешь делать?
– Уеду за границу. У меня уже достаточно денег.
– И кто же тебя там ждет?
Мать опять дьявольски расхохоталась:
– Издатели, мой милый! Из-да-те-ли!
– А если без меня не пойдет? – саркастически спросил я.
– А я и не собираюсь там писать! Я собираюсь там жить! Я столько уже наваяла – переиздавать им – не переиздать!
– Чем же тебя не устраивает жизнь здесь? В России? Ты же на вершине успеха!
– А мне не нравится, например, что рядом с моим стильным домом стоят жалкие хибары дачников, крытые толем и всякой дерюгой. И ведь ничем их отсюда не вышибешь! Прямо вросли в землю, плебеи!
Я остолбенел и все-таки спросил после непродолжительного молчания:
– Мать... ты отдаешь себе отчет в том, что говоришь? Давно ли ты сама из грязи да в князи?
– Это не имеет значения, давно или нет! Я много работала и устроила себе такую жизнь, о какой всегда мечтала. Никто не мешает и им поднапрячься! Вместо того чтобы корячиться на своих жалких сотках, делали бы бизнес!
Не буду пересказывать этот бессмысленный разговор до конца. В тот момент меня гораздо больше занимал совсем другой вопрос. Мне важно было уговорить мать не писать роман об Антонине.
– Ты мне не указ, – заявила она.
– Но я... люблю ее... – Тогда я впервые произнес это слово, и как же мне сладко стало от него... и невыразимо больно. Да... вот так: сладость и боль в одном флаконе...
– Как полюбил, так и разлюбишь!
– Не собираюсь этого делать! – крикнул я, потому что уже хотел, чтобы эта сладкая боль была со мной всегда.
– Соберешься! – Она так отвратительно хихикнула, что мне показалось, что моя родительница несколько повредилась в уме. – Я должна закончить роман!
Почему-то я вдруг успокоился. Пусть себе заканчивает на здоровье. Мне-то что! Я женюсь на Тоне, а мать пусть напишет первый роман со счастливым финалом. Может, понравится, и она перейдет к новому, еще не разработанному ею жизненному пласту.
Но она не хотела разрабатывать ничего нового. Она хотела писать в том же духе, а потому заявила, что в ее планах задурить Антонине голову очень красивым молодым человеком, чтобы, значит, женщина передо мной провинилась.
– У тебя ничего не выйдет, – уверенно сказал я. – Тоня меня тоже любит.
– Верю! Ты научился внушать женщинам что-то такое... В общем, я все продумала. Я съезжаю из дома Антонины, ты тоже переселяешься в Завидово. Тоню мы, как сейчас говорят, разводим по полной, потом подсылаем молодого красавчика, и ты увидишь...
– Что?
– Как что? Что она за милую душу ляжет с ним в постель, несмотря на всю свою любовь к тебе!
– А что ты подразумеваешь под словами «разведем ее по полной»?
Мать рассказала мне, какие задумала мистические сцены с нашим исчезновением из Питера. Я крикнул:
– Ни за что!!! Она не дура! Она поймет, что ее именно разводят, а потому... даже если и пойдет на связь с молодым, то – назло! Идиотский план! Не вздумай претворять его в жизнь!
– А я уже начала, – ответила она. – Пока ты тут у меня сидишь, твою временную квартирку уже переделывают в пристанище одного... ну... скажем, пенсионера... Мне очень интересно будет посмотреть, как твоя Тонечка все это воспримет!
– Как начала?! – вскинулся я. – Там же мои вещи и вообще...
– Думаю, все уже в Завидове.
– Ну... мать... Ты бы хоть меня сначала спросила!
– Так ты же откажешься, ясное дело.
– У тебя дьявольская фантазия, – опять начал я. – Ты и так можешь напридумывать с три короба! Зачем тебе живые люди для исполнения твоих кошмарных сценариев?! Придумай, что может сделать женщина в такой ситуации, да и дело с концом!
Мать выпрямила спину в кресле, посмотрела на меня с презрением и весьма снисходительно ответила:
– А мне тоже понравилось быть кукловодом, Феликс. Ты это хорошо придумал! Сидишь себе и дергаешь за ниточки!
– А я?! Мама! – Впервые за много лет я назвал ее мамой, но она даже не вздрогнула. – А как же я?! Ты же и меня... за ниточки!
Она внимательно всмотрелась в мое лицо, будто видела его впервые, и сказала:
– А вот мы проверим твою Тоньку, и я перестану кого бы то ни было за что-либо дергать. Сказала же – уеду!
– А если я тебе не позволю трогать Антонину? – с угрозой в голосе спросил я.
– Каким образом? – ничуть не испугалась она.
– Раскрою ей все карты.
– Все?!
– Ну... не все...
– Вот именно! А я ей раскрою все, если ты мне помешаешь! Понял? Вообще все!
Я понял. Еще понял, кто на самом деле является Настоящим Великим Кукловодом! ЖЕНЩИНА! Никакому мужчине не угнаться за дьявольской женской фантазией!
И еще я осознал, что если хочу счастливой жизни с Тоней, то все равно должен ей все рассказать. Иначе не получится... Иначе все равно что-нибудь выплывет, и тогда – ситуация будет развиваться непредсказуемо. И я решил... подставить Тоню. Если она, Волчица, сможет перегрызть горло матери, значит, она – моя женщина. Только моя! А моя мать – та самая «сестра», которая должна наконец «получить по серьгам»! По заслугам, в общем...
Сначала вроде бы все шло, как запланировала мать, а потом начало сбоить. Не учла она порочную натуру Вадика, которому вдруг пришло в голову обчистить Тонину квартиру. Потом не вовремя вернулся из командировки вечный ее бойфренд-заместитель, а после этого они вдвоем с Антониной куда-то сгинули. Мать, пытаясь поярче начистить рожу Вадику, временно выпустила Тоню из-под своего контроля, и они вдруг объявились в Завидове. Кто же мог предположить, что у этого Кирилла Анатольевича Мастоцкого дача находится именно здесь? А уж то, что они с Тоней сами нароют какой-то материал на меня, вообще ни в чьи планы не входило.
Часть V
Кирилла неожиданно вызвали на службу. Он долго отказывался ехать в Питер, но потом вынужден был согласиться. Наконец приезжали зарубежные партнеры, которых давно ждали, и без Мастоцкого было ну никак!
– Поехали со мной, – распорядился мой будущий муж. – Я не могу тебя тут оставить... на съедение этом... Мананам...
– Брось, Кира... ничего со мной не случится, – довольно спокойно ответила я. Мне показалось, что та фраза, которую Кирилл ввернул Плещеевой, была справедливой. Если бы я продолжала фанатеть от Феликса, то была бы уязвимой. Поскольку вспоминала о нем уже с омерзением и собиралась замуж за другого, липовая Манана ничего не сможет со мной сделать. Убивать уж точно не станет.
– Кто знает, на что способны эти люди! Собирайся! – настаивал Мастоцкий.
И я собралась только потому, что не хотела его сердить. Но у его машины на самом выезде из бывшего садоводства вдруг спустило колесо.
– Вот видишь! Это они! – выкрикнул Кирилл, выскакивая из машины.
Это были не они. Это он наехал на доску с приличным гвоздем.
В общем, дело кончилось тем, что опаздывающий Мастоцкий вынужден был усесться за спину соседу по участкам – несовершеннолетнему байкеру Виталику и, перепоручив машину Виталикову отцу, с ветерком помчать в Питер. Я же, выслушав кучу его наставлений, поплелась обратно к домику.
На крыльце сидел и курил Феликс. Тот самый... Феликс – Феникс, который из пепла...
Я испугалась. Раньше он не курил никогда. Не означает ли это то, что он решил пуститься во все тяжкие... Раньше он никого не убивал своими руками... а теперь, может быть, решился... Неужели пришла пора скалить зубы и подрывать стальную сетку клетки, в которую он меня загоняет?
Я застыла в проеме калитки, вцепившись пальцами с побелевшими костяшками в ее ручку. Увидев меня, Феликс отбросил сигарету, поднялся во весь свой могучий рост и пошел по дорожке к калитке. Хотелось крикнуть: «Помогите!!!» Сдержалась с трудом. Плещеев подошел ближе. Я заглянула ему в глаза, и душу мою обожгло. Как же он притягивал меня! Как же мгновенно побледнел в сравнении с ним бедный Кира Мастоцкий...
– Не бойся, – сказал он, видимо, заметив, как меня трясет осиновым листом.
Разумеется, я сказала, что не боюсь.
Между нами повисло неловкое молчание.
– Может быть, поговорим? – наконец выдавил он из себя, и я почувствовала, что тело мое вибрирует в унисон звукам его низкого голоса.
– Говори... – Что я могла еще сказать?
– Может быть, пройдем в дом?
Я с опаской огляделась по сторонам. Феликс горько усмехнулся и бросил куда-то себе под ноги:
– Боишься все-таки...
Хорошо, что он отвел свои глаза от моих. Сразу стало как-то легче дышать.
– Ладно, пошли, – сказала я и полезла в сумку за ключами. Вон, на соседнем участке что-то делает женщина в цветастом платке на голове. Если что, пойдет свидетельницей... Я уже рассуждала о собственной смерти, как о чем-то само собой разумеющемся. Лучше... не жить, чем смотреть в его глаза...
– Так! Ну и что ты хотел сказать? – спросила я, прислонившись спиной к старенькому буфету на кухне Мастоцкого.
– Тоня... все не совсем так, как ты думаешь... – сказал Феликс. Его голос, казалось, заполнил тяжкими звуками все помещение. Мне заложило уши, как иногда бывает в электричке метро.
Он замолчал, но я не хотела помогать ему наводящими вопросами.
– Понимаешь... – опять начал он, – ...я не тот, за кого ты меня принимаешь...
– Ага! Ты не тот! Ты – женщина! Манана Мендадзе! Чтоб тебя...
– Нет... Мендадзе – это фамилия моего отца... Серго...
Я вздрогнула... Надо же! Я ведь когда-то думала именно так: его отца могут звать Серго... Глубоко вздохнув с каким-то противным всхлипом, я крикнула:
– Только не говори, что твой отец Серго, взяв имя своей грузинской матери, написал все эти кошмарные книжонки!
– Конечно, не он. Их писала моя мать...
– Надежда Валентиновна?! – с издевкой спросила я. – Неужто это она спала с Наташей Серебровской и одновременно с ее матерью?! Там все очень правдиво описано! Хоть я не присутствовала при твоих свиданиях с ними, Феликс, но... Словом, я слишком хорошо знаю тебя, чтобы понять – написано именно тобой!
– Нет же! Хотя...
И он рассказал мне, как все обстояло на самом деле. Рассказ был длинен. Говоря современным языком, Феликса колдобило, крючило и плющило. Я никогда не видела его таким взволнованным и... несчастным...
– Я люблю тебя, выходи за меня замуж, – закончил он в одно предложение с предыдущим, в котором речь шла о книгах его матери.
Трудно описать, что я испытала, услышав его признание. Сначала меня будто приподняло над Киркиной кухней, над Завидовом и вообще над всей действительностью. На пару минут я зависла где-то в поднебесье в состоянии сладостной нирваны. А потом... потом меня со всего маху грохнуло на пол все той же кухни. Из поднебесья да на шершавый бетон...
– Неужели твоя маменька согласилась на хеппи-энд? – спросила я, с трудом переведя дух.
– Нет. Я могу передать в двух словах то, чем она предполагает закончить... вчерне... так сказать...
– Ну и что же там... вчерне... так сказать... – пролепетала я. Неужели сейчас откроется та самая Книга Судеб?
– В черновых записях написано, что между нами произойдет объяснение... любовная сцена... ты будто бы меня простишь, а потом... спалишь дачу. Нам обоим будет не выбраться...
Я с ужасом огляделась по сторонам. Мне даже показалось, что откуда-то уже понесло паленым. На висках выступил пот. Видимо, я еще и побледнела, потому что Феликс сказал:
– Тоня! Это всего лишь мамашины фантазии!
Он хотел броситься ко мне, но я остановила его, выставив вперед обе ладони, явственно ощутив ими колебания воздуха, вызванные движением мощного тела Феликса.
– Стой где стоишь! – крикнула я. – То есть дело в романе о моей жизни уже дошло до этой дачи?
– Ну...
– Так вот! – перебила его я. – Даже не надейся ни на любовную сцену, ни на пожар! У меня здоровая психика! Я не Наташа! Я не собираюсь кончать жизнь самоубийством!
– Я и не сомневался в этом. Давай, фигурально говоря, перепишем финал по-другому! Я люблю тебя, Тоня... Я еще никого в своей жизни так не любил... Я же рассказал тебе всю свою жизнь...
– То есть... как это по-другому?
Он хотел что-то ответить, но я опять остановила его очередным вопросом:
– А что сказано в романе о моем... в общем... о Кирилле Мастоцком, на чьей даче мы, собственно говоря, и находимся?
Феликс посмотрел на меня очень долгим странным взглядом и сказал:
– Он не успеет, Тоня...
У меня застучало в висках. Это хорошо. Кровь прилила к лицу. Так легче соображается. Врешь, Феликс Мендадзе! Меня запросто так не возьмешь! И все-таки я Волчица! Я уже вновь ощутила в себе волчьи силы. У меня наверняка уже белые глаза! Я чувствую, как вздымаются мои бока! Я непременно вцеплюсь тебе в горло, когда ты станешь меня убивать, чтобы я не досталась другому! И мы еще посмотрим, кто кого: твоя мощь – мой волчий напор и... пожалуй... ненависть или наоборот...
– И как же ты хочешь «переписать» конец нашей истории? – спросила я его, ощущая нервное покалывание во всем теле.
– Ты уже сама назвала это хеппи-эндом...
– То есть я выхожу за тебя замуж, и мамаша заканчивает роман, размазывая розовые сопли?
– Нет, она пишет о пожаре и... уезжает за границу. Она сказала, что этот роман будет ее последней книгой.
Как же мне не понравилось слово «последний»... Как же мне не нравилось, что мой бывший возлюбленный сказал, будто Кирилл не успеет... К чему не успеет? Что сделает Феликс, если я ему откажу? И откажу ли? Меня по-прежнему неудержимо влечет к нему. Но к нему ли? Или только к его мужскому естеству? К его звериной красоте?
Что больше всего волновало, то я у него и спросила:
– А если я тебе откажу... что ты сделаешь, Феликс?
Его лицо дернулось. Он очень тихо спросил:
– Ты меня больше не любишь?
Я молчала, потому что сама не знала ответа... Он не вынес моего молчания и опять задал вопрос:
– Ты любишь... владельца дачи?
– Похоже, сие тебя удивляет, – сказала я, оттягивая время, когда нужно будет четко сказать «да» или «нет».
– Насколько я помню из твоих рассказов, он для тебя всегда был лишь запасным вариантом...
Как же он был прав, чертов Феликс. Он помнил именно то, что надо было помнить. А что же я сама? Я мысленно металась между двумя мужчинами и не знала, которого выбрать. Передо мной стояло чудовище, но при этом самый необыкновенный мужской экземпляр из тех, кого мне доводилось знать. А Мастоцкий... Да, он всегда был запасным игроком в моей жизни. И знал это. И все равно... любил меня.
– В общем, так, Феликс, – начала я очень ровным голосом. – Я выхожу замуж за... запасной вариант, а ты... ты уходишь из моей жизни прямо сейчас и... навсегда...
Видимо, последнее слово прозвучало жидковато, потому что Плещеев выпалил:
– Ты не можешь этого хотеть!
– Почему вдруг?
– Да потому что я вижу, чего ты сейчас больше всего хочешь!
– Нет! – выкрикнула я. – Уйди, пожалуйста! Я никогда не выйду за тебя замуж! Мы венчаемся с Кириллом...
– Ах с Кириллом! – уже с угрозой в голосе произнес Феликс и достал из кармана мобильник. – Одного моего звонка достаточно для того, чтобы...
– Для чего? – перешла на свистящий шепот я.
– Чтобы он никогда не вернулся сюда.
– Как...
Ответить он не успел. В кухню ворвался взмыленный, красный лицом Мастоцкий.
– Не подходи к ней! – гаркнул Кирилл и заслонил меня своим телом. Разумеется, я тут же выскочила вперед него.
В глазах Плещеева было только удивление и ничего больше. Кирилл отпихнул меня в сторону, чтобы я не мешала разговору двух мужчин, и сказал:
– А я уже на подъезде к Питеру понял: что-то не так...
– В смысле?
– А в том смысле, что у моего начальника другой голос. Хоть он и говорил, что сильно простыл... Но дело даже не в этом...
– В чем же?
– В том, что финны, которые якобы приехали, на самом деле приехать не могли!
– Почему? – с неприятной улыбкой спросил Феликс.
– Понимаешь, я вдруг вспомнил, что они именно сейчас находятся на научно-практической конференции в Германии, куда и я должен был бы поехать, если бы не Тоня...
– Не поехал, значит!
– Ага! Ради Тони... Хорошо, что мотоцикл мобильнее любого другого транспорта – мигом примчал меня обратно... Слушай, я поражаюсь: неужели у вас с мамашей щупальца по всему городу?
Феликс мерзко расхохотался. Отсмеявшись, сказал:
– У моей мамаши столько денег, что она может добыть практически любые сведения, которые ей нужны.
– И на что вы рассчитывали?
– Честно говоря, я рассчитывал на то, что уговорю Тоню уйти со мной. В мамашины игры я больше не играю.
Тут уж я не вытерпела и опять выскочила вперед с криком:
– А что ты собирался сделать сейчас... звонком с мобильника?
Феликс посмотрел на меня тяжелым взглядом и сказал:
– Но ведь не сделал же... – И опять повторил: – Я люблю тебя. Выходи за меня замуж.
Кирилл знакомым жестом коснулся пальцами виска и... отошел в сторону. Я поняла, что пришла пора выбора. Наступил-таки он, момент истины. И я выбирала. Гнусно долго. Я не бросилась сразу к тому, единственному... Я не знала, к кому мне броситься. Вот если бы их сложить вместе, кое-что ненужное отсечь, а потом еще и вымесить хорошенечко... Тогда, возможно, получился бы именно тот человек, которого бы я... Но их было двое! Двое! И с этим надо было что-то делать! Срочно!
Я начала лихорадочно соображать. Да, меня тянет к этому монстру Плещееву с чудовищной силой. Но если я буду с ним, Кирилла придется оставить за пределами моей жизни. Вряд ли после того, что мы узнали о Феликсе с мамашей, он простит меня, как прощал раньше. И что, я никогда больше не увижу его? Придется уволиться с работы? Да при чем тут работа!!! Если я никогда больше не увижу, как смешно Мастоцкий морщит нос, когда на меня злится, как «болеет» своей язвой, как закусывает нижнюю губу, когда работает на компьютере, как говорит: «Тонька, я тебя сейчас разорву в мелкие брызги!», то... не смогу этого пережить... даже в объятиях Феликса... Вот ведь как странно получается... Неужели какая-то закушенная губа... и язва...
– Ки-и-ирка!!! – взвыла я, бросилась к Мастоцкому на грудь и сразу почувствовала, как бухает его сердце. Как колокол... Бедный мой, бедный начальник Кирилл Анатольевич, если бы ты знал, что наконец перевесило чашу весов! Дурацкая фраза про мелкие брызги... и язва...
Мастоцкий, похоже, не сразу понял, что произошло. Он даже не мог меня обнять. Я вынуждена была повернуться к Плещееву и сказать:
– Уходи, Феликс...
Лицо его сделалось страшно. Мне показалось, что он действительно сможет поджечь нас с Кириллом или вызвонить по телефону какую-нибудь группу захвата «Альфа», чтобы выдать нас за пойманных с поличным террористов. Уж мамаша ему поможет...
«Альфу» Феликс не вызвал. Он смерил нас своим жутким взглядом и вышел за дверь, чуть не снеся ее с петель. Я стояла спиной к замершему Мастоцкому и смотрела вслед Феликсу. От меня уходила моя большая любовь... Но... большая ли... Любовь ли...
– Тоня... ты, случаем, не ошиблась в выборе? – донесся из-за спины голос Кирилла.
Я медленно обернулась. Мастоцкий с бешеной скоростью крутил в руках зажигалку и смотрел на меня очень строго, с вызовом. Я видела: он готов еще раз предложить мне как следует подумать. Мне же больше не надо было думать. Я все решила. Рванулась к нему, но он отстранился. Впервые.
– Что случилось, Кира? – вынуждена была спросить я.
– Ты ведь меня не любишь, – сказал он. – К чему такие жертвы?
– С чего ты взял, что это жертва?
– Я видел, как ты на него смотрела.
– Хорош врать! Ты был за моей спиной, когда я на него смотрела!
– Не всегда...
Ага! Он уже сказал это гораздо мягче. Начинает сдаваться... Я даже не думала, что смогу так обрадоваться этому. Я сделала еще один шаг к Кириллу. Отступать ему было некуда. За спиной стоял старинный буфет, в который он и шарахнулся спиной.
– Немедленно бери меня замуж! – заявила я.
– А то что? – спросил он и даже улыбнулся уголками губ. Прямо Мона Лиза в мужском обличье.
– Ничего, Кира... Я даже и невенчанная никуда больше от тебя не денусь...
Он молчал и смотрел таким взглядом, который никогда не смог бы подарить мне Феликс. Мастоцкий любил меня... Как же он любил... Просто... без всяких заморочек... Он никогда не смог бы мне угрожать... принуждать... Он всегда отходил в сторону, если было надо, он всегда приходил на помощь... Он... все, что хочешь, для меня...
Сразу скажу, мы еще долго стояли в молчании и смотрели друг на друга, и эти взгляды говорили больше, чем смогли бы слова. Мы с Кириллом были вместе. Наконец-то. Навсегда.
Эпилог
Газеты писали, что особняк Надежды Валентиновны Плещеевой в поселке Завидово сгорел, скорее всего, от воспламенения, происшедшего в результате короткого замыкания. На пожарище были обнаружены три сильно обгоревших трупа: хозяйки дома, ее сына Феликса Сергеевича Плещеева и домработницы Лидии Тендряковой.
Следствие по делу продолжалось долго. В конце концов газеты разразились новой сенсацией: погибшая в завидовском пожаре Надежда Плещеева оказалась не кем иным, как популярной писательницей Мананой Мендадзе.
Читатели еще долго скорбели об утрате.
У четы Мастоцких – Кирилла и Антонины – родилась двойня.







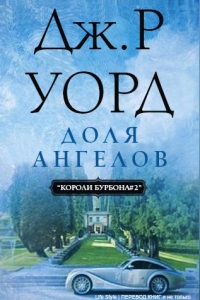
Комментарии к книге «Ожерелье из разбитых сердец», Светлана Анатольевна Лубенец
Всего 0 комментариев